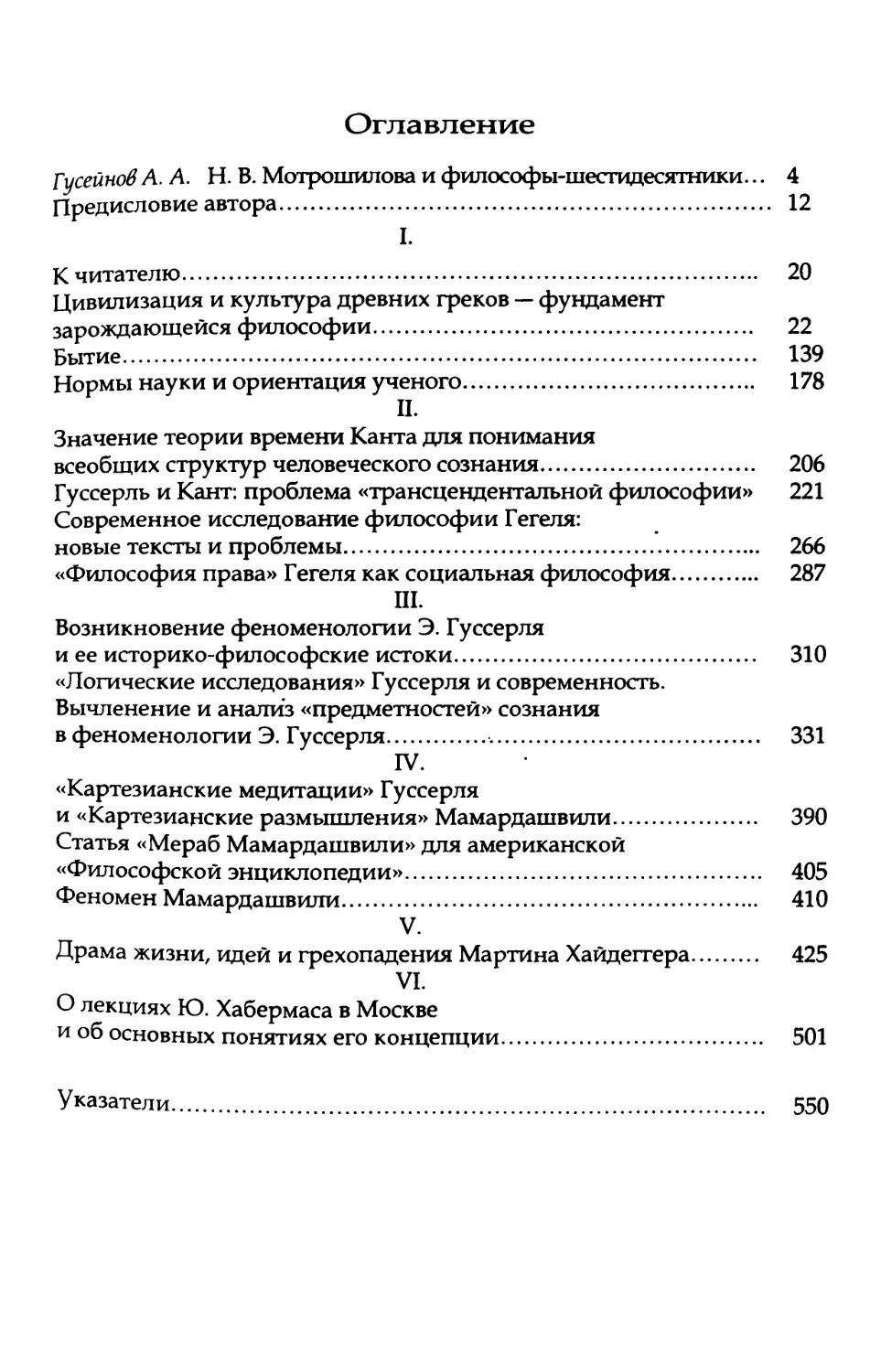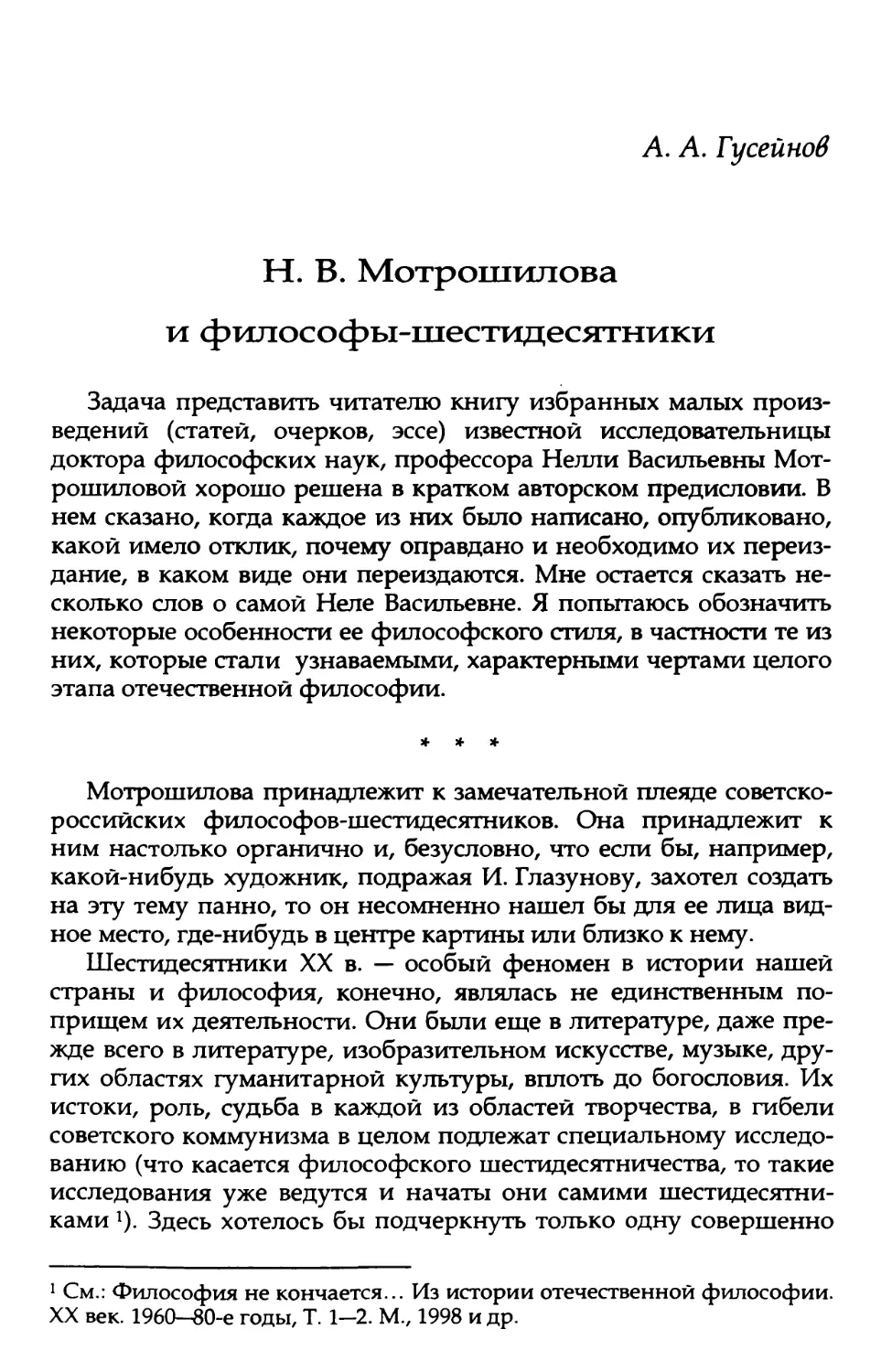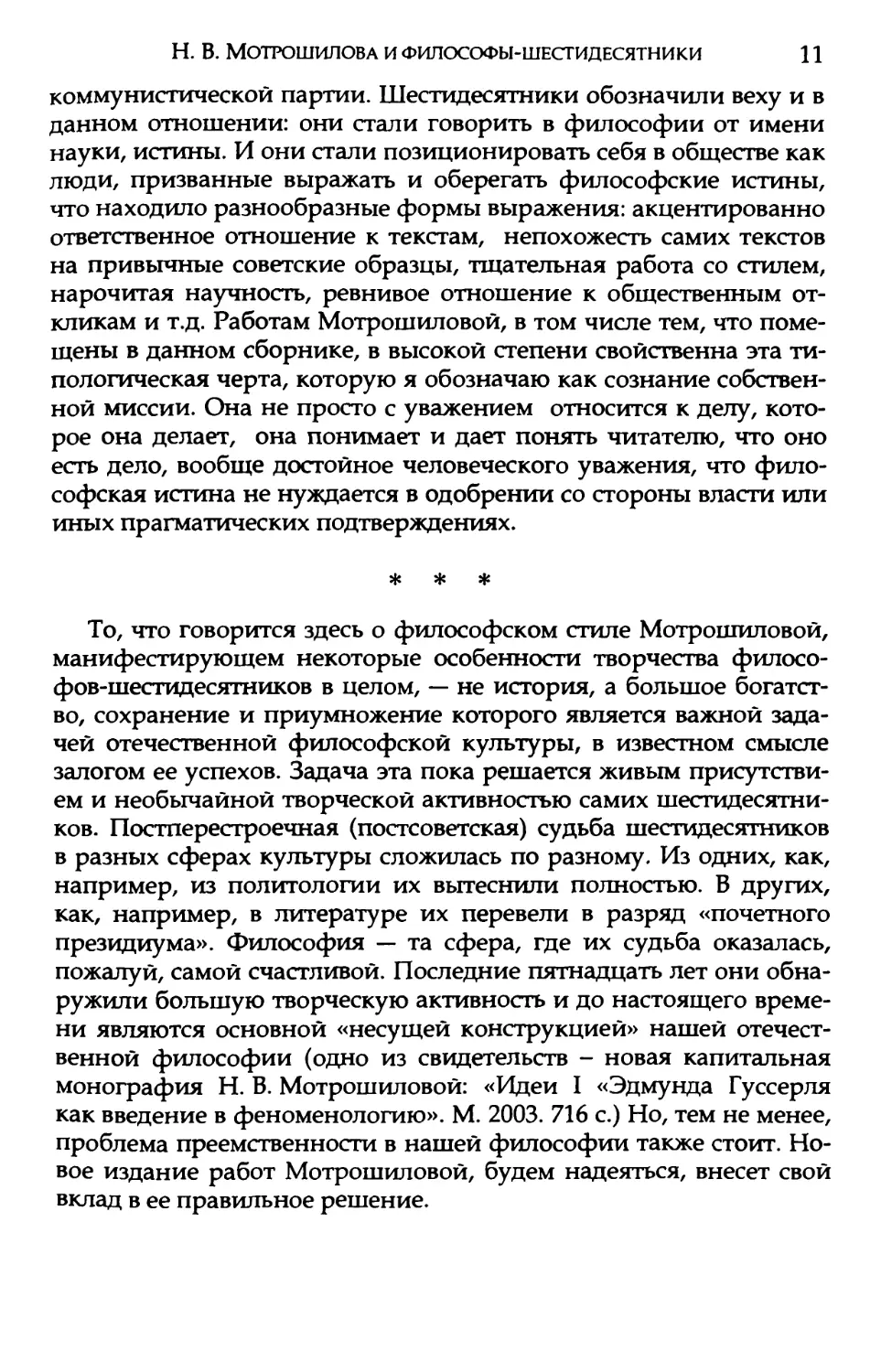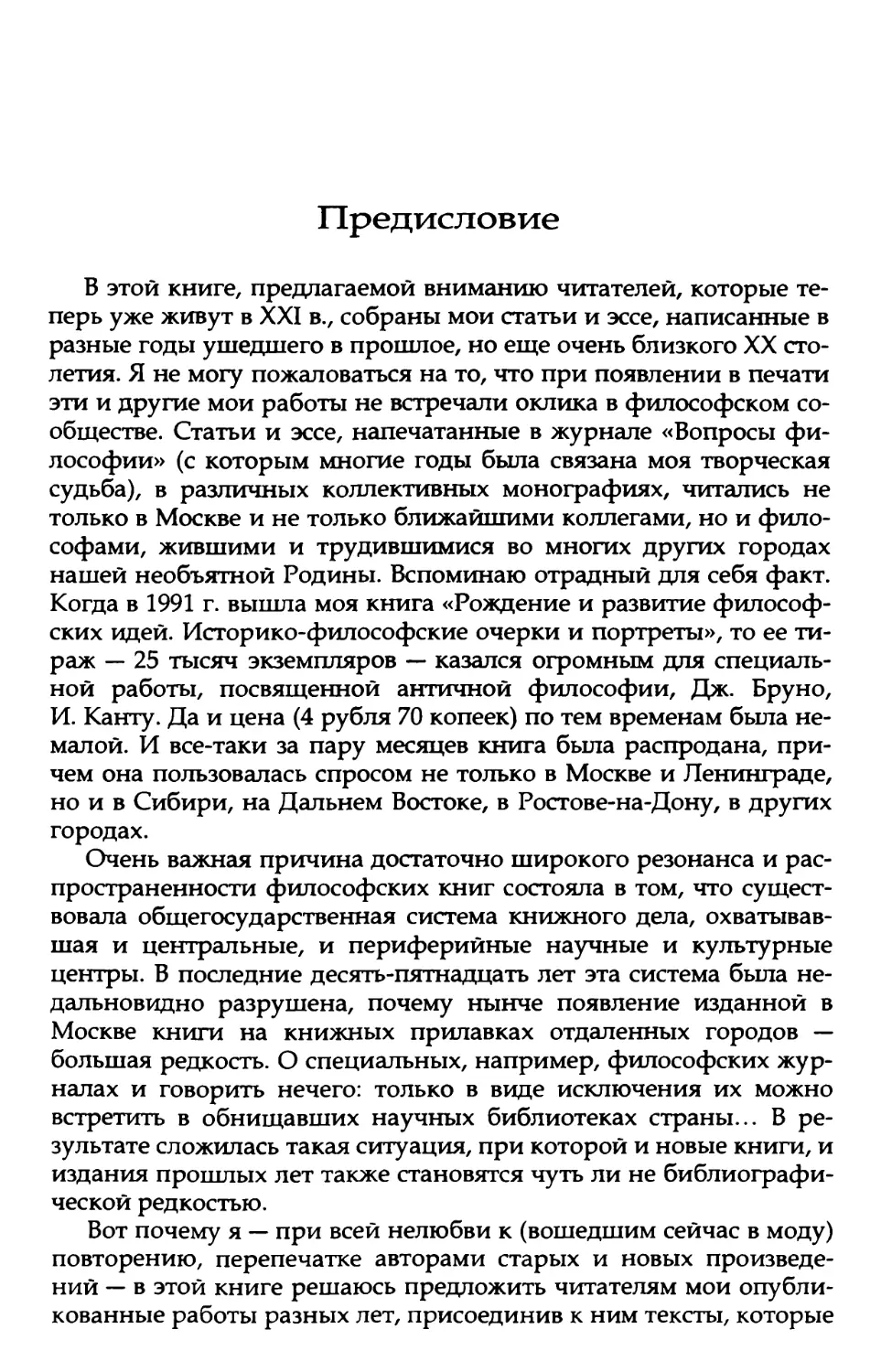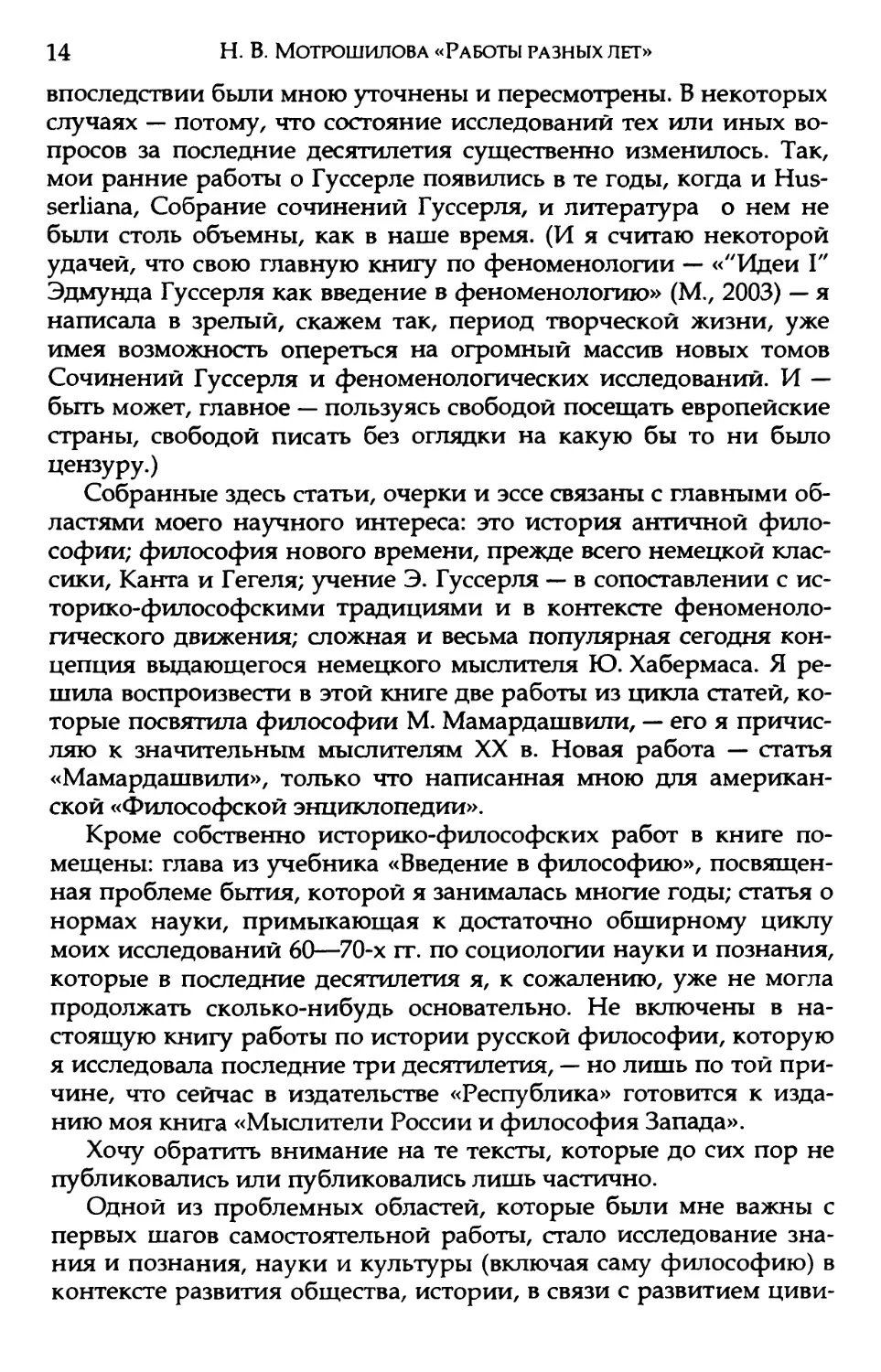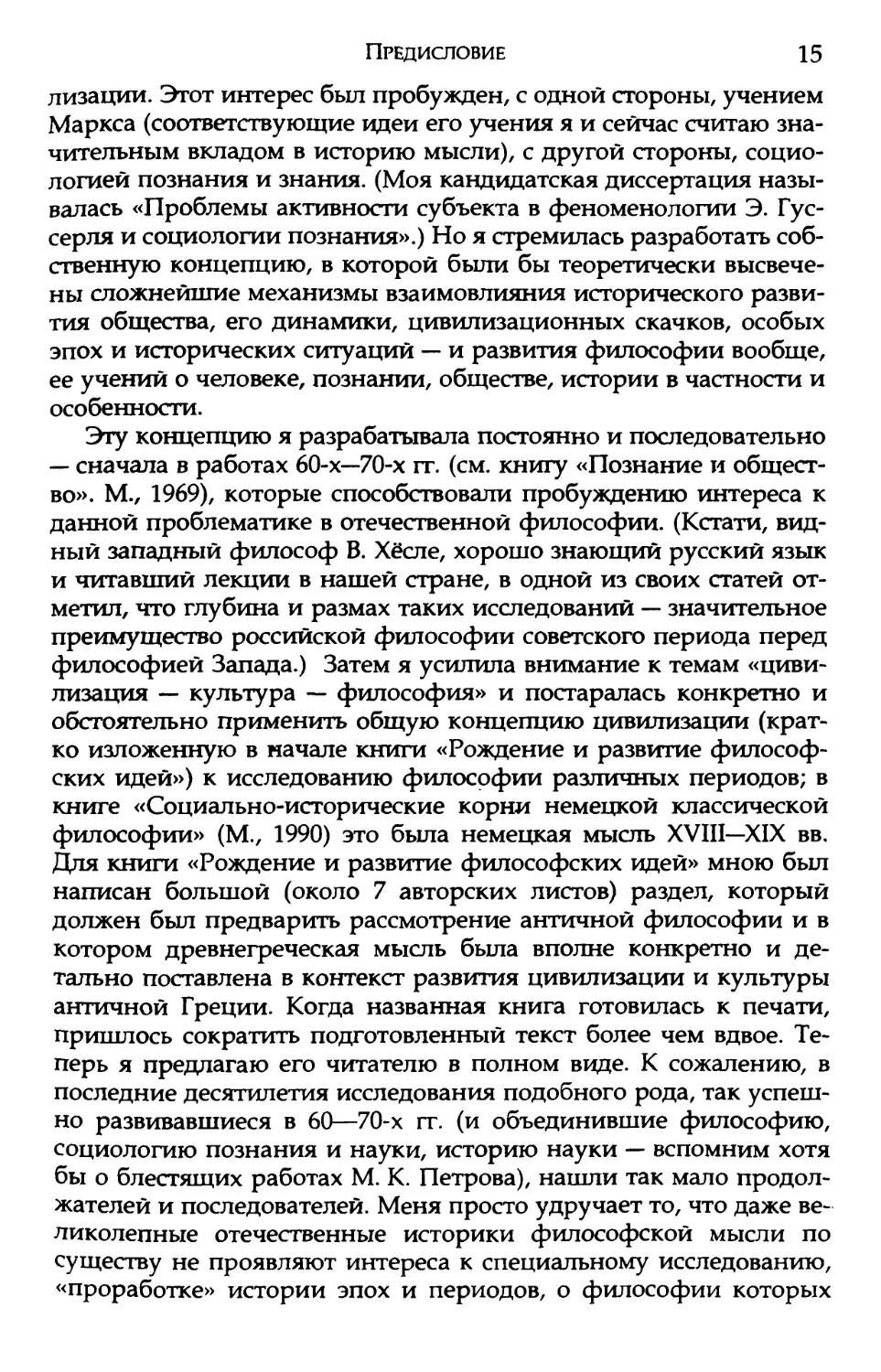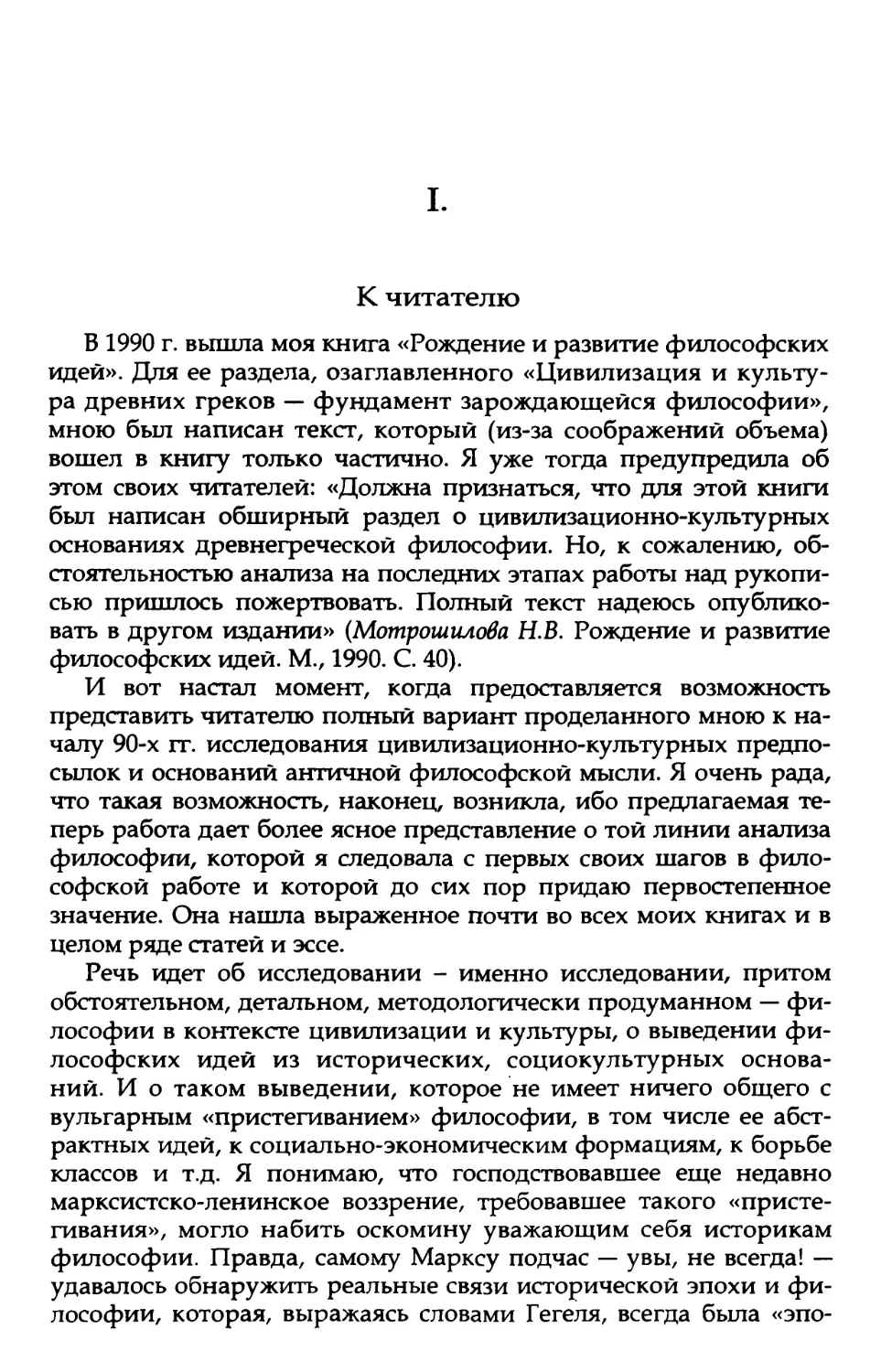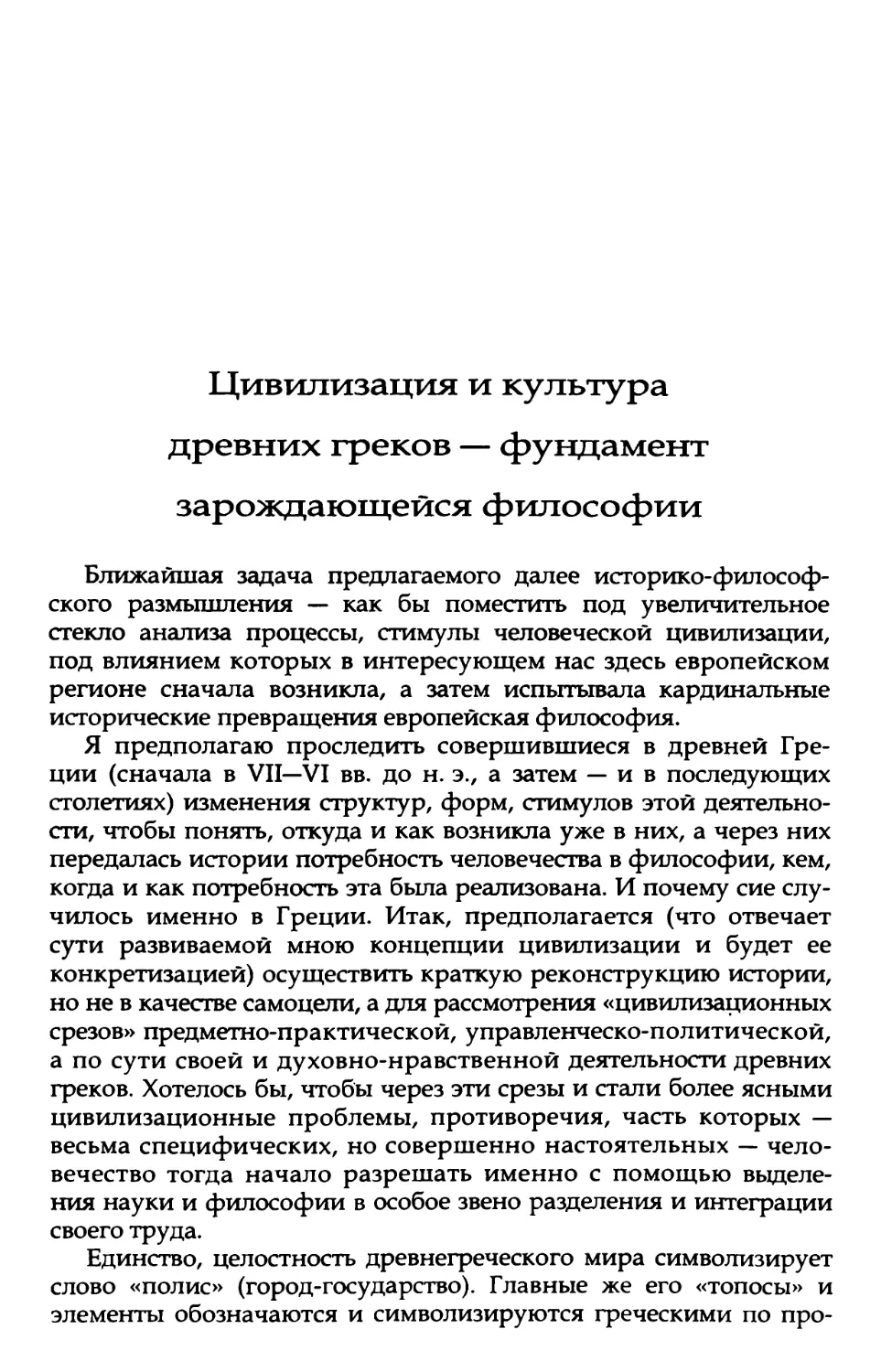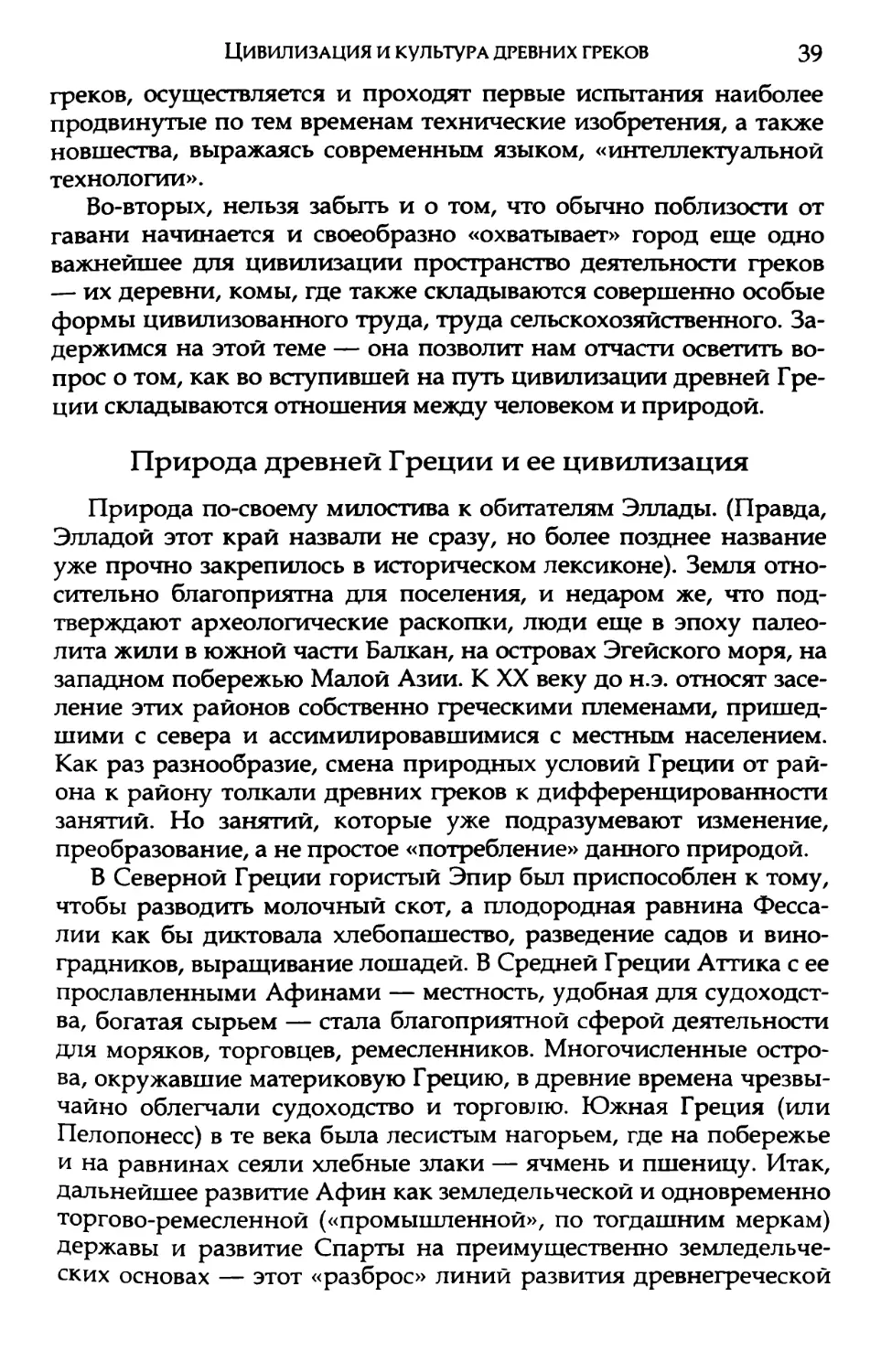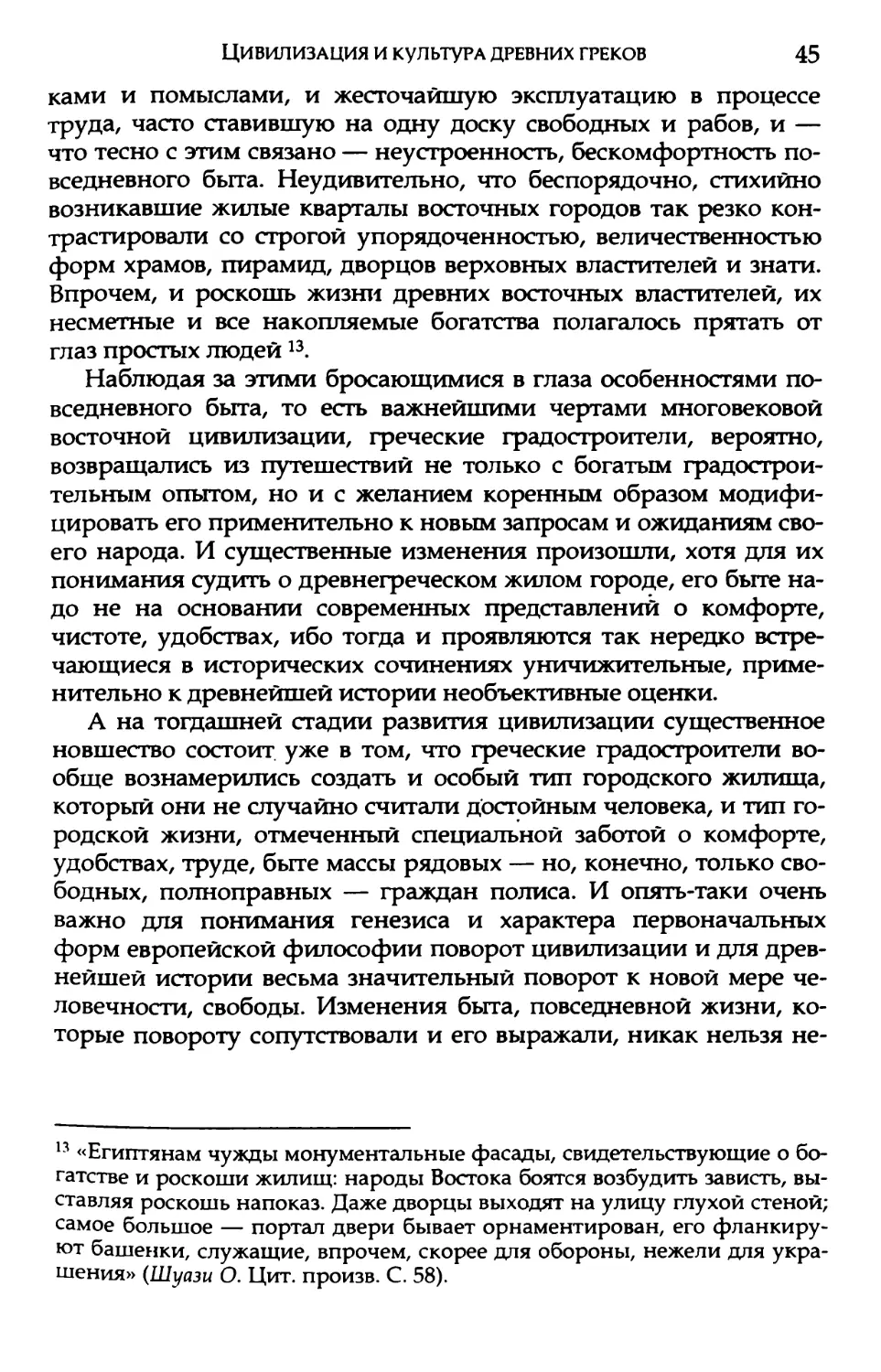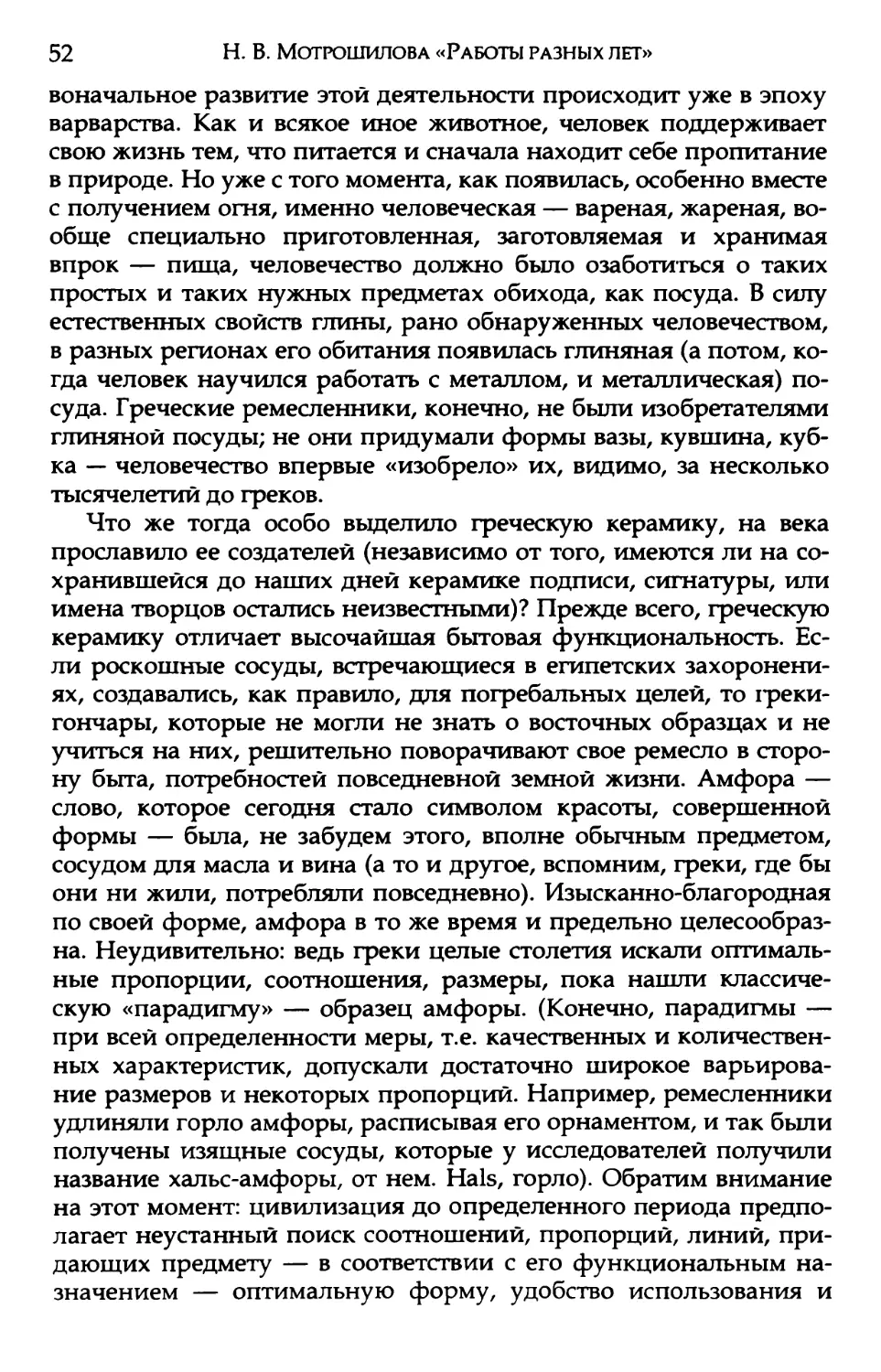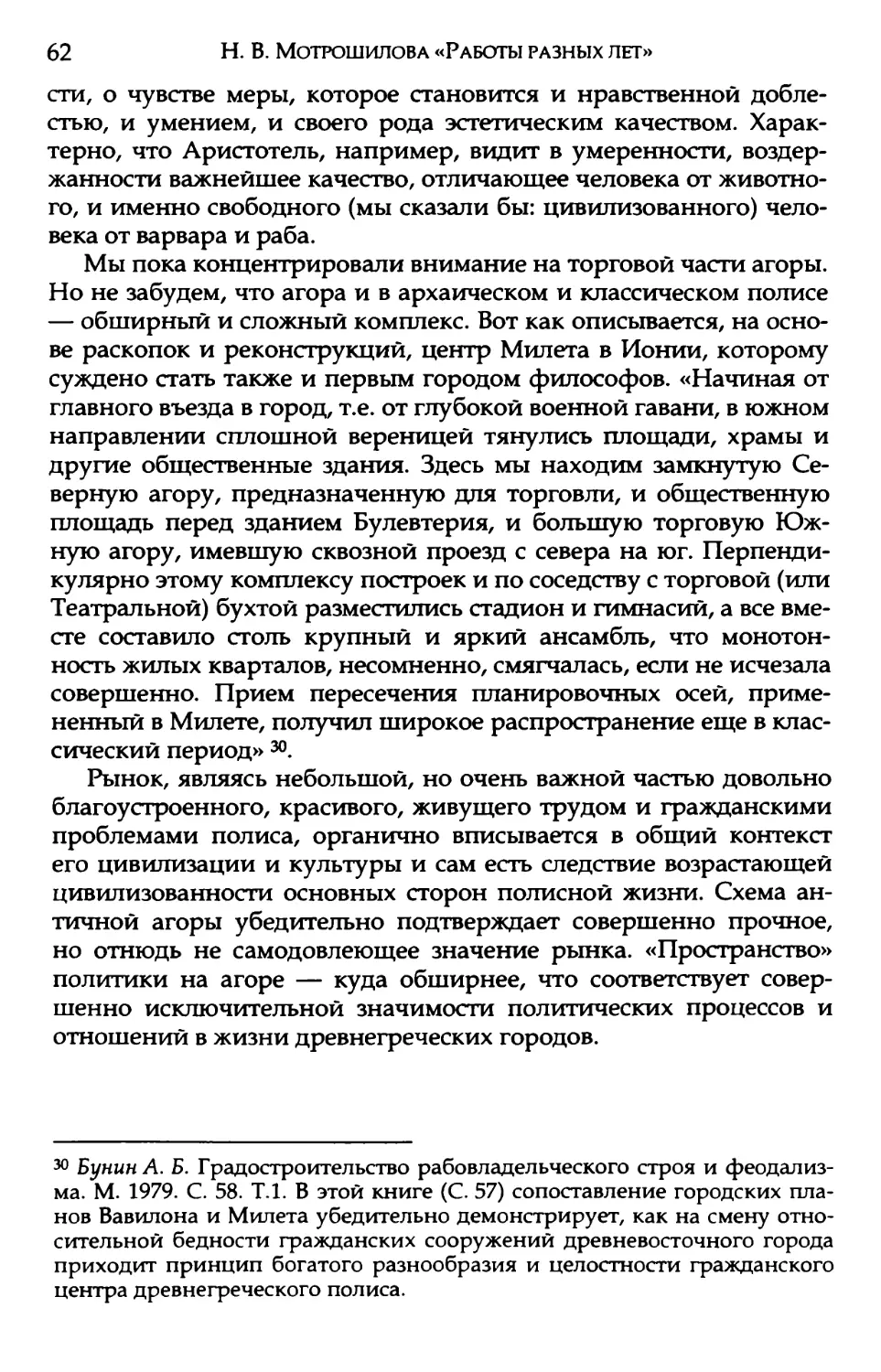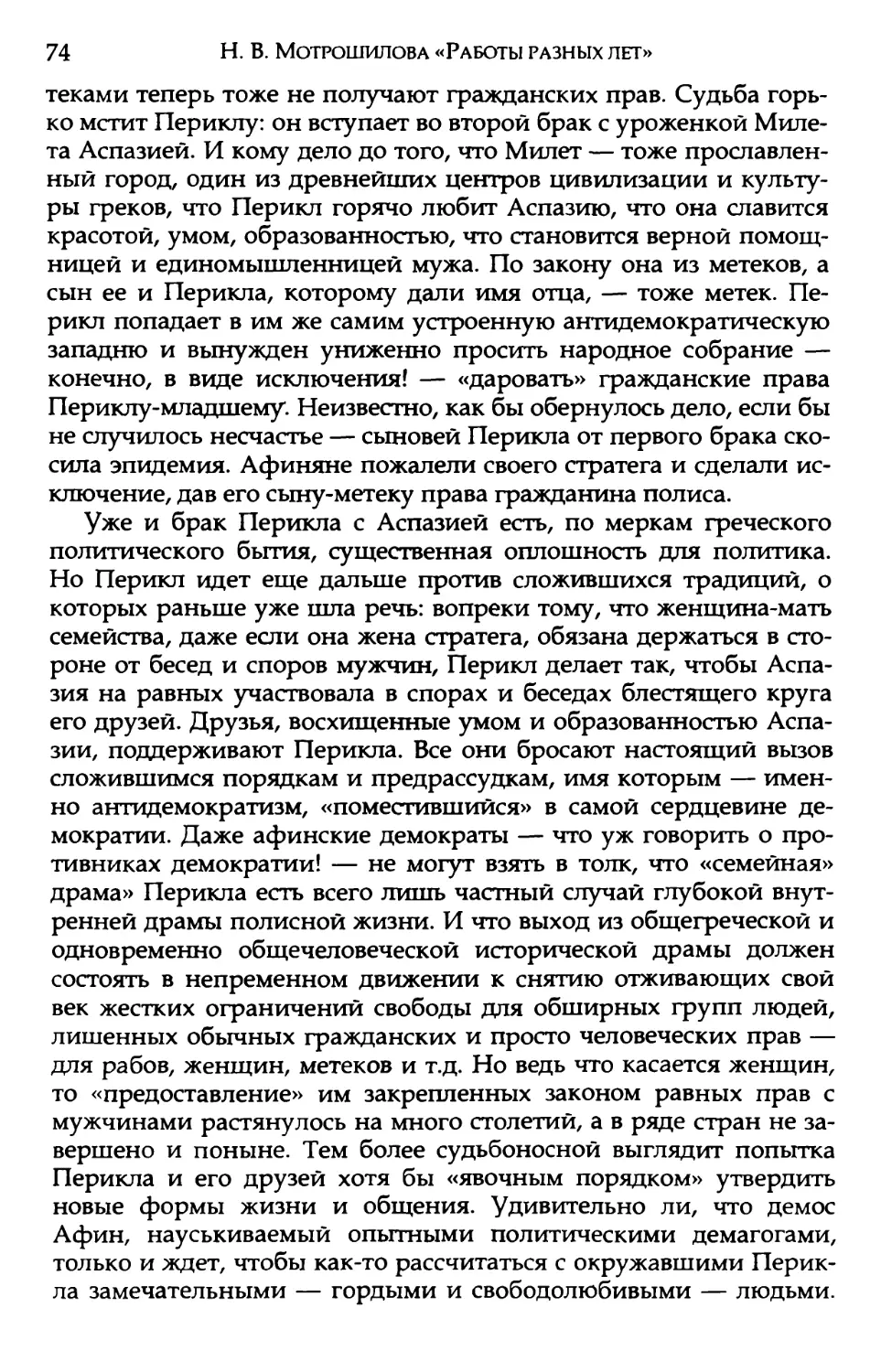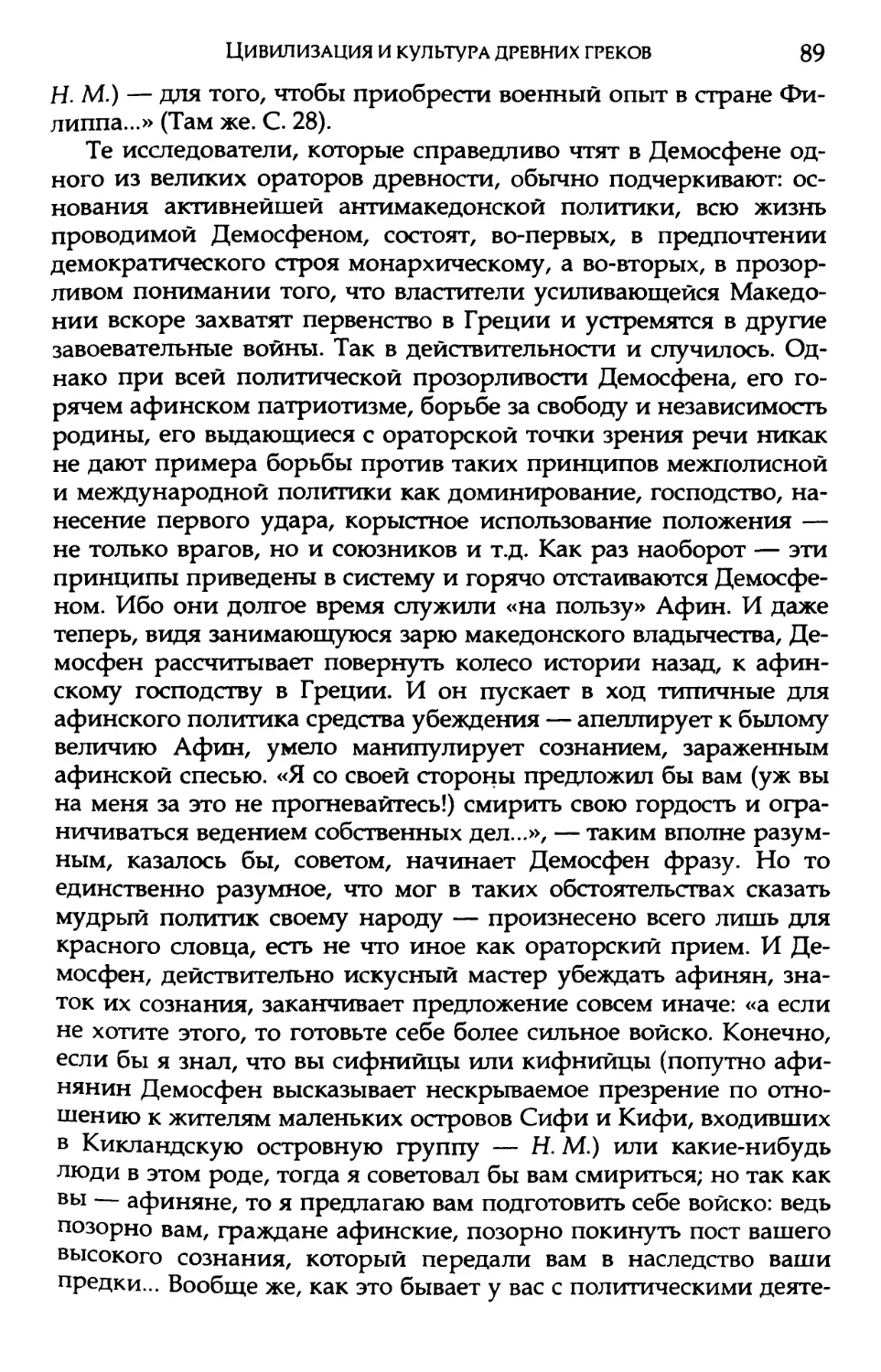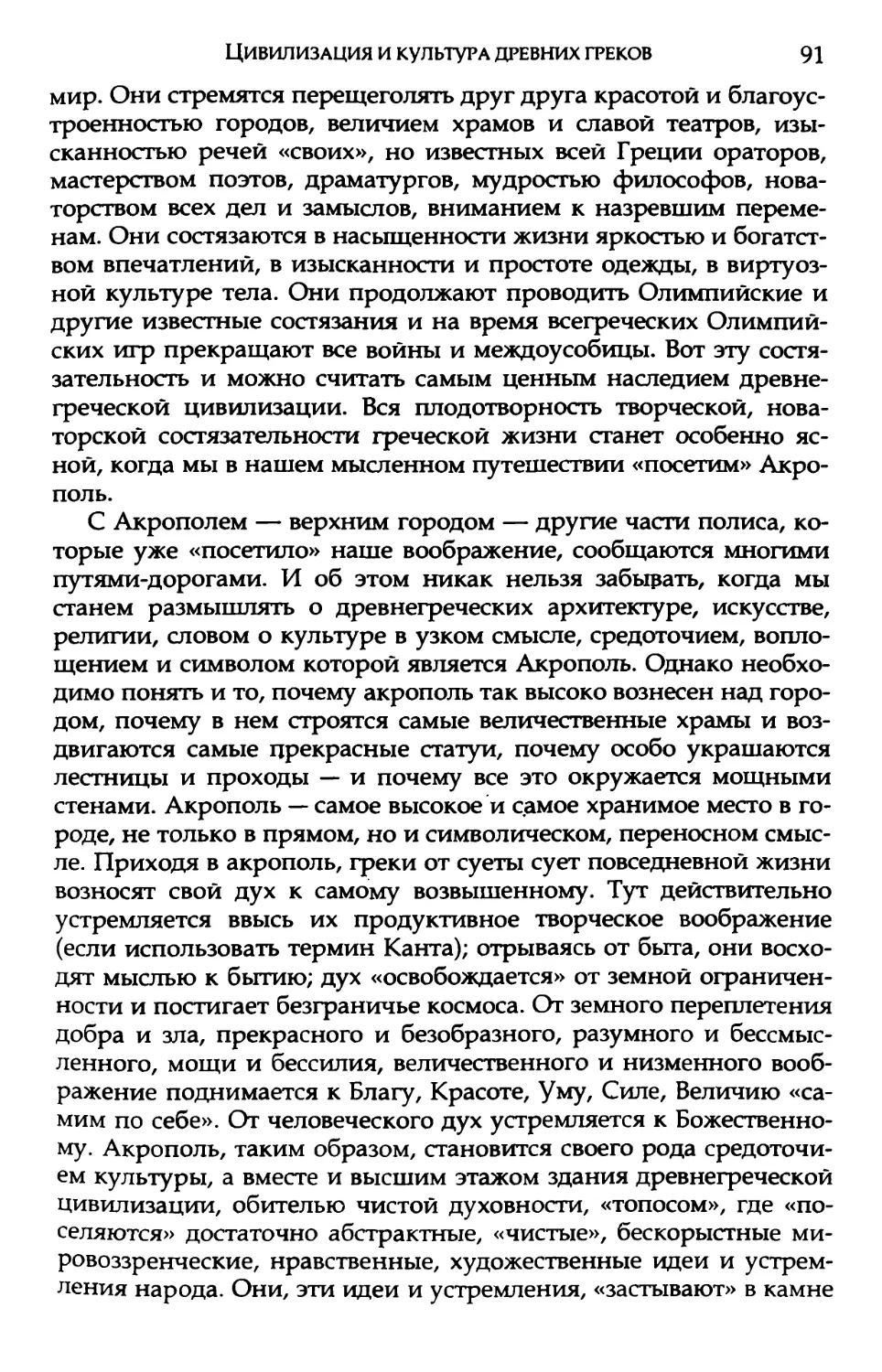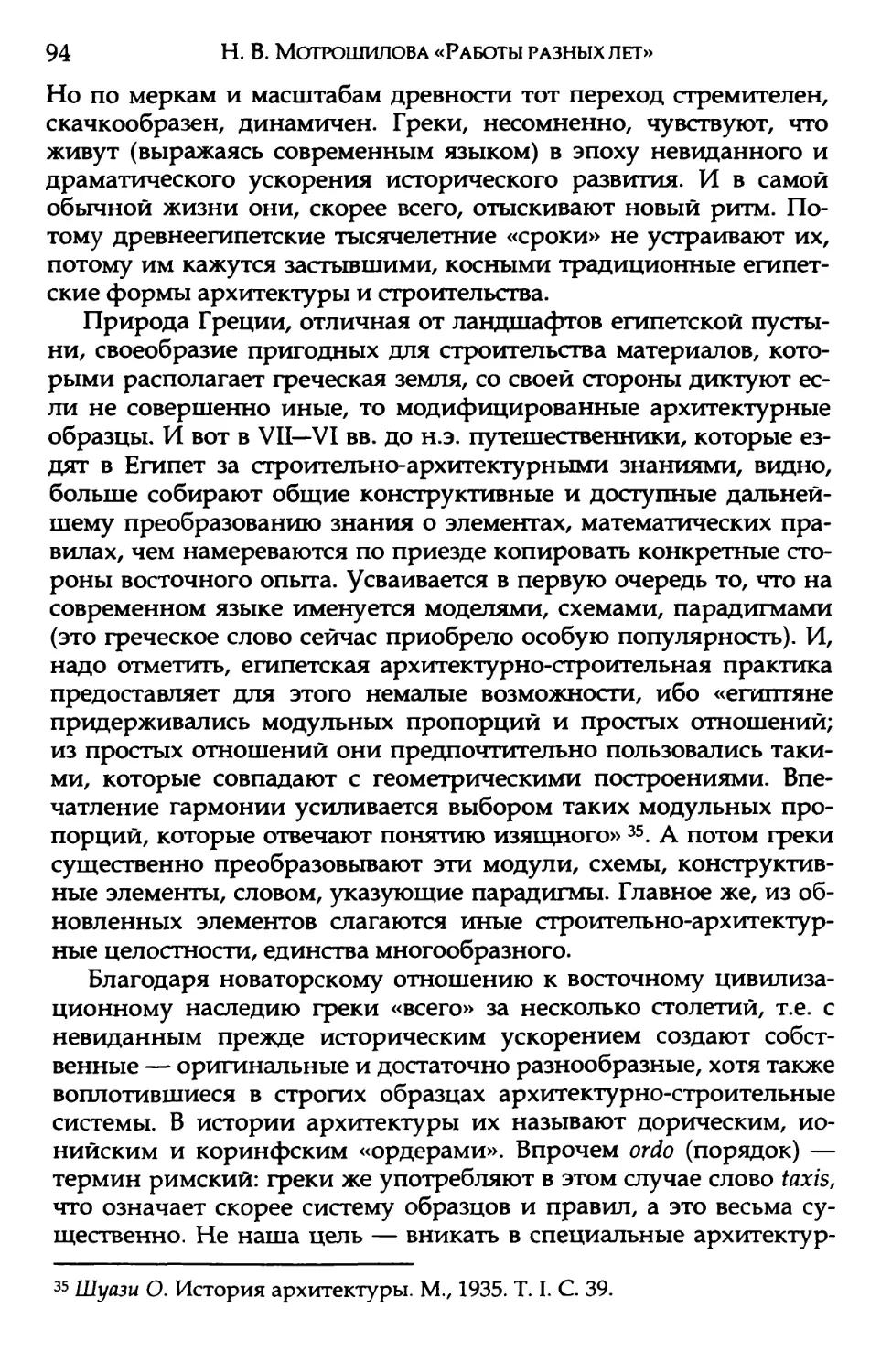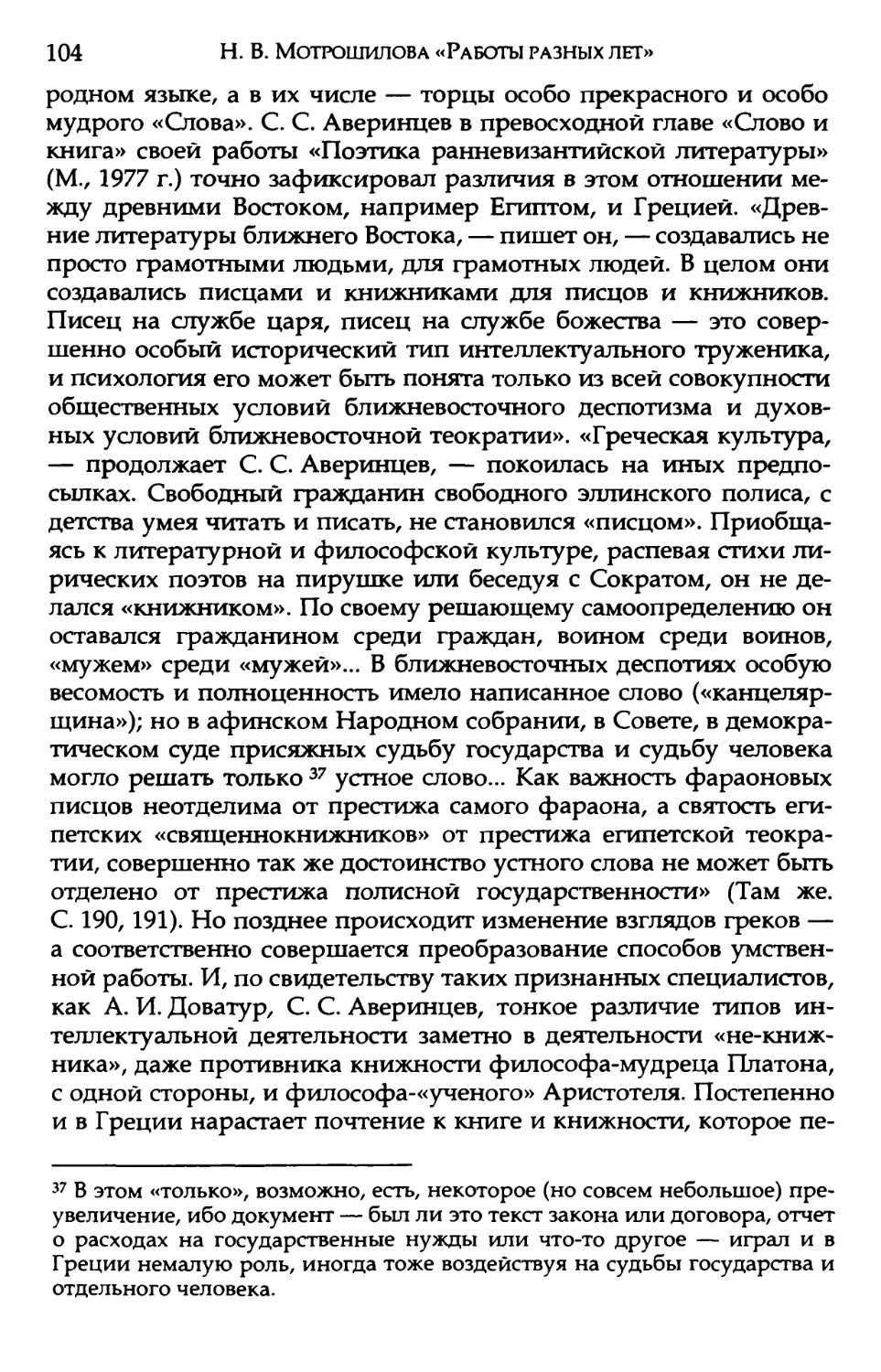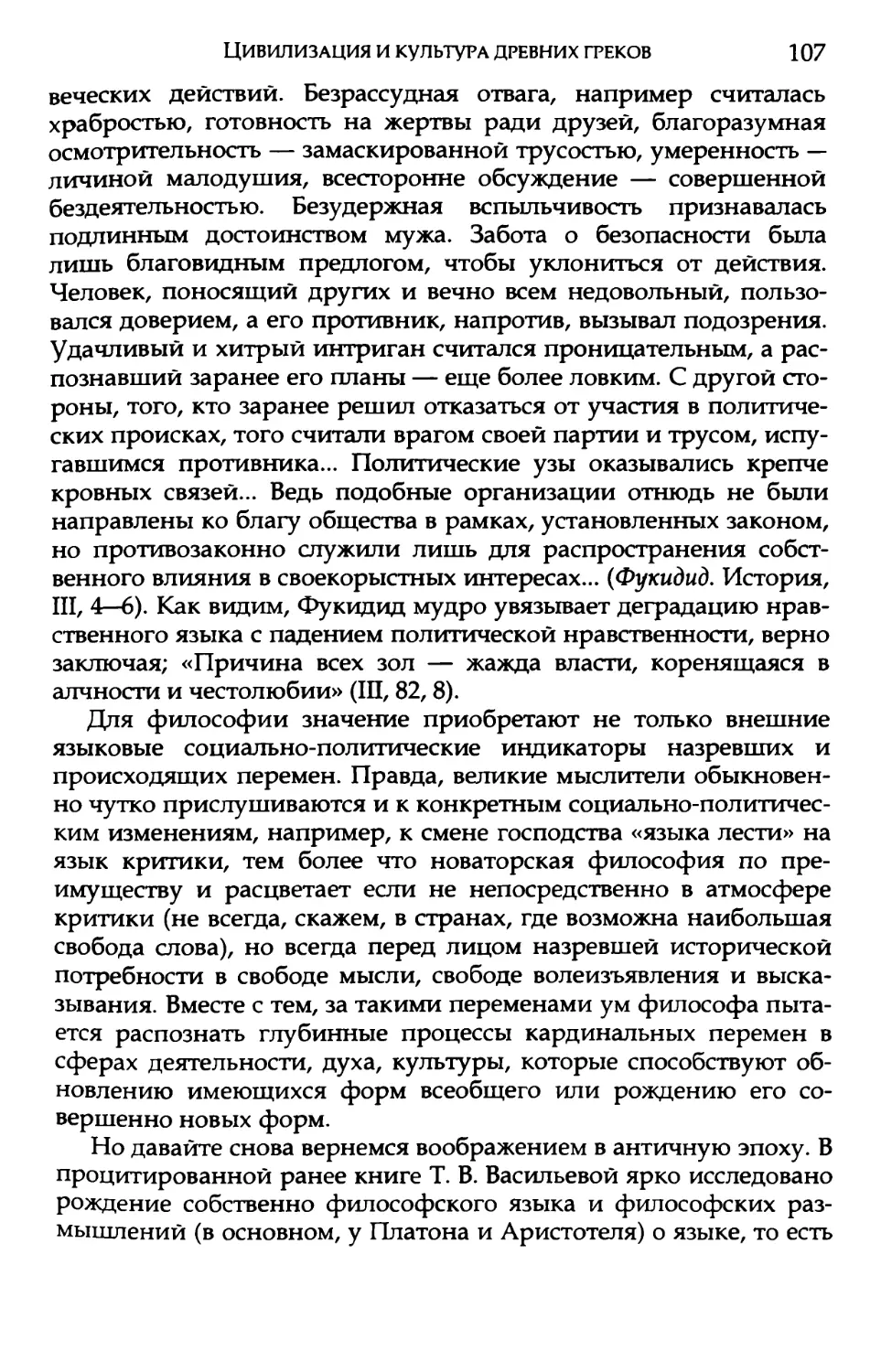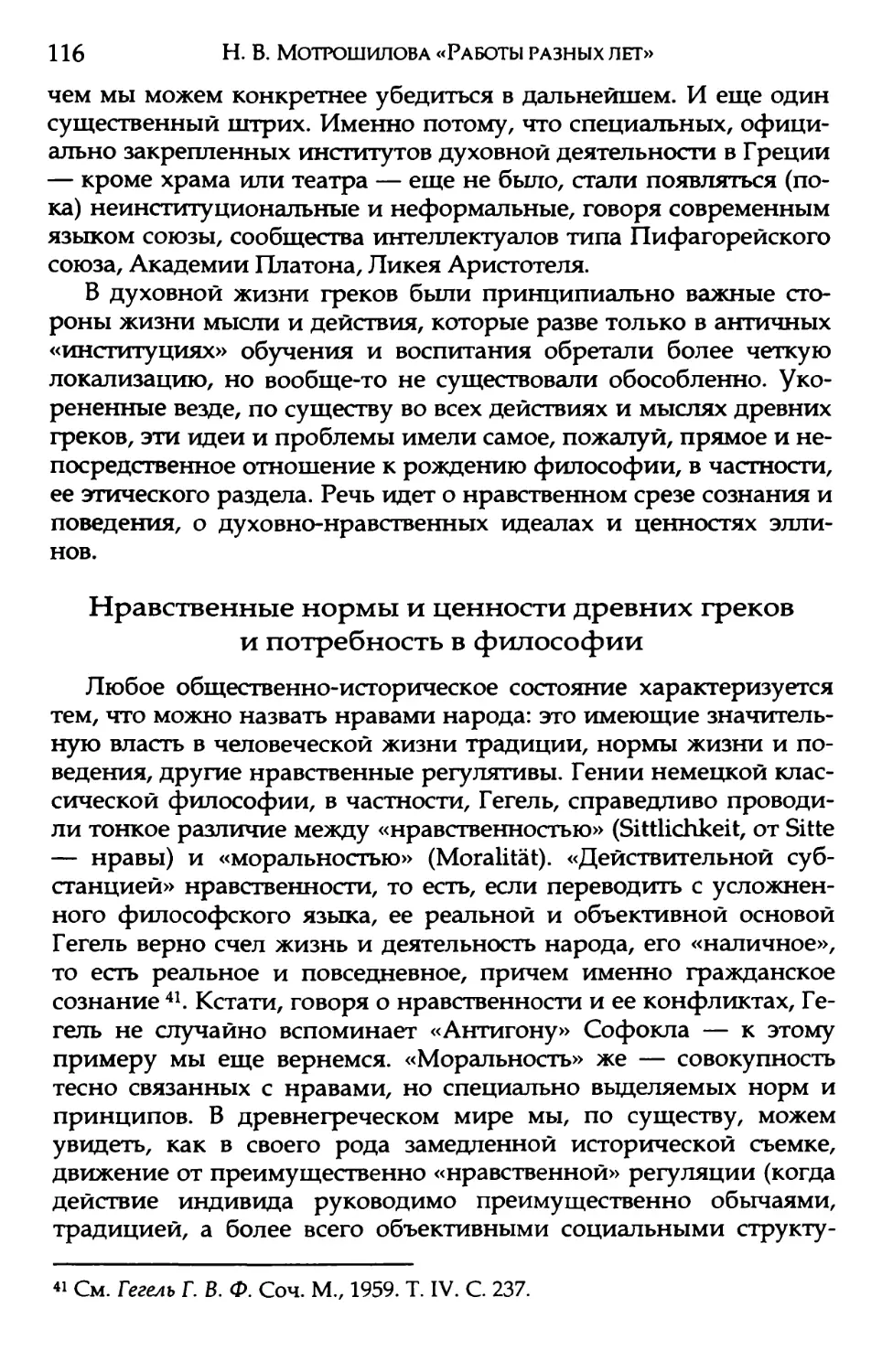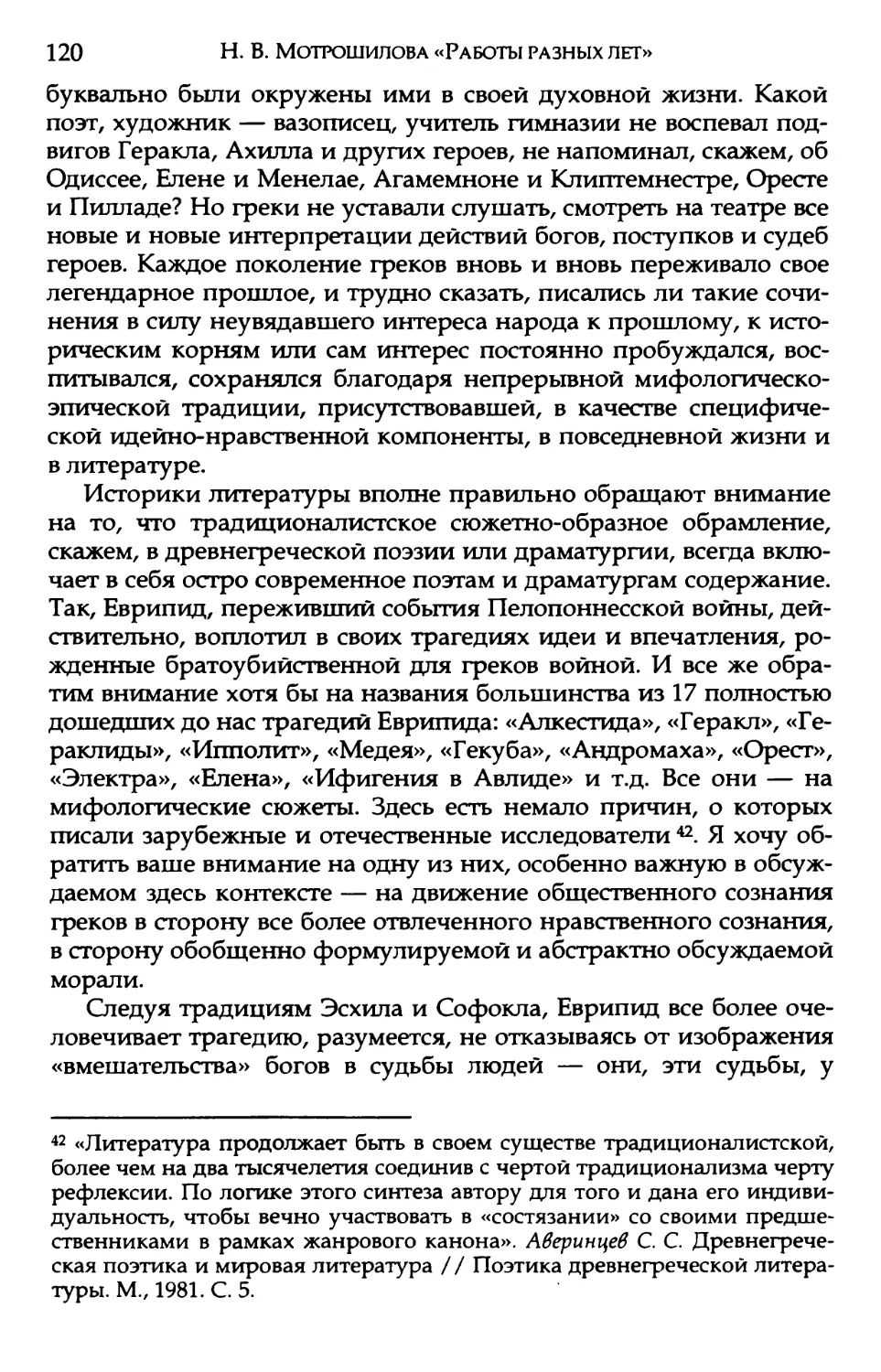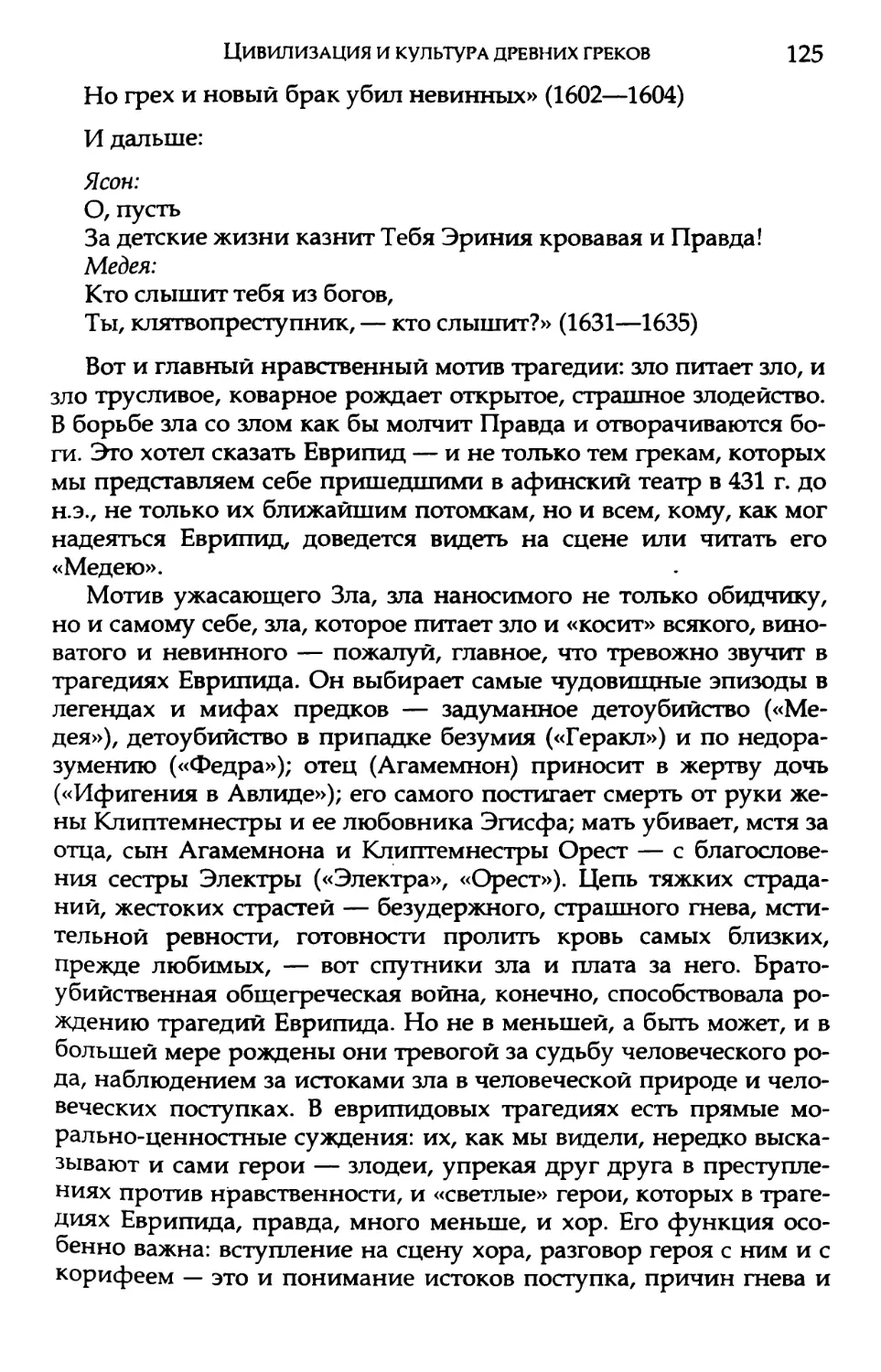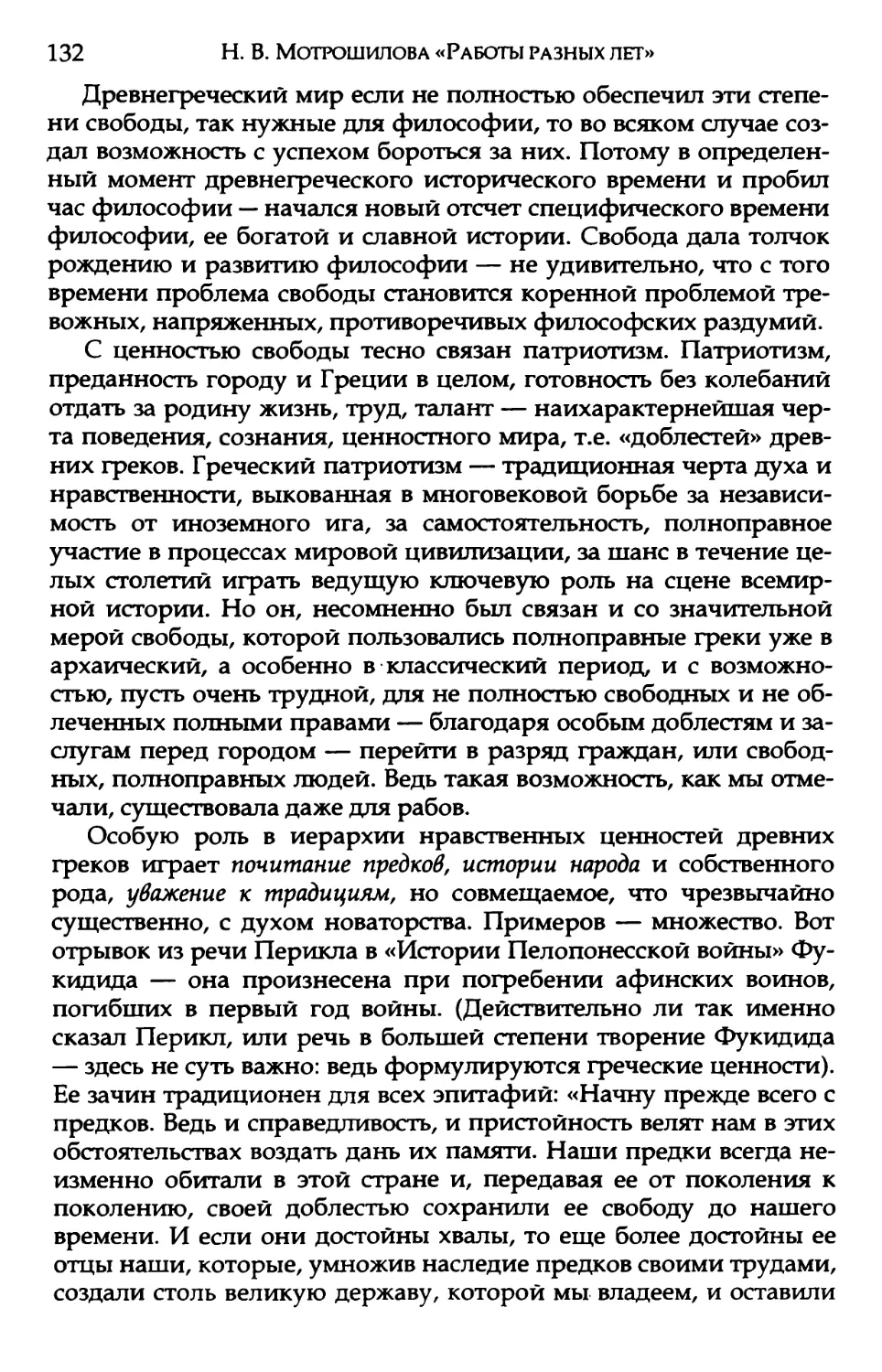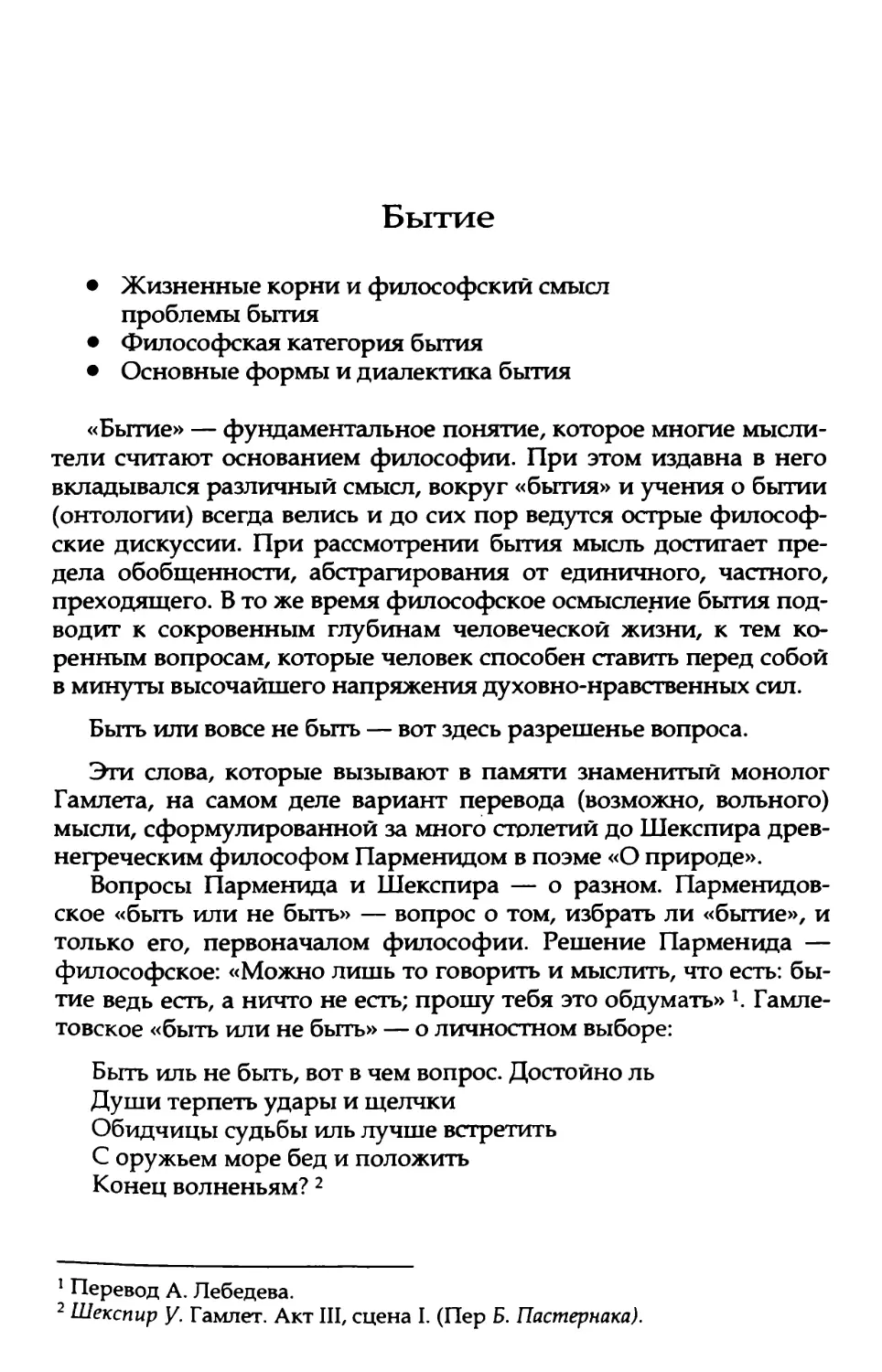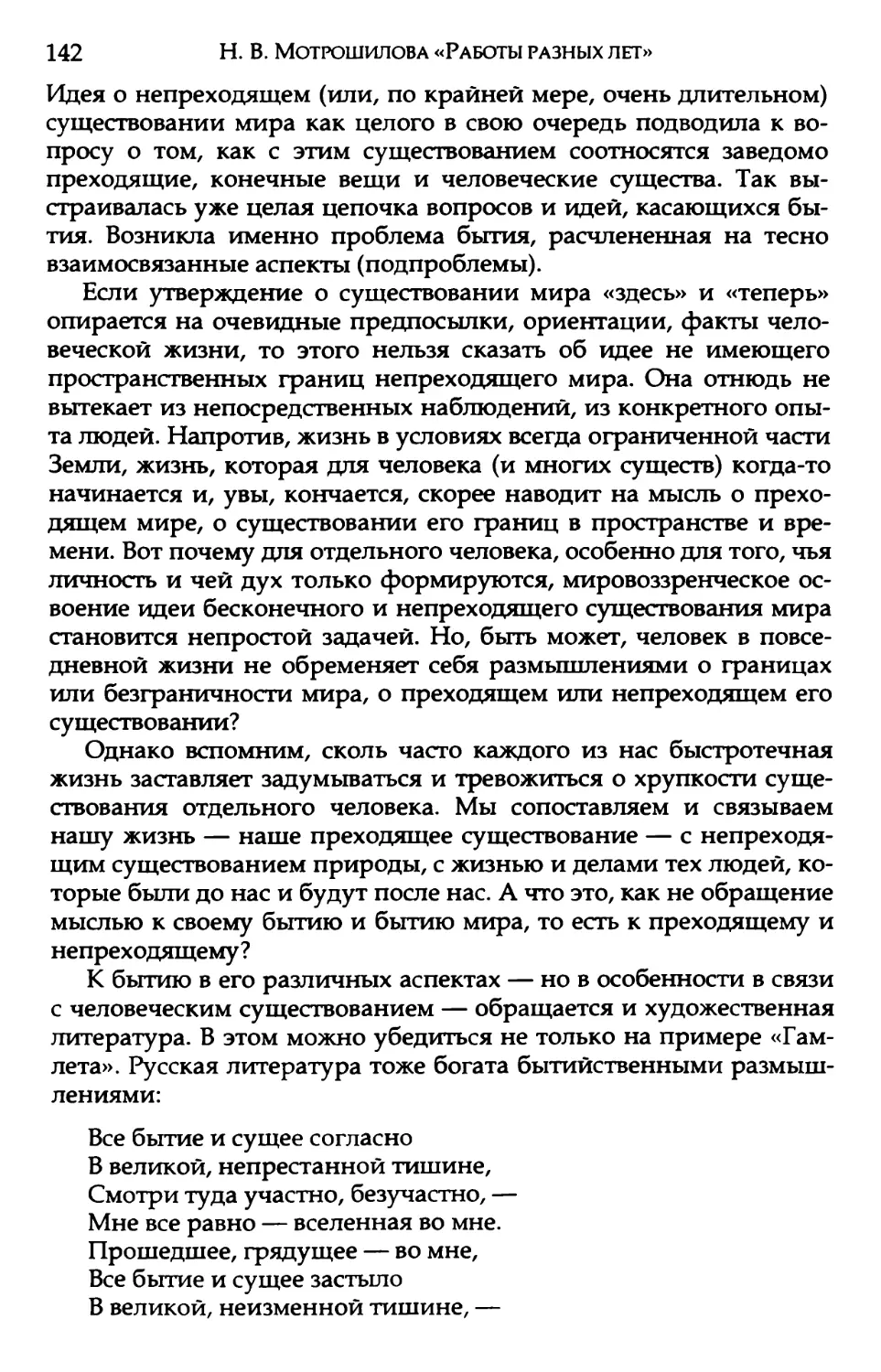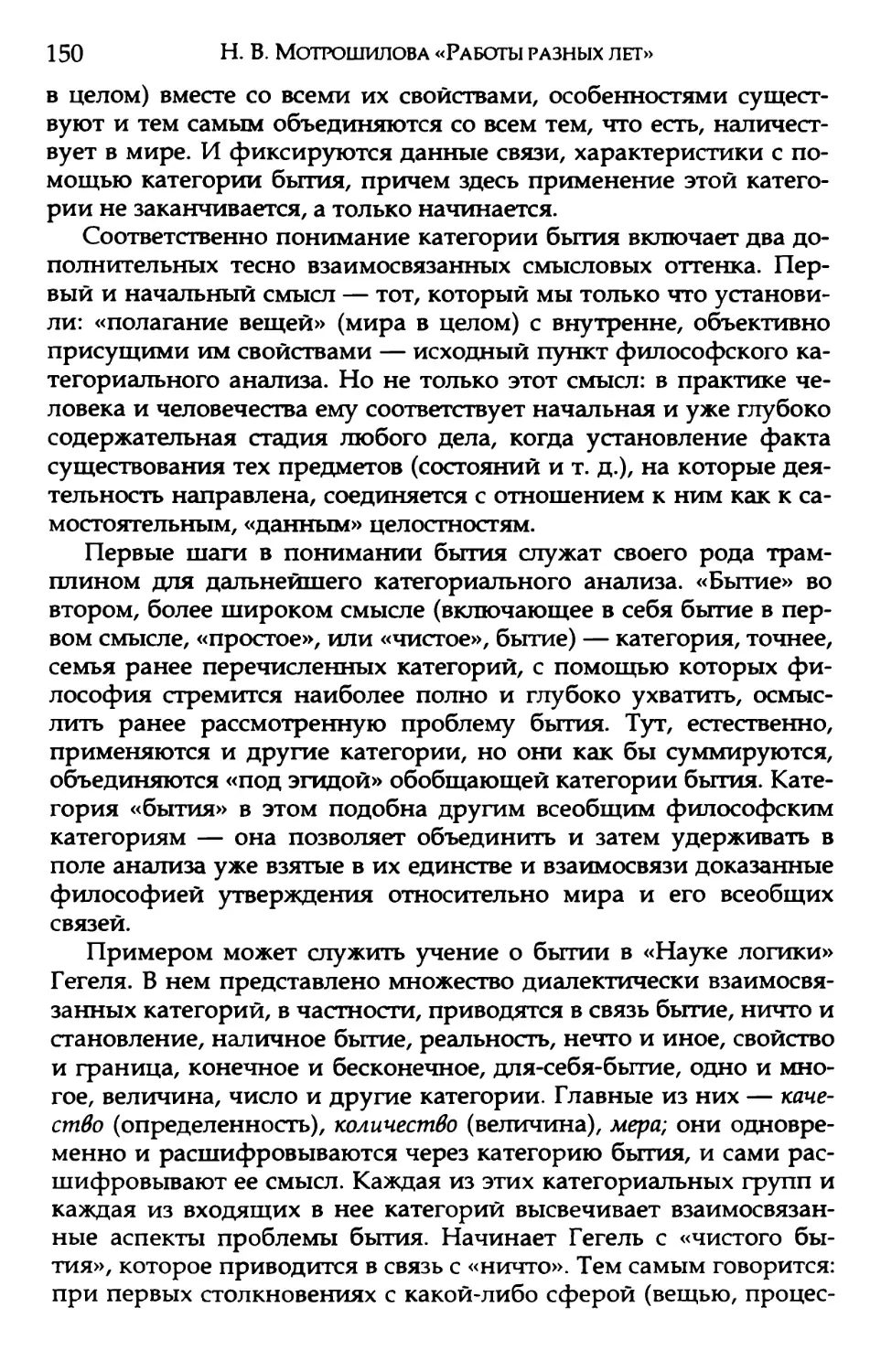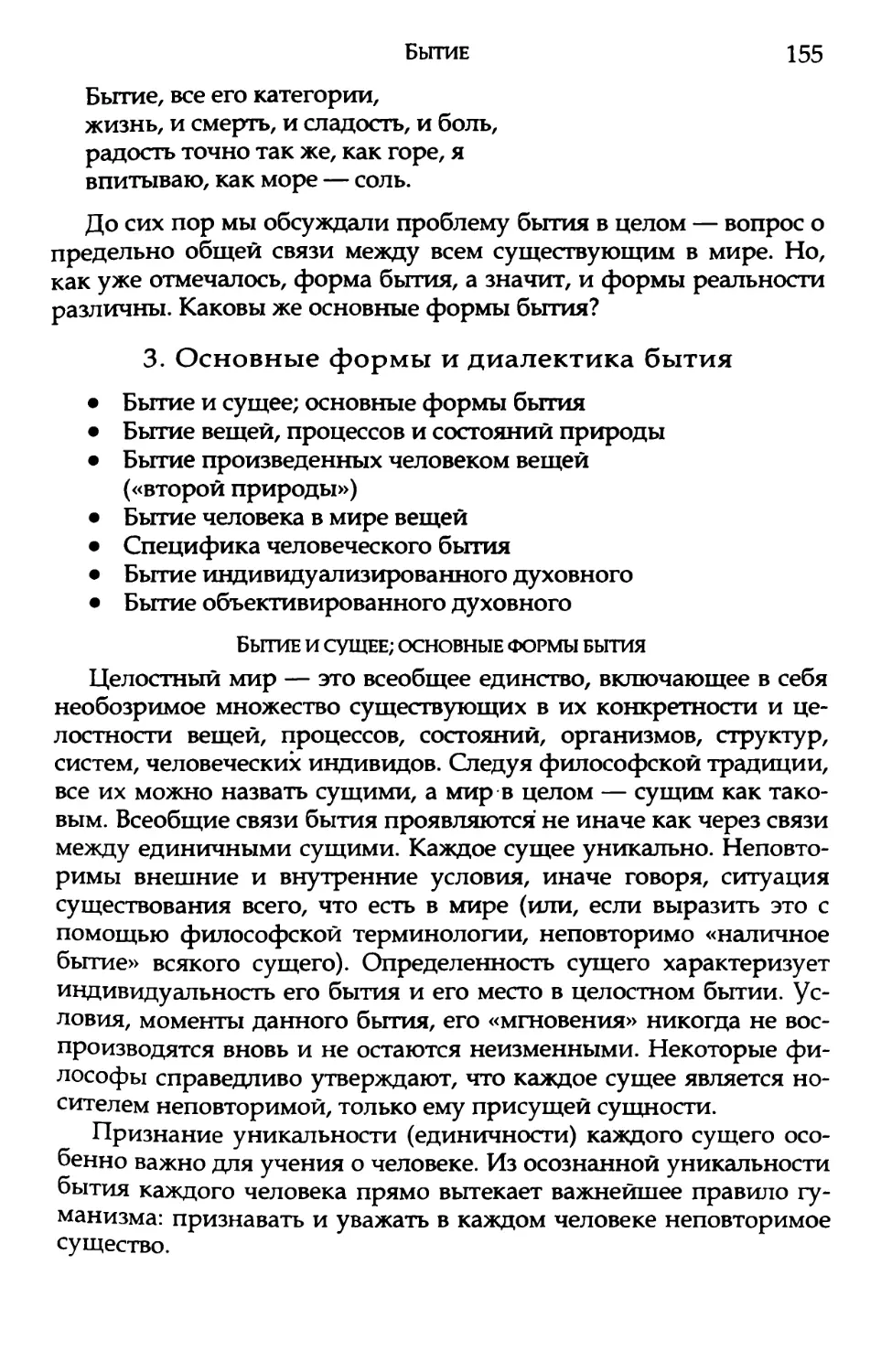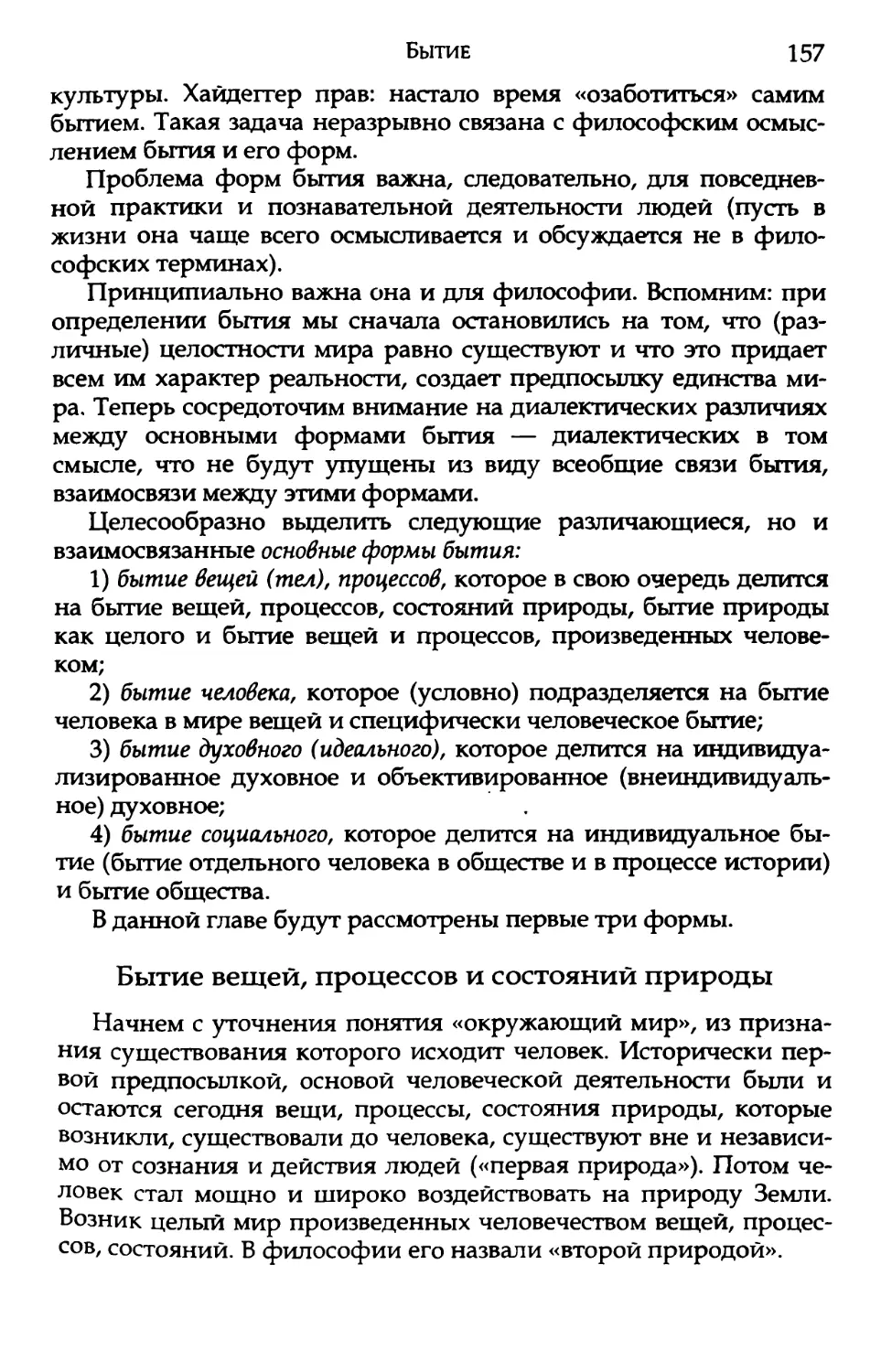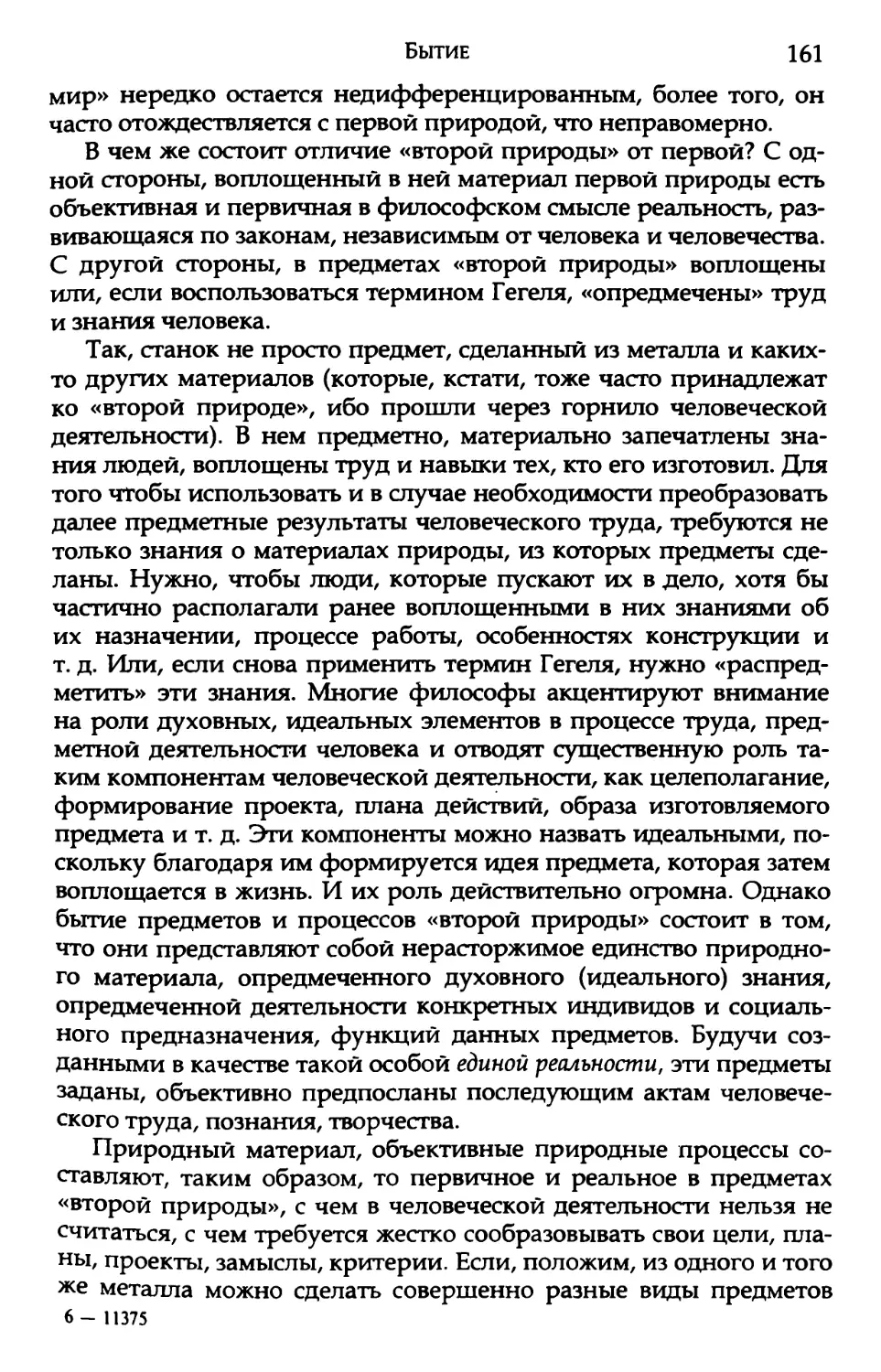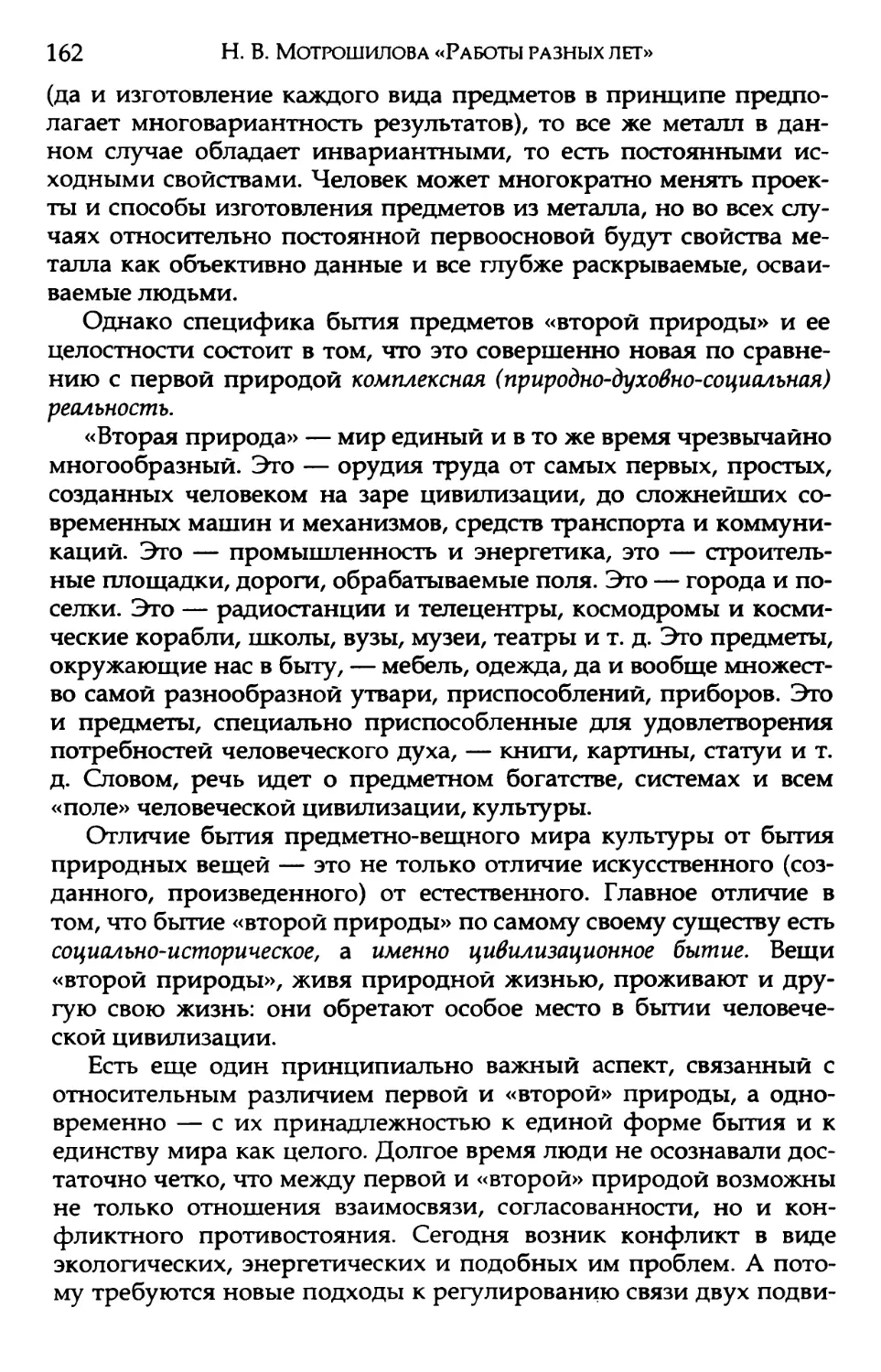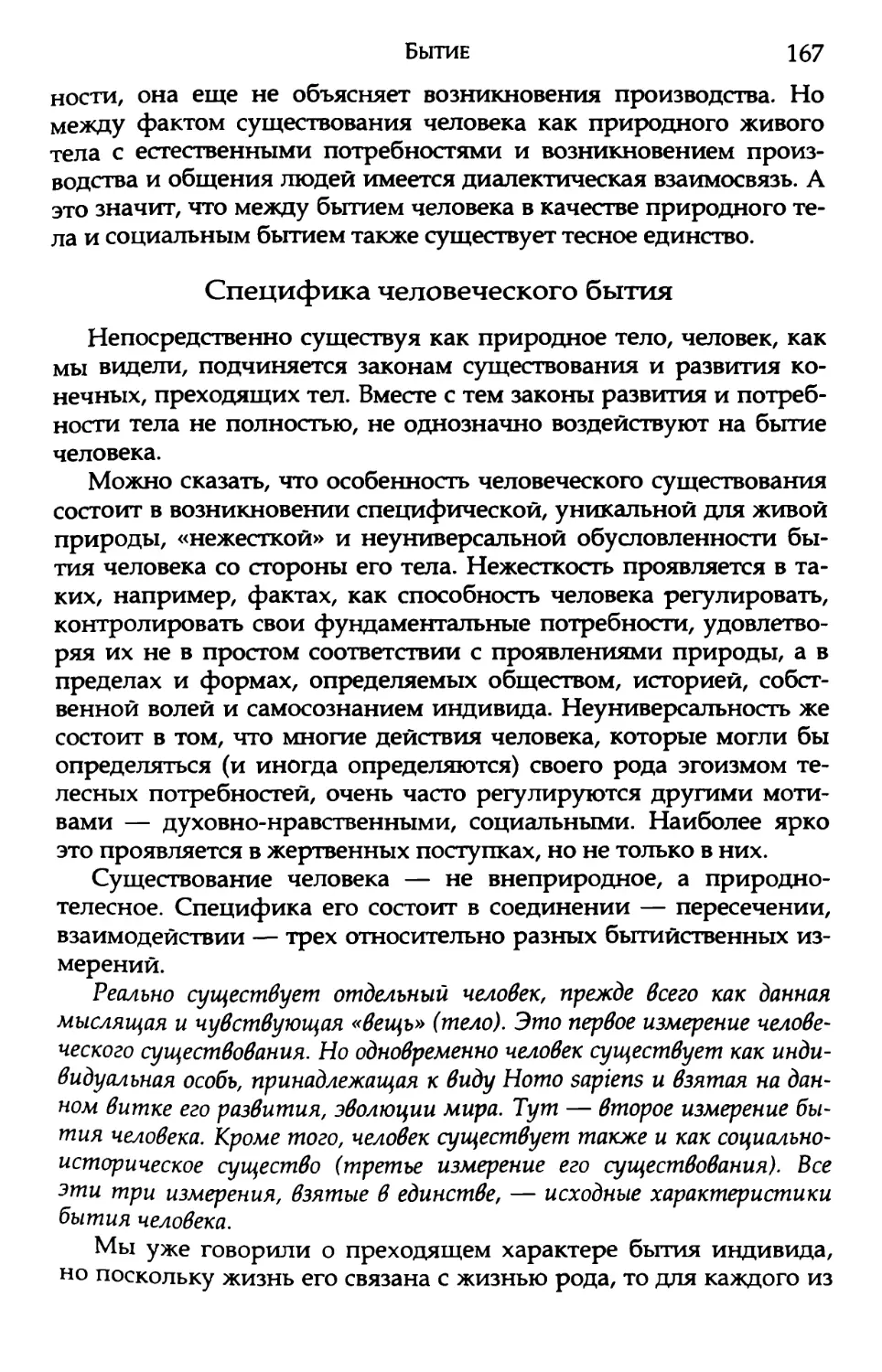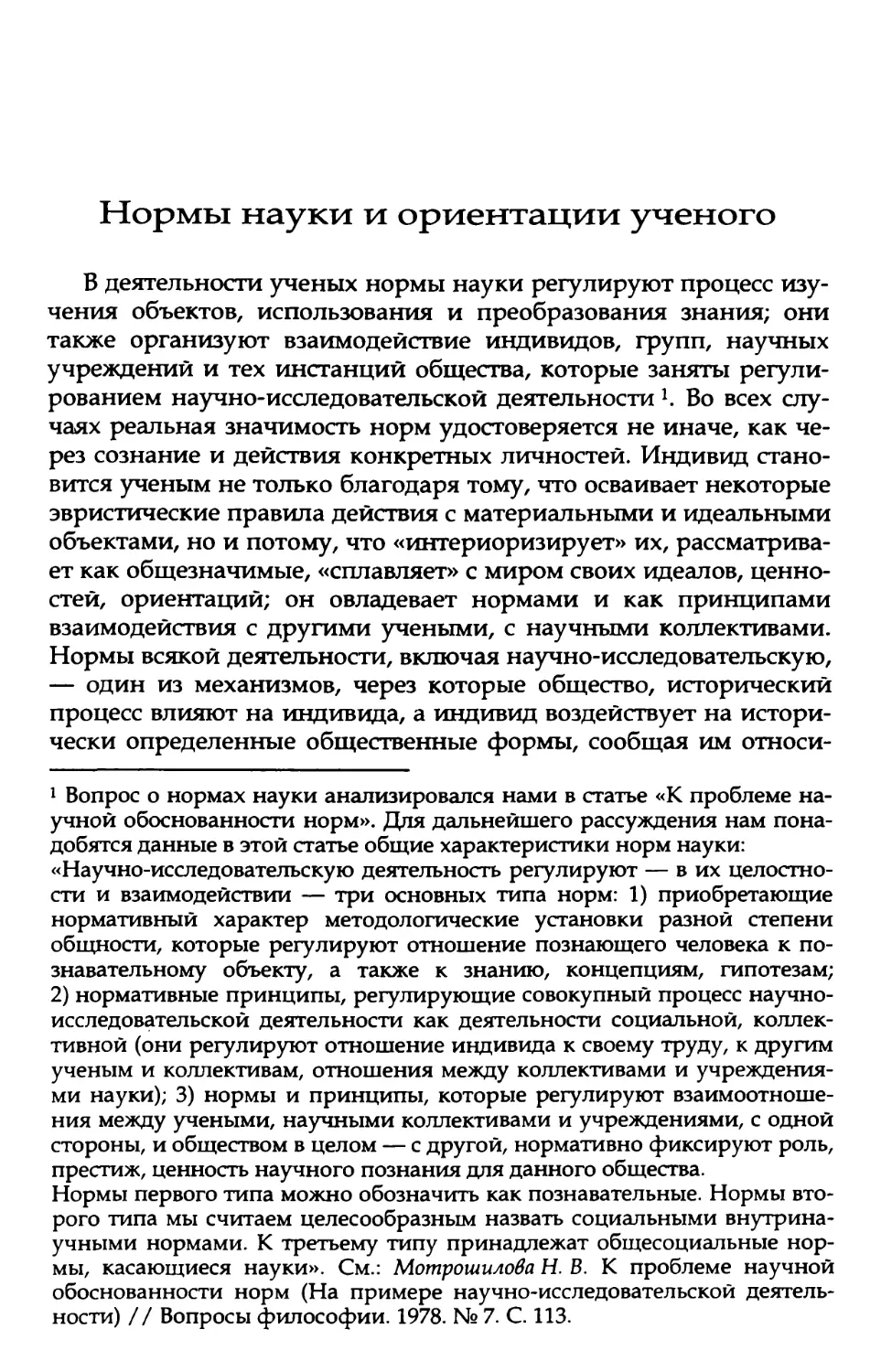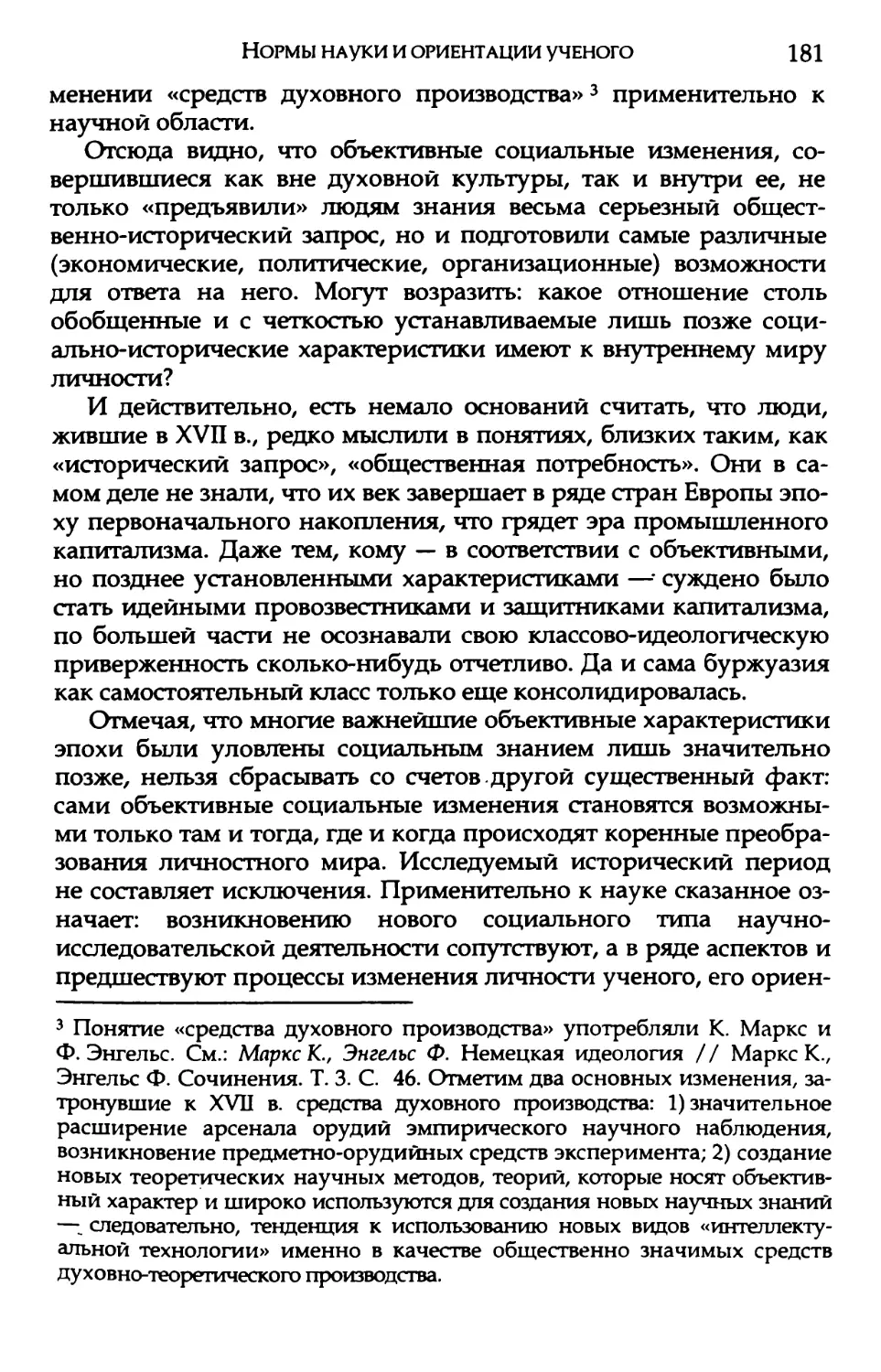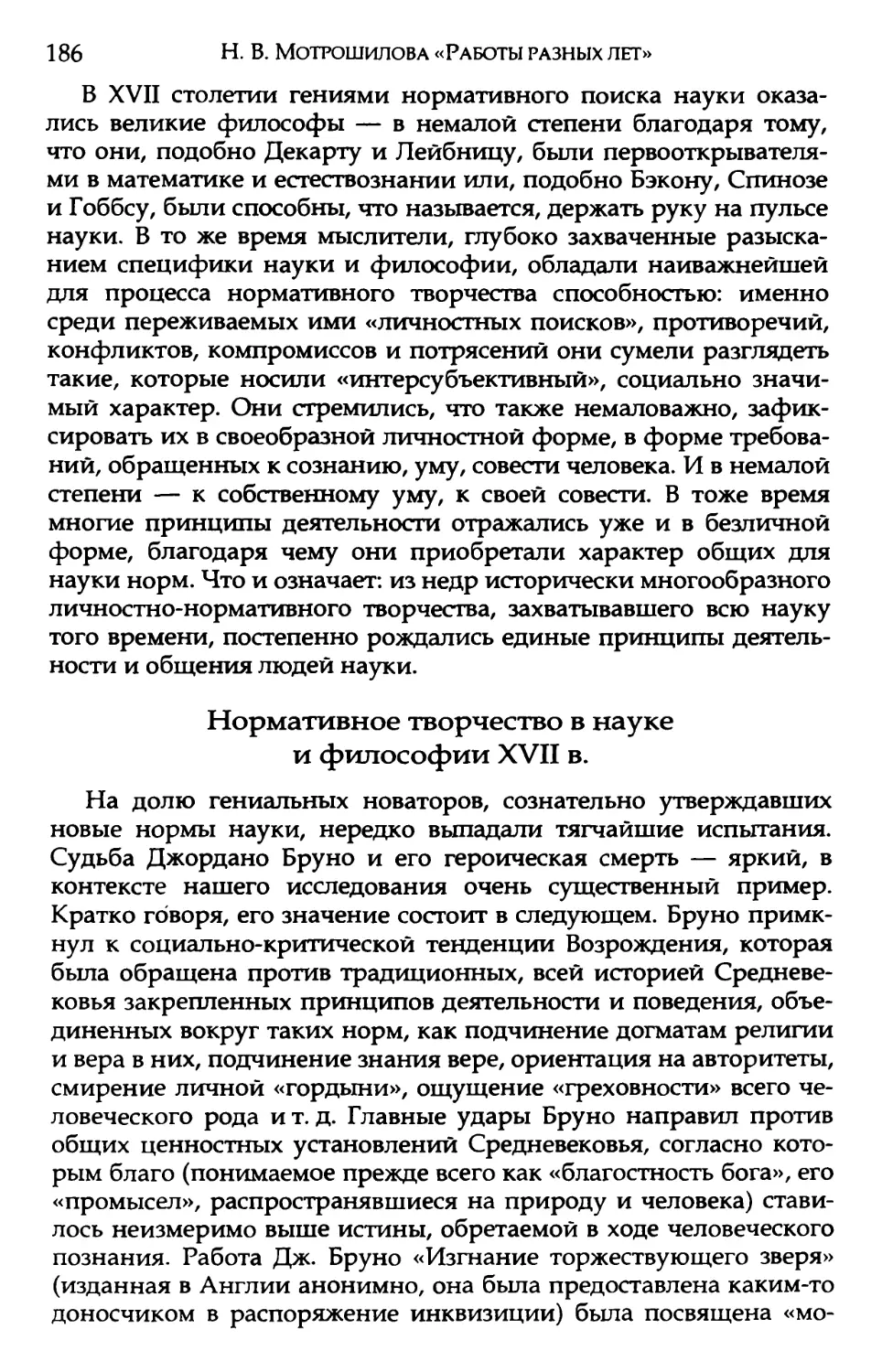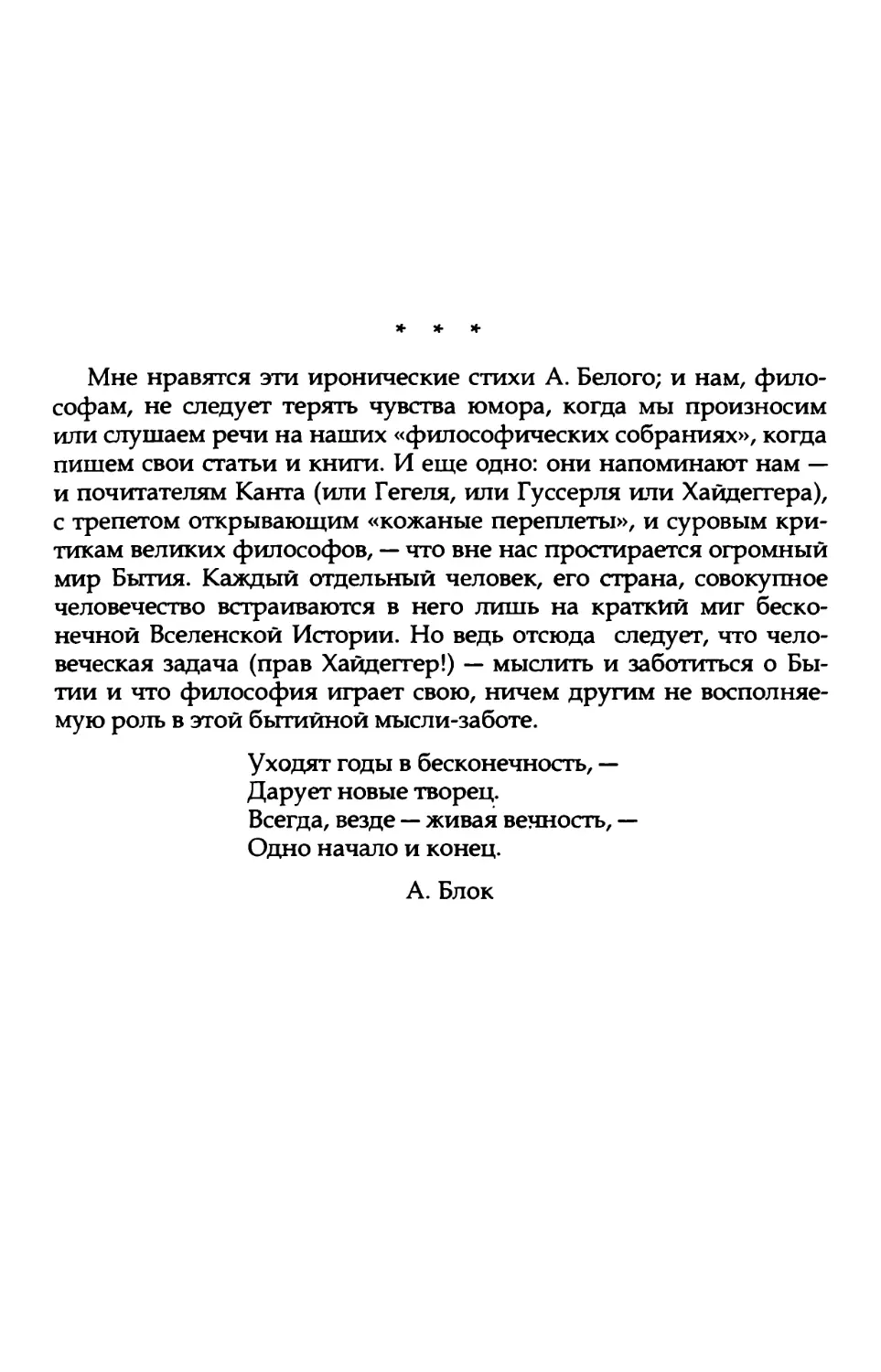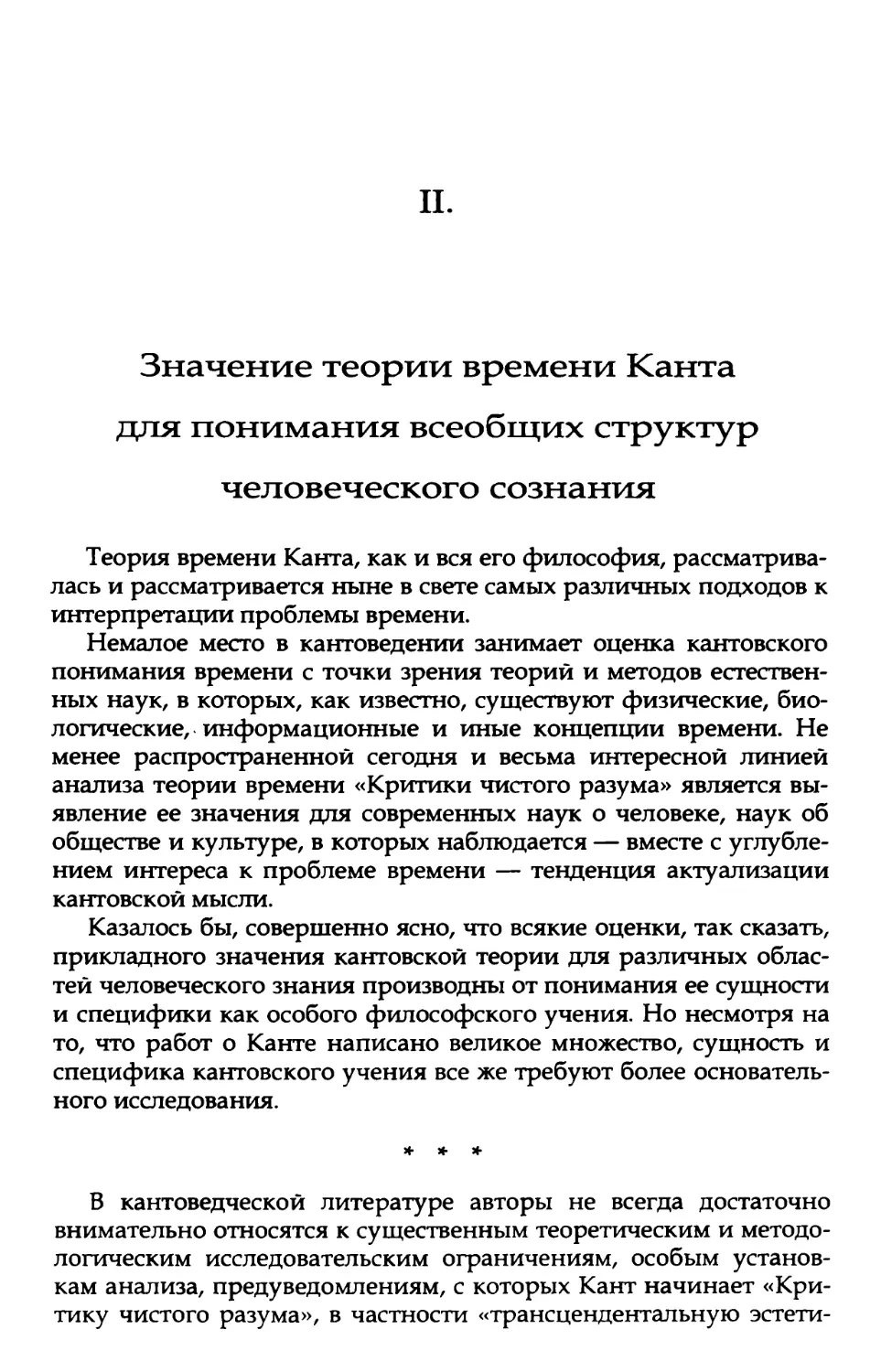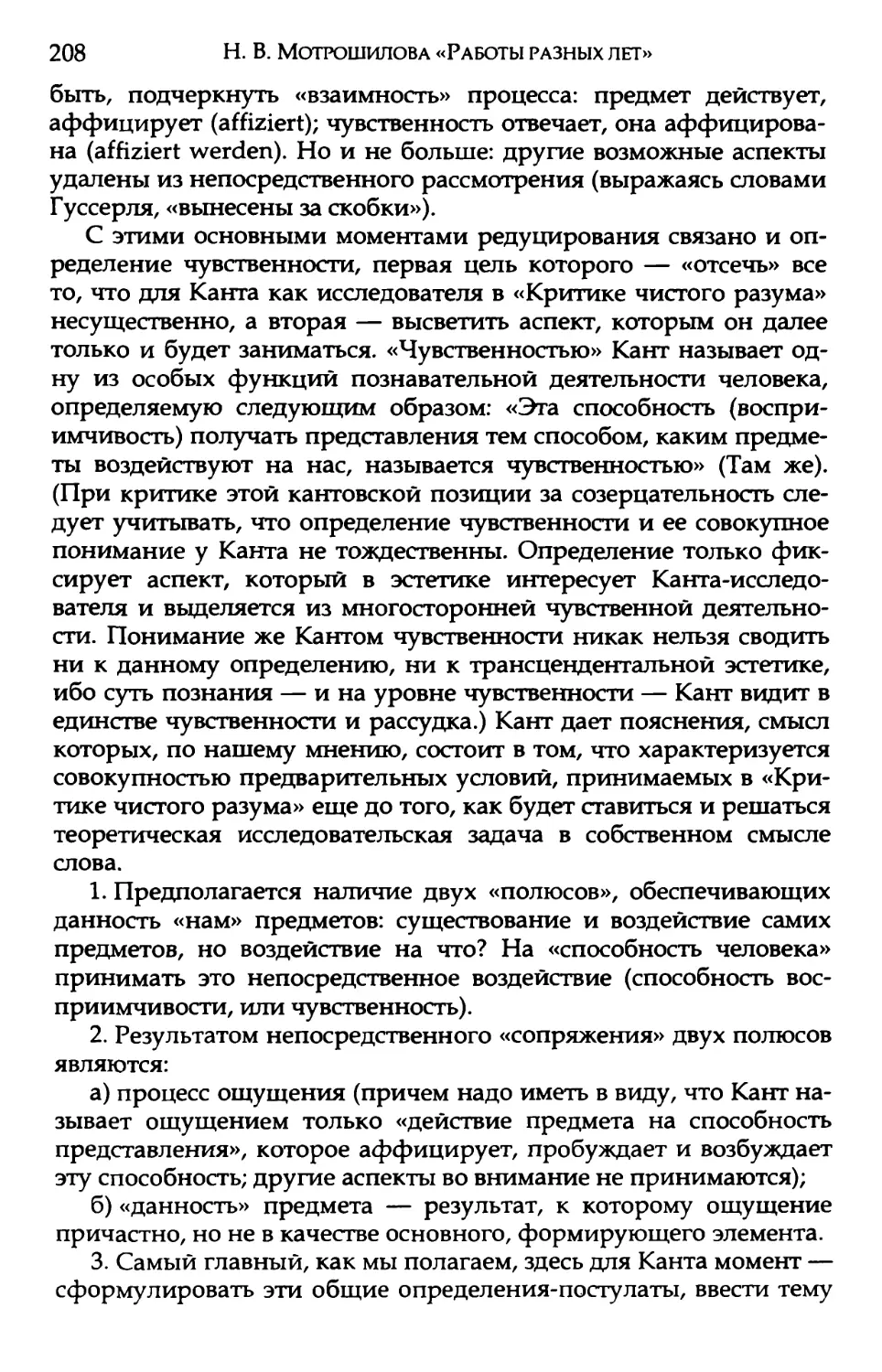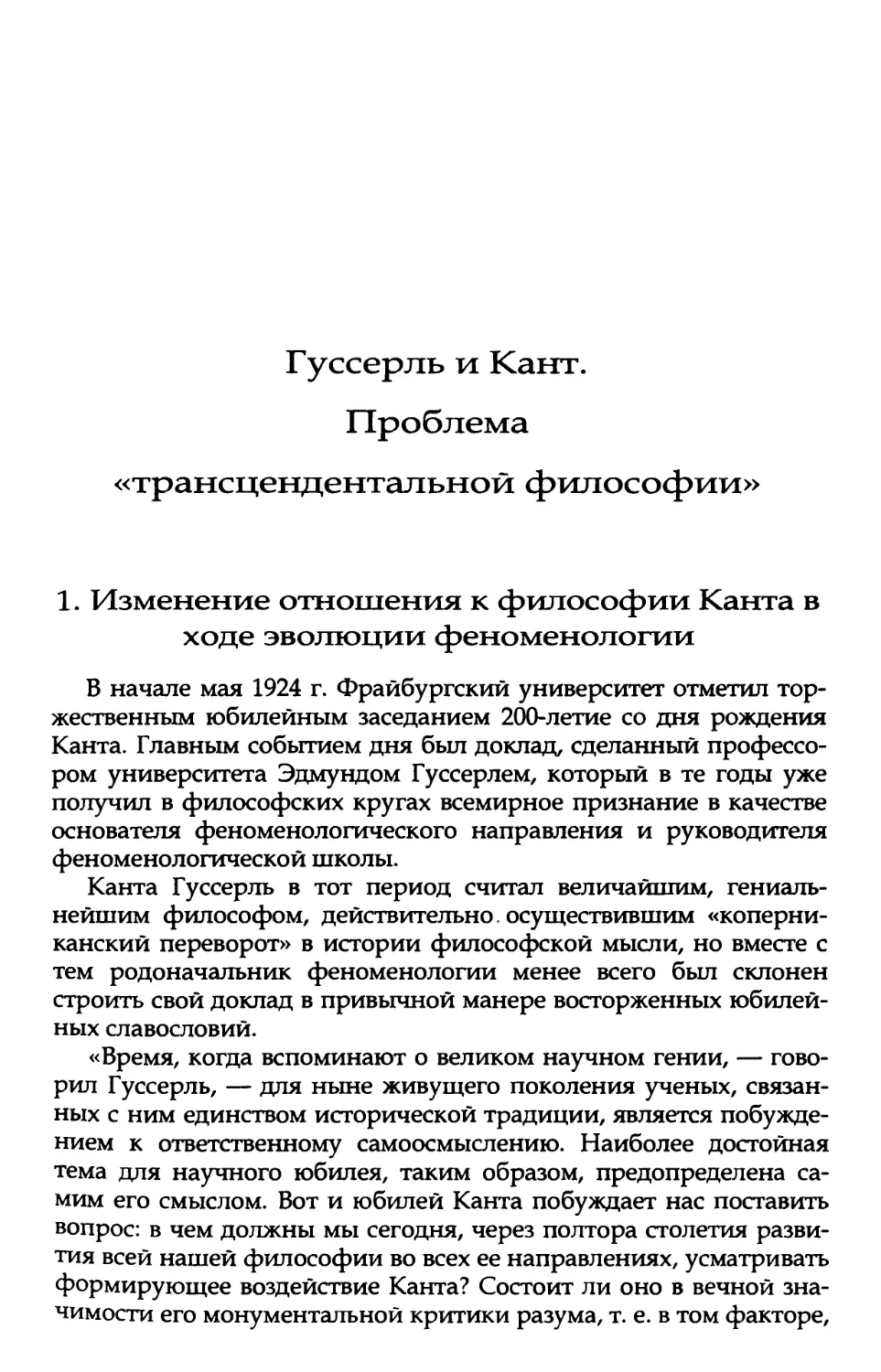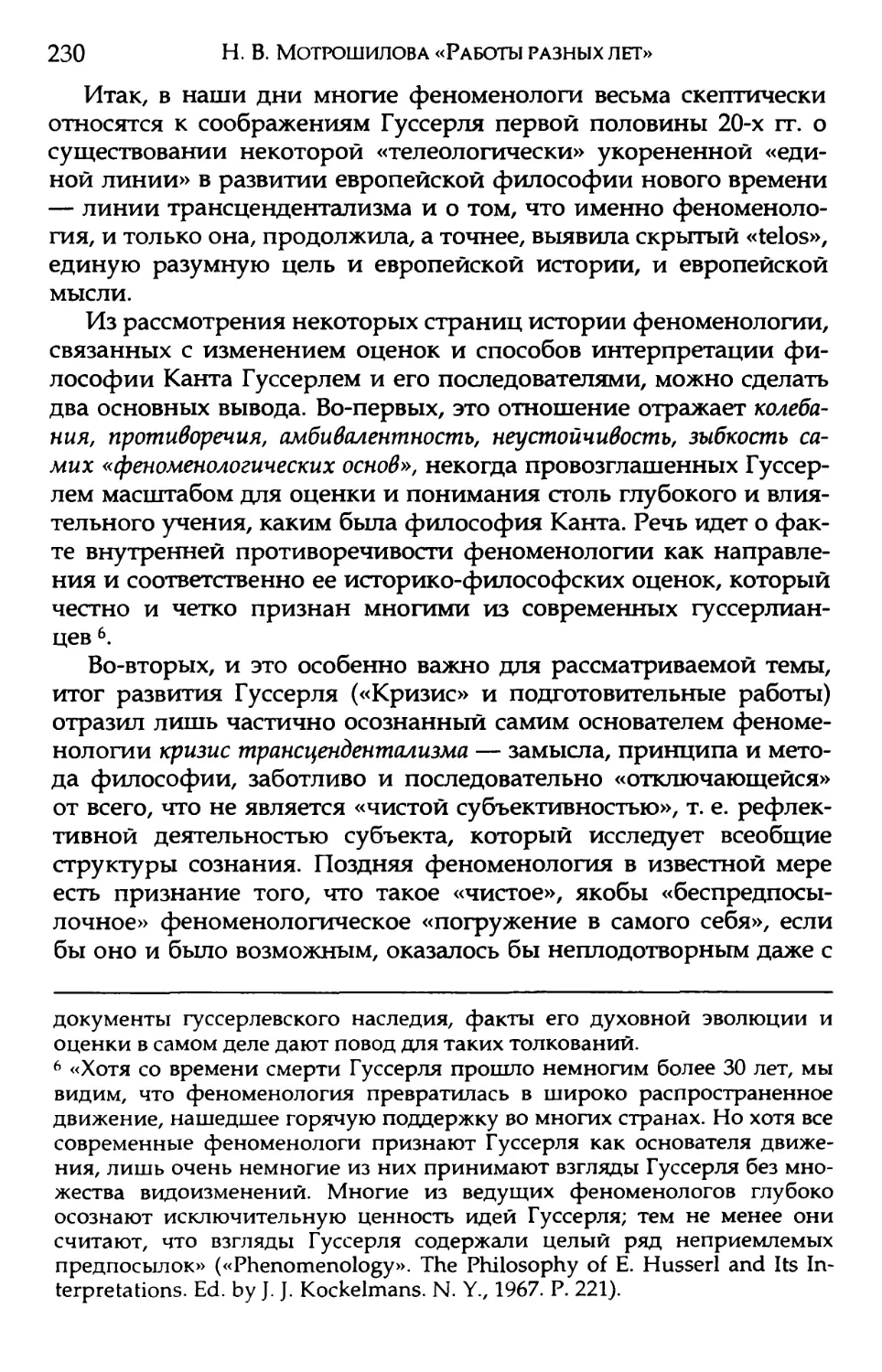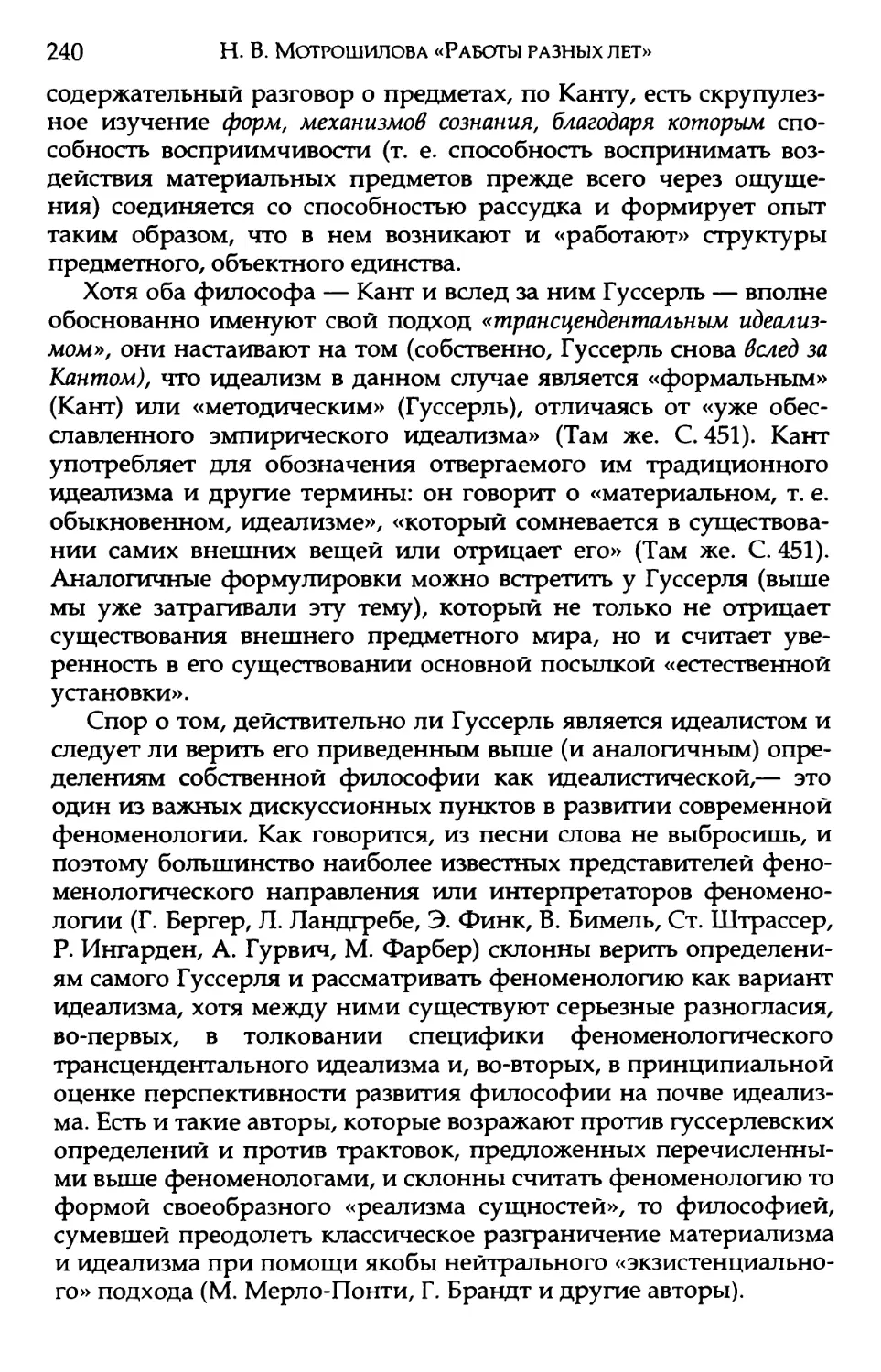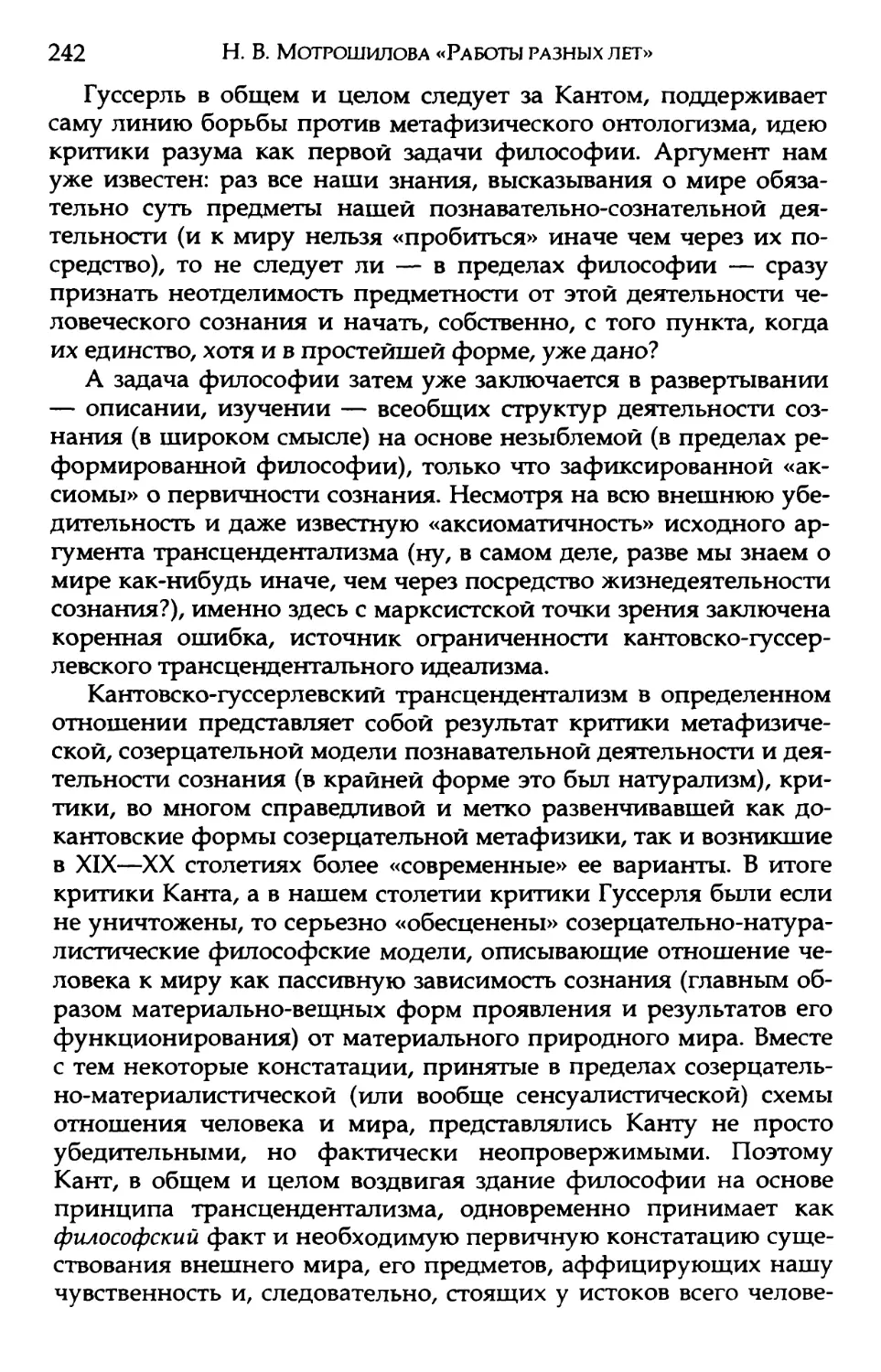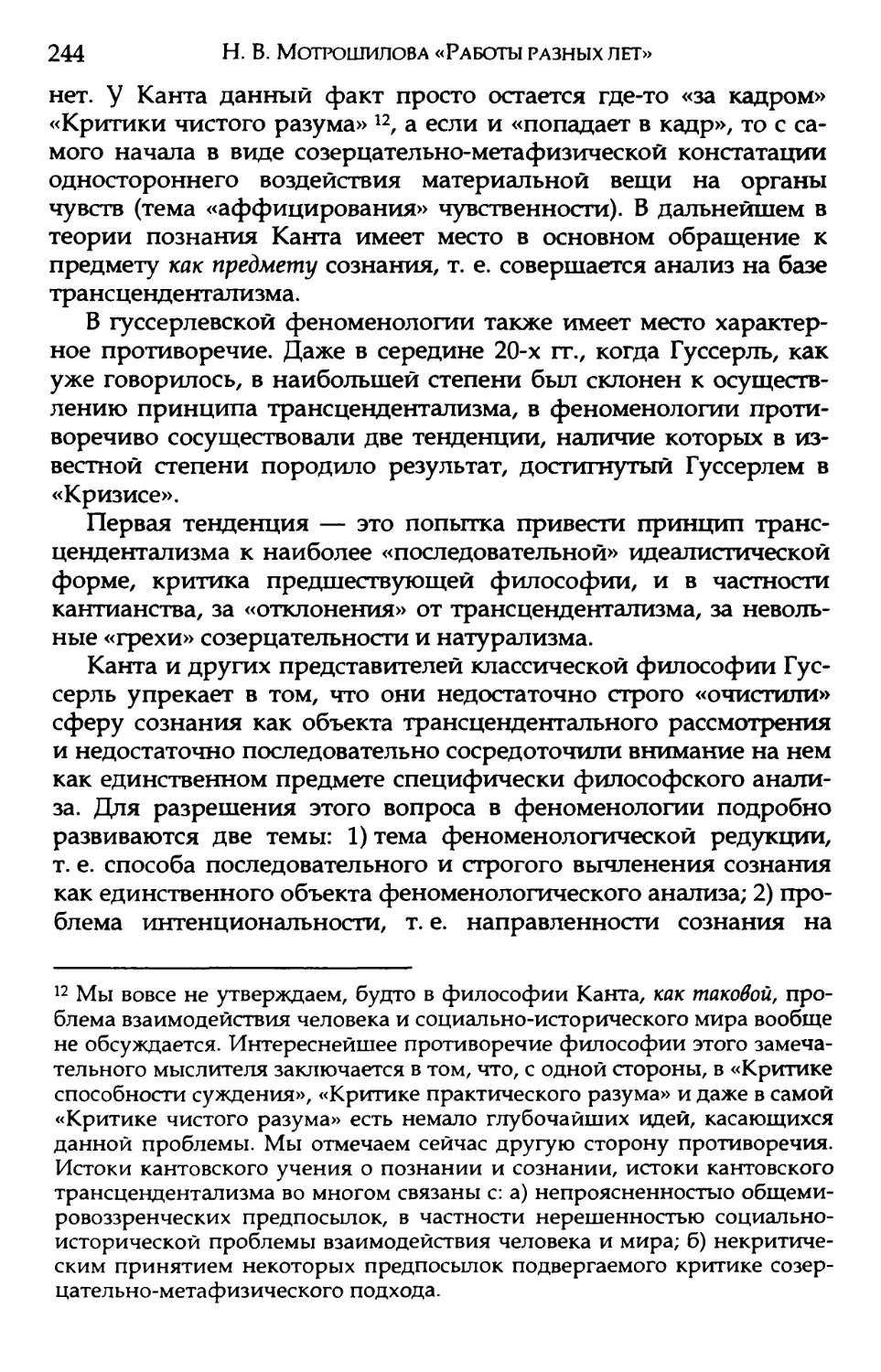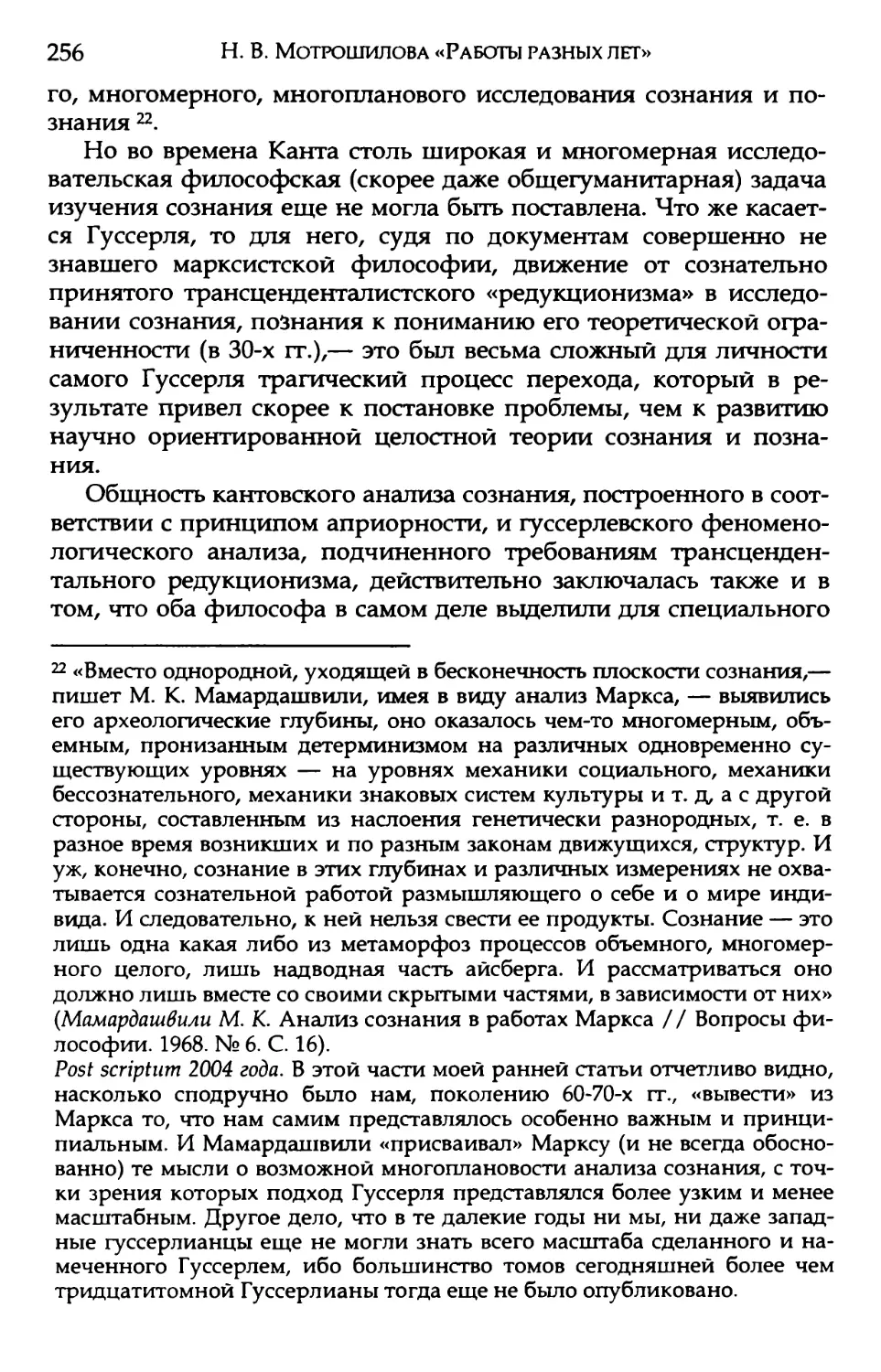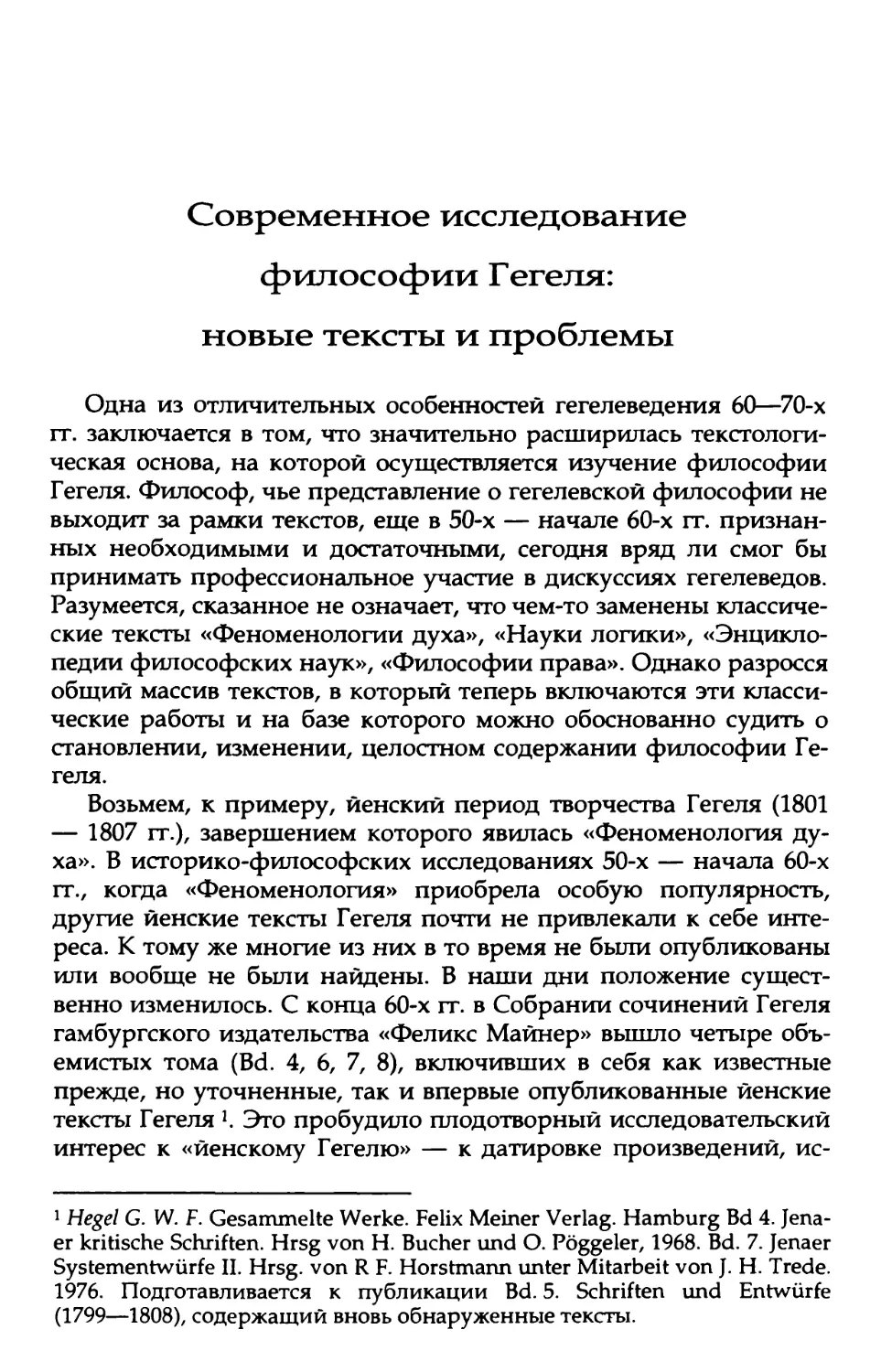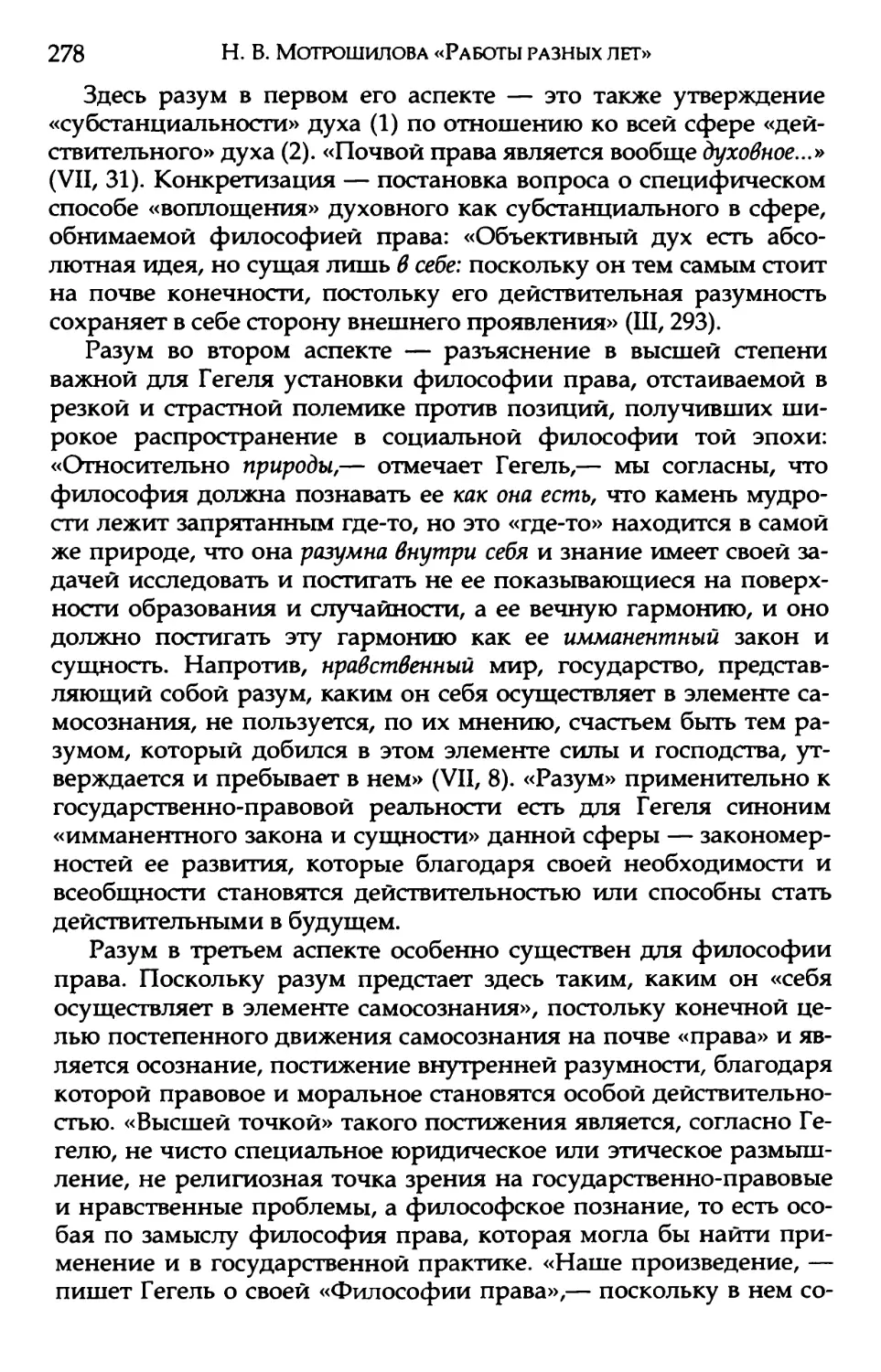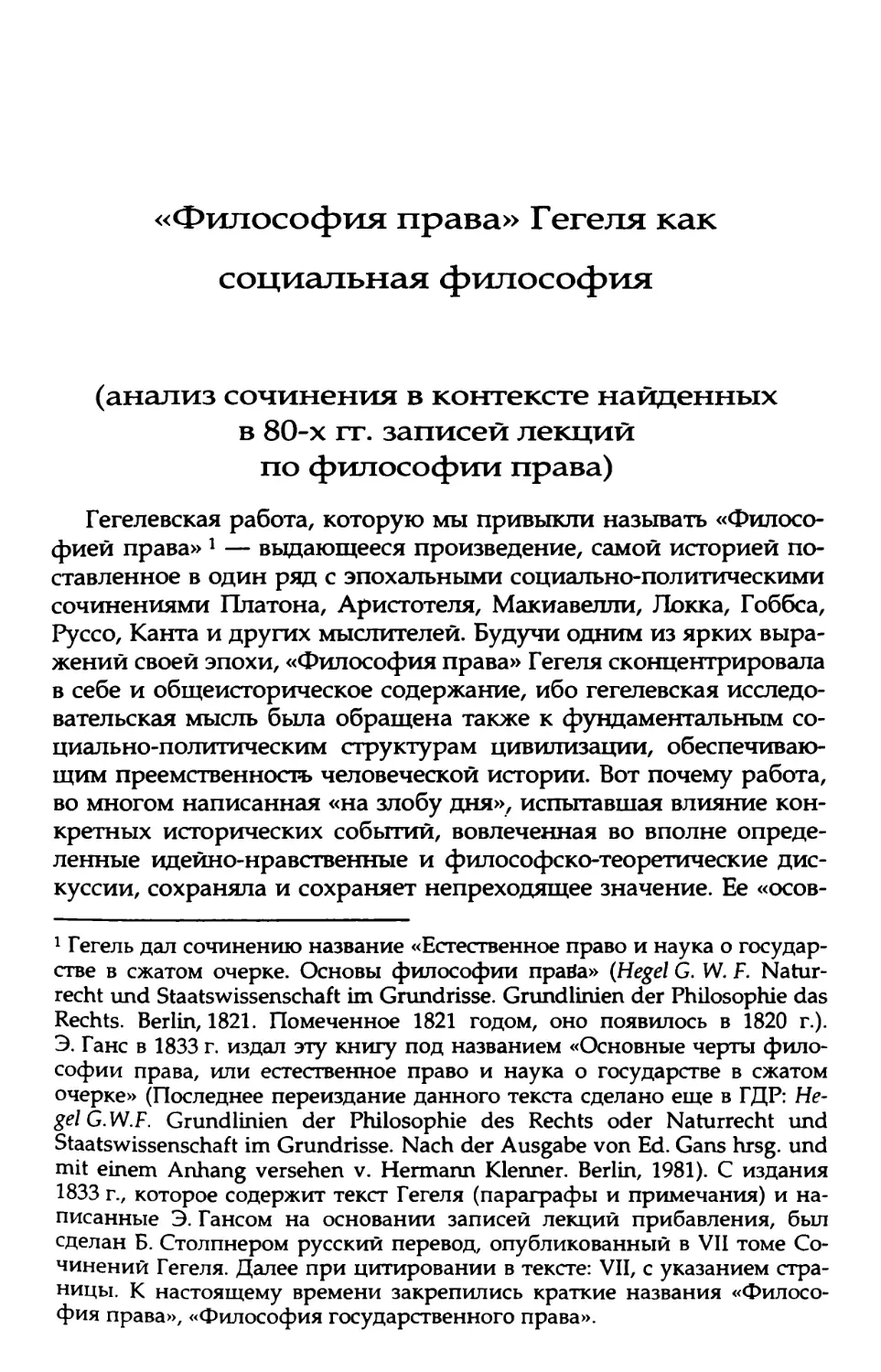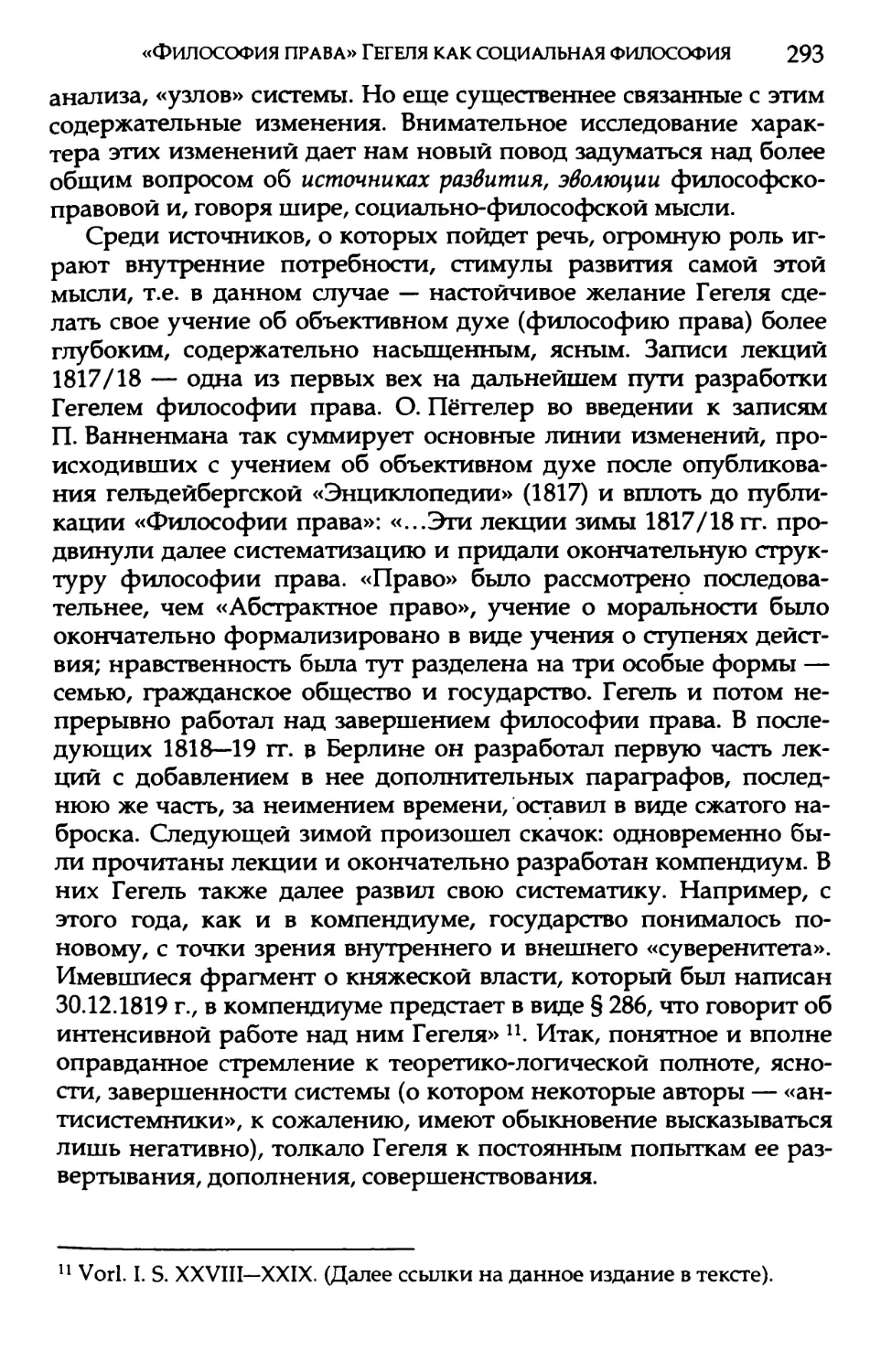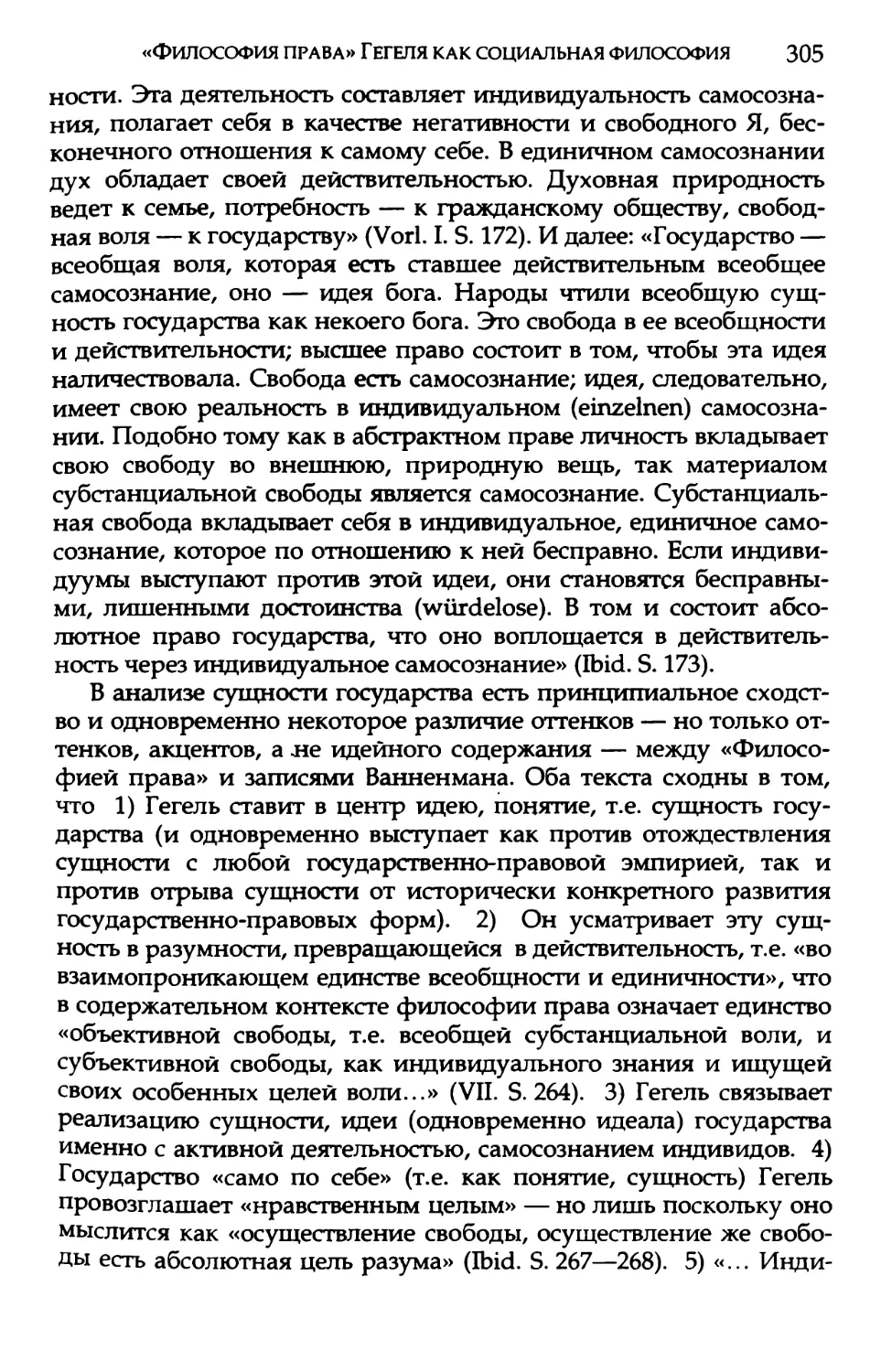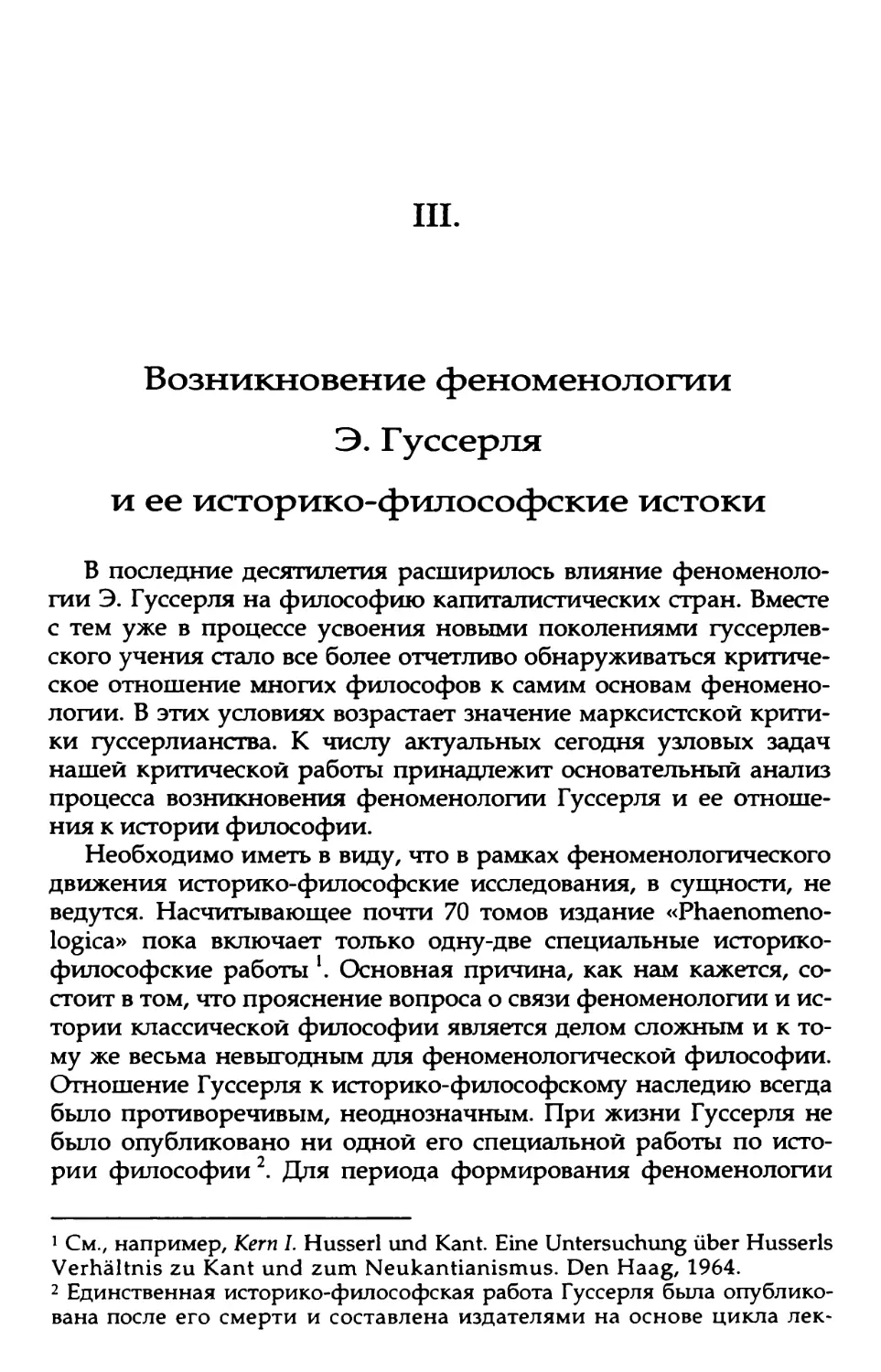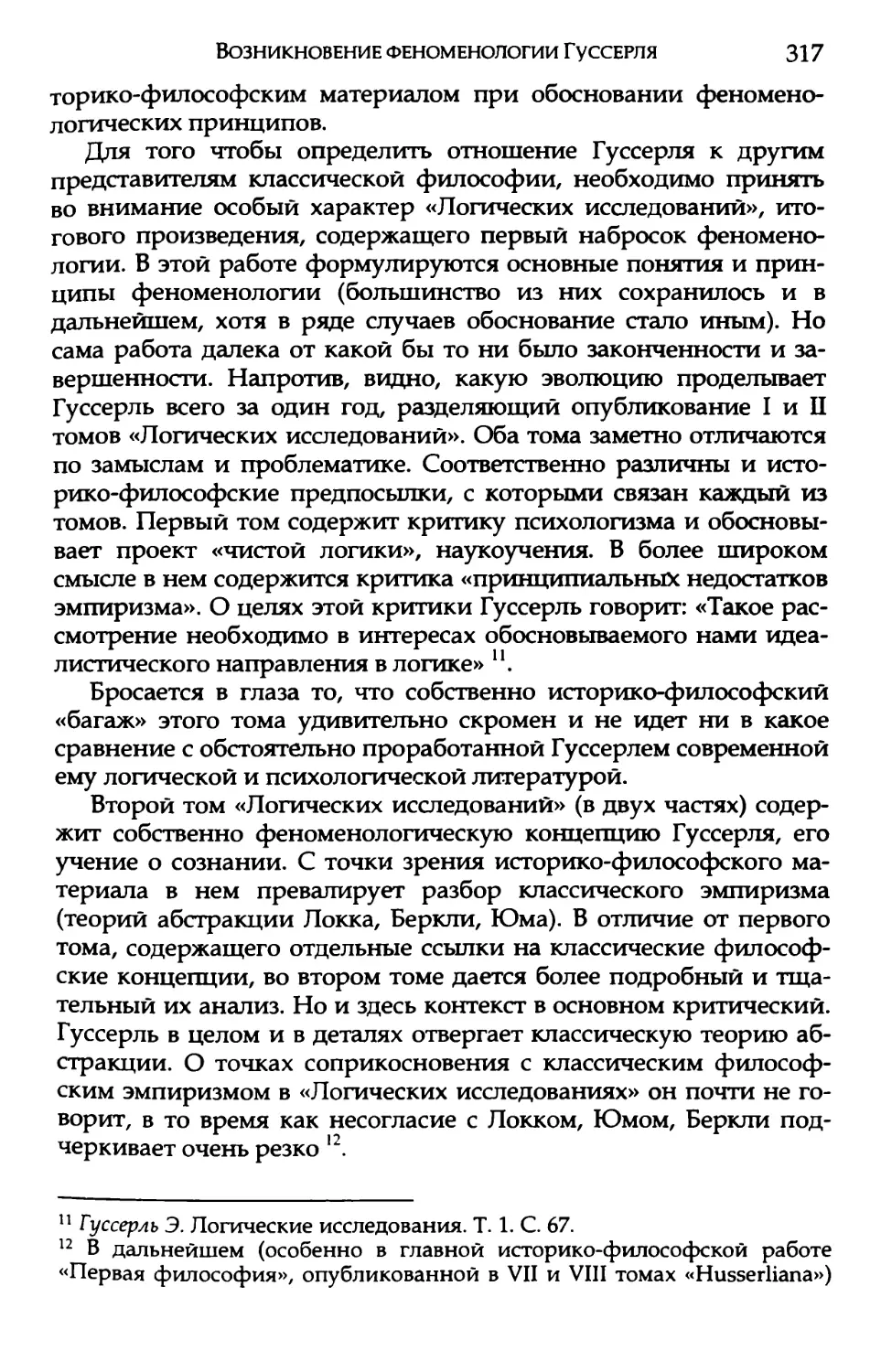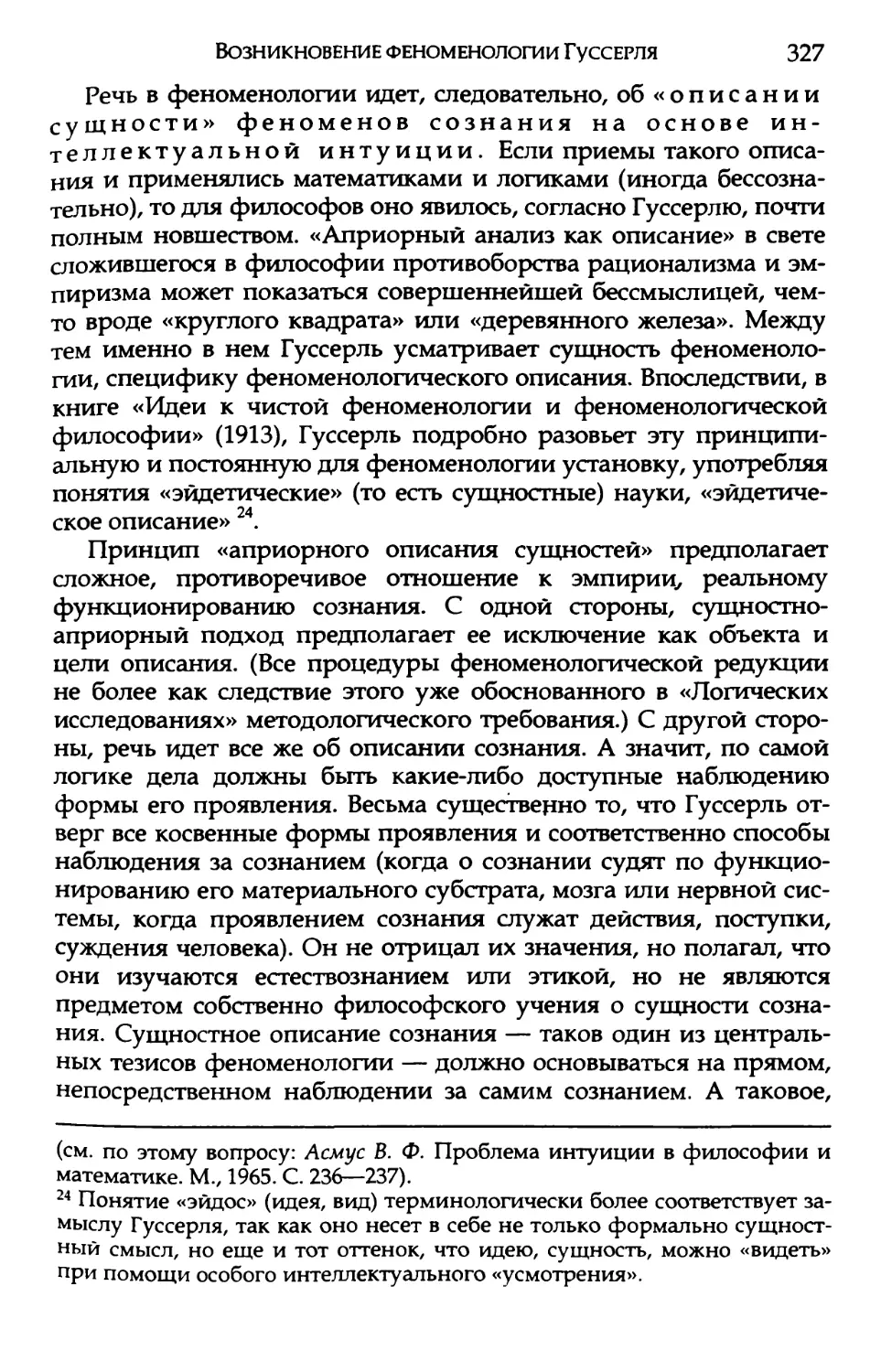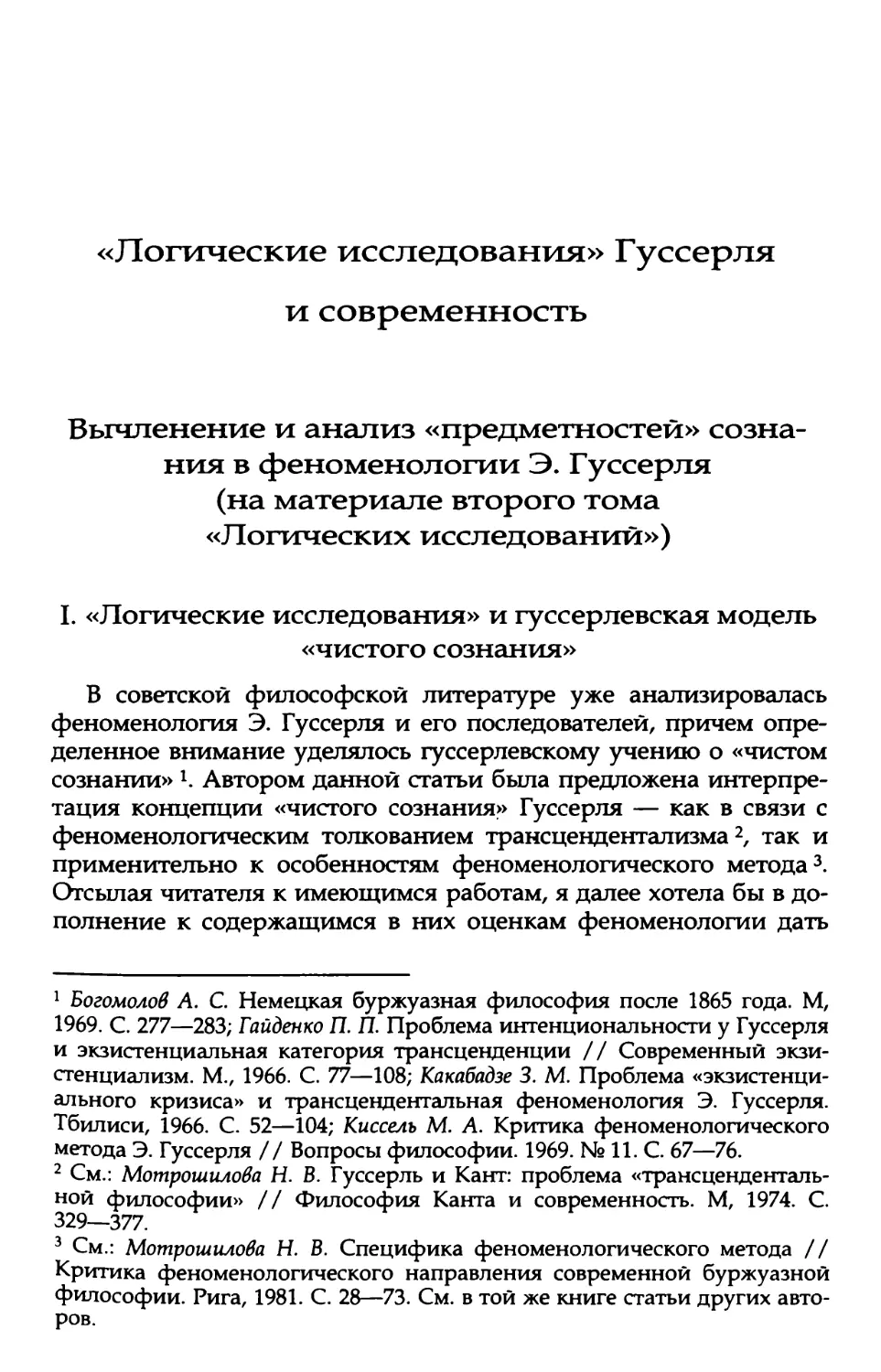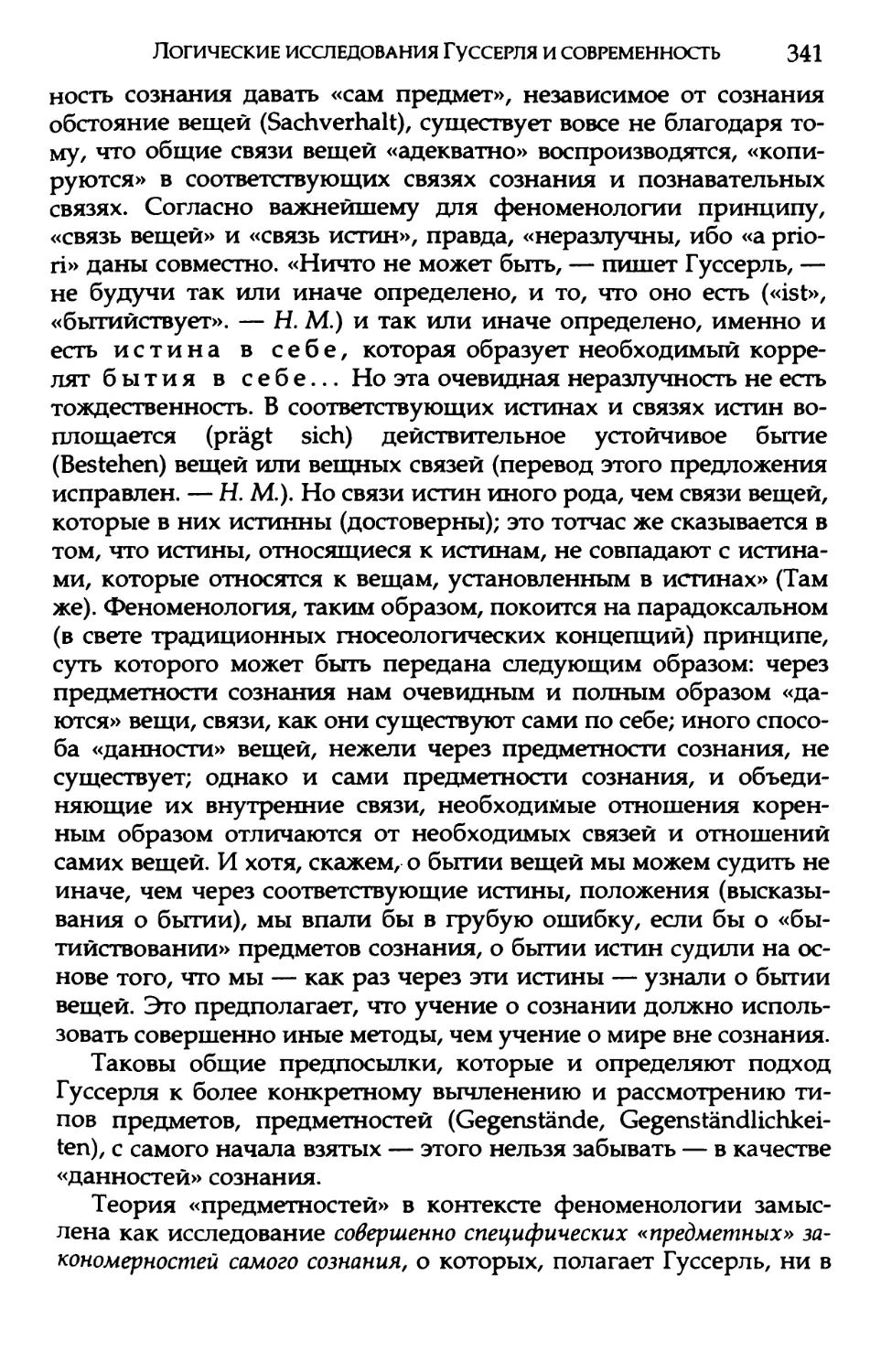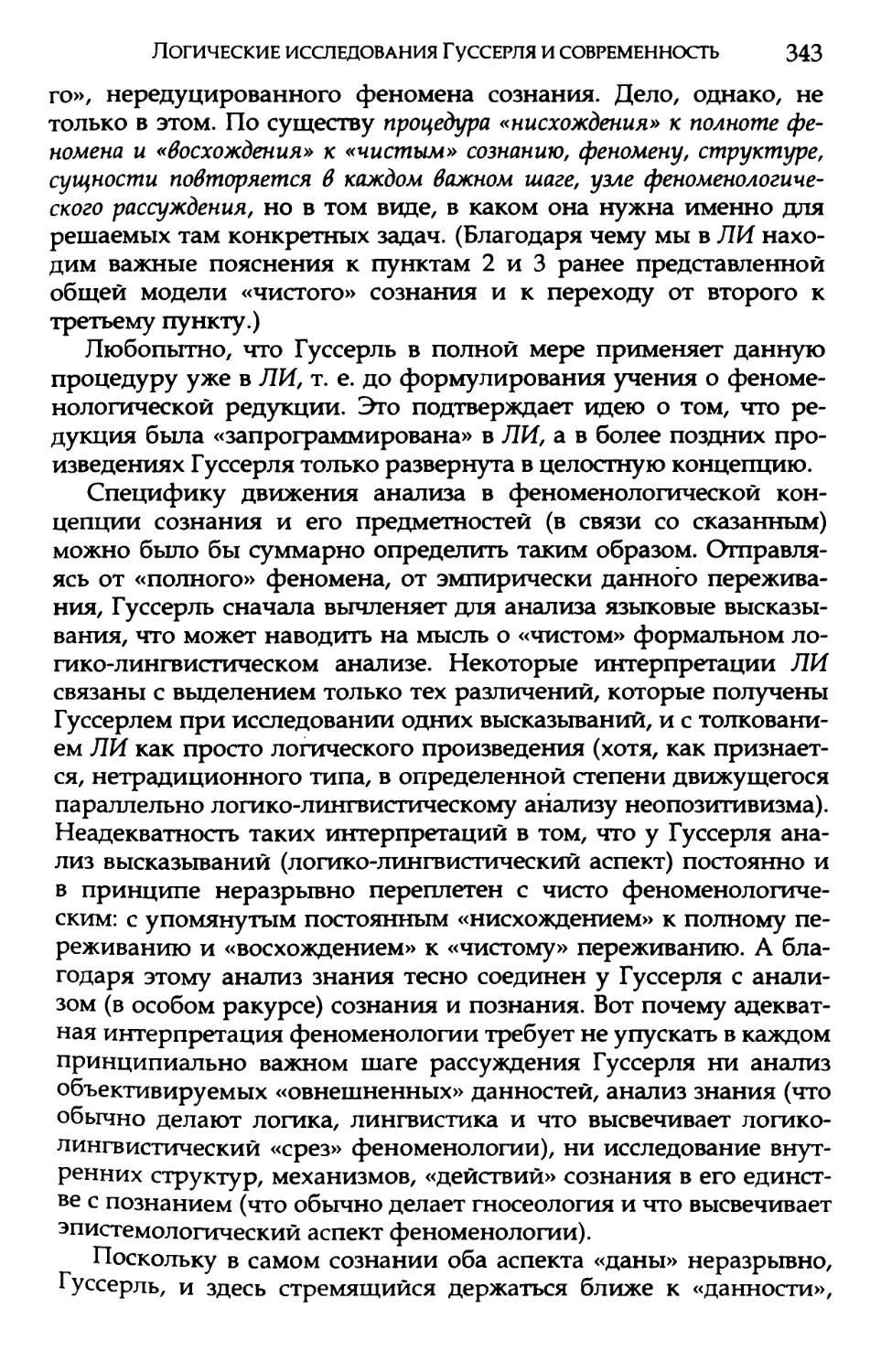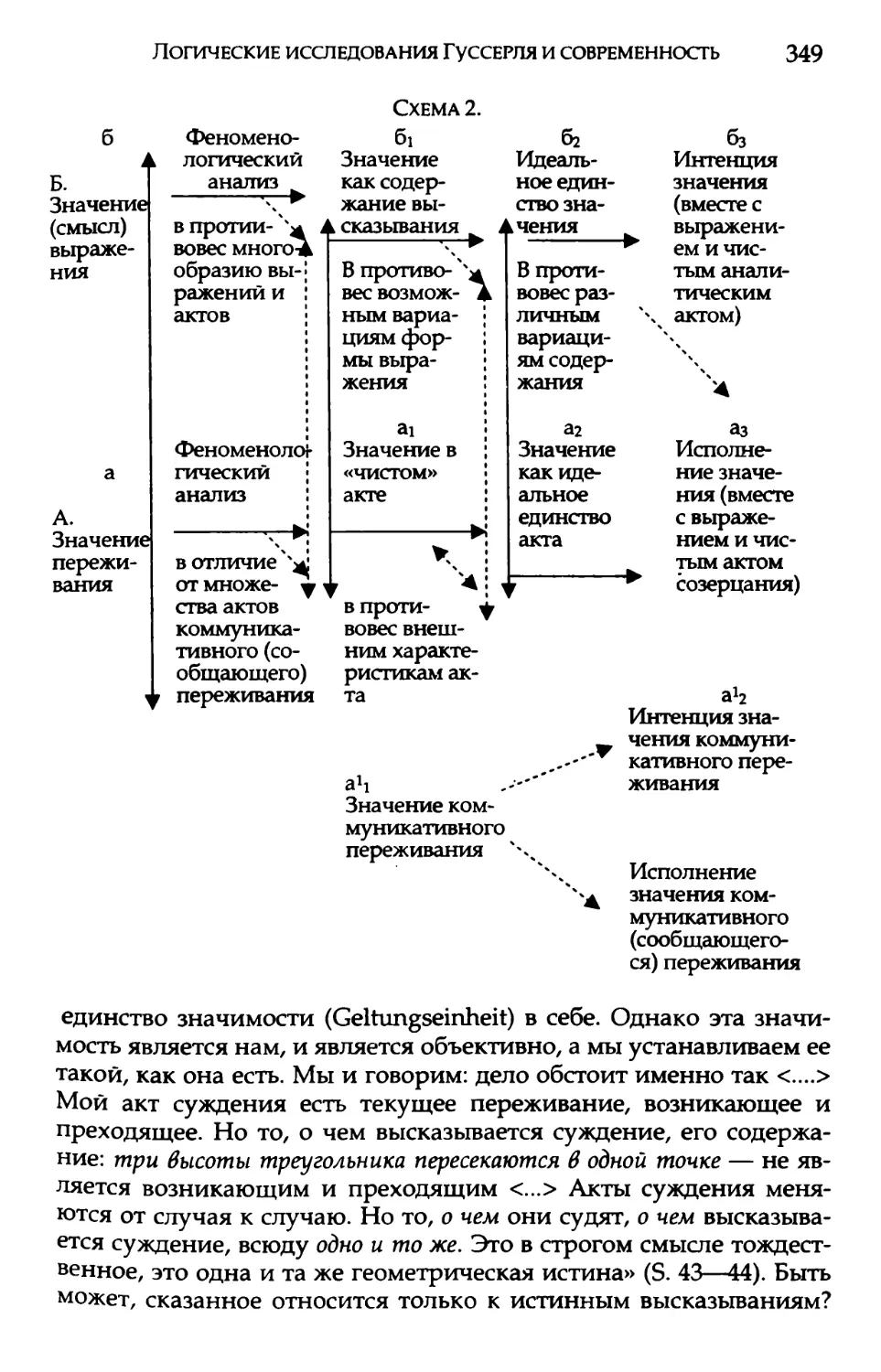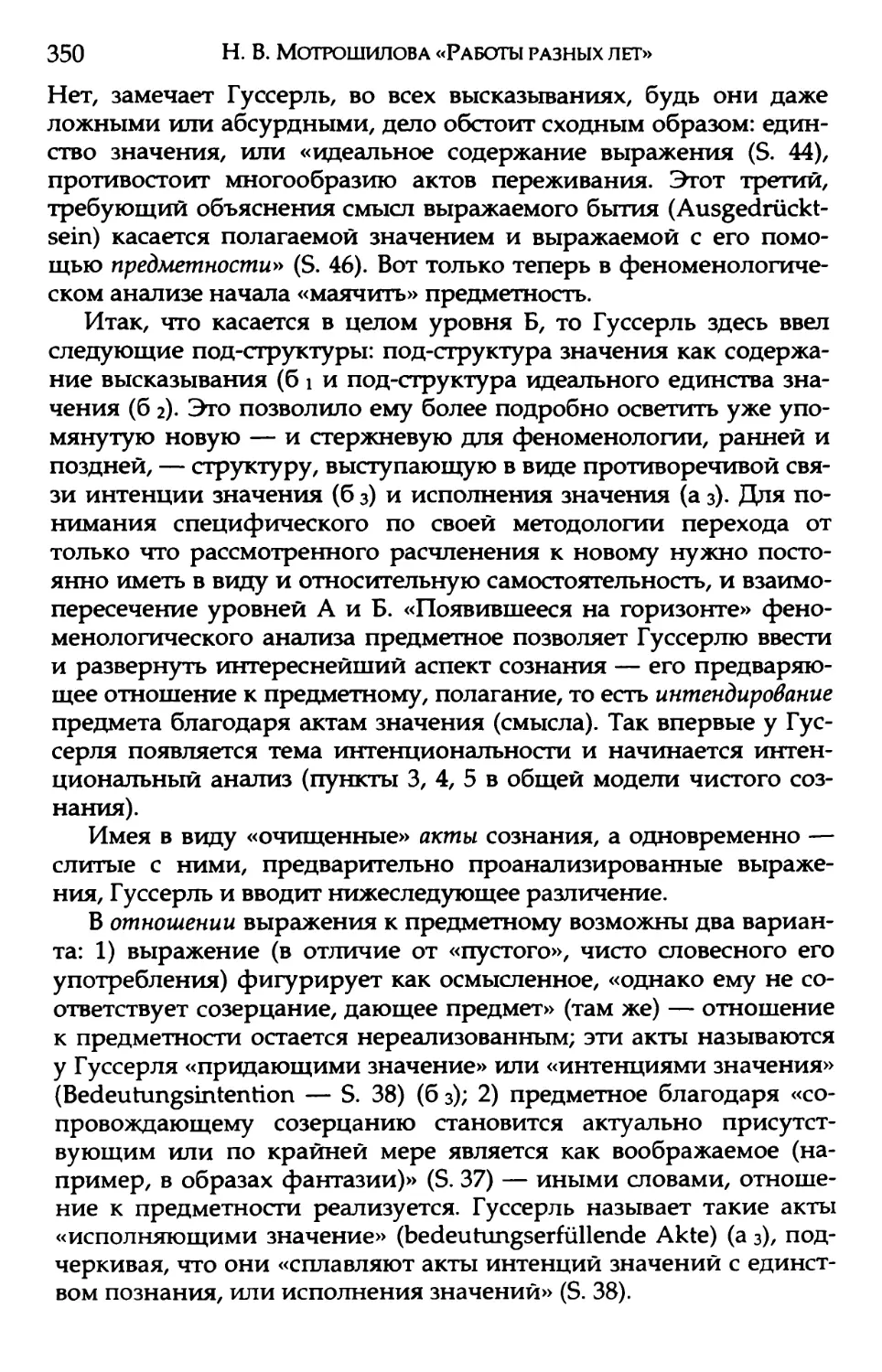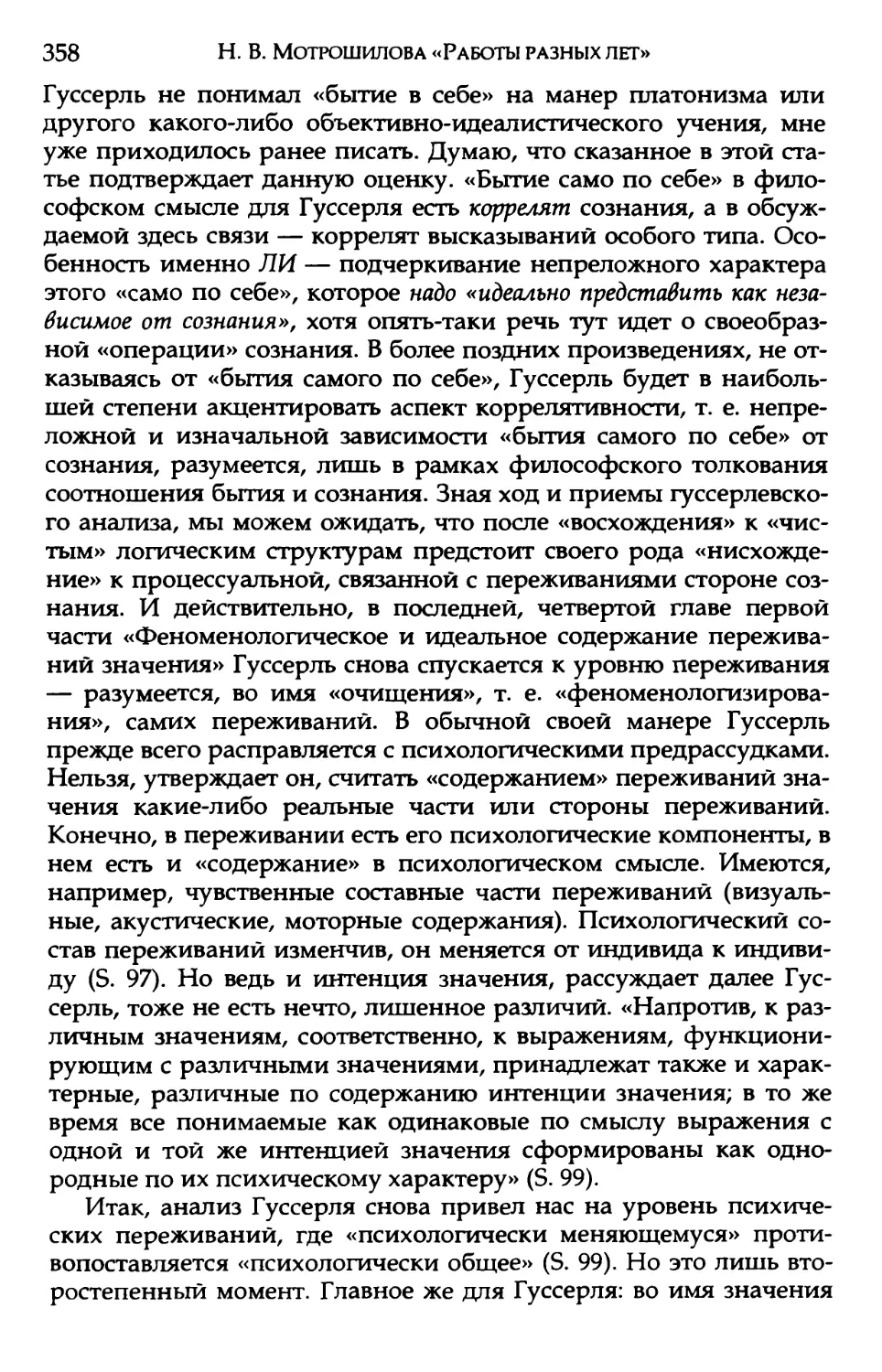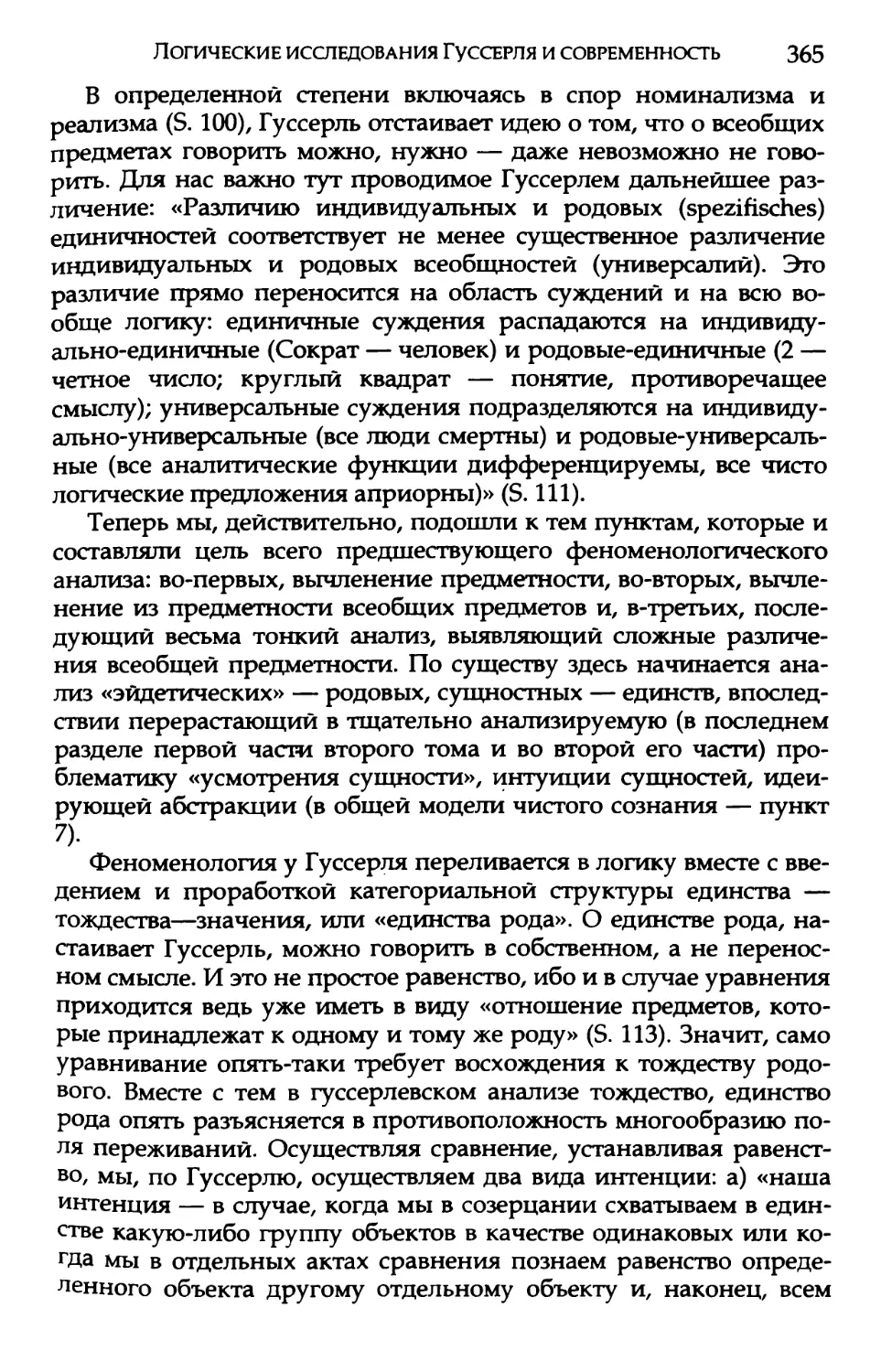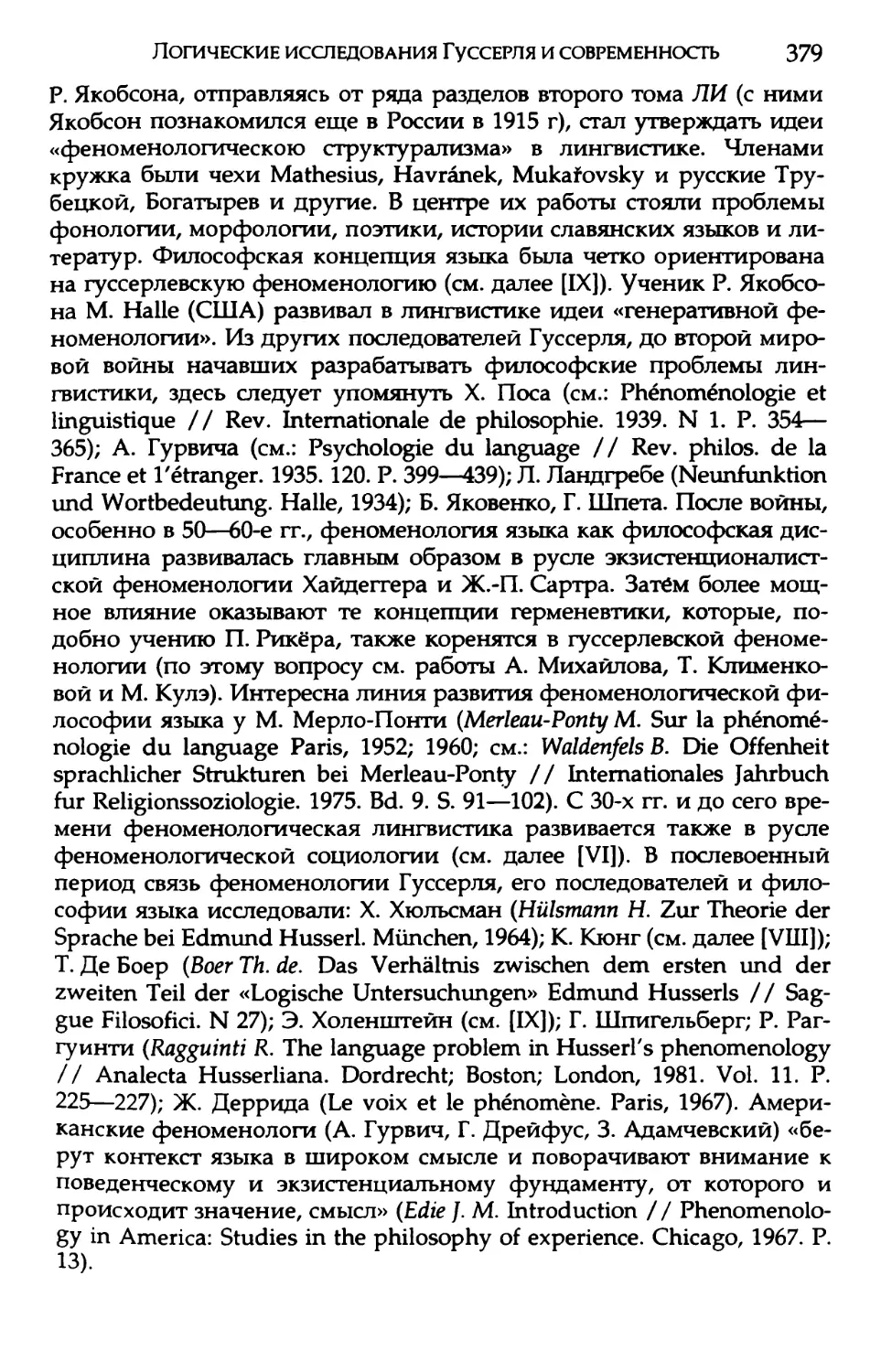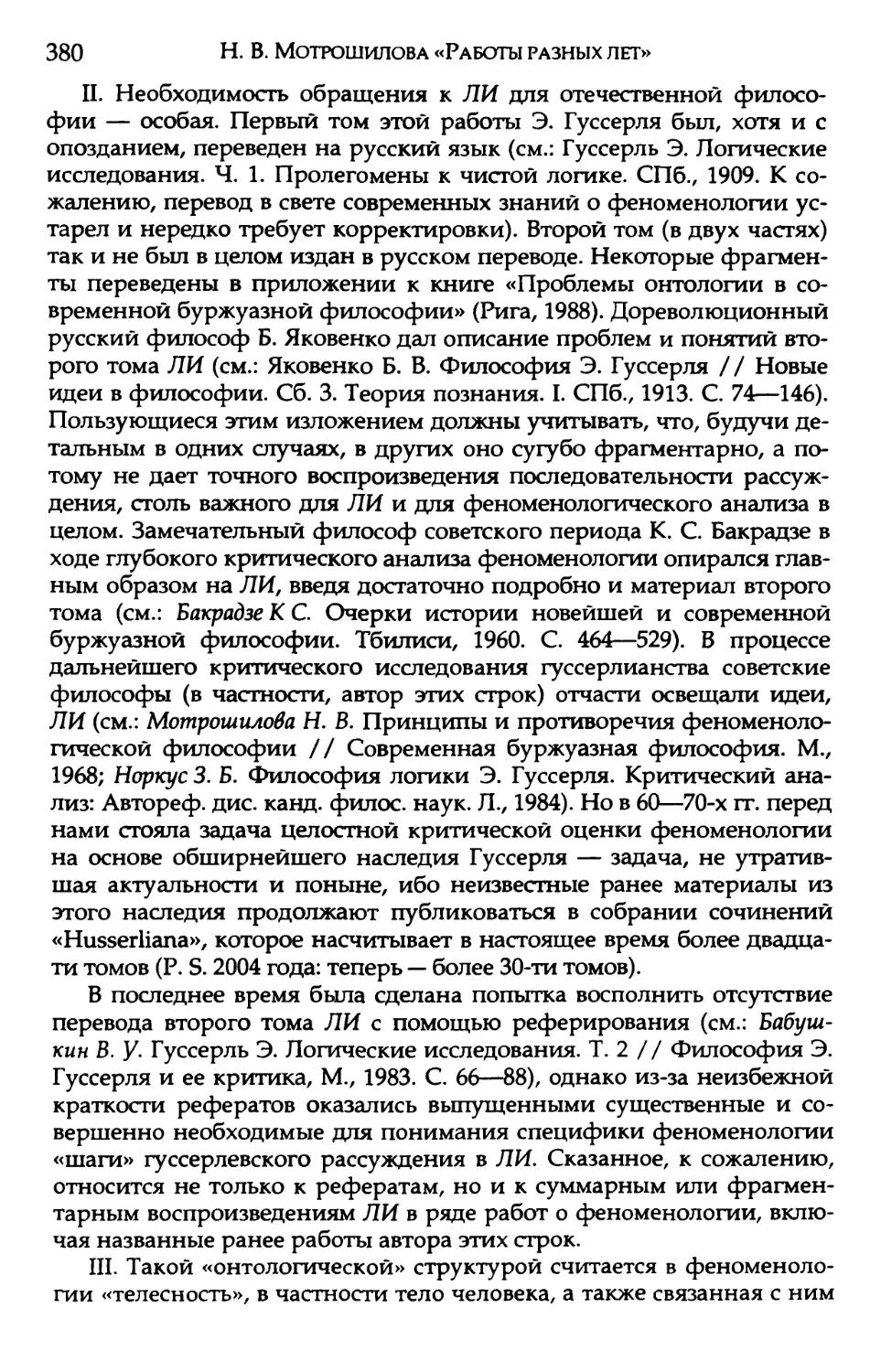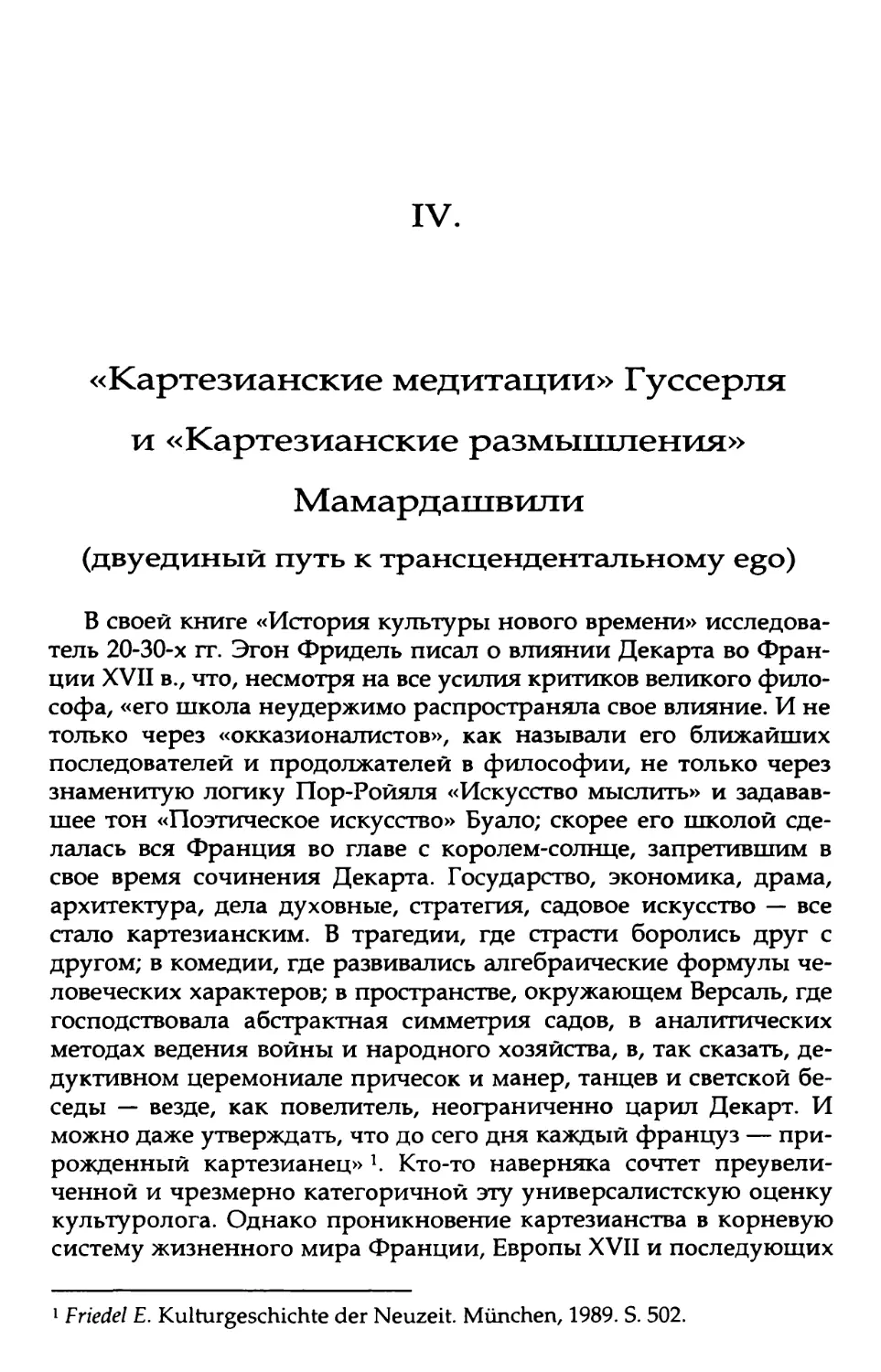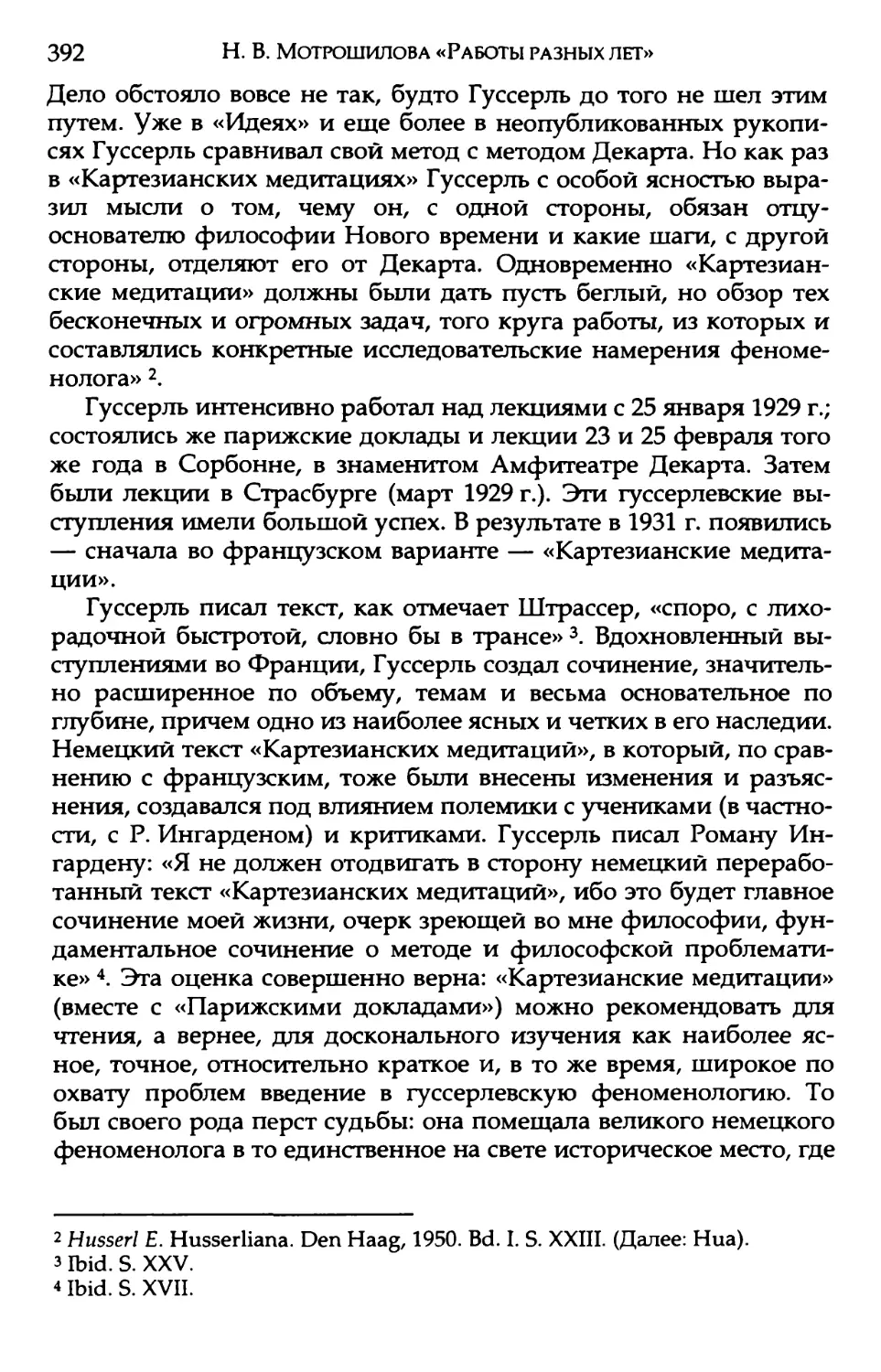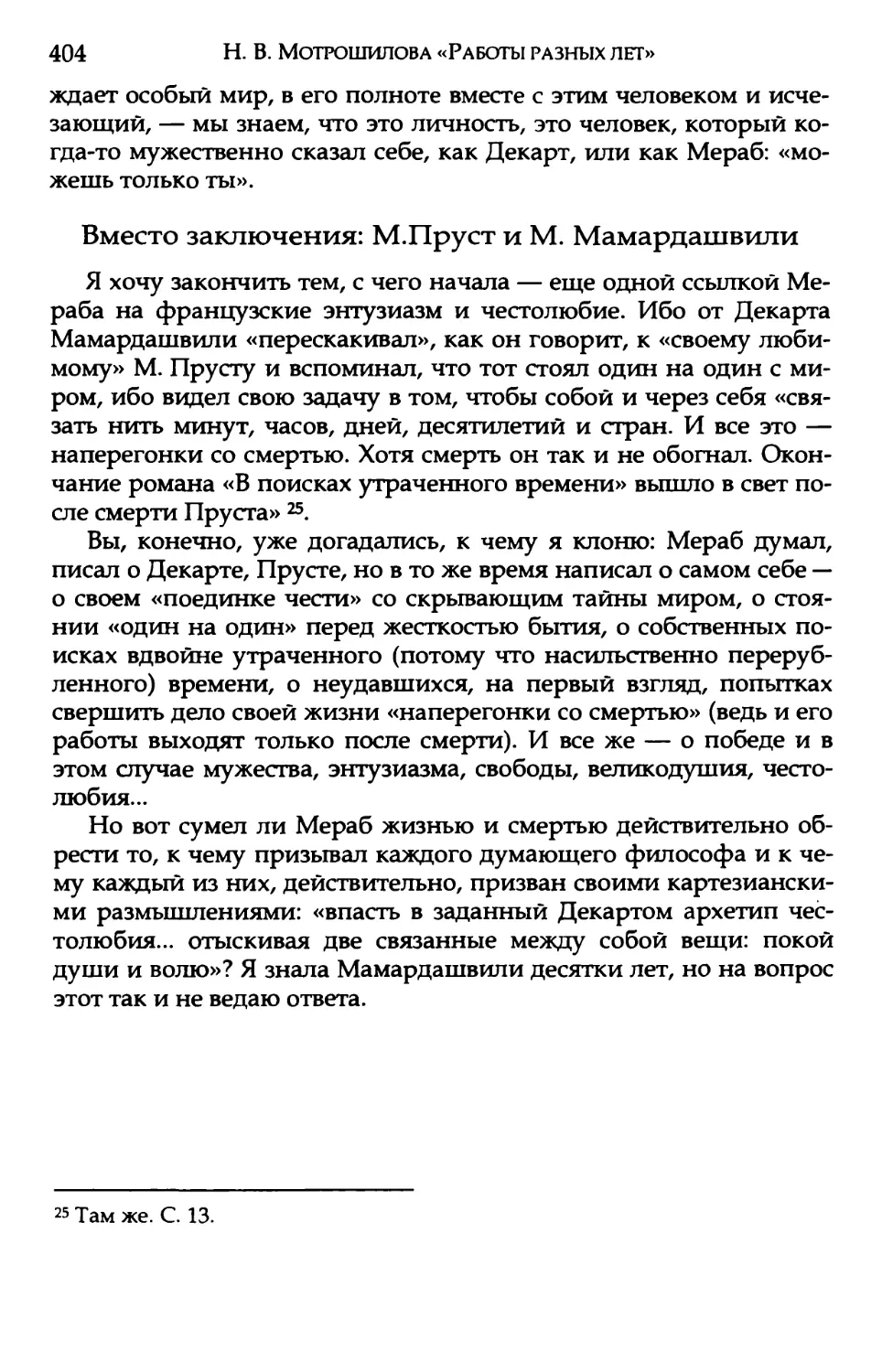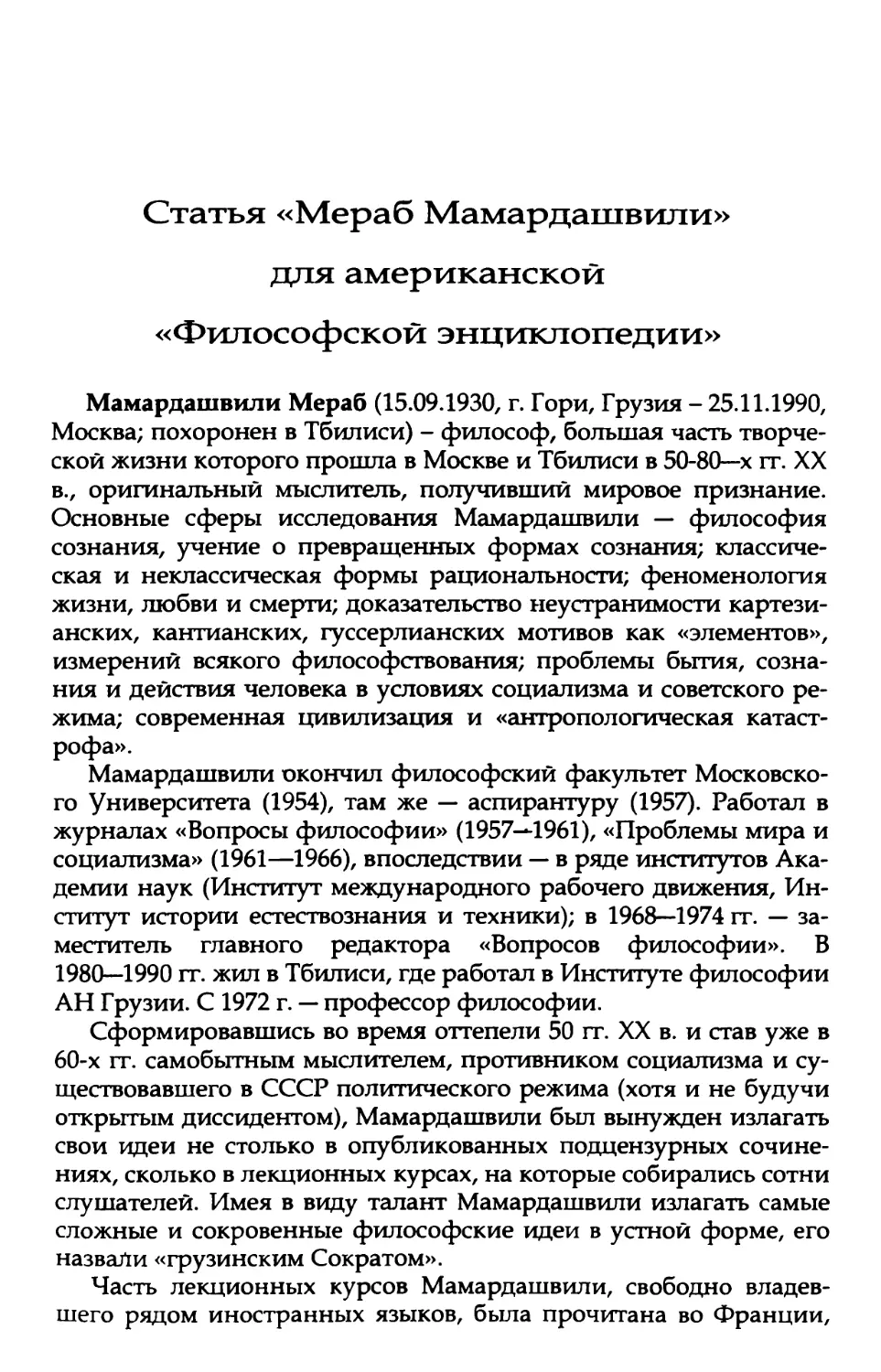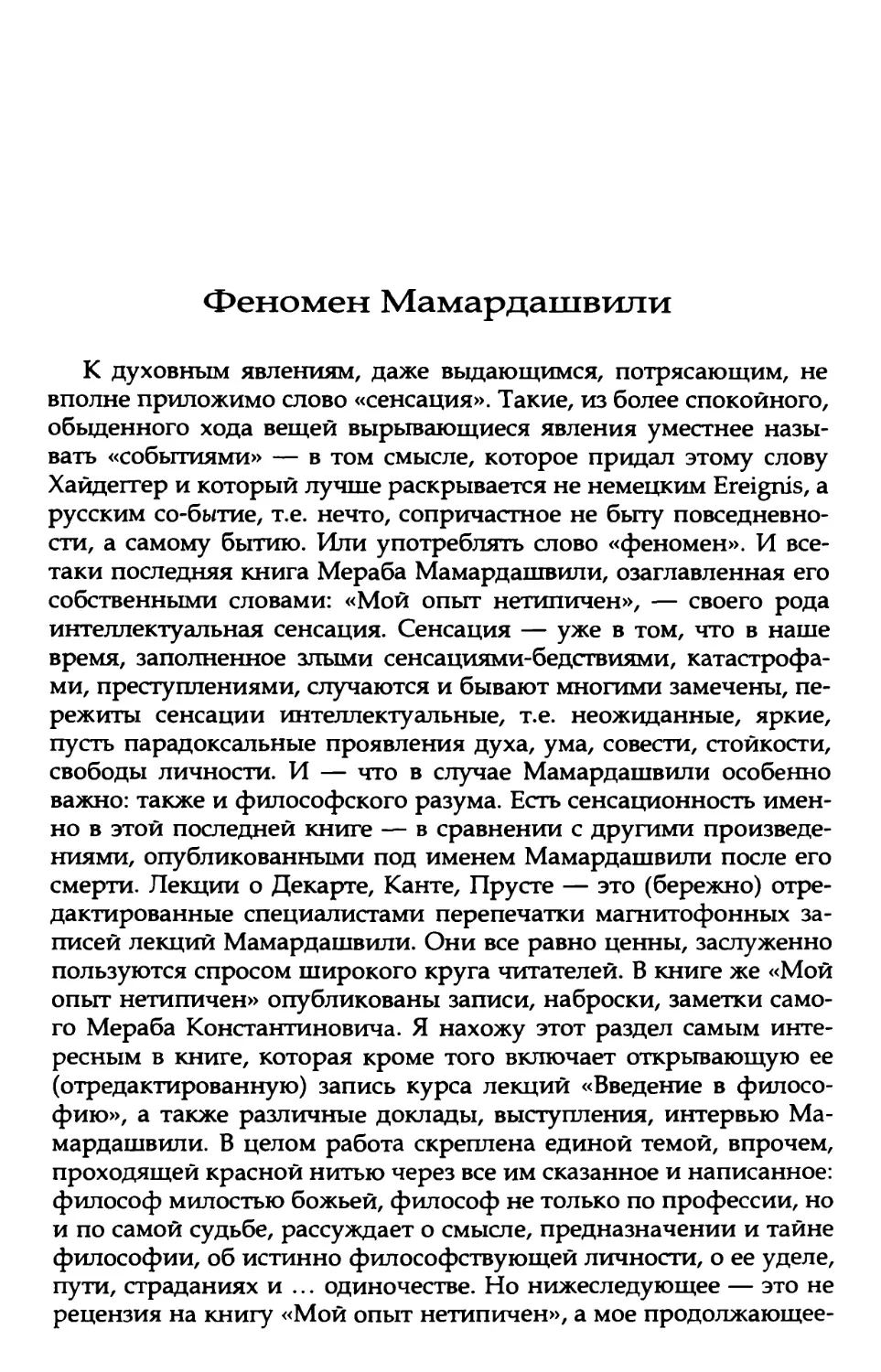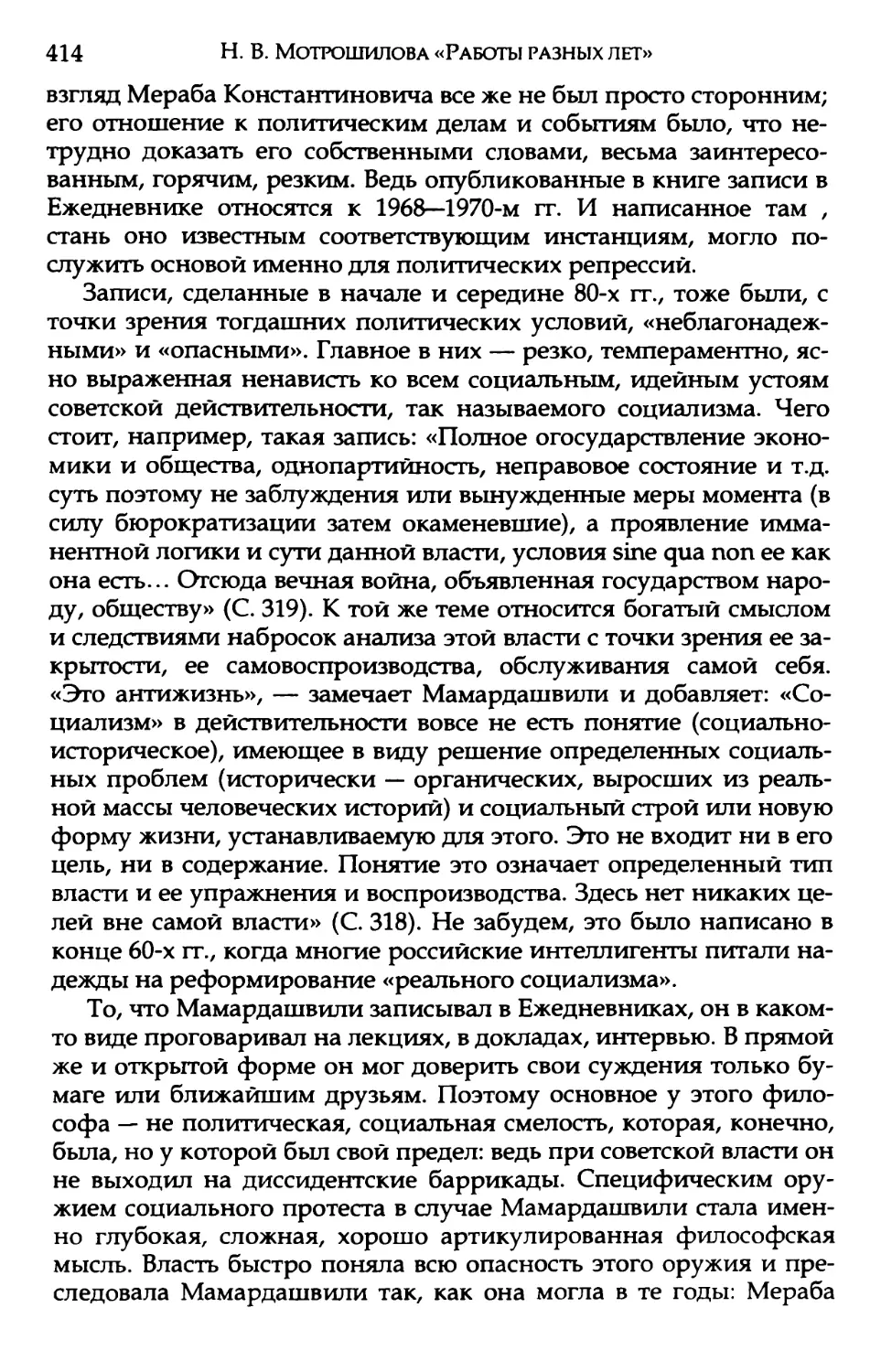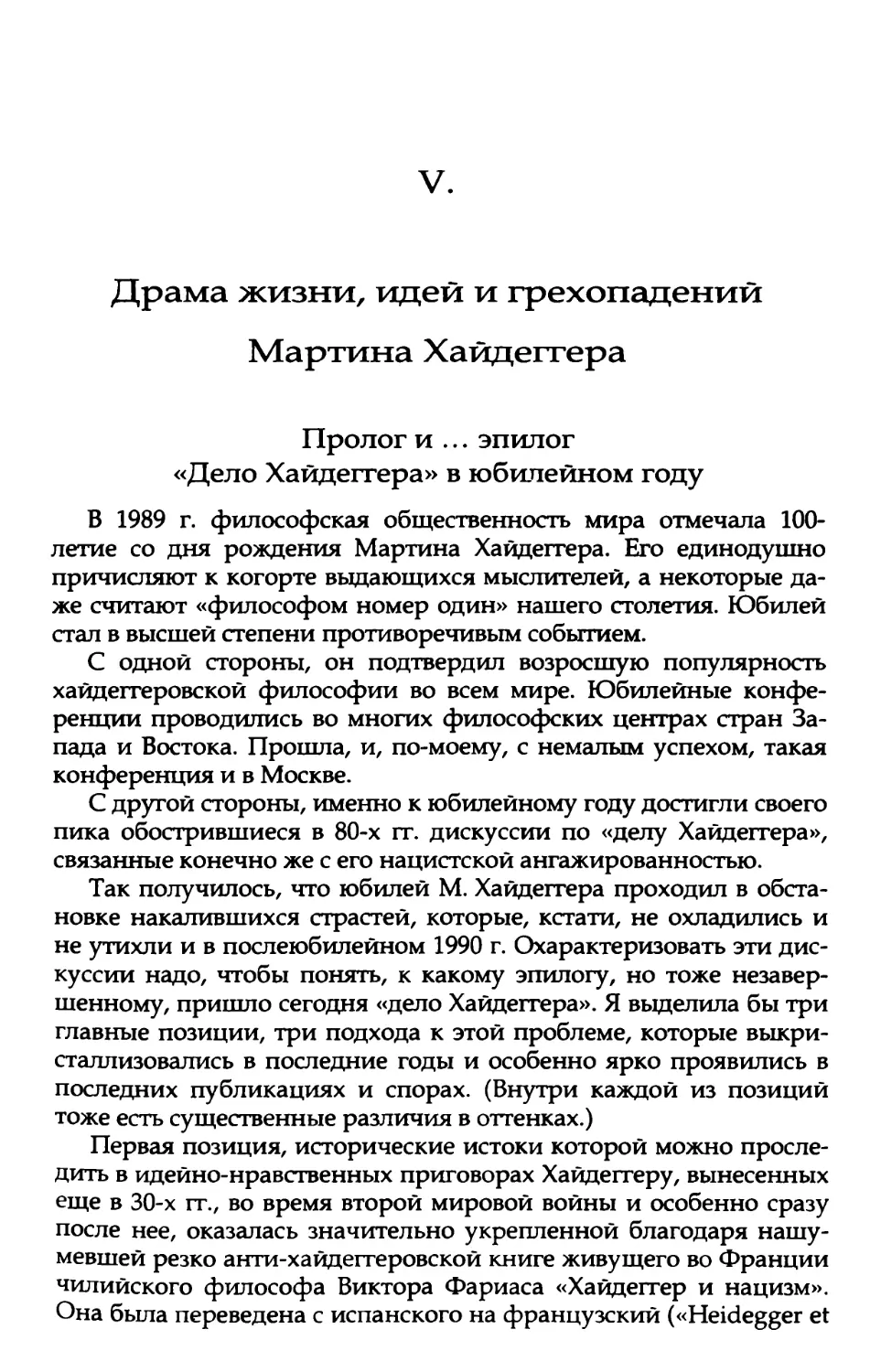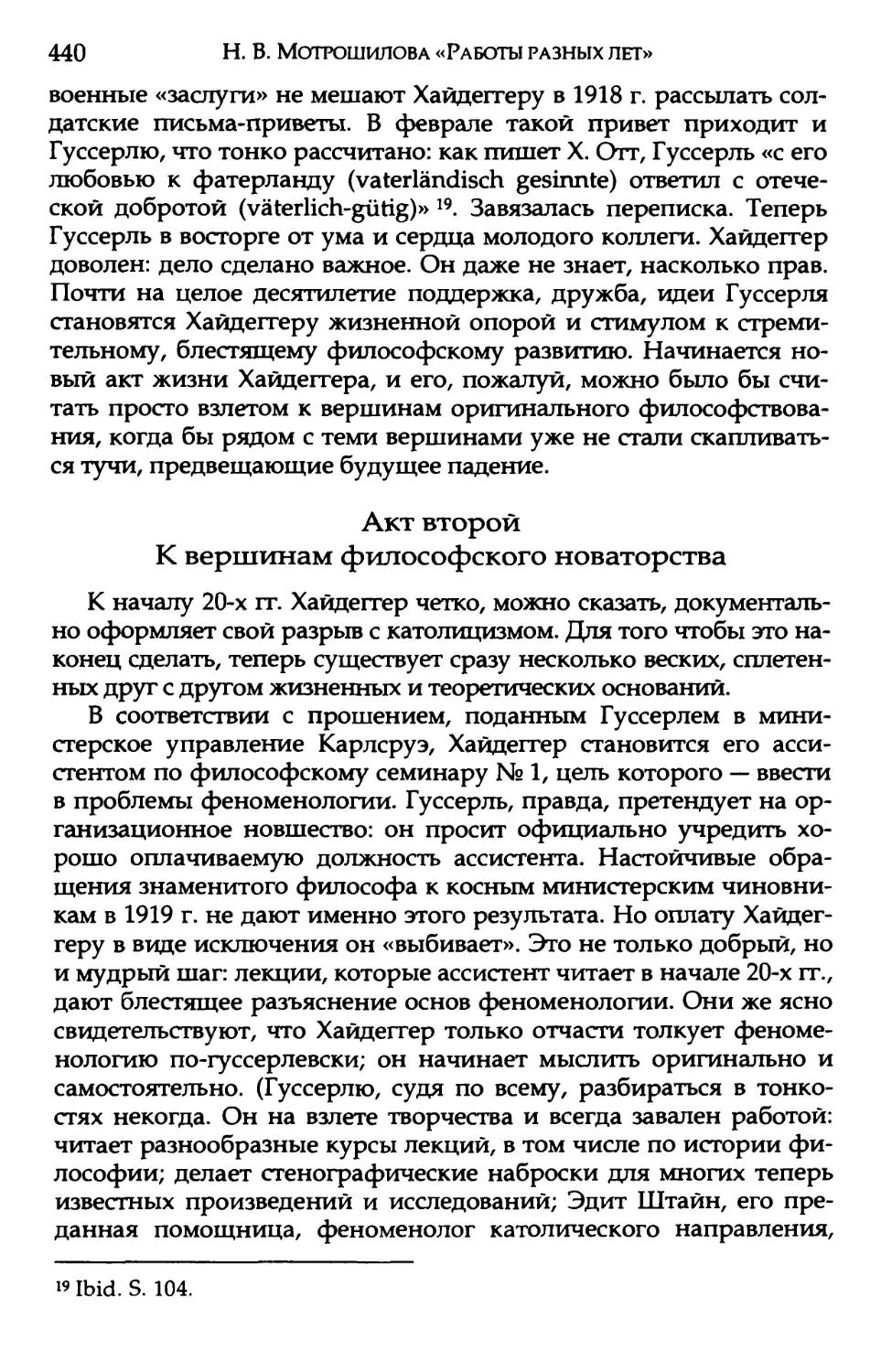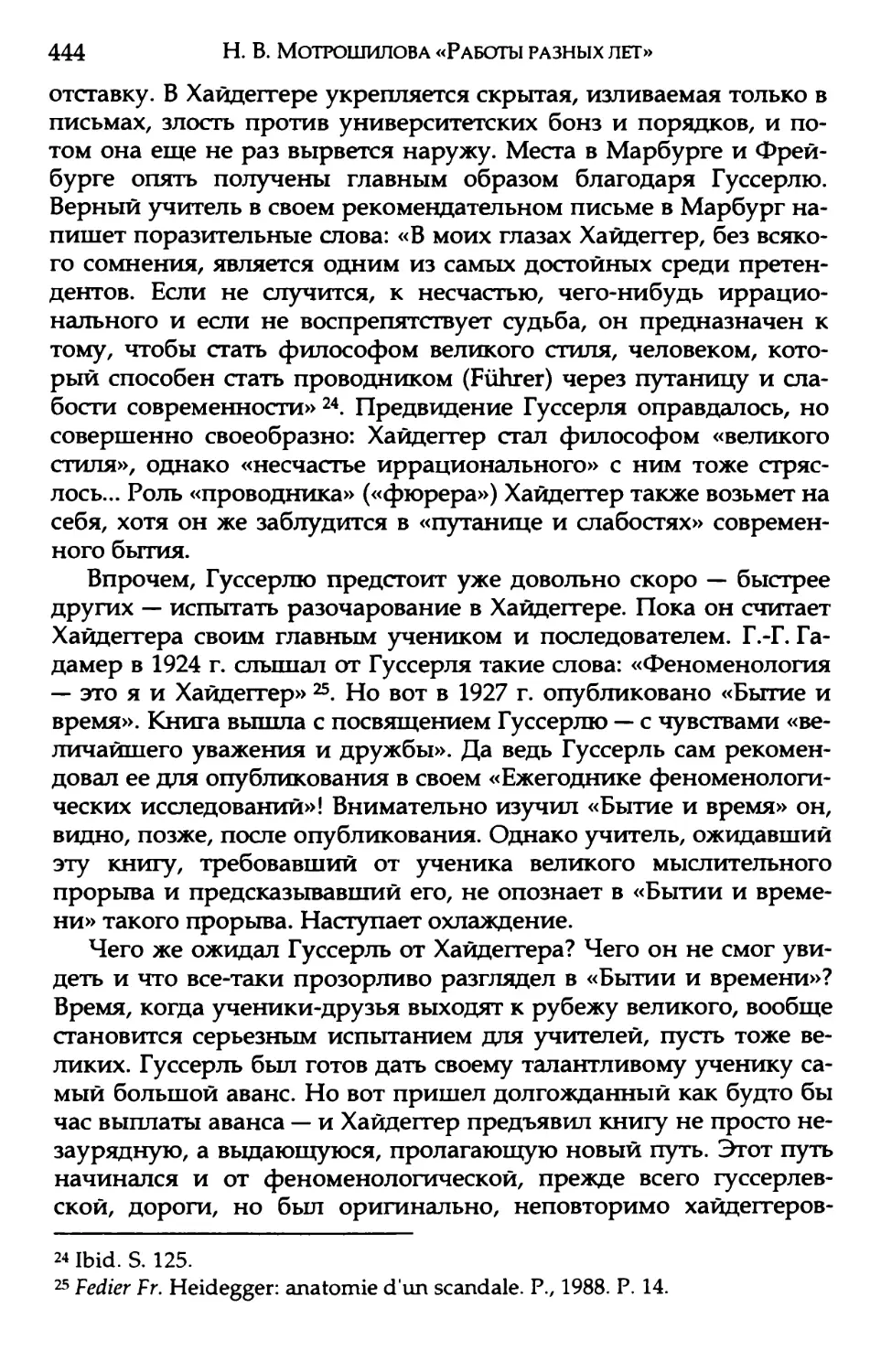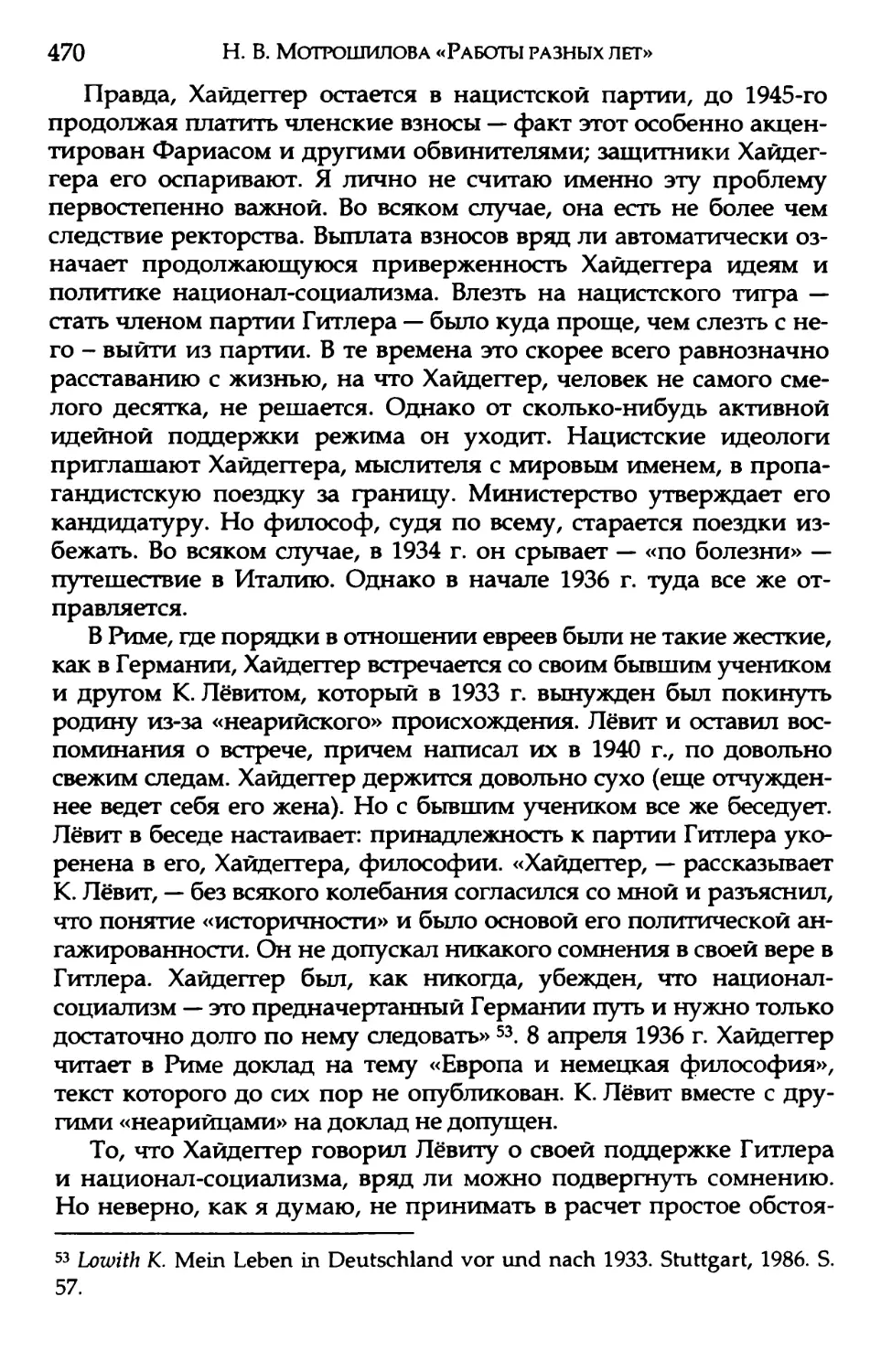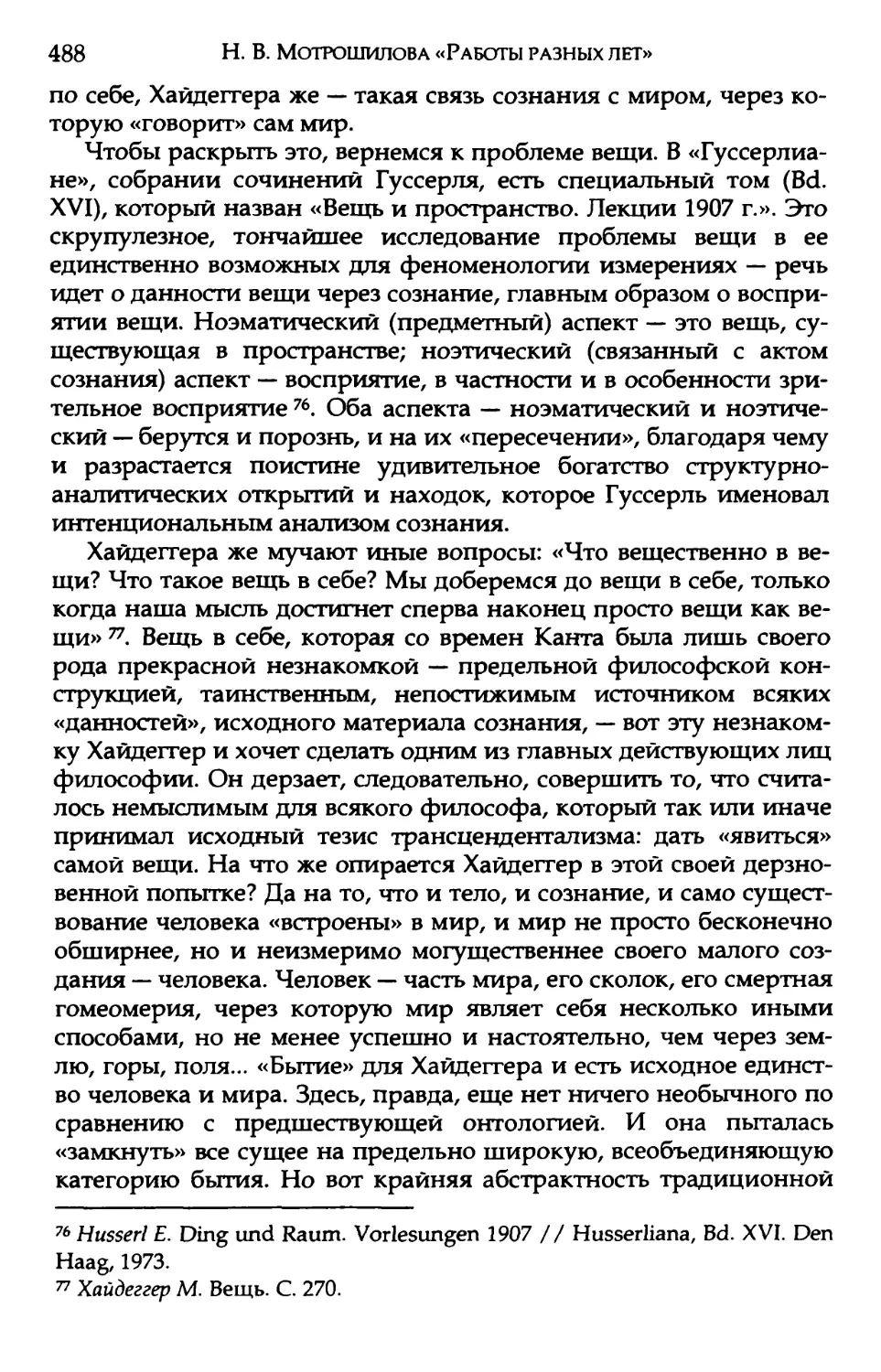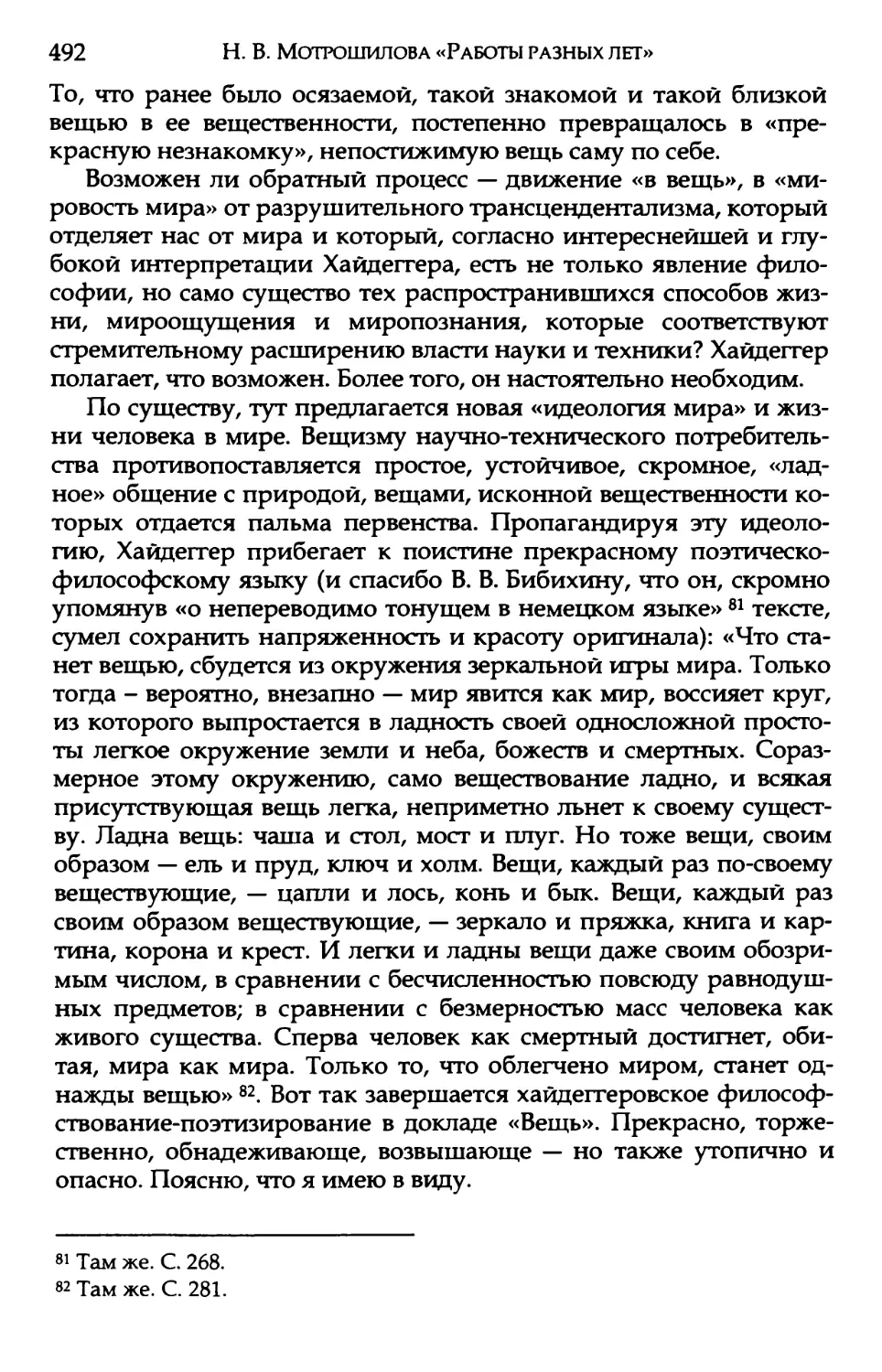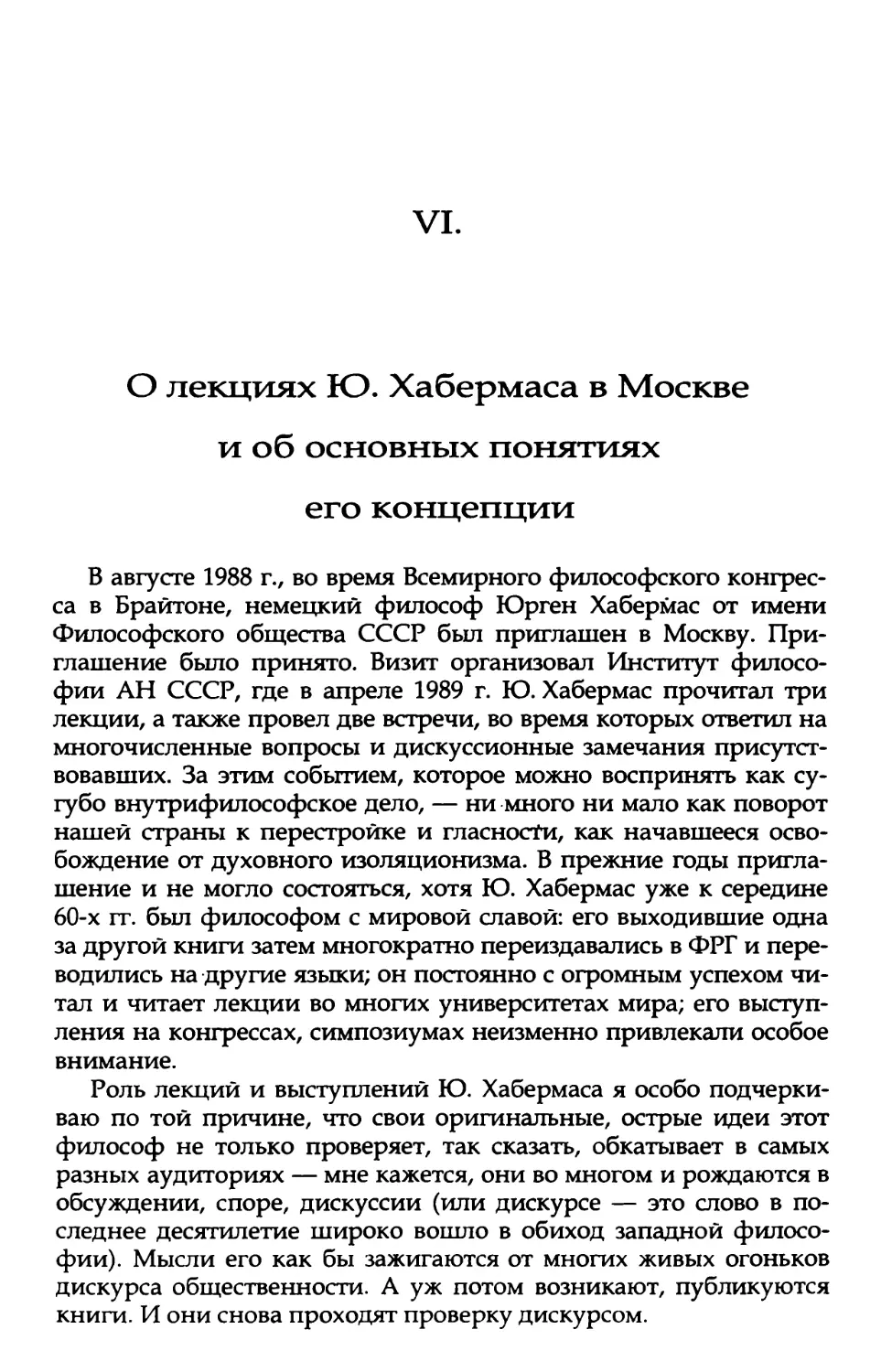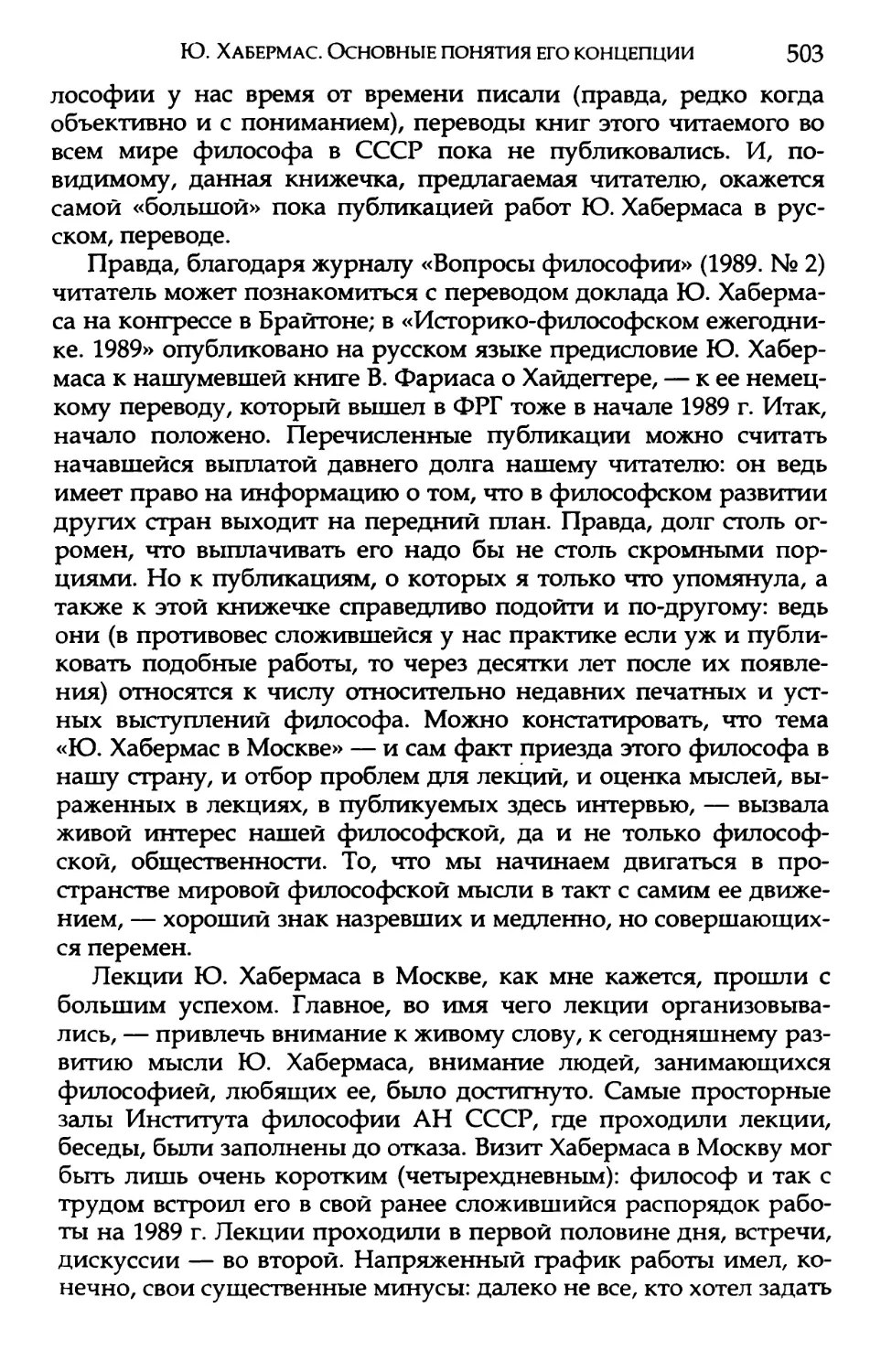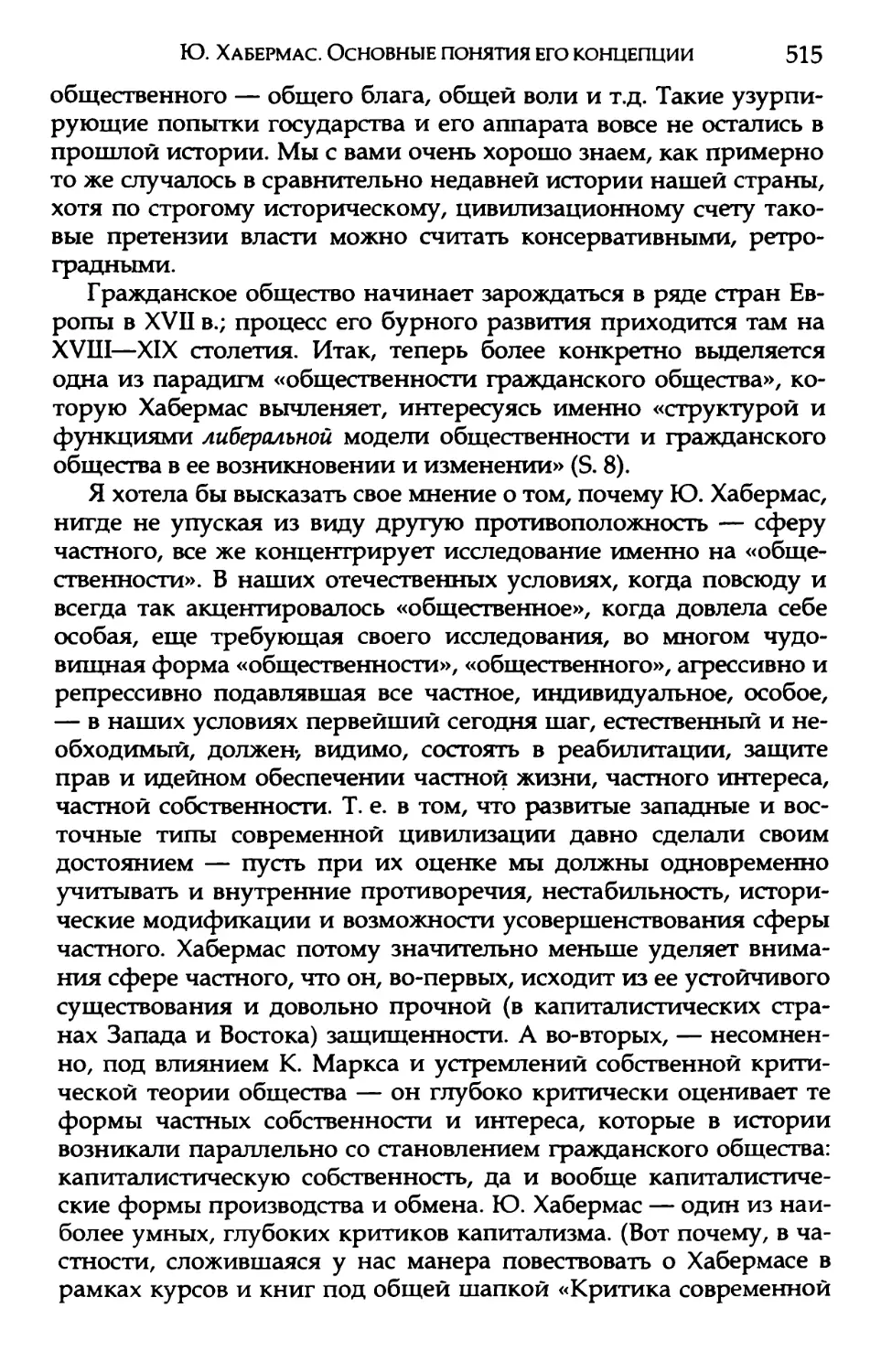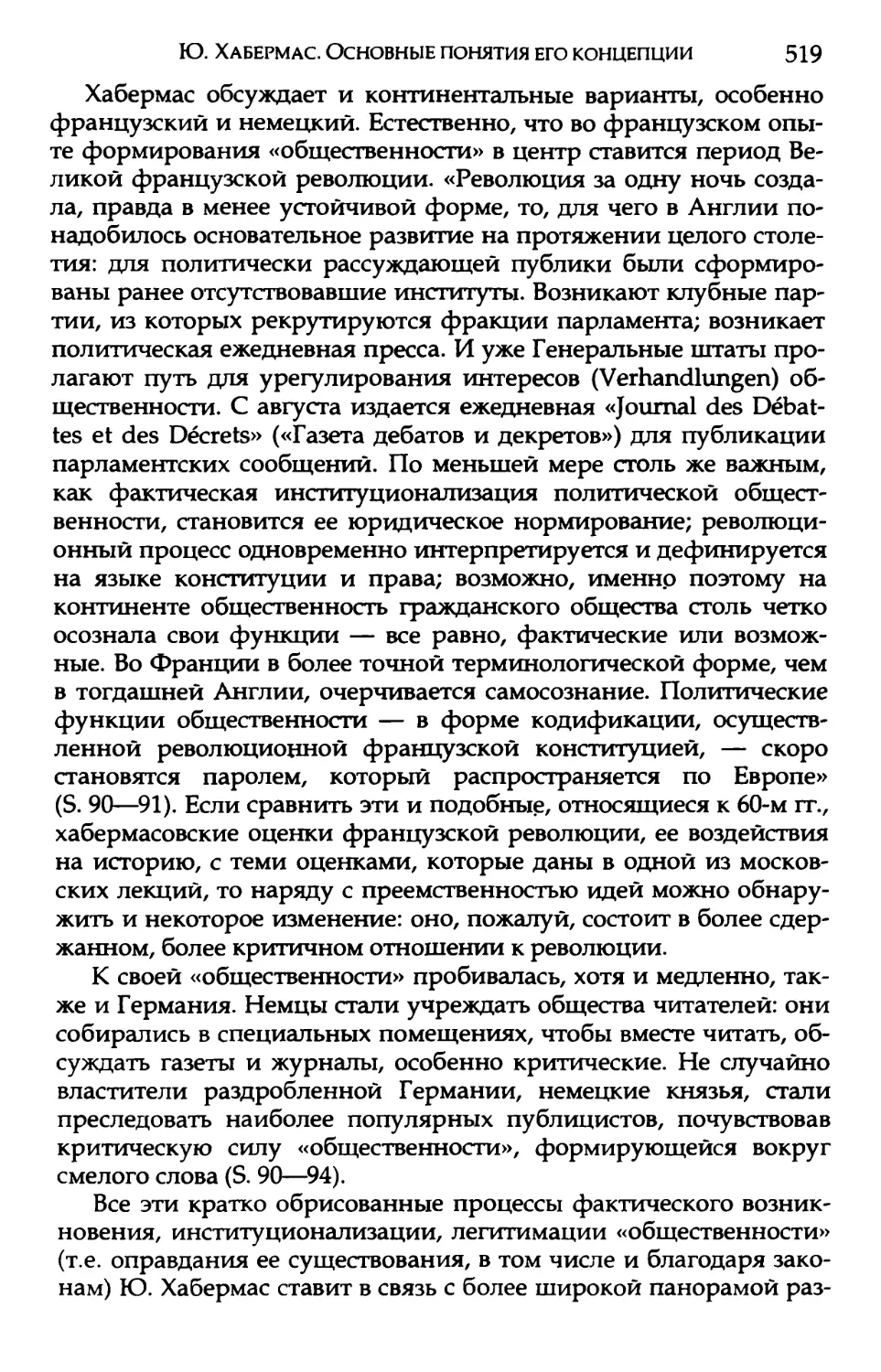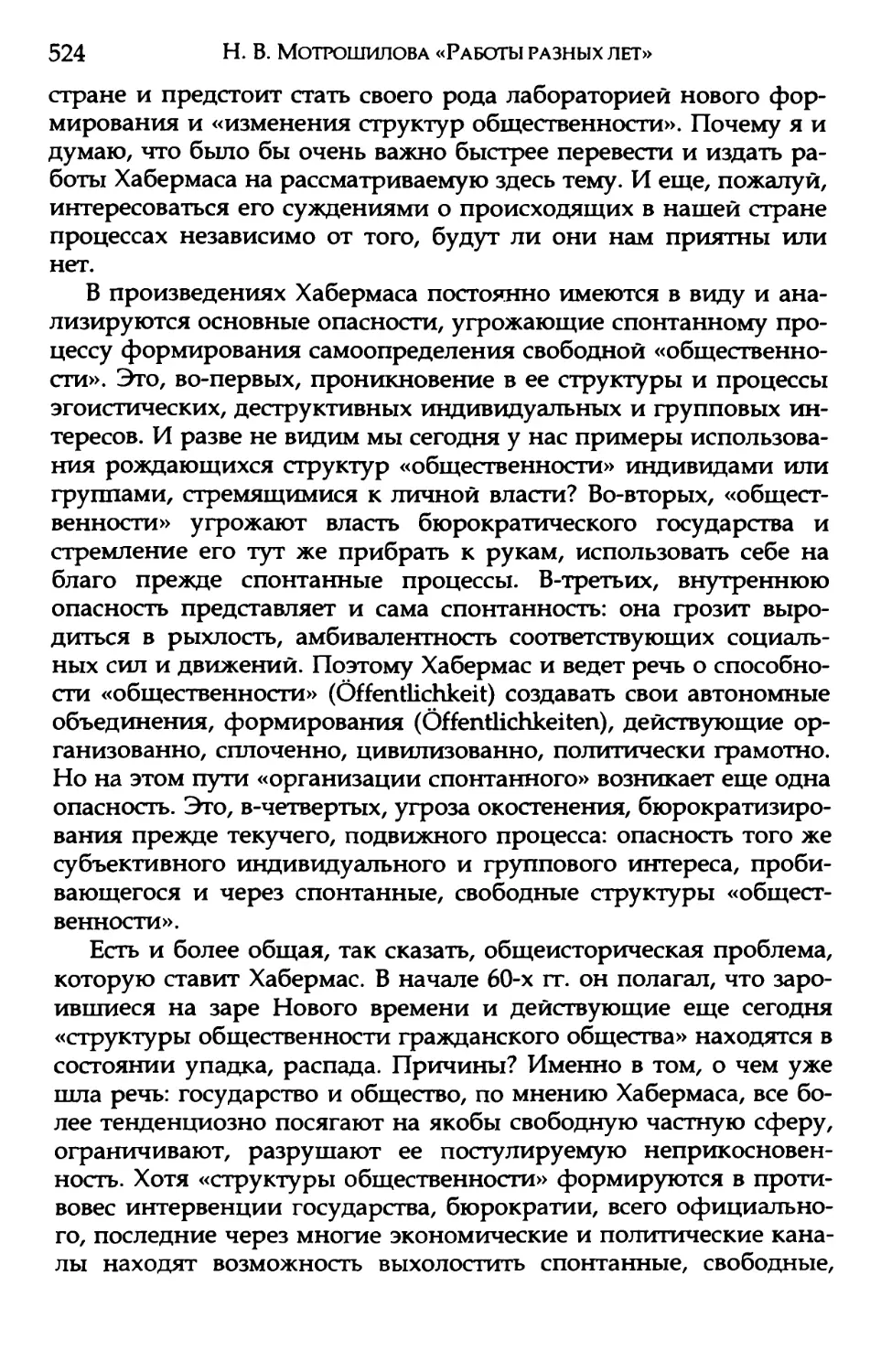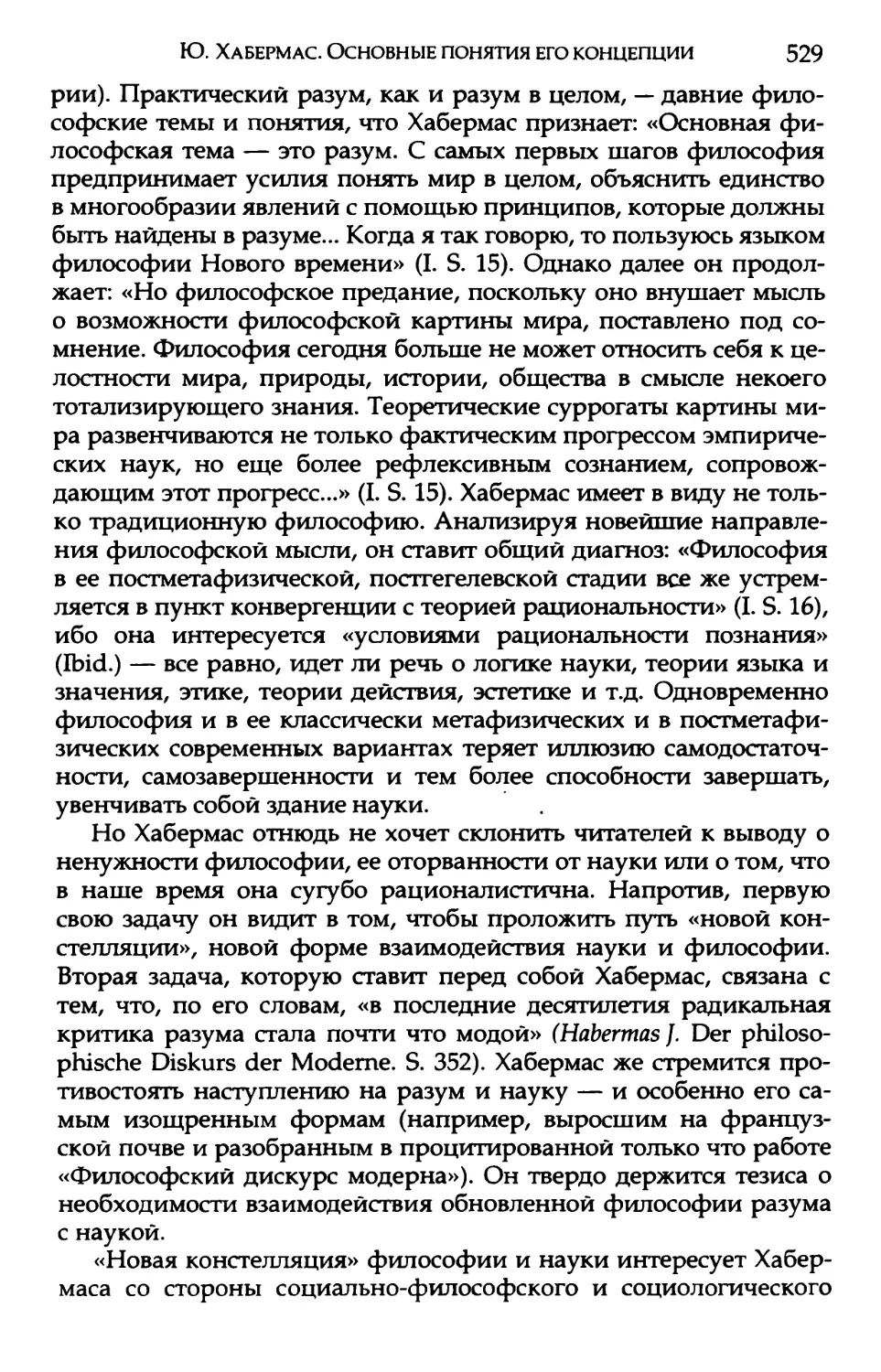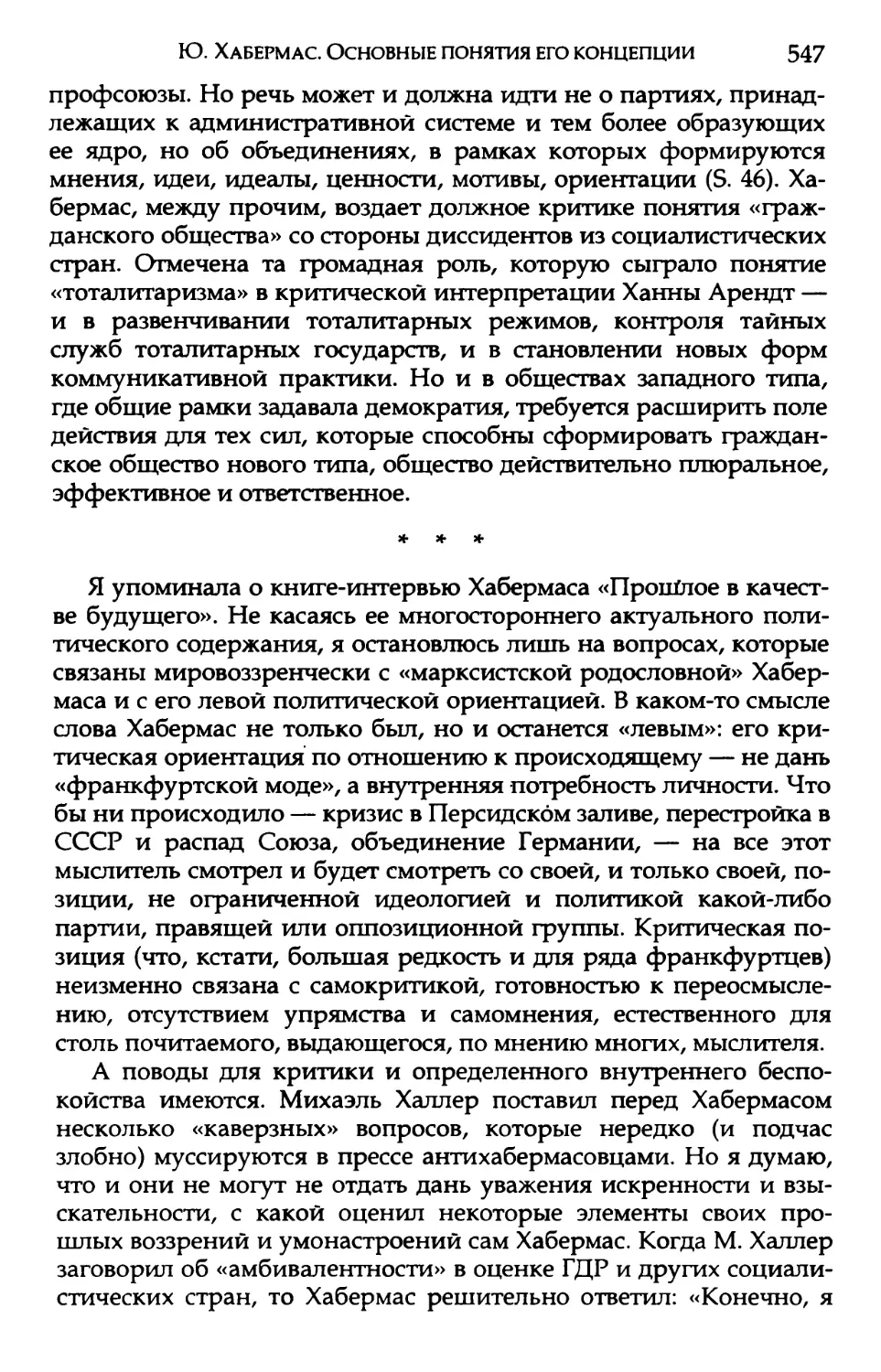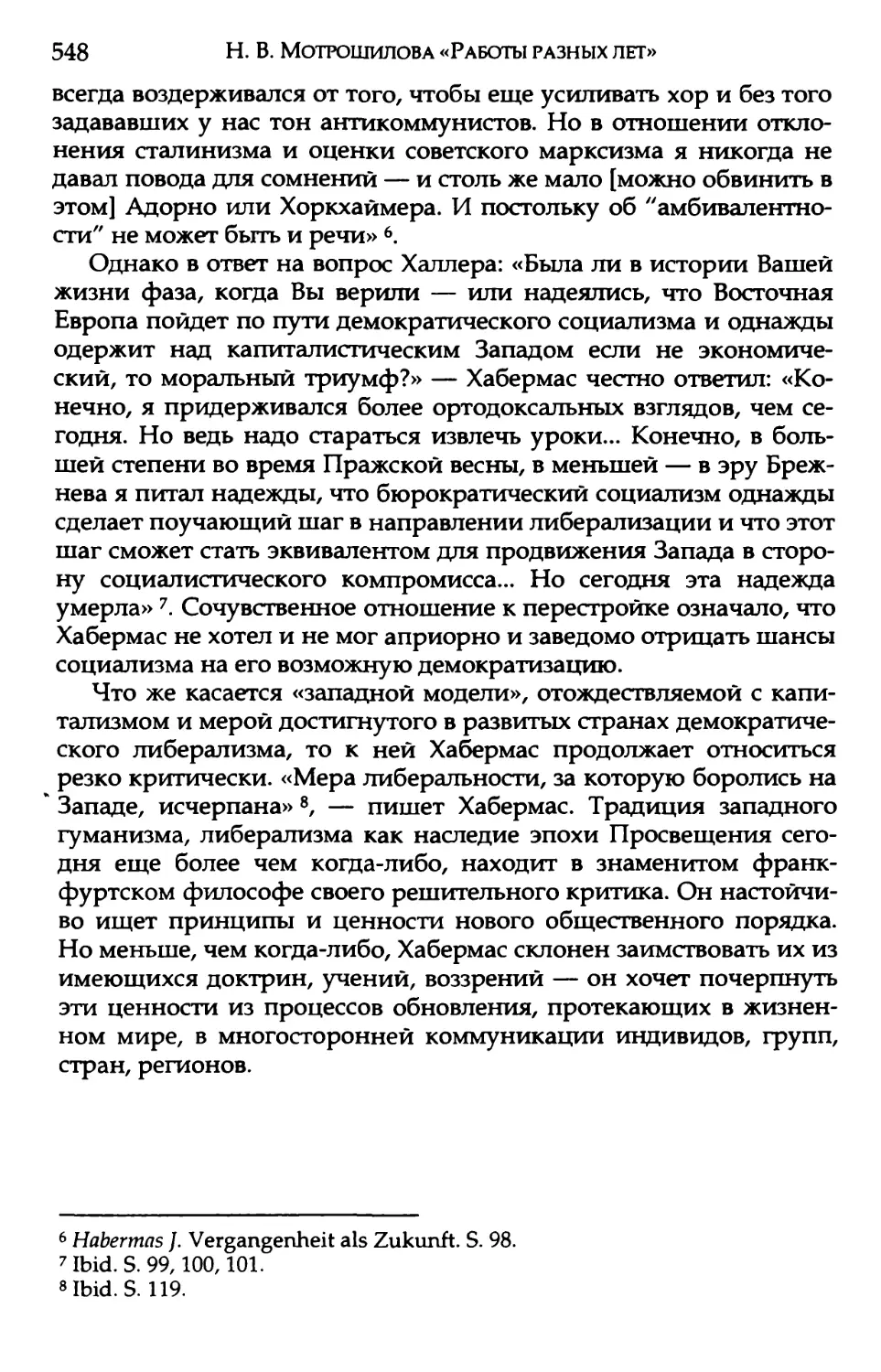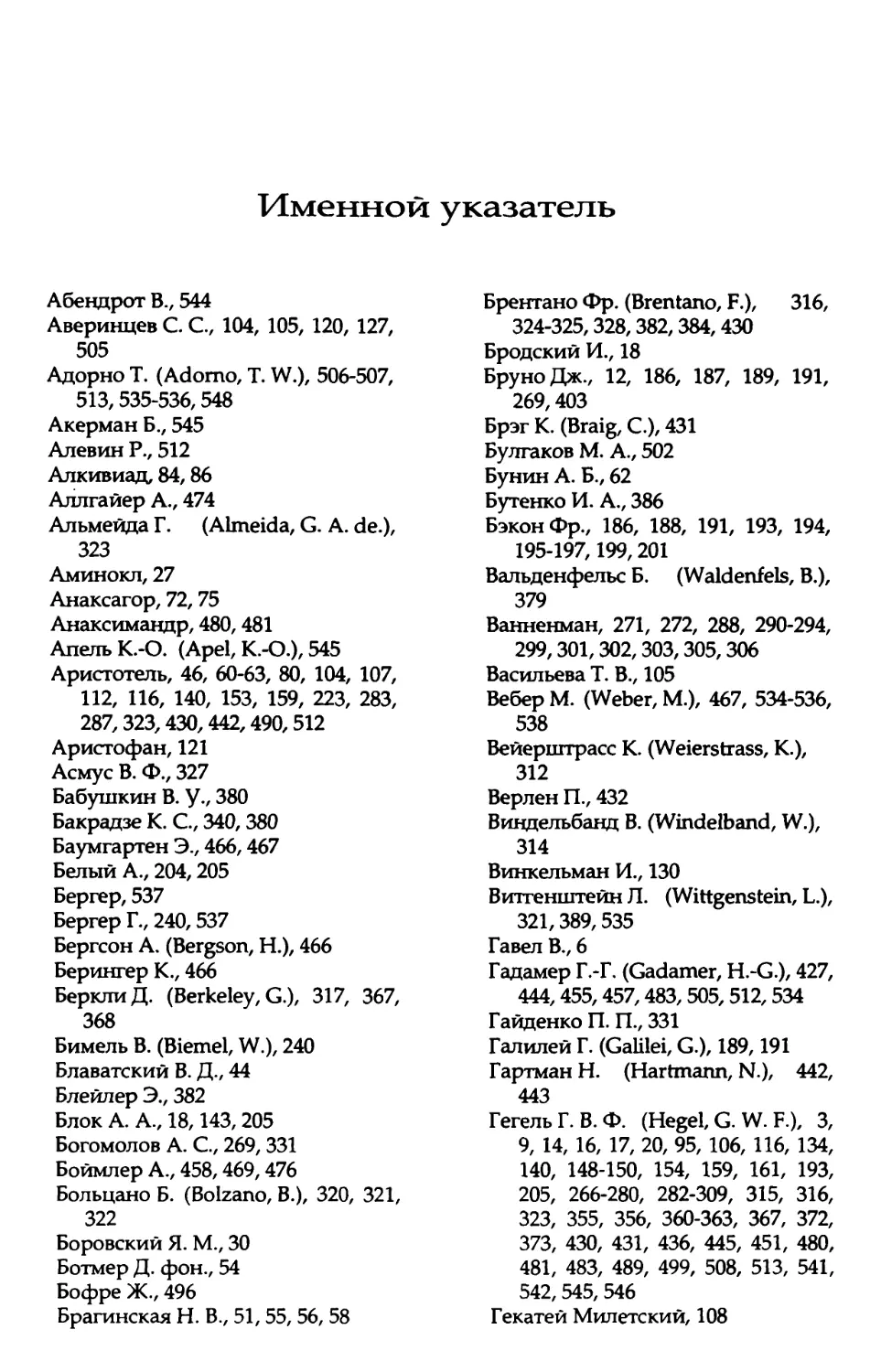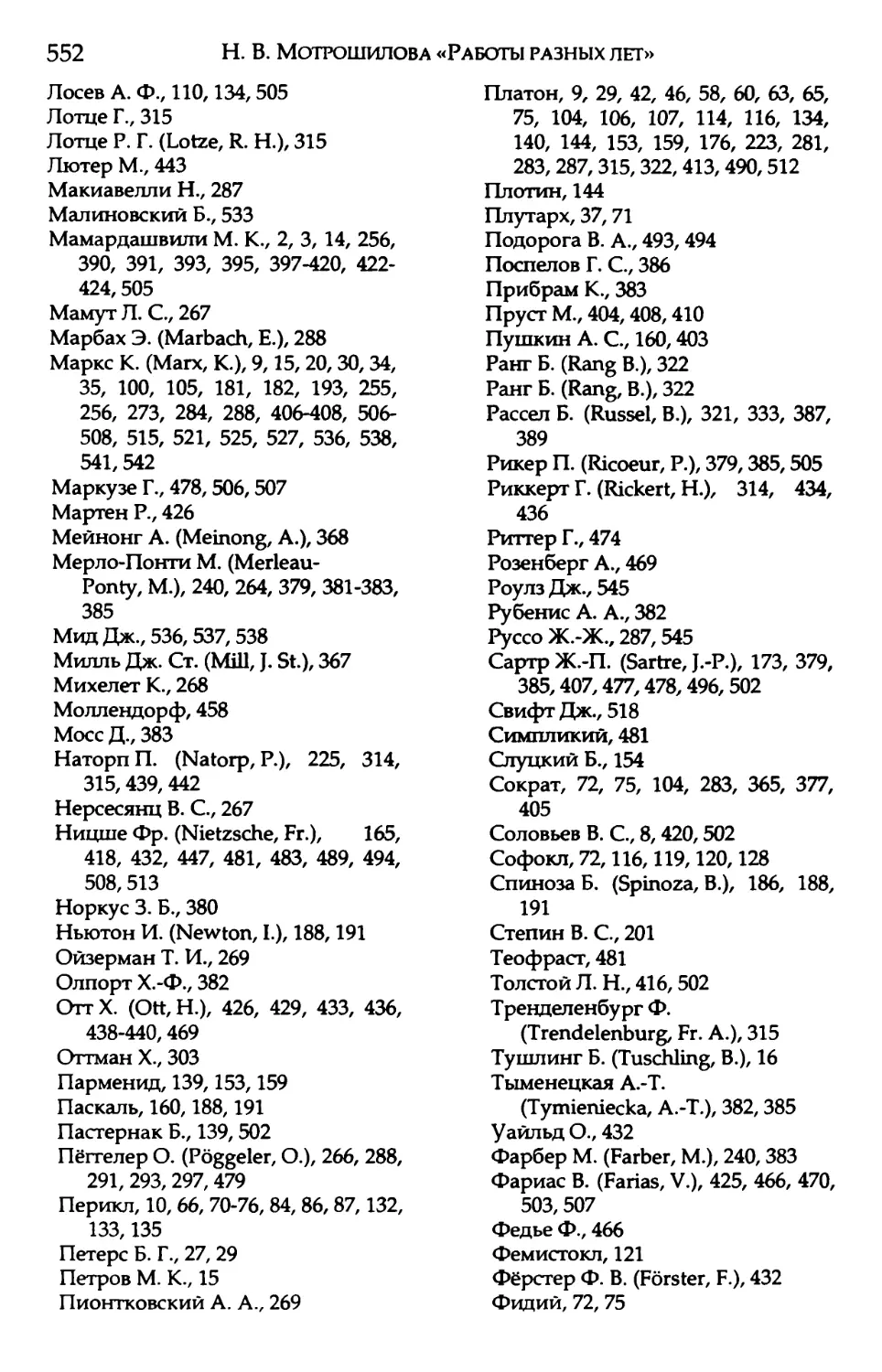Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт философии
Н.В. Мотрошилова
Работы разных лет:
избранные статьи и эссе
«Феноменология—Герменевтика»
Москва, 2005
Мотрошилова H. В.
Работы разных лет: избранные статьи и эссе. — М.:
"Феноменология—Герменевтика", 2005. — 576 с. —
Алф.-предм. указ.: С. 550.
ISBN 5-94478-010-Х
В издании представлены читателю избранные малые
произведения (статьи, очерки, эссе) известной исследовательницы,
доктора философских наук, профессора Нели Васильевны Мотро-
шиловой. Статьи посвящены широкому спектру проблем
мировой философии - от античности до современной западной
философии (Кант, Гуссерль, Хайдеггер, Мамардашвили, Хабермас).
ISBN 5-94478-010-Х
© Мотрошилова Н. В., 2005
© "Феноменология-Герменевтика ", оформление, 2005
© "Феноменология-Герменевтика", 2005
Оглавление
Гусейнов А. А. Н. В. Мотрошилова и философы-шестидесятники... 4
Предисловие автора 12
I.
К читателю 20
Цивилизация и культура древних греков — фундамент
зарождающейся философии 22
Бытие 139
Нормы науки и ориентация ученого 178
И.
Значение теории времени Канта для понимания
всеобщих структур человеческого сознания 206
Гуссерль и Кант: проблема «трансцендентальной философии» 221
Современное исследование философии Гегеля:
новые тексты и проблемы 266
«Философия права» Гегеля как социальная философия 287
III.
Возникновение феноменологии Э. Гуссерля
и ее историко-философские истоки 310
«Логические исследования» Гуссерля и современность.
Вычленение и анализ «предметностей» сознания
в феноменологии Э. Гуссерля 331
IV.
«Картезианские медитации» Гуссерля
и «Картезианские размышления» Мамардашвили 390
Статья «Мераб Мамардашвили» для американской
«Философской энциклопедии» 405
Феномен Мамардашвили 410
V.
Драма жизни, идей и грехопадения Мартина Хайдеттера 425
VI.
О лекциях Ю. Хабермаса в Москве
и об основных понятиях его концепции 501
Указатели
550
А. А. Гусейнов
H. В. Мотрошилова
и философы-шестидесятники
Задача представить читателю книгу избранных малых
произведений (статей, очерков, эссе) известной исследовательницы
доктора философских наук, профессора Нелли Васильевны Мот-
рошиловой хорошо решена в кратком авторском предисловии. В
нем сказано, когда каждое из них было написано, опубликовано,
какой имело отклик, почему оправдано и необходимо их
переиздание, в каком виде они переиздаются. Мне остается сказать
несколько слов о самой Неле Васильевне. Я попытаюсь обозначить
некоторые особенности ее философского стиля, в частности те из
них, которые стали узнаваемыми, характерными чертами целого
этапа отечественной философии.
* * *
Мотрошилова принадлежит к замечательной плеяде советско-
российских философов-шестидесятников. Она принадлежит к
ним настолько органично и, безусловно, что если бы, например,
какой-нибудь художник, подражая И. Глазунову, захотел создать
на эту тему панно, то он несомненно нашел бы для ее лица
видное место, где-нибудь в центре картины или близко к нему.
Шестидесятники XX в. — особый феномен в истории нашей
страны и философия, конечно, являлась не единственным
поприщем их деятельности. Они были еще в литературе, даже
прежде всего в литературе, изобразительном искусстве, музыке,
других областях гуманитарной культуры, вплоть до богословия. Их
истоки, роль, судьба в каждой из областей творчества, в гибели
советского коммунизма в целом подлежат специальному
исследованию (что касается философского шестидесятничества, то такие
исследования уже ведутся и начаты они самими
шестидесятниками !). Здесь хотелось бы подчеркнуть только одну совершенно
1 См.: Философия не кончается... Из истории отечественной философии.
XX век. 1960-^80-е годы, Т. 1-2. М, 1998 и др.
H. В. МОТРОШИЛОВА И ФИЛОСОФЫ-ШЕСТИДЕСЯТНИКИ 5
уникальную черту советского шестидесятничества, для
осмысления которой даже не существует адекватного социологического
инструментария, а именно его принципиальную
институциональную размытость.
Шестидесятничество, которое зародилось на рубеже 50—60 гг.
и решающим образом определяло интеллектуальную и духовную
атмосферу страны до начала 90-х гг., по своему положению и
самосознанию отличалось и от официального общественного слоя,
представленного партийными и околопартийными
гуманитариями, и от контр-общества, представленного диссидентством.
Телом они были с первыми, а душой со вторыми.
Шестидесятники имели легальный статус, действовали в официально
практикуемых формах активности, но при этом находились под трудно
скрываемым подозрением, напоминая в данном отношении чем-
то положение буржуазных специалистов на начальных этапах
советской власти. Для партийной номенклатуры они были скорее
терпимы, чем желанны. Действуя так, что формально к ним
нельзя было придраться, используя возросшую дифференцирован-
ность общества, которая уже не поддавалась тотальному
контролю, а также неизбежно сопряженную с этим противоречивость
институциональных и персональных интересов во властных
структурах, они создали свою собственную среду — внешне
неуловимую, но внутренне цельную и очень эффективную. Это
была именно их среда, которая для всех остальных оставалась
закрытой, непроницаемой, недоступной. Чтобы попасть в нее, надо
было словно обладать каким-то особым органом, о наличии
которого могли знать только те, кто им обладал.
Определить шестидесятничество, объяснить, что это такое,
людям, которые не принадлежали к ним или хотя бы не
находились рядом с ними, очень трудно, почти невозможно. Оно
представляло собой совокупность людей и ценностей. Это были
конкретные, известные по именам, в большинстве своем знавшие и
поддерживающие друг друга люди, которые исповедовали
определенные ценности и были сплочены благодаря им.
Содержательный анализ ценностей шестидесятников также представляет
собой самостоятельную и отнюдь не тривиальную задачу; их
опознавательными знаками в области политики были XX съезд
КПСС, Хрущевская оттепель, Пражская весна, в области идей и
ценностей — понятия гуманизма, личности, антисталинизма.
Шестидесятники не просто обозначили сдвиг от
монументальности, самопожертвования, послушания к камерности, приватности,
индивидуальной ответственности. Они были вдохновлены этим и
вели себя как люди, которые знают очень великую тайну.
6
А. А. ГУСЕЙНОВ
Шестидесятники, конечно, не были рыцарями, которые идут в
бой с открытым забралом. Но хотя забрала были спущены, тем не
менее они легко узнавали друг друга. Окружающие их тоже
узнавали. Шестидесятники работали в тех же учреждениях (иногда
даже партийных), ходили на те же собрания, пользовались теми
же благами, что все прочие люди, но жили по своим законам, вели
собственный - гамбургский! счет, стремясь к тому же навязать его
всюду, где можно, в качестве легального канона. К примеру,
докторские диссертации защищали многие, среди них также
шестидесятники. Но все понимали, что есть докторская диссертация и
докторская диссертация, и их нельзя путать. Докторские
диссертации шестидесятников шли по особому разряду и, что
интересно, они, как правило, с точки зрения внутреннего напряжения и
общественного внимания были по особому обставлены. Статьи в
«Вопросах философии» печатали многие, в том числе
шестидесятники. Но опять-таки все понимали, что есть статьи и статьи.
Шестидесятники создали больше, чем особую атмосферу, они
создали особое публичное пространство. По существу это был
«параллельный полис», если воспользоваться термином В. Гавела,
но только по существу, ибо формально он не был отделен от
основного (официального) полиса, а находился внутри него.
Шестидесятники, используя наличные формы жизни, одновременно
стремились преобразовать, трансформировать их, они были
деятельны, активны, всюду, где могли и как могли навязывали свои
критерии. Они не просто сами защищали хорошие диссертации
и писали хорошие статьи, они исходили из того, что диссертации,
статьи вообще должны быть хорошими, и как могли боролись за
это. О. Шпенглер считал Россию псевдоморфозом, имея, в
частности, ввиду, что она наполняла европейские формы азиатским
(«татарским») содержанием, как бы заливала в новые меха старое
вино. Шестидесятники действовали прямо противоположным
образом: они принимали европейские формы
советско-российской жизни всерьез и стремились придать им адекватный смысл,
они, если продолжить ту же аналогию, скорее в старые меха
заливали новое вино.
Шестидесятничество, будучи несомненно движением
исторического масштаба, не имело вместе с тем социологически
фиксированных форм, привычных для феноменов такого размаха. Оно
было воплощено в индивидах, их личных отношениях, поступках,
функционировало так, как если бы представляло собой этическое
состояние. Это единственное в своем роде сочетание социального
и индивидуального, когда первое было скрыто, спрятано во
втором, когда не общественные маски застывали на лицах, урезая,
H. В. МОТРОШИЛОВА И ФИЛОСОФЫ-ШЕСТИДЕСЯТНИКИ 7
усредняя, омертвляя их, а, напротив, живые трепетные лица
просвечивали сквозь общественные маски, этот уникальный опыт
неотчужденного существования в отчужденном и даже чуждом
социуме составляет характерную черту шестидесятничества
вообще, философского шестидесятничества в особенности. Поэтому,
когда я говорю о философском стиле Мотрошиловой как
выражении типических черт философии шестидесятников в целом, то
это не значит, что она отразила, заимствовала эти черты. Дело
скорее обстоит наоборот; она (разумеется, не только, но она также
и, поскольку речь пойдет об определенных чертах, то она в
первую очередь) задала, сформулировала эти черты, возвела их в
профессиональную норму.
* * *
Философы-шестидесятники XX в. не просто возродили
отечественную философию после предшествовавших десятилетий ее
невообразимой идеологической вульгаризации. Они положили
начало новому, быть может, самому плодотворному и
несомненно самому основательному этапу ее развития, внутри которого
мы еще находимся. Конечно, не их заслугой было то, что
философия в эти годы стала университетской дисциплиной и
изучалась в обществе в беспрецедентно широких масштабах. Но их,
именно их заслуга состояла в том, что это делалось на достаточно
приличном уровне. Не они принимали решение об издании
философской энциклопедии, различных книжных серий по
философии. Но только благодаря им эти партийные инициативы
стали источниками свежих идей, школой рационализма и
гуманистического воспитания народа. Они внесли неоценимый вклад в
то, что просвещенная Россия овладела философской культурой и
теперь философская литература на книжном рынке является
одной из самых востребованных, а российские философские
конгрессы собирают тысячи участников (хотя, следует заметить,
шестидесятники всегда стояли в стороне от преподавательской массы,
что в силу странной русской логики было дополнительной
причиной их влияния на нее).
Излишне подчеркивать, что я в этих написанных по случаю
заметках не претендую на общую характеристику философии
шестидесятников и говорю о ней только в связи с философским
стилем Мотрошиловой. В этой связи, на мой взгляд, можно
выделить, по крайней мере, следующие три момента — европейская
образованность, социально-нравственная заостренность и
сознание собственной миссии.
8
А. А. ГусЕйнов
Под европейской образованностью я имею ввиду не просто
широкую эрудицию и образованность автора, позволяющую ему
знать, что делается по соответствующей проблеме во всем
европейском культурном регионе. Хотя, разумеется, и это тоже:
шестидесятники от их коллег чапаевский эпохи отличались тем, что
они знали иностранные языки (Мотрошилова по этому критерию
выделяется даже среди шестидесятников и может активно
работать с тремя основными западноевропейскими языками). Они,
конечно, осваивали западную философию в идеологически
заданных рамках ее критики; однако их лукавство состояло в том,
что они прикрывались убедительным софизмом «чтобы
критиковать противника, его надо знать», делая упор на второй половине
этой формулы. Насколько существенными были эти акценты,
можно судить по изменениям, которые претерпели одни
названия работ: вместо убойных типа: «Маразм современной
буржуазной философии» (1947 г.), «Реакционная сущность ницшеанства»
(1959) появляются академически спокойные типа: «Экзистенцио-
нализм и проблема культуры» (1963), «Принципы и
противоречия феноменологической философии» (1968). Шестидесятники —
отличники советских школ с высоким сознанием ценности
знаний и навыками упорной систематической работы. Включившись
в философию, они стали сквозь идеологический дурман
пробиваться к ее предметности во всем богатстве исторически
сложившегося содержания. Они вернули в общественное сознание
понятие философского профессионализма; если продолжить чисто
внешний обзор их работ и от названий перейти к оглавлению и
библиографии, то уже обилие проработанной литературы и
конкретность анализа давали понять, что философия представляет
собой специальную область духовного производства. Словом,
шестидесятники обладали европейской образованностью, без
которой, конечно, нельзя успешно работать в области философии.
Европейская ангажированность, однако, есть нечто большее.
Она предполагает европейское расширение круга
интеллектуального общения и соответствующую актуализацию
философской проблематики. Речь идет о европейском масштабе мысли, о
том, чтобы на равных участвовать в европейских философских
дискуссиях. Это различие между европейской образованностью
философов и европейской ангажированностью их учений
хорошо можно проиллюстрировать на примере философии
Серебряного века. Не вызывает никаких сомнений, что В. С. Соловьев и
его последователи, вообще философы этой эпохи вдобавок к
своей чрезвычайной одаренности были также людьми европейской
образованности и культуры. Их учения же в превалирующей сво-
H. В. Мотрошилова И ФИЛОСОФЫ-ШЕСТИДЕСЯТНИКИ 9
ей тенденции были сфокусированы на духовную самобытность
России, что, в частности, выразилось в их религиозной
ориентированности. Диспозиция философов серебряного века по
отношению к своим великим современникам на Западе была какой
угодно, но только не диспозицией учеников по отношениям к
учителям. Философы-шестидесятники, напротив, не стеснялись
своего ученичества. Философы серебряного века были
европейски образованными, но они не были европейски
ориентированными. Философы-шестидесятники ориентировались на
философский Запад, хотели быть на его уровне, войти в его
тематическое и проблемное поле. Не всем это удавалось. Мотрошилова
принадлежит к тем немногим, в творчестве которой ориентация
на европейский уровень воплотилась наиболее последовательно
и успешно.
Философы-шестидесятники формировались в качестве
марксистских философов, что от них зависело также мало, как,
например, та одежда, которую им приходилось носить. Их поко-
ленческий выбор состоял в том, что в рамках самого марксизма
они сместили интерес к его истокам, началам, где марксизм был
ближе всего к предшествовавшим и сопутствующим ему
философским учениям. Они повернулись от Ленина и Энгельса к
Марксу, от позднего Маркса к раннему Марксу. Сказанное не
означает, будто их марксистская идентичность была чисто
внешней. Нет, они, в том числе и те среди них, кто отказался от
основоположений марксистской философии, несут на себе ее следы.
Про философов-шестидесятников можно сказать, что они
оплодотворены марксизмом или отравлены им в зависимости от того,
кто как относится к марксизму. Однако, они совершенно
несомненно остаются марксистами в том отношении, что
рассматривают философию в широком социально-культурном контексте.
Более того, они в своих исследованиях остаются пристрастными,
идеологичными, отличаясь от партийно-мобилизованных
предшественников не силой социальной энергии, а ее
направленностью. Они стали рассматривать философию не в перспективе
коммунистического идеала, а в перспективе либеральных
ценностей. Речь шла не о прокламациях, а о смене философских
приоритетов, имен, тем (Платон вместо Демокрита, Декарт вместо
Гельвеция, Кант вместо Гегеля, аксиология вместо классового
подхода, бытие вместо материи и т.д.). Мотрошилова
принадлежит к тем философам-шестидесятникам, которая в своей работе
не просто исходила из либеральных социально-нравственных
ориентиров, но делала это акцентировано, целенаправленно — и
даже открыто. К примеру, в ее большом очерке «Цивилизация и
10
А. А. ГуСЕйнов
культура древних греков» читатель непременно обратит
внимание и быть может даже смутится тем, что автор обвиняет Перикла
за узость его демократического идеала, в котором не было места
метекам и женщинам. Мотрошилова, конечно, понимает, что ее
могут упрекнуть в неисторичности. Но для нее есть ценности
более важные. И не просто более важные, а безусловные ценности,
по сравнению с которыми оказываются ничтожными даже
исследовательские ошибки, если вообще в этом случае можно говорить
об ошибке. Достоинство личности — превыше всего. Еще более
яркий пример социально-нравственного пристрастия Мотроши-
ловой мы находим в статье, посвященной Хайдеггеру. Ее анализ
националистических (с душком антисемитизма) прегрешений
Хайдеггера приобретает форму морального негодования. В
данном случае опять-таки все дело в характере прегрешения.
Философия изначально космополитична и либеральна. Она
представительствует от имени разума, рассматривает человека в том
высшем стремлении к мудрости, перед лицом которого теряют
значения все другие его характеристики. Философия, конечно, не
отрицает различий между людьми, в том числе и различий,
проистекающих из «почвы» и «крови», если такие имеются, но она ни
в каком случае не может санкционировать их, поднимать на ту
философскую высоту, когда эти различия начинают играть
какую-то заметную роль при определении достоинства человека.
Иногда говорят: ну, Хайдеггеру, великому философу, можно
было бы простить. Мотрошилова, насколько я ее понимаю, исходит
из того, что как раз ему-то нельзя прощать и нельзя именно по
той причине, что он является великим философом, - чтобы не
пала тень на философию. У царей — одна судьба быть царями: или
трон или гильотина. У философов — тоже одна судьба: быть
философами. Мотрошилова своей критикой Хайдеггера оказывает
ему величайшее уважение, отказываясь рассматривать его в
каком-либо ином качестве, кроме как философа.
Философы всегда ревностно относились друг к другу; каждый
из них был не просто высокого мнения о себе, а, как правило,
считал себя единственным в своем роде. Эта черта связана со
своеобразием самой философии до такой степени, что ею обладают едва
ли не все приобщенные к ней, начиная со студентов первого
курса философских факультетов. Философы в данном отношении
сродни поэтам. Философам-шестидесятникам психология
пророков истины свойственна вдвойне: не только как философам, но
еще и как шестидесятникам. Дело в том, что философия
диалектического материализма считалась мировоззрением рабочего
класса и ее представители говорили от имени рабочего класса, его
H. В. МОТРОШИЛОВА И ФИЛОСОФЫ-ШЕСТИДЕСЯТНИКИ 11
коммунистической партии. Шестидесятники обозначили веху и в
данном отношении: они стали говорить в философии от имени
науки, истины. И они стали позиционировать себя в обществе как
люди, призванные выражать и оберегать философские истины,
что находило разнообразные формы выражения: акцентированно
ответственное отношение к текстам, непохожесть самих текстов
на привычные советские образцы, тщательная работа со стилем,
нарочитая научность, ревнивое отношение к общественным
откликам и т.д. Работам Мотрошиловой, в том числе тем, что
помещены в данном сборнике, в высокой степени свойственна эта
типологическая черта, которую я обозначаю как сознание
собственной миссии. Она не просто с уважением относится к делу,
которое она делает, она понимает и дает понять читателю, что оно
есть дело, вообще достойное человеческого уважения, что
философская истина не нуждается в одобрении со стороны власти или
иных прагматических подтверждениях.
* * *
То, что говорится здесь о философском стиле Мотрошиловой,
манифестирующем некоторые особенности творчества
философов-шестидесятников в целом, — не история, а большое
богатство, сохранение и приумножение которого является важной
задачей отечественной философской культуры, в известном смысле
залогом ее успехов. Задача эта пока решается живым
присутствием и необычайной творческой активностью самих
шестидесятников. Постперестроечная (постсоветская) судьба шестидесятников
в разных сферах культуры сложилась по разному. Из одних, как,
например, из политологии их вытеснили полностью. В других,
как, например, в литературе их перевели в разряд «почетного
президиума». Философия — та сфера, где их судьба оказалась,
пожалуй, самой счастливой. Последние пятнадцать лет они
обнаружили большую творческую активность и до настоящего
времени являются основной «несущей конструкцией» нашей
отечественной философии (одно из свидетельств - новая капитальная
монография Н. В. Мотрошиловой: «Идеи I «Эдмунда Гуссерля
как введение в феноменологию». М. 2003. 716 с.) Но, тем не менее,
проблема преемственности в нашей философии также стоит.
Новое издание работ Мотрошиловой, будем надеяться, внесет свой
вклад в ее правильное решение.
Предисловие
В этой книге, предлагаемой вниманию читателей, которые
теперь уже живут в XXI в., собраны мои статьи и эссе, написанные в
разные годы ушедшего в прошлое, но еще очень близкого XX
столетия. Я не могу пожаловаться на то, что при появлении в печати
эти и другие мои работы не встречали оклика в философском
сообществе. Статьи и эссе, напечатанные в журнале «Вопросы
философии» (с которым многие годы была связана моя творческая
судьба), в различных коллективных монографиях, читались не
только в Москве и не только ближайшими коллегами, но и
философами, жившими и трудившимися во многих других городах
нашей необъятной Родины. Вспоминаю отрадный для себя факт.
Когда в 1991 г. вышла моя книга «Рождение и развитие
философских идей. Историко-философские очерки и портреты», то ее
тираж — 25 тысяч экземпляров — казался огромным для
специальной работы, посвященной античной философии, Дж. Бруно,
И. Канту. Да и цена (4 рубля 70 копеек) по тем временам была
немалой. И все-таки за пару месяцев книга была распродана,
причем она пользовалась спросом не только в Москве и Ленинграде,
но и в Сибири, на Дальнем Востоке, в Ростове-на-Дону, в других
городах.
Очень важная причина достаточно широкого резонанса и
распространенности философских книг состояла в том, что
существовала общегосударственная система книжного дела,
охватывавшая и центральные, и периферийные научные и культурные
центры. В последние десять-пятнадцать лет эта система была
недальновидно разрушена, почему нынче появление изданной в
Москве книги на книжных прилавках отдаленных городов —
большая редкость. О специальных, например, философских
журналах и говорить нечего: только в виде исключения их можно
встретить в обнищавших научных библиотеках страны... В
результате сложилась такая ситуация, при которой и новые книги, и
издания прошлых лет также становятся чуть ли не
библиографической редкостью.
Вот почему я — при всей нелюбви к (вошедшим сейчас в моду)
повторению, перепечатке авторами старых и новых
произведений — в этой книге решаюсь предложить читателям мои
опубликованные работы разных лет, присоединив к ним тексты, которые
Предисловие
13
также были написаны ранее, но по разным причинам остались
неопубликованными. Ибо я заметила, что, например, статьи и
эссе, которые я когда-то посвятила Канту, Гуссерлю, Хайдегтеру,
сегодня просто недоступны новым поколениям философов и
интересующихся философией.
Когда наступает позднее время жизни и когда поневоле надо
подводить некоторые итоги, любой человек, так или иначе
вовлеченный в процессы творчества, испытывает понятное
беспокойство и неуверенность в том, достаточно ли плодотворным оказался
его жизненный путь. Такое беспокойство тем более понятно, если
речь идет об историческом периоде, когда в сфере духа сложил-
лись и господствовали различные формы стеснения, а то и
подавления свободы творчества и когда любые в сущности результаты
исследовательского поиска не могли полностью уберечься от
деформирующего влияния господствующей идеологии.
Для пишущего человека есть два способа представить
своеобразный отчет о созданном на разных этапах жизни. Первый способ
- это «конъюнктурная правка» написанного в свете реалий и
ценностей современной культуры. Если раньше такая конъюнктурная
правка предполагала обязательное (иначе не напечатаешь!)
включение в любую книгу и статью ряда ключевых идеологических
клише, то сегодня, напротив, она связана с избавлением от них
(иногда, правда, оказывается, что такая процедура простого
вычеркивания когда-то самых «нужных», а сегодня лишних слов не
слишком мешает восприятию основного содержания работы.)
Второй способ представить публике свои прежние работы -
оставить напечатанное без изменений. Чтобы эти наши тексты,
пусть и затронутые деформирующим влиянием времени,
оставались не только вехами профессионального пути, но и
свидетельствами прожитого и пережитого нами времени. Для этой книги,
документирующей мое «былое» и мои «думы», я выбираю второй
путь. Что было — то было. Что сделано — то сделано. Чего в
каждом случае было больше — самостоятельного профессионального
труда и его результатов или приспособления к ветрам времени -
судить читателю. Итак, я сделала выбор в пользу второго
решения, полагая, что приукрашивать историю уже высказанного
слова не следует. (Возможно, я приняла такое решение потому, что
упомянутая «дань» в моем случае, как я думаю, не была столь уж
значительной и что она не воспрепятствовала конкретной
историко-философской работе, которую я всегда старалась выполнять
профессионально и добросовестно.) Здесь я лишь позволила себе
(очень редко) добавлять 'Tost scriptum" 2004 г., обращая
внимание читателей на то, что некоторые ранние оценки и суждения
14
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
впоследствии были мною уточнены и пересмотрены. В некоторых
случаях — потому, что состояние исследований тех или иных
вопросов за последние десятилетия существенно изменилось. Так,
мои ранние работы о Гуссерле появились в те годы, когда и Hus-
serliana, Собрание сочинений Гуссерля, и литература о нем не
были столь объемны, как в наше время. (И я считаю некоторой
удачей, что свою главную книгу по феноменологии — «"Идеи I"
Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию» (М., 2003) — я
написала в зрелый, скажем так, период творческой жизни, уже
имея возможность опереться на огромный массив новых томов
Сочинений Гуссерля и феноменологических исследований. И —
быть может, главное — пользуясь свободой посещать европейские
страны, свободой писать без оглядки на какую бы то ни было
цензуру.)
Собранные здесь статьи, очерки и эссе связаны с главными
областями моего научного интереса: это история античной
философии; философия нового времени, прежде всего немецкой
классики, Канта и Гегеля; учение Э. Гуссерля — в сопоставлении с
историко-философскими традициями и в контексте
феноменологического движения; сложная и весьма популярная сегодня
концепция выдающегося немецкого мыслителя Ю. Хабермаса. Я
решила воспроизвести в этой книге две работы из цикла статей,
которые посвятила философии M Мамардашвили, — его я
причисляю к значительным мыслителям XX в. Новая работа — статья
«Мамардашвили», только что написанная мною для
американской «Философской энциклопедии».
Кроме собственно историко-философских работ в книге
помещены: глава из учебника «Введение в философию»,
посвященная проблеме бытия, которой я занималась многие годы; статья о
нормах науки, примыкающая к достаточно обширному циклу
моих исследований 60—70-х гт. по социологии науки и познания,
которые в последние десятилетия я, к сожалению, уже не могла
продолжать сколько-нибудь основательно. Не включены в
настоящую книгу работы по истории русской философии, которую
я исследовала последние три десятилетия, — но лишь по той
причине, что сейчас в издательстве «Республика» готовится к
изданию моя книга «Мыслители России и философия Запада».
Хочу обратить внимание на те тексты, которые до сих пор не
публиковались или публиковались лишь частично.
Одной из проблемных областей, которые были мне важны с
первых шагов самостоятельной работы, стало исследование
знания и познания, науки и культуры (включая саму философию) в
контексте развития общества, истории, в связи с развитием циви-
Предисловие
15
лизации. Этот интерес был пробужден, с одной стороны, учением
Маркса (соответствующие идеи его учения я и сейчас считаю
значительным вкладом в историю мысли), с другой стороны,
социологией познания и знания. (Моя кандидатская диссертация
называлась «Проблемы активности субъекта в феноменологии Э.
Гуссерля и социологии познания».) Но я стремилась разработать
собственную концепцию, в которой были бы теоретически
высвечены сложнейшие механизмы взаимовлияния исторического
развития общества, его динамики, цивилизационных скачков, особых
эпох и исторических ситуаций — и развития философии вообще,
ее учений о человеке, познании, обществе, истории в частности и
особенности.
Эту концепцию я разрабатывала постоянно и последовательно
— сначала в работах 60-х—70-х гг. (см. книгу «Познание и
общество». М., 1969), которые способствовали пробуждению интереса к
данной проблематике в отечественной философии. (Кстати,
видный западный философ В. Хёсле, хорошо знающий русский язык
и читавший лекции в нашей стране, в одной из своих статей
отметил, что глубина и размах таких исследований — значительное
преимущество российской философии советского периода перед
философией Запада.) Затем я усилила внимание к темам
«цивилизация — культура — философия» и постаралась конкретно и
обстоятельно применить общую концепцию цивилизации
(кратко изложенную в начале книги «Рождение и развитие
философских идей») к исследованию философии различных периодов; в
книге «Социально-исторические корни немецкой классической
философии» (М., 1990) это была немецкая мысль XVIII—XIX вв.
Для книги «Рождение и развитие философских идей» мною был
написан большой (около 7 авторских листов) раздел, который
должен был предварить рассмотрение античной философии и в
котором древнегреческая мысль была вполне конкретно и
детально поставлена в контекст развития цивилизации и культуры
античной Греции. Когда названная книга готовилась к печати,
пришлось сократить подготовленный текст более чем вдвое.
Теперь я предлагаю его читателю в полном виде. К сожалению, в
последние десятилетия исследования подобного рода, так
успешно развивавшиеся в 60—70-х гг. (и объединившие философию,
социологию познания и науки, историю науки — вспомним хотя
бы о блестящих работах М. К. Петрова), нашли так мало
продолжателей и последователей. Меня просто удручает то, что даже
великолепные отечественные историки философской мысли по
существу не проявляют интереса к специальному исследованию,
«проработке» истории эпох и периодов, о философии которых
16
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
они пишут. Они весьма часто отделываются парой «дежурных»
вводных фраз на эту тему, не давая себе труда вникнуть в то,
какие именно черты эпохи и как повлияли на философию и через
какие механизмы философия реально воздействовала на
общество.
Другой блок, в которой я включила новые тексты, касается
философии Гегеля, в частности философии права. Вскоре после
опубликования книги «Путь Гегеля к "Науке логики"» (М, 1984)
(книги многострадальной: ее никак не пропускали в печать
правившие в Институте философии во второй половине 70-х и в
начале 80-х поднявшие голову сталинисты) я написала работу
«Социальная философия Гегеля». Она до сих пор не опубликована:
упустив «момент», я потом столкнулась с таким расширением
массива западной литературы по данной проблеме, что не смогла
ее (тогда) освоить; без этого отдавать книгу в печать я не считала
возможным. А потом нахлынули другие дела... Впоследствии я
написала, но не опубликовала некоторые тексты, связанные с
вновь найденными записями лекций Гегеля по философии права.
Теперь я предлагаю их читателям: вместе с ранее напечатанной в
«Вопросах философии» (1984, № 7) статьей эти новые материалы
составляют более полный проблемный блок. В статье в «Вопросах
философии» я старалась не только представить новые тогда геге-
леведческие источники, но и дать обобщающий анализ главных
понятий и тенденций гегелевской философии.
О своем отношении к философии Канта и Гегеля хочу сказать
особо, ибо и в данной книге публикуются некоторые работы,
посвященные обоим великим философам, исследованием
концепций которых я занималась и занимаюсь всю мою творческую
жизнь. В последние 15 лет я работаю (в качестве ответственного
редактора — вместе с Б. Тушлингом из Марбургского
университета) над выпуском двуязычного немецко-русского издания
Собрания сочинений И. Канта; вышли из печати 1,3,4 тома и готовится
к публикации 2-й том, содержащий «Критику чистого разума».
Ожидаю, что в полной мере значение этого издания оценят
молодые поколения кантоведов; ведь им придется органично
включаться с мировое исследование философии Канта. На это есть
реальная надежда.
Я пишу эти строки в июне 2004 г., после успешно прошедшего
в Москве Международного Кантовского конгресса, который, в
частности, показал, что молодые профессионалы российского кан-
товедения уверенно входят в интернациональное
исследовательское сообщество.
Предисловие
17
К прискорбию, нельзя сказать того же о нашем гегелеведении.
После его оживления в 70—80-е гг. — удручающий спад. Здесь не
место анализировать сами по себе весьма интересные и весомые
причины этого явления (среди которых — перенесение на
философию Гегеля «вины» за то, что произошло в XX в., в частности, за
тоталитаризм и советский марксизм). Хочется надеяться, что и в
гегелеведение России придут молодые профессиональные силы.
Что касается публикуемого в данной книге эссе о Хайдегтере
1989 г., то я продолжаю придерживаться высказанных в нем
оценок и подходов и по прошествии времени готова подкрепить
свою позицию новыми аргументами, не пренебрегая доводами
тех, кто иначе, чем я и многие другие исследователи, смотрит на
нацистские прегрешения выдающегося философа. Но ведь от них
никуда не уйти. Иначе постоянно будет случаться нечто
подобное тому, что так хорошо показано в знаменитом фильме
«Покаяние»: упрямая нераскаянность самого Хайдегтера и, увы,
упорная несклонность к покаянному исследованию хайдеггеро-
ведов будут и дальше приводить к тому, что на глубочайшую,
интереснейшую философию нашего века то и дело (по мере
обнаружения новых фактов, как это случилось в Германии
сравнительно недавно) будет падать зловещая коричневая тень.
Несколько слов о разделе, посвященном Хабермасу. Тогда, в
конце 80-х гг., я писала о почти полном отсутствии в России
переводов текстов этого философа, живого классика современной
мысли, а также и сколько-нибудь объективных отечественных
исследований его многочисленных трудов. К сегодняшнему дню
положение существенно изменилось: немало произведений Ха-
бермаса переведено на русский язык; появились новые
исследования о его философии. (Я написала специальную обобщенную
главу о Хабермасе в IV-м томе учебника «История философии:
Запад—Россия—Восток», которую рекомендую тем, кто хочет
получить более полное представление о выдающемся философе,
который и сегодня продолжает плодотворно работать).
Я благодарна О. В. Головой за саму идею этой книги, а
издательству «Феноменология-Герменевтика» во главе с И. А.
Михайловым — за ее осуществление, а также за составление Именного и
Предметного указателей.
Вот, пожалуй, и все, что я могу кратко сказать сегодня как в
оправдание, так и в объяснение того, что предлагаю
современному читателю работы разных лет — лет, уже, канувших в прошлое.
Но лет дорогих уже потому, что то была наша молодость, наша
жизнь, и что с нами были те любимые люди, друзья и коллеги, без
поддержки и влияния которых эта жизнь непредставима...
I.
В нашем прошлом величье, в грядущем — проза...
И. Бродский
Но больше нет ни слабости, ни силы,
Прошедшее, грядущее — во мне.
А. Блок
* * *
У каждой души, влюбленной в духовную же Историю, есть к
тому личные истоки и побуждения. Но для таких периодов
истории, когда над прошлым измываются, настоящим пренебрегают
и восхваляют лишь «светлое будущее», погружение личности в
прошлое нередко становится символом протеста, способом
самосохранения и обретения ею хотя бы относительной свободы.
Перемещение умов, вместе со всем народом страдающих от
настоящего, в глубины прошлого — не только свидетельство
притягательности Истории как раздумья и повествования о прошедшем.
Это и явный знак трагического хода событий и ущербности
грядущего, которое постепенно и обязательно становится тем
настоящим, коим не приходится гордиться.
И все же: спасибо истории! В моем случае — истории
философии, тому безбрежному материку мысли, на котором каждому,
кто захочет, найдется место для интеллектуальных путешествий.
А что историк философии на этом материке прошлого для себя
откроет, во многом зависит от его удела, от творческой страсти,
удачи, от непредсказуемого хода индивидуальной жизни — и
опять-таки от того настоящего, уйти от которого невозможно и
которое, увы, слишком быстро становится давним или еще
близким прошлым.
I.
К читателю
В 1990 г. вышла моя книга «Рождение и развитие философских
идей». Для ее раздела, озаглавленного «Цивилизация и
культура древних греков — фундамент зарождающейся философии»,
мною был написан текст, который (из-за соображений объема)
вошел в книгу только частично. Я уже тогда предупредила об
этом своих читателей: «Должна признаться, что для этой книги
был написан обширный раздел о цивилизационно-культурных
основаниях древнегреческой философии. Но, к сожалению,
обстоятельностью анализа на последних этапах работы над
рукописью пришлось пожертвовать. Полный текст надеюсь
опубликовать в другом издании» (Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие
философских идей. М., 1990. С. 40).
И вот настал момент, когда предоставляется возможность
представить читателю полный вариант проделанного мною к
началу 90-х гг. исследования цивилизационно-культурных
предпосылок и оснований античной философской мысли. Я очень рада,
что такая возможность, наконец, возникла, ибо предлагаемая
теперь работа дает более ясное представление о той линии анализа
философии, которой я следовала с первых своих шагов в
философской работе и которой до сих пор придаю первостепенное
значение. Она нашла выраженное почти во всех моих книгах и в
целом ряде статей и эссе.
Речь идет об исследовании - именно исследовании, притом
обстоятельном, детальном, методологически продуманном —
философии в контексте цивилизации и культуры, о выведении
философских идей из исторических, социокультурных
оснований. И о таком выведении, которое не имеет ничего общего с
вульгарным «пристегиванием» философии, в том числе ее
абстрактных идей, к социально-экономическим формациям, к борьбе
классов и т.д. Я понимаю, что господствовавшее еще недавно
марксистско-ленинское воззрение, требовавшее такого
«пристегивания», могло набить оскомину уважающим себя историкам
философии. Правда, самому Марксу подчас — увы, не всегда! —
удавалось обнаружить реальные связи исторической эпохи и
философии, которая, выражаясь словами Гегеля, всегда была «эпо-
К ЧИТАТЕЛЮ
21
хой, выраженной в мыслях». В истории философии и
социологии после Маркса (в социологии познания, социологии науки) .
накопилось немало образцов тщательного исследования
социально-исторической обусловленности философии, науки,
искусства и других областей культуры.
В целом ряде своих работ я попыталась разработать
конкретную методологию подобного исследования философии на трех
социально-исторических уровнях — цивилизационном,
эпохальном и ситуационном. Несомненно, что философская мысль
любой исторической эпохи вырастает на корнях человеческой
цивилизации и культуры. Но признать и декларировать это -
вовсе не то же самое, что исследовать, как именно, через какие
механизмы деятельности и сознания, через какие «подпочвенные»
предпосылки цивилизации возникает и произрастает
философия. Должна отметить, что еще в 70-х гт. вокруг этой темы
работало сообщество (относительно) молодых философов (я
вспоминаю, например, совместные конференции и публикации с
представителями ростовской философской школы). Однако
приходится с сожалением констатировать, что упомянутая тематика
так и не захватила в России коллег по историко-философскому
«цеху». (Есть редкие исключения среди историков культуры,
которые подчас вступают и в пределы философии.)
У меня есть свои догадки о комплексе причин, объясняющих
этот факт. Главное, пожалуй, — это неинтегрированность
отечественного гуманитарного знания, в .котором каждая из
дисциплин — философия, история, литературоведение,
искусствознание и т.д. — существуют сами по себе. Приведение их в
некоторый синтез, и тем более для целей философского анализа, —
дело чрезвычайно трупное. К тому же, как сказано,
применительно к абстрактным философским идеям неуместно никакое
вульгарно-экономическое, политическое и т.д. их сведение.
Прочерчивание линий, ведущих от социально-экономических
предпосылок к философии только через ряд опосредовании,
требует постоянного напряженного внимания, аккуратности и
осторожности.
Читатель сам будет судить о том, удалось ли мне такое
опосредованное социально-историческое, социально-философское
исследование философии (здесь — философии античной). А
поскольку в мировой философской мысли эти традиции,
заложенные в XIX—XX вв., никогда не исчезали, я продолжаю
надеяться на их перспективность и в развитии отечественной культуры.
Цивилизация и культура
древних греков — фундамент
зарождающейся философии
Ближайшая задача предлагаемого далее
историко-философского размышления — как бы поместить под увеличительное
стекло анализа процессы, стимулы человеческой цивилизации,
под влиянием которых в интересующем нас здесь европейском
регионе сначала возникла, а затем испытывала кардинальные
исторические превращения европейская философия.
Я предполагаю проследить совершившиеся в древней
Греции (сначала в VII—VI вв. до н. э., а затем — и в последующих
столетиях) изменения структур, форм, стимулов этой
деятельности, чтобы понять, откуда и как возникла уже в них, а через них
передалась истории потребность человечества в философии, кем,
когда и как потребность эта была реализована. И почему сие
случилось именно в Греции. Итак, предполагается (что отвечает
сути развиваемой мною концепции цивилизации и будет ее
конкретизацией) осуществить краткую реконструкцию истории,
но не в качестве самоцели, а для рассмотрения «цивилизационных
срезов» предметно-практической, управленческо-политической,
а по сути своей и духовно-нравственной деятельности древних
греков. Хотелось бы, чтобы через эти срезы и стали более ясными
цивилизационные проблемы, противоречия, часть которых —
весьма специфических, но совершенно настоятельных —
человечество тогда начало разрешать именно с помощью
выделения науки и философии в особое звено разделения и интеграции
своего труда.
Единство, целостность древнегреческого мира символизирует
слово «полис» (город-государство). Главные же его «топосы» и
элементы обозначаются и символизируются греческими по про-
Цивилизация и культурл древних греков
23
исхождению, но теперь уже общецивилизационными по
значению понятиями. Среди них наиболее важны следующие.
1. Лимен — буквально: гавань (вместе с портом), но
одновременно символ высокого развития древней Греции, открытости ее
народа широкому общению между полисами, а также
взаимодействию с другими известными тогда цивилизационными
центрами. Это также зримый символ единства, взаимообогащения
мировой цивилизации. Корабли, судостроение и судовождение,
торговля, финансы, займы, налоги — вот те «разместившиеся» в
гавани древнейшие изобретения человечества, которые древние
греки и заимствуют, и преобразуют, «переизобретают»,
усовершенствуют, способствуя рождению «греческого чуда», чем вносят
весомый вклад в дальнейший прогресс цивилизации.
2. Комы — деревенские поселения, расположенные, как
правило, вокруг полисов и тесно с ними связанные, становятся
символом все более продуктивного, цивилизованного по тем
временам сельского хозяйства, труда крестьян древней Греции, которые
не только успешно снабжали метрополии и колонии
излюбленными греческими продуктами питания, но и в изобилии
поставляли их на экспорт.
3. Нижний город — обобщенный символ производства,
ремесла, повседневных жизни и быта древних греков.
4. Агора — буквально: рыночная площадь, но вообще-то
символ внутреннего общения, взаимодействия граждан города-
государства. На агоре осуществляется
хозяйственно-экономический обмен (товарами, но также мастерством, наиболее
эффективными и новаторскими парадигмами труда). Здесь протекает
интенсивная политическая и юридическая жизнь города. На агоре
греки внимают своим ораторам, поэтам и философам.
5. Вместе с эклезией, народным собранием (и с другими
понятиями, о которых — позже) агора символизирует единство
развитой, интенсивной социально-политической деятельности
граждан полиса, их формирующегося гражданского самоуправления,
где важнейшее из политических изобретений древних греков,
демократия (буквально: власть народа), играет особую роль. На
агоре и в зданиях, к ней примыкавших, рождаются и проходят
проверку демократические принципы многообразия,
множественности (плюрализма, как мы говорим сегодня) усилий,
подходов, мнений, объединений людей и в то же время полисного и
межполисного единства. Тут история и создала одну из
лабораторий общечеловеческого политического цивилизационного опыта.
6. Акрополь — буквально: верхний город — это символ
религиозной, художественной жизни полиса, олицетворение высших
24
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
достижений культовых строительства, архитектуры, скульптуры,
а также великолепных совместных празднеств древних греков.
Для нас это будет и символ их особого мировоззрения, взгляда на
космос и место в нем человека.
7. Агон — борьба, состязание, стадион — символ и высокой
физической культуры, да, именно культуры, греков и одновременно
состязательности во всех важнейших областях жизни как
наихарактернейшей черты их бытия.
8. Логос — слово, беседа, повествование, закон — служит
общим символом повседневной речевой, дискуссионной и также
специализированной «словесной», гуманитарной культуры
древних греков, их риторики, литературы (мифологии, светской
поэзии, драматургии, прозы, исторических повествований), их
мудрости (позднее — философии).
9. Эгос — буквально: обычай, поведение, характер, а
одновременно символ духовно-нравственных устоев, традиций,
ценностей, идеалов и вырастающей на их основе философской этики
древних греков.
В нашем мысленном путешествии эти и связанные с ними
понятия-символы да послужат направляющими лоциями, И
двигаться нам целесообразнее по той «последовательности смыслов»,
которая принята в только что приведенном их перечне.
О полисе
Полис, или античный город-государство именно со времени
становления цивилизации древних греков становится тем, что на
современном языке можно назвать комплексной системой,
единством сельскохозяйственной и «промышленной» (ремесленной)
деятельности, а также единством хозяйственно-экономической,
гражданско-политической, повседневно-бытовой,
духовно-культурной жизни. Словом, на целые века античной истории полис —
место индивидуальной и коллективной жизни людей во всех ее
проявлениях. «Основной общественной формой, в рамках
которой протекала в античную эпоху повседневная жизнь людей, был
полис — отмечает Г. С. Кнаббе. — Это греческое слово обычно
переводится на русский язык как «город», но перевод этот
настолько приблизителен, что за его пределами остается главное.
Полис, или, как его называли римляне «civitas» (буквально:
«гражданская община») — не просто населенный пункт, скопление
домов и жителей, архитектурно оформленное пространство, и не
только административный центр определенной территории.
Мало будет сказать и то, что это город-государство, единица
административно-политической организации населения. Полис —
Цивилизация и культурд древних греков
25
гражданская община — это отличительный признак, средоточие
и наиболее полное выражение античного мира. Греки или
римляне не знали национальной или расовой исключительности в
собственном современном смысле слова, но они делили весь мир
на зону цивилизации и зону варварства» 1. Слово «civitas» в
значении гражданской общины (от него в Новое время и произвели
слово «цивилизация») — более позднего, римского
происхождения. Но и во времена древней Греции полис, несомненно, есть
для греков особое внутреннее гражданское единство жизни, явно
противопоставленное бытию других городов-государств.
Одновременно греческая — именно полисная — жизнь (при всех
противоречиях, войнах между отдельными полисами)
воспринимается как противопоставленное негреческому (варварскому) миру
единство. Правомерно сказать, что это специфическое цивилиза-
ционное единство.
Полис возникает, развивается и сохраняется греками как
качественная целостность их жизни и как целостность, имеющая
определенные — специально учитываемые, сохраняемые —
количественные пределы, как динамичное единство многообразного:
многообразия индивидуумов, занятий, сфер жизни, проблем и
решений.
Сказанное — отнюдь не подтягивание проблем полиса к
специфическому философскому лексикону, к категориям,
появившимся и анализируемым именно в философии. Единство
многообразного — суть греческой полисной жизни, коренная и вполне
реальная проблема как развития отдельных полисов, так и их
отношения между собой. Ибо история греческих полисов и есть,
собственно говоря, история бурного становления, развития
древнегреческой цивилизации и ее последующего упадка. Последнее
однако не означает ни ее исчезновения, ни утраты ею влияния на
последующую историю, но лишь перемещение в другие страны,
земли тех центров, где история цивилизации потом делает
особенно стремительные скачки — не только неизменно опираясь на
древнегреческие основания, но нередко начиная новый рывок
вперед с «ренессанса», исторического воспоминания об античных
корнях.
Развернем же анализ жизни древнегреческого полиса под этим
углом зрения — имея в виду то новое, ценное, что он внес в
историю древнегреческой цивилизации и в особенности останавливая
внимание на процессах, проблемах и механизмах, более прямо,
1 Кнаббе Г. С. Древний Рим — история и повседневность. М., 1986. С. 20.
26
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
непосредственно или, чаще, косвенно повлиявших на
философию.
Для начала представим себя на корабле, который вот-вот
прибудет в какую-нибудь древнегреческую гавань, например, на
острова Делос или Самос, или в знаменитую афинскую гавань Пи-
рей. Но не забудем, что и сам корабль — плоть от плоти
греческой цивилизации.
Корабль — часть древнегреческой цивилизации
Итак, если мы представим себя на корабле, направляющемся к
какому-либо древнегреческому полису, то нам сразу должна
открыться сторона — и важнейшая — цивилизации классической
Греции. Используя современную терминологию, можно назвать
эти аспекты цивилизации и соответствующие им виды
деятельности коммуникативными. Состояние жизни народа, государства,
облик цивилизации, эпохи в значительной степени определяется
тем, каковы специфические для нее средства, способы, формы
коммуникации, т.е. общения и сообщения с другими
человеческими объединениями. И подобно тому, как эти слова,
выражающие формы и процессы коммуникации, производятся от
одного корня, так из «корня» единства, в истоке и тенденции —
общечеловеческого единства, вырастает фундаментальные для
цивилизации возможности, формы, ценности взаимодействия
индивидов, поселений, групп, стран, народов, регионов,
континентов. Для понимания сути цивилизации, критериев
цивилизованности очень важно знать, открыты ли страна, народ общению,
знать, чем и как они обмениваются с другими странами, что
ввозят и что вывозят. Надо выяснить, кто и зачем путешествует из
региона в регион, из страны в страну, из одной части страны в
другую. Да и свободны ли, открыты путешествия для простых
граждан. И вот перед нами древнегреческий корабль, важнейшее
средство коммуникации, унаследованное еще от эпохи
варварства, но существенно преобразованное греками и уже в таком виде
переданное ими дальнейшим поколениям для использования и
усовершенствования.
Корабли греков уже к VIII в. до н.э. становятся довольно
разнообразными и достаточно сложными, добротными сооружениями.
Суда двигаются или благодаря веслам, или с помощью паруса. Но
наиболее маневренные и быстроходные корабли оснащены и тем
и другим. Для передвижения и перевозки сравнительно
небольших грузов на малые расстояния используются одновесельные
суда, более похожие на лодки. У греков, живущих на побережье,
они в большом ходу. Для дальних путешествий и перевозки тя-
Цивилизация и культура древних греков
27
желых грузов строятся многовеселъные и одновременно парусные
суда — с двумя рядами весел (диеры), с тремя рядами (триеры).
Имеются и корабли с четырьмя и пятью рядами весел (на
последних — по 25 гребцов у каждого борта). И все же самые
излюбленные греческие корабли - это триеры.
Греческие суда часто соединяют в себе и мирные функции —
средства передвижения, перевозки пассажиров и товаров, и
военные функции — обороны от врагов и нападения на них. Во
втором случае они снабжены специальными приспособлениями,
таранами. Разумеется, строятся и специальные военные корабли —
тогда на них все подчинено задачам перевозки максимального
числа вооруженных воинов, но в особенности успешного
нападения на корабли противника, поражения их2. Забота о
постоянном усовершенствовании, функциональном разнообразии
кораблей, большем удобстве и безопасности морских, как, впрочем,
и сухопутных путешествий приходит к человечеству вместе с
цивилизацией и является лишь одним из конкретных проявлений
общего цивилизационного принципа. Варвары долго оставляли
неизменными и чаще всего лишь несущественно варьировали
традиционно сложившиеся результаты и образцы действия.
Человек цивилизации стал относиться к прежним образцам,
результатам — что мы потом увидим на многих других примерах —
новаторски, творчески. Он стремится не только применить,
использовать их, но и существенно преобразовать, усовершенствовать.
Наследование образцов и их творческое усовершенствование —
вот существенные полюса, противоположности того коренного,
творческого, живого противоречия, каким и движима
цивилизация.
Но вернемся на корабль древних греков. Грекам архаической и
классической эпох принадлежат существенные исторические
новшества в строительстве и оснащении кораблей, в организации
и разделении труда на кораблях. Фукидид свидетельствует: «По
преданию, коринфяне первыми приступили к строительству
кораблей способом, весьма похожим на современный, и в Коринфе
были построены первые в Элладе триеры. Коринфский
кораблестроитель Аминокл, который прибыл к самосцам, построил и им
четыре корабля» 3. Потом, «прибыв» в гавань полиса, мы
обнаружим там весьма развитое судостроение, составляющее одну из
См. Петере Б. Г. О морском деле в Эгейском мире // История и
культура античного мира. М, 1977. С. 160—169.
3 Фукидид. История. Л., 1981. С. 10.
28
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
древнейших и фундаментальных областей ремесленной,
«промышленной» деятельности греков. Здесь — очень существенный
урок: поистине революционное преобразование средств связи,
коммуникации, обновление коммуникативной деятельности
было, есть и будет важнейшей предпосылкой и способом цивилиза-
ционного скачка. (Тут опять вспоминается, сколь велика сегодня
разница между нами и высокоцивилизованными странами: мы
держим наши средства и институты связи, коммуникации,
информации в состоянии допотопной отсталости — и именно тогда,
когда другие страны усиленно развивают, обновляют
коммуникационные области, учитывая особенности складывающегося
информационного общества).
А вот греки — может быть, потому, что страна их окружена
морем — глубоким внутренним чутьем улавливают
фундаментальное значение морского дела для расцвета цивилизации.
(Впрочем, другим средствам передвижения — например,
быстрым и ладным конным повозкам — они тоже уделяют
пристальное внимание).
Отметим, говоря о корабельном деле греков, обстоятельства,
которые особенно важны и для понимания характера
древнегреческой цивилизации и для целей нашего анализа — они затем,
через ряд опосредующих звеньев, должны привести нас к
необходимости возникновения философии. Корабль греков — уже
довольно сложное и далее усложняющееся устройство, Для своего
создания и эксплуатации оно требует объединения все более
разносторонних знаний, умений, изобретательности в применении
критериев рациональности и эффективности, конечно, в их
древнегреческом понимании. Части корабля искусно подогнаны
друг другу и достаточно хорошо продуманы с точки зрения их
главных функций. Например, тараны триер, разнообразные по
их конструкции, сделаны так, чтобы выполнять во время боя
несколько функций — предохранять носовую часть своего корабля
при таранном ударе, ломать весла на корабле противника,
поднимать, топить его пробитую, протараненную часть. Греки
придумали (в VII в. до н.э.) и усовершенствовали якорь, оснащая суда
сразу несколькими якорями. Многое сделано для увеличения
грузоподъемности корабля, более удобной перевозки товаров,
маневров в море во время непогоды. Грузоподъемность греческого
корабля достигает 50—60 тонн, скорость — 6 или 7 км/час. По тем
временам это огромное достижение — греческий флот считается
быстроходным, маневренным, что дает преимущества и в
военных действиях, и в освоении новых земель, и в торговых делах.
Греки додумались строить на кораблях сплошную палубу, под
Цивилизация и культура древних греков
29
которой размещают трюм-таламос. «В IV в. до н. э. на триерах
появилась легкая верхняя палуба — катастрома, защищающая
гребцов верхнего ряда от стрел и дротиков и служащая для
расположения на ней воинов» 4. Корабль греков — это, выражаясь
современным языком, организованная система функций и
управления. «Во главе триеры стоял триерарх, выбираемый из числа
богатых граждан, участвующих в ее снаряжении. В его
обязанности входило оснащение и содержание судна. Первым его
помощником был кормчий — кибернетес»5. Хороший, искусный
кормчий — исключительно почетная фигура в глазах древнего грека,
чему можно найти немало подтверждений, обратившись к
философским и литературным текстам. И недаром от слова «киберне-
тос» образовала свое имя современная наука о рациональном
управлении, кибернетика. (Впрочем, уже Платон употреблял
слово kybemetikë — буквально: искусство кораблевождения — ив
переносном смысле, имея в виду деятельность искусного
управления городом-государством). Греки мудро и осмотрительно
соединяют в деятельности триерарха функции создания,
снаряжения и эксплуатации судна: триерарх сам плавает на построенных
под его началом кораблях и тем более ответственно наблюдает за
добротностью, качественностью кораблестроительных работ. Ки-
бернетесу, который подконтролен триерарху, в свою очередь
подчиняется начальник гребцов, келевст. Последний во время
движения сидит вместе с гребцами, отбивая такт специальным
молоточком. На судне, между прочим, часто находится и
корабельный музыкант — флейтист, который задает гребцам темп
движения весел, а то и ублажает их слух песнями, которые тоже
приспособлены к ритму гребли. И это тоже типичное для греков
соединение дела и искусства.
Функции гребцов, этой живой «двигательной силы»
древнегреческого корабля, тоже не однородны. На наиболее тяжелых
веслах, расположенных на верхней палубе, сидит транит —
главный и самый высокооплачиваемый гребец. На более коротких и
легких веслах нижнего ряда — таламиты, чьи профессии,
несмотря на весьма тяжелый, почти рабский труд, достаточно почетны.
Итак, все на корабле строго упорядочено — и наиболее удобная
конструкция весел, их совместное или, чаще, попеременное
функционирование, действия гребцов и их начальников, согласо-
4 Петере Б. Г. К вопросу о морском деле древней Греции в классическое
время // Проблемы античной культуры. М. 1986. С. 76.
5 Там же. С. 75.
30
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
вание весельного и парусного движителей и т.д.6. Вот почему
путешественник — иноземец уже на древнегреческом корабле
может увидеть то, что и принадлежит к особенностям
древнегреческой цивилизации: концентрацию знаний, умений, навыков во
имя наиболее успешного, то есть рационального и эффективного
выполнения рукотворными орудиями, средствами
жизнедеятельности человека, их главных функций, а также великолепную по
тем временам организацию — рациональное распределение
конкретных, разнообразных и далее дифференцирующихся
трудовых исполнительских и управленческих функций между людьми,
участвующими в каком-либо деле, согласованное выполнение
ими этого общего дела. Не случайно же К. Маркс, анализируя в
«Капитале» проблему разделения труда, ссылается на Фукидида
(когда тот повествует о сложности и дифференцированности
древнегреческого морского дела) и замечает: «Морское дело есть
такое же искусство, как и всякое другое, и им нельзя заниматься
между прочим, как побочным занятием: скорее наоборот, оно не
терпит рядом с собой никакого иного побочного занятия» 7.
Образ корабля был бы неполон, если бы мы не выяснили, что
греки в интересующий нас период на нем перевозят и какие на
нем могут быть пассажиры. А тут вот что главное: греки на своих
кораблях везут не просто «дары природы» и созданные людьми
вещи, предметы — они везут именно товары. Это значит, что
перевозятся материальные предметы, специально создаваемые уже
не только для собственного потребления, а для купли-продажи,
для обмена с другими товаропроизводителями. Учтите еще одно
в высшей степени важное обстоятельство. Товары перевозят либо
сами их собственники, ставшие купцами, либо торговцы, которые
— на время обмена — приобретают перевозимые грузы в
собственность. Команда корабля тоже включает либо его
собственников и создателей, либо свободных людей, которые отвечают за
добротность судна, безопасность движения высоким престижем
своих профессий, а в греческих полисах, где все, в сущности,
знают друг друга, славой или бесславием своего имени. И если даже
на веслах сидит не полноправные граждане, а рабы, то и они — о
чем разговор впереди — в греческих полисах все же сохраняют
куда большую заинтересованность в честном труде, чем в тех
восточных государствах, откуда их по большей части и вывозят
греки. Значит, не только естественное желание самосохранения, но и
6 См. там же. См. также: Боровский Я. М. Техника мореходства //
Эллинистическая техника. М.—Л., 1948. С. 326—329.
7 Маркс К. Капитал. М., 1949. Т. I. С. 373.
Цивилизация и культурл древних греков
31
риск собственностью, ответственность за собственность
заставляют древних греков постоянно совершенствовать судостроение,
кораблевождение, максимально быстро и сохранно перевозить
товары, учиться у других народов всем корабельным и портовым
новшествам. А ведь в цивилизационной целостности прогресс в
каждой отдельной сфере деятельности, как правило, передается
другим звеньям разделения труда. Так и развитое судоходство —
главнейший для Греции способ обмена результатами труда,
производства — толкает к расширению, цивилизованию самого
товарного производства.
Зачатки процесса обмена вещами уходят в глубокую
древность. Но только цивилизация знаменует развертывание
целенаправленного процесса товарного производства и обмена — со
всеми вытекающими отсюда особенностями и следствиями
социально-исторического характера. В частности, специфика
древнегреческой цивилизации VII—VI в.в. до н.э. во многом связана со
стремительным и активным вторжением древней Греции —
нового товаропроизводящего и торгующего товарами центра
цивилизации — в более древние, традиционные к этому времени
производственно-обменные связи. Процесс развертывается лишь
постепенно; в начале его Греция вывозит не так уж много видов
товаров и лишь постепенно вступает, как полноправный участник
обмена, в близлежащие центры мировой торговли. Собственно,
если брать перечень основных видов товаров, которые к тому
времени производятся именно для обмена и перевозятся через
морские и сухопутные артерии средиземноморского и
ближневосточного региона, то вряд ли можно сразу усмотреть, что нового
приносит упомянутое вторжение древней Греции в
производственный и торговый процесс. Ведь на греческом, как и на всяком
другом корабле, везут сельскохозяйственные продукты — зерно,
масло, вино и т.д., а также изделия из глины (керамику), металла,
камня, перевозят ткани, украшения и т.д.
Но вот по мере обретения древнегреческой цивилизацией
собственных оснований, экономической, политической
самостоятельности греки все больше вывозят те же по названию, но новые
Для рынка товары: они изготовляют и продают более
функциональную, ходовую и в то же время очень красивую, даже
изысканную чернофигурную, а потом краснофигурную керамику;
все больше ценится вино, оливковое масло греческого
производства; в ход идут греческие инструменты, ткани, одежда, обувь и
т.д. Но греки и охотно ввозят, т.е. импортируют товары —
например, из Египта и других стран Ближнего Востока. На внутренние
рынки они везут модные восточные ткани, украшения, благово-
32 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ния, лекарственные растения и другие средства восточной
медицины. Из Египта в греческие земли доставляют папирус, о
котором, вследствие его значения для культуры, следует сказать особо.
В качестве употребительного материала для письма он
распространяется у греков довольно поздно — в VII в. до н.э., когда тор-
гово-обменные сношения между древнегреческими полисами и
Египтом приобретают более оживленный характер. А раньше
надписи и документы греков — древнейшие из дошедших до нас
— делались преимущественно на камне, меди, четырехугольных
деревянных досках (на последних были записаны законы Дра-
конта и Солона), свинце, коже. Это было сложно и
обременительно, что, несомненно, сдерживало развитие письменности. Ввоз
египетского папируса, в VII—VI вв. сделавшийся регулярным,
облегчает формирование древнегреческой письменности, а стало
быть, оказывается очень нужной материалъно-цивилизационной
предпосылкой развития письменной культуры.
ВIX—VIII в. до н.э. ценность того, что греки вывозили из-за
границы, была много выше ценности их собственных
экспортируемых товаров. И грекам, сравнительно поздно включившимся в
конкуренцию производителей и торговцев, которая сложилась в
ближайшем к ним регионе, еще надо было в трудах и борьбе
занять свое место в товарно-торговом мире. И они это сделали как
раз благодаря специфическим качествам своей цивилизации —
неустанному поиску нового, изобретательности, умению сочетать
в изготавливаемых вещах функциональность и красоту;
благодаря тому, что они, выражаясь современным языком, сумели
обеспечить максимальную производительность труда при высоких
потребительских и художественных качествах товаров,
минимизации затрат на их изготовление. Рост производительности труда,
его новое разделение — все это и «опредмечено» в товарах,
которые грузятся в таламосы (трюмы) древнегреческих кораблей и
развозятся по разным странам, включая самые отдаленные, на
границах греческого мира (ойкумены) основанные греческие
колонии.
Поэтому-то почтенные пассажиры кораблей — торговцы, чье
дело и есть перевозка товаров на своих, а чаще — на чужих,
специально нанятых кораблях. В распоряжении торговли в VIII в. до
н.э. уже находится довольно большой флот. Зачинатели
новаторского кораблестроения — греки из Коринфа — решительно
добивались и в конце концов добились достаточно цивилизованных
условий мореплавания. Фукидид свидетельствует: «С
оживлением судоходства и торговли коринфяне на своих кораблях взялись
за уничтожение морского разбоя» (Ф., С. II).
Цивилизация и культурд древних греков
33
В интересующее нас время на древнегреческие кораблях все
чаще появляются пассажиры, которые не вывозят товаров с
родины и не возвращаются из иноземных плаваний с диковинными
вещами или же нажитыми от торговли деньгами. Они «везут» на
родину то, чего нельзя увидеть — знания, навыки, цивилизацион-
ный опыт других народов и выношенные в путешествиях новые
идеи. Создание знаний, идей, мудрости, обмен знаниями,
совершающееся в результате приращение и качественное обновление
идеальных, духовных продуктов постепенно становится делом
никак не менее важным, чем производство и обмен вещей-
товаров. К этим вопросам мы потом еще не раз вернемся. А пока
вместе с кораблем «войдем» в воображаемую древнегреческую
гавань.
В древнегреческом порту
Теперь мы в порту. Оживленная гавань древнегреческого
города — вход в полисную жизнь, причем в разных смыслах. В
мирное время тут обычно — под погрузкой, разгрузкой ли просто на
якоре — стоит несколько чужеземных и собственных судов.
Существуют специальные устройства, условия и люди для выгрузки
и погрузки, хранения, а также демонстрации привезенных и
продаваемых товаров, ибо торговля ведется уже в порту. Ловко и
споро работают греческие грузчики, причем они все больше
используют достаточно простые, но эффективные технические
устройства. Портовые власти следят за порядком, взимают пошлины,
наблюдают за тем, чтобы не было спекуляции, чтобы не
нарушались достаточно строгие торговые правила. Греция всегда остро
нуждается в хлебе, ввозит зерно — и потому в ее портах особенно
бдительно соблюдают финансовые правила: следят за ценами и
наценками на хлеб, но не забывают о льготах для его импортеров.
Никак нельзя не заметить рыбаков, крестьян, ремесленников —
их лодки и небольшие суда снуют в порту; выгружаются,
перегружаются на повозки и отвозятся на рынок (но часто продаются
тут же, в порту) рыба, скот, мясо, масло, вино, пшеница, просо,
мед, фрукты, кожа, утварь, одежда и обувь, оружие — вернее, та
часть этих товаров, которая производится непосредственно для
продажи внутри страны. В древнегреческом порту встречаются и
местные товары, и товары колоний и все, чем торгуют с греками
другие страны и народы 8. В системе довольно развитого разделе-
8 «В сохранившемся до нашего времени отрывке из одной комедии Гер-
миппа, написанной в последней четверти у в. до н.э., перечисляются то-
34
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ния труда, захватившего портовую жизнь полиса, большую роль
играет и дифференциация торгово-финансового труда (в порту
дают кредиты, чтобы зафрахтовать судно, причем морские займы
— из-за большого риска мореплавания — облагаются довольно
высокими процентами; за особую плату менялы производят
обмен и размен денег; действуют налоговые службы; производится
оценка товаров и т.д.), и разделение, специализация функций
самого все более сложного портового дела. Древнегреческие порты
к тому же являются не только торговыми центрами, но и
военными укреплениями — и потому в них или в непосредственной
близости от них почти постоянно ведутся какие-либо
специализированные строительные работы по укреплению, реставрации или
модернизации гавани, по строительству судов.
Пока мы «находимся» в порту, обратим внимание на
историческую проблему, которая по крайней мере косвенно повлияла на
возникновение научных и философских знаний. Речь пойдет об
эволюции обменных эквивалентов: очень важно, что именно в
интересующие нас столетия описанная К. Марксом в «Капитале»
в логической форме необходимость «выталкивания» из общей
товарной массы сначала особых товаров — эквивалентов, а потом
введения золотых и серебряных денег в качестве всеобщего
эквивалента реально пролагает себе дорогу в конкретной истории
древнегреческой цивилизации. «Изобретателями» монет греки со
времени Геродота считали жителей полиса Лидия в Малой Азии
— в той местности были залежи металла, представлявшего собой
смесь золота и серебра. Греки назвали его словом, таким
знакомым нам сейчас, но получившим у нас иной смысл — «электрон».
Из электрона, металла редкого и удобного для чеканки, а потому
вполне подходящего на роль всеобщего эквивалента, лидийцы и
стали в конце VII в. до н.э. изготовлять свои монеты. И весьма
быстро греки оценили удобство металлических денег по сравнению
с прежними эквивалентными формами: один город за другим
теперь чеканит собственную монету.
вары, которые доставляются морем в Пирей: из Кирены — воловьи кожи
и рукоятки для мечей, с побережья Геллеспонта — солонину и
скумбрию, из Италии — рогатый скот и пшеницу, из Сиракуз — свиней и
сыр, из Египта — льняные паруса и папирус, из Сирии — ладан, с Крита
— кипарисовое дерево, из Ливии — слоновую кость; с Родоса — изюм и
инжир, с Эвбеи — овец и груши, из Пафлаеонии — сладкий каштан и
миндаль, из Финикии — финики и муку, из Карфагена — ковры и
подушки, из Причерноморья — хлеб и рабов, из Фракии — рабов»
(История древней Греции. М, 1972. С. 182).
Цивилизация и культура древних греков
35
С точки зрения эволюции древнегреческой цивилизации нам
тут важны три, по крайней мере, обстоятельства. Во-первых, этим
дан толчок к прочному выделению из совокупности торгово-
экономических занятий особых профессий, связанных с чеканкой
денег, установлением и изменением мер и весов, обменом монет,
установлением и регулированием обменных курсов и т.д. В
системе цивилизационного разделения деятельности, таким
образом, появляется и на всю последующую историю становится
особой сферой труда деятельность финансово-денежная — и потому
на всяком последующем витке истории ее видоизменение будет
неизменно включаться в качестве важнейшего элемента в понятие
«цивилизационного скачка». И отныне в хозяйственной и в
политической жизни полисов, а затем и всех последующих обществ и
государств проблема денег, финансов становится одним из
ключевых вопросов экономики и особой отрасли политики, в
конечном счете влияющей на политику в целом.
Во-вторых, влияние денег на жизнь государства и отдельного
человека — влияние весьма противоречивое, часто ведущее к
пагубным духовно-нравственным последствиям — становится
острой темой культуры, идеологии, морали и, конечно, философии.
В-третьих, вычленению и распространению всеобщего
эквивалента должны были предшествовать исторические процессы
осознания, так или иначе затрагивавшие людей, которые
участвовали в процессе обмена — но более всего тех, которые
специально обращались к проблеме духа, сознания и познания.
Человеческое сознание как таковое здесь, должно было в поистине
универсальных масштабах совершить объективное движение к
признанию каких-то товаров всеобщими «заместителями»,
символами, мерилами других товаров и — что весьма существенно —
мерилами труда, усилий, знаний, таланта и т.д., потраченных на
их изготовление. По существу это и было движение от
единичного — через особенное — ко всеобщему в одной из специфических
областей человеческой деятельности и в товарных производстве и
обмене как таковых. Поскольку же большинство людей являются
производителями, торговцами, хранителями, перевозчиками и
т.д. товаров, а все люди становятся покупателями, то такое
движение в древности, в сущности, захватывает всех. В целом оно, как
имеет обыкновение выражаться Маркс, совершается за спиной
товаропроизводителей и почти не предполагает с их стороны
выраженного в каких-то словах, понятиях глубокого теоретического
понимания. Но какое-то осознание все же должно состояться и на
уровне обыденного опыта: и тут должен был развернуться
своеобразный процесс «признания» денег эквивалентом товаров. Ведь
36
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
при всей повседневности, а в определенной степени и
неглубокой, на первый взгляд, рефлективности и обычный человек
оказывается втянутым в объективно сложный процесс символизации
и идеализации, «абстрагирования» от конкретного (единичного и
особого) качества денег во имя выделения, признания их
всеобщего (эквивалентного) значения.
Появление и распространение всеобщего эквивалента
становится, следовательно, конкретным социально-историческим, ци-
вилизационным процессом, который, по крайней мере в
триединстве отмеченных проблемных аспектов и в его
противоречивости, «вошел» в культуру, в философию в качестве
немаловажной их темы. Для философии роль своеобразного социально-
исторического стимула сыграло то, что здесь люди стали
повседневно «работать со всеобщим», пусть и воплощенным в
специфических предметах. Мы еще встретимся с другими
проявлениями этого процесса. Будем в таких случаях предельно
внимательными: тут, несомненно, кроется цивилизационный вызов,
идущий от разных сфер человеческой деятельности — научиться
пока мало известным, но уже существенно важным для всякой
цивилизации приемам работы со всеобщим именно как всеобщим.
На этот принципиальный вызов цивилизации и суждено будет
ответить зарождающейся философии.
И еще об одном обстоятельстве — пока мы не покинули
нашим воображением древнегреческого порта. Наблюдению того
путешественника, который съездил в Вавилонию или Египет
учиться математическим знаниям, деятельность многих людей в
порту — корабелов, торговцев, «финансистов» и «финансовых
управленцев», строителей и т.д. — представляется, вероятно,
своего рода прикладной математикой. Ведь здесь ежедневно и
ежечасно решается множество то весьма простых, то достаточно
сложных и спорных математических задач. Восточные, особенно
вавилонские математики-жрецы с их многовековым опытом
зафиксировали, классифицировали, обобщили, записали и в
буквальном смысле разложили по полкам своих храмовых библиотек
чуть ли не всю прикладную математику — строго
специфицированную по областям. Это было чрезвычайно полезно. Перед
лицом восточной сокровищницы прикладного математического
знания — созданного на любой типовой житейский случай —
грекам мало что остается делать. Но вот греки, научившиеся
восточной математике — некоторые из них и становятся в VII в. до
н.э. первыми философами — все больше, видно, задаются
примерно такими вопросами: а почему, собственно, плотники-
корабелы, финансисты, строители, часто решая одни и те же за-
Цивилизация и культурл древних греков
37
дачи, поступают так, будто делают нечто совершенно конкретное,
уникальное. Или скажем иначе, прибегая уже к более развитому
философскому языку: если приходится отвлекаться от сугубо
единичных случаев, решая математическую задачу, например,
для корабельного или строительного дела, то почему не пойти
дальше и не абстрагироваться от специфики каждого из этих дел,
сформулировав задачу в общематематической (всеобщей для
математики) форме? Ответ на них, через изобретение греками
всеобще-математического, математики как абстрактной науки, также
приводит их сначала к запросу на всеобщее, а затем к ответу на
запрос эпохи, т.е. к рождению философии.
Немаловажен и еще один аспект сознания и ценностей
древних греков. Как они относятся к морю, мореплаванию, морским
профессиям? Отношение древнегреческого мира к интенсивному
мореплаванию, каким оно стало уже в эпоху цивилизации,
неоднозначно, противоречиво — как неоднозначны, впрочем, и
подходы ко всему новому, что несет с собой ускоренное развитие
цивилизации. И это так понятно: море кормит греков, оно позволяет
узнавать другие страны, ввозить и вывозить товары, накапливать
впечатления и знания, увлекает в дальние странствия, открывает
мир. В случае превышения родным городом разумных, по
полисным критериям, размера и достатка морским путем можно
добраться до мест будущих колоний («вывести колонии», как
выражаются греки) и потом интенсивно общаться с ними. В
кораблестроении и морских путешествиях отрабатываются технические
новшества, применяется ориентирование по звездам. Потому так
престижны занятия кораблестроителя, кибернетеса, да и вообще
мореплавателя. Но моря — даже относительно спокойное
Эгейское море, не говоря уже о Черном, — могут превращаться в
грозную стихию, поглощающую человеческие жизни, богатства, сами
с трудом и на большие деньги построенные корабли. Море, к
тому же, часто становится ареной жестоких военных сражений, где
героев, конечно, венчает слава, но очень часто ждет гибель в
водной пучине. И потому в сознании греков уже с древнейших
времен мореплавания живет страх перед морем9. Недаром же имя
морского бога Протея — это символ изменчивости, опасности.
9 «Море было особым миром, особой стихией, считавшейся, по
выражению Плутарха, «враждебной природе человека»... Социально-психоло-
гиические предпосылки осуждения мореплавания в античности, видимо,
во многом совпадали с общими предпосылками «примитивистского»
отношения к цивилизации в целом, ко многим другим нововведениям
цивилизованной жизни. Однако именно в отношении к мореплаванию (как
38 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Но если поставить вопрос о том, какая сторона в сознании
греков берет верх — надежда на море-кормильца или страх перед
ним, — то вернее всего отдать предпочтение первой, что
особенно характерно для морских, прибрежных, городов. В древней
Греции морские полисы, как правило, более развиты, более
цивилизованы, а удаленные от моря — более консервативны. Поэтому
для древнегреческого сознания море, мореплавание, морские
профессии, несмотря на всю противоречивость, неоднозначность
восприятия, скорее выступают с положительным знаком.
Итак, древнегреческий порт позволяет нам увидеть, выражаясь
современным языком, «цивилизационный срез»
коммуникационной, обменной деятельности — вполне конкретные формы, в
которых (по крайней мере) проблемы качества, количества, меры
(здесь применительно к товарному богатству древнего мира и
сопряженной с обменом деятельности) уже стоят перед древними
греками. И понятия качества, количества, меры, переплетенные с
повседневным бытием древнегреческой цивилизации, уже
«работают» в своем совершенно особом облике — как общие
интеллектуальные формы, незримо организующие повседневный опыт
людей и неразрывно с ним объединенные. Такого рода всеобщее,
предстающее в виде особых, но для определенных сфер единых
форм, правил, принципов деятельности (например,
деятельности, связанной с подсчетом, сравнением, мерой — словом, с
количеством), мы будем называть всеобщим как суммой форм и
принципов особых видов деятельности, или, короче, всеобщими
формами предметной деятельности.
И с ними, точнее, с проблемами, обусловленными их
становлением в древнегреческом мире, мы еще не раз столкнемся в
воображаемом путешествии по древнегреческому полису.
Прежде чем переместиться воображением из порта в город в
собственном смысле, мы должны принять в расчет, во-первых, то,
что древнегреческий город нередко располагается на некотором
расстоянии от гавани. Так, из Пирея — афинской гавани — к
самим Афинам ведут семикилометровые «Длинные степы». По
существу это военные укрепления, и опять-таки немаловажно, что
возводят их и следят за их состоянием искусные мастера,
«инженеры», хорошо знакомые с античной практикой
градостроительства и фортификации. И тут, как и во всем военном деле древних
одному из самых дерзких, опасных и «развращающих» изобретений
человечества) эта негативная позиция проявилась наиболее рельефно и
остро» (Чернышев Ю. Г. Море в античных утопиях // Быт и история в
античности. С. 92).
Цивилизация и культура древних греков
39
греков, осуществляется и проходят первые испытания наиболее
продвинутые по тем временам технические изобретения, а также
новшества, выражаясь современным языком, «интеллектуальной
технологии».
Во-вторых, нельзя забыть и о том, что обычно поблизости от
гавани начинается и своеобразно «охватывает» город еще одно
важнейшее для цивилизации пространство деятельности греков
— их деревни, комы, где также складываются совершенно особые
формы цивилизованного труда, труда сельскохозяйственного.
Задержимся на этой теме — она позволит нам отчасти осветить
вопрос о том, как во вступившей на путь цивилизации древней
Греции складываются отношения между человеком и природой.
Природа древней Греции и ее цивилизация
Природа по-своему милостива к обитателям Эллады. (Правда,
Элладой этот край назвали не сразу, но более позднее название
уже прочно закрепилось в историческом лексиконе). Земля
относительно благоприятна для поселения, и недаром же, что
подтверждают археологические раскопки, люди еще в эпоху
палеолита жили в южной части Балкан, на островах Эгейского моря, на
западном побережью Малой Азии. К XX веку до н.э. относят
заселение этих районов собственно греческими племенами,
пришедшими с севера и ассимилировавшимися с местным населением.
Как раз разнообразие, смена природных условий Греции от
района к району толкали древних греков к дифференцированности
занятий. Но занятий, которые уже подразумевают изменение,
преобразование, а не простое «потребление» данного природой.
В Северной Греции гористый Эпир был приспособлен к тому,
чтобы разводить молочный скот, а плодородная равнина
Фессалии как бы диктовала хлебопашество, разведение садов и
виноградников, выращивание лошадей. В Средней Греции Аттика с ее
прославленными Афинами — местность, удобная для
судоходства, богатая сырьем — стала благоприятной сферой деятельности
для моряков, торговцев, ремесленников. Многочисленные
острова, окружавшие материковую Грецию, в древние времена
чрезвычайно облегчали судоходство и торговлю. Южная Греция (или
Пелопонесс) в те века была лесистым нагорьем, где на побережье
и на равнинах сеяли хлебные злаки — ячмень и пшеницу. Итак,
дальнейшее развитие Афин как земледельческой и одновременно
торгово-ремесленной («промышленной», по тогдашним меркам)
державы и развитие Спарты на преимущественно
земледельческих основах — этот «разброс» линий развития древнегреческой
40
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
цивилизации в самом начальном пункте опирался и на
природные предпосылки.
Но в целом древняя Греция, со временем превращенная ее
народом в обетованную землю, изначально не была земным раем. В
то время в мире было немало заселенных людьми краев, где и
земли были плодороднее, и климат ровнее, и полезных
ископаемых больше. Но ничего подобного «греческому чуду» там не
случилось именно потому, что довлело себе варварство. А вот
древние греки не совершили очередного переселения, что сделали бы
в условиях варварства.
Они остались на этой земле, полюбили, преобразовали ее. На
смену раннему варварскому истощению природных богатств
пришли рожденные поздним варварством и ранней
цивилизацией способы окультуривания, облагораживания природы,
умножения ее даров. Теперь представим себя своего рода
наблюдателями за сельскохозяйственной деятельностью эллинов в
интересующую нас пору классической древности.
Древним грекам приходится преодолевать немалые
трудности: действительно плодородных почв на их каменистой земле
мало; целые районы страдают либо от засухи, либо (на севере) от
дождей, гроз и снежных бурь; покрыты труднопроходимыми
лесами. В целом хороши условия для мореходства, но многие
прибрежные поселения лишены удобных естественных гаваней.
Одним словом, освоение, облагораживание земли древней Греции
дается ее народу потом и кровью, что, видимо, не в последнюю
очередь закаляет характер греков, воспитывает в них
изобретательность и сноровку.
На такой земле нельзя добиться выдающихся успехов при
чисто потребительском отношении к природе. Только переход от
варварства к цивилизации — переход к новым способам
хозяйствования, жизнедеятельности, словом, всего бытия людей — делает
возможным расцвет этого края, поистине выдающиеся успехи
постепенно формирующегося греческого народа. Значит,
цивилизация при всей ее противоречивости изначально предполагает не
истощение, а умножение богатства природы, преобразование и
украшение прежде нежилых земель. Если принципом
жизнедеятельности людей в эпоху варварства (исключая разве его
позднюю, предцивилизационную стадию) было: обирая природу,
быть непосредственно зависимыми от нее, то принцип
цивилизации состоит в следующем: окультуривая, облагораживая,
преобразуя природу, по крайней мере смягчать зависимость человека
от природных данностей и стихий. Но при этом, несомненно,
зарождается противоречие цивилизации, чреватое далеко идущими
Цивилизация и культура древних греков
41
последствиями. Варвар наступает на природу, обирает ее, но
возможности его вмешательства в природу еще относительно
невелики. Цивилизованный человек, окультуривая природу,
вмешивается в природу все более мощно —■ и потому цивилизация с ее
культурно-облагораживающими тенденциями также
периодически порождает экологические конфликты, из которых
современный, видимо, самый серьезный и широкий. Но на заре развития
цивилизации в европейском регионе трудолюбивому,
талантливому народу древней Греции удается совершить настоящее чудо
— дикий, засушливый и прежде пустынный горный край (при
варварстве, видимо, подошедший к пределу экологического
истощения) за несколько веков превращается в цветущую землю с
красивейшими городами, с интенсивной системой
хозяйствования, позволяющей грекам составить конкуренцию более древним
и развитым центрам восточной цивилизации, с разнообразной,
бурной политической жизнью, приводящей к опробованию
новых — что наиболее ценно, демократических — форм политики.
Сельское хозяйство древней Греции в классическую эпоху уже
использует рабство. Но покоится оно на «парцеллярной», то есть,
мелкой частной земельной собственности, собственности на
достаточно простые орудия земледельческого труда и на самом
труде свободного собственника и его семьи. Немногочисленные рабы
— один, два человека на семью — в сельском хозяйстве служат
вспомогательной силой. Труд же свободного собственника на
земле выгоден для общества — он эффективен и продуктивен, а
потому достаточно престижен.
Греки долго и безуспешно бились над тем, чтобы научиться
выращивать на своей неплодородной и засушливой земле лучшие
хлебные злаки. Но потом они сообразили, что для повседневного
хлеба — лепешек грубой выпечки — достаточно определенного
количества не слишком продуктивных местных сортов ячменя и
пшеницы. А для «парадной» выпечки излюбленных — неизменно
художественно оформленных — хлебов, булочек, фигурных
кренделей использовались, как правило, привозные хлебные
злаки. В классическую эпоху греки расчетливо и рачительно
выращивают, для внутреннего потребления и экспорта, особенно
хорошо произрастающие на их земле культуры — главным образом
оливы, виноград, финики, яблоки, груши.
Представим себе типичное — как правило,
высокопродуктивное хозяйство древнегреческого виноградаря. Он, его семья и,
возможно, пара рабов трудятся от зари до зари. (Правда, хозяин
дома время от времени выезжает в близлежащий город — в гавань
или на агору, для продажи вина и покупки нужных семье това-
42
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ров, а также для участия в политической или культурной жизни
полиса). Сорта винограда (их в Греции выращивается более
сотни) приспособлены к особенностям почвы и климата
соответствующего района. Впрочем, греческие виноградари весьма
искусны в таком тонком деле, как удобрение земли под виноградную
лозу: нужно вносить удобрения так, чтобы не повредить аромату
вина и в то же время достигнуть на неплодородном от природы
участке наибольшей продуктивности. Виноградарство тоже
является своего рода «прикладной математикой»: греки
рассчитывают, как наиболее рационально разместить на своем участке земли
побольше виноградных лоз; как прорыть траншеи нужной
глубины и наилучшим образом заглубить лозу; как лучше
разместить многие амфоры с вином и, потребляя его повседневно и
продавая на рынке, «растянуть» излюбленный напиток вплоть до
будущего урожая. Грек-виноградарь внимателен ко всяким
новшествам, которые позволяют поднять урожайность винограда,
качества сорта; его живо интересует пусть медленно, но все же
усовершенствующаяся техника виноградных давилен. (Сходные
черты труда и психологии земледельца мы могли бы наблюдать,
если бы взяли в качестве примера разведение олив).
Существенно и то, что виноградарство (подобно всякому
другому сельскохозяйственному делу) органически вписано в
повседневную жизнь древних греков, в их цивилизацию. Поскольку же
речь идет о «пьянящей» продукции, об этом следует сказать
особо. Легкое (в основном, красное) вино — повседневно
потребляемый греками продукт. Заслуживает удивления не только то, что
новое или выдержанное вино на протяжении веков
«бездефицитно» поставляется виноградарями к столу соотечественников,
вывозится в колонии, где греки также сохраняют свои традиции и
обычаи. Но и то, что греки успешно вписывают потребление вина
в свою трудовую цивилизацию. Конечно, и им известно такое
явление, как пьянство, чему есть свидетельства в литературе,
вазописи, изобразительном искусстве. (Проблемы пьянства и
цивилизованного потребления вина порою обсуждают и философы,
например, Платон). Однако при том, что вино повседневно подается
к столу (даже рабам полагается выдавать более полулитра вина,
конечно, сортом попроще), древних греков никак нельзя назвать
пьянствующим народом. (А это, как мы знаем на нашем опыте,
тяжелейшее бедствие и одно из существенных препятствий на
пути цивилизования страны). Более того, сделано все, чтобы
потребление вина само сделалось процессом цивилизованным.
Даже свое легкое вино греки обыкновенно пьют разбавленным
(добавляют воды или льда из ледников). Главное же, что вино, не-
Цивилизация и культура древних греков
43
изменный спутник будничных трапез и торжественных
празднеств и пиров, служит никак не самоцелью, а скорее приятным
сопровождением того, что грек, пожалуй, любит больше всего —
дружеской беседы, поддержания обрядов и обычаев,
воспоминания о предках и т.д. Пьют не только виноградное, но и плодовое
вино (и, пожалуйста, мои соотечественники, устраните
неприятные ассоциации: вино это искусно делается из превосходно
возделываемых садоводами древней Греции фиников, яблок, груш,
которые составляют также часть совершенно обычного,
повседневного рациона питания любой семьи).
Можно было бы и дальше путешествовать по древнегреческим
комам. Но и того, что мы уже «увидели», достаточно, чтобы
составить общее представление о прочных сельскохозяйственных
основаниях восходящей древнегреческой цивилизации.
«Нижний город»
Теперь же переместимся воображением в нижний город.
«Нижний город» — прежде всего часть быта и труда горожан
города, где построены основные жилые дома. Его заселяют
ремесленники, купцы, иногда — земледельцы. В VIII—VII вв. жилые
кварталы полисов Греции, вероятно (об этом спорят
специалисты), еще не имели строгой планировки. Но с VI—V в.в. до н.э. и
они, как правило, приобретают вид строго упорядоченных
ансамблей — сетки улиц, где имелось несколько крупных городских
магистралей, пересекающихся друг с другом под прямыми
углами. Между ними располагались узкие улочки. Ширина
центральных улиц вдвое превышала ширину менее значительных
улочек. Пересечениями улиц образовывались прямоугольные
узкие кварталы. Длина их варьировалась от 60 до 800 м, в то время
как ширина к кварталов была стандартной — 86 м.10 Для того,
чтобы построить или перестроить город, включая жилые
кварталы, по строгому геометрическому плану, нужно производить
довольно сложные процедуры обмеров, размежевки территории,
разбивки ее на участки прямоугольной и квадратной формы, что,
кстати, как и всякая землемерная работа, также становится
областью древнегреческой «прикладной» математики и в то же время
сферой занятий «специалистов» особого типа.
Через тысячелетия история сохранила скорее остатки верхних,
а не нижних городов. Что неудивительно — ведь именно храмы
10 Долгоруков В. С. Градостроительный план Фурий // История культуры
античного мира. М., 1977. С. 50—51.
44
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
полагалось строить на века. Жилые постройки были куда
недолговечнее, несравненно скромнее. Если мы, опираясь на
исторические свидетельства и специальные исследования п, сравним
греческие жилища и жилые кварталы, например, с египетскими или
вавилонскими, то как раз и сумеем представить себе, что
заимствовали путешествовавшие «за знаниями» на Восток и от чего
отказались именно в гражданском жилищном строительстве
греческие архитекторы, «инженеры» и мастера строительных дел.
Греков, несомненно, роднит с финикийцами, вавилонянами,
египтянами то, что, начиная с глубокой древности и до классического
периода, в обоих регионах, восточном и европейском, храмы и
другие культовые сооружения стали самыми величественными и
прекрасными в городе. (Мы потом коснемся и вопроса о
существенных различиях в культах и культуре двух цивилизаций).
Гражданские сооружения, жилища и в Египте, и в Греции явно стоят
на втором плане. Такова общая черта тогдашней (а во многом и
последующей) мировой цивилизации. Однако значение и смысл
«второго плана» в обеих цивилизациях существенно различны.
Закон древневосточной цивилизации — создание убогих
жилищ даже для свободных людей, не говоря уже о рабах.
Специалисты по истории архитектуры порой акцентируют внимание на
том, что бедность обычных жилых помещений диктовалась
особенностями природы, климата Египта и природных
строительных материалов: для подавляющего большинства населения в
теплом краю строились скорее не дома, а хижины со стенами из
необожженного кирпича, плоской кровлей, узкими, похожими на
бойницы окнами12. Но то, что население Египта на протяжении
тысячелетий довольствовалось, в сущности, весьма убогими
условиями для повседневной жизни, более объясняется не
природными, а социально-историческими причинами, особенностями в
других отношениях довольно развитой древневосточной
цивилизации и, конечно, соответствующими
религиозно-нравственными, мировоззренческими установками. Они вменяли простому
египтянину в «святой» долг покорно терпеть и деспотизм
фараонов, их приспешников, и безусловную власть жрецов над поступ-
11 В нашей стране огромный вклад в изучение возникновения и
видоизменение античного города — изучение, основанное на тщательной
обработке археологических и иных данных, — внесли антиковед-историк
В. Д. Блаватский и ученые его школы.
12 «Пальмовое дерево может выдержать тяжесть кровли лишь при
условии небольших пролетов: этим объясняется устройство узких комнат,
похожих на коридоры» (Шуази О. История архитектуры. М., 1935. С. 58).
Цивилизация и культура древних греков
45
ками и помыслами, и жесточайшую эксплуатацию в процессе
труда, часто ставившую на одну доску свободных и рабов, и —
что тесно с этим связано — неустроенность, бескомфортность
повседневного быта. Неудивительно, что беспорядочно, стихийно
возникавшие жилые кварталы восточных городов так резко
контрастировали со строгой упорядоченностью, величественностью
форм храмов, пирамид, дворцов верховных властителей и знати.
Впрочем, и роскошь жизни древних восточных властителей, их
несметные и все накопляемые богатства полагалось прятать от
глаз простых людей13.
Наблюдая за этими бросающимися в глаза особенностями
повседневного быта, то есть важнейшими чертами многовековой
восточной цивилизации, греческие градостроители, вероятно,
возвращались из путешествий не только с богатым
градостроительным опытом, но и с желанием коренным образом
модифицировать его применительно к новым запросам и ожиданиям
своего народа. И существенные изменения произошли, хотя для их
понимания судить о древнегреческом жилом городе, его быте
надо не на основании современных представлений о комфорте,
чистоте, удобствах, ибо тогда и проявляются так нередко
встречающиеся в исторических сочинениях уничижительные,
применительно к древнейшей истории необъективные оценки.
А на тогдашней стадии развития цивилизации существенное
новшество состоит уже в том, что греческие градостроители
вообще вознамерились создать и особый тип городского жилища,
который они не случайно считали достойным человека, и тип
городской жизни, отмеченный специальной заботой о комфорте,
удобствах, труде, быте массы рядовых — но, конечно, только
свободных, полноправных — граждан полиса. И опять-таки очень
важно для понимания генезиса и характера первоначальных
форм европейской философии поворот цивилизации и для
древнейшей истории весьма значительный поворот к новой мере
человечности, свободы. Изменения быта, повседневной жизни,
которые повороту сопутствовали и его выражали, никак нельзя не-
13 «Египтянам чужды монументальные фасады, свидетельствующие о
богатстве и роскоши жилищ: народы Востока боятся возбудить зависть,
выставляя роскошь напоказ. Даже дворцы выходят на улицу глухой стеной;
самое большое — портал двери бывает орнаментирован, его
фланкируют башенки, служащие, впрочем, скорее для обороны, нежели для
украшения» (Шуази О. Цит. произв. С. 58).
46
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
дооценить. Об этом свидетельствуют хотя бы раскопки жилых
кварталов Смирны или Милета 14.
Попробуем вообразить себе, каким мог быть греческий город в
архаическую (VII—VI вв.), а потом и классическую эпоху (V—IV вв.
до н.э.). Скромные по сравнению с величественными храмовыми
и гражданскими зданиями, жилища свободных греков тем не
менее достаточно просторны и благоустроенны. Например (о чем
свидетельствуют раскопки), в домах рядовых жителей полиса
нередко имеется водопровод. «Города в Греции, — отмечает
Г. С. Кнаббе, — были, как правило, хорошо обеспечены водой и
для бытовых нужд и для общественного комфорта. Доставленная
водопроводами вода поступала в открытые бассейны, а так как
последние располагались по естественному рельефу местности и
соединялись между собой трубами, то она свободно
перемещалась из вышележащих районов в нижние и обеспечивала весь
город» 15. И хотя масштабы водоснабжения, размах и престиж
специальных водоснабженческих городских служб в греческих
городах не идет ни в какое сравнение с тем, что было впоследствии в
Риме, все же внимание греков к этой простой, но очень важной
стороне цивилизованности было, в свою очередь, несравнимым с
тем пренебрежением к быту, чистоте, санитарии, которое
господствовало в тогдашних восточных городах. Вот почему в
социально-философских трудах при освещении проблем повседневной
жизни полиса и разделения труда в обществе всегда выделяются
(что, скажем, делают в своих трудах Платон и Аристотель)
функции «ответственных за источники воды» 16, которые должны
следить, «чтобы она была чистой и служила украшению и пользе
города» 17. И это — не частная деталь. Платон формулирует
проблему кратко и точно: в древнегреческом полисе многие виды
повседневной деятельности сознательно направляемы к
«украшению и пользе города», в том числе и скромных, но добротно-
простых, удобных, словом, достойных жилищ свободных граж-
14 «Это были небольшие постройки из нескольких по большей части
прямоугольных, комнат... Резкого различия между жилищами более
богатых и менее зажиточных граждан в это время, по всей видимости, не
наблюдалось. Основанием домов служили каменные цоколи, а стены
обычно возводились из сырцового кирпича с горизонтальными
деревянными прокладками. Из дерева делали также столбы, двери и стропила
кровли. Крышу покрывали глиняной черепицей». История древней
Греции. М., 1972, с. 138.
is Кнаббе Г. С. Цит. произв. С. 74.
16 Аристотель. Полития, VI VII, 1321 в.
17 Платон. Законы. VI, 763.
Цивилизация и культура древних греков
47
дан. Следует, вместе с тем, отметить, что характерная черта
древнегреческого жизнеустроения, — в отличие от нравов римской
античности — состоит в весьма спокойном, разумном и простом
отношении греков к своему повседневному быту, к жилищу и
костюму, к предметам обихода. Всему этому полагается, согласно
ценностям древних греков, особенно в классическую эпоху, быть
удобным, комфортным, свободным от излишеств, достойным, но
не показным, изящным, красивым, но не роскошным, простым,
пригодным для динамичной, «у всех на виду», открытой
полисной жизни. Эта типично греческая особенность повседневной
жизни постепенно приходит на смену нравам гомеровского и
архаического времени. Фукидид показывает, что греки постепенно
переходили от сурового, полувоенного «варварского» быта —
когда подражали восточным образцам и когда показная роскошь
резко контрастировала с нищетой — к более «умеренному» (в
классическую эпоху) и типично греческому способу жизни. «В те
времена, — пишет Фукидид сначала о древнейшей Греции, — вся
Эллада носила оружие, ибо селения были неукреплены, да и пути
сообщения были небезопасны, и поэтому жители* даже и дома не
расставались с оружием подобно варварам. Те области Эллады,
где такой быт еще сохранился, служит явным доказательством
тому, что подобный жизненный уклад некогда существовал и во
всей Элладе. Афиняне прежде других перестали носить оружие в
мирное время и в условиях спокойствия перешли к более
простому образу жизни. Только недавно пожилые люди из
состоятельной среды оставили такое проявление изнеженности, как
ношение льняных хитонов и сложной прически, закалываемой
золотыми булавками в форме цикад... Лакадемоняне первыми стали
носить простую одежду нынешнего времени, и у них люди более
состоятельные вели по большей части образ жизни одинаковый с
простым народом» 18. Верно, что спартанская жизнь отличалась
наибольшей в Греции аскетичностью, но вовсе неслучайно мода
на простые прически, на скромные одежды, на открытое глазу
тренированное тело, на элементарно удобный быт,
нероскошный, не обремененный лишними предметами и благами, именно
в интересующий нас период получает общегреческое признание.
«Наблюдая» в нашем воображаемом путешествии за
повседневными жизнью и бытом горожан, мы никак не должны выпустить
из виду прирожденное стремление греков окружать себя
ладными, функционально-удобными и в то же время красивыми, изящ-
Фукидид. История. Л., 1981. С. 7.
48
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ными вещами. Кстати, и вещами яркими, красочными. Сейчас,
когда развалины древнегреческих городов в основном предстают
перед нами обесцвеченными, трудно себе представить, что
цивилизация греков была «цветной»: не только храмы, статуи, но и
жилые дома, помещения внутри домов ярко и изыскано
раскрашивались. Не могу не упомянуть о цветах — с их разведением и
широким распространением тесно связан прогресс
древнегреческой цивилизации. А поскольку подобные же процессы
происходят и на Востоке — в древних Индии, Китае, Иудее, Персии, —
сады, цветники, парки становятся зримым и ярким
опознавательным знаком высокой цивилизованности, благоустроенности и
комфортности жизни. (И наоборот, вытеснение цветов и парков
бурьянами и свалками есть явный признак одичания). Греки
искусно выращивают множество так хорошо известных сегодня
цветов: гвоздики, гиацинты, дельфиниумы, камелии, левкои, лилии,
незабудки, нарциссы, маки, маргаритки, пеоны, примулы, розы,
фиалки и многие другие. Недаром же многие цветы названы
греческими словами — как «ирис» (радуга) или «флокс» (пламя).
Любовь греков к растениям, цветам выражается и в том, что
стилизованные растительные узоры часто встречаются в
архитектуре, в интерьере — например, в расписной штукатурке, в
вазописи. Необыкновенный расцвет цветоводства и паркового хозяйства
в древнем Риме был прямым продолжением также и греческих
традиций. Быт города соответствует жизнедеятельности греков,
формирующим новый тип цивилизации — цивилизации более
динамичной, комфортной, но простой, более демократичной, до
поры до времени отдававшей приоритет духовным благам и
законам красоты, а не, выражаясь современным языком,
«престижному потреблению», полисным достижениям и победам, а не
чисто индивидуальному материальному успеху. (Фукидид,
кстати, вполне прав, связывая чисто бытовые, казалось бы, перемены с
существенными изменениями, касающимися вопросов войны и
мира — к этим кардинальным проблемам мы еще вернемся).
Такой тип повседневной жизни соответствует возрастающему циви-
лизационному значению, престижу труда. Кстати, и его, следуя
критериям последующих эпох, нередко называют
«примитивным». Однако, в соответствии с конкретно-историческими
мерками Той эпохи, в труде греков и в том, как они понимают его
значение и сущность, нельзя не увидеть существенных по
сравнению с прошлым цивилизационных сдвигов. И недаром же тема
труда, трудового действия, пропаганда деятельного, активного
образа жизни становится профилирующей темой античной куль-
Цивилизация и культурд древних греков
49
туры и, как мы потом увидим, особой темой социальной
философии.
Теперь же в нашем воображаемом путешествии по
древнегреческому городу давайте представим себе ту сторону трудовой
деятельности жителей полиса, которая связана с производством и
обменом товаров — на первых этапах, в архаический период,
чаще для внутреннего потребления полиса, а потом, в эпоху
классики — и для экспорта в другие страны и регионы известного
грекам, ими освоенного мира. Мы попадаем, таким образом, в ту
часть нижнего города, где расположены кварталы
древнегреческих ремесленников.
Древнегреческое ремесло и его парадигмы
Главные фигуры древнегреческого товарного производства -
ремесленники высокой классификации, мастера и их
помощники, свободные люди. Их называют «демиургами», и недаром это
слово, в котором объединяются представления о неустанном
высокопроизводительном труде, творчестве, новаторстве,
впоследствии стало прилагаться к самому божеству и к акту
«божественного творения». Ремесленники-металлурги и кузнецы изготовляют
орудия сельского хозяйства (плуги с железным лемехом, железные
кирки, мотыги, серпы, заступы, лопаты, специальные, именно
греками изобретенные ножницы для работы в садах и
виноградниках). Греки — ремесленники, опираясь, видимо, на опыт и
выдумку земледельцев, вообще вносят в простые инструменты
сельскохозяйственного труда немало интересных новшеств. И потому
греческие инструменты бойко раскупаются на международном
рынке. Высокого искусства добились кузнецы, создающие
вооружение — мечи, кинжалы, копья, железные панцири и шлемы,
стрелы с металлическими наконечниками и т.д. Греческие
кузнецы, изготовляющие вооружение, по существу делают его для себя
и других демиургов — ведь во время войны они составляют
основную массу ополченцев (тяжеловооруженных — гоплитов — и
легковооруженных воинов).
В архаическом полисе превалируют мелкие ремесленные
мастерские. Это значит, что в них работают сам демиург, его
подмастерья и несколько (примерно от 5 до 80) рабов, в основном,
выполняющих подсобные функции, но иногда непосредственно
участвующие в процессе ремесленного производства почти «на
равных» со свободными. Мастерские примерно с 100—120
работами принадлежат к числу самых крупных. И нас вряд ли удивит,
что наиболее мощным и развитым является древнегреческое «во-
50
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
енное производство» — изготовление вооружения, создание
военных кораблей. Весьма престижными считаются профессии
«металлургов», кузнецов, плотников, корабелов, строителей; менее
почетным в глазах греков выглядит ремесло тех, кто обрабатывает
глину, кожи и шерсть, делает из них разные товары. «Ниже всего»
на иерархической лестнице занятий стоят работающие по найму
у частных лиц — кормилицы, повара, другая прислуга. Однако
нельзя забывать, что свободный грек, ремесленник и работник, по
сути дела независимо от рода занятий является важной и в целом
уважаемой фигурой в городе — с ним как самостоятельной
политической фигурой мы еще встретимся, когда станем конкретнее
знакомиться с политической жизнью города-государства.
Рабовладение в архаической Греции существует, но оно еще не
приобретает того размаха, который был характерен для
последующих столетий, особенно для так называемой «эллинистического»
периода истории (III—I вв. до н.э.). Но уже примерно к V в. до н.э.,
т.е. в классическую эпоху, греки «входят во вкус» рабовладения,
перелагая на рабов и неполноправных жителей полиса не только
самый тяжелый труд, как было и раньше (например, в рудниках,
каменоломнях, где, кстати, чаще всего «вкалывали»
государственные, а не «частные» рабы), но и вообще «грязную» рутинную
работу. Основанием производства товаров, то бишь ремесла, долгое
время служит труд свободных людей и, соответственно, свободно
же устанавливаются критерии высокого качества. Потому-то по
мере развития своей цивилизации греки вносят немало
интересных новшеств, обеспечивающих конкурентноспособность их
товаров.
Пользуются большим спросом, а особенно со стороны греков,
выселившихся в колонии, удобные кожаные сандалии; для их
наибыстрейшего и экономного раскроя придуманы простые, но
эффективные ножи полукруглой формы — они, кстати, тоже
популярны на международном рынке. Ценятся легкие греческие
ткани, сделанные из них простые и в то же время изысканные
одежды, ставшие стандартным греческим нарядом. Греки
додумались использовать для шитья железные иглы вместо костяных.
Впрочем, шитье искусно сочетается в костюме со свободной
драпировкой одежды из куска цельной ткани. Вот она, важная черта
греческой, а вместе с тем и всей последующей мировой
цивилизации: забота о мелком и простом — о повседневной жизни и
быте, где производство, ремесло строится на фундаменте
добротного, инициативного труда — у греков же и высокого искусства.
Можно было бы, совершая воображаемое путешествие по
нижнему городу, «остановиться» в любом ремесленном квартале,
Цивилизация и культурд древних греков
51
чтобы уяснить цивилизационные черты ремесла, то бишь
«промышленности» древних греков. Но давайте «задержимся» в
кварталах гончаров, которые в Коринфе и Афинах носят название
«Керамик» (от него продукты гончарного ремесла впоследствии и
получили название керамики).
Но прежде всего одно уточнение относительно исторического
материала, которым будем пользоваться. История
древнегреческой керамики издавна занимала почетное место, но по большей
части она вписывалась в историю искусства, для чего,
несомненно, было немало оснований. Отметим: многое из того, что греки
делали для своей повседневной жизни, возможно, не полагая, что
действуют как художники, вошло, и с полным правом, в
сокровищницу человеческого искусства. И древнейшие вещи,
продукты ремесла — такие, например, как древнегреческая
керамическая посуда — доступны нам почти исключительно как музейные
экспонаты19. Вот почему в исторических сочинениях для наших
целей полезны, конечно, главы о керамике в обычных сочинениях
по истории искусств, но особенно интересны такие изыскания,
авторы которых как бы предлагают «мысленно изъять греческие
сосуды из музейной экспозиции»20, представить их, насколько
позволяют факты и, конечно, воображение, в контексте реальной
жизни тех, кто их делал и кто ими пользовался. Кстати, потом мы
на примере керамики сможем прояснить тонкое и подвижное
различие между цивилизацией и культурой, искусством, которое
до сих пор оставалось в тени и которое далее станет для нас все
более существенным. Ибо философия, как было отмечено,
возникает не раньше, нежели на общих цивилизационных корнях
вырастет и разовьется духовная культура, культура в более узком
смысле слова, уже не тождественная духовно-культурной
компоненте цивилизации.
Керамика прежде всего интересует нас здесь как предмет
повседневного обихода, как один из видов товаров, производимых
греками, и как продукт специфического вида деятельности. Пер-
19 «....Сосуд, предмет быта ставится под стекло на отдельном постаменте,
получает инвентарный номер и табличку и все прочие атрибуты
неприкосновенного Предмета Искусства, предназначенного для того, чтобы на
него смотрели с известной дистанции, и тем самым неизбежно
оказывается в одном ряду со станковой картиной, а категория древности
незаметно подменяет критерий качества». См.: Брагинская Н. В. Надпись и
изображение в греческой вазописи // Культура и искусство античного
мира. М: ГМИИ, 1979. С. 41^12.
20 Там же. С. 42.
52
H. В. Мотгошилова «Работы разных лет»
воначальное развитие этой деятельности происходит уже в эпоху
варварства. Как и всякое иное животное, человек поддерживает
свою жизнь тем, что питается и сначала находит себе пропитание
в природе. Но уже с того момента, как появилась, особенно вместе
с получением огня, именно человеческая — вареная, жареная,
вообще специально приготовленная, заготовляемая и хранимая
впрок — пища, человечество должно было озаботиться о таких
простых и таких нужных предметах обихода, как посуда. В силу
естественных свойств глины, рано обнаруженных человечеством,
в разных регионах его обитания появилась глиняная (а потом,
когда человек научился работать с металлом, и металлическая)
посуда. Греческие ремесленники, конечно, не были изобретателями
глиняной посуды; не они придумали формы вазы, кувшина,
кубка — человечество впервые «изобрело» их, видимо, за несколько
тысячелетий до греков.
Что же тогда особо выделило греческую керамику, на века
прославило ее создателей (независимо от того, имеются ли на
сохранившейся до наших дней керамике подписи, сигнатуры, или
имена творцов остались неизвестными)? Прежде всего, греческую
керамику отличает высочайшая бытовая функциональность.
Если роскошные сосуды, встречающиеся в египетских
захоронениях, создавались, как правило, для погребальных целей, то 1реки-
гончары, которые не могли не знать о восточных образцах и не
учиться на них, решительно поворачивают свое ремесло в
сторону быта, потребностей повседневной земной жизни. Амфора —
слово, которое сегодня стало символом красоты, совершенной
формы — была, не забудем этого, вполне обычным предметом,
сосудом для масла и вина (а то и другое, вспомним, греки, где бы
они ни жили, потребляли повседневно). Изысканно-благородная
по своей форме, амфора в то же время и предельно
целесообразна. Неудивительно: ведь греки целые столетия искали
оптимальные пропорции, соотношения, размеры, пока нашли
классическую «парадигму» — образец амфоры. (Конечно, парадигмы —
при всей определенности меры, т.е. качественных и
количественных характеристик, допускали достаточно широкое
варьирование размеров и некоторых пропорций. Например, ремесленники
удлиняли горло амфоры, расписывая его орнаментом, и так были
получены изящные сосуды, которые у исследователей получили
название хальс-амфоры, от нем. Hals, горло). Обратим внимание
на этот момент: цивилизация до определенного периода
предполагает неустанный поиск соотношений, пропорций, линий,
придающих предмету — в соответствии с его функциональным
назначением — оптимальную форму, удобство использования и
Цивилизация и культурд древних греков
53
другие утилитарные, в высоком значении этого слова, качества.
Но поиск не ограничивается реализацией функционально-
утилитарных целей. Давно заметив, что тем или иным
пропорциям соответствует наиболее благородная, изящная форма, мастера
ставят перед собой и эстетические задачи — найти единство
красоты и пользы. Что относится не только к грекам, не только к
античности. Можно смело утверждать: законом каждого взлета,
скачка цивилизации является такая новаторская деятельность,
благодаря которой рождаются более удобные, более
целесообразные, «разумные» бытовые предметы, создание которых
подчинено и обновляющимся эстетическим принципам. Греческая
керамика — убедительный и далеко не единственный тому
пример.
Есть еще одно существенное обстоятельство: когда такие
оптимальные функционально-эстетические парадигмы той или
иной деятельности найдены, то соответствующие предметы,
удобные и красивые, можно изготовлять в более массовых
масштабах, что делают уже не только и не столько мастера-новаторы.
Парадигмы как бы поступают в тот фонд предметных форм
цивилизации, который она обращает ко всем людям и каждому из
них, причем формы некоторых предметов — и посуда среди них
— затем меняются относительно мало, ибо уже на ранних стадиях
цивилизации найдены рационально (таковы также формы
столов, стульев, лож, колес, словом, многих предметов утвари; такова
общая форма, структура крестьянского дома, которую О.
Шпенглер называл его более или менее устойчивой «породой» и
отличал от исторически изменчивого «украшения», «орнамента»).
Когда же функционально-эстетическая модель найдена достаточно
целесообразно, она становится доступным использованию
образцом; ее нетрудно выразить в виде единства качественных
характеристик и количественных соотношений. Итак, несколько
варьирующаяся мера — единство качества и количества —
воплощается и в предметах, принимаемых за образцы-шедевры, и в
инструктивных знаниях, включающих материальные навыки и
указания-принципы, т.е. своего рода «интеллектуальную технологию».
Сказанное здесь о форме амфоры относится, разумеется, и к
другим сосудам, формы которых если не в буквальном смысле
изобретены, то во всяком случае существенно преобразованы
греками и потому считаются «их» вазами — это относится к кратеру
(широко открытому сосуду, предназначенному для смешивания
воды и вина), гидрии (сосуду для воды, к которому прикрепляли
третью ручку, чтобы носить его порожним в «лежачем» положе-
54
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
нии), килику (плоской чаше с двумя ручками, из которой пили
вино) и т.д.
Последим за трудовым процессом, результатом которого
становятся знаменитые греческие вазы. Изготовление гончаром
изделия из глины, соответственно его будущему назначению и
согласно канонам, определяющих оптимальные формы и
пропорции, — только начало работы над вазой. После этого «заготовка»
— и очень быстро — поступает к вазописцу, если только гончар и
вазописец не совмещаются в одном лице, что в архаическое время
встречалось нередко. Но в классической Греции в керамике, как и
в других областях деятельности, более распространены
разделение труда, специализация профессий мастера-гончара и вазопис-
ца. Однако тогдашняя технология и требования единства формы,
материала и изображения предполагают тесное сотрудничество
мастера и художника21. Впрочем, гончар Греции — с присущим
ему мастерством, чувством формы, гармонии, пластики — часто
тоже своего рода художник. Часто, но не всегда. Поистине
выдающиеся мастера-художники все же встречаются сравнительно
редко. Поскольку мастера-гончары и вазописцы нередко ставят
свои подписи на сосудах, изделия с именами некоторых из них
дошли до наших дней: в чернофигурной керамике — кратер
Клития и Эрготима (VI в. до н.э.), в краснофигурной — ваза
работы Евфрония (V в. до н.э.), несколько творений которого имеется
в музеях мира и т. д. Однако достаточно массовое явление —
новаторство греческих ремесленников. На пути новаторства и
возникли два типично греческих стиля — чернофигурная и краснофи-
гурная керамика. Пролагали новые пути мастера-пионеры; и
совершенно правы те исследователи, которые подчеркивают особое
единство, взаимосвязь гончарного и вазописного дела, ремесла и
искусства в периоды, отмеченные поистине революционным
преобразованием общих парадигм деятельности керамистов.
«Достижением вазописи VI в. до н.э. является то, что каждое новое
открытие в штудиях анатомии тела немедленно подхватывалось
большинством мастеров, и все они, за исключением наиболее
21 «Вполне возможно, что гончар и вазописец имели предварительное
соглашение относительно сюжетов росписи и их расположения на кратере.
После того как ваза покидала гончарный круг, времени на эскизы и
разработку композиций оставалось немного. Каждая ваза, законченная
гончаром, должна была быть расписана как можно быстрее, чтобы ее можно
было обжечь до того, как она, высыхая, начала бы трескаться по линиям
нанесенного рисунка». См.: БотмерД.фон. Кратер Евфрония из Нью-
Йорка (Аттический вазописец и его время) // Культура и искусство
античного мира. М.: ГМИИ, 1980. С. 127.
Цивилизация и культурд древних греков 55
консервативных и отсталых, оказывались вовлеченными в
художественное течение, сносившее одну за другой все отмиравшие
условности на своем пути к познанию реальности. Смена черно-
фигурной техники краснофигурной ускорила этот процесс, и в
результате в последние два десятилетия VI в. до н.э. техническое
мастерство краснофигурной росписи в соединении с более
полным пониманием человеческой анатомии создало школу
вазописи, представляющуюся некоторым исследователям вершиной
этого искусства. Эта школа, называемая группой пионеров за ее
кардинальные открытия, процветала в то же самое время, и, конечно,
не случайно, что когда гончары изобретали новые формы ваз,
контакты между ними и вазописцами были столь тесны и всесто-
ронни, как в никакой другой период развития вазописи» п.
Вазопись — пример высочайшего развития в древней Греции
«прикладного искусства». В то время как большинство расписанных
ваз поступает в повседневный обиход греков, некоторые сосуды,
представляя уже самостоятельную художественную ценность,
становятся прежде всего или исключительно предметами
искусства. И здесь вазопись, соединенная с изысканностью формы
сосуда, постепенно начинает отделяться от «сугубого» ремесла.
Вазопись и тесно связанные с нею надписи на вазах ^ — целый
интеллектуально-художественный мир. Благодаря им мы узнаем,
как греки, причем ремесленники и художники, выходившие из
гущи народа, представляли и изображали богов и героев мифов
(пример — изображение торжественной процессии богов,
которые идут на свадьбу Фетиды и Пелея.— в кратерах работы Кли-
тия и Эрготима; там же — изображение Ахилла, состязание на
колесницах, сцены охоты); перед нами предстают греческие
воины, атлеты, корабелы, охотники, музыканты — в сценах, как бы
взятых из повседневной жизни. Одна и та же чаша становится
разносторонним художественно-мифологическим и житейским
повествованием, «главы» которого могут быть и не связаны друг с
22 Ботмер Д.фон. Цит. соч. С. 134.
23 Пример: «На Ватиканской пелике сцены с речью персонажей
украшают обе стороны сосуда и связаны между собою так что, поворачивая
сосуд, зритель как бы меняет «кадры». На одной стороне торговец
оливковым маслом цедит сквозь воронку масло и говорит: «Зевс-отец, вот бы
мне разбогатеть!» Сценка на другой стороне: торговец стоит, а клиент
сидит напротив, считая на пальцах. Торговец говорит: «Уже ведь, уже
полон, вышло через край». Эту сценку некоторые исследователи также
относят к сценкам из комедии или мима». (Брагинская Н. В. Цит. соч.
С. 64).
56
H. В. Мотрошилова «Работы разных лег»
другом: так «торопится» художник на одной вазе рассказать о
многом.
Ряд специалистов исторически точно толкует рисунки ваз и их
надписи как развернутые послания, как воплощенные в
материально-художественной форме идеи и смыслы, которые мастера и
художники обращают к другим людям — грекам и иноземцам —
и, зная прочность своих изделий, также, несомненно, адресуют
потомкам. В те века, когда только зарождается письменность и
когда тексты тоже нередко записываются на глиняных пластинках,
значение такой «керамической коммуникации» очень велико. Тут
особую роль приобретают характер сигнатур (подписей) и других
поясняющих надписей. Мастер заставляет сам сосуд «говорить» с
людьми, которым доведется взглянуть на него или узнать о нем:
он «сообщает» либо имя своего создателя24, либо владельца25,
либо «подтверждает» свое назначение и приглашает собой
воспользоваться 26. Преобладание именно на самых ранних этапах
таких надписей — типа «говорящая вещь» — и практическое
исчезновение их ко второй половине V в. до н.э. некоторые
исследователи связывают, и по-своему справедливо, сначала с
вкраплением в антропоморфное религиозно-мифологическое
мировоззрение греков остатков вещного фетишизма предшествующих эпох,
а затем — с постепенным «вымыванием» их. Преобладают
приветствия, краткие диалоги, увековечивание торжественных
событий, тосты, оценки красоты, мужества, доблести (типа: «Гектор,
ты прекрасен» и т.д.) Иными словами, становится наиболее
явным то реальное обстоятельство, что с помощью сосуда человек
не только реально, но и символически «общается» с другим
человеком, говорит с ним и на языке формы, художественного смысла
и с помощью слов обычного языка.
Что тут особенно существенно для философии? Во-первых, от
человека-демиурга отчуждаются и ведут самостоятельную жизнь
не только созданные им вещи, но и вложенные в вещь опредме-
ченные ценности, критерии, мысли, смыслы, замыслы, страсти и
эмоции, словом, духовные сущности. И есть немало оснований —
ими и воспользовались впоследствии идеалисты — приписать
идее, форме чрезвычайно важное, даже приоритетное значение
24 Например: «Я — килик Корака» или «Я — Нестора благородный
кубок» (см. Брагинская Н.В. Цит. соч. С. 46).
25 Например: «Я принадлежу Мелантию, кто скажет иначе, солжет (Там
же. С. 47).
26 Например: «Я — хой» (мера объема), «Я — приз за победу в Афинах»,
«Радуйся (здравствуй) и выпей меня» (Там же. С. 46, 47 и др.)
Цивилизация и культурд древних греков
57
перед «материей» вещи. Но для этого надо было «срисовывать»
соотношение идеи, формы и вещи уже с цивилизационной эпохи,
с цивилизационного действия, где как бы изначально
(последующие философы скажут: априорно, еще до всякого опыта)
присутствуют и направляют весь процесс духовные элементы —
цель, идеал, схема, проект, модель, канон, принцип, образец
(парадигма). Есть немало оснований и для того, чтобы использовать
греческие вазы как предметы, позволяющие реконструировать не
только прямо и сознательно выраженные бытовые,
интеллектуальные, художественные смыслы, но и стихийно — иногда,
видимо, на уровне «коллективного бессознательного» —
складывающиеся, выражающиеся общемировоззренческие установки,
касающиеся отношения греков к природе27 и к человеку (антропо-
подобие вазы — ее особая черта), к общественным событиям и т.д.
Итак, в керамике, этой типичнейшей для греков ремесленной
деятельности, также воплощаются не только сугубо
индивидуальные моменты места и времени, но общие идеи, смыслы,
парадигмы данного вида труда и даже всеобщие мировоззренческие
структуры. Правда, общее и всеобщее тут, как и в других областях
предметного труда, неотделимо от единичности предметов.
Однако постепенно возникает и отражается в сознании, ценностях
греков довольно существенное различие между двумя типами
действия — тем, где идеальные смыслы вплетены в конкретный,
повседневный предметный труд, и тем, где сами смыслы
становятся главным объектом и результатом труда. Керамика, при всем
ее высоком художественном значении, есть пример первого,
скульптура, живопись — пример второго. Керамика — больше
ремесло, и относится она все-таки к сфере товарного
производства, (пусть производства художественного), что отражается и на
относительно невысоком социальном престиже греческих
гончаров и вазописцев. Скульптура — больше искусство, и относится к
сфере культуры, хотя лишь к V—IV вв. до н.э., благодаря
творениям выдающихся ваятелей, деятельность скульптора становится
более престижным занятием. Невысокому же престижу
деятельности керамистов способствовало, видно, и то, что она была, как
уже отмечено, одним из самых массовых сфер товарного
производства 28.
27 См.: Данилова И. Е. Образ природы в древнегреческой вазописи //
Культура и искусство античного мира. М.: ГМИИ, 1980. С. 30-40.
28 «Так мало ценить расписной сосуд можно, если сосудов много и они
дешевы. По-видимому, расписную керамику уместно назвать массовой
художественной продукцией. У нас нет точных данных о количестве ваз,
58
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
И тут перед нами опять-таки характерная черта
древнегреческой цивилизации, которая передалась по наследству от
восточной и ею была передана последующим этапам мировой истории.
Фундамент цивилизации — и не только материальный, но и
духовный — закладывался земледельцами, ремесленниками,
торговцами, корабелами, словом, людьми самых конкретных
повседневных занятий и профессий. Только благодаря ему и на нем
строилось здание управленческо-политической
цивилизованности, возникали «верхние этажи» науки и культуры. Однако на
целые века сложились пренебрежительное отношение к
материально-предметной деятельности, недооценка неотъемлемо
присущих ей духовно-смысловых, интеллектуальных элементов. По
мере того, как эта деятельность в Греции, а потом в Риме втягивала в
себя расширяющийся в его масштабах рабский труд, она во
многих отношениях утрачивала индивидуальные, художественные
черты. И возникало все больше оснований для критических
замечаний, которые, скажем, Платон делает в адрес ремесленников,
хотя в целом, как мы потом увидим, он относится к их труду, если
он добротен и профессионален, вполне почтительно.
«Нижний город», который мы ненадолго «посетили» нашим
воображением, теснейшим образом связан с «деловым» и
политическим центром полиса. В сущности, время каждого дня так или
иначе поделено у свободнорожденного древнего грека между
производственным трудом и повседневным бытием в нижнем
городе, между особым, обменным и политико-гражданским, трудом
на агоре и религиозными действами, массовыми зрелищами и
празднествами, устраиваемых также и в храмах агоры, но в
наиболее торжественных случаях — на площадях и в храмах
«верхнего города», акрополя. Теперь наше воображаемое путешествие
поведет нас на древнегреческую агору.
производимых ежегодно в Керамике, но некоторые косвенные данные
могут дать представление о масштабах этого производства. Так, вазы
были дешевы, а мастера или владельцы мастерских — богаты. Одних только
Панафейских амфор, выдаваемых в качестве приза на атлетических
состязаниях, регулярно производившихся в Афинах, изготовлялось 1300
штук и т.д. Еще более красноречиво то обстоятельство, что в
литературных источниках отсутствуют упоминания о мастерах вазовой живописи.
Надо сказать, что художника ценили ниже гончара». См.: Брагинская Н. В.
Цит. соч. С. 76.
Цивилизация и культурд древних греков
59
Агора: цивилизационный рынок
и политическая цивилизация.
Агора как символ
цивилизованного рынка
Взгляните на схему-реконструкцию афинской агоры. Агора —
буквально: рыночная площадь — в архаическое время служила
как открытое место для народных собраний и для суда; в века
классической древности она становится и местом торговли, и
центром общения жителей полиса, их гражданско-политического
взаимодействия. Это включает собственно рынок и обмен
товарами в совершенно особый жизненный контекст древнегреческой
цивилизации.
Производители и торговцы приходят, приезжают,
приплывают на агору прежде всего для того, чтобы продать произведенные
в мастерских товары или выращенные на полях продукты, купить
необходимое для жизни, получить представление о
складывающихся ценах, заглянуть на монетный двор. Но также и для того,
чтобы узнать политические новости, зайти в храмы, если надо,
обратиться по своим делам в суд или побывать на текущем
судебном заседании в гелиее (здании народного суда). Закончив с
продажей и покупкой* товаров, крестьяне, ремесленники, купцы
могут прогуляться под крытыми галереями, побеседовать,
поспорить с согражданами. Или могут — в специально отведенных на
агоре местах — послушать ораторов, а то и подискутировать с
ними. С некоторого же времени — и прислушаться к спорам
философов, узнать об идеях приезжих мудрецов. Иными словами,
агора, рыночная площадь, служит для купли-продажи, обмена
благами и для повседневной жизни, но также для обмена
мастерством, знаниями, навыками, информацией, идеями. А поскольку
она чем дальше, тем больше становится и политическим центром,
то хозяйственная жизнь зримо сплетается с общим решением
политических дел, с функционированием управления, с религией и
культурой. Цивилизованный рынок становится органической
частью полисной жизни. В каких-то отношениях он приобретает
фундаментальное значение. Без бойкого рынка, в свою очередь
объединяющего производство и обмен, чуткого к новшествам,
товарной конъюнктуре, к постоянно меняющейся, но всегда
выдерживаемой мере как единству нужного качества и достаточного
количества товаров, единству пользы, функциональности и
красоты — без всего этого не могли бы существовать и динамично
60
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
развиваться другие формы жизнедеятельности, от политики до
искусства и философии. Великолепные, оригинальные храмы,
которые воздвигает каждый полис, удобные и солидные
общественные здания вырастают на греческой земле не прежде, чем все
более цивилизуемый рынок начинает выполнять свои функции
создания, расширения индивидуального и общественного
богатства, фундамента всей цивилизационной деятельности.
Греческий рынок в интересующую нас эпоху менее всего
подобен наскоро устроенной барахолке, где — посреди грязи и
запустения — делают шальные деньги благодаря обману, облапо-
шиванию покупателей. Внешне он не так живописен и роскошен,
как базар восточного города. Но он, несомненно, более чист и
честен, значит, более цивилизован. Рынок управляется и
контролируется особыми людьми — агораномами. Но главное здесь то,
что количество и качество товаров агоры, как и рынка в порту,
регулируется, гарантируется добротным, инициативным трудом
производителей и высокой по тем временам квалификацией
труда торговцев. Кроме того, греки одного полиса достаточно
хорошо знают друг друга и при случае могут взыскать за плохое
качество или неадекватную цену товара. Здравый смысл,
прирожденное качество греков, подсказывает им: производители одних
товаров всегда становятся покупателями каких-то других вещей. На
собственном опыте они убеждаются в преимуществах, выгодах
профессионального и честного труда. Недаром же ценность
профессионализма в трудах Платона становится синонимом самой
Справедливости. Взаимосвязь, взаимозависимость индивидов,
профессий, сфер деятельности, неразрывная взаимосвязь
производителя и потребителя, продавца и покупателя, обслуживания и
клиентуры — азбука цивилизованных товаропроизводства и
обмена. И греки быстро и прочно ее усваивают.
Позднее это дает возможность и основание великому
Аристотелю сделать общие выводы относительно «пропорциональной
взаимности» как фундамента древнегреческой цивилизации, как
самой справедливости (и выдвинув, к слову сказать, довольно
убедительные аргументы против смешения пропорциональности
с уравнительностью). Вчитайтесь в отрывок из «Никомаховой
этики»: «...Общественные отношения, имеющие дело с обменом,
поддерживаются именно этим видом справедливости, воздаянием
равным, которая имеет в виду пропорциональность, но не
равенство, ибо общество держится тем, что каждому воздается
пропорционально его деятельности... а государство именно и держится
подобными взаимными услугами; поэтому-то храмы харит
(богинь красоты Аглаи, Евфросиньи, Талии, воплощавших Блеск,
Цивилизация и культурл древних греков
61
Радость, Цвет. — H. М.) ставятся на рынках, чтобы услуга была
оплачиваема услугой; в том и состоит специальное свойство
благодарности, чтобы получивший одолжение не только отвечал
услугой, но и сам начинал с одолжения»29. (В этот
социально-этический, ценностный контекст Аристотель, кстати, вписывает
своего рода экономическую, «социальную математику», ибо
пытается отыскать математизированные соотношения, пропорции,
своего рода уравнения, которые могли бы позволить количественно
и качественно соотносить друг с другом различные виды труда.)
Специфика древнегреческого внутреннего рынка (наряду с
теми его чертами, которых мы уже коснулись, «прибыв» в гавань)
— также и в том, что он, учитывая, конечно, интересы богатых
покупателей и клиентов, в основном рассчитан на рядового,
среднесостоятельного соотечественника и его повседневные
запросы.
А греки классического периода — в чем, вероятно, также
сказываются их цивилизованность и присущее им чувство меры —
стремятся воспитывать, окультуривать свои потребности и
потребление. Ценились: простая, сытная, но легкая, чаще всего
растительная пища; некрепкое вино собственной земли. О простоте
и изяществе греческого костюма классической эпохи у нас уже
шла речь. Агора полностью удовлетворяет разные вкусы и
потребности, а в определенной степени и воспитывает их. Тому, кто
по тем или иным причинам предпочитает иноземные товары,
тоже есть что купить в порту или на рыночной площади. Все
сказанное объясняет высокий престиж цивилизованного рынка и
профессий, связанных с его функционированием.
Огромное значение для утверждения высокой общегреческой
ценности агоры имеет и то, что жизнь греков буквально
пронизана духом состязательности. Вот и в товарные производство и
обмен народ вносит так присущие ему смекалку, инициативу,
практичность, деловитость, художественный вкус, энергию,
эмоциональность. Создавать добротные, красивые вещи и продавать их
на рынке — вполне почетное занятие, хотя именно философские
тексты показывают, насколько важным считается не превращать
куплю-продажу в самоцель. Духовные ценности, гражданские
доблести ставятся греческой культурой много выше, чем
владение вещами и деньгами. Недаром же в этических трудах
греческих философов постоянно идет речь и о естественности
потребностей, физических наслаждений и в то же время о воздержанно-
29 Этика Аристотеля. СПб., 1908. С. 91.
62
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
сти, о чувстве меры, которое становится и нравственной
доблестью, и умением, и своего рода эстетическим качеством.
Характерно, что Аристотель, например, видит в умеренности,
воздержанности важнейшее качество, отличающее человека от
животного, и именно свободного (мы сказали бы: цивилизованного)
человека от варвара и раба.
Мы пока концентрировали внимание на торговой части агоры.
Но не забудем, что агора и в архаическом и классическом полисе
— обширный и сложный комплекс. Вот как описывается, на
основе раскопок и реконструкций, центр Милета в Ионии, которому
суждено стать также и первым городом философов. «Начиная от
главного въезда в город, т.е. от глубокой военной гавани, в южном
направлении сплошной вереницей тянулись площади, храмы и
другие общественные здания. Здесь мы находим замкнутую
Северную агору, предназначенную для торговли, и общественную
площадь перед зданием Булевтерия, и большую торговую
Южную агору, имевшую сквозной проезд с севера на юг.
Перпендикулярно этому комплексу построек и по соседству с торговой (или
Театральной) бухтой разместились стадион и гимнасий, а все
вместе составило столь крупный и яркий ансамбль, что
монотонность жилых кварталов, несомненно, смягчалась, если не исчезала
совершенно. Прием пересечения планировочных осей,
примененный в Милете, получил широкое распространение еще в
классический период» з°.
Рынок, являясь небольшой, но очень важной частью довольно
благоустроенного, красивого, живущего трудом и гражданскими
проблемами полиса, органично вписывается в общий контекст
его цивилизации и культуры и сам есть следствие возрастающей
цивилизованности основных сторон полисной жизни. Схема
античной агоры убедительно подтверждает совершенно прочное,
но отнюдь не самодовлеющее значение рынка. «Пространство»
политики на агоре — куда обширнее, что соответствует
совершенно исключительной значимости политических процессов и
отношений в жизни древнегреческих городов.
30 Бунин А. Б. Градостроительство рабовладельческого строя и
феодализма. М. 1979. С. 58. Т.1. В этой книге (С. 57) сопоставление городских
планов Вавилона и Милета убедительно демонстрирует, как на смену
относительной бедности гражданских сооружений древневосточного города
приходит принцип богатого разнообразия и целостности гражданского
центра древнегреческого полиса.
Цивилизация и культурд древних греков
63
Гражданско-политические аспекты
древнегреческой цивилизации
Еще в древнейшие, например, гомеровские времена на
греческой земле существовали зачатки политической жизни. И вопрос
о том, как «пред-политика» варварства перерастает в
политические отношения, процессы, институты цивилизации, без
сомнения, весьма интересен, хотя здесь вдаваться в него не
представляется возможным. Нам достаточно констатировать, что
цивилизация, даже на начальных этапах ее развития, предполагает уже
довольно разветвленную политическую жизнь и разнообразные,
требующие своего осмысления политические формы. Их
значение для философии не требует каких-то сложных изысканий.
Философия прямо и определенно делает политику — собственно,
ее суть, основания, принципы, главные формы и институты —
одним из своих важнейших предметов. К числу главных диалогов
Платона принадлежат «Государство» и «Законы»; среди
центральных произведений Аристотеля — «Полития». Но нас будет
интересовать не только прямая — через философию политики
устанавливаемая — связь политической практики и философской
теории. Важно выяснить, повлияла ли политика — и если да, то
как именно — на возникновение и проблематику
философствования как такового. А для этого давайте используем наше
мысленное путешествие, чтобы вникнуть в суть и проблемы
политической цивилизации типичного древнегреческого города.
На агоре в любое время дня свободные граждане города
выполняют — и обычно с интересом, даже энтузиазмом — самые
разные политические функции. При этом не только
полноправные граждане вовлечены в политику. На агору постоянно
приходят и метеки (переселенцы из других городов и стран), не
имеющие обычных гражданских прав, но зато наделенные немалыми
обязанностями перед полисом. Выполняются они самым
тщательным образом, потому что мечта и стремление метеков —
трудом, талантом, геройством добиться гражданского равноправия.
А права свободных жителей полиса (обусловленные сначала
обычаями, впоследствии же — законами, распоряжениями полисных
институтов, например, решениями народных собраний), к VI-V
вв. до н.э. становятся довольно многочисленными и
разнообразными.
Принцип цивилизованности, который отчасти был реализован
в истории восточных цивилизаций, но особенно полно развился
на древнегреческой почве — это снова же единство
многообразного, интеграция в достаточно органическую, хотя и противоре-
64
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
чивую целостность многообразия действий, функций, занятий,
прав, обязанностей отдельных индивидов, общественных групп и
уже сформировавшихся государственных (полисных) институтов.
Греческая цивилизованность прежде всего предполагает
разнообразную, бурную и напряженную политическую жизнь
значительной массы населения. Чтобы осознать это, достаточно
принять в расчет, в каких разных политических качествах предстает
(одновременно или последовательно) рядовой свободный
гражданин полиса. Он прежде всего участвует в деятельности
народного собрания. Например, в Афинах в народном собрании (экк-
лесии) должны заседать все достигшие 20 лет афинские граждане
(т.е. обладающие правами) — без ограничения имущественного
ценза. Собрания устраиваются достаточно часто — примерно раз
в 10 дней. Во всяком случае, в течение года афиняне собираются
не менее 40 раз. Повестка дня, если это не чрезвычайные события,
объявляется заранее. В Афинах собрания обычно устраиваются
около Акрополя, на пологом холме Пниксе (позднее — в театре
Диониса). Согласно демократическим установлениям, все
граждане (и в том числе самые малоимущие — поденщики, батраки,
феты) имеют право заседать в народном собрании и вносить
любые предложения. На этих собраниях обсуждаются все
принципиально важные дела полиса: снабжение продовольствием,
вопросы расходов и ассигнований, строительство флота, торговые
дела, общественные сооружения, организация праздников и
жертвоприношений и, конечно, вопросы войны, мира, вообще
отношений с иными греческими полисами и а другими
народами. В числе существеннейших дел собрания — обсуждение, а
потом утверждение или отклонение законов (О законодательной и
исполнительной практике полиса — несколько дальше).
Коренное политическое право гражданина полиса —
выбирать, быть избранным на различные хозяйственно-политические
должности. Государственных должностей и повинностей
довольно много, и потому большинство свободных граждан так или
иначе их исполняет. На самые важные или «материально
ответственные» государственные посты народ определяет своих
избранников открытым голосованием. Второстепенные должности
граждане исполняют по жребию. Афинский совет пятисот —
наиболее массовый совещательный орган — переизбирается ежегодно.
В полисах, население которых колеблется от тысячи до
нескольких десятков тысяч человек (а свободных и полноправных
граждан, достигших 30 лет, куда меньше), каждый гражданин не более
двух раз в жизни имеет право быть избранным в этот орган,
располагающий довольно большими и разнообразными полномо-
Цивилизация и культура древних греков
65
чиями. В Совет пятисот входят избранные по жребию граждане,
представляющие 10 территориальных единиц, или фил, города
(по 50 человек от каждой филы). Им полагается вести текущие
дела, все сколько-нибудь важные решения подготавливая к
обсуждению и обязательно проводя через народное собрание.
Совет — по греч. буте — располагает на агоре специальным
зданием, булевтерием. Исполнительными органами являются
коллегии: их члены называются «пританами», а заседают они в
специальном здании или помещении города — «пританее».
Работает Совет так: избранные члены совета разделяются на 10 частей;
избранники, входящие в каждую из частей, сменяют друг друга и
в течение одной десятой года выполняют непосредственно
административные функции совета. Тогда они входят в, так сказать,
«дежурную» пританею. В Афинах наиболее авторитетна
коллегия из 10 стратегов; в их функции входит решение кардинальных
вопросов жизни города. В отличие от других государственных
лиц, обязанных регулярно отчитываться перед Народным
собранием, стратеги дают отчет только в связи со специальными, как
правило, чрезвычайными запросами, причем это могут быть и
запросы рядовых граждан, требования демоса.
Еще одним правом и обязанностью рядового свободного
гражданина города-государства является непременное участие в
открытом и гласном судопроизводстве. Суд присяжных — гелиея —
величайшее демократическое изобретение древнегреческой
цивилизации. В сущности, каждый из граждан по достижению 30-
летнего возраста, причем не по одному разу, становится судьей
или присяжным. Ежегодно по жребию в Афинах определяется
600 судей (и 1000 запасных), происходит около 300 заседаний ге-
лиеи. Избранные члены суда тоже разделяются на 10 частей —
дикастерий, по очереди ведущих судебные дела. Афиняне, да и
другие греки, много раз в своей жизни бывают то судьями, то
истцами, то ответчиками (и некоторые исследователи, ссылаясь,
например, на недовольные замечания Платона, видят в этом
присущее грекам сутяжничество). Важно, что греки, как правило,
достаточно хорошо знают законы и судебную практику, чтобы
обвинять, защищаться, выносить — в качестве присяжных — суждения
о виновности или невиновности ответчиков. В судах полагается
говорить строго по регламенту — кратко, четко, как кратки и
определенны записанные на табличках законы (по-гречески
таблички называются «лапис», откуда и пошло слово «лапидарный»).
Долгое время государственные должности, за исключением
самых мелких (вроде работы наемных писцов), выполняются
бесплатно, что называется, на общественных началах, ибо в Греции
66
H. В. Моттошилова «Работы разных лет»
считается: уже их исполнение — почетная, святая задача и
привилегия гражданина. Чем разветвленнее и сложнее становится
политическая деятельность города-государства, тем труднее
обходиться без специально обученных чиновников, посвящающих
свое время делам управления. Но только Перикл с огромным
трудом проведет через народное собрание большое политическое
новшество — постановление о государственной оплате труда
управленцев. Впоследствии, уже в период упадка полисной
гражданской жизни, некоторым свободным грекам даже
приплачивают, чтобы они посещали народное собрание, в чем сказывается,
видимо, и обнищание демоса и растущее безразличие к
общественным делам. Но в классический период греки, высоко чтя
гражданские дела, добровольно и ответственно исполняют их.
«Резервная армия» метеков — этих «кандидатов в граждане»,
жаждущих гражданства хоть не для себя, а для своих детей, — уже
своим существованием в полисе повышает ценность и
привилегии полноправного гражданства. И потому тягчайшее наказание
в греческом мире — изгнание, что фактически означает: в другом
греческом городе ты будешь всего лишь метеком... Ореол
принадлежности к тому или иному, особенно славному, городу-
государству, действует и на рабов; так, афинские рабы наряду со
свободными проявляют чудеса героизма, спасая свой город от
нападений врагов и других бедствий.
Греческий гражданский патриотизм — любопытнейшая черта
античной цивилизации, многократно и красочно описанная
историками. Она покоится на достаточно широкой гражданской
активности, что, несомненно, в немалой степени способствует
выработке особых качеств (по крайней мере) свободного грека, в
каком бы городе он ни жил — гордости, достоинства,
свободолюбия, солидарности, трудолюбия, инициативы, живости ума и
характера. На фоне условий того времени поразительно, что
свободные греки были хотя бы элементарно грамотны (о чем
свидетельствует, например, процедура остракизма: ведь от
голосующих в народном собрании требуется собственноручно написать
на свежей глиняной дощечке имя того, кого они хотят наказать
изгнанием из города).
В «Истории» Фукидида в уста Перикла вложены такие гордые
слова об афинской гражданско-политической жизни: «Для
нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких
чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем
пример другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И
так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство
народа, то наш государственный строй называется народоправст-
Цивилизация и культурд древних греков
67
вом. В частных делах все пользуются одинаковыми правами по
законам. Что же до дел государственных, то на почетные
государственные должности выдвигают каждого по достоинству,
поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к
определенному сословию, но из-за личной доблести. Бедность и
темное происхождение или низкое общественное положение не
мешают человеку занять почетную должность, если он способен
оказать услуги государству. В нашем государстве мы живем
свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений:
мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении
следует личным склонностям, и не высказываем ему хотя и
безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. Терпимые в своих
частных взаимоотношениях в общественной жизни, мы не
нарушаем законов, главным образом из уважения к ним и повинуемся
властям и законам, в особенности установленным в защиту
обижаемых, а также законам неписанным, нарушение которых все
считают постыдным» 31. Эти слова из речи Перикла,
произнесенной при погребении воинов, которые пали в первые годы
Пелопонесской войны, стоят того, чтобы на них остановиться особо.
Если начертанная Периклом картина в чем-то приукрашивает
афинскую реальность и оставляет в стороне противоречия
развития древнегреческого полиса, в том числе и демократического, то
здесь, во всяком случае, четко и достоверно переданы
политические принципы, ценности, во многом определяющие развитие
общественного процесса в классический период — и не только в
Афинах, но и в ряде других городовггосударств, а в известном
смысле в греческом мире вообще. Недаром же жители о. Мелос,
спартанской колонии, во время пелопонесской войны вступив в
военный и дипломатический спор с Афинами, говорили, в
сущности, на том же «ценностном» языке: «Афиняне! Наше мнение и
воля неизменны, и мы не желаем в один миг отказываться от
свободы в городе, существующем уже 700 лет» 32. Речь Перикла
произнесена в то время, когда, несмотря на все увеличивающиеся
расслоение и рознь, выдающемуся политику еще удается
сохранить афинское единство и интегрированность демократических
сил древней Греции. И это тоже цивилизационный урок:
единство существует не потому, что, якобы, нет существенных
разногласий, противоречий между индивидами и группами населения.
Такого состояния в истории никогда не было и, видно, не будет.
Фукидид. История. С. 80.
Там же. С. 260.
68
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Цивилизационное единство рождается благодаря искусству
политиков и умению самого населения обеспечивать социальное
взаимодействие людей, чьи устремления и интересы могут быть и
обычно бывают существенно различными, даже
противоположными.
Суммируя, отметим, что политические новшества, достижения
и ценности древнегреческой цивилизации, важные и сегодня,
состояли в следующем.
1. Возникла интенсивная гражданско-политическая
государственная жизнь, основанная на объединении разнообразных и
именно политических дел, интересов, функций, занятий —
интеграция разделенной, дифференцированной политической
деятельности.
2. Появились новые политико-правовые институты, целые века
работавшие на принципах выборности, добровольности,
соблюдения общественного долга. Их деятельность и согласование
вылились в целую структурированную систему законодательной,
судебной, исполнительной власти.
3. Были опробованы греками — целые века сосуществовали,
боролись друг с другом, видоизменялись — различные формы
государственного устройства и политики, крайними полюсами
которых были консервативно-аристократические и новаторско-
демократические полисы. Сформировались, выявились в острых
политический, а потом философских дискуссиях и относительно
единые для греков, и разъединяющие их политико-правовые
ценности и идеи.
4. Политика стала сферой, где получали выражение,
сталкиваясь друг с другом, существенно различные имущественные,
политико-правовые, идейно-нравственные интересы индивидов и
их объединений, больших и малых, официальных и
неофициальных, государственных и частных. Иными словами,
сталкивались частные, в том числе частнособственнические интересы
граждан, формировались и вступали в борьбу группы и их «партии».
5. Вместе с тем, политика стала не только областью
столкновения, острой борьбы весьма многообразных интересов, взглядов,
подходов, позиций, идей и ценностей, но и областью их хотя бы
относительного согласования, объединения во имя
существования, выживания общества, государства как целого. Иначе и не
могло быть: политика — цивилизацией сформированная сфера
регулирования взаимодействия людей, их общения.
6. Величие греческого политического эксперимента состояло
также в выработке самого понятия о правах и обязанностях
личности, о неприкосновенной для других «частной», «личной» жиз-
Цивилизация и культура древних греков
69
ни и о свободе — включающей право частной собственности
(прежде всего право на владение, куплю-продажу земельного
участка), право на свободно выбираемый образ жизни, на
формирование и выражение собственных взглядов. Иными словами,
политика в древней Греции, и по существу впервые в истории, не
только открыла, но и реализовала возможности отстаивания
совокупных индивидуальных прав и свобод и возникновения
государственно-правовых, идейно-нравственных гарантий.
7. Наконец, должны быть упомянуты важнейшие
усовершенствования и нововведения в древнейшей области политики —
регулировании отношений между народами. В интересующее нас
время это была, во-первых, межполисная внутригреческая
политика, а во-вторых, общение с другими странами. И здесь, как и во
внутренней политике, греки вели интенсивное взаимодействие,
требовавшее специального управления, регулирования особых
идей, концепций, ценностей. История древнегреческой внешней
политики, дипломатии богата и драматична. В нее тесно
вплетены — в их специфическом понимании и решении — проблемы
войны и мира.
Таким представляется главное позитивное цивилизационное
наследие, которое греки передали в исторический фонд мировой
цивилизации; одни формы они преобразовали, заимствовав у
других цивилизаций, народов, а иные новаторски и талантливо
изобрели сами. По этим линиям вся истории человечества,
включая современную, есть восприятие и дальнейшее развитие
древнегреческого наследия. Хотелось бы. заметить, что некоторые
мудрые политические установления и правила древних греков, к
сожалению, забытые, были бы полезны и сегодня — например, в
периоды, когда, как у нас сейчас, возникает нужда в новых
законах.
Но древнегреческая история преподала не одни только
позитивные уроки. Одновременно она показала, как непрочны первые
исторические достижения цивилизации, сколько трудностей еще
встретится на дальнейшем пути человеческого цивилизационно-
го развития. Поэтому критика древними греками опыта своего
народа, своего полиса всегда имела под собой вполне серьезные
основания. Для нас очень важно, что философия, едва возникнув,
сразу станет одним из важнейших сфер, где формировалась
критическое сознание народа. И, быть может, самими яркими и
впечатляющими явятся V—IV вв. до н.э., эпоха, когда древнегреческая
демократическая государственность достигнет своего
наибольшего, наиярчайшего расцвета и очень скоро начнет клониться к
упадку. Темпы, невиданные для древней истории: всего за одно
70
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
столетие — и взлет и наметившаяся деградация уникальной
полисной цивилизации. Вначале — на фоне ослепительного блеска
достижений — не столь заметны накапливающиеся противоречия
полисной жизни. Но люди наиболее глубокого ума проникаются
беспокойством. Они уже распознают приметы будущих упадка и
разрушения, которые, как потом выяснилось, не привели к
гибели цивилизации, а только потребовали существенного
обновления цивилизационных устоев, форм и процессов. Греческие
полисы и римская империя тоже ответят на новые требования
истории, но ответят ростом завоеваний, имперских притязаний,
значительным расширением масштабов и ужесточением форм
рабовладения, что на несколько столетий отсрочит, но не
предотвратит уход античной цивилизации с центра мировой исторической
сцены.
В чем же состоят негативные исторические уроки
древнегреческого опыта? Попробуем кратко ответить на этот вопрос — тогда
нам будут понятнее многочисленные философские тексты,
прославленные авторы которых, в соответствии с критической ролью
философии, берут на себя совсем небезопасную миссию говорить
своему народу горькую правду о его социально-нравственном
состоянии. Быть может, это неожиданно для читателей, но для того,
чтобы вдуматься в поистине трагические стороны
древнегреческого социально-политического опыта, я предложу в нашем
мысленном путешествии задержаться на эпохе Перикла.
Неожиданно потому, что время Перикла называют, и во
многом оправданно, периодом наивысшего расцвета афинской
демократии. Но я вижу Перикла также и как поистине трагическую
фигуру истории: он был, действительно, блестящим политиком-
реформатором, сумевшим не только приостановить уже
приближающийся кризис, но и на несколько десятилетий привести
Афины к настоящему расцвету; но Перикл был плоть от плоти
своего народа, своего времени. В его собственной жизненной
судьбе сплелись великие начинания, борьба за свободу — и
многие исторические ограниченности греческого понимания
свободы. Чтобы читатели не подозревали меня в том, что об
«исторических ограниченностях» я говорю в тоне навязших в зубах
марксистских нравоучений в адрес прошлой истории и ее деятелей,
заранее предупрежу: речь пойдет, в основном, о таких
«ограниченностях», которыми страдает и сегодняшняя история и
необходимость устранить которые человечество осознает лишь на
исходе XX в. Человечество пока не переболело болезнями и
противоречиями цивилизации, которые начались на заре цивилизацион-
ного развития. Но вернемся воображением в эпоху Перикла.
Цивилизация и культура древних греков
71
Взлет древнегреческой демократии при Перикле
и назревающий социально-нравственный
кризис полиса
Перикл находится у власти — в качестве главного стратега
Афин — с 443 по 430 гг. до н.э., но в целом его влияние на жизнь
греческого мира продолжается дольше, «Эпоха Перикла»
охватывает целое тридцатилетие. Это период, когда афинская
демократия, которая, действительно, достигает своего наибольшего
блеска, многими своими достижениями обязана Периклу —
выдающемуся человеку и государственному деятелю. Он происходит из
аристократической семьи, причем из семьи профессионального
политика. Его отец. Ксантипп, занимал ряд государственных
должностей, был афинским полководцем. Своему сыну он дал
блестящее образование. Перикл изучал музыку, искусства, что
привило ему тончайший художественный вкус. Он хорошо знает
философию. Перикл специально осваивает логические стороны
философского знания — для того, чтобы последовательно
мыслить и убедительно рассуждать. Специально изучено им
ораторское искусство, и Перикл по праву считается одним из
прекраснейших афинских ораторов. Личность Перикла историки рисуют
в общем очень привлекательной: это очень честный,
благородный человек, безмерно преданный своему городу, правитель с
истинно демократическими убеждениями.
Начало политической деятельности Перикла ознаменовано
мирными международными инициативами. Он стоит у истоков
заключения мира с персами в 449 г. до н.э. И потом он стремится
заключить мир со Спартой, понимая, однако, что мир этот
непрочен.
Перикл начинает свою политическую деятельность в
ситуации, когда в Афинах ведется острая борьба социальных
группировок. Главная проблема политики в ту эпоху — сущность
демократии, ее внутренние противоречия и ее непрочность.
Демократический строй подвергается нападкам; постоянно существует
опасность переворота со стороны оппозиционных групп и
партий. Аристократическую оппозицию возглавляет Фукидид-
старший (отец знаменитого историка Фукидида). Потом Фукиди-
да-старшего подвергают остракизму. С тех пор и начинается
политическое влияние Перикла, причем влияние многолетнее и
очень благотворное. Плутарх справедливо отмечал, что Перикл
72
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
вел за собой народ убеждением. В одной из своих речей
(приведена в книге Фукидида-младшего) Перикл с гордостью говорит о
том, что ни один афинянин по его вине не носил траура, что
было связано с постоянным стремлением выдающегося политика
Афин избегать военных конфликтов. Обширные и во многом
реализовавшиеся замыслы Перикла связаны с экономическим
процветанием граждан и, как следствие, расцветом города-
государства. Город обстраивается и благоустраивается. Жители
Афин никогда, пожалуй, не строили и не украшали город с
таким энтузиазмом, как при Перикле. Он мог бы сказать о себе и то,
что по его вине ни один (свободный) афинян не остается без
интересной работы. Действительно, в городе постоянно ведется
строительство, причем строят афиняне удивительно красивые
сооружения — с уверенностью, что воздвигают их на века. Перикл
привлек в Афины выдающихся зодчих; он дает заказы и
прекрасным местным архитекторам и скульпторам. Ведь это при Перикле
построены: знаменитый храм Парфенон; лестница, ведущая к
Храму Афины; Акрополь украшен статуями Афины работы
Фидия; построен Одеон — здание для музыкальных состязаний;
выложены, закончены стены — те, что ведут от гавани Пирей к
городу.
В городе постоянно создаются группы для поселения в
колониях — греческая цивилизация, афинская культура, афинская
демократия распространяется и на колонии. В них также
сосредотачивается высокая культура греческого мира. Перикл всячески
поощряет приезд в город поэтов, историков, философов. Вокруг
него образуется кружок выдающихся творцов античной
культуры. В него, кроме уже названного гениального скульптора Фидия,
входят архитекторы, строители, занятые перестраиванием Афин.
Кружок Перикла включает поэтов, драматургов, самый
блестящий из которых — Софокл. Философ Анаксагор, приехав из Кла-
зомен навестить Афины, там и остался, привлеченный умом,
широтой взглядов и замыслами Перикла. Считают, что на симпозио-
ны в доме Перикла захаживал и молодой Сократ. Одним словом,
вокруг Перикла собирается — для служения Афинам, всей
греческой культуре, для общения, бесед — круг выдающихся людей,
которыми Греция имела все основания гордиться. Беседуют на
самые разные темы — социально-политические, художественные,
нравственные, философские. Предоставляется возможность
открыто выражать и отстаивать свои мнения, подчас полемизируя и
с самим Периклом. Казалось бы, дела Перикла и Афин обстоят
великолепно. И, тем не менее, внимательный взгляд позволяет
обнаружить, что через судьбу выдающегося афинского стратега
Цивилизация и культурд древних греков
73
как бы проходят те разломы, которые очень скоро обернутся
трещинами во все еще прекрасном и по видимости прочном
здании древнегреческих цивилизации и культуры.
Пусть читателя не удивляет то, что придется говорить о таких,
казалось бы, внешних, второстепенных вещах, как подозрения,
удары из-за угла, несправедливые нападки, сплетни со стороны
тех людей, которые делали это по политическим соображениям
или просто по злобе. В истории Греции вообще начинают играть
роковую роль эмоции — да, эмоции и страсти! Но не те
эмоциональные порывы темпераментного народа, которые всегда
подхлестывали его деловую и творческую энергию, толкали к
продуктивной состязательности и неустанному поиску. Теперь
наружу все более прорываются вражда, зависть, злоба,
подозрительность. Конечно, эти человеческие эмоции вечны и неуничтожимы
— и недаром же философия во все времена тщательно исследует
«страсти души» (так впоследствии Декарт назовет один из своих
трактатов), чтобы помочь людям облагораживать, цивилизовать
внутренний душевный мир, то есть собственно,, мир мыслей и
чувств, и максимально сдерживать «дурные» страсти. Прорыв
таких страстей на арене политики, захваченность ими целого
народа — тревожный индикатор социального неблагополучия.
Призывать «обойтись без эмоций», что у нас сегодня, посреди
«разлива» страстей, часто делают, значит советовать людям сделать
нечто совершенно нереальное. А вот цивилизовать эмоции можно и
нужно, хотя дело это чрезвычайно трупное. Вот и замечательный
политик, великий грек Перикл должен был на себе испытать
злобную силу накапливающихся разрушительных страстей
демоса. Объектом сплетен и наговоров становятся родные и друзья
Перикла. И прежде всего его жена Аспазия. Метят, конечно, в
самого Перикла, но прямо напасть на него до поры до времени
побаиваются. Трагедия Перикла, как в капле воды, отражает также
глубокую политическую несуразицу некоторых греческих
гражданских установлений, которые особенно неуместны в условиях
демократии, ибо делают ее непоследовательной. Мы уже
говорили о положении метеков — приезжих из других городов, которые
в неродном полисе теряли гражданские права. Скорее всего,
Перикл мало задумывается над тем, сколь это недемократично
(видимо, как большинство греков и их политиков, он считает, что
неполноправный статус метеков предохраняет полис от
разрастания населения и размеров, а заботиться об этом было
совершенно необходимо). Во всяком случае еще до брака с Аспазией
Перикл проводит через на народное собрание более жесткий в
отношении метеков закон: дети от брака свободных граждан с ме-
74
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
теками теперь тоже не получают гражданских прав. Судьба
горько мстит Периклу: он вступает во второй брак с уроженкой Миле-
та Аспазией. И кому дело до того, что Милет — тоже
прославленный город, один из древнейших центров цивилизации и
культуры греков, что Перикл горячо любит Аспазию, что она славится
красотой, умом, образованностью, что становится верной
помощницей и единомышленницей мужа. По закону она из метеков, а
сын ее и Перикла, которому дали имя отца, — тоже метек.
Перикл попадает в им же самим устроенную антидемократическую
западню и вынужден униженно просить народное собрание —
конечно, в виде исключения! — «даровать» гражданские права
Периклу-младшему. Неизвестно, как бы обернулось дело, если бы
не случилось несчастье — сыновей Перикла от первого брака
скосила эпидемия. Афиняне пожалели своего стратега и сделали
исключение, дав его сыну-метеку права гражданина полиса.
Уже и брак Перикла с Аспазией есть, по меркам греческого
политического бытия, существенная оплошность для политика.
Но Перикл идет еще дальше против сложившихся традиции, о
которых раньше уже шла речь: вопреки тому, что женщина-мать
семейства, даже если она жена стратега, обязана держаться в
стороне от бесед и споров мужчин, Перикл делает так, чтобы Аспа-
зия на равных участвовала в спорах и беседах блестящего круга
его друзей. Друзья, восхищенные умом и образованностью Аспа-
зии, поддерживают Перикла. Все они бросают настоящий вызов
сложившимся порядкам и предрассудкам, имя которым —
именно антидемократизм, «поместившийся» в самой сердцевине
демократии. Даже афинские демократы — что уж говорить о
противниках демократии! — не могут взять в толк, что «семейная»
драма» Перикла есть всего лишь частный случай глубокой
внутренней драмы полисной жизни. И что выход из общегреческой и
одновременно общечеловеческой исторической драмы должен
состоять в непременном движении к снятию отживающих свой
век жестких ограничений свободы для обширных групп людей,
лишенных обычных гражданских и просто человеческих прав —
для рабов, женщин, метеков и т.д. Но ведь что касается женщин,
то «предоставление» им закрепленных законом равных прав с
мужчинами растянулось на много столетий, а в ряде стран не
завершено и поныне. Тем более судьбоносной выглядит попытка
Перикла и его друзей хотя бы «явочным порядком» утвердить
новые формы жизни и общения. Удивительно ли, что демос
Афин, науськиваемый опытными политическими демагогами,
только и ждет, чтобы как-то рассчитаться с окружавшими
Перикла замечательными — гордыми и свободолюбивыми — людьми.
Цивилизация и культура древних греков
75
Величайшего скульптора Фидия, захваченного работой,
обвиняют в перерасходе драгоценных материалов для статуи Афины
Паллады в Акрополе. Метят опять в Перикла. И хотя народу
Греции хорошо известны такие качества Перикла и его друзей как
бескорыстие и неподкупность, Фидия заключают в тюрьму, где
он умирает. Спасается бегством философ Анаксагор. К 430 г. до
н.э. — из-за бедствий уже начавшейся войны — Афины
оказываются в тяжелом экономическом и военно-политическом
положении. К тому же на город обрушивается эпидемия чумы. Афиняне
во всем винят Перикла. Историк Фукидид свидетельствует об
этом периоде истории и настроении, захватившем население
Афин: «И всеобщее раздражение афинян против Перикла не
утихло до тех пор, пока они не покарали его денежным штрафом.
Немного спустя, впрочем, афиняне (как обычно и поступает
толпа) вновь избрали Перикла стратегом и поставили во главе
государства... После начала войны Перикл прожил еще два с
половиной года» 33. Задержимся на этом немаловажном, только на
первый взгляд эмоциональном моменте: накопившиеся гнев и
раздражение толпы (а превращение демоса в толпу всегда
подстерегает демократию) направляются не против действительных
причин неудач и кризиса, а как раз против тех людей, которые
составляют славу полиса и всего греческого мира. То, что в центре
политического противоборства оказывается Аспазия (как будто
не было действительно неотложных и сложных политических
дел), что преследуют и изгоняют гениального Фидия, что
штрафуют Перикла, выдающегося политика, отдавшего свои силы
процветанию родного города — зримые черты глубокого
кризиса, который не создала, а только обнажила разразившаяся
братоубийственная — грек против грека! — Пелопонесская война. И
когда несколькими десятилетиями позже Сократ и Платон
подвергнут резкой критике различные формы государственного
устройства, включая демократию, то это будет нелицеприятный,
может, в чем-то и не вполне объективный, но во многом и
справедливый суд над «разломами» демократии и реальными
противоречиями древнегреческого исторического бытия. Афинская же
демократия убедительно подтвердит диагноз философов уже
тем, что присудит к смерти славу свою, великого в веках
мыслителя Сократа.
Впрочем, Перикл как политик — не только жертва
неблагоприятных обстоятельств. Он плоть от плоти афинской политиче-
Фукидид. История. С. 92.
76
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ской культуры, ибо носит в сознании и воплощает в поведении, в
речах не только то, что составит непреходящее наследие
древнегреческого политического цивилизационного опыта. Но и то, на
чем можно изучать болезни политической цивилизации. Мне
кажется, что редко анализируемый в истории философии
материал, касающийся древнегреческой «внешней политики» и
направляющих ее принципов, идей и ценностей, поможет нам в
дальнейшем путешествии — поможет понять не излеченные и
сегодня, но сегодня уже признанные нетерпимыми кризисные черты
и признаки «старого» — старого, как сама цивилизация —
мышления.
Международная политика греков и ее «принципы»
Блестящий век Перикла еще и до начала Пелопонесской
войны переплетен с экспансией Афин и противостоящей экспансией
Спарты в греческом мире. Афины, чувствуя приближение войны
со Спартой, сколачивают мощный союз. То же делает и Спарта.
Естественно, что каждый полис считает зачинщиком войны
своего главного противника. Афины во внутренней междоусобной
борьбе городов поддерживают демократические силы, иногда
насаждают демократию силой своего оружия, иногда же они
способствуют внутренним насильственным переворотам в других
городах-государствах. Итак, образуется союз, в котором Афины
не первый город среди равных, а главный среди неравных.
Афины и при Перикле порядком обирают Афинский морской союз.
Мы говорили, что Перикл занимает бедняков работой, украшая
прекрасный город. Но на какие, собственно, средства? Частично
они поступают за счет повышения производительности труда, за
счет расцвета экономики самих Афин. Но в немалой части они
выкачиваются из других городов-государств, которые становятся
афинскими данниками. И вот то, что Афины, возглавляя союз
государств, беззастенчиво пользуются благами своего первенства,
начинает как ржа, как порча разъедать афинскую демократию.
Как только где-то соотношение сил складывается не в пользу
Афинского союза, не в пользу афинской демократии, как тут же
начинается афинское «присутствие». Афины посылают если не
послов, то военные корабли. Иногда уговаривают жителей других
полисов, действуя через политические каналы демократии, через
дипломатию. А в других случаях просто оккупируют города-
государства и силой оружия восстанавливают нужную афинянам
власть. «Идеология» наготове: афиняне утверждают, что несут
другим народам лучший строй — демократию, а потому имеют
право прибегать к оружию. При Перикле все это значительно
Цивилизация и культура древних греков
77
смягчено, потому что он чаще всего предпочитает силе
убеждение словом, предпочитает ораторское искусство и
дипломатическую игру. Но чем дальше, тем больше — и особенно во время
Пелопонесской войны — афинская демократия, вообще
демократия меняет свое политическое и нравственное лицо. Это очень
хорошо запечатлено в «Истории» Фукидида. Здесь кстати сказать
и о Фукидиде-младшем, историке Пелопонесской войны. Отец
его, Фукидид-старший, был убежденным врагом афинской
демократии и, конечно, всячески настраивал сына против Перикла.
Но достаточно было Фукидиду-младшему познакомиться с Пе-
риклом, как он целиком подпал под обаяние дела и личности
выдающегося афинского политика, сделался сторонником Перикла,
сторонником афинской демократии. Впоследствии, уже после
смерти Перикла, Фукидид сам стал политическим деятелем. Это
было уже во время Пелопонесской войны. Афиняне изгнали и
Фукидида-младшего. В изгнании он стал записывать историю
Пелопонесской войны. Он создал блистательное историческое
сочинение, причем ценно, что оно написано по свежим следам
свершившихся событий. Другое дело, что у Фукидида были свои
симпатии и антипатии, свои предубеждения. Да и немудрено; он
описывает события, которые пережил как их участник и
современник. Раньше, при осмыслении политической, культурной
жизни Афин, их отношений с другими государствами у нас уже
не один раз возникал повод ссылаться на «Историю Фукидида».
Теперь же, основываясь на этой «Истории», хочу пригласить
читателей к чрезвычайно актуальному воспоминанию о
деятельности древних греков на международной арене. Ведь
нравственность народа, его этические ценности очень наглядно выявляются
как в открыто провозглашаемых нормах, принципах отношения к
другим народам, так и в морали, реально положенной в
основание международных отношений. Сдвиги в этой любопытнейшей
области политических дел являются очень существенным
индикатором исторических изменений. Они — иногда они в первую
очередь — свидетельствуют о прорыве народа, страны,
государства к новому образу действия и мышления. А могут, наоборот,
обнаруживать глубокие трещины в жизнедеятельности еще
довольно прочных государственных объединений. Трещины, которые в
будущем непременно превращаются в разломы и ведут к скорому
или постепенному передвижению целых народов, государств с
центра всемирно-исторического действия на его периферию.
Итак, какими же принципами, ценностями руководствуются
греки, оценивая международные дела? Прежде всего надо
отметить: здесь еще более, чем во внутренней жизни, господствуют
78 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
культ победы и победителей, горькое переживание поражения и
всегда — подготовка к новому столкновению, где можно было бы
взять реванш. Фукидид пишет, например, о событиях,
предшествующих Пелопонесской войне: «коринфяне, раздраженные
неудачей, усердно готовились к войне с керкирянами» (а остров
Керкира был прежде колонией Коринфа). Да и как могло быть
иначе — восклицает Фукидид, если керкиряне «захватили
господство над всеми водами в окрестных областях», «наносили
морскими набегами урон союзникам коринфян» м.
Керкиряне, в свою очередь обеспокоенные военными
приготовлениями коринфян, спешат в Афины. Туда же прибывают
послы коринфян. Обе стороны, согласно Фукидиду, выступают в
афинском народном собрании — случай, кстати, довольно
типичный для древнегреческой дипломатической практики.
Любопытно, на каком политическом языке говорят о тогдашних
международных делах враждующие стороны. Керкиряне, склоняя
афинян к приему их города в Афинский союз, упирают скорее на
выгоду, но не забывают и об этике: «Если вы благосклонно
примете нашу просьбу, то и для вас этот случай будет выгоден во
многих отношениях. Прежде всего потому, что вы представите
желанную помощь несправедливо обиженным, а не тем, кто
причиняет вред другим. Затем потому, что поддержав нас, вы
окажете нам благодеяние, память о котором никогда не изгладится. И,
наконец, потому, что мы обладаем сильнейшим после вашего
флотом» (I, 33). Есть, правда, один деликатный пункт — Керкира
была колонией Коринфа. Но и тут у керкирян готов довод:
«всякая колония почитает свою метрополию лишь пока та хорошо
обращается с нею, если же встречает несправедливость, то
отрекается от метрополии» (1,34).
В речи коринфян — опять-таки по обычаю дипломатических
конфликтов того времени — немало упреков в
«несправедливости», «недобропорядочности» керкирян, которые пользуясь
удобным островным положением города и лишь для вида
прикрываясь нейтралитетом, «открыто прибегают к насилию, а там,
где представится удобный случай, они бесстыдно захватывают
чужое». Конечно, коринфяне не упускают случая, отвечая на
«наглое оскорбление» керкирян, заявить: «По крайней мере все
остальные наши колонии оказывают нам почет, и колонисты нас
очень уважают» (I, 37,38).
И вот что поразительно: керкиряне открыто и жестко
предлагают афинянам, нимало не смущаясь присутствием коринфян,
и Фукидид. История I. С. 81, 30.
Цивилизация и культурл древних греков
79
«первыми напасть» на Коринф, ибо считают, что в этом полисе
идет выбор только «одной из двух возможностей: уничтожить нас
или усилиться самим» (I, 83). В «Истории» Фукидида
представители разных городов еще много, много раз будут говорить друг с
другом, склоняя к союзу, обвиняя других в измене,
несправедливости, насилии, оправдываясь против возведенных на них
аналогичных обвинений и т.д. Это, как правило, речи, произносимые в
народных собраниях. Аргументы часто вполне практические;
надо напасть первыми, чтобы усилиться самим и не дать усилиться
враждебной стороне. Они вполне в ходу в международно-
политических дискуссиях греков. И ведь у Фукидида речь идет
отнюдь не об отражении нападений других
народов-завоевателей, как было в изнурительных Греко-персидских войнах — тогда
греки отстаивали свою свободу, право на самостоятельное
развитие своей цивилизации.
Память о совместной борьбе против персов еще хранил народ
и, например, афиняне, пытаясь предотвратить Пелопонесскую
войну, по Фукидиду, напоминали спартанцам о боевом братстве,
правда, упирая больше на жертвы и героизм своего народа, чем
вспоминая о подвигах сынов Лакедемона, спартанцев. Но ведь
теперь греки враждуют не с завоевателями — «варварами», а друг с
другом: города-государства одной цивилизации, одного народа
идут уже не путем мирного, как прежде, соревнования дел,
достижений, талантов, а тропой войны, кровавых столкновений. Это
и есть начало конца «греческого чуда». Цивилизация
надламывается потому, что накоплено слишком много — куда больше, чем
нужно было для мирной обороны — оружия, а также в любую
минуту готовых подняться и стать воинами граждан. И главное,
дух сотрудничества, солидарности, общегреческие ценности,
сплачивавшие народ во время войн с персами, уступают место
злобному соперничеству, зависти, погоне за богатствами, рабами,
борьбе за власть и влияние в греческом и чужеземном мире. Вот
этот духовно-нравственный надлом, о котором мы раньше уже
стали говорить, и будет нас здесь интересовать особо: мы
убедимся в огромной действенности таких негативных идей и
настроений, то есть надломленного, фрустрированного духа народа.
Греческий дух еще до Пелопонесской войны разъедался
болезненными противоречиями, нравственными недугами. Война
выявила: высокий и вообще говоря продуктивный патриотизм
греков заключает в себе, однако, червоточину общегреческой, а
также местнической (афинской, лакедемонской, коринфской и т.д.)
спеси, у весьма многих греков спесь перерастает в убеждение, что
варвары, а также и жители других, не столь процветающих грече-
80
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ских городов, — люди неполноценные. Аргумент типа «или —
или»: или властвуем мы, или властвуют над нами — делается чуть
ли не главным в межполисных и международных делах. Конечно,
не греки придумали этот принцип — им жила вся тогдашняя
цивилизация. Да по существу только в наше время — из-за ядерной
угрозы — стали пересматриваться устои старого, как сама
цивилизация, мышления, согласно которому беды, случающиеся с
народом-врагом, означают выигрыш для твоей страны, твоего
народа. Тот патриотизм городов-полисов, общегреческий патриотизм,
который имел своей оборотной стороной греческую спесь,
коренился в стародавних обычаях. Впрочем, греки свою спесь почти
что не замечали или считали качеством непредосудительным. Не
случайно же Аристотель, цитируя в «Риторике» слова
гомеровского Ахилла:
Как перед лицом аргивян обесчестил меня Агамемнон,
Будто какой-нибудь я новосел, чужеземец презренный,
(Илиада, 856, 647 ел).
видно, не находит в спеси и гневе грека ничего из ряда вон
выходящего. Более того, очевидно, что он рассматривает жизнь в
Греции как несомненное преимущество — сродни богатству или
особому искусству красноречия. А имеющий таковые
преимущества, по логике типично-греческого ценностного рассуждения
Аристотеля, естественно требует к себе особого уважения
(Риторика, II, 1378 в, 31-35; 1379 с 1-4).
Напасть или не напасть первыми для греков все меньше
становится вопросом справедливости, но проблемой наиболее
выгодной тактики или сложившегося соотношения сил. У Фукидида,
повествующего о событиях Пелопонесской войны, есть масса тому
подтверждений. Как, например, ответили афиняне на
упомянутое ранее обращение керкирян и коринфян? На первом
собрании они «склонялись» к союзу с Коринфом, на втором —
«передумали» и заключили оборонительный союз с Керкирой. Фуки-
дид откровенно свидетельствует, сколь непринципиальными,
политически корыстными стали «принципы» афинян: они «были
убеждены, что воевать с пелопонеесцами придется во всех
случаях, и потому не желали отдавать Керкиру с ее сильным флотом в
руки коринфян. Прежде всего, однако, они желали по
возможности перессорить их между собой для того, чтобы в войне с
Коринфом или другой морской державой, во всяком случае, иметь
дело с уже ослабленным противником» (I, 44). Увы, на многие
века в жизни человечества укореняются такие же «принципы»,
прикрываемые, как и у греков, разговорами о справедливости и доб-
Цивилизация и культурд древних греков
81
ропорядочности в международных отношениях. Впрочем, греки
куда более откровенны, чем наши современники. Так, афиняне,
выступая не где-то, а в Народном собрании своего соперника,
Спарты, цинично повествуют о «принципах» отношений с
союзниками: «Возбудив долгим господством столько ненависти к себе
со стороны союзников, как мы, Вы были бы вынуждены (мы
уверены в этом) или властвовать над ними силой, или подвергать
себя опасности. Таким образом, нет ничего странного или даже
противоестественного в том, что мы приняли предложенную нам
власть и затем ее удержали. Мы были вынуждены к этому тремя
важнейшими мотивами: честью, страхом и выгодой. Не мы
первыми, однако, обратились к такому способу упрочения власти, но
искони уж так повелось на свете, что более слабый должен
подчиняться сильнейшему» (1,76,1—2).
Вот он, важнейший признак греческой политической
нравственности, внутренней и международной. Ее логика и психология
— логика и психология господства-подчинения, реалистично
принимаемая греками за самое основание всей прежней,
современной им, да и будущей истории. Однако развитое
нравственное чувство все же говорит грекам: это неладно, неблагостно,
несправедливо... И является на свет заманчивая, на первый взгляд,
«рационализация»: «Вместе с тем, по нашему мнению, мы
достойны нашей власти...» (I, 76,2). Противоречия между «достойной
власти» демократией и недемократическим подавлением других
народов часто даже не замечают. Но в некоторых случаях греки
уже убежденно оспаривают и целесообразность, и справедливость
складывающихся межгосударственных отношений. Прежде всего,
конечно, это делают сами союзники Афин, Спарты или Коринфа,
если достоинству, чести, свободолюбию граждан их городов
наносятся чувствительные удары. Или когда, например, чем-то
оскорбленные, а то и привлеченные какими-то новыми выгодами
города «перебегают» от одного союза к другому. Так, митиленцы,
решившие отложиться от Афинского морского союза и
примкнуть к Спарте, вполне четко и, вообще говоря, здраво
высказываются перед спартанцами: «Так как наша цель — вступить в союз с
Вами, то прежде всего обратимся к вопросу о справедливости и
чести. Мы знаем, что не может быть прочной дружбы между
частными людьми и союза города с городом для какой-нибудь цели,
если друзья и союзники не верят во взаимную честность и не
сходны по характеру и образу мыслей. Ведь несходство мыслей
приводит к расхождению в действиях... Мы никогда не были
союзниками афинян в их намерениях поработить эллинов, но
союзниками освобождения эллинов от мидийского ига. Пока афи-
82
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
няне, стоя во главе союза, обращались с нами как равные с
равными, мы были готовы следовать за ними» (III, 10, 1—3). Другой
пример — спор афинян с мелоссцами, жителями лакедемонской
колонии, тоже в разгар Пелопонесской войны. Послы Афин
пытаются убедить мелоссцев в том, что им следует подчиниться
«ради пользы» афинского владычества и «обоюдной выгоды». Ме-
лоссцы спрашивают напрямик: «Но как же рабство может быть
нам столь же полезно, как вам владычество?» Ответ афинян
откровенно-циничен: «Потому что Вам будет выгоднее стать
подвластными нам, нежели претерпеть жесточайшие бедствия. Наша
же выгода в том, что не нужно будет вас уничтожить» (V, 91, 92).
Идея мелоссцев об их возможном нейтралитете афинянами
категорически отвергнута, ибо «своя выгода» — безопасность,
могущество Афин, и только их — поставлена во главу угла.
Но и в самих Афинах ведутся острые политико-нравственные
дискуссии о «наиболее достойных» принципах отношения к
союзникам. Фукидид — теперь уже прямо от себя, а не «скрываясь
за спиною» своих известных или безымянных исторических
героев — дает довольно глубокий для древнего автора, и сегодня не
утративший актуальности анализ, где нравственность, точнее,
безнравственность в международных отношениях поставлена в
прямую причинную связь с внутренними противоречиями
социально-политической жизни греческих городов-государств, с теми
изменениями, которые и были индикаторами перехода
древнегреческой цивилизации от ее высочайшего взлета к
стремительному упадку. Одной из первых трагедий,
продемонстрировавших, по Фукидиду, остроту междоусобной политической борьбы
партий и группировок, стали случившиеся в разгар
Пелопонесской войны события в Керкире, тем более поразительные, что
политическая борьба, перешедшая в резню, велась в
демократическом государстве. И как раз «демократы, — по свидетельству Фу-
кидида, — продолжали избиение тех сограждан, которых они
считали врагами, обвиняя их в покушении на демократию, в
действительности же некоторые были убиты из личной вражда, а
иные — даже своими должниками из-за денег, данных ими в долг.
Смерть здесь царила во всех видах... Отец убивал сына, молящих о
защите отрывали от алтарей и убивали тут же. Некоторых даже
замуровали в святилище Диониса, где они и погибли. До такой
неистовой жестокости дошла эта междоусобная борьба. Она
произвела ужасное впечатление, особенно потому, что подобное
ожесточение проявилось впервые. Действительно, впоследствии
весь эллинский мир был потрясаем борьбой партий. В каждом
городе вожди народной партии призывали на помощь афинян, а
Цивилизация и культура древних греков
83
главари олигархов — лакедемонян» (III, 81, 4—5; 82,1). Война,
которую Фукидид называет «учителем насилия», усилила
внутреннее ожесточение, хотя и дала ему потечь по руслу жестокости,
проявляемой по отношению к гражданам враждебных, а порой и
союзных городов-государств.
Фукидид прозорливо отмечает, что жестокость, насилие
особенно истово прикрываются моралистической фразеологией,
причем обе враждующие и соперничающие в насилии стороны
лживо апеллируют к одним и тем же или сходным словам,
ценностям. «Действительно, у главарей обеих городских партий на
устах красивые слова: «равноправие для всех» или «умеренная
аристократия». Они утверждают, что борются за благо государства, в
действительности же ведут лишь борьбу между собой за
господство. Всячески стараясь при этом одолеть друг друга, они
совершали низкие преступления, но в своей мстительности они
заходили еще дальше, руководствуясь при этом не справедливостью
или благом государства, а лишь выгодой той или иной партии.
Достигнув власти путем нечестного голосования или насилием,
они готовы в каждый момент утолить свою ненависть к
противникам. Благочестие и страх перед богами были для обеих партий
лишь пустым звуком, и те, кто совершал под прикрытием
громких фраз какие-либо бесчестные деяния, слыли даже более
доблестными. Умеренные граждане, не принадлежавшие ни к какой
партии, становились жертвами обеих, потому что держались в
стороне от политической борьбы или вызывали ненависть к себе
уже самим своим существованием. Так борьба партий породила в
Элладе всяческие пороки и нечестия, а душевная простота и
добросердечие — качества, наиболее свойственные благородной
натуре — исчезли, став предметом насмешек. Повсюду
противостояли друг другу охваченные подозрительностью враждующие
партии» (III, 82,8,1). До боли знакомая картина, не правда ли? Вот
и подумаем: усвоили ли люди XX в. уроки древнегреческой
истории?
То, что происходит на Керкире и в других греческих полисах
«во взаимных отношениях» (III, 85, I), прямо и непосредственно
воспроизводится и в отношениях международных. А это в свою
очередь приводит к братоубийственной войне, к упадку прежде
яркой, новаторской и по-своему спаянной едиными ценностями
древнегреческой цивилизации.
Потому и разразилась Пелопонесская война — к такой мысли
склоняет своих читателей Фукидид, — потому она так
обескровила древнегреческие города, их жизнь и культуру, что верх во всех
их делах взял воинственный дух вражды, мести, жестокости, не-
84
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
доверия, коварства. Есть, конечно, среди греков и люди, которые,
изведав превратности войны, все более склоняются к миру. Так,
лакедемонец Никий, которого Фукидид считает наиболее
удачливым полководцем своего времени, приходит к простому
выводу: «наилучшей... защитой от опасностей является мир» (V, 16,1).
И миролюбивая воля на время побеждает — после десятилетней
войны заключен мир. Но мир, продлившись 6 лет и 10 месяцев,
оказывается непрочным. Фукидид правильно показывает, что
причиной тому снова же является дух вражды и недоверия:
афиняне и спартанцы «старались (при неустойчивости мирных
отношений) вредить друг другу насколько возможно» (V, 25, 3). И
опять картина нам всем более чем знакомая-
Связь между упадком внутриполитических нравов и
безнравственностью в международных отношениях отчетливо видна
теперь и в речах политических лидеров, в том числе и в славных
некогда Афинах. Каким контрастом по отношению к речам Перик-
ла выглядит, например, речь, которую Фукидид вкладывает в
уста Алкивиада — несомненно, одаренного, но честолюбивого,
циничного политика и полководца. Алкивиад хвастается не столько
даже победами в Олимпийских играх, сколько «великолепием»
своего снаряжения, а также «блестящей роскошью», с которой он
выполняет хорегии (т.е. общественную обязанность за свой счет
обучить хор и поставить на сцене представление). А похвальба
богатством, знатностью, роскошью — это своего рода
антиценности, близко соседствующие с открытым презрением к другим
людям и другим народам. Какими аргументами Алкивиад (в споре с
другим Никием, афинянином, сыном Никерата) склоняет
демократов-афинян к войне, в данном случае к походу в Сицилию?
(Фукидид ненавидел Алкивиада, но вряд ли мог сильно
погрешить против исторической истины, так что его «передача» алки-
виадовой речи, наверное, была близка к речи действительной).
Слова Алкивиада полны презрения к другому городу, его
гражданам: «многочисленное население сицилийских городов — это
сборная толпа» — и всего-то потому, что у сицилийцев нет таких,
как у афинян, ограничительных (на деле недемократических)
правил предоставления гражданства, что войско их
немногочисленно и плохо вооружено... Воевать против них вроде бы велят
сами боги.
Воинственность в устах Алкивиада — главная, цинично
провозглашаемая доблесть; осмотрительность и сдержанность в
международных делах, предлагаемая Никием, отождествляется с
трусостью; разжигается рознь между отвоевавшим поколением и
безрассудно рвущейся в бой молодежью. Но главное тут — афинская
Цивилизация и культура древних греков
85
спесь, в которой не видят ничего предосудительного, в то время
как спесь спартанцев считают достойной войны против них;
драчливое намерение наказать одних, более слабых
(сицилийцев), чтобы устрашить более сильных (спартанцев); прямой
призыв действовать с позиции силы, «наращивать мускулы», говоря
языком распространенных сегодня политических метафор.
«Итак, — призывает афинян Алкивиад, — поскольку мы
рассчитываем еще больше усилить нашу мощь здесь, если нападем на
врагов в Сицилии, то выступим в поход. Мы собьем спеси с пело-
поннесцев, когда они увидят, что мы, пренебрегая достигнутым в
настоящее время спокойствием, решились отплыть в Сицилию. И
если нам выпадет удача и мы утвердимся на острове, то, по всей
вероятности, станем господами всей Эллады» (VI, 18, 4). Итак,
теперь мотив всегреческого господства Афин звучит громко и
неприкрыто.
Характерно, что, возражая затем Алкивиаду, Никий вовсе не
занимался защитой открыто попираемых принципов
политической нравственности в международных отношениях, но лишь
только практично указывал на трудности возможного похода. А
дальше в фукидидовом повествовании Никий, теперь уже как
руководитель пришедшего в Сицилию афинского войска, почти что
алкивиадовыми спесиво-воинственными словами подбадривает
своих воинов, причем с известной демагогической ловкостью
затрагивает и тот деликатный пункт, что афиняне пришли
завоевателями (пусть и по призыву, как он говорит, «главных
представителей островитян»): «Мы находимся далеко от родины и у нас
вблизи нет никакой дружественной страны, если только мы не
обретем ее силой оружия»; или: «вы — не на родной земле, а на
чужбине, если не победите, уйти вам будет трудно» (VI, 68,3). Как
известно, афиняне потерпят в Сицилии сокрушительное
поражение. И что же? Они снова начнут готовиться к войне, ибо, как
точно отметил Фукидид, «все эллины пришли в волнение» (VIII,
2) — и поднявшие голову противники, и подчиненные,
униженные союзники. Афиняне не напрасно опасаются отпадения
союзников: теперь воевать предстоит с самым большим союзным
городом — Хиосом. А потом, разумеется, вступят в активную
борьбу спартанцы. Война формально заканчивается капитуляцией
Афин (404 г. до н.э.), но реально урон терпит весь греческий мир.
Глубокий кризис охватывает всю цивилизацию греков.
Возвратимся, однако, к древнегреческой политической
нравственности, к борьбе идей и подходов в международной политике.
Фукидид добросовестно пытается выявить разные позиции,
причем идеалом для него является внутригосударственная мудрость
86
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Перикла, которая охарактеризована и как наиболее
нравственная. И действительно, Перикл, когда он говорит о делах и
величии Афин, прославляет высоту достижений и помыслов народа,
предстает как великий демократический политик, превыше всего
ставящий свободу, честь, достоинство, трудолюбие, инициативу
человека независимо от его происхождения и имущественного
положения. Но даже и великий Перикл как бы выглядит другим
человеком и политиком, когда он — по обычаям греков, довольно
откровенно — говорит со своим народом о враждебной Спарте и
призывает к войне со спартиатами и их сторонниками по
Пелопоннесскому союзу. Фукидид, исполненный преклонения перед
личностью и делами Перикла, не скрывает, не приукрашивает его
«жестких» аргументов — и не только потому, что перикловы речи,
согласно оценке специалистов, старается воспроизвести наиболее
точно. Причина и в том, что сам историк Фукидид, правдиво
раскрыв жестокости и ужасы войны, саму идейно-нравственную
логику господства-подчинения все же не считает особенно
предосудительной. Вполне определенно, хотя, разумеется, не столь
цинично, как у Алкивиада, представлена она и в речах Перикла. Вот
основные посылки и выводы ее в итоге всегда воинственных
силлогизмов.
1. Враги (здесь: лакедемоняне) все равно «замышляют против
нас недоброе, а теперь — особенно» (1,140, 3). Раз так, значит,
надо всегда готовиться к войне, сохранять преимущество и «если
надо», выступать первыми.
2. Поводы к войне? Может, их кто-то сочтет мелочными? Но
Перикл убеждает: «Пусть Вас не тревожит, что Вы начали войну
из-за пустяков. Ведь эти пустяки предоставляют Вам удобный
случай проявить и испытать вашу силу и решимость. Если вы
уступите лакедемонянам в этом пункте, то они тотчас же потребуют
новых, еще больших уступок, полагая, что вы и на этот раз также
уступите из страха. Если же вы решительно отвергнете их
требования, то ясно докажете, что с вами следует обращаться как с
равными» (там же). Итак: устрашение — даже по «пустяковым»
поводам, неуступчивость — из боязни, что враг сочтет тебя слабым,
если пойдешь на компромиссы.
3. Особый «образ врага», выражаясь языком современной
политики — опять-таки смесь (у Перикла несколько смягченного)
чувства превосходства над противником и отыскивания
слабостей, которые можно использовать для нанесения
чувствительного удара. Перикл напоминает: у пелопонесцев, земледельческих
народов, куда меньше денег, чем у афинян. Отсюда плохо
скрытое презрение афинянина, чей благосостоятельный город спосо-
Цивилизация и культурд древних греков
87
бен воевать постоянно, ибо воюет «деньгами»: «И ни в частных
руках, ни в казне денег у них нет. На долгие войны, да еще и в
заморских странах, они не решаются, но по бедности ведут войны
только между собой — и то лишь кратковременно» (1,141, 3). Это
— доводы. А вывод: воевать, нападать первыми, используя
преимущество Афин на море, требуя постоянной подкачки денег и
опасаясь ввязываться в сухопутную войну, где дело могут решать
личная храбрость и мастерство полководцев. В последнем
спартанцам отказать нельзя, но, кстати, вообще-то честный политик
Перикл хитроумно обходит все возможности воздать должное
противнику — больше говорится о его слабостях, а также о
недостатках возглавляемого Спартой союза. «Как же эти земледельцы,
чуждые морю, обреченные к тому же на бездействие под
постоянной угрозой блокады их гаваней вашим многочисленным
флотом, могут совершить что-либо достойное упоминания?» (I, 142,
7). Как видим, налицо и недооценка способности противника
вести войну с могущественными на море Афинами — недооценка,
следствия которой скорее выявляются при преемниках Перикла.
И если Фукидид имеет основание считать последних куда более
слабыми, чем Перикл, политиками, то в международной области,
в вопросах войны и мира они не более чем верные последователи
этики, логики, стратегии и вытекавшей из них военно-
дипломатической тактики, разделяемых и Периклом.
4. Правда, в конце разбираемой речи Перикл говорит: «Войны
мы не начнем, но в случае нападения будем защищаться. Это —
справедливый и достойный нашего города ответ. Однако следует
иметь в виду, что война неизбежна. И чем охотнее мы примем
вызов, тем менее яростным будет вызов врагов. Помните, что там,
где величайшие опасности, там и величайшие почести для города
и для каждого отдельного гражданина» (1,144, 2—3). Вот она — та
первооснова древнегреческого политического мышления,
которая на долгие века стала для человечества нормой: возможность
войны чаще всего уже принимается за неизбежность. Потому
война так часто становится действительностью, что правдиво
показывает Фукидид: «С того времени начинается уже настоящая
война афинян, пелопоннесцев и союзников обеих сторон, когда
они уже не сообщались между собой без глашатая и беспрерывно
противостояли друг другу с оружием в руках» (И, I). Но и впрямь,
не была ли война роковой неизбежностью? Можно усомниться.
Во всяком случае, даже Перикл, обладающий огромным
общегреческим авторитетом, не только не употребляет всех своих усилий
для умиротворения греков, а, напротив, призывает свое
красноречие для убеждения сограждан в неизбежности и даже «мораль-
88
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ной оправданности» — конечно, для одних афинян — войны,
стоящей у порога. Он не рассылает послов по городам греков,
чтобы призвать опустить занесенные мечи и оставить на якорях
подготавливаемые к военному походу корабли. Напротив, Пе-
рикл убеждает сограждан верить в свое военное преимущество, в
мощь Афин и, разумеется, апеллирует к славе «отцов», к
«величию» и «могуществу» родины. Точно то же делают пелопонесцы
во главе со Спартой — и потому возможная война становится
неизбежной.
Я прибегала — для иллюстрации — к труду Фукидида. Но к
тем же в принципе выводам приводит всякий другой материал.
Чтобы не быть голословной, сошлюсь на речи великого
древнегреческого оратора Демосфена. И в этих речах сохраняются
рассмотренные раньше на примере «Истории пелопонесской
войны» ценностные основания греческой международной
политики — представления о «естественности» могущества, силы,
давления и наказания по отношению и к врагам, и к союзникам. А
поскольку главным врагом Афин в ту пору становится
Македония, то против ее царя Филиппа, отца будущего Александра
Великого, и направлены многие речи Демосфена, так называемые
«филиппики» (слово это потом стало нарицательным, обозначая
страстную обличительную речь). Греки продолжают воевать с
греками — однако теперь на полную власть в греческом мире
претендует Македония, оттесняя приходящие в упадок Афины.
Демосфен, ненавидящий Филиппа, чаще всего даже не называет
македонского царя собственным именем, а выражается в такой
манере: «надо наносить вред его стране посредством триер и
другого отряда воинов» (Демосфен. Речи. Олинфская первая, 17).
Демосфен не скупится на красноречие, в котором он великий
мастер, чтобы живописать то коварство Филиппа, то его силу, то
наоборот, его слабость. «Итак, нужно вам, граждане афинские,
понять, что всякая невыгодная сторона у него есть выгода для вас»...
(Там же. С. 24) — эти слова Демосфена четко выражают максиму
межполисной политики греков, которая почти без изменений
дожила до нашего времени.
В Олинфских речах Демосфен уговаривает афинян помочь
Олинфу (городу на полуострове Халкидике) в его борьбе с
Филиппом, и один из аргументов — довольно циничное
разъяснение того, почему афинянам выгоднее воевать на чужой
территории. Например: «богатым это нужно для того, чтобы, затрачивая
пустяки ради сохранения больших средств, которыми они, к
счастью, обладают, безопасно пользоваться остальным; людям
призывного возраста (а в Афинах это были граждане от 18 до 60 лет —
Цивилизация и культурд древних греков
89
Я. М.) — для того, чтобы приобрести военный опыт в стране
Филиппа...» (Там же. С. 28).
Те исследователи, которые справедливо чтят в Демосфене
одного из великих ораторов древности, обычно подчеркивают:
основания активнейшей антимакедонской политики, всю жизнь
проводимой Демосфеном, состоят, во-первых, в предпочтении
демократического строя монархическому, а во-вторых, в
прозорливом понимании того, что властители усиливающейся
Македонии вскоре захватят первенство в Греции и устремятся в другие
завоевательные войны. Так в действительности и случилось.
Однако при всей политической прозорливости Демосфена, его
горячем афинском патриотизме, борьбе за свободу и независимость
родины, его выдающиеся с ораторской точки зрения речи никак
не дают примера борьбы против таких принципов межполисной
и международной политики как доминирование, господство,
нанесение первого удара, корыстное использование положения —
не только врагов, но и союзников и т.д. Как раз наоборот — эти
принципы приведены в систему и горячо отстаиваются
Демосфеном. Ибо они долгое время служили «на пользу» Афин. И даже
теперь, видя занимающуюся зарю македонского владычества,
Демосфен рассчитывает повернуть колесо истории назад, к
афинскому господству в Греции. И он пускает в ход типичные для
афинского политика средства убеждения — апеллирует к былому
величию Афин, умело манипулирует сознанием, зараженным
афинской спесью. «Я со своей стороны предложил бы вам (уж вы
на меня за это не прогневайтесь!) смирить свою гордость и
ограничиваться ведением собственных дел...», — таким вполне
разумным, казалось бы, советом, начинает Демосфен фразу. Но то
единственно разумное, что мог в таких обстоятельствах сказать
мудрый политик своему народу — произнесено всего лишь для
красного словца, есть не что иное как ораторский прием. И
Демосфен, действительно искусный мастер убеждать афинян,
знаток их сознания, заканчивает предложение совсем иначе: «а если
не хотите этого, то готовьте себе более сильное войско. Конечно,
если бы я знал, что вы сифнийцы или кифнийцы (попутно
афинянин Демосфен высказывает нескрываемое презрение по
отношению к жителям маленьких островов Сифи и Кифи, входивших
в Кикландскую островную группу — H. М.) или какие-нибудь
люди в этом роде, тогда я советовал бы вам смириться; но так как
вы — афиняне, то я предлагаю вам подготовить себе войско: ведь
позорно вам, граждане афинские, позорно покинуть пост вашего
высокого сознания, который передали вам в наследство ваши
предки... Вообще же, как это бывает у вас с политическими деяте-
90
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
лями, которым нельзя отказаться от своей деятельности тогда,
когда захотят, вот так теперь обстоит дело и с вами, поскольку вы
являетесь политическими руководителями среди греков («О
распределении средств», 34—35). Верно, «пост... высокого сознания»
был последним прибежищем для дряхлеющего всегреческого
владычества Афин.
Урок строгий и серьезный: политический прагматизм, цинизм,
утвердившийся в мире во многом аморальной международной
политики, заражает и великие умы, гордые характеры. Ибо
болезнь становится массовой, повальной. В этой сфере чума
аморализма и истерического безрассудства косит и тех, кто в других
отношениях может показывать примеры гражданской и личной
нравственной стойкости, прозорливости ума, хладнокровной
рассудительности. Так складываются дела в славной своими
выдающимися цивилизационньши достижениями Греции. Такими они,
в принципе, остаются и в последующей истории.
Основные политические установки греков в делах войны и
мира, следовательно, не так уж богаты оттенками: их разделяют,
отстаивают и плохие и средние, и самые искусные политики. Что,
конечно, не случайно, как не случайно и другое: древние греки
словно по «заказу» дают четкие, откровенные, порою циничные
формулировки тех устоев «старого мышления» в международных
делах, всю идейно-нравственную и практико-политическую
несостоятельность мы, люди XX в., тоже стали осознавать лишь
сравнительно недавно — вследствие того, что прошли через две
мировые войны, проходим через разрушительные, жестокие
локальные военные конфликты и стоим перед угрозой тотального
уничтожения человечества. Но не противоречит ли сказанное о
внешней политике тому, о чем шла речь раньше? Конечно,
противоречит, но тут и заключено глубинное противоречие
древнегреческой и всей предшествующей и последующей мировой
цивилизации. Ведь те же греки, которые все более втягиваются в
изнурительные войны и раздоры, пока еще не утрачивают многих своих
качеств цивилизованного народа. Ибо цивилизационное
ускорение еще долго сохраняет свою силу, и страна, народ продолжают
двигаться вперед, потому что работают социальные механизмы
добротного труда, продуктивного обмена, творчества,
новаторства. Цивилизованность, достигнутая греками, даже оказывает
сопротивление кризисным процессам; она направляет так
свойственные грекам «атональные», состязательные способы жизни и их
соревновательно-гордый характер в созидательное, мирное русло.
Греки продолжают успешно состязаться в ремесле, стоящем на
грани с искусством, и в торговле, которая широко охватывает
Цивилизация и культурл древних греков
91
мир. Они стремятся перещеголять друг друга красотой и
благоустроенностью городов, величием храмов и славой театров,
изысканностью речей «своих», но известных всей Греции ораторов,
мастерством поэтов, драматургов, мудростью философов,
новаторством всех дел и замыслов, вниманием к назревшим
переменам. Они состязаются в насыщенности жизни яркостью и
богатством впечатлений, в изысканности и простоте одежды, в
виртуозной культуре тела. Они продолжают проводить Олимпийские и
другие известные состязания и на время всегреческих
Олимпийских игр прекращают все войны и междоусобицы. Вот эту
состязательность и можно считать самым ценным наследием
древнегреческой цивилизации. Вся плодотворность творческой,
новаторской состязательности греческой жизни станет особенно
ясной, когда мы в нашем мысленном путешествии «посетим»
Акрополь.
С Акрополем — верхним городом — другие части полиса,
которые уже «посетило» наше воображение, сообщаются многими
путями-дорогами. И об этом никак нельзя забывать, когда мы
станем размышлять о древнегреческих архитектуре, искусстве,
религии, словом о культуре в узком смысле, средоточием,
воплощением и символом которой является Акрополь. Однако
необходимо понять и то, почему акрополь так высоко вознесен над
городом, почему в нем строятся самые величественные храмы и
воздвигаются самые прекрасные статуи, почему особо украшаются
лестницы и проходы — и почему все это окружается мощными
стенами. Акрополь — самое высокое и самое хранимое место в
городе, не только в прямом, но и символическом, переносном
смысле. Приходя в акрополь, греки от суеты сует повседневной жизни
возносят свой дух к самому возвышенному. Тут действительно
устремляется ввысь их продуктивное творческое воображение
(если использовать термин Канта); отрываясь от быта, они
восходят мыслью к бытию; дух «освобождается» от земной
ограниченности и постигает безграничье космоса. От земного переплетения
добра и зла, прекрасного и безобразного, разумного и
бессмысленного, мощи и бессилия, величественного и низменного
воображение поднимается к Благу, Красоте, Уму, Силе, Величию
«самим по себе». От человеческого дух устремляется к
Божественному. Акрополь, таким образом, становится своего рода
средоточием культуры, а вместе и высшим этажом здания древнегреческой
цивилизации, обителью чистой духовности, «топосом», где
«поселяются» достаточно абстрактные, «чистые», бескорыстные
мировоззренческие, нравственные, художественные идеи и
устремления народа. Они, эти идеи и устремления, «застывают» в камне
92 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
храмов и скульптур, воплощаются «в языке» предметных
символов, овладев которым, можно «читать» обращенные к потомкам
послания древнегреческой цивилизации. А главное, дух народа
проявляется в живом религиозном, культурном общении древних
греков — и он тоже воплощается в особом символическо-комму-
никативном языке, языке мировоззрения, в логосе и этосе,
вплетенном в само общение. «Вычитывать» идеи, рождающиеся в
самом жизненном мире и «записанные» на языке общения, лучше
всего могут те люди, которые, с одной стороны, сами повседневно
включены в это общение, а с другой стороны, в какой-то мере
умеют и неустанно учатся работать именно с идеями, далее
«очищая» и возвышая их. Искусство художественного слова,
сплетенное с духовно-нравственным поиском, играет, как мы увидим,
чрезвычайно важную роль в дешифровке, очищении и
превращении в особую область культуры духовно-мировоззренческого
творчества. Но функция рождающейся в этом процессе
философии ни с чем не сравнима. От жизнедеятельности греков в
акрополе к философии как особому занятию ведут самые прямые
пути. (Что нельзя, конечно, понимать буквально, потому что «топо-
сами» философствования становятся сначала галереи агоры, дома
горожан, а затем — специальные «школы», которые, вовсе
неслучайно, а из-за бедности философов, определенной отрешенности
и независимости философствования, располагаются на
некотором удалении и от агоры и от акрополя). Нам и предстоит теперь
прочертить воображением эти пути, связующие культуру
древних греков, их мировоззрение, вплетенное в жизненный мир, и
мировоззрение философское. Пойдем по ним, сначала
отправляясь от культуры, от стартовой площадки Акрополя. А потом (в
следующем разделе) мы снова обнаружим те же нити-пути, но
идущие уже от философии.
Религия и храмы как воплощение мировоззрения
древних греков
На кораблях, которые курсируют между Грецией и Египтом, а
также другими странами Востока, нередко плавают тогдашние
строители, «инженеры», обучение которых по большей части
начинается с ознакомления со строительными сооружениями более
древних и накопивших уже значительный опыт восточных
цивилизации и культуры. На этом примере хорошо видно, что всякое
новое здание цивилизации и культуры не возникает на пустом
месте — оно начинается на «первоначальной кладке» предциви-
лизационных эпох и в особенности предшествующих цивилиза-
ционных достижений других регионов.
Цивилизация и культура древних греков
93
Вспомним снова о том пассажире древнегреческого корабля,
который привез из Египта не товары (или не только товары), а
знания и, что очень существенно, свои впечатления, оценки,
настроения. Если он архитектор — «инженер» — строитель
(нередко един в трех лицах), то его впечатления от посещения ближнего
к грекам Востока — Ассирии, Вавилонии, а особенно Египта — не
могут не быть ошеломляющими. Многотысячелетняя история
ближневосточной цивилизации ни в чем, пожалуй, не достигала
такого концентрированного, наглядного выражения, как в
грандиозности, величии культовых, храмовых, инженерных
сооружений и в сокровищнице накопленных за тысячелетия знаний и
опыта. Египетские пирамиды, храмы, инженерные (в первую
очередь ирригационные), крепостные сооружения поражают
путешественника не только своей монументальностью, но и
эстетическим совершенством — строгостью пропорций, простотой и
красотою форм. Строительно-архитектурная математика, достигшая
высокого расцвета еще в глубокой древности, уже выделилась в
Египте в особую специализацию, и ее неизменно осваивают
путешествующие на Восток «ученые» греки — особенно в те
столетия, когда они еще чувствуют себя учениками египтян. Египтяне
частично заимствовали, усовершенствовали, а частично изобрели
строительные приспособления, которые лишь в «механические»
столетия Нового времени стали считать примитивными. Но ведь
древние строители и архитекторы удачно решали сложнейшие
строительно-архитектурные задачи.
Однако греки Vu—VI вв. — то есть эпохи начавшегося
самостоятельного цивилизационного развития, задумываясь над
истоками и особенностями древнеегипетского
архитектурно-строительного чуда, скорее всего, уже собирают не только чисто
пассивные впечатления, не только учатся у искусных, знающих
египтян, но все более критически относятся к их опыту. Главное, на
чем опыт египтян покоится — это длительность его накопления
(тысячелетия), традиционность, чрезвычайная устойчивость
бдительно охраняемых традиционных форм и стандартов,
приспособленность последних к природе Египта, ко всему
многовековому способу жизни и мировоззрению древних египтян.
Древняя Греция выходит на арену мировой истории в эпоху
нового, невиданного ранее ускорения ее темпов. Путь локальной
цивилизации от зарождения к расцвету, который на Востоке, в
частности, в Египте был пройден за тысячелетия, греки должны
«пробежать» за столетия. По меркам современного ускорения
истории, когда цивилизационные скачки укладываются в
десятилетия и даже годы, развитие это кажется чрезвычайно медленным.
94
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Но по меркам и масштабам древности тот переход стремителен,
скачкообразен, динамичен. Греки, несомненно, чувствуют, что
живут (выражаясь современным языком) в эпоху невиданного и
драматического ускорения исторического развития. И в самой
обычной жизни они, скорее всего, отыскивают новый ритм.
Потому древнеегипетские тысячелетние «сроки» не устраивают их,
потому им кажутся застывшими, косными традиционные
египетские формы архитектуры и строительства.
Природа Греции, отличная от ландшафтов египетской
пустыни, своеобразие пригодных для строительства материалов,
которыми располагает греческая земля, со своей стороны диктуют
если не совершенно иные, то модифицированные архитектурные
образцы. И вот в VII—VI вв. до н.э. путешественники, которые
ездят в Египет за строительно-архитектурными знаниями, видно,
больше собирают общие конструктивные и доступные
дальнейшему преобразованию знания о элементах, математических
правилах, чем намереваются по приезде копировать конкретные
стороны восточного опыта. Усваивается в первую очередь то, что на
современном языке именуется моделями, схемами, парадигмами
(это греческое слово сейчас приобрело особую популярность). И,
надо отметить, египетская архитектурно-строительная практика
предоставляет для этого немалые возможности, ибо «египтяне
придерживались модульных пропорций и простых отношений;
из простых отношений они предпочтительно пользовались
такими, которые совпадают с геометрическими построениями.
Впечатление гармонии усиливается выбором таких модульных
пропорций, которые отвечают понятию изящного»35. А потом греки
существенно преобразовывают эти модули, схемы,
конструктивные элементы, словом, указующие парадигмы. Главное же, из
обновленных элементов слагаются иные
строительно-архитектурные целостности, единства многообразного.
Благодаря новаторскому отношению к восточному цивилиза-
ционному наследию греки «всего» за несколько столетий, т.е. с
невиданным прежде историческим ускорением создают
собственные — оригинальные и достаточно разнообразные, хотя также
воплотившиеся в строгих образцах архитектурно-строительные
системы. В истории архитектуры их называют дорическим,
ионийским и коринфским «ордерами». Впрочем ordo (порядок) —
термин римский: греки же употребляют в этом случае слово taxis,
что означает скорее систему образцов и правил, а это весьма
существенно. Не наша цель — вникать в специальные архитектур-
35 Шуази О. История архитектуры. М, 1935. Т. I. С. 39.
Цивилизация и культурл древних греков
95
но-строительные подробности. Главное для нас то, что и в
градостроительстве изобретение новых образцов есть одно из тех
следствий и проявлений особого типа социальности и
специфического мировоззрения, которые — через ряд опосредующих звеньев —
приведут нас к философии. Толчком к преобразованиям цивили-
зационного опыта, в итоге приведших к неповторимому облику
греческих городов-государств, служат не только особые
природные условия и природные богатства Греции (хоть сегодня
внимание к данному аспекту тоже весьма и весьма актуально).
Пожалуй, главным стимулом, который склоняет к иным
формам и образцам, становится совершенно специфическое
мировоззрение, исподволь складывающееся уже в архаической Греции.
Критическое отношение греков к характеру ближневосточной
цивилизации, скорее всего, питается этим во многом новым
отношением к миру, мировосприятием и мироощущением,
умонастроением, которое формировалось на протяжении столетий, а
потом проникло собой всю, в том числе самую обыденную
жизненную психологию греков.
Оно тоже становится одной из главных идейно-нравственных
первопричин зарождения философии. В философии это
повседневное, обыденное, как у нас говорят, мировоззрение получает
свое теоретическое выражение, обоснование, а затем и
преобразование. Когда Гегель употреблял понятие Volksgeist, дух народа, то
это вовсе не было данью идеалистической мистике, как полагали
некоторые наши материалистические критики. Дух народа
древней Греции — это прежде всего и есть .его особое
мировосприятие, мироощущение, продукт длительного развития народа в
особых исторических условиях. В чем же состоят особенности
греческого народного духа как воззрения на мир и как они
сказываются на освоении опыта древневосточной цивилизации?
Миросозерцание древнего египтянина, получившее зримое
воплощение в цивилизационных, в частности, архитектурно-
строительных достижениях, отмечено, во-первых, господством
религиозной идеи загробного, «будущего» бытия над всеми
процессами и проявлениями настоящего, обычной земной жизни
людей, а во-вторых, монархически-авторитарного,
деспотического принципа правления и организации общества, его кастового
расслоения. Нельзя сказать, что миросозерцание грека совсем
свободно от подобных же черт — ведь и греки верят в загробную
жизнь, и они поклоняются богам и приносят им жертвы. И греки
испытывают бедствия и превратности монархии, тирании,
олигархии и других способов авторитарно-деспотических
правлений. Некоторые греки, в том числе высокообразованные, даже
96
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
поклоняются жесткой, по-своему эффективной и веками
отлаженной власти фараонов, замкнутой кастовой системе
египетского общества.
И все же, если брать миросозерцание греков как некоторый
весьма характерный сплав взглядов, умонастроений, идей,
страстей, чувств, ценностей, то эти черты, на первый взгляд сходные с
мировоззрением египтян, встроятся в иные, оригинальные
идейные целостности. Греки по-своему религиозны, но рядовые греки
— за исключением периодов, когда особо подогревается
религиозное рвение — редко бывают фанатиками. Их представления о
загробной жизни, выраженные в мифах или ритуалах, лишены
тех серьезности, глубины и истовости верования, которые столь
типичны для Востока. Древнегреческие ритуалы жертвований «в
угоду богам» не идут ни в какое сравнение с египетскими. В
древнем Египте вся жизнь со времени рождения считается путем
к смерти, т.е. к загробному бытию — и соответственно в земной
жизни превыше всего ценится то, что служит «достойному»
погребению и «подготовке» к загробной жизни. Потому главные
усилия искуснейших египетских строителей и (рано
выделившихся в особую кастово-профессиональную прослойку)
архитекторов сконцентрированы на возведении роскошных гробниц
фараонов, более скромных, но все же помпезных погребений знати,
а также на строительстве храмов. Облик египетских храмов также
соответствует отчуждению от земной жизни как главной черте
мировоззрения и деспотической, сословно-кастовой структуре
общества. Чудо египетской архитектуры, ее храмы, не только
впечатляют, но и подавляют. Своим величием,
монументальностью они должны порождать — таково и их социальное
предназначение — ощущение бессилия человека перед богами и
фараонами. Всему этому и подчинена строгая гармония форм, линий,
конструкций, само жестко стратифицированное расположение
помещений в египетском храме: святилище, где «пребывает»
божество — то есть, собственно, жертвенный стол, какие-либо
фетиши и символы, но где, говоря конкретнее, властвуют жрецы,
«доверенные» служители божества; затем располагается зал,
«наос», или так называемый «гипостильный» зал, куда вхожи только
избранные, а уже затем — передний просторный двор, куда
допускают «рядовых» молящихся Ъ6. Гипостильный зал — тот, что
36 «План предельно прост и четок. Нарастание эффектов достигается
простейшими приемами. В большей части храмов, по мере приближения
к святилищу, уровень пола повышается, плафон опускается ниже, темно-
Цивилизация и культур а древних греков
97
для избранных — самое роскошное помещение, украшенное
великолепными колоннами с капителью в форме лотоса. И по мере
того, как в Египте расширяется слой лиц, претендующих на
избранность, в старых храмах пристраивают новые гипостильные
залы (как, например, в знаменитом Луксорском храме
Аменхотепа III, где обнаружено три таких помещения). Впрочем,
египетские строители, архитекторы, скульпторы не забывают и о
переднем дворе. Но и тут господствуют те же идеи величия божества и
«божественности» фараонов. Дворы храмов украшаются
огромными пилонами — массивными стенами со скошенной
плоскостью, которые зажимают портал двери, увенчивающейся
карнизами. Рельефы на стенах, скульптура — обычно скульптурные
изображения фараонов или сфинксы — дополняли впечатление
величия, строгой и отчужденной гармонии, красоты.
И у греков, как и у египтян, храмово-культовые постройки
господствуют над городом, являются самыми величественными и
прекрасными — такова особенность всей мировой цивилизации.
Трудно сказать, что тут «первично»: религия, которая требует
возвеличения бога, или мировоззрение людей, которое
обязательно ведет к Величественному, Возвышенному, Небесному.
Храмы греков — возьмем ли мы древнейшие из сохранившихся
образцов, описаний или сооружения более поздних эпох — тоже
становятся центральными сооружениями города. Место,
«посвященное богам», священное место, в городе полагается определять
прежде остальных, о чем свидетельствуют правила, принятые для
основания полисов-колоний. В древнейших греческих городах
храмы возводятся на месте первых поселений. Акрополи,
собственно, и возводятся вокруг лучших храмов.
Но и культ, и сам храм в Греции приобретают иной смысл и
вид, чем в Египте. Эта особенность была издавна подмечена
историками архитектуры, искусства разных стран — и она была
справедливо увязана с тем, что обожествление на греческий манер
скорее есть очеловечивание мира, чем отчуждение от него.
Несомненно, то были сооружения религиозного народа:
величественные храмы, по большей части посвященные божеству-
покровителю города, а также обязательные жертвенники — явные
свидетельства культа богов. Однако характер греческой
религиозности многими чертами существенно отличается от восточной,
скажем, египетской религиозности. У египтян — обожествление
та увеличивается, священный символ окружен сумраком». См.: Шуази О.
Цит. соч. С. 863.
98
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
природных сил и стихий, властвующих над человеком; у греков
— продолжающееся обожествление природных явлений и
стихий, но и более доверительное, все менее отчужденное и близкое
отношение человека к окружающему космосу. У египтян —
холодные, отчужденные от человека и грозные божества,
«живущие» везде и нигде, полуживотные и полу-люди, не допускающие
и мысли о неповиновении и проступке; у греков — не просто
антропоморфные, но во всем, кроме особой силы и величия,
«очеловеченные» боги, «живущие» совсем «неподалеку», на близком и
невысоком Олимпе. Они карают человека за проступки, ошибки,
неповиновение, но вполне предполагают, «допускают» все это,
более того, их собственные поступки и проступки — сродни
человеческим. Религия древних египтян строга, серьезна, внутренне
склоняет к фанатизму; религия древних греков скорее легка,
весела, празднична, чем подавляюща; она предрасполагает не к
фанатизму, а к действиям, более напоминающим гражданские
обряды, чем униженное богопоклонение.
В различии религиозных подходов запечатлевается, таким
образом, различие мировосприятий и в конечном счете форм
древней социальности, двух типов политической и
идейно-нравственной культуры. К сожалению, время сохранило лишь
немногие древнегреческие храмы — например от VII в. сохранились
остатки храма Геры в Олимпии, храм Аполлона в Ферме; от VI в. —
храм Аполлона в Коринфе, Селинунтский храм, храм в Посейдо-
нии (Пестуме). Комплекс афинского Акрополя, и прежде всего
Парфенон — замечательный памятник культуры V в. до н.э. За
три-четыре столетия, чрезвычайно важные для понимания
генезиса и сущности античной философии, конечно,
эволюционировали и храмы, причем тенденция состояла как раз в движении от
простоты и некоторой, пусть величественной, грубости,
приземистости сооружений к изощренности, изяществу архитектуры, к
еще более светлому, очеловеченному облику храмов и других
строений, которые представляют собой единый комплекс прежде
всего с точки зрения его функций в социальной жизни греков. А
функции никак не сводятся к сугубо религиозным действам — во
всяком случае и сами действа являются органической частью
социокультурной жизни в ее разносторонности и полноте.
Конечно, и египетские храмы — не только культовые сооружения, но и
памятники культуры, центры, где живет, таится дух народа, где
концентрируются зачатки научных знаний. Но в Греции
интересующего нас периода храмовые комплексы есть не только и даже
не столько место исполнения религиозных обрядов, сколько
центры открытой, гласной социально-политической жизни., центры
Цивилизация и культурл древних греков
99
высокоразвитого «культурного бытия» народа. Место, где прямо
и целенаправленно формируется и поддерживается динамичное
идейно-нравственное, духовное, культурное народное единство.
Сакральные элементы, формы, которые в Египте всегда играли
первостепенную роль, в Греции по большей части становятся
именно формами, в которые вкладывается разностороннее
социальное, духовное, именно цивилизационно-жизненное
содержание. Греки, думая и говоря о богах и культе, прямо и открыто
заботятся о человеке — притом и о его быте, но в особенности,
конечно, о его бытии как человека, то есть о его отношении к
природе и природному, к телу и телесному, к духу и духовному, к
красоте и прекрасному, к добру и доброму.
Открытая дверь в греческий храм; колонны целлы, за стенами
которой стоит и может всеми, а не только жрецами и
избранными, созерцаема статуя божества, причем «индивидуализирован-
но» выбранного данным городом; открытая глазу красота,
целостность конструкции — все это не чисто архитектурные детали.
Речь идет о той же воплощенной в символическом .«языке» камня
черте жизненно-религиозной ориентации древних греков — их
представлении об открытости божества миру и человеку,
благоговении перед красотой формы, радостном удивлении перед
«порядком», ôrdo-taxis, перед логичностью, разумностью красоты
и красотой в принципе доступного людям «логоса» — разума,
порядка — вещей, форм, действий. Греческий храм, что отмечают
многие историки, ибо это просто бросается в глаза — не место для
заточения униженно молящихся, а сооружение, включенное в
открытое народное действо — в яркие массовые процессии,
шествия, которыми народ в дни празднеств и дни скорби выражает
свое отношение к происшедшему и происходящему. Храм —
своего рода великолепная ритуальная декорация этих народных
действ, причем открытой площади перед главным храмом,
ведущим к нему ступеням, другим постройкам (таким, как в
Афинском акрополе храм Ники, статуя Афины, Пропилеи — выходные
ворота) в упорядоченном действовании отводятся своя, весьма
важная роль.
Идеи и замыслы таких храмов вынашивают, а потом
воплощают в жизнь вполне конкретные, обычные люди. На языке
истории это и называется созданием новой формы культуры,
многими нитями связанной с новой же человеческой цивилизацией.
И опять-таки для целей нашего анализа очень важно
подчеркнуть, что появлению храмов и всех других культовых сооружений
нового типа предшествует работа греков над преобразованием
идей, унаследованных от предшествующей стадии развития ци-
4*
100
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
вилизации. В деятельности архитектора-строителя, как и людей
других известных античности, отчасти рассмотренных ранее
специальностей, работа над идеями не является чем-то отдельным от
их труда. Об идее они чаще всего говорят и мыслят, так сказать, «в
материале» — такова коренная особенность их дела, которая не
осталась лишь в истории. Мыслить «в материале», действовать
предметно, преобразуя материал природы в материальное
богатство цивилизации — постоянная для всей цивилизации
особенность любого предметно-преобразующего действия. Особенность
эта характеризует человеческое действие как таковое: план, цель,
проект, схема всегда есть в нем хотя бы в зародыше. К. Маркс
обобщенно именовал это единство идей и ориентации целепола-
ганием, избрав в качестве примера как раз остроумное сравнение
действий даже самого плохого архитектора и самой искусной
пчелы. Итак, материальным преобразованиям цивилизации —
ускоренным, скачкообразным — сопутствует, а в определенной
степени и предшествует сложнейшее, и в масштабах истории
также весьма стремительное изменение мира идей:
умонастроений, ориентации, ценностей, образцов и моделей действия. Не
возникла бы философия, когда бы мировоззренческие сдвиги не
обнаружили своей огромной преобразующей силы. Великое
чутье, высокая цивилизованность греков проявились в том, что они
поняли: над мировоззренческими, духовными,
идейно-нравственными реалиями надо «работать» не менее упорно, чем над
преобразованием материальных предметов.
Тема разделения, а в известном смысле и раскола,
противостояния двух главных типов труда станет впоследствии одной из
самых важных в философии. Но сейчас для нас существенно то,
что только благодаря их достаточно длительному разделению и
взаимодействию появилась нужда в философии. И философия
родилась. Трудность я вижу в том, что устоявшаяся терминология
для обозначения двух типов деятельности — их у нас, следуя
марксистской традиции, принято называть «физическим» и
«умственным» трудом — представляется совершенно неудачной.
Ведь так называемый физический труд, если это труд
цивилизованного человека, обязательно и умственный; и наоборот, так
называемый умственный труд всегда так или иначе связан с
приложением физических, мускульных усилий. Поэтому предпочитаю
различать их, имея в виду главный объект и результат
деятельности: в первом случае непосредственной целью и результатом
являются предметы, т.е. вещи или материальные процессы, во
втором случае — идеи, принципы, смыслы, ценности. Различия
между видами, формами идеального, над которым ведется работа,
Цивилизация и культурд древних греков
101
определяют внутреннее членение, разделение сфер культуры в
узком смысле. Мы только что говорили об архитектуре, которая,
конечно, тесно связана со строительством, этим так нужным
человеку цивилизационным занятием одной из форм предметной
деятельности. Но сама архитектура, особенно архитектура
Акрополя, не только неотделима от мира смыслов, идей, ценностей, но
и в определенной мере направлена на их формирование. Она —
зримое взаимопроникновение цивилизации и культуры,
предметной деятельности и мировоззрения. От архитектуры всегда
тянутся нити к философии. Однако путь к философии чаще
всего не прямой, а опосредованный — он ведет через другие формы
человеческой культуры. Мы уже обнаружили, какое
специфическое системное единство, выражаясь современным языком,
образовали архитектура, скульптура и религия. Здесь много работы и
для философии. В «жизненном мире» народа возникает
потребность в мировоззренческих, нравственных, художественных
размышлениях, которые использует и которые преобразует
философия. Завязываются и другие сплетения связующих нитей: от
строительного дела — через архитектуру и скульптуру — они
тоже ведут к науке и философии. Одни нити, стягиваясь в пучок
математических проблем строительства и архитектуры, толкают к
дальнейшей формализации, к обобщению математики, а уже
затем — к более общему вопросу о количестве, о мерных
отношениях, к оценке их роли в человеческой жизни. К тем же
количественно-мерным отношениям в их сначала общематематическом, а
потом и общефилософском понимании приводят другие сферы
древнегреческой цивилизационной деятельности. Проблема тут
была не только в том, что объективно, в скрытом виде,
соотношение количества и качества, мера как их единство содержится в
любом действии. Особенность древнегреческой цивилизации:
греки не только практически «работают» с такими
соотношениями в самых разных областях деятельности, но начинают довольно
глубоко осознавать и их характер, и их значение. Формируется
целый «мир» ориентированных на количество действий,
проблем, понятий, трудностей. И философия, вслед за математикой
и вместе с нею, решительно отделяет «мир чисел» от других
миров жизни и опыта, чтобы изучать его в
абстрактно-математическом, а потом общемировоззренческом, то есть философском
срезе.
Другим пучком связующих нитей становятся художественные
критерии. Поначалу вплетенные в самые конкретные действия
(здесь: строителей и архитекторов), они затем — через
установление архитектурных норм, парадигм, выраженных, например, в
102
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
критериальных требованиях трех главных греческих taxis,
ордеров, стали предполагать постановку более общих вопросов,
касающихся красоты, ее свойств, оценок, познания и признания.
Так практическая деятельность объединяется с искусством как
techné (умением, воплощающим в себе именно практические
навыки); опыт взаимодействует с искусством как самостоятельным
продуцированием духовных сущностей, а смыслы, идеи, идеалы,
парадигмы переливаются в философию, в частности, в
философию искусства, эстетику.
И множество тому примеров дают не только архитектура, о
которой говорилось, но скульптура, изобразительное искусство,
весьма почитаемое в Греции мусическое искусство, рассматривать
которые здесь не представляется возможным. Вообще же по мере
дифференциации искусства и его видов, их выделения в культуре
возникает задача конкретизировать практически важную тему
разделения работ над идеальным — задача, решение которой
потом тоже выпадает на долю философии.
Теперь, продолжая наше воображаемое путешествие, давайте
кратко проследим за процессами, происходящими в двух
чрезвычайно значимых и высоко развитых областях работы над
идеальным — работы над словом и над нравственными принципами. И
от них мы снова придем к философии.
В мире логоса и этоса. Культура Слова и философия
«Мир слова» уже к VIII—VII в.в. до н.э. предстает в самых
различных ипостасях. С древнейших времен греки живут в стихии
слова, речи, чему есть бесчисленные подтверждения в поэмах
Гомера, в древнейших греческих памятниках, запечатлевших Слово
как своего рода действующее лицо на арене античной истории.
Но в интересующую нас эпоху — время, когда уже существовала
письменность и был создан греческий алфавит — словесная
культура греков достигает беспрецедентно высокого развития. Она
опять-таки коренится в самой конкретной человеческой
деятельности, в особенностях древнегреческой политической жизни и
повседневного быта.
Играет ли слово у греков такую огромную роль потому, что
это активный, общительный народ, или греки потому сделались
столь общительными, что по крайней мере на их земле языковые
барьеры незначительны (говорящие на трех главных диалектах,
эолийском, ионийском, дорическом, жители разных частей
Греции довольно легко понимают друг друга) — сказать трудно, да
это и не так существенно. Уже в VII в. до н.э. греки действительно
стали общительным, чрезвычайно подвижным, в целом легким на
Цивилизация и культу pa древних греков
103
подъем (путешествовать ли, выселиться ли в колонию),
любознательным и открытым всякому полезному опыту народам.
Создание алфавита — хорошее тому подтверждение. В путешествиях в
Финикию греки усваивают многообразный полезный опыт. И
едва ли не самым ценным практическим и культурным
заимствованием становится алфавит финикийцев — но с
усовершенствованием, и существенным: добавлены «всего лишь» гласные звуки,
которых не существует в финикийском алфавите. Благодаря
этому греческое письмо сразу легко приспосабливается к живому
устному слову. Вероятно, усовершенствованию алфавита
помогают и изобретательность, и знаменитая музыкальность,
поэтичность греков, народа древнейших и знаменитейших поэтов-
рапсодов. Алфавит в делах письменных играет, видно, не
меньшую роль, чем всеобщий денежный эквивалент — в делах
торговых. Алфавит — сумма простых и удобных элементов, из которых
составляется огромное богатство слов. Из них, в свою очередь,
слагаются предложения, тексты — поэтические и, что становится
большой новинкой, прозаические; выстраивается, подобно
прекрасному городу из подготовленных впрок простых камней,
целый мир Слова. Для античности — кстати, равно греческой и
римской — характерен живой интерес к элементам, из которых
составляют целостности, единства, что, по моему мнению,
соответствует историческим особенностям практической цивилиза-
ционной деятельности той эпохи. Разложение предмета,
действия, «эйдоса» (идеи-образца) на структурные элементы, —
«семена» вещей в более прямом, вещественно-физическом, но также и
интеллектуальном смысле; сложение уже имеющихся, но в
особенности новых целостностей из таких элементов — эти
непреходящие черты всякой деятельности — особенно важны именно в
эпохи, когда скачкообразно рождается новое, когда
традиционные, наличные приемы работы с вещами, процессами, идеями,
людьми исчерпывают себя.
Так обстоит дело, как мы видели, в
материально-производственной практике, в сфере политики, в искусстве. Сходные
процессы происходят в «сфере слова». Преобразования слова во
многом также объясняются спецификой древнегреческой
цивилизации — такими, в данном случае, ее качествами, как иной по
сравнению с древневосточными цивилизациями способ жизни, другое
бытие повседневности. В итоге — разная роль соответственно
письменного и устного слова, а также несходный престиж уже отг
делившихся друг от друга занятий. На одной стороне — писцы,
да и все, кто имеет дело с документами; на другой — остальные,
поскольку они по крайней мере говорят, но также и пишут на
104
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
родном языке, а в их числе — торцы особо прекрасного и особо
мудрого «Слова». С. С. Аверинцев в превосходной главе «Слово и
книга» своей работы «Поэтика ранневизантийской литературы»
(М., 1977 г.) точно зафиксировал различия в этом отношении
между древними Востоком, например Египтом, и Грецией.
«Древние литературы ближнего Востока, — пишет он, — создавались не
просто грамотными людьми, для грамотных людей. В целом они
создавались писцами и книжниками для писцов и книжников.
Писец на службе царя, писец на службе божества — это
совершенно особый исторический тип интеллектуального труженика,
и психология его может быть понята только из всей совокупности
общественных условий ближневосточного деспотизма и
духовных условий ближневосточной теократии». «Греческая культура,
— продолжает С. С. Аверинцев, — покоилась на иных
предпосылках. Свободный гражданин свободного эллинского полиса, с
детства умея читать и писать, не становился «писцом».
Приобщаясь к литературной и философской культуре, распевая стихи
лирических поэтов на пирушке или беседуя с Сократом, он не
делался «книжником». По своему решающему самоопределению он
оставался гражданином среди граждан, воином среди воинов,
«мужем» среди «мужей»... В ближневосточных деспотиях особую
весомость и полноценность имело написанное слово
(«канцелярщина»); но в афинском Народном собрании, в Совете, в
демократическом суде присяжных судьбу государства и судьбу человека
могло решать только 37 устное слово... Как важность фараоновых
писцов неотделима от престижа самого фараона, а святость
египетских «священнокнижников» от престижа египетской
теократии, совершенно так же достоинство устного слова не может быть
отделено от престижа полисной государственности» (Там же.
С. 190,191). Но позднее происходит изменение взглядов греков —
а соответственно совершается преобразование способов
умственной работы. И, по свидетельству таких признанных специалистов,
как А. И. Доватур, С. С. Аверинцев, тонкое различие типов
интеллектуальной деятельности заметно в деятельности «не-книж-
ника», даже противника книжности философа-мудреца Платона,
с одной стороны, и философа-«ученого» Аристотеля. Постепенно
и в Греции нарастает почтение к книге и книжности, которое пе-
37 В этом «только», возможно, есть, некоторое (но совсем небольшое)
преувеличение, ибо документ — был ли это текст закона или договора, отчет
о расходах на государственные нужды или что-то другое — играл и в
Греции немалую роль, иногда тоже воздействуя на судьбы государства и
отдельного человека.
Цивилизация и культура древних греков
105
редается эпохе эллинизма. Книжная культура особенно
расцветает при раннем христианстве, без чего вряд ли мог возникнуть
культ Библии, вообще культ «святой» книги, «святого»
письменного памятника.
Раньше же, в чем С. С. Аверинцев в целом прав, бесспорный
приоритет, обусловленный всей гражданской жизнью, бытом
полиса, принадлежит устному слову. Именно в этой сфере поначалу
и происходит интересующее нас движение от самого конкретного
речения повседневности — через специализацию словесных
занятий — к абстрактной проблеме Слова, которая в древнегреческой
философии становится одной из самых ключевых. А также и к
философскому термину «Логос», который лишь постепенно
вычленяется из многозначной стихии словесной культуры. В ней же
надолго сохраняется разветвленное единство словесных занятий
древних эллинов. «Какими многообразными значениями
оборачивался для греческого ума этот «логос», — отмечает Т. В.
Васильева, — в наши дни трудно описать и не на одной тысяче
страниц. Судебная речь — логос, предложение в грамматическом
смысле — логос, счет — логос, отчет — логос, разум — логос...
Когда наряду с эпической и лирической поэзией на греческой почве
стала складываться прозаическая литература, словом для ее
обозначения стал все тот же логос» 38.
Механизмы взаимосвязи практической стихии слова,
специализированной речевой культуры и философии, которые мы здесь
выявляем, важны не только для античности. Они принадлежат
цивилизации как таковой. Ибо слова -языка, сказанные и
написанные, собранные в совершенно определенные тексты,
составляют прежде всего немаловажную сторону индивидуальной
жизнедеятельности, — о человеке судят, конечно, по его поступкам и
взглядам, но ведь они включают в себя и его слова. К. Маркс
назвал язык «материальной действительностью мысли». И хотя это
отнюдь не исчерпывает сути языка, верно, что мысли, идеи,
выражаясь в словах устного и особенно письменного языка,
приобретают свойство «материально», действительно существовать —
причем уже вне конкретных людей, чей дух произвел их на свет.
Сама мудрость народа зафиксировала это. Помните: «слово — не
воробей...», «написано пером...». Язык, как имеют обыкновение
говорить философы, объективирует мысль — создает
возможность «видеть» мысль умом, как видят вещь глазами. Здесь
скрывается, скажем заранее, одна из самых трудных проблем филосо-
Василъева Т. В. Афинская школа демократии. М., 1985. С. 4.
106
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
фии — проблема объективно значимых идей, материализирую-
щихся в фактуре слов, да и проблема языка в целом. Как вечную
загадку ее ставят перед последующей философией античные
мыслители, прежде всего Платон. Но факт остается фактом —
язык есть относительно самостоятельная реальность
индивидуального действия и духа человека. Что же до социально-
политической жизни, то и тут язык — особая реальность: слова,
тексты, внимательно проанализированные, могут стать четким
индикатором застоя или назревающих перемен, вообще
состояния общества на том или ином этапе его развития. Философы
разных эпох хорошо понимают это. Недаром же Гегель в
«Феноменологии духа», зашифровав в образах «являющегося духа»
реальные процессы истории, в одном из разделов делает как бы
самостоятельным действующим лицом... «язык лести». Нас не
удивит, что Гегель встраивает его именно в социальный контекст
воодушевленного «служения» абсолютной монархической власти.
«Язык лести», действительно, решительно выступает на
авансцену истории, когда монархизм, абсолютизм или авторитаризм,
тоталитаризм других типов власти порождают безудержный культ
личности.
Мы сравнительно недавно, увы, были тому свидетелями — и
языковая реальность эпохи культа личности навсегда останется в
истории одним из наихарактернейших ее социальных
индикаторов. Вместе с тем, динамические повороты истории к новым
состояниям и коренным преобразованиям также всегда
выражаются, а в определенной степени даже подготавливаются в мире
языка. Меняются лозунги, которые есть, по сути, во всех обществах.
Некоторые «крылатые фразы», которые еще недавно казались
чуть ли не руководством к действию, вдруг становятся
неприемлемыми, и люди в толк не могут взять, как это они еще недавно их
повторяли. Стиль публичных речений и писаний —
«информационный стиль» каждой эпохи, в чем бы он ни воплощался: в
речах политиков, ораторов, сочинениях историков, а позднее — в
газетах, передачах телевидения — существенно преобразуется.
Так бывает и в случаях перехода от несвободы, застоя,
авторитаризма, подавления свободы к социальным оттепелям, но также и в
противоположных ситуациях, когда подъем, единство народа,
новаторство, одушевление сменяются периодами политической
вражды, истории, «охоты» за инакомыслящими и т.д. Имея в виду
(рассмотренную выше) междоусобицу в древнегреческих городах,
обострившуюся еще до Пелопонесской войны, но особо
проявившаяся во время нее, Фукидид достаточно точно
свидетельствует: «Изменилось даже привычное значение слов в оценке чело-
Цивилизация и культурл древних греков
107
веческих действий. Безрассудная отвага, например считалась
храбростью, готовность на жертвы ради друзей, благоразумная
осмотрительность — замаскированной трусостью, умеренность —
личиной малодушия, всесторонне обсуждение — совершенной
бездеятельностью. Безудержная вспыльчивость признавалась
подлинным достоинством мужа. Забота о безопасности была
лишь благовидным предлогом, чтобы уклониться от действия.
Человек, поносящий других и вечно всем недовольный,
пользовался доверием, а его противник, напротив, вызывал подозрения.
Удачливый и хитрый интриган считался проницательным, а
распознавший заранее его планы — еще более ловким. С другой
стороны, того, кто заранее решил отказаться от участия в
политических происках, того считали врагом своей партии и трусом,
испугавшимся противника... Политические узы оказывались крепче
кровных связей... Ведь подобные организации отнюдь не были
направлены ко благу общества в рамках, установленных законом,
но противозаконно служили лишь для распространения
собственного влияния в своекорыстных интересах... (Фукидид. История,
III, 4—6). Как видим, Фукидид мудро увязывает деградацию
нравственного языка с падением политической нравственности, верно
заключая; «Причина всех зол — жажда власти, коренящаяся в
алчности и честолюбии» (Ш, 82, 8).
Для философии значение приобретают не только внешние
языковые социально-политические индикаторы назревших и
происходящих перемен. Правда, великие мыслители
обыкновенно чутко прислушиваются и к конкретным
социально-политическим изменениям, например, к смене господства «языка лести» на
язык критики, тем более что новаторская философия по
преимуществу и расцветает если не непосредственно в атмосфере
критики (не всегда, скажем, в странах, где возможна наибольшая
свобода слова), но всегда перед лицом назревшей исторической
потребности в свободе мысли, свободе волеизъявления и
высказывания. Вместе с тем, за такими переменами ум философа
пытается распознать глубинные процессы кардинальных перемен в
сферах деятельности, духа, культуры, которые способствуют
обновлению имеющихся форм всеобщего или рождению его
совершенно новых форм.
Но давайте снова вернемся воображением в античную эпоху. В
процитированной ранее книге Т. В. Васильевой ярко исследовано
рождение собственно философского языка и философских
размышлений (в основном, у Платона и Аристотеля) о языке, то есть
108
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
формирование абстрактной философской мысли «внутри бурно
развивающейся словесности» 39. В зарубежной и отечественной
литературе на эти и подобные темы написано множество
интересных, глубоких работ. Конкретный материал и выводы многих
из них убедительно показывают, что в движении от живой
словесной практики к философии опосредующим звеном как раз и
становятся весьма развитые у греков специализированные
«словесные» занятия, то есть, собственно, гуманитарная культура.
Существовавшие еще в целостности мифа различные формы
гуманитарно-словесной культуры довольно рано выделяются в
специфические виды занятий. Такова «литература» (в более узком
значении этого слова) — поэзия и проза, в частности чрезвычайно
популярная у греков драматургия, к которым мы в другой связи
еще вернемся. В культуре Слова, поскольку она постепенно
толкает к возникновению и развитию философии, необходимо
выделить и хотя бы кратко рассмотреть значение истории.
От «слова» историков к философскому логосу
История, имеющая свой исток в историческо-поэтических
повествованиях мифа, достоверность которых была более чем
спорной, становится с VI в. профессиональным занятием
«логографов» (букв: «пишущих прозой»). Последние, действительно,
отказываются от поэтического языка с его метафорами,
иносказаниями, но сначала они стремятся извлечь именно из мифов более
достоверные, по их мнению, исторические свидетельства. Первые
прозаические сочинения, как полагают, написаны как раз
логографами-историками, и это происходит почти одновременно с
рождением философии. К тому же история логографов
рождается, как и философия, в Милете (логографы Кадм из Милета и Ге-
катей Милетский были предшественниками Геродота). И
подобно тому как впоследствии философия именно из Милета
распространяется по другим древнегреческим городам, так и история,
созданная милетцами, оказывает стимулирующее влияние на
возникновение исторических сочинений в других полисах.
Геродот же, которого Цицерон назвал «отцом истории», родом
из Галикарнасса. Из этого города Геродот потом переселяется в
геликарнасскую колонию, город Фурии. Оттуда он совершает
путешествия в Египет и Вавилон. Посещает и, как полагают,
довольно достоверно описывает Колхиду и землю скифов.
Путешествует по многим греческим городам и колониям. Некоторое
39 Васильева Т. В. Афинская школа демократии. М., 1985. С. 4.
Цивилизация и культура древних греков
109
время живет в Афинах. И потому на кораблях, которые в 50 или
60-х гг. VI в. курсируют между этими землями, можно было
встретить этого человека, чьим делом становится изучение
памятников, материальных и письменных — во имя более достоверного
описания прошлых и современных исторических событий, что
становится серьезным новшеством для древнегреческого мира. Из
одних слов, текстов — взятых как свидетельства, данные —
рождаются другие слова, с помощью которых первые приводились в
новые целостности, литературно-исторические тексты,
содержащие в себе историческое повествование, где описания виденного,
рассказы о реальных, (подтвержденных, скажем, позднейшими
раскопками) фактах, событиях и лицах перемежаются с
собственными субъективными оценками, а то и вымыслами. Но что очень
важно, историк стремится не только повествовать о событиях, но
и отыскивать их причины. Свой знаменитый труд, «Историю»,
Геродот посвящает греко-персидским войнам и так определяет
смысл, назначение задуманного исторического повествования —
«чтобы деяния людей не изгладились из памяти от времени и
чтобы великие, достойные удивления подвиги, совершенные как
эллинами, так и варварами, не потеряли своей славы, в
особенности же (не изгладилась) причина, по которой они начали войну
между собой» (Геродот 1,1).
Фукидид, младший современник Геродота, становится
историком нового для Греции типа — он описывает, как мы знаем, те
события, свидетелем и участником которых сам был, а именно
событий Пелопонесской войны. Ей и посвящена его «История».
Между двумя упомянутыми «Историями», Геродота и Фукидида,
— не такой уж большой промежуток реального исторического
времени. Но весьма существенна дистанция, пройденная
общественным сознанием, особенно политическим — в том числе и под
влиянием сравнительно молодой области культуры, философии.
Синкретичности и относительной простоте политического
содержания геродотовской «Истории» противостоит детальный, с
учетом тончайших оттенков и перипетий, рассказ Фукидида о
расстановке, борьбе политических сил, группировок в Афинах,
Спарте, других греческих городах, об их столкновениях и войне
друг с другом, о противостоянии различных политических форм,
образов жизни, политико-нравственных ценностей. Пусть и
отмеченное элементами исторического реализма, но все еще
проникнутое мифологизмом, античным теологизмом мировоззрение
Геродота явно контрастирует с тоже не свободным от этих
элементов, но в целом новым по своему стилю историческим
повествованием Фукидида, в чем, как правильно отмечают исследователи,
110
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
сказывается прежде всего реальный процесс дальнейшего
развития полиса40.
Для нашего же анализа тут особенно важно вот что. История
как выделяющаяся и затем уже относительно самостоятельное
«профессиональное» дело, как часть гуманитарной культуры
древних греков вносит и в практическую их жизнь и в другие
области культуры новые и очень существенные черты.
Во-первых, в жизни народа и в его культуре появляется
фиксированная (и отныне так или иначе сохраняемая в специальных
документах, памятниках, текстах сочинений историков) память о
прошлых и текущих исторических событиях. Несомненно, на
возникновение специализированного «исторического запоминания»
влияют, с одной стороны, зрелость повседневного исторического
сознания греков, их значительный интерес к прошлому,
запечатленное в их мифологии, в их обычаях громадное уважение к
предкам, к историческим корням своего народа. С другой
стороны, традиционные средства исторической памяти не
удовлетворяют греков — они уже не могут и не хотят полагаться на случай,
на чисто субъективные оценки и подходы, а хотят иметь
добротный, так сказать, документально подтвержденный материал.
Во-вторых, появление алфавита, распространение в Греции
папируса, доставив материальные и духовные предпосылки
письменности, облегчают дело создания и накопления для
истории документов, текстов, хотя движение совершается лишь
постепенно, да и силы немногих историков весьма ограниченны. И
все же происходит культурный поворот огромного значения:
возникает записываемая и осмысляемая история. Писать о прошлом
и настоящем, но трудиться для будущих поколений — так
понимают историки свою миссию. «Мое исследование при отсутствии
в нем всего баснословного, быть может, покажется
малопривлекательным. Но если кто захочет исследовать достоверность
прошлых и возможность будущих событий (могущих когда-нибудь
40 «У Геродота мы находим, собственно говоря, не принципиальный
отказ от божественного предопределения человеческих событий, а скорее
только недостаточное внимание к ним, в сравнении с эпосом или чистой
мифологией. В связи с эволюцией греческого полиса и
прогрессирующим развитием индивидуума этот скептицизм и рационализм растут и
граничат уже с изображением вполне прагматических отношений между
людьми или между странами. Таков именно Фукидид. Но в
решительную минуту и у него выступает та или иная «случайность» как
руководящий принцип развертывания событий и как все тот же божественный
авторитет, хотя на этот раз уже достаточно обезличенный и
обездушенный» (Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977. С. 51—52).
Цивилизация и культура древних греков
111
повториться по свойству человеческой природы в том же или
сходном виде), то для меня будет достаточно, если он сочтет мои
изыскания полезными. Мой труд создан как достояние навеки, а
не для минутного успеха у слушателей», — гордо заявляет Фуки-
Дид(1,22,4).
Итак, идейным фундаментом истории как гуманитарного
занятия уже является какое-то понимание внутренней связи
прошлого, настоящего и будущего. А значит, идея о существовании
человеческой цивилизации как преемственного, целостного
развития, в какой-то мере неотделима от специализированной
деятельности историков. И это в высшей степени важно, ибо является
толчком для философствования относительно времени
человеческой жизни и времени космоса.
В-третьих, уже Геродот видит свою цель по крайней мере в
том, чтобы помочь людям со временем «не забыть» причины тех
или иных событий. Размышления о причинах, о том, что из чего и
по какому закону (логосу), по какой необходимости происходило
и сегодня происходит в истории — это элемент древнегреческого
исторического знания, побуждавший (как и в других областях
духовного труда) к формированию мышления о причинах. А здесь-
то уже пролегала самая «ближняя» дорога к философии. Однако
философия, получая, в том числе и от первых исторических
изысканий, побуждение к причинному объяснению, одновременно
выступает с критикой исторического «многознания», которое, по
словам Гераклита, называющего в качестве примера не только
Гомера и Гесиода, но и логографа Гекатея, «не научает уму».
Итак, история как особая деятельность, с одной стороны,
опосредует связь философии с реальной жизнью, действительным
историческим процессом — через выполнение обобщающей
функции исторической памяти, через целенаправленное
служение будущему, «вечному» (то есть, собственно, исторически
всеобщему). С другой стороны, объективно пробуждая последующее
недовольство людей специфическими именно для истории
способами проникновения во всеобщее, история по-своему
стимулирует потребности человеческого духа в ином причинном
размышлении. И его зародыш, который содержался в мифе, лишь
постепенно, через столетия, разовьется в раздел философии,
который принято называть философией истории. А начинают
греки-философы с осмысления времени, где целостное время мира,
со смыслом и ритмом которого они ощущают себя едиными,
слитными, все более выступает также и как человеческое,
социальное, в частности, «полисное» время с его новым, ускоренным
ритмом.
112
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
От повседневного искусства речи — через
риторику — к философии
Типично греческой областью гуманитарной культуры, через
которую от реальной жизни также тянутся к философии
связующие нити, является риторика, в свою очередь переплетенная со
все более специализирующимся ораторским искусством. О том,
насколько настоятельно политика пробуждает греческих граждан
культивировать настоящее искусство слова — т.е. искусство ясно
и по возможности ярко высказывать свое мнение, его
обосновывать, доказывать, убеждая и ведя за собой искушенных,
взыскательных слушателей — уже говорилось. Отсюда — теснейшая
связь философских сочинений о слове и речи, таких, например,
как «Риторика» Аристотеля, с повседневной словесной практикой
общегражданской полисной жизни. О том Аристотель говорит в
самом начале своего труда, определяя риторику: «Риторика —
искусство, соответствующее диалектике, так как обе они касаются
таких предметов, знакомство с которыми может некоторым
образом считаться общим достоянием всех и каждого и которые не
относятся к области какой-либо отдельной науки. Вследствие
этого все люди некоторым образом причастны обоим искусствам, так
как всем в известной мере приходится как разбирать, так и
поддерживать какое-нибудь мнение, как оправдываться, так и
обвинять» (Риторика, 1,1,1354 а, 1—6).
Аристотель, несомненно, прав, когда размышляет о риторике
как том «искусстве», которое в конечном счете нужно «всем и
каждому». Он имеет в виду всех людей, которые жили и будут жить
на земле, значит, также и нас с вами. Но когда владение
искусством риторики приписывается «всем и каждому», тут, конечно,
древний грек говорит о своей родине, своем народе. Став
объектом философского осмысления, богатая, «бурно развивающаяся
словесность» (определение Т. В. Васильевой) срисована
мыслителем, что называется, с натуры. Для того чтобы зафиксировать
различные ипостаси повседневной речевой практики, философу
надлежит быть просто наблюдательным — и целые страницы
аристотелевой «Риторики» есть не что иное как описание «мира
слова» и классифицирование его под разными углами зрения.
Аристотель сближает риторику с «диалектикой», а под ней в
Греции часто разумеют искусство спора вообще, в частности,
особо развитое искусство ставить перед собеседником, да и самим
собой трудные, интересные, глубокие, подчас каверзные вопросы,
а также искусство перед такими вопросами — в Народном
собрании, в суде, в словесном поединке ученых, мудрецов — не спасо-
Цивилизация и культура древних греков
113
вать, найти на них быстрый, точный, остроумный ответ. Это
искусство в Греции (особенно в демократических полисах, но не
только в них) в какой-то мере присуще «всем и каждому». Вся
состязательная, гласная политическая практика, долгое время
построенная, как было отмечено, на устной речи, а не на
канцелярщине, требует даже и от рядовых политиков учиться искусству
убеждающей речи. Но особенно большим вниманием и
признанием народа пользуются политики, которые отличаются
необыкновенным красноречием. Что способствует выделению в особое
дело и занятие ораторского искусства, а также составления речей
для тех, кто все же не полагается на себя, однако должен, в
соответствии с устоявшейся веками практикой, обязательно «от себя»
и собственной персоной выступать в суде, обвиняя, если
становится истцом, и, защищаясь, если является ответчиком.
Собственное мнение должны доказательно излагать судьи и присяжные,
члены Народного собрания и Совета, пританы и стратеги.
Ораторы, учителя риторики, составители ручей — важные персоны
греческой гуманитарной культуры — своим делом .и его
проблемами порождают, так сказать, практическую риторику, а она
естественно перерастает в риторику теоретическую, весьма
близкую философии. Диалектика как искусство спора, столкновения
противоположных мнений, сначала вписанное в практическую и
теоретическую риторику, затем ведет к постановке проблемы
противоположностей в более абстрактном виде.
Отвлечемся на минуту от этих впечатляющих примет
древнегреческих цивилизаций и культуры. Взглянем на нас самих.
Тоталитаризм в нашей стране привел к поистине катастрофическому
состоянию «мира Слова». Доказательства вряд ли требуются.
Вспомните, как учат у нас родному языку и языкам иностранным.
Как «изъясняется» народ на улицах, дома, на работе. Как
малограмотны или попросту безграмотны политики, в том числе
некоторые «отцы» нашего государства и наших городов. Как скуден
и искажен язык прессы, «профессиональной» литературы и
«остепененной», «академической» науки. Несомненно, наглядна
связь между обескровливанием сферы Слова и десятилетиями
господства тоталитаризма, отсутствием демократической
политической культуры. В последние годы положение меняется к
лучшему. Растет интерес к яркому, выразительному, изящному
Слову — он заметен и в политической практике, и в деятельности
средств массовой информации, и в сфере самой гуманитарной
культуры, которая ведь по самому определению должна быть (но
пока не является) сферой Яркого Слова. Неверно думать, что
усовершенствование, обновление «мира слова» — нечто второсте-
114
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
пенное по сравнению с более насущными задачами. Так уж
случилось, что в цивилизовании страны этот процесс неотделим от
всего духовно-нравственного обновления, от критической
рефлексии и саморефлексии народа и нации. (Не знаю, как Вы, но я
просто не могу слушать ораторов, которые призывают не менее
чем к «национальному возрождению» России, а сами не
удосуживаются научиться грамотно выражать свои мысли на родном
языке). Изменения, увы, пока происходят весьма медленно. Чтобы
наступил перелом, нам, в частности, надо знать и осваивать опыт
мировых цивилизаций и культуры. Вернемся, однако, к грекам.
Речевая практика повседневности — через связующие звенья
обособляющейся гуманитарно-словесной культуры — в древней
Греции питает интерес к слову и заключенной в нем мысли, к
предложениям и их наиболее общим формам. И в будущем из
куколки сначала целостной, как и сама практика речения,
философской проблемы Логоса разовьются и философская риторика,
и формальная логика, и учение о категориях. Сам язык, впрочем,
хранит — и раскрывает — эту тайну рождения философии.
Недаром же абстрактное философское понятие «категория» сначала
буквально значило: обвинять или оправдываться в суде. Вовсе не
случайно у Платона человек, занимающийся языковым
творчеством — например, изобретением новых слов, понятий — назван
«законодателем имен». Тут языковая творческая деятельность
прямо сближена с ответственной функцией гражданского
законодательства.
До сих пор речь шла о тех областях гуманитарной культуры, о
тех формах духовного производства и общественного сознания,
которые уже находили себе особое место в разделении
человеческого труда, хотя бы этим местом «всего-то» и была деятельность
отдельных, сравнительно немногочисленных индивидов —
архитекторов, скульпторов, художников, историков, первых
«профессиональных» юристов, учителей, ораторов и т.д. Как называть их?
К сожалению, древние греки не выработали для этого
обобщающего понятия. Термины же более позднего происхождения —
интеллектуалы, интеллигенция — как кажется, неуместны, если
речь идет о древнегреческой культуре. И все же они —
родоначальники социального слоя «интеллектуалов», «интеллигентов»,
чьим особым делом становится формирование, сохранение,
распространение и развитие культуры. Сюда же в древней Греции
примыкает, хотя и стоит несколько особняком, деятельность
врачей. Она становится все более профессиональной. Знаменитая
клятва, по имени выдающегося врача древности названная
«клятвой Гиппократа» — это превосходно найденный профессиональ-
Цивилизация и культура древних греков
115
но-этический кодекс сословия врачей. (И недаром у нас вместо
бесцветно-казенных слов «Клятвы советского врача» снова ввели
клятву Гиппократа — здесь знак хоть и поздно, но все же
пробуждающегося сознания непреходящей ценности уже созданного,
достигнутого цивилизацией). Клятва Гиппократа, его труды, да и
многие другие факты свидетельствуют о выделении врачебного
дела в относительно самостоятельный и довольно престижный
вид деятельности.
К древнегреческой «интеллигенции» причисляют и жрецов.
Но если в Египте жрецы составляют наделенную огромной
властью высокопрестижную касту, если они фактически держат под
своей эгидой все основные интеллектуальные профессии, то в
Греции — соответственно характеру религии, скромности
собственно культовых сакральных ритуалов — уже в архаический, но в
особенности в классический период жрецы, пусть и
пользующиеся немалым почтением, играют в жизни народа скорее традицио-
налистски-ритуальную, чем сколько-нибудь существенную
социально-политическую роль.
А разве не было, скажи мне, бога,
Который в жажде трона, над отцом
Ругаясь, заковал его? И что же?
Они живут, как прежде, на Олимпе,
И бремя преступлений не гнетет их»
(«Геракл», 1607—1615)
Фесей тем самым склоняет Геракла, перед лицом грехов
человеческих и даже божеских, не быть столь строгим к себе. Ответ
Геракла очень важен; он не верит «дерзким певцам» — боги не
подвержены людским грехам, боги не покоряют друг друга, не
злоупотребляют властью; «Нет, божество само себе довлеет»
(1641).
Эту коллизию нравственного сознания тоже правомерно
считать имеющей прямое отношение к философии. На что надеяться
в порче нравов, если сами боги не могут служить чистым
нравственным примером? Вот вопрос, на который не находит ответа
человек в его реальной жизни. Не дает ответа и литература.
Открытый вопрос передается философии и становится вопросом о
поиске чистых образцов добра, нравственности, красоты —
вопросом, к которому будут постоянно обращаться философы всех
времен и народов. Философы не могли не зависеть от
мифологических, религиозных форм и структур общественного сознания,
Да и должны были выдержать в мире собственного духа трудное
противоборство старых и новых идей, принципов, установок, в
116
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
чем мы можем конкретнее убедиться в дальнейшем. И еще один
существенный штрих. Именно потому, что специальных,
официально закрепленных институтов духовной деятельности в Греции
— кроме храма или театра — еще не было, стали появляться
(пока) неинституционалъные и неформальные, говоря современным
языком союзы, сообщества интеллектуалов типа Пифагорейского
союза, Академии Платона, Ликея Аристотеля.
В духовной жизни греков были принципиально важные
стороны жизни мысли и действия, которые разве только в античных
«институциях» обучения и воспитания обретали более четкую
локализацию, но вообще-то не существовали обособленно.
Укорененные везде, по существу во всех действиях и мыслях древних
греков, эти идеи и проблемы имели самое, пожалуй, прямое и
непосредственное отношение к рождению философии, в частности,
ее этического раздела. Речь идет о нравственном срезе сознания и
поведения, о духовно-нравственных идеалах и ценностях
эллинов.
Нравственные нормы и ценности древних греков
и потребность в философии
Любое общественно-историческое состояние характеризуется
тем, что можно назвать нравами народа: это имеющие
значительную власть в человеческой жизни традиции, нормы жизни и
поведения, другие нравственные регулятивы. Гении немецкой
классической философии, в частности, Гегель, справедливо
проводили тонкое различие между «нравственностью» (Sittlichkeit, от Sitte
— нравы) и «моральностью» (Moralität). «Действительной
субстанцией» нравственности, то есть, если переводить с
усложненного философского языка, ее реальной и объективной основой
Гегель верно счел жизнь и деятельность народа, его «наличное»,
то есть реальное и повседневное, причем именно гражданское
сознание41. Кстати, говоря о нравственности и ее конфликтах,
Гегель не случайно вспоминает «Антигону» Софокла — к этому
примеру мы еще вернемся. «Моральность» же — совокупность
тесно связанных с нравами, но специально выделяемых норм и
принципов. В древнегреческом мире мы, по существу, можем
увидеть, как в своего рода замедленной исторической съемке,
движение от преимущественно «нравственной» регуляции (когда
действие индивида руководимо преимущественно обычаями,
традицией, а более всего объективными социальными структу-
« См. Гегель Г. В. Ф. Соч. М, 1959. Т. IV. С 237.
Цивилизация и культура древних греков
117
рами вроде родовой или семейной организации) — к регуляции
«моральной» (когда жесткость уступает место большей свободе
выбора и когда деятельность человека все сильнее опосредуется
собственной рефлексией, самосознанием). И в том и другом
контекстах речь идет вот о чем: о приличествующем человеку — или
неприличествующем ему, достойном — или недостойном
человека, то есть о совокупности представлений и понятий о хорошем и
дурном, добром и злом, нравственно прекрасном и нравственно
безобразном. Уже на отдаленных стадиях развития человечества,
уже и в условиях варварства люди не просто руководствовались
установленными от века правилами поведения по отношению
друг к другу, по отношению к роду-племени, но и размышляли
об этом. Восторженные, возвышенные или, наоборот, тревожные
эмоции, запечатленные в мифах, не только и даже не столько
вызваны отношением к природе, сколько поступками — и
проступками — людей по отношению друг к другу, Еще и варварской
стадии известны — и являются отдаленными предпосылками
цивилизованности — жалость и раскаяние, щедрость- и забота,
сочувствие и дружелюбие, то есть вся гамма воплощенных в
поступки достойных Homo Sapiens — гуманных — чувств и
ориентации. В чем же тогда состоит особенность цивилизации?
Она приносит с собой значительное усложнение форм
нравственной регуляции, что нагляднее всего выражается в ряде
характерных фактов и свидетельств. Родоплеменные нравы довольно
прямо, почти материально довлеют над поступком, и неслучайно
за замеченным нарушением нравственного запрета так прямо,
неотвратимо следует наказание, возлагаемое родом или
«вчиняемое» самому себе человеком, который преступил норму, обычай,
воплощенный в форму табу. Нравы цивилизованного общества
довлеют, как правило, не прямо, а косвенно, не «материально», а
идеально, не неотвратимо, а более свободно, вариативно. В
отношениях индивида с социальной общностью — этим
«законодателем» нравов и носителем норм — последние начинают играть
относительно самостоятельную роль: они как бы символически
замещают волю социальных общностей, и тогда моральный
конфликт вообще может переживаться как противоборство индивида
и некоей отвлеченной «морализующей», наказующей силы (ее
легко назвать и судьбой, и богом), а также как внутренняя борьба
человека с самим собой, со своей совестью и чувством долга.
Чрезвычайно важны для возникновения философии и развития
философской этики вот какие аспекты. Нормы, принципы, регуля-
тивы мысленно выделяются в особый относительно
самостоятельный «мир», который затем подвергается специальному ре-
118
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
формированию, иногда кардинальному. Он может подвергаться
описанию и оценке, и таким образом, нравственность становится
предметом специального внимания — описания, оценок, споров
— индивидов и народа в целом, что особенно существенно в
периоды нравственных кризисов и переворотов, всегда так или
иначе сопутствующих кардинальным цивилизационно-форма-
ционным преобразованиям. Специальный поворот
интеллектуального внимания (здесь: к сознанию, поведению индивидов и
народов) философы издавна называют рефлексией. Так вот,
развитая нравственная рефлексия, осознанная моральность как раз и
является признаком цивилизации — потому что ее
отличительной особенностью становятся и более разнообразные, часто
конфликтные идейно-нравственные ситуации.
Идейно-нравственная рефлексия в цивилизованном обществе,
конечно, вплетена и в повседневную жизнь людей, где всегда
чутко улавливается и состояние нравов. Величие и падение
нравственного духа, назревшие перемены, необходимость движения от
устаревших конкретных форм нравственной регуляции — вот
объект нравственной рефлексии. Высоконравственные,
гуманные, доблестные и добродетельные поступки, благородные
мысли и устремления, обнаруженные в практической, повседневной
жизни людей — золотой нравственный фонд цивилизации. Но
здесь же, в стихии непосредственного действия, в многоаспектном
силовом поле которого человек сталкивается с огромным
количеством противонравственных воздействий, нравственность, как
говорят философы, релятивизируется — иными словами, она
девальвируется относительно конкретных обстоятельств и влияний.
Рефлексия непосредственного действия нередко проникается
оправдательными мотивами, рационализирующими отклонение от
нравственной нормы.
Но одновременно цивилизация — раз она объективно
нацелена на создание, удержание общечеловеческих, в этом смысле
абсолютных ценностей, в том числе и нравственного характера —
вырабатывает идейные, духовные противоядия против
нравственного релятивизма, нередко перерастающего в скрытый или
открытый, циничный аморализм. Противоядия эти различны, но
в их числе самой главной, быть может, становится нравственно-
осмысляющая функция культуры. Словесная культура — прежде
всего литература — и становится переходным идейным звеном в
цепи, соединяющей конкретность цивилизованного действия с
его нравственными аспектами и социально-философские, а также
более абстрактные этико-философские размышления о
нравственности.
Цивилизация и культурл древних греков
119
Литературное наследие древней Греции в широком смысле и
литература в более узком смысле позволяют понять, сколь
развитой была та сторона греческой жизни, которую можно назвать
нравственно-моральной. Каким же был, если судить по
литературным источникам, нравственно-моральный мир древних
греков?
Первое, что поражает нас — напряженность, острота споров
вокруг добра и зла, нравственного выбора. Что, в свою очередь,
соответствует глубокой конфликтности самого этого выбора.
Нравственная рефлексия греков — достояние цивилизации как
таковой. Нам особенно важно, что философская этическая
рефлексия опиралась на широкий фундамент жизненных
предпосылок.
От нравственных аспектов литературы —
к философской этике
Плавный, но явный переход, связующий «практическую
нравственность», вплетенные в саму жизнь дискуссии ö нравственных
аспектах человеческих поступков, к моральному размышлению
по преимуществу, был совершен греками благодаря их
литературе, но в особенности, конечно, драматургии. Ее
предшественниками в развитии духа народа были мифы, гражданская эпическая
поэзия. Поэмы Гомера и Гесиода не раз анализировались
исследователями в том числе и как аккумуляция сведений и оценок,
касающихся нравов и нравственных правил, ценностей греков
древнейшей эпохи. То же относится к послегомеровской поэзии:
ведь из обращений к богам, из хвалебных или поминальных
гимнов можно извлечь весьма важные свидетельства того, что греки
считали благом и потому просили для себя у богов, за что
прославляли своих героев.
Влияние этой древнейшей литературы на всю последующую
историю греческого духа огромно, в том числе и с точки зрения
внушения греку традиционных нравственных ценностей,
которые на многие века сохраняли свою указующую, нормирующую
силу. И еще одно важное обстоятельство: литературе
архаического и даже классического периода седая древность «задает», вместе
с нравственными нормами, сюжеты и образы героев — и у
Эсхила, Еврипида, Софокла главными действующими лицами
остаются боги и гомеровские герои, и в драмах классического времени
снова разбираются — конечно, разбираются во многом по-новому
— описанные в древнейших мифах, поэмах коллизии, ситуации,
которые, казалось бы, должны были «приесться» грекам, ибо они
120
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
буквально были окружены ими в своей духовной жизни. Какой
поэт, художник — вазописец, учитель гимназии не воспевал
подвигов Геракла, Ахилла и других героев, не напоминал, скажем, об
Одиссее, Елене и Менелае, Агамемноне и Клиптемнестре, Оресте
и Пилладе? Но греки не уставали слушать, смотреть на театре все
новые и новые интерпретации действий богов, поступков и судеб
героев. Каждое поколение греков вновь и вновь переживало свое
легендарное прошлое, и трудно сказать, писались ли такие
сочинения в силу неувядавшего интереса народа к прошлому, к
историческим корням или сам интерес постоянно пробуждался,
воспитывался, сохранялся благодаря непрерывной мифологическо-
эпической традиции, присутствовавшей, в качестве
специфической идейно-нравственной компоненты, в повседневной жизни и
в литературе.
Историки литературы вполне правильно обращают внимание
на то, что традиционалистское сюжетно-образное обрамление,
скажем, в древнегреческой поэзии или драматургии, всегда
включает в себя остро современное поэтам и драматургам содержание.
Так, Еврипид, переживший события Пелопоннесской войны,
действительно, воплотил в своих трагедиях идеи и впечатления,
рожденные братоубийственной для греков войной. И все же
обратим внимание хотя бы на названия большинства из 17 полностью
дошедших до нас трагедий Еврипида: «Алкестида», «Геракл», «Ге-
раклиды», «Ипполит», «Медея», «Гекуба», «Андромаха», «Орест»,
«Электра», «Елена», «Ифигения в Авлиде» и т.д. Все они — на
мифологические сюжеты. Здесь есть немало причин, о которых
писали зарубежные и отечественные исследователи 42. Я хочу
обратить ваше внимание на одну из них, особенно важную в
обсуждаемом здесь контексте — на движение общественного сознания
греков в сторону все более отвлеченного нравственного сознания,
в сторону обобщенно формулируемой и абстрактно обсуждаемой
морали.
Следуя традициям Эсхила и Софокла, Еврипид все более
очеловечивает трагедию, разумеется, не отказываясь от изображения
«вмешательства» богов в судьбы людей — они, эти судьбы, у
42 «Литература продолжает быть в своем существе традиционалистской,
более чем на два тысячелетия соединив с чертой традиционализма черту
рефлексии. По логике этого синтеза автору для того и дана его
индивидуальность, чтобы вечно участвовать в «состязании» со своими
предшественниками в рамках жанрового канона». Аверинцев С. С.
Древнегреческая поэтика и мировая литература / / Поэтика древнегреческой
литературы. М., 1981. С. 5.
Цивилизация и культурд древних греков
121
древнегреческих драматургов уже так или иначе помечены
богами, причем воля богов и возвышает, выделяет их, и вносит в их
жизнь неизбывную трагедию, и все же не освобождает от
ответственности, от мук совести. Это вполне ясная, многократно
описанная в исследовательской литературе тенденция. Однако
сохранение мифологической сюжетной и образной канвы в литературе
классической эпохи не объяснишь, я думаю, только влиянием
традиций — ведь греки, если требовалось, достаточно смело
ломали их. Не объяснишь и тем, что, дескать, такая канва была
данью «эзопову языку», который в V в. Софоклу и Еврипиду
приходилось использовать для актуальной социальной критики. Ведь
Аристофан в V — начале IV в.в. до н.э. в своих комедиях вышел на
вполне актуальные социально-критические сюжеты и образы. И
ведь еще во время греко-персидских войн Фемистокл,
впоследствии выдающийся политический деятель, что называется по
следам событий и не страшась контроля персов, не побоялся
поставить в Афинах актуальную трагедию Фриниха «Взятие Милета».
Значит, дело скорее в другом — в том, как древнегреческая
литература (особенно трагическая и эпическая, хотя не только она)
осознавала свое назначение в обществе. Главную свою миссию
великие драматурги и поэты Греции видели — если выражаться не
их, а современным языком — в обобщенной, намеренно
отделяемой от конкретности постановке идейно-нравственных проблем
человека как проблем общечеловеческих. Потому-то следование
прошлому не было какой-то внешней личной, а сознательно
избранной формой, причем благодаря этому древние греки, а
потом и римляне оставили потомкам идейно-художественную
парадигму, которая с веками не устарела. Все писатели, художники,
философы вплоть до XX столетия обращаются к греческим
мифологическим сюжетам и образам для того, чтобы вести разговор
об общечеловеческом — прежде всего, об общечеловеческих
нравственных ценностях, об отвечающих человеческой сущности,
а потому повторяющихся в истории конфликтах, столкновениях
характеров, о борении ума и страстей, о неизбывных трагедиях.
Такому приподниманию разговора, нравственной рефлексии в
стихию всеобщего, как полагали, и обоснованно, греческие
трагики в их, да и не только в их время в наибольшей степени
отвечали сюжеты и образы легендарной древности. История и
мифология уже как бы приподняли героев над веками, оставив в
поучение и назидание потомкам. Но приподнимание в сферу
общечеловеческого совершалось так, чтобы каждый человек узнавал
в судьбах, страданиях, раздумьях героев свое, сокровенное,
жизненное — в этом древние греки были великими мастерами, и
122
H. В. Мотгошилова «Работы разных лет»
путь им, несомненно, указал еще Гомер. Давайте, продолжая
наше воображаемое путешествие, посетим греческий театр V в. до
н.э., где идут пьесы Еврипида. 431 г. до н.э.; дают «Медею». У
драмы есть мифологическая сюжетная предыстория. Медея-
волшебница, дочь колхидского царя, которая, по преданию,
помогла греческому герою Ясону добыть у своего отца золотое руно
— за ним греки на корабле «Арго» и прибыли в Колхиду. С
похищенным золотым руном Ясон и Медея возвращаются в Грецию,
в Иолк. Ясон узнает, что его отец убит братом, Пелием. По совету
Медеи и с ее помощью Ясон мстит дяде. План мщения жесток и
коварен: дочерей Пелия Медея уговаривает разрубить тело отца
на куски — это, якобы, с помощью волшебства Медеи потом
вернет ему молодость. Кровавое дело сделано. Медея отказывается
оживить Пелия, сын которого изгоняет ее вместе с Ясоном из
Иолка. Изгнанные Ясон и Медея поселяются в Коринфе, у царя
Креонта. Каждый грек знает эту легенду, но его живо интересует,
как использует ее Еврипид, в чем особый смысл и замысел
начинающейся с этого момента трагедии Еврипида.
Можно смело сказать, что главными «действующими лицами»
— наряду с Медеей, Ясоном, Креонтом, царем афинским Эгеем,
почти неизменными у Еврипида персонажами — кормилицей
(Медеи), воспитателем, а также обязательным для трагедии хором
(здесь: коринфских женщин), его корифеем (здесь корифей —
женщина Коринфа); — являются нравственные проблемы и
ценности, причем такие, которым драматург намеренно придает
обобщенное звучание. Кормилица рассказывает о страшных
муках почти обезумевшей Медеи. Что так гнетет ее? Медея и Ясон
изгнанники. Медея — изгнанница дважды. В уста простой
женщины — кормилицы Еврипид вкладывает, говоря о Медее, одну
из главных и для грека, и для самого драматурга идейно-
нравственных ценностей: «Несчастие открыло цену ей
утраченной отчизны» (45—46). И что особенно усиливает сказанное:
Медея старалась для блага греков. Вот почему «ценность утраченной
отчизны» зрители должны были понять не только как греческую,
а как общечеловеческую. К этой теме Еврипид возвращается в
«Медее» неоднократно (778). Пожалуй, Еврипид хочет убедить
зрителей-слушателей, что все беды и зло, случившиеся с Медеей,
только следствия одной роковой измены — измены отчизне.
Судьбой ее, изменницы, добровольной изгнанницы с родины,
потом станут уже не выбранные ею, а поистине роковые измена
мужа и изгнание. «Выбранное» тобою, по твоей воле содеянное
зло не остается в прошлом — оно возвращается: отмщение злом за
зло неотвратимо...
Цивилизация и культура древних греков
123
Еще гнетет Медею простое, но вечное, как мир страдание: «ее
не любят, и нежное глубоко страждет сердце. Ясон детей с
супругою в обмен на новое отдать решился ложе. Он на царевне
женится — увы!» (20—25). Просыпается страсть, тоже старая как мир —
оскорбленние неверностью. Медея решается на кровавую месть.
«Обид не переносит тяжелый нрав, и такова Медея» (50—51). Ев-
рипид повествует о муках «неутешного», «тающего» сердца, о
злобе и мщении, о жажде смерти как избавлении от мук. Как
рассказать людям об этом? И в чем миссия искусства? Об этом тоже
сказано зрителям.
«О, да не будет ошибкой
Сказать, что ума и искусства
Немного те люди явили,
Которые некогда гимны
Слагали, чтоб петь на пирушках,
На пире священном иль просто
Во время обеда, лаская
Мелодией уши счастливых...
Никто до сих пор не придумал
Гармонией лир многострунных
Предел ненавистной печали,
Печали, рождающей смерти,
Колеблющей ужасом царства,
Печали предел положить!..» (244—257)
Но если «рождающую смерть печаль» не может ни остановить,
ни пересказать «сладкоголосое» искусство, то хотя бы
приблизиться к этому может, должна трагедия. И еще одна ее функция:
не только осудить жестокое, чудовищное злодейство, (мстя
изменнику, — Ясону, Медея убивает его и убивает своих детей!) —
Еврипид хочет сделать то, чего часто не может и не хочет сделать
толпа: понять, осмыслить истоки, причины злодейства, генезис
трагического характера. И потому зрителю важно и интересно,
какой рисует Медею Еврипид. Медея — человек незаурядного
ума, она сравнивает себя с непонятыми софистами; царь Эгей
признает в ней «тонкий ум» и характер великих и бурных
страстей. Ее тяжкий удел — и женский («о всех я женах говорю») и
человеческий. Зрители напряженно слушают диалог Ясона и Медеи
в «эписодии втором» — перед ними два характера и два строя
Ценностей. Медея упрекает Ясона в неблагодарности: ведь это во
имя любви к нему покинула она отца, дом, родину, убила Пелия,
обрекла себя на одиночество всюду, кроме семьи. «Неисчислим и
страшен гнев, встает, когда раздор меж близких разгорелся», —
124
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
замечает корифей, и эту ее как бы вскользь брошенную реплику в
431 г. до н.э. греческий зритель мог трактовать широко: и как
суждение о падении семейной нравственности, и как осуждение
Пелопоннесской войны, невиданного «раздора меж близких»
друг другу греков. В ответ Ясон пытается доказать, что помогала-
то ему не Медея, а боги, что его предполагаемый брак с царевной
— забота о детях его и Медеи:
...Я тебя
Спасти хотел, родив единокровных
Твоим сынам царей, опору дома.
Медея отвечает:
Нам счастия не надо, что ценой
Такой обиды куплено; богатства,
Терзающего сердце, не хочу (725—728).
Медея, впрочем, и не верит, что Ясон заботится о сыновьях,
раскрывает истинную причину — и одновременно тут
свидетельство греческих нравов: «Другого ты боялся: чтоб женатым на
варварской царевне не остаться — вам, эллинам, под старость это
тяжко». Оскорбленная, гордая Медея отвергает подачки и посулы
изменившего мужа. Теперь ее замысел ясен — мстить и
наказывать. Одно беспокоит ее: а куда податься потом, исполнив
замысел? Судьба посылает афинского царя Эгея, который
возвращается, посетив оракула Феба. Медея, поведав Эгею о своей беде, но
умолчав о кровавом замысле, берет с царя клятву, что он, приди
Медея в Афины, не поддастся ничьим угрозам или уговорам, не
изгонит ее. Опять мотив изгнания: предотвратить его — значит
избегнуть самого страшного... Медея, прикидываясь
пристыженной и раскаявшейся, убеждает Ясона через детей передать невесте
платье и диадему. Ясон не знает, что платье, надетое на тело, и
диадема, сколовши волосы, разольется ядом, убьет коринфскую
царевну. Умирает и царь Коринфа Креонт, заключив в объятья
умершую дочь и поцеловав отравленные ядом уста. Но и это не
все: Медея убивает, как и задумала, своих детей — нет страшнее
мести неверному Ясону. Диалог Медеи и Ясона в эксоде,
заключении трагедии: Медея на колеснице деда ее, Гелия — с трупами
убитых ею детей. Ясон проклинает Медею: «Нет, богам, и мне, и
всем, / Всем людям нет Медеи ненавистней...». Он обращается к
погибшим детям: «О дети, вы злодейкой рождены!» Но у Медеи
есть ответ: И вас сгубил недуг отцовский, дети!».
Ясон:
Моя рука не убивала их
Медея:
Цивилизация и культурд древних греков
125
Но грех и новый брак убил невинных» (1602—1604)
И дальше:
Ясон:
О, пусть
За детские жизни казнит Тебя Эриния кровавая и Правда!
Медея:
Кто слышит тебя из богов,
Ты, клятвопреступник, — кто слышит?» (1631—1635)
Вот и главный нравственный мотив трагедии: зло питает зло, и
зло трусливое, коварное рождает открытое, страшное злодейство.
В борьбе зла со злом как бы молчит Правда и отворачиваются
боги. Это хотел сказать Еврипид — и не только тем грекам, которых
мы представляем себе пришедшими в афинский театр в 431 г. до
н.э., не только их ближайшим потомкам, но и всем, кому, как мог
надеяться Еврипид, доведется видеть на сцене или читать его
«Медею».
Мотив ужасающего Зла, зла наносимого не только обидчику,
но и самому себе, зла, которое питает зло и «косит» всякого,
виноватого и невинного — пожалуй, главное, что тревожно звучит в
трагедиях Еврипида. Он выбирает самые чудовищные эпизоды в
легендах и мифах предков — задуманное детоубийство
(«Медея»), детоубийство в припадке безумия («Геракл») и по
недоразумению («Федра»); отец (Агамемнон) приносит в жертву дочь
(«Ифигения в Авлиде»); его самого постигает смерть от руки
жены Клиптемнестры и ее любовника Эгисфа; мать убивает, мстя за
отца, сын Агамемнона и Клиптемнестры Орест — с
благословения сестры Электры («Электра», «Орест»). Цепь тяжких
страданий, жестоких страстей — безудержного, страшного гнева,
мстительной ревности, готовности пролить кровь самых близких,
прежде любимых, — вот спутники зла и плата за него.
Братоубийственная общегреческая война, конечно, способствовала
рождению трагедий Еврипида. Но не в меньшей, а быть может, и в
большей мере рождены они тревогой за судьбу человеческого
рода, наблюдением за истоками зла в человеческой природе и
человеческих поступках. В еврипидовых трагедиях есть прямые
морально-ценностные суждения: их, как мы видели, нередко
высказывают и сами герои — злодеи, упрекая друг друга в
преступлениях против нравственности, и «светлые» герои, которых в
трагедиях Еврипида, правда, много меньше, и хор. Его функция
особенно важна: вступление на сцену хора, разговор героя с ним и с
корифеем — это и понимание истоков поступка, причин гнева и
126
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
несчастья, и предостережение, и оценка, и осуждение. Тут
нравственное начало трагедии, пожалуй, выступает в наиболее общей,
моральной, пред-этической, пред-философской форме.
Федра задает уже, в сущности, философский вопрос о борьбе
добра и зла, обращаясь к хору женщин:
Уже давно в безмолвии ночей
Я думою томилась: в жизни смертных
Откуда ж эта язва? Иль ума
Природа виновата в заблужденьях,
Что мы грешим? Не может быть: ведь многим
Благоразумье свойственно. Я так
Скажу: что хорошо, что нет — все это
Мы знаем твердо, лишь на деле знанье
Осуществить мы медлим. Почему?
Одним мешает леность, а другой
Не знает даже вкуса в наслажденьи
Исполненного долга. Мир, увы!
Соблазнов полон, и, если волны речи
Людской нас не закружат, праздность нас,
За радостью гоняя, обессилит... (Федра», 419-433)
И дальше Федра столь же свободно, широко, философски
рассуждает на этические темы — точнее, ставит вопросы, предлагает,
но не вполне уверенно, свои варианты ответов. Она надеется,
видно, на ответ корифея. Но тот только и может, что разразиться
нравоучительной сентенцией:
«Увы, увы! нет в мире ничего прекраснее, чем добродетель:
смертных она дарит заслуженной хвалой...» (480—483)
Совершенно ясно, что этот морализм не может служить
ответом на съедающие Федру, мучительные для нее нравственные
вопросы. Ведь ее как раз и беспокоит бессилие добродетели, пусть и
с ее «заслуженной хвалой», перед соблазнами жизни. Ведь Федра,
глубоко нравственная, но горячо полюбившая, уже хотела найти
в добродетели противоядие против греховной страсти к пасынку
Ипполиту («я думала потом, что пыл безумный осилю
добродетелью»), но уже отчаялась. Она не верит в добродетельность
поступков и помыслов окружающих людей, а потому не находит
опоры в их поучениях. Но пока Федра греховна лишь в любовных
помыслах, и уже оттого несчастна. Кормилица — простой голос
жизни — внушает: «Любить тебе велела Афродита, ты будь
смелее — и любви отдайся». Федра на перепутье, и она поддается на
уговоры кормилицы. А исполняющий партию добродетели
Корифей говорит что-то красивое, но невразумительное, Кормили-
Цивилизация и культура древних греков
127
ца в ответ замечает: «Речь высока. Но эти ризы слов узорные...
зачем они? Ведь сердцу лишь Ипполита речь была б отрадна». Или
другие жгучие вопросы — их задает себе и своим зрителям Еври-
пид через монолог Ореста:
Узнай поди, какая кровь течет
У человека в жилах; разберись
В сердцах людей, средь этой ткани пестрой,
У благородных сын растет негодный,
И добрые у злых выходят дети.
Я видел нищий ум у богача,
А светлый ум под рубищем таится,
Чего-чего не наглядишься. Где ж
И в чем искать мерила? Если в деньгах,
Обманешься... И в бедности — погибель:
Нужда — плохой учитель. Среди военных?
Но кто ж оценит доблесть их в бою?
Свидетели там разве есть? Не проще ль
Игру судьбы признать и покориться...
... О гордецы, оставите ль вы нас
По знатности делить, забывши душу?
Иль в жизни кровь, не нрав, с людьми общенье
Достойных выявляет? Через таких
Сограждан процветают города
И семьи...» («Электра», 388—401,406-^11)
Опять вопросы и вопросы, а ответы -г— они ведь тоже в форме
вопросов...
Вот такие споры в значительной мере дают ключ к пониманию
самой необходимости существования (а раньше —
возникновения) философии нравственности — этики. Жизнь ставит,
литература — через образы и конфликты характеров — формулирует,
широко обобщает43 нравственные проблемы и конфликты, на-
43 С С. Аверинцев в своих работах по античной литературе превосходно
раскрыл именно ее обобщающую природу. Не только к римской, но и к
греческой литературе могут быть отнесены характеристики типа: «дух
отвлеченного умственного эксперимента», «уклон к перебору и
исчерпыванию принципиально представимых возможностей. Дальше идти
некуда, разве что в учебнике по логике, или в задачниках по геометрии,
или в систематизации юридических казусов (Заметим на будущее, что
логика, геометрия, правоведение — это те области знания, методика
которых была разработана еще в античные времена)». См.: Аверинцев С.С.
128
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
глядно обнаруживает потребности в их
обобщенно-типологическом разрешении. Вопросов много больше, чем ответов. А
ответы очень нужны. Их и пытается дать философия, в частности, ее
часть — этика, которая ко времени Эсхила, Софокла, Еврипида
уже оформляется в полноправную часть философии.
Путь культуры и философии от общегреческих
ценностей к общечеловеческим
Древнегреческие трагедии — особый мир духа. В них, как и в
греческой литературе вообще, идет ниспровержение, обличение
зла и злодейства. Одновременно греческая культура — ив этом
отношении она также становится своего рода пред-философией
— разворачивает борьбу за утверждение высоких нравственно-
гуманистических ценностей. В конкретном историческом
контексте это были ценности скорее в их особенной — общегреческой
форме. Они служили консолидации, выживанию, обогащению
греческой цивилизации. Но через особенности формы рождались
идеи и ценности, которым суждено было не померкнуть, не
потеряться в последующие эпохи. Переосмысленные,
скорректированные на новых этапах развития истории ценностные идеи
греков внесли свой неоценимый вклад в развитие общечеловеческих
ценностей.
О каких же ценностных идеях греков ведем мы речь? Одна из
самых главных ценностей древних греков — в
социально-гражданском индивидуальном, нравственном, даже эстетическом
контексте их жизни — это свобода. Тому можно найти немало
подтверждений. Но роль свободы в жизни греков отмечена, как мы
уже видели, разительными противоречиями. Во-первых, даже и
как постулируемая свобода, свобода — ценность, она связывалась
лишь с деятельностью свободнорожденных и полноправных
граждан общества. От сферы свободных политических и всяких
иных волеизъявлений, поступков, мнений и идей открыто и
прямо — полностью или частично — отделялись целые группы
населения: рабы — полностью, чужеземцы и иногородцы,
поселившиеся в полисе — частично, представители «низших»,
полурабских занятий, отдельных социальных групп (женщины) — в
политике полностью, в других сферах деятельности — частично.
Поэтому надо проявить особое внимание к тем заведомым,
формальным ограничениями свободы, которые даже на уровне по-
Риторика как подход к обобщению действительности // Поэтика
древнегреческой литературы. С. 16.
Цивилизация и культура древних греков
129
стулатов, ценностей, законов, норм нарушают принцип
формальной всеобщности свободы — а он по мере развития истории
все более будет выдвигаться на первый план.
Во-вторых, прокламируемая свобода для свободнорожденных
и полноправных тоже была ограничена реальными
возможностями каждого человека — его имущественным положением, а в
Греции еще больше принадлежностью если не прямо к знатному, то
к почтенному роду; его способностями, энергией, трудолюбием,
инициативой, отвагой и другими индивидуальными качествами.
Свобода даже и формально свободным была «отпущена» в
неодинаковой мере, причем для немалого числа людей она была
чем-нибудь ущемлена. Правда, это не только не снижало, но
значительно повышало ценность свободы в глазах грека —
независимо от того, пользовался ли он формально и реально всеми
правами, всеми преимуществами древнегреческой свободы или был
ущемлен в правах и возможностях ею наслаждаться. О свободе
говорится всегда и везде — в Народных собраниях, когда
обсуждаются внутренние дела или ведутся дискуссии с послами других
полисов; на театре, где слово «свобода» звучит со сцены и в
бурных обсуждениях демоса после представлений; на состязаниях
знаменитых поэтов и в речах известных ораторов всегда так или
иначе есть тема свободы. Примеры этого уже были в
приведенных раньше документах и свидетельствах. Высокие идеи и
чувства, высказанные греками при обсуждении ценности — идеи
свободы, напряженные дискуссии вокруг ограничений и
противоречий, связанных с ее реализацией — все это является ярчайшей
стороной цивилизационного наследия древних греков. Ибо
цивилизация немыслима сначала без какой-то меры свободы
действия и мысли, а потом без неуклонного увеличения меры, степеней
и формальной, и реальной свободы. Но она до сих пор
существовала и развивалась только через глубочайшие противоречия,
главным из которых было обеспечение большей свободы одних
через ограничение свободы других. Так сложилось, что полной и
неограниченной свободы «на всех не хватало» — по простому
закону жизни: чей-то труд, поначалу тяжелый,
малопроизводительный и во многом подневольный, должен был обеспечить
основание для освобождения других людей если не от труда, то от
его наибольших тягот, для высвобождения их времени, досуга,
мыслей, забот — во имя обращения к огромному разнообразию
интересных, все более тонких дел, занятий, развлечений, для
интеллектуального труда и художественного наслаждения.
По сравнению с тем, как распределялись свобода и не-свобода
в восточных цивилизациях, древние греки, несомненно, осущест-
5- 11375
130
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
вили новаторский социальный эксперимент огромного
исторического значения, что в особенности относится к тем этапам
развития, когда их цивилизация, набирая темп, широту и силу,
минимально базировалась на рабском труде и максимально на
нелегком, но заинтересованном, высококвалифицированном труде
свободных граждан. Свободное меньшинство и жестоко
эксплуатируемое, подавленное, четко стратифицированное на касты
меньшинство — принцип цивилизации древнего Востока.
Свободное большинство и несвободное меньшинство, которому,
кстати, в греческом мире также предоставлялись определенные
возможности для расширения свободы — принцип
древнегреческой цивилизации эпохи ее расцвета.
И не разрешая себе впадать в преувеличения и
односторонности, можно согласиться с теми авторами, которые все основные
достижения греков возводят к этой беспрецедентной для
античного мира мере свободы. «Из свободы вырос, подобно
благородной ветви из здорового ствола, образ мыслей греков. Подобно
тому, как мысль привыкшего думать человека возвышается больше
в чистом поле, или в открытой галерее, или на вершине зданий,
чем в низкой комнате или узком месте, так и образ мыслей
свободных греков должен был отличаться от понятий подчиненных
народов. Геродот доказывает, что свобода была единственным
основанием могущества и величия Афин, так как последние в
предыдущие времена, когда Афинам пришлось признавать над
собой властителей, никогда не могли стать во главе соседей.
Красноречие стало процветать у греков — в силу той же причины —
лишь в условиях наслаждения свободой... Греки в лучшее свое
время были мыслящими существами в 20 и больше лет, т.е. в
таком возрасте, когда мы едва начинаем размышлять, их яркий ум,
огонь которого поддерживался телесной бодростью, мог
полностью развернуться, между тем как у нас он питается
недостойными вещами до тех пор, пока не начинает тускнеть... Ребенок
изучал стихи Гомера, юноша размышлял, как поэт. И если он
производил нечто великое, его зачисляли в ряды первых из народа» и,
— писал И. Винкельман, и с его суждением, в основном, нельзя не
согласиться.
Конечно, свобода и равноправие в условиях демократии были
относительными, но ведь каким они были контрастом по
сравнению с прежними временами тирании! Об этом писал Геродот:
«Ясно, какая прекрасная вещь равноправие. Находясь под
властью тиранов, афиняне не превосходили соседние народы в во-
44 Винкельман И. История искусства древности. М., 1933. С. 123.
Цивилизация и культура древних греков
131
енном деле, а избавившись от тиранов, они стали первыми. Это
показывает, что порабощенные тиранами, они неизменно были
трусливы, а когда освободились, то каждый стремился сам для
себя усердно делать дело» (Геродот. История, V, 78). Но поскольку,
как мы установили, свобода в жизни греков была тесно
переплетена с несвободой, поскольку правильнее говорить о
непрекращающейся борьбе людей за свободу, о том, что упадок
древнегреческой цивилизации связан с разрастанием именно
рабовладельческой несвободы — постольку ценность свободы и
противоположные ей антиценности: несвобода, подчинение, угнетение в
деятельности, поведении, сознании людей неразрывно
сталкиваются, образуя и объективные социальные и
духовно-нравственные противоположности, конфликты, коллизии.
Связь между наибольшей, в тогдашнем мире, мерой свободы
для свободных людей и возникновением, а потом и бурным
развитием наиболее зрелой в ту эпоху профессиональной
философией — вполне прямая. Философия именно в качестве
первоосновы требует свободы мысли — иначе она так и не рождается
или, едва родившись и укрепившись на почве того или иного
народного духа, скоро и вырождается во что-либо противоположное
истинной философии, например, в апологетику власти и
властителей. Для подлинной философии и настоящих философов
нужна свобода, и во многих смыслах. Это прежде всего свобода от
подневольного физического труда (рабы даже в более
«либеральном» к ним греческом мире почти не становились философами).
А также свобода от политического диктата (относительная, ибо
полной никогда не бывает), во всяком случае возможность для
философии бороться за свою независимость. Это свобода ума от
«диктата» повседневности, от совета и приговора
посредственностей, все равно, исходят ли они от начальства или от толпы. Это
внутренняя свобода мысли, воспаряющей от единичного и
особенного ко всеобщему, свободное «переселение» размышления в
мир абстракций, создаваемый интеллектуальным воображением
и существующий, развивающийся по особым законам.
Обыденному сознанию философский мир нередко представляется
причудливым, иллюзорным, излишним, и за право работать с ним
философу приходится бороться, в том числе с самим собой. Это,
наконец свобода как право на новаторство — перед лицом
сначала абсолютно, а потом относительно властвовавших
интеллектуально-нравственных традиций мифа и религии. Это и свобода
пересматривать уже сложившиеся идеи самой философии,
которые, как и всякие идеи, довольно легко вырождаются в догмы.
5*
132
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Древнегреческий мир если не полностью обеспечил эти
степени свободы, так нужные для философии, то во всяком случае
создал возможность с успехом бороться за них. Потому в
определенный момент древнегреческого исторического времени и пробил
час философии — начался новый отсчет специфического времени
философии, ее богатой и славной истории. Свобода дала толчок
рождению и развитию философии — не удивительно, что с того
времени проблема свободы становится коренной проблемой
тревожных, напряженных, противоречивых философских раздумий.
С ценностью свободы тесно связан патриотизм. Патриотизм,
преданность городу и Греции в целом, готовность без колебаний
отдать за родину жизнь, труд, талант — наихарактернейшая
черта поведения, сознания, ценностного мира, т.е. «доблестей»
древних греков. Греческий патриотизм — традиционная черта духа и
нравственности, выкованная в многовековой борьбе за
независимость от иноземного ига, за самостоятельность, полноправное
участие в процессах мировой цивилизации, за шанс в течение
целых столетий играть ведущую ключевую роль на сцене
всемирной истории. Но он, несомненно был связан и со значительной
мерой свободы, которой пользовались полноправные греки уже в
архаический, а особенно в классический период, и с
возможностью, пусть очень трудной, для не полностью свободных и не
облеченных полными правами — благодаря особым доблестям и
заслугам перед городом — перейти в разряд граждан, или
свободных, полноправных людей. Ведь такая возможность, как мы
отмечали, существовала даже для рабов.
Особую роль в иерархии нравственных ценностей древних
греков играет почитание предков, истории народа и собственного
рода, уважение к традициям, но совмещаемое, что чрезвычайно
существенно, с духом новаторства. Примеров — множество. Вот
отрывок из речи Перикла в «Истории Пелопонесской войны» Фу-
кидида — она произнесена при погребении афинских воинов,
погибших в первый год войны. (Действительно ли так именно
сказал Перикл, или речь в большей степени творение Фукидида
— здесь не суть важно: ведь формулируются греческие ценности).
Ее зачин традиционен для всех эпитафий: «Начну прежде всего с
предков. Ведь и справедливость, и пристойность велят нам в этих
обстоятельствах воздать дань их памяти. Наши предки всегда
неизменно обитали в этой стране и, передавая ее от поколения к
поколению, своей доблестью сохранили ее свободу до нашего
времени. И если они достойны хвалы, то еще более достойны ее
отцы наши, которые, умножив наследие предков своими трудами,
создали столь великую державу, которой мы владеем, и оставили
Цивилизация и культурл древних греков
133
ее нам, ныне живущему поколению. И еще больше укрепили ее
могущество мы сами, достигшие ныне зрелого возраста. Мы
сделали наш город совершенно самостоятельным, снабдив его всем
необходимым как на случай войны, так и в мирное время» (Фу-
кидид. История, И, 36,1-3).
Оставим пока в стороне важный вопрос о том, так ли греки
почитали предков и отцов, как говорили, были ли они способны и
склонны к исторической критике и самокритике. А пока учтем,
что о предках и отцах греки вспоминали не только в годину
бедствий, испытаний — такое воспоминание было, по существу,
универсальным ритуалом, шла ли речь о траурных погребениях или
веселых религиозно-народных праздниках, речах в Народном
собрании или состязании поэтов. Это, была, действительно,
коренная черта народного действия и сознания — в разной форме и
степени она относится к истории всех древнегреческих полисов.
Греческие гордость и патриотизм, как правило, соседствовали с
внимательным и открытым отношением к достижениям других
народов. В той же речи Перикл говорит: «И со всего света в наш
город, благодаря его величию и значению, стекается на рынок все
необходимое, и мы пользуемся иноземными благами не менее
свободно, чем произведениями нашей страны» (П, 38, 2). (Но чем
дальше, тем больше светлый общегреческий и полисный
патриотизм появлялся со своим черным спутником, о котором уже
говорилось — греческой и полисной спесью.) Отсюда — свойственная
грекам, особенно жившим в демократических государствах,
высочайшая ценность общественных дел, которые рекомендуется
выполнять в единстве с делами частными, а в случае конфликта между
ними — решительно предпочитать частным. Мы уже говорили об
этом подробно — не станем повторяться, а приведем лишь один
красноречивый отрывок из той же речи Перикла при погребении
воинов: «Одни и те же люди у нас одновременно бывают заняты
делами и частными, и общественными. Однако и остальные
граждане, несмотря на то, что каждый занят своим ремеслом, также
хорошо разбираются в политике. Ведь только мы одни признаем
человека, не занимающегося общественной деятельностью, не
благонамеренным гражданином, а бесполезным обывателем» (II,
40,2).
В связи с этим давайте поразмыслим над такой проблемой и
трудностью. То, что является ценностью, идеалом, отнюдь не
всегда становится действительностью. Провозглашаемые Периклом
Ценности в немалой степени говорят и об особенностях
действительной практики демократических Афин. Но, во-первых, не все
Древнегреческие государства строили свою жизнь по афинскому
134
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
образцу. Ведь говорит же Платон, сравнивая Афины и Спарту, (а
Платон резко, во многом справедливо критикуя афинскую
демократию периода ее начавшегося разложения, симпатизировал
жесткой дисциплине и другим чертам жизни спартиатов), что в
Спарте господствует «строй военного лагеря». А во-вторых, и в
самих Афинах дело обстояло отнюдь не так идиллически, как
изображал дело Перикл — возможно, потому, что в погребальной
речи подобало говорить о предках и о самих себе торжественно,
без самокритики. Однако, к сожалению, историки издавна стали
принимать ценности — идеалы греков за самое действительность.
Все ренессансы истории — а они случались не только собственно
в эпоху, именуемую Ренессансом — способствовали закреплению
штампа, согласно которому древний грек развивался в
гармоническом, почти бескомпромиссном единстве со своим полисом.
Развитием этой точки зрения, которую, надо сказать, разделяли
крупные историки, выдающиеся писатели, поэты и великие
философы (примеры — Гельдерлин, Гегель), явилось мнение,
согласно которой индивид, индивидуальное, субъективное вообще
не имели ни в жизни, ни в культуре, ни в философии сколько-
нибудь самостоятельного значения. И хотя такое представление
утверждали и продолжают развивать в наше время (в частности, в
нашем отечестве) известные антиковеды (среди них наиболее
убедительно и талантливо это делал выдающийся современный
мыслитель А. Ф. Лосев), считаю позволительным в нем
усомниться. Полагаю, это преувеличение — говорить о полном
«саморастворении» индивида в космосе, полисе, об отсутствии в его
деятельности внимания и высокого почтения к частному,
индивидуальному, субъективному. Моя идея и гипотеза такова. Греки,
действительно, устанавливают приоритет таких ценностей — идей,
как макромир, мир в целом перед индивидуальным микромиром,
утверждают первенство общеполисного, гражданского,
общественного — перед частным, индивидуальным, преимущество
объективных данностей и структур — перед субъективным мнением.
Но при всем этом у греков, в том числе в их философии, идет
постоянный спор макро — и микро-ценностей, частного с
общественным, объективного с субъективным. А философская
диалектика приближает греков к пониманию, что единство этих
противоположностей невозможно без раздвоения единого, без их
выделения, без их явного, все более равноправного противостояния и
одновременно без их взаимопроникновения.
Отсюда — немалое значение, уделяемое не только
космическому, мировому, общеполисному началам, но и всему тому, что
Цивилизация и культурл древних греков
135
связано с индивидом, полем его действия, его инициативой,
предприимчивым действием и любознательной мыслью.
Самостоятельность, инициатива, готовность к изменениям,
новаторство — еще один ряд ценностей, которые вытекают,
разумеется, из ценностей свободы, с ней взаимосвязаны и являются ее
разновидностями.
Новаторство зрело соразмеряется греками с переломным
характером эпохи. «И как в искусствах, так и в политике новое
всегда должно возобладать над старым. В спокойные времена лучше
всего не изменять существующих порядков и обычаев. Но при
изменившихся обстоятельствах неизбежно возникает и много
новых задач, тогда требуются и многие преобразования» (Фукидид.
История. 1,713).
Трудолюбие, высокий трудовой этос — традиционная греческая
ценность. И антиценность — осуждение ленивых, праздных.
«...Чуть забрезжит, быков веду на ниву — нынче сев. Да, кто
ленив, пусть с уст его не сходят слова молитв, — а хлеба не сберег»
— эти слова Еврипид вкладывает в уста пахаря («Электра»,
90-94).
Высоко поставлены в жизни и сознании греков именно
духовные ценности — ценности знания и учения (антиценности —
невежество, леность и небрежность в учении), ценности учености,
мудрости и обязательно с ними связываемая любовь к
прекрасному. В той же речи Перикла, которую вообще можно считать
фукидидовым формулированием общегреческих, а в
особенности афинских гражданских, духовных, нравственных идеалов и
ценностей, сказано: «Мы развиваем нашу склонность к
прекрасному без расточительности и предаемся наукам не в ущерб силе
духа» (II, 40,1).
Несмотря на то, что греки неизменно и порой высокомерно
противопоставляют себя варварам, что они отличают
разнузданность, жестокость нравов при тирании смягченности нравов при
демократии, — все же сама жизнь учит их, что ценности
дружелюбия, мягкости, человечности то и дело бывают побеждены
антиценностями вражды, жестокости, злобы.
Вот почему поэты, драматурги, ораторы, философы так ценят
и так пропагандируют умение умерять страсти доводами
рассудка, сдерживать гнев. Эти нравственные ценности, культура
греческого полиса противопоставляет буйству, разнузданности,
мстительному гневу. Характерное различие — помните, у Гомера:
«Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» А вот у Еври-
пида Ахилл (в трагедии «Ифигения в Авлиде») — мудрый,
сдержанный человек — который говорит о себе:
136
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
«Мой дух мечтой высокой напоен
И, горести людские понимая,
Владеет он собою... сердце мне
Умеренно волнуют и печали
И радости...
Расчет, простой расчет
Нас убедит, что лучший вождь — рассудок...» (1039—1044).
Впрочем, дружба, верность, самоотверженность в дружбе и любви —
ценность, которую всегда высоко ставили греки. Верность Пилада
Оресту («Орест» Еврипида), проверенная жестокими
испытаниями, впоследствии стала чем-то нарицательным, символом
мужской дружбы. «Брата, сверстника и друга для меня дороже нет» —
говорит Пилад Оресту («Орест», 793).
Величайшая из общегреческих ценностей — это, конечно,
красота, и причины этого в известной степени ясны из сказанного:
творение природой своих форм подчиняется, по глубокому
убеждению греков, в том числе и принципам красоты; человек,
подражая природе, а иногда и превосходя ее, творит новую красоту.
Философы «внедряют» красоту, совершенство и пластику формы
в само бытие — это черта древнегреческой философии,
несомненно, укореняется на почве самой жизни и ценностного мира
народа, полисов Эллады.
Некоторый свод греческих ценностных понятий дает Еврипид:
«Души в миру, что в лугах цветы,
В пестрый ковер слились. Правды ж свет
Нам сияет, как солнце.
Только и правде в сердцах у нас
Не просиять без ученья.
Совесть и стыд — мудрецу венец,
Сердцем стыдливый, свой долг узрев,
Глаз уж потом не сведет с путеводной звезды,
С бурного сердца не снимет узды;
Дом его слава за то осенит.
Сколь вы блаженны, смертные,
Если вам доблесть соткала наряд:
Жены, коль чистым ложе хранят,
Мужи, коль град созидают свой,
В тысячу рук созидают град»
(Еврипид. Ифигения в Авлиде, 653—667)
Таковы ценности и сплав ценностей, которые я вслед за целым
рядом отечественных и зарубежных исследователей, считаю
возможным назвать общегреческими — они встречаются в памятни-
Цивилизация и кулыурд древних греков
137
ках письменности, в литературных и философских сочинениях
независимо от того, в каком городе интересующее нас идейное
наследие непосредственно возникло. Но, конечно, тут есть и
должны быть приняты во внимание оттенки различия. Так,
средоточием этих ценностей справедливо считают Афины и,
соответственно, «афинский характер», образ жизни и образ мыслей.
Если бы так полагали только сами афиняне — а им в нашем
анализе уже не раз представлялось слово, — то в этих словах можно
было бы усомниться. Но то же отмечали и жители других городов
— недаром же они признавали достоинства афинян даже тогда,
когда враждовали с ними.
Так, Фукидид, описывая в «Истории» уже известный нам
эпизод конфликта керкирян и коринфян, объективно воспроизводит
мнения других греков об афинских ценностях и афинском
характере. (Напомним, Коринф вступил в противоборство с Керкирой,
поддержанной Афинами; коринфяне, что было естественно в тех
условиях, стали склонять спартанцев к войне с афинянами).
Посланец Коринфа, выступив в Народном собрании Лакедемона и
обращаясь к спартанцам, так сопоставил спартанский и
афинский характеры, ценности, образы жизни. «Вероятно — так
передает Фукидид речь посла Коринфа, — вам еще никогда не
приходилось задумываться о том, что за люди афиняне, с которыми
вам предстоит борьба и до какой степени они во всем несхожи с
вами. Ведь они сторонники новшества, скоры на выдумку и
умеют быстро осуществлять свои планы. Вы же, напротив, держитесь
за старое, не признаете перемен, и даже необходимых. Они
отважны свыше сил, способны рисковать свыше меры благоразумия,
не теряют надежды в опасностях... Они подвижны, вы —
медлительны. Они — странники, вы — домоседы. Они рассчитывают в
отъезде что-то приобрести, вы же боитесь потерять и то, что у вас
есть. Победив врага, они идут далеко вперед, а в случае
поражения не падают духом. Жизни своей для родного города афиняне
не щадят, а свои духовные силы отдают всецело на его защиту.
Всякий неудавшийся замысел они рассматривают как потерю
собственного достояния, а каждое удачное предприятие для них
— лишь первый шаг к новым, еще большим успехам. Если их
постигнет какая-либо неудача, то они изменят свои планы и
наверстают потерю. Только для них одних надеяться достичь чего-
нибудь значит уже обладать этим, потому что исполнение у них
следует непосредственно за желанием. Вот почему они, проводя
всю жизнь в трудах и опасностях, очень мало наслаждаются своим
достоянием, так как желают еще большего. Они не знают другого
удовольствия, кроме исполнения долга, и праздное бездействие
138 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
столь же неприятно им, как самая утомительная работа» (I, 70, 2-
8).
Трудно сказать, действительно ли коринфянин произнес
такую речь или (что, видимо, вероятнее) изгнанник Фукидид, даже
и обиженный на афинян, создал проникнутый тоской и
гордостью образ так знакомого ему «афинского характера».
Размывание традиционных греческих ценностей, падение
нравов — вот одна из тем речей ораторов, литературных и
философских произведений того времени, когда Греция стала
клониться к упадку. Падает уважение к героям и «героическому»
времени, почтение к предкам и отцам, и нарушается единство
поколений — такова стержневая идея трагедии Еврипида
«Геракл». С расчетом Еврипид вкладывает пренебрежительные
оценки подвигов героев в уста Лика, «жалчайшего из тиранов» — и
понятно, почему: невежество, дерзость, насилие не выносит
сравнения с благородством, мужеством, мудростью, подвигами во
славу родины и во имя защиты людей.
Философия, вместе с литературой, «выставляла напоказ»
усилившуюся порчу нравов, звала к добру и доброте, милости и
милосердию, словом, к человечности людских отношений. Она
клеймила зависть, жестокость, злобу, жажду крови. Она взывала к
чистому, поистине божественному Благу. Философы — в унисон с
поэтами, драматургами, ораторами, историками — ставят
множество тревожных, открытых нравственных вопросов. Как уберечь
индивида, народ, человечество от зла, от порчи нравов? Как
побудить их прислушаться к «божественному» голосу и к голосу
собственной совести? Эти вопросы звучат и сегодня. Философская
мудрость, впитав в себя тревогу, боль, страдания людей, пытается
обосновать путь к Благу — и, что для нее равнозначно: к
подлинному Бытию.
Бытие
• Жизненные корни и философский смысл
проблемы бытия
• Философская категория бытия
• Основные формы и диалектика бытия
«Бытие» — фундаментальное понятие, которое многие
мыслители считают основанием философии. При этом издавна в него
вкладывался различный смысл, вокруг «бытия» и учения о бытии
(онтологии) всегда велись и до сих пор ведутся острые
философские дискуссии. При рассмотрении бытия мысль достигает
предела обобщенности, абстрагирования от единичного, частного,
преходящего. В то же время философское осмысление бытия
подводит к сокровенным глубинам человеческой жизни, к тем
коренным вопросам, которые человек способен ставить перед собой
в минуты высочайшего напряжения духовно-нравственных сил.
Быть или вовсе не быть — вот здесь разрешенье вопроса.
Эти слова, которые вызывают в памяти знаменитый монолог
Гамлета, на самом деле вариант перевода (возможно, вольного)
мысли, сформулированной за много столетий до Шекспира
древнегреческим философом Парменидом в поэме «О природе».
Вопросы Парменида и Шекспира — о разном. Парменидов-
ское «быть или не быть» — вопрос о том, избрать ли «бытие», и
только его, первоначалом философии. Решение Парменида —
философское: «Можно лишь то говорить и мыслить, что есть:
бытие ведь есть, а ничто не есть; прошу тебя это обдумать» 1.
Гамлетовское «быть или не быть» — о личностном выборе:
Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Души терпеть удары и щелчки
Обидчицы судьбы иль лучше встретить
С оружьем море бед и положить
Конец волненьям? 2
1 Перевод А. Лебедева.
2 Шекспир у. Гамлет. Акт III, сцена I. (Пер Б. Пастернака).
140
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
В первом случае размышлением охватывается мир в целом,
включающий и человека. Во втором случае внимание человека
сосредоточено на его жизни и судьбе. Но как бы ни различались
парменидовский и шекспировский (гамлетовский) вопросы, они
постоянно переплетаются друг с другом.
Иногда о бытии говорят и пишут так, будто сменяющие друг
друга интерпретации в истории философской мысли
исчерпывают проблему бытия. Однако каждый из философов прошлого
трактовал ее в соответствии с исходными принципами своего
учения. Отсюда заметная разноголосица истолкований смысла и
содержания этой фундаментальной философской категории.
Бытие отождествлялось с особенным миром идей («подлинное»,
вечное и неизменное бытие — в противовес миру преходящих
вещей — у Платона), служило связующим звеном между
сущностями и вещами чувственного мира (Аристотель), использовалось
как понятие, позволяющее привести все бытийные творения к
бытию как таковому, то есть к Богу (Фома Аквинский), ставилось
в связь с существованием вещей самих по себе (Кант),
разветвлялось в начальную категориальную сферу диалектической логики
(Гегель), соотносилось в первую очередь с «бытием-сознанием»
(Хайдеггер) и т. д. Многие из предложенных толкований
высвечивают действительно важные аспекты проблемы. Однако ни
одно из них, взятое само по себе, и даже вся их совокупность не
исчерпывают проблемы бытия — она и сегодня, после
многовекового развития философии, остается неисчерпаемой и открытой.
Вместе с тем освоение опыта истории философии позволяет
очертить общие проблемно-теоретические рамки темы бытия,
поразмыслить над особой ролью и специфическим содержанием философской
категории бытия.
I. Жизненные корни и философский смысл
проблемы бытия
• Мир есть, был и будет
• Бытие мира как выражение его единства
• Мир как совокупная реальность
Мир есть, был и будет
В чем смысл проблемы бытия? Почему она постоянно — с
древности и до наших дней — обсуждается в философии?
Почему многие мыслителя считали и считают ее исходной для
систематических философских размышлений? Понять смысл столь
широкой философской проблемы — значит прежде всего вы-
Бытие
141
явить, какие корни она имеет в реальной жизни человека и
человечества.
Наша жизнедеятельность опирается на простые и понятные
предпосылки, которые мы обычно принимаем без особых
сомнений и рассуждений. Самая первая и самая универсальная среди
них — естественное убеждение человека в том, что мир есть,
имеется «здесь» и «теперь», иными словами, что он наличествует,
существует. Люди столь же естественным образом рассчитывают и
на то, что при всех изменениях, совершающихся в природе и
обществе, мир сохраняется как относительно стабильное целое,
пребывает, являет себя во многих измерениях и данностях.
Проблема бытия возникает тогда, когда такого рода
универсальные, казалось бы естественные, предпосылки становятся
предметом сомнений и раздумий. А поводов для этого более чем
достаточно. Ведь окружающий мир, природный и социальный, то
и дело задает человеку и человечеству трудные вопросы,
заставляет задумываться над прежде не проясненными привычными
данностями реальной жизни. Подобно шекспировскому Гамлету,
люди чаще всего озабочены вопросом о бытии и небытии тогда,
когда чувствуют, что «распалась связь времен...» и сомнение
коснулось тех основ человеческого бытия, которые раньше казались
прочными и несомненными.
Размышление о бытии не может остановиться на простой
констатации существования, то есть наличия, «присутствия» мира
«здесь» и «теперь». Установив, что мир есть, существует, наличен
«здесь», не естественно ли заключить, что мир существует,
наличен не только «здесь», но и «там», за самыми дальними
горизонтами? А поскольку трудно представить себе, что за самым
последним горизонтом вовсе нет мира, то не значит ли это, что мир
существует везде? Философия еще в древности ставила такие
вопросы и тем самым шла по пути, открываемому внутренней
логикой проблемы. (Мы отвлечемся здесь от того, что еще до
возникновения философии мифология и религия вывели
человечество к раздумьям о возникновении мира, о его «начале» и
«конце», о его границах или бесконечности.)
Достаточно было сказать, что мир существует «теперь», и
напрашивались вопросы о его прошлом и будущем. Отвечая на них,
одни философы доказывали, что бесконечный мир непреходящ
— всегда был, есть и будет, другие утверждали, что мир был, есть
и будет, но имеет свое начало и конец не только в пространстве,
но и во времени. Иными словами, мысль о существовании
беспредельного мира как целого далее соединялась с положением
либо о преходящем, либо о непреходящем существовании мира.
142
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Идея о непреходящем (или, по крайней мере, очень длительном)
существовании мира как целого в свою очередь подводила к
вопросу о том, как с этим существованием соотносятся заведомо
преходящие, конечные вещи и человеческие существа. Так
выстраивалась уже целая цепочка вопросов и идей, касающихся
бытия. Возникла именно проблема бытия, расчлененная на тесно
взаимосвязанные аспекты (подпроблемы).
Если утверждение о существовании мира «здесь» и «теперь»
опирается на очевидные предпосылки, ориентации, факты
человеческой жизни, то этого нельзя сказать об идее не имеющего
пространственных границ непреходящего мира. Она отнюдь не
вытекает из непосредственных наблюдений, из конкретного
опыта людей. Напротив, жизнь в условиях всегда ограниченной части
Земли, жизнь, которая для человека (и многих существ) когда-то
начинается и, увы, кончается, скорее наводит на мысль о
преходящем мире, о существовании его границ в пространстве и
времени. Вот почему для отдельного человека, особенно для того, чья
личность и чей дух только формируются, мировоззренческое
освоение идеи бесконечного и непреходящего существования мира
становится непростой задачей. Но, быть может, человек в
повседневной жизни не обременяет себя размышлениями о границах
или безграничности мира, о преходящем или непреходящем его
существовании?
Однако вспомним, сколь часто каждого из нас быстротечная
жизнь заставляет задумываться и тревожиться о хрупкости
существования отдельного человека. Мы сопоставляем и связываем
нашу жизнь — наше преходящее существование — с
непреходящим существованием природы, с жизнью и делами тех людей,
которые были до нас и будут после нас. А что это, как не обращение
мыслью к своему бытию и бытию мира, то есть к преходящему и
непреходящему?
К бытию в его различных аспектах — но в особенности в связи
с человеческим существованием — обращается и художественная
литература. В этом можно убедиться не только на примере
«Гамлета». Русская литература тоже богата бытийственными
размышлениями:
Все бытие и сущее согласно
В великой, непрестанной тишине,
Смотри туда участно, безучастно, —
Мне все равно — вселенная во мне.
Прошедшее, грядущее — во мне,
Все бытие и сущее застыло
В великой, неизменной тишине, —
Бытие
143
такие поистине эпические, философские строки написаны
Александром Блоком.
Мысли о бытии — своего рода взлет человеческой культуры, ее
столь же чудесное, сколь и неизбежное восхождение к самым
высоким, но отнюдь не отвлеченным абстракциям. И нередко
религия или литература прикасаются к бытийственным изменениям
мира трепетнее, проникновеннее, торжественнее и трагичнее,
чем иная философия. Однако именно философия занимается
темой бытия специально и профессионально. Конечно, не каждый
философ и не каждое философское учение обращаются к
бытийной проблематике. В философии бытие как тема и как категория
— своего рода фундамент целостной философской мысли, а
также и шпиль ее величественного здания. Или, если угодно
применить другой образ: тема бытия — корневая система, из которой
постепенно произрастает и мощно разветвляется вся
философская проблематика. Вместе с ее произрастанием ветвится,
укрепляется, складывается в самостоятельную дисциплину (онтологию)
проблематика бытия. Размышления о бытии — «момент», когда
философская мысль охватывает всю Вселенную, как бы соединяя
бесчисленные миры, времена, жизни и судьбы многих
человеческих поколений.
Первый аспект проблемы бытия — это и есть длинная цепочка
мыслей о существовании, ответы на вопросы, каждый из которых
побуждает к постановке следующего. Что существует? Мир. Где
существует? Здесь и везде. Как долго он существует? Теперь и
всегда; мир был, есть и будет, он непреходящ.
Как долго существуют отдельные вещи, организмы, люди, их
жизнедеятельность? Они конечны, преходящи. Корень, смысл,
напряженность проблемы — в противоречивом единстве
непреходящего бытия природы как целого и преходящего бытия
вещей, состояний природы, человеческих существ.
Бытие мира как выражение его единства
Итак, внутренняя логика проблемы бытия (которой во многом
соответствует история ее философского анализа) вела
философию от вопроса о существовании мира «здесь» и «теперь» к
вопросу о непреходящем (или преходящем) существовании мира
как бесконечного (или ограниченного) целого. Философы, далее,
обнаруживали, что мир, с одной стороны, неоднороден именно в его
существовании — в целом он непреходящ, но отдельные его
предметы и состояния преходящи. Бытие мира как целого неотделимо
от бытия в мире всего, что существует. Но между бытием мира и
144
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
бытием в мире отдельных вещей, состояний, существ (то есть
сущих, если говорить на философском языке) имеются, таким
образом, и различия. С другой стороны, мир как раз в его существовании
образует неразрывное единство, универсальную целостность. Отсюда
второй аспект философской проблемы бытия, который связан с
вопросом о единстве мира.
Мир существует как непреходящее единство вне и независимо
от воли и сознания человека. Однако проблема возникает потому,
что люди, практически действуя в окружающем мире, связывая
благодаря своей деятельности преходящее с непреходящим,
прежде всего должны раскрыть для себя эти объективные отношения
единства в многообразии. Кроме того, им приходится постоянно
«встраивать» в единый, целостный мир созданные им отдельные
предметы, конкретные целостности, отношения.
Человек в повседневной жизни, в практической деятельности
склонен к поиску своего единства с природой, с другими людьми,
с обществом (каждый из нас знает это по своему опыту). В то же
время ему достаточно очевидны существенные различия между
вещным и духовным, природой и обществом, между собой и
другими людьми. И все же человеку важно найти и обрести общее
между различными проявлениями окружающего мира. Тем более
что в нем самом слиты в неразрывное единство тело и дух,
природное и общественное.
Именно в силу этого подход к миру как единству
многообразного — природно-вещного и духовного, природного и
общественного — обязательно должен был родиться в человеческой
практике, а затем стать и проблемой культуры. В философии был
поставлен вопрос о всеобщем — общем для всего. Отвечая на него,
философы издавна пришли к выводу: предметы природы и
идеальные продукты (мысли, идеи), природа и общество, различные индивиды
едины, сходны прежде в том, что они «есть», наличествуют, имеются,
«присутствуют», существуют, причем не только в их различиях, но и
в рамках совокупного, единого существования мира.
Это и было философским открытием проблемы бытия —
толчком к анализу того, в чем именно состоит единство мира, к
поиску его необходимых предпосылок, без чего невозможно раскрыть
мировое единство. После открытия проблемы бытия как таковой
предполагается дальнейшее движение от исследования
предпосылок единства мира в его существовании (бытия) к раскрытию
всех оттенков и аспектов его единства. Связь и различие между
философскими понятиями бытия и единства, единого явились
причиной того, что одни философы возвышали бытие над
Единым (Платон), а другие (например, Плотин) считали, что Единое
Бытие
145
возвышается над всем, в том числе и над бытием. Пока речь идет
о бытии как таковом (философы говорят: о «чистом бытии»),
нецелесообразно сразу разбирать вопрос о том, как именно
существуют различные целостности, входящие в единое бытие.
Итак, второй аспект философской проблемы бытия состоит в
следующем: природа, человек, мысли, идеи, общество равно
существуют; различаясь по формам своего существования, они
прежде всего благодаря своему существованию, наличию
образуют целостное единство бесконечного, непреходящего мира.
Иными словами, существование, специфическое наличие,
«присутствие» всего, что есть, было и будет в мире, — это выражение
единства мира, а констатация этого существования — начальный
этап анализа проблемы бытия. Еще раз надо подчеркнуть: бытие
как философское понятие не тождественно существованию мира
и всего, что в мире имеется. Бытие — это мысль о всеобщности,
всеобщей связи между всем, что существовало, существует, будет
или может существовать.
Мир как совокупная реальность
Установив, что различные целостности, имеющиеся в мире, —
природа, человек, все созданное им, включая его мысли и идеи,
общество, — равно существуют, наличествуют, следуя
внутренней логике движения мысли о бытии, нельзя не признать:
природа как целостный универсум была, есть и будет; человек,
общество, когда-то возникнув, с тех пор были, есть и, надо надеяться,
будут. Отсюда вытекает важное следствие:'мир вообще (и все, что в
нем существует) именно во внутренней и объективной логике
существования и развития, то есть реально, предпослан сознанию
и действию конкретных индивидов и конкретных поколений
людей.
Из этой реальной предпосылки отдельный человек на
практике исходит так же определенно, как и из простого факта наличия
мира. Не просто мысль о том, что мир есть, постоянно
наличествует, но и о том, что мир, как таковой, в различии и единстве его
основных целостностей является реальностью для сознания и действия
каждого человека, каждого поколения, — вот еще один, третий смысловой
аспект философской проблемы бытия.
Совокупная реальность, как она есть для отдельных индивидов
и поколений людей, включает: вещи, процессы природы, еще не
освоенные человечеством (таких на Земле все меньше, а в космосе
бесконечное, необозримое множество); вещи, процессы,
созданные человеком из материала природы (таких на Земле и даже
146
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
в космосе все больше); общественную жизнь — отношения людей,
их учреждения, идеалы, принципы и идеи; индивидов в
непосредственном процессе их объективно протекающей
жизнедеятельности.
Человеку, таким образом, приходится считаться с реальностью
как с совокупной (и расчлененной) целостностью, то есть именно как с
единым, обладающим собственной логикой существования и развития
бытием. И даже в тех случаях (а быть может, особенно в таких
случаях), когда люди вынашивают планы коренных
преобразований реальности, настоятельно требуется понять, что именно есть,
наличествует и как оно «есть», каковы объективно возможные
рамки преобразования, тенденции развития реальности. В
истории и в деятельности отдельных людей, правда, нередки случаи,
когда волюнтаристски и субъективистски игнорируется
внутренняя логика существования и развития реальности, то есть
бытийная логика. Но реальность рано или поздно мстит за то, что с нею
не считаются или считаются в недостаточной мере. Это очень
важно учитывать сегодня, когда в нашей стране, как и в других
странах, развертываются коренные преобразования, глубокие
реформы социальной жизни.
Жизнедеятельность каждого отдельного человека —
реальность и для других людей, и для него самого. Согласитесь,
каждый из нас вынужден относиться к своему телу и духу (к
генетическим задаткам, предрасположениям, привычкам, навыкам,
желаниям, склонностям, надеждам, идеям, мыслям), к своему
прошлому, настоящему и будущему, к взаимосвязи с другими
людьми и обществом как к особой реальности, независимой
целостности, что на философском языке и значит: как к особому бытию.
Реальностью, и очень важной, являются для нас и другие люди.
Сознание индивидов постигает также и эту реальность. Сознание
человека, поскольку оно является также и самосознанием,
включено в его индивидуальное бытие, и тем самым оно улавливает
через это бытие общие черты индивидуального бытия других
людей.
Важно подчеркнуть, что не только природное, но и духовное,
идеальное осваивается на практике и осмысливается в
философии как наличное, данное, стало быть, как имеющее характер
особой реальности. С духовными процессами и продуктами, если
они есть, существуют, всем нам приходится считаться не менее,
чем с предметными, вещными реалиями жизни. Следовательно,
включение духовного, идеального в совокупную реальность
бытия — факт человеческой жизни.
Бытие
147
Общий вывод: третий аспект проблемы бытия связан с тем, что
мир в целом и все, что в нем существует, есть действительность,
которая имеет внутреннюю логику своего существования, развития и
которая реально предзадана сознанию, действию отдельных индивидов и
поколений людей.
2. Философская категория бытия
• В чем суть категории бытия в философии?
• Специфика размышлений о бытии
В чем суть категории бытия в философии?
Философия, включая в круг своего анализа проблему бытия,
опирается на практическую, познавательную,
духовно-нравственную деятельность человека. Эта проблема осмысливается с
помощью категорий бытия, а также таких тесно связанных с нею
категорий, как небытие, существование, сущность, сущее,
субстанция, пространство, время, материя, становление, качество,
количество, мера, конечность, бесконечность, реальность,
граница и т. д. И недаром эти и другие категории разобраны в учении
о бытии гегелевской «Науки логики». Они выражаются словами,
достаточно распространенными в обычной речи. Связь категорий
философии с выражающими их словами языка противоречива. С
одной стороны, многовековая языковая практика накапливает
содержания и смыслы соответствующих слов, которые — при их
философском истолковании — помогают уяснить значение
философских категорий. С другой стороны, всегда необходимо иметь в
виду, что выраженные словами обыденного языка философские
категории имеют особое, самой философией устанавливаемое
значение. Для понимания философской категории бытия
наиболее важно принять в расчет и ее совершенно особое содержание,
и связь с повседневной языковой практикой.
Глагол «быть» («не быть») в прошлом, настоящем, будущем
временах, связка «есть» принадлежат к числу наиболее
употребительных слов во многих языках. Связка «есть» — важнейший
элемент индоевропейских языков, причем в некоторых языках она
непременно присутствует во множестве предложений («ist» — в
немецком, «is» — в английском, «est» — во французском и т. д.).
Философы справедливо придают этому обстоятельству особое
значение. «Малое словечко «есть», —- писал М. Хайдегтер, — ре-
кущее в нашей речи и сказывающее о бытии везде и всюду, даже
148
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
там, где само оно не появляется, содержит... всю судьбу бытия» 3.
В русском языке связка «есть» нередко опускается, но по
содержанию подразумевается. Мы говорим: «Иван — человек», «роза
красная» и т. д., подразумевая: Иван (есть) человек, роза (есть)
красная. Философы издавна размышляли и спорили о том, каково
значение слова «есть» в такого рода предложениях (суждениях).
Те из них, кто подходил к делу формально-логически, говорили,
что субъекты суждения (в наших примерах: Иван, роза) уже
приведены в связь с предикатом (здесь предикаты — человек,
красная), и слово «есть» лишь формально фиксирует эту связь, не
добавляя никаких новых содержательных моментов. Другие
философы, например Кант и Гегель, рассуждали иначе. Но и они
соглашались, что связка не приписывает субъектам суждений
никаких других конкретных (реальных) предикатов, кроме
высказанных. И. Кант писал: «... бытие не есть реальный предикат, иными
словами, оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть
прибавлено к понятию вещи» 4.
И вместе с тем, согласно Гегелю и Канту, связка «есть»
прибавляет характеристики, весьма важные для понимания субъекта
предложения, его связи с предикатом, а значит, с ее помощью
даются новые (по сравнению с предикатом) знания о вещах,
процессах, состояниях, идеях и т. д. Каковы же эти характеристики, эти
знания? Присмотримся к предложению «Иван есть человек». Если
акцентировать внимание на субъекте и предикате, то легко
обнаружить, что единичному человеку (Ивану) приписывается общее
(родовое) свойство — быть человеком. Если же сосредоточить
внимание на слове «есть», то, поразмыслив, можно прийти к
выводу, что оно придает субъекту особую, весьма существенную
характеристику, причем характеристику двуединую: Иван есть
(существует) и он есть человек (действительно является
человеком). Приписывание общего свойства «человек» объединяет
Ивана с человеческим родом. Благодаря же слову «есть» субъект
предложения включается в еще более обширную целостность —
во все, что существует. Таким образом, предикат в разбираемом
предложении приписывает субъекту общие свойства, а связка
«есть» — не содержащуюся непосредственно ни в субъекте, ни в
предикате специфическую характеристику («быть»), причем
характеристику не частную и конкретную, а всеобщую.
От предложений языка можно теперь идти дальше, к
философской категории «бытие». Великие философы, рассуждавшие о
3 Хайдеггер М. Тождество и различие. М, 1997. С. 59.
4 Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 521.
Бытие
149
философских категориях и приводившие их в систему,
справедливо полагали, что введение каждой категории требует
оправдания: она нужна философии, поскольку выражает особое
содержание, которое не ухватывается другими категориями. Из этого,
однако, не следует, что для разъяснения смысла данной
категории нельзя пользоваться другими категориями или общими
понятиями. Более того, в силу диалектической природы категорий
одна категория «определяет себя» через другую.
В свете сказанного понятна несостоятельность двух
распространенных возражений против введения в философию
категории бытия. Первое возражение: поскольку категория бытия не
говорит о конкретных признаках вещей, ее надо отбросить. Это
возражение несостоятельно, ибо философские категории как раз
и призваны фиксировать именно всеобщие связи мира, а не
конкретные признаки вещей. Второе возражение: раз бытие
первоначально определяется через понятие «существования» (то есть
наличия чего-либо), то категория бытия не нужна, ибо не дает
ничего нового по сравнению с категорией существования. Однако в
том-то и дело, что философская категория бытия не только включает
в себя указание на существование, но фиксирует более сложное и
комплексное содержание, о котором мы и говорили ранее, фиксируя
три смысловых оттенка понятия бытия.
Разбирая проблему бытия, философия отталкивается от факта
существования мира и всего, что в мире существует, но для нее
начальным постулатом становится уже не сам этот факт, а его
смысл. Это и имел в виду Кант, когда дал мудреное на первый
взгляд определение бытия: «Оно есть только полагание вещи или
некоторых определений само по себе» 5. «По кантовскому
толкованию связки «есть», — разъяснял М. Хайдегтер, — связь субъекта
и предиката предложения выражается в ней как объективная» 6.
Мысль, сходная с кантовской, имеется у Гегеля: «Когда мы
говорим: «Эта роза есть красная» или «Эта картина прекрасна», мы
этим утверждаем, что не мы извне заставили розу быть красной
или картину быть прекрасной, но что это составляет собственные
определения этих предметов» 7.
Итак, философия фиксирует не просто существование вещи
(или человека, или идеи, или мира в целом), а более сложную
связь всеобщего характера: предметы (люди, состояния, идеи, мир
5 Там же.
6 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 369.
7 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. С. 351.
150
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
в целом) вместе со всеми их свойствами, особенностями
существуют и тем самым объединяются со всем тем, что есть,
наличествует в мире. И фиксируются данные связи, характеристики с
помощью категории бытия, причем здесь применение этой
категории не заканчивается, а только начинается.
Соответственно понимание категории бытия включает два
дополнительных тесно взаимосвязанных смысловых оттенка.
Первый и начальный смысл — тот, который мы только что
установили: «полагание вещей» (мира в целом) с внутренне, объективно
присущими им свойствами — исходный пункт философского
категориального анализа. Но не только этот смысл: в практике
человека и человечества ему соответствует начальная и уже глубоко
содержательная стадия любого дела, когда установление факта
существования тех предметов (состояний и т. д.), на которые
деятельность направлена, соединяется с отношением к ним как к
самостоятельным, «данным» целостностям.
Первые шаги в понимании бытия служат своего рода
трамплином для дальнейшего категориального анализа. «Бытие» во
втором, более широком смысле (включающее в себя бытие в
первом смысле, «простое», или «чистое», бытие) — категория, точнее,
семья ранее перечисленных категорий, с помощью которых
философия стремится наиболее полно и глубоко ухватить,
осмыслить ранее рассмотренную проблему бытия. Тут, естественно,
применяются и другие категории, но они как бы суммируются,
объединяются «под эгидой» обобщающей категории бытия.
Категория «бытия» в этом подобна другим всеобщим философским
категориям — она позволяет объединить и затем удерживать в
поле анализа уже взятые в их единстве и взаимосвязи доказанные
философией утверждения относительно мира и его всеобщих
связей.
Примером может служить учение о бытии в «Науке логики»
Гегеля. В нем представлено множество диалектически
взаимосвязанных категорий, в частности, приводятся в связь бытие, ничто и
становление, наличное бытие, реальность, нечто и иное, свойство
и граница, конечное и бесконечное, для-себя-бытие, одно и
многое, величина, число и другие категории. Главные из них —
качество (определенность), количество (величина), мера; они
одновременно и расшифровываются через категорию бытия, и сами
расшифровывают ее смысл. Каждая из этих категориальных групп и
каждая из входящих в нее категорий высвечивает
взаимосвязанные аспекты проблемы бытия. Начинает Гегель с «чистого
бытия», которое приводится в связь с «ничто». Тем самым говорится:
при первых столкновениях с какой-либо сферой (вещью, процес-
Бытие
151
сом, явлением, духовным образованием) мы не знаем ничего,
кроме того, что эта сфера «есть», «бытийствует»; но она для нас
пока есть «ничто». Постепенно «чистое» бытие наполняется для
нас определенностью, мы узнаем о чем-то, что неотделимо от
бытия как данного нам. Например, мы называем нечто «домом»,
независимо от того, большой он или маленький, белый или желтый
и т. д. По Гегелю, это значит: есть качество дома, то есть
совокупность определенных свойств, обеспечивающих его «наличное
бытие», «присутствование». Но количественные, величинные
характеристики для бытия тоже важны: дом может быть очень
маленьким, но его нельзя уменьшать без всякого предела. Если будут
нарушены «узловые линии меры», то данное бытийное качество
может исчезнуть. Например, при разрушении дом превращается
в груду обломков; бытийная определенность этого дома исчезает.
Другой пример: вода, нагретая до 100° С, может превратиться в
пар, охлажденная до 0° С — может стать льдом. Изменение
количества приводит к изменению качества, то есть определенности
бытия.
Специфика категорий бытия, как мы видим, состоит в том, что
с ее помощью можно анализировать процессы, относящиеся к
отдельным вещам, предметным сферам и миру в целом. Подробнее
мы раскроем это в дальнейшем. А пока вернемся на уровень
всеобщих рассуждений о мире в целом.
Приведем в единство утверждения, которые теоретически
суммируются с помощью категории бытия. С помощью этой
категории интегрируются основные идеи, вычлененные в процессе
последовательного осмысления вопроса о существовании мира; 1)
мир есть, существует как беспредельная и непреходящая
целостность; 2) природное и духовное, индивиды и общество равно
существуют, хотя и в различных формах; их (различное по форме)
существование — выражение единства мира; 3) в силу
объективной логики существования и развития мир (в различии форм его
существования) образует совокупную реальность,
действительность, предзаданную сознанию и действию конкретных
индивидов и поколений людей.
Философская категория бытия, следовательно, заключает в
себе достаточно сложное и комплексное содержание. При его
осмыслении могут возникнуть трудности, вопросы и сомнения. О
некоторых из них имеет смысл поговорить специально.
Специфика размышлений о бытии
Трудности осмысления бытия связаны со следующим
обстоятельством. В обычной жизни мы только через конкретные свойст-
152
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ва узнаем, какова вещь или каков человек. А здесь получается
иначе: чтобы понять, что такое бытие как таковое, нужно
отвлечься от конкретных и даже от общих свойств! На первый
взгляд это кажется весьма необычным. Но ведь каждый может
заметить, почувствовать, что о бытии нельзя говорить так, как мы
говорим о конкретных предметах; например, что бытие —
большое или малое, красное или зеленое... Дом может быть красным
или белым, но само его бытие как дома не может быть красным,
белым, вообще как-то окрашенным. О бытии нельзя говорить и
так, как мы говорим о мыслях или о людях, — что оно глубокое
или поверхностное, доброе или злое...
Чувство языка сразу предостерегает против этого, как бы
обращая нас к специфике необычного понятия. Ибо слово «бытие»
уже и в обычном разговоре фигурирует во всеобщем смысле,
настраивая на философский лад. И хотя размышления о бытии
отталкиваются от самой простой жизненной предпосылки — от
нашей уверенности в том, что мир существует, — достаточно
произнести слова «мир», «окружающий мир», «бытие», как речь и
мысль и без специальных усилий с нашей стороны «переносят»
нас на особый уровень размышления: мы отвлекаемся от
отдельных предметов, их конкретных признаков и состояний. Так что и
обычный человек в его повседневном существовании, не
выключаясь из потока жизни, пользуется названными предельно
общими понятиями и, собственно говоря, уже философствует —
независимо от того, замечает он это или нет. Благодаря же
философской категории бытия, мы сознательно переносим нашу мысль на
высокий уровень абстрагирования, предельный из возможных.
Ведь мы не только отвлекаемся от каких-либо предметов,
состояний с их вполне конкретными признаками и свойствами. Сначала
мы отвлекаемся от различий между природой и человеком, телом
человека и его духом, индивидами и обществом. Затем мы ищем
общее между всеми ими, то есть, собственно, всеобъединяющую,
предельно общую мировую связь.. Результат этих поисков и запечатлевает
философия с помощью категории «бытие», а также примыкающих к
ней категорий.
Научиться употреблять категорию бытия в соответствии с ее
спецификой, с ее особой ролью в философии в частности, —
значит избежать некоторых ошибок. Например, строго философски
неправильно представлять себе бытие по аналогии с
непосредственным существованием предметов или мыслей. Неверно
изображать бытие в виде предметов, предметных сфер или «сферы
сфер». Противоположная ошибка — понимание бытия как
чистой мысли, идеи, помещенной где-то в особом мире, отдельно от
Бытие
153
мира реального. Однако такие понимания встречались в истории
философии в прошлом, встречаются и сегодня.
Например, Парменид одним из первых в европейской мысли
ввел и стал употреблять философское понятие бытия в его
общем, абстрактном значении. Но на той стадии развития
философии едва родившаяся абстрактная мысль о бытии еще была слита
с предметно-образным изображением бытия. «...И все бытие
отовсюду, — сказано в поэме Парменида, — замкнуто, массе равно
вполне совершенного шара с правильным центром внутри».
Пармениду казалось вполне естественным изображать бытие, и
изображать его в виде некоего самого большого шарообразного
«футляра», как бы вмещающего и отграничивающего все, что
существует в мире. Правда, Парменид добавлял, что «узреть» такой
шар можно только разумом, а не чувством. Подобная же логика у
Демокрита, утверждавшего, что бытие — это атомы.
Понимание бытия как такового через его предметные
изображения, уподобления устарело, но не оставлено в далеком
прошлом. Философы и нефилософы и сегодня нередко толкуют те
общие связи, которые фиксируются с помощью категории бытия,
как особые «предметы» или предметные сферы. Такой подход
можно было бы назвать «натурализацией» бытия.
Противоположный подход — идеалистический. Например, Платон отрывал
всеобщие связи мира от самого мира, превращал бытие в идею,
ведущую «самостоятельную» жизнь где-то «на хребте неба».
В этой связи особенный интерес представляют те мысли и
формулировки великих философов, которые помогают уяснению
совершенно специфических смысловых оттенков, присущих
философскому понятию бытия, которые направлены против
превращения этой абстрактной, или сущностной, категории в некое,
выражаясь словами Аристотеля, «специальное бытие». По этой
причине сам Аристотель не просто отделил «вечное»,
«неизменное» бытие от других категорий (например, от категорий
сущности, субстанции), но как бы поставил его над всеми ими. Вместе с
тем сущность, по Аристотелю, связана с бытием, воплощает его. И
понятно почему: бытие — предельно абстрактное, всеобщее, то есть
сущностное понятие, или сущностное «измерение» мира.
Разговор о бытии, таким образом, является предельно
отвлеченным, абстрактным. Это нередко считают недостатком,
который следует преодолеть. И если философствование о бытии
вырождается в схоластику, оторванную от жизни, то ее, разумеется,
надо преодолевать. Но совсем другое дело — восхождение к
предельной обобщенности анализа. Без этого нет философского
размышления, в особенности в учении о бытии. Оно помогает разви-
154
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
вать особые способности человеческого ума — умение выявлять и
изучать связи, предельно общие для каждой области
действительности и для действительности в целом. Отсылку от отдельного
конечного бытия к бытию как таковому, взятому в его совершенно
абстрактной всеобщности, следует рассматривать как самое
первое теоретическое и даже практическое требование, утверждал
Гегель.
Чтобы убедиться в этом, снова вспомним о языке. Сколько раз
в день, говоря о вполне конкретных вещах, мы употребляем
глагол «быть», предложения со связкой «есть», столько же раз мы как
бы автоматически встраиваем это конкретное в общие отношения
бытия, или, как иногда выражаются философы, в «бытийствен-
ные» отношения. Раньше над такими привычными
автоматизмами задумывались разве что теоретизирующие лингвисты и
философы. Но когда человек стал создавать самые современные
думающие машины, потребовалось, в частности, решать вопрос о
том, как в сознании и в языке осмысливаются и фиксируются
указанные бытийственные отношения.
Было бы наивно утверждать, что все программисты, которым
так или иначе пришлось отвечать на подобные вопросы,
обратились или обратятся к философии. Это делают лишь немногие —
те, кто создает новые программы, разрабатывает концепции,
положенные в основание научно-технической деятельности,
связанной с «думающими» машинами. Но существенно то, что
прежде сугубо автоматизированное, часто бессознательное освоение
человеком отношений бытия ныне все чаще приходится
превращать в сознательное, осмысленное, философски грамотное. И это
становится как раз конкретным делом людей, причем делом
самым современным.
Обратимся к тем нашим мыслям и переживаниям, которые
касаются мира, космоса, Земли, человечества и его судьбы. Чаще
всего это и есть выход к проблеме бытия, например к вопросу
«быть или не быть» человечеству, природе, Земле.
Многим из нас близок вопрос о космосе. Мы интересуемся тем,
что есть космос сегодня и что с ним будет завтра. И опять-таки
сама жизнь заставляет формулировать и обсуждать вопрос о
космосе не только в терминах конкретных дел, но и как предельно
общую и одновременно напряженную проблему бытия.
Имея в виду какие-то известные факты и опираясь на свои
вполне конкретные переживания, мы все же не можем не ставить
эти вопросы в предельно общей форме. Ведь нас беспокоят
судьбы человеческого бытия и бытия в целом. Прав был Борис
Слуцкий, когда писал:
Бытие
155
Бытие, все его категории,
жизнь, и смерть, и сладость, и боль,
радость точно так же, как горе, я
впитываю, как море — соль.
До сих пор мы обсуждали проблему бытия в целом — вопрос о
предельно общей связи между всем существующим в мире. Но,
как уже отмечалось, форма бытия, а значит, и формы реальности
различны. Каковы же основные формы бытия?
3. Основные формы и диалектика бытия
• Бытие и сущее; основные формы бытия
• Бытие вещей, процессов и состояний природы
• Бытие произведенных человеком вещей
(«второй природы»)
• Бытие человека в мире вещей
• Специфика человеческого бытия
• Бытие индивидуализированного духовного
• Бытие объективированного духовного
Бытие и сущее; основные формы бытия
Целостный мир — это всеобщее единство, включающее в себя
необозримое множество существующих в их конкретности и
целостности вещей, процессов, состояний, организмов, структур,
систем, человеческих индивидов. Следуя философской традиции,
все их можно назвать сущими, а мир в целом — сущим как
таковым. Всеобщие связи бытия проявляются не иначе как через связи
между единичными сущими. Каждое сущее уникально.
Неповторимы внешние и внутренние условия, иначе говоря, ситуация
существования всего, что есть в мире (или, если выразить это с
помощью философской терминологии, неповторимо «наличное
бытие» всякого сущего). Определенность сущего характеризует
индивидуальность его бытия и его место в целостном бытии.
Условия, моменты данного бытия, его «мгновения» никогда не
воспроизводятся вновь и не остаются неизменными. Некоторые
философы справедливо утверждают, что каждое сущее является
носителем неповторимой, только ему присущей сущности.
Признание уникальности (единичности) каждого сущего
особенно важно для учения о человеке. Из осознанной уникальности
бытия каждого человека прямо вытекает важнейшее правило
гуманизма: признавать и уважать в каждом человеке неповторимое
существо.
156
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Но как бы ни были уникальны отдельные проявления бытия и
как бы ни важна была эта уникальность для людей, все-таки их
практика и познание настоятельно требуют, чтобы единичное
обобщалось, объединялось в группы, а также в весьма обширные
целостности. При объединении единичных сущих в целостности
человеческая мысль обязательно учитывает то, как именно
единичное существует. Улавливая определенное сходство условий,
способов существования единичных сущих, философия объединяет их в
различные группы, которым присуща общность формы бытия Таких
групп много (мы будем говорить здесь только об основных
формах бытия). Различение и объединение того, что существует, под
углом зрения принадлежности к специфической форме бытия —
отправная точка самой что ни на есть обычной, повседневной
жизни людей. Они обязательно учитывают различия форм бытия
во всех областях деятельности, хотя не всегда задумываются об
этом. Ведь обрабатывать материал природы, к которому не
прикасалась рука человека, — в большинстве случаев не то же самое,
что преобразовывать вещи и процессы, уже вышедшие из
горнила человеческой деятельности; воздействовать на живое
человеческое тело и тем более на мысли и чувства людей надо иначе, чем
на вещи природы.
И прежде всего надо знать, как те предметы, те данности, с
коими имеет дело человек, «присутствуют» в мире, то есть иметь
представление о специфике их бытия. Однако при этом человеку
— сколь бы конкретные практические задачи он ни решал и как
бы ни был он далек от философии — не обойтись без некоторых
хотя бы элементарных знаний и навыков, позволяющих «учесть»
бытие как таковое. А это, в частности, означает: надо различать
сущее и бытие (вопреки тем учениям, где они отождествляются).
Однако не только различать, но и связывать их. М. Хайдеггер
подчеркивал: традиционная философия (даже та, которая
именовала себя онтологией, то есть учением о бытии) сосредоточивала
внимание главным образом на проблеме сущего. В этом
проявилось «забвение бытия», в чем Хайдеггер видел особенность
метафизики и мироощущения европейского человечества,
обусловившую трагичность его судьбы. Поворот от «только сущего» к
«самому бытию» — вот чего требовал Хайдеггер от новой
онтологии. И это не праздная и не абстрактная мысль. Действительно,
человечество склонно проявлять интерес к сиюминутным
проблемам и задачам (к конкретному сущему); в таких, например,
«заботах» было создано самое современное оружие массового
уничтожения. Людей долгое время мало заботило то, как это
скажется на судьбе мира — природы, человечества, цивилизации,
Бытие
157
культуры. Хайдеггер прав: настало время «озаботиться» самим
бытием. Такая задача неразрывно связана с философским
осмыслением бытия и его форм.
Проблема форм бытия важна, следовательно, для
повседневной практики и познавательной деятельности людей (пусть в
жизни она чаще всего осмысливается и обсуждается не в
философских терминах).
Принципиально важна она и для философии. Вспомним: при
определении бытия мы сначала остановились на том, что
(различные) целостности мира равно существуют и что это придает
всем им характер реальности, создает предпосылку единства
мира. Теперь сосредоточим внимание на диалектических различиях
между основными формами бытия — диалектических в том
смысле, что не будут упущены из виду всеобщие связи бытия,
взаимосвязи между этими формами.
Целесообразно выделить следующие различающиеся, но и
взаимосвязанные основные формы бытия:
1) бытие вещей (тел), процессов, которое в свою очередь делится
на бытие вещей, процессов, состояний природы, бытие природы
как целого и бытие вещей и процессов, произведенных
человеком;
2) бытие человека, которое (условно) подразделяется на бытие
человека в мире вещей и специфически человеческое бытие;
3) бытие духовного (идеального), которое делится на
индивидуализированное духовное и объективированное (внеиндивидуаль-
ное) духовное;
4) бытие социального, которое делится на индивидуальное
бытие (бытие отдельного человека в обществе и в процессе истории)
и бытие общества.
В данной главе будут рассмотрены первые три формы.
Бытие вещей, процессов и состояний природы
Начнем с уточнения понятия «окружающий мир», из
признания существования которого исходит человек. Исторически
первой предпосылкой, основой человеческой деятельности были и
остаются сегодня вещи, процессы, состояния природы, которые
возникли, существовали до человека, существуют вне и
независимо от сознания и действия людей («первая природа»). Потом
человек стал мощно и широко воздействовать на природу Земли.
Возник целый мир произведенных человечеством вещей,
процессов, состояний. В философии его назвали «второй природой».
158
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Рассмотрим сначала особенности формы бытия первой природы.
Казалось бы, что тут мудрить: природа, ее вещи, процессы,
состояния, бесспорно, существуют вне и независимо от сознания.
Даже принимая существование природы в качестве простого
факта жизни (а его признает, по-видимому, большинство
философов), философия все же считает необходимым разрешить по
крайней мере основные, возникающие в данной связи сомнения и
трудности. И. Кант был прав, когда сказал: «...нельзя не признать
скандалом для философии и общечеловеческого разума
необходимость принимать лишь на веру существование вещей вне нас...
и невозможность противопоставить какое бы то ни было
удовлетворительное доказательство этого существования, если бы кто-
нибудь вздумал подвергнуть его сомнению» 8.
При осмыслении проблемы существования природы как
особой реальности и вещей природы философия сталкивается вот с
какой трудностью: о вещах и состояниях природы, о природе в
целом мыслит и говорит человек; именно он устанавливает
существование мира природы до, вне и независимо от своего сознания
и действия — и устанавливает не иначе как опираясь на свое
сознание и действие. Здесь имеет место своего рода парадокс, и
философия не отмахивается от этого парадокса. Да, именно люди
судят о природе и говорят, что она существовала до появления
человеческого рода и что после возникновения человека и его
сознания она сохраняет независимость своего бытия. Но ведь
выводы о существовании и форме бытия природы сделаны людьми
на основании множества фактов, в том числе аргументов,
опытных и теоретических данных науки, то есть на основании
общечеловеческого социально-исторического опыта, конкретного
практического опыта всех когда-либо живших и сегодня живущих
индивидов. Повседневная проверка, спрессованная в опыт
истории, и придала мысли о существовании природы до и независимо
от человека фактическую очевидность — не только как факту
человеческой жизни, но и как обоснованному научному выводу
естествознания и философии.
О бытии первой природы можно, следовательно, утверждать,
что ее вещи, процессы, состояния, ее целостность существуют до,
вне и совершенно независимо от сознания человека и что в этом —
коренное и постоянное отличие природы (ее вещей, процессов,
состояний) как особой формы бытия. Но здесь важны бытийст-
венные различия между природой в целом и ее отдельными
сущими.
8 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С 101.
Бытие
159
Природа в целом бесконечна в пространстве и времени — она
всегда и везде была, есть и будет. Это уникальная особенность,
которая не присуща отдельным вещам, процессам, состояниям
природы: они существуют где-то (а где-то не существуют), они когда-
то и где-то возникают, то есть, говоря философским языком, их
небытие сменяется их бытием. Они вступают в процесс развития,
изменения, становления; их бытие выступает как сохраняющееся
и исчезающее. Такие мыслители, как Гераклит и Гегель, ярко
раскрыли диалектику бытия преходящих вещей. Гегель, говоря о
процессе становления, метко обозначил его словом
Verschwundensein — исчезающее бытие, или бытие-исчезновение. В конце
концов бытие данной преходящей вещи уступает место ее
небытию, что, однако, не означает прекращения бытия природы в
целом. Итак, бытие природы имеет своей особенностью диалектику
преходящего и непреходящего бытия отдельных сущих в
непреходящем бытии природного мира как целого. (Отсюда
проистекают важные различения, когда философы, подобно Платону или
Аристотелю, акцентировали то моменты вечности, неизменности,
единственности самого бытия, то аспекты изменчивости, плю-
ральности, связанные с познанием сущего.)
Тут снова стоит вернуться к сопоставлению парменидовского и
гамлетовского «быть или не быть», с которого начались наши
размышления о категории бытия. Гамлетовский выбор: достойно
человека жить (быть) или добровольно прервать нить жизни,
уйдя в небытие. Парменидовская же мысль констатирует иное
противоречие: будут или не будут отдельные вещи и человеческие
существа — это не отменит главного основания жизни и
философии, непреходящего бытия мира. Отсюда, согласно Пармениду,
следует: есть только бытие мира, а его небытия нет. (В этом
смысле Парменид был прав, хотя он неоправданно построил
недиалектическую картину неподвижного, косного, замкнутого бытия.)
Обе стороны вопроса «быть или не быть» — конкретный смысло-
жизненный и общефилософский — в конечном счете
диалектически связаны между собой. Конкретная вещь разрушилась,
данный человек умер, но они не исчезли из целостности бытия мира.
Они остались как иные материальные его состояния. И «само
бытие» сохраняется как вечное, пребывающее.
Первая природа — благодаря своему бытию до, вне и
независимо от сознания — является реальностью особого типа. Человек и
его дух рождаются благодаря непреходящей природе и уже после
того, как природа Земли миллиарды лет существовала без
человека. После возникновения человеческого рода, несмотря на все его
влияние на природу, огромная, поистине неизмеримая ее часть
160
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
по-прежнему «пребывает» (то есть постоянно бытийствует) как
совершенно самостоятельная, полностью независимая от человека
и человечества реальность. В универсуме природы человек с его
сознанием — только одно из поздних звеньев в бесконечной цепи
единого бытия. Для природы существовать, «быть» вовсе не
значит быть воспринимаемой человеком (или каким-нибудь другим
разумным существом). Огромные пространства Вселенной до
возникновения человека, судя по всему, никем и никогда не
воспринимались; и человек не может охватить не только
восприятием, но даже воображением и мыслью весь универсум.
Эта сухая констатация факта окружена в философии и в
литературе множеством тревожных раздумий, сомнений. Как
отнестись к тому, что необозримый, вечный мир природы бесконечно
превосходит время существования, возможности познания
человека? В древности, когда человек освоил сравнительно
небольшую часть земного пространства, мир не выглядел столь чуждым
и бездонным, как в Новое время, когда французский мыслитель
Блез Паскаль сравнивал человека перед лицом необозримости и
мощи природы с тростником, но добавлял: человек — это
«тростник» мыслящий. Впрочем, уже в Новое время возник гордый, в
чем-то самоуверенный оптимизм, наделивший человека статусом
господина, покорителя природы. Не за него ли мы сегодня
расплачиваемся? Но в философии, в культуре в целом всегда
пробивалась верная мысль о том, что человек может и должен
почувствовать свое родство с бесконечным миром, что он способен
понять: в природе есть своя свобода; в ней, говоря словами
Пушкина, есть «покой» и «язык».
Сделаем выводы. Природа объективно реальна и первична
также и в том смысле, что без нее невозможны жизнь и
деятельность человека. Без нее не могли бы даже появиться предметы и
процессы, произведенные человеком. «Вторая природа» строго
зависит от первой — от природы как таковой, от ее вещей,
процессов, закономерностей, существующих до, вне и независимо от
человека. По типу, форме своего бытия «вторая природа» сходна
с первой, из которой она рождается, но в пределах предметно-
вещественного бытия она обладает важными особенностями.
Бытие произведенных человеком вещей
(«второй природы»)
Большинство окружающих нас вещей и
предметно-вещественных целостностей произведено людьми. Они входят и в
житейское и в философское понятие «окружающий мир» в качестве
его важного элемента. Но в философии понятие «окружающий
Бытие
161
мир» нередко остается недифференцированным, более того, он
часто отождествляется с первой природой, что неправомерно.
В чем же состоит отличие «второй природы» от первой? С
одной стороны, воплощенный в ней материал первой природы есть
объективная и первичная в философском смысле реальность,
развивающаяся по законам, независимым от человека и человечества.
С другой стороны, в предметах «второй природы» воплощены
или, если воспользоваться термином Гегеля, «опредмечены» труд
и знания человека.
Так, станок не просто предмет, сделанный из металла и каких-
то других материалов (которые, кстати, тоже часто принадлежат
ко «второй природе», ибо прошли через горнило человеческой
деятельности). В нем предметно, материально запечатлены
знания людей, воплощены труд и навыки тех, кто его изготовил. Для
того чтобы использовать и в случае необходимости преобразовать
далее предметные результаты человеческого труда, требуются не
только знания о материалах природы, из которых предметы
сделаны. Нужно, чтобы люди, которые пускают их в дело, хотя бы
частично располагали ранее воплощенными в них знаниями об
их назначении, процессе работы, особенностях конструкции и
т. д. Или, если снова применить термин Гегеля, нужно «распред-
метить» эти знания. Многие философы акцентируют внимание
на роли духовных, идеальных элементов в процессе труда,
предметной деятельности человека и отводят существенную роль
таким компонентам человеческой деятельности, как целеполагание,
формирование проекта, плана действий, образа изготовляемого
предмета и т. д. Эти компоненты можно назвать идеальными,
поскольку благодаря им формируется идея предмета, которая затем
воплощается в жизнь. И их роль действительно огромна. Однако
бытие предметов и процессов «второй природы» состоит в том,
что они представляют собой нерасторжимое единство
природного материала, опредмеченного духовного (идеального) знания,
опредмеченной деятельности конкретных индивидов и
социального предназначения, функций данных предметов. Будучи
созданными в качестве такой особой единой реальности, эти предметы
заданы, объективно предпосланы последующим актам
человеческого труда, познания, творчества.
Природный материал, объективные природные процессы
составляют, таким образом, то первичное и реальное в предметах
«второй природы», с чем в человеческой деятельности нельзя не
считаться, с чем требуется жестко сообразовывать свои цели,
планы/проекты, замыслы, критерии. Если, положим, из одного и того
же металла можно сделать совершенно разные виды предметов
6- 11375
162
H. В. Мотгошилова «Работы разных лет»
(да и изготовление каждого вида предметов в принципе
предполагает многовариантность результатов), то все же металл в
данном случае обладает инвариантными, то есть постоянными
исходными свойствами. Человек может многократно менять
проекты и способы изготовления предметов из металла, но во всех
случаях относительно постоянной первоосновой будут свойства
металла как объективно данные и все глубже раскрываемые,
осваиваемые людьми.
Однако специфика бытия предметов «второй природы» и ее
целостности состоит в том, что это совершенно новая по
сравнению с первой природой комплексная (природно-духовно-социалъная)
реальность.
«Вторая природа» — мир единый и в то же время чрезвычайно
многообразный. Это — орудия труда от самых первых, простых,
созданных человеком на заре цивилизации, до сложнейших
современных машин и механизмов, средств транспорта и
коммуникаций. Это — промышленность и энергетика, это —
строительные площадки, дороги, обрабатываемые поля. Это — города и
поселки. Это — радиостанции и телецентры, космодромы и
космические корабли, школы, вузы, музеи, театры и т. д. Это предметы,
окружающие нас в быту, — мебель, одежда, да и вообще
множество самой разнообразной утвари, приспособлений, приборов. Это
и предметы, специально приспособленные для удовлетворения
потребностей человеческого духа, — книги, картины, статуи и т.
д. Словом, речь идет о предметном богатстве, системах и всем
«поле» человеческой цивилизации, культуры.
Отличие бытия предметно-вещного мира культуры от бытия
природных вещей — это не только отличие искусственного
(созданного, произведенного) от естественного. Главное отличие в
том, что бытие «второй природы» по самому своему существу есть
социально-историческое, а именно цивилизационное бытие. Вещи
«второй природы», живя природной жизнью, проживают и
другую свою жизнь: они обретают особое место в бытии
человеческой цивилизации.
Есть еще один принципиально важный аспект, связанный с
относительным различием первой и «второй» природы, а
одновременно — с их принадлежностью к единой форме бытия и к
единству мира как целого. Долгое время люди не осознавали
достаточно четко, что между первой и «второй» природой возможны
не только отношения взаимосвязи, согласованности, но и
конфликтного противостояния. Сегодня возник конфликт в виде
экологических, энергетических и подобных им проблем. А
потому требуются новые подходы к регулированию связи двух подви-
Бытие
163
дов, в принципе относящихся к одной — вещной, предметной —
форме бытия и к единому, целостному бытию мира.
Все сказанное можно суммировать в следующих выводах. При
сравнение первой и «второй» природы в целом обнаруживаются
не только их единство, взаимосвязь, но и их различия. Первая
природа в целом — безграничное, непреходящее бытие, где
существование отдельного человека является преходящим
моментом. «Вторая природа» в целом — бытие, тесно связанное с
временем и пространством человеческого существования, с бытием
социального. Первая природа — бесконечный мир, осваиваемый
человеком в его очень небольшой части, — мир в принципе
необозримый, неисчерпаемый. «Вторая природа» в целом и вещи
«второй природы» — мир, где не перестают действовать законы
природы, но где они причудливо, иногда конфликтно
сплетаются с преобразующими действиями, сознанием индивидов, групп
людей, человечества в целом. «Вторая природа» дана каждому
отдельному человеку, поколениям людей объективно, реально, она
существует вне и независимо от их сознания, но в отличие от природы как
таковой уже воплощает в себе, опредмечивает человеческие цели, идеи,
а значит, не может считаться совершенно независимой от сознания
человека и человечества. Вещи и процессы «второй природы»
преобразованы, произведены людьми, и бытие этих вещей стоит как
бы на границе бытия первой природы и человеческого мира. Но
все же это относительно самостоятельное бытие, особая
реальность и по отношению к первой природе, и по отношению к
непосредственному, жизненно конкретному бытию людей.
Последнее также надо рассмотреть как особую форму бытия.
Бытие человека в мире вещей
Бытие отдельного человека и человечества в целом
специфично, уникально. Однако в этом бытии есть стороны существования,
общие и для человека, и для любой преходящей вещи природы. В
этом смысле оправдан подход естественных наук, согласно
которому человек предстает как бы вещью среди вещей — телом
среди тел. Разумеется, этот подход оправдан только в случае, если
сущность человека не сводится к жизни и к проявлениям его тела.
И тем более если он не перерастает в безнравственное,
антигуманное отношение к человеку как к «вещи», «объекту», которым
можно манипулировать, то есть обращаться с ним как вздумается.
Но в общефилософском учении о бытии важно прежде всего
ответить на вопрос, как именно человек существует. А он ведь
непосредственно существует как живой, конкретный индивид, причем
6*
164
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
первичной предпосылкой его существования является жизнь его
тела.
Тело человека — тело природы. Поэтому нельзя избежать тех
предпосылок, которые общи для бытия всех без исключения
природных тел. Наличие тела делает человека конечным,
преходящим (смертным) существом, и любое возможное в будущем
увеличение длительности жизни людей не отменит законов
существования человеческого тела как тела природы. К бытию
человеческого тела относится все то, что было сказано раньше о
диалектике бытия — небытия, возникновения — становления — гибели
преходящих тел природы. Относится к телу человека и то, что
оно, погибнув, не исчезает из бесконечной и непреходящей
природы, а переходит в другие ее состояния.
В этом аспекте проблема человеческого бытия включена в
широкий вопрос об эволюции природы и генезисе, возникновении
самого человека (антропогенезе), который был также и генезисом
специфической для вида Homo sapiens (человека разумного —
лат.) формы существования 9.
Из того обстоятельства, что человек существует как тело в мире
вещей, вытекает и ряд других следствий, которые люди в их
жизни вынуждены учитывать и, как правило, учитывают — на
бессознательно-инстинктивном и на сознательном уровне. Смертное
тело человека «помещено» в мир неживой и живой природы. С
этим местом бытия в жизни человека связано многое.
Потребности человеческого тела в пище, защите от холода, от других сил и
существ природы, в самосохранении, продолжении жизни
можно, правда, удовлетворять минимально. Но совсем не
удовлетворять их нельзя, не рискуя довести его до гибели.
Значит, и в человеческом бытии, каким бы специфическим
оно ни было, первична предпосылка — существование тела
(существование в соответствии с законами жизни, циклами развития и
гибели организмов, с циклами природы и т. д.) и необходимость
удовлетворения его необходимых (в этом смысле
фундаментальных) потребностей. Без этого вообще невозможно человеческое
существование.
Отсюда вытекают важные следствия относительно прав
каждого отдельного человеческого существа. Исходное право связано
как раз с сохранением жизни, самосохранением индивидов и
выживанием человечества. Оно исходное потому, что без его
реализации невозможно развертывание других возможностей,
потребностей и прав человека. Человек должен иметь пищу, одежду,
9 Рассматривать этот важный аспект подробнее здесь нет возможности.
Бытие
165
жилище — это верно в силу законов не только человеческой
справедливости, но и самого человеческого существования. Здесь тот
пункт, в котором должна быть признана бытийственная
обусловленность права человека на удовлетворение его фундаментальных
(природных) потребностей. Конечно, потребности человека уже в
древности приняли иной характер; даже потребности тела
преобразовались в особые, а не чисто природные притязания.
Из факта существования человека как живого тела,
природного организма вытекает его подвластность всем законам жизни, и
прежде всего законам наследственности, отменить которые или
пренебречь которыми люди не в состоянии. Это лишний раз
доказывает, как осторожно и ответственно надо обращаться с при-
родно-биологическим «измерением» человеческого бытия.
Можно сказать, что биология человека — целый мир, относительно
самостоятельный и целостный, специфический в его бытии и в то
же время вписанный в целостность природы. Всякое нарушение
экологического баланса человеческого организма влечет за собой
опасные и разрушительные для человека последствия.
Философия оправданно искала и ищет связь между телом
человека и его страстями, переживаниями, психическими
состояниями, мыслями, характером, волей, поступками — тем, что
раньше в философии именовали его «душой», а в наше время
чаще называют «психикой».
Следует учесть, что современная философия в ее многих
разновидностях уделила особое внимание проблеме человеческой
телесности, справедливо обнаружив ограниченность и старого
материализма, сводившего тело человека к телу природы, и
идеализма, спиритуализма, презрительно относившихся к «бренному»
телу, у истоков нового подхода выделяется философия Ф.
Ницше: «Человеческое тело, в котором снова оживает и воплощается
как самое отдаленное, так и ближайшее прошлое всего
органического развития, через которое как бы бесшумно протекает
огромный поток, далеко разливаясь за его пределы, — это тело есть
идея более поразительная, чем старая «душа» 10.
Действительно, в существовании человеческого тела, в его
бытии есть немало загадок, тайн, противоречий: между хрупкостью
и выносливостью, зависимостью от природы и особой
«мудростью», живучестью, между непосредственным «физиологизмом» и
способностью прилаживаться к высшим порывам человеческого
Духа и т. д.
Ницше Ф. Воля к власти. Киев, 1994. С. 306.
166
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Бытие отдельного человека — непосредственно данное
диалектическое единство тела и духа. Функционирование тела тесно
связано с работой мозга и нервной системы, а через них — с
психикой, с духовной жизнью индивида. Работа духа в известном
пределе зависит от здоровья тела человека. Недаром пословица
гласит: в здоровом теле — здоровый дух. Однако пословица верна
далеко не всегда, что не требует специальных доказательств.
Хорошо известно и то, сколь велика бывает роль человеческого духа
в поддержании жизни немощного или больного тела.
Один из примеров тому — жизнь И. Канта. Родившийся
хилым ребенком, слабый телом философ прожил 80 лет благодаря
тому, что хорошо разобрался в особенностях своего организма,
строго придерживался разработанных для себя режима, диеты и
умел воздействовать на свою психику. На жизнь Канта
благотворно повлияло также то обстоятельство, что он увлеченно
трудился, был и в жизни верен проповедуемым в книгах
высочайшим ценностям духа и нравственности.
Человек для самого себя — не только первая, но и «вторая»
природа. Мысли и эмоции — важнейшая сторона целостного
бытия человеческого индивида. В традиционной философии
человека нередко определяли как «мыслящую вещь». Это имеет свои
оправдания — и именно на уровне первых предпосылок анализа
человеческого бытия. Непосредственно человек, действительно,
существует как отдельная вещь, которая мыслит.
Р. Декарт был одним из тех, кто участвовал в полемике вокруг
понятия «мыслящая вещь». Он, по собственным его словам, «не
отрицал, что, для того чтобы мыслить, надо существовать...» п.
Когда же Декарт утверждал: «Я мыслю, следовательно, я
существую» («cogito ergo sum»), то он уже переводил спор о бытии
человека в другую плоскость. Он ставил вопрос о том, что важнее для
понимания специфики человеческого бытия: то, что человек
существует (подобно любой другой вещи среди других вещей), или
то, что благодаря мышлению (понимаемому Декартом в широком
смысле) человек способен размышлять о самом факте своего
существования, то есть становиться мыслящей личностью.
Специфика человеческого бытия рассматривается не только в
плане объединения тела и духа. Не менее важно для философии
то, что существование человека как вещи в мире природы
(именно мыслящей и чувствующей вещи) было одной из первых
предпосылок, побудивших людей к производству и общению.
Конечно, это была не единственная предпосылка, ибо, взятая в отдель-
11 Декарт Р. Избранные произведения. М, 1950. С. 430.
Бытие
167
ности, она еще не объясняет возникновения производства. Но
между фактом существования человека как природного живого
тела с естественными потребностями и возникновением
производства и общения людей имеется диалектическая взаимосвязь. А
это значит, что между бытием человека в качестве природного
тела и социальным бытием также существует тесное единство.
Специфика человеческого бытия
Непосредственно существуя как природное тело, человек, как
мы видели, подчиняется законам существования и развития
конечных, преходящих тел. Вместе с тем законы развития и
потребности тела не полностью, не однозначно воздействуют на бытие
человека.
Можно сказать, что особенность человеческого существования
состоит в возникновении специфической, уникальной для живой
природы, «нежесткой» и неуниверсальной обусловленности
бытия человека со стороны его тела. Нежесткость проявляется в
таких, например, фактах, как способность человека регулировать,
контролировать свои фундаментальные потребности,
удовлетворяя их не в простом соответствии с проявлениями природы, а в
пределах и формах, определяемых обществом, историей,
собственной волей и самосознанием индивида. Неуниверсальность же
состоит в том, что многие действия человека, которые могли бы
определяться (и иногда определяются) своего рода эгоизмом
телесных потребностей, очень часто регулируются другими
мотивами — духовно-нравственными, социальными. Наиболее ярко
это проявляется в жертвенных поступках, но не только в них.
Существование человека — не внеприродное, а природно-
телесное. Специфика его состоит в соединении — пересечении,
взаимодействии — трех относительно разных бытийственных
измерений.
Реально существует отдельный человек, прежде всего как данная
мыслящая и чувствующая «вещь» (тело). Это первое измерение
человеческого существования. Но одновременно человек существует как
индивидуальная особь, принадлежащая к виду Homo sapiens и взятая на
данном витке его развития, эволюции мира. Тут — второе измерение
бытия человека. Кроме того, человек существует также и как социально-
историческое существо (третье измерение его существования). Все
эти три измерения, взятые в единстве, — исходные характеристики
бытия человека.
Мы уже говорили о преходящем характере бытия индивида,
но поскольку жизнь его связана с жизнью рода, то для каждого из
168
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
индивидов, живущих сейчас на Земле, есть место на едином
гигантском «генеалогическом древе» человечества, идущем от
самых первых человеческих существ, а через них— от животных
предков человека и т. д. По существу, каждый из людей, ныне
живущих на Земле, является потомком «знатного» рода, ибо все мы
— через необозримое количество предков и поколений —
восходим к тем первым представителям рода Homo sapiens, которые в
незапамятные времена начали обживать нашу планету. И
поэтому такие «стрелы» — ведущие и в самое отдаленное прошлое, и в
будущее (которое, хочется верить, есть у человеческого рода) —
характерны для бытия каждого индивида.
Вдумайтесь в то, сколь уникальной является общность людей,
ныне живущих на Земле! «Человечество» в самом широком
бытийном смысле — это общность, в которую в принципе входят все
индивиды, когда-либо существовавшие на Земле, и те, кому еще
предстоит родиться и прожить свою жизнь. Но те люди, которые
сейчас, в данный момент живут на Земле, — это человечество в
реальном, конкретном смысле слова. Это «живое» бытие
человеческого рода, его «сегодняшний день», неразрывно связанный с
прошлым и будущим. Каждое преходящее существование включено,
таким образом, в необозримую историческую цепь человеческого
бытия и цепь бытия природы, в эволюцию социального мира и
образует одно из звеньев социально-исторического бытия.
Человеческое бытие — реальность, объективная по отношению к
сознанию отдельных людей и поколений. Люди существуют до, вне и
независимо от сознания каждого отдельного человека. Но бытие
людей отнюдь не абсолютно независимо от сознания, от духа, ибо
является комплексным и уникальным единством природного,
вещественного и духовного, индивидуального и родового,
личностного и общественного. Каждый из нас — реальность для самого
себя. Мы существуем, а вместе с нами реально существует наше
сознание.
Каково же место и значение бытия человека в целостном
единстве бытия? Это очень важный и актуальный вопрос. Было немало
философских идей и концепций, общий смысл которых
заключался в том, что человек — не более чем песчинка в необозримом
мире. Даже бытие человеческого рода рассматривалось лишь как
«краткий» эпизод в безграничной длительности мира. Но сегодня
все энергичнее развиваются другие идеи (их выражают не только
философы): миллион лет, столетия и даже десятилетия жизни
человека и человечества — важные «мгновения», ибо они включены
в уникальный «человеческий эксперимент». Люди не просто
существуют в мире, они способны особенно мощно (в том числе и
Бытие
169
пагубно) влиять на мир и на самих себя. Но они же способны
познавать собственное бытие и бытие как таковое, испытывать
тревогу за «судьбу бытия». Некоторые философы даже видят в
способности человека «озаботиться» бытием главное его
определение. Например, М. Хайдеггер пишет: «Ясно, что человек — нечто
сущее. Как таковое он, подобно камню, дереву или орлу,
принадлежит целому бытия. Здесь «принадлежит» все еще значит:
«встроен в бытие». Но отличие человека покоится на том, что он
как мыслящее существо открыт бытию, поставлен перед ним,
пребывает отнесенным к бытию и так ему соответствует. Человек,
собственно, есть это отношение соответствия, и только оно.
«Только» значит здесь совсем не ограниченность, но избыток. В
человеке правит принадлежность к бытию, и эта принадлежность
прилежна и послушна бытию, ибо предана ему» 12. Поэтому
человек может и должен осознать свою противоречивую роль в
единой системе бытия и исполнять ее с величайшей
ответственностью. Еще тревожнее стоит вопрос об ответственности каждого
человека за судьбы человечества, за бытие человеческого рода и
человеческой цивилизации, за планету Земля. И раз надежды
возлагаются на духовное величие и разумность людей, то особенно
важно осмыслить духовное как особое бытие.
Бытие индивидуализированного духовного
Духовное — это единство многообразного, которое охватывает
процессы сознания и бессознательного (тоже многоразличные по
конкретным формам своего существования и проявления),
включает знания, воплощающиеся, материализующиеся в формах
естественных языков и искусственных знаково-символических
систем. К духовным продуктам и процессам принадлежат также
нормы, принципы человеческого общения, включая нормы и
критерии нравственности, права, художественного творчества.
Имея в виду именно различия в форме бытия, духовное можно
условно разделить на два больших подвида — на духовное, которое
неотделимо от конкретной жизнедеятельности индивидов
(индивидуализированное духовное), и на то, которое может существовать и
часто существует также и вне индивидов, или, говоря иначе,
объективируется (внеиндивидуалъное, объективированное духовное).
Первый вид — индивидуализированное бытие духовного — включает
прежде всего сознание индивида. Поставим вопрос, который
может показаться неожиданным: как существует сознание? Как мы
12 Хайдеггер М. Тождество и различие. С. 17—18.
170
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
узнаем о нем? Довольно просто: оно «живет» в нас, есть
неотъемлемая часть нашего существа, нашего Я. С его помощью мы не
только ориентируемся в мире, но и способны повернуть к нему
свое внимание, «изнутри» наблюдать за ним. Осуществляется, как
говорят философы, рефлексия: сознание работает, а человек с
помощью сознания же размышляет о нем, рефлектирует на него.
Достаточно такого поворота внимания, чтобы понять:
действительно и непосредственно сознание существует, бытийствует как
(порожденный деятельностью мозга) невидимый и необратимый поток
чрезвычайно быстро меняющихся побуждений, впечатлений, чувств,
переживаний, мыслей, а также как совокупность более стабильных
идей, убеждений, ценностей, установок, стереотипов и т. д. Несмотря
на кажущуюся хаотичность, существование потока сознания
отмечено определенным порядком, связанностью, единством,
устойчивостью и всеобщностью структур.
Специфика существования сознания — в исключительной
подвижности его процессов, а также в том, что их непосредственное бытие
скрыто от любого внешнего наблюдения. Единственный способ
прямо и непосредственно ухватить этот поток — «самоотчет»
индивида о происходящем в его сознании. Восстанавливать,
реконструировать поток сознания в индивидуальной полноте и
неповторимости его бытия люди пока не научились. «Извлекаются» из
потока сознания и фиксируются лишь отдельные его элементы,
фрагменты, проявления (феномены), которые предстают как
чисто субъективные впечатления или как объективно значимые
результаты. Однако в процессе исторического развития люди все же
учатся наблюдать за тем, что происходит с их сознанием, сообщать
об этом и обсуждать мысли, чувства, состояния своего сознания с
другими людьми. На этом держится человеческое общение и в
немалой степени зиждется культура: ведь она часто повернута
именно к внутреннему опыту человека и основывается на особом
умении художников этот опыт описать и осмыслить. (Есть тут,
правда, реальная трудность: сознание человека невозможно
ухватить «в подлиннике», рассказ о сознании в литературе и искусстве
дан уже в «переводе» на их язык.)
Специфика индивидуализированных форм бытия духовного
заключается в том, что конкретные процессы сознания возникают
и умирают вместе с рождением и смертью отдельных людей. Это
не означает обязательной «смерти» всех результатов деятельности
сознания: сохраняются те из них, которые преобразуются во
вторую, внеиндивидуальную духовную форму, а также те, которые
непосредственно передаются другим людям в процессе общения.
Бытие
171
«Микромир» бытия духовного в его индивидуализированных
формах, о котором сейчас идет речь, исследуют такие, например,
науки, как психология. Но он пока еще недостаточно изучен в
науках о сознании и в философии. Более развиты те подходы к
сознанию, которые основаны на косвенных наблюдениях за ним.
Мы наблюдаем за поступками людей и по ним судим о лежащих в
их основании мотивах, побуждениях, целях, идеях, замыслах.
В науках о человеческом сознании широко и в определенных
пределах эффективно применяются косвенные методы изучения
сознания (например, физиологические или поведенческие).
Особых достижений в нашем столетии добилась наука о
человеческом мозге. И все же с успехами естественных наук о сознании не
разрешились, а, пожалуй, усугубились те трудности, которые
связаны с определением специфики сознания.
В проблеме специфики сознания нас в данном случае
интересует один аспект — существование сознания. Несомненно,
существование сознания неотделимо от деятельности мозга и нервной
системы индивида, от существования его тела. Но сложность и
диалектика бытия индивидуализированных форм духовного в
том и состоят, что сознание и все его проявления, неотделимые от
этих природно-биологических процессов, к ним принципиально
несводимы.
Элементы сознания и само сознание, конечно, «локализуются»
в деятельности каких-то центров мозга. Но так же верно и то, что
они по самой сути своей внепространственны: ведь мысль, переживание
и образ не являются ни физическими предметами, ни чисто
материальными состояниями. В мозгу они тоже не даны как какие-то
пространственные конфигурации. Они являются именно
идеальными образованиями. Время сознания, тоже «локализуясь» в
физическом времени мира, по сути своей обладает специфическими
особенностями: мысль способна мгновенно, превышая все
предельные физические скорости, преодолевать пространства и
времена. Человек в состоянии мысленно воспроизводить времена, в
которые никогда не жил. С помощью памяти человеческое
сознание способно «помещать» в настоящее также и прошлое, а с
помощью воображения и рассуждения — мыслить и тревожиться о
будущем. Однако в человеческом сознании всегда существует
только его настоящее: прошлое сознание уже кануло в поток
переживаний и частично исчезло необратимо. Некоторые же
прошлые переживания в трансформированном виде хранятся в
человеческой психике (часто «за порогом» сознания). Время от
времени прошлое сознания актуализируется, снова делается его
настоящим.
172
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Сознание человека — одновременно и его самосознание, то есть
осознание человеком своего тела, своих мыслей и чувств, своего
положения в обществе, отношения к другим людям, словом, себя как
особой и единой личности. Интересен и очень сложен вопрос: как
именно существует самосознание? Процессы самосознания могут
быть выделены индивидом в потоке собственного сознания.
Однако самосознание не существует отдельно от целостного потока
сознания как совершенно обособленное от него. Самосознание —
своеобразный центр нашего сознания. Недаром же крупные философы
(например, И. Кант) тесно связывали единство, интегрированносгь, а
значит, уникальность человеческой личности (что фиксировалось
с помощью понятия «Я») именно с единством ее самосознания.
Человеческое Я и самосознание действительно неразрывны.
Некоторые философы полагают, что самосознание существует
только тогда, когда (с помощью давно и хорошо отлаженных
механизмов) человек явно и целенаправленно «поворачивает
внимание» на самого себя, свои переживания, мысли, действия.
Другие считают, что самосознание «работает» и тогда, когда мы этого
не замечаем, и что любой акт сознания, в том числе и
направленный на внешние предметы, невозможен без спонтанно
синтезирующих наш опыт механизмов самосознания.
Говоря об индивидуализированном духовном, мы должны
иметь в виду не только процессы сознания, спонтанные или
целенаправленные, смутные или ясные. Индивидуализированное
духовное в широком смысле слова включает и бессознательное. Если
относительно существования сознания нет сомнений, то вопрос о
том, существует ли бессознательное, долгое время был, а для
некоторых исследователей еще и сегодня остается дискуссионным.
Собственно, есть два вопроса: существует ли бессознательное? А
если существует, то как именно?
На первый вопрос многие ученые и философы в наше время
отвечают утвердительно. Если в начале XX в. изучение
бессознательного в человеческом духовном мире, в психике человека
велось лишь немногими философскими и психологическими
направлениями (например, фрейдизмом), то ныне оно
осуществляется более широко, в том числе и в нашей стране. Специалисты
считают, что бессознательное не просто существует, но и является
важной стороной психической жизнедеятельности индивида, его
духовной целостности.
Не имея возможности рассмотреть здесь проблему
бессознательного сколько-нибудь полно, попытаемся лишь, опираясь на
разъяснения специалистов, кратко ответить на вопрос: как именно
существует бессознательное, в чем особенности его бытия? Первый
Бытие
173
уровень бытия бессознательного — неосознанный психический
контроль человека за жизнью своего тела, координацией функций,
удовлетворением некоторых наиболее простых нужд и
потребностей тела. Этот контроль осуществляется автоматически (именно
бессознательно). Механизмы бессознательного работают
исправно. Что означает их нарушение, видно на примере ряда
психических расстройств (когда, например, человек «разучается» ходить
здоровыми ногами). Бессознательны (или частично
бессознательны) некоторые желания и побуждения, сны, патологические
душевные состояния (фобии, паранойя и т. д.).
Второй уровень бессознательного — это процессы и состояния,
сходные с сознанием человека в период бодрствования, но до
поры до времени остающиеся неосознанными, хотя в принципе они
могут перемещаться в поле сознания. Когда мы говорим: «созрела
мысль», «мне подумалось», то, по существу, фиксируем рождение
мысли, образа в недрах бессознательного и последующее
осознание их. Сюда относятся и переживания, которые «вытеснены» из
сознания во имя его защиты от слишком большого объема
информации, от болезненных, тревожных впечатлений и т. д.
Третий уровень бессознательного находит проявление в
некоторых процессах художественной, научной, философской и иной
интуиции, в вызревающих в душе человека высших побуждениях
духа. В этих процессах бессознательное тесно переплетено с
сознанием, с творческой энергией чувств и разума человека.
Противоречие и трудность в проблеме существования
бессознательного состоит в том, что нам являются лишь отдельные
фрагменты бессознательного, причем уже в виде как-то
схваченных, уловленных сознанием психических процессов. И все же
внимательные, прямые наблюдения за тем, как всплывают из его
глубин или погружаются в него эти фрагменты (а также
косвенные наблюдения психологов, психиатров, философов, писателей,
например, за процессами творчества, сновидениями,
психическими патологиями), позволяют обоснованно судить о
существовании бессознательного и анализировать его.
Специально анализируя индивидуализированное духовное
как особое бытие, философия одновременно рассматривает его в
связи с бытием человека и бытием мира в целом. Каково место
бытия индивидуализированного духовного в бытии мира в
целом? Точно ответив на этот вопрос, можно понять пафос тех
традиционных и современных учений, создатели которых (подобно
Р. Декарту, И. Канту, М. Хайдеггеру, Ж.-П. Сартру) подчеркивали
высочайшую значимость индивидуализированного духовного и
174 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
его своеобразный приоритет перед другими формами
человеческого существования.
Бытие индивидуализированного духовного — важнейшая
сторона бытия индивида. Повторим еще раз: если бы не
существовало человеческое тело (и, значит, природа не проделала бы свою
эволюцию), не существовало бы и сознание в его наличной
сегодня форме. Бывает, что человек «теряет сознание», но еще живет.
Однако это ситуация экстремальная. В норме человек живет, пока
и поскольку существует, живет, развивается его сознание.
Существование человека зависит и от существования бессознательного.
Одним словом, существование индивидуализированного
духовного — интегральная составляющая, без которой невозможно
человеческое бытие, его диалектическое развитие.
Бытие индивидуального сознания (и бессознательного) —
лишь относительно самостоятельная форма бытия.
Индивидуализированное духовное не оторвано от эволюции бытия как целого.
Оно не существует отдельно, обособленно и от совокупной
жизнедеятельности индивидуального человеческого существа, от
которой во многих отношениях зависит. У сознания индивида нет
какого-то особого «места бытия», помимо тела определенного человека,
его психики, духовного склада его целостной личности. И что
особенно важно, индивидуализированное духовное «локализовано» в
общественном человеке и по своей сущности является особой
разновидностью духовного, обусловленного также бытием общества
и развитием истории. Вот почему индивидуализированное и вне-
индивидуальное духовное так тесно переплетены, способны
«переливаться» друг в друга. Результаты деятельности сознания и
вообще духовной деятельности конкретного человека могут
отделяться от него самого, как бы выходить «вовне». И тогда
возникает духовное второго типа — объективированное
(вне-индивидуальное) духовное.
Бытие объективированного духовного
Как известно, индивидуализированное духовное существует в
виде сугубо индивидуальных, неповторимых процессов сознания
и бессознательного, материализованных и «локализованных» в
процессах и проявлениях работы мозга, центральной нервной
системы, всего организма. Но имеются такие формы
материализации духовного, которые рождаются в лоне человеческой
культуры и принадлежат к внеиндивидуальным формам ее бытия.
Наиболее универсальны естественные и искусственные знаково-
символические формы существования, воплощения духовного.
Бытие
175
Именно язык выступает одним из ярких примеров единства
индивидуализированного и объективированного духовного.
Связь языка и сознания, языка и мысли несомненна. Язык — это
форма, через которую выходят вовне, объективируются
отдельные результаты, процессы работы сознания. Вместе с тем буквы
(звуки), слова, предложения, тексты, структуры, правила, богатые
варианты развитого языка выступают и как реальность, также
обособленная от сознания отдельных индивидов, поколений
людей. Им эта реальность дана как особый мир, запечатленный в
«памяти» человеческой культуры, в памяти человечества. Языковая память
культуры, человечества — сложное единство актуальной памяти
многих конкретных людей, говорящих и пишущих на данном
языке, и объективно существующих памятников (письменных, а с
некоторого времени — и звуковых документов). Только благодаря
тому и другому обогащается, изменяется, хранится, а значит,
живет, существует язык как целое.
Как и где рождаются, существуют объективированные формы
бытия духовного? На примере языка можно видеть, что
объективированные формы возникают и «работают» в рамках
индивидуализированных форм — прежде всего в сознании (но также и в
недрах бессознательного, в виде так называемого коллективного
бессознательного).
К примеру, когда-то в глубокой древности человек «нашел»
идею колеса. Но достаточно было создать первые колеса,
опробовать их и тем самым подтвердить плодотворность идеи — одной
из самых успешных в технической мысли человечества, — как
идея эта сначала воплотилась, «опредметилась» в реальных
колесах, а потом стала вести и свое относительно самостоятельное
существование. Она воплотилась в знаниях о колесе, которые
передавались через практический опыт поколений, подтверждавших
и обогащавших идею. Идея колеса сначала, видимо, применялась
к ограниченному кругу предметов, потом стала «работать» в
великом множестве все более сложных устройств. И соответственно
она включалась во все более сложные виды человеческих знаний.
Так смертные люди породили бессмертную идею. Она
обособилась от индивидуального процесса сознания и действия. Началась
жизнь идеи.
На примере плодотворных идей можно видеть, что они,
действительно, свободно и широко «шествуют» в мире человеческой
жизни, если, конечно, не вносить в этот образ никакого
идеалистического буквализма. «Шествуют» идеи не сами по себе, а
вместе с развитием других конкретных индивидов, поколений
людей, для которых идеи становятся своего рода общезначимыми
176
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
принципами, правилами, схемами действия. По мере развития
человека и человечества они преобразуются, иногда довольно
существенно. Однако самые ценные идеи отбираются,
накапливаются, в совокупности образуя духовное богатство человеческой
цивилизации и культуры. Не вдаваясь в их анализ, отметим лишь
то, что характеризует особый способ бытия объективированного
(внеиндивидуалъного) духовного.
Оно, как и индивидуализированное духовное, обязательно
материализуется, причем оба вида духовного материально
воплощаются, бытийствуют в словах, звуках, знаках естественного и
искусственного языков. Материальные «носители» духовного — это
материальные предметы и процессы (книги, чертежи и формулы, проекты,
холсты и краски картин, мрамор и бронза статуй, пленки
фильмов, ноты и звучание музыкальных инструментов и т. д.). Сегодня
функции хранения и использования социальной памяти все чаще
передаются современным машинам, что значительно повышает
роль тех исследований сознания и знания, которые
сконцентрированы именно вокруг объективированного духовного.
Итак, внешние воплощения идей, мыслей, ценностей (как
идеальных смыслов) различны, но они обязательно имеются. В этом
отношении никакие «чистые» (свободные от объективированных
воплощений) идеи и ценности невозможны. Платон утверждал,
будто где-то далеко-далеко, на «хребте неба» существуют,
обособленно от всякой материи, идеи блага, истины, красоты и т. д.
Разумеется, эта идеалистическая картина возникла не на пустом
месте. Платон мистически истолковал удивительные особенности
бытия объективированного духовного, во многом опираясь на
вполне реальные процессы. Мы их рассмотрели на примере идеи
колеса. Платон приводил другие, но сходные примеры. Ткацкий
челнок, рассуждал он, может испортиться или вовсе исчезнуть.
Идея же челнока (имелся в виду хорошо продуманный принцип
его изготовления и работы) непреходяща в том смысле, что может
служить везде и всегда, где и когда потребуется челнок
изготовить.
А идея-идеал красоты? Или справедливости? Или истины? Как
бы ни изменялись представления людей о красоте, благе, добре,
истине, все-таки сложились обобщенные представления,
критерии и нормы, регулирующие процессы художественного,
нравственного, научного творчества. Такие идеи в процессе развития
человечества кристаллизуются, формируя духовные сокровища
общечеловеческих ценностей. Мир идей обогащается, а тем самым
приобретает все большее значение относительно самостоятельное
идеальное бытие. Отсюда, однако, неправомерно делать вывод об аб-
Бытие
177
солютной независимости бытия духовного от бытия мира,
природного и человеческого. Бытие идей не просто неотделимо от
бытия природы и человеческого мира, но изначально и
непреложно включено в целостное бытие как таковое.
Утверждая это, ни в коей мере нельзя перечеркивать специфику
бытия идей, этого наиболее яркого проявления бытия
объективированного духовного. Специфика этого объективированного Бытия
заключается в том, что его элементы и фрагменты (идеи, идеалы,
нормы, ценности, различные естественные и искусственные
языки) способны сохраняться, совершенствоваться и свободно
перемещаться в социальном пространстве и историческом времени.
Духовная жизнь человечества, духовное богатство цивилизации и
культуры, социальная жизнь — это специфическое «место бытия»
объективированного духовного, чем и определяется его место в целостном
бытии.
Особую роль в этой сфере играют духовно-нравственные
принципы, нормы, идеалы, ценности, такие, как, скажем, красота,
справедливость, истина. Они существуют в виде и
индивидуализированного и объективированного духовного. В первом случае
речь идет о сложном комплексе побуждений, мотивов, целей,
которые определяют духовную структуру личности, во втором
случае — о воплощенных в науке, культуре, массовом сознании (их
документах) идеях, идеалах, нормах, ценностях. Оба эти вида
духовно-нравственного бытия играют существенную роль в
развитии личности (как индивидуализированное духовное) и в
совершенствовании культуры (как объективированное духовное).
Но в том-то и заключается смысл проблемы бытия, что все
бытийные аспекты имеют равное значение, ибо каждый из них
высвечивает бытие в целом — как неразрывное, нерасторжимое
единство, как целостность.
Как уже отмечалось выше, внимание человечества и
соответственно интерес философии к проблеме бытия обостряется в
кризисные, переломные эпохи. А поскольку наше время — XX и
наступивший XXI век — отмечено многими угрозами и
опасностями, неудивительно, что вопрос о бытии целым рядом крупных
мыслителей был признан самым существенным в философском
«вопрошании». М. Хайдегтер, автор книги «Бытие и время»,
подчеркивал: только человек способен вопрошать о бытии, задавать
вопрос о том, в чем состоит специфика бытия человека; в этом
смысле ему вверена судьба бытия. И отсюда проистекает, быть
может, самая главная ответственность и высокая задача
человечества.
Нормы науки и ориентации ученого
В деятельности ученых нормы науки регулируют процесс
изучения объектов, использования и преобразования знания; они
также организуют взаимодействие индивидов, групп, научных
учреждений и тех инстанций общества, которые заняты
регулированием научно-исследовательской деятельности 1. Во всех
случаях реальная значимость норм удостоверяется не иначе, как
через сознание и действия конкретных личностей. Индивид
становится ученым не только благодаря тому, что осваивает некоторые
эвристические правила действия с материальными и идеальными
объектами, но и потому, что «интериоризирует» их,
рассматривает как общезначимые, «сплавляет» с миром своих идеалов,
ценностей, ориентации; он овладевает нормами и как принципами
взаимодействия с другими учеными, с научными коллективами.
Нормы всякой деятельности, включая научно-исследовательскую,
— один из механизмов, через которые общество, исторический
процесс влияют на индивида, а индивид воздействует на
исторически определенные общественные формы, сообщая им относи-
1 Вопрос о нормах науки анализировался нами в статье «К проблеме
научной обоснованности норм». Для дальнейшего рассуждения нам
понадобятся данные в этой статье общие характеристики норм науки:
«Научно-исследовательскую деятельность регулируют — в их
целостности и взаимодействии — три основных типа норм: 1) приобретающие
нормативный характер методологические установки разной степени
общности, которые регулируют отношение познающего человека к
познавательному объекту, а также к знанию, концепциям, гипотезам;
2) нормативные принципы, регулирующие совокупный процесс научно-
исследовательской деятельности как деятельности социальной,
коллективной (они регулируют отношение индивида к своему труду, к другим
ученым и коллективам, отношения между коллективами и
учреждениями науки); 3) нормы и принципы, которые регулируют
взаимоотношения между учеными, научными коллективами и учреждениями, с одной
стороны, и обществом в целом — с другой, нормативно фиксируют роль,
престиж, ценность научного познания для данного общества.
Нормы первого типа можно обозначить как познавательные. Нормы
второго типа мы считаем целесообразным назвать социальными внутрина-
учными нормами. К третьему типу принадлежат общесоциальные
нормы, касающиеся науки». См.: Мотрошилова Н. В. К проблеме научной
обоснованности норм (На примере научно-исследовательской
деятельности) // Вопросы философии. 1978. № 7. С. 113.
Нормы науки и ориентации ученого
179
тельную устойчивость и динамичность. Применительно к
различным сферам человеческого труда взаимодействие индивида и
общества через посредство норм существенно варьируется, что и
в случае науки требует специального изучения. В этой статье из
обширного комплекса вопросов будет выбран один: о роли
личностных ориентации ученого (связанных главным образом с
самим процессом научного познания 2) в становлении и
формулировании социально значимых норм научно-исследовательской
деятельности. Материалом послужат наука и философия XVII
столетия. Его выбор объясняется не просто понятным желанием
подобрать исторические иллюстрации к высказываемым
утверждениям, а преимущественно тем обстоятельством, что именно в
этом столетии в новом историческом смысле формируются и
формулируются нормы научно-исследовательской деятельности.
Какие аспекты нормативных формулировок того времени
закрепляются и сохраняются в науке и до сего дня, а какие требуют
преодоления и преодолеваются на современном этапе — вопрос,
требующий особого внимания.
Роль личностных ориентации ученого
в формировании норм-идеалов
и функциональных норм науки
Анализируя зависимость между личностным миром ученого,
его ориентациями и выработкой норм науки, мы можем
приблизиться к пониманию одного из реальных механизмов, благодаря
2 В книге «Наука и ученые в условиях современного капитализма» (М.,
1976) нами выделены и рассмотрены два взаимосвязанных типа
ориентации ученого. К первому типу мы относим ориентации,
обусловленные развитием ученого в рамках науки как особого социального
института и особого вида деятельности, ко второму типу — ориентации,
обусловленные формированием и работой ученого в рамках
определенного общества, его культуры, в рамках определенного исторического
времени. Здесь мы отправляемся от осуществленного в книге рассмотрения
обоих типов ориентации и их взаимодействия [Мотрошилова Н. В. Наука
и ученые в условиях современного капитализма. С. 192—212]. Надо
учесть также данные в книге определения: ориентации ученого — это
«система детерминирующих его деятельность более или менее
осознанных устремлений (взятых в комплексном единстве с
предрасположениями, мотивами, стимулами, желаниями, ожиданиями и т. п.)» [Там
же. С. 193]; ценностные ориентации — это устремления, основанные на
представлениях ученого о добре и зле, о справедливости, о
предназначении науки и т. д. [Там же. С. 195].
180
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
которым научное познание включается в социальную жизнь и
культуру на том или ином этапе исторического развития. Это
можно показать на примере духовной культуры XVII в.,
относящегося, как известно, к эпохе ранних буржуазных революций.
Поскольку здесь нет возможности подробно воспроизводить
характеристики эпохи, упомянем лишь о тех, которые наиболее
«релевантны» науке. Сюда следует отнести:
1) переход от мануфактуры к машинному производству (для
науки особенно важно, что для создания и усовершенствования
машин необходимо сознательное применение
естественнонаучных, математических знаний);
2) возрастание исторической роли такого социального
действия (в производстве и управлении им, в мореплавании и торговле,
в духовном производстве, в быту), где необходимы расчет,
контроль, самостоятельность, инициатива, саморефлексия, а значит,
необходимы объективные знания и рационально обоснованные
действия;
3) существенное изменение «границ» известного человеку
земного и космического мира — благодаря географическим
открытиям и открытиям астрономии (для науки это означает
возникновение мощного социального запроса на соответствующие разделы
объективного знания, на новые технические усовершенствования
и средства научного наблюдения);
4) преобразование сфер государственно-политической
деятельности, где так же начинают ощущать потребность в
соответствующих видах знания, в рациональных руководствах,
позволяющих устанавливать и поддерживать порядок в обществе,
руководить общественным организмом с его
дифференцирующимися областями и функциями;
5) значительные изменения в культуре общества (в сфере его
духовного производства), выражающиеся в постепенной утрате
религией ключевых позиций в идеологическом и культурном
производстве, в переоценке универсальных ценностей культуры
и изменении социальных функций, роли, престижа человека
культуры и человека знания;
6) коренные преобразования в сфере науки, выразившиеся, в
частности, в изменении типов социальной организации научного
труда, в возникновении новых институциональных форм
(научные общества, академии, обсерватории и т. д.), в значительном
обновлении системы разделения научного труда
(опытно-экспериментальная деятельность консолидируется, приобретая
социально значимые функции, а затем превращается в область
научного труда, возникают новые научные дисциплины и т. д.), в из-
Нормы науки и ориентации ученого
181
менении «средств духовного производства»3 применительно к
научной области.
Отсюда видно, что объективные социальные изменения,
совершившиеся как вне духовной культуры, так и внутри ее, не
только «предъявили» людям знания весьма серьезный
общественно-исторический запрос, но и подготовили самые различные
(экономические, политические, организационные) возможности
для ответа на него. Могут возразить: какое отношение столь
обобщенные и с четкостью устанавливаемые лишь позже
социально-исторические характеристики имеют к внутреннему миру
личности?
И действительно, есть немало оснований считать, что люди,
жившие в XVII в., редко мыслили в понятиях, близких таким, как
«исторический запрос», «общественная потребность». Они в
самом деле не знали, что их век завершает в ряде стран Европы
эпоху первоначального накопления, что грядет эра промышленного
капитализма. Даже тем, кому — в соответствии с объективными,
но позднее установленными характеристиками —• суждено было
стать идейными провозвестниками и защитниками капитализма,
по большей части не осознавали свою классово-идеологическую
приверженность сколько-нибудь отчетливо. Да и сама буржуазия
как самостоятельный класс только еще консолидировалась.
Отмечая, что многие важнейшие объективные характеристики
эпохи были уловлены социальным знанием лишь значительно
позже, нельзя сбрасывать со счетов другой существенный факт:
сами объективные социальные изменения становятся
возможными только там и тогда, где и когда происходят коренные
преобразования личностного мира. Исследуемый исторический период
не составляет исключения. Применительно к науке сказанное
означает: возникновению нового социального типа научно-
исследовательской деятельности сопутствуют, а в ряде аспектов и
предшествуют процессы изменения личности ученого, его ориен-
3 Понятие «средства духовного производства» употребляли К. Маркс и
Ф.Энгельс. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. С. 46. Отметим два основных изменения,
затронувшие к XVII в. средства духовного производства: 1) значительное
расширение арсенала орудий эмпирического научного наблюдения,
возникновение предметно-орудийных средств эксперимента; 2) создание
новых теоретических научных методов, теорий, которые носят
объективный характер и широко используются для создания новых научных знаний
—: следовательно, тенденция к использованию новых видов
«интеллектуальной технологии» именно в качестве общественно значимых средств
духовно-теоретического производства.
182
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
тации. Только на основе таких изменений совершается
формирование и формулирование общих нормативных принципов науки,
которые, в свою очередь, сообщают невиданное ускорение
личностным преобразованиям.
В этом процессе необходимо различать взаимосвязанные
стороны и механизмы. Прежде всего, требуют более конкретного
изучения механизмы связи людей знания с преобразованиями
общества и его культуры.
Наиболее прозорливые из людей знания в той или иной
форме улавливали именно социальный «запрос» эпохи, обращенный
к науке. Для нас существенно отметить, что важнейшей
«опосредующей инстанцией» стали преобразования личностного мира,
формирование самой личностью, занятой в науке, идеалов,
ценностей, ориентации, через которые запросы общества реально
включались в сознание, мировоззрение ученого и определяли
(хотя и не без конфликтов, противоречий) соответствующую
систему действий. При этом в значительной степени
интерферировали два процесса: выработка новых личностных ориентации
человеком знания и формулирование общезначимых норм научно-
исследовательской деятельности. Для того чтобы осуществилось
такое взаимопереплетение, требовалось важное условие: люди
знания, занятые самовоспитанием и личностной саморефлексией,
должны были почувствовать, что происходящие с ними
изменения, включая несовместимость с традиционным типом «ученого»,
имеют не просто субъективный смысл, а глубочайшее
объективное значение для всего общества. Более того, должна была
возникнуть своеобразная синхронность субъективных переживаний,
индивидуальных действий многих и многих людей знания, а их
единство должно было превратиться в объективный факт
культуры, в важную форму социального действия4. Такие черты, вне
всякого сомнения, были, присущи сознанию, действиям ученых и
философов XVII столетия — этого «века гениев», — хорошо
сознававших общечеловеческое значение своей новаторской
деятельности в науках. И даже в тех случаях, когда раскрываются
4 Здесь, как и при анализе других аспектов нашей темы, подтверждается
справедливость замечания, сделанного К. Марксом в работе «К критике
гегелевской философии права»: «В науке, например, "отдельная
личность" может осуществлять всеобщее дело, да оно и осуществляется
всегда отдельными личностями. Но действительно всеобщим оно
становится лишь тогда, когда является уже не делом отдельной личности, а
делом общества. Это изменяет не только форму, но и содержание»
[Маркс К., Энгельс Ф. К критике гегелевской философии права // Маркс К,
Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. С. 292].
Нормы науки и ориентации ученого
183
творческие правила метода, они широко и зрело обосновываются
как общезначимые принципы, распространение которых
необходимо не только для, преобразования научного знания, но также
для «реформы нравов» в науке и вне ее, для содействия благу всех
людей.
Поэтому вполне оправданно вести исследование
формирования норм науки, избрав своеобразной «точкой отсчета» мир
конкретно-исторической личности ученого (в данном случае —
XVII в.), преобразование его идеалов, ориентации, ценностей,
даже, казалось, бы, сугубо личностных переживаний и находя среди
них такие, которые оказались «работающими» принципами
науки, нормами, регулировавшими ее функционирование в ту
эпоху, а в видоизмененной форме сохранившимися в науке и до сего
времени.
Необходимо сделать одно замечание относительно
особенностей метода исследования науки с применением такой «точки
отсчета». Разумеется, он никак не исключает других
методологических средств работы — таких, например, какие применяются,
когда выясняют главным образом объективные процессы,
происходящие в обществе (технико-экономические, политические,
идеологические и др.), и выявляют их влияние на науку, взятую в виде
некоей целостности, когда рассматривают формы и способы
деятельности научных сообществ и т. д. Что касается изучения
личности ученого и норм науки, то и здесь, конечно, возможны
многообразные способы подхода. Скажем, правомерно анализировать
тексты и материалы прошлых исторических периодов,
интересуясь в основном теми общими нормативными формулировками,
которые сохраняют для науки непреходящий исторический
смысл, ибо отвечают ее существенным социальным функциям.
Именно так мы подходили до сих пор к текстам XVII в., что
позволило рассмотреть их как интересную страницу в философско-
социологическом исследовании науки. Теперь хотелось бы
продолжить работу, но одновременно усложнить задачу, отправляясь
от следующих проблемных трудностей. Личностный мир
конкретного человека любой эпохи чрезвычайно сложен и
противоречив. Порою мы, соблазненные поисками «исторических
созвучий» с нашей эпохой, несколько сглаживаем противоречивый
контекст деятельности и самовыражения личности ученого
прошлых исторических периодов. Нередки случаи, когда
исследователи сначала берут нормы науки в виде некоторой «идеальной
модели», а потом наталкиваются на обескураживающий факт:
реальное поведение ученых и их действительные ориентации
представляются сплошь да рядом отклонением от «чистых» нормати-
184
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
bob. В таком положении оказался на первых этапах
формирования своей концепции столь серьезный социолог науки, как
Р. Мертон, что впоследствии заставило его ввести идею об
«амбивалентности», т. е. двойственности, противоречивости
ориентации и действий ученого в том случае, когда при наличии
внутренних колебаний ученый все-таки действует в согласии с
«чистой» нормой науки5. Думается, дело не только в сложности
процесса освоения и применения учеными норм науки. Само
формирование и формулирование последних — не менее
противоречивый процесс. Гипотеза, от которой мы далее будем
отправляться и которую будем обосновывать, состоит в следующем.
Обязанные своим происхождением конкретной эпохе и
конкретным личностям, нормы науки рождаются не в «чистом виде»
— не только в форме самых общих нормативных идеалов,
которые настолько отвечают сущности науки и настолько
«отвлечены» от исторических условий, что оказываются пригодными и
для последующих периодов. Если для целей исследования и,
возможно, для целей воспитания полезно оперировать только
«идеальной» нормативной моделью, то следует учитывать, что в
действительной практике научно-исследовательской деятельности
определенного исторического периода «работает» иной —
сложный, противоречивый — сплав нормативных принципов. Они
реально «работают» в качестве норм именно потому, что общие
«идеальные» принципы конкретизируются и порой довольно
существенно модифицируются благодаря «разрешающим» и
«запрещающим» принципам разной степени обобщенности, детали-
зированности. Независимо от того, сколь четко сформулированы
такие принципы именно в качестве норм, они все-таки реально
«работают», действительно организуют познавательные действия
ученых и их общение. (Различие и связь между «нормами-
идеалами» и «функциональными нормами» науки, — так мы
далее будем их называть, — аналогичны различию и связи между
«нормами-целями» и «нормами-рамками», обоснованным
социологами применительно к социальному поведению вообще.)
Формирование и применение норм науки, взятых в их целостности,
— труднейший социальный процесс, тесно связанный с другими
сторонами развития обществам и его культуры. Подобно тому,
как в борьбе со старыми знаниями и методами, в напряженном
творческом поиске ученого, в муках сомнения и своеобразного
самоотрицания рождаются новые идеи, гипотезы, концепции, —
5 Подробнее по этому вопросу см: Мотрошилова И. В. Наука и ученые в
условиях современного капитализма. С. 179—191.
Нормы науки и ориентации ученого
185
подобно этому нормы науки не «наследуются» как некое
неизменное достояние, но получают новый смысл и содержание,
пополняются достаточно конкретными новыми нормативными
принципами, обретаемыми на тернистом пути компромиссов,
временных поражений и частичных побед. Формирование и
формулирование учеными новых нормативных принципов научной
деятельности — никак не плавный и безличный процесс, но тоже
напряженнейший поиск, порой приобретающий характер
сложнейших личностных драм и социальных трагедий. Это ведь и
борьба ученого с самим собой, сложное преобразование
личностью собственных ориентации. Но чтобы понять ее смысл для
отдельных ученых, для института науки, для общества и судеб его
культуры, не следует, повторяем, ограничиваться самыми
общими формулировками, где ориентации ученого и нормы науки
предстают только как идеалы, — необходимо рассматривать их в
той живой и противоречивой конкретности, в какой идеалы
переплетаются с многообразными реальными (функциональными)
ориентациями и нормативами, которые в своеобразной для науки
форме выражают исторически значимое противоборство нового
и старого на социальной арене вообще, на почве культуры в
частности и в особенности. Тогда станет ясно, что противостояние
«безупречных» норм науки и «небезукоризненного» поведения
ученых — один из фетишей, получивших распространение в
обыденном мышлении и в теории науки. На самом деле, как
представляется, каждая историческая эпоха, переживающая
кардинальные исторические переломы, должна выстрадать и на
уровне личности, и на уровне науки как целого иную, более
адекватную историческому действию и сознанию систему принципов
науки и личностных принципов, которая рождается в достаточно
серьезном пересмотре прежнего нормативного «этоса» научно-
исследовательской деятельности. Эпоха научно-технической
революции означает не только невиданный размах научно-
исследовательской деятельности и использования ее результатов
в различных областях общественной и индивидуальной жизни.
На наших глазах уточняются, а порой и подвергаются пересмотру
возникшие на заре Нового времени и ставшие уже
традиционными нормы науки — в том триединстве, о котором ранее,
упоминалось (познавательные, социальные внутринаучные и
общесоциальные нормы). Возникают — в борьбе и исканиях — новые
нормативные принципы. В этом процессе социально значимого
поиска есть свои достижения и проблемы; если хотите, здесь были
и свои гении.
186 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
В XVII столетии гениями нормативного поиска науки
оказались великие философы — в немалой степени благодаря тому,
что они, подобно Декарту и Лейбницу, были
первооткрывателями в математике и естествознании или, подобно Бэкону, Спинозе
и Гоббсу, были способны, что называется, держать руку на пульсе
науки. В то же время мыслители, глубоко захваченные
разысканием специфики науки и философии, обладали наиважнейшей
для процесса нормативного творчества способностью: именно
среди переживаемых ими «личностных поисков», противоречий,
конфликтов, компромиссов и потрясений они сумели разглядеть
такие, которые носили «интерсубъективный», социально
значимый характер. Они стремились, что также немаловажно,
зафиксировать их в своеобразной личностной форме, в форме
требований, обращенных к сознанию, уму, совести человека. И в немалой
степени — к собственному уму, к своей совести. В тоже время
многие принципы деятельности отражались уже и в безличной
форме, благодаря чему они приобретали характер общих для
науки норм. Что и означает: из недр исторически многообразного
личностно-нормативного творчества, захватывавшего всю науку
того времени, постепенно рождались единые принципы
деятельности и общения людей науки.
Нормативное творчество в науке
и философии XVII в.
На долю гениальных новаторов, сознательно утверждавших
новые нормы науки, нередко выпадали тягчайшие испытания.
Судьба Джордано Бруно и его героическая смерть — яркий, в
контексте нашего исследования очень существенный пример.
Кратко говоря, его значение состоит в следующем. Бруно
примкнул к социально-критической тенденции Возрождения, которая
была обращена против традиционных, всей историей
Средневековья закрепленных принципов деятельности и поведения,
объединенных вокруг таких норм, как подчинение догматам религии
и вера в них, подчинение знания вере, ориентация на авторитеты,
смирение личной «гордыни», ощущение «греховности» всего
человеческого рода и т. д. Главные удары Бруно направил против
общих ценностных установлений Средневековья, согласно
которым благо (понимаемое прежде всего как «благостность бога», его
«промысел», распространявшиеся на природу и человека)
ставилось неизмеримо выше истины, обретаемой в ходе человеческого
познания. Работа Дж. Бруно «Изгнание торжествующего зверя»
(изданная в Англии анонимно, она была предоставлена каким-то
доносчиком в распоряжение инквизиции) была посвящена «мо-
Нормы науки и ориентации ученого
187
ральной реформе» на уровне универсальных ценностных
принципов — реформе, которая имела свои истоки в глубочайших
социальных и культурных преобразованиях и, в свою очередь,
оказала влияние не только на науку и философию, но и на всю
культуру. Главенствующей ценностью Бруно объявил истину, а
разыскание ее — наиважнейшим среди человеческих дел. Социальное
чутье Бруно проявилось в том, что он тесно связал процесс
утверждения новых ценностей и норм науки с критическим
ниспровержением догматического строя мышления и поведения: он
создал целую галерею метких сатирических образов представителей
традиционной учености; центральным персонажем, который в
диалогах Бруно вступает в бескомпромиссную идейную борьбу
против выучеников схоластики, поклоняющихся авторитетам,
стал сам Ноландец.
Это был смелый шаг. Произведения Дж. Бруно, диалоги, почти
всегда облеченные в «личностную» форму, — ценнейшие
документы, отражающие процессы преобразования ориентации
личности человека знания, процессы возникновения самой новой
науки, а также норм деятельности и поведения ученых.
Столкновение Бруно и прислужников инквизиции —
противоборство двух исторически значимых личностных типов. В
трагической борьбе с инквизицией Бруно не мог не идти на
известные компромиссы, но материалы инквизиционных процессов
показывают, насколько несовместимыми с официальными
религиозными эталонами были принципы деятельности, поведения,
общения, которые исповедовал и которым следовал Бруно. С
методологической стороны необходимо подчеркнуть еще два
обстоятельства. Во-первых, для выработки и распространения норм
науки огромное значение приобретают такие экстремальные, тем
более трагические, личностные ситуации, когда ученые и
мыслители, которые формулируют и обосновывают новые
нормативные принципы, отстаивают их, невзирая на все опасности, в том
числе и угрозу смерти. Героическая смерть Бруно приковала
внимание к тем жизненным принципам, во имя которых он
боролся и умер. Во-вторых, для рассматриваемой здесь проблемы
немаловажно, что жизненные принципы и ориентации Бруно
оказались радикальнее даже тех достаточно смелых ценностно-
нормативных установок, которые он отстаивал в своих
произведениях. Трагический финал жизни Бруно говорил о
несовместимости догматизма церкви и новой науки, о противоположности
разделяемых церковниками и учеными идеалов знания.
Инквизиция не пошла на компромисс; его, в конце концов, отклонил и
Бруно. При непосредственном противостоянии двух типов лич-
188
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ности выявилась вся глубина их конфликта. Функциональные,
т. е. действительно работающие нормы человека науки, тесно
сплавленные с его ориентацией, в XVI—XVII вв. все чаще
противопоставляли научное знание знанию, направляемому и
контролируемому религией и церковью. Что же касается общих
принципов, то для XVI и XVII столетий было характерно
охранительное по отношению к религии и церкви их формулирование.
Высказанное положение легко подтвердить многочисленными
текстами, документами (в том числе, скажем, личными письмами,
которые предоставляют авторам большую свободу в выражении
сокровенных мыслей). Ученые и философы по большей части не
посягали на традиционные прерогативы религии и церкви
относительно веры и верующих, относительно некоторых типов
абстрактного размышления (теология), а порой с высокой долей
искренности объявляли конечным предназначением науки
деятельность ученого «во славу Божию» (что можно было бы
подтверждать выписками из Бэкона и Спинозы, Гоббса и Ньютона,
Паскаля и Лейбница и других величайших умов той эпохи). Об
автономии науки по отношению к церкви и религии, а значит, о
соответствующих принципах ориентации и действия людей
науки не могло быть и речи. В завязавшейся в эти столетия идейной
тяжбе между религией и наукой сила была еще на стороне
религии. С этим хорошо известным историческим фактом связан
конкретный характер норм науки, поскольку они касаются
регулирования отношении между столь мощным
социально-идеологическим институтом, каким тогда была церковь, и наукой, которая
только становилась организованным социальным институтом (в
нашей классификации они относятся к нормам третьего типа, к
общесоциальным нормам). Один из источников, объясняющих
охранительный по отношению к церкви, пока еще
компромиссный, характер норм данного типа, — конкретно-исторические
особенности личности ученого XVI—XVII столетий.
Было бы неверно понимать дело так, будто речь шла о
принципах и ориентациях, которые располагались где-то «на
периферии» жизненного процесса и «микрокосма» личностей,
работавших в тогдашних науках. Влияние религии и церкви на
формирование и формулирование норм науки не ограничивается
внешним давлением соответствующих церковных инстанций и
тесно связанной с нею государственной власти — давлением,
которое в самом деле было целенаправленным, а долгое время и
всеохватывающим. Зависимость глубже и серьезнее. Синхронно с
этим и общесоциальные нормы, т. е. нормы третьего типа, в
XVII в. представляли собой результат компромисса между тен-
Нормы науки и ориентации ученого
189
денцией науки к обособлению от вмешательства церкви и
стремлением религиозных инстанций сохранить, а по возможности и
усилить контроль за выводами и доводами науки. То, что это
стремление еще давало немалые результаты, показывают
процессы Бруно и Галилея. Что касается самой научной деятельности и
ее результатов, то при всех новаторских достижениях новой
науки и философии немалым еще является «вычет» в пользу
размышлений, проблематика, форма и содержание которых либо
коренятся в теологии, либо являются данью тем ложным идеям и
устаревшим знаниям, что числились схоластикой в разряде
«научных истин». Интересной проблемой является влияние
принятых теологией и схоластической ученостью идейных формул,
терминологии, способов рассуждения, стилевых приемов, что,
разумеется, мы вовсе не толкуем так, будто это влияние было сугубо
ретроградным. Не будем разбирать требующий более
конкретного анализа вопрос о том, какие традиционные знания и области
знаний в XVI—XVII вв. содержали в себе проблемные точки роста,
а какие превратились в идейно-методологические препятствия
для новой науки. В данном контексте существеннее то, что
последующая эпоха, завоевывавшая для науки именно автономию от
религии, должна была пересмотреть и нормативные принципы
— в их числе не только нормы третьего типа, но также
нормативные формулировки вновь возникавших научных сообществ и
институтов, которые давались в XVI—XVII вв. с полным учетом
власти религии и церкви. Вместе с ними подлежали критике и
уточнению некоторые личностные ориентации, цели, принципы
ученого, выраженные в эти же столетия выдающимися философами,
учеными, которые, как правило, оставались людьми
религиозными, даже если им случалось вступать в конфликты с церковью.
Вспомнить об этом необходимо, чтобы не впасть в достаточно
распространенную иллюзию, будто влияние господствующих
социальных институтов и господствующей идеологии на науку и
ученых имеет чисто внешний характер. На самом деле влияние
это сохраняется постольку, поскольку находит выражение и
закрепление в соответствующих общенаучных и внутринаучных
социальных нормах, — конечно, если брать не самые общие
принципы, а именно работающие, функциональные нормы.
Влияние церкви как института и религиозной идеологии на
науку падает или утрачивается не раньше, нежели конкретные
личности практически следуют санкционирующим и запрещающим
принципам, которые начинают регулировать их деятельность в
науке и вне ее таким образом, что, скажем, одобрение или
неодобрение религии и церкви, — а они ведь продолжают сущест-
190
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
вовать, — перестает иметь значение для института науки и
подавляющего большинства ученых. А это, как показывает история,
дело непростое и небыстрое. Не только в следующем, XVIII, но и в
XIX столетии вопрос о завоевании наукой такой автономии по
отношению к религии еще нельзя считать окончательно решенным.
Вместе с тем, по крайней мере в естествознании, условия
исследовательской деятельности настолько изменились, что ученые
могли и часто стремились работать так, чтобы существование
религии и церкви уже не имело сколько-нибудь существенного
значения для их деятельности именно как ученых. Истоки столь
важных для дела науки изменений коренились в том же XVII
столетии, ибо тогда ученые и философы в самом процессе
исследования и общения друг с другом стали вырабатывать по крайней
мере нерелигиозные, а в тенденции — антирелигиозные способы
деятельности. Это были прежде всего методы получения,
доказательства и использования знания. Обобщая возникшие
принципы деятельности, ученые также формулировали новые по
сравнению со Средневековьем нормы-идеалы. Но куда более
радикально пересматривались функциональные нормы. Иными
словами, наиболее глубокие тенденции, приведшие затем к
кардинальному преобразованию общесоциальных норм науки,
пробивали себе дорогу поначалу не столько на уровне принципов,
непосредственно регулирующих соответствующие сферы
(например, отношения церкви и возникающих институтов науки), но
скорее в самой сердцевине деятельности ученых — на уровне
конкретного исследовательского процесса и регулирующих его
эвристических норм. Обосновывая эту мысль, необходимо
продемонстрировать, что называется, в действии сложную диалектику
целостности и единства норм различного типа.
В XVII в. четко оформляется такой, например, нормативный
принцип, как требование к ученому искать истину,
ориентироваться на нее и только на нее, освобождаясь от гнета
разнообразных «идолов», предрассудков и предубеждений, исходящих не
только от внешних причин, но также и от внутренних
субъективных условий, препятствующих познанию. Поскольку это
требование отвечает специфике и важнейшей социальной функции
науки, постольку в виде общей нормы оно сохраняется и в
сегодняшней науке и, надо полагать, сохранится в
научно-исследовательской деятельности и в будущем. Однако, констатируя
данный факт, необходимо обратить внимание на то, что
работающей функциональной нормой ориентация на истину (как и
всякая другая столь общая норма-идеал) становится благодаря ее
содержательной конкретизации.
Нормы науки и ориентации ученого
191
Конкретизация реально воплощается в обрастании
своеобразного «нормативного ядра» эвристическими — теоретическими,
методологическими, опытно-экспериментальными —
указаниями, которые поступают из арсенала средств реальной научно-
исследовательской деятельности и являются наиболее общими,
наиболее важными ее парадигмами. Значит, конкретизация
всегда имеет исторический характер — и здесь заключен
своеобразный парадокс: наиболее работающими внутринаучными
нормами в каждый данный момент становятся именно те, которые
обречены на существенный пересмотр в будущем. Формирование
исторически конкретного сплава более устойчивого
«нормативного ядра» и более подвижных функциональных внутринаучных
норм — один из аспектов, характеризующих механизмы
нормирования научно-исследовательской деятельности.
Другой аспект: обязательное преобразование эвристических
норм в морально-личностную, ценностную форму. Иными
словами, эвристические нормы функционируют и усваиваются, если
«интериоризируются» через ориентации личности, хотя когда-то
такие нормы возникли на основе обобщения успешных
познавательных действий наиболее талантливых предшественников и
современников. Подвижное преобразование ориентации в нормы и
последних — снова в ориентации ученых представляет собой
характерный и интересный механизм процесса нормирования
научно-исследовательской деятельности. Требования, обращенные
к познавательному действию, которое направлено на изучаемые
объекты и на «обработку» знания, приобретают также форму
принципов нормативно-нравственного, в широком смысле —
личностного и культурного характера. Такое объединение в более
или менее систематической форме осуществляется в
произведениях Бруно, Бэкона, Галилея, Спинозы, Гоббса, Паскаля, Ньютона
и других философов и ученых.
Еще один аспект, о котором следует особо упомянуть: нормы
науки формулируются не только в форме «позитивных» эталонов
и предписаний. Например, философы и ученые XVII в.
осмысливают действия и ориентации личности, которую они считают
антагонистической по отношению к «истинной» науке.
Изображения такой личности подчинены определенной цели: они служат
негативными примерами, изображающими ситуацию, которая
для науки и ученого должна стать неприемлемой. Роль норм-
запретов в регулировании науки весьма существенна: поскольку
они осознаются и реально применяются учеными, постольку из
науки если и не окончательно вытесняются, то во всяком случае
считаются в ней недостойными, неподобающими, неадекватны-
192
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ми, и т. д. такие способы деятельности и поведения, которые
прежде, напротив, считались приемлемыми и были, что называется,
«массовидными». «Запрещающие» нормативы,
сформулированные величайшими учеными и философами XVII в., посягали — и,
можно полагать, вполне «сознательно» — именно на
господствующий тип действия традиционного человека знания,
теоретически, в том числе и нормативно, освященного схоластической
идеологией.
Из сказанного становится ясно, что нормы науки не сводятся,
как принято изображать их в социологии науки, к трем-четырем
нормам-идеалам, сформулированным столь общо, что они
становятся приложимыми к науке вообще — и далекими от реальной
практики науки. Гораздо точнее, как нам представляется,
понимать нормативные принципы науки как исторически
конкретную, сложно дифференцированную систему взаимосвязанных
нормативных установлений различной степени общности и
различного уровня. Нормативные элементы системы находятся в
процессе модификации или коренного изменения. В систему
включаются вновь возникающие элементы; между новыми и
старыми нормативными принципами приходится выбирать, что, как
отмечалось, порождает борьбу и конфликты внутри общества,
института науки и в «микрокосме» конкретной личности.
Система норм науки объединена со многими реальными
компонентами действительного научно-исследовательского процесса — с
самим исследованием, с общением ученых, с возникновением и
функционированием научных учреждений. Обычно эта система
многообразнее, сложнее, противоречивее, нежели ее отражение в
произведениях и документах, где делаются попытки фиксировать
господствующие и вновь возникающие нормы, сделать их
объектами осуждения или признания, т. е. превратить в осознанный
факт для научного сообщества. Поэтому пристальное внимание к
стихийному нормативному творчеству не менее важно, чем
изучение рефлективных по отношению к нему формулировок.
Степень дифференцированности и проясненности нормативной
системы, складывающейся в определенный период развития науки,
— важнейшее свидетельство ее социально-исторической
обусловленности, показатель внутренней социальной интегрированно-
сти науки и ее способности функционировать именно в качестве
относительно самостоятельного социального организма.
Говоря о философии и науке XVII столетия, можно отметить
довольно высокую степень совпадения спонтанного
нормативного творчества в науке и соответствующих учений, где опыт науки
получал глубокое, притом непременно критическое, осмысление.
Нормы науки и ориентации ученого
193
Так была заложена важнейшая для европейской мысли традиция,
получившая дальнейшее развитие в концепциях науки Канта,
Гегеля, Маркса.
Далее будет сделана попытка схематически воспроизвести ту
часть сложившейся в XVII в. системы нормативных принципов,
которая относится главным образом к познавательным нормам.
Ее можно реконструировать6 на основании текстов этого
столетия, пользуясь предложенной ранее классификацией норм науки
и разъяснениями относительно механизмов их
функционирования.
О системе познавательных норм науки XVII в.
В многоаспектном обосновании познавательной деятельности
ученого большое значение приобретает выработка принципов,
которым ученые и философы XVII в. придают не только
методологический, т. е. гносеологический, но и нормативно-ценностный
смысл. (Тот, кто внимательно изучал тексты науки и философии
XVII в., видимо, обращал внимание на обилие, порой просто
господство, нормативных формулировок даже в конкретно-научных
и логико-гносеологических размышлениях — факт, который
объясняется начальным этапом формирования новой науки.)
Прежде всего обосновываются принципы, регулирующие процесс
подготовки к научному исследованию (но также, конечно, и те
стадии научной работа, где вклиниваются сходные процедуры).
Огромное внимание в XVII в. уделяется — по причинам, уже
рассмотренным, — выработке нормативных принципов,
регулирующих отношение к унаследованному и вообще «ставшему»
знанию. Известно, что Бэкон, Декарт, Гоббс рекомендуют
начинать научные занятия с «очищения разума», с универсального
методического сомнения, которому подвергаются в первую
очередь общие принципы традиционной учености. «Что же касается
первых понятий разума, то среди того, что собрал
предоставленный самому себе разум, нет ничего такого, что мы не считали бы
подозрительным и подлежащим принятию лишь только в том
6 Разумеется, реконструкция всякий раз принадлежит автору, который ее
осуществляет. В произведениях XVII века непосредственно не записана
предлагаемая далее система норм науки. Ее приходится восстанавливать
из отдельных фрагментов. Однако уровень сознательности, четкости и
детализированности нормативного творчества в науке этого столетия
настолько высок, что у каждого из цитируемых авторов нормативные
представления так или иначе образуют систему.
7- 11375
194
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
случае, если оно подвергнется новому суду, который и вынесет
свой окончательный приговор» 7. С этой формулировкой Бэкона
перекликаются принципы декартовской теории сомнения.
Строгая содержательная проверка принципов и понятий, которые
заимствуются из прежде приобретенного знания, объявляется
обязательной исходной предпосылкой исследовательской
деятельности в науке и, значит, обосновывается как всеобщая
эвристическая норма науки. Декартовское cogito, ergo sum имеет и
нормативно-ценностную сторону, обращенную именно к ученому: ему
рекомендуется не брать на веру принципы и понятия, от каких
бы влиятельных в науке авторитетов они ни исходили, но
принимать их тогда, когда он сам благодаря собственному
мышлению, с полной ясностью и очевидностью установит истинность
унаследованного знания8. (Современная социология науки по
сути дела воспроизводит это Декартово требование, включая в
число важнейших норм науки необходимость «организованного
скептицизма», если воспользоваться формулировкой Мертона.)
Мыслители XVII в. не заблуждались относительно того, что
выдвигать подобные требования в эпоху засилья схоластического
догматизма весьма небезопасно. (Отсюда достаточно осторожная
— у Декарта порой сугубо индивидуальная — форма, в которой
внешне выступает нормативное правило, по сути своей толкуемое
как универсальное и исходное.) Но еще меньше было у них
иллюзий, что универсальное сомнение и строгое испытание исходных
принципов сразу станет универсальной нормой для людей,
воспитанных в духе подчинения догмам и поклонения авторитетам.
Отсюда стремление продолжить и конкретизировать
нормативно-методологические размышления, сообщив им форму
требований, для дела науки абсолютно необходимых и для ученого
вполне доступных реализации (последний аспект весьма
существен, ибо «работают» только те нормы, которые в данный момент
реализуемы). Тщательно формулируются нормы-запреты9 и
нормы-предписания, касающиеся познавательных действий.
Среди норм-запретов на первое место выдвигается развенчание
характера познавательных действий схоластической учености,
перерастающее и в более широкую критику традиционной культу-
7 Бэкон Ф. Сочинения. М, 1971. Т. 1. С 76.
8 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 272.
9 «...Мы всюду рассыпаем напоминания, оговорки и предупреждения и в
своих опасениях прибегаем чуть ли не к заклинаниям, чтобы
устранить и отбросить все ложные представления» [Бэкон Ф. Сочинения. Т. 1.
М., 1971. С. 81].
Нормы науки и ориентации ученого
195
ры. «В самом деле, перед этой нашей наукой стоит задача
нахождения не доказательств, а искусств, и не того, что соответствует
основным положениям, а самих этих положений, и не вероятных
оснований, а назначении и указаний для практики. Но за
различием в устремлениях следует и различие в действиях. Там
рассуждениями побеждают и подчиняют себе противника, здесь —
делом природу» 10 — такова зрелая обобщающая формулировка
Бэкона, увязывающая воедино цели новой науки, характер
познавательных действий и ориентации ученого в противопоставлении
традиционному знанию. Суммарный образ схоластики, которую
Бэкон метко называет «наукой сутяжной», встречается и в
произведениях других мыслителей XVII столетия. Как правило, он
дается без упрощений; схоластике воздается должное; признается,
что у схоластов «можно найти некоторые прекрасно
сформулированные и весьма верные открытия» п; они преуспели в
создании сложной ткани утонченных рассуждений и доказательств;
им, несомненно, была присуща «неистребимая жажда истины»,
«неутомимая деятельность ума» 12. Но тем более определенными
должны были стать представления о новом пути и новых ориен-
тациях, благодаря которым «сутяжная» ученость будет
преодолена.
Сначала даются «негативные» указания, формулируются
нормы-запреты: что не следует делать ученому, от чего надо
решительно отказаться. «Сутяжная» ученость, по Бэкону, выражается в
двух основных признаках, которые характеризуют именно
«дурную и ложную» науку. «Первый — это новизна и необычность
терминов, второй — догматизм, который неизбежно порождает
возражения, а затем приводит к препирательствам и спорам» 13.
Бэкон верно отмечает по преимуществу словесный,
терминологический характер «новаторства» в схоластической учености; он
хорошо показывает, что догматизм парадоксальным, на первый
взгляд, образом порождает бесконечные споры, в которых
каждый имеет право предложить свое толкование догмы и «святых»
текстов. И что же, собственно, ему можно противопоставить, как
не другое толкование? При таком способе обращения с
унаследованным знанием имеется вращение по кругу, причем даже
фрагментарно включенное в схоластику «здоровое и серьезное
познание природы довольно часто загнивает и разлагается, превраща-
10 Бэкон Ф. Сочинения. М., 1971. Т. 1. С. 74.
11 Там же. С. 113.
12 Там же. С. 114.
13 Там же. С. 112.
196
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ясь в скрупулезные, пустые, нездоровые и (если можно так
выразиться) червеподобные исследования, которые обладают, правда,
каким-то движением и признаками жизни, но по существу гнилы
и совершенно бесполезны» 14.
Разорвать бесплодное «круговращение» знания — вот цель,
которую ставят перед служителями «истинной науки» гении
нормативно-методологического творчества XVII в. Для этого
необходимо, согласно Бэкону, постоянно и добросовестно оставаться
«среди самих вещей», приводя к ним и к их связям суждения
людей, не «отвлекая» разум от вещей далее, чем это необходимо.
Конкретизации этого нормативно-эвристического установления
достаточно многообразны. Например, в соответствии с ним
даются определения предмета и методологии наук, и прежде всего
философии, которая в XVII в. еще обозначает совокупную, хотя и
богато расчлененную науку. «Предметом философии, или
материей, о которой она трактует, — пишет Гоббс, — является всякое
тело, возникновение которого мы можем постичь посредством
научных понятий и которое мы можем в каком-либо отношении
сравнивать с другими телами, иначе говоря, всякое тело, в
котором происходит соединение и разделение... Следовательно, там,
где нет ни возникновения, ни свойств, философии нечего
делать» 15. На этом основании, продолжает Гоббс, из философии,
т. е. из обширного свода научных знаний, исключаются теология,
«учение о богопочитании», «учение об ангелах», астрология и
т. п. Характерно, что из тезиса о новом начале естественной
науки, — а им становятся наблюдения за телами природы и их
постижение при помощи понятий, — строго выводится норма-
запрет, разом исключающая из науки рассуждения о том, что не
имеет свойств, не имеет возникновения и т. д.
Здесь в нормативную систему науки мыслители XVI—XVII вв.
включают важнейший элемент, точнее, подсистему элементов,
где размежевание с традиционной ученостью прослеживается
особенно явно и где закладываются незыблемые основания новой
науки. Речь идет о принципах опытной и экспериментальной
проверки звания. Об этом в литературе по истории и
методологии науки написано много. Для нашей темы существенным
явилось бы, во-первых, прояснение именно системы конкретных
методологических принципов, которые стали функционировать в
качестве норм новой науки и нанесли куда более мощный удар
донаучным, псевдонаучным способам размышления, нежели
14 Там же.
15 Гоббс Г. Избранные произведения. М., 1964. Т. 1. С. 58.
Нормы науки и ориентации ученого
197
призывы покончить с ними. (Общие ссылки на то, что вводится
норма-идеал опытной и экспериментальной проверки знания,
недостаточны; важно ухватить наиболее значимые
функциональные нормы-запреты и нормы-предписания, что, в частности,
позволит конкретнее увидеть пути их преобразования при
переходе от классической науки к современной.) Во-вторых,
необходимо было бы проследить, в какой мере выдвижение этих норм
зависело от преобразования «микрокосма» человеческой
личности (в частности личности ученого), обусловленного
изменившимися формами социальной жизни и культуры. Реализация этой
сложной исследовательской программы выходит за рамки данной
статьи, где мы характеризуем основные «узлы» системы
познавательных норм науки. Отметим только, что мыслители XVII в.,
отчетливо осознавая необходимость теоретической опосредованно-
сти наблюдения, эксперимента, описания, ввели
соответствующие нормы-запреты (негативные примеры) и
нормы-предписания, которые уже были обращены к новым людям науки,
признавшим ценность опытно-экспериментального знания 16.
Практика опытно-экспериментального получения знания и
его проверки образовала — вместе с соответствующими нормами
— наиболее эффективное «чистилище», за «порог» которого
проникали люди, чьи знания и ориентации в принципе уже
согласовывались с нормами-идеалами новой науки. Подобно тому,
как платоновская Академия приняла лозунг-норму «Негеометр
да не войдет», так и ученые XVII в. определили: «да не войдет» в
здание науки тот, кто не готов обращаться к фактам опыта,
ставить эксперименты (реальные и мысленные), в соответствии с
опытно-экспериментальными данными корректировать или
вовсе отвергать знание. Но поскольку взаимосвязи между опытом,
экспериментом, наблюдением и научной теорией чрезвычайно
сложны — и ученые, философы «века гениев» достаточно хорошо
это понимали, — постольку продолжалась конкретизация
эвристических, нормативных принципов, конкретизация общего
требования: восходить «к самим вещам».
Его расшифровка для естествознания состояла, в частности, в
функционально-нормативных указаниях: отыскивать в природе
такие наиболее общие свойства, которые одинаково
характеризуют все природные вещи и состояния. При всех спорах и разно-
16 «...Многие пустившиеся в плавание по волнам опыта и почти
сделавшиеся механиками, — пишет Ф. Бэкон, — все же в самом опыте прибегают
к какому-то ложному пути исследования, а не подвизаются в нем по
определенному закону». См.: Бэкон Ф. Новый Органон. Л., 1935. С. 80.
198
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
гласиях, которые возникали при попытках определить такие
свойства, ученые и философы XVII в. сходились в признании, что
протяженность и ее «параметры» (величина, фигура), а также
механическое движение являются свойствами «самих тел», «самой
природы». Общая установка, как известно, конкретизировалась
таким образом, что «восхождение к самим вещам» понималось в
духе механицизма 17. Здесь — тот пункт, где последующие эпохи,
сохраняя само требование, должны будут осуществить другую
нормативную конкретизацию, причем в немалой степени в
борьбе с механицизмом. Однако ученые XVII столетия еще не
подозревали, что движение к «самим вещам» может приобрести какой-
то иной характер. Они тем более были уверены в преимуществах
механицизма, что благодаря ему создавалась возможность
вытеснить из принципов познания ориентацию на авторитеты и
догмы, что называется, явочным порядком отбросить схоластические
мудрствования вокруг вымышленных, ничем не
«верифицируемых» слов, понятий, сущностей, Механика и соответствующие ей
способы рассуждения казались наилучшим средством лечения
опасной болезни тогдашней науки, охваченной «лаем»
бесплодных споров. Ученые стремились к продуктивным научным
дискуссиям, в которых возможно и необходимо достигнуть если не
единственной, то во всяком случае единой и потому
объединяющей истины. Т. Кун в книге «Структура научных революций»
справедливо отмечает, что за исключением, возможно, некоторых
разделов математики и астрономии в том знании, которое до
XVII в. называлось наукой, по существу не было «парадигм», т. е.
теорий, законов, которые, будучи созданными, становились бы
основой приращения научных, знаний, основой реальной работы
17 Первое правило, в соответствии с которым, как пишет Декарт, бог
«заставил действовать природу» (заметим, что богу приписывается некая
«механистическая воля»), формулируется им следующим образом:
«...каждая частица материи в отдельности продолжает находиться в
одном и том же состоянии до тех пор, пока столкновение с другими
частицами не вынуждает ее изменить это состояние». И далее Декарт
добавляет: «Нет никого, кто считал бы, что это правило не соблюдается в старом
мире в отношении величины, фигуры, покоя и... других подобных
вещей». См.: Декарт Р. Избранные произведения. М, 1950. С 198. Тот, кто
удовлетворительно продумает это правило (и другие, относящиеся к ме-
ханицистской трактовке движения), сумеет, согласно Декарту, «узнать
действия по их причинам» и выведет доказательства a priori («пользуясь
школьной терминологией»,— замечено здесь вскользь) для всего, что,
может появиться в «новом мире» объяснения (Там же. С 204). Мы видим,
что толкование «правила», закона природы объединяется с нормативной
рекомендацией.
Нормы науки и ориентации ученого
199
других ученых, исключая бесконечные и бесплодные споры. Зато
к концу столетия в ряде научных дисциплин и их разделов такое
знание, без сомнения, появляется.
Хотелось бы обратить внимание на то, что еще до появления в
новой науке «парадигмального» знания ориентация на его
получение стала разделяться и пропагандироваться выдающимися
учеными и философами XVII, а отчасти и XVI в. — в согласии с
настроениями и идеями, характерными для всей культуры.
Осмеяние схоластических словопрений в ярчайших сатирических
образах искусства хорошо известно. Да и широкая публика устала
от «сутяжной» официальной науки, о чем свидетельствует Бэкон:
«Поэтому совсем неудивительно, если такого рода наука даже у
непросвещенной толпы служит предметом презрения...» 18.
Декартов критерий ясности и отчетливости знания,
ориентированный на самые древние «парадигмы» — на математическое знание,
выражает достаточно распространенное в XVII столетии
отношение к идеалу знания. Существенно, что Декарт пытается
подкрепить норму-идеал целой совокупностью эвристических
теоретико-методологических принципов, которые, как правило,
выражает в виде норм деятельности и «норм морали», обращенных к
человеку науки. Первое правило «для руководства ума» Декарт так
и формулирует: «Целью научных занятий должно быть
направление ума (неплохое обозначение ориентации. — Н.ЬЛ.) таким
образом, чтобы он выносил прочные и истинные суждения обо
всех встречающихся предметах» 19. Эта нормативная
формулировка в науке XVII в. вовсе не была такой элементарной и как бы
само собой разумеющейся, какой она, в качестве нормы-идеала,
стала к нашему времени. Отсюда тщательность, с какой Декарт
отделяет основную цель науки от «нравов большинства людей» и
даже от «честных и похвальных», но второстепенных намерений
(это, скажем, стремление к знанию ради житейских удобств или
желание ради «блаженства» созерцать то, что представляется
истиной). Второе правило, разъясняющее первое, рекомендует
ученым воздерживаться от изучения таких вещей, где нельзя
достигнуть познаний, по достоверности равных арифметическим или
геометрическим. Правило третье, далее, разъясняет принцип
ясности и отчетливости, налагая запрет на субъективные
предпочтения и предположения, выдвигая взамен убедительность
интуиции и дедукции (достоверность интуиции, этого «ясного и вни-
18 Бэкон Ф. Сочинения. М., 1971. Т. 1. С. 114.
19 Декарт Р. Избранные произведения. М, 1950. С. 79.
200
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
мательного ума», отличаемого от «шаткого свидетельства чувств»,
подтверждается при помощи простейших общепризнанных
положений математики). В данном контексте Декарт то и дело
возвращается к требованию: доверять «естественному свету»
человеческого ума, больше размышлять о простых и ясных истинах —
«всегда начинать с самых простых и легких вещей» и не
переходить к другому, пока не станет ясно, что нельзя больше из них
ничего извлечь20. Другие правила посвящены дальнейшей
конкретизации исходных методологических принципов — принципа
«простоты» и разложения сложных знаний на «простейшие в
каждом ряде». «Тот, кто действительно обладает знанием, с
одинаковой легкостью познает истину, выводит ли он ее относительно
трудной вещи или относительно простой. Именно, один раз
придя к истине, он улавливает ее всегда сходным, единым и
одинаковым действием...» 21. Итак, осуществляется не только поиск
объективного «парадигмалъного» знания, но и методов, которым в
последующих познавательных действиях будет принадлежать
всеобщая организующая эвристическая роль.
Нужно подчеркнуть, что целый ряд нормативных
эвристических правил является подробным разъяснением тех принципов,
которые впоследствии получили название метафизического
метода и возводились учеными и философами XVII вв. ранг
всеобщих законов познания, согласованных «с самими законами
природы». Интересным моментом является и попытка Декарта
нормативно-методологически обобщать некоторые познавательные
преимущества математического рассуждения, перенося их и на
другие познавательные ситуации — создать своеобразную,
широко понятую «математическую логику» (см., напр., правила XIV—
XXI из «Правил для руководства ума» 22).
Не будем анализировать другие конкретизации. И сказанного
достаточно, чтобы увидеть, сколь разветвленной оказалась
широко задуманная мыслителями XVI—XVII столетий иерархическая
система эвристических принципов, которым четко и осознанно
придается нормативная форма, имеющая своим адресатом
работающую в науке личность. Впрочем, даже и в тех случаях, когда
подтвердившее свою эффективность эвристическое правило
«парадигмалъного» характера прямо не выражается в виде нормы-
идеала или функциональной нормы, оно все-таки несет в себе
20 Там же. С. 94.
21 Там же. С 112—ИЗ.
22 Там же. С. 143—169.
Нормы науки и ориентации ученого
201
внутреннюю нормативную нагрузку (что относится, очевидно, не
только к науке)23.
Конкретные исторические условия, в которых возникли
нормы науки, объясняют сложный характер их последующего
функционирования, причем это относится даже к элементам
нормативной системы, которые в определенном виде вводятся в науку
«раз и навсегда». Даже они на последующих стадиях развития
науки приобретают, как было сказано, модифицированный вид,
тем более если брать их в сплаве с разъясняющими
функциональными нормами. Например, для каждой крупной эпохи в
развитии научного познания существенно модифицируется
нормативная формула движения «к самим вещам». При переходе от
классической науки к современной должны были существенно
измениться те элементы системы, где нормы ориентировали на
господство механистических процедур объяснения. И снова же —
это был переход весьма сложный, кардинальный, связанный с
пересмотром учеными ориентации и нормативных принципов,
которые еще недавно казались несомненными. Среди "нормативных
достижений современной науки — иное, нежели в классической
традиции, отношение к субъективному, т. е. к личности ученого,
субъекта научного познания, к применяемым им предметно-
орудийным и теоретико-методологическим средствам. Не
упрощая учение о нормах науки XVII в., не забывая о его интересных
оттенках, мы должны отметить, что в нем господствовало
отношение к субъекту научного познания как к «познавательному
орудию», влиянием которого на познавательный процесс можно
пренебречь — во всяком случае после того, как ученый отбросит
«твердым и торжественным решением» (Бэкон) свои и чужие
предрассудки, предубеждения, мнения. Не отрицая
воспитательного значения такого рода «предостережений», надо отметить,
что они все-таки основываются на упрощенных представлениях о
роли субъекта в процессе научного познания, которые в
философии и науке, начиная уже с Канта, стали пересматриваться. В
нормативном плане процесс осмысления далеко не закончен. Он
23 Это отмечает В. С. Стёпин: «Возникая в контексте культуры, идеалы
научного познания не всегда осознаются исследователем. Они часто
воспринимаются им как нечто само собой разумеющееся и усваиваются благодаря
знакомству с образцами знания, построенными в соответствии с этими
идеалами. Посредством таких образцов идеалы научного познания
транслируются в культуре и составляют основное ядро стиля научного
мышления». См.: Степин В. С. Структура и эволюция теоретических знаний //
природа научного познания. Минск, 1979. С. 211.
202
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
продолжается и в наши дни, когда идея о «дополнительности»
субъекта и ряда используемых им средств, орудий наблюдения и
методов размышления (в частности, языково-знаковых средств)
приводит и к серьезному преобразованию нормативного «этоса»
науки.
Хорошо известный факт — представление философов и
ученых XVII—XVIII вв. о незыблемой всеобщности наиболее
продуктивных тогда научных теорий — редко обдумывается с точки
зрения того, какие нормативные элементы облегчали его
господство в научном сообществе. Между тем это необходимо — как
необходимо выяснить, в чем именно состояло преобразование норм
и ориентации, которые стали «предписывать» ученым смело
пересматривать существующие теории, ожидать появления
«сумасшедших идей» и способствовать их выработке. Иными словами,
необходимо понять, как из неисторической по замыслу и
обоснованию (но исторической по внутреннему смыслу) нормативной
системы рождается такая, которая включает в себя
диалектическое, историческое измерение.
Изменение нормативной системы в процессе развития науки
происходит не только путем модификации принципов так или
иначе сохраняющихся, но и за счет отбрасывания норм, которые
явились данью исторически преходящим обстоятельствам. К
числу таких принадлежат уже упоминавшиеся «охранительные»
принципы, регулировавшие отношение ученых к религии и
церкви.
Другой тип изменений — появление нормативных формул,
регулирующих те аспекты научно-исследовательской
деятельности, которые в прежние времена либо не были известны, либо не
имели сколько-нибудь заметного влияния на науку в целом и на
общество. Таким относительно новым фактором являются
находящиеся в процессе становления нормы, регулирующие
экологические последствия воздействий науки и техники, — проблема,
которая, по сути дела, еще не существовала в эпоху, открывшуюся
призывами к «покорению природы». (Можно видеть, что сейчас
их формулирование скорее остается на уровне норм-идеалов.
Выработка работающих функциональных норм только
начинается.) Нормы, регулирующие отношения науки и практики, тоже
претерпевают значительные изменения в современной науке,
хотя и здесь наблюдается, на наш взгляд, отставание процесса
осознания и формулирования функциональных норм от
настоятельных потребностей времени. В XVII в. была осознана, признана и
провозглашена практическая значимость науки. Обоснованные
ранее выдающимися мыслителями принципы были приняты и
Нормы науки и ориентации ученого
203
провозглашены возникшими институциональными
объединениями науки. Крупнейшие естествоиспытатели, математики
прямо приступили к разработке тех практических приложений
науки, которые были возможны для их времени (и часть которых
практикой была реализована позже). Иными словами, путь от
нормы-идеала к функциональной норме (через ориентации
ученого) был достаточно прямым. Сегодня, в эпоху
научно-технической революции, путь от фундаментальной идеи к практическому
ее приложению пролегает через множество промежуточных
звеньев. Между тем с организационной и нормативной сторон
особая для каждого уровня исследовательской деятельности
ориентация на практическое приложение знания не всегда находит
должную конкретизацию. Норма-идеал еще не «обросла»
необходимыми функциональными нормативами различной степени
общности. Нередко «нормативное хозяйство» современной науки
(поскольку регулируется ее отношение к практике, к
производству) мало отличается от совокупности норм, при помощи которых
осмысливалась роль науки для практики в XVII в: Непрояснен-
ность функциональных норм можно расценивать как одно из
препятствий на пути углубленной разработки и применения
научного знания для нужд практики.
Мы перешли, таким образом, от познавательных норм науки к
ее внутренним социальным нормам. Последние применительно к
XVII веку могут быть представлены в виде дифференцированной
системы, элементы которой связаны друг с другом, с
познавательными нормами и с общесоциальными нормами,
относящимися к науке. Их детализированное рассмотрение — особая и во
многом новая проблема, анализ которой пришлось оставить за
рамками статьи.
* * *
Внемлю речам, объятый тьмой
Философических собраний,
Неутоленный и немой
В весеннем, мертвенном тумане.
Профессор марбургский Коген,
Творец сухих методологий...
Заговорит, заворожит
В потоке солнечных пылинок,
И «Критикой» благословит,
Как Библией суровый инок.
Но «Критики» передо мной —
Их кожаные
Переплеты.
Вдали — иного
Бытия
Звездоочитые
Убранства...
И, вздрогнув,
Вспоминаю я
Об иллюзорности пространства
А. Белый
* * *
Мне нравятся эти иронические стихи А. Белого; и нам,
философам, не следует терять чувства юмора, когда мы произносим
или слушаем речи на наших «философических собраниях», когда
пишем свои статьи и книги. И еще одно: они напоминают нам —
и почитателям Канта (или Гегеля, или Гуссерля или Хайдеггера),
с трепетом открывающим «кожаные переплеты», и суровым
критикам великих философов, — что вне нас простирается огромный
мир Бытия. Каждый отдельный человек, его страна, совокупное
человечество встраиваются в него лишь на краткий миг
бесконечной Вселенской Истории. Но ведь отсюда следует, что
человеческая задача (прав Хайдеггер!) — мыслить и заботиться о
Бытии и что философия играет свою, ничем другим не
восполняемую роль в этой бытийной мысли-заботе.
Уходят годы в бесконечность, —
Дарует новые творец.
Всегда, везде — живая вечность, —
Одно начало и конец.
А. Блок
п.
Значение теории времени Канта
для понимания всеобщих структур
человеческого сознания
Теория времени Канта, как и вся его философия,
рассматривалась и рассматривается ныне в свете самых различных подходов к
интерпретации проблемы времени.
Немалое место в кантоведении занимает оценка кантовского
понимания времени с точки зрения теорий и методов
естественных наук, в которых, как известно, существуют физические,
биологические, информационные и иные концепции времени. Не
менее распространенной сегодня и весьма интересной линией
анализа теории времени «Критики чистого разума» является
выявление ее значения для современных наук о человеке, наук об
обществе и культуре, в которых наблюдается — вместе с
углублением интереса к проблеме времени — тенденция актуализации
кантовской мысли.
Казалось бы, совершенно ясно, что всякие оценки, так сказать,
прикладного значения кантовской теории для различных
областей человеческого знания производны от понимания ее сущности
и специфики как особого философского учения. Но несмотря на
то, что работ о Канте написано великое множество, сущность и
специфика кантовского учения все же требуют более
основательного исследования.
* * *
В кантоведческой литературе авторы не всегда достаточно
внимательно относятся к существенным теоретическим и
методологическим исследовательским ограничениям, особым
установкам анализа, предуведомлениям, с которых Кант начинает
«Критику чистого разума», в частности «трансцендентальную эстети-
Значение теории времени Канта
207
ку». А они очень важны для понимания специфического
проблемного замысла всей работы и, соответственно,
предпринимаемого в ней анализа времени.
Кант, как известно, прежде всего вводит понятие
чувственности и понятие созерцания, причем не всегда принимается во
внимание, насколько стремительно и насколько жестко Кант
осуществляет своего рода «трансцендентальную редукцию» по
отношению к многообразным естественнонаучным, философским
теориям, проблемами которых он заведомо решил не заниматься,
и методам анализа, которыми уже решил не пользоваться. У
Канта своя проблемная «точка отсчета», которую он отчасти
нащупывал в более ранних работах и кратко обосновывал в текстах
«Критики чистого разума», предшествующих
трансцендентальной эстетике, — Предисловиях к первому и второму изданиям, во
Введении.
Специфичен и характер самой исследовательской работы
Канта. Исследование в трансцендентальной эстетике как бы
строится по типу математической задачи, в которой даны
некоторые исходные условия и требуется нечто доказать, причем
заранее известно, что надо доказать, и заведомо предполагается, что
доказательство возможно.
Что же «дано» в кантовской «задаче»?
В общем и целом дана... «данность» предметов человеческому
сознанию. Иными словами, постулировано то, что в
предшествующей философии уже сделалось своего рода аксиомой: «нам
дается предмет», или «предмет некоторым образом воздействует
на нашу душу (das Gemüt affiziert)» г.
Отметим, что употребление слов «das Gemüt» и «affizieren»
весьма важно. «Das Gemüt» имеет сразу несколько значений:
сердце, нрав, характер, и лишь как бы в последнюю очередь — душа.
Не случайно, думается, не используется слово «die Seele» —
«душа» в первом, основном значении. Ибо Канту важно просто
оттолкнуться от того факта, что предметы (остающиеся
неопределенными) воздействуют на совокупно, широко, без более
конкретных определений (но в то же время вполне реалистически,
без религиозного оттенка) взятую духовную жизнедеятельность
(das Gemüt) и что они вследствие этого «даются» нам.
Немаловажно и слово «affizieren»: оно означает воздействие в смысле
возбуждения, пробуждения ответной реакции. Кант хочет, стало
1 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в шести томах.
М., 1964. С. 127. Т. 3. (Далее ссылки в тексте).
208
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
быть, подчеркнуть «взаимность» процесса: предмет действует,
аффицирует (affiziert); чувственность отвечает, она
аффилирована (affiziert werden). Но и не больше: другие возможные аспекты
удалены из непосредственного рассмотрения (выражаясь словами
Гуссерля, «вынесены за скобки»).
С этими основными моментами редуцирования связано и
определение чувственности, первая цель которого — «отсечь» все
то, что для Канта как исследователя в «Критике чистого разума»
несущественно, а вторая — высветить аспект, которым он далее
только и будет заниматься. «Чувственностью» Кант называет
одну из особых функций познавательной деятельности человека,
определяемую следующим образом: «Эта способность
(восприимчивость) получать представления тем способом, каким
предметы воздействуют на нас, называется чувственностью» (Там же).
(При критике этой кантовской позиции за созерцательность
следует учитывать, что определение чувственности и ее совокупное
понимание у Канта не тождественны. Определение только
фиксирует аспект, который в эстетике интересует
Канта-исследователя и выделяется из многосторонней чувственной
деятельности. Понимание же Кантом чувственности никак нельзя сводить
ни к данному определению, ни к трансцендентальной эстетике,
ибо суть познания — и на уровне чувственности — Кант видит в
единстве чувственности и рассудка.) Кант дает пояснения, смысл
которых, по нашему мнению, состоит в том, что характеризуется
совокупностью предварительных условий, принимаемых в
«Критике чистого разума» еще до того, как будет ставиться и решаться
теоретическая исследовательская задача в собственном смысле
слова.
1. Предполагается наличие двух «полюсов», обеспечивающих
данность «нам» предметов: существование и воздействие самих
предметов, но воздействие на что? На «способность человека»
принимать это непосредственное воздействие (способность
восприимчивости, или чувственность).
2. Результатом непосредственного «сопряжения» двух полюсов
являются:
а) процесс ощущения (причем надо иметь в виду, что Кант
называет ощущением только «действие предмета на способность
представления», которое аффицирует, пробуждает и возбуждает
эту способность; другие аспекты во внимание не принимаются);
б) «данность» предмета — результат, к которому ощущение
причастно, но не в качестве основного, формирующего элемента.
3. Самый главный, как мы полагаем, здесь для Канта момент —
сформулировать эти общие определения-постулаты, ввести тему
Значение теории времени Канта
209
созерцания и столь же быстро перейти от эмпирического
созерцания к чистому.
Недаром же как раз с введением темы созерцания (и с
фиксирования тех черт процесса, наличие которых в предшествующей
философии никем не оспаривалось) начинается
трансцендентальная эстетика. «Каким бы образом и при помощи каких бы
средств ни относилось познание к предметам, во всяком случае
созерцание есть именно тот способ, каким познание
непосредственно относится к ним и к которому как к средству стремится
всякое мышление». Содержание понятия «созерцание» в его кан-
товской трактовке ясно в свете ранее сказанного. «Созерцание»
для Канта и есть другое название «непосредственного»
отношения познания к предмету, имеющего результатом данность
предмета: «созерцание имеет место, только если нам дается
предмет...» (Там же).
Способность чувственности в свете кантовских допущений
может быть определена также и как способность «доставлять
созерцание». Наличие ощущения (в результате непосредственного
воздействия предмета на «нас») означает, что имеется, опять-таки
согласно установкам и терминологии Канта, «эмпирическое
созерцание». Через эмпирическое созерцание дается какой-либо
предмет. Весьма существенно, что этот и лишь этот момент
схватывается понятием «явление». Нередко упускают из виду, что у
Канта термин «явление» имеет особый — «предметный» —
смысл: «Неопределенный предмет эмпирического созерцания
называется явлением» (Там же. С. 127). Стало быть, вводя понятие
«явление», Кант хотел зафиксировать не более чем факт данности
предмета — через процесс ощущения, причем данности, которая
первоначально лишена определенности. Такой момент, или срез,
всегда реально есть в процессе ощущения. (Но немало
недоразумений впоследствии возникло из-за того, что понятию, категории
«явление», увязываемому с категорией «сущность», придают в
философии более широкий проблемный смысл, ожидая
встретить такое же словоупотребление у Канта.)
Еще один постулат концепции: явления, т. е. предметы,
которые «даются нам» через ощущения, а) многообразны, но б) как-то
упорядочены. Первый (а) и второй (б) факты получают свое
обозначение: «То в явлении, что соответствует ощущениям, я
называю его материей, а то, благодаря чему многообразное в явлении
(das Mannigfaltige der Erscheinung) может быть упорядочено
определенным образом, я называю формой явления» (Там же.
С. 128).
210
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Хотя начальные определения трансцендентальной эстетики
более чем известны и о них всегда писали исследователи
«Критики чистого разума», думается, до сих пор остались
невыясненными цель и, так сказать, тип таких определений. Когда критики
Канта вели содержательные проблемные споры, нередко выпадал
из поля зрения вот какой момент: названные аспекты проблемы
чувственности вводятся и перечисляются Кантом с
парадоксальной как будто бы целью — для того чтобы, написав о них не более
чем пару страниц, в дальнейших рассуждениях
трансцендентальной эстетики от них отвлечься и отвлечься сразу после того,
как только будет получено определение «чистого созерцания» и
вместе с ним утвержден особый срез анализа.
И еще следует подчеркнуть: отвлечение, редуцирование
перечисленных определений-постулатов не означает, что их вообще
можно было бы не вводить. Ибо из них и одновременно при
дальнейшем отвлечении от них, в переходе к другому уровню
рассмотрения «добываются» основная тема, проблемное поле,
методы анализа в трансцендентальной эстетике. Причем для Канта
существенно взять перечисленные моменты в достаточно строгой
связи и последовательности. Кант сам в конце § 1 суммарно
описывает проделанный им путь постулирования и редуцирования,
или, что то же самое, обретения особой исследовательской «точки
отсчета»: «Итак, в трансцендентальной эстетике мы прежде всего
изолируем чувственность, отвлекая все, что мыслит при этом
рассудок посредством своих понятий, так чтобы не осталось ничего,
кроме эмпирического созерцания. Затем мы отделим еще от этого
созерцания все, что принадлежит ощущению, так чтобы осталось
только чистое созерцание и одна лишь форма явления,
единственное, что может быть дано чувственностью a priori. При этом
исследовании обнаружится, что существуют две чистые формы
чистого созерцания как принципы априорного знания, а именно
пространство и время...» (Там же. С. 129).
Нельзя забывать, что Кант (больше, чем кто-либо в истории
философии до него) был убежден в реальной связи,
взаимодействии «чувственности» и рассудка. Раскрытием механизмов этой
связи по существу и является «Критика чистого разума». Однако
он полагал, что для целей исследования плодотворно
осуществить своего рода ступенчатое «изолирование»: чувственность
обособляется, берется как бы в себе и для себя, точнее говоря, особо
исследуется только аспект непосредственной «данности»
предметов сознанию, изучаются ее механизмы; от редуцированной, уже
«очищенной» чувственности затем «отнимается» то, что
обусловлено ощущениями, — многообразие явлений (читай: конкретное
Значение теории времени Канта
211
многообразие «даваемых» нам чувственностью предметов). То,
что, как полагает Кант, должно остаться в результате
ступенчатого редуцирования, предпринимаемого в исследовательских
целях, именуется «чистым созерцанием», конкретнее — остаются
«чистые формы созерцания». В их роли выступают пространство
и время.
Итак, при формировании исследовательской задачи Кант
аксиоматически исходит из того, что «нам», нашему сознанию
всегда даны предметы; соответственно (далее не уточняемыми)
данностями становятся следующие моменты: существование
предметов, их воздействие на наше сознание, наша восприимчивость
(чувственность), существование предметов в виде явлений — «яв-
ленность предметов»; также «дано» созерцание как способ
непосредственной «явленности» предметов сознанию. А что
«требуется доказать»? То, что данность предметов, или созерцание,
возможна благодаря двум чистым, всеобщим априорным формам —
пространству и времени. Можно сказать и иначе: Кант хочет
доказать, что пространство и время — не что иное как формы
чистого созерцания2. И при их характеристике имеет место
постулирование тех или иных положений. Однако главный
исследовательский материал трансцендентальной эстетики связан с
упомянутым доказательством.
* * *
Прежде всего надо внимательнее, точнее определить, какие
подходы, способы анализа, определения времени (здесь — и
пространства) Кант исключает, считая их неприемлемыми.
«Время не есть нечто такое, что существовало бы само по себе
или было бы присуще вещам как объективное определение и,
стало быть, оставалось бы, если отвлечься от всех объективных
условий созерцания вещей»3.
Отметим: Кант выступает против превращения пространства и
времени в некие «действительные сущности» (Там же. С. 130),
обладающие «самостоятельной реальностью» (Там же. С. 151),
превращаемые в некие «субстанции». Он против «абсолютизма» в
понимании времени и пространства. Кантовская критика на-
2 Или априорные формы чувственности. Все сказанное Кантом во
«Введении» об a priori было, по замыслу автора «Критики», заготовлено
«впрок» для понимания «чистых» форм, в том числе форм
чувственности.
3 Кант И. Критика чистого разума. С. 137.
212
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
правлена сразу в два адреса: сначала против тех, кто
«действительность» времени понимает так, будто оно само является
объектом среди объектов (Там же. С. 140), имеет некое обособленное,
самостоятельное по отношению к отдельным вещам, но
«вещественное» же существование, «отдельно» от вещей и наблюдаемое.
Кант отвергает и противоположные — идеалистические, в
частности теологические, толкования, в свете которых время
толкуется как «действительная», самостоятельная сущность «внепред-
метного» характера: тогда считается, что «время могло быть
действительным даже без действительного предмета» (Там же. С. 137;
С. 152). Эти положения (вместе с рассыпанными в других частях
«Критики чистого разума» конкретизациями, пояснениями,
иллюстрациями) теоретически плодотворны, ибо способствуют
выявлению специфики пространства и времени, которые
отличаются от вещественных индивидуализированно-обособленных
материальных «данностей». При рассмотрении времени Кант с самого
начала выступает против того, чтобы отрывать время от
«действительного предмета», от мира вещей. Но он и категорически
против того, чтобы считать время вещью среди вещей. Время
(соответственно и пространство), стало быть, не тождественно у
Канта ни вещи, ни материи, ни субстанции вообще. (Заметим, что
также обстояло дело и в диалектическом материализме.)
Кант, как мы видели, сразу же высказывается и против того,
чтобы считать время, а соответственно и пространство
«объективными определениями» вещей (которые «сами по себе были бы
присущи вещам, если бы даже вещи и не созерцались». — Там же.
С. 130). В пользу этого своего утверждения Кант приводит такие
основные доводы. Человек всегда, неизменно имеет дело только с
«явленным предметом» — другого способа познавательного
приобщения к миру вещей нет; и во всех случаях (например, в
естествознании), когда говорят о телах самих по себе, все равно
опираются только на их «явленность», имеют дело с человеческим
способом их восприятия (Там же. С. 144). Значит, по Канту, никогда и
никуда нельзя уйти от «явленности» предмета, или, что то же
самое, нетождественности предмета нашего сознания
соответствующему предмету вне нашего сознания. О последнем
достоверно можно сказать только то, что он является независимым,
самостоятельным предметом, служащим источником аффицирования
чувственности. «Каковы предметы сами по себе и обособленно от
нашей чувственности, нам совершенно неизвестно» (Там же).
Этот кантовский довод, имеющий более общий смысл, казалось
бы, должен был распространяться на пространство и время. Если
бы Кант его строго придерживался, он должен был бы сказать: о
Значение теории времени Канта
213
предметах, «вещах самих по себе», независимо от нашей
восприимчивости мы ничего не знаем, следовательно, мы не знаем,
присущи ли им объективно-пространственные и временные
характеристики. Но философ категорически утверждает: пространство и
время не суть «определения вещей», которые имелись бы и тогда,
когда нет субъекта, нет созерцания; сами по себе, вне субъекта
они «есть ничто» (Там же. С. 139). У Канта нет «теоретического»
права, в соответствии с его собственными постулатами, именно на
такие высказывания (за что «Критика чистого разума»
справедливо подвергалась критике не только с позиций философского
материализма и с позиций естествознания, но и с позиций
идеализма, объясняющего само признание «вещей самих по себе»
непоследовательностью Канта). Однако остается в силе и имеет
фактическую достоверность положение Канта о том, что любой
человек (включая естествоиспытателя) приобщается к предметному
миру не иначе как через посредство «явленности» предметов
(«нет другого пути», отмечает Кант), и, следовательно,
пространство и время, о которых человек высказывается, также всегда,
неизбежно опосредованы фактом «явленности». Этот исходный
исследовательский тезис сохраняет силу и при условии, что будет
отброшено, по крайней мере как недоказанное, необоснованное,
утверждение об отсутствии у вещей самих по себе «объективных
определений» пространства и времени.
Отстаивание дйалектико-материалистического тезиса о
пространстве и времени как объективных формах бытия материи и
аналогичное по установке их исследование естествознанием не
могут быть теоретически и практически плодотворными, если не
учитывается, что говорит об этих формах и исследует их человек,
которому предметы, в самом деле, первоначально «даются» не
иначе, чем через чувственность, через созерцание. (Несколько
ниже мы обратимся к оценке новаторства и актуальности этой
стороны учения Канта.)
Другая линия кантовского критического рассуждения (в
трансцендентальной эстетике) о пространстве и времени связана
с установлением их именно чувственной, а не
понятийно-дискурсивной природы. И если первая линия в большей мере является
«редуцирующей» (она в иных словах, аргументах продолжает
обоснование избранной Кантом исследовательской установки,
концентрирующейся на изучении способов данности «явленной»
предметности), то вторая имеет более прямое отношение к
«позитивному» выявлению Кантом специфических особенностей
пространства и времени.
214
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
* * *
Решение вопроса о природе, специфике времени (как и о
природе пространства) в трансцендентальной эстетике строится
вокруг любопытного противоречия, своего рода парадокса или
загадки. С одной стороны, Кант исходит из того, что данность
предметов сознанию сама по себе еще не содержит, не
гарантирует данности пространства и времени. По Канту, когда мы
созерцаем отдельные предметы (а также сколь угодно обширные
группы предметов), мы тем самым и тут же — вместе с опытом — еще
не «обретаем» такого представления о пространстве и времени,
которое носило бы всеобщий и необходимый характер, было бы
аподиктическим. А именно оно (что также не всегда принимается
во внимание) интересует Канта, ибо Кант вовсе не отрицает, что
какие-то представления о пространстве и времени «приходят»
вместе с вещами, (говоря гуссерлевскими словами, они составляют
«горизонт» непосредственного восприятия отдельных вещей).
Однако в них не может быть гарантии всеобщности,
необходимости; отдельные акты восприятия не дают им, следовательно, силы
«критериев», «форм», организующих опыт. Но, с другой стороны,
констатирует Кант, мы всегда со строгой необходимостью
воспринимаем предметы как данные в пространстве и времени.
«Когда мы имеем дело с явлениями вообще, мы не можем устранить
само время...» (Там же. С. 135). Когда предмет является, дается, он
как бы заведомо дан как «внешний» (пространственный) предмет
и как предмет, встраиваемый в какую-то последовательность (Там
же. С. 149). Отсюда Кант делает вывод, что наше сознание
«изначально», «заведомо», т. е. до всякого опыта, априорно должно
располагать и фактически располагает своеобразными
всеобщими критериями, позволяющими устанавливать положение
предметов, перемену ими места и констатировать отношения
последовательности, одновременности.
В исследовательскую программу Канта, исключившую
реальные генетические аспекты (биологические, психологические,
социальные), не входит выяснение происхождения таких форм-
критериев в развитии индивида и человечества. Мыслителя
интересуют только механизмы их действия и их природа. Механизм,
согласно Канту, таков: всеобщие формы-критерии (каким-то не
определяемым в «Критике...» образом) укоренились в сознании
человека; в логическом (и не только логическом) смысле они
предваряют любой акт и любую фазу непосредственного
эмпирического созерцания. Или, говоря словами Канта, пространство
и время — априорные условия явлений (т. е. данности
предметов). «Редуцируя» психологические», конкретно-генетические
Значение теории времени Канта
215
(например, социогенетический) аспекты исследования, Кант все
же вынужден заявить, что время как чистое представление
(соответственно и пространство) может существовать «раньше всякого
акта мышления» (Там же. С. 149). В контексте
трансцендентальной эстетики «раньше» имеет скорее логический смысл и
означает: нет эмпирического созерцания временных аспектов событий,
нет дискурсивно-понятийных рассуждений о времени без
«чистого представления» времени как такового. Кант считает уже
доказанным, что время (как критерий, фундамент опыта) не есть
эмпирическое созерцание, что оно не есть некий усредненный
вывод из отдельных актов созерцания тех или иных предметов.
Что есть время? Какова, согласно Канту, его природа?
В трансцендентальной эстетике Кант стремится доказать, что
время в качестве фундамента, критерия формы данности
предметов есть все-таки созерцание, представление, хотя и особое.
Почему время, по Канту, является созерцанием, точнее,
«чистой формой чувственного созерцания»?
Как мы уже упоминали, ответ на этот вопрос — главное, что
«требуется доказать» в кантовской философской задаче
(аналогично обстоит дело с учением о пространстве). Основной
аргумент в пользу «созерцательной природы» данной формы: время
(как и пространство) — одно. «Различные времена суть лишь
части одного и того же времени» (Там же. С. 136). Аналогично и с
пространством (Там же. С. 131). Поэтому охватить, представить
время как таковое — значит, по существу, подняться над
«частями» времени. И в самом деле, достаточно нам начать наблюдать
или воображать время в каком-то моменте, в какой-то «точке», как
сразу, неизбежно приходится предположить некую единую
«линию времени» (то же — в случае пространства). Отсюда и другое
их свойство: каждое локализованное, условно ограниченное
временное (и пространственное) отношение неизбежно должно
находить «продолжение», уже не знающее ограничений. «Поэтому,
— делает вывод Кант, — первоначальное представление о
времени должно быть дано как неограниченное» (Там же. С. 136).
Благодаря доводам о том, что время (пространство) одно и что
оно бесконечно, считаются доказанными: 1) чувственная природа
времени как критерия, формы всех и всяческих актов
эмпирического созерцания предметов — почему время и понимается
Кантом как форма чувственного созерцания; 2) неэмпирическая (вне-
опытная) природа этого «чувственного созерцания» — почем}'
время определяется как «чистая форма чувственного
созерцания». В кантовском доказательстве есть еще и «средние звенья»
рассуждения. Так, первое считается доказанным на основе еле-
216
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
дующего (принимаемого уже без доказательства) постулата: «Но
представление, которое может быть дано благодаря одному-един-
ственному предмету, есть созерцание» 4. Иными словами,
целостный охват «предмета», который имеет различные части,
«ответвления», но по сути своей неразделим, есть один-единственный
«предмет», — под силу только созерцанию. Что касается второго
пункта, тот тут опосредующим звеном является следующее
соображение: столь необозримый, бесконечный по природе
«предмет», целостность в буквальном, эмпирическом смысле созерцать
нельзя — его можно охватить только некоторым особым,
«чистым» созерцанием.
У читателя может возникнуть вполне обоснованное
недоумение: ведь Кант опровергал концепции, превращающие
пространство и время в некие «действительные сущности», в вещи среди
вещей. Но не получается ли, что формы далее все-таки сводятся к
«предметам»? Ответом на вопрос может служить специфическая
структура трансцендентальной эстетики — выяснение сложной
корреляции между эмпирическим созерцанием отдельных
предметов, предметных единств и чистым созерцанием, т. е.
пространством и временем. Это совпадает с различением пространства и
времени (тогда как до сих пор выявлялись такие особенности
времени, которые роднят его с пространством).
Специфика времени (теперь по сравнению с пространством) у
Канта, как известно, определяется благодаря тому, что
пространство соотнесено с «внешним», а время — с «внутренним»
чувством. Любопытно, как Кант определяет функции «внешнего»
чувства: с его помощью «мы представляем себе предметы как
находящиеся «вне нас», и притом всегда в пространстве. В нем
определены или определимы их внешний вид, величина и отношение
друг к другу»5. Получается, что «внешнее» чувство «отвечает» за
очень важные и достаточно разные стороны «данности»
предметов, причем свою ответственную роль оно выполняет весьма
эффективно: предметы «даются» и как находящиеся вне нас,
занимающие положение в пространстве, имеющие обличье, величину;
более того, они даются и в отношении друг с другом.
4 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. [S. 1.], 1877, S. 59. Русский перевод: «Но
представление, которое может быть дано лишь одним предметом,
есть созерцание» (Кант И. Критика чистого разума. С. 136) —
представляется целесообразным исправить: здесь очень важно, что время —
«единственный» предмет и что представление дается не
«предметом», а благодаря ему, через его посредство (в оригинале: «durch»).
5 Кант И. Критика чистого разума. С. 129.
Значение теории времени Канта
217
Немало, особенно для чувства, которому как будто бы
отказано в способности проникать в суть предметов самих по себе!
«Внутреннее» чувство Кант сначала определяет как
созерцание «душою» самой себя или как «созерцание» нами наших
внутренних состояний. И он, видимо, понимает, что тут требуется
разъяснение. «Вне нас мы не можем созерцать время, точно так же
как мы не можем созерцать пространство внутри нас» (Там же.
С. 130). Итак, два типа чистых созерцаний различаются
соответственно тому, к каким явлениям, т. е. к каким предметностям, они
относятся как организующая их форма. Пространство как
«чистая» форма «работает» только тогда, когда имеет место
эмпирическое созерцание предметов вне нас, внешних тел. Время же
прямо, непосредственно организует «внутренние явления», или
«внутренние состояния» души, а через них — косвенно — и
внешние явления. Поэтому, согласно Канту, форма времени
более универсальна для мира явлений, чем форма пространства.
Далее Кант еще более конкретно определяет, что такое время
как «чистое созерцание». Это своеобразное чувственное и
интеллектуальное «чистое схватывание» отношений
последовательности и одновременности в наших представлениях, причем
созерцание их как «одного-единственного» (небеспредметного, но не
отдельного вещественного) бесконечного образования. Только на
этой основе, считает Кант, возможно «приложить» форму
времени к явлениям внешних предметов. Следовательно, определение
временных отношений вещей зависит от предварительной
«временной ориентации» во внутреннем мире («душевной жизни»
человека). (С другой стороны, из дальнейших текстов
«Критики...» выясняется, что осмысление пространственных связей
может иметь фундирующее значение для установления временных
отношений.)
* * *
Теперь, после суммарной реконструкции и интерпретации
теории времени Канта, попытаемся кратко осветить вопросы о
степени ее оригинальности, историческом и актуальном
значении, «релевантных» сферах применения.
В целостности, систематичности, многоаспектности анализа
времени уже состоит новаторский вклад Канта. Увы, довольно
часто из целостной теории интерпретаторы берут только
отдельные положения. Например, приводятся определения Канта,
имеющие наиболее крайний «субъективистский» оттенок. Затем
утверждается, что подобный оттенок и раньше имел место в суж-
218
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
дениях философов о времени (ср. Гоббс, Юм). Ergo: учение Канта
о времени, определяемое как «субъективное» и субъективистское,
не содержит в себе ничего нового.
Во-первых, требует уточнения характеристика подхода Канта
как «субъективного». Во-вторых, что тесно связано с первым,
требуется учитывать весь контекст и все связи, оттенки кантовской
теории времени, по сравнению с которой рассуждения
предшественников носят скорее фрагментарный характер.
По нашему мнению, определение кантовского учения как
только «субъективного» по своей проблематике, материалу и
методам исследования требует уточнения. (И недостаточно
добавления, что в субъективном Кант открывает объективные формы.)
Когда Кант (в эстетике) исследует изначальные способы и формы
данности предметов «нам», нашему сознанию, нашей
чувственности, то он совершенно правильно, на мой взгляд, подчеркивает:
формы данности зависят и от предметов, их самостоятельного
существования, их действия на «нас», и от специфики «нашей»
восприимчивости. Результат — пересечение того или другого, из
которого нельзя «вычесть» ни первую, ни вторую сторону.
Поскольку в последнее время все больше подчеркивается
«субъективное» как определяющее в проблематике и решениях Канта,
считаем необходимым особо обратить внимание на то, как силен
в «Критике чистого разума» первый — «объективный» — момент.
Причем речь идет о «невычитаемости» вещно-предметного мира
из анализа времени, о зависимости специфики времени от того,
что на человека воздействует мир самостоятельных по
отношению к нему вещей. Мы мало что поймем в кантовском
исследовании, если не увидим, что Кант последовательно высвечивает то
одну, то другую сторону дела и неизменно подчеркивает их
неразрывность.
Новаторство теории времени Канта состояло именно в том,
что ею был утвержден своеобразный «принцип
дополнительности» мира вещей по отношению к сознанию субъекта и сознания
субъекта по отношению к познанию являющегося ему мира
вещей. В трансцендентальной эстетике это был, в частности,
«принцип дополнительности» («невычитаемости») чувственности
и ее форм по отношению к любым актуальным процессам
опытно-практического, теоретического освоения времени. Вряд ли
можно доказать, что подобный принцип, сегодня более ясный и
достоверный, был освоен тогдашним естествознанием. В этом
аспекте кантовское учение о времени было скорее не обобщением
достижений естествознания, а их подлинно новаторским
предвосхищением.
Значение теории времени Канта
219
Серьезные расхождения современного естествознания с кан-
товской позицией по вопросу о том, можно ли говорить о
выражении (и в какой мере) естественнонаучной теорией
пространства и времени пространственно-временных свойств «самих вещей»
на основе познания субъекта и все же «безотносительно» к
субъекту, — эти расхождения еще не умаляют значения кантовской
теории времени для естествознания, в том числе и современного.
Не можем согласиться с теми истолкователями теории времени
Канта, которые замечают только то, в чем естествознание с
Кантом не согласно, и не принимают в расчет, какие тенденции кан-
товского анализа оно реально поддерживало (хотя данные
тенденции нередко развивались естествоиспытателями не вследствие
прямого влияния учения Канта, а в силу внутренней логики
исследования проблемы времени). Думается, что успех теории
относительности в немалой степени связан с теми элементами
кантовской теории, благодаря которым (на языке физики и
математики) принимаются в расчет и место субъекта в пространстве-
времени, и в какой-то мере роль особых форм чувственного
созерцания на пути освоения временных форм «самого мира».
Однако еще остается открытым вопрос, насколько сознательно и
глубоко сегодняшнее естествознание вняло совершенно верному
методологическому требованию «трансцендентальной эстетики»
Канта: при формулировании любых положений относительно
времени «самих вещей» надо непременно вносить
соответствующие коэффициенты поправки на «преломляющее» воздействие
(на наблюдение, измерение, понимание-времени) всеобщих
чувственных форм освоения времени (еще лучше использовать
преимущества человеческой чувственности и ее форм).
Из сказанного выше следует, что кантовская «эстетика»
«релевантна» отнюдь не всему возможному содержанию философских
и естественнонаучных рассуждений о времени, но достаточно
специфической исследовательской проблеме: изучению
соотношения между способами чувственной данности вещей и
общечеловеческими, исторически наличными способами их
«обработки», оформления как «временных» данностей.
Кантовское учение о времени как «чистой» форме
чувственного созерцания представляется «релевантным», весьма значимым
при объяснении природы начальных (скажем, древнегреческих)
историко-философских учений, конкретнее, идей древних
философов о пространстве и времени.
Созерцательное — и именно «чистое» (теоретическое, а не
конкретно-эмпирическое) — схватывание пространства и
времени, видимо, не случайно оказалось исторически первым в разви-
220
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
тии философско-научных представлений о времени.
Пространство и время древнегреческой философии и науки, в значительной
мере замкнутое именно на формы «чистого созерцания», является
первым (уже «рефлективным») объективированием значимости
«чистой чувственности» для человеческой культуры.
Можно выдвинуть более общее соображение: в философии
также есть немало разделов, тем, проблем, где кантовское
исследование времени как чистой формы созерцания обнаруживает
свою глубину и плодотворность. Вместе с тем сказывается
неполнота кантовского исследования, необходимые ограничения
которого не дополнены другими исследовательскими программами, а
без них философское изучение проблемы времени остается
незавершенным. Так, можно понять и принять
логико-гносеологический «срез» исследования времени в «Критике чистого разума» и
особый подход «Критики практического разума». Но оба
произведения, как было сказано, оставляют в стороне реальные
генетические аспекты, в частности социально-историческое, социально-
философское, психологическое исследование генезиса
общечеловеческих форм освоения «объективного времени». А это не
только отрицательно сказывается на аргументации, терминологии
Канта, но и делает его концепцию существенно неполной в свете
современных требований, обусловивших особую актуальность
«редуцированных» философом аспектов. Здесь перед нами
открывается необозримое поле новых, современных проблем,
которых, естественно, не видел и еще не мог видеть Кант. Однако
можно показать, что теория времени Канта заключает в себе и
возможность «выхода» в социально-философское исследование
времени, так как она содержит в себе и методологические выходы
в другие области «генетического» исследования.
Гуссерль и Кант.
Проблема
«трансцендентальной философии»
1. Изменение отношения к философии Канта в
ходе эволюции феноменологии
В начале мая 1924 г. Фрайбургский университет отметил
торжественным юбилейным заседанием 200-летие со дня рождения
Канта. Главным событием дня был доклад, сделанный
профессором университета Эдмундом Гуссерлем, который в те годы уже
получил в философских кругах всемирное признание в качестве
основателя феноменологического направления и руководителя
феноменологической школы.
Канта Гуссерль в тот период считал величайшим,
гениальнейшим философом, действительно, осуществившим «коперни-
канский переворот» в истории философской мысли, но вместе с
тем родоначальник феноменологии менее всего был склонен
строить свой доклад в привычной манере восторженных
юбилейных славословий.
«Время, когда вспоминают о великом научном гении, —
говорил Гуссерль, — для ныне живущего поколения ученых,
связанных с ним единством исторической традиции, является
побуждением к ответственному самоосмыслению. Наиболее достойная
тема для научного юбилея, таким образом, предопределена
самим его смыслом. Вот и юбилей Канта побуждает нас поставить
вопрос: в чем должны мы сегодня, через полтора столетия
развития всей нашей философии во всех ее направлениях, усматривать
формирующее воздействие Канта? Состоит ли оно в вечной
значимости его монументальной критики разума, т. е. в том факторе,
222
H. В. Мотюшилова «Работы разных лет»
дальнейшее чистое оформление которого вверено нам и всему
будущему?» г.
Таким образом, юбилейные торжества Гуссерль расценивал
как повод для серьезного и ответственного разговора,
преследующего по крайней мере две цели: во-первых, с глубоким
уважением, но в то же время критически, самостоятельно и
всесторонне оценить роль философии Канта, внутреннее и
непрерывное воздействие его мысли на развитие философии вплоть до
современности и, во-вторых, выяснить, в какой мере и в каких
именно направлениях современной философии наиболее
глубоко осознаются и развиваются нетленные кантовские традиции
«монументальной критики разума».
Доклад не оставил никакого сомнения в том, что Гуссерль
считает свою феноменологию чуть ли не единственным
философским учением, в рамках которого были вычленены, сохранены,
развиты далее самые глубокие и «вечные» идеи Канта и которое в
то же время оказалось способным преодолеть во имя «живого» и
коренного смысла кантовской философии ее «мертвые»,
отжившие, «ненаучные» элементы. Если и существуют, несмотря на все
коренные различия и разногласия, сколько-нибудь прочные
линии единого развития европейской философии от Декарта —
«через» Канта — к современности, то эти «линии» удержаны и
собраны в единый узел феноменологией. Таково было
центральное утверждение доклада Гуссерля. Поэтому наилучшим
масштабом для оценки исторического значения кантовской философии
в те годы была объявлена Гуссерлем именно феноменология,
причем обоснованию феноменологического варианта критики
разума даже в юбилейном докладе, формально посвященном
Канту, было уделено главное внимание. Такой подход в начале
20-х гг. был не вполне обычным на фоне традиций историко-
философского исследования, сложившихся в немецкой
философии: если не доклад, по необходимости краткий, то, во всяком
случае, солидный труд, посвященный крупным философам
прошлого, не мыслили вне систематической формы «объективного»
изложения; как правило, он должен был изобиловать цитатами;
автор просто обязан был блеснуть разносторонней эрудицией,
проявить знание обширнейшей литературы. Гуссерль же в своих
основных работах вполне определенно вводил историко-
философский анализ новой формы: оценку традиционного фи-
1 Husserl Е. Husserliana. Gesammelte Werke. Bd. VII. Den Haag: Martinus
Nijhoff, 1956. S. 239. Далее цитируется как Hua с указанием тома и
страницы.
ГуССЕРЛЬИКАНТ
223
лософского материала он сознательно ставил в зависимость от
предпосылок, принятых «современной», т. е. для него
феноменологической, философией; различные тексты, посвященные Канту
(как, впрочем, и другим крупнейшим мыслителям прошлого),
были почти лишены цитат и чисто эмпирического материала;
изложение, сведенное к минимуму, строго подчинялось
проблемной интерпретации. В то же время исторической форме анализа
придавалось огромное значение, выходящее за рамки
«юбилейного воспоминания» и имеющее принципиальный для
философии характер. В 30-х гг. Гуссерль обратился к подробному
обоснованию ранее практикуемого им принципа, согласно которому
решение современных задач философии должно быть с
необходимостью представлено в виде «исторического воспоминания о
наших философских праотцах», благодаря чему, по его мнению,
формируется наиболее эффективный тип собственно
философского размышления и анализа.
«Философ, живущий в современном человеческом мире, в
пределах современности своей нации, а вместе с ней в рамках
современной Европы, именно в современности обретает
актуальность своего действия; действие это непосредственно включено в
современность. Но поскольку он является философом,
мыслителем, для него «философская современность» объединяет все
философские сосуществования, всю философскую историю, причем
последняя включает и историю философских учений, и историю
философов, которым принадлежит в истории особый тип
философской мотивации. Философ, который в качестве такового
действует в соответствии со своей жизненной задачей, аффилирован
своим окружающим миром и соответствующим образом им
мотивирован, но прежде всего и непременно он мотивирован своим
философским миром, влияющим на него; философ обусловлен
мыслями этого мира, уходящими в самое отдаленное прошлое.
Именно этот мир, который объемлет философию с периода
зарождения и объединяет все философские поколения, есть для
него, философа, живая современность. В этом кругу он обретает
соратников, партнеров: он имеет дело с Аристотелем, Платоном,
Декартом, Кантом и др.» (Hua VI, 489).
Итак, отношение современного философа к Канту должно
быть, утверждает Гуссерль, отношением «к «партнеру» и
«соратнику», чьи идеи максимально приближены к современности, ибо
они связаны с постановкой до сих пор актуальных, временами
приобретающих еще большую актуальность проблем и
одновременно «участвуют» в их сегодняшнем разрешении.
224
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Мы не можем здесь входить в подробное критическое
изучение гуссерлевского метода «осовременивающего воспоминания»;
скажем только, что замысел концептуальной интерпретации
истории философии в целом является правильным и единственно
плодотворным; попытка истолковать мыслительные традиции
прошлого в их «непрерывном движении» к настоящему вполне
оправдана и разумна. Ведь и сегодня, приближаясь к юбилею
Канта, мы вновь поставлены перед необходимостью ответить на
вопрос: в чем состоит воздействие Канта на развитие философии,
как решается коренная проблема — «Кант и современность»? И
для нас при решении этого вопроса критерием и отправным
пунктом является обогащенная современными достижениями
теоретического анализа марксистская философия. Значит, все
дело заключается в том, насколько научной, плодотворной и в
подлинном смысле современной является та философская система,
на основе которой осуществляется новое осмысление
традиционного философского материала. В данном случае (и это общая
задача исследования) предстоит установить, почему
феноменология, несмотря на всю серьезность, основательность, а порой и
глубину гуссерлевского критического анализа философии Канта,
все-таки не может быть признана подлинно научным основанием
для осуществления задуманного Гуссерлем концептуального
«осовременивающего исторического воспоминания».
Для доказательства этой мысли мы хотим прежде всего
обратиться к исторической эволюции феноменологического
рассмотрения философии Канта, чтобы продемонстрировать
амбивалентность и противоречивость достигнутых Гуссерлем
результатов.
Здесь необходимо отметить, что упомянутый выше гуссерлев-
ский доклад 1924 г. (и другие материалы о Канте, относящиеся к
фрайбургским лекциям зимнего семестра 1923/24 гг. и
опубликованные в VII и VTII томах «Husserliana» под общим названием
«Первая философия») отражает ту более позднюю оценку
философии Канта, которая отнюдь не совпадала с первоначальным
отношением к ней родоначальника феноменологии. «Логические
исследования» — первая крупная работа Э. Гуссерля — носят на
себе печать несколько пренебрежительного подхода,
обусловленного определением философии Канта и его неокантианских
последователей как «впавшего в психологизм» антипсихологизма2.
2 См.: Гуссерль Э. Логические исследования. СПб., 1907. Т. 1. С. 80.
«Известно, что теория познания Канта в некоторых отношениях стремится
выйти за пределы психологизма душевных способностей как источника
Гуссерль и Кант
225
Текст «Логических исследований» (особенно первого тома) и
свидетельства самого Гуссерля позволяют заключить, что к началу
столетия — ко времени возникновения первого варианта
феноменологии, — Гуссерль вряд ли глубоко и всесторонне изучал и
осмысливал философию Канта, во всяком случае его внимание
скорее привлекали кантовские определения целей логики (главным
образом в отношении к психологии), т. е моменты, в достаточной
мере второстепенные или производные, если их брать в общем
контексте кантовской философии. После выхода в свет
«Логических исследований» — не столько даже под влиянием рецензий и
откликов, в том числе из неокантианского лагеря (рецензия На-
торпа), сколько из-за понимания противоречивости,
незавершенности, неразработанности феноменологической концепции —
Гуссерль предпринял попытки ее дополнения,
усовершенствования, прояснения. Для периода с 1903 по 1908 гг. наиболее
характерны следующие результаты: формулирование учения о
феноменологической редукции и развитие феноменологического
учения о сознании, а также новое осмысление
историко-философского материала, в особенности философии Юма и Канта. С тех
пор каждая веха в развитии феноменологической концепции
была так или иначе связана с обращением к Канту: от резко
критической оценки кантовской философии Гуссерль последовательно
перешел в начале 20-х гг. к четкому признанию своего духовного
родства с Кантом. Подытоживая эту эволюцию, Гуссерль писал в
предисловии к подготовленному для печати тексту упомянутого
выше доклада: «Пусть круг исследователей-феноменологов
первоначально чувствовал себя резко враждебным методам работы
Канта и послекантовских школ; пусть он — и притом с полным
основанием — отвергал попытки продолжать историческую
линию Канта лишь посредством простого ее ренессанса и
некоторого усовершенствования (что предполагало общность метода);
пусть он — и снова с полным основанием — в противовес всякому
кантианству отстаивал следующий методический принцип:
необусловленное первичное значение для всякой философии имеет
всестороннее ее фундирование благодаря систематическим
описаниям сознания, благодаря универсальному объяснению самой
сущности познающей, а также оценивающей и практически
действующей субъективности во всех ее возможных формах и корре-
познания и действительно выходит за их пределы. Но здесь для нас
важно, что она в других отношениях сильно вдается в психологизм, что,
правда, не исключает живой полемики против иных форм
психологического обоснования познания».
8- 11375
226
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ляциях. Пусть так, и все же мы во всех существенных результатах
нашей работы, систематически восходящей к последним
источникам всякого познания, в главном едины с Кантом; это значит,
что мы воздаем ему честь как великому родоначальнику научной
трансцендентальной философии» (Hua VII, 234—236).
Последние слова имеют принципиальное значение: основную
заслугу Канта Гуссерль уже ко времени написания «Идей к чистой
феноменологии» усматривал в весьма перспективных по самому
замыслу (хотя и не всегда успешных по выполнению) попытках
ввести, узаконить «радикально новую форму философствования»
и соответственно «новый тип философских теорий» (Ibid. S. 239).
Этот новый тип философствования (и новой теории), открытие
которого, по словам Гуссерля, означало «столь часто
обсуждавшийся и столь мало понятый «коперниканский» переворот» (Ibid.
S. 240) в истории философской мысли, которой родоначальник
феноменологии как раз и именует «трансцендентальной
философией», используя, но существенно перетолковывая
соответствующий термин, употребленный в свое время Кантом.
Проблема «трансцендентальной философии» действительно
является исходным пунктом в феноменологическом критическом
истолковании философии Канта. Сказанное относится не только
к Гуссерлю, но и к его ученикам, последователям,
интерпретаторам, включая и новейших авторов, которые исследуют проблемы
феноменологической философии или чаще комментируют
тексты Гуссерля. Вот, к примеру, типичнейшая оценка, взятая из
книги современного американского исследователя
феноменологии Рихарда М. Цанера: «...Кант, без всякого сомнения, является
великим провозвестником (proponent) трансцендентальной
философии, который пытался строжайшим образом определить
условия самой возможности объективного мира в терминах
сознания. Феноменология, бесспорно, также стремится реализовать эту
цель. Ограничившись в своей «Критике чистого разума»
феноменами, Кант подчеркнул фундаментальное значение внутреннего
времени, синтетический характер понимания, необходимость
трансцендентального Ego, важность познания при помощи
чувственного восприятия и другие понятия, которые, как видно,
составляют часть того, что предложила и феноменология.
Антиметафизическая направленность Гуссерля, вне сомнения, очень
напоминает отношение Канта к догматическим метафизическим
спекуляциям» 3
3 Zaner R. M. The Way of Phenomenology. Criticism as a Philosophical
Discipline. N. Y., 1970. P. 97.
Гуссерль и Кант
227
Рихард Цанер правильно перечисляет основные проблемы и
темы, которые в начале 20-х гг., в период нового и особенно
внимательного обращения Гуссерля к текстам Канта, привлекали
особый интерес основателя феноменологии. Общее понимание и
оценка «трансцендентального поворота» в истории философии
формируются в этот период; в какой-то мере вплоть до конца
жизни Гуссерль не изменил основной оценки значения принципа
трансцендентализма, составлявшего, по его мысли, внутреннюю,
«телеологически» укорененную направленность европейской
философии Нового времени, но в наиболее четкой форме
выраженную, сформулированную и отчасти реализованную именно
Кантом. Так, в работе «Кризис европейских наук и
трансцендентальная феноменология» Гуссерль неоднократно подтверждает
эту оценку: «...слово «трансцендентальная философия» со
времени Канта вошло в употребление и стало всеобщим названием для
универсальной философии, понятие которой ориентировано в
кантовском духе».
«Я сам, — продолжает Гуссерль, — употребляю- слово
«трансцендентальный» в самом широком смысле, чтобы обозначить
особый мотив, тенденцию, а именно возврат к последнему
источнику всяких познавательных формообразований (курсив мой. — H. MJ, к
самоосмыслению познающим субъектом самого себя и своей
жизни. Этот последний источник носит название «Я-сам» (Ich selbst)
со всей моей совокупной действительной и возможной
познавательной жизнью, включая мою конкретную жизнь вообще»
(Hua VI, 100—101).
Мы хотели бы обратить внимание читателя на слова Гуссерля,
подчеркнутые нами. Они в сжатой форме отражают понимание
Гуссерлем принципа трансцендентализма, выявляют
принципиальное отличие трансцендентальной философии: основным
предметом и методом «подлинного» философствования
объявляется «возвращение» субъекта к самому себе, точнее, к своему
сознанию, рефлективное самоосмысление своего сознания,
собственной «субъективности». В дальнейшем мы более подробно
рассмотрим, как Гуссерль вводит и аргументирует этот принцип, как
и почему он использует философию Канта; мы попытаемся с
марксистских позиций оценить смысл и результаты
феноменологического трансцендентализма. Сейчас же, в контексте
исторического изложения, подчеркнем, во-первых, общее определение, а
во-вторых, то, что в приведенной выше цитате из книги «Кризис
европейских наук» в самом последнем предложении есть
примечательные слова: «со всей моей совокупной действительной и
возможной познавательной жизнью, включая мою конкретную
228
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
жизнь вообще». Они уже отражают соответственно общей
перестройке феноменологической философии изменение отношения
к Канту и кантовской философии, осуществившееся к началу 30-х
гг. и нашедшее воплощение в «Кризисе» — последней большой
работе Гуссерля.
При всем том, что Гуссерль продолжает усматривать принцип
трансцендентализма в «кардинальном повороте к
субъективности» (к саморефлексии познающего субъекта как основной теме и
основному методу философствования), возникает изменение в
понимании характера этой субъективности, ее связи с миром, с
реальной жизнью. Соответственно меняются и акценты в
понимании и использовании классической философии. В начале 20-х
гг. из всей поистине необозримой совокупности проблем
кантовской философии внимание Гуссерля привлекают главным
образом: принцип трансцендентализма и его обоснование,
разграничение понятий «вещь в себе» и «предмет», подробные
характеристики «предмета» и «предметности», учения о созерцании и
синтезе.
Гуссерль исследует в тот период аналитическую работу Канта,
его аналитику рассудка: введение понятия «предмета» (как
предмета сознания), «ступенчатый», как выражается Гуссерль, анализ
«формирования» предметного единства в сознании. Гуссерля,
таким образом, привлекает в «Критике чистого разума» именно
формальный («сущностный», как он говорит) анализ всеобщих
структур сознания, учение о категориальном синтезе с его
богатейшими расчленениями. Кант, по словам Гуссерля, вводит
«полные значимости различения. Прежде всего он видит, что
имеющие пространственную структуру и форму чувственные данные
(то, что он называет созерцанием) еще не составляют полных
проявлений вещи. То, что именуется «синтезом», не только
обозначается данным словом, но уже расчленяется на ступени (уровни —
nach Stufen), благодаря чему возникает теоретическое начало,
призванное стать зародышем, началом целой науки» (Hua VII,
404).
«Целую науку», по мнению основателя феноменологии, дал,
разумеется, не Кант, а сам Гуссерль — это явствует из всех оценок
отношения кантианства и феноменологии. Но в данном случае
важно то, что в 20-е гг. в центре внимания Гуссерля — выработка
(при интенсивном использовании наиболее пригодных для этой
цели элементов кантовской философии) особого, во многом
непривычного и парадоксального феноменологического метода,
суть которого — интуитивно-целостное описание,
воспроизведение механизмов и результатов синтезирующей деятельности соз-
Гуссерль и Кант
229
нания и их одновременное аналитическое расчленение. Именно
такая «субъективность», согласно мысли Гуссерля, исподволь
«вычленялась» в философии Нового времени в качестве
основного предмета (и метода) философствования: ее обособление,
всемерное «очищение» как раз и означало движение к
«трансцендентализму» и частичную его реализацию.
К 30-м гг. в развитии Гуссерля наступает существенный
перелом, кульминационным пунктом которого считается его работа
«Кризис европейских наук». Кратко говоря, суть поворота и
перелома заключается в том, что прежнее стремление к
«очищению» субъективности (и, стало быть, к радикализации
«трансцендентализма») в известном смысле подвергается
переосмыслению по крайней мере в одном направлении: формализм
«сущностной» аналитики сознания, его интуитивных процедур Гуссерль
начинает рассматривать как философское исследование, в
известной мере важное и полезное, но не выявившее собственных
фундаментальных предпосылок. В этой связи Гуссерль высказывает
немало самокритичных суждений. Одной из своеобразных форм
«самокритики» феноменологии оказывается усиление
критичности по отношению к философии Канта. Данный момент следует
подчеркнуть особо, так как он свойствен не только последним
работам самого Гуссерля, но и весьма характерен для современной
феноменологии: представители последней достаточно сдержанно
оценивают роль кантовской философии в формировании гуссер-
лианства; они склонны подчеркивать самостоятельность и
оригинальность Гуссерля как основателя нового типа
философствования. На первый план сегодня выдвигаются не те философские
идеи (и соответственно оценки самого Гуссерля4), которые
позволяют говорить об известном родстве кантианства и
феноменологии, — акцентируются различия, существенно различные
толкования философских понятий, выражаемых идентичными или
сходными словами5.
4 Иной раз оценки Гуссерля 20-х годов подвергаются сомнению или
пересмотру: «Тенденцию движения Канта к феноменологии довольно трудно
принять. И это верно, несмотря на то что есть много по видимости явных
параллелей между Кантом и Гуссерлем» (Zaner R. M. Op. cit. P. 98).
5 Есть еще одна характерная деталь: современные феноменологи все
чаще высказывают убеждение, что к смыслу трансцендентальной
феноменологии гораздо ближе стоял Юм, чем Кант, и что фактически процесс
изучения и интерпретации кантовской философии в конечном счете
выполнил в интеллектуальном развитии Гуссерля в высшей степени
своеобразную роль, — это был способ «пробиться» к Юму. Некоторые
230
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Итак, в наши дни многие феноменологи весьма скептически
относятся к соображениям Гуссерля первой половины 20-х гг. о
существовании некоторой «телеологически» укорененной
«единой линии» в развитии европейской философии нового времени
— линии трансцендентализма и о том, что именно
феноменология, и только она, продолжила, а точнее, выявила скрытый «telos»,
единую разумную цель и европейской истории, и европейской
мысли.
Из рассмотрения некоторых страниц истории феноменологии,
связанных с изменением оценок и способов интерпретации
философии Канта Гуссерлем и его последователями, можно сделать
два основных вывода. Во-первых, это отношение отражает
колебания, противоречия, амбивалентность, неустойчивость, зыбкость
самих «феноменологических основ», некогда провозглашенных
Гуссерлем масштабом для оценки и понимания столь глубокого и
влиятельного учения, каким была философия Канта. Речь идет о
факте внутренней противоречивости феноменологии как
направления и соответственно ее историко-философских оценок, который
честно и четко признан многими из современных гуссерлиан-
цев6.
Во-вторых, и это особенно важно для рассматриваемой темы,
итог развития Гуссерля («Кризис» и подготовительные работы)
отразил лишь частично осознанный самим основателем
феноменологии кризис трансцендентализма — замысла, принципа и
метода философии, заботливо и последовательно «отключающейся»
от всего, что не является «чистой субъективностью», т. е.
рефлективной деятельностью субъекта, который исследует всеобщие
структуры сознания. Поздняя феноменология в известной мере
есть признание того, что такое «чистое», якобы «беспредпосы-
лочное» феноменологическое «погружение в самого себя», если
бы оно и было возможным, оказалось бы неплодотворным даже с
документы гуссерлевского наследия, факты его духовной эволюции и
оценки в самом деле дают повод для таких толкований.
6 «Хотя со времени смерти Гуссерля прошло немногим более 30 лет, мы
видим, что феноменология превратилась в широко распространенное
движение, нашедшее горячую поддержку во многих странах. Но хотя все
современные феноменологи признают Гуссерля как основателя
движения, лишь очень немногие из них принимают взгляды Гуссерля без
множества видоизменений. Многие из ведущих феноменологов глубоко
осознают исключительную ценность идей Гуссерля; тем не менее они
считают, что взгляды Гуссерля содержали целый ряд неприемлемых
предпосылок» («Phenomenology». The Philosophy of E. Husserl and Its
Interpretations. Ed. by J. J. Kockelmans. N. Y., 1967. P. 221).
Гуссерль и Кант
231
точки зрения поставленной частной цели (анализ структур
сознания), не говоря уже о других важнейших проблемах и темах,
которые невозможно исключить из философии. Гуссерль ввел в
«Кризис» тему так называемого «жизненного мира», постановка
которой еще не означала преодоления идеалистических ограни-
ченностей феноменологии, но позволила ввести те важнейшие
для философии проблемы, которые расширили горизонты
феноменологии и — марксисты не должны забывать об этом —
значительно способствовали ее широкому распространению и
популярности.
То, что критика Канта с позиций учения о «жизненном мире»
объективно есть своеобразный способ самокритики
трансцендентальной феноменологии, можно видеть из следующего критического
рассуждения Гуссерля (в «Кризисе»). Кант, начинает Гуссерль
свое рассуждение, с полным основанием выдвинул принцип
критицизма и самосознания в противовес предшествующей
философии, не «исследовавшей специально познавательные
возможности субъекта, вопросы о возможности математики, естествознания
и философии. Но и сам Кант, осуществляя задуманную им
«Критику разума», «опирался на некоторые предпосылки, которые не
были им исследованы, осознаны и которые в то же время
определяли кантовскую постановку вопросов» (Hua VI, 106).
Каковы же, к примеру, предпосылки, внутренним образом
влиявшие на философию Канта, но так и не исследованные ею?
Это, прежде всего, подчеркивает Гуссерль, «повседневный
окружающий нас жизненный мир в качестве сущего мира (alltägliche
Lebensumwelt als seiende)» — мир, в котором мы все как
сознательные существа живем, философствуем, где мы действуем как
ученые, где на нас оказывают свое влияние такие, например,
факты культуры, как науки или теории и т. п. «В нем, этом мире, мы
являемся объектами среди объектов, говоря в стиле учения о
жизненном мире, т. е. мы существуем здесь или там, располагаем
простыми опытными определенностями, и, прежде всего
научными (будь они физиологическими, психологическими,
социологическими и т. д. постановками вопросов). Но, с другой стороны,
мы являемся субъектами по отношению к этому миру, а именно:
мы осуществляем опыт, сомневаемся, оцениваем,
целенаправленно обращаемся к самим себе как субъектам... и т. п.» (Ibid. S. 107).
Итак, осмыслить предпосылки, оставленные вне рассмотрения
в пределах кантовского трансцендентализма, означает, с точки
зрения Гуссерля, выдвинуть на первый план и попытаться
разрешить проблему субъекта как активно действующего и познающего
человека в связи с окружающим его «жизненным миром», в том числе со-
232
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
циально-исторически обусловленным миром человеческой
культуры. Не вдаваясь в рассмотрение и оценку результатов решения
вопроса о жизненном мире, отметим, что в проблемном
отношении здесь правильно намечена одна линия возможного выхода из
тупиков трансцендентального идеализма. В дальнейшем, в ходе
подробного анализа проблемы трансцендентализма в
философии Гуссерля и Канта, — к нему мы теперь переходим — мы еще
раз обратимся к этой своеобразной гуссерлевской «самокритике».
Оговоримся лишь, что основное внимание мы в дальнейшем
уделим гуссерлевскому истолкованию кантовского
трансцендентализма, сложившемуся к первой половине 20-х гг. и в известной
мере (как об этом говорилось выше) в качестве одного из
принципов воспроизведенного и в «Кризисе».
2. Трансцендентальный идеализм Гуссерля и Канта
Для того чтобы обсуждать проблему «трансцендентальной
философии», необходимо еще раз и более подробно выяснить, в
чем видит Гуссерль существо этой новой философии, т. е. нового
метода, формы, стиля и типа философского мышления. Тогда
будет ясно, почему и в каком смысле Гуссерль, хотя и не без многих
оговорок, называет Канта «великим родоначальником» такой
философии.
Под «трансцендентальной философией» Гуссерль в 20-х гг.
понимает тип философствования, в рамках которого объектами
философского исследования являются не мир, т. е. не природа, не
социальный мир или мир индивидуума в их «естественном»
существовании, реальном использовании и переживании, —
первоисточником (Urquelle) и главным средоточием (Urstätte)
философского анализа становится, как говорит Гуссерль, «до сих пор
совершенно неведомое царство «чистой субъективности» и
бесконечность «трансцендентальных» постановок вопросов» (Hua VII,
243). В таком повороте Гуссерль усматривает шаг колоссальной
важности. Полное понимание тезиса о трансцендентализме
зависит от воспроизведения и марксистской критической оценки того
содержания, которое Гуссерль связывает с понятием «чистой»
субъективности, что, собственно, означает критическое
истолкование некоторых главных проблем и установок феноменологии и
что будет отчасти сделано в данной статье. Для начала
необходимо подчеркнуть следующее важное и исходное обстоятельство:
«трансцендентальная» философия в гуссерлевском толковании
требует прежде всего кардинального и последовательного
перехода к сознанию, субъективности как последней и в этом смысле
единственной почве «подлинного» философского анализа, причем специфика
Гуссерль и Кант
233
«феноменологической» субъективности еще до перехода, а также
в его процессе подлежит самому подробному осмыслению и
определению7. Гуссерль утверждает, что тенденция перехода к
«трансцендентальному» способу рассмотрения в европейской
философии ведет свое происхождение от Декарта, который
«открыл» ego cogito и тем самым обнаружил «первую форму
трансцендентальной субъективности». Благодаря открытию cogito
Декарт утвердил в качестве исходной почвы философского анализа,
его специфического объекта сознание, обращающееся к самому себе, к
исследованию и изучению самого себя. Такова идея Гуссерля,
которую он высказывал много раз в самых различных своих работах.
Некоторое продолжение тенденция трансцендентализма имела, с
точки зрения Гуссерля, в работах Лейбница; особую заслугу в ее
оформлении родоначальник феноменологии приписывает Юму.
«Однако,— пишет Гуссерль,— этим нисколько не умаляется
оригинальность Канта. Он не только вновь открыл и высказал в более
адекватной форме трансцендентальную идею, которая со
времени Декарта то выступала на поверхность, то вновь" исчезала. Кант
снискал себе славу тем, что с беспримерной мыслительной
энергией перешел от идеи к теоретической разработке; благодаря
единству трех его неисчерпаемых главных произведений
возникла сама трансцендентальная философия. Все было осуществлено
Кантом в соответствии с тем, как вообще возникает и приобретает
серьезное значение новая наука, т. е. в форме систематически
рассматриваемой проблематики и систематического единства
позитивно разрабатываемых рациональных теорий» (Hua VII, 241).
Оценивая заслуги Канта как родоначальника
трансцендентализма, Гуссерль рассуждает следующим образом. До Канта,
говорит он, в философии господствовал специфический тип
мыслительной ориентации: главной предпосылкой рассуждения,
выявленной или невыявленной, была уверенность в существовании
внешнего мира, которому придавалось значение исходной почвы и
основного объекта философского анализа. Такой подход, по мысли
Гуссерля, в общем и целом соответствовал интеллектуально-
ценностной ориентации человечества в эпоху Нового времени,
отражал открытое и «доверчивое» отношение индивида к
окружающему миру. «Человечество рассматривало данный опытный
7 Еще раз напомним, что здесь мы излагаем гуссерлевский принцип
трансцендентализма, как он сложился к первой половине 20-х гг.;
основные изменения в его толковании, относящиеся к периоду «Кризиса» и в
общей форме обозначенные в Ч. I, будут по ходу дела отмечаться в
дальнейшем.
234
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
мир именно как данный, а познающего человека — как
включенного в этот мир, именно так, как он и может быть в
действительности обнаружен в качестве части этого данного мира. Затем
ставился вопрос, как осуществляется познание, поскольку оно есть
реальный факт, имеющий место внутри человека, как оно должно
быть оформлено технически, чтобы быть правильным, и т. д.
Познание есть практическая цель — подобно, скажем, сапогу для
сапожника». «Кант, — пишет далее Гуссерль, — придал проблеме
прямо противоположную и совершенно новую направленность:
если для меня мир существует в качестве само собой
разумеющегося и если я нахожу самого себя в качестве телесно-духовного
существа, в качестве вещи среди вещей, то все это существующее
для меня (Für-mich-existierende) и даже прямо обнаруживаемое все
же является мировым познаванием (курсив мой. — H. MJ; все
познавательные процессы (начиная от развертывания простого
восприятия, воспоминания, ожидания, предвосхищения открытого
горизонта, заполняемого опытом, обособления, связывания,
установления отношений и кончая достижениями научного
познания) суть субъективные процессы. Они являются процессами
субъективного полагания (Meinens), субъективного познающего
действия (которые часто рассматриваются как превратные, как
видимость и иллюзия), субъективного «усмотрения»,
доказательства, суждения, научного обоснования» (Ibid. S. 225—226). Когда
человек в своем рассуждении касается предметов, устанавливая
отношения вероятности, кажимости, истинности, то речь
автоматически идет, утверждает Гуссерль, о «предметах, уже
заключенных в самом субъективном (im Subjektiven selbst gesetzte
Gegenstände)». Только потому, что я рассуждаю, говорю о мире,
познаю его, мир и его бытие становятся в данной связи фактом
познания, продолжает Гуссерль, интерпретируя Канта следующим
образом: «Вне меня существующий мир становится
субъективным процессом, происходящим во мне, равно как пространство и
время опытного мира — это то, что я представляю, созерцаю,
осмысливаю. Иными словами, они субъективны» (Ibid. S. 226).
Поворот к субъективности и тем самым к трансцендентальной
постановке проблем Гуссерль подробнее истолковывает как особое,
специфическое действие философа, никоим образом не
нарушающее «естественного» отношения человека к миру, «естественной»
установки обычного человека. Все обычные люди (включая и
философов в их «обычной», «естественной» жизни) в своей реальной
деятельности не только и не просто включены в окружающий
мир, но и своеобразно относятся к этому миру. «Когда мы прежде
всего обращаемся к человеческой жизни и ее естественному ходу,
Гуссерль и Кант
235
связанному с деятельностью сознания, то мы имеем дело с
общественной (vergemeinschaftes) жизнью человеческой личности,
которая включена в бесконечный мир, причем личность то
отдельно от других людей, то вместе с ближними созерцает этот мир,
различным образом представляет его, осмысливает в суждениях,
оценивает, а также целенаправленно преобразует благодаря
актам воли и действия. И вот для этой личности, для всех нас,
людей, мир постоянно и всегда является само собой разумеющимся,
общим для всех нас окружающим миром; он, без всякого
сомнения, наличен (da). Более того, в ходе непосредственного и свободно
расширяющегося опыта он является миром, доступным
непосредственному схватыванию и наблюдению (direkt greifbare und
sichtbare Welt)» (Ibid. S. 243).
Окружающий мир «естественного» человека, как видно из
изложенного выше рассуждения Гуссерля, объединяет не только
предметы и явления природы, не только вещи и живые существа;
он также включает факторы социально-исторического характера:
группы, сообщества и соответствующие институты, произведения
искусства, культурные формы различных видов, иначе говоря,
такой «мир» объемлет все, что в деятельности отдельного
человека и в социальном взаимодействии приобретает смысл и форму, а
затем становится частью «окружающего мира». Мы, люди,
продолжает Гуссерль, являемся субъектами, которые осуществляют
опыт относительно мира, познают его, оценивают и превращают
в объект деятельности; но одновременно мы являемся мировыми
объектами и в качестве таковых объектами нашего
познавательного опыта, оценивания, действия.
«Все это осуществляется и понимается в естественной
установке (in der natürlichen Einstellung); она является формой
осуществления совокупной жизни человечества, протекающей
естественно-практически (курсив мой. — И. М.). Она была — от тысячелетия к
тысячелетию — единственной формой до тех пор, пока не возникла
на основе науки и философии своеобразная склонность к ее
преобразованию» (Ibid. S. 244). Итак, мир на основе естественной
установки стихийно или сознательно принимается в качестве
реальности, универсальной совокупности всех реальностей, к
которым относится и будет относиться весь наш опыт. Не только
«естественно-практическая» жизнь людей, но и их
естественнонаучное познание зиждется на «естественной», «натуральной»
установке, т. е. опирается на непосредственную уверенность в
существовании окружающего мира, на возможность наблюдать,
описывать, фиксировать ход материальных процессов.
Естественнонаучное познание опирается и на другую важную посылку, кото-
236
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
рую Гуссерль формулирует следующим образом: «Без всякого
сомнения, существует гармония между миром и соответственно
истинами, которые имеют собственную значимость, и между
нашими познавательными актами и формами... без сомнения, наше
познание «направлено» на сам мир. Раз наше познание работает
таким образом, значит, и наш опыт своими средствами
осуществляет ту же задачу; но тогда мир, предстающий в столь однозначной
форме, имеет объективную правомочность, он является чем-то
само собой разумеющимся» (Ibid. S. 245).
Воспроизведенные только что рассуждения Гуссерля о
«естественной установке» — в высшей степени характерный для
феноменологии проблемный аспект, который на протяжении всей
эволюции гуссерлианства был теснейшим образом связан с
осмыслением классической философии и, в частности, особой роли
Канта в преобразовании традиционной философской
проблематики. Начиная с 1904—05 гг. и вплоть до середины 20-х гг.
Гуссерль подробно фиксировал особенности «естественной
установки» 8, имея в виду парадоксальную задачу — показать, что
специфика подлинно философской (трансцендентальной) постановки
и решения проблем выявляется при четком и абсолютном
противопоставлении особенностям естественной установки. Описать и
осмыслить в философии, чтобы отвергнуть и вычеркнуть из
философии, — таково было парадоксальное отношение Гуссерля к
тому типу сознательного овладения миром, который он считал
универсально-значимым для нефилософского мышления и
который назвал «естественной установкой». Таким образом, подход
«обычного» человека, т. е. уверенность в существовании и
исходном значении для него окружающего природного и социального
мира, фиксируется, собственно, для того, чтобы затем сказать:
хотя такая предпосылка необходима и в чем-то достаточна для
повседневной практической жизни; хотя она функционально
оправдана и в случае естественнонаучного познания, подлинный
философ не может и не должен превращать ее в исходный пункт
своего профессионального анализа. Более того, он обязан
осознать, что для философии «само собой разумеющийся характер»,
8 В «Кризисе» Гуссерль иначе оценивает значение «естественной
установи» с ее особенностями — прочными уверенностями в существовании
внешнего мира, в значимости его предметов, фактов, событий (doxa —
«верования»), с органической «включенность» в жизненный мир и т. д.
По существу уже не анализ «очищенного» сознания, но исследования
сознания, неотделимого от «жизненного мира», Гуссерль в «Кризисе» (а
вслед за ним многие представители современного гуссерлианства)
считает основной задачей феноменологии.
Гуссерль и Кант
237
данность мира — эти «наивные» предпосылки обыденного опыта
— с самого начала должны быть подвергнуты сомнению. Вот
почему декартовская теория cogito как форма осуществления такого
сомнения признается Гуссерлем первым кардинальным шагом в
направлении трансцендентализма. Но трансцендентальная
философия, по Гуссерлю, обращается к вопросу о данности мира не
для того, чтобы усомниться в фактическом его существовании или в
характере внутренней достоверности обычного опыта с его
предположениями существования и «изначальности» мира. Она
утверждает лишь одно: для философии эта несомненность и
«данность» являются «глубочайшей и сложнейшей проблемой мира,
миропознания (соответственно в необходимом расширении
вопроса — проблемой всякой предметности вообще, в том числе
ирреальной, в отношении к ее познанию в качестве «в себе»
сущей, в качестве субстрата для «истин в себе»).
Трансцендентальная философия говорит: конечно, в-себе-бытие мира есть
несомненный факт. Однако «несомненный факт» — не что иное, как
наше высказывание, обоснованное к тому же естественной
установкой» (Ibid. S. 247). А если факт несомненного существования
мира — это наше высказывание, то приходится признать
зависимость его содержания не только от мира, но и от нашего
познания. «...Разве познанное не черпает свой смысл из познания, из
его специфической сущности, т. е. из того обстоятельства, что во
всех своих ступенях- оно есть сознание, субъективное переживание?»
(курсив мой. — H. М.) (Ibid.). Такая постановка вопроса, говорит
Гуссерль, возможна для философа, оставляющего позади
«наивность» естественной установки и переходящего к
трансцендентальной позиции. Соответственно в классической философии Гуссерль
выделяет две тенденции. Первая обусловлена неправомерным — с
точки зрения внутреннего смысла и особых задач философии —
принятием обычной, естественной установки в качестве
философской позиции. Философия в этом случае, заявляет Гуссерль,
оказывается зараженной опасной болезнью натурализма, которая и в
нашем веке существует, воспроизводится в самых различных
формах и имеет весьма широкое распространение.
Вторая тенденция — это выделение, обособление
«трансцендентальной» позиции, ее противопоставление естественной
установке. О том, что данную тенденцию Гуссерль связывает с
именами Декарта, Лейбница, Юма и в особенности Канта, уже
говорилось выше. Таковы в самом кратком изложении основные черты
гуссерлевского истолкования Канта (к середине 20-х гг.) в духе
философской ориентации, которую сам Гуссерль вполне опреде-
238
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ленно и справедливо именует идеализмом, точнее,
«трансцендентальным идеализмом».
Оценка позиции Гуссерля прежде всего требует — в
соответствии с целями нашей статьи — сопоставления гуссерлевской
интерпретации «трансцендентализма» и кантовского понимания
проблемы «трансцендентального».
В кантовских «Критиках» понятие «трансцендентального»
чаще всего употребляется в качестве
прилагательного-определения, связанного с такими понятиями, как «философия»,
«идеализм», «логика», «диалектика», «идея», «дедукция», «способность
суждения» и т. п., т. е. чаще всего оно употребляется
применительно к философским процедурам, определениям и понятиям, а
также и в целом применительно к философии, как таковой
(равно как и к ее подразделениям, например к логике). Это
объединение не случайно, так как словом «трансцендентальный» Кант
обозначает философский способ рассмотрения, способ подхода,
введенный им в философию и составляющий важнейшее отличие
нового типа философского мышления.
В известном смысле (в особенности если иметь в виду
действительно реализовавшиеся разделы обширной программы
философского знания, намеченной основателем немецкой
классической философии9) философия Канта является
трансцендентальным идеализмом; в пределах кантовских «Критик»
трансцендентальный подход является в сущности главным подходом и
способом философского анализа.
Кант в самом деле прямо и недвусмысленно объявлял себя
сторонником «трансцендентального идеализма» 10. Главный и
исходный тезис такого идеализма Кант формулирует следующим
образом: «Предметы опыта никогда не даны сами по себе: они даны
только в опыте и помимо него вовсе не существуют» (Там же.
С. 452); «Все предметы возможного для нас опыта суть не что
иное, как явления, т. е. только представления, которые в том виде,
как они представляются нами, а именно как протяженные
сущности или ряды изменений, не имеют существования сами по себе,
9 Что касается так и не реализованного Кантом общего замысла
философии как обширной «системы познания» разума, то в его рамках критике
разума и соответственно трансцендентальному подходу отводится более
частная роль. Критика разума, писал Кант, даже не составляет части
обширной системы философии, а «только выдвигает и разбирает самое
идею такой системы» (Кант И. Сочинения в шести томах. М., 1964. Т. 5.
С. 101), т. е. в известном смысле является введением в философию, ее
пропедевтикой.
10 Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 3. С. 450—451. .
Гуссерль и Кант
239
вне нашей мысли» (Там же. С. 450). Именно этот исходный тезис
кантовского трансцендентализма и связанный с ним переход к
сознанию как единственной возможной сфере «данности»
предметов опыта представляется Гуссерлю главным принципом
«подлинно научной» и действительно современной философии. Кант
был, согласно утверждению Гуссерля, одним из первых, кто
благодаря этому узаконил специфику философского мышления и
познания, хотя не сумел сделать это достаточно
аргументированно. В особенности важными и ценными представляются Гуссерлю
те аргументы, с помощью которых Кант пытается доказать
невозможность и запретность заключения от предметов опыта, т. е. от
того, как они являются, даются сознанием, к вещам самим по себе.
Аргументация Канта — и Гуссерля — здесь весьма проста и даже
тавтологична: о предметах мы знаем не иначе чем через
посредство познавательной деятельности, через функционирование
сознания, причем особую роль играет данность предмета для наших
чувств, т. е. его существование в качестве явления.
Значит, рассуждает далее Кант (и это рассуждение по существу
воспроизводит Гуссерль), бессмысленно говорить о том, каковы
вещи сами по себе — вне зависимости от нашего сознания и
познания. В этом случае мы, по его мнению, приходили бы, как это
ни парадоксально, к идеалистическому (в особом, для Канта
неприемлемом смысле) заключению: мы приписывали бы наши
сегодняшние знания g предметах, наши способы их восприятия и
представления самой природе предметов, самому предметному
миру. Выходом, согласно Канту, является признание особого
характера предметов и предметности, поскольку они обязательно
даются человеку сознанием и через сознание,— это признание
субъективного характера являющейся предметности и изучение тех
законов, механизмов, принципов, благодаря которым в этом
субъективном существуют устойчивые и всеобщие структуры.
«Способность чувственного созерцания есть, собственно, только
восприимчивость, [т. е.] способность определенным образом
испытывать воздействия посредством представлений, отношение
которых друг к другу есть чистое созерцание пространства и
времени (чистые формы нашей чувственности) и которые, поскольку
они соединены и определимы в этих отношениях (в пространстве
и времени) по законам единства опыта, называются предметами»
(Там же. С. 453). Итак, в рамках трансцендентального анализа — в
этом также состоит (наряду с переходом к сознанию как исходной
сфере анализа) его отличительная особенность — предметность
рассматривается как существующая в сознании и через сознание;
единственно возможный для трансцендентальной философии
240
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
содержательный разговор о предметах, по Канту, есть
скрупулезное изучение форм, механизмов сознания, благодаря которым
способность восприимчивости (т. е. способность воспринимать
воздействия материальных предметов прежде всего через
ощущения) соединяется со способностью рассудка и формирует опыт
таким образом, что в нем возникают и «работают» структуры
предметного, объектного единства.
Хотя оба философа — Кант и вслед за ним Гуссерль — вполне
обоснованно именуют свой подход «трансцендентальным
идеализмом», они настаивают на том (собственно, Гуссерль снова вслед за
Кантом), что идеализм в данном случае является «формальным»
(Кант) или «методическим» (Гуссерль), отличаясь от «уже
обесславленного эмпирического идеализма» (Там же. С. 451). Кант
употребляет для обозначения отвергаемого им традиционного
идеализма и другие термины: он говорит о «материальном, т. е.
обыкновенном, идеализме», «который сомневается в
существовании самих внешних вещей или отрицает его» (Там же. С. 451).
Аналогичные формулировки можно встретить у Гуссерля (выше
мы уже затрагивали эту тему), который не только не отрицает
существования внешнего предметного мира, но и считает
уверенность в его существовании основной посылкой «естественной
установки».
Спор о том, действительно ли Гуссерль является идеалистом и
следует ли верить его приведенным выше (и аналогичным)
определениям собственной философии как идеалистической,— это
один из важных дискуссионных пунктов в развитии современной
феноменологии. Как говорится, из песни слова не выбросишь, и
поэтому большинство наиболее известных представителей
феноменологического направления или интерпретаторов
феноменологии (Г. Бергер, Л. Ландгребе, Э. Финк, В. Бимель, Ст. Штрассер,
Р. Ингарден, А. Гурвич, М. Фарбер) склонны верить
определениям самого Гуссерля и рассматривать феноменологию как вариант
идеализма, хотя между ними существуют серьезные разногласия,
во-первых, в толковании специфики феноменологического
трансцендентального идеализма и, во-вторых, в принципиальной
оценке перспективности развития философии на почве
идеализма. Есть и такие авторы, которые возражают против гуссерлевских
определений и против трактовок, предложенных
перечисленными выше феноменологами, и склонны считать феноменологию то
формой своеобразного «реализма сущностей», то философией,
сумевшей преодолеть классическое разграничение материализма
и идеализма при помощи якобы нейтрального
«экзистенциального» подхода (М. Мерло-Понти, Г. Брандт и другие авторы).
Гуссерль и Кант
241
Нам представляется, что Гуссерлю и другим известным
исследователям и критикам феноменологии здесь вполне можно
верить, как нельзя не поверить и Канту, четко назвавшему свой
подход (разумеется, в некоторых проблемных пределах, ибо
остается еще вопрос о кантовском дуализме) идеалистическим. Дело,
впрочем, состоит не только в том, чтобы четко определить кан-
товско-гуссерлевский трансцендентализм как идеализм, но и
главным образом в том, чтобы понять, какая именно важная для
развития философии проблема в данном случае обсуждается и
разрешается.
Как на примере Канта, так и на примере Гуссерля отчетливо
видно, что оба философа резко отмежевываются от такой
логически возможной формы в общем-то примитивного и абсурдного
идеализма, который ставил бы под сомнение сам факт
существования окружающего человека внешнего мира (у Гуссерля
последнее понятие, как мы видели, трактуется широко, включая и
природу, и человеческий социально-исторический мир, словом, всю
реальность жизни и действия человека). Проблема
трансцендентализма для Канта и Гуссерля действительно связана с
пониманием, определением специфики философского подхода, а еще точнее — с
решением следующего вопроса: имеет ли философия в
соответствии со своей функцией и спецификой право и обязанность
стремиться прежде всего к анализу познающей деятельности, и
притом к такому анализу сознания, познания, а также всех волевых,
оценивающих, эмоциональных и т. п. форм сознательного
действия, который предполагает сугубое отграничение, обособление
сознания (и познания) как объекта исследования,
соответствующую специальную нацеленность, подготовку субъекта,
производящего данный анализ, и выработку особых методов
философского исследования сознания. Вот в какой вопрос, с нашей точки
зрения весьма сложный и многоплановый, упиралась
поставленная Кантом и заостренная Гуссерлем проблема
трансцендентализма.
Кант, а вслед за ним и Гуссерль (последний, во всяком случае,
до середины 20-х гг.) отвечали на этот вопрос в общем и целом
утвердительно, хотя в ответах обоих философов были важные для
нас оттенки различия. Корень всего вопроса — о превращении
сознания в главный, а по сути дела и единственный объект
философского анализа (единственный, если иметь в виду «сознание» в
широком смысле — как сознательную деятельность и ее
результаты в самых различных формах: познающе-научной, практически-
оценивающей и т. д., что характерно и для Канта, и для Гуссерля).
242
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Гуссерль в общем и целом следует за Кантом, поддерживает
саму линию борьбы против метафизического онтологизма, идею
критики разума как первой задачи философии. Аргумент нам
уже известен: раз все наши знания, высказывания о мире
обязательно суть предметы нашей познавательно-сознательной
деятельности (и к миру нельзя «пробиться» иначе чем через их
посредство), то не следует ли — в пределах философии — сразу
признать неотделимость предметности от этой деятельности
человеческого сознания и начать, собственно, с того пункта, когда
их единство, хотя и в простейшей форме, уже дано?
А задача философии затем уже заключается в развертывании
— описании, изучении — всеобщих структур деятельности
сознания (в широком смысле) на основе незыблемой (в пределах
реформированной философии), только что зафиксированной
«аксиомы» о первичности сознания. Несмотря на всю внешнюю
убедительность и даже известную «аксиоматичность» исходного
аргумента трансцендентализма (ну, в самом деле, разве мы знаем о
мире как-нибудь иначе, чем через посредство жизнедеятельности
сознания?), именно здесь с марксистской точки зрения заключена
коренная ошибка, источник ограниченности кантовско-гуссер-
левского трансцендентального идеализма.
Кантовско-гуссерлевский трансцендентализм в определенном
отношении представляет собой результат критики
метафизической, созерцательной модели познавательной деятельности и
деятельности сознания (в крайней форме это был натурализм),
критики, во многом справедливой и метко развенчивавшей как до-
кантовские формы созерцательной метафизики, так и возникшие
в XIX—XX столетиях более «современные» ее варианты. В итоге
критики Канта, а в нашем столетии критики Гуссерля были если
не уничтожены, то серьезно «обесценены»
созерцательно-натуралистические философские модели, описывающие отношение
человека к миру как пассивную зависимость сознания (главным
образом материально-вещных форм проявления и результатов его
функционирования) от материального природного мира. Вместе
с тем некоторые констатации, принятые в пределах
созерцательно-материалистической (или вообще сенсуалистической) схемы
отношения человека и мира, представлялись Канту не просто
убедительными, но фактически неопровержимыми. Поэтому
Кант, в общем и целом воздвигая здание философии на основе
принципа трансцендентализма, одновременно принимает как
философский факт и необходимую первичную констатацию
существования внешнего мира, его предметов, аффицирующих нашу
чувственность и, следовательно, стоящих у истоков всего челове-
Гуссерль и Кант
243
ческого познания. Следовательно, как говорилось выше, в
известных пределах проблема существования предметов внешнего мира
как источника чувственности все же является для Канта
философской проблемой (проблема вещи самой по себе).
Что касается Гуссерля, то он примыкает к той уже хорошо
известной и описанной В. И. Лениным линии критики кантовской
философии, представители которой отвергали и отвергают кан-
товскую «вещь в себе», стремясь к преодолению кантовского
дуализма и к более последовательной защите принципов
идеализма п (в данном случае идеализма трансцендентального).
С точки зрения марксизма, как трансцендентализм Канта, так
и трансцендентализм Гуссерля не были связаны с действительным
преодолением созерцательно-метафизической схемы отношения
человека и окружающего мира, субъекта и объекта: вместо того
чтобы сделать данное отношение предметом исходного
теоретического анализа и истолковать его диалектически, генетически,
социально-исторически, и Кант, и Гуссерль (Гуссерль до
середины 20-х гг.) лишили саму проблему всякого философского
достоинства и значения. В данном пункте, а именно при введении и
обосновании принципа трансцендентализма, по существу — и
парадоксальным образом — сохранялась в ее главных моментах столь
шумно отвергнутая, но лишь перелицованная созерцательно-
метафизическая схема.
Попытаемся более подробно подтвердить эту мысль. В
пределах того, что Гуссерль называет «естественной» установкой, т. е. в
ходе обычной практической деятельности, естественнонаучного
познания, в самом деле имеет место единство действующего и
познающего человека и окружающей его природной и социальной
реальности. (В частности, Гуссерль справедливо упоминает об
этой единстве, когда критикует агностические элементы
кантовского учения о «вещи в себе» в той его части, где речь идет об
аффицировании чувственности неизвестными нам вещами
внешнего мира.) Гуссерль прав в том, что такое единство (при
условии постоянного преобразования мира человеком) в реальной
практике складывается и существует стихийно и что философия
обязана сделать его предметом теоретического осмысления. Но
выполняет ли это в целом справедливое требование философия,
руководствующаяся принципом трансцендентализма? Отнюдь
11 Гуссерлевская критика кантовского учения о «вещи в себе» — особая и
очень интересная тема, которую мы здесь не рассматриваем за
недостатком места.
244
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
нет. У Канта данный факт просто остается где-то «за кадром»
«Критики чистого разума» 12, а если и «попадает в кадр», то с
самого начала в виде созерцательно-метафизической констатации
одностороннего воздействия материальной вещи на органы
чувств (тема «аффицирования» чувственности). В дальнейшем в
теории познания Канта имеет место в основном обращение к
предмету как предмету сознания, т. е. совершается анализ на базе
трансцендентализма.
В гуссерлевской феноменологии также имеет место
характерное противоречие. Даже в середине 20-х гг., когда Гуссерль, как
уже говорилось, в наибольшей степени был склонен к
осуществлению принципа трансцендентализма, в феноменологии
противоречиво сосуществовали две тенденции, наличие которых в
известной степени породило результат, достигнутый Гуссерлем в
«Кризисе».
Первая тенденция — это попытка привести принцип
трансцендентализма к наиболее «последовательной» идеалистической
форме, критика предшествующей философии, и в частности
кантианства, за «отклонения» от трансцендентализма, за
невольные «грехи» созерцательности и натурализма.
Канта и других представителей классической философии
Гуссерль упрекает в том, что они недостаточно строго «очистили»
сферу сознания как объекта трансцендентального рассмотрения
и недостаточно последовательно сосредоточили внимание на нем
как единственном предмете специфически философского
анализа. Для разрешения этого вопроса в феноменологии подробно
развиваются две темы: 1) тема феноменологической редукции,
т. е. способа последовательного и строгого вычленения сознания
как единственного объекта феноменологического анализа; 2)
проблема интенциональности, т. е. направленности сознания на
12 Мы вовсе не утверждаем, будто в философии Канта, как таковой,
проблема взаимодействия человека и социально-исторического мира вообще
не обсуждается. Интереснейшее противоречие философии этого
замечательного мыслителя заключается в том, что, с одной стороны, в «Критике
способности суждения», «Критике практического разума» и даже в самой
«Критике чистого разума» есть немало глубочайших идей, касающихся
данной проблемы. Мы отмечаем сейчас другую сторону противоречия.
Истоки кантовского учения о познании и сознании, истоки кантовского
трансцендентализма во многом связаны с: а) непроясненностыо
общемировоззренческих предпосылок, в частности нерешенностью социально-
исторической проблемы взаимодействия человека и мира; б)
некритическим принятием некоторых предпосылок подвергаемого критике
созерцательно-метафизического подхода.
Гуссерль и Кант
245
предмет и «полагания», «конституирования» предмета в
сознании. Один из аспектов в разработке этих двух тем — уже
известный нам четкий вывод о необходимости придерживаться
«трансцендентального идеализма» и о том, что «феноменология
является первой строго научной формой этого идеализма» (Hua VII,
181). Последовательное осуществление трансцендентального
принципа для Гуссерля означает, что «реальный мир
редуцируется, превращаясь в универсум интенциональных коррелятов
моего трансцендентального Я, причем он неотделим от этого
коррелята» (Ibid. S. 180). Трудно дать более четкое определение
мира в духе философского субъективного идеализма13.
Для нас важно подчеркнуть, что вся эта характерная
трансцендентально-феноменологическая трактовка отношения
сознания, человека и мира также в ряде пунктов является
созерцательной и метафизической и в полной мере не преодолевается ни в
последних работах Гуссерля, ни в работах современных
феноменологов 14.
Вторая тенденция связана с некоторыми проблемами и темами
феноменологии, которые проникали в гуссерлевскую концепцию
уже в начале 20-х гг. и объективно противостояли ограниченному
ригоризму трансцендентализма (тонко разработанным к тому
периоду «очистительным» процедурам феноменологической
редукции, со всем богатством полученных к исходу 20-х гг.
филигранных интуитивно-аналитических различений
феноменологического учения о сознании и о методе.) Это была постоянно
пробивавшаяся через все пласты реальных результатов
трансцендентально-феноменологического анализа сознания идея (вернее,
здесь был уже целый комплекс идей и разработок), что данный
13 Гуссерль даже называет соответствующий раздел феноменологии,
последовательно и непротиворечиво избирающей «мое я» в качестве
исходного пункта, «солипсистской феноменологией» (Hua VIII, 173). «В
качестве феноменолога, — пишет он, — я необходимо являюсь
солипсистом, правда, не в обычном смехотворном смысле этого слова,
коренящемся в естественной установке, но в трансцендентальном его значении»
(S. 174).
14 Даже при самом благом желании современных феноменологов
преодолеть созерцательность, даже в случае заимствованной у Гуссерля
претензии — благодаря трансцендентализму противопоставить
«отчужденному» миру созерцательной философии «самоопределение» субъекта в
мире, ему близком и им созданном, все равно сохраняется как дань
метафизической созерцательности некий дуализм миров, реальный,
«объективно наличный», «природно-каузальный мир» с его «несвободой» и
свободно «конструируемый» (феноменологом) мир сознания.
246 H. В. Мотюшилова «Работы разных лет»
анализ скорее напоминает искусно воздвигнутое сооружение без
реального, устойчивого, прочного мировоззренческого
философского фундамента. И что очень важно, объективно изменения в
феноменологии шли в направлении известного «смягчения»
ограничений трансцендентализма, т. е. постепенно возникало
осознание того обстоятельства, что преодоление созерцательности
возможно не благодаря «отчуждению» учения о сознании от
широкой исходной философской проблематики взаимодействия
человека и мира, но именно благодаря «подведению» этого
общефилософского мировоззренческого фундамента под более
развитые в рамках трансцендентальной философии концепции
сознания. Нельзя сказать, что Гуссерлю и в 30-х гг. действительно
удалось преодолеть мировоззренческие ограниченности
трансцендентализма (идеализм, метафизика, созерцательность) или даже
четко поставить вопрос о необходимости такого преодоления.
Однако некоторые формулировки «Кризиса» (а также
подготовительных работ, неопубликованных рукописей) являются в этом
отношении весьма интересными и перспективными. Вот одна из
них: «Ко всякому научному мышлению и всем философским
постановкам вопросов принадлежит им предшествующее, само
собой разумеющееся положение, что мир существует, всегда
является предпосылкой и что любая проверка мнения, опытного или
всякого иного, всегда предполагает в качестве предпосылки
существующий мир». «Для человека в окружающем его мире
существуют многообразные формы практики, и среди них эта
своеобразная и исторически поздняя теоретическая практика»
(Hua VI, ИЗ). На основе этих верных рассуждений Гуссерль много
интереснее и убедительнее, чем прежде, критикует Канта,
обнажая элементы созерцательности в кантовской философии. Кант
начинает с феноменов, говорит Гуссерль; при этом основатель
немецкой классической философии полагает, будто имеет дело с
«чисто субъективными феноменами», с результатами одних
психофизиологических процессов. На самом же деле явления
сознания, факты, целостные единицы сознания суть не просто
психофизиологические, но «духовные процессы» (Hua VI, 114),
имеющие источник и происхождение в сложном — и, кстати говоря,
так и непонятом Гуссерлем — взаимодействии особого
человеческого «жизненного мира» и порожденного этим миром
социально-исторического субъекта.
На основе сказанного мы вправе еще раз повторить вывод о
том, что последние работы Гуссерля демонстрируют внутренний
кризис трансцендентализма как общемировоззренческой
предпосылки философии, т. е. кризис трансцендентального идеализма,
Гуссерль и Кант
247
который стремится, но которому так и не удается преодолеть
метафизическую созерцательность традиционной или современной
философии 15.
Однако остается еще одна проблема, которую необходимо
объяснить: трансцендентальная философия Канта и Гуссерля,
сам принцип трансцендентализма не сводится к одним только
общемировоззренческим предпосылкам и выводам. Это и особый
метод анализа сознания, который в серьезной степени был скован
мировоззренческими ограниченностями, но тем не менее привел
и у Канта, и у Гуссерля к целому ряду ценных и плодотворных
теоретических результатов. К исследованию данной проблемы
мы и переходим.
3. Особенности трансцендентального подхода
к анализу сознания в феноменологии Э. Гуссерля
и философии И. Канта
Сравнение учений Гуссерля и Канта о сознании, нахождение
их общности, а точнее, заимствований из кантианства, имеющих
место у Гуссерля,— еще более важное и интересное, как мы
думаем, дело выявление специфики и различия двух концепций —
тема бесконечно обширная, заслуживающая скрупулезных
специальных исследование.
В данной главе, объем которой жестко ограничен, мы
вынуждены быть конспективно краткими и осуществлять историко-
философское сопоставление этих двух весьма сложных,
дифференцированных, тонкорасчлененных учений исключительно в
связи с принципом трансцендентализма. При этом мы
намереваемся рассмотреть в высшей степени кратко лишь одну проблему:
вопрос об априоризме как стороне трансцендентализма Канта в
связи с темой так называемого сущностного анализа сознания у
Гуссерля
В предыдущем параграфе мы рассматривали лишь один
аспект трансцендентального подхода: превращение сознания в
15 Post scriptum 2004 года. Этот вывод в моей ранней работе я теперь
считаю неточным, как не разделяю сейчас — после многолетней
уточняющей работы — и некоторых общих оценок кантовского и гуссерлевского
трансцендентализма. Изменения в моей позиции читатель может
проследить в последней монографии. — См.: Мотрошилова Н.В. «Идеи I
Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию». М, 2003. Впрочем,
целый ряд критических в адрес гуссерлианства положений данной статьи,
написанной так давно, я разделяю и сегодня.
248
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
важный и даже, в сущности, единственный объект философского
анализа, а также связанные с таким поворотом исследования выводы
и установки общефилософского, мировоззренческого характера.
Теперь следует обратить внимание на то, что характеристика
трансцендентального подхода — поворот к сознанию —
уточняется, принимает специфический характер, так сказать, обретает
«плоть и кровь» при более подробном исследовании сознания и
познания. «Я называю трансцендентальным — пишет Кант, —
всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько
видами нашего познания предметов, поскольку это познание
должно быть возможным a priori. Система таких понятий называлась
бы трансцендентальной философией» 16.
Итак, трансцендентальное философское познание, согласно
Канту, 1) интересуется видами или способами познания
предметов и 2) выявляет при этом априорные принципы всякого
возможного познания. В таком же, собственно, смысле употребляется
данный термин не только применительно к философии и
познанию, но и в отношении пространства, времени, дедукции,
способности суждения17.
В другом месте Кант дает следующее уточнение:
«Трансцендентальным (т. е. касающимся возможности или применения
априорного познания) следует называть не всякое априорное
знание, а только то, благодаря которому мы узнаем, что те или иные
представления (созерцания или понятия) применяются и могут
существовать исключительно a priori, а также как это
возможно» 18. Значит, в этом уточненном смысле трансцендентальное
рассмотрение не просто выделяет априорные принципы всякого
возможного познания, но и обнаруживает, как они (в форме
созерцаний или понятий) могут применяться.
Итак, дальнейшая расшифровка понятия
«трансцендентальный» упирается по крайней мере в осмысление кантовской —
гуссерлевской трактовки такого центрального понятия
кантианства и феноменологии, каким является понятие «a priori». О
понятии «a priori» и априорного у Канта в истории послекантовской
и современной философии говорили и писали очень много. Кан-
16 Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 3. С. 121.
17 Так, говоря о трансцендентальном истолковании пространства и
времени, Кант поясняет: «Под трансцендентальным истолкованием я
разумею объяснение понятия как принципа, из которого можно усмотреть
возможность других априорных синтетических знаний» {Кант И. Указ.
соч. С. 131).
™ Кант И. Указ. соч. С. 158.
Гуссерль и Кант
249
товские понятие «a priori» интересует нас здесь исключительно в
связи с принципом трансцендентализма и, конкретнее, в связи с
определенным подходом к анализу сознания и человеческой
познавательной деятельности. Сошлемся прежде всего на тот
известный факт, что Кант расшифровывает понятие априорного
через понятия всеобщего и необходимого знания, через понятия
его необусловленной значимости, «регулирующего влияния» по
отношению ко всем эмпирическим возможностям сознания,
познания, суждения. «Если какое-нибудь суждение, — пишет Кант,
— мыслится как строго всеобщее, т.е. так, что не допускается
возможность исключения, то оно не выведено из опыта, а есть
безусловно априорное суждение. Стало быть, эмпирическая
всеобщность есть лишь произвольное повышение значимости суждения
на ту степень, когда оно имеет силу для большинства случаев,
как, например, в положении все тела имеют тяжесть. Наоборот,
там, где строгая всеобщность принадлежит суждению по
существу, она указывает на особый познавательный источник суждения,
а именно на способность к априорному знанию. Итак,
необходимость и строгая всеобщность суть верные признаки априорного знания
(курсив мой. — H. М.) и неразрывно связаны друг с другом» (Там
же. С. 107). Во всех случаях, когда Кант употребляет понятие
«априорное», он по содержанию имеет в виду формы и структуры
сознания, имеющие всеобщее и необходимое значение. Когда
Кант, например, говорит об априорности пространства и
времени, он употребляет также понятия: «пространство... форма всех
явлений внешних чувств, т. е. субъективное условие чувственности
(курсив мой. — H. М.), при котором единственно и возможны для
нас внешние созерцания» (Там же. С. 133); «Время есть необходимое
представление, лежащее в основе всех созерцаний (курсив мой.—
H. М.). Когда мы имеем дело с явлениями вообще, мы не можем
устранить само время, хотя явления прекрасно можно отделить от
времени. Следовательно, время дано a priori» (Там же. С. 135—
136). Итак, априорность у Канта подразумевает прежде всего
всеобщие и необходимые формы, структуры сознания, которые — в
качестве правил, законов, принципов — как бы «принудительно»
и «изначально» регулируют все эмпирические, опытные процессы
сознания (в этом смысле предшествуют им и несводимы к ним);
вот почему они, эти всеобщие формы, могут быть отделены от
эмпирических процессов сознания и изучены самостоятельно.
Отсюда связь понятий «трансцендентализма» и
«априорности», как она утверждается у Канта: если всеобщие и
необходимые структуры сознания, так сказать, регулируют, организуют
опыт, но по существу даны «до», «вне» и «независимо» от всякого
250
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
опыта (a priori), значит, наиболее важное, принципиальное
значение имеет анализ сознания, обращенный лишь к этим
всеобщим типам, мыслимым возможностям, т. е. анализ, построенный в
соответствии с принципом трансцендентализма.
Кантовское понимание трансцендентализма включает,
разумеется, и другую сторону дела: исследованию подлежат не только
сами по себе априорные, т. е. всеобщие, формы и структуры, но и
их применение к опыту — тоже в рамках «чистых возможностей».
Но пока мы обратимся к первому, только что обрисованному
аспекту — расшифровке понятия «трансцендентальный» через
понятие — и проблему — «априорного».
Отношение Гуссерля к этому предложенному Кантом
пониманию является двойственным. С одной стороны, он горячо
поддерживает и стремится развить далее принцип априорного, или,
как чаще выражается сам Гуссерль, «сущностного», анализа и
подхода. С другой стороны, кантовское обоснование принципа
априоризма (в данном аспекте трансцендентализма), причем не
только общемировоззренческое, но и гносеолого-логическое,
подвергается основателем феноменологии, а также его
современными последователями резкой критике.
Обратимся прежде всего к гуссерлевскому решению вопроса
об априорно-сущностном, т. е. трансцендентальном, анализе
сознания. Гуссерль четко, недвусмысленно и притом в разных
работах подчеркивал, что анализируемое в феноменологии — в
соответствии с принципом трансцендентализма — «сознание» есть
совершенно специфическое образование, есть искусственным
образом сконструированная и превращенная в предмет исследования
теоретическая «сущностная модель», которую нельзя отождествлять с
многообразными связями, проявлениями, функциями и т. п.
реальной жизнедеятельности сознания.
«Чтобы пресечь возможную путаницу, — писал Гуссерль, — я
хотел бы здесь обратить внимание на то, что понятие сознания
весьма многозначно... а именно это: 1) универсальное сознание Я,
т. е. такое, (благодаря которому я осознаю все, что для моего
сознания налично и может быть схвачено; в нем все это может быть
объединено в универсальное единство всего поля зрения:
внутреннее и внешнее, относящееся к Я и не относящееся к нему
(Ichliches und Nicht-Ichliches), отдельные интенциональные
переживания различных ступеней и их реальное и идеальное
содержание; 2) сознание в собственно картезианском смысле, т. е.
характеризующееся благодаря ego cogito картезианской очевидностью.
Здесь трансцендентное бытие, скажем физическая природа, не
принимается как действительное и сущее, а, напротив, искусст-
Гуссерль и Кант
251
венным образом (курсив мой. — Н. М.) лишено значения; 3) интен-
циональные переживания, которые вступают в картезианское
поле, именно в виде восприятий, желаний, волений и т. д.» (Hua VII,
111—112). Итак, «сознание» в феноменологии — это, в
соответствии с многочисленными и многократными разъяснениями
Гуссерля, направленными на преодоление и предотвращение
психологизма, физиологизма, натурализма, не есть реальное сознание
реального индивида, взятое в контексте его действительной
(природной, конкретно-исторической и т. д.) активности. Первый аспект,
о котором речь идет в гуссерлевской цитате (на усложненном
языке феноменологии), — фактическая, реальная, «наличная»,
всеобъемлющая целостность «сознания» в самом широком смысле
слова (универсальное сознание). По сути дела здесь Гуссерль
имеет в виду всю сопровождающуюся сознанием деятельность
человека, в том числе его специально познавательную активность,
также взятую в виде реальной деятельности в действительном
мире. Согласно кардинальной установке феноменологии (до
начала 30-х гг.), выделение «чистого» сознания и его анализ требуют
полного отрешения, освобождения от «сознания» как
недифференцированной реальной целостности, а также от привычных
способов исследования сознания в психологии и традиционной
философии. Из трех перечисленных Гуссерлем аспектов его
интересует сознание только во втором и третьем смысле, т. е.
обозначаемый при помощи этого слова искусственным образом
сконструированный особый объект анализа.
Первая специфическая особенность гуссерлевского «чистого»
сознания как специфического объекта трансцендентально-
феноменологического анализа заключается в следующем: оно
«искусственным образом» концентрирует в себе сущностные
структуры, т. е. то, что Гуссерлю представляется как внутренние
закономерности сознания, принципы и механизмы его
деятельности, функционирования. Обращая внимание исключительно на
такие внутренние, «сущностные», в его понимании, структуры,
феноменолог не интересуется конкретным, реальным, всегда
индивидуальным (в этом смысле для него внешним, второстепенным)
ходом процессов сознания; он оставляет в стороне также все
конкретные, реальные «приметы» времени, эпохи, страны,
цивилизации — он действует как бы вне исторического времени. Так
складывается особый, сугубо формализованный стиль
«вневременного» феноменологического структурного анализа сознания и
познания.
Довольно четко Гуссерль поясняет особенность
анализируемого им объекта, «чистого» сознания, а также особенность самого
252
H. В. Моттошилова «Работы разных лет»
трансцендентального подхода на примере исследования
восприятия. Скажем, мы имеем конкретное восприятие — восприятие
определенного стола, начинает свое пояснение Гуссерль.
Отправляясь от такого восприятия как конкретного «экземпляра», мы
замечаем модификации восприятия: мы то воспринимаем стол
как целое, то обращаем внимание на цвет, форму и т. п. При этом
остается, несмотря на большой набор вариантов, нечто
идентичное, что сохраняется в каждом из восприятий. Установление
идентичного в восприятии, его постоянной, всеобщей структуры
означает переход к сущностному анализу сознания. «Другими
словами, мы преобразуем факт этого восприятия при сохранении
его бытийного значения в чистую возможность, причем такую,
которую мы выделили из других чистых возможностей,— это и есть
чистая возможность восприятия. Мы одновременно преобразуем
действительное восприятие в царство недействительностей, в
сферу «как если бы» (Als ob), которая доставляет нам чистые
возможности, чистые от всего, что привязывает к данному факту и ко
всякому факту вообще. В последнем смысле мы обладаем этими
возможностями не в отношении к фактическому Ego, но в
качестве полного изобретения (Erdenklichkeit) фантазии — так, что мы с
самого начала могли бы располагать восприятием как исходным
экземпляром для фантазирования, не имеющего никакого
отношения к нашей прочей фактической жизни. Получаемый этим
способом всеобщий тип восприятия, так сказать, парит в воздухе
— в воздухе абсолютно чистого мыслительного фантазирования
(Erdenklichkeiten). Таким образом, при устранении всего
фактического восприятие становится эйдосом восприятия, идеальный
объем которого исчерпывает все идеальные возможности
восприятий как результатов мыслительного фантазирования. Анализ
восприятия становится тогда сущностным анализом
(Wesensanalysen), он объединяет все, что мы можем сказать о
синтезе, принадлежащем к типу восприятия, о горизонте
потенциальности и т. д.; легко видеть, что он имеет сущностное значение
для восприятий, которые могли бы быть образованы по
принципу свободных вариаций, а следовательно, для всех мыслимых
восприятий. Другими словами, он имеет абсолютное сущностно-
всеобщее значение, т. е. значение для всякого фактического
восприятия, поскольку любой факт может быть мыслим как простой
пример чистой возможности» (Hua 1,104—105).
Восприятие взято здесь лишь в качестве одного из примеров;
главная цель разъяснения Гуссерля в том, чтобы показать
особенность объекта феноменологического анализа (т. е. одновременно
трансцендентального способа его выделения) — это сознание как
Гуссерль и Кант
253
совокупность, набор «чистых» сущностей, «чистых»
возможностей, всеобщих структур, представляющих результат свободного
мыслительного конструирования; и в таком смысле речь идет о
чисто идеальном «царстве недействительного», сфере «Als ob»,
которая открывается лишь постольку, поскольку ее «вычленяет»,
«создает», «выдумывает» феноменолог. Последнее обстоятельство
весьма и весьма важно: сознание как набор «чистых» сущностей,
возможностей, структур есть, в соответствии с четким призванием
Гуссерля, «коррелят интуитивного и аподиктического сознания
всеобщего» (Hua I, 105), т. е. неотделимо от феноменологического
«сущностного» анализа и его особых методов. Именно с этим
разъяснением и связано феноменологическое истолкование понятий «а
priori», «априорный», которые Гуссерль вслед за Кантом часто
употребляет. Сущность (или «эйдос» — тип, вид, родовое
единство), обнаруживаемая феноменологом при анализе сознания,
истолковывается как нечто более важное и даже первичное по сравнению
с фактом, реальностью, существованием. «Сам эйдос, — пишет
Гуссерль,— есть усматриваемое, соответственно доступное
усмотрению всеобщее, чистое, необусловленное, а именно: такая «сущность
не обусловлена никаким фактом, а соразмерна только со своим
собственным интуитивным смыслом. Она предшествует всем
понятиям в смысле значений слов, более того, при образовании
чистых понятий необходимо ориентироваться на нее» (Hua 1,105).
Содержательное «первенство», «преимущество» сущности перед
существованием — своего рода парафраз кантовского
априоризма и коренная идея гуссерлевской философии, подробнейшим
образом развитая и обоснованная уже в «Идеях к чистой
феноменологии и феноменологической философии» (1913 г.). Нельзя
понимать высказывание Гуссерля в том смысле, будто сущность
реально, действительно предшествует существованию:
платоновский объективно-идеалистический вариант подобного решения
был категорически отвергнут и объявлен «метафизическим гипо-
стазированием всеобщего» уже в «Логических исследованиях».
Для Гуссерля сущность первична скорее не в реалистически-
онтологическом, но в логическом смысле 19, притом прежде всего
19 Необходимо обратить внимание на то, что и в случае употребления
онтологической терминологии у Гуссерля речь идет о «познавательном
статусе» сущностей: «Старая онтологическая доктрина, согласно которой
познание «возможностей» должно предшествовать знанию действитель-
ностей (если ее правильно понимать и использовать), по моему мнению,
реально содержит в себе истину» (Husserl Е. Ideas. General Introduction to
pure Phenomenology. N. Y., 1962. S. 213). Необходимо принять во внима-
254
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
в рамках особого типа анализа: если бы мы рассматривали любое
фактическое событие сознания, то могли бы установить
зависимость его понимания, объяснения от установления сущности,
всеобщей структуры, закона, тогда как логическая независимость
этих последних от конкретного многообразия фактов и от каждого
факта в отдельности представляется родоначальнику
феноменологии очевидной. Понятые и истолкованные таким образом
«самостоятельность» и « изначалъность» сущностных структур
сознания по отношению к сфере его фактов и составляет содержание
понятия «a priori», как оно употребляется в работах Гуссерля (до 30-х
гг.). Необходимо еще раз подчеркнуть, что речь прежде всего идет
о независимости, самостоятельности сущности в пределах
феноменологического анализа, т. е. в логико-теоретических рамках.
Первичное («априорное») значение сущности по отношению к
фактическому, эмпирическому имеет у Гуссерля и такой оттенок
значения: каждый субъект, когда бы и где бы он ни осуществлял
мыслительную деятельность, сразу и изначально (все равно,
сознательно или бессознательно) подчиняется его сущностным
структурам, как непререкаемым объективным регулятивам,
законам. Обнаружить во всей полноте эти регулятивы всеобщего
характера — грандиозная, согласно оценке самого Гуссерля, задача
феноменологии. Например, я осуществляю, пишет Гуссерль, тип
чувственного, пространственно-вещественного восприятия. Если
я систематически иду дальше и перехожу к конститутивному
рассмотрению того, как может и должен такой опыт протекать
однозначно, как вообще одна и та же вещь должна полностью
обнаруживаться в соответствии с тем, что должно быть присуще ей как
вещи, — в этом случае возникает «грандиозное по своему
значению осознание того, чем может быть для меня и для Ego вообще
истинно сущая вещь — a priori в сущностной необходимости (in
Wesensnotwendigkeit) (курсив мой. — H. М.), стоящая под
сущностными формами определенной внутренней структурной системы
возможного опыта, с априорным многообразием принадлежащих ему
специфических структур» (курсив мой. — H. M.) (Hua 1,27—28).
«Не случайно, — поясняет Гуссерль,— вновь и вновь
встречается у меня выражение сущность (Wesen), сущностный
(wesensmäßig), что равнозначно определенному, впервые
объясненному феноменологией понятию a priori» (Hua 1,27).
ние, что слово «онтология» (для гуссерлианства в высшей степени
важное), по нашему мнению, не имеет в контексте феноменологии
«реалистического» объективно-идеалистического смысла.
Гуссерль и Кант
255
Как правило, все рассуждения о «сущностном априоризме»
как основе и содержании трансцендентального принципа
Гуссерлем ведутся в контексте абстрактного феноменологического
анализа сознания и составляют своеобразное методологическое
пояснение и обоснование по отношению к этому детальному и
скрупулезному анализу20.
Не входя в подробное рассмотрение самого
феноменологического (интенционального) анализа сознания21, обратимся именно
к методологическому его обоснованию, представляющему собой
конкретное развитие принципа трансцендентализма.
Утверждая принципы «априорно-сущностного анализа
сознания» (и подчас в идеалистической форме, в выражениях
нарочито парадоксальных, шокирующих своей непривычностью,
антитрадиционностью), Гуссерль ставит весьма глубокие и
интересные проблемы, связанные с философским объяснением и
обоснованием своеобразного анализа сознания и познавательной
деятельности.
Кантовское и гуссерлевское учения о сознании; несмотря на
многочисленные различия, требующие специального
исследования, имеют некоторые общие черты. Общая черта (ближе всего
связанная с понятием «a priori») заключается в том, что
многообразие, многомерность, разнообразие пластов и измерений
«сознания» (в широком смысле этого слова), если оно вообще в какой-
либо мере попадает в поле зрения Канта и Гуссерля, подлежит,
согласно установке обоих мыслителей, методологическому
ограничению, исключению («заключению в скобки»,
«редуцированию» — по терминологии Гуссерля). В нашей литературе уже
подчеркивалось, что громадное отличие и преимущество
марксизма (скажем, от классических и современных вариантов
«сущностного редукционизма») заключается в широко намеченной и
со времени Маркса постепенно реализуемой программе объемно-
20 Особенно характерен он для цикла работ Гуссерля, который носит
название «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической
философии» (Hua III, IV, V), для «Идей феноменологии» (Hua II),
«Картезианских размышлений» и «Парижских докладов» (Hua I). Но по существу
элементы феноменологического анализа сознания содержатся во всех
опубликованных и рукописных произведениях Гуссерля.
21 К сожалению, сравнение результатов, достигнутых здесь Гуссерлем, с
богатейшим содержанием кантовской «Критики чистого разума» —
специальная, сложная и увлекательная задача историко-философского
анализа, до сих пор никем в полном объеме не выполненная.
256
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
го, многомерного, многопланового исследования сознания и
познания 22.
Но во времена Канта столь широкая и многомерная
исследовательская философская (скорее даже общегуманитарная) задача
изучения сознания еще не могла быть поставлена. Что же
касается Гуссерля, то для него, судя по документам совершенно не
знавшего марксистской философии, движение от сознательно
принятого трансценденталистского «редукционизма» в
исследовании сознания, познания к пониманию его теоретической
ограниченности (в 30-х гг.),— это был весьма сложный для личности
самого Гуссерля трагический процесс перехода, который в
результате привел скорее к постановке проблемы, чем к развитию
научно ориентированной целостной теории сознания и
познания.
Общность кантовского анализа сознания, построенного в
соответствии с принципом априорности, и гуссерлевского
феноменологического анализа, подчиненного требованиям
трансцендентального редукционизма, действительно заключалась также и в
том, что оба философа в самом деле выделили для специального
22 «Вместо однородной, уходящей в бесконечность плоскости сознания,—
пишет М. К. Мамардашвили, имея в виду анализ Маркса, — выявились
его археологические глубины, оно оказалось чем-то многомерным,
объемным, пронизанным детерминизмом на различных одновременно
существующих уровнях — на уровнях механики социального, механики
бессознательного, механики знаковых систем культуры и т. д, а с другой
стороны, составленным из наслоения генетически разнородных, т. е. в
разное время возникших и по разным законам движущихся, структур. И
уж, конечно, сознание в этих глубинах и различных измерениях не
охватывается сознательной работой размышляющего о себе и о мире
индивида. И следовательно, к ней нельзя свести ее продукты. Сознание — это
лишь одна какая либо из метаморфоз процессов объемного,
многомерного целого, лишь надводная часть айсберга. И рассматриваться оно
должно лишь вместе со своими скрытыми частями, в зависимости от них»
(Мамардашвили М. К. Анализ сознания в работах Маркса // Вопросы
философии. 1968. № 6. С. 16).
Post scriptum 2004 года. В этой части моей ранней статьи отчетливо видно,
насколько сподручно было нам, поколению 60-70-х гг., «вывести» из
Маркса то, что нам самим представлялось особенно важным и
принципиальным. И Мамардашвили «присваивал» Марксу (и не всегда
обоснованно) те мысли о возможной многоплановости анализа сознания, с
точки зрения которых подход Гуссерля представлялся более узким и менее
масштабным. Другое дело, что в те далекие годы ни мы, ни даже
западные гуссерлианцы еще не могли знать всего масштаба сделанного и
намеченного Гуссерлем, ибо большинство томов сегодняшней более чем
тридцатитомной Гуссерлианы тогда еще не было опубликовано.
Гуссерль и Кант
257
структурного исследования и подвергли исследованию
структуры сознания, которые могут быть изучены — разумеется, лишь до
известных пределов и при условии четкого научного обоснования
— как некоторые всеобщие структуры, формы, необходимые
связи, уже сложившиеся и закрепившиеся в результате многовековой
жизнедеятельности человеческого сознания, в процессе
деятельности многих и многих поколений, развивавших в ходе этой
деятельности сознание и познание.
В кантовско-гуссерлевском трансцендентализме (априоризме)
заключено любопытное, важное для философии противоречие. С
одной стороны, оба философа утвердили в правах такой
специальный анализ сознания (логико-гносеологический,
феноменологический, «априорный»), который является прежде всего
теоретическим исследованием и потому с полным правом выдвигает
иной подход, иную технику, процедуры, методику, нежели уже
утвердившиеся в естественных науках правила изучения и
описания сознания. Однако дело не только в этом. Одновременно
реально происходит обособление «сущностного» подхода — кан-
товского или феноменологического — от способов изучения
сознания в духе традиций рационализма или эмпиризма. В самом
деле, и кантовская, и гуссерлевская схемы рассмотрения
«сознания», познания имеют своим содержанием и предметом
структуры, механизм человеческой познавательной деятельности,
которые кантианец и феноменолог как бы «помещают» вне
исторического времени и любой реальной практики сознания и изучают
именно в виде «чистых» структур, возможностей, «сущностей».
Различие между Кантом и Гуссерлем в этом отношении
заключается, кратко говоря, в следующем: Кант скорее «практикует»
«сущностный» подход, причем у него априоризм часто предстает
как нечто само собой разумеющееся, не требующее ни особых
объяснений, ни обоснований. Гуссерль же пытается — и чем
дальше, тем упорнее — обосновать априоризм,
трансцендентализм, не только «практиковать» феноменологический интенцио-
нальный анализ, но и показать очень сложные в
методологическом отношении переходы от привычных способов изучения,
описания сознания к искусственной феноменологической
модели, к феноменологической сфере Als ob.
Весьма важно и интересно то, что у Гуссерля в ходе такого
методологического обоснования феноменолого-интенционального
анализа (как анализа «сущностного», априорного») происходит
смыкание с традиционной для феноменологии темой —
проблемой теоретико-познавательного обоснования логики.
Феноменолог как бы «работает» с сущностями, сущностными структурами,
9- 11375
258
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
«чистыми возможностями», которые он искусственным образом и
при помощи особой методики выделил для скрупулезного
анализа. Но разве не в аналогичной ситуации оказываются математик,
логик и другие специалисты, «работающие» с идеальными
объектами как особыми предметностями? Такой интересный для
исследования и сегодня весьма актуальный вопрос ставит и
пытается решить Гуссерль в работах «Опыт и суждение», «Формальная и
трансцендентальная логика» и др. По сравнению с «Логическими
исследованиями», где тема феноменологического обоснования
логики разбирается в плане гносеологии (феноменологически
понятой), в работах конца 20-х гг. вводится более широкая
проблематика; «обоснование» трансцендентализма и априоризма
осуществляется при помощи новых для гуссерлианства
аргументов. «Преимущество» сущности, всеобщей структуры
приобретает у Гуссерля несколько иной смысл: основатель феноменологии
подчеркивает огромное значение типа деятельности, который
может быть включен в качестве момента в практическую
жизнедеятельность сознания или может стать своеобразной
профессиональной деятельностью. Речь идет, поясняет Гуссерль, о
совершенно необходимой задаче, «универсально относящейся ко
всякой действительности» 23, о «работе» с идеальными сущностями, с
эйдосами, которые берутся именно в своей идеальности и
всеобщности, хотя и в связи с эмпирическими и фактическими
моментами. Наиболее характерные типы профессиональной
«работы» с идеальными «сущностными» объектами — математика и
логика. Когда математик говорит о круге как виде кривой и
рисует на доске, то для него рисунок есть только «внешняя опора» для
рассуждения о «сущности», законах построения и т. п. круга как
некоего идеального единства. Логик ведет речь о суждениях, и
для него определенное суждение есть «опора» для осмысления
структуры суждения. Но дело не только в профессиональной
деятельности, подчеркивает Гуссерль, ибо каждый акт мыслительной
деятельности заключает в себе момент ориентации на всеобщее,
сущность, идеальный вид. Мы говорим о красном, как таковом, а
не только об определенных красных объектах, мы осмысливаем
цвет, форму и т. д. А это значит, заключает Гуссерль, что и из
жизни обычного человека от каждой сферы конкретной
действительности открывается «путь в царство идеальной или чистой
возможности и благодаря этому — в царство априорного
мышления». И если Гуссерль иногда подчеркивает специфику
сущностного анализа как особой модели сознания, то в поздних работах
« См.: Husserl Е. Erfahrung und Urteil. Prague, 1939.
Гуссерль и Кант
259
есть у него и такие высказывания, где он обращает внимание на
универсальное значение данной модели, поскольку она выделяет,
обособляет и объединяет в «особый мир» типы деятельности
сознания, имеющие универсальный характер и тесно связанные со
всеми сферами человеческой жизнедеятельности. Однако ведь мы
говорили выше о противоречии кантовско-гуссерлевского
априоризма и трансцендентализма. Противоречие в том и заключается,
что и Кант, и Гуссерль одновременно осуществляют утверждение
и «очищение» избранных способов априорного анализа сознания
и познавательной деятельности и, с другой стороны, оба
философа — разумеется, различными способами и в разных
контекстах — не могут не поставить априорные структуры в связь с
более широким контекстом функционирования сознания и
познания. Для Канта в «Критике чистого разума» это тема связи
априорных всеобщих структур и опыта, для Гуссерля это 1) вопрос об
«усмотрении всеобщего», т. е. проблема противоречивого
объединения сущностного априоризма феноменологического интен-
ционального анализа с характернейшими для него моментами
интуитивизма, созерцательности особого типа, «очевидности»
и т. п. и 2) тема «интерсубъективности»,
социально-исторического описания сознания. Противоречие, о котором идет речь, мы
отнюдь не склонны рассматривать как проявление внутренней
ограниченности и теоретической незавершенности кантианства и
феноменологии. Напротив, в кантовском учении о сознании сама
попытка связать в единое целое всеобщие структуры сознания и
«опытное применение» категориально-рассудочных всеобщих
форм, как нам представляется, принадлежит к числу наиболее
перспективных тенденций философии Канта, до наших дней не
утративших своей актуальности. И у Гуссерля учение о
«сущностном созерцании», особая «технология» изучения сознания через
«теоретическое усмотрение» некоторых его всеобщих структур
принадлежат к числу наиболее плодотворных результатов,
достигнутых к настоящему времени феноменологией.
Однако же мировоззренческое осмысление данного
противоречия и преодоление идеалистических, метафизических
предпосылок и выводов кантовско-гуссерлевского априоризма как
особой «техники» и способа трансцендентального анализа сознания
— это важный философский вопрос, решения которого мы не
найдем ни у Канта, ей у Гуссерля.
Характерно, что Гуссерль неплохо подмечает некоторые
очевидные слабости кантовской позиции. Но при этом Гуссерль, во
всяком случае в работах 20-х гг., еще не мог усмотреть
действительных выходов из тупика априоризма (трансцендентализма как
260
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
особого способа анализа сознания и обоснования этого способа).
Для доказательства приведем несколько критических
размышлений Гуссерля, направленных против кантовского априоризма.
Кант прав, начинает свое рассуждение Гуссерль, когда
усматривает всеобщее значение априорного, т. е. всеобщее и
необходимое значение «сущностных структур» сознания, познания,
знания. Но ведь у Канта, вполне справедливо напоминает
Гуссерль, центральный смысл понятия a priori связан с
первоначальным значением этого слова: «априорный» — значит данный до
опыта, или, как уточняет Кант, данный до всякого опыта.
Основная ошибка Канта, заявляет Гуссерль, заключается в том, что
родоначальник немецкой классической философии вообще
связывает проблему априорного с вопросом о происхождении знания
из опыта, в частности с вопросом об аффицировании нашей
чувственности (хотя на деле Кант не устанавливает связь, а
«разрывает» ее).
«Кант не располагает подлинной идеей рациональности, —
пишет Гуссерль, — ас этим тесно связано отсутствие у него
подлинного понятия a priori как сущностной необходимости и
соответственно сущностной всеобщности, абсолютно данной
посредством сущностной интуиции. Кант говорит: необходимость и не
знающая исключения всеобщность суть «признаки» a priori.
«Признаки» в данном случае — признаки происхождения из
чистой субъективности, из субъективности, поскольку она не аффи-
цирована извне посредством ощущения. Такая конструкция
является трансцендентально-психологической, она есть дурное
наследие рационалистической традиции. Нет, подлинное a priori не
имеет никакого отношения к вопросу, аффицирован субъект или
не аффицирован, имеет ли он познавательные способности или
не имеет их» (Hua VII, 402).
Продолжая свою аргументацию, Гуссерль разбирает кантов-
скую идею синтетических суждений a priori. Если мы говорим
вслед за Кантом, что суждение «2<3» есть априорное
синтетическое, то что это означает, с точки зрения Канта? Для Канта,
заявляет Гуссерль, «априорные синтетические суждения не суть
сущностные всеобщности и необходимости, но выражают
специфически человеческую необходимость значения: они связаны со своеобразием
фактической субъективности, человеческой по своему типу (курсив
мой. — H. М.). Он все время подчеркивает антропологический
момент. Например, для нас, людей, которые обладают
чувственностью и должны непременно упорядочивать материал
чувственных впечатлений при помощи наших форм пространства и
времени, имеет значение чистая геометрия. Речь не идет о ее чис-
Гуссерль и Кант
261
том значении для всякого чистого субъекта вообще...» (Ibid.
S. 403).
В подчеркнутых словах и последующем разъяснении
сконцентрировано то размежевание Гуссерля (до 20-х гт.) с Кантом и
вообще с классической философской традицией в понимании
проблемы всеобщего и необходимого, которое самому Гуссерлю
представляется весьма и весьма существенным, прямо-таки
кардинальным. Кант твердо и определенно исходит из того, что
всеобщее и необходимое знание существует и что оно — именно в
силу абсолютной всеобщности и необусловленной
необходимости — не может быть выведено из всегда относительного и всегда
обусловленного (притом во многих смыслах, отношениях,
направлениях) опыта. С каким конкретным, реальным опытом мы
ни сопоставляем всеобщее и необходимое знание, последнее
всегда как бы «перешагивает» рамки и границы всех возможных
опытов в отдельности и в совокупности. Поэтому оно несводимо к
опытным источникам и невыводимо из них, рассуждает Кант,
вводя для обозначения всех этих признаков — несводимости,
невыводимости, необусловленного и как бы «заранее» заданного
значения всеобщего — понятие априорного. Однако при этом
сама проблема регулирующего значения всеобщих априорных
структур для опыта остается центральной проблемой
философии.
Суть гуссерлевского возражения против такого понимания
a priori может быть выражена в двух основных пунктах: 1) кантов-
ское понятие a priori в большинстве случаев берется как само
собой разумеющийся факт, как «данность». Здесь Гуссерль прав, и
его замечание о том, что Кант как бы полагает решенными те
вопросы, которые для последующей философии составляют целый
комплекс новых сложнейших проблем, вполне справедливо.
2) Но главное же, продолжает Гуссерль, для Канта «данность»
эта не гносеологического и логического, а антропологического и
психологического характера. На вопрос о природе «данности» Кант
по большей части отвечает: таково уж человеческое сознание,
такова уж природа человеческого мышления... Отсюда второе
возражение Гуссерля (в 20-х гг.): Кант, утверждает он, вообще напрасно
переводит разговор из логико-гносеологического плана в
субъективно-психологический. Ошибка его, следовательно, не в том, что
он признает изначальную «данность» сущности,
необусловленное значение всеобщего и необходимого знания, но в том, что он,
решая вопрос о сущности и всеобщем, решается обратиться к
фактам, к реальности, к действительным процессам сознания, т. е.
к совершенно иному плану и «срезу» рассуждения. Главная идея Гус-
262
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
серля здесь такова: ни о чем «человеческом» в его специфике и
релятивности вообще нельзя говорить, анализируя «чистое»
сознание, этот «необусловленный», вымышленный мир,
«наличествующий» в сознании (феноменолога) тогда и до тех пор, когда и
до каких пор осуществляется феноменологический анализ.
Абсурдно, конечно, на этом основании отвергать существование
фактов и всего «поля» реальности сознания, продолжает
Гуссерль. «Но если сознание есть сознание, то возможность a priori
существует для всякого акта; значит, никакой факт ничего не
может изменить в том, что в любом потоке сознания в соответствии с
идеальной возможностью могли бы возникнуть акты, которые
благодаря сущности сознания, как такового, включаются именно
как возможности» (Ibid. S. 389). Итак, Гуссерль считает, что
наиболее последовательное осуществление восходящего к Канту
замысла — анализировать сознание как совокупность «чистых»
возможностей — означает абсолютное исключение любых
«коррелятов», кроме самого «чистого» сознания, в этом измерении вполне
самодостаточного. Поэтому необходимо и достаточно при
анализе сущностных структур просто говорить: «в соответствии с
сущностью и ее законами», «в соответствии с сущностными формами
и структурами». Значит, в случаях, когда Кант прибегает в
качестве объяснения к человеческим способностям, Гуссерль
предлагает обоснования такого, например, типа: к сущности сознания
(или к сущности восприятия, предметности, к сущности
корреляции природы и сознания и т. п.) принадлежит то, что она
обладает такими-то и такими-то структурными особенностями и т. д.
Гуссерлевская критика кантовского априоризма в известной
степени обнаруживает реальные слабости философии Канта.
Гуссерль с полным основанием объявляет кантовское понятие об
априорном знании смутным и даже содержащим в себе
некоторый элемент мистики. Верно и то, что понятие a priori и
концепция априоризма связаны у Канта с противоречиями и
трудностями, унаследованными от предшествующего рационализма: ведь
для последнего камнем преткновения оказалась именно та
проблема, постановка и исследование которой составляют его
непреходящую заслугу, — проблема всеобщего и необходимого знания.
Пока речь шла об описании такого знания, фиксировании его
особенностей, структуры, методов получения и обработки,
рационалистическая философия и логика были способны
предложить целый ряд ценных, интересных и плодотворных решений.
Но едва затрагивался вопрос о генезисе всеобщих и необходимых
истин, их происхождении, надындивидуальном характере и в то
же время непререкаемом значении для всякого индивида, рацио-
Гуссерль и Кант
263
нализм заходил в тупик, в результате чего возникали мистические
учения о врожденных идеях 24, о божественном разуме как
«вместилище» и «хранилище» всеобщего знания и т. п. Мистицизм
этих результатов отталкивал Канта, и он спешил откреститься от
теории врожденных идей и теологических ориентации прежней
метафизики. Однако концепция априоризма — и здесь Гуссерль
прав — является проявлением того, что перечисленные выше
роковые и для эмпиризма, и для рационализма проблемы все-таки
остались у Канта неразрешенными. Но и сам Гуссерль весьма
серьезно заблуждается, когда прибегает к не менее мистическим
ссылкам на «природу сущности» — человека и его способности.
Вряд ли возможно таким способом преодолеть априоризм в
теории познания. Для объяснения реальных особенностей
«сущностного» анализа сознания и в то же время для преодоления кан-
товско-гуссерлевского априоризма необходимо осуществить
логичный, последовательный, строгий в теоретическом отношении
переход от исследования структурных «связей», «всеобщих»
механизмов сознания и познания человека к постановке и решению
иных, уже не чисто структурных, а генетических и социально-
исторических проблем объяснения сознания и познания.
Рассматривая кантовское учение о сознании, Гуссерль
упрекает Канта в том, что в «Критике чистого разума» есть ссылки на
человеческую субъективность, которая к тому же просто
«предположена» в качестве данности, но отнюдь не исследована25. Что
же, упрек достаточно справедлив. Хотелось бы только еще раз
подчеркнуть, что гуссерлевская философская концепция
трансцендентализма заслуживает того же.упрека: вопрос о сознании,
познании, знании как элементах социально-исторической
деятельности познающего субъекта, члена человеческого общества,
оставался в работах Гуссерля до конца 20-х гг. либо решительно
24 Кстати, Гуссерль отнюдь не всегда последователен в преодолении
мистических, «антропологических» способов выражения старого
рационализма. Так, он говорит, что существует «огромная сфера врожденного
a priori» и что феноменология является «раскрытием этого врожденного
a priori в бесконечном разнообразии его форм» (Hua I, 28). И хотя
Гуссерль при этом отвергает «наивное понятие» врожденности старого
рационализма, само сохранение этого понятия, равно как и целого ряда
теологически звучащих определений и формулировок, — явная
непоследовательность. А ведь за непоследовательность, противоречивость и
мистически-метафизические рудименты Гуссерль подвергает резкой
критике Канта.
25 «.Психологическое познание способностей... Кант с самого начала
делает предпосылкой критики разума...» (Hua VII, 369).
264
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
«редуцированным», либо изучаемым исподволь, в качестве
побочной, второстепенной темы.
В таком же положении «оставленного в стороне»,
«заключенного в скобки» оставался и вопрос о внешнем мире и опыте
человека, касающегося окружающей его природы. Если мы примем во
внимание заостренную здесь противоречивость гуссерлианства,
становится вполне понятным, почему в рамках феноменологии
возник очень глубокий критицизм, направленный не столько
против частных результатов феноменологического анализа
(вполне оправданных и интересных процедур или, точнее,
аспектов феноменологического метода), сколько против общего стиля
феноменологического учения о сознании и феноменологической
философии как одного из типов идеалистического «трансцен-
денталистского» философствования.
Метод трансцендентализма, вынуждены были признать
некоторые ученики и последователи Гуссерля, покоится на некоторых
ошибочных предпосылках и убеждениях общефилософского
характера.
Каковы же эти предпосылки? Одна из них, как правильно
заметил крупнейший из феноменологов М. Мерло-Понти,
заключается в том, что трансцендентальная («рефлективная»)
философия заменяет «мир» мыслимым бытием. Но ведь из-за этого,
продолжает свою критику феноменологии Мерло-Понти,
философия попросту утрачивает мир: мир исчезает для нее потому, что
превращается в предмет сознания и затем приводится к уровню
идеи. Такая философия, и здесь Мерло-Понти снова прав,
постоянно видит и рассматривает мир как коррелят сознания; явно или
молчаливо исходя из идеи коррелятивности, трансформируя
реальные предметы и реальный мир в особые структуры сознания и
занимаясь только последними, трансцендентальная философия
совершает ошибку не только в отношении мира, но и в
отношении самого сознания. А если это так, продолжает Мерло-Понти, в
«чистом» сознании, с которым неизменно имеет дело всякая
трансцендентально-рефлективная философия, уже с самого
начала теряются действительные различия между вещью и
предметом сознания, миром и сознанием, Я и другим человеком.
Сознание как бы «повисает в воздухе» и лишается всех истоков
жизненности и реальности.
Критика Мерло-Понти вполне верна и убедительна. Она тем
более важна, что осуществляется феноменологом, признавшим
весьма ценными некоторые структурные достижения
гуссерлианства и развившим их в особенности применительно к проблеме
восприятия. Это, таким образом, осуществленная «изнутри» и с
Гуссерль и Кант
265
полным пониманием дела самокритика феноменологии.
Впрочем, здесь Мерло-Понти в известной степени за «самокритику»,
осуществленную самим Гуссерлем: ведь последнему пришлось
прийти к переосмысливанию феноменологии и к созданию
новых типов аргументации. Особенно важным является поворот,
осуществленный в «Кризисе». Введение Гуссерлем проблемы
Lebenswelt (жизненного мира), как мы уже говорили в параграфе I,
объективно было косвенным признанием ошибочности
некоторых аспектов феноменологической философии — в частности,
прежнего стремления к последовательному осуществлению
трансцендентализма, к «очищению» сознания как «чистого»
объекта феноменологического интенционалъного анализа. По
существу движение к новому типу обоснования было продиктовано
теоретической и методологической несостоятельностью гуссер-
левского «трансцендентального идеализма». Однако Гуссерль и в
«Кризисе» не был готов пожертвовать принципами
трансцендентализма и идеализма, хотя он уже исходил из необходимости
переосмыслить и аргументировать учение о сознании на основе
рассмотрения практической, дотеоретической деятельности
человека в социально-историческом мире. Более позднее
трансцендентально-феноменологическое учение о сознании в известной
степени имеет тенденцию выйти за те узкие рамки, которые были
поставлены — и во многом искусственно — самим Гуссерлем.
«Кризис» знаменует новый этап развития феноменологии и ее
противоречий, а соответственно и новый раздел в
феноменологическом истолковании классической философии, в частности
философии Канта, которому, как мы писали в параграфе I, и в
последней работе Гуссерля уделено особое внимание. Более
подробный специальный анализ истолкования кантианства в
«Кризисе» выходит за пределы ограниченной задачи, которую автор
мог поставить и выполнить в данной работе.
Современное исследование
философии Гегеля:
новые тексты и проблемы
Одна из отличительных особенностей гегелеведения 60—70-х
гг. заключается в том, что значительно расширилась
текстологическая основа, на которой осуществляется изучение философии
Гегеля. Философ, чье представление о гегелевской философии не
выходит за рамки текстов, еще в 50-х — начале 60-х гг.
признанных необходимыми и достаточными, сегодня вряд ли смог бы
принимать профессиональное участие в дискуссиях гегелеведов.
Разумеется, сказанное не означает, что чем-то заменены
классические тексты «Феноменологии духа», «Науки логики»,
«Энциклопедии философских наук», «Философии права». Однако разросся
общий массив текстов, в который теперь включаются эти
классические работы и на базе которого можно обоснованно судить о
становлении, изменении, целостном содержании философии
Гегеля.
Возьмем, к примеру, йенский период творчества Гегеля (1801
— 1807 гг.), завершением которого явилась «Феноменология
духа». В историко-философских исследованиях 50-х — начала 60-х
гг., когда «Феноменология» приобрела особую популярность,
другие йенские тексты Гегеля почти не привлекали к себе
интереса. К тому же многие из них в то время не были опубликованы
или вообще не были найдены. В наши дни положение
существенно изменилось. С конца 60-х гг. в Собрании сочинений Гегеля
гамбургского издательства «Феликс Майнер» вышло четыре
объемистых тома (Bd. 4, 6, 7, 8), включивших в себя как известные
прежде, но уточненные, так и впервые опубликованные йенские
тексты Гегеля 1. Это пробудило плодотворный исследовательский
интерес к «йенскому Гегелю» — к датировке произведений, ис-
1 Hegel G. W. F. Gesammelte Werke. Felix Meiner Verlag. Hamburg Bd 4.
Jenaer kritische Schriften. Hrsg von H. Bucher und O. Pöggeler, 1968. Bd. 7. Jenaer
Systementwürfe II. Hrsg. von R F. Horstmann unter Mitarbeit von J. H. Trede.
1976. Подготавливается к публикации Bd. 5. Schriften und Entwürfe
(1799—1808), содержащий вновь обнаруженные тексты.
Современные исследования философии Гегеля 267
толкованию, новой оценке наполненного исканиями сложного
процесса идейного становления Гегеля в Иене.
В нашей стране обогащение доступной широкому читателю
текстологической основы выразилось в публикации ряда ранее не
переведенных на русский язык йенских (и более поздних) текстов
Гегеля2, что является серьезным историко-философским
достижением. Вместе с тем немалое количество текстов, написанных
Гегелем в Иене (например, первое опубликованное сочинение
Гегеля — «Различия между системами Фихте и Шеллинга»), в
русском переводе пока еще не появлялось.
Изменение текстологической основы уже затронуло и еще
больше затронет в ближайшем будущем изучение философского
развития Гегеля, продолжавшегося после опубликования «Науки
логики» и первого варианта «Энциклопедии философских наук»
в берлинский период жизни и творчества философа (1818—1831
гг.). Это было время, когда на фундаменте логики возникла
обширная гегелевская система философского знания. Обобщенно
схваченные философией духа как второй (после философии
природы) частью «Энциклопедии» узлы системы разрослись в
специально разработанные Гегелем философские дисциплины
(философия права, религии, искусства, философия истории и история
философии). Способом разработки этих дисциплин явились
читанные философом сначала в Гейдельбергском, а затем
Берлинском университетах лекционные курсы. Из них сам Гегель
обработал и опубликовал в конце 1820 г. только курс по философии
права. Другие текстологические источники берлинского периода
— это (редко) рукописи Гегеля, а главным образом записи
лекций, которые были сделаны его слушателями. И хотя записи
гегелевских лекций — тексты «вторичные», к ним традиционно
установилась достаточно высокая степень доверия, чему есть ряд
причин. Ведь во всех случаях для проверки существует канва
«Энциклопедии» — в ней содержатся принципы философии
права, религии, искусства.
Далее, адекватности записей способствовал обычай
университетской практики Германии XIX в.: профессора именно читали
лекции по заранее подготовленному тексту; этого обычая тем
более придерживался Гегель, что он не доверял собственной
способности свободной импровизации и учитывал свое специфиче-
2 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет в двух томах / Под ред. А. В. Гулыги,
М., 1970 и 1971; Гегель Г. В. Ф. Политические произведения / Под ред.
Д. А. Керимова, Л. С. Мамута и В. С. Нерсесянца. М, 1978 г.)
268
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ское швабское произношение. Ориентируясь к тому же на
желание слушателей (тоже типичное для той эпохи) делать подробные
аутентичные записи лекций, Гегель — что подтверждается
свидетельствами современников — старался на лекциях читать
заготовленные тексты по возможности медленно и внятно; в ряде
случаев он даже диктовал принципиально важные положения курса.
Разумеется, существенное значение имела способность
слушателей записывать максимально быстро, точно, со знанием дела, в
чем и отличились некоторые из гегелевских учеников — их
записи были признаны ценными источниками для изучения развития
мысли Гегеля в Берлине. Поэтому, скажем, в нашем первом
издании лекций Гегеля по философии религии3 вместе с
подготовительными текстами самого философа были использованы записи
его слушателей (Л. Хеннинга, К. Михелета, И. Дройзена).
Наряду с текстами лекций, которые были известны ранее,
теперь в распоряжении гегелеведов имеются новые варианты,
новые материалы. В близком будущем нас ожидает целый поток
публикаций: так, издательство «Феликс Майнер» наметило к
изданию десять томов гегелевских лекций — частично в ранее
известных записях, но в значительной степени в вариантах,
обнаруженных в последнее время. В 1983 г. уже вышел из печати
третий том 4, включающий «Лекции по философии религии.
(Введение и понятие религии)» 5. Это издание во всей полноте его
значения заслуживает специальной оценки. Отмечу только основные
моменты, определяющие ценность новой публикации (издателем
является западногерманский философ Вальтер Йешке). 1) Если
прежние публикации содержали гегелевские рукописи и записи
лекций по философии религии, читанных в 1821 6 и в 1824 гг., то
новое издание присоединяет к ним материалы 1827 и 1831 гг., что
позволяет учесть развитие гегелевских взглядов. 2) Издание
снабжено новыми текстологическими пояснениями и примечаниями.
3) Параллельно с немецким текстом появляются испанский
вариант, подготовленный в Аргентине Рикардо Феррарой, и
английский, издаваемый в США Петером Ходсоном. 4) Свидетельством
3 Гегель Г. В. Ф. Философия религии в двух томах. Т. 2. М., 1977.
4 Post scriptum 2004 года. К настоящему времени это издание пополнилось
новыми томами.
5 Hegel G. W. F. Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte.
Bd. 3. Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Teil 1. Einleitung. Der
Begriff der Religion. Hrsg. von W. Jaeschke. F. Meiner Verlag, Hamburg, 1983,
426 S.
6 Hegel G. W. F. Religionsphilosophie. Bd. I. Die Vorlesung von 1921. Hrsg. von
K. H. Ilting. Bibliopolis, Napoli, 1979, 768 S.
Современные исследования философии Гегеля 269
плодотворного интернационального сотрудничества явилось
также то, что в нем принял участие Институт философии АН
СССР: Гегелевский архив в Бохуме получил копию хранящейся в
Центральном партийном архиве в Москве рукописи, которую
подготовил Бруно Бауэр для второго издания философии
религии Гегеля; за эту помощь в предисловии издателя выражена
благодарность А. В. Гулыге, взявшему на себя посредничество в
предоставлении материала.
В 1983 г. появилась другая интересная публикация, важная для
понимания идейного развития Гегеля,— «Гегелевская философия
права. Лекции 1819/20 гг. в записи»7, осуществленная в
издательстве Зуркамп Дитером Хенрихом, Президентом международного
Гегелевского объединения8. В 70-х гг. уже публиковались
уточненные и новые материалы по философии права Гегеля 9. Были
предложены, в том числе в работах советских исследователей10,
более глубокие и современные ее интерпретации, велись
дискуссии гегелеведов ".
Издание лекций 1819/20 гг. дает новый ценный материал для
изучения философии права Гегеля, сообщает дополнительные
7 Hegel G. W. F. Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20 in einer
Nachschrift. Hrsg. von D. Henrich. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1983,389 S.
Далее при цитировании и ссылках: H. Ph. d. R.
8 С этим объединением в последние годы сотрудничает Институт
философии АН СССР, что выразилось в проведении совместного симпозиума,
посвященного «Науке логики» Гегеля в 1980 г. в Москве (А. С. Богомолов
с точностью и глубиной, какими отличались его работы, дал оценку
дискуссий в журнале «Вопросы философии», № 2 за 1981 год); в участии
советских философов в работе конгресса Гегелевского объединения в 1982
г. в Штутгарте; в выступлении автора этих строк с докладом и в
дискуссиях на симпозиуме объединения на тему «Гегелевская логика
философии» (о. Капри, май 1983 г.).
9 Hegel G. W. F. Vorlesungen über Rechtsphilosophie. 1818—1831 Ed. und
komment. in 6 Bdn. Hrsg. von K. H. Ilting. Bd. 1,2,3,4, Stuttgart, 1973—1974.
10 Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права: история и
современность. М.: Наука, 1984; Пионтковский А. А. Учение Гегеля о праве и
государстве его уголовно-правовая теория. М.: Госполитиздат, 1963; Pay И. А.
Некоторые вопросы интерпретации философии права Гегеля в свете
новых публикаций его наследия. Автореф. дисс. М., 1980.
11 См. Hegels Philosophie des Rechts. Die Theorie der Rechtsformen und ihre
Logik. Hrsg. von D. Henrich und R. P. Horstmann. St. Klett-Cotta, 1982. Эта
книга содержит материалы симпозиума Гегелевского объединения,
состоявшегося во Франции в 1979 г.. С публикацией «К вопросу о
позитивной оценке противоречий философии права Гегеля» в ней выступает
акад. Т. И. Ойзерман.
270
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
стимулы для углубления нашего понимания некоторых
принципиальных идей гегелевской философии. Далее на основе
рассмотрения особенностей новой публикации будет предпринята
попытка сделать шаг в этом направлении.
История обнаружения лекций 1819/20 гг. не просто
любопытна, она в какой-то мере характеризует современное состояние
ответственной и увлекательной поисковой работы гегелеведов.
Дитер Хенрих начал систематический розыск ряда гегелевских
материалов, которые, как он доказал, были собственностью
Арнольда Генте (A. Genthe); предполагалось, что они перекочевали в
прошлом веке в США12. Были разосланы письма в американские
университетские библиотеки. Искомые рукописи не были
обнаружены. Однако в библиотеке Лилли университета Индианы
неожиданно нашли до сих пор никем не замеченную рукопись,
представляющую запись лекций Гегеля по философии права и
относящуюся, как это точно установлено соответствующей
экспертизой, к 1819/20 г. Лекции представляют собой беловик,
принадлежащий руке какого-то профессионального переписчика и
сделанный, очевидно, с черновика слушателя лекций. Кто был
слушатель, пока неизвестно. Поначалу он отнесся к делу без
особого рвения, почему первые разделы оказались лаконичными. К
тому же имеются тематические пропуски, из чего видно, что
автор записей по каким-то причинам не присутствовал на ряде
лекций. Но увлечение его гегелевским курсом растет, записи
становятся все более подробными. Впрочем, все записи — и начальные
и последующие — при сравнении с имеющимися материалами
предстают как добротные, во многом «аутентичные». Не ясно,
какова была судьба лекций после их переписки, кто еще, кроме
автора, держал их в руках или был их собственником (а на полях
есть замечания, в тексте есть подчеркивания, относящиеся
предположительно ко второй половине XIX в.). Известно только, что 22
мая 1896 г. рукопись поступила в распоряжение университета
Индианы. Она была куплена в Германии для продажи в США за
более чем скромную сумму в 1 доллар 56 центов.
Значение новой публикации станет яснее, если вспомнить об
истории чтения Гегелем лекций по философии права и
соответственно об источниках, на которые до сих пор опиралось
изучение этого важнейшего раздела гегелевской системы. Гегель читал
лекции по философии права сначала в Гейдельберге в 1817/18 г.,
а затем в Берлине — в 1819/20, 1821/22, 1822/23, 1823/24 гг.; он
также начал в 1831 г. курс, который был прерван смертью. Гей-
12 Henrich D. Long-Missing Hegel Papers Sought. In: Manuskripts XXX, 1978.
Современные исследования философии Гегеля 271
делъбергский курс уже опирался на разработки, которые
отличались от государственно-правового раздела вышедшего тоже в
Гейделъберге первого издания «Энциклопедии философских
наук» (1817 г.). Поскольку содержание, объем материала и
расположение параграфов существенно изменились, Гегель надиктовал
слушателям по крайней мере основные параграфы нового курса.
Из гейдельбергских лекций пока опубликован небольшой
кусочек в записи Хомайера 13; уже готовится к публикации еще одна
интересная находка последних лет — записи, сделанные в
Гейделъберге в 1817/18 г. студентом-юристом Ванненманом14.
Изменение государственно-правовой концепции Гегеля по сравнению
с гейдельбергской «Энциклопедией» нашло отражение в тексте
«Философии права» (публикация пришлась на самый конец 1820
— начало 1821 г.)15.
Гегель понимал публикацию как «сжатый очерк» (Grundrisse),
как компендиум, помогающий восприятию существа лекций.
Благодаря тексту лектор затем получил возможность расширить
материал, углубить истолкование проблем. Ученик и последователь
Гегеля Э. Ганс, издатель «Философии права» в первом
посмертном Собрании сочинений Гегеля, добавил к гегелевскому тексту
около 200 примечаний, сделанных на основе записей лекций.
Наиболее подробные из них — записи Г. Готто (1822/23 г.) и
К. Грисхайма (1823/24 г.). Существенно, что Г. Готто и К. Грис-
хайм записывали лекции Гегеля, читанные уже после публикации
«Философии права». И лектор и слушатели (при обработке
записей), несомненно, сообразовывались с имеющейся публикацией.
Вновь изданные записи 1819/20 г.— единственный
существовавший до публикации записей Ванненмана систематический
источник, позволявший судить о государственно-правовых,
этических, философско-исторических взглядах Гегеля в период,
непосредственно предшествовавший изданию «Философии права», об
их изменении в весьма интересной, политически напряженной
ситуации 1819—1820 гг..
13 См.: Hegelstudien. VII, 1972.
14 См. об этом: Н. Ph. d. R. S. 308, 371. См. также следующую главу этой
моей книги.
is Гегель дал книге следующее название: «Основные черты философии
права, естественного права и государственной науки в сжатом очерке
(«Grundlinien der Philosophie des Rechts und Naturrechts und
Staatswissenschaft im Grundrisse». Berlin, 1821). Впоследствии утвердились краткие
названия «Основы философии права» и «Философия права».
272
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Отличие рассматриваемых материалов (от опубликованного
Гегелем текста, от имевшихся ранее записей, а также от уже
учтенных Д. Хенрихом записей Ванненмана) издатель видит в
следующих основных моментах.
1. Иначе формулируется знаменитый «двойной принцип»
(Doppelsatz) Гегеля о разумном и действительном. Далее в статье
будет подробно разбираться именно эта проблематика. Но
прежде — о других новых моментах.
2. Начавшееся еще во Франкфурте (1797—1800 гг.) гегелевское
преодоление кантовской философии, в частности, переросло в
опубликованном тексте «Философии права» в своеобразное
учение о нравственности (см. §§ 129—141, посвященные проблемам
добра и совести). Однако, как считает издатель, в имевшихся до
сих пор материалах не нашла полного выражения попытка Гегеля
конкретно разработать собственную позицию по данному кругу
вопросов. «Но в опубликованных теперь лекциях, — пишет
Д. Хенрих,— Гегель, по всей видимости, под влиянием особой
ситуации склонился к тому, чтобы (в известной степени независимо
от ранее сформулированных параграфов и используя
убеждающую силу непосредственной речи) на новом уровне развернуть
свою сокровенную аргументацию против моральных форм
субъективности, которая с подлинно искренней силой и
конкретностью предстала в его ранних произведениях. Таким образом, в
данной записи имеется текст, который вместе с франкфуртскими
сочинениями и критикой морального мировоззрения в
«Феноменологии духа» включается в состав важнейших
морально-критических сочинений Гегеля» (H. Ph.d.R. S. 18). Таким образом,
появился новый материал к теме «Кант и Гегель», которая у нас еще
ждет своего современного обстоятельного исследования.
3. Следующий момент также существен. Речь идет о новых
аспектах в гегелевском понимании гражданского общества. По
мнению издателя, позиция Гегеля в вопросе об отношении
бедности, нужды к гражданскому обществу выражена в лекциях
1819/20 г. с наибольшей радикальностью (см. H. Ph.d.R. S. 196—
197 ff.).
4. Опираясь на публикуемый текст, Д. Хенрих стремится
внести новые моменты в истолкование весьма существенной для
гегелевской философии права концепции княжеской власти.
Исследователи исходят из признания специфической
двойственности этой концепции. С одной стороны, в учении Гегеля о
конституционной монархии (неизменно предпочитаемой, что видно и
из публикуемого текста, другим формам государственного
правления) на первый план выдвигается идея о всеобщности государ-
Современные исследования философии Гегеля 273
ства и зависимости деяний, воли, решений монарха от этой
«всеобщности». С другой стороны, поскольку и сам монарх, «князь»,
провозглашается «институтом», то его воле, единоличным
решениям приписывается определенная самодостаточность. Гегель
обсуждает в данном контексте животрепещущую проблему
государственно-правовой практики тогдашней Германии, и не ее
одной: освящается ли средствами теории более сильная власть
монарха как определенного лица или на первый план выдвигаются
«общие интересы» (причем и при расшифровке последних
возможны существенно различающиеся варианты — от
революционно-демократической защиты воли народа до апологии власти
бюрократического государственного аппарата). Молодой Маркс,
когда он придерживался позиций революционного
демократизма, в своих критических работах о гегелевской философии права
противопоставлял теоретической двойственности концепции
Гегеля четкую по политическим следствиям позицию. «Суверенитет
монарха или народа, — вот в чем вопрос!» Маркс настаивал на
том, что при различении двух совершенно противоположных
понятий суверенитета (суверенитет монарха или суверенитет
народа) следует однозначно выбрать суверенитет народа, а не вести,
подобно Гегелю, речь «об одном и том же суверенитете,
существующем на двух сторонах» 16.
Теоретическая и в известной степени политическая
двойственность действительно внутренне присуща философии права
Гегеля: «выбирая» в качестве наиболее предпочтительной
конституционную власть монарха, Гегель, переживший влияние
Французской революции, вовсе не был склонен пожертвовать и
суверенитетом народа. Это более или менее признано и западными
исследователями философии права. Дискуссии ведутся вокруг
вопросов о том, в чем источник этой двойственности и сколь силен
консервативный крен концепции княжеской власти. К.-Г. Илтинг,
издатель и один из наиболее известных на Западе
интерпретаторов гегелевской философии права, склонен акцентировать все
нарастающую «правизну» гегелевской позиции (относя этот
процесс к 1819 г.) и выводить «консерватизм» Гегеля из конкретной
исторической ситуации. Усиление цензурного режима в законах
от 18 октября 1819 г., начавшиеся политические преследования
студенчества, интеллигенции, неустойчивость положения в
Берлине, куда Гегель недавно прибыл, нарастание «официозных»
амбиций философа — все это, по мнению Илтинга, порождало
16 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. I. С. 250.
274 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
страх и приспособление к конкретной ситуации, что выразилось
в существенном изменении, в угоду политике, под влиянием
цензуры именно философско-правовых взглядов мыслителя в тексте
1820 г.17
Д. Хенрих, используя новые материалы, предлагает несколько
иную трактовку. По его мнению, никак не следует
преувеличивать страх и стремление Гегеля приспособиться к «драматически
развивающейся ситуации» 18. Цензурные установления, принятые
18 октября 1819 г., напоминает Д. Хенрих, внедрялись в практику
лишь постепенно; и Гегель вряд ли испытывал при публикации
«Философии права» искажающее давление цензуры. Что касается
лекций 1819/20 гг., то издатель не находит оснований говорить об
их резко усилившемся консерватизме по сравнению с
предшествующими текстами и материалами. Напротив, в ряде пунктов
они более радикальны, чем другие документы берлинского
периода. Публикация же 1820 г., соглашается Д. Хенрих,
обнаруживает сдвиг вправо. Но источник этого усматривается им не во
влиянии социально-исторических условий и тем более не в
воздействии конкретной общественно-политической ситуации, а
лишь в более последовательном развертывании тенденций,
заложенных в самой теории. «Все колебания Гегеля при определении
позиции в политической теории в конечном счете были
обусловлены ее основными принципами. И поэтому все вопросы,
поскольку они должны заслуживать теоретического интереса, в
конце концов должны быть нацелены на условия формирования
этой теории как таковой» 19.
Здесь конкретный текстологический анализ перерастает в
дискуссию, затрагивающую фундаментальные теоретические и
методологические принципы философии права, принципы
объяснения философии Гегеля в ее сложном, противоречивом
взаимодействии с эпохой. Эта дискуссия приобретает особый интерес и
новое звучание в связи с наиболее, пожалуй, «сенсационным»
моментом лекций 1819/20 г. — иной формулировкой так
называемого «двойного принципа», устанавливающего
диалектическую связь «разумного» и «действительного».
В Предисловии к «Философии права» 1820 г. двойной
принцип сформулирован так: «Что разумно, то действительно; и что
17 Позицию К.-Г. Илтинга см. в издании, названном в сноске 6: Bd. 1.
S. 25-63.
« H. Ph. d. R. S. 28.
19 Ibid. S. 30 (Подч. мною. — H. M.).
Современные исследования философии Гегеля 275
действительно, то разумно» 20. В тексте лекций 1819/20 гг.
гегелевская формула звучит следующим образом: «Что разумно, станет
действительным, и что действительно, станет разумным»21.
Бросается в глаза различие между редакциями двойного
принципа: формула записей лекций «переносит» единство
действительного и разумного в будущее время, иными словами, в
плоскость становления, развития, тогда как в тексте 1820 г.
«стилистически» фиксируется связь действительного и разумного в
качестве некоторого данного, осуществившегося результата. Д. Хенрих
не просто различает, но противопоставляет обе редакции.
Применительно к опубликованному Гегелем тексту «Философии
права» он подчеркивает «повелительно-декламационное» (imperial-
deklamatorisch) и даже апологетически-консервативное звучание,
«дефинитивность» двойного принципа, который «освобождается
от противоречия» 22.
Сегодня нужна более точная интерпретация — на основе
прежде известных и недавно обнаруженных текстов — понятий
«разумное» и «действительное», их связи и взаимодействия в рамках
гегелевской философии. Далее будет предпринята попытка
раскрыть общий смысл понятия «разум» в философии Гегеля и
показать, как оно конкретизируется в учении об объективном духе
(в философии права), в контексте которого и сформулирован
двойной принцип.
Общий смысл и центральные функции понятия разума,
ключевого для всей его философской системы, Гегель устанавливает и
проясняет через его соотнесение с другими фундаментальными
для его философии понятиями: «дух», «логическая идея». Для
понимания особого смысла гегелевского «разума» прежде всего
необходимо иметь в виду различение духа (дух I) как «абсолютно
первого», как принципа73, и «действительного духа» (дух II),
который составляет предмет философии духа. В тех случаях, когда
Гегель говорит о духе как «абсолютно первом» (и о том, что в
20 Гегель. Философия права // Сочинения. М-Л., Т. VII. 1934. С. 15. (Далее
при цитировании указывается только страница в оригинале). «Was
vernünftig ist, das ist wirklich, was wirklich ist, das ist vernünftig» {Hegel G. W. F.
Sämtliche Werke. Hrsg. von G. Lasson. Bd. 7: Grundlinien der Philosophie des
Rechts. Leipzig, 1921, S. 14).
21 В оригинале: «Was vernünftig ist, wird wirklich, und das Wirkliche wird
vernünftig». H., Ph. d. R., S. 51.
22 Hegel G. W. F. Philosophie des Rechts. S. 15.
23 Гегель. Соч. T. III. M, 1956. С. 39 (далее при цитировании сноски даются в
тексте: первое число обозначает том, второе — страницу.)
276
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
«действительном духе» такой дух, дескать, только «возвращается
к самому себе») (III, 40), духу I сообщается «иерархическое»
первенство даже по отношению к логической идее. В такого рода
формулировках «торжественно» провозглашен гегелевский
«абсолютный» объективный идеализм. Для конкретного же
развертывания системы Гегеля особое значение приобретает то, что
именно логическая идея (здесь, кстати, близкая по значению к
духу как «первому») утверждается в ее субстанциальном значении по
отношению к природе и действительному духу.
С этим связан первый, исходный для Гегеля аспект понятия
разума (разум 1): с его помощью природа и действительный дух
толкуются как «изображения» логической идеи, что запечатляет-
ся в гегелевских формулировках типа: «Подобно духу и внешняя
природа разумна, божественна, представляет собой изображение
идеи» (III, 33). В такого рода формулах уже не просто
утверждается объективный идеализм, а происходит обоснование его
специфически гегелевской «логицистской» формы (соответственно
подразумевается или прямо выявляется воплощающаяся в
различных методах системного построения зависимость философии
природы и философии духа от науки логики как
фундаментальной теоретической дисциплины философии).
Второй аспект понятия «разум» (разум 2) тесно связан с
первым. Если все развивающееся есть, по Гегелю, «изображение»
логической идеи, то отсюда следует, что идея способна «реализовать
себя», стать «действительной». Для Гегеля здесь заключен в
высшей степени важный диалектический момент, который
характеризует и «абсолютно первый» дух и логическую идею как нечто
«абсолютно беспокойное», как «чистую деятельность», ибо дух в
гегелевской системе обладает действительностью только
вследствие определенных форм своего самообнаружения. При помощи
этого аспекта понятия «разум» Гегель прежде всего обозначает
всеобщую закономерность диалектического «самообнаружения»,
«самореализации» духа, логической идеи, благодаря
причастности к которой развитие всего, в чем дух и идея реализуются, также
приобретает необходимый характер. «Разум», следовательно, —
обозначение закономерности, необходимости, а потому
«действительности» логической идеи и всего, в чем она себя
«осуществляет». Развитие, по Гегелю, всегда и везде сообщает себе «форму
разумности, а именно, всеобщность и определенность» (III, 11), и
потому «разумное» может, должно служить ключом к пониманию
«действительного». «Разумное, божественное обладает
абсолютной силой осуществляться и всегда себя осуществляло; оно не так
бессильно, чтобы ждать начала своего осуществления. Мир — это
Современные исследования философии Гегеля 277
осуществление божественного разума; игра неразумных
случайностей царит только на его поверхности» (Ш, 95). Будучи
«имманентным законом и сущностью» всего, разум, по Гегелю,
универсален, всеобщ. Для Гегеля, далее, весьма существенно то, что
закономерное, необходимое «саморазвитие» духа, идеи на почве
действительного, существующего (природы и действительного
духа) требует от философии раскрытия богато расчлененной
системной диалектики каждой из этих больших сфер и каждой
ступени их развития. Это и значит, по Гегелю, раскрыть «разум»
самого «предмета» каждой из сфер и ступеней, в результате дать
единую понятийную «архитектонику» их разумности.
Отсюда третий аспект понятия «разум» (разум 3) —
обозначение того принципиально важного для гегелевской философии
оттенка, согласно которому логическая идея через необходимое,
закономерное развитие природы и духа движется к наиболее
адекватному «самопознанию», к всеобщему, к мышлению в
понятиях. Здесь также продолжается обоснование логицистского
объективного идеализма: всесторонняя зависимость всего
развивающегося от логической идеи объявляется и все более «ясной», все
четче обнаруживаемой. На высшей ступени «самооткровения»
логической идеи (абсолютный дух, воплощающийся в абсолютной
философии) разум также достигает апогея своего развития — это
«знающий себя разум, абсолютно всеобщее...» (Ш, 365). Такая
разумность есть и наивысшая степень достигаемой духом свободы, а
значит, и высшая точка обнаружения внутренне присущей ему
свободы.
Такова общая «схема» понятия «разум» в философии Гегеля.
Не менее важна для его разъяснения та конкретизация, которую
это понятие обретает в различных частях гегелевской системы;
благодаря ему не только реализуется
объективно-идеалистический, логицистский замысел, но и развертывается исследование
целого ряда конкретных и реальных философских проблем.
Примером может служить учение Гегеля об объективном духе
(или его философия права)24.
24 Объективный дух — предмет второго раздела «философии духа» —
подразделяется на право, моральность, нравственность; разделы
последней: семья, гражданское общество и государство. Заканчивается учение
об объективном духе рассмотрением всемирной истории. Философия
права в гегелевском толковании обнимает всю сферу объективного духа
и основывается на широком толковании понятия «права» (см. Гегель. Соч.
Т. VII. С. 59).
278
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Здесь разум в первом его аспекте — это также утверждение
«субстанциальности» духа (1) по отношению ко всей сфере
«действительного» духа (2). «Почвой права является вообще духовное...»
(VII, 31). Конкретизация — постановка вопроса о специфическом
способе «воплощения» духовного как субстанциального в сфере,
обнимаемой философией права: «Объективный дух есть
абсолютная идея, но сущая лишь в себе: поскольку он тем самым стоит
на почве конечности, постольку его действительная разумность
сохраняет в себе сторону внешнего проявления» (III, 293).
Разум во втором аспекте — разъяснение в высшей степени
важной для Гегеля установки философии права, отстаиваемой в
резкой и страстной полемике против позиций, получивших
широкое распространение в социальной философии той эпохи:
«Относительно природы,— отмечает Гегель,— мы согласны, что
философия должна познавать ее как она есть, что камень
мудрости лежит запрятанным где-то, но это «где-то» находится в самой
же природе, что она разумна внутри себя и знание имеет своей
задачей исследовать и постигать не ее показывающиеся на
поверхности образования и случайности, а ее вечную гармонию, и оно
должно постигать эту гармонию как ее имманентный закон и
сущность. Напротив, нравственный мир, государство,
представляющий собой разум, каким он себя осуществляет в элементе
самосознания, не пользуется, по их мнению, счастьем быть тем
разумом, который добился в этом элементе силы и господства,
утверждается и пребывает в нем» (VII, 8). «Разум» применительно к
государственно-правовой реальности есть для Гегеля синоним
«имманентного закона и сущности» данной сферы —
закономерностей ее развития, которые благодаря своей необходимости и
всеобщности становятся действительностью или способны стать
действительными в будущем.
Разум в третьем аспекте особенно существен для философии
права. Поскольку разум предстает здесь таким, каким он «себя
осуществляет в элементе самосознания», постольку конечной
целью постепенного движения самосознания на почве «права» и
является осознание, постижение внутренней разумности, благодаря
которой правовое и моральное становятся особой
действительностью. «Высшей точкой» такого постижения является, согласно
Гегелю, не чисто специальное юридическое или этическое
размышление, не религиозная точка зрения на государственно-правовые
и нравственные проблемы, а философское познание, то есть
особая по замыслу философия права, которая могла бы найти
применение и в государственной практике. «Наше произведение, —
пишет Гегель о своей «Философии права»,— поскольку в нем со-
Современные исследования философии Гегеля 279
держится наука о государстве, будет поэтому попыткой постичь и
изобразить государство как нечто разумное внутри себя. В качестве
философского сочинения оно должно быть дальше всего от того,
чтобы конструировать государство, каким оно должно быть...
Постичь то, что есть,— вот в чем задача философии, ибо то, что есть,
есть разум. Что же касается отдельных людей, то уж, конечно,
каждый и без того сын своего времени; таким образом, и философия
есть точно так же современная ей эпоха, постигнутая в мышлении»
(VII, 16. См. также: Hegel. Philosophie des Rechts, S. 48—49).
В этих знаменитых гегелевских словах из Предисловия к
«Философии права» сформулирован более общий принцип,
касающийся связи философии и современной ей эпохи. Что же он
означает применительно к философии права?
Закономерности государственно-правовой, нравственной
сферы Гегель справедливо считает «имманентными» ей самой,
объективными по отношению ко всякому размышлению, в том числе
к философскому, и в любой данный исторический момент уже
так или иначе претворившимися в действительность. Поэтому и
следует отвергнуть поучающую, морализирующую философию,
говорящую лишь о должном: «философия, именно потому что
она есть проникновение в разумное, представляет собою постижение
наличного и действительного, а не выставление потустороннего
начала...» (VII, 14). До наших дней сохраняет актуальное значение
страстная борьба Гегеля против философствования, которое
нравственный мир, государство «предоставляет случаю и
произволу» (VII, 8), против тех, кто хочет осмыслить правовые
проблемы «с помощью благочестия и библии» (VII, 10), против
поверхностного морализаторства, красноречия, что «растворяет
многообразную внутреннюю расчлененность нравственности, которая
и есть государство, — архитектонику ее разумности,
порождающую посредством определенного различения сфер публичной
жизни и их правомерностей, посредством строгой соразмерности,
в которой даны каждая колонна, каждая арка и каждый
контрфорс, силу целого из гармонии его членов,— растворяет это
завершенное здание в размазне «сердца, дружбы и вдохновения»
(там же). Для своего же времени Гегель выступал настоящим
новатором, когда он защищал и пытался реализовать принцип
объективной науки о государственно-правовой, нравственной
сферах, науки, руководствующейся идеей системности как
диалектического «саморазвития» и единства многообразно расчлененного
содержания.
Учитывая совокупный смысл понятия «разум» (соответственно
понятия «разумное»), взятого, во-первых, в единстве трех рас-
280
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
смотренных аспектов, а во-вторых, в его применении к
философии права, можно более определенно и конкретно
расшифровать содержание афористично выраженного Гегелем «двойного
принципа». «Что разумно, то действительно...» — это прежде
всего значит: познавая или стремясь познать имманентные законы,
определяющие сущность государственно-правовой, нравственной
сфер, можно, полагает Гегель, быть уверенным, что они
претворяются и в наличной, «современной» действительности,
проявляя, таким образом, свои «силу и господство», подтверждая и
выражая «субстанциальность» духовного, его «жизненную»,
неодолимую диалектику. Значит, познание этих законов требует от
философов обращения к «действительному», к тому, что «есть»;
«вне», «по ту сторону» действительного нельзя ни обнаружить,
ни познать сущности государства, права, нравственности.
Одновременно Гегель выступает против того, чтобы многосторонняя
действительность государственно-правовой области, ее «пестрая
кора» (VII, 15), оказывалась непосредственным предметом именно
философии права. «Вся задача состоит в том, чтобы в видимости
временного и преходящего познать имманентное, субстанцию,
присутствующее в ней вечное» (там же).
Философия ведь имеет в виду действительное как разумное, а
значит, отправляется от законов, внутренней «логики» (от
«понятия») государственно-правовой сферы, от ее «ядра». «Наука о
праве есть часть философии Она должна поэтому развить идею,
представляющую собой разум предмета, из понятия или, что то
же самое, наблюдать собственное имманентное развитие самого
предмета» (VII, 24). Здесь разумность философии права как
особой науки есть реализация системной понятийно-категориальной
разумности, в «чистом виде» представленной Гегелем в науке
логики. И «что действительно, то разумно» — это значит: идя от
наличной, современной реальности, в том числе государственно-
правовой, нельзя считать ее скоплением случайностей, произвола;
не следует навязывать ей принципы, которым она якобы
«должна» подчиняться, надо предполагать и отыскивать определенные,
объективные по своей природе законы, представляющие собой
«имманентную» сущность данной сферы.
Философия права и нравственности, составлявшая на
протяжении значительного отрезка истории важную часть
государственно-правовой разумности (часть разума), также подпадает, как
считает Гегель, под закономерность, выраженную с помощью
двойного принципа. «Постигая в мыслях» свою эпоху, великие
философские учения, в частности, выражают и имманентные
особенности нравственно-правовой реальности своего времени, то
Современные исследования философии Гегеля 281
есть «разумность» широко понятного права. Вот почему
разумность философского познания, даже если она внешне выражается
в форме государственного, нравственного идеала, может
становиться действенной, становиться частью «действительного».
Недаром же двойной принцип следует в Предисловии к
«Философии права» непосредственно после рассуждения Гегеля о
значении «платоновской республики». Платон, по Гегелю, выразил
«природу греческой нравственности», он сумел — в борьбе
против того, что казалось только ее разложением и что на самом деле
было фиксированием врывающегося «более глубокого
принципа» «свободной бесконечной личности» — предвосхитить,
представить «ту ось, вокруг которой вращался последующий
всемирный переворот» (VII, 15). См. также: Hegel. Philosophie des Rechts,
S. 48.).
В немалой степени непреходящий интерес к гегелевской
философии права обусловливается тем, что ее предмет,
архитектоника ее «разумности» развертывается как исследование
возникающих, снимающихся далее и преобразующихся в новую форму
противоречий между конечностью индивидов и более широкой
исторической «длительностью» права, нравственности, иными
словами, общества и истории, между субъективными волей,
устремлениями индивидов и объективной «внешностью»,
самостоятельным «наличным бытием», «существованием» государственно-
правовой сферы, между свободной, целеустремленной
деятельностью людей и закономерностью, необходимостью нового
целостного мира «права». При этом «разумность» на каждой ступени
системного движения приходится как бы «восстанавливать» вновь
— применительно к особой проблематике, к новым «проблемным
узлам» диалектического движения. Соответственно единство
разумного и действительного становится проблемой, решаемой в ее
диалектической динамике, что видно не только в разделе об
объективном духе (в философии права), но и во всей философии
духа.
В целом из всего ранее сказанного я делаю следующий вывод:
обе редакции двойного принципа (лучше всего в их единстве)
отвечают его содержанию. Настоящее время в формуле
опубликованного текста более адекватно фиксирует «субстанциальный»
момент; будущее же время в лекциях четче и определеннее
связано с диалектико-системным развертыванием философии права, с
необходимостью подчеркнуть роль исторического развития,
устремленности в будущее при оценке меры единства
действительного-разумного, при выявлении действенности и
«действительности» философского познания, в частности философского раз-
282
H. В. Моттошилова «Работы разных лет»
мышления о государственном и нравственном идеале. Каждая из
формул имеет, таким образом, свои преимущества, хотя по
строгому счету они не взаимозаменяемые, а взаимодополнительные.
И тем не менее Гегель заменил одну другой. Почему же?
Склонность выразить двойной принцип именно и только в настоящем
времени, как я полагаю, наиболее сильно и непосредственно
стимулировалась содержательными теоретико-методологическими
ориентациями (но, как будет далее показано, не только ими),
каковыми были: охарактеризованное ранее страстное желание
философа повернуть творческую мысль к живой современности, к ее
законам, к реальному, а не воображаемому общественно-
историческому развитию; устремленность к непредвзятому и
глубокому (сущностному, подлинно философскому) критическому
анализу «действительного».
К уже рассмотренным соображениям Гегеля о значении
«настоящего времени» для философии примыкают еще две идеи, с
которыми связаны знаменитые образы, созданные Гегелем.
Первая идея — о «примирении» философии с действительностью,
которая, как и двойной принцип, вызвала одобрение
консерваторов и ненависть либералов. Как и в случае двойного принципа,
апологетическое толкование приписывалось Гегелю не на основе
текста и контекста, а на основании внеконтекстуального
толкования формы, в данном случае самого слова «примирение». Гегель
же пишет: «Познание нами разума как розы на кресте
современности и, значит, нахождение удовлетворения в последней, эта
разумная точка зрения есть примирение с действительностью,
которое философия дает тем, кто однажды услышал внутренний
голос, требовавший постижения в понятиях, требовавший как
сохранения свободы в том, что субстанциально, так вместе с тем и
пребывания своей субъективной свободой не в частном и
случайном, а в том, что есть в себе и для себя» (VII, 16). Итак, в тексте и
контексте примирение философа с «действительным» никак не
означает непосредственной апологетики существующего, но есть
обнаружение внутренней разумности, закономерности,
пробивающейся также и через развитие настоящего.
Философствующий индивид не приносит свою свободу в жертву наличному, а
связывает ее исключительно с познанием субстанциального. Ведь
разум — не вся наличная современность, а только роза на ее
кресте.
Вторая гегелевская идея непосредственно примыкает к первой.
Она воплощена в следующих словах: «В качестве мысли о мире
она (философия.— H. М.) появляется лишь тогда, когда
действительность закончила свой процесс образования и завершила себя»
Современные исследования философии Гегеля 283
(VII, 17). Никак не следует понимать их в недиалектическом и
апологетическом смысле. Иллюстрацией является другой
известный гегелевский образ: «сова Минервы начинает свой полет лишь
с наступлением сумерек» (VII, 18). Гегель дает разъяснение образа:
раз в силу необходимости истории «лишь в пору зрелости
действительности идеальное выступает наряду с реальным», то в эпоху
непреодолимого кризиса действительности — «когда форма
жизни постарела» — философия неминуемо «рисует серым по
серому» (VII, 17). Философии не дано «омолодить» устаревшее;
бессмысленны попытки «поучать» действительность от лица
должного. Философия уже не может не признать зрелости
действительных отношений. Ей остается «примириться» с этим фактом.
И то обстоятельство, что философское «примирение» у Гегеля, по
сути дела, означает осознание и признание глубокого
исторического кризиса устаревших форм жизни, четко выражено в новом
тексте лекций.
Процитирую для иллюстрации интересный, богатый мыслями
абзац, которым в публикуемых лекциях заканчивается краткое
Предисловие: «Поскольку философия рассматривает нечто, что
является духом, постольку она означает отделение (Trennung),
ибо она есть нечто иное, чем действительный дух. Отделение
имеет своим ближайшим определением то, что мы бросаем на
него взгляд именно тогда, когда философия выступает на передний
план. Это происходит, когда дух в форме мысли противостоит
форме внешней действительности. Это, как мы видим, выступает
у Платона, Сократа, Аристотеля — во времена, когда греческая
жизнь стала клониться к упадку и мировой дух устремился к
более высокому осознанию самого себя. В более зрелом виде мы
находим повторение этого в Риме, в то время как пришла в упадок и
преобразовалась в другую форму своеобразная более ранняя
римская жизнь. Декарт появился тогда, когда изжило себя
средневековье. Концентрация духовной жизни в конечном счете
рождается там, где мысль и действительность еще не объединяются
воедино. И вот когда эта концентрация развивается в различие,
где индивиды становятся свободными, и затем в жизни
государства имеет место обособление,— тогда и появляются великие люди
духа (die großen Geister). Философия выступает как
обособляющийся (sich abscheidende) дух. И не философия приносит этот
разрыв, она — его знак. Как же рассматривать этот разрыв, распад
(Bruch)? Мы могли бы полагать, что он — всего лишь идеальный,
а не истинный, что дух оставил позади себя действительность как
мертвый труп, как мировое состояние, где свободная философия
и формирование мира согласовывались друг с другом. При таком
284
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
подходе философия вступила бы в противоречие с тем, что есть
ее истинная цель. Ибо в ней заключен момент примирения; она
должна снять обособление в различных формах сознания» 25.
Вот в какой, скажем прямо, отнюдь не
апологетически-радужный, а проникнутый ощущением кризиса
социально-нравственный контекст вписана гегелевская идея о «примирении»
философии с действительностью. «Разумная» философия
предназначается Гегелем на постоянную роль — правдивой исповеди,
духовного «преодоления», «снятия» кризисного времени. Но в
каждую эпоху имеются определенные порядки, ставшие
«действительными», которые уже не подлежат исправлению, да и
недоступны ему. Горькая пилюля философского осмысления такой
«разумной», то есть именно субстанциальной, неодолимой в
своем развитии «действительности» не должна быть подслащаема ни
апологетическим восхвалением status quo, ни бесплодной
надеждой на консервацию старых порядков, ни критическим по слову,
но фактически безвредным для власти (см. VII, 12) поучающим
морализмом «должного». Философское «примирение» есть
одновременно указание на необратимость совершившегося развития и
на столь же жесткую необходимость дальнейших
преобразований. «Разумно», т. е. закономерно, то, что есть; разумно и то, что
будет. И опять-таки обе формулировки двойного принципа — в
настоящем и будущем времени — уместны и наиболее
целесообразны в их единстве.
Но отсюда представляется правомерным заключить, что
замена будущего времени настоящим в формуле двойного принципа
(замена, которая имела для Гегеля существенный смысл) не была
обусловлена только теоретико-методологическими
соображениями, как считает Д. Хенрих. Полагаю, что второй ряд причин,
толкнувших Гегеля к изменению текста, заключен во влиянии
конкретной социально-исторической ситуации. Признавая это, я,
однако, не соглашаюсь с Илтингом, утверждающим, что это был
резкий и явный поворот «вправо». На основании внимательного
изучения текста приходится отвергнуть суждение о правоконсер-
вативном, апологетическом «повороте» Гегеля, якобы
осуществленном уже в «Философии права». Энгельс в работе «Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии»
правильно указал, что двойной принцип по своему содержанию не был
«философским благословлением деспотизма, полицейского
государства, королевской юстиции, цензуры» 26, как думали — с удов-
25 Hegel G. WF. Philosophie des Rechts, S. 51-52.
26 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 274.
Современные исследования философии Гегеля 285
летворением — Фридрих-Вильгельм Ш, его верноподданные и —
с ненавистью, гневом — современные Гегелю «близорукие
либералы». Когда Гегель во втором издании «Энциклопедии
философских наук» откликнулся на этот спор монархистов —
консерваторов и либералов вокруг двойного принципа, он напоминал
своим читателям именно о сложном философском смысле
понятий разумного и действительного, об отличии последнего от
понятий существования, наличного бытия, случайного и
возможного, и напомнил о том, что все названные категории были еще до
«Философии права» подробно рассмотрены в «Науке логики» 27.
Однако новая редакция двойного принципа не случайно так
понравилась монарху и его подданным. Они сделали как раз то,
против чего боролся Гегель,— «вырвали» двойной принцип из
философского контекста, отождествили «действительное» с
существовавшим тогда прусским монархическим государством,
объявили его разумным. Той же «схеме» толкования следовали
либералы. Двойной принцип, выраженный в форме будущего
времени, вряд ли дал бы повод для подобного апологетического
истолкования. Но он скорее всего насторожил бы цензора. Не
исключено, что изменение редакции двойного принципа было наряду с
некоторыми теоретическими соображениями обусловлено также
стремлением Гегеля опубликовать написанную книгу в
ухудшившейся политической и цензурной ситуации. Можно, правда,
согласиться с Д. Хенрихом в том, что Гегель вряд ли был охвачен
каким-то паническим страхом перед властью и что реальная
цензура, по всей видимости, не была в отношении к «Философии
права» жесткой и мелочной. Но ведь Гегель в 1819—20 гг. все же
испытывал немалые опасения в связи с политическими
репрессиями, захватившими, как известно, и Берлинский университет.
Во всяком случае, в письмах (см., например, письмо Крейцеру от
30 октября 1819 г.) Гегель, имея в виду устрожающие
«политические и цензурные распоряжения», высказывает свои опасения и
мрачные предчувствия28.
«Проигрывание» в уме возможного образа действия строгого,
дотошного цензора, скорее всего, побудило осторожного Гегеля
(он сам называл себя «боязливым человеком», любящим покой29),
к тому же уже связанного «благодеяниями» министра Альтен-
штейна, предъявить реальному цензору текст несколько изме-
27 Гегель. Соч. М.-Л., 1929. Т. I. С. 22-23.
28 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 2. С. 379—381.
29 Там же. С. 103.
286
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ненный — в угоду ситуации. А на что же мог «положить глаз»
воображаемый строгий цензор, как не на запоминающиеся,
хлесткие афоризмы типа двойного принципа? Что же наилучшим
образом могло успокоить цензорское сердце, как не
провозглашение «действительного» (цензор мог подумать: наличного
прусского государственного состояния) «разумным» (что для немца
XIX в. было заведомо высокой оценкой), и разумным не в
туманной перспективе будущего, а уже «сегодня».
В предложенном мною толковании объединяются,
следовательно, результаты изучения внутритеоретического движения
мысли философа и исследования социально-исторической (в
данном случае ситуационной) обусловленности теоретических
результатов философии. Но это уже скорее приглашение к более
обстоятельному обсуждению — с учетом новых текстов,
материалов, исторических фактов — связи между философией Гегеля и
постигнутой ею в мысли исторической эпохой.
«Философия права» Гегеля как
социальная философия
(анализ сочинения в контексте найденных
в 80-х гг. записей лекций
по философии права)
Гегелевская работа, которую мы привыкли называть
«Философией права» 1 — выдающееся произведение, самой историей
поставленное в один ряд с эпохальными социально-политическими
сочинениями Платона, Аристотеля, Макиавелли, Локка, Гоббса,
Руссо, Канта и других мыслителей. Будучи одним из ярких
выражений своей эпохи, «Философия права» Гегеля сконцентрировала
в себе и общеисторическое содержание, ибо гегелевская
исследовательская мысль была обращена также к фундаментальным
социально-политическим структурам цивилизации,
обеспечивающим преемственность человеческой истории. Вот почему работа,
во многом написанная «на злобу дня», испытавшая влияние
конкретных исторических событий, вовлеченная во вполне
определенные идейно-нравственные и философско-теоретические
дискуссии, сохраняла и сохраняет непреходящее значение. Ее «осов-
1 Гегель дал сочинению название «Естественное право и наука о
государстве в сжатом очерке. Основы философии праба» (Hegel G. W. F.
Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Grundlinien der Philosophie das
Rechts. Berlin, 1821. Помеченное 1821 годом, оно появилось в 1820 г.).
Э. Ганс в 1833 г. издал эту книгу под названием «Основные черты
философии права, или естественное право и наука о государстве в сжатом
очерке» (Последнее переиздание данного текста сделано еще в ГДР:
Hegel G.W.F. Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und
Staatswissenschaft im Grundrisse. Nach der Ausgabe von Ed. Gans hrsg. und
mit einem Anhang versehen v. Hermann Kienner. Berlin, 1981). С издания
1833 г., которое содержит текст Гегеля (параграфы и примечания) и
написанные Э. Гансом на основании записей лекций прибавления, был
сделан Б. Столпнером русский перевод, опубликованный в VII томе
Сочинений Гегеля. Далее при цитировании в тексте: VII, с указанием
страницы. К настоящему времени закрепились краткие названия
«Философия права», «Философия государственного права».
288
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ременивание», актуализация совершается на разных этапах
последующей истории, убедительным примером чего может
служить стремление молодого К. Маркса осуществить доскональный
критический анализ гегелевской философии права. К. Маркс
считал, что тут «наша критика находится в самой гуще тех
вопросов, о которых нынешний век говорит: that is the question (вот в
чем вопрос!)»2. Сегодня мы также можем с полным основанием
сказать, что новейшие дискуссии вокруг гегелевской философии
права связаны с коренными проблемами нашего времени, среди
которых главный, гамлетовский вопрос: «быть или не быть», уже
в его прямом смысле остро и настоятельно встал перед всем
человечеством.
В 80—90-х гг. XX в. интерес к гегелевской философии права
пробудился в связи с публикацией новых текстов. Речь идет о
публикациях вторичных источников. В 1983 г. тогдашний
президент Международного гегелевского объединения Д. Хенрих издал
записи лекций по философии права, прочитанных Гегелем в
Берлинском университете в 1819/20 гт.3 Они были сделаны
слушателем, имя которого пока неизвестно. В том же году, но несколько
позже, известный западногерманский гегелевед О. Пёггелер издал
— в рамках десятитомной серии «Г. В. Ф. Гегель. Лекции»
издательства «Феликс Майнер» — записи гегелевских лекций по
философии права, прочитанных в 1817/18 гт. в Гейдельбергском
университете4. Записи сделаны студентом-юристом П. Ваннен-
маном. Это пока наиболее полная из известных записей гейдель-
бергских лекций5. Есть все основания связывать
фундаментальное сочинение Гегеля, кратко названное «Философией права», с
лекциями по философской проблематике, прочитанными
великим философом. Ибо опубликованная самим Гегелем «Филосо-
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 420.
3 Hegel G.W.F. Philosophie des Rechts. Die Vorlesungen von 1819/20 in einer
Nachschrift. Herausgegeben von D. Henrich., Frankfurt a. M: Suhrkamp,
1983. См. об этом предыдущий раздел моей книги.
4 Hegel G.W.F. Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte.
Bd. I. Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft. Heidelberg
1817/18 mit Nachträgen aus der Vorlesungen 1819/19. Nachgeschrieben von
P. Wannenman. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1983.
5 Рукопись П. Ванненмана была найдена среди старых бумаг и книг у
гейдельбергского антиквара географом Плеве из г. Мангейма,
подарившим ее коллеге — философу Брехту. Тот передал манускрипт
Немецкому литературному архиву в Марбахе и Некаре, с разрешения которого
издательство «Феликс Майнер» и печатает лекции Гегеля в записи
П. Ванненмана.
«Философия права» Гегеля как социальная философия 289
фия права» появилась именно благодаря ранее прочитанным
курсам лекций и задумывалась как компендиум, который был
положен в основу последующих лекционных курсов и служил
своего рода учебным пособием. Благодаря публикации Гегель,
вместе с тем, полагал развернуть и углубить учение об объективном
духе, важнейший раздел своей системы, который он назвал — по
причинам, потребовавшим и еще требующим особого анализа —
именно философией права. Итак, создавая пособие по, казалось
бы, частной проблематике для студентов и других своих
слушателей (а в их числе были государственные деятели, представители
интеллигенции), Гегель вынашивал более масштабные замыслы,
имея в виду углубление, завершение «срединной» (между
субъективным и абсолютным духом) части своей системы. И потому
опубликованное самим Гегелем произведение принципиально
необходимо изучать вместе с записями лекций, что может дать
нам понимание реального процесса складывания, видоизменения
философско-правового раздела гегелевской системы.
Вопрос о том, какого рода источниками являются записи
лекций Гегеля, сделанные его слушателями и учениками, весьма
сложен, специален и не может здесь обсуждаться во всех его
аспектах и деталях. Однако представляется необходимым хотя бы
кратко высказаться по этому вопросу. Есть ряд причин, в силу
которых считается правомерным и даже необходимым использовать
записи гегелевских лекций, оценив их как важный исторический,
в частности, историко-философский (в нашем случае также исто-
рико-правовой) материал.
Прежде всего, как справедливо отмечено в предисловии
издательства «Феликс Майнер» к I тому десятитомного издания
лекций Гегеля, последние не в меньшей, а возможно, и в большей
мере, чем опубликованные сочинения и отклики на них, говорят
о непосредственном воздействии идей Гегеля на общественное
сознание его эпохи. При этом идейное развитие Гегеля после
создания «Науки логики» и гейдельбергской «Энциклопедии
философских наук» (т.е., собственно, в два последних десятилетия его
жизни) выразилось главным образом в многочисленных
лекционных курсах, прочитанных в Гейдельбергском и особенно
Берлинском университетах. Вряд ли можно оспаривать тот факт, что
именно благодаря подготовке и чтению лекций, их постоянному
совершенствованию расширялась и содержательно углублялась,
на основе «Науки логики», система Гегеля.
Регулярно читая (в 1818—1831 тт.) курсы по логике и
метафизике, Гегель опирался на ранее изданные работы — «Науку
логики» и «Энциклопедию философских наук». Что же касается соци-
290
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
альной философии, т.е. в гегелевском смысле философии
истории, права, искусства, религии, — то лекционные курсы стали
главным способом тщательной и глубокой разработки этих
разделов системы. В гегелеведческой литературе Запада данные
разделы часто называют, вслед за самим Гегелем, его «реальной
философией» — и они, действительно, содержали попытку
применения абстрактных метафизико-логических принципов к
пониманию сферы «реального», т.е. общества, истории, человека. Все
сказанное прямо относится к философии права.
Отсюда ясен пристальный интерес исследователей ко всем
документам, достоверно свидетельствующим о
социально-философских взглядах Гегеля и их эволюции. Но являются ли уже
опубликованные и вновь публикуемые записи лекций такими
достоверными документами? Наш современник, скорее всего,
усомнится в подлинности, тем более в полноте каких-либо
записей философских лекций. Однако следует учесть, что во времена
Гегеля существовали особые правила чтения лекционных курсов
в немецких университетах и особая практика их записывания
слушателями. Гегель, например, должен был читать лекции — в том
числе лекции по философии права, которые в 1817—1818 гг.
записывал в Гейдельберге студент-юрист П. Ванненман, — «под
диктовку» (Nach Diktaten)6. Это означало, что Гегель зачитывал и
давал слушателям записать основные положения — параграфы
курса; затем давались пояснения — примечания. При этом когда
Гегель давал пояснения, то он, по свидетельствам самих слушателей,
говорил медленно, нередко вновь и вновь повторяя сказанное. Вот
почему тексты лекционных записей (особенно тексты
параграфов), как правило, достоверны в отношении действительного
содержания лекций (что подтверждается существенным
совпадением содержания записей, сделанных различными слушателями, а
также их принципиальной близостью позднее опубликованному
тексту.) Надо принять в расчет еще и то, что лекционная
практика воспитывала в тогдашних немецких студентах навыки
быстрого записывания лекций. Впрочем, дело было не только и не
столько в «технических» навыках — ибо наилучшие записи были
сделаны одаренными учениками Гегеля, впоследствии ставшими,
подобно Э. Гансу, виднейшими представителями его школы.
Именно они могли осознать историческую значимость
гегелевских лекций. П. Ванненман, правда, не принадлежал к числу
слушателей и учеников, впоследствии ставших знаменитыми. Но
6Hegel G. W. F. Vorlesungen. Bd. I. S. XIV. Далее при цитировании: Vorl. I, с
указанием страницы.
«Философия права» Гегеля как социальная философия 291
он, несомненно, отнесся к лекциям Гегеля в Гейделъберге с
интересом и пониманием. Недаром же он отправился слушать Гегеля
и в Берлинский университет, сделав к своим гейделъбергским
записям дополнение, почерпнутое из Берлинских лекции по
философии права зимнего семестра 1818/19 гг.7
Не преуменьшая значения записей лекций, мы, конечно, не
должны забывать о вторичном характере, неполноте этого
источника. Но в случае философии права они, без сомнений, образуют
дополнение к главному документу, т.е. тексту сочинения. Текст
«Философии права» уникален в том смысле, что это
единственный из опубликованных самим Гегелем компендиумов для
лекционных курсов. Он позволил Гегелю не только с растущим
успехом читать курсы по философии права в зимние семестры
1821/22, 1823/24, 1824/25, 1829/30, 1830/31 гг. «, но и с зимы 1822
выделить и превратить в самостоятельный постоянно читаемый
курс философию всемирной истории, в его системе входившую в
философию права. Нельзя забывать, что в 1825—31 гг. Гегель,
наряду с философией истории, постоянно и с большой
увлеченностью читал историю философии, эстетику, философию религии,
логику и метафизику, философию природы. Что же до лекций по
философии права, то после 1825 г. Гегель, казалось бы, почти
утратил к ним интерес, передоверив чтение курса своим ученикам.
Но вот в 1830 г. — на новой революционной волне в Европе —
снова усиливается внимание Гегеля к философии права, что
подтверждается и лекционными курсами, и последним сочинением
«Английский билль о реформе» (1831 г.). .
Итак, если речь идет о становлении гегелевской мысли, а
также о развитии гегелевской школы, то роль записей лекций,
относящихся к различным периодам, существенно возрастает. В
частности, записям П. Ванненмана особый интерес придает то, что
они сделаны в период, непосредственно предшествовавшему
опубликованию Гегелем «Философии права» и являются запися-
7 В пользу достоверности записей П. Ванненмана, найденных
относительно поздно, свидетельствует почти полное их совпадение с
некоторыми записями тех же лекций, сделанными учеником Гегеля В. Карове (они
приводятся в книге: W. Carové. Hegel, Schubart und die Idee der
Persönlichkeit in ihrem Verhältnis zur preußischen Monarchie) — о чем сообщает О.
Пёгтелер (см. Vorl. I. S. XV).
8 Лекции Гегеля по философии права, которые были известны к 1974 г.,
опубликованы К.-Г. Илтингом в издании: Hegel G.W.F. Vorlesungen über
Rechtsphilosophie 1818—1831. Edition und Kommentar in sechs Bänden von
R-H. Ilting. Stuttgart-Bad Cannstadt, 1973. Bd. I.; Bd-e II-IV. 1974.
292
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ми первого гегелевского лекционного курса по философско-
правовым проблемам. Итак, появился еще один и самый полный
пока документ9, позволяющий осмыслить тенденции развития
социальной философии Гегеля в 1818—1821 гг., т.е. в период, в
немецкой истории очень значимый и напряженный. Но лекции
Гегеля в записи П. Ванненмана представляют не только
исторический, гегелеведческий интерес. В них имеются некоторые важные,
актуальные и для сегодняшнего дня идеи, содержательные
формулировки, которые по тем или иным причинам «исчезли» в
опубликованном тексте «Философии права» (или были в ней
модифицированы) .
Прежде всего рассмотрим вопрос о сходстве и различии между
записями П. Ванненмана и текстом «Философии права»
(опираясь на публикацию 1833 г.). С одной стороны, между
рассматриваемыми текстами существует немаловажное сходство. В записях
П. Ванненмана уже четко прослеживаются и та
основополагающая структура, и то проблемное членение, которые в основном
сохраняются в опубликованной Гегелем «Философии права»:
разделение на абстрактное право, мораль и нравственность;
выделение проблематики гражданского общества, а в ней — учения
о государстве и т.д. Можно также увидеть в двух текстах если не
буквальное тождество формулировок, то во всяком случае
преемственность развивающихся идей гегелевской социальной
философии, что далее будет подтверждено примерами.
С другой стороны, между двумя текстами имеются и
существенные различия. Если основываться на самом достоверном
материале у П. Ванненмана, тексте параграфов, то видно, какую
огромную работу проделал Гегель в процессе превращения
основных идей своих первых философско-правовых лекций в
печатный труд. Дело, конечно, не только и не столько в том, что в 1817-
181J8 гг. в Гейделъберге Гегель надиктовал 170 параграфов, а в
тексте «Философии права» довел их число до 360-ти10. Правда, и
возросшее более чем вдвое количество параграфов (а ведь они для
Гегеля являются важнейшими теоретическими вехами системного
хода мысли) говорит о появлении новых тем, проблем, аспектов
9 Схема параграфов лекционного курса 1817/18 гг. стала известна ранее
благодаря фрагментам записей Хомайера, которые опубликовал Ф. Ни-
колин (Hegelstudien. Bd. VII. 1972).
10 Отсюда несовпадение в обоих текстах нумерации даже тех параграфов,
которые содержат сходные, почти идентичные формулировки (так, § 92
лекций, говорящий о трех моментах гражданского общества,
соответствует § 188 «Философии права»; § 163, посвященный проблемам войны и
мира — § 338 опубликованного Гегелем текста и т.д.).
«Философия права» Гегеля как социальная философия 293
анализа, «узлов» системы. Но еще существеннее связанные с этим
содержательные изменения. Внимательное исследование
характера этих изменений дает нам новый повод задуматься над более
общим вопросом об источниках развития, эволюции философско-
правовой и, говоря шире, социально-философской мысли.
Среди источников, о которых пойдет речь, огромную роль
играют внутренние потребности, стимулы развития самой этой
мысли, т.е. в данном случае — настойчивое желание Гегеля
сделать свое учение об объективном духе (философию права) более
глубоким, содержательно насыщенным, ясным. Записи лекций
1817/18 — одна из первых вех на дальнейшем пути разработки
Гегелем философии права. О. Пёггелер во введении к записям
П. Ванненмана так суммирует основные линии изменений,
происходивших с учением об объективном духе после
опубликования гелъдейбергской «Энциклопедии» (1817) и вплоть до
публикации «Философии права»: «...Эти лекции зимы 1817/18 гг.
продвинули далее систематизацию и придали окончательную
структуру философии права. «Право» было рассмотрено
последовательнее, чем «Абстрактное право», учение о моральности было
окончательно формализировано в виде учения о ступенях
действия; нравственность была тут разделена на три особые формы —
семью, гражданское общество и государство. Гегель и потом
непрерывно работал над завершением философии права. В
последующих 1818—19 гг. в Берлине он разработал первую часть
лекций с добавлением в нее дополнительных параграфов,
последнюю же часть, за неимением времени, оставил в виде сжатого
наброска. Следующей зимой произошел скачок: одновременно
были прочитаны лекции и окончательно разработан компендиум. В
них Гегель также далее развил свою систематику. Например, с
этого года, как и в компендиуме, государство понималось по-
новому, с точки зрения внутреннего и внешнего «суверенитета».
Имевшиеся фрагмент о княжеской власти, который был написан
30.12.1819 г., в компендиуме предстает в виде § 286, что говорит об
интенсивной работе над ним Гегеля» п. Итак, понятное и вполне
оправданное стремление к теоретико-логической полноте,
ясности, завершенности системы (о котором некоторые авторы —
«антисистемники», к сожалению, имеют обыкновение высказываться
лишь негативно), толкало Гегеля к постоянным попыткам ее
развертывания, дополнения, совершенствования.
11 Vorl. I. S. XXVIII—XXIX. (Далее ссылки на данное издание в тексте).
294
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Другая группа причин, объясняющих тенденции развития
гегелевской философско-правовой мысли, связана с реальными
общественно-историческими изменениями, особое воздействие
которых именно на социальную философию запечатлено самим
Гегелем.
Предисловие к «Философии права»:
исторический и актуальный смысл
Яркий текст Предисловия был написан Гегелем специально
для публикации «Философии права». Во всяком случае курс
1818/19 гг., судя по записям П. Ванненмана, начинался прямо с
Введения, где сразу же давались общая идея и понятие права.
Предисловие было прибавлено к лекционному курсу в 1820 г. не
случайно — оно было концентрированным и злободневным
суждением Гегеля о плачевном, по его мнению, положении,
сложившемся в немецкой философии права, а значит, в области
социальной науки как таковой, и служившем, в свою очередь,
специфическим выражением объективной социальной ситуации.
Предисловие к «Философии права» Гегеля, пожалуй, один из
самых известных текстов философа: ведь там сформулирован
знаменитый «двойной принцип» (Doppelsatz, как его назвали ге-
гелеведы) — «что разумно, то действительно; и что действительно,
то разумно» (VII. S. 15); здесь же — ассоциирующееся с самой
сутью философии изречение Гегеля: «... сова Минервы начинает
свой полет лишь с наступлением сумерек» (Ibid. S. 18).
Предисловие — поразительный и редкий по своей идейной емкости
философский текст. С одной стороны, автор «Философии права»
прикасается к самой сути философии, в частности, философии
социальной; с другой стороны, он откликается на весьма
злободневные споры и дискуссии. Гегель взывает к тем, кому дорога
нетленная специфика философии, но он адресуется и к широкому
кругу читателей, возросший интерес которых к
социально-философским, в частности, философско-правовым сюжетам уловлен
очень чутко. Непредубежденные и заинтересованные читатели,
опирающиеся на практику, опыт, здравый смысл, — не просто
аудитория, к которой обращается Гегель. Они прямо призваны
автором «Философии права» в активные союзники. Ибо автор
исходит из того, что они уже многое знают, чувствуют, понимают в
социальной реальности. Многовековая
общественно-историческая практика наработала достаточно разумные и эффективные
принципы, формы, установления, даже сделала их
«общепризнанными и значимыми», относящимися к «субстанции права и
нравственности» (VIL S. 8).
«Философия права» Гегеля как социальная философия 295
Куда сложнее обстоит дело с тем, «что новейшая философия с
величайшей претенциозностью высказывала о государстве...»
(Ibid. S. 9). «Суетное стремление к оригиналъничанию»,
«беспокойная возня рефлексии и суетности» (Ibid. S. 8—9)
философствующих коллег — вот те главные противники, против которых резко
выступает Гегель. До наших дней сохраняет актуальное значение
страстная борьба Гегеля против философствования, которое
нравственный мир, государство «предоставляет случаю и
произволу» (VIL S. 8), против тех, кто хочет осмыслить правовые
проблемы «с помощью благочестия и библии» (VII. S. 10), против
поверхностного морализаторства, красноречия, что «растворяет
многообразную внутреннюю расчлененность нравственности,
которая и есть государство, — архитектонику ее разумности,
порождающую посредством определенного различения сфер
публичной жизни и их правомерностей, посредством строгой
соразмерности, в которой даны каждая колонна, каждая арка и каждый
контрфорс, силу целого из гармонии его членов, — растворяет
это завершенное здание в размазне «сердца, дружбы и
вдохновения» (Ibid.). Для своего же времени Гегель выступал настоящим
новатором, когда он защищал и пытался реализовать принцип
объективной науки о государственно-правовой, нравственной
сферах, науки, руководствующейся идеей системности как
диалектического «саморазвития» и единства многообразно
расчлененного содержания. Поэтому следует отвергнуть, считал Гегель,
морализирующую философию, говорящую лишь о должном:
«философия, именно потому что она есть проникновение в
разумное, представляет собою постижение наличного и действительного, а
не выставление потустороннего начала...» (Vu. S. 14).
Упомянут и «вождь этой поверхностности, которая называет
себя философствованием» (VII, 9) — господин Я. Фриз. Выступить
против Фриза в 1820 г. для Гегеля было непросто, хотя Гегель
сослался в «Философии права» на свою давнюю, еще во Введении к
«Науке логики», полемику с ним. А к началу 20-х гг.
действительно поверхностный философ Фриз стал героем дня: он был одним
из идейных вдохновителей движения немецкого буршества, на
которое в 1819 г. (после Вартбургского фестиваля, после убийства
студентом Зандом поэта Коцебу) обрушились репрессии
прусского государства. Ситуация сложилась сложная и противоречивая.
Репрессии против буршества переросли в преследование
неблагонадежного студенчества; они стали поводом для укрепления
позиций нараставшей реакции. Гегель, ставший профессором
Берлинского университета, снова почувствовал на себе и на
студенческой среде, что такое ветер политического похолодания.
296
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Однако он решился на то, чтобы и в этой ситуации, невзирая на
возможное недовольство левых кругов, выступить против
идеологии, проповедуемой Фризом, и против «суетного оригинальни-
чания» в философии права. Для этого были веские основания.
Ибо идеология буршества и писания Фриза были отмечены
такими неприемлемыми для Гегеля чертами, как крайний
германский национализм и шовинизм. Буршества «не допускали
иностранцев в свои объединения, они отказывались принимать
еврейских студентов в качестве членов, участвовали в
антисемитских выступлениях во Франкфурте в 1819 г.; на Вартбургском
фестивале они сожгли огромную массу книг авторов, с чьими
работами не были согласны... Анти-рационализм, ксенофобия,
антисемитизм, нетерпимость и терроризм буршества — это те
самые синдромы, которые, уже в других условиях, должны были
институционализироваться нацистами» 12. Фриз, подогревая
подобные настроения, написал антисемитский памфлет «Об
опасности, которые принесли евреи благосостоянию и характеру
германского народа». Антисемитизм был тесно связан с
шовинизмом, национализмом более широкого плана. Вспомним: Коцебу
был убит потому, что студенты заподозрили его в шпионаже в
пользу России.
Впрочем, Гегель, выступая против Фриза, не касается
конкретных политических проблем, а развенчивает лживые народность и
романтизм, субъективизм, поверхностность, показное
благочестие, велеречивость, сухость и скудость мысли, прикрывающуюся
словами «жизнь», «ввести в жизнь» (где отсутствует дух,
иронизирует Гегель, чаще всего говорят о духе, где все мертвенно-сухо,
твердят о жизни).
«Так как произвольное крючкотворство, — свидетельствует
Гегель, — присвоило себе название «философии» и ему удалось
внушить широкой публике мнение, будто такого рода
упражнения есть в самом деле философия, то стало почти стыдно
говорить философски о природе государства, и нельзя обижаться на
порядочных людей, если они начинают выражать нетерпение,
как только услышат разговоры о философской науке, о
государстве» (VII. S. 11—12). Блистательная гегелевская критика
поверхностно- морализаторского, а одновременно и националистического
философствования переливается в высказывание обоснованных
претензий к правительству и публике, которые, убедившись в
бесплодности псевдофилософии, отвернулись от философии
вообще. Кажется, что слова эти написаны сегодня: «Ходячие в наше
12 Avineri Ch. Hegel's theory of the modern state. P. 119.
«Философия права» Гегеля как социальная философия 297
время декламации и обвинения против философии представляют
то странное зрелище, что, с одной стороны, они получают свое
оправдание в той поверхностности, до которой унизилась эта
наука, и, с другой стороны, сами коренятся в том элементе,
против которого столь неблагодарно направлены» (Ibid. S. 13). Не
является ли распространение псевдофилософии и тем более ее
превращение в «школьную мудрость» (Ibid. S. 14) обвинением не
только в адрес философии — но и той социальной среды, которая
привела к подобному положению вещей?
Встает принципиальный вопрос об отношении философии к
действительности. А поскольку философия, по Гегелю, есть
постижение разумного, постольку здесь — часть более общей
проблемы разумного и действительного13.
Рассмотренный нами на одном лишь примере выход
гегелевской философии права в сферу социальной практики (и
соответственно включение Гегелем социальной философии, философии
истории именно в широко раздвинутые философско-правовые
рамки) — специфическое преимущество истории мысли, которое
ныне, увы, почти утрачено из-за сугубой дифференциации
теоретических знании об обществе и взаимообособления отдельных
из разделов. Кажется, уже поздно сетовать на то, что в наше время
философы, как правило, перестали вникать в проблемы права
(даже философии права!), а большинство юристов —
интересоваться философией -(даже философией права)). Нынешнее
образование философов, юристов, историков, экономистов, все их
развитие на поприще избранных ими наук образует резкий
контраст, — например, по отношению к пути, пройденному Гегелем.
«... Сын вюртембергского чиновника, — пишет о Гегеле О. Пёг-
гелер, — заинтересовался вопросом об истории конституций и с
тех пор постоянно расширял свои юридические знания. Будучи
домашним учителем, Гегель интересовался также социальным
развитием Англии ... изучение английской политэкономии было
начато во Франкфурте и затем продолжено... Все яснее сознавая,
что он живет в эпоху коренных преобразований, Гегель должен
был в конце концов прийти к историческому пониманию
современности. И если сегодня на юридическом факультете
специалист по уголовному праву вряд ли отваживается посягнуть на
область конституционного права, то Гегель в своем компендиуме
13 Об этой проблеме и о «двойном принципе» подробнее см.: Мотрошило-
вя Н. В. Современное исследование философии Гегеля: новые тексты и
проблемы (предыдущая статья в данной книге).
298
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
представлял дисциплины трех факультетов» (Vorl. I. S. XXXII).
Сказанное О. Пёгтелером о юридических факультетах, увы,
относится и к философским, историческим, экономическим и другим
факультетам. Дело тут не только и не столько в проблемах
образования, сколь бы ни были они важны и актуальны. Дело в
состоянии социального научного знания как такового. Сегодня, как
и во времена Гегеля, дифференцированным, обособленным
наукам об обществе противостоит интегральная, целостная и
конкретная общественная реальность — и она, еще более
стремительно, чем в гегелевскую эпоху, претерпевает коренные
преобразования. А это означает, что на новом историческом этапе и в
новой форме снова обозначилась острая социально-историческая
потребность в синтезе, интеграции знаний об обществе. Вот
почему, как нам представляется, следует более внимательно, в свете
сегодняшних потребностей изучить те попытки синтеза
социального знания, которые предпринимались в истории человеческой
мысли ее виднейшими представителями. Речь идет, в частности, о
форме философии права как интегрирующей рамке, как почве
синтеза разнонаправленных знаний об обществе.
Такие группы проблем, как собственность, договор,
принуждение, преступление, намерение и благо, добро и совесть, брак и
семья, потребности и труд, право как закон, суд, государство и его
внутренние структуры, отношения государств, проблемы
суверенитета государств, войны и мира, всемирной истории, — все они
были объединены Гегелем в единый исследовательский комплекс.
Гегель синтезировал эти проблемы, имея в виду логику их
реальной внутренней связи, — и правоту его подтвердила и
сегодняшняя история, особо подчеркнув тесную связь экономических,
политических, правовых, нравственных аспектов человеческой
деятельности. А вот у нас сегодня все эти взаимосвязанные
проблемы, увы, чаще всего «расставлены по полочкам» оторванных друг
от друга наук.
Философия права Гегеля (чему в нашей литературе не уделяли
должного внимания), вместе с тем, была задумана как синтез не
только в проблемно-теоретическом, но и в историческом смысле.
Она прежде всего и по преимуществу обращена к тому в
социальных (в частности, государственно-правовых) отношениях,
механизмах, результатах, что не может не воплощаться в
исторически-конкретных, особых, относительных формах и проявлениях,
но одновременно дает пробиться всеобщезначимому, общециви-
лизационному, общечеловеческому содержанию. Идея
всеобщего, диалектически объединяемого с особенным и единичным,
красной нитью проходит через философию права; движение к
«Философия права» Гегеля как социальная философия 299
различным уровням обнаружения и признания всеобщности
образует главную идейную линию философии права Гегеля (как и
социальной философии Канта, Фихте, Шеллинга), сохранение,
обогащение и современное осмысление которой, как никогда в
истории, приобретает остро актуальное значение. Сфокусировав
внимание на движении философско-правового исследования ко
всеобщему, продолжим сопоставление двух анализируемых
текстов на примере отдельных проблем, существенных для
философии права Гегеля.
«Естественное право» и проблема специфики
социальных (государственно-правовых) феноменов.
Гегель, как мы помним, включил в заголовок своей книги
1820 г. термин «естественное право». Вопрос о «естественном
праве» отчасти является терминологическим. Но за
терминологическими изменениями надо видеть, как возникает своего рода
водораздел между двумя эпохами в понимании сущности социальной
философии. Столкновение натуралистических и
антинатуралистических позиций по вопросу об обществе — а в них здесь суть
— в новой форме имеет место и сегодня. Записи Ванненмана
проливают свет на формирование концепции Гегеля в столь
важном теоретическом вопросе.
Понятие «естественное право» в более ранних работах Гегеля
(до поры до времени, по крайней мере в терминологии, не
избавившегося от тяготения традиции) было синонимом философски
трактуемого права. В «Философии права» также сохраняется этот
смысл, причем здесь, как и в предшествующих вариантах лекций,
«естественное, или философское право» 14 противопоставляется
«положительному» праву: первое, по Гегелю, есть право как идея,
понятие, второе — право, как оно «вступает в существование»,
воплощается в виде закона 15.
Однако характерно, что в «Философии права» даже во
Введении термин «естественное право» встречается уже довольно
редко. Во Введении из записей Ванненмана, с одной стороны,
вводится это привычное для истории правовой науки понятие; с другой
стороны, обосновывается необходимость его постепенного
устранения. «Естественное право, — так записал Ванненман
надиктованный Гегелем § 1 Введения, — имеет своим предметом свою
14 Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. VII. С 1.
15 См. там же. С. 223 (далее ссылки на «Философию права» — в тексте: VII
[том в собрании сочинений Гегеля], страница).
300
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
идею, разумные определения права и их осуществление; его
источником является мысль, которая схватывает волю в ее
свободном самоопределении; этот источник (Quelle) и есть
божественное, вечное перворождение (Ursprung) права» (Vorl. I. S. 5). В
тексте «Философии права» в § 1 имеется, во-первых, более
лаконичная формулировка: «Философская наука о праве имеет своим
предметом идею права — понятие права и его осуществление»
(VII. С. 23). Во-вторых, в то время как в записях Ванненмана
разъяснение «положительного права» кратко дано в примечании к § 1,
в тексте «Философии права» расшифровка этого понятия
становится более детальной и выносится в специальный § 3. Из § 2 и
примечания к нему в записи Ванненмана видно, почему понятие
«естественного права» все более вытесняется. «Сфера права, —
диктовал Гегель, — это не почва природы как внешней природы и
как субъективной природы человека, поскольку его воля,
определенная внешней природой, находится в сфере природных
потребностей и стремлений. Напротив, сфера права является
духовной, а именно — сферой свободы. В праве свободе, правда,
присуще и природное, поскольку идея свободы выходит во-вне
(sich äußert) и придает себе существование; но свобода остается
основой, и природа входит как нечто несамостоятельное». (Vorl. I.
S. 6) В записях Ванненмана существенно и пояснение к
процитированному §2: «Названием "естественное право" целесообразно
пожертвовать и заменить его обозначением "философская наука
о праве" или учение об объективном духе» (Ibid.) — что как раз и
было сделано Гегелем в «Философии права». «Выражение
"природа" — пояснено далее в записях Ванненмана, — содержит
двойственность; под ним понимают: 1) сущность или понятие чего-
либо; 2) лишенную сознания природу как таковую. И тогда под
«естественным правом» приходится понимать право, которое
имеет значение в силу непосредственной природы; с этим связана
фикция о некоем естественном состоянии, в котором якобы
должно существовать истинное право. Это состояние
противопоставляется общественному и в особенности государственному
состоянию. Далее, господствует и другое ложное представление,
будто общество — не то, что закономерно относится к сущности
духа, а что-то вроде искусственного зла и несчастья и будто в нем
находит свое ограничение истинная свобода» (Vorl. I. S. 6—7).
Итак, антинатуралистическая установка Гегеля на понимание
права и резонная критика натуралистических, утопических
аспектов традиционных концепций «естественного права»
выражена в записях лекций вполне ясно. Затем мысль о вне-природной,
т.е., собственно, социально-исторической сущности права Гегель
«Философия права» Гегеля как социальная философия 301
кладет в основу текста «Философии права». В нем Гегель не
просто утверждает, что сущность права специфична по сравнению с
чисто природными феноменами, что она тяготеет к духовной, а
не к природной сфере, что она порождена духом как некая
«вторая природа» (VII. S. 31) — акцент переносится на раскрытие этих
тезисов, состоящее в более конкретном и подробном
рассмотрении свободы и свободной воли как исходных для философии
права, а значит, и для реальных правовых феноменов.
Свобода и право
Анализ воли, причем именно свободной воли, в качестве
«принципа и начала» (Vorl. I. S. 7) науки о праве в своем существе
совпадает в обоих текстах. Так, § 3 записей Ванненмана не только
по смыслу, но даже по формулировкам почти тождественен
тексту § 4 «Философии права». Особенность последнего: Гегель
усиливает и развивает в его начале как раз тот момент, о котором
ранее говорилось: доказательство необходимо философского
характера науки о праве идет рука об руку с центрированием всего
исследования вокруг понятия свободы воли. При этом если в гей-
дельбергских лекциях 1817/18 г.г. Гегель ограничил Введение
десятью параграфами, в которых, правда, уже была намечена
основная структура рассуждения — обоснование свободы воли в
контексте философии права, то в «Философии права» данная
проблема развита весьма детально; анализ охватывает тридцать
один параграф с примечаниями (в издании 1833 г. еще и с
прибавлениями, собранными Э. Гансом). Это позволяет более
внимательно исследовать один из самых важных для гегелеведения
вопросов — о характере изменения социальной философии, в
частности, социально-политических, государственных правовых
позиций Гегеля, получившего закрепление в «Философии права».
Распространено, в том числе в отечественных работах, мнение,
что усиливающиеся после 1815 г. в Европе консервативные
социально-политические тенденции породили консервативный же
крен в философии Гегеля. А вот сопоставление анализируемых
нами текстов наглядно показывает: один из первых социально-
философских ответов Гегеля на ситуацию 1815—20 гг. состоял как
раз в расширении — удвоении! — вводного раздела, в центр
которого, как было сказано, было помещено энергичное, твердое
обоснование свободы и свободной воли как исходного пункта
философии права, а стало быть, всей социальной философии.
Но, может быть, Гегель, расширив раздел по объему, выполнил
его в духе ситуации, которая особо усложнилась в Германии в тот
302
H. В. Моттошилова «Работы разных лет»
самый момент, когда Гегель готовил «Философию права» к
публикации? Сравнение текстов позволяет ответить на этот вопрос в
целом отрицательно. В гейдельбергских лекциях — при общих
указаниях на исходное значение свободы, свободы воли для
философии права, центр внимания перенесен все же на более
абстрактное философское разъяснение понятия «воля» (в его
релевантном праву значении). Это рассуждение Гегель продолжает и
в «Философии права». Но одновременно он не только не
жертвует понятием свободы, но более четко, решительно, с более
явными выходами в политику подчеркивает его принципиальное
значение во всех, по существу, параграфах Введения к «Философии
права». Мысль о свободе — стержень всего гегелевского текста. В
§ 29 дается афористическое философское определение: «Право
состоит в том, что наличное бытие вообще есть наличное бытие
свободной воли. — Право есть, следовательно, вообще свобода как
идея» (VII. С. 59). В целом же задачу, даже сверхзадачу науки о
праве, ее философичность Гегель усматривает в том, чтобы
принцип свободы, спасенный и обогащенный, был проведен
между Сциллой субъективного произвола, дающего лишь
видимость свободы, и Харибдой государственного деспотизма,
уничтожающего или существенно ограничивающего свободу под
предлогом объективной необходимости. Внимательный анализ
всех социально-философских, в частности, философско-правовых
текстов Гегеля позволяет обнаружить в них этот принцип — его
великий философ обрел еще в молодости и не жертвовал им
никогда, в том числе во времена ухудшавшейся политической
конъюнктуры и усиливавшейся цензуры. Вместе с тем, отдельные
формулировки лекций иногда звучат радикальнее, чем в
подцензурной публикации «Философии права».
«Определением человека может быть только абсолютная
свобода» (Vorl. I. S. 274), — эту формулировку, согласно записи Ван-
ненмана, Гегель включил в примечание к § 6 лекций уже в
Берлине. В «Философии права» (соответственно в § 10 и примечании) та
же мысль (в контексте сравнения отношения к свободе ребенка и
взрослого человека) выражена более уклончиво и абстрактно (VII.
S. 40—41).
Свобода и единство всеобщего-особенного-
единичного
Анализ в обоих текстах этой проблемы — важнейшей для
гегелевской социальной философии в целом, для философии права,
в частности, поясним на примере раздела о государстве.
Огромный интерес Гегеля к прояснению фундаментальных понятий
«Философия права» Гегеля как социальная философия 303
философии государства виден в том, что уже в гейделъбергских
лекциях данной теме было посвящено несколько объемных
параграфов (§§ 122—126; в «Философии права» соответственно —
§§ 257—259). В плане освещения проблематики
всеобщего-особенного-единичного лекции в записи Ванненмана подчас дают
определенные преимущества по сравнению с «Философией права»,
где значительная часть текста посвящена полемике Гегеля с его
современником фон Галлером (поэтому § 122—126 лекций можно
предложить для перевода в издании новых текстов по философии
права Гегеля).
В отечественной и зарубежной литературе о Гегеле нет,
пожалуй, более напряженных дискуссий, чем те, которые связаны с
отношением Гегеля к государству. Вряд ли можно счесть вопрос
разрешенным. Дискуссии продолжаются. Обобщая их, X. Оттман
пишет: «Кем был Гегель? Был ли он антииндивидуалистическим
системным мыслителем, за что его до сих пор критикуют так
называемые левые гегельянцы? Или он был великим современным
универсалистом, как его в своих целях рекламировали философы
эпохи Бисмарка и многие гегельянцы третьего рейха? Был ли он
просто идеологом власти или фашистом, в чем его постоянно
обвиняли либералы и теоретики открытого общества в нашем
столетии? Или мы должны поверить немецким, англо-саксонским и
французским апологетам Гегеля послевоенного периода, которые
представили нам его как "мыслителя индивидyaльнocти,,?»16.
X. Оттман справедливо отмечает: «Почти все оппозиции против
Гегеля исходят из упрека, согласно которому в его философии
индивидуум находится в подчиненном положении. Правда,
содержание упрека варьируется в определенные эпохи» (Ibid. S. 2).
В сегодняшних спорах о Гегеле подобные обвинения в адрес его
социальной философии выдвигаются никак не реже, чем прежде.
Записи лекций Ванненмана снова дают повод и материал, чтобы
обратиться к вопросу о государстве и свободе индивида, который
потому и существен для теоретических дискуссий, что постоянно
и напряженно ставится социально-исторической практикой.
В лекциях, как и в тексте «Философии права», нет недостатка в
формулировках, на которых по большей части и основываются
лево-либеральные и радикальные критики «этатизма» (даже
«тоталитаризма») Гегеля. Так, § 123 в записях Ванненмана по смыслу
и формулировкам близок §§ 257 и 258 «Философии права», где
16 Ottman H. Individuum und Gemeinschaft bei Hegel. В.; L.; N. Y, 1977. Bd. I.
S. 1-2.
304
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
государство определяется как «действительность нравственной
идеи» и «субстанциональной воли» (VII. S. 263; Vorl. I. S. 172).
Немало ошибок в интерпретации соответствующих идей
философии права Гегеля возникло потому, что интерпретаторы брали
такого рода формулировки вне их контекста, вне того значения,
которое понятия «нравственная идея», «нравственный дух»,
«субстанциональная воля» и др. имеют именно в системе Гегеля.
Правда, порою принимались в расчет предостережения Гегеля
относительно того, что анализ сущности государства, его понятия
в философии права отнюдь не совпадает с исследованием, оценкой
исторически возникавших или наличных в тот или иной период
«особых государств». «Философское рассмотрение должно
заниматься лишь внутренней сущностью всего этого, мыслимым
понятием», — разъясняет Гегель (VIL S. 264). Или: «При мысли о
государстве нужно иметь в виду не особенные государства,
особенные учреждения, а скорее идею государства самого по себе, этого
действительного бога» (VII. S. 268—269). Но тем более опасным и
противонравственным, заявляли критики Гегеля «слева»,
становится гегелевское «сущностное» подчинение индивида
государству. Текст лекций Ванненмана, присоединенный к «Философии
права», дает новую возможность продолжить этот спор, не
утративший актуальности в практическом и теоретическом
отношениях.
«В государстве всеобщая воля становится действительной,
всеобщее имеет наличное бытие в качестве абсолютной цели. Здесь
— не поиски, не нечто потустороннее, будущее; цель
действительна, современна. Это внутреннее, которое непосредственно
является внешним, так что само внутреннее (die Innerlichkeit) в
качестве внешнего, и наоборот, и есть тождество. Рост и т.д.
растения есть внешнее, его наличное бытие; это понятие и
составляет его внутреннее, его природу. Сущность самосознания —
разумное, разумная воля налична только в самосознании. Дух здесь
есть выявляющееся, проясняющее себя самому себе, всеобщее; в
отличие от того, как обстоит дело в сфере необходимости17 и в
гражданском обществе, здесь он есть в качестве свободы. Это
знающее себя всеобщее, воля, которая находится в форме
всеобщности. Поскольку здесь всеобщее осознано в качестве
раскрывающего себя закона, оно также воплощено в действительность.
Всеобщее здесь суть нравы народа, оно есть дух и форма всеобще-
природной данности. Живое органическое есть первое и
последнее, ибо оно имеет самого себя предметом собственной деятель-
17 В контексте данного рассуждения Гегеля речь идет о «необходимости».
«Философия права» Гегеля как социальная философия 305
ности. Эта деятельность составляет индивидуальность
самосознания, полагает себя в качестве негативности и свободного Я,
бесконечного отношения к самому себе. В единичном самосознании
дух обладает своей действительностью. Духовная природность
ведет к семье, потребность — к гражданскому обществу,
свободная воля — к государству» (Vorl. I. S. 172). И далее: «Государство —
всеобщая воля, которая есть ставшее действительным всеобщее
самосознание, оно — идея бога. Народы чтили всеобщую
сущность государства как некоего бога. Это свобода в ее всеобщности
и действительности; высшее право состоит в том, чтобы эта идея
наличествовала. Свобода есть самосознание; идея, следовательно,
имеет свою реальность в индивидуальном (einzelnen)
самосознании. Подобно тому как в абстрактном праве личность вкладывает
свою свободу во внешнюю, природную вещь, так материалом
субстанциальной свободы является самосознание.
Субстанциальная свобода вкладывает себя в индивидуальное, единичное
самосознание, которое по отношению к ней бесправно. Если
индивидуумы выступают против этой идеи, они становятся
бесправными, лишенными достоинства (würdelose). В том и состоит
абсолютное право государства, что оно воплощается в
действительность через индивидуальное самосознание» (Ibid. S. 173).
В анализе сущности государства есть принципиальное
сходство и одновременно некоторое различие оттенков — но только
оттенков, акцентов, а ле идейного содержания — между
«Философией права» и записями Ванненмана. Оба текста сходны в том,
что 1) Гегель ставит в центр идею, понятие, т.е. сущность
государства (и одновременно выступает как против отождествления
сущности с любой государственно-правовой эмпирией, так и
против отрыва сущности от исторически конкретного развития
государственно-правовых форм). 2) Он усматривает эту
сущность в разумности, превращающейся в действительность, т.е. «во
взаимопроникающем единстве всеобщности и единичности», что
в содержательном контексте философии права означает единство
«объективной свободы, т.е. всеобщей субстанциальной воли, и
субъективной свободы, как индивидуального знания и ищущей
своих особенных целей воли...» (VII. S. 264). 3) Гегель связывает
реализацию сущности, идеи (одновременно идеала) государства
именно с активной деятельностью, самосознанием индивидов. 4)
Государство «само по себе» (т.е. как понятие, сущность) Гегель
провозглашает «нравственным целым» — но лишь поскольку оно
мыслится как «осуществление свободы, осуществление же
свободы есть абсолютная цель разума» (Ibid. S. 267—268). 5) «... Инди-
306
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
видуум, — по Гегелю, — лишь постольку объективен, истинен и
нравственен, поскольку он есть член государства» (VII. S. 264).
Это вовсе не означает, что всякое государство образует
«нравственное целое» и что любой индивид, уже потому, что является
гражданином государства, непосредственно «истинен и
нравственен». Гегель хочет лишь сказать, что нравственное как
противоположное безнравственному имеет смысл исключительно в
пределах человеческих объединений, тремя главными формами
которых он считает семью, гражданское общество, государство.
Анализируя и сравнивая их, Гегель связывает господствующую
ориентацию на природное, единичное с семьей, разнообразие
потребностей, господство особенного — с гражданским
обществом, а постепенное «овладение» принципом всеобщего — именно
с государством (Vorl. I. S. 170—171).
6) Для понимания и оценки учения Гегеля о государстве
необходимо учесть специфику системно-теоретической конструкции
всей его социальной философии. В пределах философии
объективного духа самая высокая — и, соответственно, нравственно
целостная форма для Гегеля та, что отвечает сути, т.е. понятию и
цели человеческого объединения. Гегель так и пишет в
«Философии права»: «Объединение как таковое само есть истинное
содержание и цель, и индивидуумы предназначены вести всеобщий
образ жизни; их дальнейшее, особенное удовлетворение,
особенная деятельность, особенный характер поведения имеют своим
исходным пунктом и результатом это субстанциальное и
обладающее всеобщей силой» (VIL S. 264).
Государство у Гегеля рассматривается как объединение,
сущность, исторический смысл которого состоит в реализации
главной цели человеческого объединения как такового — разумного,
творческого, сознательного, в этом смысле свободного
удовлетворения единичных, особенных интересов посредством ориентации
на всеобщее.
Специфический акцент записей Ванненмана по сравнению с
текстом «Философии права» состоит (в этих первых параграфах
раздела о государстве) в подчеркивании следующего момента:
государство, по Гегелю, не только в идее, но и в действительности
пролагает дорогу всеобщему; а происходит это потому, что в
«субстанциальную волю», объективирующуюся в истории
развития государственно-правовой сферы, индивиды уже вложили
свою единичную волю ко всеобщему, запечатлели свое
самосознание, утвердив тем самым в существовании более развитых
государств и более «существенные моменты».
«Философия права» Гегеля как социальная философия 307
Не вдаваясь в другие детали весьма непростого решения
Гегелем проблемы соотношения государственного целого и
жизнедеятельности входящих в него индивидуумов, остановимся лишь
на исходных принципах, благодаря которым проясняется роль
«идеи» государства, государственности и в философии права, и
во всей вообще гегелевской системе.
Применительно к значительному отрезку человеческой
истории (а за его пределы Гегель не заглядывает; внегосударственной
формы будущего общества он себе не представляет) государство
рассматривается как «единственное условие достижения
особенной цели и особенного блага» (VIL S. 273). Поэтому
антигосударственные устремления индивида для этого отрезка истории —
синоним антиобщественного, а стало быть, противонравственно-
го поведения.
В случае, если индивид хочет полностью изолироваться от
государства, это как будто означает возврат в нецивилизованное
«природное» состояние. Однако и тут дело обстоит сложнее:
«Если отдельный индивид хотел остаться по отношению к
государству изолированно-свободным существом (für sich ein Freies), то
ведь и тогда он вступал с государством в борьбу за признание; но
тогда божественное право — на стороне государства, и при этом
государство имеет право на принуждение по отношению к
такому индивидууму, желающему свободным остаться в пределах
природы» (Vorl. I. S. 174).
Для правильного понимания гегелевского принципа
государства и государственности очень важно учитывать, что этим
терминам Гегель придает не узко-правовое, а универсальное
социально-философское значение. Государство с определенного
исторического момента становится — так его толкует Гегель —
носителем всеобщего, социальной связи, единства общества как
таковых; в новое время ко всеобщему как «субстанциональному»
присоединяется еще и свободное, сознающее себя особенное.
«Все дело — пишет Гегель в «Философии права» — в единстве
всеобщности и особенности в государстве. В древних
государствах собственная цель была целиком тождественна с волей
государства; в новейшее время мы требуем, напротив, собственного
взгляда, собственного воления и собственной совести» 18. Вот
почему Гегель считает, что философия государства и права обязана
анализировать «государство само по себе», что государство
должно предстать как «нравственное целое, осуществление свободы,
Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. VII. С. 273. См. также: § 260. С. 270.
308
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
осуществление же свободы есть абсолютная цель разума» 19. Дело
идет, следовательно, о единстве в контексте философии Гегеля:
«субстанциональности» государства; его разумности; идеи
государства; всеобщего и единичного. «Разумность, понимаемая
абстрактно, состоит вообще во взаимопроникающем единстве
всеобщности и единичности, а здесь, где она рассматривается
конкретно, по своему содержанию, она состоит в единстве
объективной свободы, т.е. всеобщей субстанциальной воли, и
субъективной свободы, как индивидуального знания и ищущей своих
особенных целей воли, и поэтому она состоит в действовании,
определяющем себя согласно мыслимым, т.е. всеобщим законам и
основоположениям. — Эта идея есть в себе и для себя вечное и
необходимое бытие духа» (VII. S. 264). В этом и других отрывках из
раздела «Государство» «Философии права» (см., например, § 260)
— поистине центр гегелевской социально-философской
концепции. «Взаимопроникающее единство всеобщности и
единичности» есть ведь, по Гегелю, содержание, смысл идеи государства. И
история — такова установка Гегеля во всем данном разделе —
интересна философу скорее не деталями, касающимися каждого
особого государства (это «историческая проблема», вопрос, не
имеющий отношения к «идее государства»), не ограниченностя-
ми, недостатками и т.д., а тем, как постепенно, но неуклонно
пробивает себе дорогу «идея государства», «всеобщее»
государственно-правовой сферы.
Свою эпоху и характерное для нее государство («новое
государство») Гегель выделяет и отличает: в нем «всеобщее связано с
полной свободой особенности и с благоденствием
индивидуумов» (Ibid. S. 271).
При этом было бы противно самому духу и структуре
произведения толковать Гегеля так, будто он некритически
приписывает гармонию всеобщего и индивидуального наличным в его эпоху
и вообще в новое время формам государственности. И
применительно к «новому государству» речь идет не более, чем об его
идее, почему Гегель пишет: «Всеобщее, следовательно, должно
(подч. нами. — Н.М.) деятельно осуществляться, но вместе с тем
субъективность, с другой стороны, должна развиваться цельно и
живо» (Ibid.).
Сказанное относится и к другим постулатам гегелевской
философии права, т.е. социальной философии — идет ли речь о
настоятельном проникновении «всеобщего интереса» (S. 278) в
канву особенных интересов внутри государства; о всеобщих задачах
19 Там же. С. 267—268.
«Философия права» Гегеля как социальная философия 309
разделившихся и обособленных властей; о «связи между
всеобщим интересом и особенным» в деятельности правительств,
государственных учреждений; о взаимодействии «особенных»
интересов отдельных государств и всеобщего, т.е. общечеловеческого
интереса. Всюду имеется в виду «всеобщая идея»
государственности, которая в ходе истории «пробивается» через все случайное,
особенное, но которая отнюдь не получила, согласно Гегелю,
полного и окончательного воплощения. Движение ко
«всеобщему» государственной формы — а это, как мы видим,
расшифровывается как взаимопроникновение всеобщего, единичного,
особенного — есть скорее тенденция, закон развития истории,
причем, по убеждению Гегеля, наличие такого закона отнюдь не
становится ясным при первом «явлении», вычленении «всеобщего» в
государственно-правовых формах классической древности;
только в Новое время такое единство — да и то скорее как цель, идеал
— осознается людьми.
На пути ко всеобщему, к государству как «действительности
нравственной идеи» (VII. S. 263) — в качестве этапа", который, по
Гегелю, буквально не-обходим: если и пытаться обойти его, то
придется к нему все же вернуться — воздвигнута гегелевской
философией права стадия «гражданского общества». А
«гражданское общество» — социально-философская конструкция, которая,
в свою очередь, встроена в более общую теоретическую рамку
философии права: ее, а соответственно, и всю заключительную
часть «Философии права», Гегель обозначает понятием
«Нравственность», широкий смысл которого в системе гегелевского
объективного духа требует особого анализа, который не
планировалось дать в этой работе ограниченного объема.
III.
Возникновение феноменологии
Э. Гуссерля
и ее историко-философские истоки
В последние десятилетия расширилось влияние
феноменологии Э. Гуссерля на философию капиталистических стран. Вместе
с тем уже в процессе усвоения новыми поколениями гуссерлев-
ского учения стало все более отчетливо обнаруживаться
критическое отношение многих философов к самим основам
феноменологии. В этих условиях возрастает значение марксистской
критики гуссерлианства. К числу актуальных сегодня узловых задач
нашей критической работы принадлежит основательный анализ
процесса возникновения феноменологии Гуссерля и ее
отношения к истории философии.
Необходимо иметь в виду, что в рамках феноменологического
движения историко-философские исследования, в сущности, не
ведутся. Насчитывающее почти 70 томов издание «Phaenomeno-
logica» пока включает только одну-две специальные историко-
философские работы '. Основная причина, как нам кажется,
состоит в том, что прояснение вопроса о связи феноменологии и
истории классической философии является делом сложным и к
тому же весьма невыгодным для феноменологической философии.
Отношение Гуссерля к историко-философскому наследию всегда
было противоречивым, неоднозначным. При жизни Гуссерля не
было опубликовано ни одной его специальной работы по
истории философии2. Для периода формирования феноменологии
1 См., например, Kern I. Husserl und Kant. Eine Untersuchung über Husserls
Verhältnis zu Kant und zum Neukantianismus. Den Haag, 1964.
2 Единственная историко-философская работа Гуссерля была
опубликована после его смерти и составлена издателями на основе цикла лек-
Возникновение феноменологии Гуссерля
311
характерно неумение Гуссерля отчетливо выявить ее
действительные, объективные историко-философские истоки. В то же
время во всех его работах содержатся историко-философские
экскурсы. Не имея самостоятельного значения, они выполняют
функцию «оправдания» феноменологических принципов. В ходе
эволюции феноменологии Гуссерль все настойчивее стремится
превратить наиболее влиятельных философов прошлого в
«провозвестников» феноменологического трансцендентального
идеализма. История философии подвергается существенному
искажению. Но подобное использование Гуссерлем классической
философии — дело более позднее. В этой статье речь пойдет о
процессе возникновения феноменологии. Здесь прежде всего
необходимо подчеркнуть следующую особенность этого процесса.
Стимулом рождения феноменологии первоначально были не
проблемы философии непосредственно, а теоретические,
методологические проблемы специальных дисциплин — математики,
математической логики, а затем и психологии. Философские
споры, оказавшие влияние на Гуссерля на этапе зарождения
феноменологии, по большей части касались именно этих наук. И
скорее не классическая философская литература была для Гуссерля
непосредственным идейным источником, а произведения
современных ему логиков, философов и психологов, чьи имена сегодня
по большей части забыты. Они известны узкому кругу
специалистов-историков, причем о некоторых из них упоминают главным
образом в связи с тем, что они оказали известное воздействие на
формирование идей Гуссерля.
С этой точки зрения осмысление отношения феноменологии к
истории философии может иметь типологическое значение для
понимания сложного процесса «вхождения» в философию таких
учений, которые, подобно гуссерлианству, родились или
рождаются на наших глазах на почве конкретных естественнонаучных,
математических или гуманитарных дисциплин.
ций, которые были прочитаны Гуссерлем зимой 1923/24 гг. во Фрей-
бургском университете. Опубликованы написанные самим Гуссерлем
стенографические предварительные тексты к лекциям, которые
расшифровывал Л. Ландгребе; затем Гуссерль корректировал их. В
приложениях даны историко-философские тексты, написанные Гуссерлем в
разные годы его жизни (см.: Husserliana. Bd. VII).
Post scriptum 2004 года. Это суждение, (отчасти) справедливое для
состояния гуссерлеведения 70-х гг., сегодня должно быть скорректировано на
основе многих томов Гуссерлианы, которые во время написания моей
статьи еще не были изданы.
312
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Но и в философии в целом мы иногда сталкиваемся с таким
парадоксом: нередко для возникновения новых, в той или иной
степени оригинальных философских концепций главным
стимулом является не глубокое изучение философских учений
прошлого и не стремление исследовать непосредственно заданное
ими проблемное поле, а другие обстоятельства, всякий раз
подлежащие конкретному изучению. Однако в итоге и такие
концепции, во всяком случае объективно, как бы «встраиваются» в
достаточно строгий ряд идейной преемственности или, напротив,
противостоят главным принципам классического философского
наследия. Но в обоих случаях отношение к
историко-философскому процессу, к крупнейшим представителям философской
мысли все-таки устанавливается. Еще раз подчеркнем, что речь
идет именно об объективных проблемных линиях
преемственности (или ее отрицания) Они отнюдь не всегда адекватно
улавливаются самим философом в момент формулирования им
принципов своей концепции. Мы постараемся подтвердить мысль об
этой закономерности отношения вновь создаваемых концепций к
истории философии, обратившись к критическому осмыслению
генезиса феноменологии.
Изучение данной проблематики тем более необходимо, что в
нашей литературе вопрос о происхождении феноменологии и ее
историко-философских истоках до сих пор почти не
исследовался.
I.
В конце 70-х — начале 80-х гт. прошлого века Э. Гуссерль
изучал математику сначала в Лейпцигском, а затем в Берлинском и
Венском университетах. Молодого ученого все более
интересовали философские проблемы математики3. Из первой работы
«Философия арифметики» (1891 г.) известно, какая проблематика
первоначально волновала Гуссерля. Это был вопрос об
обосновании математических понятий, в частности понятия числа.
Гуссерль рассуждал следующим образом. Число не тождественно
простому скоплению образующих его единиц. Но это значит, что
3 В Берлине Гуссерль учился у выдающихся математиков того времени
Кронекера и Вейерштрасса. В 1883 г. он защитил диссертацию по
математике и получил приглашение от Вейерштрасса стать его
ассистентом Он благоговел перед своим учителем и, пожалуй, не смог бы
ответить ему отказом. Но Вейерштрасс серьезно заболел, и это
несчастье определило судьбу Гуссерля. Он решил посвятить себя
философии.
Возникновение феноменологии Гуссерля
313
оно является сложным результатом деятельности сознания,
процессов синтеза и формализации. Именно эти процессы должны
быть детально исследованы, а не просто отброшены как
несущественные или признаны в качестве некоей само собой
разумеющейся предпосылки, что в подавляющем большинстве случаев
делают математики. Гуссерлю было ясно, что постановка и
решение такого рода проблем выводят за пределы собственно
математики и заставляют обратиться к философии.
Таким образом, и это важно подчеркнуть, интерес, толкавший
молодого математика к знакомству с философией, с самого
начала был обращен к изучению сознания. Гуссерля интересовали
такие процессы активного функционирования, синтезирующей
деятельности сознания, которые в итоге давали объективно
значимый результат, подобный математическим понятиям и
теориям. Интересам Гуссерля всего ближе соответствовало кантовское
учение о сознании. Казалось бы, к философии Канта Гуссерль
должен был обратиться в первую очередь. Но в период
возникновения феноменологии этого не случилось, хотя в. дальнейшем
Гуссерль в своем собственном философском развитии
своеобразно осуществил движение «Назад к Канту». Поворот обозначился в
1904—08 гг., то есть уже после создания принципов
феноменологии. В 80-е гг. XIX в. Гуссерль, предпринимая попытку обосновать
математические понятия, почти не использовал учение Канта о
сознании. И на то были довольно существенные причины.
Математик Гуссерль не получил систематического философского
образования. Кроме того, у него не было врзможности глубоко
изучить произведения Канта, как и других философов прошлого.
Гуссерль обращал внимание главным образом на кантовское
определение задач логики и ее отношения к психологии, то есть
на моменты, в достаточной степени второстепенные для
философии Канта.
В кантовской философии Гуссерль в соответствии со своим
проектом «наукоучения» выделяет только идею «чистой логики».
Однако весьма характерно, что поддерживается лишь самый
общий замысел такой логики, тогда как отвергаются кантовские
понятия и идеи, связанные с ее обоснованием. Да и саму
трансцендентальную логику Канта Гуссерль называет «несказанно тощей
логикой». Гуссерль не видит смысла в кантовском различении
понятий «рассудок» и «разум» (он называет их «запутывающими
мифическими понятиями») 4. В другом случае он обнаруживает
4 Гуссерль Э. Логические исследования. СПб., 1909. Т 1. С. 185.
314
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
непонимание того, какая реальная проблематика затрагивается у
Канта в связи с объединением логики и «трансцендентальной
эстетики», то есть учения о чувственности5. Но отсюда неверно
было бы делать вывод, будто феноменология далека от философии
Канта.
Здесь мы сталкиваемся с тем парадоксом, о котором было
упомянуто в начале статьи: объективно в принципах
феноменологической философии, даже в ее первоначальном варианте, было
немало линий связи с кантианством6. Впоследствии и сам
Гуссерль вдруг «обнаружит», что его феноменологическое учение
близко многим кантовским идеям. Но это произойдет позже, уже
после разработки основных принципов феноменологической
философии. В период же ее формирования вся богатейшая
проблематика кантовского анализа сознания еще не была
имплицитно развита Гуссерлем.
Из «Логических исследований» видно, насколько большую
роль здесь сыграли противоречивость, неудовлетворительность
неокантианских интерпретаций Канта. Вопрос об отношении
возникающей феноменологии к неокантианству сложен, и
рассмотреть его во всех аспектах не представляется возможным. В
плане общей оценки необходимо ответить следующее:
феноменология и неокантианство отличаются друг от друга с точки
зрения некоторых подходов к решению гносеологических и
общефилософских вопросов, и, тем не менее, эти учения связаны
многими линиями идейного родства. Гуссерль сам признавал, что
неокантианство оказало определенное влияние на формирование
феноменологии7.
s Там же. С. 186.
6 Подробнее эта тема рассмотрена нами в статье: «Гуссерль и Кант
проблема трансцендентальной философии» (См.: Философия Канта и
современность. М, 1974).
7 В «Логических исследованиях» Гуссерль ссылается на работы Ланге,
Виндельбанда и Риккерта. Но еще чаще он обращается к
произведениям Наторпа. Так, одобряя толкование логических законов в книге
Наторпа «Социальная педагогика» (1899), Гуссерль пишет: «И в
некоторых других, не менее существенных пунктах мои «Пролегомены»
(«Пролегомены к чистой логике» — это подзаголовок 1-го тома
«Логических исследований». — H. М.) соприкасаются с этим произведением
проницательного мыслителя, которое, к сожалению, уже не могло помочь
мне в развитии и изложении моих мыслей. Зато два более ранних
произведения Наторпа: статья из «Philosophische Monatshefte» («Über
objektive und subjektive Begründung der Erkenntnisse».— H. M) и
«Введение в психологию» («Einleitung in die Psychologie») оказали на меня
Возникновение феноменологии Гуссерля
315
В I томе «Логических исследований» Гуссерль делает упор на
критику тех идей и концепций неокантианства, которые он
анализирует в связи с борьбой психологизма и антипсихологизма в
логике. Неокантианцы, как известно, боролись с психологизмом.
Однако Гуссерль считал, что, несмотря на ряд ценных для
опровержения психологизма идеи, философия неокантианства и
самого Канта все же сильно «вдается в психологизм». На
формирование феноменологии оказывал влияние и другой не менее
существенный момент размежевания с неокантианством, о котором
Гуссерль более четко скажет впоследствии. В 1904—08 гг. началось
упомянутое — протянувшееся до последних дней жизни Гуссерля
— его движение «Назад к Канту!», кстати говоря, прозорливо
предсказанное Наторпом в его рецензии 1901 г. на «Логические
исследования». Но и тогда Гуссерль скорее подчеркивал различия
между неокантианством и феноменологией. В письме к Наторпу
(18 марта 1909 г.) он так определял главное их расхождение: при
изучении логических математических понятий и форм
неокантианство избирает «путь сверху», пребывая главным образом в
сфере формального и абстрактного анализа самих этих форм, тогда
как для феноменологии предпочтительнее «путь снизу» —
изучение логических и математических понятий через их
обязательное соотнесение с феноменами сознания.
Итак, «встреча» Гуссерля с философией Канта в период
формирования феноменологии не состоялась; даже неокантианство,
подвергнутое критике, все же оказало более основательное
воздействие на возникающее феноменологическое учение.
Но если Гуссерль так отнесся к кантовской философии, то тем
более неприемлемой должна была казаться вчерашнему
математику философия Гегеля. Нельзя забывать, что усвоение
немецкого классического идеализма в тот период также было
опосредовано многочисленными эпигонскими концепциями, которые
знаменовали «разложение» в условиях тогдашней Германии некогда
великих учений Фихте, Шеллинга, Гегеля. В то время в западной
философии защитниками абсолютного идеализма немецкой
классической философии оказались философы, подобные
А. Тренделенбургу или Г. Лотце8, которые на деле были ее
вульгаризаторами, подменившими завоевания диалектики метафизи-
плодотворное влияние, хотя в других пунктах и сильно побуждали
меня к возражениям» («Логические исследования», стр. 135)
8 Следует, правда, принять во внимание, что Гуссерль признает влияние
Г. Лотце(1817—1881) на феноменологию. Но Лотце интересует его лишь
как интерпретатор теории идей Платона.
316
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
кой, спиритуализмом, телеологией. Если говорить о восприятии
Гуссерлем немецкого классического идеализма, то надо принять
во внимание следующее обстоятельство. В конце XIX в. в
университетах Европы появилось немало позитивистски и эмпиристски
ориентированных философов, которые с порога отвергали
чуждые и непонятные им учения Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля .
Такой позиции придерживался философ и психолог Ф. Брен-
тано (1838—1917), чьи лекции по философии слушал и весьма
высоко оценивал Гуссерль (и более того, лекции Брентано, по
признанию Гуссерля, помогли ему сделать философию делом своей
жизни). Брентано видел в немецкой классической философии
полный упадок философской мысли, не находил в ней, ничего,
кроме «догматизма» и «мистицизма» 10. Сложившееся у Гуссерля в
80-е гг. и сохранившееся до последних дней недоверие к
спекулятивным метафизическим системам было перенесено с
современных ему эпигонских учений на философию Гегеля и Шеллинга,
причем без изучения, анализа, доказательства.
В «Логических исследованиях» Гуссерль, правда, называет
Гегеля «великим философом». Однако, по существу, он отрицает
какое бы то ни было научное значение его философии.
Неприятие Гуссерлем философии Гегеля, даже отчуждение от нее было
полным, невзирая на то, что именно Гегель написал
«Феноменологию духа». Так случилось, что Гуссерль в период создания
феноменологии не «встретился» и с немецкой классической
философией — это был факт, чреватый для него неожиданными (если
иметь в виду гегельянско-шеллинговский крен его поздней фило-
софско-исторической концепции) и даже пагубными
последствиями.
На протяжении почти двадцатилетнего периода
философского формирования Гуссерля в поле его исследований, в сущности,
не было философии Декарта, которая впоследствии — но опять-
таки уже после создания феноменологии — стала основным ис-
9 Впоследствии, в 20-х гг., Гуссерль так описывает эту атмосферу:
«Безусловное господство естествознания и естественнонаучного рассмотрения
мира с середины XIX столетия способствовало тому, что философии
немецкого идеализма, некогда принимаемые с таким воодушевлением,
были преданы забвению. Они казались непонятной тарабарщиной.
И в самом деле, это философствование еще менее было доступно
всеобщему пониманию, чем столь необычные для нас философии
чужих культур, отдаленнейших времен и эпох — меньше, чем философии
древней Индии» (Husserliana. Bd. VII. S. 407).
10 См. Spiegelberg H. The Phenomenological Movement. Vol. I. 1971. 2-nd ed. P.
32—33.
Возникновение феноменологии Гуссерля
317
торико-философским материалом при обосновании
феноменологических принципов.
Для того чтобы определить отношение Гуссерля к другим
представителям классической философии, необходимо принять
во внимание особый характер «Логических исследований»,
итогового произведения, содержащего первый набросок
феноменологии. В этой работе формулируются основные понятия и
принципы феноменологии (большинство из них сохранилось и в
дальнейшем, хотя в ряде случаев обоснование стало иным). Но
сама работа далека от какой бы то ни было законченности и
завершенности. Напротив, видно, какую эволюцию проделывает
Гуссерль всего за один год, разделяющий опубликование I и II
томов «Логических исследований». Оба тома заметно отличаются
по замыслам и проблематике. Соответственно различны и
историко-философские предпосылки, с которыми связан каждый из
томов. Первый том содержит критику психологизма и
обосновывает проект «чистой логики», наукоучения. В более широком
смысле в нем содержится критика «принципиальных недостатков
эмпиризма». О целях этой критики Гуссерль говорит: «Такое
рассмотрение необходимо в интересах обосновываемого нами
идеалистического направления в логике» п.
Бросается в глаза то, что собственно историко-философский
«багаж» этого тома удивительно скромен и не идет ни в какое
сравнение с обстоятельно проработанной Гуссерлем современной
ему логической и психологической литературой.
Второй том «Логических исследований» (в двух частях)
содержит собственно феноменологическую концепцию Гуссерля, его
учение о сознании. С точки зрения историко-философского
материала в нем превалирует разбор классического эмпиризма
(теорий абстракции Локка, Беркли, Юма). В отличие от первого
тома, содержащего отдельные ссылки на классические
философские концепции, во втором томе дается более подробный и
тщательный их анализ. Но и здесь контекст в основном критический.
Гуссерль в целом и в деталях отвергает классическую теорию
абстракции. О точках соприкосновения с классическим
философским эмпиризмом в «Логических исследованиях» он почти не
говорит, в то время как несогласие с Локком, Юмом, Беркли
подчеркивает очень резко ,2.
11 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1. С. 67.
12 В дальнейшем (особенно в главной историко-философской работе
«Первая философия», опубликованной в VII и VIII томах «Husserliana»)
318
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Рассмотрение конкретного материала об отношении Гуссерля
к классической философии в период формирования и создания
первого варианта феноменологии позволяет прийти к
следующему выводу, который кажется нам весьма существенным.
Феноменология рождается не в результате прямого осмысления
коренных философских проблем, как они сформировались в
историческом процессе развития философской мысли. В «Логических
исследованиях» вообще не прослеживается сколько-нибудь
серьезное отношение Гуссерля к историко-философскому процессу и
материалу как к объективному мыслительному источнику,
конструктивной предпосылке философского творчества.
Но если теоретическим источником феноменологии не стала
классическая философия, так сказать, «в оригинале», то не значит
ли, что феноменология вообще явилась (а об этом писал в
«Логических исследованиях» сам Гуссерль) учением «беспредпосылоч-
ным»? Такой вывод был бы неоправданным, ибо феноменология
имела вполне определенные, главным образом современные ей
теоретические предпосылки. Говоря о принципах возникающей
феноменологии, мы попытаемся показать, что в современных
Гуссерлю спорах, в том числе в смежных с философией
теоретических областях, своеобразно преломлялись некоторые
проблемы, коренные и для историко-философской мысли. В этой форме
они и были восприняты Гуссерлем. Решающее значение для
философского формирования Гуссерля имели две сферы борьбы
философских идей, во многом определявшие облик западной
философии последней четверти XIX в. Первая из них была
связана с философским осмыслением логики, вторая — с
ожесточенными спорами вокруг обоснования и значения эмпирической
психологии.
И.
Отношение Гуссерля к философским спорам вокруг проблем
логики имеет существенное значение для понимания генезиса и
сущности феноменологии. Почти двадцатилетний период
движения математика Гуссерля к созданию самостоятельной
философской концепции делится на два этапа. Вначале, побуждаемый
стремлением дать философское и логическое обоснование
понятий математики (в частности, понятия числа), Гуссерль подпал
под влияние господствовавшего в то время в философии и логике
Гуссерль при размежевании с классическим эмпиризмом уже более
точно и широко освещает вопрос о его влиянии на феноменологию.
Возникновение феноменологии Гуссерля
319
психологистического направления. Затем, в конце века, начался
отход от психологизма, завершившийся всесторонней и резкой
критикой этого направления в «Логических исследованиях».
Гуссерль, только что оставивший занятия математикой, был
хорошо знаком с литературой, где дискутировались философские
проблемы математических дисциплин. В философской борьбе
конца XIX в. эта область приобрела особое значение в связи с
известным процессом возникновения новых, «неклассических»
типов математического знания, а также с оформлением и быстрым
развитием математической логики. Однако уже из первой работы
Гуссерля «Философия арифметики» видно, что его
исследовательский интерес был для тогдашней математики и
математической логики более чем необычным, если учесть господство в ней
логицистских, формально-логистических школ. Гуссерль
стремился выйти за пределы формализованного, чисто логического
анализа знания (прежде всего математического) и
складывающихся в нем отношений (сколь бы многообразными ни были
сами эти отношения и сколь бы перспективными ни-были их
исследования).
Его привлекала возможность связать изучение знания с
исследованием механизмов и форм сознания. Большинству тогдашних
теоретиков философии и математики уже сам замысел Гуссерля
должен был казаться совершенно чуждым. Не удивительно, что
опору для его обоснования и реализации Гуссерль стал искать в
другой сфере, где именно исследование сознания было
поставлено в центр внимания.
Значительное влияние на тогдашнюю западную философию
оказывали все перипетии идейной борьбы, которая разгорелась
вокруг психологии, еще только превращавшейся в
самостоятельную научную дисциплину. По существу, не только исследование
сознания, но и изучение знания в философии конца XIX в. было
так или иначе связано с этими спорами.
Не вдаваясь здесь в подробный анализ психологизма, отметим
лишь тот факт, что в рамках психологистического направления
результаты логического анализа знания и психологического (в
том числе экспериментального) исследования сознания были
объединены чисто внешним образом — под эгидой психологии,
которой придавалось значение объясняющей фундаментальной
науки по отношению ко всем философским и логическим
дисциплинам.
Психологическое исследование в его тогдашнем состоянии (со
всеми его внутренними противоречиями, трудностями)
провозглашалось основой, непосредственной базой для заключений о
320
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
генезисе законов, понятий, методов, которые формулировались
логикой и математикой. Под влиянием этих установок Гуссерль в
«Философии арифметики» сопоставил (подчас чисто внешним
образом) понятие числа с некоторыми операциями
индивидуального сознания при освоении им количественных отношений.
Более того, эти операции и были объявлены Гуссерлем — в
соответствии с общей тенденцией психологизма — источником
возникновения понятия числа (и других математических понятий).
Способ объяснения, предложенный Гуссерлем, встретил резкие
возражения математиков и логиков, представлявших «логицист-
скую» линию. И. Г. Фреге написал разгромную рецензию на
«Философию арифметики». Основная идея критики Фреге была
простой и четкой. Гуссерль стремится вывести объективное по своему
смыслу и значению понятие числа из субъективных операций
сознания. Тем самым он как бы перечеркивает объективность
математических понятий, которые не могут быть сведены к простым
результатам субъективных операций, операций индивидуального
сознания. Вероятно, действие критики Фреге на Гуссерля было
отрезвляющим. В «Логических исследованиях» он, по существу,
признает ее справедливость, а сам отказывается от критических
замечаний против Фреге, высказанных в «Философии
арифметики» 13. Любопытно, что аргументы, направляемые Гуссерлем
против психологизма, совпадают с рядом критических замечаний,
сделанных Фреге в его адрес. И более того, позиция Гуссерля
свидетельствует о заметном влиянии логицистского истолкования
математики и математической логики, коренящегося в учении
Болъцано и развитого Кантором и Фреге. Их мысли об «истинах в
себе», «числах в себе» как идеальных единствах явились истоком
целого ряда формулировок «Логических исследований»,
касающихся истины и характеризующих ее как «единство значения»,
которое приобщает совершенно объективный смысл.
Фреге был одним из наиболее последовательных защитников
«логицизма» в математике, что означало стремление вывести всю
математику из формальной логики 14. Мы полагаем, что именно
под влиянием математического логицизма возник философский
13 Гуссерль пишет в 1-м томе «Логических исследований»: «Нет
надобности говорить, что я теперь уже не одобряю той принципиальной критики
антипсихологистической позиции Фреге, которую я развил в своей
Philosophie der Arithmetik». V. I. S. 129—132. S. 147). Гуссерль теперь прямо
устанавливает связь концепции, изложенной в этом томе, с
произведением Фреге «Основные законы арифметики» (1893) (Там же).
14 См. по этому вопросу: Стяжкин Н. И. Формирование математической
логики М, 1967. С. 427.
Возникновение феноменологии Гуссерля
321
логицизм, горячо отстаиваемый Гуссерлем в I томе «Логических
исследований».
Замысел «наукоучения», «чистой логики» в I томе «Логических
исследований» явился демонстрацией принципов философского
логицизма. Основной вопрос, который решает «наукоучение»,
состоит, по Гуссерлю, в следующем: что делает науку наукой? И
речь идет в данном случае не о реальных (исторических,
социальных, психологических), а об объективно-идеальных связях
научного познания и знания. Гуссерль набрасывает интересную и в
целом плодотворную программу логики науки, которая им
самим, однако, так и не была реализована. Предполагалось изучить
вспомогательные приемы научного знания (их Гуссерль назвал
«обоснованиями») с точки зрения их всеобщей (и
специфической) логической формы. Предполагалось также построить
логическое учение о научных теориях, рассмотрев «логическое
происхождение» таких, например, понятий, как «истина», «предмет»,
«формы соединения» (конъюнкция — дизъюнкция),
«множество», «единство», «совокупность», «отношение» и'т. д.
Во II томе «Логических исследований» осуществляются
примыкающие к проекту «чистой логики» и важные для логики
исследования связи понятий — «выражение», «знак», «значение»
(они также восходят к анализу Больцано и Фреге). Весьма
интересна и богата детальными различениями IV глава первой части
II тома «Логических исследований», где Гуссерль дает набросок
«чисто логической грамматики». Если бы Гуссерль занялся
реализацией всех этих логических и логико-лингвистических проектов,
то скорее всего он стал бы одним из теоретиков современной
логики науки, близким к неопозитивизму. (Необходимо принять во
внимание, что замысел наукоучения, «чистой логики» был
обоснован Гуссерлем уже на рубеже столетий и по времени
предвосхитил развитие современных формально-логических, логико-
лингвистических исследований научного знания.)15.
15 Вероятно, поэтому Б. Рассел и назвал «Логические исследования»
«капитальным трудом XX века». Правда, он подчеркивал, что ознакомился с
этой работой только в 1917 г., то есть после опубликования его и Уайтхе-
да книги «Principia mathematica». Другие неопозитивисты почти не
проявляли внимания и интереса к логическому учению Гуссерля.
Витгенштейн, как полагают, вообще не читал Гуссерля. Об учении Гуссерля ему
мог сообщить М. Шлик, так как он и Гуссерль критиковали друг друга
(см: Spiegelberg H. The Phenomenological Movement. The Hague, 1971. Vol. II.
P. 761—763). Возможно, малая известность среди неопозитивистов работы
Гуссерля, которая так нашумела в начале века, объясняется именно тем,
что казалось: сам родоначальник феноменологии после опубликования
11 - 11375
322
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Кратко перечислим защищаемые Гуссерлем установки
философского логицизма:
1) цель исследования сознания состоит не в воспроизведении
его эмпирии, а в раскрытии сущности и конкретнее — в
выявлении сущности каждого из его устойчивых формообразований;
2) феноменологический анализ является, по Гуссерлю,
априорным и формальным в том смысле, что он раскрывает
сущность феноменов сознания, имеющую первичное и
безусловное значение для всех конкретных актов опыта; речь, согласно
Гуссерлю, идет о «чистой возможности», «чистой форме» всех
феноменов сознания (восприятия, воспоминания и т. д.);
3) в более общем философском смысле синонимом истины
объявляются законы, принципы математики и формальной
(также и математической) логики; законы же всех «эмпирических»
дисциплин, включая естествознание, рассматриваются лишь как
приблизительные, на время удобные «идеализирующие»
фикции.
Вопрос об историко-философских корреляциях логицизма
(выступает ли он в специальной математической, математико-
логической или философской форме) недостаточно изучен. Но в
данном аспекте он представляется нам очень важным.
Существенно то, что методологические установки логицизма неизменно
покоились на философско-теоретических основаниях, хотя не
всегда выявленных достаточно четко и развернуто. И отнюдь не
случайно при попытках экспликации историко-философских
корней логицистских методов и принципов (идет ли речь о Боль-
цано, Фреге или Гуссерле) неизменно упоминаются Платон и
Лейбниц. При этом не всегда предполагается факт прямого
обращения к произведениям названных мыслителей и их
тщательного изучения. Скорее имеет место своеобразный процесс
освоения тех методологических принципов, которые позволяют
«работать с сущностями» (идеями-эйдосами), с «чистыми
возможностями» (в математике, логике, философии) как особыми
объектами исследования («числа в себе», «истины в себе» и т. д.),
бессознательно или сознательно отвлекаясь от всех сопутствующих
«Логических исследований» совсем забросил занятия логикой. И все же
вопрос о родстве феноменологии и неопозитивизма более сложен, ибо
объективно между ними есть немало линий родства (см Козлова М. С.
Философия и язык М, 1972. С. 209; см. также: Rang В. Kausalität und
Motivation. Untersuchungen zum Verhältnis von Perspektivität und Objektivität
in der Phänomenologie Edmund Husserls. Den Haag, 1973 — о близости
феноменологии и логического эмпиризма — S. 210, о сходстве позиции
Гуссерля и М. Шлика — S. 212).
Возникновение феноменологии Гуссерля
323
субъективных факторов. В истории философии возможность
сущностного, «формально-априорного» исследования в разных
аспектах и с различных позиций обосновывалась Платоном,
Аристотелем, Декартом, Лейбницем, Кантом 16 и Гегелем, причем
осмысление проблем математики и логики было в этом отношении
постоянным стимулом и основным материалом.
Методологические и теоретические разработки, осуществляемые философией,
«возвращались» затем в математику и логику. Интересной и еще
мало разработанной проблемой нам представляется историческая
конкретизация прямых и косвенных взаимодействий философии
и других наук. Результатом взаимодействия является единое
проблемное поле культуры обширных исторических периодов.
«Логицизм» — один из элементов всей духовной культуры нового
времени, (вплоть до XX в.), который равным образом оказывал
влияние и через философию, и через математику и логику.
Философский логицизм в I томе «Логических исследований»
фиксируется без труда, ибо гуссерлевская позиция выражена в
четких, весьма резких, а порою даже в нарочито парадоксальных
формулировках. Действительно сложная проблема, загадка
«Логических исследовании» как единого произведения заключается в
другом. Ведь основным новшеством этой работы, I том которой в
определенном смысле можно считать манифестом философского
логицизма (возникшего под сильным влиянием математики и
математической логики), является концепция феноменологии,
изложенная в основном во II томе. Логицизм, как нам кажется,
неверно считать самостоятельным и, тем более, основным
элементом «Логических исследований». Точно так же нельзя согласиться
и с теми, кто ограничивает влияние логицизма первым томом и
совсем отрывает феноменологическое учение о сознании от ло-
гицистских принципов. Трудность состоит в следующем:
Гуссерль, как будто бы решительно выступивший в I томе против
всяких форм эмпиризма, уже во П томе, при обосновании
феноменологии, создает особого рода дескриптивистскую концепцию
сознания. Однако ее специфику нельзя понять без учета
своеобразно включенных в нее логицистских принципов. Излагая
проект «чистой логики», Гуссерль действительно делает акцент на
критике психологизма и эмпиризма в целом. Но существо его
концепции останется непонятным, если не будет принято во
16 О родстве между гуссерлевским понятием «сущностных предметов» и
идей «трансцендентального предмета», объекта у Канта см.:
Almeida G. А. de. Sinn und Inhalt in der genetischen Phänomenologie E. Husserls.
Den Haag, 1972. S. 79.
324
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
внимание то влияние, которое оказала на Гуссерля именно
эмпирическая психология.
III.
Пережив после опубликования «Философии арифметики»
свой первый (но не последний) идейный кризис, Гуссерль — не
без влияния логицизма — стал более придирчиво относиться к
психологической (и психологистической) литературе. Отношение
к основному массиву этой литературы в «Логических
исследованиях» резко критическое. Гуссерль не отрицает определенного
значения биологического, физиологического направления в
психологии (а оно было одной из форм превращения психологии в
самостоятельную исследовательскую дисциплину). Однако он
пишет: «...Я хотя и радуюсь многообещающему развитию
научной психологии и питаю к ней живейший интерес, но не жду от
нее собственно философских разъяснений» 17. Равным образом
Гуссерль отвергает и философские претензии другого, интрос-
пекционистского направления в психологии. Представителя
психологического интроспекционизма Т. Липпса Гуссерль с полным
основанием критикует за философский субъективизм и
релятивизм, выдвигая против его концепции типично логицистские
аргументы.
Но некоторые тенденции тогдашней «философской
эмпирической психологии» все же оказали на гуссерлевскую
феноменологическую концепцию формирующее воздействие.
Родоначальник феноменологии воспринял их главным образом через
концепции Ф. Брентано и К. Штумпфа 18.
Сочетание понятий «философская» и одновременно
«эмпирическая» (описательная) психология несколько непривычно и
требует пояснения. Брентано и Штумпф были влиятельными
(особенно это относится к Брентано) фигурами в тот переходный
период, когда психологи одновременно оставались и
философами. Но толчок от экспериментальных, эмпирических
исследований и подходов психология (включая философскую психологию)
уже получила.
17 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I. С. 184.
18 В дальнейшем в связи с принципами гуссерлевской феноменологии
будут рассматриваться некоторые аспекты учения Брентано, который
оказал на Гуссерля несравненно большее воздействие, чем К. Штумпф.
Вопрос о точках соприкосновения феноменологии с концепцией
Штумпфа — частная проблема, которую мы не можем рассматривать в
этой краткой статье.
Возникновение феноменологии Гуссерля
325
Какие же принципы философской описательной психологии
сыграли свою формирующую роль в процессе возникновения
феноменологии?
1) Гуссерль заимствует (и одновременно перетолковывает)
саму идею о необходимости тщательного описания
сознания. Брентано исходил из того, что «дескриптивная
психология» ставит задачу описать и классифицировать в
психологическом контексте весь «духовный инвентарь» сознания. Гуссерль, в
общем и целом, поддерживает эту идею, но развивает и уточняет
ее применительно к философскому (феноменологическому)
изучению сознания. По убеждению Гуссерля, и философское
исследование сознания не сможет стать анализом, если предварительно
не выполнит важнейшее общенаучное требование: сознание
должно быть описано в главнейших его формах и
разновидностях; оно должно быть детально, с научных позиций,
классифицировано.
2) В учении Брентано Гуссерль обращает особое внимание на
понятие и проблему интенциональности. Брентано. использовал
термин, который употреблялся еще схоластами. Но
исследовательская задача была новой, актуальной. Брентано хотел
отличить собственно психологическое исследование от
естественнонаучного, различая их объекты — «физические» и «психические
феномены»20. «Психические феномены», то есть все явления
сознания, специфическим образом характеризуются, согласно
Брентано, свойством интенциональности, направленности на предмет.
В восприятии, представлении — это воспринимаемый или
представляемый предмет, в суждении — объект, о котором судят, в
эмоциональных актах «любви и ненависти» — объект, который
любят или ненавидят.
3) Классифицируя сознание, Брентано выделяет три основных
класса психических феноменов: представления, суждения и акты
«любви и ненависти». Сама попытка классифицировать феноме-
19 Отвечая на этот вопрос, мы должны опять-таки учитывать, что
«формирующее воздействие» вовсе не означает ни полного принятия
Гуссерлем концепции Брентано и Штумпфа, ни даже заимствования ряда
принципов в качестве единственных и самостоятельных. Напротив,
обсуждение этих концепций в «Логических исследованиях» Гуссерля
неизменно остается критическим. И все же несомненно то, что именно
из полемики с Брентано, Штумпфом и другими психологами рождались
важнейшие конструктивные принципы и понятия феноменологии.
20 Термин «феномен» часто употреблялся Брентано и Штумпфом, но
Гуссерль, заимствуя его, по существу, изменил его толкование.
326
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ны сознания в связи с их интенциональными (предметными)
характеристиками встречает поддержку Гуссерля.
Но все эти элементы эмпирического (описательного) подхода
(и здесь самый существенный пункт для понимания специфики
феноменологии) уже в самом процессе заимствования
существенно модифицируются под влиянием принципов логицизма, с
которыми они образуют своеобразный, типично
феноменологический «сплав». Покажем это на примере модификации принципа
описания. Гуссерль поясняет: «Феноменология... не есть
дескриптивная психология. Специфическая для нее «чистая» дескрипция
— то есть осуществляющееся на основе какого-либо экземпляра
отдельного созерцания переживаний... сущностное созерцание и
дескриптивное фиксирование созерцаемых сущностей в чистых
понятиях — не есть эмпирическая (естественнонаучная)
дескрипция; напротив, она исключает естественный ход всех
эмпирических (натуралистических) апперцепции и установлений» 21. И
далее Гуссерль делает весьма важное замечание о том, что
дескриптивная феноменология усматривает и описывает сущности форм
сознания «совершенно аналогично тому, как арифметика говорит
о числах, геометрия — о фигурах в пространстве, то есть на
основе созерцания в идеативной всеобщности» 22.
Содержание феноменологии нельзя понять без учета этой
осуществленной Гуссерлем своеобразной логизации,
«математизации» философского учения о сознании. Конечно, не следует
понимать дело так, будто имела место какая-либо квантификация
процессов сознания. Суть феноменологического описания
заключается в том, что интеллектуальная интуиция («сущностное
созерцание» чистых форм) стала истолковываться как единственная
предпосылка и способ осуществления анализа сознания. А для
Гуссерля такая интуиция, по существу, отождествлялась именно с
«математическим созерцанием». Характерно, что
многочисленные математические примеры, которыми Гуссерль иллюстрирует
принципы «чистой» логики и феноменологии, по большей части
подчеркивают именно интуитивную, непосредственную
очевидность ряда истинных математических знаний23.
21 Husserl Е. Logische Untersuchungen. Halle, 1922. 3 Aufl. Bd. II. T. 1. S. 18.
22 Там же.
23 В этом отношении гуссерлевское истолкование математики (логицист-
ское, но с четким уклоном в интуитивизм) существенно отклонялось от
«чистого» логицизма Фреге и вообще противоречило преимущественно
антиинтуитивистской направленности концепций наиболее
влиятельных математиков и математических логиков последней четверти XIX века
Возникновение феноменологии Гуссерля
327
Речь в феноменологии идет, следовательно, об «описании
сущности» феноменов сознания на основе
интеллектуальной интуиции. Если приемы такого
описания и применялись математиками и логиками (иногда
бессознательно), то для философов оно явилось, согласно Гуссерлю, почти
полным новшеством. «Априорный анализ как описание» в свете
сложившегося в философии противоборства рационализма и
эмпиризма может показаться совершеннейшей бессмыслицей, чем-
то вроде «круглого квадрата» или «деревянного железа». Между
тем именно в нем Гуссерль усматривает сущность
феноменологии, специфику феноменологического описания. Впоследствии, в
книге «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической
философии» (1913), Гуссерль подробно разовьет эту
принципиальную и постоянную для феноменологии установку, употребляя
понятия «эйдетические» (то есть сущностные) науки,
«эйдетическое описание» 24.
Принцип «априорного описания сущностей» предполагает
сложное, противоречивое отношение к эмпирии, реальному
функционированию сознания. С одной стороны, сущностно-
априорный подход предполагает ее исключение как объекта и
цели описания. (Все процедуры феноменологической редукции
не более как следствие этого уже обоснованного в «Логических
исследованиях» методологического требования.) С другой
стороны, речь идет все же об описании сознания. А значит, по самой
логике дела должны быть какие-либо доступные наблюдению
формы его проявления. Весьма существенно то, что Гуссерль
отверг все косвенные формы проявления и соответственно способы
наблюдения за сознанием (когда о сознании судят по
функционированию его материального субстрата, мозга или нервной
системы, когда проявлением сознания служат действия, поступки,
суждения человека). Он не отрицал их значения, но полагал, что
они изучаются естествознанием или этикой, но не являются
предметом собственно философского учения о сущности
сознания. Сущностное описание сознания — таков один из
центральных тезисов феноменологии — должно основываться на прямом,
непосредственном наблюдении за самим сознанием. А таковое,
(см. по этому вопросу: Асмус В. Ф. Проблема интуиции в философии и
математике. М., 1965. С. 236—237).
24 Понятие «эйдос» (идея, вид) терминологически более соответствует
замыслу Гуссерля, так как оно несет в себе не только формально
сущностный смысл, но еще и тот оттенок, что идею, сущность, можно «видеть»
при помощи особого интеллектуального «усмотрения».
328
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
опять-таки по логике проблемы, возможно только в одной форме
— как непосредственное наблюдение философа (в данном случае
феноменолога) за своим собственным сознанием. Последнее и
становится «эмпирическим полем» феноменологии. Но
относительно принципа непосредственного наблюдения за «своим»
сознанием Гуссерль неоднократно дает разъяснения, с помощью
которых он хочет отмежеваться от психологизма, а в более широком
смысле — от субъективизма и релятивизма. Здесь завязывается
узел наиболее существенных противоречий и трудностей
феноменологии.
Полемизируя с Брентано (и другими
психологами-эмпириками), Гуссерль всячески подчеркивал, что сфера
феноменологического исследования должна быть строго ограничена
замкнутой в себе областью сознания. Выступал он, по существу, не
против Брентано, а против сложившихся в классической философии
и психологии подходов к сознанию. В философском отношении
это была борьба против материализма, против теории отражения,
против философии, ориентированной на естественнонаучное
изучение сознания. Сами принципы такого подхода, независимо
от их реализации, были объявлены «натуралистическими». Более
того, вся диалектика деятельности в применении к исследованию
сознания была также отвергнута. В общефилософском
мировоззренческом смысле феноменология, таким образом, с самого
начала покоилась на фундаменте идеализма.
Уже в «Логических исследованиях» были подвергнуты
критике и «исключению» из феноменологии все типы подходов, при
которых сознание связывалось с внешним миром (природным и
социальным), а также с деятельностью человека в этом мире.
Предполагалось, что феноменологическое описание сознания
может быть осуществлено даже без обращения к изучению
субъекта или к «идее субъективности вообще». Это и называлось у
Гуссерля последовательным осуществлением принципа «чистой»
феноменологии, «чистого» — априорно-сущностного —
описания сознания.
Обращение феноменолога к собственному сознанию Гуссерль
требовал осуществлять с соблюдением данного принципа.
Собственное сознание—не конечный объект, не цель наблюдения и
описания, а всего лишь «опора» для сущностного созерцания.
«Вглядываясь» в собственное сознание, феноменолог не
стремится сообщить что-либо сугубо частное, относящееся к собственным
переживаниям в данном месте и в данный момент времени. Так,
«опираясь» на свое восприятие какого-либо материального
предмета (дома, листа бумаги и т. д.), феноменолог использует «эк-
Возникновение феноменологии Гуссерля
329
земпляр» восприятия исключительно с целью выявить его
всеобщие, необходимые, независимые от эмпирического времени
(«априорные») структуры. Но «опора» на собственное,
непосредственно переживаемое восприятие в то же время исключительно
важна: в нем, как в экспериментальном поле, непосредственно
проверяются, с очевидностью удостоверяются все описательные
характеристики, фиксируемые феноменологом. И не только
феноменолог, но и каждый читатель и слушатель может «перевести»
наблюдение в поле своего восприятия и сразу с очевидностью
усматривать то, о чем феноменолог ведет речь (подобно тому, как
сразу и с очевидностью удостоверяется истинность
математических положений 2x2 = 4; 3>2 и т. д.)
Мы уже дали оценку общефилософских позиций, на которые
опирается и к которым приводит феноменология. Теперь
поставим вопрос о возможности феноменологического наблюдения за
сознанием и его описания. В принципе можно, оставаясь в
пределах только сознания, осуществить описание его форм и структур,
руководствуясь задачей именно формально-структурного, а не
чисто эмпирического, конкретного описания. Здесь
феноменологическое описание в самом деле будет следовать традициям
математического и логического фиксирования готовых форм.
«Опора» исследователя на интуитивное наблюдение за
собственным сознанием при этом также возможна и в определенной мере
плодотворна, если не путать его (а Гуссерль всячески
предостерегает против подобной ошибки) с эмпиристски, субъективистски
понятой интроспекцией.
Ведь в деятельности сознания каждого человека находят
проявление закономерности, всеобщие формы, сложившиеся в
результате многовекового опыта человечества. Наблюдать и
описывать всеобщие структуры сознания через единичное (скажем,
через конкретные акты сознания самого наблюдателя) — немалое
искусство, но задача эта в принципе доступна решению. Для
философского учения о сознании ее решение представляет
известный интерес. Определенные результаты в этом отношении были
достигнуты Гуссерлем и некоторыми его последователями
Для нашей темы важно подчеркнуть, что и такая методика
объективно не могла не опираться на некоторые историко-
философские предпосылки. В период формирования
феноменологии влияние классических учений о сознании скорее
осуществлялось не через их изучение и заимствование. Традиции Локка,
Юма, Канта на первых порах воздействовали на Гуссерля
главным образом в том виде, в каком они были абсорбированы и
переработаны специальными дисциплинами, изучающими созна-
330
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ние. И отнюдь не случаен тот факт, что Гуссерль, обратившись
впоследствии к работам упомянутых философов и изучив их
более тщательно, «обнаружил» многие линии идейного родства
феноменологии и их учений. Особенно внимательно Гуссерль
анализировал кантовскую попытку синтеза эмпиризма и
рационализма, в наибольшей мере отвечавшую его замыслу
«сущностного», априорного описания сознания.
Принципиальная ошибка феноменологии состоит в том, что
Гуссерль и его последователи абсолютизируют общефилософское
значение специальных феноменологических описаний сознания.
В марксистско-ленинском учении философская теория
сознания является «многослойной», «многомерной»: сознание
исследуется и в связи с достижениями естественных наук, и в контексте
социально-исторического развития, и в свете его всеобщих
структур, форм и характеристик. Все эти уровни в принципе
постоянно соотносятся в пределах целостного диалектико-материалисти-
ческого и историко-материалистического учения.
С нашей точки зрения, не требует специального
доказательства и то, что учение о сознании даже в столь широком понимании
ни в коей мере не исчерпывает содержания философии как
таковой. У Гуссерля же весьма ограниченное учение о сознании
отождествлялось с «подлинно научной» философией, что, конечно,
было принципиальным заблуждением. Об этом косвенно
свидетельствует поворот Гуссерля к более широкой философской
проблематике в его последней работе «Кризис европейских наук и
трансцендентальная феноменология». Противоречивость
феноменологии в процессе ее развития обостряется. Возникают новые
противоречия и трудности. Не в последнюю очередь они были
связаны, как мы полагаем, с тем фактом, что математик Гуссерль,
создав на рубеже веков под влиянием успехов математики,
математической логики, психологии специальную методику описания
сознания, не смог с полной отчетливостью выявить ее реальные
историко-философские предпосылки, дать ее научное философ-
ско-теоретическое и методологическое обоснование.
«Логические исследования» Гуссерля
и современность
Вычленение и анализ «предметностей»
сознания в феноменологии Э. Гуссерля
(на материале второго тома
«Логических исследований»)
I. «Логические исследования» и гуссерлевская модель
«чистого сознания»
В советской философской литературе уже анализировалась
феноменология Э. Гуссерля и его последователей, причем
определенное внимание уделялось гуссерлевскому учению о «чистом
сознании» 1. Автором данной статьи была предложена
интерпретация концепции «чистого сознания» Гуссерля — как в связи с
феноменологическим толкованием трансцендентализма2, так и
применительно к особенностям феноменологического метода3.
Отсылая читателя к имеющимся работам, я далее хотела бы в
дополнение к содержащимся в них оценкам феноменологии дать
1 Богомолов А. С. Немецкая буржуазная философия после 1865 года. М,
1969. С. 277—283; Гайденко П. П. Проблема интенциональности у Гуссерля
и экзистенциальная категория трансценденции // Современный
экзистенциализм. М., 1966. С. 77—108; Какабадзе 3. М. Проблема
«экзистенциального кризиса» и трансцендентальная феноменология Э. Гуссерля.
Тбилиси, 1966. С. 52—104; Кисселъ М. А. Критика феноменологического
метода Э. Гуссерля // Вопросы философии. 1969. № 11. С. 67—76.
2 См.: Мотрошилова Н. В. Гуссерль и Кант: проблема
«трансцендентальной философии» // Философия Канта и современность. М, 1974. С.
329—377.
3 См.: Мотрошилова И. В. Специфика феноменологического метода //
Критика феноменологического направления современной буржуазной
философии. Рига, 1981. С. 28—73. См. в той же книге статьи других
авторов.
332
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
более конкретную критическую интерпретацию ряда гуссерлев-
ских текстов, с которых началось феноменологическое движение
и в которых уже воплотились важнейшие идеи феноменологии.
Речь пойдет о «Логических исследованиях» (далее — ЛИ).
Обращение к этой работе — не простое «воспоминание» о ранней
истории гуссерлевского учения. В предисловии 1913 г. ко второму
изданию ЛИ Гуссерль сказал, что для него это была «работа,
означавшая прорыв, — и не конец, а начало» 4. Но, будучи,
действительно, начальным вариантом гуссерлевской феноменологии, ЛИ
приобрели фундаментальное значение не только для
феноменологического направления, но и для истории западной
философии XX в. Правда, дальнейшая жизнь этого появившегося в
1900—1901 гг. произведения, как и судьба всей ранней
феноменологии, отмечены противоречивостью.
ЛИ, получив достаточно высокую оценку в философском
мире, оказались, по мнению их автора, плохо понятыми; к тому же
Гуссерль сам критически отнесся к первому варианту
феноменологической концепции, стал уточнять ее принципы и понятия. В
одной из рукописей Гуссерля 1907 г. имеется следующая оценка
работы: <«...> В ЛИ феноменологии было придано значение
дескриптивной психологии (хотя
теоретико-познавательный интерес в них был превалирующим). Но необходимо
отличать эту дескриптивную психологию (понятую именно в качестве
эмпирической феноменологии) от трансцендентальной
феноменологии <...»>.
И далее Гуссерль поясняет, в чем состоит отличие последней:
она должна анализировать сферу переживаний не в соответствии
с их реальным содержанием, не как действительные переживания
Я, что имеет место в эмпирической психологии (феноменологии).
«Трансцендентальная феноменология — это феноменология
конституирующего сознания, и благодаря этому в нее не
включается ни одна из объективных аксиом (относящихся к предметам,
которые не есть сознание) (<...>. Теоретико-познавательный
интерес, интерес трансцендентальный, обращается не на
объективное бытие и не на формирование истин об объективном бытии, а
значит, не на объективную науку (<...>. Трансцендентальный
интерес, интерес трансцендентальной
феноменологии, напротив, обращен на сознание как сознание, на
феномены — в двойном смысле: 1) в смысле явлений, через которые
находит проявление объективность; 2) с другой стороны, в смысле
4 Husserl Е. Logische Untersuchungen. Halle, 1922. Bd 1. S. VIII. (в
дальнейшем: LU, с указанием тома, части, страниц).
Логические исследования Гуссерля и современность 333
объективности последняя рассматривается лишь постольку,
поскольку она находится в проявлении — именно
трансцендентально, при условии исключения всех эмпирических полаганий
(<...>. Уяснение этого отношения между истинным бытием
и познанием, как и вообще корреляции между актом, значением,
предметом, — задача трансцендентальной феноменологии»5.
Гуссерль, однако, и тогда считал, что «подлинная»
феноменология все же нашла воплощение в отдельных частях ЛИ. Поэтому-
то некоторые разъяснения понятий феноменологии, важнейшие
повороты феноменологического анализа, имеющиеся в ЛИ, как
бы пережили все периоды сомнений и колебаний. Влияние гус-
серлевского произведения на западную мысль становилось все
более глубоким. Многие известные западные философы нашего
столетия по существу разделяли ту оценку ЛИ, которую в 1924 г.
высказал Б. Рассел, назвав их «монументальной работой» 6.
Со временем и сам Гуссерль стал более уверенно и настойчиво
рекомендовать читателям ЛИ как работу, которую нельзя удалить
из состава позитивных теоретических результатов
феноменологии. Во всяком случае, ряд текстов своего первого
феноменологического произведения он считал возможным предложить для
чтения без особых поправок и оговорок. Так, в 1913 г., когда вышло
второе издание «Логических исследований» и когда Гуссерль уже
мог опереться на опубликованную в том же году в «Jahrbuch für
Philosophie und phänomenologische Forschung» первую часть
«Идей к чистой феноменологии», он дал и более подробные,
четкие разъяснения, касающиеся значения ЛИ для понимания и
интерпретации феноменологической концепции. (К этим
указаниям полезно присоединить те, что содержатся в кратком
предисловии к третьему изданию, а также имеющиеся в других работах, в
рукописных материалах Гуссерля оценки его первого
феноменологического произведения. В 1913 г. Гуссерль, правда, еще наме-
5 Husserliana. Bd. 2. Den Haag, 1950. S. IX—X.
6 Эта оценка высказана Б. Расселом в его обзоре «Философия в XX веке»
(Philosophy in the twentieth century // The Dial. 1924). В письме к
Гуссерлю, написанном в 1920 г. (хранится в Лувенском архиве), Б. Рассел
сообщает, что он ознакомился со вторым изданием ЛИ, находясь в 1917 г. в
тюрьме за антивоенную деятельность (см.: Spiegeiberg H. The phenomeno-
logical movement. The Hague, 1971. Vol. 1. P. 93). Возможно, такая оценка
одного из отцов логико-лингвистической философии была тем более
важна Гуссерлю, что он, как видно из полемики с М. Шликом,
помещенной в предисловии к третьему изданию ЛИ (см.: LU Bd. 2. T. 2. S. VI—VII),
первоначально столкнулся с резким неприятием и непониманием
неопозитивистами феноменологической концепции логического.
334
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ревался осуществить новую редакцию ЛИ, не меняя существенно
хода мыслей и стиля своего труда, но в 1922 г. отказался и от этого
плана.)
В оценках Гуссерлем раннего варианта феноменологии видна
любопытная двойственность. Существенно изменяется
понимание общего смысла, характера, направленности феноменологии:
Гуссерль критикует, отбрасывает остатки «эмпиризма»,
«психологизма» в прежних определениях, формулирует учение о
феноменологической редукции и заостряет все требования «очищения»
феноменологического анализа, осуществляя движение в сторону
трансцендентализма, к более полной реализации идеи «чистого»
сознания. Но при этом некоторые вполне конкретные
аналитические разработки, «описания» структур сознания в ЛИ кажутся ему
ценными, вполне удовлетворительными.
Не вдаваясь здесь в детали, приведу общую оценку разработок
ЛИ, которая содержится в посвященном Канту юбилейном
докладе (1924 г.) Гуссерля: «Руководящий мною с самого начала
принцип — признать право всего данного (или претендующего
на роль данного) в непосредственной интуиции Я, а также его
право на понятийное схватывание — вел меня, и уже в ЛИ, к
признанию изначального права данности истинно сущих идеальных
предметов любого вида, а в особенности эйдетических предметов,
идеальных сущностей и сущностных закономерностей. Отсюда с
очевидностью следовало познание универсальной возможности
сущностных наук для предметностей всех и любых предметных
категорий и следовало требование систематической разработки
онтологии, формальных и материальных. В отношении же к
описанию бесконечности непосредственных данностей в их
субъективном «как» (wie) выявилось в качестве следствия познание
возможности и необходимости всюду осуществляющегося
сущностного описания, эйдетической дескрипции, которая не
остается привязанной к эмпирически отдельным данностям, но
исследует их эйдетические типы и соответствующие им
сущностные связи (сущностные необходимости, возможности,
закономерности). Свобода повернуть взгляд от прямых данностей к
рефлексивным данностям и познание выступающих при этом
сущностных корреляций привели к интенциональному сущностному
анализу и к первым основным частям интенционального
сущностного объяснения разума — и прежде всего разума логически
судящего, устанавливающего предикаты, с его подготовительными
ступенями».
Упомянув далее о распространенном восприятии ранней
феноменологии как варианта «психологического» (в лучшем случае
Логические исследования Гуссерля и современность 335
«эйдетически-психологического») анализа, Гуссерль уже не
соглашается с этим и продолжает: «Именно глубочайшие и
труднейшие разъяснения ЛИ нашли мало последователей. В них (и
прежде всего в 5-м и 6-м исследованиях второго тома7 был открыт
путь феноменологии логического разума (и благодаря этому
также дан прообраз феноменологии всякого разума); было положено
начало интенционалъной конституции категориальных предмет-
ностей в чистом сознании и был создан метод подлинного интен-
ционалъного анализа» 8. В 1928 г. Гуссерль высказал сожаление по
поводу того, что предшествующий, третий раздел второго тома
ЛИ, носящий название «Учение о целом и части» (к нему тесно
примыкает четвертый раздел — «Различие самостоятельных и
несамостоятельных предметов и идея чистой грамматики»), —
раздел, согласно тогдашнему мнению автора, самый лучший в его
работе — нашел так мало последователей. Именно его он теперь
рекомендовал читателю как наиболее адекватное введение в
феноменологию 9.
Итак, чем дальше, тем большее число разделов, разработок ЛИ
сам их автор считал выдержавшими испытание временем. И этим
в значительной степени объясняется «новая волна» интереса к
гуссерлевской работе со стороны западных философов, которая
возникла в основном в 50—60-е гг. Решающее значение здесь
приобрели попытки «актуализировать» логико-лингвистические
аспекты, следствия гуссерлевской теории предметностей, теории
интенциональности. Начала усиленно развиваться
феноменологически ориентированная философия языка [I] *. Все это как бы
вдохнуло в ЛИ Гуссерля новую жизнь, что подчеркивает
необходимость нашего более глубокого, более обстоятельного
критического анализа данной работы, несомненно, представляющей
собой одно из наиболее сложных, влиятельных, интересных
произведений западной философии XX в. Будучи важнейшей вехой в
истории гуссерлевской феноменологии, способствуя генетиче-
7 Пятое и шестое исследования носят названия — «Об интенциональных
переживаниях и их «содержании»; «Элементы феноменологического
объяснения познания»; главное в них — теория интенциональности.
8 Husserliana. Bd. 7. 1956. S. 232—233.
9 Spiegelberg H. From Husserl to Heidegger II]. Brit. Soc. Phenomenology.
1971. Vol. 2. P. 78.
Римской цифрой в квадратных скобках обозначены относящиеся к
тексту и помещенные в конце статьи Пояснения к тексту, которые содержат
характеристику соответствующей литературы (с акцентом на литературу
по феноменологической теории сознания).
336
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
скому и теоретическому пониманию некоторых
принципиальных для нее элементов, ЛИ вместе с тем представляют и
самостоятельный интерес, ибо заключают в себе попытки решения ряда
проблем «феноменологии логического разума» — проблем,
которые сегодня не только не утратили своего значения, но стали еще
более актуальными, чем в начале XX в., когда их прозорливо и
глубоко поставил Э. Гуссерль [II].
Для того чтобы лучше понять смысл сделанного Гуссерлем на
ранней стадии в ЛИ, я сначала представлю существенные и
специфические моменты гуссерлевской модели «чистого сознания» в
целом — как они вычленены мною из всех известных мне
основных произведений и рукописей Гуссерля10.
В феноменологии строится — и одновременно
абсолютизируется в своем значении — особая модель сознания, в которой
выделяются следующие взаимосвязанные его черты:
1) сознание берется, как бесконечный «поток», и притом
многомерный поток, тесно связанный с целостностью человеческой
жизни, причем феноменолога прежде всего интересует это
реальное свойство в «чистом виде»: свойство необратимого
протекания», а также способность сознания придавать потоку
синтезированную, целостную форму;
2) в то же время в этом едином и непрерывном потоке
выделяются отдельные единицы, каждая из которых есть целостность.
Поэтому, согласно Гуссерлю, следует рассматривать их в их
своеобразии, и в единстве с потоком. Такие единицы и есть гуссерлев-
ские «феномены»;
3) сознание имеет своим свойством направленность на предмет
(оно всегда является «сознанием о» — Bewusstsein von). Это
свойство Гуссерль, как известно, называет интенциональностью,
конкретизируя данную характеристику прежде всего в том
отношении, что только на основе сознания, исходя из него, могут и
должны быть выделены многообразные типы предметностей
сознания и структуры, механизмы, благодаря которым сознание
«дает» предмет (ноэматические структуры, по терминологии
Гуссерля);
10 Эта реконструкция гуссерлевской модели была дана в книге «Критика
феноменологического направления современной буржуазной
философии», с. 38—40), Рецензию на книгу см.: Phenomenology Inform. Bull. 1984.
Vol. 8. P. 100—102. Однако по соображениям содержательного характера
целесообразно воспроизвести ее — с тем, чтобы с нею сообразовывать
разработки ЛИ.
Логические исследования Гуссерля и современность 337
4) интенциональность, далее, конкретизируется и с точки
зрения структурного многообразия актов сознания, в рамках
которых «даются» предметности. Иными словами, анализируются — в
тесной связи с предметностью — модификации актов сознания,
такие, как восприятие, воспоминание, фантазирование и т. д. (но-
этические структуры, по терминологии Гуссерля);
5) благодаря свойству интенциональности (в единстве ноэма-
тически-ноэтических структур) раскрывается еще одно свойство
сознания — его функция активного осуществления, сообщения
смысла, наполнения значением языковых (и всяких других
символических) форм;
6) будучи целостным потоком и обладая интенциональной,
«смыслодающей» функцией, сознание обладает и следующим
замечательным свойством: поток в целом и отдельные единицы
являются «данностями» (Gegebenheiten), способными к
самораскрытию;
7) «самораскрывающиеся данности» сознания обладают и тем
свойством, что заключают в себе не только неповторимые,
уникальные и преходящие элементы (от них, уже в силу их
скоротечности и индивидуальности, приходится отвлекаться),но и
всеобщие сущностные («эйдетические») структуры. Они
характеризуются и как «чистые возможности». Например, вокруг всеобщей
структуры восприятия как «чистой возможности» как бы
организуется все конкретное, эмпирическое в том или ином восприятии.
Сама же эта сущность, согласно Гуссерлю, априорна, т. е.
изначальна и инвариантна по отношению ко всем конкретным актам
восприятия;
8) все уже перечисленные свойства сознания находят
проявление в важнейшей его особенности — временном характере.
Сознание обязательно заключает в себе временные структуры,
благодаря чему временность (Zeitlichkeit) сознания обладает
совершенно уникальным характером;
9) пусть в «чистом сознании» и исключены связи сознания с
реальным бытием, однако сознание обладает, по Гуссерлю,
собственной «бытийностью», ибо в нем заключено такое многообразие
типов предметностей, предметных сфер, предметных структур,
которое и коррелирует с различными областями
действительности и значительно превосходит их. Эти структуры сознания
Гуссерль называет онтологическими, а феноменологию, их
раскрывшую, считает также онтологией [III];
10) важнейшим свойством чистого сознания считается его
«конститутивная» способность, т. е. его активность, творческие
потенции, находящие более конкретное проявление в «конст-
338
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
руировании» всех ранее перечисленных структур как целостных,
особенно в «создании» сознанием таких широких целостностей,
как мир в целом, природа как таковая, сущее, бытие, субъект, Я в
целом, другое Я и т.д.;
11) чистое сознание — в известном смысле замкнутое,
имманентное образование, где действующим центром является Я, Ego,
конечно же, феноменологически «очищенное». Однако одной из
важнейших его особенностей является, по Гуссерлю, способность
конституировать такие структуры интерсубъективности.
Таковы черты сознания, благодаря разъяснению которых — и
порознь, и особенно в их взаимопересечении — определяется
содержание феноменологической модели чистого сознания *.
ЛИ, как мы увидим, в конечном счете имеют отношение к
введению и прояснению большинства из перечисленных свойств
«чистого сознания», однако наиболее полно исследуются черты,
перечисленные в пунктах 2—6; 9. ЛИ имеют для прояснения гус-
серлевской модели «чистого сознания» совершенно особое
историческое и содержательное значение.
В некоторых статьях и диссертациях, посвященных критике
феноменологии, невнимание к анализу текстов ЛИ обернулось по
крайней мере одним содержательным упущением, которое
касается понимания сути и специфики феноменологии: сейчас
сосредоточивают внимание на субъективистско-психологистическом
крене учения Гуссерля (этот крен имеется, и о нем речь шла
также и в работах автора данной статьи), упуская из виду серьезное
значение логического генезиса и содержания феноменологии.
Между тем концепция «чистого сознания» и раннего и
позднего Гуссерля, по моему глубокому убеждению, может быть понята
и подвергнута аргументированной критике только на основе
учета единства генетических и содержательных моментов,
своеобразно синтезируемых феноменологией: логического и
психологического, онтологического и гносеологического. ЛИ позволяют
разглядеть это теоретико-методологическое единство, это
специфически феноменологическое «пересечение» в их становлении. В
первой части второго тома ЛИ, к критическому
текстологическому анализу которой мы далее перейдем, более четко виден не
* Post scriptum 2004 года. Это суммирование черт гуссерлевской модели
сознания я считаю очень важным и рано найденным мною парадиг-
мальным определением специфики феноменологии, которое — с
некоторыми, тоже немаловажными видоизменениями и уточнениями —
сохранилось в моей последней книге «"Идеи I" Эдмунда Гуссерля как
введение в феноменологию». М, 2003. С. 321—328.
Логические исследования Гуссерля и современность 339
только логический, но и логико-лингвистический генезис
феноменологического анализа.
Детально разрабатываемая в ЛИ концепция «чистой
предметности» расценивается как введение в феноменологию. Это
значит, что она отныне становится для Гуссерля не просто своего
рода «вводной», но фундаментальной частью учения о «чистом
сознании». Оценка значения предметности (соответственно
направленности на предмет), как наиважнейшей структуры сознания, а
теории предметности (разрастающейся в концепцию интенцио-
нальности) как сердцевины феноменологии сохраняется и на
протяжении всей дальнейшей истории гуссерлианства, истории
феноменологического движения.
Для понимания конкретных различений, встречающихся в
первой части второго тома ЛИ, необходимо вспомнить о более
общих принципах гуссерлевского понимания «предметов»,
положенных в основу всего произведения и четко выраженных уже
в первом томе. «Чтобы предупредить недоразумение, — пишет
Гуссерль, — я подчеркиваю, что слова предметность
(Gegenständlichkeit), предмет, вещь и т.п. постоянно употребляются здесь
в самом широком смысле, следовательно, в гармонии с
предпочитаемым мною смыслом термина познание. Предметом (познания)
могут равно быть реальное и идеальное, вещь и процесс, род и
математическое отношение, бытие и то, что должно быть
(Seinsollen). Это само собой переносится на такие выражения, как
единство предметности, связь вещей и т. п.» п.
При феноменологической трактовке предметов находит
определенное продолжение и развитие идущая по крайней мере от
Канта традиция, в соответствии с которой понятие «предмет»
изначально связывается не с вещами, существующими вне и
независимо от человеческого сознания; предметом именуется все то, что
уже «дано», «явлено» чувственному созерцанию (<«...> ни один
предмет, — замечает Кант, — не может быть дан иным
способом» 12.) Данность предметов через созерцание — исходный пункт
их исследования для Канта и для Гуссерля. Однако оценка
способности человека на основе такой данности судить о вещах, как
они существуют вне сознания, о вещах самих по себе, у этих двух
философов различна. Для Канта «явленность» предмета,
благодаря чувственности, «данность» предмета — исходная ступень
11 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1. С. 201. Перевод исправлен
по: LU. Bd. I. S. 228—229.
12 Кант И. Соч. M., 1964. T. 3. С. 127.
340
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
творческой деятельности сознания, но это и барьер, отделяющий
предметы от вещей самих по себе. Что касается Гуссерля, то в его
толковании явленность предмета свидетельствует о
действительной данности «самой вещи».
Чтобы понять смысл феноменологического лозунга «Назад к
самим вещам!», следует учесть этот «некантовский» вывод,
который делается Гуссерлем из кантовской идеи предмета как
«данности» сознания. Уже эмпирическое созерцание обладает, по
Гуссерлю, удивительным свойством: оно «дает» предмет — и не
просто как некоторый феномен, скрывающий за собой уже
непроницаемую, недоступную вещь; данными, явленными оказываются
действительно присущие вещи ее свойства, качества,
существующие до и независимо от сознания. Гуссерль пишет в первом томе
«Логических исследований»: «Совершая акт познания или, как я
предпочитаю выражаться, живя в нем, мы «заняты предметным»,
которое в нем, именно познавательным образом, интендируется и
полагается (meint und setzt), и если это есть познание в
строжайшем смысле, т. е. если мы судим с очевидностью, то предметное
дано изначально, подлинно (originär). Обстояние вещей
(Sachverhalt 13) здесь уже не предположительно, но действительно
находится перед нашими глазами, и в нем нам дан предмет как то,
что он есть, то есть точно так и не иначе, чем он интендирован в
этом познании: как носитель этих качеств, как член этих
отношений» 14.
Гуссерлевская линия в философии, далее поддержанная и
развитая экзистенциалистами, с самого начала была связана с
подчеркиванием огромной «раскрывающей» силы явления:
феноменами в гуссерлевском (затем и хайдеггеровском) толковании
становятся «единицы» сознания, благодаря которым с очевидностью
и полнотой дается выражаемое в них предметное содержание;
Sachverhalt само себя раскрывает, обнаруживает, «говорит» с
человеком через посредство феномена.
Вместе с тем гуссерлевское учение о предметах далеко как от
материалистической теории отражения, так и от
идеалистической теории тождества бытия и мышления. По Гуссерлю, способ-
13 Здесь я изменяю в имеющемся переводе «вещественное содержание»,
следуя К. С. Бакрадзе, который точнее (хотя, быть может, несколько
архаично) переводил Sachverhalt как «обстояние вещей», ибо Гуссерль ведь
действительно подчеркивал с помощью данного термина объективный
характер совокупности свойств вещей, являющихся сознанию, и не имел
в виду«вещественность» в узком смысле.
14 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1. С. 201. Перевод
скорректирован по: LU. Bd. II. 5. 228.
Логические исследования Гуссерля и современность 341
ность сознания давать «сам предмет», независимое от сознания
обстояние вещей (Sachverhalt), существует вовсе не благодаря
тому, что общие связи вещей «адекватно» воспроизводятся,
«копируются» в соответствующих связях сознания и познавательных
связях. Согласно важнейшему для феноменологии принципу,
«связь вещей» и «связь истин», правда, «неразлучны, ибо «а
priori» даны совместно. «Ничто не может быть, — пишет Гуссерль, —
не будучи так или иначе определено, и то, что оно есть («ist»,
«бытийствует». — H. М.) и так или иначе определено, именно и
есть истина в себе, которая образует необходимый
коррелят бытия в себе... Но эта очевидная неразлучность не есть
тождественность. В соответствующих истинах и связях истин
воплощается (prägt sich) действительное устойчивое бытие
(Bestehen) вещей или вещных связей (перевод этого предложения
исправлен. — Н.М.). Но связи истин иного рода, чем связи вещей,
которые в них истинны (достоверны); это тотчас же сказывается в
том, что истины, относящиеся к истинам, не совпадают с
истинами, которые относятся к вещам, установленным в истинах» (Там
же). Феноменология, таким образом, покоится на парадоксальном
(в свете традиционных гносеологических концепций) принципе,
суть которого может быть передана следующим образом: через
предметности сознания нам очевидным и полным образом
«даются» вещи, связи, как они существуют сами по себе; иного
способа «данности» вещей, нежели через предметности сознания, не
существует; однако и сами предметности сознания, и
объединяющие их внутренние связи, необходимые отношения
коренным образом отличаются от необходимых связей и отношений
самих вещей. И хотя, скажем, о бытии вещей мы можем судить не
иначе, чем через соответствующие истины, положения
(высказывания о бытии), мы впали бы в грубую ошибку, если бы о «бы-
тийствовании» предметов сознания, о бытии истин судили на
основе того, что мы — как раз через эти истины — узнали о бытии
вещей. Это предполагает, что учение о сознании должно
использовать совершенно иные методы, чем учение о мире вне сознания.
Таковы общие предпосылки, которые и определяют подход
Гуссерля к более конкретному вычленению и рассмотрению
типов предметов, предметностей (Gegenstände,
Gegenständlichkeiten), с самого начала взятых — этого нельзя забывать — в качестве
«данностей» сознания.
Теория «предметностей» в контексте феноменологии замыс-
лена как исследование совершенно специфических «предметных»
закономерностей самого сознания, о которых, полагает Гуссерль, ни в
342
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
коей мере нельзя судить на основе законов, применимых к
материальным вещам природы, их связям и отношениям.
Говоря о «данности» объективного предметного Sachverhalt
через сознание, Гуссерль одновременно вводит две разъясняющие
— и тоже, на первый взгляд, парадоксальные идеи (во всяком
случае, они непривычны для «наивных», «натуралистических»
теорий данности предмета сознанию). 1) Данность предметного
содержания — результат труднейшей творческой деятельности
сознания, как бы «развертывающего» множество внутренних
структур, механизмов. 2) Поэтому феноменологическая
философия, вводя проблему предметности вне сознания, прежде всего
утверждает (вслед за Кантом) ее сугубую коррелятивность
проблеме предметов самого сознания. (Принципиальная оценка
идеалистического характера этого кантовско-гуссерлевского хода
мыслей уже давалась в литературе.) Поэтому же предметы
сознания, пусть и истолкованные как его «данности», вводятся в
феноменологической концепции отнюдь не сразу: часть
феноменологии нацелена на постепенное вычленение, введение предметных
структур через другие структурные элементы сознания. Гуссерль
здесь отчасти идет по кантовскому пути, но в основном следует
собственной программе, осуществляя более многообразные, чем у
Канта, различения, характеризующие структуры сознания.
«Появление» предметности благодаря «работе» механизмов и
структур принадлежит собственно сознанию — интересный
генетический аспект феноменологии. И хотя в ЛИ это исследование
вплетено в решение задачи построения «чистой логики» (и потому
является логико-генетическим), найденные Гуссерлем
различения имеют, по моему мнению, более широкое значение, помогая
истолкованию сознания как такового.
Гуссерль во второй томе ЛИ проводит в высшей степени
сложную и тонкую аналитико-синтетическую работу над сознанием.
Особая сложность в том, что здесь Гуссерль осуществляет
системный поиск, из которого нельзя выпустить ни одно из основных
звеньев — в противном случае распадается вся цепь рассуждения.
Другая трудность обусловлена как раз специфическими
содержательными особенностями феноменологии. Гуссерль начинает
анализ сознания с тех главных форм и структур, с помощью
которых оно «является» и объективируется, — таковыми он считает
языковое высказывание и психические переживания.
Нацеливаясь на «очищение» сознания — на построение учения о «чистом
сознании», феноменология вместе с тем отталкивается и
освобождается от «нечистых» данностей; идя к «редуцированному»
феномену как единице и объекту анализа, она начинает с «полно-
Логические исследования Гуссерля и современность 343
го», нередуцированного феномена сознания. Дело, однако, не
только в этом. По существу процедура «нисхождения» к полноте
феномена и «восхождения» к «чистым» сознанию, феномену, структуре,
сущности повторяется в каждом важном шаге, узле
феноменологического рассуждения, но в том виде, в каком она нужна именно для
решаемых там конкретных задач. (Благодаря чему мы в ПИ
находим важные пояснения к пунктам 2 и 3 ранее представленной
общей модели «чистого» сознания и к переходу от второго к
третьему пункту.)
Любопытно, что Гуссерль в полной мере применяет данную
процедуру уже в ПИ, т. е. до формулирования учения о
феноменологической редукции. Это подтверждает идею о том, что
редукция была «запрограммирована» в ПИ, а в более поздних
произведениях Гуссерля только развернута в целостную концепцию.
Специфику движения анализа в феноменологической
концепции сознания и его предметностей (в связи со сказанным)
можно было бы суммарно определить таким образом.
Отправляясь от «полного» феномена, от эмпирически данного
переживания, Гуссерль сначала вычленяет для анализа языковые
высказывания, что может наводить на мысль о «чистом» формальном
логико-лингвистическом анализе. Некоторые интерпретации ПИ
связаны с выделением только тех различений, которые получены
Гуссерлем при исследовании одних высказывании, и с
толкованием ПИ как просто логического произведения (хотя, как
признается, нетрадиционного типа, в определенной степени движущегося
параллельно логико-лингвистическому анализу неопозитивизма).
Неадекватность таких интерпретаций в том, что у Гуссерля
анализ высказываний (логико-лингвистический аспект) постоянно и
в принципе неразрывно переплетен с чисто
феноменологическим: с упомянутым постоянным «нисхождением» к полному
переживанию и «восхождением» к «чистому» переживанию. А
благодаря этому анализ знания тесно соединен у Гуссерля с
анализом (в особом ракурсе) сознания и познания. Вот почему
адекватная интерпретация феноменологии требует не упускать в каждом
принципиально важном шаге рассуждения Гуссерля ни анализ
объективируемых «овнешненных» данностей, анализ знания (что
обычно делают логика, лингвистика и что высвечивает логико-
лингвистический «срез» феноменологии), ни исследование
внутренних структур, механизмов, «действий» сознания в его
единстве с познанием (что обычно делает гносеология и что высвечивает
эпистемологический аспект феноменологии).
Поскольку в самом сознании оба аспекта «даны» неразрывно,
Гуссерль, и здесь стремящийся держаться ближе к «данности»,
344
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
создает специфический аналитикосинтетический способ
«одновременного» исследования названных сторон, аспектов
феноменов сознания. Такое устремление и разработанный в соответствии
с ним метод анализа представляются в целом плодотворными и
актуальными. Особая актуальность заключается, в частности, в
том, что в современной практике (прежде всего в научно-
технической деятельности, но не в ней одной) возник
настоятельный запрос на такие концепции творчески деятельного
(«программирующего») сознания, которые в то же время тщательно
анализируют его внешне объективируемые данности и
предлагают их аналитическую формализацию. Как раз такое сочетание
есть в феноменологии Гуссерля, причем именно ее начало в ЛИ
представляется в наибольшей степени релевантным
современному запросу практики. Но, возникнув значительно раньше, чем
стал настоятельным этот запрос, ЛИ не случайно вылились в
очень сложную для понимания, многослойную конструкцию.
И ее значимость, и ее внутренняя противоречивость более
ясны сегодня, когда феноменология вместе с мировой философией
проделала длительный путь эволюции, когда развитие
человеческой практики и познания вновь подчеркнуло особую ценность
отдельных идей, концепций, методов, заявленных в начале XX в.
II. Движение феноменологии к предметам сознания
и их вычленение
Для более глубокого понимания предлагаемого далее
текстологического анализа важнейших шагов феноменологического
рассуждения во втором томе ЛИ читателю целесообразно
ознакомиться с первым томом этого произведения или хотя бы с его
изложениями. Здесь же, в дополнение к приведенным ранее
выдержкам, отмечу, что в первом томе содержится критика
различных способов обоснования логики и логических программ, а
одновременно и собственная гуссерлевская программа построения
«чистой логики». Второй том, по общему замыслу Гуссерля,
должен был дать феноменологическое, или
«теоретико-познавательное, обоснование» программы логики как учения о «чистой
теории» (LU. Bd. П. 1. S. 3).
1. От выражения и переживания — к значению.
Поскольку, по Гуссерлю, «всякое теоретическое исследование
(...) в конечном счете результируется в высказываниях» (там же),
поскольку «объекты», на исследование которых направлена
чистая логика, даны в грамматическом одеянии, а также «в конкрет-
Логические исследования Гуссерля и современность 345
ных психических переживаниях» (S. 4), постольку даже во имя
чистого логического исследования приходится обращаться к
особому виду «грамматического анализа». Это, по Гуссерлю, предмет
одного из разделов феноменологии — «аналитической
феноменологии», которая имеет объектом своего исследования довольно
непривычные комплексные образования (обычно разделяемые
философией языка и психологией на два обособленных
элемента) — «представления, запечатленные в выражениях»
(ausdrückliche Vorstellungen). В последних феноменолога интересуют
«переживания, выступающие в функции интенции значения или
исполнения значений» (там же). Это одна из целей движения, к
которой мы впоследствии придем вместе с Гуссерлем. В ходе
дальнейшего рассуждения Гуссерль будет стремиться выполнить
логически важную задачу — «привести к аналитической ясности
отношение между выражением и значением».
О первом разделе второго тома ЛИ («Выражение и значение»)
будет сказано кратко, но в то же время будет предпринята
попытка сохранить все основные элементы, без которых-невозможно
правильно понять специфику феноменологического подхода.
Гуссерль различает «выражение» (Ausdruck) и «знак» (Zeichen).
Всякий знак есть знак чего-либо, но не всякий имеет «значение»,
«смысл» (это, например, знаки, служащие непосредственными,
простыми уведомлениями, указателями, обозначениями —
Anzeichen — какого-либо признака, содержания; они не несут еще
какое-либо дополнительное значение: стигма — обозначение раба,
флаг — знак нации, страны; знаки как Anzeichen выступают,
стало быть, в функциях уведомления (Anzeige), указания (Hinweis),
привлечения внимания к чему-либо).
От таких обозначающе-указующих, уведомляющих знаков
(anzeigende Zeichen) Гуссерль отличает «выражения, обретающие
значение» (bedeutsame Zeichen, Ausdrucke). Обычно, продолжает
Гуссерль, проводят различие между «физической» стороной
выражения (чувственные знаки, артикулированные комплексы
звуков, письменные знаки на бумаге и т. д.) и потоком психических
переживаний, ассоциативно связанных с выражением, причем
такие переживания обычно отождествляются со смыслом, или
значением, выражения (S. 31). Гуссерль объявляет подобное
различение неудовлетворительным с точки зрения логических целей
феноменологии.
В имени и в выражении необходимо, согласно
феноменологическому замыслу, отличать то, о чем выражение (имя) «сообщает»
или уведомляет (т. е. собственно психическое переживание), от
того значения, которое оно имеет, а также: то значение, которое
346
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
оно имеет (смысл, «содержание» представления), — от того, что
имя или выражение именует, выражает (предмет представления
— S. 32). Что касается первой стороны, то все выражения в их
сообщающей, «коммуникативной функции» (там же) выступают в
качестве знаков (Anzeichen), обозначающих «мысли» говорящего.
Содержание сообщения образуют коммуникативно
ориентированные, или «сообщающие» (kundgebenden), психические
переживания. Сообщающие переживания могут быть взяты в узком и
широком смыслах: в узком смысле речь идет о «смыслодающих»
(sinngebenden) актах, в широком смысле — вообще о всех актах,
которые слушатель как бы вкладывает в [сознание] говорящего.
«Например, если мы высказываемся о желании, то суждение о
желании является сообщающим в узком смысле, а само желание —
сообщающим в широком смысле».
Переходя ко второй стороне дела, т.е. на время отвлекаясь от
коммуникативности переживания (S. 37), и отличая само
выражение от того, что оно значит, от его значения (Bedeutung), мы
одновременно производим, согласно Гуссерлю, важнейшую
феноменологическую процедуру: различаем в «конкретном феномене
смыслооживляющего выражения, с одной стороны, физический
феномен, в котором выражение конституируется с его
физической стороны, и акты, которые дают ему значение и одновременно
созерцательную полноту, акты, в которых конституируется
отношение к выражаемой предметности» (S. 37). Выражение
благодаря этому есть нечто большее, чем только сочетание слов. Оно
полагает (мнит — meint) нечто и, полагая это нечто, обретает
отношение к предметному.
Представлю в виде обобщающей схемы последовательность
воспроизведенных ранее аналитических шагов гуссерлевского
рассуждения *.
* Для понимания схемы надо учесть, что сплошными горизонтальными
линиями обозначено собственно феноменологическое рассуждение; 1),
2), 3) обозначают последовательность «шагов» рассуждения, пунктирная
линия означает «боковые» для феноменологии линии анализа, которые,
однако, важны и конструктивны для основной феноменологической
линии; вертикальные линии со стрелками (сплошные и прерывистые)
означают постоянно удерживаемую Гуссерлем взаимосвязь между
уровнями А и Б, т. е. между анализом выражений и анализом переживаний.
Логические исследования Гуссерля и современность 347
^
£
о
х
!
У
х
is
s*
I
8-
о S
Схема 1.
(1) Феноменологиче- (2) значимые вы- (3) Значение
ский анализ выраже- ражения (смысл)
ния (bedeutsame выражения
. Ausdrücke)
знаки (Zeichen)
в их функции
Обозначения
(Anzeichen)
Указания
(Hinweise)
Феноменологический анализ
переживания
(1) В отличие от
«коммуникативных» переживаний
Переживания в их
«коммуникативной» функции
(вместе с
выражением)
Предупреждения о
следствиях
(Beweise)
(2) Значимое пе--.
реживание
(вместе с
выражением)
Выражение
переживания как
знак,
сообщающий о мыслях
(3) Значение с
точки зрения
«чистого»
переживания
Следующий узел гуссерлевского анализа состоит в
отталкивании от значения выражения с перспективой перехода к
предметности, но через тщательные развертывания (на двух
взаимодействующих уровнях А и Б) внутренних структур самого значения.
2. От значения к интенции значения
Движение дальнейшего анализа поясню на примере, который
приводит сам Гуссерль. Положим, я высказываю суждение: «Три
высоты треугольника пересекаются в одной точке».
Феноменологическая дескрипция и далее выделяет три под-структуры: а) Я
высказываю суждение, и человек, слушающий меня (или читаю-
348
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
щий написанное мною), обязательно воспринимает меня как
сообщающего (данную мысль о треугольнике). Здесь выражение,
как было сказано, вступает в функции суммы знаков, за которым,
однако, стоит «сообщающее» психическое переживание,
представляющее собою акт сообщения. Процессы, акты сообщения
тем самым приобретают значение (ai1)15 для говорящего и
слушающего (читающего), так что устанавливается их отношение к
значению, — имеет место своего рода и общая нацеленность на
смысл, значение (а г1) сообщающего высказывания, и включение
значения (вместе с высказыванием) в созерцание (а з1), которое как
бы «оживляет» смысл сообщения. Оба последних (подчеркнутых)
момента, выступающих сначала в связи с сообщающим
высказыванием, — интенция значения и «исполнение значения» —
являются центральными для феноменологии и специфическими
именно для нее структурами, где, как мы увидели, также
объединяется анализ объективированных форм сознания и его процес-
суальности, его актов, его «чистых» переживаний.
Но здесь, надо подчеркнуть, они пока что вводятся не на чисто
феноменологической почве: Гуссерль, вплетая это звено в
феноменологический анализ — ибо нельзя не иметь в виду, по
крайней мере временно, «внешних» обстоятельств работы сознания, —
затем «опускает вниз» и оставляет разомкнутой цепочку
исследования структур сознания в коммуникативном аспекте [IV].
Анализ сначала ведется на уровне Б, т.е. на уровне
объективированных переживаний. Далее он переходит к уровню А т.е. к уровню
объективированных высказываний.
Когда выражение далее рассматривается как имеющее
значение (б), то мы, но опять-таки временно, «уходим» в сторону от
первого аспекта (от «сообщающего» переживания) и
рассматриваем выражение с точки зрения его содержания, т. е. именно как
«несущее» определенный смысл и значение (бг). Как раз во имя
более точного понимания значения, содержания феноменолог
фиксирует в данном выражении (и в ряде варьирующихся
выражений, а значит, актов, имеющих ту же интенцию значения)
единство значения (бг). «Объективная значимость (Geltung) какого-
либо обстояния вещей (Sachverhalt), как мы верим, является
упроченной — и мы даем ему как таковому выразиться через форму
предложения = высказывания. Само это обстояние таково, как оно
есть, независимо от того, утверждаем ли мы его или нет. Оно есть
15 Буквенные обозначения в скобках соотнесены с нижеследующей
схемой.
Логические исследования Гуссерля и современность 349
б
Б.
Значение!
(смысл)
выраже
ния
а
А.
Значение!
переживания
Феноменологический
анализ
в протии- ч*
вовес много-
образию
выражений и
актов
Феноменолог
гический
анализ
Схема 2.
6i
Значение
как
содержание
высказывания ..
В противо- ч^
вес
возможным
вариациям
формы
выражения
ai
Значение в
«чистом»
акте
в отличие ^
от множе- у ф
ства актов
коммуникативного
(сообщающего)
переживания
62
Идеальное
единство зна-
чения
В
противовес
различным
вариациям
содержания
аг
Значение
как
идеальное
единство
акта
впроти- у
вовес
внешним
характеристикам
акта
аЧ
Значение
коммуникативного
переживания
бз
Интенция
значения
(вместе с
выражением и
чистым
аналитическим
актом)
аз
Исполнение
значения (вместе
с
выражением и
чистым актом
созерцания)
Интенция зна-
чения коммуни-
• кативного
переживания
Исполнение
-д значения
коммуникативного
(сообщающегося) переживания
единство значимости (Geltungseinheit) в себе. Однако эта
значимость является нам, и является объективно, а мы устанавливаем ее
такой, как она есть. Мы и говорим: дело обстоит именно так <....>
Мой акт суждения есть текущее переживание, возникающее и
преходящее. Но то, о чем высказывается суждение, его
содержание: три высоты треугольника пересекаются в одной точке — не
является возникающим и преходящим <...> Акты суждения
меняются от случая к случаю. Но то, о чем они судят, о чем
высказывается суждение, всюду одно и то же. Это в строгом смысле
тождественное, это одна и та же геометрическая истина» (S. 43—44). Быть
может, сказанное относится только к истинным высказываниям?
350
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Нет, замечает Гуссерль, во всех высказываниях, будь они даже
ложными или абсурдными, дело обстоит сходным образом:
единство значения, или «идеальное содержание выражения (S. 44),
противостоит многообразию актов переживания. Этот третий,
требующий объяснения смысл выражаемого бытия
(Ausgedrücktsein) касается полагаемой значением и выражаемой с его
помощью предметности» (S. 46). Вот только теперь в
феноменологическом анализе начала «маячить» предметность.
Итак, что касается в целом уровня Б, то Гуссерль здесь ввел
следующие под-структуры: под-структура значения как
содержание высказывания (б i и под-структура идеального единства
значения (б г). Это позволило ему более подробно осветить уже
упомянутую новую — и стержневую для феноменологии, ранней и
поздней, — структуру, выступающую в виде противоречивой
связи интенции значения (б з) и исполнения значения (а з). Для
понимания специфического по своей методологии перехода от
только что рассмотренного расчленения к новому нужно
постоянно иметь в виду и относительную самостоятельность, и
взаимопересечение уровней А и Б. «Появившееся на горизонте»
феноменологического анализа предметное позволяет Гуссерлю ввести
и развернуть интереснейший аспект сознания — его
предваряющее отношение к предметному, полагание, то есть интендирование
предмета благодаря актам значения (смысла). Так впервые у
Гуссерля появляется тема интенциональности и начинается интен-
циональный анализ (пункты 3, 4, 5 в общей модели чистого
сознания).
Имея в виду «очищенные» акты сознания, а одновременно —
слитые с ними, предварительно проанализированные
выражения, Гуссерль и вводит нижеследующее различение.
В отношении выражения к предметному возможны два
варианта: 1) выражение (в отличие от «пустого», чисто словесного его
употребления) фигурирует как осмысленное, «однако ему не
соответствует созерцание, дающее предмет» (там же) — отношение
к предметности остается нереализованным; эти акты называются
у Гуссерля «придающими значение» или «интенциями значения»
(Bedeutungsintention — S. 38) (б з); 2) предметное благодаря
«сопровождающему созерцанию становится актуально
присутствующим или по крайней мере является как воображаемое
(например, в образах фантазии)» (S. 37) — иными словами,
отношение к предметности реализуется. Гуссерль называет такие акты
«исполняющими значение» (bedeutungserfüllende Akte) (а з),
подчеркивая, что они «сплавляют акты интенций значений с
единством познания, или исполнения значений» (S. 38).
Логические исследования Гуссерля и современность 351
Каждый по своему собственному опыту знает, сколь
неравноценны оба ряда актов. Однако при рассмотрении (как и вообще
при всяком феноменологическом описании) нельзя соскальзывать
на уровень «наивно-предметного интереса (когда мы живем в ин-
тенциональных актах)» (S. 42), а надо давать «правильное
описание именно в свете феноменологического подхода» (phänomeno-
logische Sachlage — S. 41).
Следовательно, значение (Bedeutung) выступает у Гуссерля в
следующих структурных аспектах: значение как акт (a i); само значение (б;
6i); идеальное единство в противовес многообразию возможных
актов (а г, б 2) (S. 77). Проводя это различение и осмысливая его,
Гуссерль пытается справиться с некоторыми трудностями и
недоразумениями, накопившимися в тогдашней логико-философской
литературе. Прежде всего речь идет о концепции, согласно
которой понять какое-либо выражение — значит отыскать
соответствующий ему образ фантазии (S. 61). Гуссерль возражает: хотя во
многих случаях языковые выражения сопровождаются образами
фантазии, очевидно и то, что такое «сопровождение» вовсе не
обязательно для понимания (S. 62). Предваряя дальнейшие
рассуждения Гуссерля, скажу, что они направлены на обоснование
относительно самостоятельной -роли «интенции значения», —
прежде чем будет установлена связь последней с «исполнением
значений», т. е. с особыми актами чистого созерцания. По сути дела
речь идет об отстаивании относительной самостоятельности
аналитических, в смысле Канта, суждений, процедур, оперирования
со значениями знания как таковыми, фигурируют ли они в
обычной познавательной практике или в философских
концепциях знания. Это относительная самостоятельность
аналитического мышления перед лицом эмпирического и чистого
созерцания, обращения к опыту и т.д.
Какие бы имена, выражения мы ни взяли — абстрактные
(скажем, математические) или такие, как культура, религия, наука,
искусство, дифференциальное исчисление (т. е. имена или
выражения, «относящиеся к индивидуальным объектам, известным
личностям, городам» и т.д.), — возможно их «созерцательное
присутствие», «но возможно и его отсутствие» (S. 63). В тех случаях,
когда значение выражения — нечто абсурдное, правда, тоже
возможны образы, вернее некоторые суррогаты образов (так, в мета-
геометрических сочинениях пытаются дать «образ» абсурдного —
треугольника с суммой углов £ 2 R), однако было бы неверно
считать их «действительным превращением соответствующих
понятий в созерцания» (Гуссерль ссылается, в частности, также на
Декартово рассуждение о тысячеугольнике, где проводится разли-
352 H. В. Мотюшилова «Работы разных лет»
чение imaginatio и intellectio, — S. 64). Кстати, Гуссерль
оговаривает, что в случае геометрических примеров тут есть
дополнительная трудность: в интеллектуальных процессах геометрического
мышления конституируется и идея специфических
геометрических образов. При обычных же чувственных образах становится
более очевидным, что они служат только вспомогательными
средствами и сами не являются ни значениями, ни носителями
значений (S. 65).
Однако разъяснение относительной самостоятельности
Bedeutungsintention (в высшей степени интересные рассуждения
Гуссерля 16, которые я не могу воспроизводить подробнее) —
предварительный шаг, который ведет к установлению взаимосвязи
интенции значения и актов исполнения значения. Но такое
тщательное объяснение, вводящее в саму сердцевину
феноменологической теории предметности, — это, по сути дела, и есть весь
дальнейший феноменологический анализ второго тома ЛИ.
Сейчас я снова подытожу в виде схемы описанную ранее ана-
литико-синтетическую работу, проделанную Гуссерлем по
подробному выявлению под-структур структуры «Значение (смысл)».
Последние главы первого раздела ЛИ «Выражение и значение»
и второй раздел «Идеальное единство рода и новая теория
абстракции» по отношению к основной линии феноменологического
рассуждения дают разъяснения уже сказанного или намечают
хотя и очень интересные, но все же «боковые» ответвления
феноменологии сознания, причем Гуссерль уточняет свою позитивную
программу, идею предметности сознания, в любопытнейшей
полемике с различными вариантами классической теории
абстракции.
Здесь следовало бы заметить, что и всего лишь намеченные
Гуссерлем «боковые ответвления» феноменологического анализа
в последующей истории западной философии XX в., казалось бы,
неожиданно находили своих последователей; и сегодня они, как
правило, обретают особую актуальность. Сказанное относится и к
«звену» коммуникативных переживаний, и к проблемам,
обсуждавшимся в заключительных главах первого раздела ЛИ [V]. В
последнем случае это был вопрос, запечатленный в названии
третьей главы первого раздела «Амбивалентность (das Schwanken) зна-
16 В данной связи разъясняется смысл «чисто символического», в
частности символическо-арифметического мышления (S. 67), мышления,
фигурирующего без иллюстрирующего созерцания (S. 66), абсурдных
выражений (S. 69), роли понимания (Verstehen), толкования (Deuten) — S. 74,
ставятся и другие проблемы.
Логические исследования Гуссерля и современность
353
Схема 3
полный феномен
12- 11375
движение к
редуцированному феномену
к чистому акту
354
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
чений слов и идеальность единства значения» (S. 77). В данной
главе — как и во всем произведении — Гуссерль опять-таки
«нисходит» к внешним срезам феномена, языковым выражениям и
переживаниям, чтобы затем «восходить» к «чистым» структурам
сознания. Начинается это разъяснение с нового обращения к
выражениям сообщающих (коммуникативных) переживаний.
Например, кто-то говорит: «Дайте, пожалуйста, стакан воды».
Для слушающего (в соответствии с ранее сказанным) выражение
дает обозначение желания говорящего. Вместе с тем это желание
есть и сам предмет высказывания. То, что сообщается, и то, о чем
говорится, частично «покрывают друг друга» (S. 78). Имеет место
также и само суждение. Так обстоит дело со всеми вообще
высказываниями типа: «я представляю себе, что...», «я того мнения,
что...», «мне кажется, что...», «я полагают, что...» и т.д. Во всех
выражениях такого типа для понимания их значения существенна
ориентация на высказывающуюся личность и ее положение (во
времени, пространстве, в центре каких-либо обстоятельств и т.д.)
(S.81).
Иначе обстоит дело, когда высказывается суждение типа: 2x2 =
4. Здесь сообщение и высказываемое содержание находятся в
отношении дизъюнкции. Предложение это не равнозначно
высказыванию «Я полагаю, что 2x2 = 4», которое также относится к
первому типу. Высказывания первого типа Гуссерль называет
«субъективными по своей сущности и обстоятельственными
(okkasionellen)», высказывания второго типа — «объективными» (S. 80).
«Мы называем выражение объективным, когда оно соединяет и,
соответственно, может соединять свое значение только со своим
содержанием, нашедшим прямое проявление, и его остается
понять — для чего не требуется обращения к выражающей себя
личности и к обстоятельствам, при которых она себя выражает»
(там же). Но даже и объективное выражение подвержено
амбивалентным колебаниям (Гуссерль говорит об «эквивокациях»).
Объективные выражения особо интересовали раннего
Гуссерля. Ибо, по его мысли, все теоретические высказывания
«абстрактных» наук суть объективные выражения. Но говорить о них
приходилось не иначе, чем в сопоставлении с
«субъективно-обстоятельственными», личностно окрашенными выражениями,
которых, что должен был признать Гуссерль, несравненно больше
в человеческой речи, чем «объективных» высказываний. Гуссерль,
— и это типично для феноменологического метода «описания» —
выявляет характерные черты большинства «колеблющихся»,
неточных в своем значении высказываний, чтобы в
противоположность им осмыслить специфику меньшинства точных (научно-
Логические исследования Гуссерля и современность 355
теоретических) высказываний, ибо он, о чем нельзя забывать, в
ЛИ занимается обоснованием логики как наукоучения.
Для ряда же ответвлений феноменологии, напротив, наиболее
интересным оказались эти «боковые» отрасли гуссерлевского
анализа, ибо речь шла о наиболее распространенных способах
выражения человеческой мысли, а значит, о наибольшей «повер-
нутости» анализируемого сознания к человеческому поведению
[VI]. Несомненно, что сегодня может возникнуть новый интерес к
данному пункту феноменологического анализа — в связи с
настоятельным запросом на «эпистемологию неточного знания» и
«логику неточных высказываний» [VII]. Мы читаем и понимаем
объективные высказывания, «вообще не думая о том, кто их
высказал. Совершенно иначе обстоит дело с выражениями, которые
служат практическим потребностям совместной жизни, как и с
выражениями, которые в науках способствуют подготовке
теоретических результатов» (S. 81).
Множество выражений, где высказывание делается от первого
лица, также попадают в класс субъективных. «Слово Я называет в
разных случаях и разных лиц и всегда в связи с этим приобретает
новое значение» (S. 82). Когда человек в «уединенной речи»
употребляет такие выражения, то значение их заключено в
непосредственном представлении о собственной личности, — таково же
значение слова «я» в коммуникативной речи (там же). Сказанное
о выражениях с личными местоимениями Гуссерль относит и к
тем, где фигурируют местоимения указательные и другие
«указующие» части речи (это или то, здесь, там, вверху, внизу,
сегодня, вчера, завтра, после и т. д.). К этому же классу относятся
выражения восприятий, убеждений, сомнений, желаний, надежд,
опасений, приказаний и т.д. Далее добавляются (в ряде языков)
выражения с определенным артиклем: например, в немецком
языке die Lampe обозначает не лампу вообще, а какую-то лампу,
вполне определенную обстоятельствами высказывания (S. 85).
Например, «здесь» обозначает, по Гуссерлю, не вполне четко
отграничиваемое пространство, окружающее говорящего, причем
место это определяется на основе чувственного представления и
положения данной личности в занимаемом ею месте. Разумеется,
«здесь» и т. д. полагает момент всеобщего, замечает Гуссерль;
однако и само всеобщее «постоянно включается, меняясь от случая к
случаю, в прямое представление о месте» (S. 85), имеющее
отношение к данным конкретным обстоятельствам.
Любопытно, сколь существенно отличается гуссерлевская
феноменология от феноменологии Гегеля как раз в данном пункте.
Гегель с помощью подобных же примеров констатирует перемен-
356
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
чивость «чувственной достоверности», однако с иной целью:
«Здесь» — это, например, дерево. Я поворачиваюсь, и эта истина
исчезла и превратилась в противоположную. «"Здесь" — это не
дерево, а, скажем, дом. Само "здесь" не исчезает; но оно есть
постоянно в исчезновении дома, дерева и т.д., и оно равнодушно к тому,
есть ли оно дом или дерево. Следовательно, "это" опять-таки
оказывается опосредованной простотой или всеобщностью» 17. Различие
вот в чем: Гегель подчеркивает, что наиболее важны для
анализируемой мысли не меняющиеся обстоятельства, а всеобщность
«здесь», «теперь» и т.д.; для Гуссерля, напротив, несмотря на
момент всеобщности, смысл, значение «обстоятельственных»
высказываний заключаются в их включенности в поясняющие, всегда
конкретные представления. (К наметившемуся здесь различию
двух феноменологии мы еще вернемся.)
Вместе с тем, несмотря на поясняющие (указующие,
рекомендующие и т.д.) представления «большинство выражений
обыденной жизни» остаются, по Гуссерлю, неточными, смутными, в то
время как выражения, которые в качестве составных частей
входят в чистые теории, являются точными (S. 88). Смутные
выражения не обладают единым содержанием, тождественным для всех
случаев его применения. Они ориентируют свое значение на
типические, но только частично ясные и определенные примеры,
которые в различных случаях (и даже в одном и том же процессе
мышления) имеют обыкновение многократно меняться (там же).
Поэтому, по Гуссерлю, особую роль в таких высказываниях
приобретают типические характеристики и образы (например,
образы — Gestalten — пространства, времени, цвета, звука и т.д.). Но и
типическое во всех таких случаях подвижно, переменчиво, не
имеет строго определенных границ.
Быть может, сказанное означает, задает вопрос Гуссерль, что и
значения, подобно выражениям, могут быть разделены на
объективные и субъективные, прочные и меняющиеся в зависимости от
обстоятельств? Ответ на этот вопрос отрицательный. «В
действительности ясно, что наше утверждение о возможности замены
любого субъективного выражения объективным говорит не о чем
другом, как о безграничности объективного разума. Все, что есть (ist),
познаваемо «в себе», и есть бытие — это содержательно
определенное бытие, которое документируется в определенных
«истинах в себе». То, что есть (ist), имеет собственные, в себе прочно
определенные свойства и отношения — и это реальное бытие в
смысле вещественной природы, ее точно определенная протя-
17 Гегель Г. В. Ф. Соч. М., 1959. Т. 4. С. 53.
Логические исследования Гуссерля и современность 357
женность и положение в пространстве и времени, присущие ей
способы сохранения и изменения. Но то, что в себе прочно
определено, должно допускать, чтобы оно было определено
объективно, а то, что допускает объективную определяемость, должно
допускать, говоря идеально, чтобы оно было выражено с помощью
точно определенных значений слов. Бытию в себе соответствуют
истины в себе, а последним — прочные и однозначные
выражения сами по себе (an sich)» (S. 90).
Но такое соответствие по отношению к большинству
высказываний — идеал, от которого мы бесконечно далеки (S. 91).
Неточность, амбивалентность значений большинства высказываний —
следствие того, что бесконечно варьируются «субъективные акты,
которые сообщают выражениям значение; и они меняются не
просто индивидуально, а в соответствии со специфическими
характерами, в которых лежит их значение» (Ibid.). Нацеленность
всего этого гуссерлевского анализа большинства неточных
выражений — привести читателя к выводу: «Колебания значений
(Schwanken der Bedeutung) есть собственно колебания акта
значения (Schwanken des Bedeutens)» (там же). Что же касается
значений как таковых, то они суть постоянные «идеальные единства»
(S. 92). Здесь мы уже стоим, согласно Гуссерлю, на пути к чистой
логике, которая и есть наука «о значениях как таковых, об их
существенных видах и различиях, а также о коренящихся в них
чистых законах» (Ibid.). •
Тем самым логика является и наукой о «чистых» научных
теориях, ибо, согласно Гуссерлю, «"объективный исследователь"
интересуется не процессами речи, понимания, представления и т.д.,
а объективным значением своих выражений», понятием как
идеальным единством значения, а следовательно, истиной, которая
сама строится из понятий (S. 93). «Любая наука по своему
объективному содержанию, наука как теория, конституируется из
«одного гомогенного материала, она есть идеальный комплекс
значений (...) Все логическое подпадает под коррелятивно
взаимосвязанные категории значения и предмета. Когда мы во
множественном числе говорим о логических категориях, то речь может идти
только о чистых видах, которые a priori вычленяются внутри
этого рода, значения, или о коррелятивно принадлежащих друг другу
формах категориально схваченной предметности как таковой» (S.
95).
Итак, снова совершилось «восхождение» в сферу «чистого»
сознания и знания — к идеальным единствам значения, которые
толкуются как корреляты некоего «бытия в себе», независимого
от сознания обстояния вещей, истин в себе. О том, что даже в ЛИ
358
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Гуссерль не понимал «бытие в себе» на манер платонизма или
другого какого-либо объективно-идеалистического учения, мне
уже приходилось ранее писать. Думаю, что сказанное в этой
статье подтверждает данную оценку. «Бытие само по себе» в
философском смысле для Гуссерля есть коррелят сознания, а в
обсуждаемой здесь связи — коррелят высказываний особого типа.
Особенность именно ЛИ — подчеркивание непреложного характера
этого «само по себе», которое надо «идеально представить как
независимое от сознания», хотя опять-таки речь тут идет о
своеобразной «операции» сознания. В более поздних произведениях, не
отказываясь от «бытия самого по себе», Гуссерль будет в
наибольшей степени акцентировать аспект коррелятивности, т. е.
непреложной и изначальной зависимости «бытия самого по себе» от
сознания, разумеется, лишь в рамках философского толкования
соотношения бытия и сознания. Зная ход и приемы гуссерлевско-
го анализа, мы можем ожидать, что после «восхождения» к
«чистым» логическим структурам предстоит своего рода
«нисхождение» к процессуальной, связанной с переживаниями стороне
сознания. И действительно, в последней, четвертой главе первой
части «Феноменологическое и идеальное содержание
переживаний значения» Гуссерль снова спускается к уровню переживания
— разумеется, во имя «очищения», т. е. «феноменологизирова-
ния», самих переживаний. В обычной своей манере Гуссерль
прежде всего расправляется с психологическими предрассудками.
Нельзя, утверждает он, считать «содержанием» переживаний
значения какие-либо реальные части или стороны переживаний.
Конечно, в переживании есть его психологические компоненты, в
нем есть и «содержание» в психологическом смысле. Имеются,
например, чувственные составные части переживаний
(визуальные, акустические, моторные содержания). Психологический
состав переживаний изменчив, он меняется от индивида к
индивиду (S. 97). Но ведь и интенция значения, рассуждает далее
Гуссерль, тоже не есть нечто, лишенное различий. «Напротив, к
различным значениям, соответственно, к выражениям,
функционирующим с различными значениями, принадлежат также и
характерные, различные по содержанию интенции значения; в то же
время все понимаемые как одинаковые по смыслу выражения с
одной и той же интенцией значения сформированы как
однородные по их психическому характеру» (S. 99).
Итак, анализ Гуссерля снова привел нас на уровень
психических переживаний, где «психологически меняющемуся»
противопоставляется «психологически общее» (S. 99). Но это лишь
второстепенный момент. Главное же для Гуссерля: во имя значения
Логические исследования Гуссерля и современность 359
как такового феноменология отвлекается от многообразия
психических переживаний. Здесь как будто бы повторяется уже
знакомый нам мотив. «В противовес этому многообразию
индивидуальных переживаний то, что в них выражается, повсюду есть
тождественное, одно и то же ъ строгом смысле слова. Вместе с числом
личностей и актов не умножается значение предложения;
суждение в идеальном логическом смысле — нечто одно» (там же).
Однако в данном конкретном шаге у Гуссерля есть более конкретная
цель — отличить «строгое тождество значения» (Bedeutung) от
«константного психического характера акта придания значения»
(des Bedeutens) (там же). Как бы предвидя утомление тех, кто
может упрекнуть его «в субъективном пристрастии к тонким
различениям», Гуссерль говорит о своем прочном теоретическом
убеждении, согласно которому только благодаря множеству подобных
аналитико-синтетических различений можно обеспечить
фундаментальное поле логической работы (S. 99—100).
Дальнейший переход принципиально важен для
феноменологии, для ее теории предметности. «Я ясно вижу, в конце концов:
то, что я в названном предложении полагаю или (если я его
слышу) схватываю в качестве значения, тождественно тому, что оно
есть, независимо от того, мыслю я его или нет, существуют ли
вообще мыслящие личности и акты или не существуют. И так
обстоит дело со всяким значением, со значениями субъектов и
предикатов, отношений и связей и т.д. Прежде всего — с идеальными
определенностями, которым изначально присущи значения.
Вспоминая только о самом важном, скажем: сюда относятся
предикаты истинный и ложный, возможный и невозможный, общий и
единичный, определенный и неопределенный и т.д.
Это истинное тождество, которое мы здесь утверждаем, — не
что иное, как тождество рода (Identität der Spezies) (<...>
Многообразные единичности по отношению к идеально-единому
значению и есть, конечно, соответствующие моменты акта придания
значения, это интенции значения» (S. 100).
Значение, разъясняет Гуссерль, по отношению к
многообразным актам придания значения «ведет себя» примерно так же, как
«красное» в смысле рода — к красной линии, проведенной на
лежащем передо мной листе бумаги. «Значения, как мы можем
сказать, образуют класс понятий в смысле "всеобщих предметов"
(allgemeinen Gegenständen). И при этом они не предметы, которые
если и не существуют где-либо в "мире", то существуют в
tottoç oiiqavioç или в божественном духе; ибо подобное
метафизическое гипостазирование было бы абсурдно. Кто привык к тому,
чтобы под бытием понимать только "реальное" бытие, под пред-
360
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
метами — реальные предметы, тому сам разговор о всеобщих
предметах и их бытии покажется принципиальной ошибкой;
напротив, тут не усмотрит никакого препятствия тот, кто сначала
поймет этот разговор как простое указание на значимость
определенных суждений — именно тех, в которых судят о числах,
предложениях, геометрических образованиях и т.д. и на основе
которых ставят вопрос, нельзя ли и здесь, как и в других случаях,
очевидным образом присвоить корреляту суждений — тому, о
чем в них высказывается, — имя "истинно сущих предметов". В
действительности, с логической точки зрения, семь правильных
тел в такой же мере являются семью предметами, что и семь
мудрецов; предложение о параллелограмме сил — в той же мере
предмет, что и город Париж» (S. 101).
3. От «единства значения» к анализу предметностей
(интенциональному анализу)
Теперь, когда феноменологический анализ привел к предмету,
предметному «в логическом» — точнее, в
логико-феноменологическом смысле — и когда обнаружилась связь между
«предметным» и «всеобщим» как единством рода, мы можем более
определенно оценить специфику феноменологии и ее понятия логики,
логического. Всякая логическая программа так или иначе
постулирует, и не может не постулировать, наличие, или «данность»,
некоего всеобщего. Предложения, суждения, умозаключения,
другие формы и процедуры формальной логики сознательно или
бессознательно берутся в их всеобщности. В отличие от
формально-логических программ, которые только постулируют всеобщее,
гуссерлевская феноменология фактически примыкает к тем
способам обнаружения и раскрытия логического, которые нацелены
на постепенное вычленение, т. е. на генетическое исследование,
всеобщего. Такова, в частности, гегелевская диалектическая
логика. Всеобщее в определенном смысле есть ее предпосылка, ибо
«бытие» в логике с самого начала берется как клеточка всеобщего
характера и, что самое главное, она основана на предположении
«предсуществования» понятия. Но всеобщее есть также и
результат логики Гегеля, «полученный» — благодаря сложно
опосредованному логическому восхождению — только в учении о
понятии.
Сходство и различие гегелевской и гуссерлевской логических
программ — сложный и весьма интересный вопрос, который я
здесь затрону очень кратко, лишь поскольку это поможет нам
уяснить специфику рассмотренных ранее и рассматриваемых
далее феноменологических размышлений о предметности. О сход-
Логические исследования Гуссерля и современность 361
стве говорят очень редко, памятуя сугубо негативное отношение
Гуссерля к Гегелю, — философия последнего была чужда
основателю современной феноменологии и была ему, скорее всего,
очень мало известна. Между тем реальное сходство двух
программ есть, и мне оно представляется довольно существенным.
Принципиально парадигмалъная значимость логики (в этом
смысле предшествование логического) и в то же время опора
логики на феноменологию — вот что прежде всего сходно в обеих,
гегелевской и (ранней) гуссерлевской, концепциях. У (раннего)
Гуссерля, как и у Гегеля, целью феноменологии является
движение ко всеобщему, в наиболее ярком виде воплощающемуся в
науке, в ее теориях. Всеобщее как бы переплетается с «единством
рода» — тоже существенный момент, объединяющий обе
логические концепции. Логика Гуссерля, как и гегелевская логика,
вовлекает в рассмотрение не только известные формальной логике
формы (имен, предложений, суждений — словом, высказываний),
но, во-первых, имеет в виду также и вновь образуемые
категориальные формы и их «законы», а во-вторых, что самое важное,
мыслит создать логику, имеющую в виду содержание, т. е.
нацеленную прежде всего на «объективную предметность».
Редко когда принимают во внимание то обстоятельство, что у
Гуссерля, как и у Гегеля, движение анализа с>существляется через
противоречия, что анализ в целом является диалектико-
генетическим. У Гуссерля анализ также всякий раз отправляется
от некоторой целостности, которая как бы «расщепляется» на
аналитически выделяемые категориальные моменты, затем
объединяемые в новые — и тоже в дальнейшем распадающиеся
целостности. Выяснение логически важных категориальных
характеристик происходит через различение и отождествление,
перерастающее в противополагание. Но в том, какие «элементы», какой
материал вовлекается в диалектико-генетическое движение,
существует значительное различие не только между логическими
разработками Гегеля и Гуссерля, но и между феноменологиями
обоих философов.
Противоречивое движение в гегелевской логике
осуществляется на почве уже «положенного», заведомо обретенного (через
феноменологию) логического. Противоречия в этой логике —
противоречия самих логических определений, т. е. противоречивое
отношение логического с самим собой. В феноменологии Гегеля
анализ осуществляется таким образом, что — как и впоследствии
У Гуссерля — логическое, всеобщее постепенно «вычленяется»,
«очищается», освобождается, но уже раз и навсегда (в чем отличие
по сравнению с Гуссерлем), от всех «эмпирических», конкретно-
362
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
исторических форм. Почва феноменологии Гегеля —
оставляемые «позади» всеобщие формообразования («гешталъты»)
сознания, движение которых сообразовано с абстрактно взятой
историей духа, историей культуры 18.
Поскольку Гуссерль безоговорочно относит даже исследования
такого обобщенного типа к разряду «психологических», «эмпи-
ристских» (обстоятельство, которое в какой-то мере волновало и
Гегеля после написания «Феноменологии духа», почему он потом
перестал считать эту работу фундаментом системы), постольку
создается непривычное для традиции гуссерлевское
феноменологическое учение о сознании, претендующее на преодоление
эмпиризма и психологизма на пути «чистого» движения к
абсолютно «чистым» структурам сознания типа «идеального единства
значения» 19. Движение к такому «родовому» всеобщему Гуссерль
принципиально отличает от объективно-идеалистического
превращения «значения в себе», «бытия в себе», «истин в себе»,
«чистых предметностей» в некое реальное или «божественное» бытие
(что не мешает учесть тем авторам, которые спешат причислить
гуссерлевское учение к объективно-идеалистическим).
Гегелевский путь не устраивает Гуссерля в том числе и из-за онтологиза-
ции всеобщего понятия, из-за приписывания логическому
«реального» существования. И хотя в ранней феноменологии
Гуссерля бытие в себе предполагается, однако «дано» оно в качестве
единства рода, т. е. исключительно как «идеальная» связь между
многообразными формами.
Правда, может сбивать с толку заявление Гуссерля о том, что
такая связь существует независимо от того, мыслю ли я это
единство или нет, даже независимо от того, существуют ли мыслящие
личности или не существуют. Что, конечно, не следует понимать
буквально, ибо ведь несколько ниже Гуссерль прямо говорит, что
все «предметности» (а они связаны с единством значения, с
родовым единством) — это корреляты соответствующих суждений,
т. е, «наличны» в сознании (высказываниях, мышлении) субъекта.
И очень важно, что в гуссерлевской конструкции — в отличие от
претензии гегелевской концепции тождества бытия и мышления
18 Подробнее о «Феноменологии духа» Гегеля см.: Мотрошилова Н. В.
Путь Гегеля к «Науке логики» (формирование принципов системности и
историзма). М., 1984.
19 «Об этой истине говорят логические законы, и все мы, поскольку мы не
ослеплены релятивизмом, говорим об истине в смысле идеального
единства в противовес реальному многообразию рас, индивидов и
переживаний» (ЛИ. Т. 1. С. 102).
Логические исследования Гуссерля и современность 363
— предметности сознания не отождествляются с вещами,
вещественными процессами вне сознания и даже с их формами.
В противоречивое отношение в гуссерлевской феноменологии
вступают, что мы видели ранее, два основных типа материала —
логико-лингвистический (анализ, ведущий к значению как
таковому) и своего рода феноменолого-психологический (анализ,
ведущий к переживанию как таковому). Иными словами, в анализе
объединяются в качестве его объектов знание и сознание, что
характерно и для феноменологии Гегеля, но в отличие от Гегеля
Гуссерль имеет в виду исключительно «чистое» сознание индивида,
по существу очищая его от историко-социальных связей и
переживаний20 (значит, и эта сторона, впоследствии развернутая в
учении о редукции, имплицитно содержалась, хотя и не была
специально прояснена, в ЛИ). Но что особенно непривычно для
традиционных и для ряда логических концепций конца XIX—XX
вв. (в частности, для логики Фреге), так это отсутствие резкой
грани между феноменологией как учением о сознании и логикой.
Логика у Фреге и других авторов мыслится как наука о знании, о
его всеобщих формах — и тем самым отношение его к сознанию
(пусть оно и не отрицается) остается «в стороне» от логики.
Логика Гегеля задумывается как наука о знании и познании,
что характерно и для Гуссерля, но в логике последнего в отличие
20 Гуссерль прекрасно "понимает, что наука, на исследование которой
нацелена логика (как и всякая донаучная жизнь сознания — чему в более
поздней феноменологии будет уделяться особое внимание), не есть
только сумма и сплетение актов знания. «Наука обладает объективным
содержанием только в своей литературе, только в виде письменных
произведений ведет она самостоятельное существование, хотя и связанное
многочисленными нитями с человеком и его интеллектуальной
деятельностью; в этой форме она живет тысячелетиями и переживает личности,
поколения и нации. Она представляет собою, таким образом, некоторую
внешнюю организацию, которая, возникнув из актов знания множества
индивидов, может быть превращена в такие же акты бесчисленных
индивидов способом легко понятным, точное описание которого может
быть опущено. Здесь нам достаточно знать, что наука дает или должна
давать ближайшие условия для создания актов знания, реальные
возможности знания...» (ЛИ Т. 1. С. 8—9). Гуссерль, стало быть, в общем
допускает возможность историко-научного, социологического, абстрактно-
исторического исследования науки, но для своей феноменологии
выбирает иной путь.
Post scriptum 2004 года. См. по этому вопросу: Мотрошилова Н. В. «"Идеи I"
Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию. М., 2003. Раздел:
«Проблема объективирования идеального» (Гуссерль / Деррида)».
С. 554-557.
364
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
от гегелевской логики еще добавляется — в качестве
принципиально важного, неискоренимого, специфического элемента —
постоянное обращение к сознанию, его исследование и очищение в
каждом шаге анализа. Грань между феноменологией и логикой
Гегель мыслит как резкую и окончательно преодоленную. Что
касается Гуссерля, то его феноменология «переливается» в логику
весьма плавно и как раз в рассмотренном пункте — в «момент
появления» предметностей как родовых единств, почему Гуссерль и
поспешил указать: мы уже стоим в сфере (Bannkreise) чистой
логики.
Изменится ли способ работы, когда анализ переступит
указанный рубеж? Это и предстоит выяснить, когда мы обратимся
непосредственно к учению о предметностях. Второй раздел второго
тома «Всеобщие предметы и сознание всеобщности» в
упомянутой ранее отечественной литературе о ранней феноменологии
описывался главным образом в связи с гуссерлевской критикой
традиционных теорий абстракции. Отсылая читателя к этой
литературе, я очень кратко остановлюсь на самых существенных
позитивно-конструктивных элементах гуссерлевского анализа в
данном разделе.
Гуссерль различает идеальные (spezifischen — от Spezies —
родовые) и индивидуальные (или реальные) предметы. «Это как раз
такой пункт, в котором релятивистский и эмпирический
психологизм отличается от идеализма, представляющего единственную
возможность внутренне согласованной теории познания.
Естественно, речь идет об идеализме не как о метафизической доктрине,
но о форме теории познания, которая вообще признает
идеальное как условие возможности объективного познания и не
толкует его психологически» (S. 107—108). «Спускаясь» к уровню актов
переживания, Гуссерль постулирует, что всеобщие предметы
«даны» нам в совершенно иных актах, нежели «индивидуальные
предметы» (S. 108).
Имеют место два вида полагания (Meinens): индивидуальное
(акт, в котором имеются в виду те или иные вещь, признак, часть
вещи) и видовое полагание, когда в сознании проявляется вещь,
признак и т.д., но мы «мним» не это предметное, не это «здесь» и
«теперь», а его содержание. Например, в первом случае мы можем
полагать какую-либо красную вещь, а во втором — само красное
(das Rot) как всеобщий предмет (S. 109). «Как и все
фундаментальные логические различия, это является категориальным. Оно
принадлежит к чистой форме возможных предметностей сознания
как таковой» (там же).
Логические исследования Гуссерля и современность 365
В определенной степени включаясь в спор номинализма и
реализма (S. 100), Гуссерль отстаивает идею о том, что о всеобщих
предметах говорить можно, нужно — даже невозможно не
говорить. Для нас важно тут проводимое Гуссерлем дальнейшее
различение: «Различию индивидуальных и родовых (spezifisches)
единичностей соответствует не менее существенное различение
индивидуальных и родовых всеобщностей (универсалий). Это
различие прямо переносится на область суждений и на всю
вообще логику: единичные суждения распадаются на
индивидуально-единичные (Сократ — человек) и родовые-единичные (2 —
четное число; круглый квадрат — понятие, противоречащее
смыслу); универсальные суждения подразделяются на
индивидуально-универсальные (все люди смертны) и
родовые-универсальные (все аналитические функции дифференцируемы, все чисто
логические предложения априорны)» (S. 111).
Теперь мы, действительно, подошли к тем пунктам, которые и
составляли цель всего предшествующего феноменологического
анализа: во-первых, вычленение предметности, во-вторых,
вычленение из предметности всеобщих предметов и, в-третьих,
последующий весьма тонкий анализ, выявляющий сложные
различения всеобщей предметности. По существу здесь начинается
анализ «эйдетических» — родовых, сущностных — единств,
впоследствии перерастающий в тщательно анализируемую (в последнем
разделе первой части второго тома и во второй его части)
проблематику «усмотрения сущности», интуиции сущностей, идеи-
рующей абстракции (в общей модели чистого сознания — пункт
7).
Феноменология у Гуссерля переливается в логику вместе с
введением и проработкой категориальной структуры единства —
тождества—значения, или «единства рода». О единстве рода,
настаивает Гуссерль, можно говорить в собственном, а не
переносном смысле. И это не простое равенство, ибо и в случае уравнения
приходится ведь уже иметь в виду «отношение предметов,
которые принадлежат к одному и тому же роду» (S. 113). Значит, само
уравнивание опять-таки требует восхождения к тождеству
родового. Вместе с тем в гуссерлевском анализе тождество, единство
рода опять разъясняется в противоположность многообразию
поля переживаний. Осуществляя сравнение, устанавливая
равенство, мы, по Гуссерлю, осуществляем два вида интенции: а) «наша
интенция — в случае, когда мы в созерцании схватываем в
единстве какую-либо группу объектов в качестве одинаковых или
когда мы в отдельных актах сравнения познаем равенство
определенного объекта другому отдельному объекту и, наконец, всем
366
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
объектам данной группы» (S. ИЗ—114); б) «наша интенция — в
случае, когда мы, возможно, даже на основании тех же
созерцательных оснований, понимаем в качестве идеального единства
атрибут, представляющий собой измерение (аспект), которым
осуществляется сравнение, уподобление» (S. 114). Два этих вида
интенции, настаивает Гуссерль, «целиком различны» (там же).
Сколько бы объектов ни попадало во втором случае в поле
созерцания, актов сравнивания, не они полагаются интенцией.
«Полагаемо «всеобщее», идеальное единство, а не это отдельное и
многое» (там же). Интенциональному различию, согласно Гуссерлю,
соответствует и различие психологическое. Так, во втором случае
вообще не обязательны ни созерцание равенства, ни даже само
сравнение. Когда я, говоря о белом листе бумаги, начинаю иметь
в виду, «мнить» (meinen) белое как таковое (Weiße überhaupt) и
стремлюсь именно последнее, т.е. единство рода, привести к
ясности, я могу «отвлечься» и от данного созерцания, и от
сравнивания белых предметов.
Помогает ли усмотрению родовых единств возможность
помыслить обширный объем предметов того же рода? Гуссерль
считает данное обстоятельство несущественным. Пусть бы мы
перебрали множество чисел или нарисовали множество
треугольников — «сколь мала возможность найти в реальном мире число
вообще, треугольник вообще, столь мала и возможность» (S. 115) из
увеличения объема отдельных случаев получить всеобщее. Но
Гуссерль здесь имеет в виду еще и другую мысль: «Очевидно, что
любая попытка истолковать бытие идеального как возможное
бытие реального должна потерпеть крах потому, что сами
возможности опять-таки суть идеальные предметы. Так же, как в
реальном мире не могут быть найдены числа вообще, треугольники
вообще, так и не могут быть найдены и возможности» (S. 115).
Ибо, дело, согласно Гуссерлю, состоит в том, что «уловить»
всеобщее можно с помощью принципиально иной интенции,
нежели интенция на индивидуальное, сколь бы много
индивидуальностей одного и того же рода мы последовательно ни имели в
виду. Да к тому же ведь реально перебрать весь объем — дело
невыполнимое.
Читатель уже, конечно, понял, что Гуссерль различением двух
видов интенции подготавливал почву для критического
опровержения классической теории абстракции, в рамках которой
«всеобщее», родовое единство, тождество нередко сводилось к
простому наблюдению подобия и его эмпирическому
усмотрению в достаточно большом количестве случаев. Отвергая
«метафизическое гипостазирование всеобщего» (его суть: утверждение
Логические исследования Гуссерля и современность 367
о «реальном существовании рода вне мышления» — S. 121), о чем
ранее уже шла речь, Гуссерль не приемлет и «психологического
гипостазирования всеобщего», суть которого в утверждении
«реального существования рода в мышлении» (S. 122).
Из двух сторон намеченной здесь Гуссерлем дихотомии —
классического (платоновского и всякого иного) реализма и
«концептуалистического номинализма», толкуемого как один из
видов психологического гипостазирования, подробнейшим образом
разбираются теории абстракции Дж. Ст. Милля, Локка, Беркли,
Юма, «современных» Гуссерлю концепций. Этот материал
приходится оставить в стороне, сохраняя в последующем изложении
лишь те моменты, которые важны для собственной гуссерлевской
концепции всеобщих предметов.
Перейдем к уже упомянутому ранее третьему разделу первой
части второго тома ПИ — «Учение о целом и части», усиленно
рекомендованному, как мы помним, Гуссерлем в качестве
«вводного» чтения для понимания феноменологии. Он тесно примыкает
ко всему предшествующему вычленению и анализу
предметности, однако имеет дальнейшей и специальной целью создание
«чистой (априористской) теории предметов как таковых, в рамках
которой будут рассматриваться такие идеи — принадлежащие к
категории предмета — как целое и часть, субъект и свойства,
индивидуум и род, род и вид, отношения и конгломераты
(Kollektion), единство, численность, ряд, порядковое число, величина и
т.д., а также будут обсуждаться соответствующие априорные
истины, связанные с этими идеями» (LU. Bd. П, I. S. 225).
Категориальные формы, о которых упоминает Гуссерль, объединяя их
вокруг «категории предмета», «чистой предметности», вводились,
интерпретировались в философии и ранее, например в
гегелевской логике. Почти в духе Гегеля Гуссерль разъясняет, что его
систематическая концепция «предметности» не имеет ничего
общего ни с простой «систематикой вещей», ни с системой
традиционной формальной логики, но является особым
«исследованием, разъясняющим проблемы познания» (erkenntnisklärende
Forschung), а одновременно частью новой онтологии (Ibid. S. 226).
(Заметим это и затем специально обратимся к вопросу о
специфике гуссерлевского понимания единства новой логики,
гносеологии, онтологии — в частности, по сравнению с гегелевской
трактовкой единства логики, теории познания и онтологии.)
Первые позитивные категориальное характеристики «чистых
предметов» даются Гуссерлем благодаря различению
«самостоятельных» и «несамостоятельных» предметов, или содержаний. Из
подробных достаточно интересных разъяснений автора ПИ пре-
368
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
жде всего вычленим главную, как представляется, и уже знакомую
нам цель автора: научить читателя мыслить не обыденно,
житейски, а феноменологически, ибо ведь рассуждать надо, согласно
Гуссерлю, об «априорных» — то есть всеобщих, необходимых —
особенностях «чистых предметов». Так, говоря о частях предмета,
люди обычно имеют в виду нечто «самостоятельное» — что-то
вроде «кусков» (Stücke), которые можно обособить, отделить и т.
д. Гуссерль разъясняет, что «часть» в феноменологическом смысле
— более широкое и специфическое понятие. «Понятие часть мы
понимаем в самом широком смысле, который позволяет называть
частью все, что может быть различено «в» предмете, или, говоря
объективно, «налично» в нем. Часть — это все, что предмет
«имеет» в смысле «реального» (realen), или лучше, осуществимого
(reellen), в смысле того, что принадлежит к его действительно
структурирующим моментам, — и речь идет о предмете в себе и
для себя, следовательно, в абстракции от всех связей, в которые он
включен» (Ibid., S. 228).
Гуссерль отнюдь не возражает против обыденного толкования
целого—части и не умаляет его практическую значимость.
Реально отделять, обособлять части предметов можно и нужно, однако
следует понять, что и в практической жизни это возможно лишь
по отношению к особой категории реальных предметных
образований — их Гуссерль соотносит с «самостоятельными
предметами» (selbstständige Gegenstände) сознания. Более всего Гуссерля,
однако, интересуют «несамостоятельные предметы», в связи с
которыми ставятся особые — для «феноменологии предметности»
отправные — проблемы. Имеются «предметные» характеристики,
свойства, которые как «отдельные», «самостоятельные» вещи не
существуют, хотя они имеют лишь вещественно-материальный
способ существования, воплощения. Познание человека
оперирует со множеством «предметов», точнее, предметных содержаний,
которые по самой своей сути идеальны, хотя тоже имеют какие-
либо материальные формы воплощения (в знаках, словах языка и
речи; в актах сознания; они «материализуются» через поступки,
действия людей и через объективированные формы духовной
культуры).
Примером «несамостоятельных» предметов первого типа в
гуссерлевском исследовании становятся многократно
обсуждавшиеся в истории философии «первичные» и «вторичные»
качества (протяженность, фигура, цвет и т.д.). (В связи с данной
проблематикой Гуссерль вспоминает о споре Беркли с Локком —
S. 29, а из «новейших» тогда авторов ссылается на А. Мейнонга —
S. 234 и Штумпфа — S. 230, 232—233 и другие.) Проблема «ка-
Логические исследования Гуссерля и современность 369
честв» затрагивается Гуссерлем только в соответствии с логикой
феноменологического изыскания. Прежде всего для него важно,
что в связи с этой проблемой уже обсуждался вопрос о специфике
«несамостоятельных содержаний» предметов, и Гуссерль не
просто хочет углубить, продолжить исследование, а перевести его на
феноменологические рельсы. Что это означает? Немаловажно
уже и то обстоятельство, что особые содержания сознания
названы именно «предметами», причем не случайно употребляется
немецкое слово Gegen-stand, буквально означающее «то, что
противостоит ...».
Ни на минуту нельзя упускать из виду, что Гуссерль исследует
предметности сознания. Специальной же проблемой в данном
шаге анализа становится многообразие «бытийственных»
характеристик предметов сознания. Ибо «самостоятельные» предметы
отличаются от «несамостоятельных» именно своим бытийствен-
ным статусом. Гуссерль пишет о самостоятельных предметах:
«Очевидно, имеется в виду возможность представлять предмет
как нечто для себя сущее, в своем наличном бытии
(Dasein) по отношению к другому самостоятельному. Какая-либо
вещь или часть (кусок — Stück) вещи может быть представляема
для себя. Это значит: она есть то, что она есть, даже если бы вне ее
все превратилось в ничто; если мы ее представляем, то мы вовсе
не обязательно будем указывать на другое, в чем или с чем она
связана, по милости чего, так сказать, она существует; мы
можем представить себе, что она существует для себя, одна — и вне
ее нет ничего. Если мы представляем ее себе в созерцании, то
вместе с нею может быть дана связь, схватываемое целое — и это даже
неизбежно. Визуальное содержание «голова» мы не можем
представить без фона (Hintergrund)21, на котором она выделяется.
Но такая не-возможность (Nicht-Können) — совсем другая,
нежели та, которая определяет несамостоятельные содержания.
Если мы придаем визуальному содержанию «голова» значение
самостоятельного, то мы имеем в виду, что она, несмотря на
неизбежную данность вместе с фоном, или задним планом, может
быть представлена как для-себя-сущая и соответственно может
созерцаться как для-себя, как изолированная» (LU. Bd. II, I. S. 238).
Гуссерль далее поясняет, что в описанной ситуации восприятия
его интересует не чисто онтологическая и не чисто субъективная
сторона дела. Скажем, применительно к общей проблеме бытия
21 Мысль о «со-данности» (Hintergrund) в восприятии, созерцании —
зародыш гуссерлевской идеи горизонтности.
370
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
независимо от познания материального мира голова человека
могла бы скорее считаться чем-то «несамостоятельным»: ведь она
— часть живого человеческого тела. Но читатель, должно быть,
обратил внимание, что Гуссерль обсуждает вовсе не эту
проблему. Его занимает другой вопрос: как сознание представляет себе
(здесь: «визуально представляет») «предметы», подобные голове
человека. А вот здесь, действительно, для сознания открывается
возможность представить себе именно голову как нечто особое,
«самостоятельное», в сущности, «оставляя в стороне» в качестве
горизонта целое — все человеческое тело. Так Гуссерль проясняет
понятие «самостоятельного предмета» (соответственно
самостоятельной части) в феноменологическом смысле, которое (что можно
заметить) вырабатывается не по аналогии с отношением части —
целого в мире вещей, но в какой-то мере в противоречии с таким
отношением. Ему важно, что, так сказать,
объективно-онтологические, объективно-реальные предпосылки (это мое
определение), иными словами, реальное существование и реальная обо-
собляемость предметов, их частей совершенно особым образом
запечатлеваются в сознании, влияют на возникновение неповторимых
структур последнего.
Что же, согласно Гуссерлю, происходит с сознанием, когда оно
представляет, с одной стороны, самостоятельные, с другой
стороны, несамостоятельные предметы? Для феноменологии
существенно, что в сознании запечатлевается «объективно-
идеальная необходимость того, что не может быть
иным (objektiv-ideale Notwendigkeit des Nicht-anders-sein-kön-
nens). А это по своей сути принадлежит к данности в сознании
аподиктической очевидности. Если мы остановимся на высказываниях
этого сознания, то должны установить: к сущности такой
объективной необходимости коррелятивно принадлежит каждый раз
определенная чистая закономерность. Прежде всего, вообще
очевидно, что объективная закономерность равнозначна с бытием
на основе объективной закономерности.
Единичная индивидуальность «для себя» в своем бытии случайна. Она
необходима постольку, поскольку включена в закономерные связи»
(S. 239—240). Гуссерль не устает подчеркивать: необходимость,
закономерность, которую он имеет в виду и стремится исследовать,
не имеет ничего общего с «законами природы», изучаемыми
естествознанием (последние и здесь, как и в первом томе, названы не
«сущностно-априорными», «идеальными», а «эмпирическими»
необходимостями, законами — ibid.). Итак, предполагается
устанавливать «сущностные», «идеальные», «априорные»
закономерности — необходимости, касающиеся предметов. Но это и пред-
Логические исследования Гуссерля и современность 371
меты, и необходимости, которые «чистым» (сущностным,
априорным) образом выделяются. Каковы же данные закономерности?
«Необходимости, соответственно законы, которые определяют
какие-либо классы несамостоятельных предметностей (Unselbst-
ständigkeiten), коренятся <...> в существенной особенности
содержания, в их своеобразии; говоря точнее, они коренятся в
чистых родах, видах, различиях, под которые подпадают
в качестве случайных единичностей соответствующие
несамостоятельные и дополняющие содержания». Если мы мыслим о
совокупности таких идеальных предметов, то имеем благодаря
этому совокупность чистых «сущностей», Essenzen всех идеально
возможных индивидуальных предметностей (Existenzen). Этим
сущностям соответствуют далее «содержательные
понятия», соответственно предложения, которые резко отличаются
от «только формальных» понятий и предложений,
свободных от всякой «содержательной материи». К последним
понятиям принадлежат формально-логические и к ним имеют
существенное отношение формально-онтологические категории, о которых
шла речь в заключительной главе Пролегоменп; такие из них
вырастающие синтаксические образования, как нечто и одно,
предмет, свойство, отношение, связь, множество, численность, порядок,
порядковое число, целое, часть, величина и т. д., имеют совершенно
иной характер, чем понятия дом, дерево, цвет, звук, пространство,
ощущение, чувство и т.д., которые со своей стороны выражают
содержание. В то время как первые вообще группируются вокруг
идеи нечто, или предмета, и связанных с нею формальных
онтологических аксиом, вторые упорядочиваются вокруг различных
высших содержательных родов {материальных категорий), в
которых коренятся материальные онтологии. Это кардинальное
различение между «формальными» и «содержательными», или
материальными сущностными сферами дает подлинное различие
между аналитически-априорными и синтетически-априорными
дисциплинами, соответственно между законами и необходимостями»
(S. 251—252).
Прежде чем будет рассмотрено уточняющее различение
аналитически-априорного и синтетически-априорного (где Гуссерль
и примыкает к Канту и отходит от него), целесообразно оценить
проблемный смысл рассуждения о самостоятельных и
несамостоятельных предметах, а также об онтологическом аспекте
логики. Гуссерль, как видно из сказанного, пытается осмыслить раз-
Имеется в виду первый той ЛИ.
372
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
личный «бытийсгвенный статус» двух основных предметных
образований — отдельно, «обособленно» данных (или
допускающих возможность такого обособления) вещей, предметов,
вещественных целостностей — и предметно, вещественно
«реализующихся» свойств, состояний, проявлений, никогда не
выступающих в виде обособленных (или обособляемых) вещей, предметов.
(Гуссерль в общем и целом соотносит свое различение с
отношением абстрактного-конкретного, хотя предпочитает употреблять
термины «самостоятельные» и «несамостоятельные» предметы.
См.: Ibid., S. 248.)
Понятно, что в теоретико-методологическом отношении речь
идет о существенном содержательном аспекте проблемы,
имеющей к тому же значение для практики, для науки. И не случайно
в истории развития науки возникали конкретно-научные и
философские споры о формах «быгийственности», которые были
особенно острыми и часто запутанными в случае
«несамостоятельных» предметностей. И они, эти споры, всегда останутся
актуальными для науки. Физика или химия изучает не «особые»,
«самостоятельные» («физические», «химические») предметы;
даже физические или химические «явления» как «самостоятельные»
предметы-целостности — наряду с другими предметами — не
имеются, не «бытийствуют». Несколько иное, но тоже довольно
сложное и противоречивое положение складывается в науках,
которые, подобно биологии, наблюдают, описывают, изучают
относительно «самостоятельные», доступные обособлению
вещественные образования — организмы, органы и т д. Но наукой
биология становится тогда, когда она переходит к осмыслению
законов биологического, а последнее, конечно же, является
«несамостоятельной», «абстрактной» предметностью.
Что нового стремится внести Гуссерль в постановку и
обсуждение этого важного, всегда актуального вопроса? Какова
особенность его позиции по сравнению с уже имевшимися в истории
философии размышлениями о «бытии» материального и
идеального? Гуссерль, по моему мнению, поступает верно, когда столь
занимавший философов прошлого спор о первичных и
вторичных качествах делает лишь стороной, аспектом более общей
проблемы — форм «бытийственности», в чем он, того не замечая,
опять-таки идет по стопам Гегеля. Можно прежде всего заметить,
что категории, с которыми Гуссерль предполагает работать в этой
части феноменологической логики (вещь, предмет, свойство,
отношение, целостность, единство, число, величина и т.д.),
встречаются и в гегелевской логике бытия (хотя в последней категории
ветвятся более многообразно и порядок в ней иной, чем у Гуссер-
Логические исследования Гуссерля и современность 373
ля). С гегелевским пониманием гуссерлевский подход сближает и
то, что логико-гносеологический замысел тесно объединен с
онтологическим, причем второй явно подчинен первому и является
его стороной. Однако специфику позиции Гуссерля лучше всего
пояснить как раз через ее отличение от гегелевской.
Для Гегеля при создании логики (и прежде всего «логики
бытия», где начинается конкретнейшее обсуждение проблем «бы-
тийственного статуса» различных вещественно-предметно
воплощенных целостностей, свойств) не только весьма важной
предпосылкой, но конструктивным принципом является
предположение (и расшифровка) тождества общих диалектических форм,
определяющих законы «бытийствования» вне мысли и «бытийст-
вования» духовно-мыслительных образований. В
формирующейся феноменологии Гуссерля — при введении весьма тонких «бы-
тийственных» аспектов сознания — заведомо принята и по
большей части конструктивно развивается иная предпосылка: следует
отказаться от предположения и поиска тождества структур
«внешнего» бытия, бытия вещей и «бытийственных» структур
сознания.
В соответствии с этим гуссерлевская онтология даже в ее
раннем варианте отличается от гегелевской тем, что она соотносится
не просто с формами объективированных, теоретически
объединенных мыслей (по идее Гегеля, точно воспроизводящих «бытий-
ственные» формы предметностей), а сообразуется прежде всего с
«чистым» сознанием, поскольку оно выражает себя через знание и
достигает объективных познавательных ' результатов. Онтология
Гуссерля — исследование «бытийственных» данностей, результатов,
форм такого сознания. Для гуссерлевской онтологии, что было
видно из ранее приведенных высказываний, разделение
самостоятельных и несамостоятельных предметов порождает деление
на «материальную» и «формальную» онтологии. Первая
исследует (в более поздней феноменологии чаще говорится:
конституирует) онтологические аспекты, связанные с полаганием в
сознании таких «самостоятельных» предметов, как дом, дерево, звук,
пространство и т.д.; вторая обращается к предметностям,
полагаемым через «синтаксические образования» типа нечто и одно,
предмет, свойство, отношение, число, целое, часть и т.д.
Можно было заметить, что различение «самостоятельные —
несамостоятельные предметы», подобно всем другим важнейшим
различениям феноменологической логики, в свою очередь
разбивается на целую группу более конкретных предметных — ноэма-
тических — различений. В сознании, точнее в его объективациях
через знания (выражения) и переживания, выявляются, вычленя-
374 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ются и описываются абстрактные типы предметностей, всеобщно-
стей (эйдосов) разного типа. Иногда поверхностно мыслящие
авторы пренебрежительно относятся к применяемому в
феноменологической логике и феноменологии методу описания всеобщего
— одному из центральных методов, которые были введены
Гуссерлем уже с начала его работы в философии и достаточно
последовательно сохранялись в поздних произведениях. По моему
мнению, упреки в эмпиризме тут неуместны. Метод описания
абстрактных объектов принадлежит к числу наиболее
эффективных в науке, особенно современной. Им пользуются математика,
физика, он успешно «работает» в теории и практике
программирования. Гуссерль одним из первых в. XX в. ввел методику
усмотрения и описания сущностей, прозорливо почувствовал, что
методу принадлежит большое будущее. Мне представляется, что
для ряда современных дисциплин, где (как в концептуальном
программировании) для работы требуются наиболее подробные
описания объектов, их типов, видов и подвидов, а также
связывающих их логических связей, была бы очень полезной самая
полная экспликация гуссерлевских различений, интенций
значения, предметностей.
Но вернемся к ходу гуссерлевского анализа. Как было сказано,
как раз на пути анализа самостоятельных—несамостоятельных
предметов Гуссерль мыслит прояснить далее различение
аналитически-априорного и синтетически-априорного.
Пример аналитических всеобщностей: целое не может
существовать без частей; или: короля, господина, отца не может быть,
если нет подданных, слуг, детей и т. д. Здесь речь идет о такой связи
между «самостоятельными предметами» (по терминологии
Гуссерля), когда одно коррелятивное понятие скрыто или явно
«мыслится» в другом. Иной вид имеют, по Гуссерлю, положения,
которые связывают «несамостоятельный» предмет с
«самостоятельным» например: цвет не может быть без чего-то, что
окрашено, и т.д. Хотя цвет тоже «немыслим» без чего-то окрашенного, но
в понятии окрашенного предмета цвет «автоматически» не по-
мыслен. Такие положения Гуссерль считает примером
синтетических априорных положений (см.: Ibid., S. 252,253).
Итак, принимая кантовское различение и одобряя его как шаг
на пути к выделению «априористских онтологии» (S. 256),
Гуссерль, вместе с тем в отличие от Канта, жестко соотносит
априорные аналитические высказывания с установлением всеобщностей
относительно самостоятельных предметов, а синтетические — с
увязыванием воедино самостоятельных и несамостоятельных все-
Логические исследования Гуссерля и современность 375
общностей 23. (Соответственно и примеры обоих видов
высказываний у Канта и Гуссерля, как может заметить читатель,
существенно различны.)
Структура движения анализа самостоятельных и
несамостоятельных предметов через момент аналитико-синтетических
положений к более общей проблематике целого = части может быть
суммирована следующим образом.
Гуссерль «нисходит» к уровню А — к переживаниям
(соответственно выражениям) самостоятельных предметов. Порою — речь
снова заходит о «физических» отношениях части и целого в
самом предметном мире. Так, Гуссерль рассматривает связь между
мелодией как целым и составляющими ее звуками
(совокупностью звуков) как ее частями (S. 270—271), однако именно с целью
повернуть внимание к феноменологической стороне дела. Если
мы говорим, например, о качестве (т. е. говорим об «идеальном»
свойстве, по терминологии Гуссерля — о «несамостоятельном»
предмете как «части» целого), то «физические» части (отдельные
ноты с их высотой, интенсивностью и т. д.) могут быть, конечно,
приняты во внимание, однако требуется осуществить иное, чем в
первом случае, взаимоотнесение «целого» и «частей». Опять-таки
движение от «физической» предметности к несамостоятельным
предметам осуществляется не сразу, а через первое выделение и
анализ самостоятельных предметов сознания. На этом пути
сформулированы Гуссерлем «аналитически необходимые
положения» типа: «Существование этого дома подразумевает
существование его крыши, стен и иных частей», где по отношению к
данному виду предметов устанавливается закономерность
соотношения частей и целого ^- согласно аналитической формуле:
существование целого J (а, ß, у...), вообще включает
существование его частей а, ß, у... (S. 255).
Различения, которые даются на аналитическом уровне,
например, таковы.
1. Между двумя частями целого имеется отношение
фундирования. Оно бывает:
а) взаимным (например, окраска и протяженность вещи — эти
несамостоятельные предметы — фундируют, обосновывают друг
друга взаимно),
б) односторонним (характер суждения, по Гуссерлю,
односторонне фундирует соответствующее представление).
23 Далее вводится также различие между аналитическими и
синтетическими законами (S. 254—256), что приходится оставить в стороне.
376
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Фундирование, далее, может быть:
а) непосредственным;
б) опосредованным.
«Порядок опосредуемости и непосредственности
закономерно коренится в чистых родах. Например,
родовой момент «цвет» (и совсем другим образом момент
«светлое») реализуем только в или благодаря моменту более низкого
различения, например красное, голубое и т. д. < ... > Совершенно
очевидно, что законы связи, которые принадлежат к
опосредованному фундированию, являются аналитическими и
представляют собой следствия, выводимые из тех, которые относятся к
непосредственному фундированию» (S. 266)24.
Наиболее интересная для Гуссерля проблема — установление
отношения части и целого применительно к несамостоятельным
предметам. Здесь, кстати, сразу становится проблематичным, что
вообще следует понимать под «частью», — тема, которую
Гуссерлю пришлось наметить уже при определении, введении
несамостоятельных предметов. Далее он анализирует ее весьма
тщательно.
Тщательность анализа «имманентных», структурных
отношений целого и части в ЛИ, что было очень важно для Гуссерля, все-
таки нашла высокую оценку и теоретическое продолжение в
философии XX в. — в частности в некоторых ответвлениях
структурализма (концепция Р. Якобсона и его последователей).
Снова подведу итог гуссерлевского размышления в виде схемы
движения феноменологического анализа.
24 В данном контексте Гуссерль, кстати, развертывает целый веер
различений, формулирует целую группу логических закономерностей,
которые на первый взгляд могут представляться чересчур детальными,
однако, как мне кажется, они именно в их детальности могут иметь большой
и актуальный интерес для тех, кто в практической или теоретической
деятельности сталкивается с потребностью в проработке логики
сознания, поскольку оно осваивает многообразные по характеру отношения
целого и части (например, «близкое» и «далекое» отношение частей в
целом, S. 268—273); их объединение в цепь — Verkettung, S. 274—275;
отличение Inbegriff, ein bloßes Zusammen-Sein, т. е. внешнего конгломерата,
простого вместе-бытия от целостности как таковой — S. 282—284, и т.д.).
Особо интересным и актуальным в контексте априорно-аналитических
форм и законов является выделение Гуссерлем типа, формы мышления
(и познания), которую он называет «формализирующей абстракцией»
(S. 284 ff.).
Логические исследования Гуссерля и современность 377
Схема 4.
>б2
>б3
си
3
со
1
в
ю
о
Б. Родовые все-^
общие
предметы (корреляты
высказываний
типа: «все
аналитические
функции
ференцируемы»)
А.
Индивидуально-
всеобщие
предметы
(корреляты
высказываний типа:
«Все люди
смертны»)
Интенция на т Несамостоятелъ- f4 Часть и целое, за-
родовые- ные предметы в
всеобщие противовес
самопредметы в стоятельным
противовес, предметам
много- Ч I сознания
образию
интенций
на
индивидуально-
всеобщее в
противовес
ab и ai
ai -
Интенция
на
индивидуально-
всеобщее в
противовес
интенции на;
индиви- \
дуально-
единичные
предметы
(коррелят
суждений
типа:
«Сократ —
человек»)
аЧ
а2
Самостоятельные
предметы
сознания в противовес
реальным вещам
вне сознания
ab
коны их связи в
отношении к
несамостоятельным
предметам и к
пересечению
несамостоятельных с
самостоятельными (априорно-
синтетические
законы) в
противовес чистым
законам связи самог
стоятельных
▼ предметов ^
аз
Часть и целое,
законы их связи в
отношении к
самостоятельным
предметам
сознания (априорно-
аналитические
законы) в
противовес физическим
отношениям
части и целого
В этой схеме есть пунктирные стрелки, означающие
«нисхождение» феноменологии и феноменологической логики к уровню
«чистых» (и в возможности — эмпирически-психологических)
переживаний. Однако как раз от последней схемы и ее части бз
можно было бы устремить стрелку не только «вниз к
переживаниям, но и «вверх» — к еще большей «чистоте» анализа, к
некоему «сверх-логическому» уровню. Тогда мы получили бы поле
исследования, которое выполняется Гуссерлем в четвертом разделе
первой части второго тома ЛИ — «Различие самостоятельных и
несамостоятельных значений и идея чистой грамматики». В
дальнейшем развитии концепции самого Гуссерля эта часть не нашла,
378
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
если судить по имеющимся материалам, непосредственного
продолжения, почему можно считать, что это была своего рода
побочная линия по отношению к феноменологии и ее логике.
Однако вместе с учением о целом и части как раз это ответвление,
впоследствии весьма высоко оцененное, стало точкой роста и для
лингвистической феноменологии, и некоторых других
философского и логико-лингвистических направлений XX в. [IX].
Смысл его Гуссерль определяет следующим образом: «Внутри
чистой логики имеется сфера отвлеченных от всякой
предметности законов, которые, в отличие от логических законов в обычном
и точном смысле, можно было бы с полным основанием
обозначить как законы чисто логической грамматики. Еще лучше
сказать, что мы противопоставляем и предпосылаем учению о
чистых формах значений (Bedeutungen) учение о чистой значимости
(Geltungslehre) значений» (S. 295).
Четвертый раздел как бы завершает тщательное исследование
предметности сознания в связи со значением, а также
исследование значения [VIII, IX] (пункты 3 и 5 в общей модели чистого
сознания, уровень Б в наших более конкретных схемах). Далее
феноменологический анализ переливается в более подробное
выявление процессуальных, связанных с «чистым переживанием»
аспектов феноменов, аспектов сознания (пункты Ф—6 общей
модели, уровень А в схемах). Заключительный раздел первой части
второго тома ЛИ называется «Об интенциональных
переживаниях и их содержании». Общий смысл данного раздела частично
освещался в философской литературе (в том числе в работах автора
этих строк). Однако на уровне современного критического
анализа феноменологии требовалось бы и данный раздел (как и вторую
часть второго тома) исследовать хотя бы с той же мерой
подробности, с какой это было сделано по отношению к
предшествующим частям ЛИ. Но отложу подробный анализ следующих далее
текстов ЛИ до другой публикации25.
Пояснения к тексту
I. Феноменологически ориентированная философия языка начала
разрабатываться еще до второй мировой войны. Отталкиваясь от
работ Э. Гуссерля, М. Хайдегтер создал свою философию языка. Почти
одновременно Пражский кружок лингвистов под руководством
25 Post scriptum 2004 года. «Другая публикация», посвященная интенцио-
нальности, появилась позже — в журнале «Вопросы философии». 2000.
№ 4. Более современную версию см.: Мотрошилова И.В. «Идеи I» Эдмунда
Гуссреля как введение в феноменологию. М, 2003. С. 444—457.
Логические исследования Гуссерля и современность 379
Р. Якобсона, отправляясь от ряда разделов второго тома ЛИ (с ними
Якобсон познакомился еще в России в 1915 г), стал утверждать идеи
«феноменологическою структурализма» в лингвистике. Членами
кружка были чехи Mathesius, Havrânek, Mukafovsky и русские
Трубецкой, Богатырев и другие. В центре их работы стояли проблемы
фонологии, морфологии, поэтики, истории славянских языков и
литератур. Философская концепция языка была четко ориентирована
на гуссерлевскую феноменологию (см. далее [IX]). Ученик Р.
Якобсона М. Halle (США) развивал в лингвистике идеи «генеративной
феноменологии». Из других последователей Гуссерля, до второй
мировой войны начавших разрабатывать философские проблемы
лингвистики, здесь следует упомянуть X. Поса (см.: Phénoménologie et
linguistique // Rev. Internationale de philosophie. 1939. N 1. P. 354—
365); А. Гурвича (см.: Psychologie du language // Rev. philos, de la
France et l'étranger. 1935.120. P. 399—439); Л. Ландгребе (Neunfunktion
und Wortbedeutung. Halle, 1934); Б. Яковенко, Г. Шпета. После войны,
особенно в 50—60-е гг., феноменология языка как философская
дисциплина развивалась главным образом в русле экзистенционалист-
ской феноменологии Хайдеггера и Ж.-П. Сартра. Затем более
мощное влияние оказывают те концепции герменевтики, которые,
подобно учению П. Рикёра, также коренятся в гуссерлевской
феноменологии (по этому вопросу см. работы А. Михайлова, Т. Клименко-
вой и М. Кулэ). Интересна линия развития феноменологической
философии языка у М. Мерло-Понти (Merleau-Ponty M. Sur la
phénoménologie du language Paris, 1952; 1960; см.: Waldenfels B. Die Offenheit
sprachlicher Strukturen bei Merleau-Ponty // Internationales Jahrbuch
fur Religionssoziologie. 1975. Bd. 9. S. 91—102). С 30-х гт. и до сего
времени феноменологическая лингвистика развивается также в русле
феноменологической социологии (см. далее [VI]). В послевоенный
период связь феноменологии Гуссерля, его последователей и
философии языка исследовали: X. Хюльсман (Hülsmann H. Zur Theorie der
Sprache bei Edmund Husserl. München, 1964); К. Кюнг (см. далее [VIII]);
Т. Де Боер (Boer Th. de. Das Verhältnis zwischen dem ersten und der
zweiten Teil der «Logische Untersuchungen» Edmund Husserls // Sag-
gue Filosofici. N 27); Э. Холенштейн (см. [IX]); Г. Шпигельберг; Р. Раг-
гуинти (Ragguinti R. The language problem in Husserl's phenomenology
// Analecta Husserliana. Dordrecht; Boston; London, 1981. Vol. 11. P.
225—227); Ж. Деррида (Le voix et le phénomène. Paris, 1967).
Американские феноменологи (A. Гурвич, Г. Дрейфус, 3. Адамчевский)
«берут контекст языка в широком смысле и поворачивают внимание к
поведенческому и экзистенциальному фундаменту, от которого и
происходит значение, смысл» (Edie ]. M. Introduction / /
Phenomenology in America: Studies in the philosophy of experience. Chicago, 1967. P.
13).
380
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
II. Необходимость обращения к ЛИ для отечественной
философии — особая. Первый том этой работы Э. Гуссерля был, хотя и с
опозданием, переведен на русский язык (см.: Гуссерль Э. Логические
исследования. Ч. 1. Пролегомены к чистой логике. СПб., 1909. К
сожалению, перевод в свете современных знаний о феноменологии
устарел и нередко требует корректировки). Второй том (в двух частях)
так и не был в целом издан в русском переводе. Некоторые
фрагменты переведены в приложении к книге «Проблемы онтологии в
современной буржуазной философии» (Рига, 1988). Дореволюционный
русский философ Б. Яковенко дал описание проблем и понятий
второго тома ЛИ (см.: Яковенко Б. В. Философия Э. Гуссерля // Новые
идеи в философии. Сб. 3. Теория познания. I. СПб., 1913. С. 74—146).
Пользующиеся этим изложением должны учитывать, что, будучи
детальным в одних случаях, в других оно сугубо фрагментарно, а
потому не дает точного воспроизведения последовательности
рассуждения, столь важного для ЛИ и для феноменологического анализа в
целом. Замечательный философ советского периода К. С. Бакрадзе в
ходе глубокого критического анализа феноменологии опирался
главным образом на ЛИ, введя достаточно подробно и материал второго
тома (см.: Бакрадзе К С. Очерки истории новейшей и современной
буржуазной философии. Тбилиси, 1960. С. 464—529). В процессе
дальнейшего критического исследования гуссерлианства советские
философы (в частности, автор этих строк) отчасти освещали идеи,
ЛИ (см.: Мотрошилова Н. В. Принципы и противоречия
феноменологической философии // Современная буржуазная философия. М.,
1968; Норкус 3. Б. Философия логики Э. Гуссерля. Критический
анализ: Автореф. дис. канд. филос. наук. Л., 1984). Но в 60—70-х гг. перед
нами стояла задача целостной критической оценки феноменологии
на основе обширнейшего наследия Гуссерля — задача, не
утратившая актуальности и поныне, ибо неизвестные ранее материалы из
этого наследия продолжают публиковаться в собрании сочинений
«Husserliana», которое насчитывает в настоящее время более
двадцати томов (P. S. 2004 года: теперь — более 30-ти томов).
В последнее время была сделана попытка восполнить отсутствие
перевода второго тома ЛИ с помощью реферирования (см.:
Бабушкин В. У. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2 // Философия Э.
Гуссерля и ее критика, М., 1983. С. 66—88), однако из-за неизбежной
краткости рефератов оказались выпущенными существенные и
совершенно необходимые для понимания специфики феноменологии
«шаги» гуссерлевского рассуждения в ЛИ. Сказанное, к сожалению,
относится не только к рефератам, но и к суммарным или
фрагментарным воспроизведениям ЛИ в ряде работ о феноменологии,
включая названные ранее работы автора этих строк.
III. Такой «онтологической» структурой считается в
феноменологии «телесность», в частности тело человека, а также связанная с ним
Логические исследования Гуссерля и современность 381
«чувственность». Исключительно интересно складывалось в ходе
дальнейшего развития гуссерлевской и послегуссерлевской
феноменологии отношение к проблеме тела (соответственно мозга) и
сознания. С одной стороны, критика натурализма — важнейшая черта
феноменологии с первых шагов Гуссерля — сохранилась вплоть до
его последних работ, что оказало существенное влияние на
оформление антинатуралистских тенденций в философских концепциях
сознания, а также в психологии и психиатрии (см. далее).
С другой стороны, особая роль созерцаний, восприятия,
чувственности, методов описания, подчеркнутая в ЛИ, также сохранилась
в гуссерлевской феноменологии до самых поздних стадий ее
развития. В «Кризисе...» Гуссерль писал: «Здесь мы могли бы пояснить,
сколь обосновано право говорить о чувственном мире, мире
чувственного созерцания, чувственно являющемся мире. При всяком
сохранении жизни с точки зрения естественного интереса, которая в
чистой форме осуществляет поведение в жизненном мире,
возвращение к «чувственно»-опытному созерцанию играет выдающуюся
роль. Ибо все, что с точки зрения жизненного мира (lebensweltlich)
изображает себя в качестве конкретной вещи, обладает, разумеется,
телесностью, пусть оно есть не просто тело — например, животное
или культурный объект, — и, следовательно, обладает также
психическими и к тому же духовными свойствами <...>. Тело человека
совершенно особым образом расположено в поле восприятия —
совершенно непосредственно, в совершенно специфическом бытийствен-
ном смысле...» (Hua VI, 108—109). Для прояснения проблематики
включения телесно-чувственных элементов в феноменологический
анализ в развитии Гуссерля особую роль сыграли некоторые его
работы 20-х гг. Опубликованные, в частности, в IX томе «Гуссерлианы»
под общим названием «Феноменологическая психология», они
открываются разделом, определяющим значение ЛИ для построения
феноменологии и психологии нового типа, а именно «априорист-
ской (эйдетически-интуитивной) психологии» (см.: Hua IX, 20—21,
35). Здесь также обсуждалась проблематика «физической и
психической реальности» (S. 125—166).
Тема духа—тела, тела—сознания, особым образом заданная в
последующей феноменологии, оказалась одной из наиболее
популярных. М. Мерло-Понти «описывает структуру человеческого
поведения как диалектический процесс, в котором «телесное» и «духовное»
выступают как носители смысла...» (см.: Arndt H. W. Vorwort //
M. Merleau-Ponty Das Auge und der Geist. Hamburg, 1984. S. 5).
Другая линия феноменологической проблематики тела—духа,
тела—сознания развивалась в философии М. Шелера и его
последователей (см.: Frings M. S. Lived body and environment (übersetzt von
Abschnitt VI, von Scheler: Der Formalismus) // The philosophy of the
body: Rejections of Cartesian dualism / Ed. by S. F. Spicker. Chicago,
382
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
1970). Весьма важной линией развития феноменологии сознания
явилась примыкающая к Гуссерлю, Шелеру, Мерло-Понти, Ингарде-
ну, но приобретшая самостоятельное значение «феноменология
мира и человека в мире» — иными словами, реализация
онтологических и антропологических тенденций феноменологии, В философии
советского периода эти тенденции исследовались в работах Т.
Кузьминой, А. Рубениса и других. Ее наиболее современное развитие
находит отражение в работе А.-Т. Тыменецкой в разных томах «Analecta
Husserliana» (как, например, в 14-м томе (1982) и в предшествующих
выпусках). 14-й том «Analecta Husserliana: Soul and body in Husserlian
phenomenology» содержит материалы Международного конгресса по
феноменологии, состоявшегося в Зальцбурге в 1980 г. и
посвященного проблеме души и тела в феноменологии Э. Гуссерля (см.:
Phenomenology Inform. Bull., 1982, Vol. 6. P. 103—104. — весьма полезное
издание, содержащее кроме теоретических статей ценные сведения о
феноменологической литературе и развитии современной
феноменологии в разных странах мира).
Перейду теперь к характеристике феноменологической
психологии.
Ряд голландских биологов, психологов, психопатологов — J.J. Buy-
tendijk, H. С. Rümke, J. H. Van den Berg — развивали и применяли фе-
номенолого-экзистенциалистские идеи о роли тела, чувств, эмоций
на почве психиатрии (см.: Spiegelberg H. The phenomenological
movement. The Hague, 1971. Vol. 2. P. 606). Путь влияния гуссерлев-
ской феноменологии на психиатрию виден, например, из
высказывания швейцарского психиатра Л. Бинсвангера (ранее испытавшего
влияние Э. Блейлера и 3. Фрейда): «Интенсивное изучение Брентано,
«Логических исследований» Гуссерля и его феноменологии раз и
навсегда освободило мои глаза от натуралистской катаракты»
(Binswanger L. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze. Bern, 1947. Vol. 1.:
Zur phänomenologische Anthropologie. S. 7). По такому же пути
двигались швейцарские врачи H. Kunz и R. Kuhn (см.: Spiegelberg H. Op. cit.
P. 607, 608).
Самостоятельный интерес — именно в связи с проблемой
сознания — представляет развитие феноменологических идей на почве
психологии и психиатрии в США. Дискуссии о феноменологии (с
участием гештальт-психологов, бихевиористов) начались в конце 20-х
гг., после перевода работ Гуссерля, причем В. Кёлер высказывал
суждение о необходимости развития феноменологических идей на не-
гуссерлевском пути. Гештальт-психолог К. Duncker, напротив,
предпринял первые попытки при разработке проблем сознания связать
психологию с феноменологией. «Г. Олпорт высказал большую
симпатию по отношению к феноменологическому подходу в различных
своих работах. Х.-Ф. Олпорт в своем исследовании перцепции
обнаружил знаменательный сдвиг от лишь бихевиористского к феноме-
Логические исследования Гуссерля и современность 383
нологическому подходу, правда, модифицированному. И так же
поступили некоторые другие из современных исследователей
перцепции. Не используя название «феноменология», многие
представители направления, изучавшего динамику групп на основе
топологической психологии К. Левина, склонялись к элементам
феноменологического рассмотрения в данной области; а это может быть возведено
к немецким истокам в развитии Левина, когда, несомненно,
феноменология К. Штумпфа оказала на него большее влияние, чем гуссер-
левская.
Наконец, «психиатрическая феноменология», искусно введенная
Г. Ф. Элленбергером на основе европейских истоков, в начале 70-х гг.
широко распространилась, в комбинации с «экзистенциальным
анализом», в психиатрии» (Spiegelberg H. Op. cit. P. 639), В американской
феноменологии 50—60-х, гг. проблемой тела занимались философы,
примыкавшие к «Ассоциации реалистической философии»,
основанной Дж. Уайлдом (см.: The return to reason / Ed. by J. Wild. Chicago,
1953. — со статьями: Chapman H. M. Realism and Phenomenology — и
самого Уайлда: Phenomenology and metaphysics). В современной
философии эта линия преобразования феноменологии сознания на
путях «метафизики» и «реализма» стала весьма популярной. В 50—60-х
гг. «метафизические реалисты» в США противостояли группе
философов во главе с М. Фарбером, которые двигались от феноменологии
в сторону «материалистического реализма» (см.: Spiegelberg H. Op. cit.
P. 627—628).
В наши дни в философских и психологических исследованиях
сознания феноменологическая концепция является объектом
оживленных и конструктивных дискуссий. Некоторые их итоги и
перспективы отражены в весьма интересных статьях известного
американского психолога К. Прибрама «Behaviorism, phenomenology and
holism in psychology», психологов, специалистов по психопатологии
канадского ученого Д. Мосса и американского ученого Э. Кина «The
nature of consciousness. The existential phenomenological approach», a
также Д. Мосса «Phenomenology and neuropsychology» (The metaphors
of consciousness. Ed. by R. S. Valle, R. von Eckartsberg. N. Y.; L., 1981).
Оценивая достоинства и недостатки сначала бихевиористского, затем
экзистенциально-феноменологического подходов к сознанию, К.
Прибрам указывает, в частности, на то, сколь существенное значение
в его движении к современной холистской («голографической»)
концепции сознания имело освоение «менталистского» подхода
феноменологии (последняя повлияла на К. Прибрама главным образом
через М. Мерло-Понти, значение работ которого для философии
сознания XX в. пока еще не учтено в должной мере). Д. Мосс и Э. Кин
дают следующую сжатую характеристику основных особенностей
экзистенциально-феноменологической концепции сознания (со
ссылкой главным образом на Гуссерля и Мерло-Понти): открытость миру;
384
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
связь с пространственностью человеческого мира; связь с телом; связь
с «временностью»; связь с языком; связь с социальным миром (Р.
107—120). В той же книге один из ее издателей Р. фон Экартсберг,
представляя в виде весьма интересных диаграмм, «карт» наиболее
влиятельные современные концепции сознания, обращается также к
полю «экзистенциально-феноменологической психологии» и к ее
истокам — концепциям сознания Гуссерля и Мерло-Понти (Р. 46—51).
Д. Мосс во второй из названных статей рассматривает точки
соприкосновения и расхождения между современной нейропсихологией и
экзистенциально-феноменологическим подходом в психологии.
Точки соприкосновения: 1) высокая оценка не только эмпирических
данных, но и теоретической рефлексии, «очищающей» сознание и
выделяющей чистые структуры сознания; 2) четкое различение
уровней анализа сознания и соответствующих каждому из них
наборов методов; 3) включение идеи интенциональности в
психологический анализ «ума» (mind), «умственного» (mental). «Интенциональ-
ность в смысле Брентано, Гуссерля и Мерло-Понти — существенная
характеристика сознания и поведения человека и животных» (The
metaphors of consciousness. P. 154. В этой же книге об
интенциональности пишут другие авторы — см. Р. 319). Д. Мосс толкует идею
интенциональности в ее связи с «более фундаментальной», как он
считает, концепцией связи «ориентации» организма и среды; 4)
психологи и психоневрологи опираются на экзистенциально-
феноменологическое толкование Я и Другого (в концепции
интерсубъективности), но Другое толкуют шире — как «среду вообще»; 5)
феноменология помогает психологам избегать натурализма,
бихевиоризма при трактовке поведения; 6) «Наконец, обе школы
согласны в том, что психология не может наивно ограничивать себя только
содержанием своего опыта. Психология скорее должна также
исследовать упорядочивание ее опыта, из которого это содержание
проистекает» (Ibid. Р. 155).
Расхождения определяются так: 1) различие в уровнях анализа
между феноменологией («феноменальный мир», макроскопический
уровень, прежде всего уровень повседневной жизни) и
нейропсихологией (процессы, происходящие в мозгу); 2) различие в ответе на
вопрос о том, где и как добываем мы информацию о среде,
окружающей организм; позиция феноменологической психологии:
организм отвечает не на физические условия и вещи, а скорее на смыслы,
и инвариантности поведения связаны с инвариантностью смыслов;
психология, в частности нейропсихология, признавая
«осмысленный» характер окружающего человеческий организм универсума,
особо акцентирует и огромное значение его физических
компонентов, соответственно решающую роль мозга; 3) в отличие от
«редуцирующей» феноменологии, просто постулирующей интенциональ-
ные механизмы, психология ставит вопрос о происхождении и «пра-
Логические исследования Гуссерля и современность 385
ве» этих механизмов; 4) хотя Гуссерль подчеркивал
«конституирующие функции Ego», а Мерло-Понти — конститутивную роль живого
человеческого тела, современные психологи и психоневрологи
считают, что конститутивные механизмы человеческого организма
должны быть исследованы шире и глубже; 5) в отличие от
феноменологии, подчеркивающей первенство «макроскопического» уровня
и методов анализа и возводящей их к основаниям «жизненного
мира», психологи-исследователи хотели бы предохранить себя от
превратностей и изменчивости мира повседневной жизни; 6) вопрос о
«первичной реальности» по отношению к концепции сознания
решается различно: современные психологи усматривают ее в
функциях мозга, а феноменология обращается к «вторичным» феноменам
(Ibid. Р. 155—163).
В упомянутой работе «Метафоры сознания», ставящей
феноменологическую модель сознания в контекст современных концепций и
дискуссий, заметным элементом является сопоставление концепций
«чистого сознания» Гуссерля с рядом традиционных и современных
восточных учений о сознании (Rama S. Energy of consciousness in the
human personality // The metaphors of consciousness. P. 319). Эта же
тема, как видно из книги «Japanische Beiträge zur Phänomenologie».
Freiburg; München, 1984, волнует японских авторов (S. 41—68),
которые ведут феноменологические исследования по широкому фронту.
IV. По сути дела внимание именно к «коммуникативным
значениям» породило ряд направлений анализа, отправляющихся от
феноменологии Гуссерля, но впоследствии отошедших от нее, — в
экзистенциализме (Ясперс, Хайдегтер, Сартр), в герменевтике (Рикёр), в
феноменологическом структурализме и т.д. Во всяком случае,
сегодняшние авторы склонны уже в большей степени обращаться к фи-
лософско-лингвистическим образам, чем восходить к «боковым
ответвлениям» гуссерлианства (см., например: ?arreï H. Expression et
articulation: une confrontation des points de vue husserlien et saussurien
concernant la langue et discours // Rev. Philos. Louvain, 1973. N 71. P.
72—112; Ragguinti R. The language problem in Husserl's phenomenology
// Analecta Husserliana. Vol. 11. P. 225, 228—229).
V. Среди «боковых ответвлений», порожденных уже ранней
феноменологической концепцией сознания, которые сначала не были
развиты самим Гуссерлем и лишь впоследствии (отчасти) привлекли
его внимание, — это, например, анализ языка и переживаний,
восходящих к этической и эстетической сферам (с конкретным
применением к литературе, музыке и т.д.). В качестве конкретного примера
может служить развитие феноменологической концепции
литературы Р. Ингарденом и А.-Т. Тыменецкой (см. по этим вопросам работы
К.М.Долгова и Ю. Матьюса). Новейшие результаты см.: Analecta.
Husserliana. Vol. 12. The philosophical reflection of man in literature.
Dordrecht, 1982.
386 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
VI. Отнюдь не случайно один из основателей
феноменологической социологии А. Шютц первоначально опирался именно на эти
разъяснения ЛИ, анализируя феномены сознания в связи с
(социальным) действием и пытаясь именно через выражения подойти к
вопросу об «объективном» и «субъективном» смысле действия. «Мы
говорим об идеальных предметностях, о знаках и обозначениях, о
предложениях и суждениях, что они имеют объективный смысл.
Этим мы полагаем, что эти идеальные предметы несут смысл
(sinnhaft) и могут быть поняты исходя из собственной сущности
именно в их анонимном бытии, независящем от действия,
мышления, суждения какого-либо лица. Термин «объективный смысл»
обозначает здесь идеально-тождественное единство значения выражения
как идеально-логическую предметность. Но лишь поскольку
выражение имеет значение, оно поистине является объективным. Со
времени «Логических исследований» Гуссерля мы знаем, как различать
значение в качестве акта и значение как идеальное единство в
противовес многообразию возможных актов. Проведенное Гуссерлем в том
же произведении различение между по существу своему (wesenlich)
«субъективными и обстоятельственными» выражениями, с одной
стороны, и «объективными выражениями» — с другой, — частный
случай этого всеобщего взгляда» (Schütz A. Der sinnhafte Aufbau der
sozialen Welt. Wien, 1960. S. 31).
Далее А. Шютц добавляет, что для концепций социального
действия «как раз выраженное в качестве объективного выражения менее
релевантно, ибо проблема <...> состоит именно в том, чтобы
объяснить момент обстоятельственный и субъективный (хотя поэтому-то и
не обстоятельственный и не субъективный по самому существу), ибо
ведь это и лежит в основании ситуации, когда этот человек
высказывает свое суждение теперь, здесь и высказывает вот это предложение»
(Там же. С. 32). Здесь — принципиально важная отправная точка для
того крыла феноменологической социологии, которое восходит к
А. Шютцу. Об этом подробнее см.: Ионин Л. Г. Феноменологическая
социология // Критика современной буржуазной социологии. М,
1977; Бутенко И. А. Психолингвистические воззрения
феноменологически ориентированных социологов // Проблемы организации
речевого общения. М., 1981. С. 263—273; Бутенко И. А. Критика
феноменологически ориентированной философии языка: Автореф. дис.
канд. филос. наук. М., 1982.
VII. Описывая проблемы и трудности системного анализа,
включенного в создание современных ЭВМ, Г. С. Поспелов, в частности,
пишет об отсутствии специальных программ, учитывающих
«расплывчатые», неточные по своему смыслу высказывания и образы.
«Чтобы оценить, насколько трудны работы в этой области,
достаточно сказать, что пока нет ни одной программы, формирующей
расплывчатые понятия. Каждый шаг здесь встречается с большим инте-
Логические исследования Гуссерля и современность 387
ресом» (Кибернетика. Дела практические. М., 1984. С. 145).
Разумеется, от ЛИ, написанных более восьмидесяти лет назад, нелепо было бы
ожидать готовой программы. Однако размышления Гуссерля,
возможно, могут быть полезны при осуществлении такой программы.
VIII. В ряде работ современных феноменологов анализируется
отношение между концепциями значения Фреге—Гуссерля и
логических позитивистов (Рассела). Так, Г. Кюнг предложил следующую
схему, указывающую на соответствия и различия в понимании
знаков-значений (Kiing G. The world as noema and as referent // J. Brit.
Soc. Phenomenology. 1972. Vol. 3. No. 1. P. 16).
Ill ««.
II
Схема 5.
.... I .
>IV
>v
Логистическая Расселовская Трехуровне- Гуссерлевская Феноменоло-
трехуровневая двухуровне- вая семантическая гическая трех-
семантическая ваясеманти- семантиче- рамка уровневаясе-
рамка ческая рамка екая рамка мантическая
Фреге рамка
Ноэтический Ноэтический
акт акт
Знак знак
Референты,
т.е. designata,
универсум
речи,
онтология
Метафизическая
реальность мира
знак
Смысл
(Sinn)
знак
Значение
ноэмата, т.е.
интендиро-
ванные
референты, как они
интендирова-
ны
. Ноэмати-
ческиймир
смысл
(Sinn)
Референты, Референты Референты j Референты,
т.е. designata (значения- (заключены __2метафизиче-
Bedeutung) в скобки) ский мир (если
таковой
имеется)
IX. «Феноменологический структурализм» Р. Якобсона и его
коллег (см. [I]) прямо примыкал к рассмотренным разделам ЛИ. «Первое
систематическое формулирование всеобщих законов, которые имеют
значение для структурного единства, Якобсон нашел ни у кого
другого, как у Гуссерля. В третьем из своих "Логических исследований"
Гуссерль под заголовком "Учение о целом и части" как раз и
обсуждает законы, которые конститутивны для системы, для единого
целого. В связи со вторым изданием "Логических исследований" (1913)
388
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Гуссерль высказывал сожаление, что третье исследование — по
непонятным для него причинам — привлекло так мало внимания. Еще в
1928 г. он его рекомендовал ученикам как лучшее введение в
изучение феноменологической философии <...>. И именно это
исследование, по отношению к которому Гуссерль столкнулся со столь слабым
резонансом со стороны своих учеников, было горячо воспринято —
хотя он сам не знал этого — пражскими лингвистами и было
объявлено Якобсоном своего рода «фундаментальным структуралистским
рассмотрением». Для своего новаторского произведения о детской
речи Якобсон избрал первым лозунгом слова из этой части
«Логических исследований»: «Все, что истинным образом является, суть
отношения фундирования». Многие ученики Гуссерля были
активными сотрудниками Пражского кружка лингвистов (Ландгребе, Пос,
Чижевский). Сам Гуссерль, откликаясь на инициативу Якобсона, в
1935 г. прочитал для этого кружка доклад о феноменологии языка»
(Hollenstein Е. Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus.
Frankfurt am Main, 1975. S. 12). Работа Р. Якобсона и других пражских
лингвистов примыкала к следующим, более конкретным идеям
Гуссерля: 1) к идее «универсальной грамматики»; 2) к методу, который
увязывал анализ лингвистических форм и анализ переживаний; 3) к
«семантическому» разделу феноменологии; 4) к методу вычленения
«чистых структур», при котором исследуются также «внутренние
структуры языка и взаимодействие отдельных уровней языка».
Схема 6.
Объект =
референт
Акт мысли Ощущения Смысл (Sinn) =
с его матери- (Empfindungen= то, что мнят
ей hyle)
/^
интенционалъный
объект = ноэматиче-
«идеальный» смысл ский объект (->
(-> логика) онтология)
^ ч^
ноэзис ноэма
Сфера феноменологии
X. Представляет немалый интерес сопоставление анализа языка в
гуссерлевской концепции сознания, с одной стороны, и логико-
лингвистических исследований других направлений (прежде всего
неопозитивизма). Различия между двумя интересующими нас здесь
Логические исследования Гуссерля и современность 389
типами доктрин вполне очевидны, о чем часто пишут: «< ... >
Позиция Гуссерля далека от тезисов тех ученых, лингвистов и философов,
которые на основе лингвистических проблем воздвигают
абсолютную и детальную идентификацию операций мысли с
лингвистическими операциями и отрицают возможность иных форм знания,
независимых от логических форм. Мы, например, обнаруживаем, что
такие лингвисты, как Соссюр, и такие философы, как Кассирер,
Витгенштейн и Кроче, защищают данную позицию. Гуссерль
существенно отличается от них, ибо он убежден, что мы должны проводить
различие между когнитивной интенциональной деятельностью и
чисто лингвистическими операциями, хотя между ними существует
тесное взаимоотношение, и такое тесное, что трудно увидеть или
различить моменты независимости между тем и другим» {Ragguinti R.
Op. cit. P. 255). Однако именно «неразрывность» сознания и знания,
познания и языка, заставившая Гуссерля двигаться через формы
языка и создать «феноменологическую грамматику», обусловила и
моменты сходства между феноменологией и рядом неопозитивистских
доктрин. Впрочем, и позитивисты со временем стали более
определенно «двигаться» в сторону учета не-языковых элементов сознания,
В этом отношении интересно, например, сопоставление путей
Гуссерля и Витгенштейна.
Поскольку Гуссерль и Витгенштейн в прямой форме не
обсуждали философские концепции друг друга, считается, что между этими
концепциями нет точек соприкосновения. Однако я полагаю, что
сама по себе тема «Гуссерль—Витгенштейн» весьма интересна, сложна,
обширна и требует, видимо, особой разработки. Существенным
фактом является движение Витгенштейна к «феноменологии» (и в
частности, обсуждение в 1929 г, идеи «феноменологического языка»,
относящегося к феноменам визуального пространства, звука и т.д. (см.:
Wittgenstein L. Some remarks on logical form / / Proc. Aristotelian Soc.
1929. Vol. 9. P. 162—171); Spiegeiberg H. Op. cit. P. 761—762). Об
обсуждении Л. Витгенштейном полемики M. Шлика—Гуссерля см. раздел
«Феноменология» в кн.: «Современная буржуазная философия». М.,
1972. С. 461—511. См. также в [VIII] о Расселе и в [IX] о
феноменологическом структурализме.
IV.
«Картезианские медитации» Гуссерля
и «Картезианские размышления»
Мамардашвили
(двуединый путь к трансцендентальному ego)
В своей книге «История культуры нового времени»
исследователь 20-30-х гг. Эгон Фридель писал о влиянии Декарта во
Франции XVII в., что, несмотря на все усилия критиков великого
философа, «его школа неудержимо распространяла свое влияние. И не
только через «окказионалистов», как называли его ближайших
последователей и продолжателей в философии, не только через
знаменитую логику Пор-Ройяля «Искусство мыслить» и
задававшее тон «Поэтическое искусство» Буало; скорее его школой
сделалась вся Франция во главе с королем-солнце, запретившим в
свое время сочинения Декарта. Государство, экономика, драма,
архитектура, дела духовные, стратегия, садовое искусство — все
стало картезианским. В трагедии, где страсти боролись друг с
другом; в комедии, где развивались алгебраические формулы
человеческих характеров; в пространстве, окружающем Версаль, где
господствовала абстрактная симметрия садов, в аналитических
методах ведения войны и народного хозяйства, в, так сказать,
дедуктивном церемониале причесок и манер, танцев и светской
беседы — везде, как повелитель, неограниченно царил Декарт. И
можно даже утверждать, что до сего дня каждый француз —
прирожденный картезианец» 1. Кто-то наверняка сочтет
преувеличенной и чрезмерно категоричной эту универсалистскую оценку
культуролога. Однако проникновение картезианства в корневую
систему жизненного мира Франции, Европы XVII и последующих
1 Friede! Е. Kulturgeschichte der Neuzeit. München, 1989. S. 502.
«Медитации» Гуссерля и «Размышления» Мамардашвили 391
веков — факт и феномен культуры, который пока еще ждет
адекватного истолкования. Но еще более универсальное значение
сделанного Декартом выявляется через своего рода историко-
философский и методологический закон, против которого вряд
ли возникнут возражения: картезианские размышления —
неотъемлемый элемент любого сколько-нибудь глубокого
философствования. Всякий великий, выдающийся или просто
профессиональный философ должен, и, пожалуй, не однажды, в своей
жизни пройти через собственные «картезианские медитации».
Доказательств тому в истории человеческой мысли немало. И два из
них — «Картезианские медитации» Эдмунда Гуссерля и
«Картезианские размышления» Мераба Мамардашвили — послужат
далее предметом сопоставления.
Приступая к очень краткому разбору двух названных книг,
каждая из которых играет особую роль в мировой
феноменологической традиции, я хотела бы напомнить о том, что значила и в
творческой судьбе Гуссерля, и в жизни Мамардашвили страна,
давшая миру Декарта, — прекрасная Франция.
Вовсе не случайным представляется мне тот факт, что к
возникновению гуссерлевской работы — с ее важнейшим
подзаголовком «Введение в феноменологию» — имели самое прямое
отношение выступления Гуссерля во Франции, и что она носила
название «Картезианские медитации». Как и «Парижские доклады»,
опять-таки не случайно, а закономерно открывающие, в качестве I
тома, многотомно-нескончаемую «Гуссерлиану», «Картезианские
медитации» (размышления) возникли благодаря тому, что в 1929
г. Эдмунд Гуссерль — бывший к тому времени выдающимся,
европейски известным философом, членом-корреспондентом
Французской академии (Académie Française) — получил
приглашение из Парижа, от Института германистики и Общества
Французской философии (Institut d'Études germaniques; Société
française de philosophie) выступить во французской столице с
докладами и лекциями. Однако, как отмечает автор Введения к I
тому «Гуссерлианы» С. Штрассер, во Франции Гуссерля тогда
больше знали и чтили как создателя «Логических исследований»
и борца против психологизма. И лишь немногие были
основательно знакомы с уже разработанной к тому времени
оригинальной гуссерлевской феноменологической концепцией. Но главное,
как отмечает Штрассер, во Франции не без оснований
предполагали, что говорить Гуссерль будет не только о своих идеях и
разработках. «На родине Декарта должно было стремиться к
достижению познавательного уровня трансцендентальной философии
через радикализацию известного [Декартова] метода сомнения.
392
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Дело обстояло вовсе не так, будто Гуссерль до того не шел этим
путем. Уже в «Идеях» и еще более в неопубликованных
рукописях Гуссерль сравнивал свой метод с методом Декарта. Но как раз
в «Картезианских медитациях» Гуссерль с особой ясностью
выразил мысли о том, чему он, с одной стороны, обязан отцу-
основателю философии Нового времени и какие шаги, с другой
стороны, отделяют его от Декарта. Одновременно
«Картезианские медитации» должны были дать пусть беглый, но обзор тех
бесконечных и огромных задач, того круга работы, из которых и
составлялись конкретные исследовательские намерения
феноменолога» 2.
Гуссерль интенсивно работал над лекциями с 25 января 1929 г.;
состоялись же парижские доклады и лекции 23 и 25 февраля того
же года в Сорбонне, в знаменитом Амфитеатре Декарта. Затем
были лекции в Страсбурге (март 1929 г.). Эти гуссерлевские
выступления имели большой успех. В результате в 1931 г. появились
— сначала во французском варианте — «Картезианские
медитации».
Гуссерль писал текст, как отмечает Штрассер, «споро, с
лихорадочной быстротой, словно бы в трансе» 3. Вдохновленный
выступлениями во Франции, Гуссерль создал сочинение,
значительно расширенное по объему, темам и весьма основательное по
глубине, причем одно из наиболее ясных и четких в его наследии.
Немецкий текст «Картезианских медитаций», в который, по
сравнению с французским, тоже были внесены изменения и
разъяснения, создавался под влиянием полемики с учениками (в
частности, с Р. Ингарденом) и критиками. Гуссерль писал Роману Ин-
гардену: «Я не должен отодвигать в сторону немецкий
переработанный текст «Картезианских медитаций», ибо это будет главное
сочинение моей жизни, очерк зреющей во мне философии,
фундаментальное сочинение о методе и философской
проблематике» 4. Эта оценка совершенно верна: «Картезианские медитации»
(вместе с «Парижскими докладами») можно рекомендовать для
чтения, а вернее, для досконального изучения как наиболее
ясное, точное, относительно краткое и, в то же время, широкое по
охвату проблем введение в гуссерлевскую феноменологию. То
был своего рода перст судьбы: она помещала великого немецкого
феноменолога в то единственное на свете историческое место, где
2 Husserl Е. Husserliana. Den Haag, 1950. Bd. I. S. XXIII. (Далее: Hua).
3 Ibid. S. XXV.
4 Ibid. S. XVII.
«Медитации» Гуссерля и «Размышления» Мамардашвили 393
можно было получить невидимый толчок к преемственности и
новаторству от хранимого Францией, Сорбонной «духа Декарта».
Отсюда в немалой степени проистекало высочайшее
интеллектуальное и эмоциональное напряжение, с каким создавались
«Картезианские медитации». Оно было, вероятно, сродни тому,
что переживал, метафизически медитируя, сам Декарт и что было
предельно близко Мамардашвили, почему я и приведу слова Ме-
раба о Картезиевых текстах: «Они выражают реальный
медитативный опыт автора, проделанный им с абсолютным
ощущением, что на кон поставлена жизнь, и она зависит от разрешения
движения его мысли и духовных состояний, метафизического
томления. И все это, подчеркиваю, ценой жизни и поиска
Декартом воли (как говорили в старину, имея в виду свободу, но с более
богатыми оттенками этого слова) и покоя души, разрешения
томления в состояние высшей радости. Ибо что может быть выше?!» 5
Мераб Мамардашвили читал свои лекции о Декарте не в
Сорбонне, а в Москве 1981 г. В Сорбонну его тогда не пускали. Но к
тому времени Мерабу уже удалось побывать во Франции, в
Париже, на всю жизнь полюбить эту страну и этот город,
проникнуться их неповторимым умонастроением. Главное, однако, даже
не в этом. Ибо я лично верю в нечто, на первый взгляд,
мистическое — в то, что на материках и в морях человеческой культуры
топографическое и историческое место способно становиться
метафизическим, свободно и духовно двигаясь в реальном
историческом времени и материальном пространстве. Читая свои
лекции — создавая свои «Картезианские размышления», — Мераб
духом своим как бы перемещался во Францию XVII в., в Париж, в
Сорбонну, в приютившую Декарта Голландию, а Амфитеатр
Декарта (о котором Гуссерль, стоя там за кафедрой, сказал:
«достославное место, средоточие французской науки»6), чудесным
образом был в метафизической близости от аудиторий,
переполненных слушателями, которые и в поднадзорной Москве имели
шанс приобщиться к вечной, нетленной, общечеловеческой, а
одновременно и истинно французской Картезиевой философии.
В отличие от Гуссерля, почти не объективировавшего личностные
аспекты Декартова и своего собственного «метафизического
томления» (или «транса», по выражению Штрассера),
Мамардашвили считал их столь важными, что — сделав все оговорки
относительно требуемых здесь осторожности, деликатности — посвятил
5 Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 9.
6 Hua I, 3.
394 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
проблеме «преобразования, перерождения самого себя», как они
зафиксированы в текстах и письмах великого французского
мыслителя, многие страницы «Картезианских размышлений». Это,
конечно, не единственное различие между медитациями Гуссерля
и Мамардашвили о Декарте. Но прежде таких различий я хотела
бы (по необходимости кратко) выявить главное, типологического
характера, сходство между ними. Его я и обозначила в
подзаголовке своих заметок словами: «двуединый путь к
трансцендентальному Ego».
Первая из пяти гуссерлевских картезианских медитаций так и
называется «Путь к трансцендентальному Ego». Гуссерль
усматривает осуществленный Декартом и завещанный им
радикальный переворот в науке прежде всего в том парадоксальном
обстоятельстве, что во имя абсолютного обоснования наук требуется
как бы «поставить вне игры все убеждения, прежде того имевшие
для нас значение, и в их числе все наши науки»7. И если Декарт,
осуществлявший радикальное сомнение, все же брал в качестве
парадигмальной предпосылки геометрию, эту математическую
естественную науку, т.е. ориентировал науку и научность на
принципы аксиом и дедукции, — то мы, люди XX в., утверждал
Гуссерль, уже не можем сохранять в его значимости тот же или
сходный нормативный идеал; мы должны, если это вообще
окажется нам под силу, создать вместо нововременного идеала науки
и научности нечто совершенно иное8. Притом гуссерлевские
«Картезианские медитации» все же настойчиво ориентируют нас
на некоторую «подлинную науку» (параграф пятый Первого
Размышления называется «Очевидность и идея подлинной
науки»). Но оставим в стороне этот трудный внутрифеноменологи-
ческий парадокс. Нас здесь будет интересовать главная цель, к
которой движется Гуссерль - и движется, несомненно, вслед за
Декартом. А она может показаться поклоннику любой, и
нововременной, и современной научности, ничем иным, как полным
и окончательным субъективистским разрушением
объективистских устоев науки.
Ибо «первый методический принцип» Гуссерль фиксирует
так: «Совершенно ясно, что я как начинающий дело философии
и последовательно осуществляющий его, я как устремляющийся к
предпосылаемой цели подлинной науки не имею права
построить ни одно суждение и ни одному из них придавать значимость,
если они не почерпнуты мною из очевидности, из такого опыта, в
7 Ibid. S. 48.
s Ibid. S. 49.
«Медитации» Гуссерля и «Размышления» Мамардашвили 395
коем соответствующие вещи и обстояния вещей в качестве самих
себя не были бы современны мне (mir... gegenwärtig sind)9.
Каждый, кто слышал лекции Мамардашвили или читал его
«Картезианские размышления», без труда вспомнит, что, уже
начиная с первых размышлений, Мераб бьется над разъяснением
глубинного для Декарта метафизического смысла слова «теперь»
— «теперь, когда [я] мыслю», «теперь, когда говорю», «теперь,
когда делаю» 10. Мераб твердит о «маниакальной, почти
механической повторяемости» у Декарта этого «теперь». У Мамардашвили
разъяснение этого «теперь» (настоящего момента — Gegenwart,
gegenwärtig — в гуссерлевском контексте) приобретает
теологический (непрерывность творения), личностно-смысложизненный
(не спи: заснешь — не будет порядка мира), онто-гносеологичес-
кий размах в куда большей мере, чем в медитациях Гуссерля,
прибегающего, в основном, к методологическим разъяснениям.
(Это различие, впрочем, нельзя распространять за пределы гус-
серлевских «Картезианских медитаций», ибо в целостном
наследии основателя феноменологии задействованы все -названные
аспекты.) Но несомненно и то, что у Мамардашвили, как и у
Гуссерля, движение мысли устремляется в сторону магнита всех
магнитов, «феномена всех феноменов», как его называет Мераб, — в
сторону трансцендентального Ego. Это Ego — одновременно наи-
вымышленнейшее и наиреальнейшее — становится для обоих
философов, и, разумеется, не только для них, центром
«подлинного философствования». И то, что у Гуссерля уложено в
свойственные родоначальнику феноменологии внешне «онаученные»,
строгие формулы — то у Мераба собирается вместе, взрывным и
подчас хаотическим образом вламывается в единый речевой
(потом письменный) текст, теснит его, растягивает к
разнонаправленным полюсам, испытывает на прочность самое нашу
способность охватывать единым умственным взором плотную и пеструю
констелляцию его смыслосодержаний.
«Путь к трансцендентальному Ego» — это сокращенное
обозначение спрессованных методологическим, онтологическим,
экзистенциальным синтезом шагов, ступеней, поворотов мысли и
анализа, которые опытный феноменолог, опираясь на хорошо
теперь известные тексты (или до сих пор томящиеся в архивах
манускрипты) Гуссерля, может расшифровать, в зависимости от
спроса и обстоятельств, то менее, то более подробно. Сегодня это
9 Ibid. S. 54.
10 Мамардашвили M. Цит. соч. С. 48.
396
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
можно сделать лишь самым кратким образом — и не потому, что
внешне кристально четкие гуссерлевские медитации не таят в
себе трудностей и загадок, а потому, главным образом, что
обстоятельства времени и места требуют пристальнее вглядеться в ма-
мардашвилиевские размышления, в тексты новые и для кого-то из
нас, но уж несомненно новые для многих западных читателей.
Что до Гуссерля, то его разъяснения «пути к
трансцендентальному Ego» подразумевают ответ на целый ряд вопросов, тесно
примыкающих в «Картезианских размышлениях» именно к
толкованию Декарта (а в других текстах повернутых, например, к
Канту). Эти вопросы: от чего мы, медитирующие и исполняющие
дело философии, отталкиваемся, уходим на таком пути,
столбовом для философии, (особого вида)? Как мы проходим тот путь,
каковы здесь решающие шаги? Каковы промежуточные
остановки, и что за станция назначения ждет нас в итоге? Во имя чего
осуществляется движение, с какими потерями и с какими
позитивными философскими, личностными и общекультурными
результатами связана устремленность к трансцендентальному Ego,
или Ego cogito как первооснове философии? Ответы на все
подобные вопросы спрессованы в следующей гуссерлевской
формуле из 8-го параграфа Размышления.
«И вот здесь мы, следуя Декарту, осуществляем грандиозное
преобразование, которое — в случае его правильного
исполнения, ведет к трансцендентальной субъективности: это поворот к
ego cogito как аподиктически известной и последней почве
суждений, на которой следует основать всякую радикальную
философию. Давайте поразмышляем, — продолжает Гуссерль. — Как
радикально медитирующие философы мы теперь уже не имеем
ни значимой для нас науки, ни сущего для нас мира. Вместо того,
чтобы быть просто сущими, каковое назначение они имеют для
нас естественным образом в опыте с его верой в бытие, они теперь
предстают перед нами как простая претензия на бытие. Это
касается также и внутримирового значения всех других Я, так что мы,
собственно, уже не вправе изъясняться в коммуникативном
множественном числе... Вместе с другими людьми я естественно
теряю все социальные образования и все формообразования
культуры. Короче говоря, не только телесная природа, но весь
конкретный окружающий нас жизненный мир — вместо того, чтобы
быть для меня сущим — превращается только в феномен бытия» п.
Собственно, здесь и далее Гуссерль опирается на теорию
сомнения и учение о cogito Декарта для того, чтобы еще раз обос-
» Hua 1,58—59.
«Медитации» Гуссерля и «Размышления» Мамардашвили 397
новать свою концепцию феноменологической редукции, учение
о феномене и трансцендентальной субъективности. Но во всем
заключена претензия на то, что именно трансцендентальная
феноменология, и, пожалуй, только она — через осовременивание,
перетолкование — передает истинный смысл поучений самого
Декарта. Сейчас нас будет интересовать вот какой вопрос: верил
ли Мераб Мамардашвили хотя бы в относительную
оправданность претензии Гуссерля говорить «как бы от имени» Декарта? В
тексте «Картезианских размышлений» трудно отыскать прямой и
однозначный ответ на этот вопрос, как нелегко установить, в
какой мере в момент чтения лекций о Декарте Мераб прибегал к
освоению или критике задолго до него осуществленных великим
немецким философом картезианских медитаций. Но после
сравнительного изучения обоих произведений, как мне
представляется, возможно говорить об их существенном типологическом родстве.
Чтобы доказать это утверждение, я могла бы привести множество
конкретных аргументов. Но здесь и теперь приходится
ограничиться лишь теми, что в проблематике «Путь к
трансцендентальному Ego» кажутся главными. Говоря о принципиальном
типологическом родстве, я одновременно буду подчеркивать и
различия, имея в виду, в частности, обнаружение того нового,
оригинального, что вносит Мераб Мамардашвили в понимание и
толкование как Декартовой, так и Гуссерлевой традиции.
И у Гуссерля, и у. Мамардашвили в толковании декартовского
сомнения как пути к ego cogito фактически принят способ
изображения шагов сомнения как феноменологической редукции,
которая обращена и к окружающему природному, социальному,
культурному миру и к самому философствующему,
медитирующему субъекту. Равным образом в обоих интересующих нас
картезианских медитациях при «остранении», редукции мира и меня
самого как природно-исторического существа впрок заготовлен
«возврат» к ним на новой, когиталъно-трансценденталъной
основе, т.е. в первоначальный проект редукции заложена и своего
рода трансцендентальная онтология. В немалой степени этому служит
специфическая редуцирующая процедура, которая Гуссерлем
означена традиционным термином epoché (воздержание) и
расшифрована через целое гнездо родственных слов. Приведу
довольно длинную цитату из Гуссерля, где феноменологический
редукционизм представлен достаточно полно и, по-моему,
вполне четко:
«Мир, относительно которого в рефлектирующей жизни
осуществляется опыт, в известном смысле и потом, и далее остается
существующим... Он и далее является так, как являлся прежде, но
398 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
только я, как философски рефлектирующий, не удерживаю более
в ее значимости естественную веру в бытие, пусть она все еще
пребывает где-то здесь и при повороте внимания на нее бывает
обнаруженной. Таким же образом ведут себя по отношению ко
всяким прочим мнениям-полаганиям (Meinungen), которые
принадлежат моему жизненному потоку, вырастающему из этих
опытных полаганий; по отношению к моим несозерцаемым
представлениям, суждениям, ценностным поступкам, решениям,
определениям целей и средств и т.д. и в особенности по отношению
к позициям, необходимо оказывающих свое воздействие через
естественные, нерефлектированные, нефилософские установки
жизни — поскольку последние всюду делают предпосылкой мир,
а следовательно, заключают в себе бытийную веру относительно
мира. И здесь исключение подобных позиций со стороны
рефлектирующего Я не означает их исчезновения из своего опытного
поля...
Это универсальное лишение значимости (Außergeltungsetzen,
выведение из игры) всех позиций по отношению к предданному
объективному миру, и, прежде всего, позиций по отношению к
бытию (касательно бытия кажимости, возможного, положенного,
вероятного — бытия и т. д.) — или, как уже вошло в привычку
говорить, это феноменологическое epoché или заключение в скобки
объективного мира не ставит нас перед лицом ничто. Что именно
благодаря этому становится обретенным нами — или, точнее, что
становится обретенным мною, медитирующим, так это моя
чистая жизнь со всеми ее чистыми переживаниями и всеми ее
чистыми положенностями, универсум феноменов в смысле
феноменологии. Epoché, можно сказать, есть радикальный и универсальный
метод, благодаря которому я в чистой форме схватываю себя как
Я, вместе с чистой жизнью моего сознания, в которой и через
которую совокупный объективный мир является миром для меня...
Все это Декарт, как известно, и обозначил термином cogito. Мир
для меня вообще есть не что иное, как сущий через сознание и
значимый для меня в таком cogito» 12.
Та же тема — редукции мира на пути к ego cogito, чистому
сознанию Я — многократно и под разными углами зрения
обсуждается в «Картезианских размышлениях» Мамардашвили. Я бы
сказала, что в отличие от Гуссерля, который, пережив свой
«транс», старается «на публике» рассуждать о редукции и cogito
спокойно, наукообразно, Мераб не просто сам медитирует
страстно, беспокойно — он отчетливо демонстрирует, что иной
редукция не может быть для философа, встающего, подобно Декар-
12 Hua I, 59-60.
«Медитации» Гуссерля и «Размышления» Мамардашвили 399
ту, на путь трансценденталистских, «солипсистских» в
определенном смысле (этот ставший у нас сугубо ругательным термин
вполне позитивно и серьезно используется и Гуссерлем, и
Мамардашвили) редукций, обращенных в сторону мирового
универсума и своего собственного Я. Специфика и огромное научное
значение картезианских размышлений Мамардашвили я вижу в двух
(почти исключенных Гуссерлем из поля своих медитаций)
основных моментах: во-первых, в масштабном обнаружении того, что
именно, какое реальное обстояние дел в мире и человеке делает
фундаментальную абстракцию — редукцию трансцендентализма
— «позволительной»13, во-вторых, в проговаривании, причем
проговаривании и душой и сердцем, того, что редукция и
обретение позиции ego cogito делают с самим медитирующим
философом, как они преобразуют и, вместе, трагически отъединяют
его личность от окружающего мира.
Процитирую Мамардашвили:
«Именно сознание "ego cogito" (взятое трансцендентально, т.е. как
необходимая форма всякой актуальности), именно то, что в нем
осмысляется и понимается, недоступно представлению. Оно
осуществляется (и доступно) феноменально, как "способное"
порождать и выдавать нам феномены. Оно само, так сказать, феномен
феноменов. Феноменов в двойном смысле этого слова. Во-первых,
в том смысле, что их формальный состав-установка (помните, я
говорил о "метафизической" материи!) сам предметен, вне и
независимо от внешнего каузального соотнесения действий
объектов и психической восприимчивости. Ц этом смысле мы видим
вещи так, как их понимаем, или, говоря современным языком,
мним, интендируем, узнавая сами об этом понимании и
удостоверяясь наглядно (т.е. никакими опосредованиями не выходя за
рамки чувственно-материальной данности), что именно так их и
следует понимать, мы "видим сущности". Во-вторых, в смысле
участия здесь самоактивности, спонтанности действия, произве-
денности — такой, что хотя нечто, какие-то свойства, "качества"
вполне объективно и "вещно" существуют и действуют в мире, но
их не было бы и не могло быть без активного присутствия и
движения сознания. И в этом смысле они не явления природы, а нечто
"искусственное", текст, сказали бы мы, или "техне", как говорили
греки. Короче — артефакты. И они содержат полноту и
завершенность в какой-то внутренней бесконечности, а не "дурной"
бесконечности прогрессии. Это амплифицирующие приставки, "на-
13 Мамардашвили М. Цит. соч. С. 123.
400
H. В. Мотгошилова «Работы разных лет»
садки" на природное, прежде всего — на природные
индивидуально-психические механизмы» 14.
Иными словами, сомнение, его гуссерлианский аналог —
феноменологическая редукция, «отключение» мира и собственных
«качеств» Я (и многие другие с ними сопряженные процедуры и
философские утверждения) для Мераба Мамардашвили суть
существенно большее, чем специально и искусственно
практикуемые философами-трансценденталистами методологические
процедуры. Они, по его мнению, глубоко укоренены и в бытие мира,
и в способ жизнедеятельности человеческого я, и в гениально
раскрытое Декартом самое существо философствования.
Движение к очевидности, Evidenz, к cogito, усиленно
акцентируемое и Гуссерлем, также есть, согласно Мерабу, не некое
вымышленное, а потому могущее быть оспоренным движение
философской рефлексии — это внутреннее и неотъемлемое свойство
сознания, а в определенном смысле и самой жизненности, живой
бытийственности. Вот в «Размышлениях» Мамардашвили речь
идет об очевидности «усмотрения сущности» в случае явленности
сознанию прямой линии. С одной стороны, налицо некоторая
искусственность, остраненность: ведь никакую реальную линию
мы не назвали бы прямой. С другой стороны, при определенном
усмотрении это просто перестает быть важным — прямая линия
уже «есть» в нашем усмотрении, и есть с той очевидностью,
которая заставляет Декарта говорить о «врожденных идеях». Мысль
тут — не картина (чего-то), относительно подлинности которой
можно было бы спорить. Это реально во всей его непререкаемой
очевидности осуществляющееся событие, это «свойства самой
сознательной жизни», а не просто понятия теории; «это свойства
существования, бытийствования, о-существления самой мысли,
сознания, если они случаются как события бытия» 15. И вот
именно поэтому «полное абстрагирование» от человека 16 как
психофизического и социально-исторического существа в
трансцендентализме не просто «позволительно» — оно есть следование
бытийственному, экзистенциальному статусу самого
рефлектирующего, «набредшего» на феномены сознания.
В общефилософском значении, разъясняет Мераб (причем
разъясняет он идеи не только Декарта, но Канта, Гуссерля и
других защитников трансцендентализма), «речь идет о некоторых
и Там же. С. 128-129.
" Там же. С. 108.
16 Там же. С 123.
«Медитации» Гуссерля и «Размышления» Мамардашвили 401
идеально первых (первичных в идеальном смысле) основаниях,
предшествующих миру и субъекту... Именно в этом смысле
Декарт — основатель трансцендентального идеализма» 17. Или, в
другом месте:
«Трансцендентальность как выход к идеальному первичному
источнику или началу одновременно означает полное
абстрагирование от человека как некоего особого, частного и случайного в этом
смысле существа. Сам факт, что мы обнаружили феномен осозна-
вания, делает эту абстракцию позволительной... Это невероятная
абстракция, но она реализуется (курсив M. M. — H. М). Потом,
реализовавшись, она скрыто уходит в основание нашего физического
знания, и мы уже не отдаем себе отчета в том, что такая
абстракция совершена. Но, независимо от того, отдаем мы себе в этом
отчет или нет, на этой абстракции основана сама наша возможность
формулировать какие-либо физические законы»18.
Обратите внимание — речь идет тут не о возможности
философии, метафизики, а о возможности физики, т.е. науки о
природе. Гуссерлевский замысел — обосновать науку с помощью
трансцендентализма — находит здесь почву для своего воплощения.
Чрезвычайно важной и интересной в «Картезианских
размышлениях» Мамардашвили является расшифровка
удивительного факта, который относится к жизни сознания, но в то же
время упирается в основания бытия. «Декарт вводит закон, на
который постоянно ссылается (и это даже может показаться его
личной манией): имение мысли необратимо»19. И более того, если и
когда случилось это великое «теперь» мысли, то необратимым,
кристаллизованным становится определенное состояние вещей.
Если и постольку мир обрел — через меня, через мое
редуцированное Я — совершенно особое осознание, понимание, то ни
человек, ни даже Бог не может изменить кристаллизовавшийся
порядок мира.
И вот теперь, с высоты этой для некоторых людей в высшей
степени произвольной позиции, субъективно и
трансцендентально переворачивающей привычные отношения мира и Я, а на
деле, как оказывается, вскрывающей универсальный мировой
порядок, — с этой высоты можно, следуя Мерабу, отчетливо увидеть и
понять, как жестко и неотвратимо редукция преобразует и
движение к когитальной точке опоры, и личностный мир медити-
17 Там же. С. 115.
18 Там же. С. 123-124.
19 Там же. С. 127.
402
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
рующего человека. Мамардашвили описывает в этой связи и в
этом контексте личность Декарта, а я не могу отказаться от
искушения услышать исповедальную смысложизненную повесть,
относящуюся к самому Мерабу. Уже цитировались слова Мераба о
том, что у Декарта тексты «представляют собой не просто
изложение его идей или добытых знаний», а что они «выражают
реальный медитативный опыт автора» — когда автор ощущает, что
на кон поставлена жизнь... Тогда и редукция приобретает особый
поворот — ведь медитирующая личность проделывает ее с
глубоко личностным ощущением и намерением: срезать все то, что
«вошло в тебя помимо тебя, без твоего согласия и
принципиального сомнения, а на правах не понятого пока и поэтому
требующего расшифровки — личностного удивления»20. Правда, уже
здесь, когда человеку медитирующему рекомендуется срезать,
редуцировать все привычное, заимствованное, поддерживавшее
его, Мераб оставляет «поверх и поперек линейно протянутого
мира» главную нить связи взамен отнятого простого,
бесхитростного, в натуральной установке обретенного единства с миром.
Это «личная его (такого индивида. — H. М.) повязка на Бога»; о
Боге Мераб вспоминает, пожалуй, не реже Декарта, но
несомненно чаще Гуссерля. И все же поместить себя под знак «cogito» как
точки отсчета для личности означает именно необходимость
мучительно и напряженно пройти через горнило сомнения, через
«раскручивание мира в обратную прошлому сторону».
Здесь требуется, однако, одно принципиальное уточнение.
Мераб мыслит поворот к трансцендентализму как бесшумно-
трагический смысложизненный акт, где, с одной стороны,
происходит не менее чем поединок с миром, а с другой, господствует
по-французски вежливое и элегантное стремление никого не
делать ни участником, ни даже благожелательным свидетелем
внутренней драмы, нечеловеческого напряжения души.
«...Мы видим перед собой, — говорит Мераб о Декарте, — одну
устойчиво воспроизводящуюся — в истории французского духа —
связку души. Это особое воодушевление, энтузиазм. Какое-то
стояние в звенящей прозрачности одиночества — одиночества,
оживляющего все душевные силы, все, на что способен сам, из
собственного разума и характера, без опоры на что-либо внешнее
или на "чужого дядю", в полной отдаче всего себя этому особому
состоянию в "момент истины" (истины, конечно, о себе: смогу
ли?!) Возвышающаяся повязанность всего себя в каком-то деле
пего Там же. С. 29.
«Медитации» Гуссерля и «Размышления» Мамардашвили 403
ред лицом всего мира, стояние лицом к лицу с ним, один на один,
как в поединке» 21.
Ставка же очень и очень велика — кто хорошенько расспросит
себя, когда он один на один с миром, может обрести шанс
описать всю вселенную. Поверив в этот уникальный опыт как
жизненную судьбу, Декарт совершил личностную редукцию еще и в
том смысле, что просто «ушел в зазор свободы», не испрашивая
разрешения у кого бы то и чего бы то ни было, например, церкви,
не борясь с нею или с властями за свои свободу и достоинство. Он
лишь стал и был свободным человеком, человеком чести и
достоинства, «Он просто, — говорит Мамардашвили, — перешел в
другое пространство и там жил, занимаясь тем делом, которое
является делом философа» 71. Делом же философа, уточнял Мераб,
является он сам, а не исправление других людей. Декарт делал
его, свое дело, «без гнева и упрека» — не гневаясь на тех, кто
мешал ему, не упрекая слабых и лишенных достоинства за то, что
они не были способны на глубокую личностную редукцию. Но и
не следуя подвигам тех «исправителей людей»,
«Преобразователей мира», которые во имя идей шли, как Джордано Бруно, на
костер и мучения. Декарт обладал, продолжает Мераб,
«великодушием», так свойственным тем людям, которые свободны не
натужно и мучительно, а свободны просто и естественно — так же,
как великодушен и естественно свободен был Пушкин. «Декарт
— человек, который знает, что на свете счастья нет, и не
обязанность мужчины искать счастье и ставить его целью своей жизни
— есть покой и воля. И есть защитный барьер жизненных
привычек, которые ты обязан выработать, ибо они защищают покой и
волю, защищают твой независимый досуг — ценность самую
высокую среди остальных жизненных ценностей» 23. И если
декартовское сомнение есть, согласно Мерабу, «шаг и ход именно к
истинной реальности» 24, то, нормальным образом продолжая нашу
жизнь, мы сделать этот шаг явно неспособны. Так и получается,
что редукция и «заглядывание в себя» требуют радикальной
личностной перенастройки. Что здесь следует за чем, сказать трудно.
Однако когда мы в нашей «нормальной» жизни встречаем
мыслителей, чья жизнь (мы это остро чувствуем) настроена на какую-
то невидимую волну, чье медитирующее философствование ро-
21 Там же. С 11-12.
22 Там же. С. 17.
23 Там же. С. 24.
24 Там же. С. 37.
404 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ждает особый мир, в его полноте вместе с этим человеком и
исчезающий, — мы знаем, что это личность, это человек, который
когда-то мужественно сказал себе, как Декарт, или как Мераб:
«можешь только ты».
Вместо заключения: М.Пруст и М. Мамардашвили
Я хочу закончить тем, с чего начала — еще одной ссылкой Ме-
раба на французские энтузиазм и честолюбие. Ибо от Декарта
Мамардашвили «перескакивал», как он говорит, к «своему
любимому» М. Прусту и вспоминал, что тот стоял один на один с
миром, ибо видел свою задачу в том, чтобы собой и через себя
«связать нить минут, часов, дней, десятилетий и стран. И все это —
наперегонки со смертью. Хотя смерть он так и не обогнал.
Окончание романа «В поисках утраченного времени» вышло в свет
после смерти Пруста» 25.
Вы, конечно, уже догадались, к чему я клоню: Мераб думал,
писал о Декарте, Прусте, но в то же время написал о самом себе —
о своем «поединке чести» со скрывающим тайны миром, о
стоянии «один на один» перед жесткостью бытия, о собственных
поисках вдвойне утраченного (потому что насильственно
перерубленного) времени, о неудавшихся, на первый взгляд, попытках
свершить дело своей жизни «наперегонки со смертью» (ведь и его
работы выходят только после смерти). И все же — о победе и в
этом случае мужества, энтузиазма, свободы, великодушия,
честолюбия...
Но вот сумел ли Мераб жизнью и смертью действительно
обрести то, к чему призывал каждого думающего философа и к
чему каждый из них, действительно, призван своими
картезианскими размышлениями: «впасть в заданный Декартом архетип
честолюбия... отыскивая две связанные между собой вещи: покой
души и волю»? Я знала Мамардашвили десятки лет, но на вопрос
этот так и не ведаю ответа.
25 Там же. С. 13.
Статья «Мераб Мамардашвили»
для американской
«Философской энциклопедии»
Мамардашвили Мераб (15.09.1930, г. Гори, Грузия - 25.11.1990,
Москва; похоронен в Тбилиси) - философ, большая часть
творческой жизни которого прошла в Москве и Тбилиси в 50-80—х гг. XX
в., оригинальный мыслитель, получивший мировое признание.
Основные сферы исследования Мамардашвили — философия
сознания, учение о превращенных формах сознания;
классическая и неклассическая формы рациональности; феноменология
жизни, любви и смерти; доказательство неустранимости
картезианских, кантианских, гуссерлианских мотивов как «элементов»,
измерений всякого философствования; проблемы бытия,
сознания и действия человека в условиях социализма и советского
режима; современная цивилизация и «антропологическая
катастрофа».
Мамардашвили окончил философский факультет
Московского Университета (1954), там же — аспирантуру (1957). Работал в
журналах «Вопросы философии» (1957—1961), «Проблемы мира и
социализма» (1961—1966), впоследствии — в ряде институтов
Академии наук (Институт международного рабочего движения,
Институт истории естествознания и техники); в 1968—1974 гг. —
заместитель главного редактора «Вопросов философии». В
1980—1990 гг. жил в Тбилиси, где работал в Институте философии
АН Грузии. С 1972 г. — профессор философии.
Сформировавшись во время оттепели 50 гг. XX в. и став уже в
60-х гг. самобытным мыслителем, противником социализма и
существовавшего в СССР политического режима (хотя и не будучи
открытым диссидентом), Мамардашвили был вынужден излагать
свои идеи не столько в опубликованных подцензурных
сочинениях, сколько в лекционных курсах, на которые собирались сотни
слушателей. Имея в виду талант Мамардашвили излагать самые
сложные и сокровенные философские идеи в устной форме, его
назвали «грузинским Сократом».
Часть лекционных курсов Мамардашвили, свободно
владевшего рядом иностранных языков, была прочитана во Франции,
406 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Италии и других странах. Популярность Мамардашвили и его
признание как выдающегося философа росли. Но росло и
противодействие властей, преследовавших Мамардашвили. Вот почему
при жизни ему удалось опубликовать только три книги: «Формы
и содержание мышления. К критике гегелевского учения о
формах познания». М., 1968; «Классический и неклассический идеалы
рациональности». Тбилиси, 1984; «Как я понимаю философию»,
М., 1990, а также статьи в журналах и коллективных трудах.
Трудность освоения и оценки философских идей Мамардашвили
в том, что магнитофонные записи его лекций, положенные в
основу работ, которые были опубликованы уже после смерти
философа под его именем, обрабатывались редакторами и издателями,
что делает эти книги вторичными источниками, которые
воспринимаются неоднозначно: они фигурируют в качестве составных
частей философского наследия Мамардашвили и в то же время
рассматриваются рядом специалистов как неаутентичные.
Основные сферы исследования
и главные идеи Мамардашвили
I. Анализ сознания и превращенных форм сознания в работах
К. Маркса. Для Мамардашвили, как и для ряда других
влиятельных философов России советского времени, обращение к Марксу
стало способом борьбы с догмами диалектического и
исторического материализма и обоснования самостоятельных идей.
Главные из них в изложении Мамардашвили: «Из схем марксова
анализа вытекают элементы целого ряда теорий: 1) теоретической
модели социальной обусловленности сознания; 2) теории
фетишизма и символики социального в сознании; 3) теории идеологии
(...развитая Марксом социально-философская критика
идеологии и превратилась впоследствии в то, что называется теперь
социологией знания как академической дисциплиной; 4) теории
науки и свободного духовного производства как особых форм
деятельного сознания; 5) теории сознания как орудия личного
развития человека и его ответственности в сфере культуры и
исторического действия» (Мамардашвили М. «Как я понимаю
философию». М., 1990. С. 299—300). Впоследствии Мамардашвили
скажет, что к феноменологии он двигался скорее не через Гуссерля, а
через Маркса, открывшего «феноменологическую природу
сознании, его квазипредметный характер», но — в отличие от
феноменологии XX в. — всегда вскрывавшего «за феноменами» их
причинное происхождение и «социальную систему общения,
которую феномены сознания обслуживают» (Там же. С. 303).
Мамардашвили (статья для энциклопедии) 407
К этому примыкает интерпретация понятия «превращенных
форм сознания», встречающегося уже у Маркса, а у
Мамардашвили наделяемого более широким и глубоким теоретическим
значением. Особенности превращенных форм, согласно
Мамардашвили: «Форма проявления приобретает «сущностное»
значение, обособляется, и содержание заменяется в явлении иным
отношением, которое сливается со свойством материального
носителя (субстрата) самой формы (например, в случаях символизма)
и становится на место действительных отношений»
(Мамардашвили М. Форма превращенная / Философская энциклопедия. Т. 5.
М., 1970. С. 387). Примеры: капитализированная стоимость в
системе буржуазной экономики (случай иррациональной
превращенной формы); объективная кажимость — движение солнца и
планет вокруг земли; функционирование знаковых культурных
форм; запоминающие и кодирующие устройства в электронных
машинах; символическая переработка связей сознания (по
Фрейду) и т. д.
II. Мамардашвили рано начал свою полемику с
экзистенциализмом, с французским марксизмом. Он лично дискутировал с
Ж.-П. Сартром и Л. Альтуссером. В 50—60-х гг. XX в.
Мамардашвили, как и эти критически анализируемые им французские
авторы, опирался на концепцию Маркса, но также создавал
оригинальную концепцию общества и человека. В центре позитивного
анализа Мамардашвили теория личности и отчуждения,
отвергающая сартровское понимание природы, материи,
материального в общественно-исторической жизни. «... Отправляясь от
феноменологического анализа, Сартр может видеть в проявлениях
социальной «материи», т.е. факта существования в обществе сил и
отношений, независимых от индивидов и их сознания, только
внечеловеческую и таинственную силу, которая околдовывает
людей и их отношения и ткет вместе с ними нить фактической
истории» (Мамардашвили М. Категория социального бытия и
метод его анализа в экзистенциализме Сартра // Современный
экзистенциализм. М., 1966. С. 187).
III. Ряд своих работ Мамардашвили посвятил сравнительному
анализу классического и неклассического типов, идеалов
рациональности. Специфику классического типа рациональности он
усматривал в таких его чертах: а) понятие «объективного» в
«классике» отождествлялось с внешним (пространственным), а
пространственное — с материальным, что имело важные
философские и методологические последствия; б) «внутри физической
теории, которая исследует природные явления и добивается
некоей объективной и интеллектуально проницаемой физической
408 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
картины мира, мы не можем (внутри самой же этой теории)
понять те средства, которые используем для построения этой
картины» («Классический и неклассический идеалы
рациональности». С. 5). Понимание физического мира покупается ценой
«научного непонимания» сознательных явлений (хотя как живые
существа мы свободно живем, ориентируемся и в этой сфере).
Другие признаки - принципы классической рациональности:
«принцип непрерывности воспроизводимого опыта»,
«самотождественность субъекта» (Там же. С. 9); опора на понятие
«явления»; деантропоморфизация и т. д. Неклассическая
рациональность возникает под влиянием теории относительности,
квантовой механики, в социально-гуманитарных дисциплинах — под
воздействием теории идеологии Маркса, феноменологии
Гуссерля, психоанализа Фрейда. Главные ее принципы и процедуры: а)
вместо явления — феномен; ибо «Я возвращаюсь к
феноменологическому уровню, который запрещает нам рассуждать о чем-то,
не приостановив сначала предпосылки нашего
объективирующего мышления...» (там же, с. 50); б) отказ от принятия
существования некоего «предданного мира с готовыми законами и
сущностями» (Там же. С. 64); в) полный, всесторонний учет того, что
сознание — «одно из неустранимых элементов самого объекта
исследования» (С. 79).
IV. Центральное место в философии Мамардашвили занимает
интерпретация учений ряда выдающихся мыслителей и деятелей
культуры прошлого (посмертно изданные «Картезианские
размышления», «Кантианские вариации». М., 1997; «Лекции о
Прусте». М., 1995), оригинальность которой состоит в свободном
переходе от абстрактно-философского анализа учений Декарта или
Канта к высвечиванию внутренне заключенного в них социально-
исторического и вместе с тем трансисторического культурного,
нравственного, эстетического, личностного содержания. В
результате философское сознание выступает в тесном переплетении с
коренньши проблемами, противоречиями, кризисами
цивилизации, со смысложизненными ориентациями человеческой
личности. Это реализуется, например, в историко-философском и
одновременно социально-философском образе трех «К», под
которыми подразумеваются Картезий, Кант, Кафка.
В интерпретации Декарта на первый план выдвигаются тема
cogito, которое у Мамардашвили именуется «феноменом всех
феноменов», и путей, ведущих к нему. Сознание ego cogito
трактуется, с одной стороны, как предельное абстрагирование от всего
исторически-конкретного, даже от человека, говорящее о
«позволительности», даже неизбежности трансцендентализма (в традици-
Мамардашвили (статья для энциклопедии) 409
ях Декарта, Канта, Гуссерля). С другой стороны, эта «невероятная
абстракция» реализуется, после чего она «скрыто уходит в
основание» нашего физического знания и формулирования
физических законов, хотя мы далеко не всегда отдаем себе отчет о
«совершении» абстракции. При этом абстракция
трансцендентального ego приобретает социальные, личностные, нравственные
основания и следствия. Речь идет о том, что мысль свободна, а
значит, «должны быть проложены тропы связного пространства для
мышления, которые есть тропы гласности, обсуждения,
взаимотерпимости, формального законопорядка...» (Там же. С. 115).
Второе «К» (Кант) в толковании Мамардашвили указывает на
условия, при которых человек — конечное, смертное существо,
чья жизнь могла бы стать бессмысленной перед лицом
бесконечности — творит вокруг себя особый мир, который предполагает
выбор, оценки, решения, т. е. свободу. Ибо каждый рождающийся
попадает не только в мир природы с ее жесткими каузальными
связями, но и застает, а отчасти и творит мир
«интеллигибельных» объектов. Последние, согласно Мамардашвили, суть «образы
целостностей», как бы замыслы и проекты развития.
Третье «К» — это образная ссылка на «мир Кафки», т.е. на
проникновение в человеческий мир некоторых «зомби-ситуаций»,
свидетельствующих о «вырождении», о «регрессивном варианте»
общего К-принципа: в отличие от Homo Sapiens, «т.е. знающего
добро и зло» в мир цивилизации приходит «человек странный»,
неописуемый. «Смешно, нелепо, ходульно, абсурдно, какая-то
сонная тягомотина, нечто потустороннее» — так Мамардашвили
говорит и о действиях господина К. в «Процессе» Ф. Кафки, и о
ситуации абсурда в человеческом обществе. При накоплении
потенциала абсурда в человеческой истории, в том числе
современной, речь может идти об опаснейшем цивилизационном хаосе, о
своего рода антропологической катастрофе. «Страшные идолы
страсти, почвы и крови закрывают мир, скрывая тайные пути
порядка, и оторваться от этих идолов и встать на светлые пути
мысли, порядка и гармонии очень трудно» (Там же. С. 210).
Литература (кроме указанной в статье):
Мамардашвили М. Эстетика мышления. М, 2000; Он же. Мой опыт
нетипичен. М., 2000; Он же. Сознание и цивилизация. М, 2004; Он же.
Стрела познания. М., 2004. Переводы: Mamardashvili M. Méditations cartésiennes.
Solin, 1997; Variazioni kantiane. Torino, 2003.
О нем: Встреча с Декартом. М., 1996; Конгениальность мысли: О
философе Мерабе Мамардашвили. М., 1999.
Феномен Мамардашвили
К духовным явлениям, даже выдающимся, потрясающим, не
вполне приложимо слово «сенсация». Такие, из более спокойного,
обыденного хода вещей вырывающиеся явления уместнее
называть «событиями» — в том смысле, которое придал этому слову
Хайдегтер и который лучше раскрывается не немецким Ereignis, а
русским со-бытие, т.е. нечто, сопричастное не быту
повседневности, а самому бытию. Или употреблять слово «феномен». И все-
таки последняя книга Мераба Мамардашвили, озаглавленная его
собственными словами: «Мой опыт нетипичен», — своего рода
интеллектуальная сенсация. Сенсация — уже в том, что в наше
время, заполненное злыми сенсациями-бедствиями,
катастрофами, преступлениями, случаются и бывают многими замечены,
пережиты сенсации интеллектуальные, т.е. неожиданные, яркие,
пусть парадоксальные проявления духа, ума, совести, стойкости,
свободы личности. И — что в случае Мамардашвили особенно
важно: также и философского разума. Есть сенсационность
именно в этой последней книге — в сравнении с другими
произведениями, опубликованными под именем Мамардашвили после его
смерти. Лекции о Декарте, Канте, Прусте — это (бережно)
отредактированные специалистами перепечатки магнитофонных
записей лекций Мамардашвили. Они все равно ценны, заслуженно
пользуются спросом широкого круга читателей. В книге же «Мой
опыт нетипичен» опубликованы записи, наброски, заметки
самого Мераба Константиновича. Я нахожу этот раздел самым
интересным в книге, которая кроме того включает открывающую ее
(отредактированную) запись курса лекций «Введение в
философию», а также различные доклады, выступления, интервью
Мамардашвили. В целом работа скреплена единой темой, впрочем,
проходящей красной нитью через все им сказанное и написанное:
философ милостью божьей, философ не только по профессии, но
и по самой судьбе, рассуждает о смысле, предназначении и тайне
философии, об истинно философствующей личности, о ее уделе,
пути, страданиях и ... одиночестве. Но нижеследующее — это не
рецензия на книгу «Мой опыт нетипичен», а мое продолжающее-
Феномен Мамардашвили
411
ся 1 размышление о ярком «событии» в жизни духа, в развитии
отечественной культуры второй половины XX в. — о феномене
Мамардашвили. И мне сподручно подкрепить свое размышление
тем материалом, который в изобилии дает новая книга.
* * *
Может возникнуть сомнение: не является ли само обращение к
жизни и мыслям философа слишком сухой, специальной темой,
способной овладеть вниманием сравнительно узкого круга лиц?
Опыт общения Мамардашвили со слушателями и читателями
при жизни, восприятия его мыслей в последнее десятилетие,
прошедшее со времени его безвременной кончины, говорит об
обратном. Интерес к наследию Мераба Константиновича все это
десятилетие был устойчивым вектором многомерного
культурного процесса, происходящего в нашей стране. Убеждена, он
сохранится и в будущем. Я хотела бы, рассуждая о феномене
Мамардашвили, начать как раз с последнего раздела новой книги,
который ее издатель Ю. Сенокосов озаглавил «Философские
наблюдения и заметки». И тут, действительно, во главу угла поставлена
философия — не только в том смысле, что обсуждаются ее
специфические сюжеты, а в том, прежде всего, что обо всех
затрагиваемых проблемах говорится в философском ракурсе, все мысли
как бы опираются на философский фундамент. Но по тематике,
направленности интереса с философией в этих записках
Мамардашвили соперничает политика. Это кому-то может показаться
неожиданным, парадоксальным. Да и впрямь, говоря о жизни и
идеях Мераба Константиновича, собственно, феномене
Мамардашвили, приходится сталкиваться с одним устойчивым
парадоксом, своего рода антиномией. (Не знаю, замечал ли ее он сам).
Вот одна сторона антиномии (или не снимаемого
противоречия): упорные и вполне искренние заверения Мераба
Константиновича в том, что его дело, «точка зрения» — вне «системы
координат» политики и вне забот, устремлений, страстей
политической жизни. «Я всегда, с юности, — сказал он в одном из
интервью, — воспринимал политику как существующее вне какой-либо
моей внутренней связи с этим. Я не вкладывал в мое отношение к
властям, к тому, что она делает, к ее целям — будь то хрущевские
цели или какие-то другие — никаких внутренних убеждений»
1 См., напр.: Мотрошилова И. В. "Картезианские медитации" Гуссерля и
"Картезианские размышления" Мамардашвили (двуединый путь к
трансцендентальному ego)» // Встреча с Декартом. М., 1966.
412
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
(С. 388). Перефразируя известный анекдот, он говорил, что
великие политики, идеологи и сегодняшний политический люд — не
его «компания». Правда, Мамардашвили в своих интервью нашел
нужным объясниться по поводу того, что с кем-то из
политического, идеологического люда 70—80-х гг. он все же «водил
компанию». Эти «кто-то», им названные или не названные, подчас были
его друзьями (разумеется в случае, когда это был, по словам Ме-
раба, «в общем приятный тип людей, отличающихся признаком
порядочности»). А друзей Мамардашвили никогда не предавал и
не забывал. (Его-то иные бывшие друзья запродавали, да еще как
...). Но обладая даром дружбы (лично могу это
засвидетельствовать), он не смешивал ее со своим жизненным делом. «Я считал,
что мое дело — философия ... Я философское животное, и так
было всю жизнь», — сказал он. И у Мамардашвили, по его словам,
не было с друзьями из сферы политики и идеологии «общих тем
для спора». Другое дело — коллеги. К некоторым из них он
относился с уважением и пониманием. Его описание философской
ситуации 50—70-х гг. отличается взыскательностью, но и
объективностью, не сторонним пониманием того, сколь велико было
давление всего исторического фона, признанием заслуг тех
коллег, которые — несмотря на трудности и издержки — просто
вносили в философию и культуру «цивилизованный элемент,
абсолютно необходимый в любом нормальном обществе». Это были,
сказал Мамардашвили, «логики, эпистемологи, занимавшиеся
теорией познания, историки философии. То есть специалисты
тех дисциплин, в которых можно было работать даже в те
времена, выбирая темы, не связанные с политикой». Особо он выделял
усилия тех, кто способствовал «просачиванию информации в
нашем закрытом обществе о западной философии» (С. 393). «Наша
порядочность и так называемая прогрессивность» (так
Мамардашвили подключил и себя к этим группам философов) измерялась
просто выбором тем и сюжетом, отказом от официозной
марксистско-ленинской тематики.
Но одновременно Мамардашвили как бы очертил вокруг себя
плотный круг, внутри которого ничто «внешнее» не имело
первенствующего значения — ни дружба, ни общий коллегиальный
интерес. А значение имело, как сказано, только личностное
служение Делу, философскому делу — как его понял и выстрадал
сам этот мыслитель. Дело же настолько не совпадало с
окружающей социальной действительностью, с политикой, с
государственной реальностью, с официозной, да и с половинчатой
оппозиционной (частью самостоятельной, частью подконтрольной)
философией, что для Мамардашвили выход был один — уйти во
Феномен Мамардашвили
413
внутреннюю эмиграцию (в Праге, когда он работал в журнале
«Проблемы мира и социализма», эмиграция была, заметил он
сам, «позолоченной»). Конечно, чтобы жить и выживать, он
вынужден был состоять на государственной службе. Но и здесь, не
жертвуя достоинством, он умел выгородить для себя поле
свободы, неприкосновенности личности и убеждений. Ему удалось
даже сформулировать своего рода максиму и условия некоторого
«общественного договора» между государством и независимым
мыслителем: «Каков бы ни был деспотизм, для философа,
принимающего (по определению, иначе не бывает) обычаи, законы и
нравы своей страны (как необходимую бытовую маску и
джентльменское соглашение или als ob = допуск взаимного
гражданского мира), есть тем не менее минимальное условие sine qua non:
существование республики de lettres*, публичного мышления,
мышления вслух о мышлению подлежащем, не подвергаемому
правительственному или государственному гонению и запрету.
Если и этого нет, контракт разорван. Если нет и права быть
услышанным» (С. 349).
Значит ли это, что Мамардашвили внял той норме, которую
обосновывал еще Платон — философ должен, де, не «ведать пути
на площадь» политики? Отнюдь нет — подобно тому, как не
следовал своему же благому пожеланию сам Платон, который, как
известно, по меньшей мере три раза ввязывался в такое
безнадежное политическое дело, как перевоспитание наследственных (си-
ракузских) тиранов.
Ибо в жизни и идеях Мамардашвили/ в какой-то мере вопреки
его сознательным усилиям и установкам, явственно
высвечивалась и вторая сторона антиномии: он глубоко интересовался
социальными вопросами, в том числе политикой; не примыкая,
правда, ни к какой определенной политической силе ни в России,
ни в Грузии, он подчас втягивался (особенно в последние годы) в
острую политическую борьбу. Вот и в дневниках, записях,
интервью, опубликованных в обсуждаемой книге, не просто
проявляется, но, я бы сказала, перехлестывает через край его социальный,
политический темперамент. Да, Мамардашвили по существу
своего дела был бесконечно далек от тех конкретных политических
сил, которые пробудились к жизни (скажем, в эпоху Хрущева), в
том числе смотрел суровым критическим взглядом на усилия
реформаторов того и последующего времени, стремившихся
придать социализму ли, ленинизму ли «человеческое лицо». Однако
* букв.: "республики писем", здесь: республики мыслящих.
414
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
взгляд Мераба Константиновича все же не был просто сторонним;
его отношение к политическим делам и событиям было, что
нетрудно доказать его собственными словами, весьма
заинтересованным, горячим, резким. Ведь опубликованные в книге записи в
Ежедневнике относятся к 1968—1970-м гг. И написанное там ,
стань оно известным соответствующим инстанциям, могло
послужить основой именно для политических репрессий.
Записи, сделанные в начале и середине 80-х гг., тоже были, с
точки зрения тогдашних политических условий,
«неблагонадежными» и «опасными». Главное в них — резко, темпераментно,
ясно выраженная ненависть ко всем социальным, идейным устоям
советской действительности, так называемого социализма. Чего
стоит, например, такая запись: «Полное огосударствление
экономики и общества, однопартийность, неправовое состояние и т.д.
суть поэтому не заблуждения или вынужденные меры момента (в
силу бюрократизации затем окаменевшие), а проявление
имманентной логики и сути данной власти, условия sine qua non ее как
она есть... Отсюда вечная война, объявленная государством
народу, обществу» (С. 319). К той же теме относится богатый смыслом
и следствиями набросок анализа этой власти с точки зрения ее
закрытости, ее самовоспроизводства, обслуживания самой себя.
«Это антижизнь», — замечает Мамардашвили и добавляет:
«Социализм» в действительности вовсе не есть понятие (социально-
историческое), имеющее в виду решение определенных
социальных проблем (исторически — органических, выросших из
реальной массы человеческих историй) и социальный строй или новую
форму жизни, устанавливаемую для этого. Это не входит ни в его
цель, ни в содержание. Понятие это означает определенный тип
власти и ее упражнения и воспроизводства. Здесь нет никаких
целей вне самой власти» (С. 318). Не забудем, это было написано в
конце 60-х гг., когда многие российские интеллигенты питали
надежды на реформирование «реального социализма».
То, что Мамардашвили записывал в Ежедневниках, он в каком-
то виде проговаривал на лекциях, в докладах, интервью. В прямой
же и открытой форме он мог доверить свои суждения только
бумаге или ближайшим друзьям. Поэтому основное у этого
философа — не политическая, социальная смелость, которая, конечно,
была, но у которой был свой предел: ведь при советской власти он
не выходил на диссидентские баррикады. Специфическим
оружием социального протеста в случае Мамардашвили стала
именно глубокая, сложная, хорошо артикулированная философская
мысль. Власть быстро поняла всю опасность этого оружия и
преследовала Мамардашвили так, как она могла в те годы: Мераба
Феномен Мамардашвили
415
Константиновича не пускали за границу, то и дело запрещали его
лекции, выгоняли с работы. Опасность протеста Мамардашвили
для существующей власти была вот в чем: он не просто издевался
над нею и ее отдельными проявлениями, деяниями (например,
писал и, наверное, говорил о безвластии Советов при советской
власти), а философски раскрывал природу социализма, природу
тех веками складывавшихся отношений между властью и
гражданами, которые противоречат тенденциям, смыслу, будущему
человеческой цивилизации, а потому обречены на историческое
поражение. Поэтому и сегодня не устарел приговор в адрес
власти, который Мамардашвили вынес двадцать лет назад: «власть
создает и запутывает проблемы, которые только властью же могут
решаться, и так до бесконечности» (С. 366). Или — о лозунгах, о
«сухом законе» начала перестройки: «Чисто паразитическая
власть. Она съедает все вокруг себя. Теперь они ритуально
выкрикивают в своем юродивом «два притопа — три прихлопа» что-
то «об интенсивном versus (против — H. М.) экстенсивное
развитие»! Но желания, потребности, психический склад и права
людей — тоже «территории», все экстенсивнее охватываемые и
выкачиваемые властью вместо внутреннего культурного и
гражданского развития. Чисто экстенсивное пожирание людей,
человеческих сил и возможностей... Это видно в компании сухого закона:
опять чисто внешнее и замена жизни действом, а не внутренняя
дисциплина и традиция работы, усилия по своему свободному
самоосуществлению и возрождению. Вернее, это сухое беззаконие
вместо беззакония и произвола в алкоголем размягченной среде.
Но пить-то будут, и итог: задавленность и бесцельность всякого
усилия жизни в квадрате» (Ç 369).
Не менее тревожат Мамардашвили и не менее резко им
фиксируются многочисленные, в разных сферах жизни
проявляющиеся следствия этой системы власти. Речь идет о явлениях,
существующих и до сих пор. Жизнь становится абсурдом. «Что ни
шаг — нагромождение абсурдов, нелепиц и бессмыслиц, все не
лад» (С. 372). Или: «Такое ощущение, будто каждый раз
оказываешься в самой середине чужого бреда, будто просыпаешься в
чужом бреду» (С. 340). «Или: отнимаемый продукт дороже (и его
меньше), чем покупаемый у свободного и независимого
производителя. А отнимают, чтобы дешевле! Фантасмагория абсурда,
бедлам нелюдей! Давилка какая-То. И еще взять мысленные
представления и характеры (этические, идеальные и т.п.) в этой самой
дорогостоящей и самой нищей экономике!» (С. 347).
Мераб Мамардашвили ушел из жизни чуть более десяти лет
назад. Ему не суждено было воочию наблюдать трудную динами-
416
H. В. Моттошилова «Работы разных лет»
ку последнего десятилетия, оценивать возникшие и угасшие
ожидания, развенчанные иллюзии — что в России, что в родной
Грузии, куда он в 80-х гг. вернулся из Москвы. Но ему удалось
заглянуть в будущее: он как бы отвечает на наши тревожные
вопросы о причинах множества неудач, постигших в России и в
бывших советских республиках реформы и реформаторов. Но он по
существу дает и ответ на вопрос о том, почему были обречены на
провал прокоммунистические силы реванша, почему так
исторически недостоверна искаженная оптика ностальгии, под
влиянием бедствий и неудач овладевшая немалым числом людей. Ма-
мардашвили «отвечает» на подобные вопросы просто тем, что
крупными, энергичными мазками набрасывает, зарисовывает с
натуры типологический портрет окружающей советской
реальности и ее конвульсий в первые годы перестройки. Ибо процессы
распада, неизбежно возникшие в последнее, реформаторское
десятилетие, в духе Мамардашвили справедливо трактовать как
следствие того многолетнего «разрушения социальной ткани» в
эпоху социализма, о котором убедительно и страстно рассуждает
философ.
Почему так многое в нашей стране не удается, почему
конкретные реформы — даже при благих намерениях реформаторов
— нередко терпят бедствие, оборачиваются дурными,
страшными следствиями? Общий ответ на этот вопрос — в словах
Мамардашвили: «Цепная реакция рабства. Безвыходно запутываешься,
ухватившись за любое звено» (С. 325). Мы снова и снова
задумываемся над вопросом о том, почему на наших «необъятных и не
просматриваемых территориях» (слова Мамардашвили) так и не
складываются нормальные отношения гражданина и власти.
Почему такое удручающее впечатление производит политическая
жизнь в России? Ответ — в формуле Мамардашвили: «Отсутствие
исторического накопления личностного развития как причина ...
невозможности политики» (С. 315). Или: «Кто решает? Никто,
Броуновы движения в коридоре. Все решено до решения ... Сито
отбора дает все ухудшающийся человеческий материал наверху»
(С. 315). У Мамардашвили — целая палитра интеллектуальных
зарисовок на эту тему. Главное он видит, как мы установили, в
наследии целых веков рабства, в не окончившемся «монгольском
иге». Мысль это не оригинальная, да Мамардашвили и не
претендует здесь на оригинальность. Более того, он напоминает:
«Уже от Герцена (через Толстого) тема: Чингисхан с телеграфом
(и добавим: с электрификацией). И с планом: можно не
проходить огнем и мечом» (С. 334). «Кто сказал, что монгольское иго
когда-то кончилось? Да в самые лучшие времена это была европей-
Феномен Мамардашвили
417
екая физиономия с монгольским флюсом ... Нет, монгольское иго
до сих пор длится и никогда не кончалось» (С. 342). Или: «Жало
дикости в сердце — как и 200 лет назад. Моральное и культурное
одичание» (С 328).
Вот и общая разгадка. Мамардашвили смог логично и
убедительно предположить (да уже и увидеть в первые годы
перестройки), что произойдет в обществе, когда — после столетий
рабства, нецивилизованности, закоснелости в моральном и
культурном одичании — в этом обществе настанет час давно
назревших и сознательно предпринимаемых усилий, направленных на
преодоление антицивилизованного состояния. «Монгольское
иго» одичания не свергнуть в одночасье. Десять лет
несопоставимы с веками его господства. Более того, Мамардашвили логично
предположил, что веками господствовавшие структуры рабства
будут еще долго сопротивляться, причем всего сильнее — в умах
и душах каждого из нас. И есть у Мамардашвили мрачное, боюсь,
небезосновательное пророчество: «Все реальное смертно (лишь
мертвое не может умереть). Поэтому ирреальная империя,
империя-мертвяк, империя-призрак, упыреобразная потусторонность,
питающаяся живой кровью, может быть вечной» (С. 361).
Итак, согласно Мамардашвили, истоки рабства — в духовно-
нравственном состоянии конкретных людей, причем не
отдельных «незрелых», «отставших», а всей массы народа. «В той мере, в
какой у людей этой культуры есть душа, она поражена роковой
бесформенностью. Ужас конечного, отталкивание от него и
убегание вразброс, в выхлопы каких-то сверхсмыслов, сверхобъятий
и сверхбыта» (С. 342). Итак, преобразование, точнее,
самопреобразование наших душ, пока пораженных «роковой
бесформенностью» — вот задача, столь же срочная, сколь и
долгосрочная, а ее нерешенность — общее объяснение неизбежности
неудач, трудностей на пути социально-исторических
преобразований в России, хотя сама необходимость преобразований
исторически назрела и не может быть отменена по произвольному
решению каких угодно сил.
На первый взгляд все это кажется хорошо известным, не раз
сказанным и услышанным. И верно, Мамардашвили в своих
мыслях о России не одинок. Но на деле, в действительном
общественном сознании мысли и формулы, родственные только что
процитированным, по существу не услышаны и не приняты.
Причину и исток неудач, отсталости страны подавляющее
большинство россиян видит в чем угодно, только не в самих себе, не в
«неразвитости», «рыхлости» собственных душ и в вытекающей
отсюда постоянной, роковой несуразице наших общих дел.
418
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Более конкретные опознавательные знаки этой душевной,
нравственной бесформенности — в выразительной зарисовке
Мамардашвили — вкратце таковы. Это, например, душевная
инфантильность, инфантильность действий, «детская»
безответственность на всех уровнях. «Извечное рабство не дает расти. Рабы
остаются детьми, не вырастают. И глобальное, итоговое их
сообщество, страна — инфантильное чудовище» (С. 345). «Не сеют и
жнут, а миф инсценируют и разыгрывают» (Там же). Безжалостно
сказано и об интеллигенции: «Особое племя детей, акселератов и
переростков, — русская интеллигенция, радикальная русская
общественность» (С. 360). И в самом деле, не отсюда ли не
покидающее нас впечатление, что самые масштабные радикальные
шаги делаются в нашей стране ... безответственными,
нашалившими детьми и потом оборачиваются неисчислимыми
бедствиями? Кто, например, понес ответственность за Чернобыль?
«Инстинктивно устроили на какое-то мгновенье, — пишет
Мамардашвили, — атомный Гулаг. И по этой инстинктивности нужно
судить о сути происходящего. Она его лицо» (С. 360). Или:
вследствие господства рабства — повсеместное распространение тех
эмоций, страстей, которые Ницше пометил словом «ressentiment», т.е.
злобы, зависти, доносительства и т.д. «Т.е. рабская гордость силой
хозяина и рабское усердие ее увеличивать. «Ничему не быть,
никому не жить». Вот какая страсть оказалась мобилизована и какая
страсть победила» (С. 332). Еще один хороший образ нашей
повседневности у Мамардашвили: «Партизанская война всех против
всех».
Сегодня вновь и вновь звучит вопрос: из-за чего произошло
невиданное и, казалось бы, неожиданное падение
нравственности? Мамардашвили помогает скорректировать сам вопрос:
произошло неминуемое разрушение псевдонравственносги, лишь
прикрытой морализаторскими фразами, которые все знали
наизусть и часто декламировали. Мамардашвили делает лаконичную
запись: «Тьма морали. И мораль тьмы». Это — лишь одно из
проявлений социально-политического театра абсурда, в котором
всем нам и каждому из нас было предписано играть абсурдную
же роль. Особенно часто Мамардашвили возвращается здесь (как
и в других работах) к проблеме того искусственного языка,
который внедрялся на этом социально-политическом театре абсурда.
А тема языка и псевдоязыка органично перерастает у
Мамардашвили в более широкую тему сознания. В обществе абсурда
нарушено нормальное функционирование сознания и
перечеркнута в принципе организующая, освобождающая роль его идеаль-
ностей. Если нормальное функционирование сознания подпадает
Феномен Мамардашвили
419
под «аксиомы различительное™», т.е способности быть
мотивированным тем, что не имеет чисто природных причин, если
свободные явления — это свобода и ответственность (подчас и отказ
от безраздельной свободы), — то в противоположность таким
«телам» сознания при разрушении бытия возникают «сплошные
антитела сознания... обманки, манки... Вырезана химера совести ...». И
вот результат: межумочное состояние понимания и такое же
состояние социальной материи. Приведу развернутую (довольно
сложную, но емкую) формулу Мамардашвили:
«редуцированность (amorphie), продуктом которой является homo soveticus (как
и langue de bois, ибо естественный язык не может служить этой
цели, как и homo historicus, в воспроизводстве редуцированного):
власть — продукт редукции, но, раз возникнув, работает на то,
чтобы общество было в таком состоянии, чтобы воспроизводилась
эта власть. Это же (т.е. та же формализованная и
регламентированная amorphie) в непонятности и нераспутываемости как
состоянии ума. Вырожденное отношение истинности (ложность),
как и естественного языка. Так что: не все ли равно, отчего
тошнит? — одно в разном» (С. 337). Могу засвидетельствовать:
экзистенциалистский (сартровский) образ тошноты почти буквально
передает многолетнее состояние Мераба Константиновича. Его,
действительно, тошнило от советской власти и ее проявлений. Да
ведь и многих из нас тошнило, о чем иные люди уже успели
позабыть ...
Поскольку Мамардашвили несмягченно, резко,
нелицеприятно говорит о России, русской интеллигенции, «русской душе»,
некоторые читатели (вырвав то или иное высказывание из
контекста), склонны упрекать его в русофобии. К счастью, в новой
книге есть материалы, позволяющие вполне определенно
высказаться по этому деликатному вопросу. В известной беседе с
Н. Эйдельманом, сопоставляя европейское — артикулированное,
богатое связками — мышление с мышлением российским
(именно российским, а не русским!), Мамардашвили уточнил: «Мы, к
сожалению, эту работу не проделали, я в Россию включаю и моих
грузин. Я же не этнически расовые вещи говорю, я имею в виду
судьбу, определенное пространство, называемое Россией» (С. 290).
Эйдельман прямо-таки мертвой хваткой вцепился в
Мамардашвили, допытываясь, осознает ли тот себя грузином. «Я сознаю
себя грузином», — твердо ответил Мераб Константинович. И
пояснил, что это значит. «Скажем, я грузин потому, что я как
духовное, нравственное существо — продукт структуры многоголосого
грузинского пения». И тут же стал распространяться об
исторических упущениях грузин: «Грузины не были мореходами, и это их
420
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
погубило... Нация может упустить что-то в прошлом, то есть не
создать какой-то механизм, как, например, грузины —
мореплавание, и потом платить за это перед лицом более сильных наций»
(С. 292, 294). Из многих документированных высказываний Ма-
мардашвили ясно: он был весьма далек от того, чтобы
пренебрежительно относиться к национальному самосознанию,
национальным чувствам, если они не принимают форму уродливого,
кичливого и злобного национализма: «... Мы не отказываемся от
понятия «нация», потому что у нас нация в данном случае
прототип духовной нити, которая связывает с тем, что мы разумом
осмыслили и не можем ни забыть, ни добровольно отказаться — это
было воспринято как членовредительство. Поэтому, по идее,
русский будет защищать Россию на поле боя, грузин будет защищать
Грузию и так далее» (С. 300). Если кто-то подозревает Мамарда-
швили в том, что его осознание самого себя грузином
предполагает ненависть к «имперскому» русскому народу, то пусть он
вдумается в следующие слова философа: «Это социальное
угнетение и насилие над всяким проявлением свободной воли и
порождает национальную рознь. Ибо они всегда конкретны, чьими-
то руками. Над Карабахом властвуют через Баку, т.е.
азербайджанцами, а над Баку Москвой, т.е. русскими. Эта игра
различиями воспроизводит общее структурное определение этой
империи: это не империя русского народа, а империя посредством
русского народа. Т.е. он сам здесь вещь, а не лицо, и вещь весьма
жалкая» (С. 364). Или кратко: «Это не господство русского народа.
Это господство посредством русского народа» (С. 359).
Что же до нелицеприятной критики российских порядков,
«российского мышления», «русского человека», то не с Мамарда-
швили это началось: Чаадаев, Герцен, Достоевский, Соловьев,
Бердяев — его предшественники в деле культурной,
исторической, национальной самокритики, без которой, вне всякого
сомнения, невозможно решительное и успешное продвижение
вперед огромной многонациональной страны, именуемой Россией. В
этом отношении чрезвычайно интересны мысли Мамардашвили,
пробужденные чтением работ Василия Розанова, где также
немало тревог о бедах и судьбе России, критических суждений о
характере русского человека. Мамардашвили, что легко видеть из
текста, поддерживает меткую национальную самокритику
Розанова, но считает ее непоследовательной. «Розанов, с одной
стороны, говорит, что не работали и не любили, себя не уважали (а как
не уважать, если — сосуд Божий) и не растили в конкретном
устроительном деле, т.е. не были «Божьими людьми» и в сосуд не
превратили, а, с другой стороны, что им не «давали» (христианст-
Феномен Мамардашвили
421
во не давало), и обвиняет христианство в бессилии ... Невнятица
и женственная дряблость мысли, ослепление, наведенное в роза-
новском уме предзаданным «пунктиком» ... И опять
происходящее в России — всемирно, так сказать «всемироносно»: русская
немощь — немощь всего христианства, Евангелия как такового. А
в основе — все то же русское: «давайте», «кормите с ложечки»,
«помоги, только помоги нам для ходьбы». И вот громкая жалоба
... на недокормленность материнским молоком. А не на себя, что
желудка не вырастили до более сложной пищи и ног, которые без
помочей могли бы обходиться. Хотя, казалось бы, именно с
жалобы на не уважавшего себя русского человека Розанов начинает. А
кончает: «Мы вопияли к Христу, а он не помог»» (С. 358). Эти
рассуждения (и Розанова, и Мамардашвили) очень актуальны
сегодня, когда самые распространенные в России умонастроения —
инфантильное иждивенчество, неуважение человека к себе и
ближнему, неверие в свои силы, ожидание помощи извне (и укус
в руку, подавшую помощь!), сетование на происки разных сил —
от природных до внутри- и внешне-политических, роптание на
самого Бога, «забывшего» Россию... Или как говорит
Мамардашвили: «российский человек» (заметьте снова: не русский, а
российский) не выносит сложности социальной жизни, пасует перед
ней, обижается на действия и отношения вещей, винит их и
должен их уничтожить». Понятно, что такой удар по «отношениям
вещей» оборачивается кровавым ударом по человеку, по народу,
по своей нации. Отсюда вывод: не следует лелеять болезненные
чувства национальной обиды, прикладывая нецелительный
«бальзам» национальной спеси. И не надо лезть в бутылку, когда
кто-нибудь (все равно, русский или не русский по этническому
признаку) говорит о болезнях души народа, о цивилизационной
отсталости нашей страны. Наоборот, в эти болью
продиктованные слова надо вглядеться как в духовное зеркало, чтобы самое
высокое в истории страны, народа использовать для трудного
исторического очищения, цивилизования — всех и каждого из нас.
Нам как никогда важно глубоко и серьезно задуматься не о чьих-
то «антирусских» происках, заговорах и т.д., а о нашей
собственной жизни, вине, ответственности. Ведь Мамардашвили
безусловно прав, когда говорит: «Социальное, как и духовное,
творчество возможно только при условии достаточного количества
взрослых, не инфантильных людей, способных полагаться на
собственный ум, не нуждающихся, чтобы их водили на помочах.
Независимых от внешних авторитетов или инструкций, а имеющих
мужество следовать внутреннему слову, внутреннему голосу»
(С. 257). И такие люди в России, конечно, были и есть. Об этом го-
422 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ворят социальные сдвиги, уже произошедшие. О том же
свидетельствуют высочайшие взлеты российского духа, культуры,
науки многонациональной России. Но обилие социальных неудач в
XX в., для нашего цивилизационного рывка вперед, в сущности,
потерянном, говорят, видимо, о том, что «достаточного
количества» людей, способных остановить негативный исторический
ритм, в России еще не сформировалось. Для выполнения этой
задачи нужно не только высочайшее напряжение сил нации.
Необходимо, как воздух, ответственное, глубоко самокритичное
самосознание народа в целом и «достаточного количества»
повзрослевших индивидов. Пока, увы, этого нет ...
* * *
Нельзя забыть о ранее сказанном: Мамардашвили переводит
всякий разговор (в том числе и политический) в плоскость
философии, для него наиболее важную и естественную. Так и в новой
книге, упомянутый текст «Введение в философию» открывается
словами Мамардашвили, как раз и помечающими главную тему
не только этой книги, но и всей его жизни: «"Что вы, собственно,
имеете в виду, когда говорите, что занимаетесь философией?" —
вот вопрос, и все, что последует ниже, будет своего рода
объяснением с читателем по этому поводу. С одной предваряющей
оговоркой: это лишь попытка передать путем рассуждения вслух
некую манеру или угол зрения, своего рода устройство моего глаза
относительно видения вещей» (С. 31). В этих словах отчасти и
содержится намек к разгадке той тайны, о которой ранее вскользь
упоминалось. Она не перестает волновать как почитателей, так и
критиков Мамардашвили (а последних тоже не так уж мало): в
чем секрет того, что слова и книги тонкого, сложного мыслителя,
который все им обсуждаемое пропускал через призму
философии, находили при жизни и до сих пор находят путь к умам и
сердцам многочисленных слушателей, читателей, подчас весьма
далеких от философии?
Не об ученых определениях философии (а им несть числа)
сначала должна идти речь, говорил Мераб Константинович.
Определения, споры о критериях и т.д. могут лишь запутать тех, кто
хочет приобщиться к философии. Но есть, к счастью, нечто такое
в нашем опыте, что интуитивно помогает каждому, именно
каждому, войти, если он захочет, во врата философии. «Ибо речь
идет об обращении к тому, что уже есть в каждом из нас, раз мы
живы и жили, раз случилось и случается такое событие, как
человек, личность». Жизнь человека — уже свершившееся событие, и
путь к философии и в философию, как его толкует Мамарда-
Феномен Мамардашвили
423
швили, состоит в том, чтобы учиться понимать саму возможность
этого события в мире. Итак, мы должны помыслить о
«человеческом в человеке», о человеке как лице, а не вещи, что ведь очень
близко нашей обычной жизни, весьма важно для любого из нас.
Это и есть условие вхождения в то, что Мамардашвили называет
«реальной философией», в отличие от специальной «философии
учений и систем». Философии — парадоксально утверждает
Мамардашвили — нельзя учить и научиться как некоей сумме и
системе знаний, как это делается, скажем, в случае физики, химии
или другой дисциплины. У приобщения к философии есть
непременная предпосылка, необходимое условие: «только самому (и
из собственного источника), мысля и упражняясь в способности
самостоятельно спрашивать и различать, человеку удается
открыть для себя философию, в том числе и смысл хрестоматийных
ее образцов, которые, казалось бы, достаточно прочитать и,
значит, усвоить. Но, увы, это не так. «Прежде — жить,
философствовать — потом» — говорили древние» (С. 35).
«Я живу, следовательно, я философствую» — не эту ли
максиму слушатель и читатель должен был, к своему облегчению,
узнать от Мамардашвили? В общем смысле тезис верен, но только
как возможность. Реально же вхождение в философию еще
должно состояться, свершиться, для чего нужны дополнительные,
очень серьезные усилия со стороны индивида. Смысл первого
вовлечения стороннего человека в философию Мамардашвили
видит скорее не в обнадеживании (раз ты живешь, значит, уже
философствуешь), тем более не в загадывании «готовых задач» и
расстановке «указующих стрелок мысли», а в другом обращении
к человеку: ты, и только ты, только из собственного опыта,
рождаешь в себе, притом «естественным и невербальным образом»,
«определенные вопросы и состояния» (С. 35), приближающие
тебя к философии. И читатель, слушатель, вдруг обнаруживал —
кто в согласии со своими ожиданиями, а кто неожиданно, — что
Мамардашвили уже «завлек» его в философию, уже заставил
идти по совсем непростому пути, на котором надо освобождаться от
привычных стереотипов, прилагать немалые и вполне
самостоятельные мыслительные усилия. Оказывается к тому же, что эти
мыслительные усилия по овладению первоосновами философии,
к тому же суть усилия нравственные, глубоко личностные,
духовные. Вот это, пожалуй, и есть главная тайна притягательности,
успеха сложных и напряженных философских лекций
Мамардашвили: для тех, кто их слушал или кто читает их сегодня, сразу
«сенсационно» открывается и потом постоянно сохраняется
созвучие между вековыми усилиями философии и миром каждой
424
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
человеческой личности. Это и означает, согласно Мамардашвили:
рождается в человеке «движение души», направленное на «поиск
человеком ее же» души, притом не в какой-то общей, абстрактной
форме, а по поводу вполне конкретному и никому заранее не
известному. Тебе остается «вслушиваться» в прозвучавший для тебя
голос души, стараясь самому различить вопросы, которые она
тебе задает.
* * *
Еще один пучок нитей, связующих у Мамардашвили
рассуждения о политике, об окружающей действительности и сложную
ткань напряженно развертывающегося философского дискурса
— это обращение к миру человеческой личности,
освобождающейся или уже достигшей большой меры внутренней свободы.
Вот общая формула: «Иди и не бойся: Бог с тобой и в тебе там, где
ты сам» (С. 344). Или: «То, что необъяснимо (так сказать, без
причин) болит, и есть «душа», по определению. И человек
испытующий есть человек в поисках своей души» (С. 343). Гордо и даже
торжественно экзистенциальный философ Мамардашвили
обозначает ситуацию личностного выбора: «Когда мы делаем выбор,
решаем, мы целый мир, мировую цепь кристаллизуем позади
себя» (С. 366). Сейчас щемящее чувство вызывают у нас слова Мера-
ба Константиновича: «Мысль должна замкнуться, как замыкается
круг жизни. Поступок раз и навсегда» (С. 377). Круг жизни
Мамардашвили замкнулся — более десяти лет назад. Он совершил
свой «поступок раз и навсегда». «И мне просто повезет, — писал
Мамардашвили, — если на мою любовь (к философии — H. М.)
вдруг откликнулся, если вдруг сказанное мною будет кем-то
понято. Я должен рассматривать это как благость, как везение, и
тогда я человек». Эти «благость», «везение», о которых мечтал
философ, — сбывшийся и отрадный исторический факт. Не в том
смысле, что многие уже поняли его философское наследие, а в
том, что все больше людей стремится его постигнуть. И если
задуматься, подобных отрадных духовных феноменов не так уж
мало в сложной и противоречивой жизни нашей страны
последних десятилетий. Это внушает надежду на задержавшееся, но так
нужное обновление духа и души, порядка и устоев жизни
многострадальной России.
V.
Драма жизни, идей и грехопадений
Мартина Хайдеггера
Пролог и ... эпилог
«Дело Хайдеггера» в юбилейном году
В 1989 г. философская общественность мира отмечала 100-
летие со дня рождения Мартина Хайдеггера. Его единодушно
причисляют к когорте выдающихся мыслителей, а некоторые
даже считают «философом номер один» нашего столетия. Юбилей
стал в высшей степени противоречивым событием.
С одной стороны, он подтвердил возросшую популярность
хайдеггеровской философии во всем мире. Юбилейные
конференции проводились во многих философских центрах стран
Запада и Востока. Прошла, и, по-моему, с немалым успехом, такая
конференция и в Москве.
С другой стороны, именно к юбилейному году достигли своего
пика обострившиеся в 80-х гг. дискуссии по «делу Хайдеггера»,
связанные конечно же с его нацистской ангажированностью.
Так получилось, что юбилей М. Хайдеггера проходил в
обстановке накалившихся страстей, которые, кстати, не охладились и
не утихли и в послеюбилейном 1990 г. Охарактеризовать эти
дискуссии надо, чтобы понять, к какому эпилогу, но тоже
незавершенному, пришло сегодня «дело Хайдеггера». Я выделила бы три
главные позиции, три подхода к этой проблеме, которые
выкристаллизовались в последние годы и особенно ярко проявились в
последних публикациях и спорах. (Внутри каждой из позиций
тоже есть существенные различия в оттенках.)
Первая позиция, исторические истоки которой можно
проследить в идейно-нравственных приговорах Хайдегтеру, вынесенных
еще в 30-х гг., во время второй мировой войны и особенно сразу
после нее, оказалась значительно укрепленной благодаря
нашумевшей резко анти-хайдегтеровской книге живущего во Франции
чилийского философа Виктора Фариаса «Хайдеггер и нацизм».
Она была переведена с испанского на французский («Heidegger et
426
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
la Nazisme». Р., 1987), а потом и на другие европейские языки. В
книге были помещены и обсуждены новые, я бы сказала, в
основном компрометирующие материалы, связанные с нацистским
прошлым М. Хайдеггера. Литература послевоенного времени,
посвященная этой теме, вообще заметно пополнилась в самые
последние годы. И если книга Фариаса подверглась критике (в ряде
случаев достаточно справедливой), то в целом позиция
обвинителей получила подкрепление благодаря новым исследованиям и
документам (пример — документальные исследования X. Огта,
Р. Мартена, на которые я в дальнейшем буду ссылаться). Так
история именно к юбилейному году преподнесла совсем не
юбилейный подарок: что бы там ни говорили апологеты не
желавшего покаяться в нацистском грехопадении Хайдеггера, а прошлое
не прощает и великим людям пусть даже временные фашистские,
то бишь националистические и тоталитаристские, опьянения.
Итак, первый — «обвинительный» — подход основывается, во-
первых, на идее о непростительности грехопадения Хайдеггера,
во-вторых же, на утверждении о том, что заигрывания с нацизмом
не были случайными, а коренились в системе хайдеггеровских
философских убеждений, внутренне породненных с фашистской
идеологией «почвы» и «крови». Оттенки этой позиции связаны с
неодинаковым ответом на вопрос: остается ли, за вычетом
нацистского греха и профашистских идей, еще что-то в текстах M
Хайдеггера, что позволяет считать его великим мыслителем. Одни
авторы склонны давать на вопрос, по существу, отрицательный
ответ, объявляя также и ранние идеи, произведения философа
зараженными националистической чумой и даже причисляя их к
идейным источникам фашизма. Другие авторы выделяют хайдег-
геровские работы (особенно «Sein und Zeit»), которые, по их
мнению, носят на себе печать философского гения и потому уже
неотделимы от магистрального развития мировой философии.
Вторую — «адвокатскую» — позицию занимают исследователи,
которые — тут тоже выявляется разнообразие оттенков - либо
прилагают усилия для частичной или полной социально-
политической реабилитации Хайдеггера; либо считают его грех
незначительным, во всяком случае никак не повлиявшим на
грандиозность хайдегтеровского вклада в мировую философию;
либо объявляют сам вопрос о политической ангажированности
мыслителя неинтересным или нерелевантным внутренней логике
философского мышления.
Третий подход (я бы назвала его подходом «присяжных
заседателей») — это попытка объективно разобраться в хайдегтеров-
ском «деле», раз уж, к прискорбию, возникло оно само и сложи-
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 427
лись те крайности первых двух позиций, о каких бы их оттенках
ни шла речь. Поскольку я придерживаюсь именно третьего
подхода, то и изложу его, так сказать, от себя. Не вникать а
«неинтересный» для кого-то спор о политической вовлеченности
Хайдеггера, да и всякого другого влиятельного философа, особенно если
они оказались ангажированными тоталитаристским государством
и национал-социалистской идеологией, — это роскошь, которую
сегодня никак нельзя себе позволить. Тем более в наших двух
государствах - германском и советском, тоталитаризм и идеология
которых стали первопричинами стольких кровавых бедствий. И
поэтому я, откровенно говоря, не могу не только принять, но и
понять снобистские замечания типа: мне любая политика
неинтересна; я лучше займусь расшифровкой захватывающе
интересных текстов Хайдеггера. Но, простите, что же и сегодня вовлекает
нас в «неинтересный» спор, если не трагедия жизни и упрямая
нераскаянность самого Хайдеггера? Хайдеггер добровольно, с
определенным энтузиазмом ринулся в мутный поток национал-
социалистического движения. А ведь другие классики немецкой
философии XX в., тоже столкнувшиеся с кошмаром гитлеризма,
например К. Ясперс или Г.-Г. Гадамер, не дали повода для
подобных споров.
По моему мнению, совпадающему с суждениями многих
авторитетных современных философов — и, кстати, тонких
исследователей Хайдеггера, каждый хайдегтеровед именно из-за
страшной истории тоталитаристских многомиллионных человеческих
жертвоприношений обязан занять определенную позицию в
споре, самом, быть может, принципиальном из социальных,
политических и идейно-нравственных размежеваний XX в. Он должен,
далее, при анализе хайдегтеровских произведений и текстов —
многие из них, действительно, захватывающе интересны для
философов — чувствовать и регистрировать малейшие
поползновения, тем более явные уклоны в философию «фюрерства», в
националистическое почвенничество и расизм любого оттенка. Но
неверно было бы, мне кажется, не почувствовать и не осмыслить
различие между умонастроениями Хайдеггера конца 20 - начала
30—х гг., которые в 33—м и бросили его в тот фашистский омут, и
между его позицией конца 30—40-х гг. (когда все же пришло, не
могло не прийти, отрезвление от похмелья).
Философская биография, далее предлагаемая читателю,
должна волей-неволей включать в себя реконструкцию «дела
Хайдеггера». Это будет своего рода политико-философский
детектив, где уместно «расследование», ибо историей уже устроен
свой «суд». Вникнуть в их проблемы нужно, мне думается, не
428
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
только для того, чтобы нам стали яснее жизненный путь и
философия Хайдегтера. Есть здесь и более широкий социокультурный
и нравственный интерес. В частности, исторический параллелизм
и общность судеб двух государств, Германии и СССР (и, видимо,
не только их), бросается в глаза. Поэтому я и буду формулировать
вопросы, возникающие в связи с «делом Хайдегтера», и как более
общие смысложизненные, нравственные проблемы, глубоко
задуматься над которыми очень важно и нам с вами, причем
именно сегодня.
Важнейший вопрос «дела Хайдеггера»: что и как привело его к
нацизму? Это и более общий вопрос: если становится возможным
союз талантливого, даже гениального человека с тоталитарной
властью и человеконенавистнической, расистской идеологией, то
как и почему такой союз — все равно, на короткое или долгое
время — складывается и существует?
Но рассмотрение сегодняшнего «дела Хайдеггера» — эпилога,
который я намеренно вынесла в пролог, — мне никак не хочется
превращать в самоцелъное повествование. Оно будет вплетено в
общую реконструкцию жизненной драмы — драмы идей и
личностного мира Хайдеггера. И здесь я снова исхожу из того, что в
нашей литературе, насколько мне известно, пока нет
биографических исследований, опирающихся на новейшие материалы и
изыскания мирового хайдеггероведения. Я и предлагаю читателю
такой биографический очерк — в форме философской драмы, где
попытаюсь проследить генезис величия, историю грехопадения и,
если удастся, пружины характера и особенности личности
Мартина Хайдеггера.
Акт первый
От теологии к философии
Мартин Хайдеггер родился 26 сентября 1889 г. в Мескирхе,
небольшом провинциальном городке Верхней Швабии,
расположенном в долине между Дунаем и озером Констанц.
Достопримечательностями этого спокойного красивого городка, больше
напоминавшего деревню, были замок и католическая церковь св.
Мартина, законченная в 1526 г., построенная в позднеготическом
стиле, а в XVIII в., как выражаются немцы, «бароккизированная».
Теперь, конечно, Мескирх более известен как место рождения
Мартина Хайдеггера.
Тем обстоятельствам, что М. Хайдеггер родился и
воспитывался в небогатой трудовой семье и в католической общине в
основном протестантской Германии, суждено было сыграть немалую
роль в его становлении. Представьте себе жизнь Мартина в семье
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 429
скромного ремесленника. Отец его, Фридрих Хайдеггер,
занимается бочарным ремеслом. Мать, Иоганна Кемпф, происходит из
крестьянской семьи, которая после освобождения от крепостного
права владела в деревне недалеко от Мескирха небольшим
участком земли с примыкающим к нему лесом. Мартин проводит там
немало времени. «...Вот как пишет брат философа, Фриц
Хайдеггер, «единственный брат», в одном своем драгоценном письме,
живописуя добрую атмосферу родительского дома: «В
материальном отношении наши родители не были ни богатыми, ни
бедными; они обладали достатком мелких бюргеров; не довлели
ни нищета, ни роскошь; слово времени — «экономить» было
написано крупными буквами: живые деньги, редкие, как настоящие
жемчужины, для многих людей были «сердцем всех вещей» К
Духовные интересы семьи были сконцентрированы на католичестве,
на церкви св. Мартина, в которой Фридрих Хайдеггер за
соответствующую плату выполнял обязанности причетника.
Доходы семьи, достаточные для скромной и экономной жизни
родителей и троих детей2, не позволяют, однако, дать сыновьям
хорошее образование. Но помогает добрая традиция Германии:
церковные институты обычно поддерживают одаренных
мальчиков из таких семей и обеспечивают им доступ в престижные
учебные заведения. Четырнадцатилетнего М. Хайдеггера, в 1903 г.
закончившего в Мескирхе так называемую реальную школу,
юношу талантливого, склонного к высоким порывам духа, но и
усиленно занимающегося спортом, на средства церкви Мескирха
посылают в город Констанц в католическую гуманитарную
гимназию-интернат. Благотворная роль (подобная той, которую в
судьбе Канта или Фихте сыграли протестантские пасторы)
принадлежит католическому пастору Мескирха Камилло Брандхубе-
ру, рано заметившему и пестовавшему талант Мартина. В
Констанце на его воспитание оказывает большое влияние католиче-
1 Ott H. Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie. Frankfurt - N. Y.,
1988. S. 50. В реконструкции жизненного пути M. Хайдеггера я опиралась
на целый ряд (частично цитируемых далее) современных исследований.
Из них я особо выделяю книгу Хуго Отта, на которую только что
ссылалась, ибо в ней наряду с ранее опубликованными материалами
приводится много новых документов.
2 Представляются интересными исторические изыскания X. Отта
относительно экономического положения и политических склонностей
ремесленного люда этой части Германии. Они показывают, какую суровую
борьбу за существование должны были вести семьи, подобные хайдегте-
ровской, и как тяжело давалась им конкуренция с поднимающейся
крупной индустрией (Ott H. Op. cit. S. 50-51).
430
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ский теолог, впоследствии архиепископ, доктор Конрад Грёбер.
Конечно, пастыри и теологи не бескорыстно предоставляют
талантливым юношам покровительство: они рассчитывают на
пополнение своих рядов. И расчеты порой оправдываются. Однако
им приходится считаться и с тем, что прежние питомцы, получив
бесплатное для них и довольно основательное образование в
протестантских или католических учебных заведениях, могут
вступить на нерелигиозную стезю, а порой и стать противниками
церкви. Последнее позднее случилось с Хайдегтером, составив
первый акт его жизненной драмы. Впрочем, это было типично
для Германии. Ведь и первые акты жизненной драмы Фихте,
Гегеля, Шеллинга тоже можно было назвать «от теологии к
философии».
Католические учителя и наставники, люди широко
образованные, помогают тому, чтобы юноша Хайдеггер занимался
философией. От К. Грёбера Хайдеггер получает для изучения
диссертацию Фр. Брентано «О многообразии значений сущего
согласно Аристотелю» (1862). Эта работа становится начальным
толчком для более глубокого и вдохновенного изучения
древнегреческой философии, проблемы сущего. Она пробуждает в Хай-
дегтере эту первую и затем уже постоянную интеллектуальную
любовь. В письме к еще одному католическому воспитателю в
Констанце, Маттиасу Лангу (письме от 30 мая 1928 г., посланном
из Марбурга), Хайдеггер напишет: «Я с охотой и благодарностью
думаю о начале моего обучения в Констанце и все отчетливее
чувствую, сколь сильно все мои усилия переплетены с родной
почвой... От этих времен к «Бытию и времени», как
представляется, ведет все расширяющийся единый путь... Возможно,
философия наиболее настоятельным и устойчивым образом показывает,
сколь связан человек со своими изначальными корнями.
Философствовать, в конце концов, и значит не что иное, как быть
изначальным (Anfänger)...» Письмо заканчивается словами: «Ваш
бывший воспитанник Мартин Хайдеггер» 3. В благодарственном
письме к католическому учителю выражена главная для Хайдег-
гера правда — об «изначальности», верности «корням», «родной
почве», под которыми разумелось и католическое духовное
становление. Но отнюдь не вся правда. Ибо ведь история связи Хай-
деггера именно с католическими корнями к концу 20-х гг. уже
будет куда более сложной и противоречивой.
А в начале века она выглядит простой и ясной. После
окончания гимназии первой ступени в Констанце — обучение (с 1906 г.)
з Ott H. Op. cit. S. 55-56.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 431
во Фрейбурге, тоже в высокопрестижных католических гимназиях
следующих ступеней; предоставление отцами-иезуитами
прекрасной стипендии, которая позволяет, получив гимназическое
образование, учиться во Фрейбургском университете, на
теологическом факультете которого в 1909 г. и начинается
студенческая жизнь Хайдеггера.
Своим теологическим учителям Хайдеггер обязан глубоким
освоением католической мыслительной традиции, прежде всего
работ Фомы Аквинского и Суареса. О более конкретной
философской направленности своих раздумий — прежде всего под
влиянием теолога Карла Брэга (Carl Braig) — сам Хайдеггер
впоследствии напишет, что речь шла «о значении Гегеля и Шеллинга
для спекулятивной теологии — в отличие от систематического
учения схоластики. Так напряженное отношение между
онтологией и спекулятивной теологией — эта структурная черта
метафизики - вошла в непосредственный круг моего поиска» 4.
Ко времени окончания университета (1915 г.) в духовном
развитии Хайдеггера оформляется нечто вроде разрыва с
католическим влиянием. Он, несомненно, достается «бывшему
воспитаннику» католических учебных заведений очень нелегко. Хайдеггер
останется благодарным и признательным своим воспитателям, но
поблагодарит их своеобразно: «Без этого изначального
теологического воспитания я бы никогда не вступил на путь мышления»5.
А ведь «путь мышления» в понимании Хайдеггера все более
подразумевает отход от теологии.
Правда, инициировано постепенное размежевание не Хайдег-
гером, а его католическими благодетелями. Хотя путь
расхождения студента-теолога с католичеством и его традицией неплохо
документирован, в том числе и ранними публикациями
Хайдеггера, предметом углубленного анализа он стал только в
биографиях последнего времени. Вкратце путь этот выглядит
следующим образом.
Если судить по публикациям студента Хайдеггера в
ультраконсервативном католическом еженедельнике «Allgemeine Rundschau»
(а это краткие заметки или стихи, посвященные церковным
событиям того времени6), в 1910—11 гг. он — лишенный сомнений и
даже восторженный ученик католических теологов. О том же говорят
и его работы, помещенные в солидном журнале немецких католи-
* Ibid. S. 60.
5 Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. Pfullingen, 1959. S. 96.
6 Помещены в 13-м томе Собрания сочинений Хайдеггера.
432
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ческих академических союзов «Der Akademiker». Это в основном
хвалебные рецензии на произведения почтенных официальных
теологов, например немца Ф. В. Фёрстера или датчанина И. Йор-
генсена, писателя-эссеиста, сторонника дарвинизма,
«обратившегося» в правоверного католика. В сопоставлении с последующим
развитием Хайдегтера чрезвычайно интересно вот что: он горячо
поддерживает упомянутых теологов в их борьбе с
«превращенной», «лживой», «декадентской» философией индивидуализма.
Приведу отрывок из журнальной публикации Хайдегтера (март
1910 г.): «В наши дни много говорят о «личности». И философы
находят новые ценностные понятия. Наряду с критическими,
моральными, эстетическими они оперируют, по крайней мере в
литературе, также и «ценностями личности». Личность художника
выходит на первый план. Много приходится слышать об
интересных людях. Денди О. Уайльд, гениальный пьяница П. Верлен,
великий бродяга М. Горький, сверхчеловек Ницше — таковы
интереснейшие люди. И если кто-то из них в снисшедший час
благодати осознаёт великую ложь своей цыганской жизни, разбивает
алтарь ложных богов и становится христианином, то его называют
«пошлым», «отвратительным». И. Йоргенсен сделал этот шаг. И не
тяга к сенсациям повела его к обращению - нет, то была глубокая,
горькая серьезность»7. Как видите, Хайдегтер вкладывает всю душу
в гневное обличение «ложной философии» субъективности. Столь
же страстно защищает он устремление к philosophia perennis,
первой философии, назначение которой — давать «завершенные
ответы на конечные вопросы о бытии»8. И тут небесполезно вспомнить
о более поздней атаке Хайдегтера как раз на замкнутую, мыслящую
себя завершенной философию бытия. Итак, тесно связанный с
теологами студент Хайдегтер в 1910—11 гг., по-видимому, искренне
ставит свое яркое перо на службу католической догматике и ее
авторитетам.
Но одновременно талантливый студент погружается в изучение
философской литературы, и работает Хайдегтер столь усиленно,
столь самозабвенно, что ему (из-за вызванных нервным
переутомлением неблагоприятных, астматического характера, изменений
сердечной деятельности) в зимнем семестре 1910/11 гг. приходится
прервать учебу сначала для лечения, а потом домашнего отдыха.
Ухудшившееся здоровье стипендиата Хайдегтера беспокоит тех
церковников, которые решают вопрос о его финансовой
поддержке. Ибо хорошее физическое состояние оговорено одним из
7 Ott H. Op. cit. S. 64.
8 Ibid. S. 65.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 433
условий получения престижной стипендии, да и понятно почему:
отцы-иезуиты полагают необходимым обеспечивать деньгами
церкви здорового, сильного человека. Зная это, Мартин, юноша
хрупкого сложения, истязает себя спортивными упражнениями,
пока на всю жизнь не зарабатывает сердечной недуг. (Впрочем, он
не помешал Хайдеггеру прожить достаточно долгую жизнь и
«помогал» ему избавляться от военной службы.) Еще
существеннее — неуверенность благодетелей в том, что Хайдегтер
действительно станет «католическим пастырем», как того требовало
положение о стипендии. Во всяком случае, после болезни в
финансовой поддержке церкви Хайдеггеру отказано, хотя он внешне
ничем не провинился перед попечителями и желания прервать
обучение на теологическом факультете никак не проявлял.
Положение сложилось, о чем свидетельствуют письма того времени,
чрезвычайно серьезное9.
Хайдегтер проходит через первый в своей жизни
экзистенциальный кризис, который он вполне обоснованно увязывает с
происхождением из «мелкой среды» 10. Потом он неоднократно будет
возвращаться, на что справедливо указал X. Отт, к теме
«маленького человека», посягнувшего на разгадку «тайны великих».
Например, в работах, посвященных поэзии Гёльдерлина. Горечь
пережитой беспомощности, унижения останется в Хайдеггере на
всю жизнь. Останется и в великом философе неизжитым
комплекс неполноценности «маленького», униженного и
оскорбленного человека. И в немалой степени повлияет, как я полагаю, на
грехопадение 1933 года. Маленький человек — так видит
ситуацию и зрелый философ Хайдегтер — всегда знает, что «великий,
большой человек стоит над ним».
Для описания этой ситуации Хайдегтер изобретает, по своему
обыкновению, труднопереводимое слово-экзистенциал Über-sich-
haben-können-des Grossen, смысл которого: возможность иметь
более великого человека над собой. Он усматривает тут «тайну»
великих, больших людей. А о «маленьком человеке» будет
написано щемяще-откровенно: его тайна — и не тайна вовсе, а «трюк и
угрюмая хитрость — все, что неравно ему, сделать маленьким и
презренным, уравнять с собою» п. Категория «Man» рождалась,
таким образом, и из глубин собственного мироощущения
будущего автора «Бытия и времени».
9 Ibid. S. 68-69.
10 Ibid. S. 70.
11 Heidegger M. Gesamtausgabe. Frankfurt a. M., 1980. Bd. 39. S. 135 ff.
434
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Горькое чувство зависимости осядет в Хайдегтере не только
чувствами «заботы» и «покинутости», которые он потом возведет
в ранг онтологических категорий, но и злобой против вчерашних
благодетелей и их идей. Но пока злоба глубоко затаена. Никаких
резкостей Хайдеггер себе не позволяет. Негоже плевать в колодец,
из которого столько уже испито и из которого еще, быть может,
пригодится воды напиться. Будущее покажет, что расчет верен.
Правда, от ортодоксальной теологии католики Хайдеггера все же
отвратили. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье
помогло. Не откажи католики Хайдеггеру в стипендии, как знать, не
стал бы он талантливым религиозным догматиком?
Но и после отказа в стипендии назревший разрыв с
католиками все же не происходит. В 1911/12 гт. Хайдеггер, правда, обязан
сдать экзамены, чтобы подтвердить свое право учиться в
университете — теперь уже не теологии, а математическим и
естественным наукам. Он должен добиваться университетской, т. е.
государственной, стипендии (ибо семья содержать его никак не
может) и с 1912 г. получает ее. Покровителем Хайдеггера, однако,
опять становится теолог — на этот раз профессор Йозеф Зауер,
тогда преподаватель истории искусств и связанной с историей
христианства археологией (именно ему будет суждено в 1933 г.
передать бывшему студенту ректорский пост). Маленький, но
сдвиг: из рук теологов-догматиков Хайдеггер на время переходит
под попечительство теолога — конкретного специалиста. И
другое важно — занявшись математикой, логикой, химией, физикой
(в частности, теорией относительности), Хайдеггер постигает
новые для себя области знания. Его сразу захватывает проблема
времени. Он слушает и лекции философов — в частности,
Генриха Риккерта. И хотя собственные хайдеггеровские работы,
например публикации 1912 г. в «Literarische Rundschau», еще
строятся на католической основе, внимательные читатели уже видят
наметившийся перевес философии над теологией.
Среди них — соученик по теологическому факультету и друг
Э. Ласловски, который заклинает Хайдеггера прекратить
публикации в философских и литературных журналах: «Ты ведь
должен начать как католик. А это, черт возьми, действительно
запутанный вопрос» и. Конкретный же совет друга состоит в том,
чтобы Хайдеггер, подготавливая первую «докторскую» (габилитаци-
онную) работу по философии, в то же время продолжал или
завязывал знакомства с влиятельными фрейбургскими теологами-
догматиками. Действительно, время окончания университета
12 Ott H. Op cit. S. 76.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 435
близится, так что следует подумать о подыскании места для
работы или дальнейшего обучения и габилитации. Неуверенный в
своем будущем, Хайдегтер следует совету друга. Вся надежда на
поддержку Э. Кребса, приват-доцента догматики (именно так,
своим именем, называют тогда ученых хранителей религиозных
догм) на теологическом факультете Фрейбургского университета
и профессора философского факультета Г. Финке, который,
однако, занимается исследованием католического наследия и
считается крупнейшим в Германии специалистом в своей области.
Опять отодвигаются в сторону пробудившиеся
историко-философские и философско-логические интересы Хайдеггера. Ему
хочется писать работу о логической сущности понятия числа, но
нужда снова толкает его в объятия благодетельных католиков, в
обмен на финансовую поддержку требующих идейного
послушания. Восхищенные недюжинным талантом Хайдеггера,
наставники всячески изыскивают для него финансовые
возможности продолжения образования. Поддержка приходит в виде
стипендии, в начале века учрежденной братом и сестрой Шельцер.
Деньги по тем временам очень хорошие (1000 марок в год), но и
условие строгое — «разрабатывать учение святого Фомы Аквин-
ского и оставаться в пределах теологии» 13. Хайдеггеру не только
приходится принять условие; вынужденный получать на
стипендию подтверждение от фонда Шельцер, он каждый год — по
обыкновению, вдохновенно — уверяет благодетелей, что «научная
работа его жизни нацелена на распространение завещанного
схоластикой мыслительного богатства — во имя духовной борьбы
будущего за христианско-католические жизненные идеалы» 14.
Стипендию он получает в 1913—1915 гг.
В 1915 г. Хайдегтер зачислен приват-доцентом на
философский факультет. Уже год как идет первая мировая война.
Вызванный в 1915 г. для прохождения военной службы, Хайдегтер
подвергнут основательному медицинскому освидетельствованию и в
конце концов отпущен из-за неврастении и болезни сердца.
Правда, «военные» обязанности на него все-таки возложены:
приходится заниматься цензурованием писем. Дело крайне
неприятное, но об отказе не может быть и речи. Однако фронт далеко,
война обходит стороной.
Хайдегтер целиком погружен в свои заботы и проблемы. Он
готовит габилитационную работу, а главное, ищет собственный
13 Ibid. S. 80.
14 Ibid.
436 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
путь в философии. Внешне, правда, пока держится учеником
преподавателей-покровителей. А каждый из них тянет
талантливого подопечного, ставшего другом, в свою сторону. Хайдегтер,
особенно в официальных документах, всем им воздает должное.
И умеет ухватить самое для него важное и интересное в
произведениях, лекциях бывших учителей, теперь коллег по Фрейбург-
скому университету — надо признать, славному блестящими или
высокопрофессиональными педагогами, чаще всего
внимательными к талантливым студентам. Под их руководством, но уже и
следуя собственным устремлениям, молодой преподаватель
осваивает мощные пласты философского наследия и современной
ему философии.
В автобиографии, написанной в 1915 г. в связи с предстоящей
габилитацией, Хайдегтер рассказывает: «Изучение Фихте и
Гегеля, усиленное обращение к «Границам естественнонаучного
образования понятий» Риккерта и исследованиям Дильтея, не в
последнюю очередь лекции и семинарские занятия господина
тайного советника Финке имели своим следствием то, что во мне
разрушилась вызванная любовью к математике нелюбовь к
истории. Я понял, что философия не должна односторонне
ориентироваться только на математику, естествознание либо историю, но
что последняя — в виде истории философии — несравненно более
плодотворна. Возрастающий интерес к истории облегчил мне
углубление знания философии средневековья, которое признается
необходимым для фундаментального построения схоластики. А
занятия средневековой мыслью для меня состояли прежде всего и
скорее всего не в реконструкции исторических отношений,
касающихся отдельных мыслителей, а в истолковывающем
понимании теоретического содержания их философии с помощью
средств современной философии. Так и возникло мое
исследование, посвященное учению о категориях и значении у Дунса
Скота, — оно демонстрирует созревший во мне план широкого
изображения средневековой логики и психологии в свете
современной феноменологии при одновременном рассмотрении
исторического места отдельных средневековых мыслителей» 15.
М. Хайдегтер тут искусно сглаживает и превращает в прямую
линию хорошо продуманного «плана» обучения, духовного
становления равнодействующую противоречивых влияний, которые
ему довелось испытать в первой половине второго десятилетия
XX в. Ведь учение о категориях Дунса Скота, как отмечает X. Отт,
Хайдегтер берет темой для габилитационной работы, то бишь
и Ibid. S. 86-87.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 437
для диссертации, «под давлением» теолога-медиевиста Финка;
развивает же тему уже под растущим влиянием новой звезды на
фрейбургском философском небосклоне, Эдмунда Гуссерля.
Только что появившийся во Фрейбургском университете
профессор Эдмунд Гуссерль теперь для Хайдеггера на первом плане.
Уже тогда признанные классическими гуссерлевские «Логические
исследования» (1900—01), появившиеся в 1913 г. «Идеи к чистой
феноменологии и феноменологической философии»
способствуют тому, что создателя нового философского направления
окружают восторженные ученики и поклонники. Фрейбургские
студенты распевают шутливую песенку, начинающуюся словами:
«О, как же наша философия цветет — с поры, как
феноменологией слывет...»
Приват-доцент Хайдегтер объявляет на семестр 1915/16 гг. и с
успехом читает лекционный курс на тему «Основные линии
античной и схоластической философии». С теологами пока не
порывает, потому что метит на вакантную профессорскую
должность именно по христианской философии. Теологи, однако,
снова подводят его — на этот раз в лице упомянутого специалиста
по догматике Кребса: последний посылает наверх, в министерство
в Карлсруэ, свои рекомендации, но среди рекомендованных —
кандидатуры со стороны и нет «фрейбуржца», нет друга
Мартина Хайдеггера.
От «измены» Кребса Хайдегтер приходит в возмущение,
которым делится с преданным Ласловски, по-прежнему проявляющим
горячее участие в судьбе талантливого друга. Обеспокоенность
понятна — дело для неоплачиваемого приват-доцента идет теперь об
ординарной должности с хорошим окладом. Хайдегтер опять в
положении просителя. Он делает попытку заинтересовать Гуссерля
габилитационной работой и заручиться его поддержкой при
решении о вакансии. Профессор вежлив, готов помочь коллеге, но
заметного участия в деле не принимает. В университете,
нашпигованном католиками, он не собирается вмешиваться в их свары.
Гнев Хайдеггера теперь переносится на Гуссерля. Теологу
Финке, которому адресовано горькое, видимо, хайдегтеровское
письмо, приходится защищать Гуссерля и утешать «фрустриро-
ванного приват-доцента, что он, дескать, еще молодой человек с
будущим» 16. Нельзя же желать сразу всего! Взгляните на других
кандидатов — они двадцатью годами старше! Подумайте о них.
Аргументация, хорошо знакомая талантливым людям, молодость
16 Ibid. S. 94.
438
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
которых странным образом становится аргументом не в их
пользу, а только в утешение... Но Хайдегтер уже не может слушать и
Финке — ему чудится заговор против него всех фрейбургских
клерикалов. X. Ott верно констатирует: «...более поздние
высказывания Хайдегтера антиклерикального характера — а они
бесчисленны — можно вывести из этого раннего опыта. К ним
принадлежит письмо, которое в феврале 1934 г. ректор Хайдегтер послал
рейхсфюреру немецкого студенческого союза... где изрекал: «Эту
официальную победу католицизма как раз здесь (во Фрейбурге. —
H. М.) ни в коем случае нельзя терпеть. Ведь это в ущерб всей
работе... Я многие годы и до мелочей знаю местные отношения и
силы... Католическую тактику люди все еще не знают. И однажды
за это придет тяжелое возмездие» 17.
Заметьте: Хайдегтер домогается профессорского места по
христианской проблематике — и его не смущает «католическая
тактика» ходатайствующих за него людей. Но стоит только им
склониться на сторону другого кандидата, как обиженный приват-
доцент мечет против клерикалов громы и молнии. Эти черты
характера, особенности личности — непринципиальность,
конформизм, когда выгодно, и гневное возмущение против того же
самого, но по сугубо личным причинам — скажутся не однажды и
будут иметь, по моему убеждению, прямое отношение к грядущим
грехопадениям Хайдегтера.
Рана, нанесенная в 1911-м, в 1916-м превратилась в травму. То
был первый «поворот» (Kehre) в жизни Хайдегтера, хотя разрыв с
католицизмом сначала произошел, как полагает X. Отт, не в силу
мыслительных оснований, а просто из-за жизненных перипетий.
И все же надо, полагаю, задуматься вот над чем: внимательно
наблюдавший за развитием Хайдегтера «догматик» Кребс, наверное,
не случайно отвел его кандидатуру, когда речь зашла о
преподавании католической мысли. Не почувствовал ли он, что в уме и
душе Хайдегтера действительно назревает идейный поворот,
который молодой мыслитель имеет все основания скрывать от своих
клерикальных покровителей, возможно, не вполне признаваясь в
«греховных» поползновениях и самому себе?
Происходит еще одно событие в жизни Хайдегтера,
усиливающее отчуждение от католичества: он вступает в брак с Эльф-
ридой Петри, изучающей экономику во Фрейбурге. Жена
Хайдегтера — дочь высокопоставленного прусского офицера; она
евангелическо-лютеранского вероисповедания. Влияние жены,
сразу уверовавшей в гениальность и высокое предназначение
17 Ibid. S. 95.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 439
мужа, ставшей ему опорой, другом, секретарем, будет возрастать,
а с ним неизбежно расти и отчуждение от католичества. Пока же
Хайдеггер убеждает обеспокоенных родителей, друзей (Ласлов-
ски в тягостных предчувствиях отсылает паническое письмо),
покровителей, что жена-де намеревается перейти в католичество.
Но даже и теперь Хайдеггер продолжает поддерживать
отношения с теологами. В 1916/17 гг. он читает курс лекций, видимо,
по основным проблемам логики; формально он предназначен для
студентов-теологов. Последним, однако, курс кажется сложным,
перенасыщенным какими-то новыми и непонятными терминами.
Зато многие студенты светских факультетов составляют все более
восторженную аудиторию. А тем временем возникает вопрос об
освободившемся месте экстраординарного профессора в Мар-
бургском университете. Пауль Наторп, заинтересовавшийся
кандидатурой Хайдеггера, вступает в переписку с Гуссерлем, ибо
пока не знает возможностей молодого философа. К тому же если в
клерикальном Фрейбурге Хайдеггера отклоняли из-за того, что
он «недостаточно католик», то в протестантском Марбурге
опасались, что он «слишком католик».
Поступает отзыв Гуссерля — в целом благоприятный
(«многообещающий историк средневековой философии», все делает
«серьезно и основательно»; книга о Дунсе Скоте обнаруживает
«высокую одаренность»), но снабженный и оговорками: знания
молодого ученого пока еще поверхностны; настоящего опыта
преподавания он не имеет; повязанность с католиками - сильная.
И еще поразительная деталь: Гуссерль замечает, что мало знает и
редко встречает Хайдеггера, ибо тот сильно занят по «военной
линии», т. е. на цензорской службе. «Нет, этой осенью 1917 г., —
делает вывод X. Отт, — Гуссерль еще не ангажирован в пользу
коллеги Хайдеггера» 18.
Между тем молодой философ все больше увлекается
феноменологией — и тем настойчивей ищет личных контактов с ее
основателем. Постепенно и Гуссерля заинтересовывает Хайдеггер. Но
встречи как-то не случается, ибо в начале 1918 г. Хайдеггера
призывают в военные казармы. Здоровье там, разумеется, снова
оказывается подорванным; во всяком случае, дальше обучения
метеорологии военная служба у «бравого солдата» не продвигается.
(Вспомним об этом, когда речь пойдет о прославлении в 1933 г.
воинской повинности новоиспеченным фрейбургским ректором
и партайгеноссе Мартином Хайдеггером.) Более чем скромные
18 Ibid. S. 98.
440 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
военные «заслуги» не мешают Хайдегтеру в 1918 г. рассылать
солдатские письма-приветы. В феврале такой привет приходит и
Гуссерлю, что тонко рассчитано: как пишет X. Отт, Гуссерль «с его
любовью к фатерланду (vaterländisch gesinnte) ответил с
отеческой добротой (väterlich-gütig)» 19. Завязалась переписка. Теперь
Гуссерль в восторге от ума и сердца молодого коллеги. Хайдегтер
доволен: дело сделано важное. Он даже не знает, насколько прав.
Почти на целое десятилетие поддержка, дружба, идеи Гуссерля
становятся Хайдегтеру жизненной опорой и стимулом к
стремительному, блестящему философскому развитию. Начинается
новый акт жизни Хайдеггера, и его, пожалуй, можно было бы
считать просто взлетом к вершинам оригинального
философствования, когда бы рядом с теми вершинами уже не стали
скапливаться тучи, предвещающие будущее падение.
Акт второй
К вершинам философского новаторства
К началу 20-х гг. Хайдегтер четко, можно сказать,
документально оформляет свой разрыв с католицизмом. Для того чтобы это
наконец сделать, теперь существует сразу несколько веских,
сплетенных друг с другом жизненных и теоретических оснований.
В соответствии с прошением, поданным Гуссерлем в
министерское управление Карлсруэ, Хайдегтер становится его
ассистентом по философскому семинару № 1, цель которого — ввести
в проблемы феноменологии. Гуссерль, правда, претендует на
организационное новшество: он просит официально учредить
хорошо оплачиваемую должность ассистента. Настойчивые
обращения знаменитого философа к косным министерским
чиновникам в 1919 г. не дают именно этого результата. Но оплату
Хайдегтеру в виде исключения он «выбивает». Это не только добрый, но
и мудрый шаг: лекции, которые ассистент читает в начале 20-х гг.,
дают блестящее разъяснение основ феноменологии. Они же ясно
свидетельствуют, что Хайдегтер только отчасти толкует
феноменологию по-гуссерлевски; он начинает мыслить оригинально и
самостоятельно. (Гуссерлю, судя по всему, разбираться в
тонкостях некогда. Он на взлете творчества и всегда завален работой:
читает разнообразные курсы лекций, в том числе по истории
философии; делает стенографические наброски для многих теперь
известных произведений и исследований; Эдит Штайн, его
преданная помощница, феноменолог католического направления,
w Ibid. S. 104.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдегтера 441
записи расшифровывает, печатает; Гуссерль их снова правит —
так и формируется огромное, богатое гуссерлевское наследие.)
Покровительство Гуссерля связано прежде всего с высокой
оценкой философского таланта Хайдегтера, чему есть много
свидетельств. Но в немалой степени оно обусловлено сочувственным
наблюдением за тем, как Хайдеггер из адепта католичества
постепенно превращается в его противника. Сам Гуссерль —
протестантского вероисповедания, однако любой конфессиональной
одержимости предпочитает свободу мысли, условие совершенно
необходимое для философии. Хайдеггер, теперь погрузившийся
в занятия феноменологией, историей философии, впервые не
стесненный духовным давлением католических
друзей-наставников, и сам остро чувствует это. Однако он, несомненно,
учитывает и скорее отрицательное отношение к католичеству нового
покровителя, тем более что Гуссерль и далее предпринимает все
возможное для упрочения материального положения и
академической карьеры своего последователя.
Решающее же значение в отказе Хайдегтера от католичества
принадлежит семейной атмосфере. Его жена, которая, вспомним,
сначала обнадеживала мужа, его родственников и друзей своим
возможным переходом в католичество, теперь умно использует
все трещины в религиозных убеждениях мужа и в его
отношениях с католиками. Она расчетливо ведет дело к тому, чтобы
Хайдеггер — и вследствие глубокого внутреннего идейного
«поворота» — порвал с католической церковью. Ее программа-максимум,
скорее всего, заключалась в приведении мужа под сень
лютеранства, и это, как мы потом увидим, тоже отчасти удалось. В письме,
адресованном уже упоминавшемуся Кребсу, духовнику мужа,
госпожа Хайдеггер со скрытым торжеством писала: «У моего мужа
больше нет прежней религиозной веры; и я ее тоже не обрела...
Мы много читали вместе, говорили, размышляли, молились, и в
результате оба теперь думаем по-протестантски, т. е. без прочной
догматической повязанности, веруя в личного Бога, молясь ему
как духу Христа и не склоняясь ни к протестантской, ни к
католической ортодоксии» 20. Разрыв приходится ускорять из-за того,
что чета Хайдегтеров ожидает ребенка. Крестить его по
католическому обряду не будут, и бывшего духовника Кребса о том
извещают заранее.
Хайдеггер тоже отсылает Кребсу письмо.
«Теоретико-познавательные исследования, относящиеся главным образом к теории
20 Ibid. S 108.
442 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
исторического познания, — пишет он, — сделали для меня
проблематичной и неприемлемой систему католицизма, хотя и не
христианство и метафизику, которые теперь имеют для меня
совершенно новый смысл»21. И другой важный пункт. Хайдегтер в
последний раз как бы исповедуется Кребсу: быть философом —
чрезвычайно трудно. Ведь нужно отдаться внутреннему зову
самой истинности, принести ей жертвы, пойти на отрешенность и
борьбу, которые чужды «научному ремесленнику» 22.
Кребс встревожен. Он понимает, какой резонанс может иметь
отречение от католичества столь популярного во Фрейбурге
философа. Пытается бороться за «заблудшую» душу. Кребс
полагает, что в цитадели университетского католичества сила на его
стороне. Но дело-то вот еще в чем. В начале 20-х Гуссерль,
постоянно ощущающий, что неузаконенное место ассистента
непрочно и недостойно Хайдегтера, снова ведет в пользу ученика борьбу
за должность «ординариуса», профессора Марбургского
университета. Вспомним, университета по преимуществу
протестантского. Гуссерль опять ходатайствует через своего друга, знаменитого
марбургского неокантианца Пауля Наторпа, который и
освобождает, уходя на пенсию, профессорское место. Выигрывает, однако,
более сильный конкурент — экстраординарный профессор в
Марбурге Николай Гартман. Его имя в то время куда более
известно, чем имя Хайдегтера. Но когда место Наторпа занимает
Гартман, то освобождается должность экстраординарного
профессора. Хайдегтер готов занять ее. И хотя быть
экстраординарным профессором в Марбурге тоже почетно, все же остается след
обиды.
И снова оказываются важными настойчивые рекомендации
Гуссерля. Ибо и теперь у Хайдегтера сильнейший конкурент:
неогегельянец Рихард Кронер. У него «преимущество» возраста -
более старый, значит, более опытный, как считают в немецких
университетах. Главное, у Кронера много солидных публикаций,
тогда как единичные опубликованные работы Хайдегтера
знакомы очень немногим коллегам. Гуссерль ссылается на
предоставленную ему хайдегтеровскую рукопись об Аристотеле. В Марбург
же (а заодно и в Гёттинген, где тоже открывается профессорская
вакансия — когда-то место самого Гуссерля) отсылается 50
страниц текста, в котором Хайдегтер набрасывает что-то вроде
введения к будущей работе. Оно производит на Наторпа сильное
впечатление, и он сообщает Гуссерлю: «...тут совершенно необычные
21 Ibid. S. 106.
22 Ibid. S. 106-107.
Драма жизни, идей и грехопадении Мартина Хайдеггера 443
оригинальность, глубина и сила...» 23. Рукопись прочтена и
Николаем Гартманом — с огромным интересом. (Кстати, рукопись
долго считалась утерянной; но недавно она была найдена и
опубликована.)
Теперь Хайдеггера выдвигают на первое место среди
претендентов. Но, думается, не только блестящая рукопись тому
причиной. Еще в первых своих рекомендациях Гуссерль подчеркивал,
что Хайдеггер, «некогда католик», в Марбурге в качестве главной
темы готов заняться... Лютером! Для протестантского
университета конфессиональное «обращение» претендента выглядит, как ни
странно, преимуществом по сравнению с вполне спокойной
судьбой не пережившего подобного «поворота» Р. Кронера. В начале
1922 г. старания Гуссерля достигают желанной цели:
тридцатитрехлетний Хайдеггер становится экстраординарным
профессором Марбургского университета.
Хайдеггер, только после третьей попытки став профессором в
прославленном Марбурге, не испытывает, кажется, большой
радости. Конечно, материальное положение упрочено. Но сам
городок, его воздух, «скудная библиотека» — все раздражает
Хайдеггера. Он куда охотнее поселился бы в Гейдельберге, в который
его теперь привлекает начавшаяся дружба с профессором Карлом
Ясперсом. Не в том ли, однако, главная причина уныния, что
пришлось затратить столько унизительных усилий, что в душе
болью живет память об «обращении»? И тревожит мысль, что
основаниями были не только внутренние потребности
философствования. Однако именно одухотворенный философский поиск
спасает Хайдеггера. Спасает и хижина в Тодтнауберге, недалеко
от родных мест, — горный воздух, работа по дереву и, главное,
вдохновенное создание книги «Бытие и время», которой суждено
было стать одним из классических произведений XX в.
Лекции Хайдеггера в университете пользуются большой
популярностью у студентов. Но с коллегами — за исключением
известного протестантского теолога Р. Бультмана — нет близости,
взаимопонимания. В том же 1925 г., когда уже написано «Бытие и
время», снова поднимается вопрос о должности ординарного
профессора для Хайдеггера.
И снова — «конкурентная борьба»... Она длится аж до 1927 г.,
когда полученная наконец должность профессора не так и нужна
Хайдегтеру, потому что Фрейбургский университет призывает
его к себе: освободилось место Гуссерля, который в 68 лет уходит в
23 Ibid. S. 122.
444
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
отставку. В Хайдегтере укрепляется скрытая, изливаемая только в
письмах, злость против университетских бонз и порядков, и
потом она еще не раз вырвется наружу. Места в Марбурге и
Оренбурге опять получены главным образом благодаря Гуссерлю.
Верный учитель в своем рекомендательном письме в Марбург
напишет поразительные слова: «В моих глазах Хайдеггер, без
всякого сомнения, является одним из самых достойных среди
претендентов. Если не случится, к несчастью, чего-нибудь
иррационального и если не воспрепятствует судьба, он предназначен к
тому, чтобы стать философом великого стиля, человеком,
который способен стать проводником (Führer) через путаницу и
слабости современности» 24. Предвидение Гуссерля оправдалось, но
совершенно своеобразно: Хайдеггер стал философом «великого
стиля», однако «несчастье иррационального» с ним тоже
стряслось... Роль «проводника» («фюрера») Хайдеггер также возьмет на
себя, хотя он же заблудится в «путанице и слабостях»
современного бытия.
Впрочем, Гуссерлю предстоит уже довольно скоро — быстрее
других — испытать разочарование в Хайдегтере. Пока он считает
Хайдеггера своим главным учеником и последователем. Г.-Г. Га-
дамер в 1924 г. слышал от Гуссерля такие слова: «Феноменология
— это я и Хайдеггер»25. Но вот в 1927 г. опубликовано «Бытие и
время». Книга вышла с посвящением Гуссерлю — с чувствами
«величайшего уважения и дружбы». Да ведь Гуссерль сам
рекомендовал ее для опубликования в своем «Ежегоднике
феноменологических исследований»! Внимательно изучил «Бытие и время» он,
видно, позже, после опубликования. Однако учитель, ожидавший
эту книгу, требовавший от ученика великого мыслительного
прорыва и предсказывавший его, не опознает в «Бытии и
времени» такого прорыва. Наступает охлаждение.
Чего же ожидал Гуссерль от Хайдеггера? Чего он не смог
увидеть и что все-таки прозорливо разглядел в «Бытии и времени»?
Время, когда ученики-друзья выходят к рубежу великого, вообще
становится серьезным испытанием для учителей, пусть тоже
великих. Гуссерль был готов дать своему талантливому ученику
самый большой аванс. Но вот пришел долгожданный как будто бы
час выплаты аванса — и Хайдеггер предъявил книгу не просто
незаурядную, а выдающуюся, пролагающую новый путь. Этот путь
начинался и от феноменологической, прежде всего гуссерлев-
ской, дороги, но был оригинально, неповторимо хайдеггеров-
24 Ibid. S. 125.
25 Fedier Fr. Heidegger: anatomie d'un scandale. P., 1988. P. 14.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 445
ским. Такой великой «неверности» ученика великий учитель не
смог вынести.
«Бытие и время» — это центральная, самая яркая звезда, вокруг
которой теперь уже, после опубликования целого ряда ранее
неизвестных сочинений, можно расположить другие работы. В
частности, это тексты марбургских лекций (например, недавно
опубликованные в 24-м томе Собрания сочинений Хайдеггера
лекции под названием «Основные проблемы феноменологии»).
Или работа «Что такое метафизика?» (текст открытой лекции,
прочитанной в июле 1929 г. при вступлении в профессорскую
должность в родном Фрейбургском университете), а также
сочинение «О сущности основания», опубликованное в том же году в
юбилейном сборнике в честь 70-летия со дня рождения Гуссерля.
Рядом с «Бытием и временем» они как вехи, и недаром же Хайдег-
гер в 1967 г. некоторые из них опубликовал в своем сборнике
«Wegmarken», что и значит: «вехи», «указатели пути». «Великий
прорыв», осуществленный уже ранним Хайдеггером в истории
философской мысли, конечно, очень трудно охарактеризовать на
нескольких страницах, но я попытаюсь это сделать.
Хайдеггер, основательно освоивший традиции
западноевропейской метафизики - первой философии, в частности традиции
онтологии, предъявляет им неожиданный и строгий счет.
Неожиданный потому, что многим философам в 20-е гг. позиции
метафизики и онтологии кажутся не только прочными, но и
успешно реформированными. Разве католические философы в XIX
в. не основательно потрудились над реконструкцией
аристотелевской и томистской метафизики? Разве неогегельянцы и
неокантианцы в XIX—XX вв. не проделали вслед за Кантом и Гегелем
путь от критики метафизики и онтологии к их специфическому
реформированию и возрождению? И разве начавший с
«логицизма» Гуссерль не создал в 20-х гг. широкий проект
феноменологии как онтологии? Оценка Хайдеггера: вопрос о бытии
«сегодня предан забвению, хотя наше время приписывает себе
прогресс в новом утверждении «метафизики» 26.
Все реформаторские попытки Хайдеггер выносит за те же
скобки, что и классическую метафизику — онтологию. Ибо
«бытие» во всех этих случаях мыслится как предельно широкая и
отчужденная от индивида категория, «бытие вообще» — вопреки,
казалось бы, зафиксированному трансценденталистской
традицией, но так и не понятому факту: только через человеческое бы-
26 Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1963. S. 2.
446
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
тие (бытие-сознание), бытие, как таковое, может стать помыслен-
ным, может стать проблемой. А бытию-сознанию (для его
обозначения Хайдегтер использует и существенно перетолковывает
давний онтологический термин «Dasein»), по существу, не было и
нет места во всей традиционной и современной онтологии.
Помещение Dasein в центр онтологии (с удивительно интересным
истолкованием того, что значит это немецкое «Da», или «тут»,
«здесь», если оно присоединяется к слову «Sein», бытие) не
единственное новшество. Необычен и метод хайдегтеровского
онтологического философствования. Если традиционно черты бытия
предполагалось усматривать вовне, причем неким безличным,
почти божественным оком, то теперь, у Хайдегтера, в качестве
поля исследования представало внутреннее индивидуальное
сознание, собственное сознание исследователя, а в качестве
инструмента — феноменологическое «усмотрение сущности» (Wesensschau),
то есть «видение умом» математических, логических,
философских истин. Гуссерль не мог не почувствовать, что Хайдегтер,
который действительно берет на вооружение его феноменологию,
превращает ее не в главную цель и поле исследовательской
работы, а во вспомогательное средство для других целей.
Еще одно различие, которое Гуссерлю также должно
представляться важным. Гуссерль, сторонник кантовского
трансцендентализма, тоже предлагал в качестве исходного плацдарма нового
исследовательского штурма индивидуальное сознание. Но
благодаря феноменологической редукции он рекомендовал отсечь в нем
все индивидуально-психологическое» конкретно-историческое,
социальное, чтобы пробиться ко всеобщим его структурам,
скрупулезным исследованием которых — в том числе и структур
онтологических — занимается феноменология. Работы тут непочатый
край. И вот, вместо того чтобы взвалить на себя часть ее,
Хайдегтер, как оказывается, поворачивает назад. Он претендует на
феноменологическое якобы всматривание в пласты,
долженствующие быть исключенными благодаря редукции существования во
имя сущности — в «экзистенциалы» бытия, подобные
историчности, заботе, заброшенности, покинутости, усредненности, смерти.
Психологизм и релятивизм, которые могли считаться
похороненными благодаря усилиям Гуссерля и неокантианцев, неожиданно
возрождались — и в работе самого дорогого, самого талантливого
ученика!
Гуссерль, уделивший немалое внимание работе с языком, с
удивлением обнаруживает, сколь неожиданным и для него
неприемлемым образом обернулось хайдеггеровское пристрастие к
языковым тонкостям. Из всегда контролируемого объекта и сред-
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 447
ства логико-феноменологической работы язык вдруг превратился
если не в самостоятельный субъект, то в некоего мистически-
чудесного, как бы самоявляющегося, говорящего «от имени
бытия» медиума... Для всегда приверженного «строгой научности»,
разуму Гуссерля все это свидетельствовало об уклоне в
иррационализм, скептицизм, антиинтеллектуализм, мистику. Позднее, в
книге «Кризис европейских наук и трансцендентальная
феноменология», Гуссерль прямо назовет такого рода пробивавшиеся
еще до 1933 г. умонастроения предтечей великого кризиса
западноевропейского духа. Признаюсь, в первый раз я прочла «Бытие и
время» скорее «глазами Гуссерля». И хотя такое чтение по-своему
полезно, все-таки в нем заключена опасность не увидеть глубины
и плодотворности лучшего, по оценке немалого числа
философов, произведения Хайдеггера.
А ведь это замечательная книга, книга философа XX в., притом
ее возникновение именно в 20-х гг. тоже по-своему отпечатывается
в стилистике и содержании произведения. Наш бурный век и
кризисное третье десятилетие — через их особую «историчность» —
позволяют Хайдегтеру разглядеть не первые и не последние угрозы,
нависшие над человеческим бытием и через него над бытием
вообще, внутренние напряжения, заключенные в самой структуре
бытия и чреватые «разломами». Внутренний трагизм «вопрошания
о бытии» всегда был свойствен литературе и искусству. В конце XIX
— начале XX в. он проявляется с новой и особой силой. Хайдеггера
с самой юности захватывают Ницше, Достоевский, Рильке, Тракль.
Потом его кумиром станет еще и Гёльдерлин.
Философия и раньше знала, конечно, блестящие
онтологические исследования Хайдегтеру они хорошо известны. Он многому
научился у классических и современных ему авторов. Но
создатель «Бытия и времени» выступает как решительный
онтологический нигилист. Это представляется ему необходимым, чтобы
кардинально отличить от всего уже имеющегося задуманную им
философию бытия. Гуссерль, изучающий «Бытие и время», не
понимает, что не только к нему лично, феноменологией
предоставившему главную стартовую площадку для новой онтологии,
обращен «неблагодарный» хайдегтеровский нигилизм. В огонь
критики прежде всего летят именно самые существенные образцы,
ибо расчет с ними и есть наиболее интересное для Хайдеггера.
Тому, кто относится к делу объективно, должно стать ясно:
впервые в истории философии широко и систематически
развертывается трагическая философия бытия. Эта онтология впервые
позволяет связывать на первый взгляд абстрактные парадоксы,
противоречия бытия с трагедиями человеческой истории вообще, исто-
448
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
рии XX в. в частности, пограничных его ситуаций в особенности.
А также и с отдельными трагическими судьбами. Потому «Бытие
и время» так много говорит мыслящему, охваченному тревогой
человеку нашего столетия в его пронизанном отчуждением
бытии и в какой-то мере повествует о нем самом. В том числе и о
самом Хайдеггере. Никогда столь абстрактное, категориальное
философское сочинение не было в такой мере, как «Бытие и время»,
духовной биографией, а вместе и исповедью автора и его
поколения.
Однако, когда человеческие осмысление и самоосмысление, к
которому непременно побуждает и пробуждает сама хайдегге-
ровская трагическая философия бытия, в этой же философии
ищут опоры и выхода, цели и смысла, положение становится
нелегким. Тут уж читателю приходится добираться до корней,
искать собственных выходов и интерпретаций, что хорошо поймут,
скажем, французские экзистенциалисты, в 30-е гг. «вышедшие» из
Гуссерля и Хайдеггера, но побужденные по-своему, и уже в огне
второй мировой войны, «дописывать» главы экзистенциальной
философии.
А что же сам Хайдеггер? Ведь ему Гуссерль предрекал роль
«проводника» («фюрера») в «путанице» (Verworrenheit)
современного бытия. В одном Гуссерль не ошибался: «путаница»
нашла в Хайдеггере своего скрупулезнейшего исследователя — и
всякие «заброшенности», «покинутости» предстали как живые.
Но ведь проводником он мог стать лишь в случае, если бы знал,
куда вести. Между тем «трагическая онтология», по существу, не
только не бралась за задачу выхода из лабиринтов, но жестко
изображала «лабиринтность» и «заброшенность» «судьбой бытия».
Судить Хайдеггера именно за это по меньшей мере
несправедливо. Кто же из честных мыслителей XX в. не признал внутреннего
трагизма человеческого бытия, который к концу столетия не
только не был снят, но и усугублен? И кто из них не остановился
перед громадной трудностью — найти и предложить выход? Ну а
претендовавшие на роль «проводников», «фюреров», нередко
приводили человечество к пропасти. Да и падение Хайдеггера
началось как раз тогда, когда он — во многом вопреки «Бытию и
времени» — сначала стал заигрывать с идеей «фюрерства», а
потом и поверил в одного такого «фюрера», уже пробовавшего силы
за кулисами политики, в немецких пивных.
А поскольку в Германии в пивных проводили немало времени
и политики, и рабочие, и бауэры, и студенты, и интеллектуалы,
то настроения завсегдатаев пивных в значительной мере
отражали настроенность народа. Как бы люди немецкой улицы и пив-
Драма жизни, идей и грехопадении Мартина Хайдегтера 449
ной ни были далеки от философии, но их чувства на рубеже
третьего и четвертого десятилетий лучше всего схватывали
категории хайдеггеровской трагической онтологии — «забота»,
«покинутость» и «усредненность» (Man). В
радикально-обвинительных заключениях «по делу Хайдегтера» это — и, по-моему,
неверно — ставится ему в сугубую вину. Совпадение, напротив, говорит
об исторической релевантности, укорененности в реальной
жизни его онтологии, в чем никак нельзя упрекать, — за что,
напротив, можно высоко ценить — любую философию человека и
человеческого бытия. И такая трагическая онтология «совпадет» еще
не с одной драматической ситуацией в истории. Вина Хайдегтера
в другом. На дрожжах заброшенности, покинутости, страха, в
свою очередь коренившихся в глубоком мировом и
национальном кризисе, поднималось месиво «коричневых» идей.
Интеллигенции следовало чутко уловить страшную направленность
процесса и всеми имеющимися в ее распоряжении средствами
сопротивляться ему. Многие так и сделали. Хайдеггеру же ударил в
голову хмель «пивного» национализма и чисто немецкого «фюрер-
ства». Исподволь начинался самый мрачный акт его жизненной
драмы.
Акт третий
Сова Минервы в ночи национал-социализма
Грехопадению 1933 г. в жизни Хайдегтера предшествовало
искушение поднимающейся идеологией и все шире
распространявшимися умонастроениями национал-социализма. Тут
биография философа сходна с биографиями сотен тысяч его
соотечественников-современников. В таком совпадении апологеты
ищут оправдание: дескать, не один Хайдеггер, а целый народ
впал в грех национал-социализма. В самом деле, известные по
кинохроникам многотысячные шествия, взметнувшиеся в
фашистском приветствии руки, горящие восторгом лица и глаза,
обожествление недоучки фюрера убедительно демонстрируют
массовость нацистского опьянения.
В нашей стране примерно в то же время возникали
аналогичные структуры массового сознания и действия — возникали на
сходной политической почве тоталитаризма и, увы, благодаря
некоторым похожим идеологическим процессам. Что такое
массовое опьянение и как им можно воспользоваться для
непризнания индивидуальной, личной вины, нам тоже известно. И все же
именно сегодня мы отчетливо понимаем — «дело Хайдегтера»
одно из тому убедительных свидетельств, — что вина многих не
списывает персональную вину, ответственность отдельных лично-
450
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
стей, особенно тех, кому даны ум, знания, талант. Но, конечно,
«дело» каждого должно читаться в контексте времени, жизни
народа, развития всего мира.
Происхождение, становление национал-социализма как
идеологии, политики, системы власти — тема чрезвычайно сложная и
широкая, рассматривать которую в ее полноте здесь, конечно,
невозможно. Ограничусь лишь теми ее аспектами, которые
впрямую связаны с судьбой Хайдегтера. Но это будет также попытка
ответить на поставленный в «Прологе» вопрос об идейных,
нравственных истоках и ингредиентах именно
национал-социалистской (не в узком смысле слова) ангажированности
высокоталантливых людей духа.
Когда же начинают становиться более явными до того скрытые
признаки подвижки идей, принципов Хайдегтера в сторону, в
которую, увы, уже двинулись люди, коим через несколько лет будет
суждено выстроиться в колонны властвующих штурмовиков и в
восторженные, по-немецки организованные толпы народных
шествий? Пожалуй, именно после возвращения философа во
Франкфурт. Возвращается он почти триумфально. За должность,
освобожденную Гуссерлем, не надо бороться: в глазах
философской общественности, которой Гуссерль не спешит поведать об
уже обуревавших его сомнениях, Хайдеггер, автор быстро
набиравшей известность книги «Бытие и время» — естественный
наследник «трона» увенчанного лаврами основателя
феноменологии. 24 июля 1929 г. Хайдеггер читает свою «тронную»
профессорскую речь - лекцию на тему «Что такое метафизика?». И не
очень знакомых с его взглядами людей поражает тем, что
метафизика (в хайдеггеровском изображении) оказывается
сконцентрированной скорее не вокруг обращенного к миру философского
вопроса «что?», вопроса о бытии и сущем, а вокруг тревожного
«вопрошания о «ничто». «Что» есть только путь к «ничто».
«Единственно потому, — изрекает Хайдеггер, — что ничто
открывается как лежащее в основе Dasein, над нами простирается
полная чуждость сущего. И только если чуждость сущего нас
преследует, оно пробуждается и обращает удивление на самого себя.
Только на основе удивления — то есть откровения ничто —
возникает вопрос «почему?». А лишь из-за того, что это «почему?» как
таковое возможно, мы можем определенным образом задаваться
вопросом об основаниях и заниматься обоснованием. Вследствие
же того, что мы можем спрашивать и обосновывать, нашему
существованию дается в руки судьба исследователя.
Вопрос о ничто ставит самих нас — спрашивающих — под
вопрос. Он является вопросом метафизическим. Человеческое мо-
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдегтера 451
жет вести себя (verhalten) по отношению к сущему, только если
оно своим поведением вовлечено (hineinhält) в ничто»27. Все эти
рассуждения о сущем и ничто как будто знакомы слушателям - и
однако незнакомы им. К. Ясперс, в своих рабочих заметках
уделяющий все большее внимание Хайдегтеру, впоследствии, уже в
начале 30-х, тщательно разберет лекцию «Что такое
метафизика?» и сделает заключение: «Все это Гегель, но без Гегеля.
Единство смысла des Nichtens (буквально можно перевести неудобным
словом «обничтойнивание» — H. М.) сугубо неясно. Даже
произвольно. У Гегеля оно заключено в элементе понятия абсолютного
духа, взятого на веру шифра... У Хайдегтера это — как случайное
и как противоположное экзистенциальному. Чередование
объективирующего (гегелевского) и апеллирующего (экзистенциально-
философского) способов мышления» 28. Очень точная
характеристика. Так действительно и работает Хайдегтер: он берет что-либо
«объективирующее» из философской традиции (все равно, у
Гегеля или Гуссерля) и использует его в «апеллирующем»
философствовании. Ясперс отмечает вместе с тем проникновенные поиски
специфики философствования, «истинно филигранную работу»
над словом. Однако и тут есть веское замечание-предостережение.
«Эта форма сначала именно в качестве формы есть необходимая
цель всякого высказывающегося философствования. Но она не
должна становиться последним масштабом и может
превращаться в иллюзорное»29. Снова совершенно точно.
То, что в 1929 г. Хайдегтер «апеллирует» именно к ничто,
обвинители тоже подчас ставят ему в вину. Вряд ли вина состоит в
этом. Скорее она заключена в другом: чутко ухватив признаки
приближающегося «обничтойнивания», он должен был
разобраться в собственном предчувствии. А социальные приметы
«обвала в ничто» на рубеже третьего и четвертого десятилетий
множатся. Весь мир погрязает в экономическом кризисе. Но в то
время, когда другие страны ищут и в конце концов находят выход
в новых социально-экономических курсах, в развитии
демократии, особое переплетение негативных исторических тенденций
толкает Германию в ином направлении. Нарастающая
экономическая депрессия накладывается на все еще не преодоленные
хозяйственные последствия первой мировой войны.
27 Heidegger M. Wegmarken. Frankfurt a. M, 1978. S. 120.
28 Jaspers К. Notizen zu Martin Heidegger. München-Zürich, 1989. S. 41-42.
29 Ibid. S. 42.
452
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
В стране недовольны все и все борются против всех.
Ограничения Версальского договора, как путы, сковывают растущую
немецкую крупную индустрию, и промышленники Германии
задыхаются от бессильной злобы по поводу зарубежных конкурентов и «их
демократий». А пока суть да дело, сами вступают в конкурентную
борьбу с мелкими хозяйчиками, для тех заведомо неравную.
Мелкие производители и торговцы, разоряющиеся крестьяне
и ремесленники — главные посетители пивных — тоже охвачены
паникой и ненавистью. Они ненавидят промышленных тузов и
земельных собственников; им ненавистны «высокомерные»
аристократы, «шибко грамотные» и высокооплачиваемые
интеллигенты. Они не любят «красных», грозящих отнять у частника
последнее, и «черных», католических клерикалов, добившихся в
протестантской стране слишком большого влияния. На страну с
традиционно благополучным уровнем жизни средних слоев и
высоким трудовым этосом наплывает, вызывая массовую панику,
волна экономической стихии и неуверенности в завтрашнем дне.
Есть, однако, ряд настроений, которые постепенно начинают
объединять многих. Это, прежде всего, ощущение национальной
униженности. Если те поколения немцев, через жизнь которых
опустошением прошла первая мировая война, хоть как-то
связывали бедствия со своей виной — ведь Германия больше других
стран была ответственна за развязывание войны, то новые
поколения, непосредственно не пережившие войны, но
столкнувшиеся с ее последствиями, теперь накапливают злобу против
победителей. Виновников ищут вовне, в «злых кознях» других стран,
якобы постоянно плетущих заговор против Германии. А если и
обращают взор внутрь собственной страны, к ее истории, то
затем, чтобы и там отыскать «заговорщиков» — представителей
других наций. На национальной гордости, как и на национальной
униженности, — этих вполне реальных чувствах, высоких и
болезненных, прочных и хрупких, — начинают искусно играть
рвущиеся к власти политические группировки весьма пестрого
состава. Наспех, но не без ловкости оформляют они и свою
идеологическую «доктрину».
Идеологию национал-социализма у нас имели обыкновение
превращать в карикатуру. И тогда становилось не ясно, как же
идеи нацизма сумели ослепить очень многих в Германии. Надо
принять в расчет, что к 1933 г. идеология фашистов, во-первых,
еще не выступает на немецкой сцене борьбы идей и принципов с
открытым забралом, а во-вторых, она пытается вести свою игру
вокруг действительно больных проблем пребывающего в кризисе
общественного организма.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 453
В игре с мелким хозяином, «маленьким» человеком,
разыгрывается антиаристократическая карта; ему также обещают отдать
то, что награбили у него «большие люди» — промышленные и
государственные воротилы; его заодно настраивают и против
«западных демократий», тоже, дескать, обобравших рядовых
немецких бюргеров и всегда готовых к новой бойне против немецкого
народа. Рабочим, в Германии того времени весьма одушевленным
социалистической идеей, также обещан полный передел
собственности и имущества. Идеи социализма и революции, что у нас
чаще всего отрицалось, эксплуатируются не на шутку. Правда,
они берутся не в марксистском (для нацистов — «еврейском»)
варианте. Однако призывы к экспроприации экспроприаторов, к
«новым» равенству и социальной справедливости, к
кардинальному изменению отношений собственности в ранней национал-
социалистской идеологии играют немалую роль. Но еще шире,
пожалуй, используется идеологическая популистская риторика.
Апелляциям к народному духу, к неисчерпаемости народных
сил, к «народным» силам и корням, к страданиям и
долготерпению народа, которые должны быть вознаграждены, — им несть
числа. И ведь звучат они, да порой и произносятся, вполне
искренне. Гнев против реальных народных бедствий поднимается
до высокого пафоса. Демагогическая, во многих случаях, его
подоплека большинству народа неясна.
Немцам, которые естественно чувствительны, даже
сентиментальны, если речь идет о родных корнях, о «пути вдоль поля», о
зове предков, о древних мифах, для начала преподносится
романтизированная идеология «почвы и крови». Неискушенный в
подтекстах простой человек, наделенный естественной
национальной гордостью, мог и не заметить, как следующим шагом его
уже заводили в дебри националистического почвенничества,
требовавшего бороться за «чистую», «арийскую» кровь против всех
тех, кому судьба такой крови не послала. Не успели завсегдатаи
пивных сообразить, как их чувство национальной гордости и
переживание национальной униженности (этого печального
следствия национализма и милитаризма прежних поколений) уже
направлялись в никогда не просыхающие русла
националистической спеси, реваншизма, расизма — с явными антисемитским и
антиславянским уклонами.
В создавшихся условиях вражды всех против всех призыв к
переделу имущества и фрустрированный национализм,
замешанный на расизме, образуют достаточно опасную идеологическую
взрывчатую смесь. Недостает еще одного элемента, чтобы она
стала поистине гремучей, чтобы подбодрила готовые к кровопро-
454
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
литию, но еще разрозненные толпы в организованные отряды,
под победный марш «Германия, Германия превыше всего»
ведущие страну и нацию к неминуемой катастрофе. Этот элемент
тоже наготове: на политическом языке Германии его называют
идеей «фюрера» (на нашем он зовется культом личности). Бывший
ефрейтор, назвавший себя Адольфом Гитлером, становится
главным претендентом на роль фюрера нации. А что же люди духа -
учителя, юристы, писатели, музыканты, художники, ученые,
педагоги и студенты университетов Германии? Кому-то из них надо
отдать должное — они не только не поддались расползающейся
инфекции коричневой чумы, на уже до 1933 г. били в набат,
предупреждая свой народ и весь мир о ее опасности. Нельзя не
сказать и об университетских педагогах, в частности о философах.
К. Ясперс, который в 1945 г. отмечал, что с нацизмом активно
сотрудничали лишь очень немногие известные университетские
профессора, говорил правду. Что касается, в частности,
философии и социологии, то можно десятками перечислять имена тех,
кому в 1945 г. не нужно было «очищать себя» перед политическим
и нравственным судом, потому что они либо эмигрировали в
демократические страны, протестуя против нацизма и спасаясь от
него, либо, вынужденные остаться в Германии, не запятнали себя
сотрудничеством с нацизмом, а то и вступили с ним в чреватую
смертью борьбу. Сова Минервы и в ночи нацизма все-таки
устремлялась в свой полет, что после 1933 г. становится особенно
опасным: ведь целый гск^дарственно-партийный аппарат
осуществляет идеологическую слежку и берет на заметку тех, кто
предается «беспартийному» философствованию.
Хайдеггер оказывается среди сравнительно немногих людей
духа с известным именем, которые сотрудничают с нацизмом.
Вместе с тем Хайдеггер — выдающийся профессиональный
философ, и он не может не почувствовать, сколь трудно Сове Минервы
искать мудрость и истину в ночи национал-социализма. В 1933 г.
Хайдеггеру еще могло показаться, что то и другое —
профессиональное философствование и нацистский идеологизм —
уживаются друг с другом. Грубость, дикость национал-социалистского
режима стали ясны, как только он набрал силу.
Ангажированность обернулась трагедией, а потом и непоправимой виной.
Но как грехопадение вообще стало возможным? Адвокаты
Хайдеггера упирают как раз на то, что национал-социалисты в
1933 г. еще не раскрывают все свои политические и
идеологические карты. Обвинители возражают: Хайдеггер к 1933 г.
достаточно хорошо знаком с центральными идеями итальянских и
немецких фашистов, активно их поддерживает. Правы, как ни парадок-
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 455
сально, обе группы. Хайдегтер, с одной стороны, именно потому
и присоединяется к «движению», что находит среди его идейных
устремлений нечто созвучное собственным умонастроениям. С
другой стороны, его формулировки тех же, казалось бы, идей
порой существенно отличаются от нацистских. И ссылки на
недостаточную осведомленность — а их делают К. Ясперс и Г.-Г. Гадамер,
вспоминая и о собственном опыте, — имеют смысл. Погруженный
в свои мысли и занятия, Хайдегтер не располагает временем, да и
не имеет особого желания вчитываться в «Майн кампф» Гитлера
или писания фашиствующих «теоретиков». Скорее всего, более
близкие люди доносят до него нацистские идеи, умело
приспосабливая их к заботам и устремлениям фрейбургского
профессора. К Хайдеггеру нацистское одушевление проникает прежде
всего через студентов.
Националистически настроенное студенчество не однажды
играло в истории Германии роковую роль. В начале 30-х гт. среди
студенческих объединений на первый план выдвигаются
национал-социалистские группы. Фашисты не без политической
прозорливости придают решающее значение работе среди
молодежи. Студенчество Германии — в союзе с некоторой частью
профессуры — давно уже перешло грань между патриотизмом,
сильно выраженным «народно-национальным» уклоном и
национализмом реваншистской окраски. Национал-социализм
подогревает эти настроения,, умело направляя их в антидемократическое
русло. Нацистские студенческие союзы обещают обновление и
величие Германии. Не народно-национальный самоанализ и
покаяние, всегда трудные и болезненные, а снова поиски врага в
других расах, народах, культурах — главный лозунг нацистов.
«Партийной» студенческой молодежи предлагаются дисциплина,
товарищество, военно-патриотическое воспитание, власть в
университетах. Хайдегтер, которого всегда любили студенты, знает и
учитывает их настроения (теперь и его собственный сын
становится студентом). Профессора увлекает волна студенческого
«национального одушевления» и постепенно завлекают в свои сети
гитлеровские организации Фрейбургского университета.
Сомневаться в том не приходится — документов и свидетельств
достаточно, и сегодняшние обвинители с полным основанием их
используют. Защитники же Хайдеггера, и тоже не без оснований,
обращают внимание на тот факт, что реформа университетов, на
которой сошлись, хотя и не слились намерения философа и цели
его нацистских — временных! — союзников, была делом
принципиально важным и назревшим. Действительно, Хайдеггера, на
пути к вершинам знания и духа познавшего горечь зависимости
456
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
(но, как подмечают злые языки, всегда добивавшегося
материальной поддержки и покровительства), не на шутку беспокоит
судьба высшего образования в Германии. Его технизацию и прагмати-
зацию он верно вписывает в общее противоречивое развитие
науки и техники в XX в., тем самым глубоко и именно философски
осмысляя проблемы познания и образования.
Критика науки и техники, которой все более увлекается Хай-
дегтер, не есть нечто временное и случайное. Это тема на всю
жизнь. Оправданность обращения к ней подтвердит
последующая история, которая побудит и Хайдеггера исследовать
проблему более основательно, проникая к глубинным, древнейшим
структурам человеческой технической деятельности. Но тогда, в
начале 30-х гг., критика науки и техники Хайдеггером, его
оправданный гнев против окостеневших университетских форм,
против профессоров-«бонз» (сколько он от них натерпелся
унижений!) очень даже на руку антиинтеллектуализму, в значительной
степени благодаря которому Гитлеру и его сподручным,
невеждам и недоучкам, удается оттеснить от власти пусть и не
справляющихся с кризисной ситуацией, но достаточно
профессиональных и демократически ориентированных политиков
Веймарской республики.
Хайдеггер выступает за глубокую — в его понимании,
поистине революционную — реформу немецких университетов. У него
вполне оправданные претензии к сложившимся порядкам и
достаточно интересные реформаторские замыслы. В университетах,
в чем Хайдеггер прав, много гелертерства, бесполезной
«учености», псевдоэлитарности. Сложившиеся структуры мешают
молодым талантам из народа пробиться в науку. Науки разрозненны,
образование фрагментарно. Давление религии и веры
чрезвычайно велико. В начале 30-х гг. потребность в преобразовании
высшей школы ощущают в Германии многие — и профессора, и
студенты. Карл Ясперс в 1933 г. делает свои наброски по этим
проблемам (они были опубликованы лишь недавно, в 1989 г.), в
определенной степени солидаризируясь с критико-реформатор-
скими устремлениями Хайдеггера. Но в подходах этих двух
выдающихся философов есть существенные различия. Ясперсу и в
голову не приходит связывать осуществление реформ с
национал-социалистской ангажированностью высшей школы.
Хайдеггер же начинает делать свои ставки на гитлеровскую партию и ее
адептов в немецкой университетской структуре.
18 марта 1933 г., приехав в Гейделъберг, Хайдеггер в очередной
раз встречается с К. Ясперсом. О чем потом писал сам Ясперс в
«Философской автобиографии». Как свидетельствует издатель
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 457
сочинений и материалов к биографии К. Ясперса, его бывший
ученик X. Занер, о политике не было разговора. «Слушали грего-
рианскую церковную музыку, говорили о философии и о судьбе
университета» з°. Казалось, ничто не предвещает разрыва. Но
Гитлер уже почти два месяца (с конца января) занимает пост
рейхсканцлера, на который его, увы, своей волей — в результате
почти единодушной поддержки на референдуме — посадил
немецкий народ. Ясперс вряд ли подозревает, что некоторые
замечания, оброненные Хайдегтером во время визита, а также
написанные в скоро посланном письме — вроде: «Нужно
включаться...»; «Мы врастаем в новую действительность» и все зависит от
того, «заготовим ли мы для философии действительно
ангажированную позицию (Einsatzstelle) и поможем ей высказаться...» —
уже намекают на хайдегтеровскую готовность «включиться»...
Потом Хайдегтер еще раз приедет к Ясперсу —в июне. Теперь
он уже «торжественно возведенный на свой пост ректор, партай-
геноссе и активный участник фашизации немецкого
университета» 31. Ясперс — подобно, увы, немалому числу европейских
интеллектуалов того времени — пока не принимает фашистских игр
всерьез. Да и вообще, влюбленный и погруженный в философию
Ясперс «мало что знает о национал-социализме и еще некоторое
время считает происходящее в Германии плохой опереттой... А
оперетта тем временем непонятным образом превращается в
печальную игру» 32. Не думает ли и Хайдегтер, что он, раз-другой
сыграв в нацистской «оперетте», потом начнет играть какую-то
свою роль? Может быть. Но во-первых, Хайдегтер с самого начала
играет вполне всерьез. Во-вторых же, если он и питает иллюзии (а
склонностью Хайдеггера к иллюзиям вполне почтенные люди,
например Гадамер, объясняют фашистский ангажемент), то ему
вскоре предстоит убедиться, что за пошло-опереточной формой
первоначальных нацистских игр скрывается и скоро обнажится
жесткая, кровавая тоталитаристская сущность новой власти.
Прежде чем Хайдегтер 27 мая 1933 г. произнесет — под
аккомпанемент нацистских приветствий, песнопений, кликов «Зиг
хайль» — свою печально знаменитую ректорскую речь, он поведет
достаточна расчетливую и, несомненно, политическую борьбу за
пост ректора. В 1945 г., представ перед расследующей его дело
комиссией, Хайдегтер изобразит все так, будто коллеги побужда-
30 Saner H. Vorwort / / Jaspers К. Notizen zu Martin Heidegger. S. 13.
3i Ibid.
32 Ibid. S. 14.
458
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ли его стать ректором Фрейбургского университета и что он
согласился, чтобы избежать других, действительно
неблагоприятных вариантов. Документы, которые к настоящему времени
имеются, позволяют, однако, воссоздать иную картину.
Весной 1933 г. во Фрейбурге предвидится смена власти
ректора, избираемого сроком на один год. Прежний ректор —
знакомый нам Й. Зауер — должен передать свой пост В. фон Моллен-
дорфу, профессору анатомии, избранному на ректорскую
должность еще до прихода нацистов к власти. Но теперь национал-
социалисты Фрейбурга не могут допустить, чтобы Моллендорф,
«ярко выраженный демократ», как пишет в своем доносе в
нацистское министерство профессор В. Али (член гитлеровской
партии с 1931 г.), занял столь важное место. Для фашистов, которые
гордились тем, что они — «выходцы из народа», фон
Моллендорф был неприемлем и как потомственный дворянин. А вот
названа и нужная партии кандидатура: «Господин коллега Хайдег-
гер не член партии, и он считает, что в данный момент ему из
практических соображений не следует им становиться, чтобы
могли свободнее действовать те коллеги, позиция которых еще не
ясна или даже враждебна. Он, однако, обещает объявить о своем
вступлении в партию, когда это по другим основаниям будет
признано целесообразным»33. Программа оттеснения демократа
Моллендорфа разрабатывается — несомненно, с участием Хайдег-
гера — на разных уровнях. Хайдеггер обращается за поддержкой в
другие университеты, например к тогда уже известным своими
нацистскими взглядами А. Боймлеру и Э. Крику, и некоторое
время с беспокойством ждет их ответа.
Преподаватели-нацисты ходят к ректору Зауеру, агитируя
против Моллендорфа в пользу Хайдеггера. Зауер сначала не
соглашается: Моллендорф, по его мнению, больше Хайдеггера
способен к организационной работе. Но скоро сдается. (А потом, уже
после выборов, становится при своем бывшем студенте Хайдегте-
ре проректором.) Тем временем нацистская партия через свою
газету настраивает студентов и профессоров против «ярко
выраженного демократа»: «Мы не можем себе представить, как может
возникнуть сфера доверия между господином профессором фон
Моллендорфом и студенчеством, которое ориентировано
преимущественно националистически» м.
33 Цит. по: Martin В. Martin Heidegger und das «Dritte Reich» Ein
Kompendium. Darmstadt, 1989. S. 165.
34 Ott H. Op. cit. S. 140.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 459
Статья появляется 18 апреля, а 21 апреля должны состояться
выборы. Путь Хайдеггеру расчищен еще и тем, что первыми
декретами гитлеровского правительства «неарийские» профессора
уволены в отставку. И это тоже важно: претендент хорошо знал об
антисемитской, расистской направленности «культурной»
политики национал-социализма, ибо она стала воплощаться в
позорные дела. Из 39 членов фрейбургского университетского сената
13 уже уволены по расистским соображениям. Некоторые коллеги
(например, знакомый нам теолог Э. Кребс) пытаются отстоять
право уволенных профессоров и доцентов, членов сената,
участвовать в выборах. Другие молчат, ибо порядком напуганы. Они
понимают, чем грозит сопротивление кандидатуре, дружно
поддерживаемой нацистскими профессорами и студентами. Для
третьих главное, что претендент - выдающийся философ и что
он не член нацистской партии. 21 апреля 1933 г. Хайдеггер
дружно избран ректором университета Франкфурта. Отличная
организация дела дает свои результаты.
Через десять дней вновь избранный ректор должен выполнить
важнейший пункт предвыборного соглашения с фашистами.
1 мая 1933 г., во вновь учрежденный Праздник труда, Мартин
Хайдеггер торжественно вступает в члены
национал-социалистской рабочей партии — партии Адольфа Гитлера. Получив
поздравление от профессора Ферле из министерства культуры в
Карлсруэ, Хайдеггер отвечает: «Я сердечно благодарю Вас за
поздравление по случаю моего вступления в партию. Мы должны
теперь все направить на то, чтобы завоевать мир образованных и
ученых людей для нового национально-политического духа. Этот
боевой путь не будет легким. Зит хайлъ. Мартин Хайдеггер» 35.
Письмо помечено 9 мая 1933 г.
Ровно через 12 лет «боевой путь» бесславно закончится. Но
пока Хайдеггер полон боевых же планов. 27 мая университет
собирается, чтобы выслушать «тронную» речь новоиспеченного
ректора и партайгеноссе. Хайдеггер совсем не случайно в 1945 г.
настаивал, чтобы комиссия по его делу внимательно ознакомилась с
ректорской речью. Как ни парадоксально, но из всех документов
хайдегтеровского ректорства 1933/34 гг. она в наименьшей мере
включает в себя прямые формулировки выгодного нацистам
толка. Потому, видно, окружной совет нацистской партии поначалу
и отклонил сделанное Хайдеггером предложение опубликовать
ректорскую речь в партийной печати. Защитники Хайдеггера, ра-
35 Ibid. S. 165.
460
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
зумеется, ссылаются, и не без определенных оснований, на этот
факт. Однако и обвинители, анализируя речь в контексте
событий, настроений 1933 г., справедливо указывают на то, сколь
необычно это выступление для академического по сути события.
Речь называется «Самоутверждение немецких университетов». Но
она обрушивается именно на университетские свободы и права,
причем в манере демагогической «Дать закон самим себе — это и
есть высшая свобода. Многопрославляемая «академическая
свобода» будет изгнана из немецкого университета; ибо эта свобода
неподлинная, чтобы не сказать уничтожающая. Она означала
преимущественно беспечность, произвольность намерений и
склонностей, освобождение себя от обязанностей (Ungebun-
denheit) в деле и досуге. Понятие свободы немецкого студента
теперь вновь возвращено в его истине. Из него разворачиваются
будущее обязательство (Bindung) и служение немецкого
студенчества» зв. И дальше обосновывается тройственное Bindung-Dienst, что
значит сразу и повинность, и служение, и обязательство.
Каковы же эти три службы, повинности? Первое, что, по Хай-
дегтеру, обязывает к служению — народное сообщество. И потому
первая «повинность» — трудовая (Arbeitsdienst): надо включиться
в усилия «всех сословий и членов» народного сообщества. Вторая
повинность, которая сначала красиво описывается как «честь и
мастерство нации перед лицом других народов», оказывается
вдруг обыкновенной Wehrdienst — воинской повинностью. Третья
обязанность-повинность студенчества — вносить духовный вклад
в судьбу немецкого народа благодаря знанию, Wissensdienst. Вот,
собственно, и все — если попытаться извлечь конкретное
содержание из цветистой, по-хайдеггеровски причудливой вязи
популистской риторики. Защитники Хайдегтера полагают, что
ректорскую речь, которая повествует о вполне реальных
обязанностях гражданина перед народом, вообще неправомерно
использовать в целях обвинения. И все же соотнесенность ее именно с
потребностями национал-социалистской власти — реальный
исторический факт.
Правый экстремизм нацизма, в условиях Веймарской
республики игравшего с идеями непослушания, бунта против
государства, после прихода гитлеровцев к власти обязательно должен
был смениться идеологией, которая брала на вооружение именно
принцип «повинности». Власть должна была поставить себе на
«службу» труд и знания, а также, лелея милитаристские замыслы,
призвать к строго и вдохновенно исполняемой воинской повин-
*> Martin В. Op. cit. S. 168.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 461
ности. Пусть речь нового фрейбургского ректора внешне
отличалась от фашистских документов, но объективно она тоже была
«служением» - и не народу, о котором, можно поверить, и было
искреннее попечение философа Хайдеггера, а коричневой
власти.
Допустим, однако, что ректорская речь допускает иное
истолкование. Но и за вычетом ее в период ректорства Хайдегтер
оставляет несмываемые коричневые следы. Документов этого рода
немало. Возьмем обращение Хайдеггера «К немецким студентам»
от 3 ноября 1933 г. «Национал-социалистская революция
приносит полное преобразование нашего немецкого бытия», -
провозглашает ректор. Призвав студентов к «мужественному
принесению жертв во имя спасения сущности и возвышения внутренних
сил нашего народа в его государстве» (теперь-то мы знаем, чем
эта страшная идеология «жертвенности» обернулась), Хайдегтер
изрекает: «Сам фюрер, и единственно он, есть сегодняшняя и
будущая немецкая действительность и ее закон...»37. Подписано:
«Хайль Гитлер! Мартин Хайдегтер, ректор».
В конце ноября 1933 г. ректор Хайдегтер читает доклад
«Университет в национал-социалистском государстве», в котором есть
немало тезисов, способных порадовать нацистское руководство:
«Каким видится университет в новом государстве? Новый студент
— это больше не академический гражданин. Он проходит через,
трудовую повинность, состоит в SA или SS х, занимается военно-
спортивной работой. Учеба теперь называется службой через
знания. А скоро все это сольется в радостное единство» 39.
Не остается Хайдегтер в стороне и от политических событий,
происходящих в стране. За день до выборов 1933 г. в рейхстаг
ректор публикует статью-обращение в студенческой газете. Вот
его слова: «12 ноября немецкий народ как целое выбирает свое
будущее. А оно замкнуто на фюрера» 40. В обращении к деканам
вверенного ему университета Хайдегтер полностью поддерживает
деятельность министерства народного просвещения и
пропаганды третьего рейха. Ректор выступает и с призывом, обращенным
к ученым, образованным людям всего мира (13 декабря 1933 г.).
37 Martin В. Op. cit S. 177.
38 SA (Sturm-Abteilung) — отрады штурмовиков, SS (Schutz-Staffel) —
отряды (команды) защиты, до 1934 года — подразделения штурмовых
отрядов.
39 Ibid. S. 178.
40 Ibid. S. 198.
462 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
«Все науки, — торжественно провозглашает Хайдеггер, —
неразрывно связаны с формой духовности того народа, благодаря
которому они вырастают. Отсюда предпосылкой успешной научной
работы является неограниченная духовная возможность развития
и свобода народа в культуре. Только благодаря взаимодействию
отдельных народов в их заботе о науке, которая связана с
определенным народом, возникает наука, объединяющая народы.
Неограниченное духовное развитие и свобода народа в культуре
могут процветать только на основе равных прав, равного
достоинства, равной политической свободы, следовательно, в атмосфере
действительно всеобщего мира» 41.
Подобные формулы — как же, равные права народов и
всеобщий мир! — говорят, казалось бы, в пользу Хайдеггера. Ведь
Хайдеггер разглагольствует о «равных правах» — но это происходит
после захвата гитлеровцами власти, когда уже начались позорные
преследования ученых, педагогов по национальному признаку, а
значит, когда именно в науке и образовании осуществляется
попрание равных прав, «равного достоинства» людей других наций!
Мыслящий, преданный науке человек самими обстоятельствами
принужден определять свою позицию в столь принципиальном
политическом и нравственном вопросе. Выбор Хайдеггера,
четкий и недвусмысленный, запечатлевается в тех заключительных
словах обращения, которые следуют за высокопарной
популистской риторикой: «...немецкая наука обращает к образованным
людям всего мира свой призыв отнестись к борьбе объединенного
Адольфом Гитлером немецкого народа за свободу, честь, право и
мир с таким же пониманием, какого они ожидают в отношении
собственного народа»42.
Заняв ректорскую должность, Хайдеггер должен
предпринимать — или не предпринимать — некоторые шаги, которых
нацистская партия ожидает от него как партайгеноссе, получившего ее
поддержку. На первый план не случайно выдвигается так
называемый еврейский вопрос, ибо именно здесь идеологией и
политикой нацизма разыгрываются первые сцены, которые становятся
прологом страшной трагедии - расистского геноцида. Какую же
роль в этом прологе играет новоиспеченный фрейбургский
ректор?
В 1945 г., оправдываясь перед комиссией, Хайдеггер
попытается создать впечатление, что он использовал преимущества своего
ректорства, чтобы отвести от евреев нацистские преследования.
41 Ibid. S. 185.
42 Ibid.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 463
Действительно, в 1933 г. складывается противоречивая и поистине
драматическая ситуация. Среди учителей, коллег, студентов
Хайдеггера, в том числе принадлежащих к кругу его близких друзей,
есть евреи. Хайдеггер, завязывая сотрудничество с нацистами, не
может не знать, что их идеология густо замешена на расизме и
антисемитизме. «Центральным жизненным законом и решающей
движущей силой истории» в ней провозглашается «борьба
народов и рас друг против друга» - с утверждением, что происходит,
дескать, «естественный отбор лучших народов и рас»43.
В «Майн кампф» Гитлер еще в 1925 г. проводит различие
между расами, сохраняющими, творчески развивающими и,
напротив, «уничтожающими» культуру. К 1933 г. нацисты уже широко
развертывают расистскую пропаганду, в рамках которой широко
используются такие, с позволения сказать, понятия, как «раса
господ» — она же «воинственная раса», как «раса паразитов» и «раса
кули», то бишь рабов-прислужников и. Например, народы,
населяющие нашу страну, — от прибалтийских наций до народов
азиатских республик — изначально зачисляются в разряд «кули».
Объявляется, что эти народы наделены такими биологически
укорененными свойствами, как «отсутствие потребностей,
покорность, выносливость»; и раз они не ведут «открытой борьбы за
упрочение своего положения», то раса господ, наделенная
«отвагой и самосознанием своей расистской силы»45, предназначена
якобы властвовать -над ними. Первый и главный удар, согласно
стратегии нацистского расизма, следует нанести по
«паразитическим расам», из которых самой опасной объявляется еврейская
нация — потому, оказывается, что она «интеллигентна»,
«сверххитра», умеет хранить единство. Впоследствии — в преддверии
второй мировой войны — гитлеровцы, «отработав» приемы
расистской идеологии и политики на преследовании евреев,
полностью перенесут те же приемы на славянство, поставив его где-то
посредине между расами «рабов» и «паразитов».
Что же касается немецкого народа, то он, разумеется,
провозглашен главным среди «ариев», «расы господ и воителей», самой
«чистой расой», «пранародом» (Vorvolk). Смешение этой расы с
другими Гитлер в «Майн кампф» объявляет «грехом против
крови и расы». Напротив, «самое святое право человека» и «самый
43 Salamun К. Die Weltanschauung des Nationalsozialismus aus
ideologiekritischer Sicht //Die Universität und 1938. Wien-Köln 1989. S. 41.
44 Das dritte Reich. Bausteine zur neuen Staat und Volk. Leipzig, 1933//Der
Nationalsozialismus. Dokumente 1933—1945. Frankfurt a/M., 1957. S. 32 ff.
45 Ibid.
464
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
святой человеческий долг» состоят, по Гитлеру, в заботе о
«чистоте крови». И вот на подобной расистской идеологической основе
строится «генетический» проект сохранения «чистой расы»,
который потом, после захвата власти, нацисты начинают
претворять в жизнь. Принимаются (в 1933 и 1935 гг.) расистские законы,
один из которых носит название «Закон сохранения немецкой
крови и немецкой чести».
Известно ли все это Хайдеггеру? Разумеется, известно. И
каково его отношение к расизму? Есть свидетельства неприятия Хай-
деггером биологически обосновываемой расистской идеологии.
Защитники Хайдеггера обращают внимание на то, что он,
усиленно расставляя национально-патриотические акценты,
всячески избегает употреблять слова и выражения в духе расистской
риторики. И более того, активно использует возможность заявить
о «равных правах» всех народов, о надеждах на «всеобщий мир»,
что диссонирует с милитаристскими обертонами официальной
гитлеровской идеологии. С этим можно согласиться.
Однако есть и другой, в данной связи, пожалуй, главный факт:
горячая Хайдеггеровская пропаганда в пользу Гитлера —
провозглашение его «судьбой» немецкого народа, его «великим
объединителем» — объективно означала, не могла не означать, и
фактическую поддержку расистских идей, антисемитизма фюрера. Во
всяком случае, если ректор Хайдеггер поначалу и задумал
уклониться от действий, диктуемых национализмом и
антисемитизмом официальной гитлеровской политики, то ему предстоит
убедиться, сколь непросто реализовать такой замысел.
Расистская политика и идеология, а в немалой степени и уже
принятые или готовящиеся расистские законы подхлестывают
фашистских молодчиков из студенческих и преподавательских
союзов. Хайдеггер, разумеется, не поощряет ни их антисемитские
собрания, ни тем более начавшиеся хулиганские выходки,
которые становятся «репетицией» будущих погромов и репрессий. Он
старается держаться в стороне. Но в тех условиях даже это
фактически означает поощрение. Пример — хулиганские действия
нацистов против еврейского студенческого союза Neo Friburgia.
Хайдеггер в 1945 г. сообщит комиссии: занимаясь этим делом,
он пресек дальнейшее насилие, в частности готовящийся разгром
католических корпораций Rignaria и Heroynia. Возможно. Однако
в деле Neo Friburgia ректор Хайдеггер постановляет дождаться
решений нацистского министерства, которое, разумеется,
попустительствует фашиствующим студентам.
Не менее драматично и противоречиво складываются
отношения ректора с коллегами-евреями. Для них настали поистине
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 465
страшные времена. Сравнительно недавно, еще в конце 20-х гг.,
представители разных наций вместе работали на славу и пользу
немецкой культуры. Конечно, они спорили, расходясь во взглядах
и подходах, испытывали друг к другу симпатии или антипатии.
Национальные оттенки разногласий, если они и существовали,
никогда не делали погоды, что нормально и естественно для
цивилизованной страны. Однако в том-то и дело, что Германия под
руководством нацистов стремительно двигалась к пропасти
варварства. Для евреев по национальности, с готовностью и
энтузиазмом служивших немецкой культуре, родившихся в Германии и
считавших ее своим отечеством, 1933 год был потрясением. 4 мая
этого года (значит, через несколько дней после избрания
Хайдеггера ректором) Эдмунд Гуссерль пишет одному из друзей: «В
моем преклонном возрасте мне пришлось испытать то, что я
никогда не счел бы возможным: это возникновение духовного гетто, в
которое и я должен быть заключен вместе с моими действительно
достойными внимания, действительно высоко сознательными
детьми (и со всем их потомством). В соответствии с отныне и
навсегда установленным государственным законом мы больше не
имеем права называть себя немцами; полученные нами духовные
результаты больше не должны причисляться к истории
немецкого духа. Мы обязаны жить дальше только с клеймом «еврейского»
— а оно, согласно всем официальным объявлениям
государственной воли, должно стать знаком презрения» 46.
В письме есть и упоминания о Хайдеггере. Гуссерль считает
происшедшее с бывшим учеником, ассистентом и другом одним
из самых печальных событий: ведь он испытывал такое доверие
не только к таланту, но и к характеру Хайдеггера. Упомянуто о
«театральном» вступлении Хайдеггера в нацистскую партию.
После принятия ректорства отношения Хайдеггера с Гуссерлем
окончательно расстроены. Гуссерль в этом письме высказывает
суждение, что главной причиной является «все более ясно
выраженный антисемитизм, также и обращенный против группы
евреев - его восторженных учеников и преподавателей
факультета» 47.
Вопрос об отношении к Гуссерлю и другим коллегам и
друзьям еврейской национальности не случайно всплывет в 1945 г.. И
речь пойдет уже не только и не столько об идеологии, сколько о
стимулированных нацизмом и антисемитизмом преследованиях
46 Цит. по: Martin В. Op. cit. S. 148-149.
47 Ibid. S. 149.
466 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
людей, значит, о действиях, которые по меркам послевоенного
времени станут юридически наказуемыми. В этом вопросе Хай-
дегтер будет тверд. Разногласия с Гуссерлем, приведшие к
разрыву, имели, по утверждению Хайдеггера, лишь
идейно-философскую подоплеку. Разрыв отношений с другими друзьями и
коллегами — тоже идейного или чисто личного свойства. Некоторых из
этих друзей и коллег, например Гуссерля, в 1945-м уже не будет в
живых. Другие коллеги частично подтвердят показания
Хайдеггера: ректор не вступался за них, что в те времена и на его посту
вряд ли было возможно; но он и ничего не предпринимал против
них. Третьи будут возражать. Хайдеггер, подчеркнут они,
воспрепятствовал защите диссертаций своих учеников-евреев
(например, Зайдемана, Бергсона и госпожи Вайс) или бросил их на
произвол судьбы. Есть и факты, свидетельствующие о том, что
Хайдеггер способствовал изгнанию евреев из университета (случай
Э. Френкеля). Хайдеггер же объяснит все исключительно
деловыми соображениями. Он сошлется на то, что студенты и коллеги
еврейской национальности и в 1933 г. посещали его лекции и
семинары. Профессор К. Берингер поддержит версию Хайдеггера
своим сообщением: нацист профессор И. Штейн в 1933—34 гг.
неоднократно жаловался, что Хайдеггер — плохой ректор, ибо он
помогает евреям и полуевреям 48. Из-за этой разноголосицы
суждений вопрос об антисемитизме Хайдеггера в 1945 г. останется
открытым.
Во второй половине 80-х гг. спор разгорится вновь. В. Фариас,
привлекая к рассмотрению документы и материалы, настаивает
на том, что союз с нацистами был обусловлен также и
антисемитизмом Хайдеггера, который он имел основания маскировать,
потому что пробивал свой путь в философию благодаря, скажем,
горячей поддержке Гуссерля и в немалой степени благодаря
энтузиазму молодых студентов и преподавателей, среди которых
были евреи, а также немцы и люди других национальностей,
которые считали антисемитизм безнравственной болезнью.
Ряд авторов возражает Фариасу, выискивая слабые места его
аргументации. Например, французский философ Ф. Федье,
автор яркой и страстной книги «Анатомия скандала», разбирает
обвинение Фариаса, построенное на письме Хайдеггера от 16
декабря 1933 г. относительно его бывшего ученика Э. Баумгартена
(письмо послано в связи с запросом национал-социалистской
организации профессоров Гёттингенского университета). Аргумент
В. Фариаса и других авторов: Хайдеггер в этом письме отказыва-
« Ibid. S. 197.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 467
ется поддержать габилитацию бывшего ученика (чья работа о
Дьюи написана под его, Хайдеггера, руководством!) по
следующим основаниям: Баумгартен, пишет (прямо-таки доносит) Хай-
дегтер, близок к кругу либералов-демократов типа Макса Вебера;
он поддерживает связи «с евреем Френкелем». Ф. Федье
возражает: «В этом тексте - единственная антисемитская формулировка из
всех, которые вышли из-под пера Хайдеггера»49.
Федье оказался, однако, не прав: та формулировка не
единственная; есть и другая, обнаруженная совсем недавно. Странным
образом она связана с именем того же Э. Баумгартена и относится
к 1929 г. Но тут Хайдеггер, наоборот, горячо ходатайствует о
выделении стипендии для этого своего ученика. 2 октября 1929 г. он
пишет неофициальное письмо В. Швёреру, руководителю
«Общества помощи немецкой науке», в дополнение к официальной
рекомендации. «К моему ходатайству, - убеждает Хайдеггер
человека, о чьих взглядах, близких к его собственным, он, вероятно,
осведомлен, - я хотел бы добавить нечто личное и просить Вас
обратить особое внимание на эту мою просьбу.
В моей рекомендации я не мог непосредственно обозначить то,
что здесь я могу сформулировать яснее. Дело ведь идет о
необходимости как можно скорее осознать тот факт, что мы поставлены
перед следующей альтернативой: или мы вольем новые силы и
подлинных педагогов, порожденных самой почвой, в нашу
немецкую (подчеркнуто Хайдегтером. — H. М.) интеллектуальную
жизнь, или будем способствовать растущему ее оевреиванию
(Verjudung) в широком и узком смысле. Мы обретем путь лишь в
случае, если без придирок и ссор сумеем помочь расцвести этим
свежим силам» 5°. (В подлинности письма нет никаких сомнений
— оно написано собственной рукой Хайдеггера: обнаружено
письмо Ульрихом Зигом в главном архиве Карлсруэ и
опубликовано в конце 1989 г.)
Снова перед нами весьма дурная сторона характера
Хайдеггера. В 1929 г. Э. Баумгартен был для него чуть ли не
олицетворением «свежих», «почвенных» сил немецкого духа. Но стоило
бывшему ученику в 1933 г. обнаружить симпатии к «либеральному
демократизму», не порвать дружбы с евреем, как он же стал
непригоден для немецкого университета.
А нравственное лицо профессора Хайдеггера? «Оевреивание»
(Verjudung) — выводит его рука как раз в то же время, когда он
49 Fedier Fr. Heidegger: anatomie d'un scandale. S. 105.
50 Liberation. Jeudi, 8. Février 1990. Nouvelle série, N 2710.
468
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
общается с Гуссерлем и вовсю пользуется его покровительством.
Когда переписывается с Ясперсом, чья жена - еврейка. Когда
общается с теми самыми «восторженными» учениками и коллегами,
о которых потом напишет Гуссерль. В официальной
рекомендации 1929 г. такое передать бумаге, конечно, непристойно, и Хай-
деггер хорошо понимает это. Но грядут времена, когда
нравственно непристойное приобретет в Германии силу
государственного закона. Грядет 1933-й. Между хайдегтеровским письмом 1929
г. и 1933 годом существует связь, задуматься над которой очень
нужно тем, кто в нашей стране и сегодня не прочь поиграть в
антисемитские игры, кто, зная о том или не зная, говорит свинцово-
расистским языком «Майн кампф» или позволяет себе «шалости»
в манере профессора Хайдегтера. Никому, даже талантливейшим
людям, такое не проходит бесследно. Не горят не только
рукописи — сохраняются и документы. Разоблачение все же приходит.
«Майн кампф» Гитлера и другие национал-социалистские
документы — самые крайние, воинствующие, зоологические, можно
сказать, проявления антисемитизма. Это — предвестие массовой
коричневой чумы. Почему же интеллигенты Германии — а здесь
ведь их прямое дело — не раскрывают своей нации глаза на
расистскую природу и крайне опасные последствия
националистических спеси и ненависти? Причина в том, что интеллектуалы,
образованные люди Германии в столь принципиальном вопросе
отнюдь не едины. Некоторые из них с беспокойством и недобрыми
предчувствиями наблюдают за разрастанием национализма и
антисемитизма. Другие, видно, считают национализм, смешанный с
антисемитизмом, не слишком большой опасностью. А третьи —
среди них, как видим, Хайдеггер — и сами изнутри поражены
этими гнилостными для духа и нравственности микробами...
Фашизм, национал-социализм становится не только
проявлением, но в каком-то смысле и следствием болезней, еще раньше
захвативших разум, рассудок, здравый смысл, чувства довольно
заметной части немецкого общества. Наиболее, пожалуй, опасными
национализм и антисемитизм становятся тогда, когда через них
братаются политические маньяки, демагоги типа Гитлера,
агрессивно-злобные завсегдатаи пивных и интеллектуалы типа Хайдег-
гера. Это случается, как мы видим, уже во второй половине 20-х
гг., а к 1933 г. получает свое государственное закрепление.
1933—34 гг. проясняют многое из того, что прежде могло казаться
неясным. Если Хайдеггер и питает надежды на какую-то
самостоятельность в проведении университетской реформы, на свое
формирующее философское влияние, то очень скоро надеждам суждено
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдегтера 469
испариться. Гитлеровцы сами хотят править бал, в том числе в сфере
идеологии, к которой они причисляют и философию.
У главных идеологов национал-социализма типа Геббельса
или Розенберга давно есть прочные связи с людьми, которым
теперь предназначаются посты «ведущих» юристов или философов
третьего рейха. Среди юристов выдвигается Карл Шмитт, имя
которого хорошо известно в Германии. Упоминавшиеся ранее
профессора философии А. Боймлер и Э. Крик, еще до 1933 г.
связавшие свою судьбу с нацистской партией, после ее прихода к
власти, естественно, становятся главными официальными
философами. Они помогли Хайдеггеру утвердиться в качестве ректора,
но теперь с тревогой следят за его карьерой, ибо понимают, что с
мыслителем такого масштаба им трудно соперничать. И потому
они делают все, чтобы помешать звезде Хайдегтера взойти на
небосклоне официальной нацистской идеологии. Когда в
министерстве культуры и образования рейха в Берлине вентилируется
проект такого же министерства Пруссии — учредить Академию
немецких доцентов и во главе ее поставить Хайдегтера, то
завистники бросаются в бой. «Самое позднее весной 1934 г. в партии
формируется антихайдеггеровская группа во главе с прежним
коллегой Хайдегтера по Марбургу Эрихом Йеншем и даже
Эрнстом Криком; опираясь на Альфреда Розенберга, они
предусмотрительно блокируют возможную руководящую позицию
Хайдегтера в Пруссии или в рейхе, потому что они не хотят допустить,
чтобы он стал «философом национал-социализма»...51 — пишет
фрейбургский историк X. Отт, которому удалось получить доступ
к архивам прусского министерства культуры, искусства и
народного образования и обнаружить там соответствующие доносы
бывших коллег на Хайдегтера. Особо старается психолог Э. Йенш:
Хайдеггер им заклеймен и как философ-декадент, и как пособник
евреев, и как ректор, проявивший на службе
национал-социализма недостаточное рвение, и как покровитель «религиозных
клик» (имеется в виду группа философов, объединившаяся
вокруг П. Тиллиха52).
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Борьба нацистов за
власть в философии помогает Хайдеггеру, который уже тяготится
зависимостью от национал-социалистской политики, уйти в
сторону. Это спасает мыслителя и сберегает его для философии.
51 Ott H. Op. cit. S. 241.
52 Ibid. S. 242-246.
470 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Правда, Хайдегтер остается в нацистской партии, до 1945-го
продолжая платить членские взносы — факт этот особенно
акцентирован Фариасом и другими обвинителями; защитники Хайдег-
гера его оспаривают. Я лично не считаю именно эту проблему
первостепенно важной. Во всяком случае, она есть не более чем
следствие ректорства. Выплата взносов вряд ли автоматически
означает продолжающуюся приверженность Хайдеггера идеям и
политике национал-социализма. Влезть на нацистского тигра —
стать членом партии Гитлера — было куда проще, чем слезть с
него - выйти из партии. В те времена это скорее всего равнозначно
расставанию с жизнью, на что Хайдегтер, человек не самого
смелого десятка, не решается. Однако от сколько-нибудь активной
идейной поддержки режима он уходит. Нацистские идеологи
приглашают Хайдеггера, мыслителя с мировым именем, в
пропагандистскую поездку за границу. Министерство утверждает его
кандидатуру. Но философ, судя по всему, старается поездки
избежать. Во всяком случае, в 1934 г. он срывает — «по болезни» —
путешествие в Италию. Однако в начале 1936 г. туда все же
отправляется.
В Риме, где порядки в отношении евреев были не такие жесткие,
как в Германии, Хайдегтер встречается со своим бывшим учеником
и другом К. Левитом, который в 1933 г. вынужден был покинуть
родину из-за «неарийского» происхождения. Лёвит и оставил
воспоминания о встрече, причем написал их в 1940 г., по довольно
свежим следам. Хайдегтер держится довольно сухо (еще
отчужденнее ведет себя его жена). Но с бывшим учеником все же беседует.
Лёвит в беседе настаивает: принадлежность к партии Гитлера
укоренена в его, Хайдеггера, философии. «Хайдегтер, — рассказывает
К. Лёвит, — без всякого колебания согласился со мной и разъяснил,
что понятие «историчности» и было основой его политической
ангажированности. Он не допускал никакого сомнения в своей вере в
Гитлера. Хайдегтер был, как никогда, убежден, что национал-
социализм — это предначертанный Германии путь и нужно только
достаточно долго по нему следовать»53. 8 апреля 1936 г. Хайдегтер
читает в Риме доклад на тему «Европа и немецкая философия»,
текст которого до сих пор не опубликован. К. Лёвит вместе с
другими «неарийцами» на доклад не допущен.
То, что Хайдегтер говорил Левиту о своей поддержке Гитлера
и национал-социализма, вряд ли можно подвергнуть сомнению.
Но неверно, как я думаю, не принимать в расчет простое обстоя-
53 Lowith К. Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Stuttgart, 1986. S.
57.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдегтера 471
тельство: даже если Хайдегтер теперь думает иначе, чем прежде,
он никак не может, не рискуя жизнью, своей и членов семьи, кому
бы то ни было поведать о своих взглядах и сомнениях. Тем более
приехав за границу. Лёвит негодует: да как же Хайдегтер
позволил себе перед ним, изгнанным нацистами, появиться с
фашистским значком на лацкане пиджака! Но каждый, кому пришлось
испытать превратности тоталитаристских режимов, знает, какое
значение в них придается таким, казалось бы, «мелочам», как
символика, ставшие обязательными приветствия и т. д. Для члена
нацистской партии не надеть значок или не крикнуть при
встрече, не написать в конце документа «Зиг Хайль!» — почти то же,
что заявить о выходе из этой партии. Нет, не решается Хайдегтер
спрыгнуть с тигра...
Но объективно различия между жизнью Хайдегтера в период
ректорства и после него — довольно принципиальные. Время
ректорства — национал-социалистская суета, коричневые следы. И
почти никакой философской работы. А вот после, с 1935 по
1945 г., философствование возобновляется и продолжается. Нет
ничего удивительного в том, что главное внимание Хайдегтера
привлечено к истории философской мысли, к истории культуры.
Сова Минервы, вылетавшая в свой полет и в ночи нацизма,
именно в истории мировой культуры обретала и самые надежные
пристанища. Но вот пришел 1945 год. Для народов Европы это был
год победы над фашизмом. Для Хайдегтера — год первой
расплаты за временное сотрудничество с ним.
Акт четвертый
Вина и нераскаянность Хайдегтера
Фрейбург, 25 апреля 1945 г. Остается две недели до конца
второй мировой войны. И люди чувствуют: война, принесшая
столько бедствий и крови, на исходе; агонизируя, доживает последние
дни нацистский режим. Французские оккупационные войска
размещаются в старинном университетском городе. А в
университете идут жаркие дебаты. Фрейбургские профессора (в
основном те, что работали при нацизме) делают вообще-то вполне
понятный и, учитывая военное присутствие демократической
страны, политически точный шаг: они избирают ректора, проректора,
деканов, сенат, т. е. торжественно восстанавливают
университетское самоуправление, попранное национал-социалистской
властью после 1934 г.
Шаг этот практически «мудр» еще и потому, что позволяет
фрейбургской профессуре если не прямо противостоять
попыткам оккупационных властей привлечь к ответу сотрудничавших с
472
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
нацизмом преподавателей университета (прямое и решительное
сопротивление в создавшихся условиях, конечно, невозможно), то
хотя бы самортизировать, усложнить расследование. Того требует
интерес почти каждого из них. По строгому счету истории по
крайней мере к нравственному ответу можно было бы привлечь
многих, если не всех тогдашних фрейбургских воспитателей
юношества — вместе, впрочем, с заправилами агрессивных
фашистских студенческих союзов, которым во Фрейбурге удалось
увлечь за собой подавляющую массу студентов. Поскольку вопрос о
расплате, ответственности, покаянии - один из самых коренных в
истории стран и народов, переживших годы, тем более
десятилетия тоталитаристской диктатуры, давайте присмотримся к делу
внимательнее.
Что же происходит весной 1945 г. в Германии? Наказания
нацистов и их пособников, в том числе в сфере духа, требуют
народы мира, боровшиеся против фашизма и понесшие
неисчислимые жертвы. Немцы — особенно те, кто не запятнал себя
пособничеством режиму, особенно молодое послевоенное поколение —
ожидают от своего народа того же: саморефлексии, самокритики,
покаяния. И оказывается, что таких немцев немало, что голос их
звучит все слышнее и увереннее. Я совершенно убеждена, что в
трудных, противоречивых, но в конце концов оказавшихся
успешными процессах демократизации ФРГ духовно-нравственным
самокритике, самоочищению, покаянию, через которое прошли
лучшие головы и сердца нации, принадлежит огромная
позитивная роль.
Однако сразу после поражения фашистов положение
складывается непростое. Во-первых, в распоряжении оккупационных
властей — во Фрейбурге это были, как сказано, французы —
поначалу нет ни механизмов, ни оснований, ни критериев
расследования, которые имели бы юридическую силу. Это немедленно
используют заинтересованные лица, прежде всего те, на счету
которых нет прямых, «материально» доказуемых нацистских
преступлений. Прощавшие нацистам, а то и идеологически
освящавшие беспрецедентное попрание прав и свобод личности, они
станут достаточно уверенно бороться за свои конечно же святые
человеческие права.
Во-вторых, что характерно для любого посттоталитаристского
времени, не вполне ясно, кого же и как следует наказывать. Всех
или большинство привлечь к ответственности, юридической ли,
нравственной ли, практически невозможно. И довольно скоро те
послушные гитлеровской власти фрейбургские педагоги,
которые служили ей тихо, не предпринимая каких-либо заметных
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 473
публичных действий, поняли, что могут спать спокойно.
Сотрудничество больших масс людей с тоталитаристским режимом —
главная опора последнего — всегда остается, и в Германии
останется, практически неподсудным и ненаказуемым.
Но вскоре оккупационные власти вместе с немецкими
патриотами все-таки найдут демократические формы и формулы
процессов политического «очищения». К ответу привлекут прежде
всего тех, кто особо запятнал себя сотрудничеством с нацизмом,
кто оставил следы в виде практических действий, речей,
публикаций, документов. Во Фрейбургском университете, конечно,
никак нельзя будет пройти мимо ректорства Мартина Хайдеггера.
Скоро его делом займется специальная комиссия.
А тем временем специфическая ситуация оккупации вносит в
судьбу Хайдеггера дополнительные детали. Французские
оккупационные власти, размещающиеся в порядком разрушенном
Фрейбурге, испытывают нужду в жилых помещениях. Встает
вопрос о конфискации жилья тех, кто сотрудничал с наци. Дом
Хайдеггера, а также его превосходная огромная библиотека под
угрозой. Сам философ проводит трудное время в горах. Госпожа
Хайдеггер, оставшаяся при доме и имуществе, пишет прошения
властям, пытаясь доказать, что ее муж, принявший ректорство
исключительно по желанию коллег, потом подвергался
преследованиям фашистов. Эти аргументы вряд ли убеждают тех, к кому
они обращены. Наконец, письмо посылает сам Хайдеггер, гневно
протестуя против конфискации имущества и особенно
библиотеки. Его письмо дышит неподдельным возмущением: «Понятия не
имею, на каком правовом основании я подвергаюсь таким
неслыханным преследованиям. Я категорически возражаю против
подобной дискриминации в отношении меня как личности и в
отношении моей работы» и («Неслыханные преследования» — это
после Освенцима!). Одновременно философ излагает ту версию
своего поведения при нацизме, которую повторит и разовьет уже
перед комиссией.
Энергичные протесты четы Хайдеггер приводят к тому, что дом
их не конфискован. Однако в него (на некоторое время) подселяют
еще одну семью. Библиотеку тоже не оставляют в покое, заимствуя
из нее кое-что для фонда университетов, например Марбургского
университета. Такое происходит не с одним Хайдеггером.
Фрейбургские профессора, ректор университета пишут
французам петицию за петицией, протестуя против «попрания
54 Ott H. Op. cit. S. 296.
474
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
демократических прав», - и такое, подчеркивают они, происходит
в тот момент, когда требуется создавать правовое государство!
Они настаивают на том, что «для установления политической
вины» должна быть создана «правовая инстанция». Этого более
всего требуют, кстати, те профессора, чьи имена не запятнаны
сотрудничеством с нацистами. Французам вполне понятна
апелляция к правам человека и требование разработать приемлемый
для университета механизм «установления политической вины».
Демократические принципы и убеждения заставляют их всегда и
при всех обстоятельствах относиться с уважением к борьбе за
человеческие права и свободы; с особым сочувствием и пониманием
относятся они к тем, кто двенадцать лет вынужден был терпеть
тотальное бесправие фашистской диктатуры. Французские
власти делают уступку и в том, что сами непосредственно не
проводят расследования - например, «дела Хайдеггера». Это
поручается специальной комиссии, в которую входят профессора, только
что освобожденные из нацистских тюрем, куда они некогда
попали за «политические преступления», т. е. за какие-то формы
протеста против гитлеризма. Комиссию возглавляет К. фон Дитце, в
нее первоначально входят Г. Риттер, А. Лампе; позднее добавлены
Ф. Ёлкерс и А. Аллгайер.
Эти люди, пострадавшие от нацизма, менее всего склонны
сводить счеты со всемирно известным философом. Однако они не
намерены и затушевывать его вину. К тому же их собственный
опыт наглядно опровергает один из главных тезисов, который в
то время имел широкое хождение в Германии: нельзя, дескать,
привлекать к ответственности отдельных людей, когда равно
виноваты все. Нет, виноваты не все, и ответственность виноватых
отнюдь не равна. Основываясь на этом, комиссия по делу
бывшего фрейбургского ректора приступает к работе. Хайдегтеру
предложен для ответа ряд важных вопросов. Философ ощущает себя
чуть ли не жертвой политической «инквизиции». Но на вопросы
отвечать вынужден. Ответы и суть хайдегтеровской версии нам
отчасти уже известны из предшествующего рассмотрения.
Члены комиссии внимательно анализируют, проверяют
каждый оправдательный довод Хайдеггера. И даже в случае, когда то
или иное утверждение не удается ни подтвердить, ни
опровергнуть, сомнение идет скорее на пользу Хайдегтеру. Комиссия, по
существу, соглашается с той предложенной философом версией,
что после 1934 г. его отношения с нацистами фактически
прервались. Находит ее поддержку и тезис Хайдеггера о том, что во
время ректорства он не только не преследовал евреев, а, чем мог,
помогал им. И все же по главному вопросу — о вине Хайдеггера -
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 475
комиссия высказалась достаточно четко: «Несмотря на более
позднее отчуждение, нет никакого сомнения в том, что Хайдегтер
в судьбоносном 1933 г. сознательно поставил на службу национал-
социалистской революции великий блеск своего имени и свое
специфическое ораторское искусство — и тем самым
способствовал оправданию этой революции в глазах немецкой образованной
публики...»55 Но и признав вину Хайдеггера несомненной,
комиссия не смогла предложить однозначного решения.
Члены комиссии убеждены: полностью потерять для культуры
столь знаменитого и значительного философа нельзя. Но и
«немыслимо», как они пишут, после столь определенных актов
политического сотрудничества с нацистами оставить «внешнее
положение» Хайдеггера в университете неизменным. Лучшим
решением представляется отставка или пенсия, однако с
предоставлением всемирно известному философу возможности вести
преподавательскую деятельность хотя бы «в ограниченных
масштабах» 5в. Победу, однако, одержит более последовательный
вариант: отстранение Хайдеггера от преподавательской деятельности
во Фрейбурге будет сопровождено (временным) запретом
преподавать где бы то ни было в Германии.
Самому Хайдегтеру и некоторым его почитателям решение
комиссии представится очень жестким, а расследование (как
напишет Хайдегтер в одном из писем 1945 г.) — «инквизиторским».
Но если принять в расчет тогдашнюю ситуацию в мире и в самой
Германии, нельзя не подивиться мягкости принятых мер.
Решающую роль в том, что философ Хайдеггер не предстает
перед более строгим судом, играет вот какое обстоятельство: за
него винятся, и за него заступаются его выдающиеся современники,
которые благодаря своему честному имени,
духовно-нравственному благородству пользуются доверием в тогдашнем
непрочном, смятенном мире. Например, один из ранее упоминавшихся
членов комиссии, профессор теологии и ботаники Ф. Ёлкерс,
обращает письмо-запрос к К. Ясперсу — и делает это, между прочим,
по просьбе самого Хайдеггера. Ответ К. Ясперса и его предложения
очень характерны, и они тем более важны, что фактически
положены комиссией в основу уже известного нам решения.
По отношению к человеку, некогда бывшему «доверенным
другом», пишет Ясперс, он предпочитал и предпочитает
молчание. Но поскольку Ёлкерс действует и по поручению комиссии, и
» Ibid. S. 306.
56 Ott H. Op. cit. S. 307.
476
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
по просьбе Хайдегтера, Ясперс считает себя вынужденным
высказаться. Попытавшись объяснить причину нацистского
грехопадения Хайдегтера (он «не видел ясно все реальные силы и дела
фюреров национал-социализма»), Ясперс признает вину философа
несомненной, наказуемой, хотя и трагической: «Настоятельно
необходимо привлечь к ответственности тех, кто помогал национал-
социализму упрочить власть. Хайдегтер принадлежит к немногим
профессорам, которые это делали»57. «Он, и Боймлер, и Карл
Шмитт, - продолжает Ясперс, — были среди тех весьма
отличающихся друг от друга профессоров, которые пытались в духовном
отношении стать во главе национал-социалистского движения.
Тщетно. Они употребили действительные духовные усилия, но
опорочили славу немецкой философии. Так шествует трагика
зла...» и
Высказавшись за отстранение Хайдегтера от активного
преподавания, Ясперс вместе с тем находит для оценки философского
таланта Хайдегтера удивительные слова: «Хайдегтер — это
значительный потенциал, и не с точки зрения содержания
философского мировоззрения, а обладания спекулятивным инструментом.
Он располагает философским органом, восприятия которого
интересны, хотя Хайдегтер, по моему мнению, некритичен и далек
от науки в собственном смысле. Иногда он действует так, как если
бы серьезность нигилизма соединялась в нем с мистагогией (Mys-
tagogie) волшебника. В потоке своего речения он временами
помогает, и скрыто и грандиозно, коснуться самого нерва
философствования. И в этом качестве среди философов Германии, сколько
я вижу, Хайдегтер, быть может, единственный. А потому
приходится настоятельно желать и требовать, чтобы он смог работать и
писать, реализуя свои возможности» 59.
В то время многие, от кого зависела судьба Хайдегтера,
действуют подобно Ясперсу: они признают несомненным и
наказуемым нацистское грехопадение философа, но «настоятельно
желают и требуют», чтобы высокоталантливому мыслителю был дан
шанс и далее работать в немецкой и мировой культуре. Мощная
поддержка приходит оттуда, откуда ее Хайдеггеру совсем,
казалось, не следовало бы ожидать, — от католиков! В 30-40-х гг.
Хайдегтер неоднократно нападал на католическую церковь, на
«слишком томистских» философов, хорошо зная, на что обрекает
их в условиях постоянных репрессий нацизма против католиков.
57 Martin В. Op.cit. S. 151.
s« Ibid. S. 152.
59Martin В. Op.cit. S. 151.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 477
Но теперь, в 1945-м, он (не в первый раз) не гнушается
воспользоваться покровительством своих прежних католических пастырей.
Помните имя из давнего, еще школьного и студенческого
прошлого Хайдеггера — архиепископ Грёбер. Невзирая на все, что
было в прошлом, Грёбер, чей нравственный и гражданский
авторитет в послевоенной Германии очень высок, становится
ходатаем по делам бывшего воспитанника, блудного сына. Хайдеггер
его помощь, разумеется, охотно примет, что не помешает ему
впоследствии снова обвинить католиков в «негативном влиянии»
на его свободу! За Хайдеггера горячо ходатайствуют и коллеги по
философскому факультету Фрейбургского университета. Их
главный аргумент: речь идет о великом философе и к нему, к его
прошлому надо подходить с особыми мерками.
И вот еще один парадокс, который играет свою роль в
достаточно мягком решении французских оккупационных властей по
«делу Хайдеггера». Философ — в немалой степени благодаря
экзистенциализму Сартра, Камю, Симоны де Бовуар, ставшему
идейным знаменем для значительного числа интеллектуалов,
участников французского движения Сопротивления, — во время
второй мировой войны и сразу после нее стал широко известен в
антифашистских, либеральных кругах Франции. Комиссия еще
корпела над разбором нацистских прегрешений Хайдеггера, а из
Франции философу шли приглашения прислать для переводов
книги и статьи. Может быть, французские антифашисты не знали
о нацистских грехах Хайдеггера? Как не знать — знали, конечно.
Но они уже по-своему «прочитали», адаптировали немецкий
экзистенциализм и искренне верили, убежденные собственным
опытом, что существует внутренняя связь экзистенциализма с
гуманизмом, а стало быть, с антифашизмом. «Падение» Хайдеггера
они расценивали как временный политический грех. Хайдеггер
использовал и эту поддержку, особенно ценную именно во
французской оккупационной зоне. Он писал комиссии и властям, что
во Франции его философские работы определяют и
стимулируют мышление и прежде всего поведение молодежи в области
духа.
Хайдеггер был столь подбодрен своей популярностью во
Франции, что решился просить новые власти о возможности
ознакомления немецкой публики с его работами — они, дескать,
будут говорить сами за себя. Но вот тут Хайдеггер совершил
новую ошибку, — она была простым следствием того главного
проступка, который с 1945 г. и до сих пор ставят ему в укор и критики
и почитатели. Стремясь подчеркнуть, выдвинуть на первый план
то, что может смягчить его вину, Хайдеггер ни в малейшей мере и
478
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ни в одном публичном документе не признает самой этой вины.
Вряд ли кто-то из здравомыслящих людей ожидает и требует,
чтобы Хайдегтер прилюдно бил себя в грудь, посыпал голову
пеплом и т. д. Как бы предостерегая против унизительного
принуждения людей к массовым покаянным обрядам, Сартр еще в 1944
г. вскрывает их отвратительность и бессмысленность в пьесе
«Мухи».
Однако пусть немногих и добровольно сказанных слов
покаяния от всемирно известного философа, писавшего о гуманизме,
ожидают — прежде всего те, кто хотел бы сохранить Хайдегтера
для будущего мировой культуры. Ожидания оказываются
тщетными, и не только в году 1945-м. Герберт Маркузе еще и в 1947 г.
будет ожидать, что Хайдегтер наконец открыто признает свою
вину. В письме, отправленном Хайдегтеру 28 августа 1947 г. (и
написанном в большой степени под влиянием круга молодых
радикально настроенных франкфуртцев), Маркузе напишет: «Вы
сказали мне, что с 1934 г. совершенно порвали с режимом наци и что
гестапо следило за Вами. Я не стану сомневаться в Ваших словах.
Но остается фактом: в 1933-1934 гг. Вы столь сильно
идентифицировали себя с режимом, что и сегодня в глазах многих остаетесь
его безусловной духовной опорой. Доказательство — Ваши
собственные речи, сочинения и действия того времени... Многие из
нас, — продолжает Маркузе, — долго ждали от Вас слова, того
слова, которое бы четко и однозначно освободило Вас от этой
идентификации, слова, которое выражает Ваше действительное
отношение к тому, что произошло. Вы такого слова не сказали — по
крайней мере оно ни разу не вышло за пределы частной
сферы» 60.
Хайдегтер напишет Маркузе письмо, в котором фактически
отклонит новое приглашение к покаянию. В 1953 г. тогдашний
франкфуртский студент Юрген Хабермас, прочитав вновь
вышедшую лекцию Хайдегтера 1935 г. «Введение в метафизику»,
опубликованную снова, без комментариев и без всякого покаяния
автора, в письме в газету адресует Хайдегтеру вопросы, ответы на
которые должны были бы прояснить отношение к нацизму и, что
было особенно важно Ю. Хабермасу, к «планомерному
уничтожению миллионов людей, сегодня известному всем нам...» 61.
Завяжется спор, но в него вступит скорее не сам Хайдегтер, а его по-
60 Martin В. Op. cit. S. 155,156.
61 Цит. по: Хабермас Ю. Хайдегтер: творчество и мировоззрение //
Историко-философский ежегодник. М, 1989. С. 344.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдегтера 479
клонник Левальтер, — спор о тексте «Введения в метафизику» 62.
А главный вопрос — об отношении к нацизму и его
многомиллионным жертвам — снова останется без ответа.
Покаяния Хайдегтера требовали радикальные критики; его же
ожидали и восторженные почитатели. Французский автор Ф. Ла-
ку-Лабар, рассказывающий о том, как поэт Пауль Целан,
влюбленный в философию Хайдегтера, тщетно пытался убедить
своего кумира в необходимости покаяния, заключает:
«Неисправимая ошибка Хайдегтера состояла даже не в его изречениях
1933—34 гг. (их еще можно хоть как-нибудь понять; впрочем, не
для того, чтобы оправдать), а в его молчании по поводу жертв.
Прежде всего, следовало как-то высказаться. Я имел глупость хоть
на минуту подумать, что достаточно было попросить прощения.
Ибо происшедшее совершенно не может быть прощено. И вот это
ему и нужно было сказать» 63.
По некоторым свидетельствам, Хайдегтера в 1945-м все же
мучило чувство вины. Слово бывшему ученику Хайдегтера, О. Пёг-
гелеру, в осведомленности и совершенной честности которого нет
никакого сомнения: «Сам Хайдегтер в беседах говорил: то, что он
совершил в 1933-м, не может быть прощено; тогда он полностью
заблуждался. Все и должно быть изображено так, как оно
происходило (для этого Хайдегтер и планировал со своей стороны
также представить документацию), и он был убежден, что такой
путь, хоть он во многих отношениях и мучителен, в конечном
счете есть лучший выход. Другой вопрос состоял в том, не следует
ли облегчить понимание происшедшего, которое так и остается
тягостной виной» м.
Документы «со своей стороны» Хайдегтер действительно
представлял — и в 1945 г., и позже. Там было многое, что в самом деле
способно «облегчить понимание происшедшего». Но никогда и
нигде не было признания Хайдегтером своей «тягостной вины».
Почему? Есть разные ответы на этот вопрос.
Согласно Ю. Хабермасу, «апологетическое поведение
Хайдегтера после войны, ретуширование и манипулирование, отказ
публично отмежеваться от режима, сторонником которого он
себя в свое время публично провозгласил» — все это объясняется
тем, что философу было присуще «скроенное по собственной
62 Там же. С. 344-^-345.
63 Pöggeler О. «Praktische Philosophie» als Antwort an Heidegger //
Martin B. Op. cit. S. 75.
64 Ibid. S. 67.
480
H. В. Мотюшилова «Работы разных лет»
мерке миссионерское сознание, с которым было бы несовместимо
признание своих ошибок и тем более вины» 65. Иными словами,
упорная нераскаянность если и объясняется особенностями
личности этого мыслителя, то такими, которые, в свою очередь,
глубоко укоренены в самой сути его философии.
Последний акт жизненной драмы и драмы идей М. Хайдег-
гера, к которому мы теперь переходим, позволит и нам снова
обратиться к поставленным временем жестким вопросам о вине,
ответственности и нераскаянности крупнейшего философа XX
столетия.
Акт пятый, и последний
Мрак «мировой ночи» и истина бытия
После войны Мартин Хайдегтер переживает несколько
тяжелых для него лет. Он лишен возможности преподавать, а это
означает не только отсутствие прочного положения и
материального достатка. Главное, нет постоянной аудитории слушателей,
студентов и коллег-преподавателей, восторженное внимание
которых всегда было для Хайдеггера источником высшего
вдохновения. В сущности, нет возможности публиковать книги,
участвовать в форумах философов, вступать в дискуссии. Вокруг - полоса
отчуждения и недоверия. Опорой, как всегда, остается семья. И
конечно, «общение» с теми и с тем, от кого и от чего не могут
оторвать философа ничьи решения, — с великими мыслителями
прошлого, с великими произведениями, идеями и образами
человеческой культуры.
Чтобы представить себе, как мыслит Хайдегтер, где находит он
духовное убежище, достаточно вчитаться в его работы второй
половины — впрочем, и первой половины! — 40-х гг. убежищем,
конечно, становится история философии, история культуры.
Хайдегтер как историк философии — особая тема. Как и во всем, что
касается Хайдеггера, тут нас подстерегают парадоксы и загадки.
Работает ли он над философией Гегеля (в 1942—1943 гг.
написан текст «Гегелевское понятие опыта» ^ — один из примеров
того, что Сова Минервы вылетала в свой полет в ночи нацизма) или
Анаксимандра (опус «Изречение Анаксимандра» написан в 1946-
м), Хайдеггера прежде всего привлекают конкретные тексты. У
Гегеля это Предисловие к «Феноменологии духа», каждый абзац
которого подвергается подробному герменевтическому исследо-
65 Хабермас Ю. Цит. произв. С. 346.
«• Heidegger M. Holzwege. Frankfurt, a. M., 1980. S. Ill if.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 481
ванию. У Анаксимандра — один, собственно, фрагмент, почему
Хайдеггер с его необычайным лингвистическим чутьем
использует слово «Spruch», разные значения которого - «изречение»,
«сентенция», «притча», «текст» — в данном случае вполне уместны.
Применительно к Анаксимандру обсуждаются также переводы и
толкования Теофраста, Симпликия, Гегеля, Ницше, Дильса, т. е.
имеются в виду изречения — притчи, тексты вторичного,
третичного и т. д. культурных слоев.
Может показаться, что читателю предлагаются вполне
конкретные исторические философско-филологические изыскания.
И не в таком ли обезболивающем погружении в чистые воды
культуры прошлого Хайдеггер мыслит найти отстранение от
превратностей, страданий настоящего? Такое
погружение-обезболивание, конечно, происходит. Но в том-то и парадокс, что
Хайдеггер не умеет, да и не хочет, уйти от настоящего! Недаром он
посвятил столько усилий исследованию времени и, вслед за
Гуссерлем, обнаружил неустранимо-центральное значение структуры
настоящего времени и даже настоящего момента (Jetzt) — как и
данного места (Da) — для любого воспоминания о прошлом и
мышления о будущем. И кроме того, как пишет Хайдеггер,
«высказывание никогда не будет говорить с нами, пока мы объясняем
его только исторически и филологически. Высказывание редким
образом выражает себя только тогда, когда мы отставляем в
сторону наши собственные высказывания обыденного
представления, когда мы начинаем мучиться сомнениями относительно
того, в чем состоят хаос, сумятица (die Wirrnis) сегодняшней
мировой судьбы» 67. Сформулировано вполне точно. «Сумятица
мировой судьбы», в которую вплетен хаос судьбы личной, — вот та
созданная самой историей трагическая площадка духа, которая
позволяет осмыслить напряженность, неизбежную при связывании
мышления с бытием.
Не просто, не только и не столько «изречения» Анаксимандра
или Гегеля, их переводчиков и интерпретаторов волнуют
Хайдеггера. Он стремится ответить на вопрос, который можно считать
центральным для его творчества, особенно в послевоенный
период: как и почему «изречение» (Spruch) становится способом
Диалога (Zwie-sprache) с тем, о чем «говорит» «изречение» или,
точнее, что само говорит через изречение (Gesprochene). «Ведь
мышление есть поэтизирование, хотя не только создание стихов в
смысле поэзии или песнопения. Мышление бытия есть первона-
67 Ibid. S. 367.
482 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
чальный способ поэтического речения. В нем прежде всего язык и
приходит к проговариванию (kommt... die Sprache zur Sprache),
т. е. выступает в своей сущности. Мышление говорит, а задает
диктант, диктует истина бытия. Мышление изначально и
означает dictare - диктовать. Мышление есть то первопоэтизирование
(Urdichtung), которое предшествует всякой поэзии, но также
предшествует поэтическому в искусстве...» м
Итак, мышление бытия — тема, которой продолжает болеть
Хайдеггер, И это напряженное интеллектуальное переживание-
постижение становится самым главным обезболивающим
средством, которое позволяет — через схватывание судьбы мышления,
через напряжённое переживание — связывать прошлое и
настоящее. «Философия, — речет Хайдеггер, — возникает не из мифа.
Она возникает из мышления в мышлении. Но мышление есть
мышление бытия. Мышление не возникает. Оно есть, поскольку
есть бытие. Падение же мышления в науку и веру есть злая судьба
бытия» 69.
Существование смертного человека в «сумятице, хаосе» бытия,
попытка мыслителя, не закрывая глаз, смело взглянуть на угрозу
уничтожения бытия - вот что глубоко волнует Хайдегтера. Вряд
ли он забывает о хаосе, сумятице фашизма. Но в ней теперь,
возможно, усматривается лишь частный эпизод той утраты
оснований (Abgrund), той угрозы, которая нависла над бытием в целом.
«Теории природы, учения об истории не освобождают от этого
хаоса (Wirrnis), — свидетельствует Хайдеггер. — Они сами
ввергают все в сумятицу (Verwirren) непознанного, ибо питаются из
хаоса, который пролегает поверх различия сущего и бытия.
И есть ли вообще спасение? Оно есть тогда и только тогда,
когда есть опасность. Опасность есть, если само бытие приходит к
последнему (пределу) и снова возвращается забвение, которое
проистекает из самого же бытия.
Но если бытие по самой своей сущности нуждается в сущности
человека? Если сущность человека в мышлении прикасается к
истине бытия?
Тогда мышление должно поэтизировать (dichten) о загадке
бытия. И помысленное на ранней стадии приводит нас в
непосредственную близость к тому, что должно быть помыслено» 70. Время
показало, что тревоги Хайдегтера о хаосе, угрозе бытию, о
поисках спасения, о недостаточности традиционного философского и
68 Ibid. S. 324.
69 Ibid. S. 348.
70 Ibid. S 368.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 483
научного теоретизирования оказались вполне обоснованными и
по-своему пророческими. Но вот спасает ли от хаоса «первопо-
этическое» погружение в мышление бытия - вопрос особый, и мы
к нему еще вернемся.
К концу 40 — началу 50-х гг. круг отчуждения постепенно
разрывается. Некоторые бывшие коллеги и друзья, так и не
дождавшиеся раскаяния от Хайдеггера, но полагающие, что он
достаточно наказан отлучением от университета, один за другим
восстанавливают контакты с философом. С Хайдегтером, чья
философская слава в годы забвения не уменьшается, а растет,
начинают общаться новые поколения философов, поэтов, художников. К
сентябрю 1949 г., к 60-летию философа, незлопамятная
общественность вполне созревает для того, чтобы возвратить Хайдеггера
к свету культурно-исторической рампы. Инициатива
первоначально исходит от таких почтенных мыслителей, как Г.-Г. Га-
дамер, который, несмотря на немалые трудности, организовывает
публикацию книги, посвященной юбилею Хайдеггера. Далее
следуют другие попытки перешагнуть через мрачную тень
прошлого.
Философский факультет Фрейбургского университета снова и
снова ставит перед университетским сенатом вопрос о
возвращении Хайдеггера в aima mater. Положение деликатное: ведь
существует решение сената от 1945 г., налагающее запрет на
педагогическую деятельность профессора. К тому же членам сената, в
основном представителям естественнонаучного знания, не совсем
ясен вопрос о значении Хайдеггера как мыслителя. (А во имя
философа среднего ранга переступать через запрет — в стране, где
еще кровоточат нанесенные войной раны и где радикальные
демократы имеют немалую силу, — более чем рискованно.) Вопрос
адресован факультету, который дает на него совершенно
недвусмысленный ответ. «Располагает ли Хайдеггер в философском
диалоге столь существенным голосом, который позволяет
поставить его рядом с Гегелем, Кьеркегором, Ницше, Дильтеем,
Гуссерлем и другими выдающимися людьми?.. Факультет отвечает
на сам вопрос утвердительно и, относясь с полнейшим уважением
ко всем сомнениям, не хотел бы навсегда отделить себя от
Мартина Хайдеггера» 71. И когда препятствия преодолены, когда
Хайдеггер начинает выступать перед публикой, перед студентами -
сначала в клубах (1949—1950 гг., клуб в Бремене — доклады «Кто
есть Заратустра?», «Закон основания»), потом во Фрейбургском
71 Ott H. Op. cit. S. 337.
484
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
университете (начиная с зимнего семестра 1950/51 гт.) и в
Баварской академии изящных искусств (1950 г. — «Вещь», 1953 г. — «Об
искусстве в технический век»), то его ожидает настоящий
триумф. Аудитории переполнены.
Многие в то время задают себе вопрос о причинах
необычайной популярности Хайдеггера, особенно его живого слова. Этот
вопрос существует и сегодня. Конечно, тут играет свою роль
эффект «запретного плода». Всякому, кто раньше знал и слышал
Хайдеггера, интересно выяснить, что произошло с ним, с его
мыслью за пять лет вынужденной изоляции. Молодые знают о Хай-
деггере не так уж много: они читают, как правило с восторгом,
«Бытие и время»; они наслышаны о необыкновенном искусстве
бывшего фрейбургского профессора читать лекции и вести
семинары. К тому же в сферу духа, культуры вступает молодежь
следующих поколений, воспринимающая нацизм не столь остро,
как поколение предшествующее.
Ее настроение четко передал Герман Люббе, цюрихский
профессор, один из наиболее известных философов современной
Европы, а в 50-х гг. ученик Хайдеггера (цитирую по Стенограмме
дискуссии, которая состоялась на телевидении ФРГ 23 и 25
сентября 1989 г.). «Мое поколение, — откровенно рассказал Г. Люббе,
— совершенно не интересовалось нацизмом Хайдеггера, о
котором мы, разумеется, знали. И когда мы вскоре после войны
отправлялись во Фрейбург, чтобы слушать Хайдеггера, то
выдающийся философ при всей отделяющей его от нас дистанции
становился нам доступным — хоть мы опять-таки знали о его
нацизме. Мы знали, что в качестве ректора он произносил пламенные
речи о трудовой повинности в пользу рейха. Мы также знали, что
он при встречах ведущих профессоров появлялся в нацистской
униформе. Но это нас не интересовало, ибо существовало ведь
простое объяснение. Двенадцать миллионов немцев были
членами немецкой национал-социалистской рабочей партии. Многие
были также ангажированными членами партии, и с самого
начала нельзя было предположить, что среди профессоров, у которых
мы хотели учиться, не найдется ангажированных наци... И если
мы, скажем, хотели учиться у Хайдеггера, то не могли же
бросаться к нему с критическим вопросом типа: «Господин профессор,
как вы могли?..» Ибо тогда лекции прекратились бы. А ведь нас
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 485
влекла другая нужда: включаться в его блестящие интерпретации
— скажем, аристотелевской физики, и мы делали это» 72.
Мне кажется, объяснение Г. Люббе психологически точно, и
нам-то, в нашей стране, оно, быть может, особенно понятно.
Двенадцать миллионов членов партии, сотни тысяч активных
пособников наци! А сколько бывших штурмовиков, надсмотрщиков,
конвоиров, членов зондеркоманд, псевдосудей, чиновников
разных рангов, хозяйчиков, нажившихся на грабеже народов!
Студентам, действительно, приходится учиться у профессоров,
которые были «ангажированы» нацизмом когда меньше, а когда и
больше Хайдеггера. Хайдеггер-то по крайней мере понес
наказание за год своего ректорства. С голов многих других, что
называется, и волос не упал!
Но, конечно, главную роль в растущей популярности
Хайдеггера —и тогда, в 50-х, и сегодня, на пороге 90-х гг., — играли и
играют специфические свойства его в высшей степени
оригинального, яркого, талантливого философствования. Время
отрезвления от нацистского безумия помогло Хайдеггеру придвинуться
ближе к самому «нерву философствования», используя тот
«орган восприятия», о великолепной наделенности которым так
справедливо писал Карл Ясперс.
Теперь я попытаюсь (отдавая себе отчет в том, что вторгаюсь в
неисчерпаемую тему) кратко сформулировать свое понимание
специфики хайдегтеровского философствования, как оно
зародилось в недрах «Бытия и времени» и, пройдя через переплавку
бытийного «поворота» (Kehre) послевоенного времени,
выразилось в более поздних произведениях многотомного
хайдегтеровского наследия. Одновременно я постараюсь не упустить из виду
вопрос о том, было ли нацистское грехопадение мыслителя
связано с его философствованием, а если было, то где пролегали
линии связи — в самом центре или на периферии философского
опыта Хайдеггера 73.
72 Цит. по печатному материалу: Philosophie heute. Martin Heidegger zum
100. Geburtstag. Westdeutscher Rundfunk, Fernsehen. «Redaktion
Philosophie». S. 6—7.
73 В этом моем резюме (которое заведомо обречено быть неполным и
субъективным) я, естественно, опираюсь на то в хайдеггероведении,
отечественном и современном, что ближе всего к моим собственным
оценкам и догадкам. Из-за краткости резюме я не могу, к сожалению,
сослаться ни на авторов, чьи идеи служили и мне опорой, ни на тех, с кем
ведется полемика.
486
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Чтобы определить специфику хайдегтеровского
философствования, мне представляется весьма важным не просто указать —
что стало общим местом в литературе о Хайдеггере — на
усилившиеся в 40—50-х гг. (впрочем, найденные уже в 1923 г. и отчетливо
запечатленные в «Бытии и времени») онтологические акценты.
Верно и хорошо известно, что Хайдегтер ищет возможности
преобразовать традиционную метафизику, выдвинув на первый
план и существенно реформировав онтологию, учение о бытии.
Но какое бытие и какая онтология имеются в виду? При всем
обилии ответов на эти вопросы в литературе о Хайдеггере я не
могу, к сожалению, считать их достаточно проясненными. Чтобы
еще раз вникнуть в них, возьмем текст ранее упоминавшегося
доклада, который Хайдегтер в середине 1950 г. прочел в Мюнхене,
в Баварской академии изящных искусств. Название доклада —
«Вещь». Тревоги переживаемого периода обозначаются в нем
крупными и ясными мазками. Невиданное уплотнение времени и
информации благодаря новой технике с ее высокими скоростями
и возможностью как будто бы сделать далекое близким — примета
эпохи. Другая примета времени — атомная бомба. И вот вопрос:
«Что такое близость, если она нам не дается, несмотря на
свертывание длиннейших расстояний до кратчайших дистанций?»74
Это для Хайдеггера, как я полагаю, вопрос всех вопросов, причем
его надо понимать и в прямом и в переносном смысле.
В переносном смысле дело идет о философски далеком или
близком. «Близко к нам то, что мы называем вещами. Только что
такое вещь? До сих пор человек о вещи как вещи задумывался не
более чем о близости» 75. Здесь — упрек всей предшествующей
философии, в особенности той, которая имела обыкновение
прямо говорить о вещах или в неком совершенно особом смысле
звала «Назад к самим вещам» (zu den Sachen selbst). Такой лозунг, в
частности, любил повторять Гуссерль, имея в виду возврат
философии к «вещам», как они даны и могут быть зафиксированы
философией через «сущностное» описание феноменов сознания.
Рассказывают, что Хайдегтер, однажды услышав этот лозунг от
Гуссерля, воскликнул: «Профессор, я ловлю вас на слове!» Тут, я
думаю, не случайно, для красного словца оброненное замечание,
а поистине ключевая фраза.
Хайдегтер действительно хотел поймать на слове любого
философа, который заговаривал о «самих вещах», и перевести
разговор в наиболее прямой из возможных смыслов такого «слова».
74 Хайдеггер М. Вещь // Историко-философский ежегодник. М., 1989. С. 269.
75 Там же. С. 270.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 487
Хайдегтерианство я и понимаю как попытку философствования,
которое позволяет подойти на самое близкое — из вообще
возможных для философии — интеллектуальных расстояний к
вещам, к их бытию. Это была попытка максимально «отмыслить»
все, что о вещах говорила и говорит научная или философская,
словом, теоретизирующая традиция. Вместе с тем не отмыс-
ливалось само мышление. Оно-то и выводилось на очную ставку с
вещами.
Гуссерлевская феноменологическая редукция в чем-то все же
пригодилась Хайдеггеру. Он, как и Гуссерль, тоже хотел сделать
мышление, сознание максимально «чистым», свободным от
любых возможных социокультурных, философских и прочих
наслоений. Но, без сомнения, гуссерлевский диалог феноменолога с
чистым сознанием был ученейшим монологом, где «сущностное
усмотрение» вещи было лишь одним из множества сюжетов.
Феноменолог представал как экспериментатор, которому в
принципе должен быть подконтролен любой мыслительный
эксперимент и каждый его шаг. Мир философствующего.субъекта — в
данном случае феноменолога — оказывался главным и исходным,
и уж на его основе, «из него» возникали, рождались другие миры,
которые в силу этого не могли не быть конструкциями сознания.
Онтология, формы бытия составляли один из видов таких
конструкций. Хайдеггеру не подходил ни этот вид субъективизма и
трансцендентализма, ни более ранние, скажем декартовско-юмов-
ско-кантовские, разновидности, хотя он обладал потрясающей
способностью историка философии, никогда не теряющего свою
линию, представить концепции прошлого как живые,
современные. Видимо, особого искусства «оживляющего» толкования
философии прошлого Хайдеггер достигал на своих лекциях и
семинарах, о чем восторженно свидетельствуют многие его поистине
выдающиеся ученики.
Хайдегтеровское философствование о вещи, опираясь на
феноменологические приемы, пробивается к иному измерению.
Каковы же эти приемы и каково новое, сугубо хайдегтеровское
измерение?
Из феноменологии Хайдеггер берет ее важнейшее открытие —
умение заставить «говорить» наше сознание, наделенное
удивительными потенциями, которые до сих пор мало использовались
философами. Но вот те мотивы, к которым в «говорящем»,
«самораскрывающемся» философствующем сознании и в сознании
вообще прислушиваются Гуссерль и Хайдеггер, существенно
различны. Гуссерля интересуют всеобщие структуры сознания сами
488
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
по себе, Хайдеггера же — такая связь сознания с миром, через
которую «говорит» сам мир.
Чтобы раскрыть это, вернемся к проблеме вещи. В «Гуссерлиа-
не», собрании сочинении Гуссерля, есть специальный том (Bd.
XVI), который назван «Вещь и пространство. Лекции 1907 г.». Это
скрупулезное, тончайшее исследование проблемы вещи в ее
единственно возможных для феноменологии измерениях — речь
идет о данности вещи через сознание, главным образом о
восприятии вещи. Ноэматический (предметный) аспект — это вещь,
существующая в пространстве; ноэтический (связанный с актом
сознания) аспект — восприятие, в частности и в особенности
зрительное восприятие76. Оба аспекта — ноэматический и
ноэтический — берутся и порознь, и на их «пересечении», благодаря чему
и разрастается поистине удивительное богатство структурно-
аналитических открытий и находок, которое Гуссерль именовал
интенциональным анализом сознания.
Хайдеггера же мучают иные вопросы: «Что вещественно в
вещи? Что такое вещь в себе? Мы доберемся до вещи в себе, только
когда наша мысль достигнет сперва наконец просто вещи как
вещи» Т7. Вещь в себе, которая со времен Канта была лишь своего
рода прекрасной незнакомкой — предельной философской
конструкцией, таинственным, непостижимым источником всяких
«данностей», исходного материала сознания, — вот эту
незнакомку Хайдеггер и хочет сделать одним из главных действующих лиц
философии. Он дерзает, следовательно, совершить то, что
считалось немыслимым для всякого философа, который так или иначе
принимал исходный тезис трансцендентализма: дать «явиться»
самой вещи. На что же опирается Хайдеггер в этой своей
дерзновенной попытке? Да на то, что и тело, и сознание, и само
существование человека «встроены» в мир, и мир не просто бесконечно
обширнее, но и неизмеримо могущественнее своего малого
создания — человека. Человек — часть мира, его сколок, его смертная
гомеомерия, через которую мир являет себя несколько иными
способами, но не менее успешно и настоятельно, чем через
землю, горы, поля... «Бытие» для Хайдеггера и есть исходное
единство человека и мира. Здесь, правда, еще нет ничего необычного по
сравнению с предшествующей онтологией. И она пыталась
«замкнуть» все сущее на предельно широкую, всеобъединяющую
категорию бытия. Но вот крайняя абстрактность традиционной
76 Husserl Е. Ding und Raum. Vorlesungen 1907 // Husserliana, Bd. XVI. Den
Haag, 1973.
77 Хайдеггер M. Вещь. С. 270.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 489
онтологии, ее погруженность в труднейшие профессиональные
споры о бытийных категориях (вспомним «Науку логики»
Гегеля!) принципиально не удовлетворили Хайдеггера. Для него
философствование о бытии, как и его часть — размышление о вещи,
должно начинаться не с искусственной, вычурной стартовой
площадки, созданной к данному моменту философией, которая в
свою очередь существует в причудливом мире культуры.
Философствование о бытии должно, по Хайдегтеру, вполне
обдуманно «покинуть» этот мир культуры (конечно, не в
буквальном смысле, что невозможно, но в мысли) и переместиться на
самую почву, где располагается и всякий обычный человек и где
устанавливается «самая близкая близость» человеческого
существа к вещам мира, к миру как таковому. Правда, и тут существует
угроза запутаться в «сетях», расставленных культурой, а потому
также нужны особые приемы возврата «к самим вещам».
В пределе Хайдегтер, по моему мнению, стремится создать
способ философствования, максимально освобожденный... от
философии как уже сложившейся формы человеческой
культуры. Вот почему так привлекают его «радикальные нигилисты»
типа Ницше, пытавшиеся освободиться от философии весьма
парадоксальным образом — все время «проходя» через нее и
постоянно стремясь покинуть ее. Хайдегтер — личность и мыслитель
сходного типа. И противоречия, драматичность его
философствования похожи на те, которые могут встретиться в драмах
Ницше или Кьеркегора. Отчаянный бунт против философии (от
которой получено, в сущности, все: мыслительные ходы, методы и
приемы, категории) — вот самый глубинный, как я думаю,
источник драмы идей Хайдеггера, в какой-то мере объясняющей и
драму его жизни.
Подобно современному человеку, который вырывается из
индустриальных городов и поселков к нетронутой, чистой и светлой
природе, наслаждаясь общением с нею, но потом снова
возвращается к своему обычному существованию, — подобно этому
Хайдегтер пытался вырваться из густонаселенного мира
философствования XX в. к некоторым первоистокам, так сказать, «первопо-
зициям», лишь благодаря которым, как он считал, бытие в себе и
для себя способно открыть, явить себя человеку. Из XX в.,
нагруженного и перегруженного наукой, техникой, технизированным
искусством, мыслитель отчаянно хотел «прорваться» в
«подлинную» греческую древность — и потому, скажем, все большей
помехой ему представлялось христианство, «замутившее»
прозрачный источник античного мышления, которое скорее было
«записью» присутствия человека в мире, чем миропознанием.
490
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Но даже и античность была заподозрена Хайдегтером в
сокрытии истоков. И вот так, удаляясь в некие «нетронутые» поля
«изначального философствования» и снова возвращаясь в «города»
многовековой культуры — постоянно совершая этот «путь вверх и
вниз», Хайдегтер напряженно искал как можно менее
опосредованного техникой, наукой, философией, политикой диалога
человека и бытия. Не была ли сама такая попытка заведомо
обречена на неудачу? Пожалуй, в полной мере замысел не удался и не
мог удаться. Хайдегтер хотел стряхнуть с себя ярмо самых разных
своих профессиональных философских привязанностей — ари-
стотелизма, томизма, кантианства, гегельянства, гуссерлианства.
Но, то и дело порывая с ними, вновь и вновь возвращался к ним
подобно блудному сыну. (Зная характер и рисунок жизни Хай-
деггера, мы теперь можем заметить определенную синхронность
структур его общения с людьми и способов «общения» с идеями.)
Отсюда и напряженность этих приходов и уходов, драматических
«прощаний навсегда» и новых возвращений, удивительной
верности себе и неизбывности «поворота» (Kehre), точнее, поворотов.
Вот и в упомянутом докладе «Вещь» Хайдегтер, разбирая
проблему вещи на примере чаши, предлагает всякому, кто захочет
включиться в процесс возврата к самим вещам, задуматься над
тем, что же такое «чашечность чаши». Но едва вы подумали о том,
что вопрос восходит к Платону, Хайдегтер говорит вам:
«...Платон, представлявший присутствие присутствующего,
исходя из идеи, так же мало думал о существе вещи, как Аристотель и
все последующие мыслители» 78. Вместе с платонизмом и (хорошо
известным, горячо любимым) аристотелизмом отринуто, таким
образом, всякое философствование «исходя из идеи», как,
впрочем, и «исходя» из всяких других философских принципов
(материи и т. д.).
Из чего же надо, по Хайдеггеру, исходить? Да ни из чего
философского. Просто мы с вами должны последовать приглашению
Хайдеггера помыслить о вещественности вещи, здесь — о чашеч-
ности чаши, по возможности забыв обо всем, что известно нам из
философии. Чаша и каждый из нас, мыслящих, — единственно
нужные «элементы» процесса. Ну и, конечно, сам «неназойливо»
направляющий наше рассуждение мыслитель Хайдегтер.
Впрочем, если поучиться у Хайдеггера, то, пожалуй, впоследствии
можно двигаться по предложенному им пути самостоятельно. Что
очень важно, для продвижения по нему не обязательно быть
философом и уж точно не надо быть приверженцем каких-либо
78 Там же. С 271.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 491
идей, школ, направлений. Надо отдать должное Хайдегтеру —
философствование такого «изначального» типа увлекательно;
оно пробуждает естественное желание человека размышлять о
мире, вещах, человеке, к которому люди самых разных стран,
судеб, занятий весьма склонны.
Рассказ Хайдеггера о чаше — особый. Он философский - и не
философский, если иметь в виду устоявшиеся привычки
философствования. Нас приглашают «посмотреть умом» на простое,
понятное, близкое. Ведь чаша — емкость, нечто вмещающая. Чаша
стоит на чем-то и состоит из чего-либо (металла, глины, стекла). В
чаше есть стенки и дно и т. д. Как истолковать эти и другие
простые особенности чаши? Конечно, о ней, как и о всякой другой
вещи, можно говорить языком науки или специальных
технических областей. Но, по Хайдегтеру, наука делает чашу и вообще
вещественность чем-то ничтожным. «Вещественность вещи
остается потаенной, забытой. Существо вещи никогда не дает о себе
знать, т. е. не берет слова» 79.
Подобным образом забывает о вещах и мире философия, если
она прочно ориентирована на науку. Иное дело — искусство. Оно
может ярко представить нам именно чашечность, вещественность
чаши. Но и в искусстве внимание Хайдеггера особо привлекает
способность художника не затемнить вещественность вещей, а
дать им возможность «взять слово» — как «берут слово»
крестьянские башмаки на известной картине Ван Гога: они повествуют о
крестьянине, крестьянском труде выразительнее, точнее, глубже,
«сущностней», чем тысячи ученых слов. Впрочем, через слова,
если дать им особым образом «высказаться», также способны
«говорить» сами вещи.
Чаша — не только и не просто сосуд; ее подносят людям. Опять
ведь о чаше сказано что-то чрезвычайно ясное, очевидное. Но тут
чаша, «говоря» о себе, «говорит» об общении людей.
«Подносимое в чаше — питье для смертных. Оно утоляет жажду. Оно
веселит их досуг. Оно взбадривает их общительность»80. А поскольку
чаша может быть и жертвенной, то оказывается, что она
знаменует «присутствие» земли и неба, божеств и смертных. Далее
следует превосходный хайдегтеровский анализ происхождения,
значения слов res, Ding, thing, обозначающих «вещь» в латинском,
немецком и английском языках, и анализ их эволюции,
соответствующий превращению «вещи» в простой предмет представления.
79 Там же. С. 272.
80 Там же. С. 274.
492 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
То, что ранее было осязаемой, такой знакомой и такой близкой
вещью в ее вещественности, постепенно превращалось в
«прекрасную незнакомку», непостижимую вещь саму по себе.
Возможен ли обратный процесс — движение «в вещь», в «ми-
ровость мира» от разрушительного трансцендентализма, который
отделяет нас от мира и который, согласно интереснейшей и
глубокой интерпретации Хайдегтера, есть не только явление
философии, но само существо тех распространившихся способов
жизни, мироощущения и миропознания, которые соответствуют
стремительному расширению власти науки и техники? Хайдегтер
полагает, что возможен. Более того, он настоятельно необходим.
По существу, тут предлагается новая «идеология мира» и
жизни человека в мире. Вещизму научно-технического
потребительства противопоставляется простое, устойчивое, скромное,
«ладное» общение с природой, вещами, исконной вещественности
которых отдается пальма первенства. Пропагандируя эту
идеологию, Хайдегтер прибегает к поистине прекрасному поэтическо-
философскому языку (и спасибо В. В. Бибихину, что он, скромно
упомянув «о непереводимо тонущем в немецком языке»81 тексте,
сумел сохранить напряженность и красоту оригинала): «Что
станет вещью, сбудется из окружения зеркальной игры мира. Только
тогда - вероятно, внезапно — мир явится как мир, воссияет круг,
из которого выпростается в ладность своей односложной
простоты легкое окружение земли и неба, божеств и смертных.
Соразмерное этому окружению, само веществование ладно, и всякая
присутствующая вещь легка, неприметно льнет к своему
существу. Ладна вещь: чаша и стол, мост и плуг. Но тоже вещи, своим
образом — ель и пруд, ключ и холм. Вещи, каждый раз по-своему
веществующие, — цапли и лось, конь и бык. Вещи, каждый раз
своим образом веществующие, — зеркало и пряжка, книга и
картина, корона и крест. И легки и ладны вещи даже своим
обозримым числом, в сравнении с бесчисленностью повсюду
равнодушных предметов; в сравнении с безмерностью масс человека как
живого существа. Сперва человек как смертный достигнет,
обитая, мира как мира. Только то, что облегчено миром, станет
однажды вещью» 82. Вот так завершается хайдеггеровское философ-
ствование-поэтизирование в докладе «Вещь». Прекрасно,
торжественно, обнадеживающе, возвышающе — но также утопично и
опасно. Поясню, что я имею в виду.
si Там же. С. 268.
« Там же. С. 281.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 493
Идеология любви и возврата к «ладным вещам» — от ели,
пруда, холма, коня, чистых земли и неба до простых, нужных, как
крестьянские башмаки, стола, стула, зеркала, пряжки —
чрезвычайно притягательна в наш век, заполонивший пространство
земли множеством «вещей» не очень-то нужных, уродливых, а
подчас и смертельно опасных для самого существования природы
и человека. Она тесно связана с хайдеггеровской философией
техники, заключающей в себе и критические инвективы, и новые
императивы. В технический век река, как выражается Хайдегтер,
«встроена в электростанцию», а надо, чтобы созданное человеком
«пристраивалось» к реке, не насилуя ее 83. Пропаганда такого
отношения к миру, бесспорно, нужна и по-своему плодотворна, что
подтвердил экологический кризис. Но может ли она серьезно,
кардинально изменить ситуацию? Пока сомнительно. Умница
Хайдегтер и сам верно предостерегает: «Шаг назад из одного
мышления в другое, конечно, не простая смена установки» м. В
чем же тогда выход? «Воссияние» некоторого «света» — выход
слишком ненадежный, все равно, имеется в виду некое
божественное или иное «светлое пришествие»: пока ни надежды на Бога,
ни апелляции к «окончательному познанию» хода истории или
законов природы не спасали человеческое общество от его
кризисов. А вот если у человека и человечества есть только одна
надежда — они сами, то центр тяжести философствования все-таки
опять перемещается, от вещей, вещественности в мир человека,
его действий и его сущности.
Онтологическая, «мировая» нацеленность философии
Хайдеггера, ее повернутость к «самим вещам» ни в коей мере не
отменяет того факта, что это и антропоориентированная и, возможно,
антропоцентрированная философия, что убедительно
доказывает ряд авторов85. Я бы только добавила, что речь идет о
философе, который искренне и упорно стремится, но так и не может
преодолеть философский антропоцентризм. Стремясь выйти из
«дома» антропоцентризма, из замкнутого пространства
трансцендентализма в безбрежный мир вещей, отношений, живых, в
том числе человеческих, существ, философ, как и любой человек,
неотделим от того, что окружает его, ибо окружающее он уже
несет в самом себе. Будучи философом, тем более философом
знающим, профессиональным, он неотделим от своей нивы, от
83 Heidegger M. Vorträge und Anfsätze. Pfullingen, 1959. S. 24.
84 Хайдеггер M. Вещь. С. 280.
85 См.: Подорога В. А. «Фундаментальная антропология» М. Хайдеггера //
Буржуазная философская антропология XX века М., 1986. С. 34—49.
494
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
культуры, так же как крестьянин, который трудится, неотделим
от земли, неба, своего труда и, добавим, от всех тех нитей,
которые к нему, к земле, к труду тянутся от общества, значит, опять-
таки от человеческих истории, цивилизации, культуры. Поэтому,
строго говоря, нет и не может быть взыскуемого Хайдегтером у
культуры непосредственного единения человека и вещи,
сознания и бытия. Крестьянские башмаки, которые отдельно от всего,
вещно и просто символизируют крестьянское бытие как таковое,
возможны только на холсте, отграниченном рамой от остального
мира. А так ведь в башмаки обуты ноги какого-то человека, чья
жизнь, не переставая быть крестьянской, существенно
варьируется в зависимости от того, например, трудится ли он на своей
собственной или ничьей земле, и в зависимости от множества других
обстоятельств.
У разных авторов ясно показано, сколь прочно полюса
философии вещности и бытия М. Хайдеггера замкнуты на клеммы
простого патриархального, близкого к природе, прежде всего
крестьянского, быта с его относительно прочными, как бы внеис-
торическими реалиями. Вместе с тем обнаружено и то, что Хай-
дегтер, как превосходно пишет В. Подорога, «находит
сущностный опыт бытия реально существующим в крестьянских хуторах
родного ему Шварцвальда. Так проекция в прадревнее, в
демократический космос возвращается, минуя лабиринты и
препятствия исторического времени, в настоящее, у-топия переходит в то-
пию»86. Это определение подтверждается свидетельствами и
оценками тех, кто знал Хайдеггера. Слово писателю Э. Юнгеру:
«Отечеством Хайдеггера была Германия с ее языком. Его родиной
был лес. Там он был у себя дома — на его тропинках и просеках.
Его братом было дерево. Когда Хайдеггер учреждал свой язык,
углубляясь в работу по отысканию корней, то он сделал нечто
большее, чем принято, выражаясь словами Ницше, «между нами,
филологами». Экзегеза Хайдеггера больше чем филологическая и
больше чем этимологическая: он схватывает слово там, где оно
еще свежо, где в полной своей зародышевой силе оно еще
погружено в молчание, и проращивает его из лесного гумуса»87.
У каждого народа есть таланты, более всего питаемые именно
корнями и первоисточниками народной, национальной
культуры, особо чувствительные к вообще-то чистым и глубоким
голосам отечественной земли, таланты, умеющие несравненно
работать с родным языком. Хайдеггер — один из таких талантов Гер-
86 Подорога В. А. Цит. произв. С. 46.
87 Цит. по: Martin В. Op. cit. S. 153—154.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 495
мании, настоящее явление в немецкой культуре, да и в
европейском духе. Однако именно пример Хайдеггера свидетельствует о
неминуемых, подчас трагических опасностях, которые
подстерегают идеологов «почвы, земли и крови».
Хайдеггер не мог не заметить, что ноги немцев, обутые сначала
в крестьянские или городские башмаки, а потом и в форменные
ботинки штурмовых отрядов, стали вышагивать по родной земле
под бравурные звуки нацистских маршей. Не мог он и не
слышать, как «голос крови», вообще-то способный объединять,
сближать людей с общими национальными корнями, стал
захлебываться в истошных враждебных воплях о происках, заговорах,
неполноценности других народов. «Голос крови» возвещал о жажде
кровопролитий. В такие дни, месяцы, годы, десятилетия, когда
большие массы народа, нации захватывает ненависть, жажда
мести «чужим» и «своим», когда уже начинает литься человеческая
кровь и пахнет очень большой кровью, — тогда люди духа
проходят через труднейшее испытание на подлинную верность своему
народу, своей нации, на верность ценностям культуры и
гуманизма.
Как ни парадоксально, но в исторические мгновения массовых
смятений, опьянений духа и тем более после отрезвлений легче
отличить подлинно великого, гениального человека и истинного
патриота. Какими бы глубинными причинами ни пробуждался к
жизни взрыв народных, национальных чувств (пусть это будут
высокие основания: борьба за свободу, независимость народа,
стремление вырваться из кризиса, переоценить прожитое,
возродить славу и блеск национальной культуры), великие люди
нации, как бы по определению, не могут быть среди тех, кто
поддакивает охваченной ненавистью толпе, и тем более среди тех, кто
создает такую толпу и взвинчивает ее худшие инстинкты.
Истинно великие люди духа — это те, которые чутко улавливают грань
между подъемом высших чувств народа, национальной
гордостью и агрессивной националистической спесью, отсутствием
самокритики. Между честным стремлением понять истоки кризиса,
причины неудач, ошибок именно своего народа — и попытками
свалить все его беды на другие народы и нации/Между
состоянием пусть непростого, конфликтного гражданского мира, мира
между нациями и народами — и массовым кровопролитием.
Человек великого духа никогда не переходит такую грань и
страстно призывает к тому же свой народ и другие народы.
Величие духа индивидов и наций основательнее и горше всего
проверяется тогда, когда кровь еще не пролилась, но
воинственные кличи, предвещающие кровопролитие, уже слышны. Истин-
496
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ный патриотизм состоит, стало быть, в том, чтобы предостерегать
и всеми силами бороться против опасных состояний своих нации,
народа, против воинственных «фюреров», против черно-, корич-
неворубашечников, которые обычно плодятся на глубоких
кризисах и народной боли. И потому можно понять резоны тех
людей, которые согласны признать Хайдегтера талантливейшим
философом, одним из оригинальнейших классиков философии
XX в., но отказываются именовать его великим мыслителем. Ибо в
понятие величия духа сегодня еще настоятельнее, чем прежде,
включается социально-нравственное измерение, верность
принципам подлинного, а не показного, словесного гуманизма.
Но разве Хайдеггер не был гуманистом? Ведь среди лучших
его произведений — «Письмо о гуманизме», работа, созданная в
1946 г. на основе текста письма, посланного Хайдегтером
французскому философу Жану Бофре в связи с публикацией
брошюры Ж. П. Сартра «Экзистенциализм — есть гуманизм». В этом, во
многих своих моментах блестящем, произведении Хайдеггер
резко критикует европейский гуманизм, почвой которого была
разросшаяся и дифференцированная на всяческие «измы»
метафизика. Но поскольку для метафизики так и осталась «потаенной»,
непродуманной, погруженной в забвение истина бытия, то
прежние философы, включая самых великих, ничего не смогли, по
Хайдегтеру, предложить ни для понимания, ни тем более для
предотвращения «сущностной бездомности человека», которая
стала его судьбой. Вот почему, по убеждению Хайдегтера, слово
«гуманизм» потеряло свой смысл. Так, значит, приходится
направить «мысль против ценностей»? — задает вопрос Хайдеггер. Да,
именно здесь, я полагаю, размышление о гуманизме подводит
Хайдегтера и всякого его верного последователя к весьма опасной
грани. После кровавой войны Хайдеггер уже не может относиться
с небрежностью к возможным обвалам «в ничто». Теперь он и в
«Письме о гуманизме», и в других работах рассыпает оговорки
типа: «Мыслить против ценностей — не значит поэтому
выступать с барабанным боем за никчемность и ничтожество сущего,
смысл здесь другой: сопротивляясь субъективации сущего до
голого объекта, открыть для мысли просвет бытийной истины» 88.
Но где он, этот «просвет»? В первые годы после прихода нацистов
к власти, когда Хайдеггер, заигрывая с идеями «почвы», «земли»,
«крови», поддался националистическим толкованиям, «просвет
бытия» еще виделся ему в немецких лесах, в «чистой» культуре и
88 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной
философии. М., 1988. С. 344.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 497
языке немцев. А после войны Хайдеггер спешит сделать
уточнение, что, дескать, и в годы фашизма — например, в работе о Гёль-
дерлине «Возвращение домой» (1943) — понятие «родина» «про-
думывается» в сущностном, бытийно-историческом смысле89. Ну
что ж, здесь хотя бы косвенно содержится признание
ошибочности национализма.
Но Хайдеггер всегда был более силен в критике, чем в
самокритике. Об опасностях, подстерегающих научно-техническую
цивилизацию Запада, Хайдеггер повествует, как всегда, верно и
ярко, с поистине пророческой критической силой, обнажая
глубинные источники техницизма, сциентизма и их последствия,
состоящие в отставании «от сущностного хода наступающей
мировой судьбы». Допустим, что кто-то согласился с Хайдегтером и
направил свою «мысль против ценностей», т. е., собственно,
против ценностей традиционного гуманизма, европейского или
американского демократизма, недостатки и противоречия которых
(особенно если речь идет о реально-историческом «жизненном
стиле» 9°) обнаружить сравнительно несложно. Положим, кем-то
принята и другая хайдеггеровская критическая инвектива,
согласно которой европейский «субъективизм» разоблачил себя,
причем и в его индивидуалистической и в коллективистской
версиях. Но что дальше? В чем выход? Да и есть ли он? Есть ли в хай-
деггеровской, по преимуществу «отрицающей» версии нового
гуманизма нечто позитивное, в чем современный человек может
найти опору?
Пожалуй, некоторые установки, которые вызревали раньше,
но были особенно четко провозглашены Хайдегтером уже в
послевоенные годы, время не только сохранило, но и сделало более
актуальными. Это прежде всего всеобщая идейно-нравственная
максима, утверждающая не господское положение человека в
окружающем мире, а главное, его ответственность перед лицом
бытия. «Человек, — пишет Хайдеггер, — не господин сущего.
Человек пастух бытия... Он приобретает необходимую бедность
пастуха, чье достоинство покоится на том, что он самим бытием
призван для сбережения его истины... Человек в своей бытийно-
исторической сути есть сущее, чье бытие, будучи экзистенцией,
состоит в обитании вблизи бытия. Человек — сосед бытия»91. Фи-
лософско-экологическая, назовем ее так, максима хайдегтеров-
89 См. там же. С. 334, 335.
90 См. там же. С. 337.
91 Там же. С. 338.
498 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ской онтологии мыслится как одно из оснований нового
гуманизма, о котором Хайдегтер говорит: «Это гуманизм, мыслящий
человечность человека из близости к бытию. Но это вместе и
гуманизм, в котором во главу угла поставлен не человек, а
историческое существо человека с его истоком в истине бытия» 92. Я
лично считаю философскую тему бытия весьма актуальной - в том
числе и в хайдегтеровском ее развороте: в человеке наших дней
надо пробудить возвышающее его над буднями и бытом сознание
ответственности за бытие как целое, сознание заботливого стража
бытия, а не жестокого господина, пытающегося «покорить»,
«поработить» Землю и космический мир. Однако подобные призывы
«нового гуманизма» недостаточны. Их непроясненность
становится существенным недостатком, едва мы вступаем в сферу
реальной человеческой жизни, общения людей, в сферу борьбы
самых различных сил и тенденций общественной жизни.
Хайдегтер энергично расчищает дорогу своему новому
гуманизму и прежде всего призывает нас, его читателей, с
пониманием отнестись к критике распространенных ценностей гуманизма.
«Поскольку что-то говорится против «гуманизма», люди пугаются
защиты антигуманного и прославления варварской жестокости...
Поскольку что-то говорится против «логики», люди считают, что
выдвинуто требование отречься от строгости мысли, вместо
которой воцаряется произвол инстинктов и страстей, а тем самым
истиной провозглашается «иррационализм»... Поскольку что-то
говорится против «ценностей», люди приходят в ужас от этой
философии, которая дерзает пренебречь высшими благами
человечества» 93. Итак, Хайдегтер призывает не «приходить в ужас»... Но
вовсе «не пугаться», не «приходить в ужас» — хотела бы я
возразить Хайдеггеру и его восторженным последователям, — пока не
пришло время. Человечество в XX в. жило и в XXI столетии
продолжает жить в обществах, где так много «варварской
жестокости», все равно, прикрывается ли она словами о гуманизме или
выступает в цинично-антигуманной форме. Где «произвол
инстинктов и страстей» так нередко приводит к кровавым
столкновениям, ненависти и раздорам... Где люди так непривычны к
строгости мысли и так падки на откровенное мракобесие. Где так
много «дерзких» людей, повседневно пренебрегающих «высшими
благами человечества»... Где «фюреры» народов и
«проповедники» так часто заводят целые народы в чащобы тоталитаризма и
человеконенавистничества...
92 Там же.
93 Там же. С. 341.
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера 499
И потому духовные пастыри, радетели бытия и нового
гуманизма должны быть максимально осторожными, ответственными,
когда встают под знамена каких-либо уже существующих
идейных движений или когда сами становятся основателями,
родоначальниками новых «поворотов». Парадокс в том и состоит, что
прочные ориентиры на пути духовно-нравственного новаторства
могут дать непрерывно обновляемые гуманистические
общечеловеческие ценности свободы, разумности, демократизма,
ответственности, нравственной высоты - ценности, за выработку,
сохранение чистоты, преобразование которых на протяжении веков
боролась гуманистическая мысль человечества. Хайдегтер, по
существу, не умеет, да и не хочет, работать в рамках этого
парадокса. «Будущая мысль — так завершает он «Письмо о гуманизме», —
уже не философия, потому что она мыслит ближе к истокам, чем
метафизика... Будущая мысль вместе с тем не сможет уже, как
требовал Гегель, отбросить название «любви к мудрости» и стать
самой мудростью в образе абсолютного знания. Мысль нисходит
к нищете своего предваряющего существа. Мысль собирает язык в
простое сказывание. Язык есть язык бытия так же, как облака —
облака в небе. Мысль прокладывает своим сказом неприметные
борозды в языке. Они еще более неприметны, чем борозды,
которые крестьянин медленным шагом проводит по полю»94.
Итак, не традиционный гуманизм, не богатство мыслей и
философии, а «нищета» чего-то предваряющего мысль, не язык
культуры, а «сказывание» с его «неприметными бороздами» в почве
какого-то иного языка. Обернуться такой «поворот» может новыми
образами мысли, культуры — или новым безмыслием. Совсем не
праздно то сомнение, которое выразил К. Ясперс в одной из своих
заметок к текстам Хайдеггера: «Если путь ведет не к разуму,
коммуникации, свободе в сообществе — то не ведет ли он к
противоположному: к изоляции, исключительности, к претензии на фюрер-
ство, к разрушительному — а значит, и к варварству?»95 Для Яспер-
са вопрос-сомнение тем более тревожен, что, по его мнению,
философия Хайдеггера «лишена бога и мира»96, лишена «любви, веры,
фантазии»97. Хайдегтер, замечает Ясперс, «не знает, что такое
свобода» 98. Признавая, что философия Хайдеггера обладает «магиче-
94 Там же. С. 356.
95 Jaspers К. Notizen zu Martin Heidegger. S. 107.
96 Ibid. S. 37, 60.
97 Ibid. S. 38.
«Ibid. S. 81.
500
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
ской привлекательной силой» ", Ясперс находит тем более
опасными некоторые специфические ее черты. «Хайдеггер мыслит
полемически, но не в форме дискуссии, он заклинает, а не
обосновывает — изрекает, а не осуществляет операции мысли» 10°. Одно из
ясперсовских замечаний кажется мне потрясающим по
искренности и важности. «...Может быть, — размышляет Ясперс, — сделанное
(das Werk) Хайдеггером значительнее, чем сделанное мною, но мне
кажется, что я был настойчивее в защите истины...» 101.
Спор философов выходит, таким образом, за рамки
специальных теоретических вопросов. Он касается жизни и призвания,
сущности человека и природы гуманизма. Спор не закончен, он
продолжается.
99 Ibid. S. 60.
100 ibid. S. 81.
loi Ibid. S. 90.
VI.
О лекциях Ю. Хабермаса в Москве
и об основных понятиях
его концепции
В августе 1988 г., во время Всемирного философского
конгресса в Брайтоне, немецкий философ Юрген Хабермас от имени
Философского общества СССР был приглашен в Москву.
Приглашение было принято. Визит организовал Институт
философии АН СССР, где в апреле 1989 г. Ю. Хабермас прочитал три
лекции, а также провел две встречи, во время которых ответил на
многочисленные вопросы и дискуссионные замечания
присутствовавших. За этим событием, которое можно воспринять как
сугубо внутрифилософское дело, — ни много ни мало как поворот
нашей страны к перестройке и гласности, как начавшееся
освобождение от духовного изоляционизма. В прежние годы
приглашение и не могло состояться, хотя Ю. Хабермас уже к середине
60-х гг. был философом с мировой славой: его выходившие одна
за другой книги затем многократно переиздавались в ФРГ и
переводились на другие языки; он постоянно с огромным успехом
читал и читает лекции во многих университетах мира; его
выступления на конгрессах, симпозиумах неизменно привлекали особое
внимание.
Роль лекций и выступлений Ю. Хабермаса я особо
подчеркиваю по той причине, что свои оригинальные, острые идеи этот
философ не только проверяет, так сказать, обкатывает в самых
разных аудиториях — мне кажется, они во многом и рождаются в
обсуждении, споре, дискуссии (или дискурсе — это слово в
последнее десятилетие широко вошло в обиход западной
философии). Мысли его как бы зажигаются от многих живых огоньков
дискурса общественности. А уж потом возникают, публикуются
книги. И они снова проходят проверку дискурсом.
502
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Но почему же философ этот бывал во многих странах, да
только не у нас — как не были допущены к контактам, дискурсам с
нашей философской общественностью другие крупнейшие и
влиятельнейшие философы современного Запада, к когорте
которых, несомненно, принадлежит и Хабермас? Да вот именно из-
за всего перечисленного; в соответствии с «зазеркальными»
правилами идейной жизни застойного времени вероятность
появления у нас зарубежных философов была тем меньшей, чем
большим был их вес в мировой философии. (Исключения
немногочисленны — например, визиты в СССР Ж.-П. Сартра в 60-х гг., но,
впрочем, ровно до 1968 г., когда последовал протест философа
против советских танков на улицах Праги и когда он стал у нас
persona non grata.) Бдительные идеологические надсмотрщики
внутри и вне философии как раз в выдающихся мыслителях и
видели главную идеологическую опасность: а вдруг «совратят»
они слушателей и читателей... Впрочем, и сами влиятельные
философы Запада, преклоняясь перед нашей культурой, глубоко
почитая Толстого, Достоевского, Чехова, В. Соловьева и уже
познакомившись с произведениями М. Булгакова, Б. Пастернака,
М. Бахтина, по большей части не испъггывали, как они честно
признаются, особого интереса к тому, что происходило в
философии нашей страны. Ибо им представлялось, что в ней ничего
содержательно значимого не происходит и происходить не
может. Отвлечемся сейчас от вопроса о том, в чем они были правы и
в чем неправы.
Давайте лучше подумаем о том, в какой тупик духовного
изоляционизма упомянутые идеологические надсмотрщики (и, увы,
наше непротивление или недостаточно активное противление их
силе) загнали отечественную философию. И как выбираться из
этого тупика — благо первые предпосылки для преодоления пока
что огромнейшей нашей провинциальности в философии уже
созданы?
Слова мои о провинциальности не наговор, не навет. Судите
сами: в той большой заинтересованной аудитории, которая
собралась на лекции Ю. Хабермаса в Институте философии в
Москве, по правде говоря, было очень мало людей, которые читали
произведения этого философа. Можно, конечно, да, и нужно
посетовать на то, что из-за катастрофически плохо поставленного
изучения иностранных языков, а также из-за отсутствия
соответствующей литературы большинству дипломированных
философов у нас пока не доступны подлинники западной мысли. Но это
особый вопрос. Я хотела бы подчеркнуть другое; хотя имя Ю.
Хабермаса даже и у нас достаточно хорошо известно, хотя о его фи-
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 503
лософии у нас время от времени писали (правда, редко когда
объективно и с пониманием), переводы книг этого читаемого во
всем мире философа в СССР пока не публиковались. И, по-
видимому, данная книжечка, предлагаемая читателю, окажется
самой «большой» пока публикацией работ Ю. Хабермаса в
русском, переводе.
Правда, благодаря журналу «Вопросы философии» (1989. № 2)
читатель может познакомиться с переводом доклада Ю.
Хабермаса на конгрессе в Брайтоне; в «Историко-философском
ежегоднике. 1989» опубликовано на русском языке предисловие Ю.
Хабермаса к нашумевшей книге В. Фариаса о Хайдегтере, — к ее
немецкому переводу, который вышел в ФРГ тоже в начале 1989 г. Итак,
начало положено. Перечисленные публикации можно считать
начавшейся выплатой давнего долга нашему читателю: он ведь
имеет право на информацию о том, что в философском развитии
других стран выходит на передний план. Правда, долг столь
огромен, что выплачивать его надо бы не столь скромными
порциями. Но к публикациям, о которых я только что упомянула, а
также к этой книжечке справедливо подойти и по-другому: ведь
они (в противовес сложившейся у нас практике если уж и
публиковать подобные работы, то через десятки лет после их
появления) относятся к числу относительно недавних печатных и
устных выступлений философа. Можно констатировать, что тема
«Ю. Хабермас в Москве» — и сам факт приезда этого философа в
нашу страну, и отбор проблем для лекций, и оценка мыслей,
выраженных в лекциях, в публикуемых здесь интервью, — вызвала
живой интерес нашей философской, да и не только
философской, общественности. То, что мы начинаем двигаться в
пространстве мировой философской мысли в такт с самим ее
движением, — хороший знак назревших и медленно, но
совершающихся перемен.
Лекции Ю. Хабермаса в Москве, как мне кажется, прошли с
большим успехом. Главное, во имя чего лекции
организовывались, — привлечь внимание к живому слову, к сегодняшнему
развитию мысли Ю. Хабермаса, внимание людей, занимающихся
философией, любящих ее, было достигнуто. Самые просторные
залы Института философии АН СССР, где проходили лекции,
беседы, были заполнены до отказа. Визит Хабермаса в Москву мог
быть лишь очень коротким (четырехдневным): философ и так с
трудом встроил его в свой ранее сложившийся распорядок
работы на 1989 г. Лекции проходили в первой половине дня, встречи,
дискуссии — во второй. Напряженный график работы имел,
конечно, свои существенные минусы: далеко не все, кто хотел задать
504 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
вопросы или побеседовать с известным западным философом,
имели возможность это сделать. Из-за недостатка времени не
получилось настоящей развернутой дискуссии между Хабермасом и
нашими философами. И все же первый опыт непосредственной
«коммуникации» — я намеренно использую одно из ключевых
понятий хабермасовской социальной философии — состоялся.
Быть может, на этом и следовало бы закончить вступление к
публикуемым далее материалам, если бы не одно обстоятельство.
Хотя Хабермас и пытался построить лекции в качестве
относительно самостоятельных и завершенных кратких размышлений, я
опасаюсь, что далеко не все в них будет понятно читателям, не
знающим прежних работ философа. В лекциях он спрессовывал в
краткие формулы и тезисы то, что развертывал и доказывал
многие годы на сотнях, тысячах страниц опубликованных текстов,
что отстаивал в спорах, дискуссиях. Адресовать читателя к
сколько-нибудь целостным интерпретациям философии Ю. Хабермаса
в нашей литературе, которые могли бы послужить введением к
освоению нижеследующих текстов, я, к сожалению, не имею
возможности. Вот почему я решила, сообразуясь прежде всего с
проблемно-тематическим разворотом московских лекций и
интервью, поместить их в более общий и, надо сказать, весьма сложный,
специфический контекст основных понятий и принципов
социальной философии Хабермаса.
Опираясь на понятийно-теоретическую реконструкцию, по
необходимости очень краткую и далекую от всяких претензий на
полноту и целостность, я также хочу предложить сегодняшние
собственные оценки дела, вклада, характера мысли этого
современного нам выдающегося философа. Прошу читателей учесть,
что мои оценки и подход к философии Хабермаса во многом
отличаются от тех, которые закрепились в философии застойного
времени и которые, по моему глубокому убеждению, имели к
идеологической атмосфере периода застоя самое прямое
отношение. При этом желание более объективно осмыслить
масштабность и злободневность социальной философии Хабермаса не
предполагает с моей стороны некритического ее восприятия.
Напротив, у меня были1 и есть сегодня серьезные критические
замечания в адрес философии Хабермаса.
1 Например, в книге «Философия эпохи ранних буржуазных революций»
(М, 1983. с. 483) я высказывала критические соображения относительно
некоторых оценок философии XVII в. у Ю. Хабермаса (в книге «Теория и
практика»). Этих соображений я придерживаюсь и сегодня.
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 505
В принципе чрезвычайно важно было бы по-новому ответить
на следующие общие вопросы: чем интересен — и не только в
историческом плане, но и в свете сегодняшних острейших проблем,
переживаемых человечеством, — более чем тридцатилетний путь
в философии, который прошел Юрген Хабермас, чем
существенны результаты, которых он достиг к началу 90-х гг.? Но здесь я
могу взять на себя только небольшую пропедевтическую часть
этой задачи: постараюсь раскрыть и оценить в их взаимосвязи
лишь некоторые понятия из тех, которые либо с самого начала,
либо в 80-е гг. отчетливо закрепились в центре его социальной
философии (они же и в центре московских лекций Хабермаса). А
одновременно попробую поразмыслить над тем, какой тип
социальной философии стремится сегодня развивать Хабермас, в чем
оригинальность, значимость, перспективность этой философии.
Историко-философские и социологические истоки
Среди завидных качеств западных философов, контрастно
оттеняющих широко распространенную в среде наших' философов
по диплому безграмотность и полуграмотность, нельзя не
отметить высокий профессионализм. Уже степень доктора (по-
нашему, кандидата) философии, полученная в университетах
ФРГ, Франции, Англии, США, удостоверяет то, что ее обладатель
изрядно потрудился над изучением истории философии,
культуры, науки, что он освоил также новейшие направления
мировой философской мысли (причем обязательно и аналитическую,
лингвистическую, структуралистскую, герменевтическую
философию и методику) независимо от того, какова его более узкая
философская специализация. А что уж говорить о признанных
сегодня лидерах философии Запада! Их философская эрудиция
поразительна: вспомним, например, о Г.-Г. Гадамере, П. Рикёре,
других известных мыслителях. (Наши выдающиеся философы-
гуманитарии А. Ф. Лосев, С. С. Аверинцев, М. К. Мамардашвили
могут быть на равных поставлены в этот ряд.) Но даже на фоне
традиционно высокой философской культуры западной мысли и
чрезвычайно широкой эрудиции ее лидеров Юрген Хабермас все-
таки выделяется. Когда он читал свои краткие лекции в Москве,
то я не раз пожалела о многих безжалостно устраненных
лектором ссылках на соответствующий материал: оставлено было лишь
то, что Хабермас хотел акцентировать именно в данный момент.
А обычно, теоретически анализируя какой-либо вопрос,
Хабермас одновременно почти исчерпывающе обрисовывает и
оценивает сколько-нибудь значимые узлы исторического и современно-
506
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
го дискурса, т. е. осмысления, дискутирования соответствующей
темы. Но еще важнее то, что, в сущности, ни одна отсылка не
вводится им ради ритуала — простого демонстрирования эрудиции
и информированности, а служит позитивному проблемному
анализу. (Я заметила, что это соответствует стилю поведения Ю. Ха-
бермаса как личности: по-моему, он всегда лучше ощущает себя в
стихии содержательных споров, неритуалъных контактов, т. е.
именно в живом, неформальном и глубоко демократическом
философском дискурсе.)
Путь Хабермаса в философии — если взять для начала один,
но чрезвычайно важный и постоянный аспект
непрекращающегося формирования его мысли — отмечен вехами углубленной
проработки больших пластов мыслительного материала, причем
и того, который оставлен историей, и того, которым располагает
современность. В 50 — 60-х гт. это были главным образом:
наследие классической философии — с акцентом на социальную
философию Нового времени, немецкой классической мысли;
марксизм—в основном марксистская классика, но также в то время
еще довольно мощные и влиятельные ответвления западной
философии XX в., испытавшие глубокое влияние Маркса;
социальная философия (в особенности социально-философский анализ
знания, познания, интереса) второй половины ХГХ и начала XX в.
Разумеется, исследованию подвергалось и все то в социальной
философии 50—60-х гг., что было особенно близко самому
Ю. Хабермасу, молодому, но быстро замеченному мыслителю, и
что, напротив, вызывало его неприятие.
На одном полюсе — полюсе наследования, освоения,
критического постижения — прежде всего была традиция немецкой
философии и социологии, причем сначала в том толковании,
которое предложили эмигрировавшие из фашистской Германии, а
после войны возвратившиеся на родину создатели так
называемой Франкфуртской школы, выдающиеся философы М. Хорк-
хаймер и Т. Адорно, а также Г. Маркузе, философ (по моей
оценке) не столь высокого ранга, но благодаря эрудиции, критицизму,
антифашизму оказывавший немалое воздействие на
формировавшееся сразу после войны поколение немецких радикалов. А
оно болезненно переживало позор фашизма, требовало от своей
нации идейно-нравственной самокритики, самоанализа,
покаяния. К этому поколению молодых людей, которые вошли в
философскую, идейную работу, движимые такими очистительными
импульсами, непримиримостью по отношению ко всяким
формам тоталитаризма, антидемократизма, националистического
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 507
шовинизма, человеконенавистничества, и принадлежал Юрген
Хабермас.
Вот почему на другом полюсе — полюсе активного
критического неприятия для этого поколения немецких философов —
расположились все те идеи и концепции, которые «обслуживали»
тоталитаризм или оказались способными хоть на какой-то с ним
компромисс. Разумеется, была категорически отринута — с
негодованием, презрением, но и на основании уничтожающего
критического анализа — фашистская идеология как таковая. Строго
отнеслись немецкие радикалы второй половины 40-х и 50-х гг. к
тем, кто, подобно М. Хайдегтеру, поддались фашистской идейной
чуме. Как разворачивалась история, обозначенная темой «Хай-
деггер и нацизм», рассказал сам Хабермас в упомянутом выше
предисловии к переводу книги В. Фариаса. Хабермас относится к
числу интеллектуалов, которые и сегодня решительно не
согласны отпустить Хайдегтеру — из-за истечения срока давности или
по каким-либо другим причинам — грех его сотрудничества и
идейного согласия с нацизмом. Неудивительно, что под
критический обстрел Хабермаса попал и так называемый «советский
марксизм» — догматический диамат и истмат. Я не могу сказать, что
Хабермаса можно считать знатоком нашей отечественной
догматики (русским языком он не владеет). Когда читаешь (например, в
книге «Теория и практика» — Theorie und Praxis. 2. Aufl. Frankfurt
a. Main, 1967. S. 261 ff) написанное Хабермасом о «советском
марксизме», то поражаешься чрезвычайной бедности информации и
случайности материала, что резко контрастирует с необычайной
начитанностью этого автора в других областях. Однако и то надо
признать, что даже беглого знакомства с некоторыми
переведенными на европейские языки или обильно процитированными в
работах советологов образцами диамата и «истомата» (такой
термин распространен в ФРГ) оказалось вообще-то достаточно,
чтобы верно распознать в них догматические и, что для Хабермаса
всегда было особенно существенно, тоталитаристско-культовые,
беспардонно-апологетические идейные и нравственные, точнее,
безнравственные парадигмы. Того постоянства и той резкости, с
которыми Хабермас, знаток Маркса, отлучал от философии
псевдомарксистскую псевдофилософию, конечно же, не могли
простить ему наши отечественные, идеологические надсмотрщики,
подвизавшиеся в философии. И это была, пожалуй, одна из
главных причин, почему работы этого автора/который, подобно
своим учителям Хоркхаймеру, Адорно, Маркузе, считал и считает
необходимым глубоко, внимательно, постоянно, но, разумеется,
тоже критически осваивать классическое наследие Маркса, не
508
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
только не переводились у нас в стране, но и были подвергаемы
систематическим идейным проработкам как антимарксистские.
Итак, кратко обрисован идейный дискурс, развернутый в
работах Хабермаса 50—60-х гт. Осмысление этим философом —
всегда яркое, острое, самостоятельное, а потому всегда
дискуссионное — учений Нового времени о естественном праве, социально-
философских, политических, этических учений немецкого
идеализма, особенно Канта и Гегеля, наследия Маркса, работ Г. Лу-
кача, Э. Блоха и др., концепций Конта, Дильтея, Ницше, Фрейда,
да и многих других авторов читатель сможет найти в таких
лучших (по моему мнению) книгах Хабермаса 60-х гг., как «Познание
и интерес» (Erkenntnis und Interesse. Frankfurt a. Main, 1968),
«Техника и наука как идеология» (Technik und Wissenschaft als
Ideologie. Frankfurt a. Main, 1968).
Вышедшая в самом начале 60-х книга Ю. Хабермаса
«Структурное изменение общественности» (Strukturwandel der
Öffentlichkeit. Luchterhand., 1962), одна из самых значительных,
неустаревших и до сего для книг философа, развертывала несколько
иной мир дискурса; Хабермас вводил читателя не только в
традиционные проблемы социальной философии (особенно
философии права и политики), но также в мир идей социологии.
Но тот, кто решит, что прошедший блестящую философскую
(в том числе историко-философскую) и социологическую выучку
Ю. Хабермас использовал свою удивительную эрудицию, чтобы
«печь» одну за другой пухлые книжки, тот серьезно ошибется.
Потому-то его книги и выделились на фоне богатейшей и
высококвалифицированной западной литературы по истории мысли,
потому-то они, будучи изданными первый раз, затем каждый год,
и не по одному разу и не одним издательством, переиздаются
(так, «Структурное изменение общественности» только
западногерманское издательство «Герман Лухтерханд» в 1984 г.
перепечатало в 15-й раз), что актуализация истории мысли была в них
средством самостоятельного теоретического, концептуального
подхода к злободневнейшим социально-философским
проблемам.
А еще и потому, что философ нашел оригинальный ракурс
анализа насущной социально-философской проблематики.
Какой проблематики? И какой ракурс? Вопросы очень непростые,
но попытаться ответить на них весьма важно — тогда мы,
возможно, подберем ключ к текстам и лекциям Ю. Хабермаса.
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 509
Понятие и концепций «общественности»
(Öffentlichkeit)
«Общественность», ее рождение и развитие в
гражданском обществе
Я предлагаю подойти к ответу на поставленные вопросы через
понятие «Öffentlichkeit», вокруг которого с начала 60-х гг. и до
последнего времени организуется важнейшая для социально-
философской концепции Хабермаса исследовательская сфера. В
московских лекциях оно используется весьма активно.
Представляет трудность уже и перевод на русский язык этого понятия,
весьма многогранного по своему содержанию. Продумав
различные варианты, мы решили «Öffentlichkeit» переводить как
«общественность», а то же слово во множественном числе — исходя из
контекстуального его употребления, обыкновенно в сочетаниях
типа die (autonome) Öffentlichkeiten — переводить как
«(автономные) образования (соответственно объединения, группы)
общественности». Однако, работая над текстами Хабермаса, читатель
должен постоянно иметь в виду сложное и специфическое,
непередаваемое одним словом содержание этого емкого понятия. Что
же такое «общественность» (Öffentlichkeit) к трактовке Хабермаса?
И почему это понятие он считает столь важным? В чем его особое
значение для осмысления социальной жизни современного
человечества?
Вслед за Хабермасом отвечая на эти вопросы, мы прикасаемся
к сокровенной проблематике его теории общества и
одновременно специфическим методам его исследовательской мысли.
«Способ работы в данном исследовании, — пояснял Ю. Хабермас, —
обусловлен трудностями самого его предмета. Его комплексность
— вот что в первую очередь заставляет отказаться от того, чтобы
предписывать себе специфические способы исследования какой-
либо одной специальной дисциплины. Категория
«общественность» должна, напротив, быть обнаружена в том широком поле,
которому традиционная политика некогда позволяла определять
свой подход; внутри границ всяких отдельно взятых
общественных дисциплин предмет этот теряется» (Habermas ].
Strukturwandel der Öffentlichkeit. Gmbh., 1984. S. 7 — далее при цитировании
указываются только страницы). Итак, комплексность подхода —
первое требование. К разговорам о комплексности философского
и социального исследования мы привыкли. Но ведь частенько за
ними нет ничего, кроме мешанины различных знаний и фактов,
510
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
которые иные авторы «комплексно» используют, преспокойно
оставаясь, как и прежде, на собственной делянке в какой-либо
отдельной социальной дисциплине. Хабермас же подразумевает
под комплексностью нечто иное: ни один вид интегрируемого
материала — обрабатываются исторические, социологические,
экономические, правовые, политологические,
историко-философские, историко-социологические, гносеологические и
логические знания — не должен быть господствующим. Исследование
должно переместиться в какую-то иную, именно комплексную
сферу работы, вернее, оно должно «открывать» эту сферу и ее
категории в самом исследовательском процессе. Чтобы понять, что
же имеет в виду Хабермас, нам нужно подробнее
проанализировать ход его мысли.
Уже для того, чтобы вычленить «общественность» как предмет
исследования и как уточненное понятие, Хабермас осуществляет
очень любопытный и, на мой взгляд, плодотворный синтез
исторического, историко-философского, экономического,
социологического подходов. Хабермас отправляется от (исторически
возникших) полярности и взаимодействия «частной» и
«общественной» жизни, которые формируются в глубокой древности и через
существенные модификации, в особом виде, доходят до наших
дней. «Речь идет, — пишет Хабермас, — о категориях греческого
происхождения, которые пришли к нам через римскую
традицию. В развитом греческом городе-государстве сама сфера
полиса, которая является общей для свободных граждан (koine), строго
отделяется от сферы частного (oikos), которая есть
принадлежность каждого отдельного человека (idia). Общественная жизнь
(bios politikos) разыгрывается на рыночной площади, агоре, но
она не ограничена локально: общественность конституируется в
обсуждении, беседе (lexis), которая принимает совещательную
форму и форму суда, а также совместного действия (praxis)...»
(S. 13).
Итак, общественная, социальная жизнь (gesellschaftliches
Leben) как таковая на первом этапе анализа берется у Хабермаса в
свете противоположности: частное — общественное (öffentliche).
На втором этапе, никак не забывая о целостном социально-
историческом развитии и полярности частного — общественного,
Ю. Хабермас именно общественное в более специфическом
смысле (öffentliche) делает относительно самостоятельным
предметом анализа.
Эллинистическая модель «общественности» не случайно
становится трамплином для перемещения анализа одновременно и в
более узкую сферу, чем социальное, общественное (gesellschaftli-
Ю. Хабермас Основные понятия его концепции 511
ehe), как таковое, и в более сложную, комплексную область, чем
та, в рамках которой феномены, обозначаемые понятием
«общественность», до сих пор изучались. В чем Хабермас видит
значимость упомянутой эллинистической модели? «Не общественные
формации, которые лежат в ее основе, — пишет он, — а сам
идеологический образец непрерывно сохранялся в своей духовно-
идеологической форме, на протяжении столетий» (S. 16).
Вот почему Ю. Хабермас следующим образом — пока
предварительно — характеризует «общественность» (Öffentlichkeit): это
те феномены в жизни общества, человека и те срезы социального,
которые сформировались еще в Древней Греции и затем,
исторически видоизменяясь, сохранились в качестве идейных образцов, а
также совокупности духовно-исторических структур
человеческой цивилизации.
Суть их — в открытости (от нем., öffnen — открывать),
совместности жизнедеятельности людей (в противоположность
относительной закрытости, обособленности частной жизни). Их
предназначение — постоянно способствовать установлению широких,
многомерных связей коммуникации (коммуникативности), по
отношению к которым политические связи есть одна, хотя и очень
важная, разновидность. Формы «общественности» исторически
изменчивы: рамки и структуры коммуникативности, совместности,
открытости непрерывно меняются — как «в себе», так и в их
отношении к другим сферам общества как такового, например, в
отношении к частной сфере. То, что по-немецки обозначается
прилагательным «открытый» (offen), по-английски словом
«проницаемый» (transparent), в русском языке лучше всего передается
столь распространенными у нас именно с сегодня словами
«гласный», «гласность», которые, однако, достаточно давно
фигурировали в отечественном социально-философском и политическом
лексиконе.
Ю. Хабермас специально не изучает вопрос об истоках и
становлении эллинистической парадигмы, данность которой столь
важна для него, что образует почти аксиоматический отправной
пункт анализа. А вот ее историческая изменчивость в
дальнейшем развитии общества — момент особенно существенный, хотя
применительно к длительным эпохам истории осмысливаемый,
описываемый чрезвычайно кратко. Когда мы читаем первые
главы работы «Структурное изменение общественности», перед
нами, как в ускоренной съемке, пробегает средневековье, история
которого интересует Хабермаса с точки зрения той
господствующей формы «общественности», которую он (вслед за рядом
исследователей) именует «репрезентативной общественностью».
512
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Европейское средневековье, сохраняя полярность частного —
общественного, заданную античной моделью, все же существенно
меняет и содержательное наполнение каждой из
противоположностей, и характер их взаимодействия, взаимопроникновения.
Согласно схеме Ю. Хабермаса, отличие античности —
сосредоточение господства исключительно в домашне-частной сфере:
ойко-деспот властвует над рабами, слугами, женщинами; сфера
же общественности — это деятельность свободных граждан в
политической сфере, на агоре, поскольку она есть символ
свободных взаимодействий свободных людей. Я не могу принять
целиком эту часть схемы Хабермаса.
Сфера oikos, несмотря на справедливость отдельных
прилагаемых к ней характеристик Хабермаса, в реальной истории более
противоречива, ибо там находилось место не только
подчиненному, но и свободному состязательному труду, а он-то и был
основанием древнегреческой цивилизации. С другой стороны, и
сферы «общественности», совместности (koine) не есть (причем и
в толковании самих греков) только «сфера свободы и
стабильности», как утверждает Хабермас (S. 16). Греческие философы,
например Платон и Аристотель, высоко чтили деятельность в сфере
«общественности», но противоположность господства — рабства
и свободы они, насколько мне известно, не отождествляли с
раздвоением oikos — koine.
В условиях средневековья дело, согласно схеме Хабермаса,
существенным образом меняется. Господство выходит за пределы
дома, семьи (хотя там оно тоже сохраняется), перемещаясь
главным образом в сферу феодального владения, господства
сюзеренов над их вассалами — по всей феодальной цепочке. В
результате происходит, согласно Хабермасу, если не полное размывание
частного, то его тесное объединение с общественным, что
довольно ярко высвечивается в «репрезентативном типе
общественности». Эта отработанная на протяжении веков форма
коммуникации, в том числе и в сфере политики, включает в себя ряд
особенностей — начиная от социально-экономических предпосылок
(постоянная демонстрация, репрезентация сквозной иерархии
собственности на землю и частичной собственности на людей) и
кончая ритуалами, речами, обсуждениями, церемониями,
праздниками, одеждой, жестами, символами, всем строем поведения.
Опираясь на работы Г.-Г. Гадамера, И. Хейзинги, А. Демпфа, А.
Хаузера, Р. Ал евина и др., Ю. Хабермас кратко и выразительно
обрисовывает этот специфический тип «общественности»,
который, надо отметить, не полностью исчез с исторической сцены и
сегодня: если сохраняются или возрождаются какие-то из его
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 513
корней, например авторитарная система собственности и власти,
то возрождаются и многие ее специфические ритуально-
догматические атрибуты.
На заре Нового времени — эпохи, которую Хабермас, следуя
установившейся западной терминологии, обозначает с помощью
прилагательного modern2, тоже играющего ключевую роль в его
теории, — «репрезентативная общественность» отходит на
задний план. Формируется новый тип «общественности». Этот
новый тип «общественности» особо привлекает интерес Ю. Хабер-
маса.
После исторических введений (которые в его комплексном
исследовании выполняют не внешнюю, а глубоко содержательную
роль первоначального вычленения сферы исследования и
«вступления» исходных понятий) философ получает в свое
распоряжение также и более конкретный предмет анализа. Книга
«Структурное изменение общественности» имеет подзаголовок:
«Исследование одной из категорий гражданского общества». Ибо
категории частного и общественного, согласно Хабермасу,
«впервые приобретают действенное, основанное на правовой технике
применение вместе с возникновением государства эпохи модерн
(des modernen Staates) и вот этой, от государства независимой,
сферы гражданского общества (Gesellschaft)» (S. 16—17).
Прежде всего, вопреки и в противовес затушевыванию (хотя
вовсе не полному исчезновению) частного перед лицом
«репрезентативной общественности» средневековья появляются новые
способы обособления частной жизни, частного интереса, само-
2 Перевод его на русский язык также представляет определенные
трудности. Словосочетания «die moderne Gesellschaft», «die moderne Ökonomie»
обычно переводятся у нас как «современное общество», «современная
экономика» — и читатель представляет себе нечто именно нам
современное, сегодняшнее (для чего, кстати, в немецком языке есть
специальные слова, например gegenwärtige, zeitgenossische). Но ведь в
выражениях со словом «modern» в исторических и философских сочинениях
имеется в виду длительная эпоха развития, начинающаяся на переломе от
позднего Возрождения к Новому времени, в XVI—XVII вв., и
продолжающаяся еще сегодня. А вот уже во второй половине XX в. обозначается
следующий перелом, свидетелями и участниками которого мы,
собственно, и являемся: die Moderne переходит в die Postmoderne. Более
подробно по этому вопросу см.: Habernas /. Der philosophische Diskurs der
Moderne: Zwölf Vorlesungen. Frankfurt a. Main, 1988. В этой книге оба
понятия уточняются в интереснейшем и остром дискурсе-споре с
концепциями Гегеля и гегельянцев, Ницше, Хоркхаймера—Адорно, Хайдегтера,
Фуко, Деррида, Касторадиса, Лумана и др.
514
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
стоятельной (не зависящей от более высокого сюзерена) частной
собственности. Постепенно вырабатываются и внедряются в
практику установления, а также формируются действенные
идейные формы, с помощью которых сфера частного защищает
свою неприкосновенность. Далее, само обособление частного
идет по линии его противопоставления официальной —
государственной, чиновно-должностной — «общественности». «В
немецком языке, — пишет Ю. Хабермас, — слово "частный" (privat),
образованное от латинского privatus, впервые начинает
применяться с середины XVI в.— и именно в том значении, в каком
употребляют английское "private", французское "privé"» (S. 24).
Буквальное первоначальное значение в этих трех языках слова
«частное» («приватное») — находящееся вне сферы общественной,
официальной службы и политики (ohne öffentliches Amt; not
holding public office or official position; sans emplois, que l'engage dans
les affaires politiques — эти выражения, с помощью которых
разъясняется слово «частное», взяты Ю. Хабермасом из старых
немецких, английских, французских словарей). Здесь история языка,
которая в комплексном исследовании Хабермаса по праву играет
заметную роль, высвечивает предназначение, содержание сферы
частного в гражданском обществе.
Итак, частное «означает исключение сферы действия
государственного аппарата» (S. 24). А «общественное» — как öffentlich? В
ту переходную пору, о которой идет речь, «общественность», если
она и существует, мыслится как простой придаток наличного (в
основном абсолютистского) государства. «Публика (das Publikum,
the public, le public) в противоположность «частному делу» есть
«общественная (öffentliche) власть». Государственный служащий
— это общественная персона (public person, personne publique);
ему отведена общественная должность; его должностные занятия
мыслятся как общественные. Общественными называются
должностные дела (public office, service public), общественными
именуются здания и резиденции верхушки власти. На другом полюсе
— частные люди, частные служащие, частные гешефты и частные
дома... Вершина власти противостояла отъединенным от нее
верноподданным; считалось, что первая служила общественному
благу, а вторые — своим частным нуждам» (S. 24).
Итак, одна из первоначальных форм противополагания на
глазах крепнущей сферы частного сфере общественного на заре
Нового времени (эпохи модерн) сложилась так, что
обновляющиеся административно-государственные целостности пытались
узурпировать сферу общественного как таковую и сделать
официальное, чиновничье, административное самим воплощением
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 515
общественного — общего блага, общей воли и т.д. Такие
узурпирующие попытки государства и его аппарата вовсе не остались в
прошлой истории. Мы с вами очень хорошо знаем, как примерно
то же случалось в сравнительно недавней истории нашей страны,
хотя по строгому историческому, цивилизационному счету
таковые претензии власти можно считать консервативными,
ретроградными.
Гражданское общество начинает зарождаться в ряде стран
Европы в XVII в.; процесс его бурного развития приходится там на
XVIII—XIX столетия. Итак, теперь более конкретно выделяется
одна из парадигм «общественности гражданского общества»,
которую Хабермас вычленяет, интересуясь именно «структурой и
функциями либеральной модели общественности и гражданского
общества в ее возникновении и изменении» (S. 8).
Я хотела бы высказать свое мнение о том, почему Ю. Хабермас,
нигде не упуская из виду другую противоположность — сферу
частного, все же концентрирует исследование именно на
«общественности». В наших отечественных условиях, когда повсюду и
всегда так акцентировалось «общественное», когда довлела себе
особая, еще требующая своего исследования, во многом
чудовищная форма «общественности», «общественного», агрессивно и
репрессивно подавлявшая все частное, индивидуальное, особое,
— в наших условиях первейший сегодня шаг, естественный и
необходимый, должен-, видимо, состоять в реабилитации, защите
прав и идейном обеспечении частной жизни, частного интереса,
частной собственности. Т. е. в том, что развитые западные и
восточные типы современной цивилизации давно сделали своим
достоянием — пусть при их оценке мы должны одновременно
учитывать и внутренние противоречия, нестабильность,
исторические модификации и возможности усовершенствования сферы
частного. Хабермас потому значительно меньше уделяет
внимания сфере частного, что он, во-первых, исходит из ее устойчивого
существования и довольно прочной (в капиталистических
странах Запада и Востока) защищенности. А во-вторых, —
несомненно, под влиянием К. Маркса и устремлений собственной
критической теории общества — он глубоко критически оценивает те
формы частных собственности и интереса, которые в истории
возникали параллельно со становлением гражданского общества:
капиталистическую собственность, да и вообще
капиталистические формы производства и обмена. Ю. Хабермас — один из
наиболее умных, глубоких критиков капитализма. (Вот почему, в
частности, сложившаяся у нас манера повествовать о Хабермасе в
рамках курсов и книг под общей шапкой «Критика современной
516
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
буржуазной философии» противоречит стилю философии и
идейным устремлениям этого философа 3.)
Ю. Хабермас посвятил свои лучшие книги проблемам
«общественности», коммуникации тоже совсем не случайно — я
полагаю, потому, что преобразованию этих феноменов социальности
он придает первостепенное значение: именно в них, в их новых,
подвижных структурах он мыслит обрести противовес и
возможной иррациональности частного интереса, и диктаторским
устремлениям административной власти, и окостенению, порой
выхолащиванию демократических форм. Сейчас, когда в нашей
стране делает первые шаги процесс демократизации, с большим
интересом воспринимается жесткая критика, обращаемая Ю. Ха-
бермасом в адрес того социального явления, которое он
ненавидит с юношеских лет: речь идет о государственной власти,
тяготеющей к авторитаризму, а порой перерастающей в
тоталитаризм. Понятно, что главным противоядием от такой власти
Хабермас, как и многие другие теоретики, считает демократию,
притом он отдает предпочтение «либеральной», а не
«плебейской», популистской (S. 8) демократической модели. Но для Ха-
бермаса такого общего решения проблемы далеко не достаточно.
Ибо он критически относится и к наличным (в том числе
либеральным) формам демократии. Каковы противоречивые
возможности, структуры, которые имеются внутри самой
демократической «общественности», как нелегко развиваются, сохраняются ее
самые живые, продуктивные формы и как может быть облегчено
их внедрение в практику — вот животрепещущие вопросы
упомянутой книги «Структурное изменение общественности» и
вышедшей в начале 80-х гг. двухтомной работы «Теория
коммуникативного действия».
Одно из самых существенных исторических изменений,
наступающих на заре Нового времени, Ю. Хабермас видит в своего
рода цепной реакции мыслей, ориентации, действий, поступков,
которая возникает благодаря следующему новому процессу.
Вместо средневековой сословно-корпоративной, представительской
власти, стремившейся олицетворять все «общественное», на
историческую сцену выступают частные люди, которые до поры до
времени не располагают возможностями господствовать, но, в
своем объединении образуя «публику», постепенно начинают
осуществлять контроль за властью и выдвигают задачи ее сущест-
3 Я сама, каюсь, хотя бы внешне отдала дань этой манере, когда раз-
другой использовала клише «современная буржуазная философия» в
контексте анализа философии Ю. Хабермаса.
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 517
венного преобразования. «Общественность» начинает
вклиниваться в поле напряженных отношений между государством и
конкретными индивидами. Этой новой «общественности» нужны
свои пристанища, где люди свободнее выражали бы свои мысли и
изливали свои эмоции. Она и нашла себе опору, порождая или
используя тогда еще маргинальные формы: клубы, театры,
прессу, другие «образования» (Gebilden) культуры. Те сферы
деятельности, которые испокон веков были вовлечены в жизнь общества
— литература, искусство, а в них особенно то, что тяготело к
речам, риторике, аргументации, дискуссиям, — также проникаются
функциями новой «общественности».
В результате, как показывает Хабермас, «общественность
гражданского общества» как бы располагается в качестве звена
опосредования между частной сферой гражданского общества
(сферой, где развертывается необобществленная деятельность
индивидов по производству и обмену товаров, куда также включается
жизнь отдельной семьи) и сферой общественно-официальной
власти (в первые столетия Нового времени это государственный
аппарат, в том числе карательный, в единстве с монархическо-
дворянской властью). Итак, для гражданского общества
фундаментальными становятся разделения прежде всего между
частным и общественным, а также между обществом и государством.
Но это значит, что внутри общественной — не-частной — сферы
также намечаются. важные размежевания и противостояния.
«Общественной власти», прежде всего власти государства,
противостоит «общественность», непосредственно не вовлеченная в
исполнение властных функций. Вот эту точку роста — где
рождается свободная, неофициальная, критическая «общественность» —
Хабермас анализирует особенно внимательно. В превосходных
комплексных (одновременно исторических, лингвистических,
социологических и т. д.) экскурсах Ю. Хабермас показывает, как
именно в Европе XVII—XVIII вв. жили, действовали люди,
которым суждено было стать выразителями социально-критических
идей, приобретавших огромный резонанс. Вовсе не безынтересно,
например, понять, почему парижские отели, кафе, салоны,
«открытые» для дискуссий частные дома, а не королевские дворы
стали центрами притяжения новой «общественности», как
вообще утрачивалось значение двора и возрастала роль города. А в
городах, по существу, каждое место встречи людей становилось и
местом дискурса. «Почти ни один из великих писателей XVIII в.
не обошелся без того, чтобы сначала высказать свои
существенные мысли в таких дискурсах, представив их для дискуссии в
докладах перед академиями, либо прежде всего в салонах. Салоны
518
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
имели монополию публикации; всякий новый опус, включая
музыкальный, должен был перво-наперво получить на этих
форумах свою легитимацию» (S. 49).
В каждой стране соответственно уже сложившимся и
возможным социальным формам новая «общественность» искала особые
пути выражения своих идей и интересов. В Германии, например,
кафе, салоны играли меньшую роль, чем во Франции и Англии.
Но им на помощь приходили академии, другие вновь
учреждаемые общества, объединения публики, в том числе тайные,
которые должны были становиться таковыми в значительной степени
из-за более жесткого государственного надзора.
Очень интересно прослеживается у Ю. Хабермаса движение
новых идей из сферы передовой критической культуры к
читателю, слушателю. В наших представлениях такие, например,
понятия, как «читающая публика XVII или XVIII века», скорее всего,
неопределенные, расплывчатые. Ю. Хабермас, опираясь, как
всегда, на огромный массив исторических изысканий, делает
подобные понятия содержательно насыщенными, конкретными (S. 54 и
далее). К «переходным» столетиям относится также постепенное
превращение театров именно в публичные — открытые и
доступные для публики. С музеями это происходит, как известно,
несколько позже, к концу XVIII в., под влиянием культурной
революции как части французской революции. С точки зрения
становления «общественности» очень ярко и оригинально
рассмотрена история возникавшей свободной прессы, критической
публицистики.
В плане истории становления европейской политической
культуры интересны и те главы книги Ю. Хабермаса, где редко у
нас используемый конкретный исторический материал удачно
применяется для анализа событий и форм, благодаря которым
становится слышным глас «общественности», т. е. пробивает себе
дорогу, утверждается гласность как форма социальной жизни.
Речь идет о «модели английского развития» (часть III, § 8) — о
формировании новой практики деятельности английского
парламента, о создании прессы нового типа (пример — издание
«Review» Д. Дефо или «Examiner» Дж. Свифтом), о
парламентской оппозиции XVIII в. и роли социально-критической
литературы, о разветвленности и сложности формировавшихся в XVII—
XIX вв. политических процедур, благодаря которым внутри
государственно-политической сферы и вне ее возникали возможности
довольно широких социально-политических коммуникаций в
центре и на местах.
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 519
Хабермас обсуждает и континентальные варианты, особенно
французский и немецкий. Естественно, что во французском
опыте формирования «общественности» в центр ставится период
Великой французской революции. «Революция за одну ночь
создала, правда в менее устойчивой форме, то, для чего в Англии
понадобилось основательное развитие на протяжении целого
столетия: для политически рассуждающей публики были
сформированы ранее отсутствовавшие инслтггуты. Возникают клубные
партии, из которых рекрутируются фракции парламента; возникает
политическая ежедневная пресса. И уже Генеральные штаты про-
лагают путь для урегулирования интересов (Verhandlungen)
общественности. С августа издается ежедневная «Journal des
Débattes et des Décrets» («Газета дебатов и декретов») для публикации
парламентских сообщений. По меньшей мере столь же важным,
как фактическая инсгитуционализация политической
общественности, становится ее юридическое нормирование;
революционный процесс одновременно интерпретируется и дефинируется
на языке конституции и права; возможно, именно поэтому на
континенте общественность гражданского общества столь четко
осознала свои функции — все равно, фактические или
возможные. Во Франции в более точной терминологической форме, чем
в тогдашней Англии, очерчивается самосознание. Политические
функции общественности — в форме кодификации,
осуществленной революционной французской конституцией, — скоро
становятся паролем, который распространяется по Европе»
(S. 90—91). Если сравнить эти и подобные, относящиеся к 60-м гг.,
хабермасовские оценки французской революции, ее воздействия
на историю, с теми оценками, которые даны в одной из
московских лекций, то наряду с преемственностью идей можно
обнаружить и некоторое изменение: оно, пожалуй, состоит в более
сдержанном, более критичном отношении к революции.
К своей «общественности» пробивалась, хотя и медленно,
также и Германия. Немцы стали учреждать общества читателей: они
собирались в специальных помещениях, чтобы вместе читать,
обсуждать газеты и журналы, особенно критические. Не случайно
властители раздробленной Германии, немецкие князья, стали
преследовать наиболее популярных публицистов, почувствовав
критическую силу «общественности», формирующейся вокруг
смелого слова (S. 90—94).
Все эти кратко обрисованные процессы фактического
возникновения, институционализации, легитимации «общественности»
(т.е. оправдания ее существования, в том числе и благодаря
законам) Ю. Хабермас ставит в связь с более широкой панорамой раз-
520
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
вития гражданского общества: с обновлением государства,
государственной власти, а также с развертыванием «либерализиро-
ванного рынка».
Так в Европе, в том числе и в России, совершается очень
важный процесс: через все сферы культурно-творческой жизни, через
«узлы» коммуникаций людей (во многом через литературу, театр,
философию) проходит социально-критическое, политическое
измерение, достигающее сферы политики в собственном смысле.
«Измерение», это я сознаю, сухое, академическое слово. На деле
речь идет о своего рода кровеносной и нервной системе мира
человеческой жизни (гуссерлевское Lebenswelt, «жизненный мир»,
стало почти общеупотребительным в подобном контексте),
которая проходит через культуру как через свои мозг и сердце, а затем
вплетается и в государственно-политическую сферу. И конечно,
речь идет не только о критической, передовой, как мы привыкли
говорить, культуре и философии. Равным образом
коммуникативное измерение, идущее через апологетическую
консервативную культуру, тоже добирается до политики. Профессиональные
политики порой бывают достаточно прозорливы, чтобы
приближать к себе, приручать и использовать сколько-нибудь
влиятельную творческую интеллигенцию (S. 70—71).
Впрочем, при всей существенности различий между
критиками и апологетами Хабермас обнаруживает в их объективном
положении слоя «литературной общественности» (в широком
значении этого слова) следующую особенность: они зависимы от той
почвы, которая породила в их жизнедеятельности относительно
новую функцию политического опосредования, — зависимы
именно от частной сферы. Формулируя запросы и заботы
«частных людей», интеллигенция, владеющая культурой слова,
полагает, что выражает интересы частного лица как человека, т. е.
выражает общегуманистические интересы. Но, согласно Хабермасу,
осознанно или неосознанно происходит следующее:
«Развивающаяся общественность гражданского общества основывается на
ложном отождествлении в частных людях, которые и образуют
публику, их ролей собственников и просто людей» (S. 74).
В этом пункте очень важно снова возвратиться вслед за Хабер-
масом к сфере частного.
Отождествление просто человека и частного собственника
Ю. Хабермас считает иллюзией. Но у последней, по его мнению,
есть немалые основания: «общественность», создавая новые
структуры гражданского общества, противостоящие
посягательствам государства, деспотизма, абсолютизма, авторитаризма на
права индивида, вполне естественно выдвигает на первый план
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 521
такие общезначимые, гуманистические мотивы, интересы,
ценности, как немеркантильное, высоко духовное, нравственное
поведение, как самосознание, самоопределение, свобода и
достоинство отдельной личности. В философии они становятся своею рода
индикаторами и элементами человеческой сущности. Вместе с
тем зависимость «общественности», ее идеологии от интереса
частного собственника проглядывает, как полагает Хабермас, в том,
что даже в фундаментальных социально-философских формулах,
определяющих сущность, права человека, — например, у Локка
— сразу, как бы «на одном дыхании» объединяются свобода
человека, неприкосновенность его личности и сохранность его
собственности, причем все это подводится именно под главный общий
символ «собственности» (Eigentum). Наблюдение совершенно
верное. Согласно Локку и другим мыслителям Нового времени,
отдельному частному человеку должны принадлежать в качестве
его неотчуждаемой собственности и жизнь, и свободное
волеизъявление, и мысли, устремления, и владение, имущество (estate).
Но вот как оценить этот теоретический подход,
объединяющий свободу и частную собственность? Вопрос весьма непростой.
Быть может, он один из самых коренных в социальной
философии наших дней — и от него тянутся нити к животрепещущим
жизненным проблемам. Чрезвычайно важен он и для
современного социально-политического опыта нашей страны: полагаю,
что затормаживание необходимейших практических решений и
мер по разрешению создавшегося кризиса обусловлено
живучестью и влиянием ряда идей социальной мысли, глубоко
проникших и в отечественное общественное сознание.
В XIX—XX вв. возникла и укрепилась — под несомненным и
решающим влиянием Маркса — традиция только критического
отношения ко всем формам частного интереса и частной
собственности. А также традиция, основанная на том, что за
общечеловеческой, гуманистической формой принципов и ценностей
считалось необходимым обязательно вскрывать частный интерес,
интерес собственника (социология познания в этой своей части
выступала как социологическое распознание или даже
«разоблачение» классово-группового частного интереса). Осмысляемые
Хабермасом процессы формирования «общественности
гражданского (bürgerliche от: Bürger — гражданин) общества» по времени
совпадают с рождением капиталистической формации. Хабермас
приходит к выводу, что и в структурах «общественности» Нового
времени, как во многих других социальных, духовных,
нравственных структурах эпохи, нередко воплощается — то более четко,
то более завуалировано — именно буржуазный частнособствен-
522
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
нический интерес, И термин «bürgerlich» у Хабермаса — опять-
таки как у Маркса и рада других авторов — употребляется то в
смысле «гражданский», то в смысле «буржуазный»,
«капиталистический» (причем о переходе от одного оттенка значения к
другому подчас приходится догадываться исходя из контекста), то
сразу в обоих смыслах.
Вот в этом пункте у меня есть серьезные сомнения
относительно некоторых толкований сложившейся марксистской традиции,
и в частности той трактовки, которую предлагает Ю. Хабермас.
Хочу быть понятой правильно: я отнюдь не отрицаю
существования буржуазного частнособственнического интереса и его
идейных, в том числе философских, выражений, реминисценций,
которые действительно воплощаются не только и даже не столько в
откровенно апологетической идеологии, сколько в довольно
общих, иногда предельно общих рассуждениях о правах и свободах
человека. Правда, в нашей стране, где разоблачение капитализма
и буржуазной идеологии по большей части было делом людей,
далеких от потребностей грамотного и объективного анализа,
возникло недоверие даже и к попыткам аргументированно и
доказательно раскрывать связь тех или иных политических
структур, духовных продуктов, процессов общественного сознания
именно с буржуазным частнособственническим интересом. А как
раз такой грамотный объективный анализ буржуазной
обусловленности идей и действий не перестает осуществлять Хабермас,
причем независимо от меняющейся социально-политической
конъюнктуры: он делал это и в первой половине
высококонъюнктурных для капитализма 60-х гг., и во второй их половине, и в
начале 70-х, когда развернулись антикапиталистические движения
протеста; продолжал он свое дело и после, в 70-х и 80-х гг., когда
капитализм вновь существенно укрепил и расширил свои
позиции.
Тем, кто тяготеет к подобному анализу, есть чему поучиться у
Хабермаса. Он превосходно знает и замечательно использует
историческую фактуру; что же касается современности, то связь
именно между буржуазным интересом, вообще частным
интересом и политическими, духовными, нравственными процессами
знакома ему не понаслышке, а изнутри. Он живет в ФРГ, одном из
самых динамичных государств Запада, и входит во все
существенные подробности его социально-политического развития. Ю.
Хабермаса отличают политическая интуиция, бескомпромиссные
демократические устремления. Он к тому же опирается на
огромный фактический материал социального наблюдения. Вот
почему проникновение буржуазного частнособственнического
Ю. Хабермас Основные понятия его концепции 523
интереса в те или иные институты, структуры, движения, идеи,
социальные проекты, концепции, настроения, формы культуры
философ обнаруживает с редкими проницательностью и
настойчивостью.
Вместе с тем Хабермас уделяет гораздо меньше внимания
конструктивным, продуктивным возможностям сферы частного:
частной жизни, частного интереса и частной собственности. Здесь,
как мне кажется, возможен диалог с Хабермасом и с
представляемой им традицией социально-философской мысли. Однако,
чтобы вести его серьезно, необходимо и уточнение перечисленных
понятий, и развертывание сложной аргументации, и — что
особенно относится к нашим отечественным условиям —
преодоление стойких стереотипов, еще существующих у нас идейных
запретов. Вот почему, лишь обозначая тему этого возможного и
чрезвычайно актуального диалога, но не располагая
возможностью вести его в рамках данной статьи, я надеюсь на то, что такая
возможность представится в ближайшем будущем.
Актуальное значение понятия и концепции
«общественности» (Öffentlichkeit)
Для реального сдерживания негативных влияний частных
интересов и авторитаристско-тоталитарных поползновений
государственной власти были созданы в разных странах мира циви-
лизационные структуры демократии. И в их числе структуры
«гражданского общества», т.е. негосударственных общественных
объединений, среди которых, как уже говорилось, Хабермас
выделяет неформальные, неофициальные, диалектически
подвижные структуры «общественности».
Освоить теоретически и практически проблему гражданского
общества, в частности «общественности», нам особенно важно
сейчас, в переживаемый период. Среди тяжелейшего наследия
тоталитаризма — почти полное разрушение начавших возникать
в России структур гражданского общества и недопущение новых
структур «общественности». Ныне и то и другое спонтанно
формируются у нас на глазах, хотя, конечно, процесс этот не может не
быть чрезвычайно сложным, болезненным.
Спонтанность, по Хабермасу, есть принцип возникновения и
жизнедеятельности «общественности»; потому он в московских
лекциях сделал такой акцент на свободном формировании,
текучести, динамике возникновения и изменения мнений, суждений,
воли «общественности». Для отечественной ситуации это тоже
моменты чрезвычайно важные, актуальные: быть может, нашей
524
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
стране и предстоит стать своего рода лабораторией нового
формирования и «изменения структур общественности». Почему я и
думаю, что было бы очень важно быстрее перевести и издать
работы Хабермаса на рассматриваемую здесь тему. И еще, пожалуй,
интересоваться его суждениями о происходящих в нашей стране
процессах независимо от того, будут ли они нам приятны или
нет.
В произведениях Хабермаса постоянно имеются в виду и
анализируются основные опасности, угрожающие спонтанному
процессу формирования самоопределения свободной
«общественности». Это, во-первых, проникновение в ее структуры и процессы
эгоистических, деструктивных индивидуальных и групповых
интересов. И разве не видим мы сегодня у нас примеры
использования рождающихся структур «общественности» индивидами или
группами, стремящимися к личной власти? Во-вторых,
«общественности» угрожают власть бюрократического государства и
стремление его тут же прибрать к рукам, использовать себе на
благо прежде спонтанные процессы. В-третьих, внутреннюю
опасность представляет и сама спонтанность: она грозит
выродиться в рыхлость, амбивалентность соответствующих
социальных сил и движений. Поэтому Хабермас и ведет речь о
способности «общественности» (Öffentlichkeit) создавать свои автономные
объединения, формирования (Öffentlichkeiten), действующие
организованно, сплоченно, цивилизованно, политически грамотно.
Но на этом пути «организации спонтанного» возникает еще одна
опасность. Это, в-четвертых, угроза окостенения, бюрократизиро-
вания прежде текучего, подвижного процесса: опасность того же
субъективного индивидуального и группового интереса,
пробивающегося и через спонтанные, свободные структуры
«общественности».
Есть и более общая, так сказать, общеисторическая проблема,
которую ставит Хабермас. В начале 60-х гт. он полагал, что
зароившиеся на заре Нового времени и действующие еще сегодня
«структуры общественности гражданского общества» находятся в
состоянии упадка, распада. Причины? Именно в том, о чем уже
шла речь: государство и общество, по мнению Хабермаса, все
более тенденциозно посягают на якобы свободную частную сферу,
ограничивают, разрушают ее постулируемую
неприкосновенность. Хотя «структуры общественности» формируются в
противовес интервенции государства, бюрократии, всего
официального, последние через многие экономические и политические
каналы находят возможность выхолостить спонтанные, свободные,
Ю. Хабермас Основные понятия его концепции 525
неформальные импульсы «общественности». Такова же, по Ха-
бермасу, тревожная судьба демократии в целом.
Я хорошо помню, как в одной из аспирантских аудиторий, где
я в начале 70-х гг. рассказывала о хабермасовской концепции
«общественности», у какой-то части слушателей возник вопрос: а
не напрасной, не тщетной ли была многовековая борьба
человечества за эти и подобные демократические структуры, если они
столь противоречивы, уязвимы, хрупки? Для самого Хабермаса
тут нет сомнений: при всей противоречивости демократии он не
видит, не знает, не приемлет иного пути, нежели постоянное
совершенствование ее форм. Демократическое чутье и глубокие
познания помогают ему, философу-теоретику, в реальной политике
распознавать псевдодемократические суррогаты и подделки под
«общественность», например подвергать критике любой, в том
числе респектабельный по виду, антидемократический
консерватизм. И вот еще что обязательно должен иметь в виду читатель:
Ю. Хабермас считает постоянную самокритику демократии
самым действенным средством ее развития. Наиболее
демократические в его понимании формы — свободная «общественность» и ее
объединения — нашли именно в концепции Хабермаса 60-х гг.
способствующую их обновлению самокритику.
Добавлю, что в 50—60-е гг. не только в нашей стране, но и на
Западе тематика и проблематика концепции «общественности»,
идея «интеракции» — взаимодействия людей на пути создания
новых форм небюрократической коммуникации — лишь
наиболее проницательными людьми оценивались как перспективные.
Многим казалось, что Хабермас занимается какими-то
экзотическими для социальной теории частностями. Догматический
марксизм выносил свой приговор: в теории Маркса Хабермас
критикует самое главное — теорию стоимости и обнищания, учение о
базисе и надстройке, упрощенное, как он заявляет, представление
о связи производительных сил и производственных отношений,
но зато выдвигает на первый план и стремится развить далее
такие «частности», как учение о превращенных формах сознания,
анализ идеологии — словом, элементы социологии познания,
исследование проблем общения и критику овеществления
социально-коммуникативных связей. А вот сегодня то, что
представлялось частным, периферическим, придвинулось к самому центру
практических устремлений людей и социальной теории: в разных
странах общению, коммуникации, новым формам
«общественности» принадлежит возрастающая роль. Они все более прочно
утверждаются в разных странах в противовес именно
бюрократическим официальным институтам, в борьбе с ними.
526
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Опасения Хабермаса относительно бюрократизации
традиционных для Нового времени форм «общественности», конечно,
были небезосновательными. Но его предсказание: необходимыми
станут постоянные обновления структур «общественности» —
сбывается. Впрочем, то было предсказание-призыв. И немалое
число демократически настроенных людей в разных странах —
особенно, конечно, студенты, представители интеллигенции —
призыв Хабермаса услышали и ему последовали. Я вовсе не
утверждаю, что широкие неформальные движения 70—80-х гг.
образовывались потому, что их вызывали к жизни Хабермас и
близкие к нему мыслители. Я утверждаю лишь то, что для философов-
теоретиков, пишущих сложные специальные труды и читающих
весьма трудные для восприятия профессиональные лекции (что
видно и по московским лекциям Хабермаса), они сумели оказать
на совершенствование мирового демократического процесса
завидно глубокое влияние.
Теория коммуникативного действия (80-е гг.)
Опубликованная в начале 80-х гг. двухтомная работа Ю.
Хабермаса «Теория коммуникативного действия» является своего
рода продолжением, а еще больше — новым развитием
концепции «общественности». Формировалась эта обновленная
концепция во второй половине 60-х—70-х гг., впитав в себя идеи,
рожденные осмыслением поворотов этого интереснейшего и
труднейшего для понимания исторического периода. Актуальность
книги в 80-е гг. только возросла. Она еще ждет у нас своей
объективной, вдумчивой интерпретации. Вряд ли возможно при
первоначальных целостных характеристиках столь крупного
произведения избежать некоторой описательности.
Какие же цели философ стремился реализовать, представляя
концепцию коммуникативного действия?
Прежде всего — и здесь своего рода парадокс — на
злободневные социальные проблемы Хабермас ответил еще более
сложными, изощренными, я бы сказала, еще более специальными, чем
прежде, теоретическими комплексными разработками. Дальше я
попробую раскрыть несколько конкретнее специфику
проблемного и методологического синтеза данной книги, но для начала,
забегая вперед, отмечу: речь идет о теории, которая объединяет
новое понимание деятельности, рациональности, социально-
исторической природы (здесь: коммуникативности) деятельности
и познания. (Осведомленный читатель легко заметит, что в центр
своего исследования Хабермас выдвинул те же проблемы,
которые, с одной стороны, разрабатывались в лучших работах наших
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 527
отечественных философов, психологов, а с другой — оказались
заболтанными, затасканными и отчасти дискредитированными
из-за огромной массы низкокачественной псевдофилософской
продукции.) С помощью нового теоретического синтеза, идущих
от немецкой классики и Маркса идей деятельности,
рациональности, социальной коммуникативности Хабермас хочет заложить
фундамент обновленной критической теории, которая смогла бы
еще глубже и основательнее влиять на развитие современного
общества, полное тревог и смертельных опасностей. Для развития
новой концепции коммуникативного действия и разума
Хабермас, как и раньше, мобилизует все сколько-нибудь ценное, что
имеется в западном духовном наследии.
К обновленному пониманию разума
Очень важно уяснить (в том числе и для понимания
московских лекций, выбора тем для них и их содержания) причины и
истоки постоянного, но значительно усилившегося в 80-х гг.
интереса Ю. Хабермаса к проблеме разума, причем и в ее
социально-философском, и особенно социологическом толковании.
Хабермас в обсуждаемой двухтомной книге претендует на
развертывание широкомасштабной теории общества и строит теорию
коммуникативного действия как ее начало, основание.
Одновременно эта теория является своего рода современным
критическим вариантом «социологии разума и рационализации»,
что для Хабермаса определено глубоко продуманными, я бы
сказала, выстраданными идеями и устремлениями.
Не являются ли они «фундаменталистскими»,
оградительными в отношении традиционного рационализма (включающего —
в восприятии западного читателя — и концепции философии и
социологии XX в., которые в нашей литературе привыкли
зачислять по ведомству «иррационализма»)? Подобный упрек
Хабермас предвидит и открыто говорит о своем объективном, но и
глубоко критическом отношении к традициям рационализма. «С
конца 60-х гг. западные общества подошли к такому состоянию,
при котором наследие западного рационализма уже не имело
бесспорного значения. Стабилизация внутренних отношений,
которая была достигнута на основе компромиссов, свойственных
«социальному государству»4 (в особенности впечатляют они,
4 Термин «der Sozialstaat» (он, кстати, часто встречается и в московских
лекциях), который приходится переводить не слишком удачным
словосочетанием «социальное государство», означает у Хабермаса и других
528
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
возможно, в ФРГ), была достигнута ценой некоторых
социологических и культурных издержек; к тому же никогда не исчезавшая
лабильность в отношениях между сверхдержавами становилась
все более явственной для сознания. При теоретической обработке
этих феноменов речь заходит о самой субстанции западных
традиций и интерпретаций» (I. S. 9—10). И в первую очередь,
конечно, о судьбе таких субстанциональных идей, как идеи разума,
рационализма.
Хабермаса в его работе больше всего интересуют проблемы
возможного «воплощения» разума (или, напротив, анти-разума) в
деятельности людей, в их связях, взаимодействиях и объективных
жизненных формах. Но при всем интересе Хабермаса к кантов-
ской, гегелевской или гуссерлевской традициям речь у него идет
отнюдь не об идеалистическом постулировании разумности
истории, действия, сознания, «жизненного мира», а о достаточно
определенном социологическом анализе, который позволяет
раскрыть, как именно в «структурно-дифференцированном
жизненном мире выражается потенциал разума...» (I. S. 10). Итак,
рационалистические традиции используются, но они критически
переосмысливаются.
В первой из московских лекций Хабермас, например, вполне
позитивно использует понятие «практический разум». Но это
понятие во многом обновляется, ибо вычленяются и высвечиваются
различные ипостаси деятельности, взаимодействий людей, норм
и принципов (лекция является примером дифференцированного
анализа, стоящего на границе эпистемологии, этики и
социологии познания, социологии разума, но это, несомненно, лишь
фрагмент, который надо воспринимать в целостном социально-
философском и социологическом контексте хабермасовской тео-
западных авторов тип современного государства (например, ФРГ,
Англия, Австрия, Швеция, Канада), отличающегося следующими
особенностями: укреплением и расширением правовых оснований деятельности,
проведением в жизнь социальных программ, а вследствие этого
повышением уровня жизни, смягчением классовых конфликтов (Habermas ].
Theorie des Kommunikativen Handels. Frankfurt a. Main, Bd. I. S. 512. Далее при
цитировании указываются том и страница) Вместе с тем «социальное
государство» в капиталистических странах не утрачивает, согласно Хабер-
масу, своей классовой природы. «Более мирное развертывание в
социальном государстве (die sozialstaatliche Pazifizierung) классовых
конфликтов имеет место при условии продолжающегося процесса аккумуляции,
капиталистическую природу стимулирующих механизмов которого
вмешательство такого государства хотя и замаскировывает, но ни в коей
мере не изменяет» (I. S. 512).
Ю. Хабермас Основные понятия его концепции 529
рии). Практический разум, как и разум в целом, — давние
философские темы и понятия, что Хабермас признает: «Основная
философская тема — это разум. С самых первых шагов философия
предпринимает усилия понять мир в целом, объяснить единство
в многообразии явлений с помощью принципов, которые должны
быть найдены в разуме... Когда я так говорю, то пользуюсь языком
философии Нового времени» (I. S. 15). Однако далее он
продолжает: «Но философское предание, поскольку оно внушает мысль
о возможности философской картины мира, поставлено под
сомнение. Философия сегодня больше не может относить себя к
целостности мира, природы, истории, общества в смысле некоего
тотализирующего знания. Теоретические суррогаты картины
мира развенчиваются не только фактическим прогрессом
эмпирических наук, но еще более рефлексивным сознанием,
сопровождающим этот прогресс...» (I. S. 15). Хабермас имеет в виду не
только традиционную философию. Анализируя новейшие
направления философской мысли, он ставит общий диагноз: «Философия
в ее постметафизической, постгегелевской стадии все же
устремляется в пункт конвергенции с теорией рациональности» (I. S. 16),
ибо она интересуется «условиями рациональности познания»
(Ibid.) — все равно, идет ли речь о логике науки, теории языка и
значения, этике, теории действия, эстетике и т.д. Одновременно
философия и в ее классически метафизических и в
постметафизических современных вариантах теряет иллюзию
самодостаточности, самозавершенности и тем более способности завершать,
увенчивать собой здание науки.
Но Хабермас отнюдь не хочет склонить читателей к выводу о
ненужности философии, ее оторванности от науки или о том, что
в наше время она сугубо рационалистична. Напротив, первую
свою задачу он видит в том, чтобы проложить путь «новой
констелляции», новой форме взаимодействия науки и философии.
Вторая задача, которую ставит перед собой Хабермас, связана с
тем, что, по его словам, «в последние десятилетия радикальная
критика разума стала почти что модой» (Habermas ]. Der
philosophische Diskurs der Moderne. S. 352). Хабермас же стремится
противостоять наступлению на разум и науку — и особенно его
самым изощренным формам (например, выросшим на
французской почве и разобранным в процитированной только что работе
«Философский дискурс модерна»). Он твердо держится тезиса о
необходимости взаимодействия обновленной философии разума
с наукой.
«Новая констелляция» философии и науки интересует Хабер-
маса со стороны социально-философского и социологического
530 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
синтеза, предполагающего, однако, неординарные,
многоплановые частные междисциплинарные подсинтезы. Например, при
предварительном определении понятия рациональности в книге
«Теория коммуникативного действия» своего рода трамплином
для разбега мысли становится анализ многообразных учений,
объединяемых расширенно понятым термином «теория
аргументации». Для определения понятия разума одним из
фундаментальных моментов действительно является аргументированность,
обоснованность рассуждения. И тут, пожалуй, ничто более или
менее интересное относительно аргументации в философии,
второй половины нашего столетия — в логике, философии языка,
логике науки, концепции ценностей — не ускользнуло от
внимания Хабермаса. Что самое главное, фрагменты чужих мнений,
суждений как бы складываются в некоторое целое, ибо Хабермасу
удается экстрагировать из множества книг, статей позитивно
важное или, наоборот, заслуживающее дискуссии содержание. Но
весь этот специальный экскурс для общих целей работы имеет
лишь подготовительное значение. В разбираемой на первых
этапах анализа литературе «рациональность», «разум»
осмысливаются в плоскости сознания, познания, знания индивидуального
субъекта. А Хабермаса, не забудем, интересует коммуникативное
действие и соответственно «разум общения», взаимодействия
людей. Начинается синтезирование философского
(гносеологического, логического) подхода с социально-философским, а их
обоих — с социологическим.
По моему мнению, это увлекательное путешествие мысли
Хабермаса через домены максимально дифференцированных
знаний о разуме, рациональности, через их взаимные переливы,
переходы имеет — несмотря на высказанный мыслителем скепсис в
отношении рационалистического «философского предания» —
самое прямое отношение как раз к творению нового типа
философии рационализма, которому именно «социологизация», с
одной стороны, а с другой — постоянная верность Хабермаса
философским понятиям, философскому ракурсу придают весьма
оригинальный облик и обещают, по-видимому, интересные
перспективы. Особенно в период, когда на философию, очевидно,
возрастает практический спрос (например, у нас на ту же
философию демократизации, нового мышления, цивилизационного
развития, рационализации и модернизации общественной жизни) и
когда философия, говорит ли она на прекрасном или
тарабарском языке, увы, быстро ответить на эту потребность оказывается
почти не способной.
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 531
Пожалуй, главное в работах Хабермаса — его стремление
выявить потенции человеческого разума, проявляющиеся в
рационализации и модернизации действий индивидов и общественных
групп, в формировании и рациональном совершенствовании
того, ради чего, собственно, и создано человеческое общество:
взаимодействия (интеракции), общения, т. е. коммуникации людей. А
сфера коммуникации, общения людей — семья ли это, группы,
гражданское общество, объединения «общественности» — вовсе
не изначально «рациональна». Напротив, в ней гнездятся (и
тщательно обсуждаются Хабермасом) многочисленные возможности
отклонения от рационального, разгула иррационально-злобных
страстей, эмоций и т. д. В нее могут канализироваться,
накапливаться, находить сложноопосредованное, превратное, в том числе
и иррациональное, выражение настроения недовольства,
протеста, злобы, раздражения, которые рождены совсем другими
(некоммуникационными) явлениями и причинами. Например,
недовольство бюрократией, последствиями власти тоталитарного
государства, протест против неэффективности дефицитной
экономики могут иррационально канализироваться и в без того
высокочувствительную к внутренним напряжениям сферу
межнациональных коммуникаций и там способствовать рождению
глубоких, в том числе кровавых, конфликтов.
Итак, один проблемный срез в книге Хабермаса —
теоретическое раскрытие возможностей практического использования
внутренних потенций рационализации в социальном развитии,
во взаимодействии людей. Эта сторона дела мне представляется
наиважнейшей. Вопреки мнению, согласно которому
современное общество страдает от чрезмерного якобы рационализма, от
рассудочности, в частности от засилья технократического,
управленческого и т. д. разума, — вопреки этому я полагаю, что
общество наших дней скорее захлестнуто невыверенными научным
разумом проектами, решениями, действиями, что оно скорее
страдает от технократических безрассудства и глупости, от
противления элементарному здравому смыслу, что им очень часто
управляют отнюдь не разум и рассудок, а невежество, раскалившиеся
эмоции, несдерживаемые страсти и т. д. Вспомните хотя бы о
локальных войнах, непрерывно ведущихся после страшной
мировой бойни — о Вьетнаме и Афганистане, о Ливане и других
кровавых конфликтах. Где уж тут сетовать ни «безраздельную власть
разума»? Вот почему я горячо поддерживаю Хабермаса и других
философов, полагающих, что в конце XX в. опять встает отнюдь
не решенный в прошлом вопрос о рационализации
жизнедеятельности человечества, об изыскании и мобилизации новых ра-
532
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
циональных возможностей для сдерживания вражды и
конфликтов, которые особенно опасны сегодня, когда человечество
неразумно, нерасчетливо, во многом иррационально поставило себя
на грань гибели.
И вторая сторона дела, подробно исследованная в книге Ха-
бермаса, — сама коммуникативная деятельность — не менее
существенна.
Ступенчатый анализ рационально-
коммуникативных аспектов человеческого действия
В отличие от достаточно узкого толкования деятельности,
действия, в частности «коммуникативного действия», в ряде
философских, социологических, логико-лингвистических учений
анализируемая книга очерчивает очень широкую и, как
подчеркивает сам Хабермас, все еще открытую исследовательскую
перспективу.
К сожалению, я не могу входить в подробности того, как
Ю. Хабермас, совершая восхождение по искусно выстроенной
лестнице историко-теоретического, а по сути, и
теоретико-систематического анализа развивает одно за другим существенные
определения коммуникативного действия. На этом пути каждая из
разбираемых теорий становится своего рода подпоркой для
богато разветвляемой системы характеристик главного предмета —
коммуникативного действия, его внутренней разумности.
Я попытаюсь далее очень кратко рассмотреть основные углы
зрения, под которыми анализируется материал, и главные
характеристики, которые в этом анализе получает коммуникативное
действие.
Подзаголовок I тома: «Рациональность
действия и общественное рационализирование»
1. Анализ действия осуществляется, с одной стороны, в его
реалистически-рациональном, познавательном (когнитивном)
отношении к миру, а с другой — при предположении, что
«сообщество ориентируется на мир как существенно постоянный,
который познан и познаваем как общий нам с другими...» (это
цитата из работы М. Поллнера, последователя феноменолога А. Шют-
ца). Мир действия, общий нам с другими людьми, Хабермас,
следуя феноменологической традиции, называет «жизненным
миром» (Lebenswelt). Так, реализм, рациональность познания — мир
мы постигаем, познаем, осваиваем в его объективности — с самого
начала объединяются в анализе Хабермаса с
коммуникативностью действия: это мир общий для нас, мир, осваиваемый «интер-
Ю. Хабермас Основные понятия его концепции 533
субъективно», т. е. во взаимодействии людей. (Как раз в этой связи
анализируется упомянутая ранее проблема аргументации,
которая опять-таки демонстрирует и разумность действия, и его
коммуникативность: мы строим аргументацию в расчете на общение
или в самом общении.) (Раздел I, §1).
2. В принципе концепция требует глубже прояснить принятое
с самого начала понятие «жизненный мир», но Хабермас
откладывает это до более поздней ступени анализа. А поначалу
разбирается вопрос о становлении тех образов, картин, пониманий
мира, которые вычленяются из мифологического подхода к миру
как первое рациональное миропонимание. Опираясь на
богатейшую литературу (К. Леви-Брюль, Э. Кассирер, Е. Эванс-При-
чард, К. Леви-Стросс, Б. Малиновский и др.), Хабермас
показывает, с каким трудом формируются и усваиваются затем уже вполне
привычные понятия «внешнего мира», «внутреннего мира». «В
сегодняшнем процессе понимания мы исходим из тех
формальных предположений общности (Gemeinsamkeitsunterstellungen),
которые необходимы, чтобы мы смогли установить отношение к
чему-либо, находящемуся в одном объективном, для всякого
наблюдателя идентичном мире, соответственно к чему-либо в
нашем разделенном и интерсубъективном социальном мире» (I.
S. 82). Обсуждаются многообразные аспекты рационально
формирующейся картины мира, представления о мире, вплетенного
в обычную человеческую жизнь. Исследуются его альтернативы
(открытость — замкнутость; односторонность —
многосторонность; эгоцентризм — мироцентризм познания и т. д.) (раздел I,
§2).
3. На основе разбора чрезвычайно разнопланового материала
— концепции «третьего мира» К. Поппера и его последователей
(особенно И. Явви), а также социологических концепций
действующего человека (Aktor), интеракции, принятия решения, так
называемой «социологии коммуникации», «аналитической
теории действия» (А. Данто и др.) — подробнейшим образом
исследуются различные необходимые элементы действия: движения
тела, речь и т.д. Исследуются они в их коммуникативном
значении.
При изучении действия с точки зрения отношения
действующего человека (Aktor) к миру имеются в виду три аспекта:
— телеологическое (стратегическое) действие: действующий
человек — объективный мир;
— норморегулирующее действие: действующий человек —
социальный и объективный мир;
534 H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
— драматургическое действие: действующий человек —
субъективный и объективный мир (включающий и социальные
объекты).
Но ни один из аспектов и элементов действия сам по себе еще
не дает определения действия. В чем же тогда, согласно Хаберма-
су, основополагающее отличие человеческого действия?
«Действием, — пишет он, — я называю только такие символические вы-
хождения вовне (Äußerungen), с помощью которых действующее
лицо (Aktor), как, например, в исследованных прежде
телеологическом, норморегулирующем и драматургическом действии,
обретает отношение по крайней мере к одному миру (но постоянно
также к объективному миру). От действия отличаются движения
тела и операции, которые совершаются вместе с действием и
являются только вторичными...» (I. S. 144). Итак, главное в человеческом
действии (в чем его отличие просто от движений, операций тела,
от произнесения слов и т. д.) — в установлении отношения
человека к миру, притом к объективному миру, и одновременно
установлении различий между самим действием и миром
(объективным миром природы, социальным, субъективным миром —
S. 149) (раздел I, §3).
4. Понимание, интерпретация, рассматриваемые и в
когнитивном и коммуникативном аспектах, также проливают свет на
существенные стороны действия. Концепции «понимания»
(историзм Дильтея, неокантианство, феноменология Гуссерля, Шютца
и их последователей, постпозитивистская методология науки,
социология повседневного опыта, герменевтика Г.-Г. Гадамера)
резюмируются с точки зрения их вклада в исследование
человеческого действия как направленного на коллективное
формирование, коммуникативное истолкование, понимание смыслов, что
делает неизбежным последующее рациональное их истолкование
(раздел I, § 4).
5. В центре I тома — исследование теории рационализации
Макса Вебера. Вместе с этим сама теория Хабермаса как бы
перемещается с плацдарма более общей социологии деятельности как
социологии познания, разума, коммуникации на более
конкретную социологическую почву. Под, казалось бы, чисто
философским заглавием — «Западный рационализм» — осуществляется
анализ «модернизации общества» как дифференциации
капиталистического хозяйства и государства эпохи модерн, «культурной
рационализации» — как развития современных наук и техники,
автономного искусства, этики принципов и норм, укорененной в
религии. Все это и расценивается с точки зрения «форм
проявления западного рационализма», возникших уже на заре Нового
Ю. Хабермас Основные понятия его концепции 535
времени. Разбираются понятия «практическая рациональность»
(постановка целей, применение средств, ценностная ориентация).
Рациональность действия исследуется на трех уровнях —
инструментальной рациональности, рациональности выбора и
нормативной рациональности и т.д. (В этот более широкий контекст
и может быть включена первая из московских лекций Хабермаса.)
Особое значение придается веберовскому анализу
«расколдовывания» религиозно-метафизической картины мира и
возникновения структур познания эпохи модерн. Тут снова возникает
проблематика картины мира, но уже в ее
социально-исторической типике, соответствующей Новому времени. Актуально, по-
современному толкуя проблемы протестантской этики и
рационализации сферы права, Хабермас плодотворно использует
социальную философию М. Вебера для диагноза современности
(раздел П),
6. К более общим проблемам рациональности
коммуникативного действия Хабермас считает нужным возвратиться снова,
более конкретно высветив именно языковые его аспекты.
Используется логико-семантическая литература, поскольку в ней
благодаря проблематике значения, смысла подготавливается и
проводится анализ коммуникативного действия (Витгенштейн, Сгроссон,
Остин др.). В этом разделе, как и в книге вообще, много
чрезвычайно полезных обобщающих схем.
Заключительный, IV раздел I тома, который называется «От
Лукача к Адорно: рационализация как овеществление», образует,
с одной стороны, критическое завершение ранее осмысленного
материала. Хабермас пишет: «Критика основ веберовской теории
действия, правда, может подключиться к той линии
аргументации, которая, как было показано, заложена в собственных текстах
Вебера. Но эта критика привела меня к альтернативе, которая
требует сменить парадигму: перейти от телеологического к
коммуникативному действию непосредственно. «Смысл» как
основное понятие коммуникативной теории должен быть оставлен
неокантианцам, выросшим на традиции философии сознания. То
же относится к понятию общественной рационализации, которое
могло быть набросано исходя из понятийной перспективы
анализа действия как ориентированного на понимание и которое
предполагало жизненный мир в качестве общего для людей
(gemeinsame), но как бы расположенного на заднем плане и
непроблематичного значения» (I. S. 455). Критическое преодоление
таких подходов (из анализа которых, однако, получены, как мы
видели, важнейшие элементы, аспекты осмысления действия) —
задача весьма трудная. Она задается опять-таки как восхождение
536
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
по ступеням, на каждой из которых, в свою очередь, решаются
особые задачи.
Теория Макса Вебера прежде всего анализируется в свете
традиций «западного марксизма» (здесь: от Лукача к Адорно).
Главной тут оказывается критика инструментального разума через
дальнейший анализ таких четко намеченных уже Марксом
элементов, как утрата свободы, овеществление, фетишизация,
превращенные формы сознания и т. д. (IV раздел I тома).
С другой стороны, поскольку критика обнаруживает, что
проблемы коммуникативного действия не могут быть
удовлетворительно разрешены, когда анализ проводится на почве
«философии сознания», пусть и социологизированной (превращенной в
социологию познания и сознания), постольку происходит, но уже
во II томе книги, всестороннее использование и критическое
испытание социологических концепции Дж. Мида и Э. Дюркгейма.
Подзаголовок II тома:
«Критика функционального разума».
8. Концепция Дж. Мида интересует Хабермаса именно потому,
что она является одной из немногих попыток прямо обосновать
общественные науки на специально разработанной теории
коммуникативного действия. Вместе с тем мидовская теория
символического поведения анализируется критически, хотя на этом
пути тщательно исследуются такие выделенные Мидом аспекты
действия, как реакция на символы, применение символов, их
интерпретация, установки, правила действия, включая действие-
взаимодействие (интеракция). Нельзя забывать, что эти элементы,
исследуемые теорией коммуникативного действия, в свою
очередь, встраиваются Дж. Мидом в более общую рамку анализа, где
противостоят друг другу и взаимодействуют друг с другом «Я» и
общество (в этой связи анализируются восприятие, структура
опыта, нормы и ролевое поведение, игра, групповое поведение,
значение авторитетов, в том числе священных и т. д.).
В концепции же Э. Дюркгейма выделяются такие проблемы,
как отыскание сакральных корней морального авторитета
общественных норм, понятия «коллективного сознания» и
«коллективного представления». Анализ этого материала снова
достаточно естественно дополняется языково-символическим разбором
тех форм, через которые происходят выражение и оформление
сознания, в том числе «воплощение в языке» (Versprachlichung)
сакрального. Анализируя, сначала вместе с Мидом и Дюркгей-
мом, эти и многие другие аспекты коммуникативного действия,
коммуникативного сообщества, Хабермас затем показывает, что
Ю. X а берм ас. Основные понятия его концепции 537
оба социолога пользовались идеальной моделью «неотчужденной
коммуникации» (П. S. 147—148). Это было по-своему необходимой
предпосылкой, ибо тогда лучше высвечивались такие важные
структуры действия, как его индивидуализация
(самоидентификация, самоопределение и самореализация действующего
человека и т. д.). Но отсюда же вытекает, как показывает Хабермас,
необходимость критики утопизма, формализма, идеализма теории
общества и концепции коммуникативного действия Дж. Мида (т.
U,4.V).
9. В отличие от Дж. Мида, который, занимаясь проблемами
деятельности действующего человека, меньше внимания уделяет
самому объективному социальному миру, Э. Дюркгейм как
социолог обладает тем преимуществом, что он анализирует не
только феномены, категории общественного, коллективного
сознания и индивидуального действия, но и привлекает к
рассмотрению социальное в его развитии и дифференцированное
(концепция разделения труда и форм солидарности). «Если не ответ,
то по крайней мере постановка вопроса у Дюркгейма
поучительна. Она привлекает внимание к эмпирической связи между
ступенями дифференциации системы и формами социальной
интеграции. А анализ связей возможен только тогда, когда мы
различаем механизмы координирования действий (которые
сообразуют друг с другом ориентации действий участников) и механизмы,
которые стабилизируют непреднамеренные (не-интендирован-
ные) связи действия через функциональное увязывание
последствий действия» III. S. 179). Через эти и подобные разработки
Хабермас выходит к теме системности действий, их интегрирован-
ности. Отсюда путь к одновременному «концепированию» и
системы, и жизненного мира, что и есть теоретическая предпосылка
практически, политически важного сохранения богатства
спонтанных связей реального «жизненного мира» перед лицом мощи
системных факторов.
10. Возврат к проблеме «жизненного мира» (с новым
использованием материала феноменологической философии и
социологии: Гуссерль, Ландгребе, Шютц, Гурвич, Бергер и Лакман, Луман
и др. — и одной из лучших в литературе позитивно-критической
расшифровкой структур «жизненного мира») служит, во-первых,
дальнейшему прояснению коммуникативного действия. Во-
вторых, речь идет об историческом становлении
противоположности систем и «жизненного мира», противоположности, которая
лишь постепенно развилась из недифференцированного
общественного состояния (Ч. VI).
538
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
11. В VII разделе Хабермас разбирает концепцию Т. Парсонса,
которой придается особое значение именно в силу того, что в ней
делается попытка на современном уровне увязать проблемы
системного анализа общества и социологическую теорию
деятельности — две линии, две парадигмы, которые в социальной теории
со времени Маркса, по мнению Хабермаса, или просто
конкурировали друг с другом, или эклектически смешивались. Раздел о
Парсонсе весьма детальный; он напоминает главу в истории
социологии. Но цель Хабермаса — насытить исследование
деятельности новыми аспектами (например, ориентации, которые
направляют деятельность, тщательно изучаются с точки зрения их
культурных детерминант, что приводит к анализу
взаимодействия когнитивных, оценивающих, моральных ценностных
стандартов и ориентиров и т. д.). Далее разбирается переход Т.
Парсонса от примата теории действия к примату теории системы, а
также вклад американского социолога в построение «теории
модерна», т.е. концепции дифференцированного, все
усложняющегося общества, где складывается отчуждение структур
деятельности в «жизненном мире» от структур социальной системы.
Одновременно Хабермас показывает, что Парсонс из-за поворота к
системной теории утратил возможность с помощью теории действия
обосновать разумный масштаб для общественной модернизации,
понимаемой в качестве рационализации (П. S. 422—423).
12. Заключительный, VIII раздел книги назван «От Парсонса
через Вебера к Марксу». Смысл его Хабермас определяет
следующим образом: «Я хотел бы снова осмыслить веберовские
размышления о парадоксальности общественной рационализации
— теперь в свете гипотезы, которую я сначала развил под
заголовком «Наполнение жизненного мира опосредованиями», а
теперь, после критического разбора теории общества Парсонса,
могу представить в более заостренной форме. Это второе освоение
Вебера исходя из духа западного марксизма вдохновлено
(развитым между тем на материале Дюркгейма и Мида) понятием
коммуникативного разума и постольку является критическим и по
отношению к самому марксизму. Как раз ограничение классового
конфликта социальным государством приводит в действие в
индустриально развитых обществах Запада динамику
овеществления коммуникативно структурированных сфер действия,
которые, как и прежде, обусловлены капиталистически, но в
возрастающей степени действуют уже не в специфически классовом
смысле. Критическое преобразование основополагающих
марксистских тезисов открывает возможность взглянуть на сегодня
раскрывшиеся апории общественного модернизирования» (И.
Ю. Хабермас Основные понятия его концепции 539
S. 448). Последний параграф книги — «Задача критической
теории общества» — набрасывает своего рода план использования
теоретических понятий для анализа некоторых насущных
проблем современного общества.
Как можно видеть, «Теория коммуникативного действия»
становится новой стартовой площадкой для дальнейшего развития
мысли Ю. Хабермаса. Московские лекции в какой-то мере
позволяют понять, что именно сегодня, на исходе 80-х гг., волнует и
интересует Хабермаса.
* * *
Несколько слов в заключение.
Остается пожелать, чтобы процесс нашего диалога с
общественностью мира, в частности, диалог с философами, продолжался
и расширялся к взаимной пользе сторон. Тогда возможны и новые
встречи с Хабермасом отечественных читателей и слушателей.
Это будет тем более ценно, что их содержательное знакомство с
философией выдающегося западного мыслителя только началось.
И поскольку Хабермас в расцвете творческих сил (в 1989 г. ему,
кстати, исполнилось шестьдесят лет), поскольку он постоянно
развивает, обогащает свои взгляды и идеи, постольку следующие
встречи с ним обещают быть не менее интересными и
плодотворными.
Post scriptum: дополнение ко второму изданию
Ю. Хабермас читал свои лекции в Москве в апреле 1989 г. А
уже осенью того же года группа, готовившая их к изданию,
представила рукопись в издательство «Наука», стремясь, как было
сказано в моем послесловии, следовать ритму самой западной мысли
и быстро информировать о ней отечественного читателя. Но на
долю небольшой (тогда первой на русском языке) книжечки
Хабермаса из-за развала издательства «Наука» выпали нелегкие
испытания: она канула куда-то в издательскую неразбериху,
«выплыв» к читателю только в начале 1992 г. немногочисленными
экземплярами, с непостижимо как и где «затонувшим» основным
тиражом. Прежде всего этот факт заставил подумать о втором
издании. Однако об издании дополненном: пять-шесть лет —
относительно небольшой срок для какого угодно философа, да только
не для Хабермаса. Этот мыслитель за последние годы снова
сделал заметный рывок в своем интеллектуальном и личностно-
нравственном развитии. К теме Московских лекций — проблемам
540
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
демократии, разума, нравственности — проделанное Хабермасом
стремительное движение вперед имеет самое прямое отношение.
Документируется это новое, насколько я могу судить, в трех
основных материалах.
1. В 1991 г. Михаэль Халлер провел с Ю. Хабермасом серию
интервью, которые позже были опубликованы в книге: Habermas J.
Vergangenheit als Zukunft. Das alte Deutschland in neuen Europa?
(Прошлое как будущее. Старая Германия в новой Европе?) По
основной теме посвященная объединению Германии, единству
новой Европы, дебатам по проблеме беженцев, книга вместе с тем
стала поразительно искренним историческим и личностным
документом, в котором отразились итоги глубокой самокритики
Хабермаса-мыслителя, который к началу 90-х тт. был на вершине
славы, на взлете своего творческого пути, но счел необходимым
строго взыскать с самого себя за то, что теперь ему представляется
потерями и ошибками.
2. В 1990 г. издательство «Зуркамп» выпустило книгу Хаберма-
са «Структурные изменения общественности» (17-е по счету
издание, если считать 16 предыдущих изданий Luchterhand Verlag).
Сам текст не подвергся изменениям, но Хабермас написал
довольно объемистое предисловие к публикации Зуркампа, которое
— благодаря целому ряду обстоятельств — стало одной из самых
заметных и важных работ последнего периода.
3. В 1992 г. вышла большая книга Хабермаса «Фактичность и
значимость», которая сразу заняла место философского
бестселлера и остается им поныне. Эта книга, являющаяся результатом
той разработки проблем философии права, которую Хабермас
вел всю жизнь и все последние годы, уже породило множество
откликов, дискуссий, вовлекших в свою орбиту философов,
юристов, этиков, лингвистов, журналистов. Одним словом, не меньше,
а, пожалуй, больше, чем другие произведения Хабермаса, книга
«Фактичность и значимость» стала ярким духовным событием
современного мира. Вот почему, предлагая читателю второе
издание Московских лекций, мы решили хотя бы в минимальной
степени познакомить его с главными идеями новой работы
франкфуртского мыслителя.
Здесь, в своем кратком постскриптуме, я остановлюсь на двух
первых из названных работ. И начну я с предисловия Хабермаса к
последнему изданию работы «Структурные изменения
общественности» (достаточно подробно охарактеризованной мною
выше). Перед нами — вовсе не очередное и рядовое предисловие к
книге, которая до сих пор остается весьма популярной. Это
попытка философа критически проанализировать, существенно пе-
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 541
ресмотреть и дополнить собственную позицию (более чем)
двадцатипятилетней давности. А поскольку тогдашние идеи Хабер-
маса и франкфуртской школы в целом имели всемирный
резонанс, такая критическая ретроспектива также имеет историческое
значение. Ибо она проливает свет на неизбежность и глубинный
характер изменений в сознании и теориях тех мыслителей, кто,
подобно Хабермасу, сначала по неслучайным основаниям
пришел к Гегелю и Марксу, а потом столь же необходимо был
подведен к критическому снятию прежних подходов и позиций.
Три пункта ревизии структурных изменений
общественности у Лабермаса
1. «Структурное изменение общественности, — пишет
Хабермас в новом предисловии, — вплетено в трансформацию
государства и экономики. (Эти сферы) я тогда осмысливал в
теоретических рамках, заданных философией права Гегеля, разработанных
молодым Марксом и со времени Лоренца фон Штайна
сохранивших специфическую форму в традиции немецкого
государственного права»5. В философско-правовом отношении, поясняет
Хабермас, эти концепции способствовали взаимообособлению
«государства» и «общества». Здесь, в свою очередь, проявились
результаты как крушения немецкой революции 1848—49 гг.,
воспоследовавшего государственно-правового развития без
демократии, так и влияния либеральной теории основных прав человека,
сторонники которой по политическим мотивам настаивали на
резком разделении общественного и частного права.
В историческом контексте королевская власть, чиновничество,
частично дворянство выступали как отделенные — ив
организационном, и в институциональном смысле — от «бюргерства» как
«гражданского корпуса». Хабермас отчасти и объясняет
существованием такого исторического контекста стремление молодого
Маркса преодолеть «отчуждение» государства и гражданского
общества. Правда, у Гегеля и Маркса, справедливо отмечает
Хабермас, все было усилено развившимися в Новое время (в эпоху
модерна) рыночно-капиталистическими отношениями, которые
привели к формированию государственной бюрократии
современного типа.
5 Habermas ]. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
1990. S. 21; (Далее в тексте указываются только страницы по этому
изданию.)
542
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Хабермас признает, что его собственная модель
«общественности» (Öffentlichkeit) — вслед за Гегелем и Марксом — строилась
как на допущении резкости обособления государства и общества,
так и на идее о необходимости его преодоления. Правда, он уже в
60-х гг. видел и противоположные, связанные друг с другом
тенденции «обобществления государства» (Vergesellschaftung des
Staates) и «огосударствления общества» (Verstaatlichung der
Gesellschaft) и говорил о них. Но с тех пор, признает автор, «все это
было изучено мною много точнее. Здесь достаточно только
напомнить о нормативном смысле самоорганизации общества,
которое радикально снимает взаимообособление государства и
экономического общества — что доказывается фактически
вступающим в силу функциональным ограничением обеих систем» (S.
23). Лишь впоследствии, отмечает Хабермас, он занялся
проблемой обратного воздействия государства и организованного
капитализма (в обществах западного типа) на частную сферу, на
структуры общественности, на консолидацию и поведение
публики, на процессы легитимации самой массовой демократии. Эти
три аспекта, самокритично признает Хабермас, были слабо
отражены в главах V—VII книги «Структурные изменения
общественности».
2. Традиционное, идущее еще от концепций естественного
права Нового времени и шотландских философов морали
разделение гражданского общества (civil society) и правительства
(government) в том отношении повлияло на франкфуртскую
школу и Хабермаса, что гражданское общество трактовалось как
относительно гомогенная частная сфера. Получалось, что сферы
обмена товаров, сам труд, распределение продуктивных
функций, даже домашние и семейные дела — все причислялось к
частной, притом экономической области. Между тем, что теперь
подчеркивает Хабермас, дальнейшее историческое развитие,
особенно современное, показало: неформальные отношения семьи,
соседства, общинной религиозности, неформальных сообществ
не только дифференцировались, — их спаянность с
общественной жизнью, с государственной регуляцией возросла, что
«заставило меня, — пишет Хабермас, — изменить статус частной
(приватной) сферы» (S. 25).
А это, в свою очередь, вело к отходу от рада кардинальных
марксистских идей, которые на Хабермаса оказывали как прямое
влияние (через изучение работ самого Маркса), так и
опосредованное (более всего — через концепцию франкфуртской школы,
а в 60-е гт. — через идеи Вольфганга Абендрота, которому и была
посвящена книга «Структурные изменения общественности»).
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 543
Личная благодарность Абендроту не исчезла, но дистанция
между его и Хабермасовой позицией росла (S. 27). Между тем и
история преподала свои уроки: «Банкротство современного
государственного социализма, которое мы наблюдаем сегодня, еще раз
подтвердило, что управляемая рынком экономическая система
модерна не может — без серьезного ущерба для ее
производительной эффективности — по чьему-то произволу перенести свои
клеммы с власти денег на административную власть и
демократическое формирование воли. Кроме того, опыт социального
государства, наталкивающегося на свои границы, сделал нас
чувствительными к феноменам бюрократизации и к наделению
правами. Эти патологические эффекты выступили на первый план в
качестве следствия государственной интервенции в области
действия, структура которых такова, что они ограждают самих себя
от правовых и административных модусов регулирования» (там
же).
3. В третьей части книги, где речь шла именно о структурных
изменениях «общественности», необходимость ревизии
вызывается кардинальными изменениями, которые наступили вместе с
широким распространением (в 60-х гг. еще весьма слабых)
электронных средств массовой информации и такими
сопутствующими явлениями, как реклама, коммерсализация, стремительное
распространение информации, сильнейшая централизация в
информационных сферах. А это принесло с собой, подчеркивает
Хабермас, «распад либеральных по типу союзов», уменьшение
роли обозримых коммунальных образований общественности.
Теперь следует принимать в расчет «новую категорию влияния»
— общественность, одновременно структурируемую и во многом
управляемую средствами массовой информации (S. 28), По
существу, появилась новая сфера жизни, новая арена политического и
всякого иного взаимодействия. Изменившись, сам процесс
коммуникации приобрел еще большее воздействие на деятельность
каждого индивида и структурных форм общественности. В 70—
80-х гт. Хабермас специально занялся всеми этими темами,
опираясь на выросшую в те же годы социологию массовых
коммуникаций (см. S. 30—31, где указаны наиболее ценные работы в данной
области). Но во время написания книги о структурах
общественности новая реальность еще не была и не могла быть включенной
в орбиту анализа. Отсюда те ошибки в оценках, которые теперь
признает Хабермас: он слишком пессимистически оценил тогда
способность публики критически формировать собственное
мнение, приобретать и осмысливать информацию, словом, формиро-
544
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
вать плюралистское, а не унифицированное поле мнений и
суждений (см. S. 30).
«Изменившиеся теоретические рамки»
Так Хабермас озаглавил раздел своего предисловия,
чрезвычайно важный для понимания его новой теоретической
конструкции. Что же изменилось в теории франкфуртского мыслителя
за последние четверть века? Сам Хабермас следующим образом
суммировал свои новые или обновленные подходы.
1. В основе «Структурных изменений...» лежали, уточняет
Хабермас, «идеалы буржуазного гуманизма» и соответствующие им
ключевые понятия — субъективности, самореализации,
рационального формирования мнений и воли и т. д. Между тем
действительность все более расходилась с этими идеалами:
«цивилизованное варварство» конца XX в. им все более противоречило. Но с
падением таких идеалов рушились нормы и ориентиры, которые
принимались за основу критической теории общества. Говоря
коротко, Хабермас в 80—90-е гг., ни на минуту не теряя из поля
зрения теорию, переместил центр внимания на процесс
рождения новых идеалов и ценностей в «коммуникативной
повседневной практике» и расценил такое исследование как путь «к рекон-
структивно моделируемой социальной науке», к осмыслению
«культурного и общественного процесса рационализации во всей
его широте» (S. 34).
2. В то время как проблема демократии в 60-х гг. имела своим
источником идею В. Абендрота о развитии демократического и
социального правового государства в направлении
социалистической демократии, теперь (вследствие многих ошибок
теоретического характера, вскрытых практикой) Хабермас не возлагает
больших надежд просто на процессы демократизации и тем более
не скрывает своего разочарования в возможностях
«демократического социализма». Это означает не расставание с идеей
демократии, а ее преобразование. В философском отношении новый
подход связан с отходом от Марксовой концепции «отчуждения и
присвоения сущностных сил человека».
«Радикально-демократическое изменение процесса легитимации нацелено на поиск
нового баланса между силами общественной интеграции, так что
социально-интегративная сила солидарности —
«производительная сила коммуникации» — обращена против «насилия» двух
других ресурсов управления, денег и административной
власти...» (S. 36).
3. Социально-интегративная сила коммуникативного действия
локализирована прежде всего в тех частных жизненных формах и
Ю. Хабермас. Основные понятия его концепции 545
жизненных мирах, которые переплетены с соответствующими
конкретными традициями и направленностью интересов — т. е.,
выражаясь словами Гегеля, «локализированы в сфере
нравственности». Изменение, которое наступает в посттрадиционалистских
обществах, связаны с «необозримым плюрализмом обладающих равной
оправданностью конкурирующих жизненных форм» (S. 37). А с этим, в
свою очередь, сопряжены существенные трансформации,
происходящие в жизни и настоятельные для социальной теории.
Так, Руссо исходил из разделения ролей «буржуа» и
«гражданина» (citoyen). Социальное государство разрушило это
разделение, утверждает Хабермас вместе с другими теоретиками.
Например, у. Прейсс вводит парадоксальную категорию
«обобществленного частного человека», чьи роли клиента, потребителя,
участника политических и гражданских процессов сплетаются,
давая начало такому характерному явлению, как
«обобществленный (универсализированный) партикуляризм» (там же).
Отсюда тянутся нити к пересмотру либеральных теорий и
демократической мысли, ибо теперь надо исходить не из
(предопределенной) воли и мнений индивидов, но из процессов их
формирования в дискурсе (deliberation), которые следует изучать
особенно тщательно — ив общем виде, и применительно к
особым условиям места и времени.
4. Хабермас использует понятие «deliberative democracy»,
имеющее уже довольно широкое хождение в литературе. «Новая
традиция», на которую (частично) опирается Хабермас, — это
концепции Дж. Роулза, Р. Дворкина, Б. Акермана, П. Лоренца и
К.-О. Апеля, где в центре внимания оказались возможности
включения рациональных, моральных измерений в практически-
политические вопросы и где эти возможности были расценены
довольно оптимистически. Соответственно «делиберативная
демократия» — то есть демократия рационального дискурса,
обсуждения, убеждения, аргументации, компромисса —
выстраивается в ее «беспартийном» варианте.
5. Хабермас признает, что эта форма демократии была
найдена и разъяснена главным образом на теоретической почве, хотя и
не без глубокого влияния реальных исторических процессов.
Концепция покоится на убеждении, что современный человек
способен «перебросить мостик от своей роли клиента к роли
гражданина государства», что он склонен к «беспартийности», готов
к компромиссу, к отказу от своих предпочтений, если они
компромиссу мешают.
Демократическая теория этого типа продолжает опираться и
на прежние концепции правового государства, особенно на кан-
546
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
товскую (Хабермас решительно «пошел вперед» от Гегеля к
Канту). Но и здесь практика, вместе с теорией, вносят новые моменты:
государственно-правовая сфера должна быть рассмотрена под
углом зрения ее максимальной открытости и подвижности,
равноправия партий и объединений, быстрого и эффективного
включения тем, мнений, пересмотра результатов и т. д. Более точно и
взвешенно — и именно на правовом уровне — должны быть
решены такие вопросы, как роль большинства и мнения
большинства, как парламентская ответственность и корпоративность. И не
праздные разговоры о «гражданине, отчужденном от общества»,
нужны сейчас, а создание эффективных механизмов «делибера-
тивной демократии».
6. Важнейшее место в новой теории занимает проблема уже
институционализированных и спонтанных, еще не подпавших
под чье-то регулирование коммуникативных процессов (эта тема
была намечена уже в «Структурных изменениях
общественности», но теперь она приобрела особую актуальность.)
«Процедурное понимание суверенитета народа» опять-таки выходит на
первое место, оттесняя на задний план все заявления, прокламации,
манифестации в его пользу (S. 44).
«Гражданское общество или
политическая общественность»
Разделом под таким заголовком Хабермас заканчивает свое
предисловие. Речь здесь идет о «новом открытии гражданского
общества» — так автор определяет теперь центральный вопрос
книги. Но именно поэтому опять нужна его конкретизация —
применительно к проблемам социализации, культурных
традиций. Конечно, проистекающая из глубин и мотивов либеральной
политической культуры ориентация на мир в его широте и
«тотальности» сохраняет, считает Хабермас, свое значение. «Но еще
важнее формы общения и организации, как и формы институ-
ционализации носителей не располагающих властью
политической активности» (S. 45). Хабермас признает, что понятие
«ассоциаций» было и остается слишком смутным. Подобно этому,
сегодня уже ничего не оправдывает прежнюю неопределенность
понятия «гражданского общества», что было одной из причин
Марксова отождествления Zivilgesellschaft и с гражданским, и с
буржуазным обществом. Ибо «институциональное ядро
"гражданского общества" равным образом составляют
негосударственные и неэкономические союзы на добровольной основе», куда
относятся культурные, церковно-религиозные, профессиональные,
спортивные и иные объединения, а также политические партии и
Ю. Хабермас Основные понятия его концепции 547
профсоюзы. Но речь может и должна идти не о партиях,
принадлежащих к административной системе и тем более образующих
ее ядро, но об объединениях, в рамках которых формируются
мнения, идеи, идеалы, ценности, мотивы, ориентации (S. 46).
Хабермас, между прочим, воздает должное критике понятия
«гражданского общества» со стороны диссидентов из социалистических
стран. Отмечена та громадная роль, которую сыграло понятие
«тоталитаризма» в критической интерпретации Ханны Арендт —
и в развенчивании тоталитарных режимов, контроля тайных
служб тоталитарных государств, и в становлении новых форм
коммуникативной практики. Но и в обществах западного типа,
где общие рамки задавала демократия, требуется расширить поле
действия для тех сил, которые способны сформировать
гражданское общество нового типа, общество действительно плюральное,
эффективное и ответственное.
* * *
Я упоминала о книге-интервью Хабермаса «Прошлое в
качестве будущего». Не касаясь ее многостороннего актуального
политического содержания, я остановлюсь лишь на вопросах, которые
связаны мировоззренчески с «марксистской родословной»
Хабермаса и с его левой политической ориентацией. В каком-то смысле
слова Хабермас не только был, но и останется «левым»: его
критическая ориентация по отношению к происходящему — не дань
«франкфуртской моде», а внутренняя потребность личности. Что
бы ни происходило — кризис в Персидском заливе, перестройка в
СССР и распад Союза, объединение Германии, — на все этот
мыслитель смотрел и будет смотреть со своей, и только своей,
позиции, не ограниченной идеологией и политикой какой-либо
партии, правящей или оппозиционной группы. Критическая
позиция (что, кстати, большая редкость и для ряда франкфуртцев)
неизменно связана с самокритикой, готовностью к
переосмыслению, отсутствием упрямства и самомнения, естественного для
столь почитаемого, выдающегося, по мнению многих, мыслителя.
А поводы для критики и определенного внутреннего
беспокойства имеются. Михаэль Халлер поставил перед Хабермасом
несколько «каверзных» вопросов, которые нередко (и подчас
злобно) муссируются в прессе антихабермасовцами. Но я думаю,
что и они не могут не отдать дань уважения искренности и
взыскательности, с какой оценил некоторые элементы своих
прошлых воззрений и умонастроений сам Хабермас. Когда М. Халлер
заговорил об «амбивалентности» в оценке ГДР и других
социалистических стран, то Хабермас решительно ответил: «Конечно, я
548
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
всегда воздерживался от того, чтобы еще усиливать хор и без того
задававших у нас тон антикоммунистов. Но в отношении
отклонения сталинизма и оценки советского марксизма я никогда не
давал повода для сомнений — и столь же мало [можно обвинить в
этом] Адорно или Хоркхаймера. И постольку об
"амбивалентности" не может быть и речи» 6.
Однако в ответ на вопрос Халлера: «Была ли в истории Вашей
жизни фаза, когда Вы верили — или надеялись, что Восточная
Европа пойдет по пути демократического социализма и однажды
одержит над капиталистическим Западом если не
экономический, то моральный триумф?» — Хабермас честно ответил:
«Конечно, я придерживался более ортодоксальных взглядов, чем
сегодня. Но ведь надо стараться извлечь уроки... Конечно, в
большей степени во время Пражской весны, в меньшей — в эру
Брежнева я питал надежды, что бюрократический социализм однажды
сделает поучающий шаг в направлении либерализации и что этот
шаг сможет стать эквивалентом для продвижения Запада в
сторону социалистического компромисса... Но сегодня эта надежда
умерла» 7. Сочувственное отношение к перестройке означало, что
Хабермас не хотел и не мог априорно и заведомо отрицать шансы
социализма на его возможную демократизацию.
Что же касается «западной модели», отождествляемой с
капитализмом и мерой достигнутого в развитых странах
демократического либерализма, то к ней Хабермас продолжает относиться
резко критически. «Мера либеральности, за которую боролись на
* Западе, исчерпана» 8, — пишет Хабермас. Традиция западного
гуманизма, либерализма как наследие эпохи Просвещения
сегодня еще более чем когда-либо, находит в знаменитом
франкфуртском философе своего решительного критика. Он
настойчиво ищет принципы и ценности нового общественного порядка.
Но меньше, чем когда-либо, Хабермас склонен заимствовать их из
имеющихся доктрин, учений, воззрений — он хочет почерпнуть
эти ценности из процессов обновления, протекающих в
жизненном мире, в многосторонней коммуникации индивидов, групп,
стран, регионов.
6 Habermas J. Vergangenheit als Zukunft. S. 98.
7 Ibid. S. 99,100,101.
s Ibid. S. 119.
Именной указатель
Абендрот В., 544
Аверинцев С. С, 104, 105, 120, 127,
505
Адорно T. (Adomo, T. W.), 506-507,
513,535-536,548
Акерман Б., 545
Алевин Р., 512
Алкивиад, 84,86
Аллгайер А., 474
Альмейда Г. (Almeida, G. A. de.)/
323
Аминокл, 27
Анаксагор, 72,75
Анаксимандр, 480,481
Апель К.-0. (Apel, К.-О.), 545
Аристотель, 46, 60-63, 80, 104, 107,
112, 116, 140, 153, 159, 223, 283,
287,323,430,442,490,512
Аристофан, 121
Асмус В. Ф., 327
Бабушкин В. у., 380
Бакрадзе К. С, 340,380
Баумгартен Э., 466,467
Белый А., 204,205
Бергер, 537
Бергер Г., 240,537
Бергсон A. (Bergson, H.), 466
Берингер К., 466
Беркли Д. (Berkeley, G.), 317, 367,
368
Бимелъ В. (Biemel, W.), 240
Блаватский В. Д., 44
Блейлер Э., 382
Блок А. А., 18,143, 205
Богомолов А. С, 269,331
Боймлер А., 458,469,476
Больцано Б. (Bolzano, В.), 320, 321,
322
Боровский Я. М., 30
Ботмер Д. фон., 54
Бофре Ж., 496
Брагинская Н. В., 51, 55, 56, 58
Брентано Фр. (Brentano, F.), 316,
324-325,328,382,384,430
Бродский И., 18
Бруно Дж., 12, 186, 187, 189, 191,
269,403
Брэг К. (Braig, С), 431
Булгаков М. А., 502
Бунин А. Б., 62
Бутенко И. А., 386
Бэкон Фр., 186, 188, 191, 193, 194,
195-197,199,201
Вальденфельс Б. (Waidenfels, В.),
379
Ванненман, 271, 272, 288, 290-294,
299,301,302,303,305,306
Васильева Т. В., 105
Вебер М. (Weber, M.), 467, 534-536,
538
Вейерштрасс К. (Weierstrass, К.),
312
Верлен П., 432
Виндельбанд В. (Windelband, W.),
314
Винкельман И., 130
Витгенштейн Л. (Wittgenstein, L.),
321,389,535
Гавел В., 6
Гадамер Г.-Г. (Gadamer, H.-G.), 427,
444,455,457,483,505,512,534
Гайденко П. П., 331
Галилей Г. (Galilei, G.), 189,191
Гаргман H. (Hartmann, N.), 442,
443
Гегель Г. В. Ф. (Hegel, G. W. F.), 3,
9, 14, 16, 17, 20, 95, 106, 116, 134,
140, 148-150, 154, 159, 161, 193,
205, 266-280, 282-309, 315, 316,
323, 355, 356, 360-363, 367, 372,
373, 430, 431, 436, 445, 451, 480,
481, 483, 489, 499, 508, 513, 541,
542,545, 546
Гекатей Милетский, 108
Именной указатель
551
Гельвеций, 9
Гёльдерлин (Hölderlin Fr.), 433,447
Генте A (A. Genthe), 270
Гераклит, 111,159
Гермипп, 33
Геродот, 34,108-111,130
Гесиод, 111, 119
Гитлер A. (Hitler, А.), 454-457, 459,
461-464,468,470
Глазунов И., 4
Гоббс T. (Hobbes, Т.), 186, 188, 191,
193,196,218,287
Гомер, 102,111,119,122,130,135
Горький М., 432
Готто Г., 271
ГрёберК.,430,477
Грисхайм К., 271
Гулыга А. В., 269
Гурвич A. (Gurwitsch, А.), 240, 379,
537
Гусейнов А. А., 3,4
Данилова И. Е., 57
Данто А., 533
Дворкин Р., 545
Декарт P. (Descartes, R.), 9, 73, 166,
173, 186, 193, 194, 198-200, 222-
233, 237, 283, 316, 323, 390-396,
398,400-404,408-411 '
Демокрит, 9,153
Демосфен, 88,89
Демпф А., 512
ДерридаЖ. (Derrida, J.), 363, 379,
513
Дефо Д. pafoe, D.), 518
Дильс, 481
ДильтейВ. (Dilthey, W.), 436, 508,
534
Дитце К. фон, 474
Доватур А. И., 104
Долгов К. М., 385
Достоевский Ф. М., 420,447,502
Дрейфус X. (Dreyfus, H.), 379
Дройзен И. Г., 268
Дуне Скот, 436,439
Дюркгейм Э., 536,537,538
Еврипид, 119, 120, 122, 123, 125,
127,128,135,136,138
Занер P. (Zaner, R.), 226, 229
Илтинг К.-Г., 273, 274, 291
Ионин Л. Г., 386
Йенш Э. (Jensch, Е.), 469
Йешке В. (Jaeschke, W.), 268
Йоргенсен И., 432
Какабадзе 3. М., 331
Кант И. (Kant,L), 2, 3, 9, 12-14, 16,
91, 140, 148, 149, 158, 166, 172,
173, 193, 201, 205-224, 226-233,
236-244, 246-250, 253, 255-257,
259-263, 265, 272, 287, 299, 313-
316, 323, 329, 331, 334, 339, 342,
351, 371, 374, 396, 400, 408-410,
429,445,488,508,546
Кантор Г. (Cantor, G.), 320
Карове В. (Carové W J, 291
Кассирер Э. (Cassirer, E.), 389,533
Касторадис, 513
Кафка Ф., 408,409
Кёлер В., 382
Керимов Д. А., 267
Керн И. (Kern, L), 310
Киссель М. А., 331
КнаббеГ.С.,24,25,46
Коген Г. (Cohen, H.), 204
Конт A. (Comte, А.), 508
Коцебу, 295
Кребс Э., 435,437,438,441,442,459
Крик Э., 458,469
Кронекер Л. (Kronecker, L.), 312
Кронер P. (Kroner, R.), 442,443
Кулэ M., 379
Кун Т. (Kuhn, Т.), 198
Кюнг Г. (Küng, G.), 379,387
Лакман, 537
Лампе A. (Lampe, А.), 474
Ланг М. (Lang, M.), 430
Ланге Ф. (Lange, F. А.), 314
ЛандгребеЛ. (Landgrebe, L.), 240,
311,379,388,537
Ласловски, 434,437,439
Леви-Брюль Л., 533
Леви-Стросс К., 533
Лёвит К. (Löwith, К.), 470
Лейбниц Г. (Leibniz, G. W.), 186,
188, 233, 237, 322
Ленин В. И., 9, 243
Липпс T. (Lipps, Th.), 324
ЛоккД. (Locke, ].), 287, 317, 329,
367, 368, 521
552
H. В. Мотрошилова «Работы разных лег»
Лосев А. Ф., 110,134,505
Лотце Г., 315
Лотце Р. Г. (Lotze, R. H.), 315
Лютер M., 443
Макиавелли H., 287
Малиновский Б., 533
Мамардашвили М. К., 2, 3, 14, 256,
390, 391, 393, 395, 397-420, 422-
424,505
Мамут Л. С, 267
Марбах Э. (Marbach, Е.), 288
Маркс К. (Marx, К.), 9,15,20, 30,34,
35, 100, 105, 181, 182, 193, 255,
256, 273, 284, 288, 406-408, 506-
508, 515, 521, 525, 527, 536, 538,
541,542
Маркузе Г., 478,506,507
Мартен Р., 426
Мейнонг A. (Meinong, А.), 368
Мерло-Понти M. (Merleau-
Ponty, M.), 240, 264, 379, 381-383,
385
МидДж.,536,537,538
Милль Дж. Ст. (Mill, J. St.), 367
Михелет К., 268
Моллендорф, 458
Мосс Д., 383
НаторпП. (Natorp,P.), 225, 314,
315,439,442
Нерсесянц В. С, 267
Ницше Фр. (Nietzsche, Fr.), 165,
418, 432, 447, 481, 483, 489, 494,
508,513
Норкус 3. Б., 380
Ньютон И. (Newton, I.), 188,191
Ойзерман Т. И., 269
Олпорт Х.-Ф., 382
ОттХ. (Ott,H.), 426, 429, 433, 436,
438-440,469
Оттман X., 303
Парменид, 139,153,159
Паскаль, 160,188,191
Пастернак Б., 139,502
Пёггелер О. (Pöggeler, О.), 266, 288,
291, 293, 297,479
Перикл, 10, 66, 70-76, 84, 86, 87,132,
133,135
Петере Б. Г., 27, 29
Петров М. К., 15
Пионтковский А. А., 269
Платон, 9, 29, 42, 46, 58, 60, 63, 65,
75, 104, 106, 107, 114, 116, 134,
140, 144, 153, 159, 176, 223, 281,
283, 287, 315,322,413,490, 512
Плотин, 144
Плутарх, 37,71
Подорога В. А., 493,494
Поспелов Г. С, 386
Прибрам К., 383
Пруст М., 404,408,410
Пушкин А. С, 160,403
Ранг Б. (Rang В.), 322
Ранг Б. (Rang, В.), 322
Рассел Б. (Rüssel, В.), 321, 333, 387,
389
Рикер П. (Ricoeur, Р.), 379,385,505
Риккерт Г. (Rickert, H.), 314, 434,
436
Риттер Г., 474
Розенберг А., 469
Роулз Дж., 545
Рубенис А. А., 382
Руссо Ж.-Ж., 287,545
Сартр Ж.-П. (Sartre, J.-P.), 173, 379,
385,407,477,478,496,502
Свифт Дж., 518
Симпликий, 481
Слуцкий Б., 154
Сократ, 72, 75, 104, 283, 365, 377,
405
Соловьев В. С, 8,420,502
Софокл, 72,116,119,120,128
Спиноза Б. (Spinoza, В.), 186, 188,
191
Степин В. С, 201
Теофраст, 481
Толстой Л. К, 416,502
Тренделенбург Ф.
(Trendelenburg, Fr. А.), 315
Тушлинг Б. (Tuschling, В.), 16
Тыменецкая А.-Т.
(Tymieniecka, А.-Т.), 382,385
Уайльд О., 432
Фарбер М. (Farber, M.), 240,383
Фариас В. (Farias, V.), 425, 466, 470,
503,507
Федье Ф., 466
Фемистокл, 121
Фёрстер Ф. В. (Förster, F.), 432
Фидий, 72, 75
Именной указатель
553
Финк О. (Fink, Е.), 240,435-437
Фихте И. Г. (Fichte, J. G.), 267, 299,
315,429,436
Фома Аквинский, 140,431,435
ФрегеГ. (Frege,G.), 320-322, 326,
363,387
Фрейд 3. (Freud, S.), 382, 407, 408,
508
Френкель Э., 466
Фридрих-Вильгельм Ш, 285
Фриз Я., 295,296
Фукидид, 27, 30, 32, 47, 66, 67, 71,
75, 77-80, 82-85, 87, 88, 106, 109,
110,111,132,135-138
Фуко M. (Foucault, M.), 513
ХабермасЮ. (Habermas, J.), 2, 3,
14,17,478-480,501-548
Хайдеггер M. (Heidegger, M.), 2, 3,
10, 13, 17, 140, 147-149, 156, 169,
173, 177, 205, 378, 385, 410, 425-
471,473-499,503,507,513
Халлер M., 540,547
Хаузер A., 512
Хейзинга Й., 512
ХенрихД. (Henrich, D.), 269, 270,
272,274,275,284,285,288
Хёсле В. (Hösle, V.), 15 .
Холенштейн Э. (Holenstein, Е.), 379
Хоркхаймер M., 506,507,513,548
ЦанерР.М.,226,227
Целан П., 479
Чапмен X. (Chapman H. M.), 383
Чернышев Ю. Г., 38
Чехов А. П., 502
Швёрер В., 467
Шекспир у., 139
Шелер M. (Scheler, M.), 381
Шеллинг Ф., 267, 299, 315, 316, 430,
431
Шлик М. (Schlick, M.), 321,333,389
Шмитт К., 469,476
Шпенглер О., 6,53
Шлет Г. Г., 379
Шпигельберг Г. (Spiegelberg, H.),
316,321,335> 379,382,383
Штайн Э. (Stein, Е.), 440,541
Штрассер С. (Strasser, S.), 240, 391,
392,393
Штумпф К. (Stumpf, С), 324, 325,
368,383
Шуази О., 44,45,94, 97
Щютц А. (Schütz, А.), 386
Эванс И. (Evans, I. Cl.), 533
Эванс-Причард Е., 533
Эйдельман Н., 419
Экартсберг Р. фон, 384
Элленбергер Г. Ф., 383
Энгельс Фр., 9, 181, 182, 273, 284,
288
Эсхил, 119,120,128
Юм Д. (Hume,D. ), 218, 225, 229,
233,237,317,329,367
Юнгер Э., 494
Явви И., 533
Яковенко Б. В., 379,380
Ясперс К. Qaspers, К.), 385,427,443,
451, 454, 455, 456, 457, 468, 475,
476,485,499
Предметный указатель *
Apriori (a priori), 210, 211, 248, 250,
253, 254, 255, 260, 261, 262, 263,
341,357
cogito, cogitatio, 166, 194, 233, 237,
250,396,397,398,400,402,408
Абсолютное, 236, 252, 262, 289, 305,
315,393,394,451,499
Абстрактное, 21, 113, 114, 153, 188,
255,292,293,302,305,315,372,448
Абстракция, 317, 352, 364, 365, 366,
367,368,376,401,409
- новая теория абстракции, 352
Авторитет, 87,110,477,536
Агора, 23, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 92,
510,512
Аксиология, 9
Аксиома, 207,242,419
Аксиоматика, 242
Акт (Akt), 49, 215, 235, 236, 258, 262,
322, 325, 333, 340, 346, 348, 349,
351-352, 357, 359, 363-365, 386, 387,
388, 402, 428, 430, 440, 449, 471,
475,480,488
- сознания (Bewußtseinsakt), 172,
329,337,350,368
- восприятия, 214
- труда, познания, творчества, 161
Активность, 5,251,337,
-субъекта, 11
- гражданская, 66
- политическая, 546
Актуализация, 206, 288, 508
- как "осовременивание", 397
Актуальность, 82, 213, 220, 223, 259,
304,344, 352, 380,399, 526,546
Анализ, 10, 16, 20-22, 143, 144, 150,
153, 166, 182, 206, 207, 210, 211,
217-219, 222-224, 228, 231-233, 236,
238-239, 241, 243, 244, 246-253, 256,
257, 259, 260, 262, 263, 265, 274,
282, 287-289, 293, 301,302,304,305,
309, 310, 314, 315, 316, 317, 319,
321, 325, 326, 327, 331, 334, 335,
338, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 355, 357-360, 361, 363-365, 367,
369, 374-378, 380, 383-386, 388, 395,
406-408,414,427,431,488,491,506-
508, 510, 511, 513, 516, 518, 522,
525,528,530,532-539,543
- интенциональный, 257,350
- проблемы бытия, 145,147
- психологический, 384
-сознания, 241, 247, 249, 250, 252,
253,256,257,342,406
- феноменологический, 244, 245,
251, 252, 255, 256, 262, 264, 322,
333, 334, 347, 348, 349, 350, 352,
355,360,365,376,378,380,381,407
- ценностей "шестидесятников", 5
Аналитика — аналитическая теория
действия, 533
Антисемитизм, 10, 296, 463, 464, 465,
466,468
Антисталинизм, 5
Антропология, 493
Априорное, 210, 211, 248, 250, 254,
257,260-262, 322, 323, 327, 330,371,
374
Архитектура, 24, 44, 48, 91, 94, 96-98,
101,102,390
Астрономия, 180,198
Бесконечность, 141, 147, 205, 232,
256,334,399,409,415
Бессознательное, 57, 154, 169, 172,
173,174,175,256
Бог, 140, 401,402,421, 424, 441,493
Будущее, 19, 95, 111, 127, 141, 146,
147, 168, 171, 190, 191, 222, 275,
278, 281, 284, 285, 286, 304, 307,
415,416,460,461,478,481,540, 547
* Составлен Н. И. Машковым.
Предметный указатель
555
Бытие, 3, 9, 14, 24, 25, 38, 40, 58, 74,
91,95,96,99,103,136,138-142,144-
154, 156-159, 161-173, 176, 213, 234,
237, 250, 264, 281, 302, 304, 308,
332, 337-338, 339-340, 350, 356, 357,
359, 360, 362, 366, 369-370, 372, 376,
386, 396, 398, 400-401, 404-405, 407,
410, 419, 430, 432, 443-445, 448-450,
461, 480-482, 484, 486-490, 494, 496,
497,499
- "бытие-сознание" (Dasein [Хайдег-
гер]), 446
- вещей, 143,373
- индивидуального сознания, 174
- объективированного духовного,
155,174
- специфика бытия идей, 177
- трагизм "вопрошания о бытии",
447
- вещественное бытие, 160
Бюрократия, 524,531,541,548
Вера, 158, 186, 188, 194, 396, 398, 441,
451,456,470,482,499
Вещественность, 340, 490, 491, 492,
493
Вещь (как предмет), 30,32, 51, 60, 61,
99, 100, 103, 105, 142-164, 166, 167,
211, 212, 214, 216-219, 228, 234, 235,
239-240, 254, 264, 305, 339, 341-342,
363,364,367, 369-370, 372, 375, 377,
381, 384, 399, 401, 419-423, 429, 484,
486-490,492-493
- вещь-товар, 33
- вещный фетишизм, 56
- мир преходящих вещей, 140,
-вещьсама по себе (an sich selbst)
(Кант), 213,243,339-340
- "Назад к самим вещам" (Гуссерль),
196, 197, 198, 201, 340, 341, 369,
486,491
Власть, И, 23, 33, 44, 68, 71, 76, 79, 81,
83, 88, 96, 106-107, 115-116, 130,
131,165, 188, 272-273, 284-285, 293,
303, 414-416,419, 428,450, 452,455-
458, 460, 462, 464, 469, 471-474, 476,
477, 492, 496, 513-517, 520, 523, 524,
531, 541, 543-544, 546
- монархическо-дворянская, 517
- общественная (öffentliche), 514
Внимание, 118,170,172,345, 398
- поворот внимания, 170
Воздержание (от суждений)
(Urteilsenthaltung), 397
Война, 25, 48, 49, 64, 67, 69, 75-80, 82-
91, 106, 109, 120, 124, 125, 132, 137,
292, 298, 378, 390, 414, 418, 425,
435, 448, 451, 452, 463, 471, 477,
479,480,484,496,506,531
Воля, 67, 84, 117, 121, 122, 144, 165,
167, 198, 235, 273, 281, 300, 301,
304, 305, 306, 307, 393, 403, 404,
420, 427, 457, 465, 515, 523, 543,
с.л л сдс
- свобода воли, 301
Воображение, 36,38,43,51,58,70,91,
107,131,160,171
Вопрошание, 177,450
Воспоминание, 234,322,337,481
Восприятие, 160, 212, 214, 224, 234,
239, 254, 262, 264, 322, 325, 328,
239, 337, 355, 369, 381, 476, 485,
488,504,536
- чувственное, 226
- его модификации, 252
Воспроизведение, 228,232,322, 380
Впечатление, 37, 82, 93, 94, 97, 120,
170,416,418,442,462
Временность (Zeitlichkeit), 337, 384
Время, 111, 147, 159, 160, 163, 171,
206-207, 210-223, 226, 234, 239, 248,
249, 251, 257, 282, 284, 285, 329,
354, 356, 357, 404, 433, 443, 444,
445,447,448,450,481,485
-человеческой жизни и космоса,
111
Всеобщность, 129, 145, 154, 170, 202,
214, 249, 258, 260, 261, 272, 276,
278, 299, 304, 305, 307, 326, 356,
360,364
Выражение (Ausdruck), 321, 339, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,
352, 354, 355, 356, 358, 373, 375,
386,464
Высказывание (Aussage), 213, 237,
242, 341, 342, 343, 344, 348, 349,
350, 354, 355, 356, 357, 358, 361,
362,370,373, 374
Генезис, 45, 98,123, 164, 220, 262, 312,
556
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
318, 320, 338,428
Геноцид, 462
Геометрия, 127, 260, 326,394
Гештальт, 382
Гипостазирование, 253,359,367
Горизонт, 141, 214, 234, 252,350,370
Государство, 22, 24, 60, 63, 277, 278,
279, 293, 295, 298, 304, 305, 306,
307,308,390,474,524,527,545
- и его внутренние структуры, 298
- как всеобщая воля, 305
- эпохи модерн, 513,534
Гражданин (гражданство)
-гражданское общество, 272, 292,
309, 513, 515, 517, 519, 520, 523,
524,541,542,546
- отчужденность от общества, 546
Грамматика, 321,335,377,378
- универсальная, 388
Данность (Gegebenheit), 211, 212,
213, 215, 219, 237, 261, 263, 304,
334, 337, 340, 341, 342, 343, 360,
369,370,373,399,488
- предметов, 207-210, 214-216, 218,
239,339
- пространства и времени, 214
- способ данности, 213,218
Дедукция, 199,238,248,394
Действие, 27,48, 77,100-101,103,106,
116, 129, 133, 135, 145, 147, 151,
157-158,167,172,175-176,178,184,
188,190-192,198, 200,208, 214,218,
223, 235, 241, 293, 320, 327, 368,
386, 399, 406, 421, 449, 464, 478,
510, 514, 528, 529, 530, 532, 533,
534,535,536,537,538,543,547
- историческое, 77,185,405
- социальное, 180,182
- познающее, 234
- цивилизационное, 57
- цивилизованное, 118
Действительность, действительное
(Wirklichkeit, wirkliche), 75, 82, 83,
87, 89, 105, 111, 128, 133, 147, 151,
154, 183, 192, 211, 216, 234, 243,
250, 252, 258, 259, 261, 264, 272,
274-276, 278-286, 290, 295, 297, 304-
306, 309, 311, 332, 337, 341, 351,
356, 360, 407, 412, 414, 417, 424,
457, 461, 476, 478, 544
Действование, 99,308
Демократия, 10, 23, 67, 69-74, 76, 81,
82, 86, 89, 104, 105, 108, ИЗ, 130,
135,273,451-453, 471, 506, 516,523,
525,526, 540-542,544-548
Дескрипция, 326,334
Деспотизм, 44,104,284,302,413, 520
Диалектика
- диалектические формы, 373
Диамат, 507
- диалектико-материалистический
тезис о пространстве и времени,
213
Дизъюнкция, 321,354
Диктатор (диктатура), 516
Добро, 91, 99, 115, 117, 119, 126, 138,
176,179,272,298,409
Добродетель, 126
Догматика (догматизм), 187, 194,
195, 226, 316, 432, 435, 437, 441,
507,513,525
Договор, 104,298,413,452
Другое [чужое] Я, alter ego, 338,396
Другой, 16,82,151,191,202,479
Дух, 13, 35, 61, 83, 91, 95, 98,105,107,
111,115,118-119,127,128,131,132,
135-137,142,144,146,152,159,162,
165-166,168,173,194,198,227,237,
245, 257, 266, 267,272,275-278,281,
283, 289,293,296, 300-301,304,308,
316, 359, 362, 367, 381, 393, 402,
410, 416, 422, 424, 429, 441, 447,
450-451, 453-455, 459, 464-465, 467-
468,472,477,480-481,484,495,538
-объективный, 275, 277, 281, 289,
293,300,306,309
Духовное (духовность), 91,169,462
- духовная жизнь человечества, 177
-духовное богатство цивилизации,
177
- духовный изоляционизм, 501,502
- индивидуализированное
духовное, 157, 169, 170, 172, 173,
174,176,177
объективированные формы бытия
духовного, 175
Душа (Seele), 5, 19, 73, 136, 139, 165,
173, 207, 217, 382, 393, 399, 402,
404, 417, 419,421, 424,438,443
-душевная жизнь, 217
Предметный указатель
557
Единство, 22, 26, 53, 54, 63, 99, 101,
103-106, 133,134,138,140,143-145,
150-151, 155, 157, 161-163, 166-169,
172, 175, 177, 179, 182, 190, 208,
221, 228, 233, 239, 242-243, 250, 253,
258, 275, 279, 281, 284, 295, 302,
305, 307, 309,320, 321, 336-339,343,
348-352, 354, 357, 360-362, 365-367,
372, 386-387,402,451,461,463,488,
517,529,540
- межполисное, 24
- цивилизационное, 25,68
Естественное право, 271, 287, 299,
300,508,542
Естествознание, 158, 186, 190, 197,
212, 213, 218, 219, 231, 316, 322,
327,370,405,436
- современное, 219
Естествоиспытатель, 203,213
Желание, 137,146,173, 245, 251, 346,
354-355,415
Жизненный мир (Lebenswelt), 92,
101, 231, 232, 236, 246, 265, 381,
385, 390, 396, 520, 528, 533, 535,
537,538,548
Жизнь
- жизненная форма, 528,544
- сознания, 363,401
Закон, 24, 32, 44, 53, 63-65, 67, 69, 73,
74,104,107,129,163,164,165,167,
198, 200, 239, 249, 254, 258, 262,
273, 277, 278,280, 298-299,304,309,
314, 320, 322, 342, 357, 361, 362,
370-373, 375-378, 387, 391, 401, 408-
409, 413, 415, 460-461, 463-465, 468,
483,493
- беззаконие, 415
Звук, 345,356,371, 373,375,389
Знак (Zeichen), 174, 176, 321, 345-348,
368,386,387
Знание, 21, 33, 36, 37, 71, 93, 94, 111,
127, 135, 148, 161, 169, 176, 178,
180-182, 186-187, 189, 191-193, 195-
199, 201, 203, 206, 210, 222, 238,
239, 242, 248, 249, 253, 260-263, 267,
268, 278, 297, 305, 308, 319, 321,
343, 351, 355, 357, 363, 373, 389,
401, 406, 409, 434, 436, 439, 450,
455, 460-461, 483, 499, 506, 510, 529,
530
- опытно-экспериментальное, 197
Значение (Bedeutung), 251-254, 260,
320, 321, 333, 344, 345-352, 354-360,
362-363, 365, 369, 374, 377-379, 385,
386,387,430,436,481,491
- идеальное единство значения, 350,
362
-интенция значения, 345, 347, 350,
351,352,358,359
Идеал, 57, 85, 133, 153, 176, 190, 197,
199, 200, 203, 239, 240, 253, 277,
281,282,305,309,357,394
Идеализация, 36
Идеализм, 165,213,238, 240, 241, 243,
245, 246, 265, 276, 277, 315, 316,
328,364,508,537
- трансцендентальный
(transzendentaler), 232, 238, 240,
242,245,246,265,311,401
Идеальное, 146, 176, 250, 283, 339,
349,350,351,352,358,364,366,386
Идеология, 7, 8, 13, 35, 180, 181, 189,
192,296, 406, 408, 412,426-428, 449,
450, 452-454, 460-465, 469, 492, 504,
507,508,511,521,522,525,547
Идея, 99, 100, 161, 176, 177, 189, 238,
263, 275-278, 299, 302, 304, 305-308,
322,400
Имманентное (имманентность), 277,
278.279.280.338.376
Империя, 70,417,420
Индивидуальное, 48, 57, 58, 60, 69,
106, 128, 129, 134, 146, 157, 168,
174, 175, 182, 251, 305, 308, 320,
351, 359, 364, 365, 366, 371, 446,
515,524,530,537
Индивидуум, 110,232,303,307, 367
Интеллигенция, 114, 115, 273, 289,
418,419,520,526
Интенциональность, 244, 325, 331,
335-337,339, 350,378,384
Интенция (Intention), 345, 347-352,
358.359.365.366.377
Интеракция, 525, 531, 533,536
Интерес, 274, 515, 519, 521-524, 545
- "всеобщий " (Гегель), 308-309
- и познание (Хабермас), 508
- наивно-предметный, 351
558
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
- теоретико-познавательный, 332
Интерпретация, 120, 140, 206, 217,
223, 224, 229, 230, 238, 269, 275,
304, 331, 333, 343, 407, 408, 485,
492,526,534,536,547
Интерсубъективность
(Intersubjektivität), 259,338,384
Интроспекция, 329
Интуиция, 173, 199, 326, 327, 334,
365,522
Информация, 28, 59, 113, 173, 384,
412,486,503,507,543
-средства массовой информации,
543
Ирреальное, 237
Исключение (Ausschaltung), 255,
262,327-328,333,337,514
Исследование, 183,193,367
- генетическое, 360
- герменевтическое, 480
- логическое, 345
- психологическое, 319,325
-сознания, 236, 241, 251, 256, 319,
322,373
- теоретическое, 344
- феномеологическое, 328
- философское, 229,232
- философски-правовое, 299
- формально-априорное, 323
Истина, 84, 176, 177, 186, 189, 190,
195, 198, 199, 236, 237, 253, 262,
320-322,332,341, 349,356,357,362,
367, 402, 446, 454, 460, 480, 482,
496-498,500
- трансцендентального идеализма,
232, 238, 240, 242, 245, 246, 265,
311,401
-в себе, 237,357,362
Истмат, 507
Истолкование, 147, 226, 232, 237, 248,
253, 265, 271, 272, 285, 320, 326,
342, 391, 446, 461,534
- критическое, 232
Историзм, 362,534
Историчность, 446,447, 470
История, 58, 108, 110, 111, 290, 291,
308, 436
- и мифология, 121
- историзм (Дильтея), 534
- историческая цепь человеческого
бытия, 168
- "исторический запрос", 181
- историческое время, 177,251
- "историческое запоминание"
(память), 110-111
- историческое воспоминание
(Гуссерль), 224
- "историчность" (Хайдеггер), 470
- философии, 76, 140, 153, 210, 224,
227, 267, 310-312, 323,368,372,436,
440,447,480,505
- философия истории, 111,267
Капитализм, 179, 181, 184, 310, 515,
522,528,542,548
Картина мира, 408,529,533,535
- религиозно-метафизическая, 535
Категория, 25, 51, 114, 139, 140, 143,
147-153,155,159, 209, 285, 331,334,
357,367,368,371-372,407,433,434,
436, 445, 449, 488, 489, 509, 510,
513,537,543,545
- значения (Bedentungskategorien),
357
- материальные, 371
Католицизм, 438,440,442
Кибернетика, 29
Классификация, 49,188,193
Коммуникация, 28, 56, 346, 347, 352,
354, 385, 499, 504, 511, 512, 516,
525, 526, 531, 532, 534, 537, 543,
Oil/ ЗтсО/ ЭтхО
- коммуникативное действие, 516,
526, 527, 530, 532, 535, 536, 537,
539,544
- коммуникативные переживания,
352
- массовая, 543
Конкретное, 36, 37,154,168, 210, 251,
252,329,337,346,347,372,408,446
Конституирование, 245
Конституция, 335,519
Конструкция (Konstitution), 11, 28,
29, 99, 161, 260, 306, 309, 344, 362,
488,544
Коррелят, 245, 253, 264, 341, 358, 360,
377
Корреляция, 216, 262, 333
Критика, 16, 69, 75, 95, 107, 111, 121,
133, 182, 189, 194, 204, 206, 207,
208, 210-211, 213-214, 216-218, 220-
Предметный указатель
559
222, 226, 228, 231, 238, 242-244, 250,
255, 259, 262-264, 272, 288, 296, 300,
303, 310, 315, 317, 319, 320, 323,
328, 331, 336, 338, 344, 364, 380,
381, 386, 397, 406, 420, 426, 445,
447, 456, 477, 479, 497, 498, 515,
516,525,529,535
- науки и техники, 456
Критицизм, 231, 264, 506
Культура, 10, 11, 13-15, 20-22, 24, 27,
29, 32, 35-36, 41, 43-44, 51, 54, 57-
59, 61, 62, 72, 74, 76, 83, 91-92, 98,
99, 101-102, 104-105, 107-110, 112,
113-114, 118, 128, 134-135, 143-144,
157,160,162,170,174-177,179-182,
184, 187, 197, 199, 201, 206, 220,
231-232,256,323,351,362,368,390,
393, 396, 406,408,411-412,417,422,
459, 462-463, 465, 469, 471, 475-476,
478, 480-481, 484, 489-490, 494-496,
499,502,505,517-518,520,523,546
Личность, 19, 68, 71, 77, 86, 106, 142,
166,172,174,177-178,181-183,185,
187-188, 191-192,197, 200, 201, 235,
256, 281, 305, 354, 355, 359, 362,
363, 399, 402, 404, 407, 408, 410,
413, 422, 424, 428, 432, 438, 454,
472,473,480,489,506,521,547
- личностный мир ученого, 179
- личностный мир человека, 183
- ученого, 181,183,188,197,201
Логика, 80-81, 86, 87, 120, 127, 140,
141,143,145-147,150-151,153, 200,
219, 225, 238, 257, 262, 266, 267,
269, 276, 280, 285, 289, 291, 295,
298, 311, 313-315, 317-323, 326, 327,
330, 342-343, 344, 355, 357, 360-363,
365, 367, 369, 371-373, 376-378, 380,
388, 390, 412, 414, 426, 434, 436,
439,489,498,529,530
- ее парадигмальная значимость,
361
- как наука о знании (Фреге), 363
- логико-лингвистический генезис
феноменологического анализа,
339
- трансцендентальная, 258
- формальная, 114, 320, 360, 367
- чистая (reine), 344
Логицизм, 277, 320, 321, 322, 323, 324,
326,445
Логос (Logos), 24,92,99,102,105,108,
111
Марксизм, 9,17, 70,100, 224, 227, 232,
242, 243, 255, 256, 310, 407, 506,
507,522,525,536,538,542, 547,548
Математика, 36, 42, 43, 61, 93, 101,
186, 198, 200, 203, 219, 231, 258,
311-313, 315, 318-320, 322, 323, 326,
330,374,434,436
- математизация, 326
Материализм, 10, 165, 212, 213, 240,
328,406
Материальное, 30, 48, 53, 58, 100,
109-110,159,171,176,178,212,235,
240, 242, 327, 328, 334, 342, 368,
370-372,393,407,429,441,443,480
Материя, 57, 147, 176, 196, 198, 209,
212,213,371,388,399,407,419,490
Метафизика, 156, 242, 246, 263, 289,
291, 383, 401, 431, 442, 445, 450,
451,478,486,496,499
Метафора, 385
Метод, 171, 183, 190, 200, 210, 224,
225, 227, 228, 230, 232, 245, 247,
264, 331, 335, 341, 344, 354, 374,
388,391,392,398,407,446,489
Методология, 21,196,350,534
Механика, 198,256,408
Мировоззрение, 10, 24, 56, 92, 93, 95-
97,101,109,182, 272,476,478
Мировость (Weltlichkeit), 492
Мифология (мифологическое), 24,
56,110,121,141,533
Множественность (Vielheit), 23
Множество {математич.), 321, 366,
371
Модификация, 192, 202, 252, 326,
337,510,515
Монарх (монархия), 106, 273,285
- конституционная, 272
- монархическо-дворянская власть,
517
- монархическое государство, 285
- суверенитет монарха, 273
Мораль, 10, 35, 77, 88, 117, 119, 120,
199, 272, 292, 417, 418, 536, 538,
542, 545, 548
560
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Мотивация, 223
Мышление, 76, 77,80,87,90,111,166,
187, 194, 201, 209, 215, 232, 236,
238-239, 246, 258, 261, 277, 282, 340,
352, 356, 362, 367, 376, 386, 406,
408-409,413, 419,420, 426, 431, 451,
477,481,482,487,489,493,530
- аналитическое мышление, 351
- мыслительная деятельность, 258
Наблюдение, 125, 170, 173, 180, 181,
196, 197, 202, 219, 235, 327, 328,
329,366,411,441,521,522
Наличное, 116,146,150,155,279, 281,
282, 285, 286, 295, 302, 304, 308,
369,514,516
- наличное бытие (Dasein), 150, 155,
285,302,304
Настоящее (современность), 19, 110,
146-147,171,224,282,284,395,481,
482,494
Натурализм, 237, 242, 244, 251, 381,
384
Наука (Wissenschaft), 11,14-16,21-22,
29, 37, 58, 101, 112, 113, 135, 147,
150,158,171,177-184,186-188,190-
203, 220, 228, 231, 233, 235, 257,
266, 267,269,271,276,279-280,285,
287,289, 294-299, 301,319,321,327,
332,351, 355,357,361-363,372,374,
393-394, 396,401,406, 422,434,456,
462,467, 476,482, 489-492,505,508,
529,534,536,539,544
- ее практическая значимость, 202
- науки о природе, 401
- науки о сознании, 171
- наукоучение (Wissenschaftslehre),
313,317,321,355
- эмпирическая (empirische), 529
Научно-техническая революция,
185, 203
Нацизм, 425-426, 428, 449-450, 452,
454-455, 457-465, 468-474, 476, 478,
480, 484,485,507
Национализм, 296, 420, 426, 427, 449,
453, 455,464,468,495,497,507
- националистическое
почвенничество, 427
- националистическое
философствование, 296
Нация, 114, 223, 345, 363, 420, 421,
454,460,463,468,472,495, 506
-национальная униженность, 452,
453
- национальное самосознание, 420
Необходимость (логич.), 111, 214,
223, 226, 245, 249, 254, 260-261,276,
278,283,284,302,304,334,370-371
Неокантианство, 314,315,534
Непрерывность, 408
Нигилизм, 447,476
Норма,
- научно-исследовательская
деятельность, 179
- нормативное творчество, 186
- "нормативное ядро", 191
- нормативные установки, 187
- науки, 14, 178, 183, 184, 186, 191,
192,201
- нормы-идеалы, 184,190,203
- нормы-предписания, 194,197
- общесоциальные, 188
- система норм науки, 192
- функциональные, 184,189,197
Ноэзис (Noesis), 388
Ноэма (Noema), 388
Нравственность, 22, 62, 70, 77,81, 82,
85, 90, 98, 107, 114-121, 124-128,
132, 166, 169, 176, 177, 191, 272,
277, 279-282, 292-295, 304, 306, 307,
309,408,417-419,462,467,468,472,
475-497,499,506,521,539,545
Обоснование, 321
- логики, 257-258,344,355
- математических понятий, 312
- наук, 394
- научное, 234
Обстояние вещей (Sachverhalt), 348,
357,395
Общее (всеобщее), 38, 57, 111, 144,
148,152-153, 155, 249, 252-253, 258,
260, 277,304-306,308,355,358,360-
361,366,377
Общество, 11,14,15, 28,41,46, 57,60,
66-68, 95, 96,106-107,109,114,115,
117-118,120,121,128,134,141,144-
146, 151-152, 157, 167-168, 172, 174,
178-183,185,192, 202, 206, 263, 272,
277, 281, 289-290, 293, 297, 299-300,
303-304, 306-307, 309, 407, 409, 412-
Предметный указатель
561
414,417-418,452, 468,493, 494, 501,
509-519, 521-524, 527, 529, 531, 532,
534,536-538,541-542, 544, 546,548
- гражданское, 515,546
- общественная жизнь, 510
- общественная реальность, 298
-общественное сознание, 8, 109,
114,115,120,289,521,522
- общественно-политическая
ситуация, 235,274
Объект, 57, 73,100,112,118,163,178,
191,192, 212,231-233,235, 241,243,
244, 248, 251, 252, 258, 265, 322,
323, 325, 327, 328, 342, 344, 351,
363, 365, 374, 381, 383, 388, 399,
408,409,446,496,534
Объективность (Objektivität), 320,
332
- ценностная, 333,412,532
Одновременность, 214,217
Одобрение, 11,189,282
Одушевление, 106,455
Окружающий мир, 141,144,152,157,
160,233,234,235,243,399,497
Онтология (Ontologie), 139, 143, 156,
254, 337, 367, 373, 380, 388, 397,
431, 445, 447, 448, 449, 486, 487,
488,498
- материальная, 371
- онтологизм, 242
Описание, 109,112,118,197, 228,242,
257, 259, 262, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 334, 351, 354, 363, 374,
380,381,412,433,486
- феноменологическое, 328,329
Определение, 112, 113, 149, 157, 169,
171, 179, 196, 208, 210, 211, 213,
217, 218, 224, 227, 233, 238, 241,
245, 274, 283, 300, 302, 313, 338,
370, 376, 413, 420, 422, 424, 494,
495,530,532,534
Опыт, 23, 33, 35, 36, 38, 42, 45, 49, 57,
60, 69, 70, 76, 89, 92-95, 101-103,
114, 140, 142, 144, 158, 170, 172,
175,192,197, 214-215, 231, 234-235,
237-239, 249-250, 254, 258, 260-261,
264, 294, 322, 329, 351, 384, 393,
394, 396-397, 402-403, 408-411, 422,
423, 438-439, 455, 474, 477, 480, 485,
494,504,519,521,534,536,543
Осовременивание
(Vergegenwärtigung), 397
Отрицание, 312
Очевидность, 158, 194, 250, 259, 326,
329,334,340,394,400
- аподиктическая (apodiktische), 370
Ощущение, 96,186,208,209,210,240,
260,284,371,388,393,402,415,452
Память, 78, 79,109,110,111,132, 139,
171,175,176,443
Переживание, 78, 154, 171, 172, 173,
232, 237, 250, 332, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 358, 363,
364,373,378,453,482
-поток переживаний
(Erlebnisstrom), 171
Перцепция, 382
Письменность, 32,110,137
Платонизм, 358,490
Побуждение, 170-171,177,221
-духа, 173
Поведение, 67, 76, 116, 118, 131-132,
183-184, 186-187, 192, 306-307, 355,
381, 384, 451, 473, 477, 479, 506,
512,521,536,542
- групповое, 536
Поворот, 45, ПО, 118, 227-229, 232,
248, 265, 284, 313, 330, 396, 398,
402, 438, 441, 443, 485, 490, 499,
501,538
- внимания, 170
- к субъективности, 234
- от сущего к бытию, 156
Подход, 244, 250, 252, 256, 257, 327,
328, 341, 345, 351, 373, 383, 425,
426, 487, 504, 508, 509, 521, 530,
533,544
- естественных наук, 163
- к анализу времени, 211
- трансцендентальный, 238-240, 247-
248,256
- феноменологический, 351
- эмпирический, 326
Позиция, 17, 38, 85, 208, 219, 237, 238,
247, 259, 272-274, 316, 320, 322, 323,
372, 384, 389, 399, 401, 425, 426,
427, 445, 457, 458, 462, 469, 522,
541, 543, 547
562
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
Познание, 14, 15, 21, 35, 55, 102, 156,
159-161, 178-180,186,190,195,198,
200-201,208,209,218,219,225,226,
234-236, 238, 239, 241, 243, 244, 248,
249, 251, 253, 256, 257, 259, 260,
263, 278, 280-282, 321, 333-335, 339,
340,343-344,350,363,364,367, 368,
370, 376, 389, 406, 409, 442, 456,
493, 506, 508, 521, 525, 526, 529,
530,532,533,534,536
- его теория, 224,380
Полагание, 149, 150, 234, 245, 350,
364
Поле, 251,262,328,329,366
- восприятия, 381
- логической работы, 359
- сознания (Bewußtseinsfeld), 173
Полис, 22, 24, 26, 38, 46, 49, 60, 62, 63,
66,73,76,79,128,134
Политика, 35, 63,67,68,69, 71, 72, 74,
76, 77, 84, 85, 89, 90, 112, 121, 128,
133, 135, 274, 302, 411, 412, 413,
422, 424, 427, 457, 462, 464, 470,
477,490,509,525,547
- политическая вовлеченность, 427
- политическая теория, 274
Понимание, 35, 211, 352, 357, 387,
401,407,408,526,527,533-535
-бытия, 152-153,166
- времени, 206
- разума, 527
Постижение, 196, 278, 279, 282, 295,
297,482,506
Поток, 152,204,336-337,345,398
- переживаний, 171
- сознания, 170,172,262
Право
- абстрактное, 292,305
- бытийственная обусловленность
прав человека, 165
- его перворождение (Ursprung),
300
- есть свобода как идея, 302
Пребывающее, 159
Предложение (грсшматич.), 105,114,
147-149, 154,175, 348, 354, 359-361,
365,371,386
Предмет (Gegenstand), 36, 143, 149,
150,152-153,156,161,162,171,172,
175,196,199, 207-218, 227, 228, 234,
236, 238-239, 240, 242-245, 248, 250,
264, 275, 277, 280, 299, 304, 321,
325, 328, 332, 334-336, 339-342, 344-
346, 350, 354, 357, 359-360, 364-377,
386,491-492,509-510
Предметность (Gegenständlichkeit),
8, 213, 217, 228, 237, 239, 242, 258,
262, 331, 334, 335, 337, 339, 341,
342, 343, 346, 347, 350, 352, 357,
359-362,364,365, 367,368,369,371,
372,373,374,375,378,386
-ее типы (Gegenstandsarten), 336,
374
Предпосылка, 28, 32, 37, 40,110, 117,
141-142,145,152,157,164,166,194,
231, 233, 236, 246, 263, 264, 313,
317, 318, 326, 329, 330, 341, 360,
370, 373, 394, 398, 408, 423, 462,
502,537
- цивилизации, 21
Представление, 17, 20, 43, 49, 58, 59,
84, 88, 96, 134, 156, 176, 193, 194,
195, 202, 208, 214, 215, 216, 238,
239, 248, 249, 266, 300, 325, 345,
346, 355, 356, 357, 375, 399, 415,
481,491,525,533,536
Преступление, 83, 115, 125, 298, 410,
472,474
Природа, 30, 37, 39, 40, 42, 44, 52, 57,
93, 94, 99-100, 111, 117, 125, 126,
127,136,139,141-145,149,152,154-
168,174,177,186,195-198, 200-202,
213-215,219,232, 235, 239, 241, 250,
261, 263-264, 267, 276-278, 280-281,
291, 296, 300, 304, 307, 338, 342,
356, 370,396, 399,406-407,409,415,
468, 482, 489, 492, 493, 494, 500,
526,528,529,534
- "вторая природа", 155, 160, 161,
162,163,301
Проекция, 494
Производство, 33,50,59, 61
- товарное, 31,49,57
Пространство, 24, 39, 62, 141-142,
147,159-160,163,171,177, 204, 210-
217, 219, 234, 239, 248-249, 260, 326,
354-357, 371, 373, 389-390, 393, 403,
409,419,488,493, 503
Психика, 165,166,171,172,174
Психологизм, 224, 251, 315, 317, 319,
Предметный указатель
563
320, 323,328, 334,362, 364,391,446
Психология, 42, 81, 95, 104, 171, 225,
251, 311, 313, 314, 319, 324, 325,
328,330,332,345,381,382,384,436
- дескриптивная, 325,326,332
- психологический анализ, 384
- эмпирическая, 318,324,332
- эмпирическая, 318, 324,332
Рабство, 41,82,416,417,418, 512
- рабская гордость, 418
Равенство, 60,365,453
Различие,
- гегелевской и гуссерлевской
логических программ, 360
-Гуссерль и Мамардашвили о
Декарте, 394
- интенциональное и
психологическое, 366
- между цивилизацией и культурой
- между "нравственностью" и
"моральностью", 116
- между "физической" стороной
выражения и потоком
психических переживаний, 345
-"нормы-идеалы" и "фунциональ-
ные нормы" науки, 184
- "первой" и "второй" природы, 162
-типов интеллектуальной
деятельности, 104
Разум, 10, 16, 99, 105, 153, 158, 173,
193,196, 206-208, 210-213, 216, 218,
220-222,226, 228, 231, 238, 242,244,
255, 259,263, 275-280, 282, 305,308,
313, 334-335,356,402,410,420,447,
468,499,527-531,534,536,538,540
- критика разума, 238,529
- практический, 220,244,528,529
Расизм, 427,453,459,463,464,468
- расистская пропаганда, 463
Рассудок, 135, 136, 208, 210, 228, 240,
313,468,531
Рационализм, 7, 110, 257, 262, 263,
296,327,330, 527,530,531,534
Рациональность, 28, 260, 405, 407,
408, 526, 529, 530, 532, 535
- классическим и неклассический
идеалы, 406,408
- классический тип, 407
- неклассическая, 408
- практическая, 535
Реализм, 109, 240,365, 367,383, 532
Реальность, 55, 67, 106, 140, 145, 146,
147, 150, 151, 155, 157, 158, 159,
161, 162, 163, 168, 175, 211, 235,
241, 243, 253, 261, 264, 278, 280,
294, 305, 381, 385, 387, 403, 412,
416,543
Редукция, 207, 343, 363, 397, 398, 401,
403,419,446
- феноменологическая, 225,244,245,
327,334,343,397,400,446,487
Релятивизм, 118,324,328,362,446
Рефлексия, 114, 117, 118, 119, 120,
121,170,295,384,400
Рынок, 7, 31, 33, 42, 49, 50, 59, 60, 61,
62,133,520
Самоосмысление, 221,227,448
Самосознание, 5, 117, 146, 167, 172,
304-306,422,463,519,521
Свобода, 13, 14, 19, 45, 67, 70, 74, 79,
86, 89, 106, 107, 128, 129, 130, 131,
132,135,160,188,277,282,300-302,
304-305, 307-308, 334, 393, 403-404,
409-410,413,419,424,441,460,462,
474,477,495,499,512,521,536
- абсолютная, 302
Свойство, 148, 150-152, 162, 196, 197,
219, 336, 340, 356, 367-368, 371-373,
375,381,399,407,463,485
Семья, 41, 43, 71, 123, 127, 150, 277,
298, 305, 306, 428, 429, 434, 471,
480,512,517,531,542
Синтез, 21,120,228,252,298,313,330,
395,510,526,530
Система, 24, 29, 33, 35, 41, 68, 89, 94,
96,143,149,166, 169,171, 174,179,
180, 182, 185, 192, 193, 196, 200,
201, 202, 203, 224, 238, 248, 254,
267, 270, 275-277, 289-291, 293, 304,
307, 309, 327, 362, 367, 387, 390,
406-407, 411, 415, 423, 426, 442, 450,
513,520,532,537-538, 543,547
Скептицизм, ПО, 194,447
Скульптура, 24, 57, 92, 97,101,102
Смысл (Sinn), 56-57, 100-102,193, 235,
253, 320, 345-350, 352, 356, 358, 359,
365,379, 381, 384,386-388
- предметный, 209
564
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
- идеальный, 57
Собственность, 30,298,515,521
Совесть, 117, 121, 138, 186, 272, 298,
307,410,419
Содержание, 147, 148, 149, 151, 185,
189, 209, 279, 295, 298, 332, 340,
342, 345-346, 348-350, 354, 356-358,
361,364,367-369,371,378,384,406-
407,408,414,436,447,509
- идеальное, 250,350,358
- понятия "a priori", 254
- цивилизационно-жизненное, 99
Созерцание (Anschauung), 207, 209,
210, 211, 213, 214, 215, 216, 217,
219, 220, 228, 239, 248, 249, 259,
326, 339, 340, 348, 349, 350, 351,
352,365,369,381
- сущностное, 328
Сознание, 21, 35, 37-38, 57, 69, 76, 89,
115-116,118,120,131-133,135,140,
144-147,151,154,157-159,163,168-
178, 182, 185-186, 206-207, 210-212,
214, 218, 225-229, 232, 236-237, 239,
241-242, 244-245, 247, 249-252, 255-
258, 260-261, 263-265, 284, 300, 313,
315, 317, 319, 320, 322-323, 325-332,
334-344,346,348,350,352,355,357,
362-364, 368-370, 373, 375-378, 381-
383, 385-386, 388, 398-400, 405-409,
417-418, 446, 449, 480, 486-487, 488,
494,498,525,528-530,536-537,541
-"бытие-сознание" (Dasein [Хайдег-
гер]), 446
- его анализ (Bewußtseinsanalyse),
241, 247, 249, 250, 251, 252, 253,
255, 256, 257, 259, 260, 263, 314,
326,342,384,406,488
- его временность (Zeitlichkeit), 337
-его деятельность [продукты], 170,
174, 229, 235, 242, 259, 313, 329,
340,342
- историческое, 110
- поток сознания, 170,172,262
- специфика существования
сознания, 170
-структуры сознания, 228, 230-231,
249, 254, 257, 259, 264, 329, 334,
337, 339, 342, 348, 354, 362, 373,
384, 487
- творчески деятельное
("программирующее"), 344
-чистое, 331, 335, 336, 337, 338, 339,
342,350,365,378,385,398
Сомнение, 141,193-194, 237, 241, 355,
391,394,396-397,400,402-403
Социализм, 405, 413, 414, 416, 427,
449, 453, 454, 455, 469, 476, 543,
544,547,548
- его природа, 415
Социология, 14, 15, 21, 183, 192, 194,
379, 386, 406, 454, 506, 508, 521,
525,527,528,533,534,537,538
- коммуникации, 533
- познания, разума, 528
Социум (социальное), 49, 57, 68, 73,
96, 98, 106, 111, 114, 117, 121, 130,
141, 146, 157, 161, 162, 163, 168,
176-182,184,190,192,197, 232,235,
236, 243, 256, 278, 287, 292, 294,
297, 299, 301-303, 306-308, 386, 397,
406407, 412-414, 416, 419-421, 446,
453, 504-506, 508-511, 516, 518, 521,
522,525,527,531,533,537-538,543,
- социальная жизнь, 510
- социальная практика, 297
Спонтанность, 399,523,524
Структура, 22, 53, 57, 96, 115, 134,
155, 170, 175, 177, 198, 201, 206,
216,228, 231,240,242, 249-254,256,
257,260-262,264,287,292, 293,301,
308,329, 330, 334,336-339,342,343,
347, 348, 350, 352, 354, 358, 362,
365,370,373, 375,380-381,384,388,
417, 419, 446, 447, 449, 456, 481,
490, 511, 515-516, 520-526, 535-537,
538,542,543
- всеобщие структуры, 230, 239, 257,
259,329,487
Субстрат, 237,327,407
Субъект (Subjekt), 15, 148, 149, 201,
213, 218, 219, 227, 228, 230, 231,
235, 241, 243, 245-246, 254, 260, 261,
263, 328, 338, 359, 362, 367, 397,
401,408,447,487,530
Субъективность, 225, 227, 228, 229,
230, 232, 234, 260, 263, 272, 308,
328,396, 397,432, 544
Суверенитет, 273,293, 298, 546
- монарха и народа, 273
Предметный указатель
565
Судостроение, 23,27,31
Суждение (Urteil), 125, 148, 196, 199,
234, 235, 238, 248-249, 258, 260, 325,
327, 346, 347, 349, 354, 359-360,365,
377,386,394,398
Сущее, 142, 144, 147, 155, 156, 159,
169, 231, 250, 334, 338, 360, 369,
396,430,450,451,482,488,496,497
Существование, 111, 140-147, 149,
151-152, 158, 163-171, 173-175, 208,
211-212, 230, 232, 236, 239-241, 253,
262, 281, 299-300,306,363,367,370,
375,413,429,446
- внешнего мира, 233,235,237
-существующее для меня (Für-
mich-existierende), 234
Сущность, 48, 147, 153, 155, 174, 184,
206, 209, 211, 225, 237, 251, 253,
254,257,260-261,263,277,278,280,
299, 300,304-306,316,318,322,326,
327, 337, 343, 354, 370, 371, 386,
399, 408, 422, 435, 445, 446, 461,
480,482
- демократии, 71
- духовная, 56,71
- государства, 304-305
- "реализм сущностей", 240
- сущностная интуиция, 260
- сущностное созерцание, 328
- "сущностный априоризм", 255
-усмотрение сущности, 365, 400,
446
- человека, 163
Схватывание, 217,219,235,334,482
Схоластика, 153, 187, 189, 195, 431,
435,436
Тезис, 196, 213, 232,238,423, 474,488,
529
Телесность, 165,380,381
Тело, 163, 380, 381, 382, 383, 384, 385,
419,488,533,534
- как "вещь", 167
Тело (живое, Leib), 144
-тело человека, 164, 165, 167, 370,
381
- телесность (Leibhaftigkeit), 380
Теория (теоретическое), 35, 95, 140,
154, 158, 181, 191, 201, 206, 213,
218, 219, 224, 228, 243, 247, 254,
257,259,263, 274,285-287,292,297,
298-299,303,304,311,318,322,330,
333, 336, 344, 354, 355, 359, 376,
382, 407, 436, 440, 500, 508, 526,
529,531,532,539,541,544
- времени, 206,220
-познания (Erkenntnistheorie), 224,
244,263,364,367,380,412
- политическая, 274
Технология, 39,54,181,259
Тождество, 148, 169, 292, 304, 340,
359,362,365,366,373
- рода (Identität der Spezies), 359
Тоталитаризм, 17, 106, ИЗ, 303, 427,
449,498,506,507,516,523,547
Тотальность, 546
Трагедия (трагическое), 19, 120-125,
128, 135, 138, 256, 390, 402, 427,
447-449,462,481
- трагическая философия бытия,
447,448
Традиция, 21, 42, 100, 116, 120, 155,
193, 201, 221, 222, 224, 260, 261,
299, 329, 339, 362, 391, 397, 415,
429, 431, 445, 451, 487, 506, 510,
521-523,528,532,535,541,545,548
Трансцендентализм, 227-233, 237-
239,241-247,249,250,255,258,259,
263-265, 331, 332, 334, 399-401, 408,
446,487,488,492,493
- его принцип, 228,233,244,247
Трансцендентальное, 226, 227, 232,
238,239,240, 242-248,250,252,255,
256, 259, 265,311,323,390,394-397,
401,409,411
- трансцендентальная
феноменология, 227, 330, 331,
332,397,447
- трансцендентальный идеализм,
232, 238, 240, 242, 245, 246, 265,
311,401
Трансцендентное, 250
Уведомление (Anzeige), 345
Указание (Hinweis), 345
Универсалии, 365
Усмотрение, 234, 253, 259, 327, 365,
366,374, 400, 446,487
Установка, 57, 90, 178, 198, 206, 213,
234-236, 243, 248, 251, 255, 278, 300,
566
H. В. Мотрошилова «Работы разных лет»
308,327,398,399,402,493,536
- естественная, 235,236,237,240,245
- логицизма, 322
Утопия (утопизм), 38,537
Факт, 149,150,158,165,166,182,192,
197, 207, 209, 213, 230, 231, 234,
237, 241, 246, 252-254, 261-262, 283,
286,391,401,407,445,460,509
- философский, 242
Фактическое, 251, 252, 254, 260, 407,
519
Фактичность, 540
Фантазия, 252,350,351,499
Фашизм, 426, 427, 457, 471, 472, 482,
497,506
Феномен, 170, 246, 299, 301, 315, 322,
325, 327, 332, 336, 340, 342, 343,
344, 346, 347, 354, 378, 385, 386,
389, 391, 395, 396, 397, 398, 399,
400,401,406,408,410,411,424,486
- психический (psychisches), 325
- физический (physisches), 346
Феноменальность, 384
Феноменологическая редукция,
400,487
Феноменология, 221-222, 224, 226-
230,232,236,240,241,244-245,247-
248, 250-251, 253-255, 257, 263-266,
310-318, 321, 323-339, 341-346, 348,
350, 352, 355, 359, 360-365, 367-368,
370, 373-374, 377-385, 388-389, 391-
392, 395, 398, 405, 406, 408, 436,
437, 439, 440-441, 444-447, 450,487-
488,534
- Гегеля, 355,361,363
- логического разума, 335,336
- феноменологически
ориентированная философия языка, 335
- духа (des Geistes), 266
-трансцендентальная, 227, 229, 231,
330,331,332,397,447
- феноменологическая дескрипция,
347
- феноменологическое движение,
332
Философия,
- "Серебряного века", 8
-"первая философия" (Erste
Philosophie), 224,317,432,445
- "фюрерства", 427
- ее задача, 242,279
-ее история, 17, 19, 21, 76, 140, 153,
210, 224, 227, 267, 310-312, 323, 368,
372,436,440,441,447,480,505
- ее отношение к действительности,
297
- и современная эпоха, 279
- истории, 290,297
- права и нравственности, 280
- псевдофилософия, 296
- религии, 291
- сознания, 383,405,535,536
-трансцендентальная, 3, 221, 226,
227, 232, 233, 237, 239, 246, 247,
264,314,331,391
- права, 16,182, 267, 269-275, 278-281,
287-288, 290-291, 293-294, 296, 297,
299, 301-302, 304, 305, 307-309, 508,
540
- экзистенциальная, 448
Финансы, 23,35
Форма (формы),
- бытия, 155
- данности, 215
-духовной культуры,
объективированные, 368
- категориальные, 361,367
- коммуникации, 26
- логическая, 321
- нравственности (по Гегелю), 293
- политические, 63
- предметностей, 373
- общественности, 511
- созерцания, 211,220
- сознания, 249
- чувство формы, 54
- языка, 389
Формальное, 114, 128, 129, 240, 258,
315, 320, 322, 334, 343, 360, 361,
367,371,409,533
Фундирование, 225,375,376,388
Целое, 367,369,370,371,373-377
- бытие как целое, 498
- нравственное, 306,307
- предмет как целое, 252
- языка, 175
Цель, 57, 100, 161, 163, 189, 196, 208,
234, 306-307, 309, 394
- исследования сознания, 322
- научных занятий, 199
Предметный указатель
567
- разума, 305,308
- философии, 284,451
- целеполагание, 161
Ценность, 13, 24, 37, 56, 67-69, 76, 79,
83, 96, 100-101, 109, 116, 118, 119,
121-123, 128-129, 132-133, 135-138,
166,170,176-178,180,182-183, 403,
495
- антиценность, 84,131,135
- духовные, 61,135
- истина (Бруно), 187
- политико-правовые, 68
- ценностные понятия, 435
- ценностные поступки, 398
- этические, 77
Церковь, 187, 188, 202, 403, 428, 429,
433,441,476
Цивилизация, 15, 20-28, 30-40, 43-45,
48,50-53,57-60,62-63, 65-72, 74, 76,
79, 82-83, 90-95, 97, 99, 101, 103,
105,111,115,117-119,128-129,131-
132, 156, 162, 169, 176, 251, 287,
405, 408-409, 415, 422, 494, 511-512,
515,530
- принцип цивилизации, 40,130
- цивилизационное бытие, 162
- цивилизационный скачок, 28,35
Человек (люди),
- "тростник" мыслящий, 160
- homo soveticus, 419
- абстрагирование от него, 401
- поиск единства с природой, 144
- бытие человека, 157,164,168
- цивилизованный, 41
- как природное тело, 167
Число, 150, 312, 318, 320, 322, 326,
360,365-367,371-373,435
Чувственное, чувственность, 140,
207-212, 215, 217-220, 226, 239, 243,
249,254,260,314,339, 355,381
Чувство (Sinn), 61, 62, 81, 86,129,152,
156, 170, 205, 216, 217, 371, 420,
421,424,434,449,452,453,468,479
Шестидесятники, 5-9,11
Эйдетика, эйдетическое, 327
Эйдос (Eidos), 103,252,253,327
Экзистенция [существование]
(Existenz), 497
Экология, 41,162,175, 202,497
Эмпиризм, 257, 263, 317, 318, 322,
323,327, 330, 334, 362,374
- эмпирическая психология, 318,
324,332
Эпистемология,
эпистемологический, 343,355,528
Эстетика, 102, 207, 208, 209, 210, 213,
214,215,218,219,291,409,529
- трансцедентальная, 210, 211, 215,
216,219,314
Этика, 24, 60, 61, 78, 87,117,119,127,
327,528,534
Эгос,92,135,452
Я (Ich), 170, 172, 248, 264, 305, 332,
334,338,347,355,396,398-401
-"Я-сам" (Ich selbst), 227
- Я и другой, 384
- универсальное сознание Я, 250
- редуцированное; 401
- трансцендентальное
(transzendentales), 245
Явление (Erscheinung), 151, 209-211,
214, 217,235,238-239,246,249,309,
325,332,340,372,399,407,408,410
- являющееся, 106,218
Язык, 37, 56, 67, 78, 92, 99, 104-108,
. 113,114,121,144,146-148,152,154,
159,160,169-170,175-177, 219, 251,
267,335,343,345,355,368,378-379,
384-386, 388, 389, 405, 418-419, 426,
446-447,482,491,492,494,497,499,
511,514,529,530,536
- языковые выражения, 354
Научное издание
Мотрошилова Н. В.
Работы разных лет:
избранные статьи и эссе
Редактор
А. П. Григорьев
Технический редактор
B. Г. Никитин
Корректор
C. Г. Воробьева
Издатель
И. А. Михайлов
ИД № 02065 от 16 июня 2000 г.
Подписано в печать: 23.11.2004
Формат 60x90 Vi6- Бумага офсетная № 1
Печать офсетная. Усл. печ. л. 36
Тираж 1000 экз. Заказ № 11375
Издательство «Феноменология—Герменевтика»
109387, Москва, ул. Люблинская 109-3-35
phaenomen@rambler.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться в магазин «Гнозис»
Зубовский б-р 17,
тел.: (095) 247-17-57
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография ''Наука"»
121099, г. Москва, Шубинский пер., 6