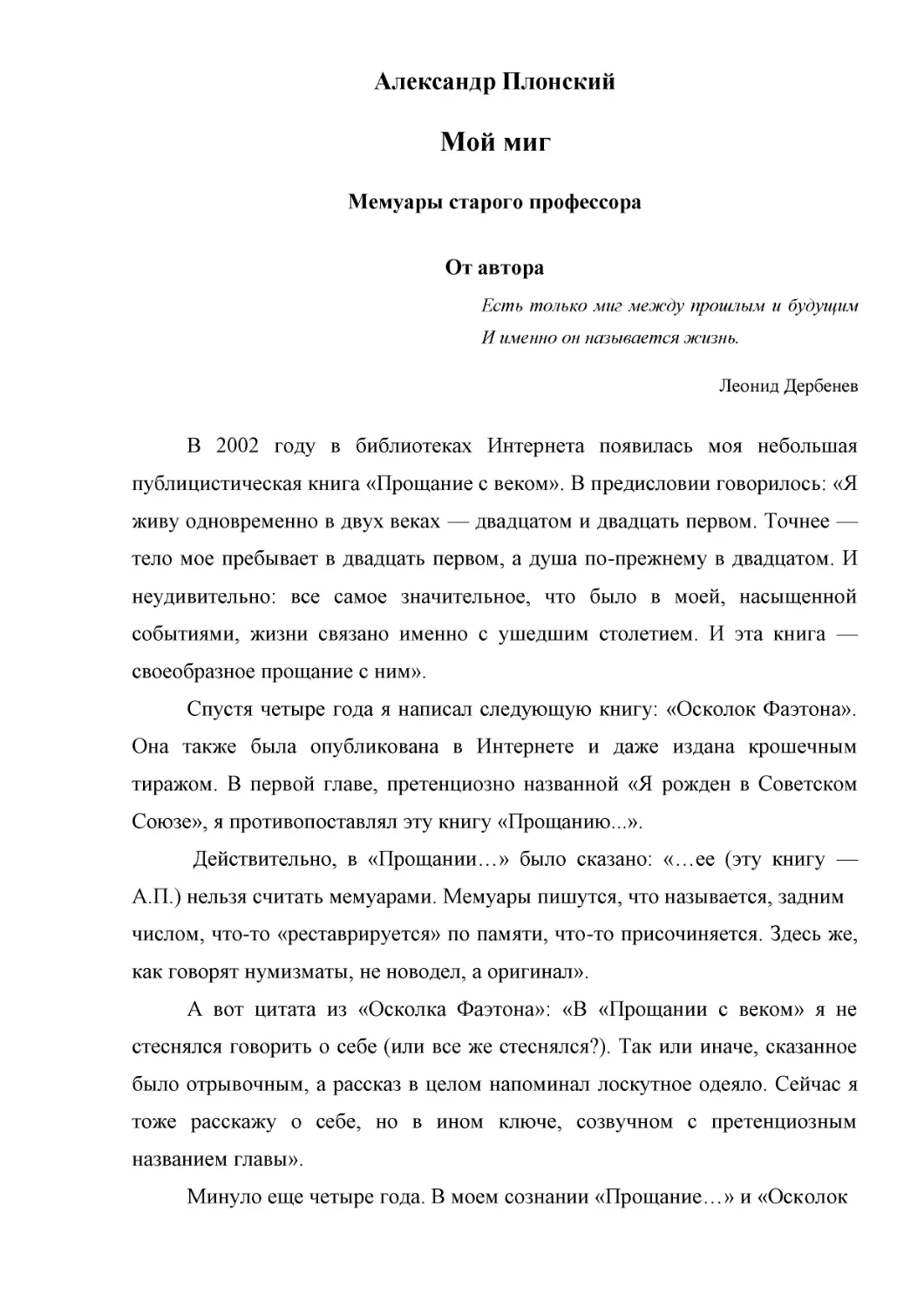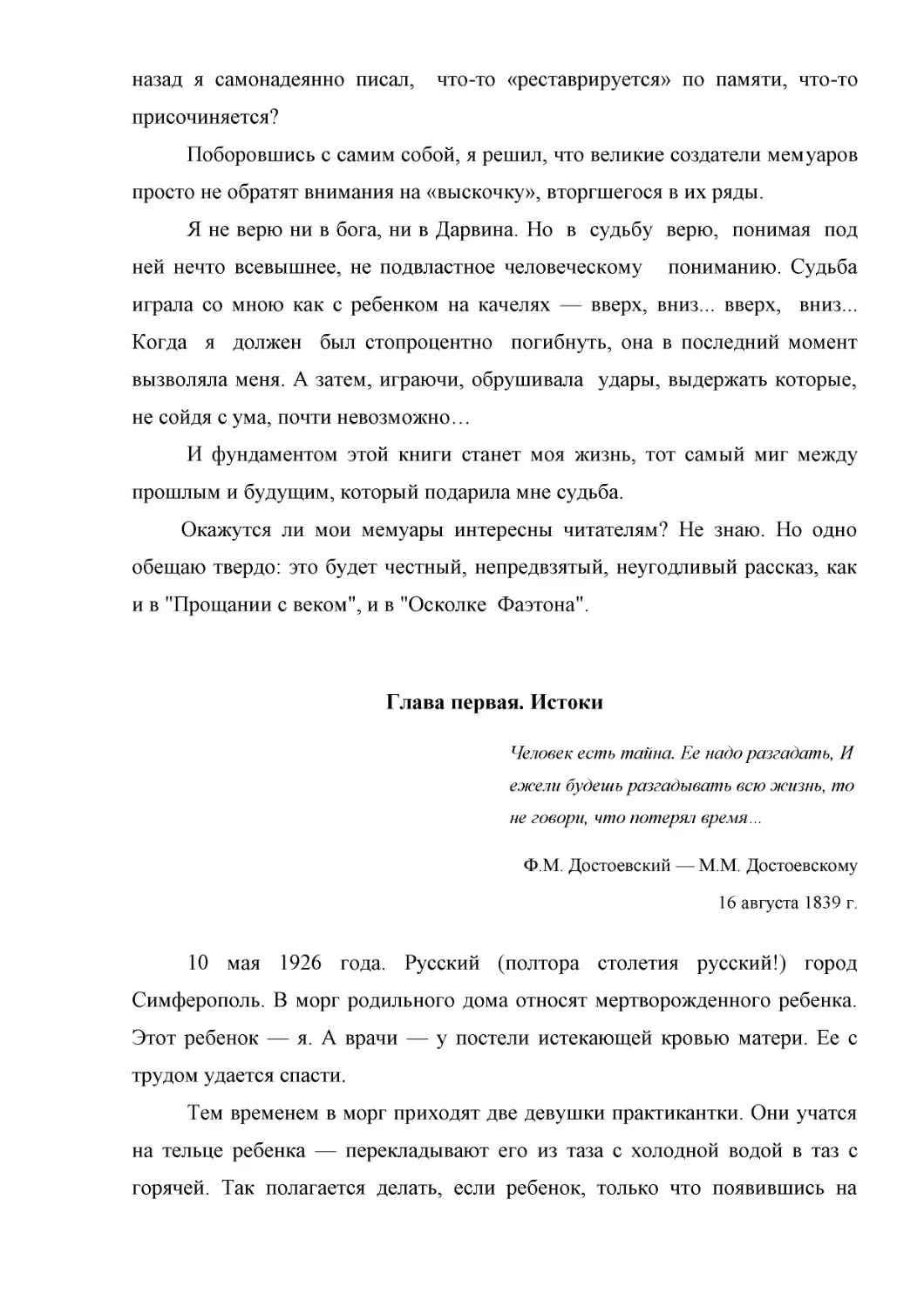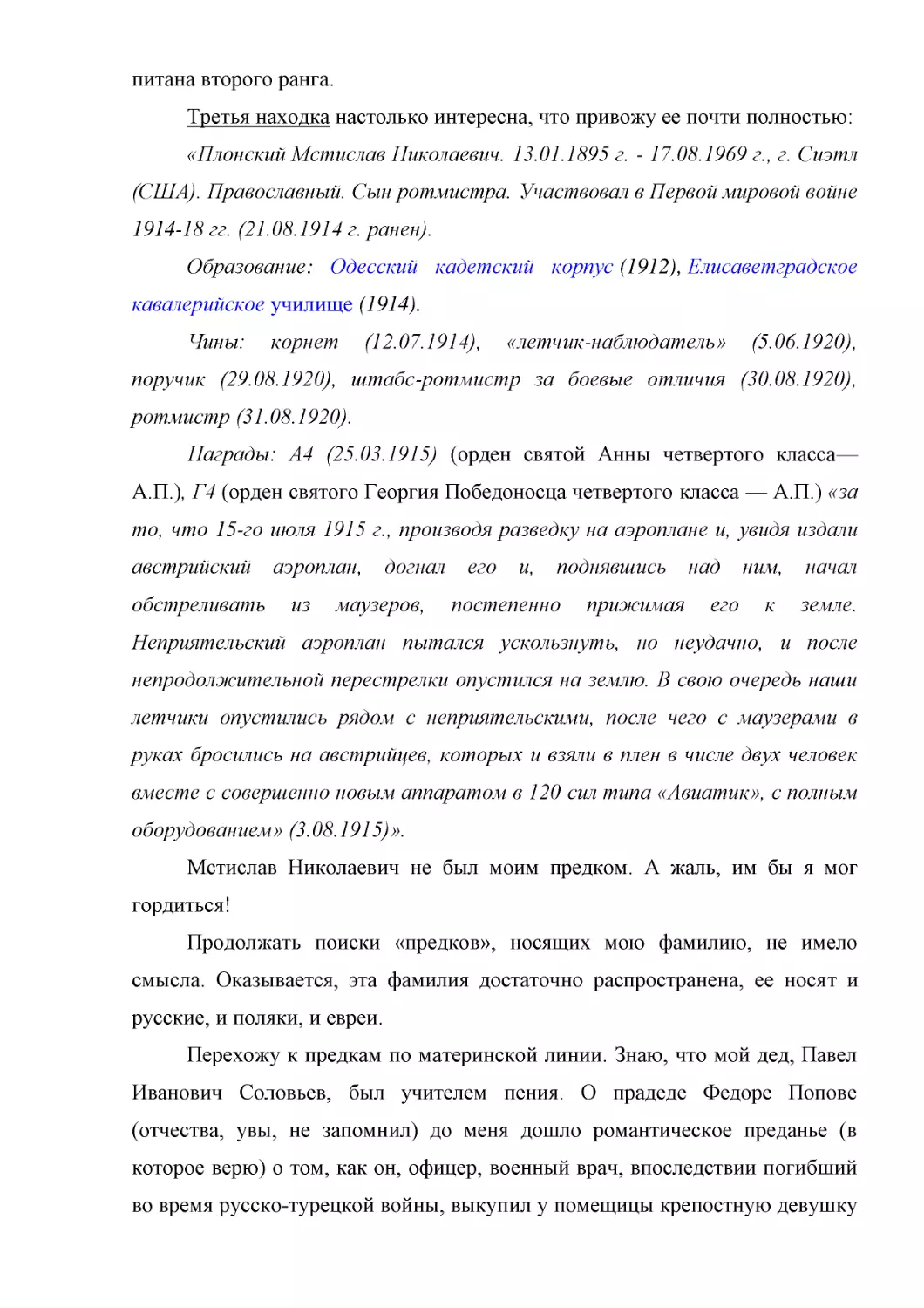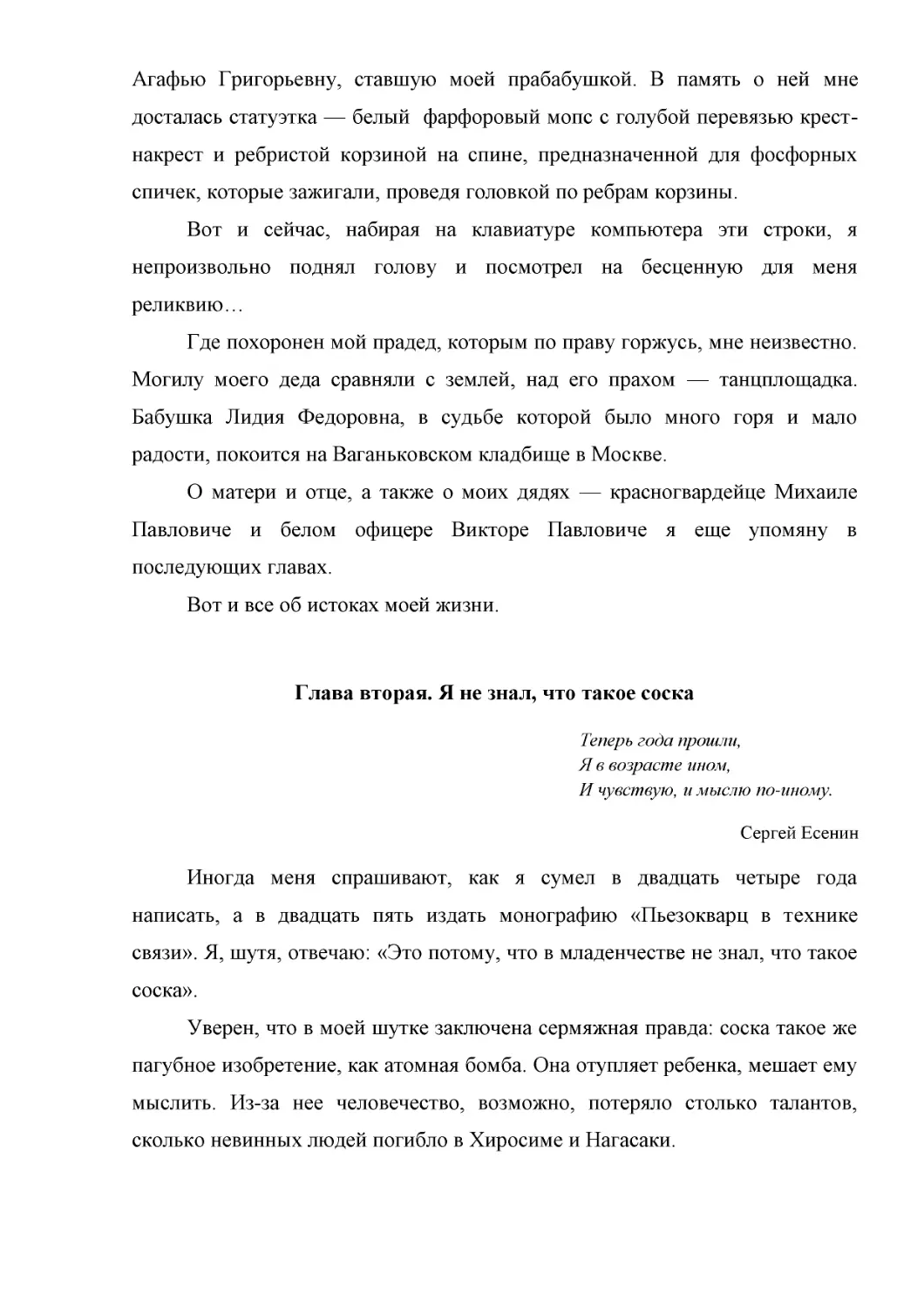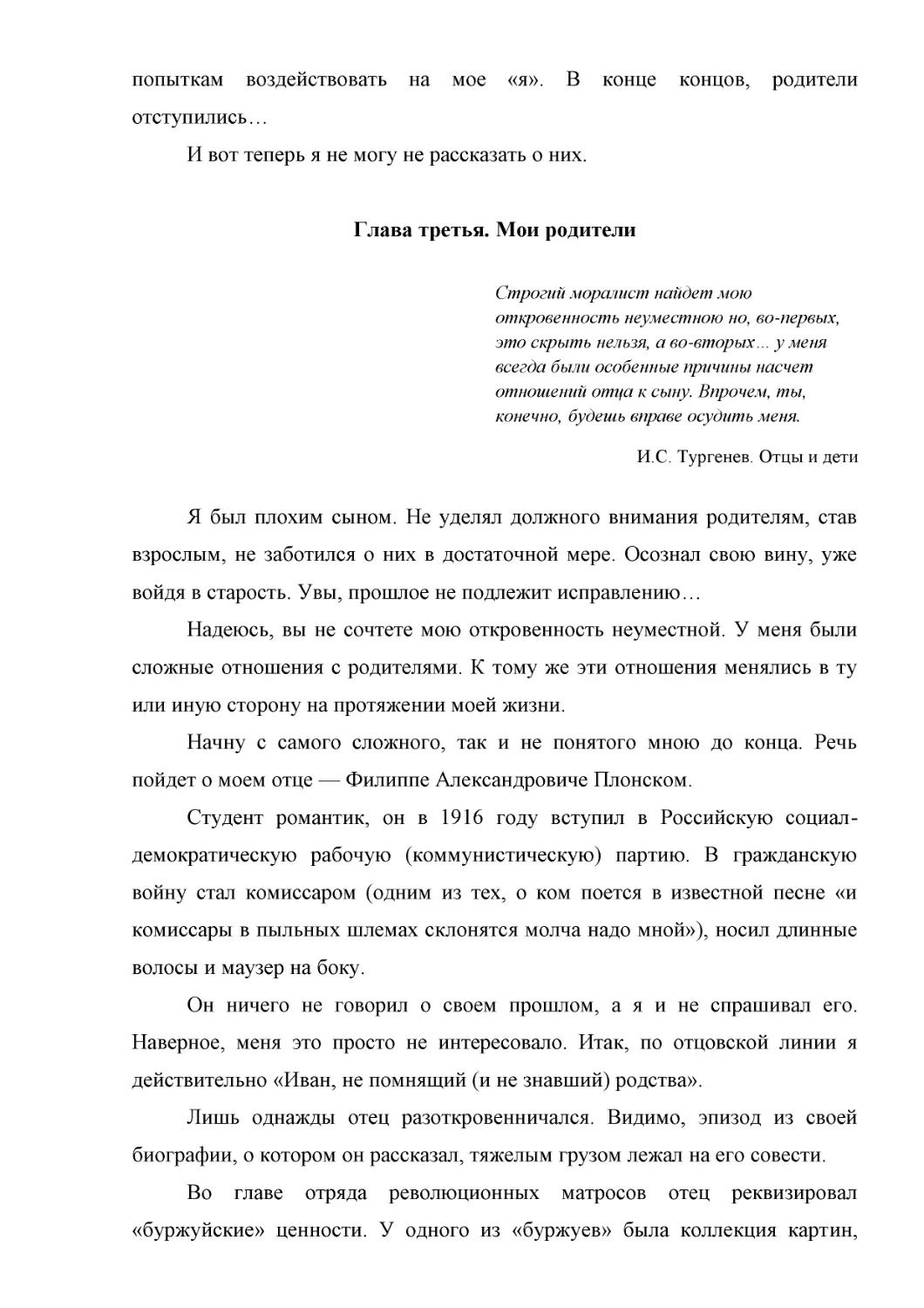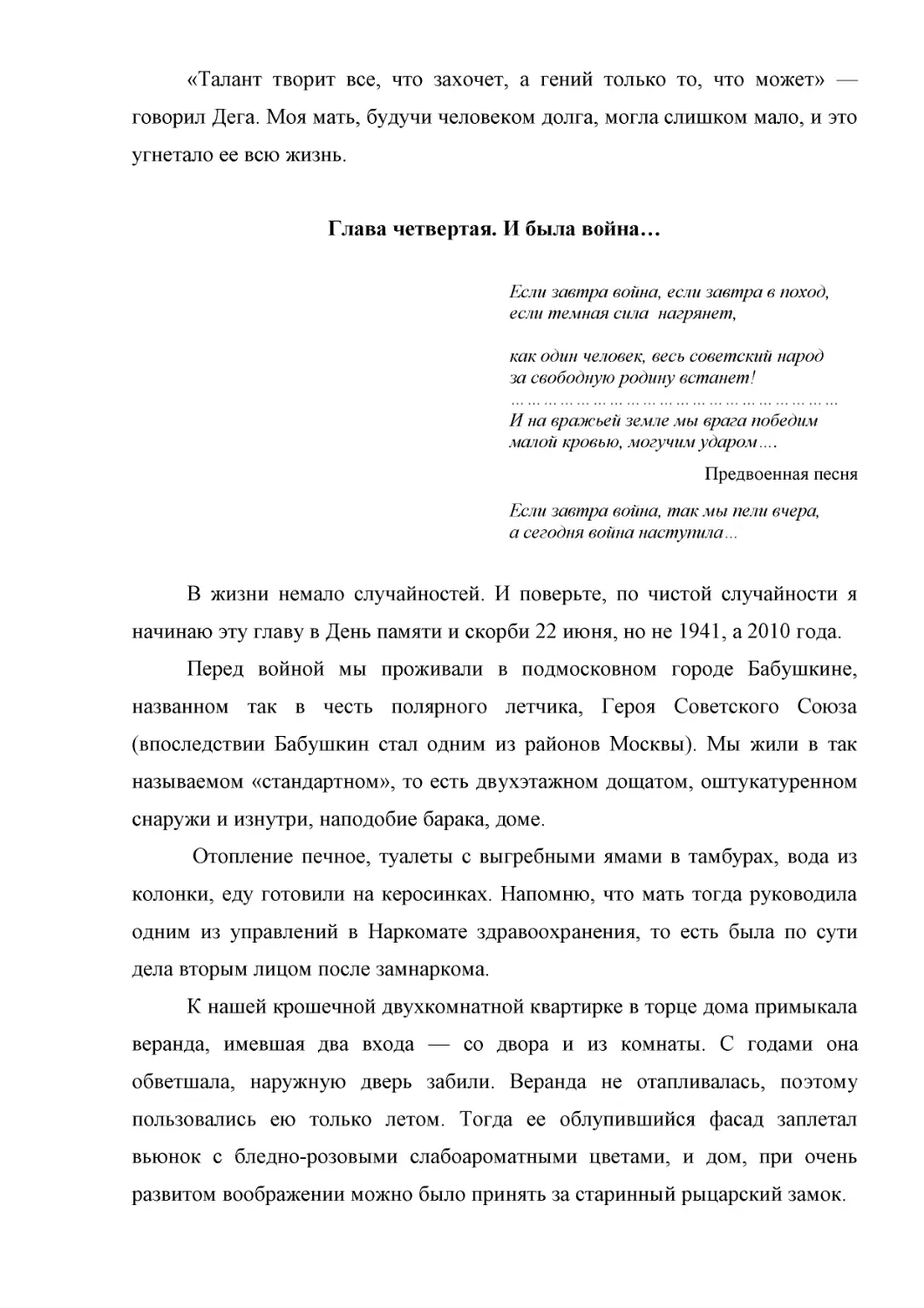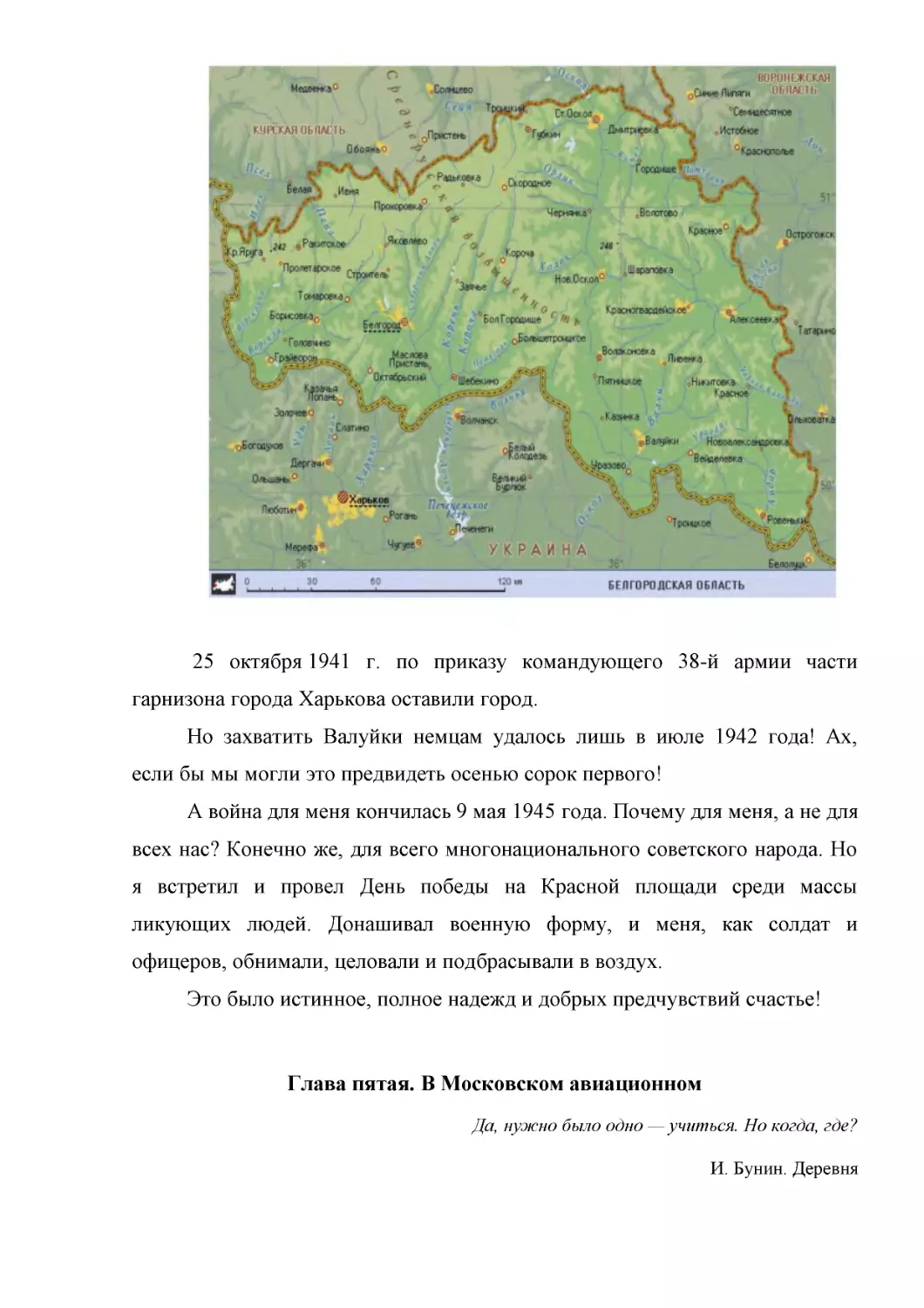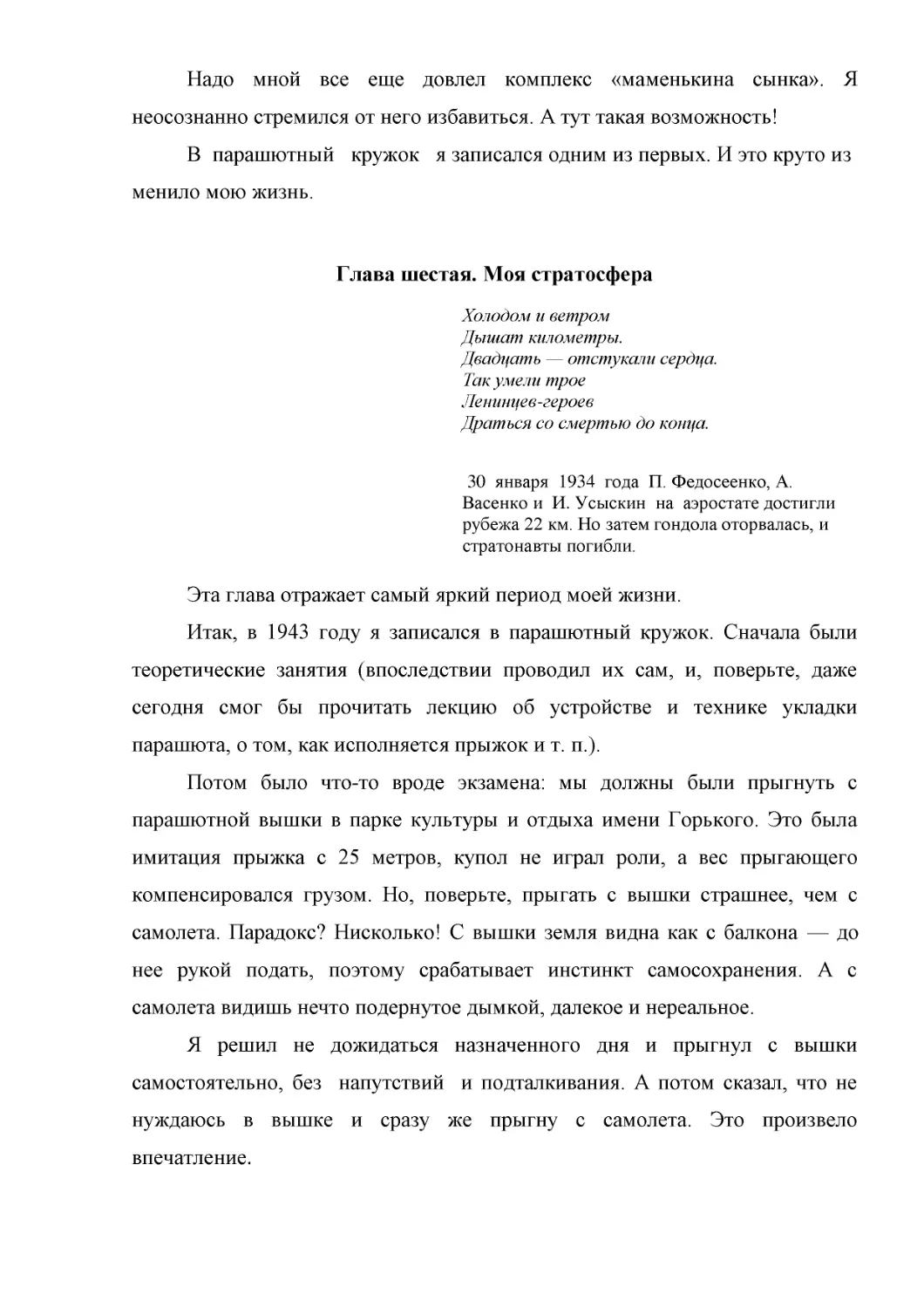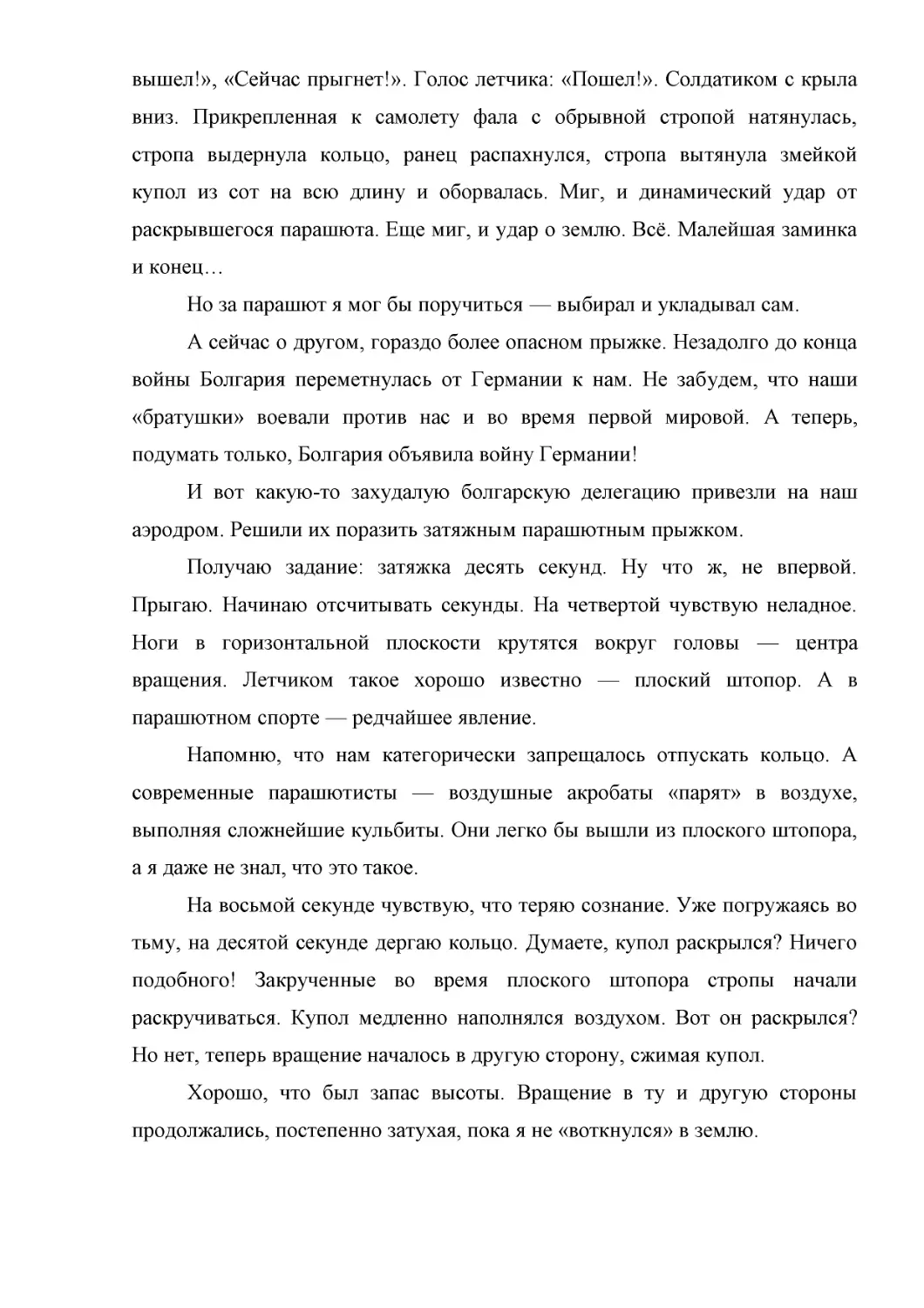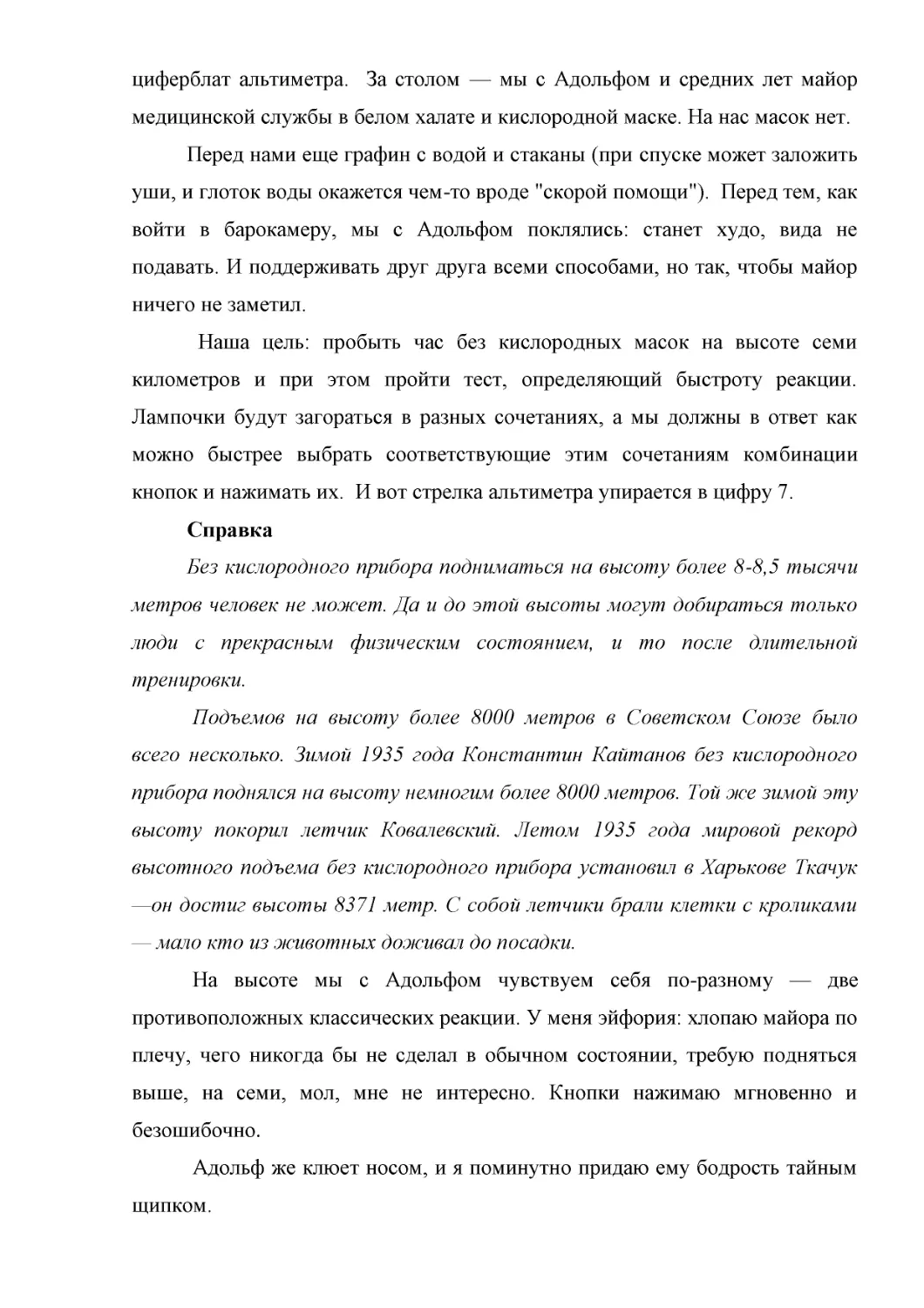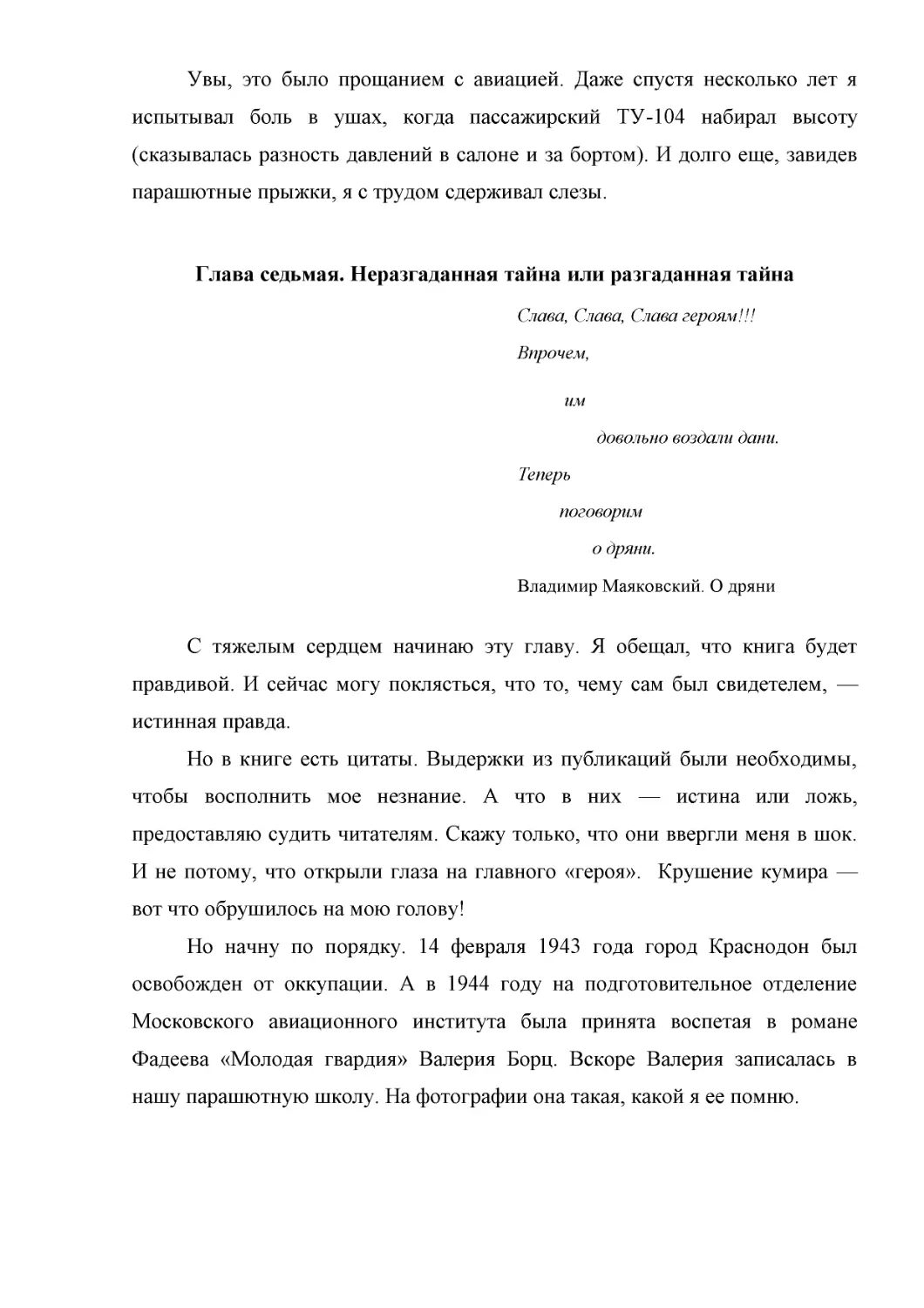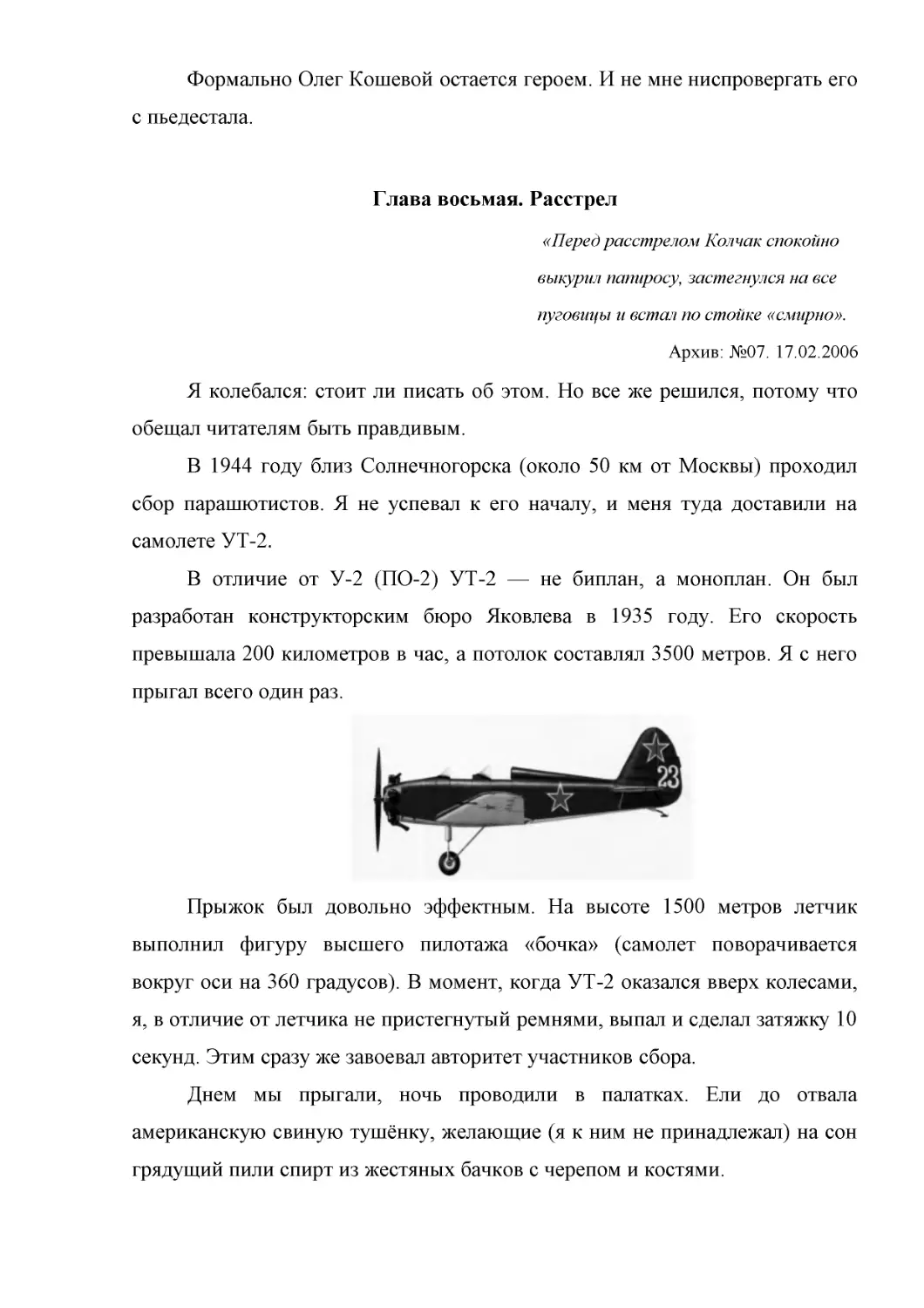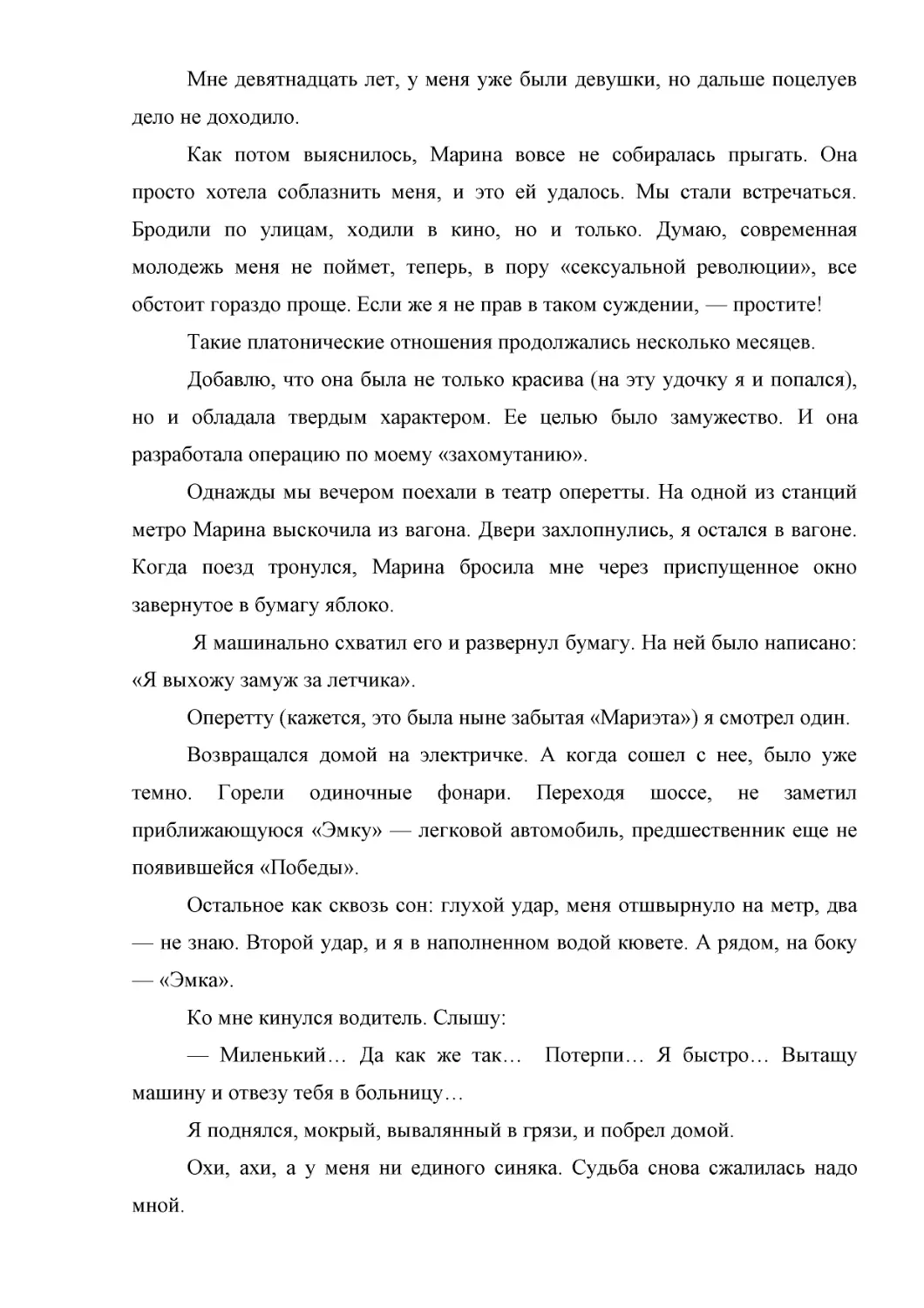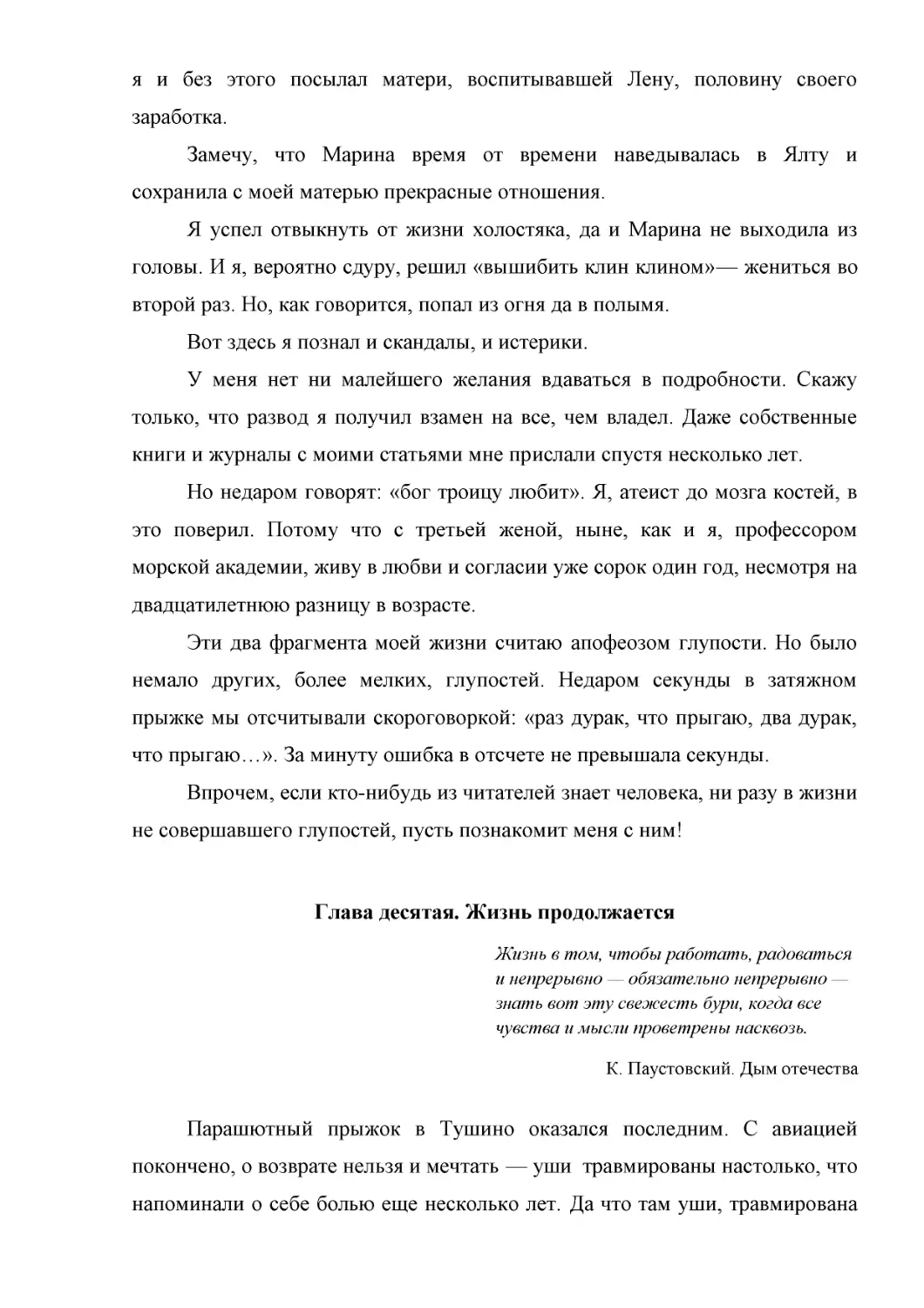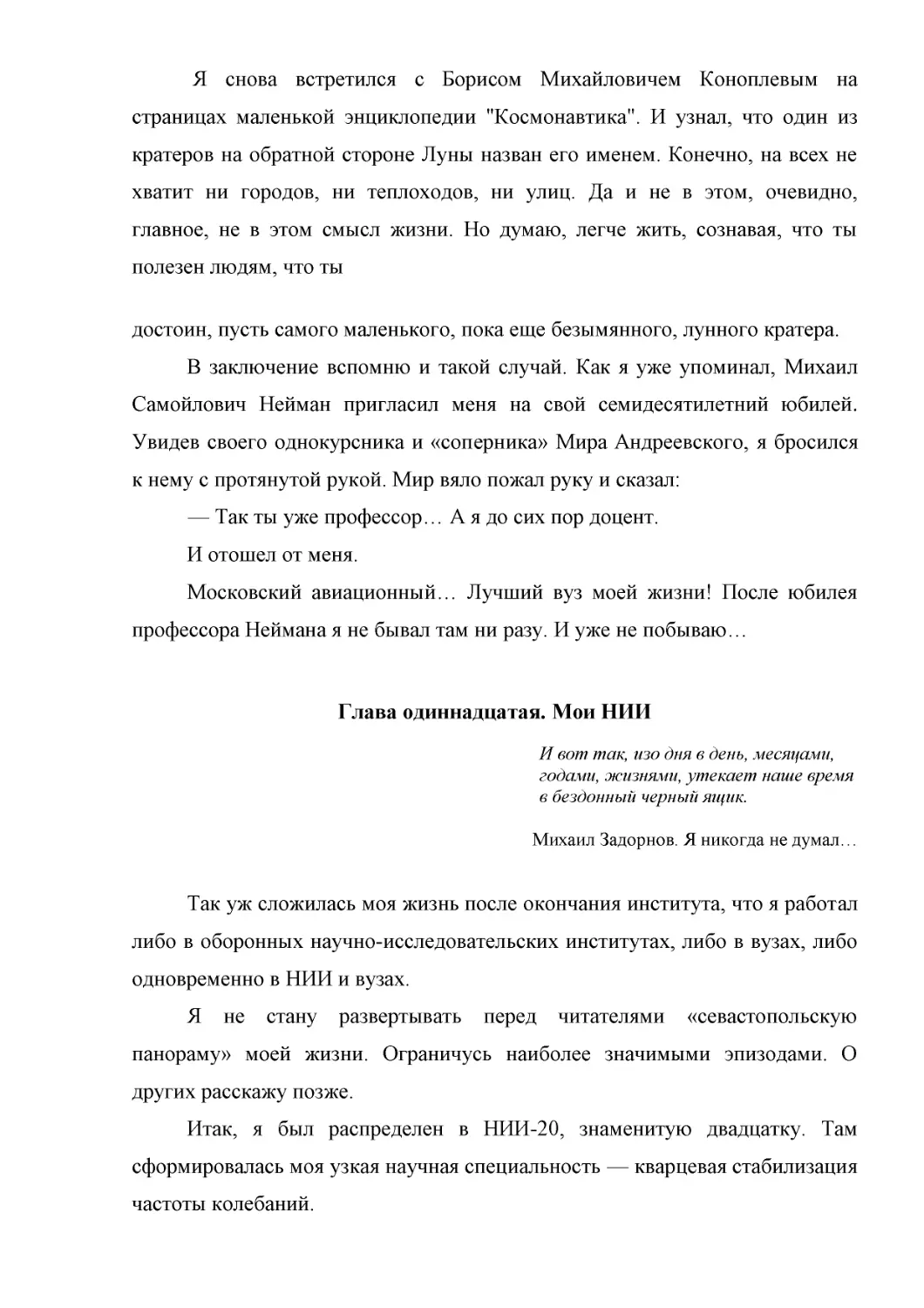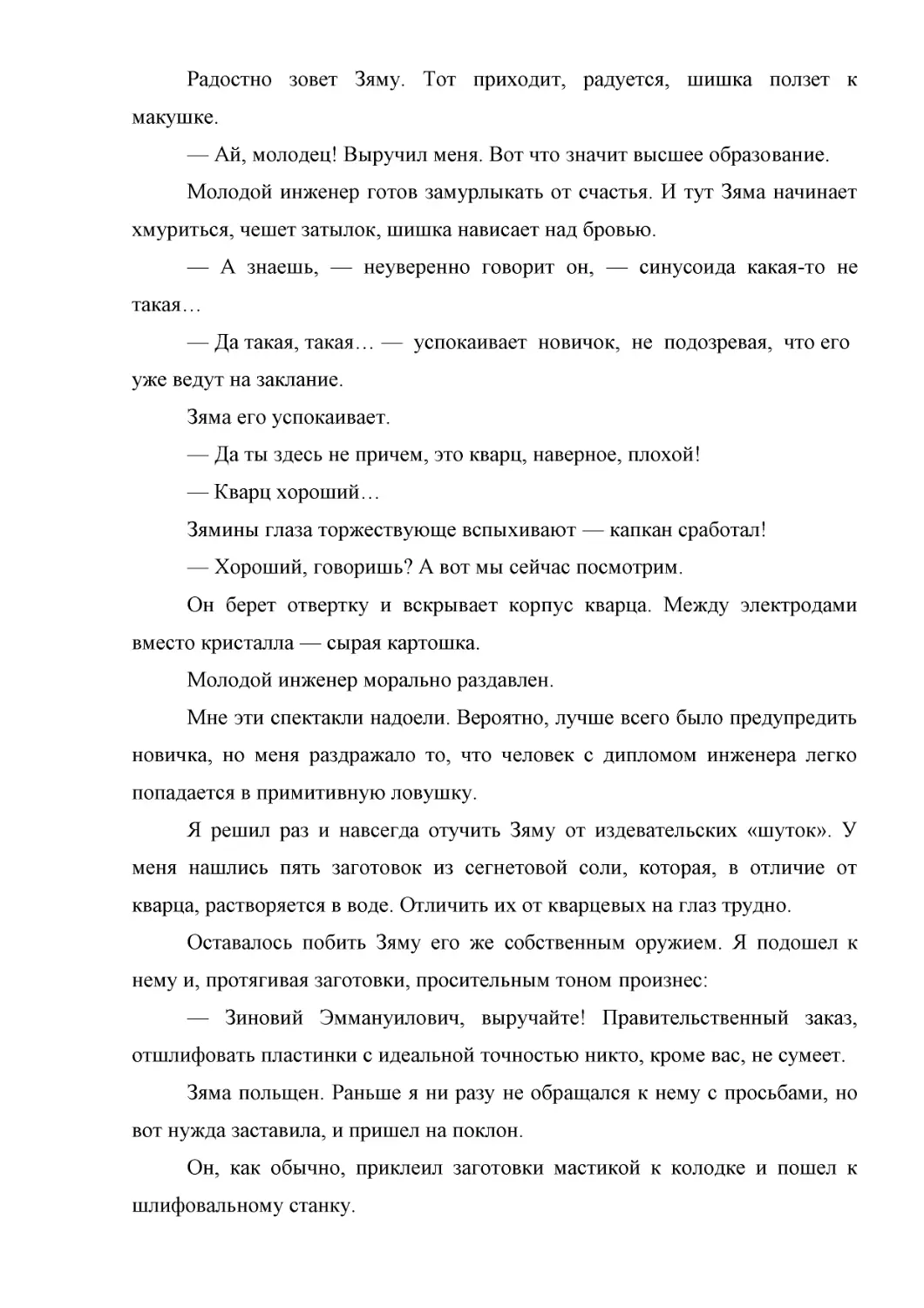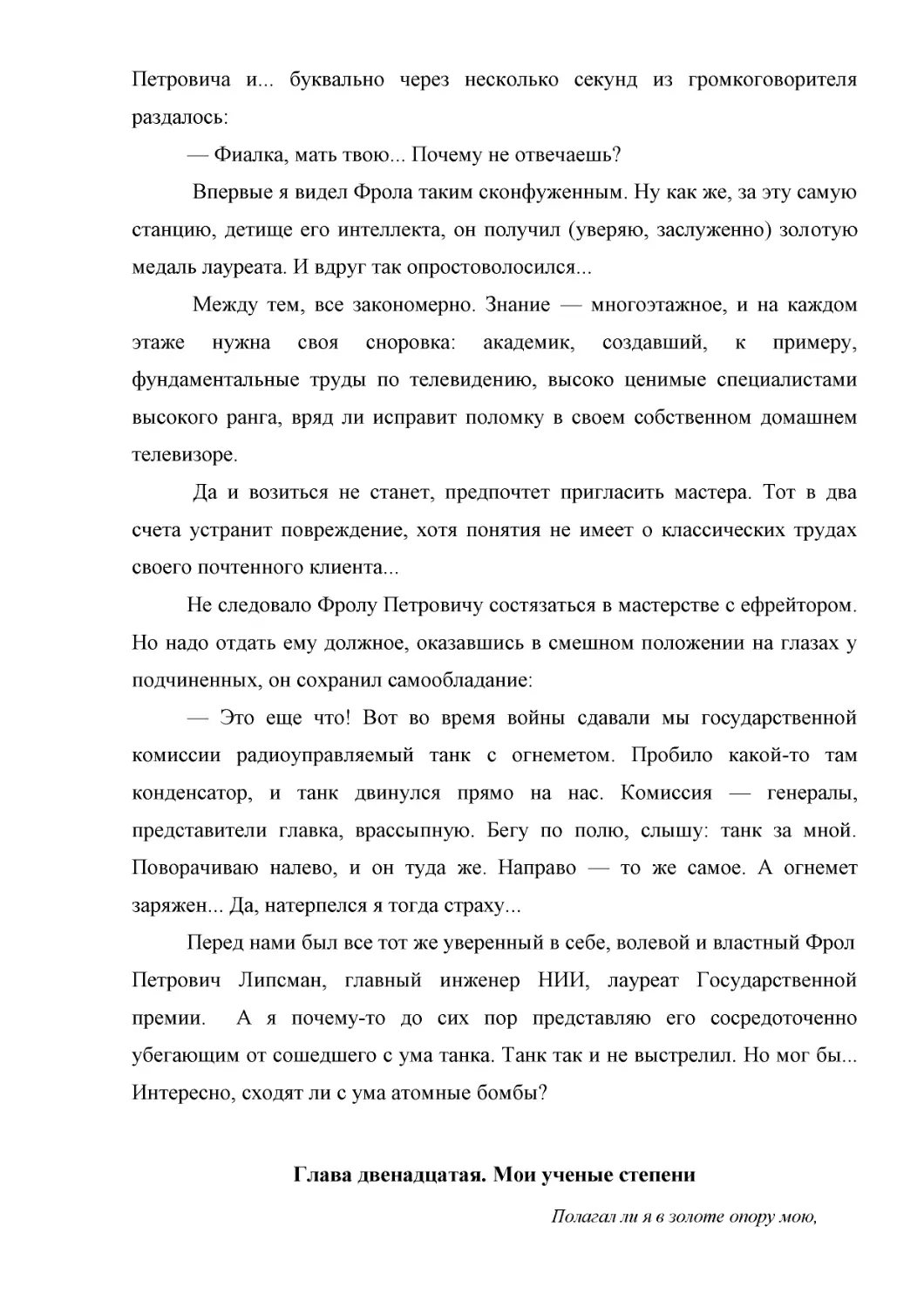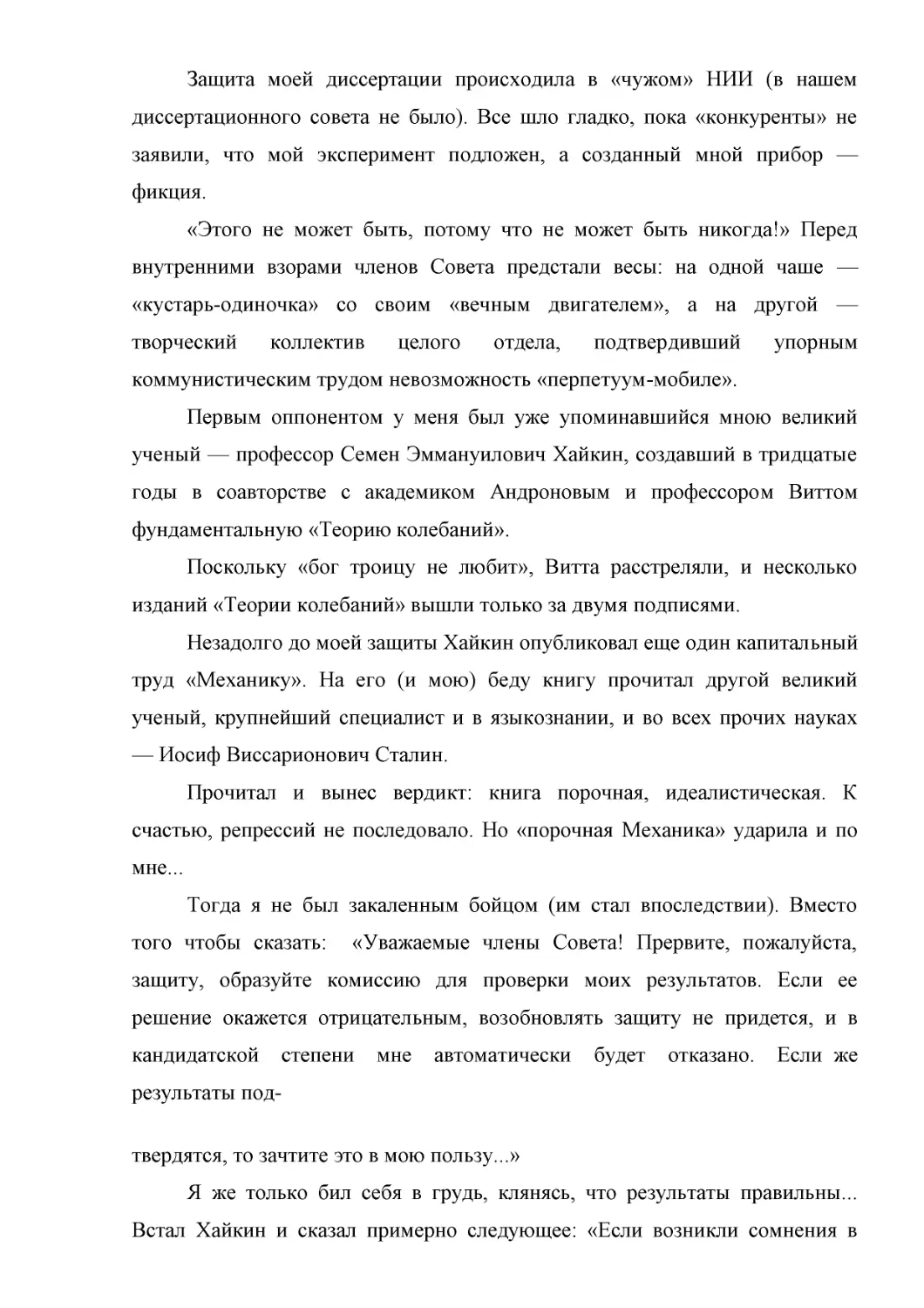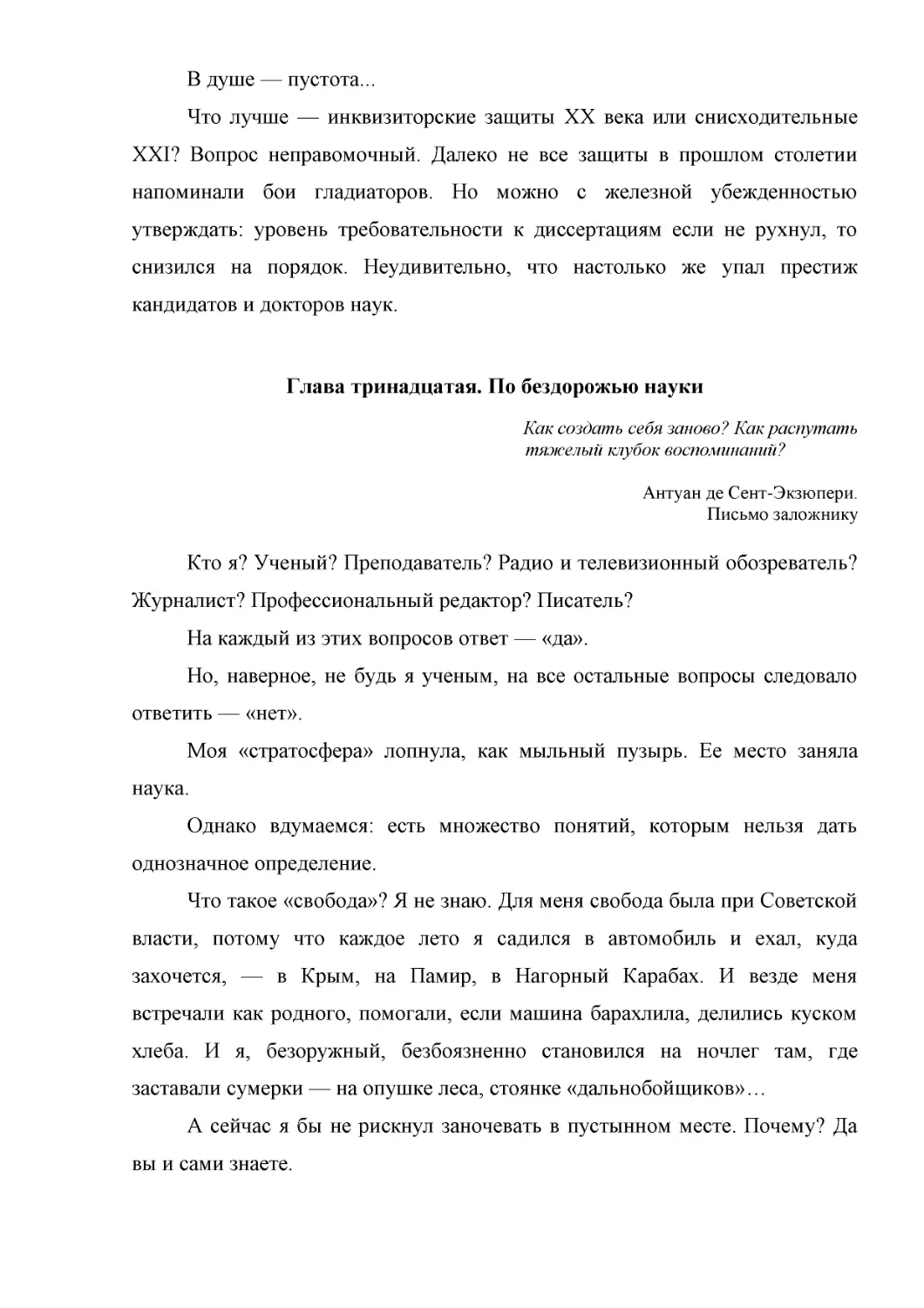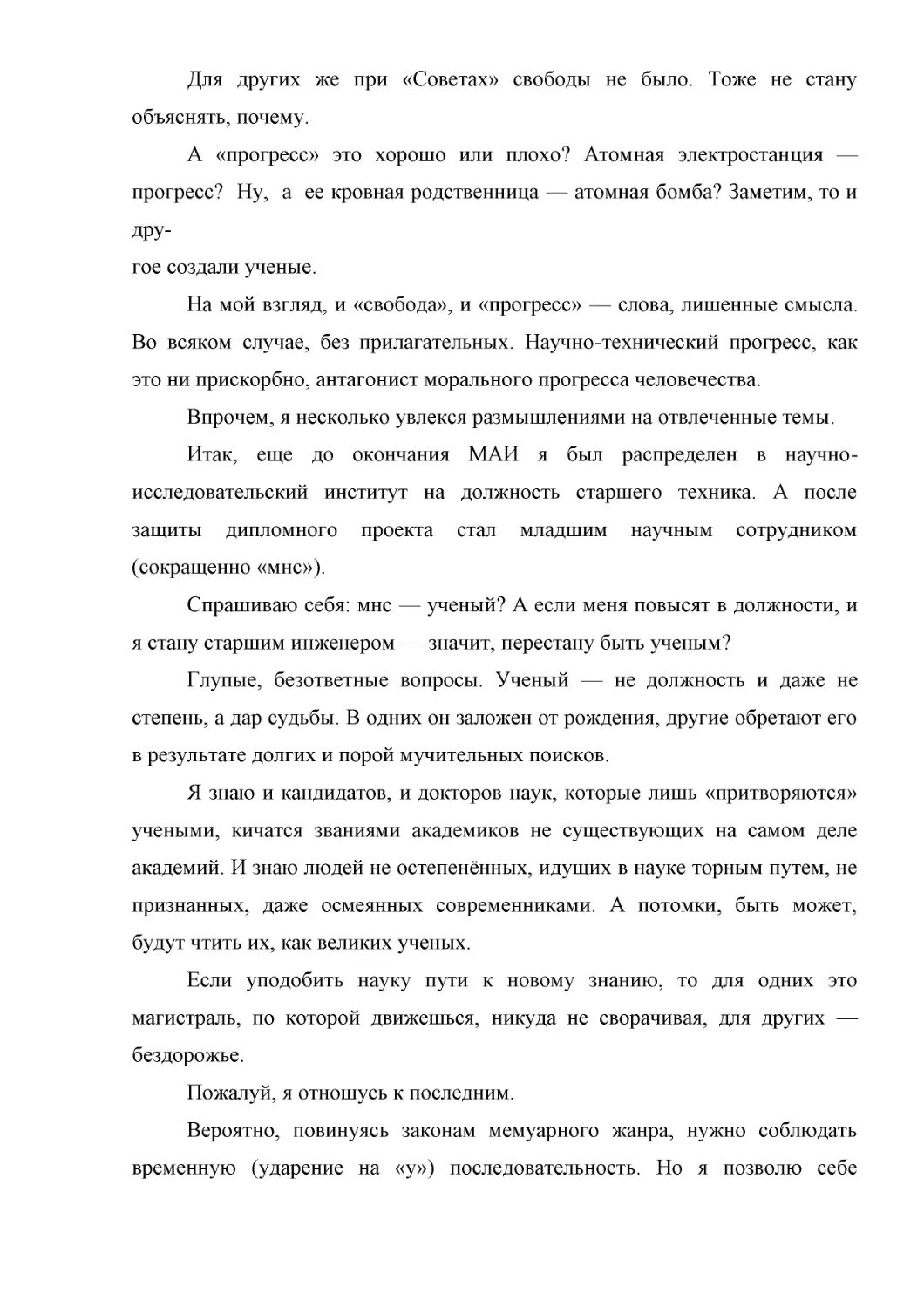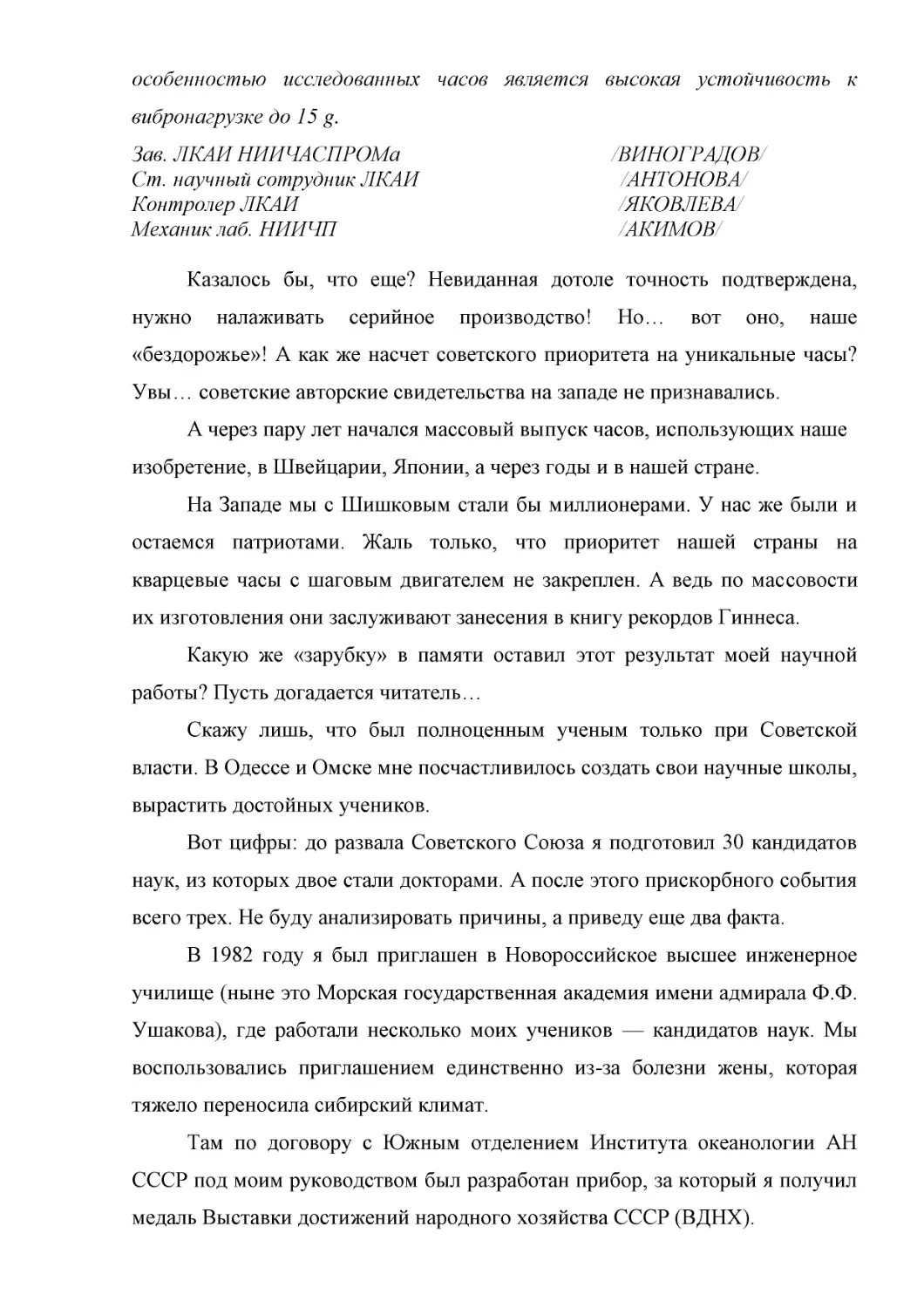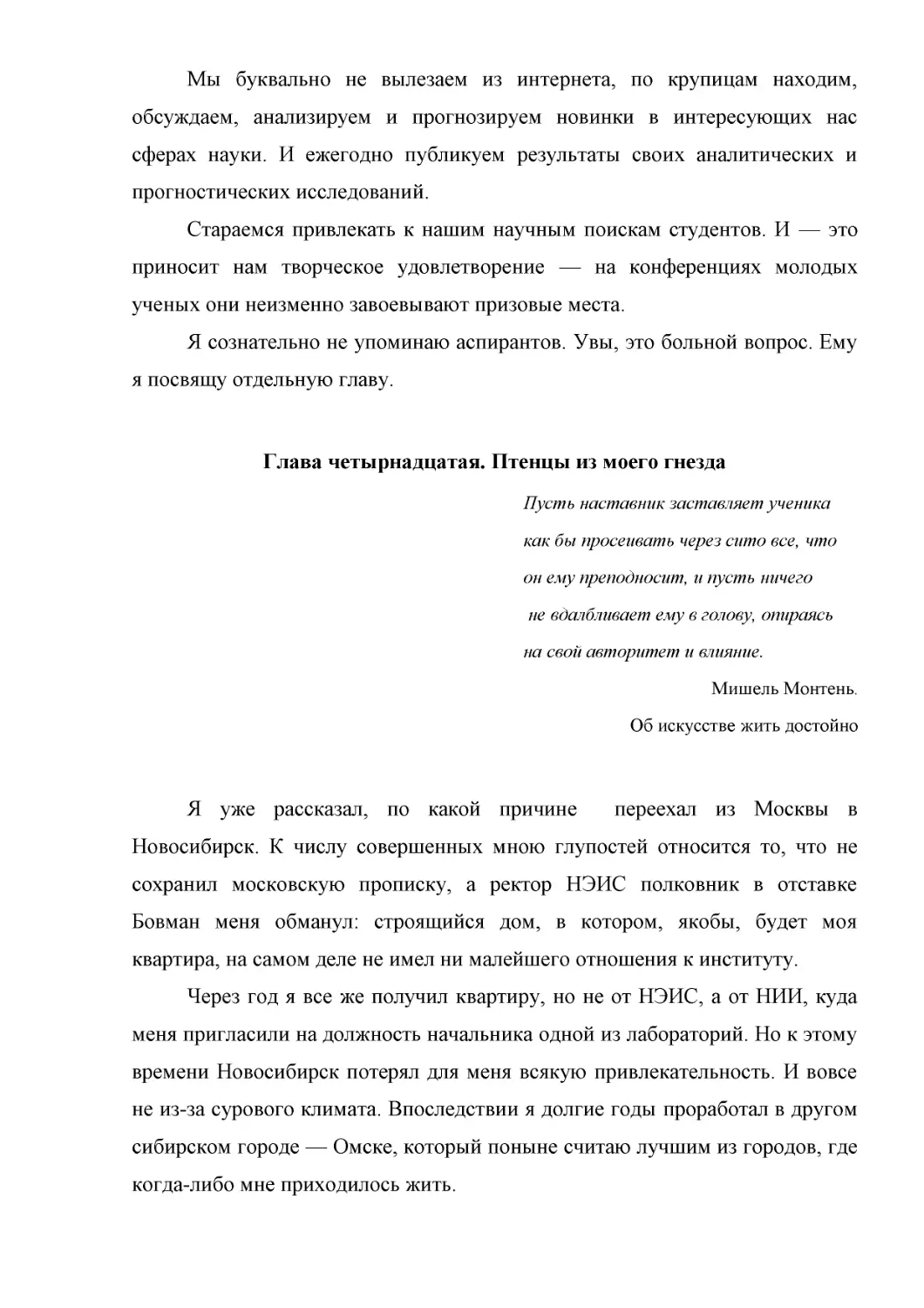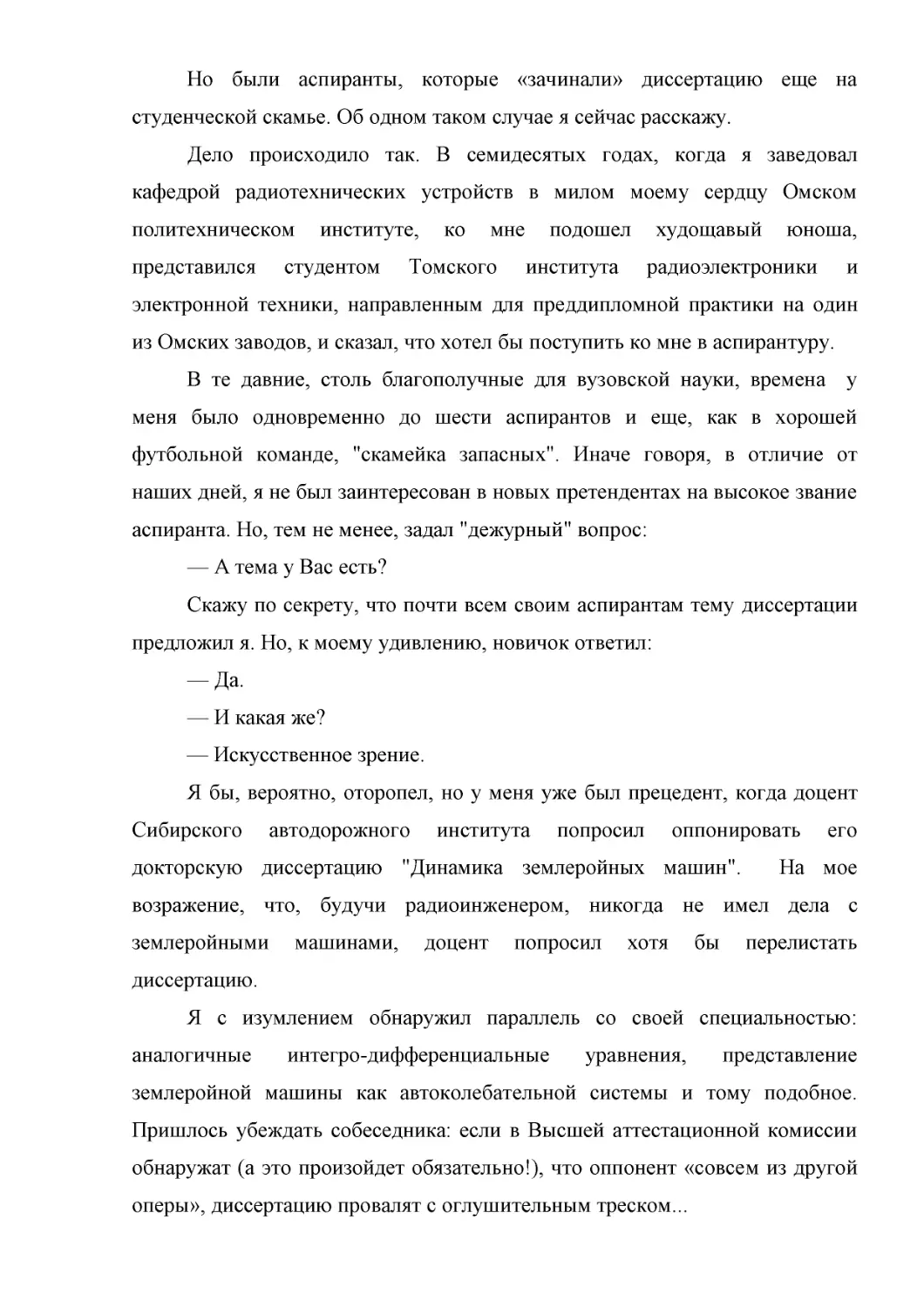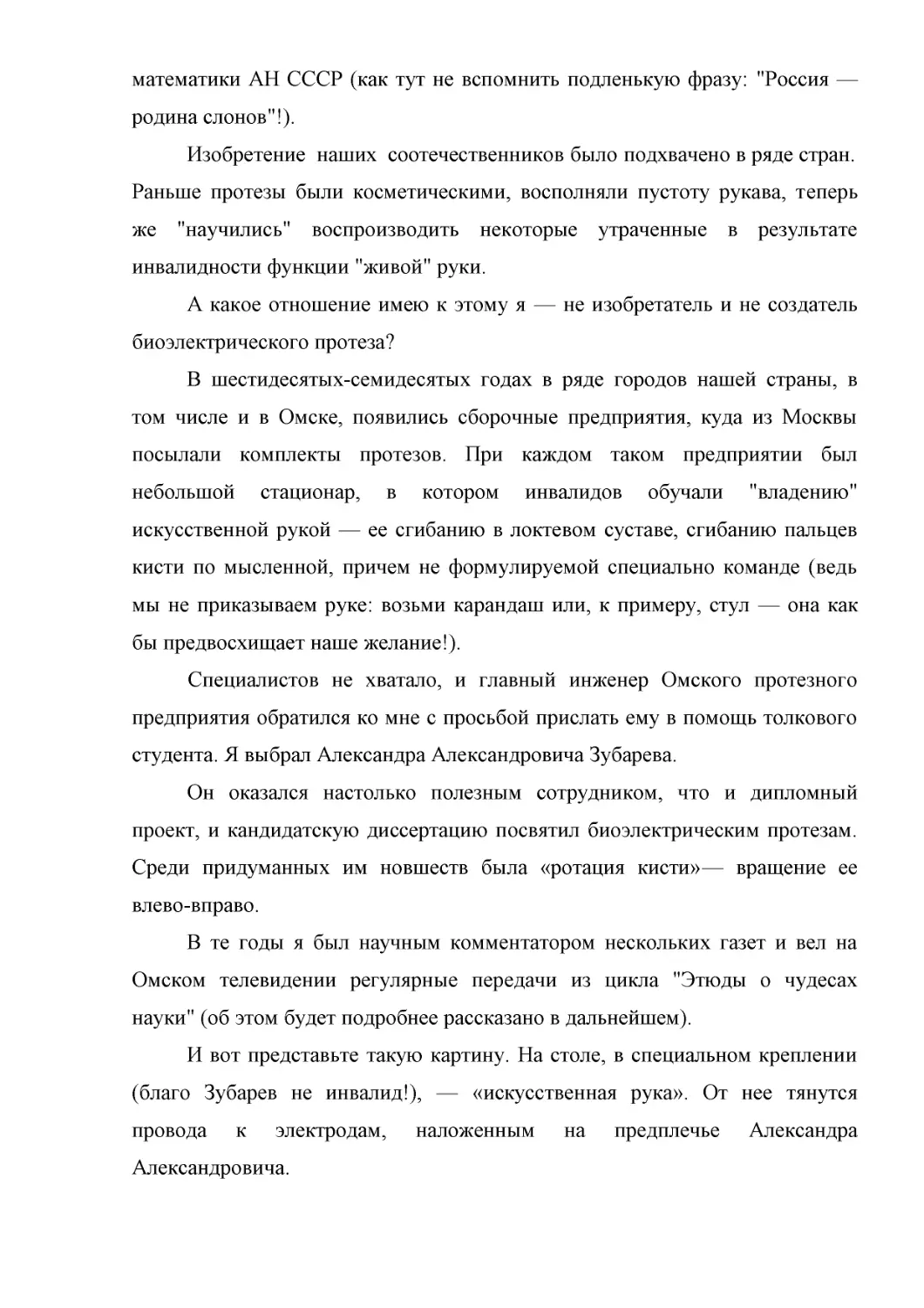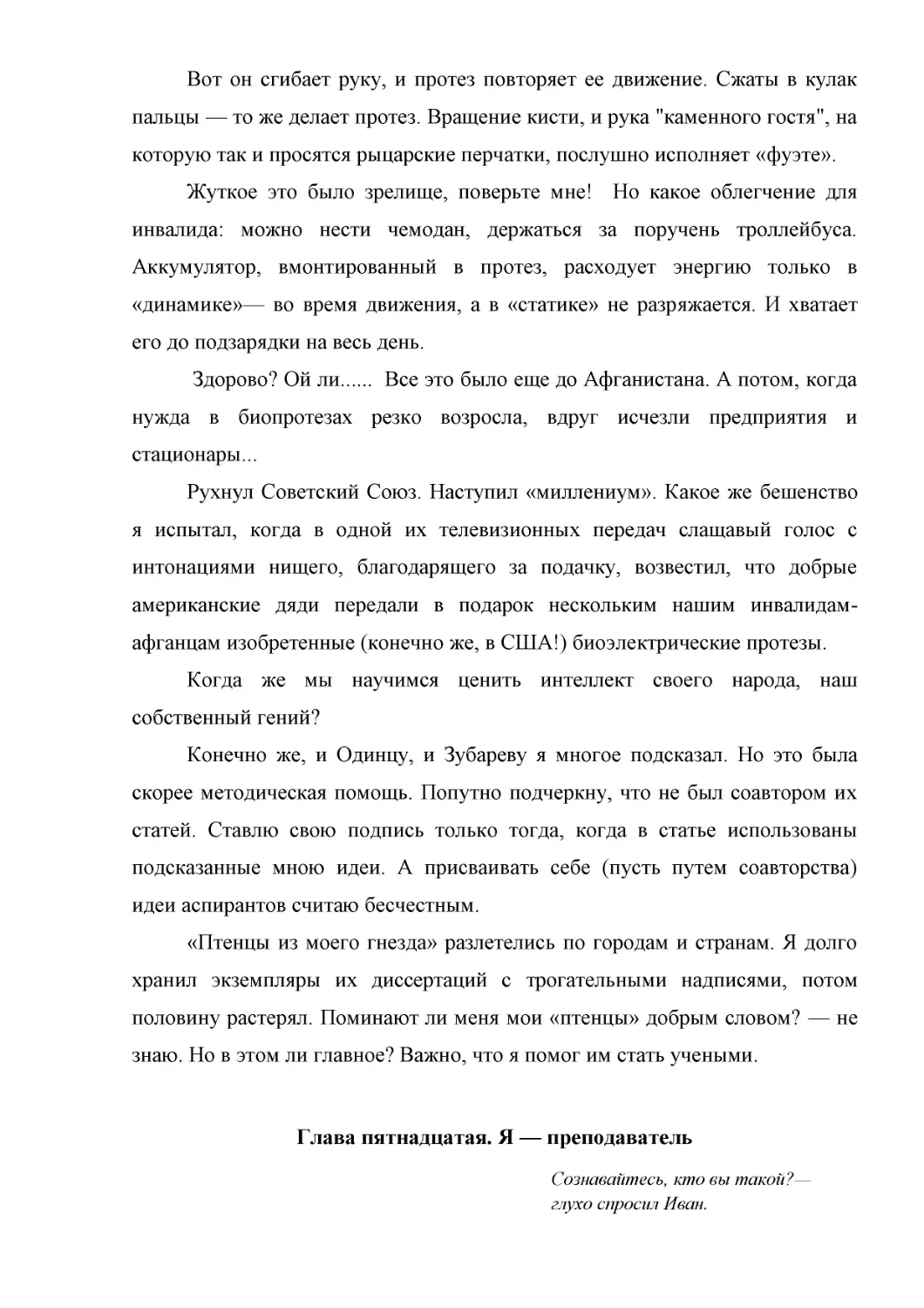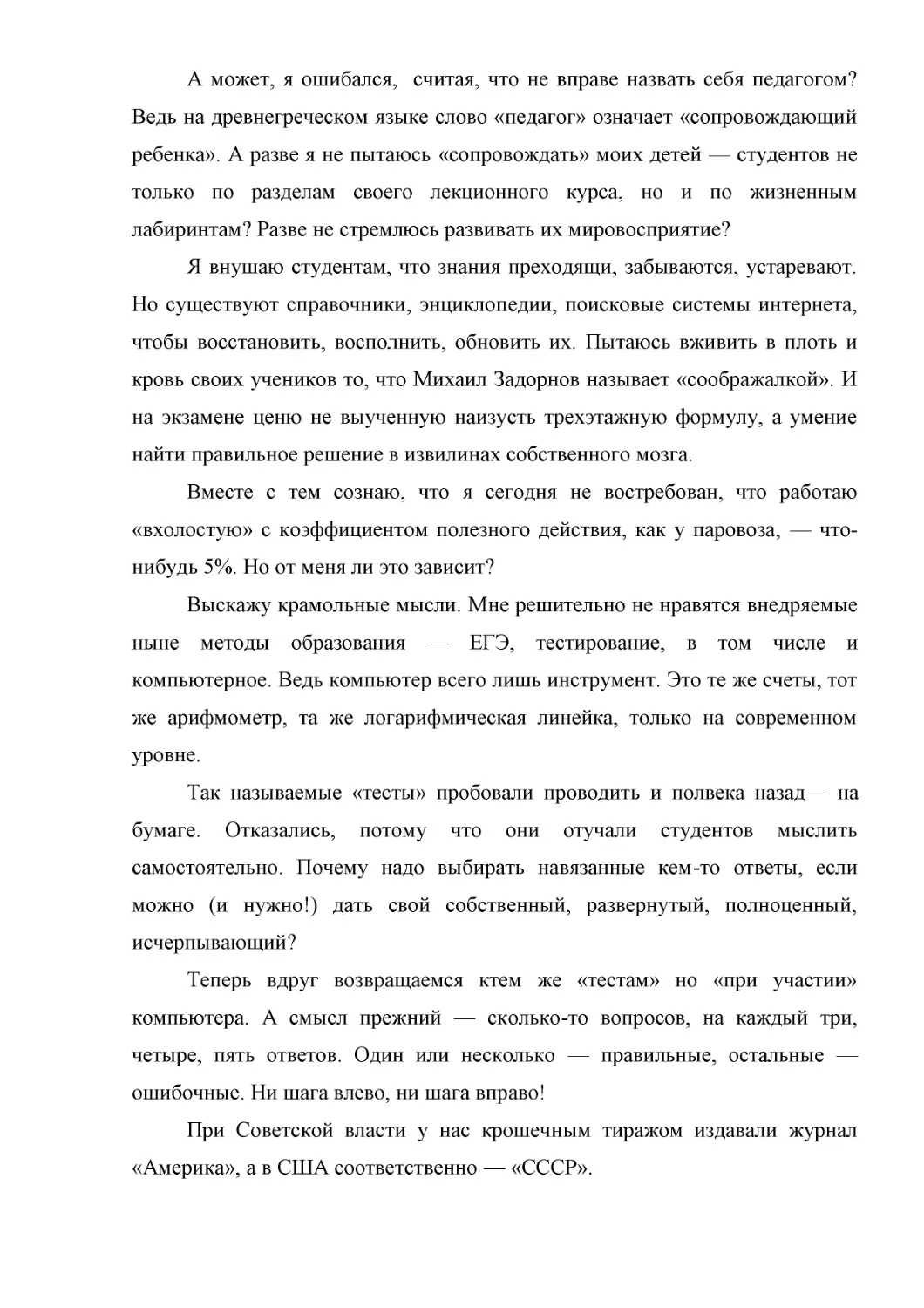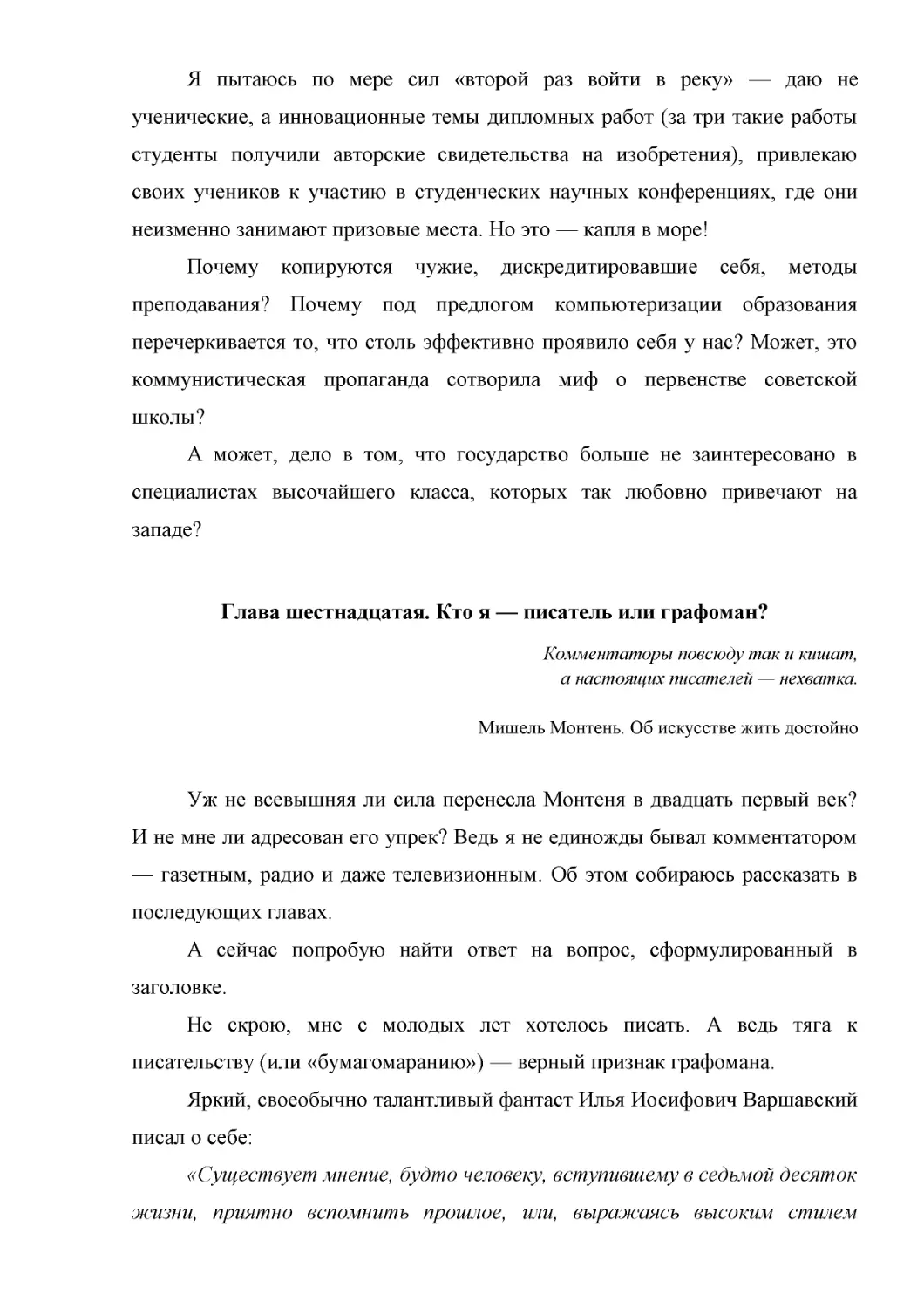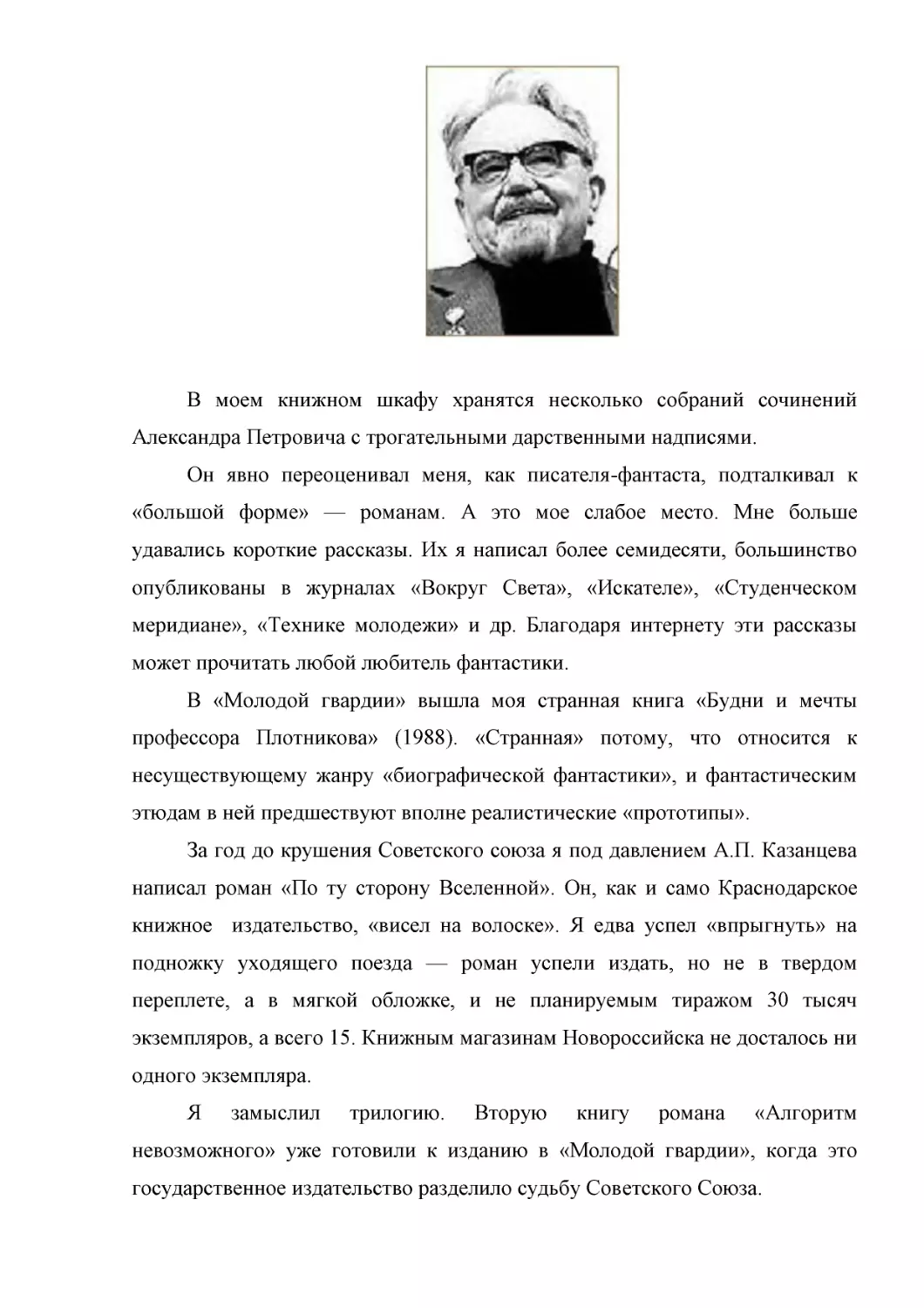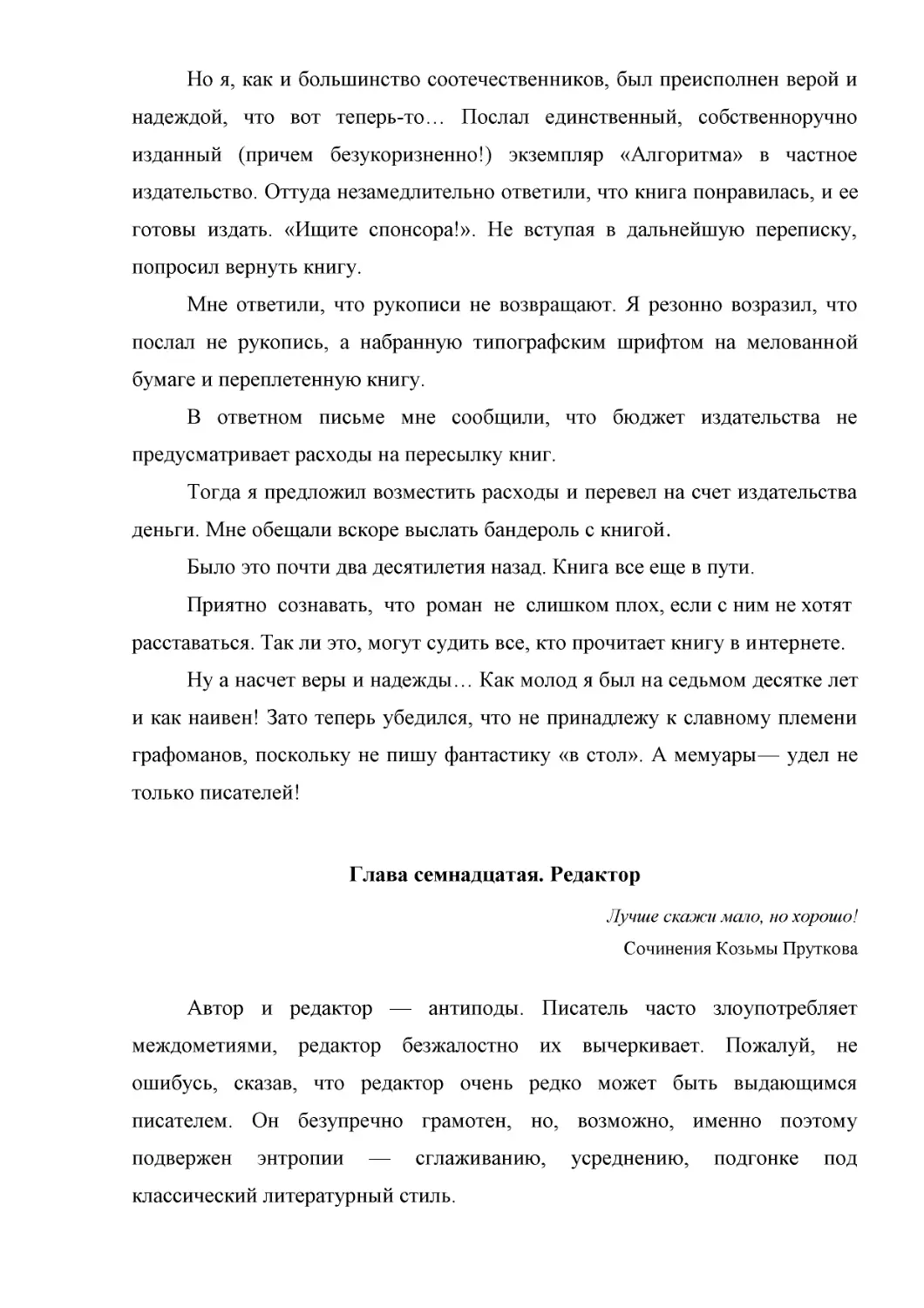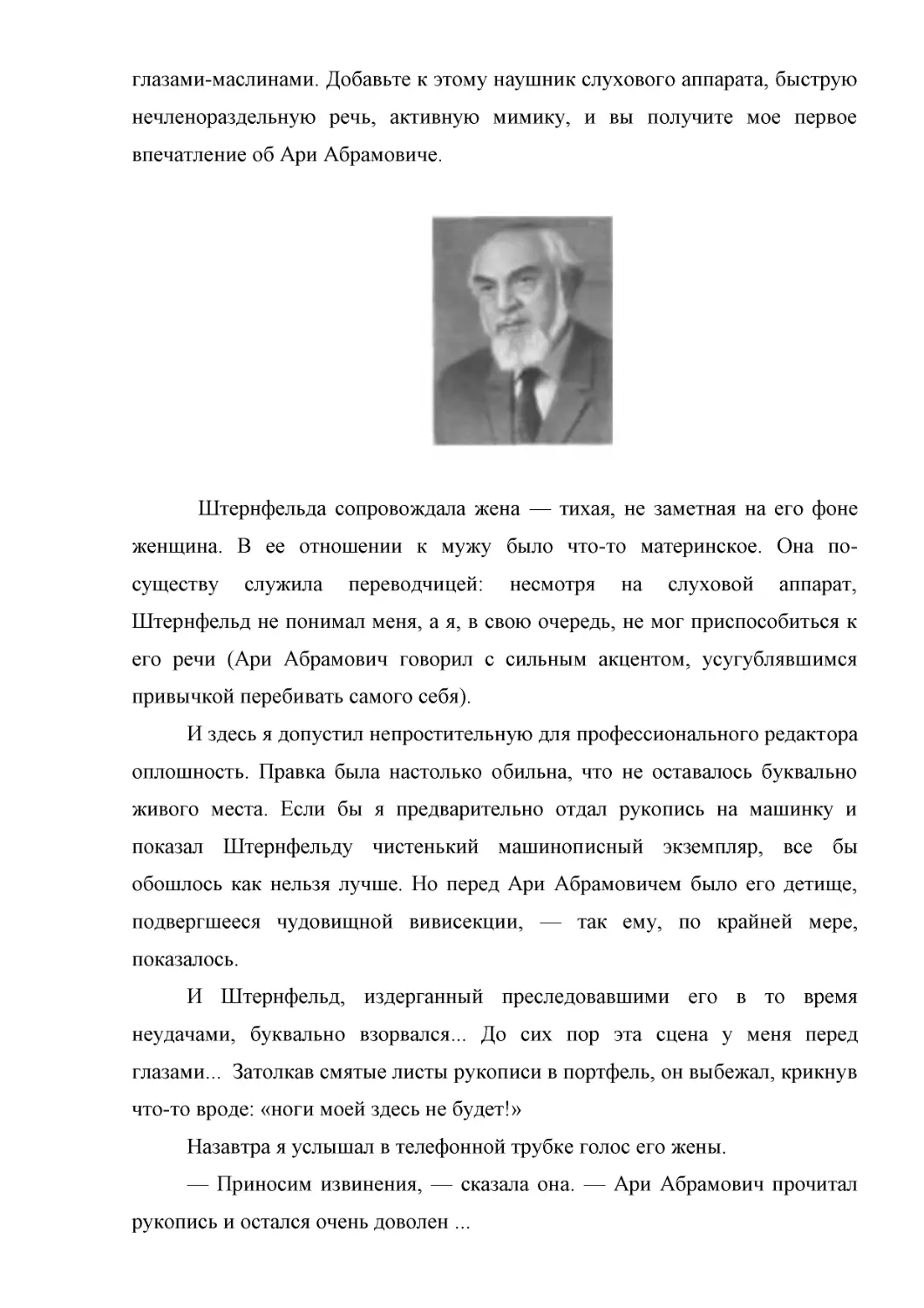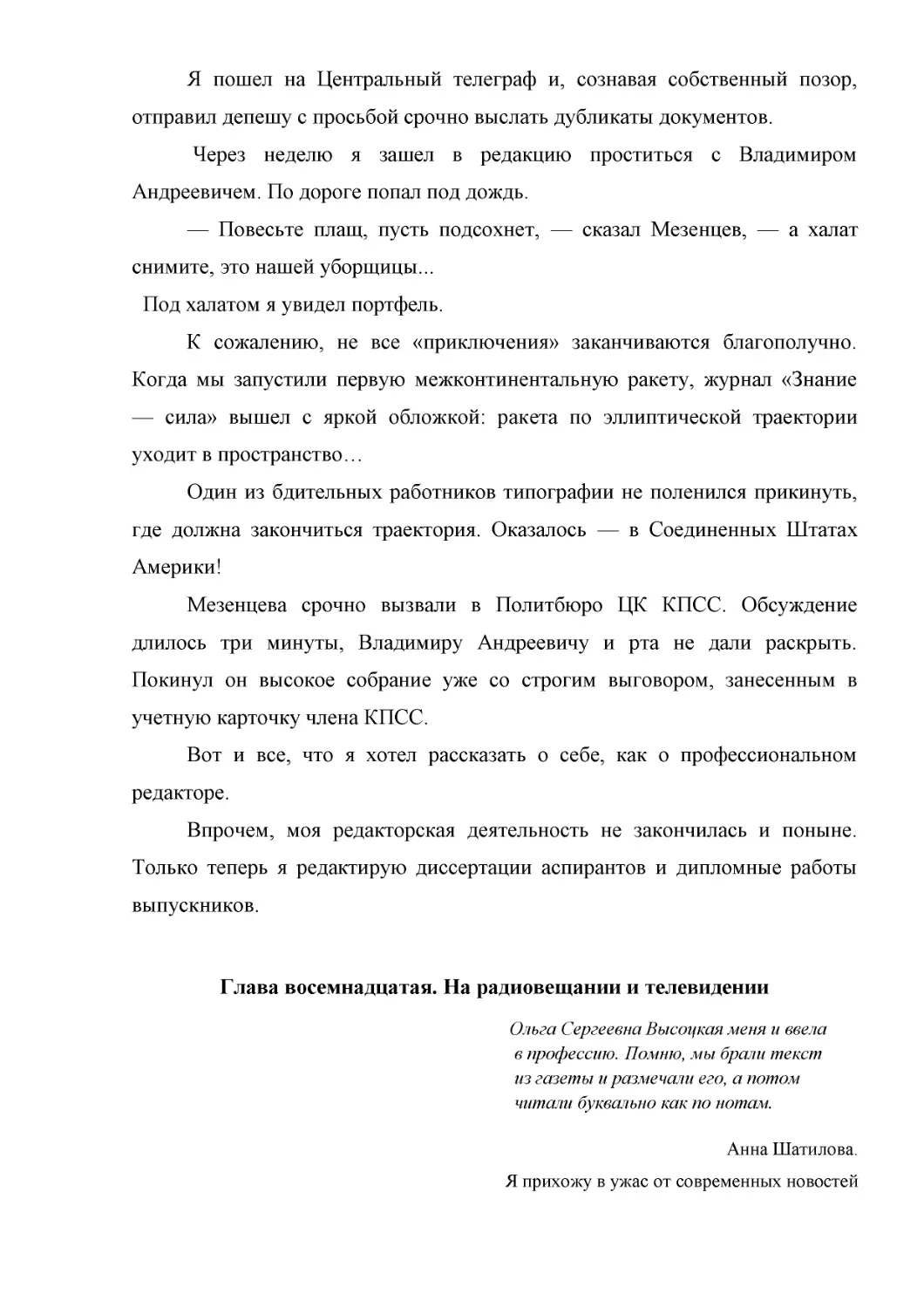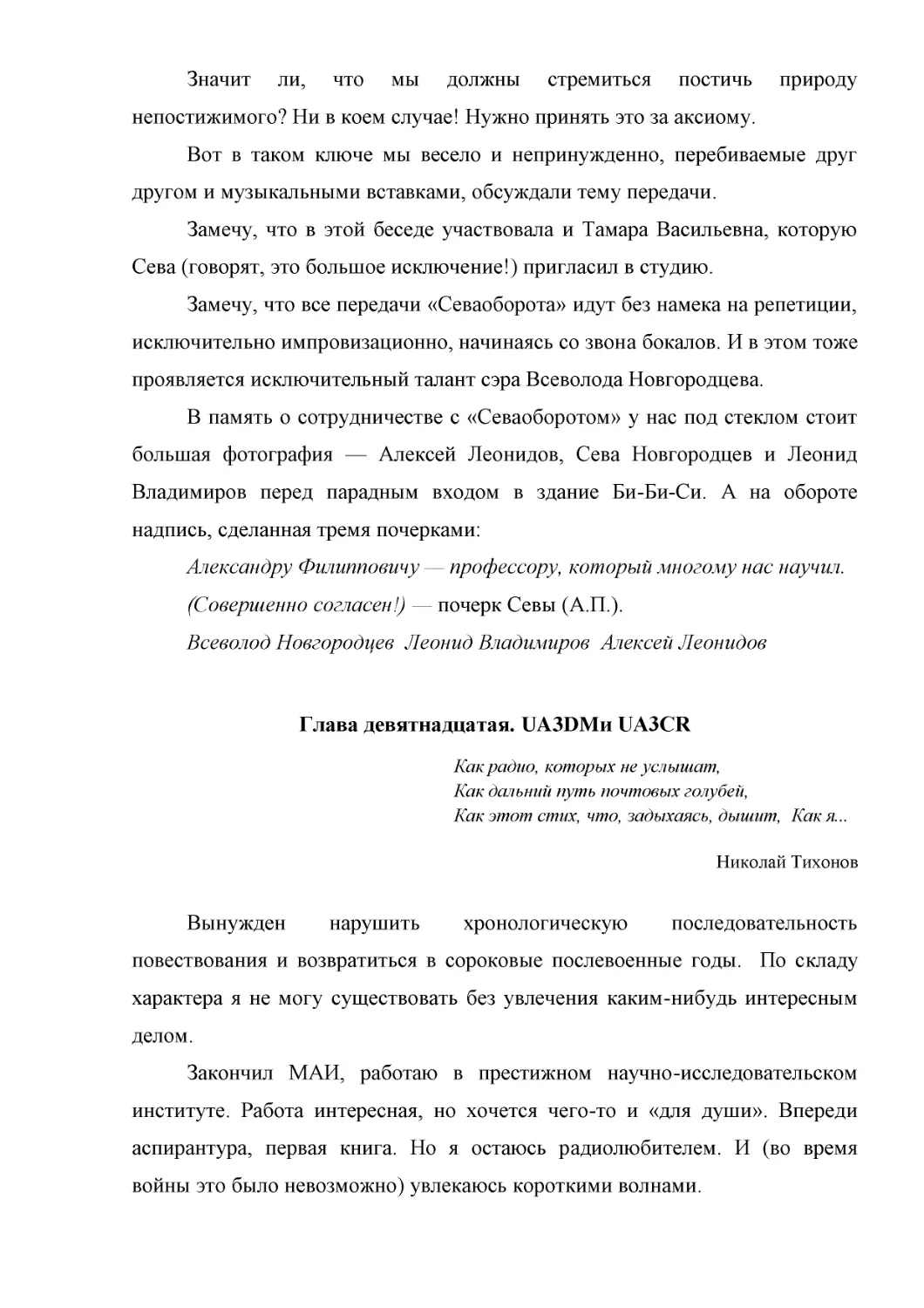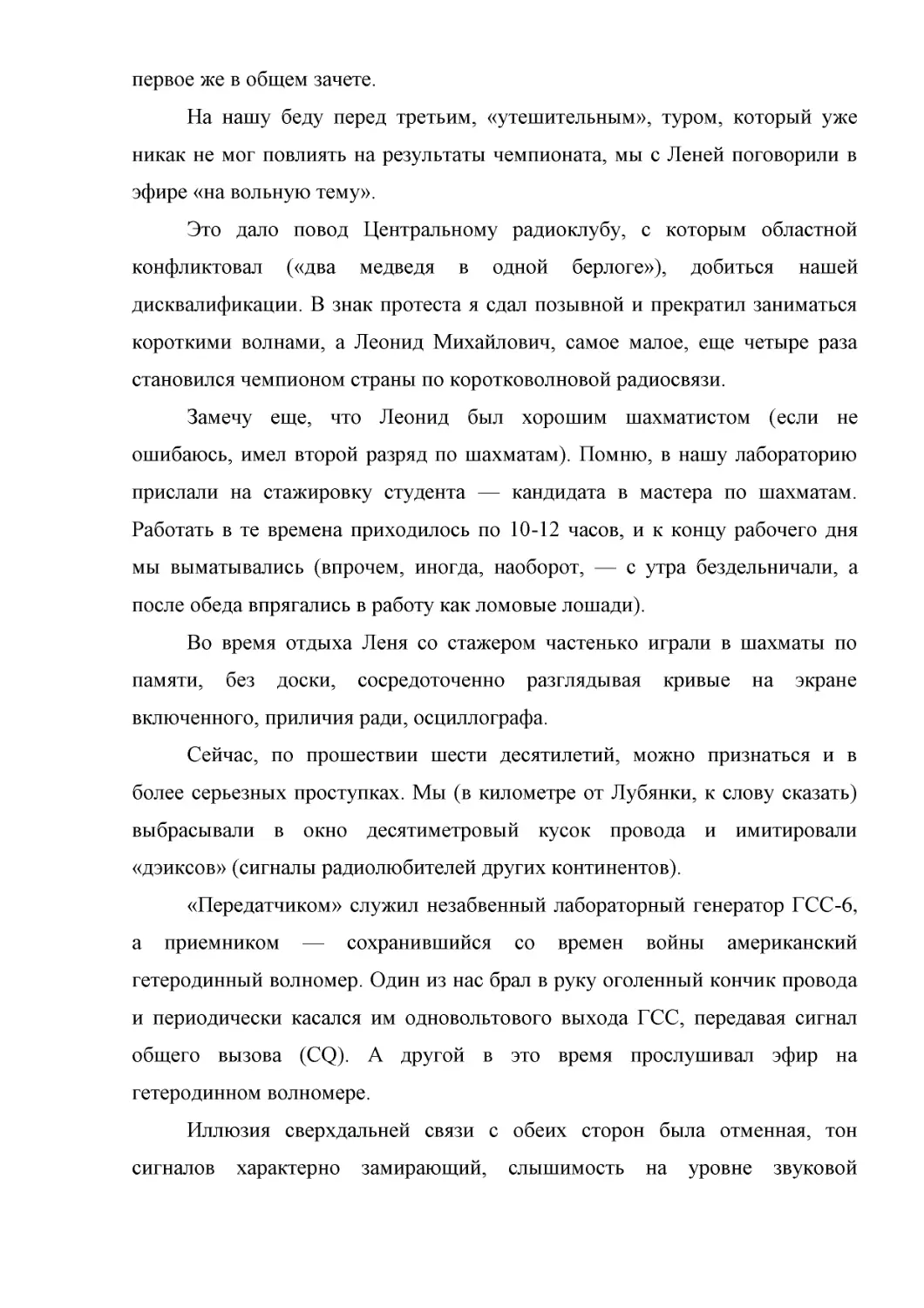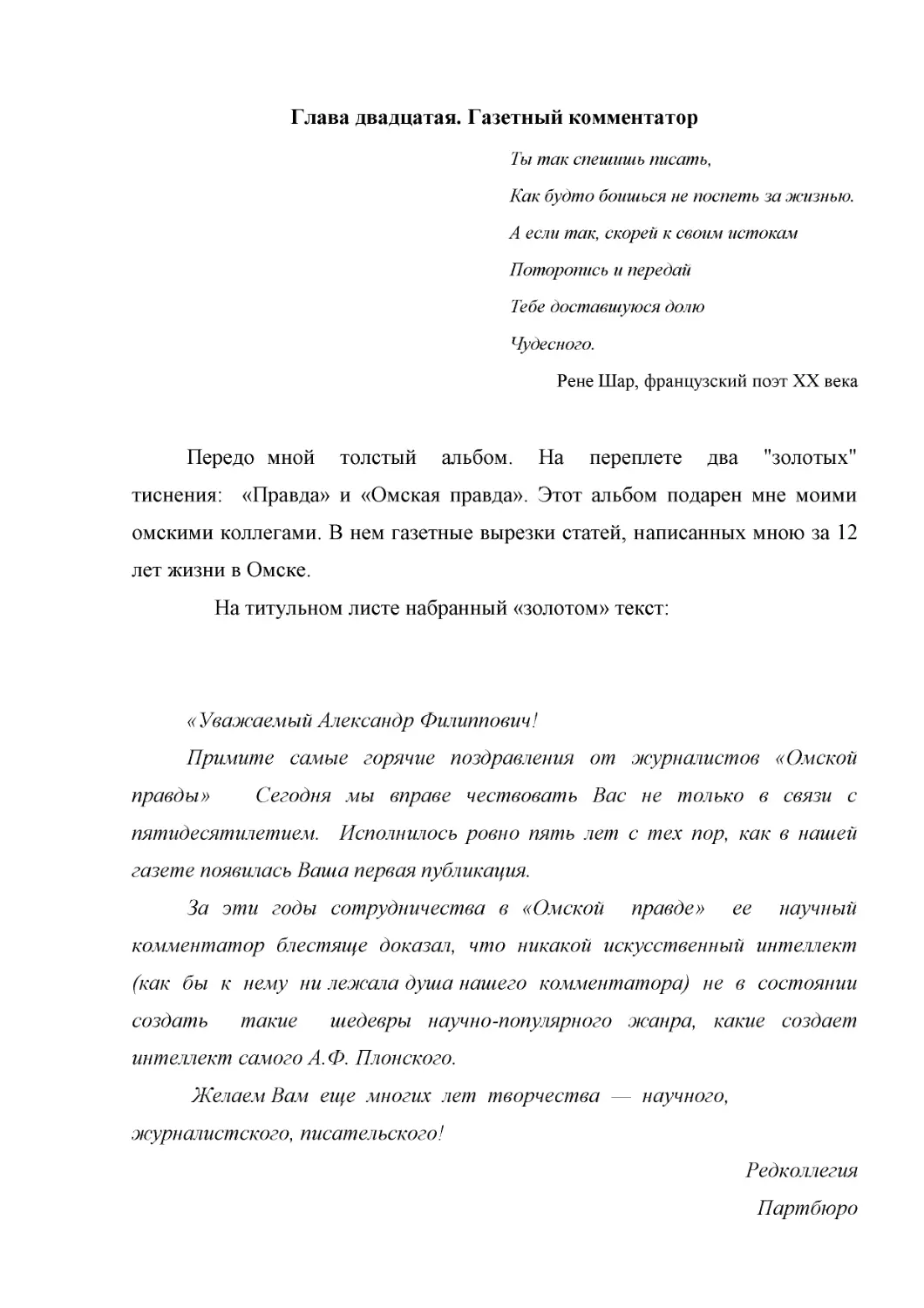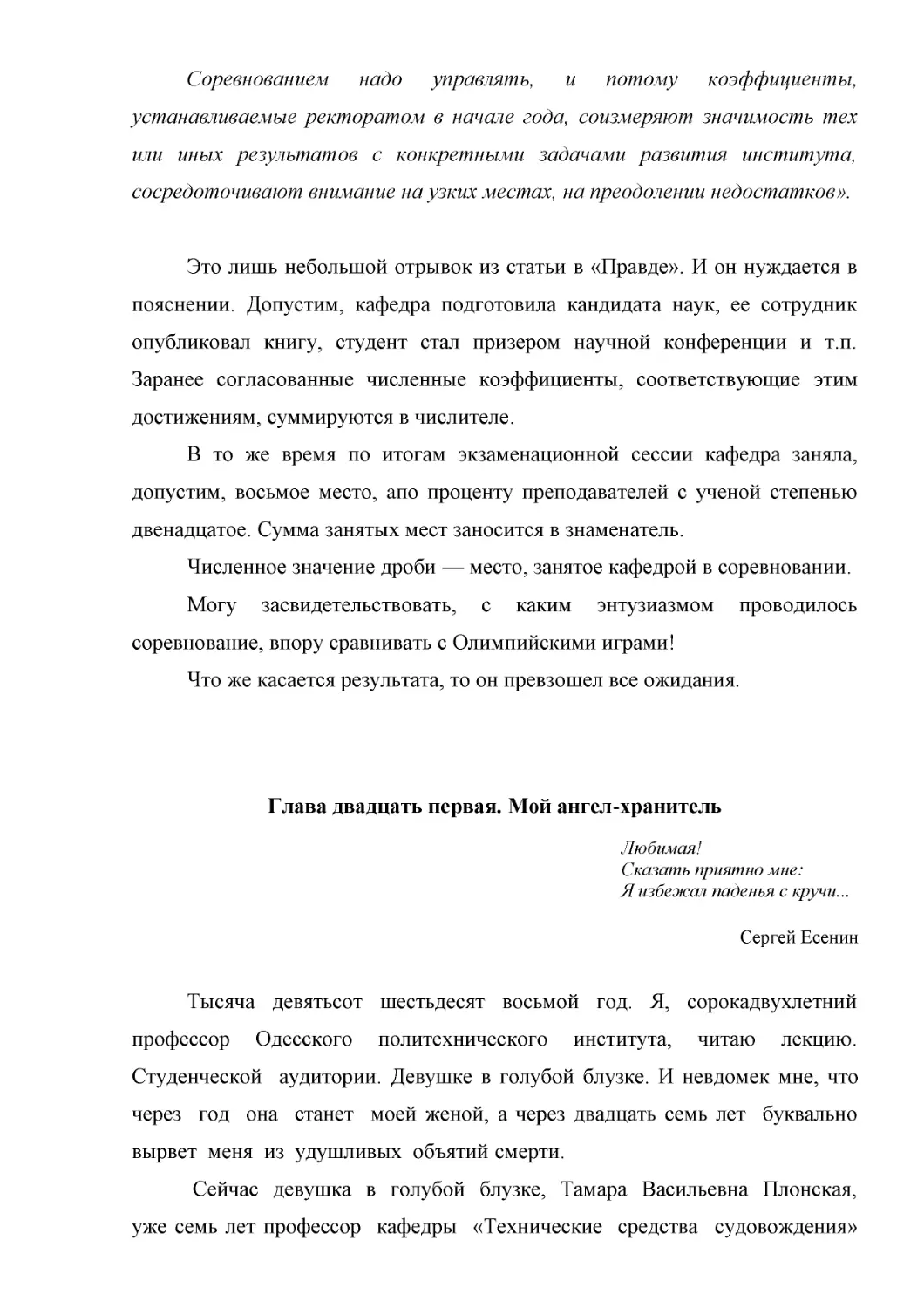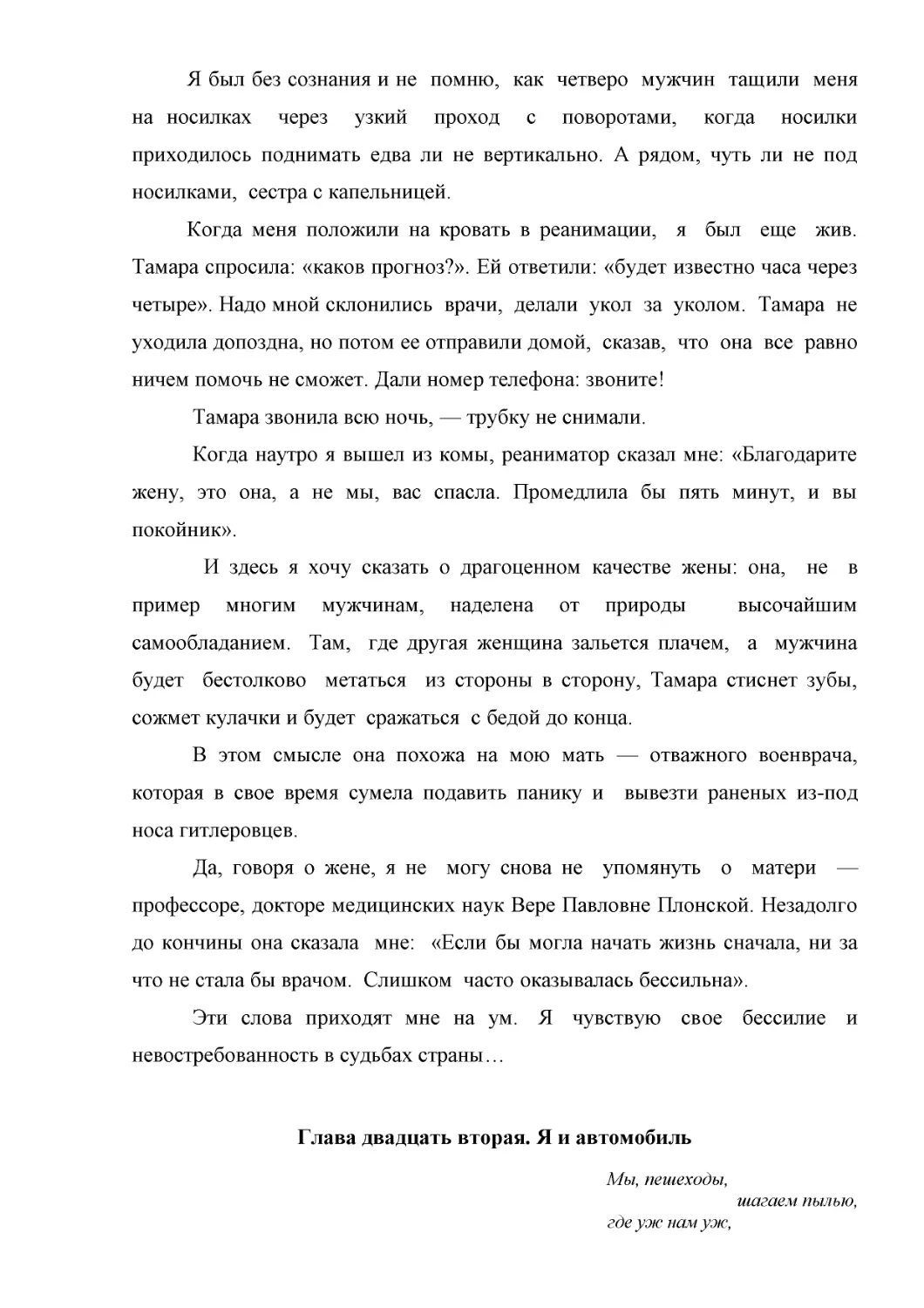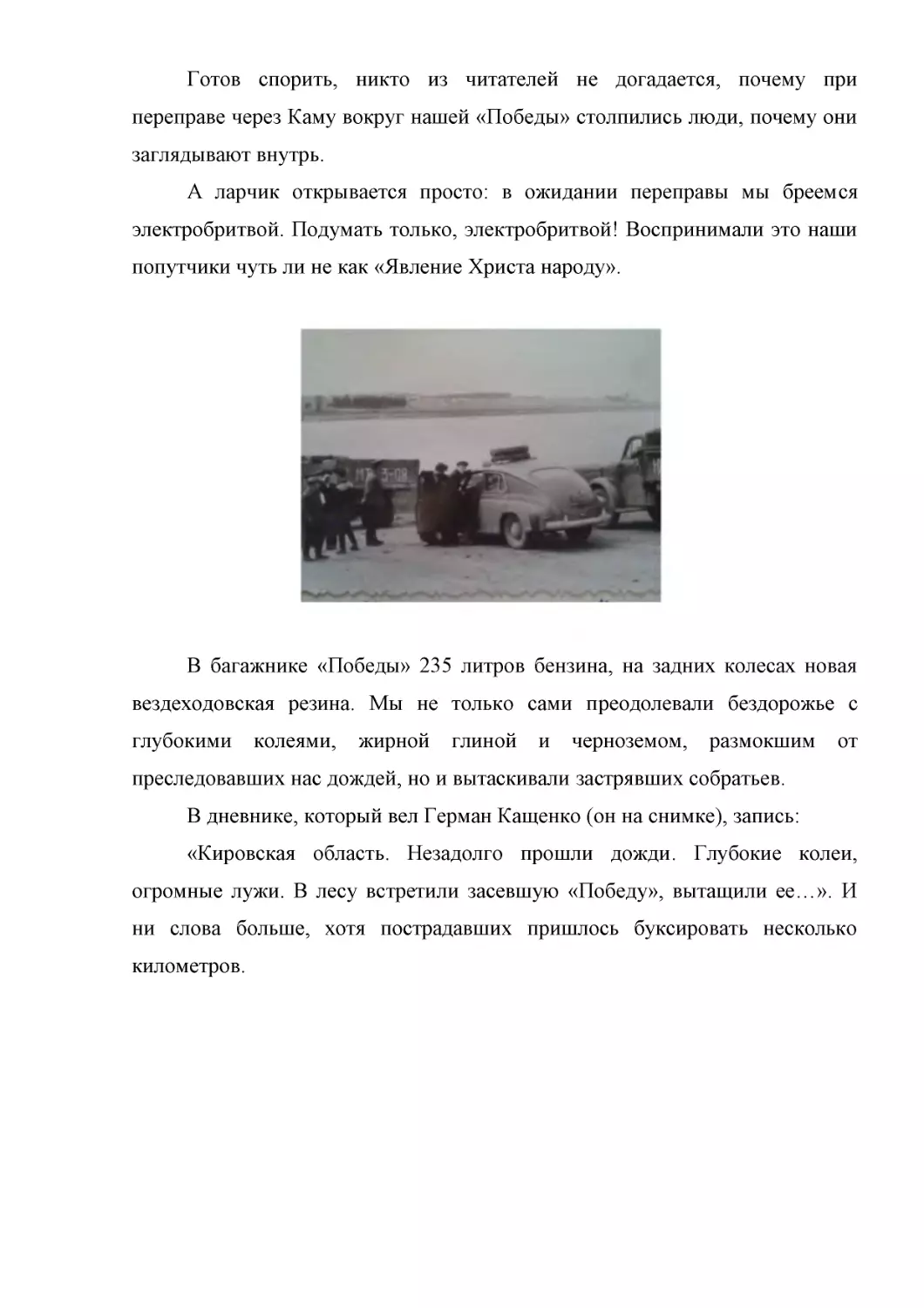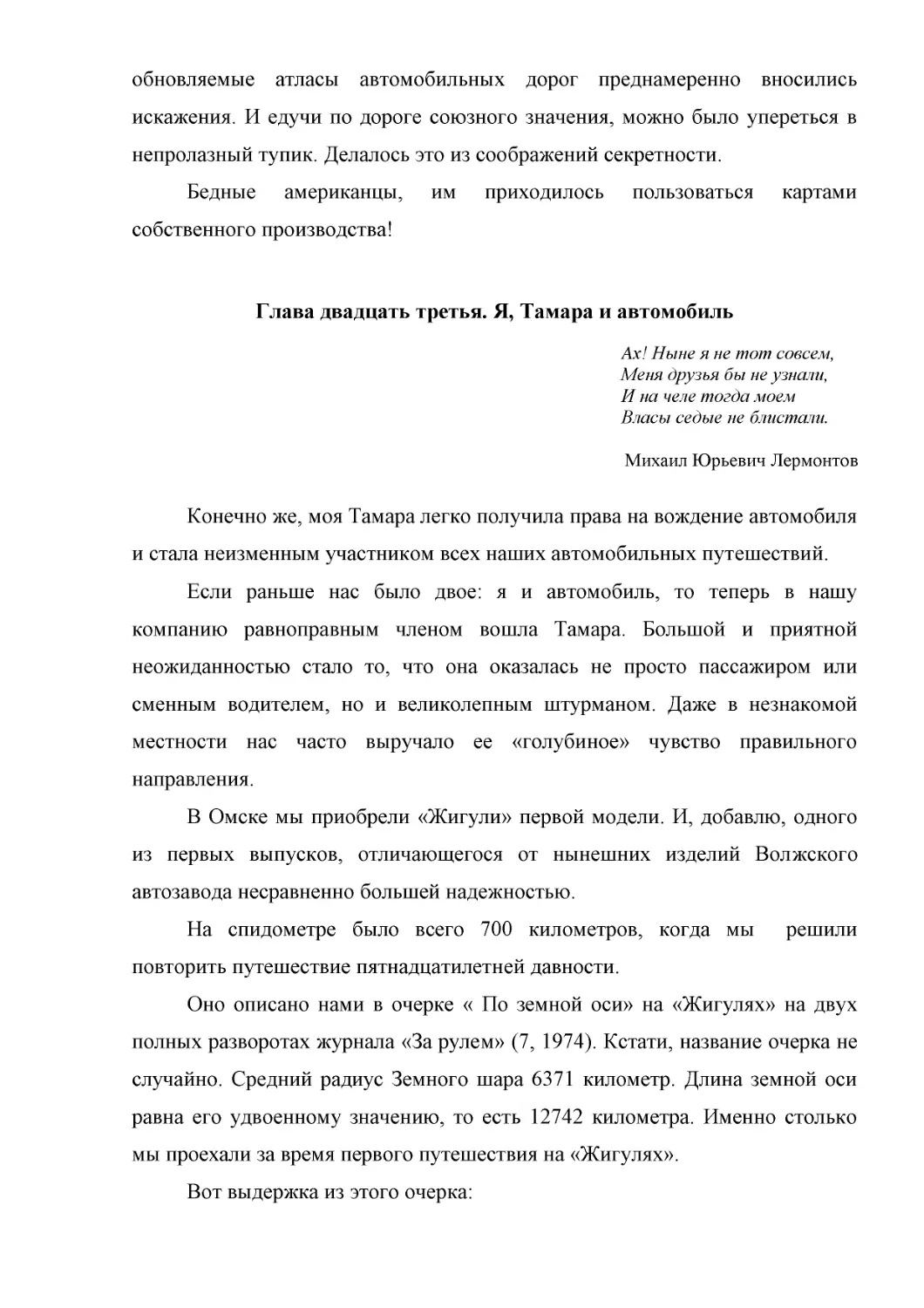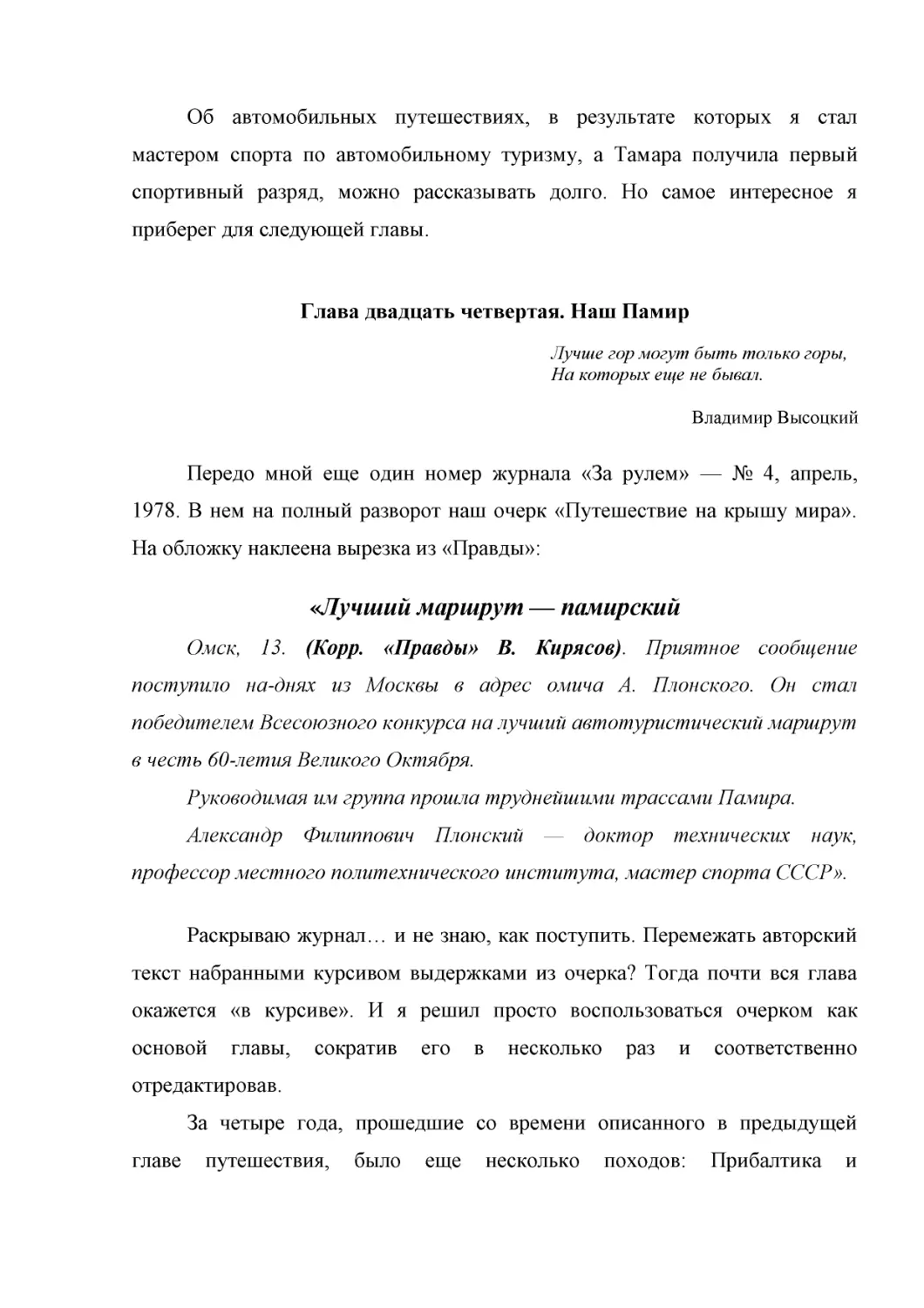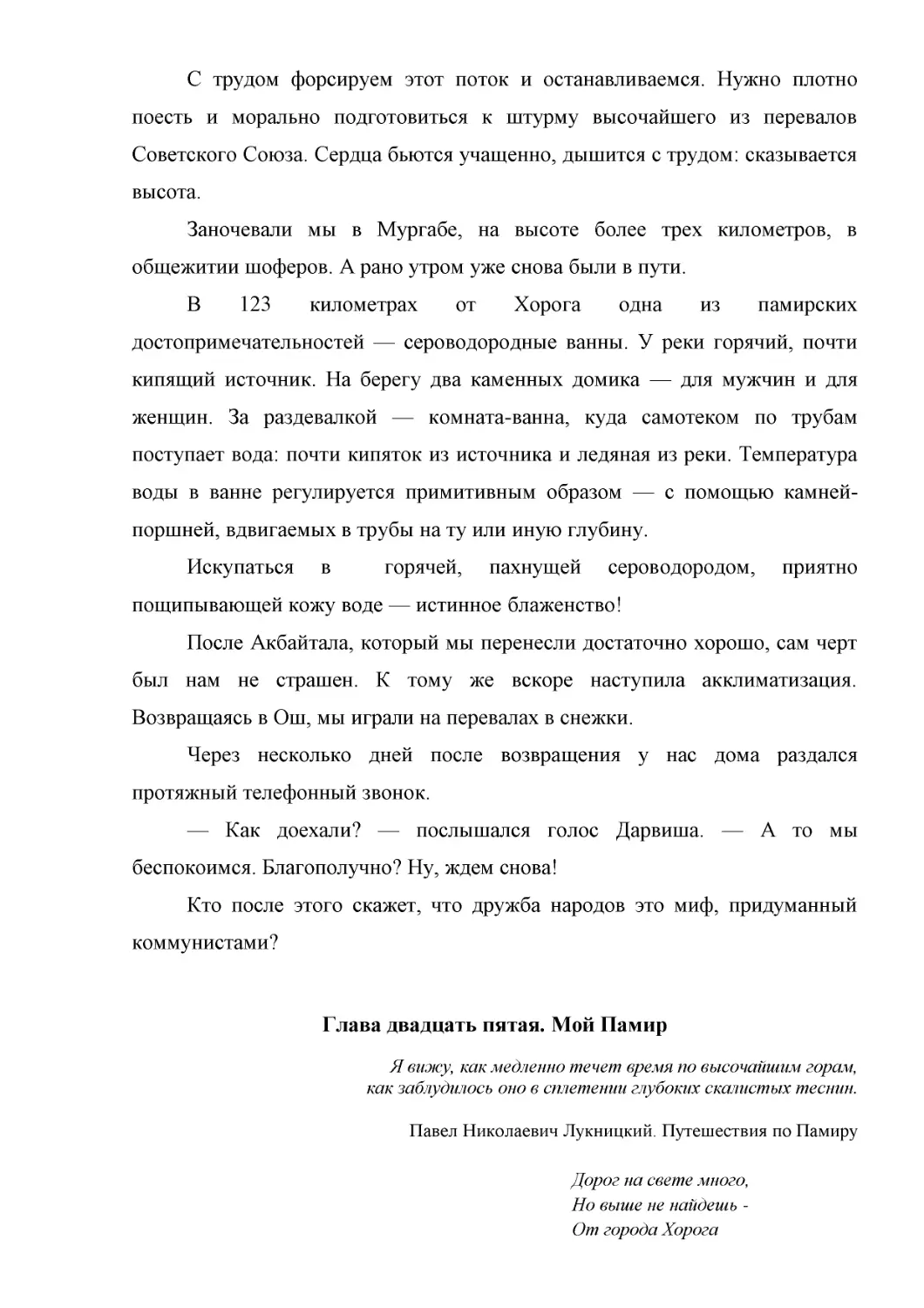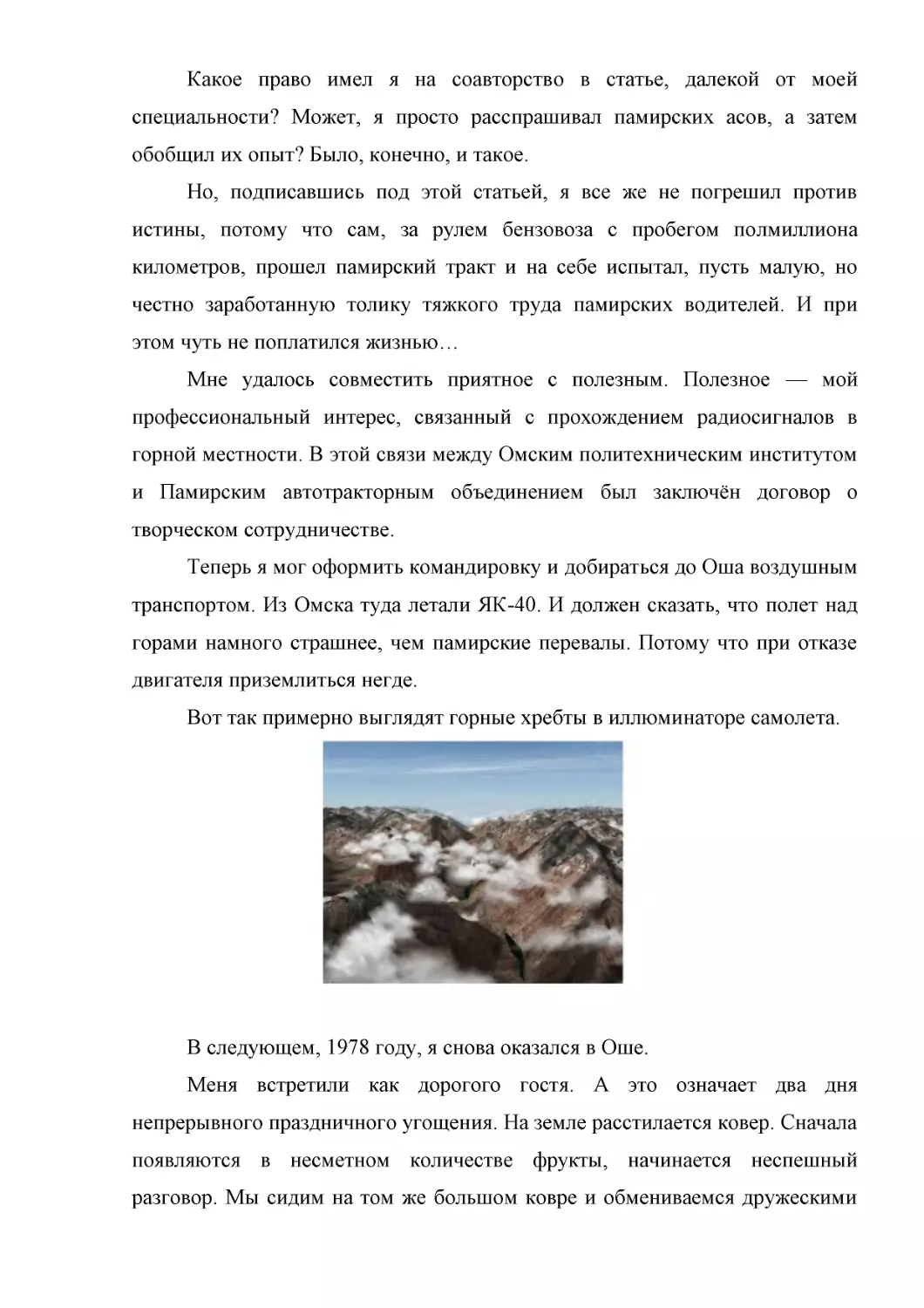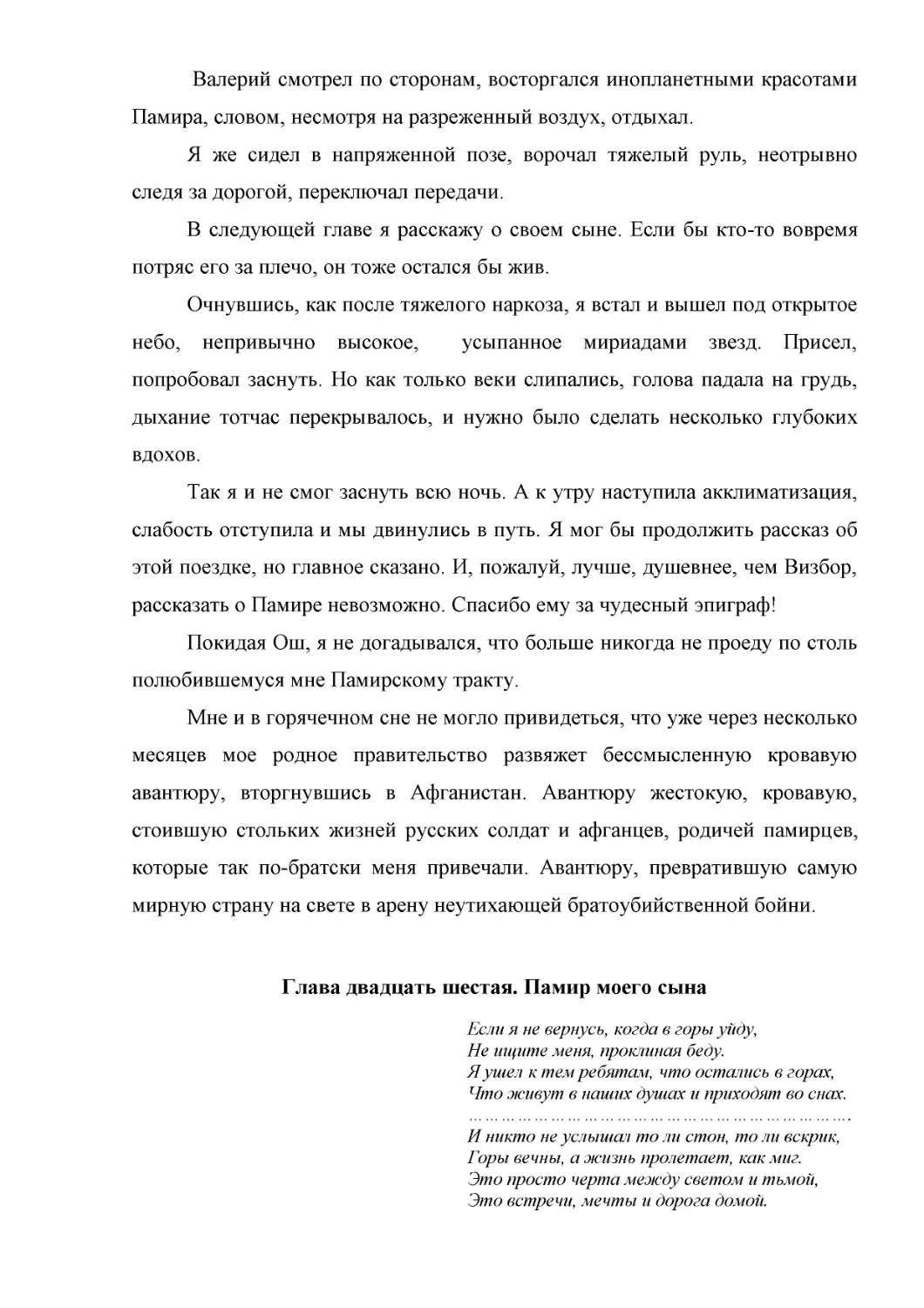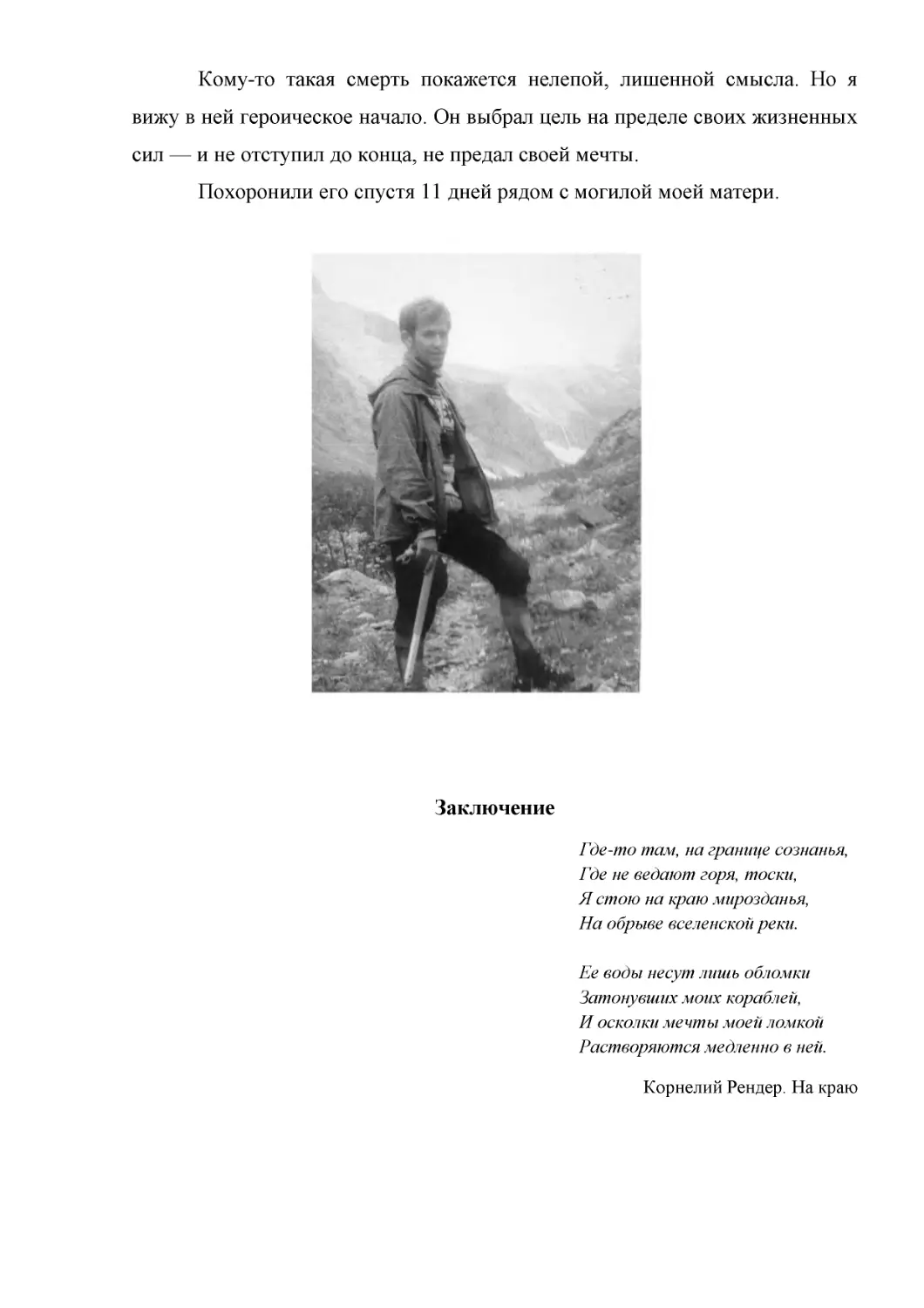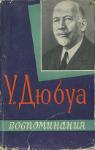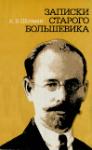Автор: Плонский А.
Теги: воспоминания событий художественная литература жизнеописание семуары плонский
Год: 2010
Текст
Александр Плонский
Мой миг
Мемуары старого профессора
От автора
Есть только миг между прошлым и будущим
И именно он называется жизнь.
Леонид Дербенев
В 2002 году в библиотеках Интернета появилась моя небольшая
публицистическая книга «Прощание с веком». В предисловии говорилось: «Я
живу одновременно в двух веках — двадцатом и двадцать первом. Точнее —
тело мое пребывает в двадцать первом, а душа по-прежнему в двадцатом. И
неудивительно: все самое значительное, что было в моей, насыщенной
событиями, жизни связано именно с ушедшим столетием. И эта книга —
своеобразное прощание с ним».
Спустя четыре года я написал следующую книгу: «Осколок Фаэтона».
Она также была опубликована в Интернете и даже издана крошечным
тиражом. В первой главе, претенциозно названной «Я рожден в Советском
Союзе», я противопоставлял эту книгу «Прощанию...».
Действительно, в «Прощании…» было сказано: «…ее (эту книгу —
А.П.) нельзя считать мемуарами. Мемуары пишутся, что называется, задним
числом, что-то «реставрируется» по памяти, что-то присочиняется. Здесь же,
как говорят нумизматы, не новодел, а оригинал».
А вот цитата из «Осколка Фаэтона»: «В «Прощании с веком» я не
стеснялся говорить о себе (или все же стеснялся?). Так или иначе, сказанное
было отрывочным, а рассказ в целом напоминал лоскутное одеяло. Сейчас я
тоже расскажу о себе, но в ином ключе, созвучном с претенциозным
названием главы».
Минуло еще четыре года. В моем сознании «Прощание…» и «Осколок
Фаэтона» были двумя частями одной книги. Я периодически заглядывал в
поисковые системы Интернета и, к своему искреннему изумлению, всякий
раз обнаруживал, что мои произведения, как изданные в разные годы
фантастические рассказы, повести и романы, так и публицистические книги,
не только не исчезали из библиотек Интернета, но множились вместе с
самими библиотеками. И во мне зрело желание объединить «Прощание…» и
«Осколок…» в одну большую книгу.
Я заново, как бы глазами стороннего читателя, прочитал обе книжки и
понял, что сделать это невозможно.
И та, и другая публиковались по главам. После завершения последней
главы всё написанное, без всякой правки, компоновалось в единое целое.
Начиная книгу, я понятия не имел, сколько в ней будет глав. Иными словами,
обе книги были импровизационными. Сейчас мне вдруг пришло в голову
смешное сравнение: есть «живое» пиво и пиво пастеризованное. По аналогии
можно сказать, что и «Прощание…», и «Осколок…» — живые книги, не
тронутые рукой редактора. И не зря в «Прощании» я писал: «Чем больше
углубляюсь в книгу, тем труднее мне определить ее жанр. Парадокс: я пишу
книгу, а она, если можно так выразиться, переписывает меня».
Расплата за «импровизационность» — упомянутое в «Осколке…»
«лоскутное одеяло», то есть тот прискорбный факт, что главы можно менять
местами, впрочем, без ущерба для содержания. Кстати, это присуще и «Осколку Фаэтона», поскольку он создавался в той же манере, что и «Прощание
с веком».
Как же быть с неожиданно возникшим желанием объединить две книги
в один том? Увы, сделать это «механически», невозможно. Они, хотя и
близкие родственницы, самодостаточны. Как это удалось, не знаю, но каждая
из них — законченное произведение.
Добавлю, что захотелось уточнить жанр новой книги. Раньше я
полагал, что право на мемуары принадлежит великим или, во всяком случае,
знаменитым людям. Ни к тем, ни к другим я себя не отношу. Так не будет ли
с моей стороны нескромным посягнуть на жанр, в котором, как восемь лет
назад я самонадеянно писал,
что-то «реставрируется» по памяти, что-то
присочиняется?
Поборовшись с самим собой, я решил, что великие создатели мемуаров
просто не обратят внимания на «выскочку», вторгшегося в их ряды.
Я не верю ни в бога, ни в Дарвина. Но в судьбу верю, понимая под
ней нечто всевышнее, не подвластное человеческому
пониманию. Судьба
играла со мною как с ребенком на качелях — вверх, вниз... вверх, вниз...
Когда я должен был стопроцентно погибнуть, она в последний момент
вызволяла меня. А затем, играючи, обрушивала удары, выдержать которые,
не сойдя с ума, почти невозможно…
И фундаментом этой книги станет моя жизнь, тот самый миг между
прошлым и будущим, который подарила мне судьба.
Окажутся ли мои мемуары интересны читателям? Не знаю. Но одно
обещаю твердо: это будет честный, непредвзятый, неугодливый рассказ, как
и в "Прощании с веком", и в "Осколке Фаэтона".
Глава первая. Истоки
Человек есть тайна. Ее надо разгадать, И
ежели будешь разгадывать всю жизнь, то
не говори, что потерял время…
Ф.М. Достоевский — М.М. Достоевскому
16 августа 1839 г.
10 мая 1926 года. Русский (полтора столетия русский!) город
Симферополь. В морг родильного дома относят мертворожденного ребенка.
Этот ребенок — я. А врачи — у постели истекающей кровью матери. Ее с
трудом удается спасти.
Тем временем в морг приходят две девушки практикантки. Они учатся
на тельце ребенка — перекладывают его из таза с холодной водой в таз с
горячей. Так полагается делать, если ребенок, только что появившись на
свет,
не хочет дышать. Мертвый ребенок для них всего лишь «учебное пособие».
Оживлять его поздно.
И не моя вина, что, когда «трупик» издал вопль, девушки с криками
убежали!
Меня поднесли к матери, и она не сдержала слез: «Боже, какой урод!».
Даже много лет спустя чуть ниже моего левого виска была видна
небольшая вмятина — след от щипцов, которыми меня извлекли из
материнского лона…
На склоне лет я иногда думаю: а не лучше было бы, задержись
практикантки на каких-нибудь полчаса? Но я гоню эту мысль прочь, коря
себя за малодушие. И все же, когда мои курсанты спросили: «Если бы Вам
предложили повторить свою жизнь, Вы бы согласились?», я ответил: «Нет!».
Почему?
Прочитав эту книгу, поймете. Или в недоумении пожмете плечами…
Несколько слов о моих предках. Как и большинство читателей, я —
«Иван, не помнящий родства». По отцовской линии не знаю вообще никого.
При его жизни не удосужился спросить. Почему? Не могу ответить на этот
вопрос, он возник слишком поздно… А ведь от отца я унаследовал фамилию
Плонский.
Спохватившись, я начал генеалогические исследования в поисковых
системах Интернета. И вот что получилось.
Первая находка: «Плонский Станислав Эдвардович: 1926 года
рождения; место проживания: Белостокская обл., Чижевский р-н, Ясеница.
Осужд. июнь 1941. Приговор: спецпоселение в Коми АССР».
С ума сойти! Мой ровесник! В 1941-м ему, как и мне, было 15 лет. Я в
конце июня стал санитаром в военном госпитале, он отбывал срок (за что?) в
спецпоселении. И кто он по национальности, скорее всего, поляк…
Вторая
находка:
«Плонскiй
Владимiръ
Васильевичъ.
Мичманъ.
Кронштадтъ. 6 флотскiй экипажъ».
Позднее я узнал, что при императоре Николае II он дослужился до ка-
питана второго ранга.
Третья находка настолько интересна, что привожу ее почти полностью:
«Плонский Мстислав Николаевич. 13.01.1895 г. - 17.08.1969 г., г. Сиэтл
(США). Православный. Сын ротмистра. Участвовал в Первой мировой войне
1914-18 гг. (21.08.1914 г. ранен).
Образование: Одесский кадетский корпус (1912), Елисаветградское
кавалерийское училище (1914).
Чины:
корнет
(12.07.1914),
«летчик-наблюдатель»
(5.06.1920),
поручик (29.08.1920), штабс-ротмистр за боевые отличия (30.08.1920),
ротмистр (31.08.1920).
Награды: А4 (25.03.1915) (орден святой Анны четвертого класса—
А.П.), Г4 (орден святого Георгия Победоносца четвертого класса — А.П.) «за
то, что 15-го июля 1915 г., производя разведку на аэроплане и, увидя издали
австрийский
обстреливать
аэроплан,
из
догнал
маузеров,
его
и,
поднявшись
постепенно
прижимая
над
его
ним,
к
начал
земле.
Неприятельский аэроплан пытался ускользнуть, но неудачно, и после
непродолжительной перестрелки опустился на землю. В свою очередь наши
летчики опустились рядом с неприятельскими, после чего с маузерами в
руках бросились на австрийцев, которых и взяли в плен в числе двух человек
вместе с совершенно новым аппаратом в 120 сил типа «Авиатик», с полным
оборудованием» (3.08.1915)».
Мстислав Николаевич не был моим предком. А жаль, им бы я мог
гордиться!
Продолжать поиски «предков», носящих мою фамилию, не имело
смысла. Оказывается, эта фамилия достаточно распространена, ее носят и
русские, и поляки, и евреи.
Перехожу к предкам по материнской линии. Знаю, что мой дед, Павел
Иванович Соловьев, был учителем пения. О прадеде Федоре Попове
(отчества, увы, не запомнил) до меня дошло романтическое преданье (в
которое верю) о том, как он, офицер, военный врач, впоследствии погибший
во время русско-турецкой войны, выкупил у помещицы крепостную девушку
Агафью Григорьевну, ставшую моей прабабушкой. В память о ней мне
досталась статуэтка — белый фарфоровый мопс с голубой перевязью крестнакрест и ребристой корзиной на спине, предназначенной для фосфорных
спичек, которые зажигали, проведя головкой по ребрам корзины.
Вот и сейчас, набирая на клавиатуре компьютера эти строки, я
непроизвольно поднял голову и посмотрел на бесценную для меня
реликвию…
Где похоронен мой прадед, которым по праву горжусь, мне неизвестно.
Могилу моего деда сравняли с землей, над его прахом — танцплощадка.
Бабушка Лидия Федоровна, в судьбе которой было много горя и мало
радости, покоится на Ваганьковском кладбище в Москве.
О матери и отце, а также о моих дядях — красногвардейце Михаиле
Павловиче и белом офицере Викторе Павловиче я еще упомяну в
последующих главах.
Вот и все об истоках моей жизни.
Глава вторая. Я не знал, что такое соска
Теперь года прошли,
Я в возрасте ином,
И чувствую, и мыслю по-иному.
Сергей Есенин
Иногда меня спрашивают, как я сумел в двадцать четыре года
написать, а в двадцать пять издать монографию «Пьезокварц в технике
связи». Я, шутя, отвечаю: «Это потому, что в младенчестве не знал, что такое
соска».
Уверен, что в моей шутке заключена сермяжная правда: соска такое же
пагубное изобретение, как атомная бомба. Она отупляет ребенка, мешает ему
мыслить. Из-за нее человечество, возможно, потеряло столько талантов,
сколько невинных людей погибло в Хиросиме и Нагасаки.
С этим парадоксальным утверждением согласятся немногие, но если
над ним задумается хотя бы один из десяти моих читателей, я буду искренне
рад.
Раннее младенчество мое было безмятежным. На выцветшем фотоснимке Ялта, песчаный морской берег, счастливо улыбающаяся женщина с
ребенком на руках, рядом длинноволосый мужчина в пенсне — мои
родители.
Поздний ребенок, да еще родившийся в таких муках, я до поры до
времени был любим и обласкан. Баюкая меня, мама напевала: «Сашок,
Сашок,
голубой
глазок…».
Напротив
нашего
дома
была
колония
беспризорных. Они, бывало, подпевали: «Сашок, Сашок, золотой зубок…».
Идиллия? Но продолжалась она недолго.
Родители боялись избаловать меня, и уже в четыре года я читал, а если
ошибался, мама больно ударяла меня по костяшкам пальцев деревянной
палочкой, на которой чернилами было написано «палочка-выручалочка».
Надо полагать, я был непослушным ребенком. И для меня придумали
«страшилку». Если я капризничал, меня грозили отдать в комонес. Это
действовало безотказно. Я до сих пор вспоминаю загадочное слово
«комонес» и тот страх, который меня охватывал, когда его произносила
мама.
В начале тридцатых наша семья переехала в Иваново. Помню парк, в
котором мы часто гуляли с дядей Мишей (он тогда жил с нами).
Лет пяти я испытал первую любовь. В моей памяти сохранился снимок,
на котором были запечатлены я и девочка, оба в одинаковых панамках,
напоминавших головные уборы английских полицейских, неимоверно
серьезные и сосредоточенные.
Любовь оборвалась трагически. Мы с подругой (имя ее стерло время)
и, конечно же, с дядей Мишей долго гуляли в парке. Мне захотелось
помочиться (более подходящего слова не нашел), но я героически терпел,
стесняясь при девочке признаться в своем постыдном хотении. В конце
концов, не выдержал и… Нужно ли продолжать? Я не вынес позора и навеки
расстался с любимой.
Что еще примечательного случилось со мной в то время? Меня
пытались учить музыке. Купили дешевую скрипку и нашли учителя. Под
моим смычком скрипка издавала душераздирающие вопли. Я мысленно
затыкал уши, стараясь их не слышать. А учитель удивлялся: «У тебя
хороший музы- кальный слух, почему же ты так плохо учишься играть?».
Вскоре со скрипкой было покончено. А на пианино у родителей не было денег.
Затем меня попробовали научить немецкому языку. Договорились со
знакомой женщиной, немкой по национальности. Меня к ней приводили, а
дальше
происходило
следующее.
Я
жаловался,
что
болит
голова,
сердобольная немка укладывала меня на диван. Мы оба были довольны.
Мама вскоре разгадала эту хитрость, и занятия прекратились.
В школу меня отдали, как тогда полагалось, в семь лет, но… сразу во
второй класс, поскольку я уже умел читать, писать и считать.
Я был для своих лет крупным ребенком, крупнее всех в классе, и мама
внушала мне: «Ни с кем не дерись, а то нечаянно убьешь кого-нибудь!».
Признаюсь не без стыда: я подрался единственный раз, уже будучи
старшеклассником. Да и драка получилась какая-то несерьезная: дал парню
оплеуху, тот в ответ расцарапал мне лицо. А так за всю жизнь никто меня ни
разу и не ударил…
Словом,
я
рос
маменькиным
сынком.
Впрочем,
родители не
интересовались, как я учусь. В этом не было необходимости: я неизменно
переходил из класса в класс с похвальными грамотами.
А
когда
поступил
в
институт,
родители
вообще
перестали
интересоваться моей жизнью. Они продолжали по-своему любить меня, но,
во-первых, шла война, на которой я успел побывать, во-вторых, были целый
день на работе и очень уставали. В-третьих, я не имел проблем с учебой. Ну,
а в-четвертых, война как бы прибавила мне лет и я, оставаясь в их глазах
ребенком, стал вполне самостоятельным человеком и сопротивлялся
попыткам
воздействовать
на
мое «я».
В
конце
концов,
родители
отступились…
И вот теперь я не могу не рассказать о них.
Глава третья. Мои родители
Строгий моралист найдет мою
откровенность неуместною но, во-первых,
это скрыть нельзя, а во-вторых… у меня
всегда были особенные причины насчет
отношений отца к сыну. Впрочем, ты,
конечно, будешь вправе осудить меня.
И.С. Тургенев. Отцы и дети
Я был плохим сыном. Не уделял должного внимания родителям, став
взрослым, не заботился о них в достаточной мере. Осознал свою вину, уже
войдя в старость. Увы, прошлое не подлежит исправлению…
Надеюсь, вы не сочтете мою откровенность неуместной. У меня были
сложные отношения с родителями. К тому же эти отношения менялись в ту
или иную сторону на протяжении моей жизни.
Начну с самого сложного, так и не понятого мною до конца. Речь
пойдет о моем отце — Филиппе Александровиче Плонском.
Студент романтик, он в 1916 году вступил в Российскую социалдемократическую рабочую (коммунистическую) партию. В гражданскую
войну стал комиссаром (одним из тех, о ком поется в известной песне «и
комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной»), носил длинные
волосы и маузер на боку.
Он ничего не говорил о своем прошлом, а я и не спрашивал его.
Наверное, меня это просто не интересовало. Итак, по отцовской линии я
действительно «Иван, не помнящий (и не знавший) родства».
Лишь однажды отец разоткровенничался. Видимо, эпизод из своей
биографии, о котором он рассказал, тяжелым грузом лежал на его совести.
Во
главе
отряда
революционных матросов
отец
реквизировал
«буржуйские» ценности. У одного из «буржуев» была коллекция картин,
Матросы срывали их со стен и уносили. И тогда «буржуй» выбросился из
окна, разбившись на смерть. А был он простым гимназическим учителем…
Вскоре после окончания гражданской войны отца послали доучиваться
в университет (тогда в университетах были медицинские факультеты).
Закончив с грехом пополам обучение, отец сразу же был назначен
директором (слово «ректор» в то время не признавали) Ивановского
медицинского института.
Надо полагать, он был хорошим директором, и сотрудники, и студенты
его, как мне казалось, любили. Но в этой «бочке меда» была и своя «ложка
дегтя», хотя как понимать…
Отца из дома в институт возила персональная пролетка. А мать, тогда
уже кандидат медицинских наук, в то же время добиралась в институт
пешком. И, имея ученую степень, работала всего лишь ассистентом. Это
сейчас «первые леди» сопровождают верховных супругов. А в те времена
отец явно боялся, что его обвинят в поблажках жене, и элементарно
перестраховывался.
При
институте
был
парашютный
кружок.
Отец
ему
покровительствовал. Помню фотоснимок: он среди загорелых парней и
девушек в шлемах парашютистов. Заиметь такой шлем было моей мечтой.
Но когда я попросил отца подарить мне его, отец в резкой форме отказал.
Этим он нанес мне глубокую обиду. Знал бы я тогда, что через какихнибудь семь лет по праву надену парашютный шлем и поднимусь в небо…
Впрочем, не могу умолчать и о другом случае. Мы жили в тесной
квартирке, где еще лет десять назад делали в последний раз подобие ремонта.
А для института только что построили многоэтажный современный дом. И я
случайно подслушал разговор родителей. Мать сказала: «Лаборанты
вселяются, так неужели мы не заслужили новой квартиры? Ведь ты же
директор!» Отец отрезал: «Я коммунист». Больше к этому разговору
родители не возвращались.
Впоследствии мне дважды предлагали высокие должности — главного
инженера большого НИИ и ректора вуза. Я должен был лишь подать
заявление в партию (такие должности могли занимать только члены КПСС).
Оба раза под благовидными предлогами отказывался. И вовсе не потому, что
в чем-то был против партии, наоборот, она сделала мне, беспартийному,
немало хорошего.
В 1937 году лично Лазарь Моисеевич Каганович раскрыл в Ивановском
мединституте троцкистское гнездо. Отца не репрессировали, а только
исключили из партии, правда, тут же назначив директором московского
Центрального
института
учебно-медицинских пособий
(сокращенно
ЦИНУПМЕД).
Это было намеком на скорое прощение.
Но отец, как человек, был раздавлен. По семейной легенде мать в
последний момент спасла его от самоубийства. Так или иначе, он
продиректорствовал
в
ЦИНУПМЕД
около
месяца
и
уволился
«по
собственному желанию». В дальнейшем работал школьным врачом, но, еще
не дождавшись пенсионного возраста, ушел на покой. Фактически отец стал
иждивенцем матери. Привыкнув, пусть к не столь уж большой, но власти, он
часто
своими
назойливыми
советами,
к
которым
мать
почему-то
прислушивалась, приносил ей непоправимый вред. Впрочем, развивать эту
тему мне не хочется…
Осуждаю ли я отца? Вернее сказать, отношусь к нему неоднозначно.
Некоторыми его поступками даже горжусь.
Много лет мою душу грыз червь: а почему отца пощадили, уж не
ценой ли предательства?
Но
уже
в
эпоху
Хрущева,
когда
начали
реабилитировать
репрессированных, отца пригласили в КГБ и сказали, что он чист перед
народом: никого не выдал, расстрельных приговоров не визировал (как,
кстати, много раз делал сам Хрущев). Более того, отцу предложили
восстановиться в партии с сохранением стажа. В этом случае ему «светили»
бы персональная пенсия союзного значения и «золотой» значок «50 лет в
КПСС».
Отец
отказался,
сказав,
что
немощен
(это
соответствовало
действительности), а быть балластом не хочет.
Был ли он обижен на партию? Ни в коем случае! Сталина считал
великим и все его действия одобрял, а о себе говорил: «Лет рубят — щепки
летят. Я оказался такой щепкой».
До сих пор жалею об одной утрате. У отца, еще в Иваново, был альбом
с репринтным изданием газет, вышедших в дни смерти и похорон Ленина. В
газетах множество снимков: Ленин с Троцким (о последнем отец шепотом,
на ухо, говорил: «Левушка был голова…»), Ленин с другими будущими
врагами народа.
Справедливо опасаясь за себя и за нас, отец, видимо, уничтожил альбом. Сохранился ли хотя бы один его экземпляр — не знаю…
С матерью я духовно более близок. Она прожила трудную,
изобилующую препятствиями жизнь. Родилась в Дербенте. Совсем юной
девушкой перебралась в Москву и поступила на медицинский факультет
Императорского
университета.
Зарабатывала
на
жизнь,
работая
корреспондентом в газете. Сумела защитить кандидатскую диссертацию.
Здесь у меня провал в знании ее жизни. Почему-то убежден, что она
перенесла глубокую личную драму (на эту тему мать не хотела говорить, а я
не проявлял настойчивости).
Затем судьба занесла ее в Крым, где она заведовала детской
консультацией. Там она и вышла замуж за моего отца. По любви? Не уверен.
Матери достался характер тяжелый и властный, как вся ее жизнь. Но у
постели
больного
она
преображалась,
становилась
мягкой,
чуткой,
бесконечно справедливой. Собственные беды, боли, страхи отступали прочь.
В сердце, словно пепел Клааса, стучались беда, боль, страх человека,
который верил ей, нуждался в ее помощи, ждал от нее чуда…
— Если бы я могла начать жизнь сначала, — сказала она мне, будучи
доктором
медицинских
наук,
заведующей
кафедрой
Ленинградского
педиатрического института, — я никогда не стала бы врачом. Слишком во
многом чувствую себя бессильной.
«Талант творит все, что захочет, а гений только то, что может» —
говорил Дега. Моя мать, будучи человеком долга, могла слишком мало, и это
угнетало ее всю жизнь.
Глава четвертая. И была война…
Если завтра война, если завтра в поход,
если темная сила нагрянет,
как один человек, весь советский народ
за свободную родину встанет!
……………………………………………………
И на вражьей земле мы врага победим
малой кровью, могучим ударом….
Предвоенная песня
Если завтра война, так мы пели вчера,
а сегодня война наступила…
В жизни немало случайностей. И поверьте, по чистой случайности я
начинаю эту главу в День памяти и скорби 22 июня, но не 1941, а 2010 года.
Перед войной мы проживали в подмосковном городе Бабушкине,
названном так в честь полярного летчика, Героя Советского Союза
(впоследствии Бабушкин стал одним из районов Москвы). Мы жили в так
называемом «стандартном», то есть двухэтажном дощатом, оштукатуренном
снаружи и изнутри, наподобие барака, доме.
Отопление печное, туалеты с выгребными ямами в тамбурах, вода из
колонки, еду готовили на керосинках. Напомню, что мать тогда руководила
одним из управлений в Наркомате здравоохранения, то есть была по сути
дела вторым лицом после замнаркома.
К нашей крошечной двухкомнатной квартирке в торце дома примыкала
веранда, имевшая два входа — со двора и из комнаты. С годами она
обветшала, наружную дверь забили. Веранда не отапливалась, поэтому
пользовались ею только летом. Тогда ее облупившийся фасад заплетал
вьюнок с бледно-розовыми слабоароматными цветами, и дом, при очень
развитом воображении можно было принять за старинный рыцарский замок.
На веранде стоял старый комод. Ящики его рассохлись, родители уже
давно им не пользовались, он принадлежал мне. Комод был волшебным. В
нем царил хаос, но это лишь на взгляд взрослых. Я мог часами копаться в его
ящиках, перебирая всевозможные предметы: радиолампы (я с малолетства
увлекся радиолюбительством), шурупы, пружинки и многое другое из того,
что взрослые по своей неосведомленности считали бесполезным хламом. А я
копался в этом хламе часами, находя все новые сокровища.
Во дворе был деревянный, источенный временем стол. По вечерам на
нем «забивали козла» любители домино, днем же он пустовал.
Поблизости сушилось белье, бродили кошки. Придя из школы, я — это
случалось не часто, но запомнилось отчетливо, — ложился навзничь на стол
и смотрел в небо.
Небо было голубое, его еще не перечеркивали инверсионные следы
реактивных самолетов, по нему плыли невозмутимые облака. Оно казалось
ошеломляюще свежим, словно нечаянное открытие, и принадлежало мне
одному.
Да, это было мое небо. Я лежал, смотрел и мечтал, ни о чем
определенном. Веял ветерок, и это меня безотчетно волновало; набегали,
сменяя друг друга, звуки и запахи, — я невольно запоминал их.
И старый комод, и стол — стартовая площадка в небо — последнее,
что сохранилось в памяти от детства.
А такого неба я долго не видал. Видел небо в дымном чаду, разрывах
зенитных снарядов. Видел схватки одиноких И-16, легендарных «ишаков» со
стаями железных «мессершмиттов».
Видел,
как «Юнкерсы» роняли
безобидные на вид слезинки-бомбы. Но такого, как в то предвоенное лето
больше не видел.
31 декабря мы встречали Новый, 1941 год. У нас были гости. Сидя за
тесным столом, уже проводив старый год, взрослые обсуждали только что
вышедшую и сразу же ставшую, как теперь говорят, бестселлером книгу
Николая Шпанова «Первый удар». В книге ярко и образно описывалась
грядущая война, которая, конечно же, велась на вражеской земле и быстро
заканчивалась нашей победой. Мне надоели разговоры взрослых, их споры и
предположения. Я, накинув на плечи куртку, выскользнул на веранду. Моего
«побега» взрослые даже не заметили.
Стоял трескучий мороз. Окна веранды заиндевели, из щелей к полу
тянулись сосульки. Я подключил батареи к только что сделанному своими
руками приемнику, который не терпелось опробовать. И в наушниках
услышал бой кремлевских курантов.
А 22 июня началась война. Уже через три дня и отец, и мать получили
повестки из военкомата. В нашей семье было три человека — родители и я,
единственный сын. В военкомат мы пришли втроем.
К счастью, военный комиссар выписал и мне мобилизационное
предписание. Как сейчас помню этот картонный малиновый прямоугольник
размером в половину открытки.
В конце июня мы на поезде отправились в Валуйки, районный центр
Воронежской (позднее Белгородской) области. Вскоре я стал вольнонаемным
санитаром эвакогоспиталя № 1931, располагавшегося в здании местной
школы. В кадровый состав меня по возрасту не взяли, но выдали
красноармейскую форму — гимнастерку, галифе и кирзовые сапоги.
Я был крепким парнем — таскал на носилках раненых, копал щели, в
которых мы прятались во время бомбежек. А фронт неуклонно приближался.
В октябре немцы приблизились настолько, что раненых приходилось
выносить чуть ли не из-под обстрела. И тут произошел случай, о котором
сейчас расскажу.
Раненых вывозили на восток санитарными поездами. Эшелоны
состояли из товарных вагонов — теплушек с дощатыми нарами. Очередной
состав должен был эвакуировать наш госпиталь с оставшимися ранеными.
Он запаздывал, а уже слышался отдаленный гул: фашисты медленно, но
неотвратимо приближались.
И тогда среди раненых началась паника. В палату вбежал комиссар
госпиталя. Его выбросили в окно. Но вот в палату стремительно, с гордо
поднятой головой вошла моя мать. Секунда, другая… тишина.
В это время подошел состав. Ходячие раненые поспешили к вагонам, а
лежачих мы бегом несли на носилках. Поезд тронулся… Это был последний
эшелон. Нам посчастливилось — его не бомбили. А по обе стороны
железнодорожного полотна валялись обгоревшие остовы вагонов.
Мы продвигались на восток медленно, пропуская спешившие к линии
фронта воинские эшелоны и передавая раненых в попутные стационарные
госпитали.
Не буду останавливаться на том, как ударили морозы, и утром приходилось отдирать волосы, примерзшие к стенке теплушки, как я ухитрился
заболеть корью, и меня могли высадить на первой же станции.
Потом был Белозерск Вологодской области:
Бледно-сизая луна из-за туч едва мигает,
В Белом озере вода неприветливо седая.
Баржа движется с трудом, глубоко в воде осела,
Разве выспишься потом,
Если дрожь бежит по телу,
Если ветер штормовой,
Если с треском гнется свая,
Если туча надо мной,
Словно озеро, седая…
И, наконец, последнее пристанище: поселок Мундыбаш Алтайского края:
Как огромными тисками,
Край горами стиснут наш.
На огромной белой ткани
Черной кляксой Мундыбаш…
Здесь нас настиг давно блуждавший приказ откомандировать мать в
Москву, в наркомздрав. Вместе с нею летом сорок второго оказался в Москве
и я.
О госпитале мне напоминает врученная позже медаль «За победу над
Германией в Великой отечественной войне».
Уже работая над этой главой, я обратился к документальным источникам. То, что нашел, поначалу подтверждало сохранившееся в памяти:
19 сентября 1941 года прекратилась оборона Киева.
В целях планомерного отхода на восток для сохранения армии Ставка
Верховного Главнокомандования (Сталин и Шапошников) приказала: ЮгоЗападному фронту с 17 октября начать отход сил фронта на линию
КАСТОРНОЕ, СТАР. ОСКОЛ, НОВ. ОСКОЛ, ВАЛУЙКИ.., закончив его к
30 октября с. г.
Несмотря на отчаянное сопротивление ведущих упорные оборонительные бои воинов 2-й гвардейской стрелковой дивизии и 2-й отдельной
танковой бригады, 24 октября пал Белгород. От него до Валуек по прямой
всего 117 километров: Белгород — Шебекино — Бершаково — Волоконовка
— Валуйки.
25 октября 1941 г. по приказу командующего 38-й армии части
гарнизона города Харькова оставили город.
Но захватить Валуйки немцам удалось лишь в июле 1942 года! Ах,
если бы мы могли это предвидеть осенью сорок первого!
А война для меня кончилась 9 мая 1945 года. Почему для меня, а не для
всех нас? Конечно же, для всего многонационального советского народа. Но
я встретил и провел День победы на Красной площади среди массы
ликующих людей. Донашивал военную форму, и меня, как солдат и
офицеров, обнимали, целовали и подбрасывали в воздух.
Это было истинное, полное надежд и добрых предчувствий счастье!
Глава пятая. В Московском авиационном
Да, нужно было одно — учиться. Но когда, где?
И. Бунин. Деревня
В июле сорок второго мы вернулись в Москву. Столица меня поразила.
Я боялся увидеть сплошные развалины — результат массированных
бомбардировок «Юнкерсами». Страхи оказались преувеличенными.
Да, 22 июля 1941 года германская авиация произвела первый налет на
Москву, а вскоре налеты стали систематическими. Но больших разрушений,
сравнимых с разрушениями Лондона, удалось избежать благодаря героизму
наших летчиков и несметному числу аэростатов воздушного заграждения. К
Москве прорывались только единичные немецкие бомбардировщики.
На фотоснимке небо Москвы в 1941 году.
Фашистские удары не оставались безответными. В ночь с 10 на 11
августа
1941
года
советские
бомбардировщики
морской
авиации
Краснознаменного Балтийского флота и 81-й тяжелой бомбардировочной
авиадивизии нанесли удар по Берлину. В течение месяца советская авиация
бомбила столицу Третьего Рейха десять раз, посрамив Геринга, который
клятвенно обещал берлинцам, что на их головы не упадет ни одна бомба.
К нашему приезду в Москву налеты стали сравнительной редкостью.
Во всяком случае, я под бомбежку не попал ни разу.
Мать впряглась в работу, но находила время вместе со мной искать
институт, в который я мог бы поступить с моим девятиклассным
образованием. Мне к
тому
же хотелось, чтобы в институте была
радиотехническая специиальность.
Не сочтите наши поиски за авантюру. Ночью в Белозерске, когда все
спали, я лежал на протопленной печи в блаженном тепле и решал задачи,
собираясь, во что бы то ни стало, сдать экстерном экзамены за десятый класс.
Голова была поразительно легкой и ясной. Всё давалось буквально с лёта. На
меня вдруг снизошло высокое вдохновение: февраль сорок второго года,
темень,
вьюга… А жизнь кажется прекрасной, вера в свои силы
необычайная! Словно ты не песчинка, влекомая ураганом войны, а былинный
богатырь, которому отроду предназначены подвиги.
Вот с таким настроением и подсознательной уверенностью в удаче я и
приехал в Москву. И удача меня не подвела.
Мы с матерью бродили по столице мимо домов с заклеенными крестнакрест бумажными полосками окнами, останавливаясь у стендов с
объявлениями. На одном из стендов висел объявление о приеме на
подготовительное отделение Московского авиационного института. Правда,
оно было пожелтевшим, и дата на нём — май месяц.
Мы отправились по указанному в объявлении адресу. Нас принял
председатель приемной комиссии доцент Лейтес (его фамилия врезалась в
мою память). Узнав, что мне лишь два месяца назад исполнилось
шестнадцать, он рассмеялся.
— До выпускных экзаменов в подготовительном отделении, которые
одновременно являются вступительными экзаменами в институт, полтора
месяца. О чем вы думаете?
— Я справлюсь, — сказал я.
— Он справится, — подтвердила мать.
Лейтес покачал головой.
— Ну, что же, попытайтесь. Чем черт…
Я сдал все экзамены на «хорошо» и «отлично», кроме черчения. За
черчение доцент Волков поставил мне «удовлетворительно». И эту фамилию
я запомнил навсегда, по причине, о которой расскажу позже.
В МАИ радиотехнического факультета не было, и я поступил на
близкий по профилю факультет приборостроения и оборудования самолетов.
Забегая вперед, скажу, что год спустя перешел на новый факультет
радиолокации, поэтому в дипломе у меня написано: инженер-механик по
радиолокационным установкам (не удивляйтесь слову «механик», в МАИ
традиционно готовили только механиков и конструкторов).
Перехожу к самому удивительному: мы, первокурсники, были в
институте одновременно и самыми младшими, и самыми старшими, потому
что в 1941 году все студенты были эвакуированы в Алма-Ату.
Что поражало? Многое! И громадная территория института за метро
«Сокол», и наш бомбардировщик посреди нее — забирайся в кабину, двигай
штурвалом, сколько душа пожелает, — и строгая пропускная система. А,
пожалуй, самое главное: как бережно (не в пример нынешнему времени)
относились к нам, студентам. Среди учебного года нас не отрывали от
занятий на посторонние работы. Питались мы по «рабочим» карточкам, то
есть лучше, чем инженеры, получавшие «служащие» карточки, и, тем более,
домохозяйки с их «иждивенческими» карточками.
Справедливости ради замечу, что и ученые были на особом счету: моя
мать, кандидат наук, получала продукты по карточкам «литер Б», а докторам
наук полагался «литер А».
Какая же силища была у Советской власти, если она в тяжелейшие дни
войны, когда главенствовал лозунг «Всё для фронта, всё для победы»,
прозорливо думала о будущем — заботилась о тех, кому предстоит
обеспечивать научно-технический прогресс Родины!
Обслуживали
нас
пленные
немцы.
Я
запомнил
их
сытыми,
подобострастными, услужливыми и, казалось, вполне довольными жизнью. Я
ходил в солдатской форме, естественно, без знаков различия, и когда
проходил мимо немца, тот вытягивался в струнку и брал «под козырек».
На фото: таким был я в 1942 году.
О моих товарищах следует рассказать подробнее. Среди них были и
юноши, и девушки, вчерашние школьники и фронтовики с последствиями
тяжелых ранений. Но не было ни намека на дедовщину! Никто не кичился
орденами.
Правда, кому-то из ректората пришло в голову сформировать из нас
батальон. Командиром назначили старшего лейтенанта, ходившего, опираясь
на палку. Нас даже пару раз построили в шеренги, но потом от этой затеи
отказались.
Меня то ли выбрали, то ли назначили (точно не помню) старостой
группы. Им я пробыл весь учебный год. Правда, закончил его не круглым
отличником: одна четверка в зачетную книжку все-таки затесалась. Но дело
не в этом.
Я был весьма активным старостой, и эта «активность» толкнула меня
на поступок, которого до сих пор стыжусь.
Как-то я работал в прекрасном чертежном зале, которому могли бы
позавидовать иные конструкторские бюро, и сухими крошками белого хлеба
чистил лист ватмана (прием хорошо известный любому чертежнику). И вдруг
за моей спиной послышался взволнованный, гневный и в то же время умоляющий голос:
— Что вы делаете! Это же белый хлеб!
Обернувшись, я увидел того самого доцента Волкова, который
поставил мне единственную «тройку» — человека лет шестидесяти, худого и
какого-то жалкого.
— У меня больной желудок, — продолжал доцент, — Мне
противопоказан черный хлеб! Если бы вы могли… Лучше отдавайте его мне,
а я… а я и так…
А дальше было как раз то, чего я стыжусь до сих пор. Мы всей группой
собирали ломти белого хлеба, а Волков ставил нам пятерки не за чертежи, а
за небрежные наброски…
Что я могу сказать в свое оправдание? Только то, что вовремя осудил
себя и никогда в жизни больше не допускал подобной низости.
Закончился учебный год, я перешел на второй курс. И ничто не
предвещало решительных перемен в моей жизни. Мне и во сне не могло
привидеться, что в следующем году под мою подпись будут ставить печать
Московского авиационного института.
События развивались так. Во время каникул мы помогали мастерам
ремонтировать здание нашего факультета. Я постигал профессию маляра. По
неосторожности на большой палец ноги упала железная штанга. Палец
распух и посинел. Меня, конечно же, освободили от работы.
В метро я ловил на себе жалостливые взгляды, мне уступали место:
молодой человек в военной форме воспринимался всеми как солдат,
перенесший ранение.
Через несколько дней боль утихла (не без стараний матери), и я решил
наведаться в институт.
Меня чуть не сбил с ног ликующий парень из нашей группы Изя Брискин (фамилия и имя подлинные): «Сашка, читай объявление! Объявлен
набор в парашютный кружок!».
Надо мной все еще довлел комплекс «маменькина сынка». Я
неосознанно стремился от него избавиться. А тут такая возможность!
В парашютный кружок я записался одним из первых. И это круто из
менило мою жизнь.
Глава шестая. Моя стратосфера
Холодом и ветром
Дышат километры.
Двадцать — отстукали сердца.
Так умели трое
Ленинцев-героев
Драться со смертью до конца.
30 января 1934 года П. Федосеенко, А.
Васенко и И. Усыскин на аэростате достигли
рубежа 22 км. Но затем гондола оторвалась, и
стратонавты погибли.
Эта глава отражает самый яркий период моей жизни.
Итак, в 1943 году я записался в парашютный кружок. Сначала были
теоретические занятия (впоследствии проводил их сам, и, поверьте, даже
сегодня смог бы прочитать лекцию об устройстве и технике укладки
парашюта, о том, как исполняется прыжок и т. п.).
Потом было что-то вроде экзамена: мы должны были прыгнуть с
парашютной вышки в парке культуры и отдыха имени Горького. Это была
имитация прыжка с 25 метров, купол не играл роли, а вес прыгающего
компенсировался грузом. Но, поверьте, прыгать с вышки страшнее, чем с
самолета. Парадокс? Нисколько! С вышки земля видна как с балкона — до
нее рукой подать, поэтому срабатывает инстинкт самосохранения. А с
самолета видишь нечто подернутое дымкой, далекое и нереальное.
Я решил не дожидаться назначенного дня и прыгнул с вышки
самостоятельно, без напутствий и подталкивания. А потом сказал, что не
нуждаюсь в вышке и сразу же прыгну с самолета. Это произвело
впечатление.
С долей сарказма со стороны товарищей нас повезли на аэродром, где
роль единственного «солиста» должен был исполнить я.
И вот мы на аэродроме московского городского парашютно-планерного клуба. Летчицей, «вывозившей» парашютистов на прыжки, была Ольга
Сущинская, в прошлом балерина. Постоянное пребывание на свежем воздухе
сделало ее лицо обветренным, даже грубоватым. Но я помню ее как
прекрасного человека, наделенного чувством юмора и чисто женской
добротой.
Прыгали мы с замечательного самолета У-2.
Справка
У-2 —
многоцелевой биплан,
созданный
под
руководством Н.Н.
Поликарпова в 1928 году.
У-2 разрабатывался для первоначального обучения лётчиков и обладал
хорошими пилотажными качествами. Первый полёт был выполнен 7 января
1928 года под управлением М.М. Громова.
По схеме самолёт У-2 — типичный биплан с мотором воздушного
охлаждения М-11 мощностью 100 л.с.
Пилотажные качества У-2 были уникальными. Он с трудом входил в
штопор и выходил из него с минимальным запаздыванием. Однажды
В.П.Чкалов у земли развернул У-2 по крену почти на 90 градусов, чтобы
пролететь между двумя березами, расстояние между которыми было
меньше размаха крыльев.
Так выглядел У-2.
Не удержусь и от такой цитаты.
В одной из летных школ инструктор так объяснял курсантам
основные особенности конструкции машины: «Самолет У-2 состоит из
палочек и дырочек. Палочки для усиления, дырочки — для облегчения». При
всей анекдотичности такое пояснение содержало рациональное зерно.
Но продолжу рассказ. По всем правилам я забрался в переднюю кабину
У-2. Сущинская уже сидела сзади. Минута, и мы в воздухе. Самолет сделал
«коробочку» над аэродромом (если так можно назвать заросшее сорняками
поле), набрав высоту 600 метров.
Услышав команду: «вылезай!», я пулей выскочил на крыло и,
перебирая руками борта кабин, подошел к кромке крыла и развернулся на
сорок пять градусов. «Пошел»! И я шагнул в бездну.
Это случилось 26 сентября 1943 года. Откуда такая точность? Просто я
сохранил
бледно-голубую,
посеревшую
от
времени
книжечку
«Удостоверение инструктора парашютного спорта», где задокументированы
мои прыжки.
Здесь надо пояснить следующее. Мы прыгали с тренировочными
парашютами ПТ-1 и десантными ПД-6 (площадь купола 63 кв. м.). Никакой
страховки тогда не было. Мы должны были все время держать в правой руке
вытяжное кольцо. У новичков оно закреплялось резиновым кольцом —
«соской» на тот случай, если новичок, растерявшись, отпустит кольцо и
потом не сможет его найти. Уронить выдернутое кольцо считалось позором,
И здесь выручала «соска».
Это сейчас прыгают на парашютах с квадратными куполами, по десять
прыжков в день, с раскинутыми руками в свободном падении, осваивают
элементы воздушной акробатики. А мы падали кувырком. Отпустить кольцо
считалось грубейшим нарушением дисциплины, как и попытаться устоять на
ногах во время приземления. При встрече с землей надо было падать на
правый бок. И только так!
Правда, вскоре от «сосок» отказались. Вместо них к вытяжному кольцу
пристегивалась
фала,
которая
подменяла
действия
зазевавшегося
парашютиста.
До войны в МАИ была своя парашютная школа. И ее решили
возродить на базе московского парашютно-планерного клуба. А если есть
школа, то у нее обязательно должен быть начальник. На меня, видимо, как на
закоперщика парашютных прыжков в МАИ, пал выбор. И я в 17 лет получил
отдельный кабинет и право подписи на бланках Московского авиационного
института.
А вот как я выглядел после своего первого прыжка.
Не удивляйтесь! В МАИ нередко студенты, так сказать, по
совместительству, занимали руководящие посты, и даже преподавателем
военного дела у нас был студент, кстати, никогда не нюхавший пороха, но
прекрасно разбиравшийся в оружии. А на факультете приборостроения и
оборудования самолетов заместителями декана были два старшекурсника с
моторостроительного факультета (в 1943 году алмаатинцев возвратили в
Москву). Кстати, они свирепствовали, хотя сами учились кое-как.
Я
получал
Лабораторные
зарплату,
работы
был
освобожден
от
выполнял, что называется
посещения
скопом.
лекций.
Словом, на
образцовом студенте был поставлен крест.
Но вот, что любопытно: наспех перелистав чей-то конспект, я сдавал
экзамен на «хорошо» и «отлично». «Тройки» появлялись в моей зачетке
сравнительно редко. А были ли «двойки», вообще не помню.
Хотя нет, вспомнился забавный случай. На экзамене по радиоприемным
устройствам
группу
поделили
пополам.
В
первой
подгруппе
экзаменовал старший преподаватель Волин, человек желчный, видимо
переживающий отсутствие ученого звания. Справедливости ради замечу, что
он был автором хорошего учебника по усилителям. Думаю, что за одну эту
книгу ему должны были присвоить звание доцента. Но почему-то не
присвоили.
Волин считал, что студент, не посещавший лекции, в принципе не
может знать предмет и не заслуживает даже удовлетворительной оценки.
Я попал в эту подгруппу, и Волин, не задав мне ни одного вопроса,
вывел в ведомости жирную «двойку».
Во второй подгруппе экзамен принимал заведующий кафедрой
профессор Белоусов. У него был дубликат ведомости. Я попросил товарищей
уступить очередь к профессору. Белоусов задал несколько вопросов, я на них
ответил. Профессор поставил в свой экземпляр ведомости и в зачетную
книжку «отлично».
Потом мне рассказали, что, когда сверили ведомости, произошла сцена,
достойная «Ревизора»…
А
по
авиадвигателей
аэродинамике,
и
другим
конструированию
авиационным
самолетов,
дисциплинам
теории
преподаватели,
возможно, делали мне скидки именно из-за моих занятий парашютизмом…
Боюсь что эта своеобразная «солидарность» в будущем снизила мой
потенциал ученого. А может, напротив, выработавшееся у меня умение
«схватывать» знания налету, сослужило добрую службу…
В чем состояли функции начальника парашютной школы? Во-первых, я
комплектовал группы желавших испытать себя в интересном и, как многим
казалось, опасном деле. Во-вторых, читал лекции по устройству парашюта, о
том, как совершается прыжок… Именно тогда во мне зародилась любовь к
искусству (да-да, именно искусству!) преподавания — моей будущей
профессии.
Потом, после обязательной медицинской комиссии, я вез группу на
аэродром,
где
«сдавал»
с рук на руки своих учеников суровым
экзаменаторам
— летчикам.
Но на этом мои обязанности не заканчивались. Я учил новичков
укладывать парашюты, перед посадкой в самолет подгонял подвесную
систему, старался рассеять страх.
Не верю тем, кто бахвалится своим бесстрашием. Да, непосредственно
перед прыжком и во время прыжка я был совершенно спокоен. Не испытывал
страха во время «чрезвычайных ситуаций».
Но ночью, пытаясь заснуть, представлял то, что могло со мной (и с
каждым из нас!) случиться, и вот тогда меня охватывал самый настоящий
страх. Но поутру он исчезал, а огромное желание прыгать, прыгать,
прыгать… только крепло.
И вот здесь хочу подчеркнуть различие между спортсменами
парашютистами военного времени и нынешними. Дело даже не в том, что
прыгать с современным парашютом (слава прогрессу!) несравненно легче.
Мне приходилось «зарабатывать» каждый прыжок подготовкой спортсменов,
а одно время и десантников для Красной армии.
Ведь бензин был на вес золота. К тому же, сейчас прыгают группами с
многоместных самолетов, что экономически, да и по затратам времени,
выгоднее одиночных прыжков. Поэтому один прыжок в военное время стоил
десяти, если не пятидесяти современных.
Не сочтите за нескромность, если я скажу, что мои прыжки были
уникальны. Со временем я «изменил» Сущинской, перебравшись вместе со
всей школой в областной парашютно-планерный клуб, которым командовал
капитан Трунов, а начальником летной части был Владимир Кривой.
Причина в том, что там практиковались гораздо более рискованные прыжки
(«погнался за адреналином» — сказали бы сегодня).
Чтобы не быть голословным, приведу страничку из своей парашютной
книжки. На этой пожелтевшей страничке документально подтверждено, что
14 января и 1 марта 1945 года я совершил прыжки с высоты сто метров.
Что это значит, видно из газетной статьи, вышедшей в «Правде» спустя
два десятилетия:
«С высоты 100 метров на парашютах
РЯЗАНЬ. (ТАСС). Беспримерный групповой прыжок с самолетов
совершили 1 марта близ Рязани парашютисты Центрального спортивнопарашютного клуба воздушно-десантных войск СССР. Впервые в мире
(неправда! — А.П.) покинув машины на исключительно малой высоте — 100
метров, они благополучно приземлились в заданном месте. Прыжок
требовал исключительной храбрости и высокой техники выполнения».
Мои впечатления: Я на крыле У-2. Мотор почти бесшумен. Самолет
«парашютирует». Земля как на ладони. Хорошо слышны голоса: «Смотрите,
вышел!», «Сейчас прыгнет!». Голос летчика: «Пошел!». Солдатиком с крыла
вниз. Прикрепленная к самолету фала с обрывной стропой натянулась,
стропа выдернула кольцо, ранец распахнулся, стропа вытянула змейкой
купол из сот на всю длину и оборвалась. Миг, и динамический удар от
раскрывшегося парашюта. Еще миг, и удар о землю. Всё. Малейшая заминка
и конец…
Но за парашют я мог бы поручиться — выбирал и укладывал сам.
А сейчас о другом, гораздо более опасном прыжке. Незадолго до конца
войны Болгария переметнулась от Германии к нам. Не забудем, что наши
«братушки» воевали против нас и во время первой мировой. А теперь,
подумать только, Болгария объявила войну Германии!
И вот какую-то захудалую болгарскую делегацию привезли на наш
аэродром. Решили их поразить затяжным парашютным прыжком.
Получаю задание: затяжка десять секунд. Ну что ж, не впервой.
Прыгаю. Начинаю отсчитывать секунды. На четвертой чувствую неладное.
Ноги в горизонтальной плоскости крутятся вокруг головы — центра
вращения. Летчиком такое хорошо известно — плоский штопор. А в
парашютном спорте — редчайшее явление.
Напомню, что нам категорически запрещалось отпускать кольцо. А
современные парашютисты — воздушные акробаты «парят» в воздухе,
выполняя сложнейшие кульбиты. Они легко бы вышли из плоского штопора,
а я даже не знал, что это такое.
На восьмой секунде чувствую, что теряю сознание. Уже погружаясь во
тьму, на десятой секунде дергаю кольцо. Думаете, купол раскрылся? Ничего
подобного! Закрученные во время плоского штопора стропы начали
раскручиваться. Купол медленно наполнялся воздухом. Вот он раскрылся?
Но нет, теперь вращение началось в другую сторону, сжимая купол.
Хорошо, что был запас высоты. Вращение в ту и другую стороны
продолжались, постепенно затухая, пока я не «воткнулся» в землю.
Конечно же, болгары решили, что им продемонстрировали последнее
достижение советских парашютистов — «винтовой» прыжок. Мы не стали
переубеждать их.
Я мог бы еще долго рассказывать о своих прыжках, о том, как при не
полностью раскрывшемся парашюте барахтался в окутавшем меня куполе
запасного. Тогда мне повезло: я опустился прямо в самую верхушку
большого сугроба. Мог рассказать о неизбежных травмах, об очаровании
ночных прыжков. Но судьба долго меня оберегала, пока…
Впрочем, об этом позже. А сейчас я перехожу к самому для меня
грустному.
Начну издалека. До войны День авиации был государственным
праздником, и отмечали его 18 августа. Проходил он в Тушино, и на нем
всегда присутствовал Сталин.
Во время войны Тушино отдали военным. Но мы продолжали отмечать
День авиации «по-домашнему».
Заглядываю в парашютную книжку: 20 августа 1944 года (18-го не
получилось) я в составе группы еще довоенных мастеров парашютного
спорта дважды прыгал с транспортного «Дугласа» С-47 А. Первый раз —
репетиция, второй — парад. Парашюты у нас были «не надеванные»,
шелковые, а не перкалевые, как обычно, с яркими, разноцветными клиньями
куполов. Зрелище было великолепное…
«Дуглас» прилетел с соседнего военного аэродрома. «Вывозил» нас в
составе экипажа штурман — лейтенант Толя Алексеев.
В то время летчики, как могли, избегали парашютных прыжков. Но,
как говорится, дурной пример заразителен. Толя, полюбовавшись на наш
красочный «десант», сам стал в свободное время прыгать.
Мы подружились. Мне тогда уже исполнилось 18, Толе — 21. Бывало,
мы бродили по Москве, и Толя как-то признался, что у него еще не было
женщины. Я ответил тем же.
Здесь уместно заметить, что в то время, да и значительно позже,
молодежь была целомудренней, чем сегодня. Гляжу на выцветшую
фотографию:
Толя и я — оба в гимнастерках, один с погонами, другой без. Сидим в
обнимку. На Толе фуражка с летной кокардой, на мне — шлемофон. И еще
такая деталь: у меня в руке Толин пистолет "ТТ". Снимок сделан «ФЭДом»,
которым
отца
премировали
за
второе
место
во
Всесоюзном
социалистическом соревновании медицинских институтов.
Помню, как проявлял пленку, печатал снимки.
Дней пять не появлялся на аэродроме — болел. И очень переживал по
этому поводу, потому что была моя очередь лететь за бензином в Тушино.
Бензин добывали правдами и неправдами у военных. В фюзеляже У-2 (тогда
уже переименованного в ПО-2 в честь конструктора Поликарпова) имелся
грузовой отсек, в который помещалась бочка. Управлялись с ней вдвоем —
летчик и подсобная сила, роль которой и должен был играть я.
Но поскольку я не появился, меня вызвался подменить Толя Алексеев,
случайно оказавшийся на нашем аэродроме. А вел самолет Валентин
Цветков, в недавнем прошлом военный летчик, штурмовик, награжденный
орденами Красного знамени и Отечественной войны. После ранения ему
ампутировали ступни обеих ног, как прославленному «Повестью о
настоящем человеке» Маресьеву. Но книга Бориса Полевого вышла позднее,
сослаться на прецедент Цветков не мог, а медицинская комиссия была
непреклонна, и его списали из военной авиации.
Подлечившись, он все же вновь поднялся в небо, но уже как летчик
парашютно-планерного клуба.
Со снимком в руке прихожу на аэродром. Спрашиваю: «Толя не
появлялся?». И в ответ слышу: «Так ты не знаешь? Похоронили Толю и Валю
Цветкова».
За бензином полетели на двух машинах. На переднем По-2 летел
Владимир Кривой — летчик, как говорится, от бога: смелый, расчетливый и,
вместе с тем, бесшабашный. Мог приземлиться если не на «пятачке», то на
деревенской улице — точно (кстати, это он сбрасывал меня со ста метров и
рисковал не меньше, чем я: в случае моей гибели пошел бы под суд). В нем
было что-то от Валерия Чкалова. Убежден: под бравадой скрывался комплекс
неполноценности — на фронт его почему-то не брали, летать приходилось на
«кукурузнике», это ему-то, пилоту божьей милостью!
На самолете Кривого стоял новый мотор, к тому же форсированный. У
Цветкова — старый и слабенький.
Лететь парой было тяжело. Решили встретиться на подлете к Тушино.
И вот Кривой отмеряет круг за кругом, а Цветкова нет и нет. Радио на
самолетах отсутствовало. Оставалось лететь навстречу. На берегу Москвареки толпа, перевернутый самолет... Нужно было быть Кривым, чтобы
приземлиться там, где приземлился он. Цветков погиб сразу, Алексеев еще
жил. Он сказал: «Это был настоящий бреющий полет, на "Дугласе" так не
полетишь... Подвел мотор, с трудом перевалили через крутой берег, а там
линия электропередачи...».
Я люблю и ценю поэзию. Но ни намека на поэтический дар во мне, к
великому моему сожалению, нет. И юношеские стихи, написанные под
впечатлением утраты, привожу не из-за их литературных достоинств, а
единственно потому, что они — сама память.
Перевернутый самолет с измочаленным фюзеляжем...
Поглядишь, и тоска возьмет, смертный камень на сердце ляжет.
Не подняться ему вовек в синеву, как не раз бывало,
На кресте распят человек, что сидел за его штурвалом.
Он с крыла, спеша, не шагнет, не затянется самокруткой...
Разомкни же каменный рот, отзовись на подначку шуткой!
Пропоет в листве соловей о стремглав промелькнувшей жизни.
И друзья всплакнут на твоей по-военному скудной тризне.
А скорее не будет слез: много ль проку в соленой влаге!
Летчик в жертву себя принес ненасытной своей отваге.
Вот так же 27 марта 1968 года мы потеряли Юрия Алексеевича
Гагарина.
Наступил сорок шестой, послевоенный, год. Сталин пожелал, чтобы
все авиационные рекорды принадлежали нашей стране. Меня и моего
приятеля Адольфа Шубникова (угораздило же родителей дать ему такое
непопулярное в военные годы имя) отобрали для подготовки к прыжку из
стратосферы на побитие рекорда.
До войны
мировой рекорд высотного прыжка без кислородного
прибора уже принадлежал Советскому Союзу. В 1932 году советский
парашютист Афанасьев установил рекорд свободного падения с парашютом,
покинув самолет на высоте 1600 метров. Полгода спустя, в марте 1933 года,
летчик Зворыгин перекрыл рекорд Афанасьева, прыгнув с высоты 2200
метров. А три месяца спустя Константину Кайтанову удалось перекрыть
рекорд затяжного прыжка, оставив самолет на высоте 3570 метров.
Павший на нас выбор был великой честью. Это мы с Адольфом
прекрасно сознавали, но в душе боялись сплоховать.
Первая и, увы,
последняя для меня тренировка состоялась в барокамере военного института
экспериментальной медицины. Представьте довольно просторную кабину.
На столе пульт с рядами разноцветных лампочек и кнопок. Сбоку большой
циферблат альтиметра. За столом — мы с Адольфом и средних лет майор
медицинской службы в белом халате и кислородной маске. На нас масок нет.
Перед нами еще графин с водой и стаканы (при спуске может заложить
уши, и глоток воды окажется чем-то вроде "скорой помощи"). Перед тем, как
войти в барокамеру, мы с Адольфом поклялись: станет худо, вида не
подавать. И поддерживать друг друга всеми способами, но так, чтобы майор
ничего не заметил.
Наша цель: пробыть час без кислородных масок на высоте семи
километров и при этом пройти тест, определяющий быстроту реакции.
Лампочки будут загораться в разных сочетаниях, а мы должны в ответ как
можно быстрее выбрать соответствующие этим сочетаниям комбинации
кнопок и нажимать их. И вот стрелка альтиметра упирается в цифру 7.
Справка
Без кислородного прибора подниматься на высоту более 8-8,5 тысячи
метров человек не может. Да и до этой высоты могут добираться только
люди с прекрасным физическим состоянием, и то после длительной
тренировки.
Подъемов на высоту более 8000 метров в Советском Союзе было
всего несколько. Зимой 1935 года Константин Кайтанов без кислородного
прибора поднялся на высоту немногим более 8000 метров. Той же зимой эту
высоту покорил летчик Ковалевский. Летом 1935 года мировой рекорд
высотного подъема без кислородного прибора установил в Харькове Ткачук
—он достиг высоты 8371 метр. С собой летчики брали клетки с кроликами
— мало кто из животных доживал до посадки.
На высоте мы с Адольфом чувствуем себя по-разному — две
противоположных классических реакции. У меня эйфория: хлопаю майора по
плечу, чего никогда бы не сделал в обычном состоянии, требую подняться
выше, на семи, мол, мне не интересно. Кнопки нажимаю мгновенно и
безошибочно.
Адольф же клюет носом, и я поминутно придаю ему бодрость тайным
щипком.
Наконец,
программа
выполнена,
начинается
медленный спуск.
Медленный из-за нас, непривычных к барокамере. Мы оскорблены в лучших
чувствах, о чем и уведомляем майора.
— Спускайте быстрее! — требуем. — Прыгали затяжными!
Уязвленный майор устраивает нам "свободное падение".
На пяти тысячах чувствую боль в ушах. Пробую незаметно глотать,
чтобы стравить воздух из полости среднего уха. Но мои евстахиевы трубы
раскрываться не желают. Боль усиливается. Протягиваю руку к графину —
оживший Адольф останавливает меня щипком.
Начинаем горланить песню, делая вид, что нам очень весело. Обычно
пение помогает, но я, видимо, передержал воздух, и трубы словно заклинило.
А голову — уже не только уши, а всю голову, — пронзает нестерпимая
боль... Когда спуск, наконец, закончился, у меня из глаз брызнули слезы, а из
ушей засочилась кровь. Дорого мне стоила эта единственная попытка стать
рекордсменом!
Профессор отоларинголог, осмотрев меня, поставил диагноз: разрыв
барабанных перепонок и кровоизлияние во внутреннее ухо. Прогноз: или
через полгода рассосется, или останусь тугоухим на всю жизнь.
Наступил август сорок шестого. Стало известно: восемнадцатого
воздушный
парад
состоится!
Тушинский
аэродром
уже
передали
возрожденному Центральному аэроклубу.
По традиции праздник открывается одиночным, так называемым
пристрелочным, парашютным прыжком. Затем в небо взлетают спортсменыосоавиахимовцы. И наконец, наступает апофеоз торжества — демонстрация
мощи военной авиации.
Вдруг узнаю, что друзья приготовили поистине царский подарок: в
обход медицинской комиссии мне поручено открыть праздник!
Дальше всё как во сне: я поднимаюсь над тушинским аэродромом, по
краям заполненном человеческой массой. На мне парашют с многоцветным
куполом. Я прыгаю, зная, что там, внизу, тысячи людей не отрывают от меня
глаз, и среди них Иосиф Виссарионович Сталин!
Увы, это было прощанием с авиацией. Даже спустя несколько лет я
испытывал боль в ушах, когда пассажирский ТУ-104 набирал высоту
(сказывалась разность давлений в салоне и за бортом). И долго еще, завидев
парашютные прыжки, я с трудом сдерживал слезы.
Глава седьмая. Неразгаданная тайна или разгаданная тайна
Слава, Слава, Слава героям!!!
Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.
Владимир Маяковский. О дряни
С тяжелым сердцем начинаю эту главу. Я обещал, что книга будет
правдивой. И сейчас могу поклясться, что то, чему сам был свидетелем, —
истинная правда.
Но в книге есть цитаты. Выдержки из публикаций были необходимы,
чтобы восполнить мое незнание. А что в них — истина или ложь,
предоставляю судить читателям. Скажу только, что они ввергли меня в шок.
И не потому, что открыли глаза на главного «героя». Крушение кумира —
вот что обрушилось на мою голову!
Но начну по порядку. 14 февраля 1943 года город Краснодон был
освобожден от оккупации. А в 1944 году на подготовительное отделение
Московского авиационного института была принята воспетая в романе
Фадеева «Молодая гвардия» Валерия Борц. Вскоре Валерия записалась в
нашу парашютную школу. На фотографии она такая, какой я ее помню.
Девушка пришлась нам по душе. Прыгала бесстрашно, держалась
просто. А вот товарищи по институту ее почему-то не любили. Боюсь, там
Валя (так мы ее звали) была иной.
Вскоре мы с ней подружились. О любви речи не было. Но относилась
она ко мне, как к близкому другу. Мы проводили много времени вместе,
однажды она была даже единственным гостем на моем дне рождения.
Бывало, идем с ней по улице, а мальчишки бегут вслед и кричат:
тетенька, тетенька (это ей-то, семнадцатилетней!), у вас медаль «За оборону
Ленинграда» или «Партизану Отечественной войны первой степени»?
(ленточки этих медалей похожи).
Валя носила на синем платье орден Красной звезды и медаль.
Со мной она была на редкость откровенной. Клятвенно утверждаю:
Олега Кошевого в то время считала предателем и ненавидела всей душой.
Уверяла, что Кошевого сделали Героем Советского Союза благодаря матери,
которая спала с председателем комиссии, прибывшей в Краснодон после его
освобождения.
Однажды вечером мы с ней сидели в ее комнате (Валерии выделили в
общежитии института отдельную комнатку). Без стука вошел капитан
(впоследствии я узнал, что это был Владимир Третьякевич, брат Виктора,
которого под именем предателя Стаховича вывел в своем романе Фадеев).
Между ними произошел следующий разговор (помню дословно!):
— Ты знаешь, что мой брат не предатель?
— Знаю.
— А кто на самом деле предатель, знаешь?
— Да.
— Ты часто выступаешь по радио, почему не скажешь правду?
— Потому что тогда меня бы не стало.
Владимир посмотрел на Валерию с презрением и, не прощаясь, вышел.
Спустя некоторое время Валя спросила меня:
— Ты Сталина любишь?
— Конечно, — ответил я. — А кто его не любит?
— Я.
После этого разговора между нами пробежала черная кошка. Вскоре
Валя ушла из парашютной школы, а затем и из МАИ. Краем уха слышал, что
она поступила в военный институт иностранных языков на испанское
отделение…
Здесь
я
прерву
повествование
от
первого
лица
и
передам
слово журналисту Валерию Михайловичу Красюку из города Геническа
Херсонской области, который занимается историей "Молодой гвардии"
больше
двадцати лет. Его повесть я прочитал в интернете, уже работая над этой
главой.
Рассказ Красюка привожу с сокращениями и буду сопровождать моими
примечаниями. Еще раз хочу подчеркнуть, что за истинность этого рассказа
поручиться не могу.
Итак…
…«Владимир написал заявление на имя Председателя Президиума
Верховного Совета СССР М.И. Калинина, секретаря ЦК ВКПБ Г.М.
Маленкова, Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Н.И. Михайлова, а также
помощника
начальника
Главного
политуправления
Красной
Армии
полковника Н.И. Видюкова.
Красной
оклеветали,
нитью
что
он
в
заявлении
являлся
одним
проходило,
из
что
главных
руководителей «Молодой гвардии" — ее комиссаром.
Виктора подло
организаторов
и
Такие
выводы
противоречили
материалам,
сфабрикованным
Государственной комиссией под председательством Торицына. Поэтому
Владимир просил создать новую компетентную комиссию, которая бы
объективно, а не предвзято установила подлинную правду.
Капитан, прежде всего, разыскал Валерию Борц, которая училась в
Московском авиационном институте. Он показал девушке заявление,
которое собирался передать в ЦК ВЛКСМ…»
Сразу же замечу, что цитата противоречит эпизоду первой встречи
Владимира Третьякевича с Валерией Борц, о котором рассказал выше. Я эту
встречу запомнил в точности. Может быть, через несколько дней состоялась
новая встреча? Но почему о ней мне ничего не известно? В то время Валерия
была со мной предельно откровенна. И если не побоялась спросить, люблю
ли я Сталина, то могла бы исправить впечатление от разговора с
Владимиром, рассказав о смелом поступке, который ниже описывает
Красюк. Но, возможно, я ошибаюсь…
… Валя внимательно его прочитала и сказала, что полностью
согласна с его содержанием. Тогда Володя попросил Валю подтвердить
письменно свое согласие. Девушка взяла двойной лист и на трех страницах
написала все, что знала о "Молодой гвардии" и о Викторе Третьякевиче, как
о комиссаре подполья.
Написанное Валерией Владимир приложил к своему заявлению и послал
в ЦК ВЛКСМ, уверенный в успехе своего предприятия.
Однако, молодой капитан не учел одного — что всего несколько
месяцев назад Олег Кошевой в числе пятерки других молодогвардейцев был
представлен к званию Героя Советского Союза. Заявление же Владимира
Третьякевича ставило своей целью развеять легенду вокруг имени
Кошевого»…
Странно… Насколько помню, Олег уже был Героем Советского Союза,
его наградили одновременно с Валерией, и та возмущалась, что не вошла в
число героев, а была удостоена «всего лишь» ордена Красной Звезды, тогда
как матери Олега дали более высокий Орден отечественной войны.
Я и тогда смутно сознавал: Валя честолюбива, и чувство обиды может
повлиять на ее суждения.
Ну что ж, даже если Валя не сочла нужным рассказать мне о своем
действительно отчаянном поступке, то сам этот поступок только возвышает
ее в моих глазах, как человека не только смелого, но и благородного.
Но то, что пишет дальше Красюк, отзывается в моей душе жгучей
болью. Хочется закричать: да не могло такого быть! Валя не способна на
подлость. Она бы даже под пытками не оклеветала своего товарища!
Но журналист оперирует документальными данными, и здесь я могу
разве только усомниться в их подлинности!
Если Валерия, действительно, написала письмо в защиту Виктора
Третьякевича, то она знала, на что идет, и какие будут последствия. Ведь я
своими ушами слышал ее слова: «Потому что тогда меня бы не стало».
Но пусть продолжит Красюк.
…Шелепин зачитал показания Валерии Борц. Затем наступила пауза.
Вошла Борц. Мишакова возмущенно, словно хлестнув по лицу, бросила:
"Валерия! Мне непонятно ваше поведение. Вы награждены боевым
орденом, вашим родителям, да и вам самой, предоставлены большие льготы
К тому же вас устроили на учебу в лучший институт страны.
В прошлом году вы выступили по всесоюзному радио и говорили
одно, а сейчас пишете совершенно другое. Как это понимать?"
Валя стояла бледная и молчала. Затем тихо сказала: "Я отказываюсь
от своих письменных показаний, данных Владимиру Третьякевичу".
Если это правда, то Валерия была поставлена перед выбором: или
стоять на своем, или сдаться на милость тех, кто и в самом деле мог ее
раздавить — морально либо даже физически.
Я никогда не оказывался в такой ситуации. Так вправе ли осуждать
Валю за малодушие? В моих глазах она была героиней. Однако я судил о ней
по книге Фадеева, которая изначально была лживой, а после того, как он
угодливо переделал ее, стала лживей вдвойне! А если она — обыкновенный
человек, способный сопротивляться давлению лишь до определенного
предела? Ведь даже великий Галилей склонил голову перед инквизицией и
только на смертном одре выплеснул свое знаменитое: «А все-таки она
вертится!».
Но чем больше я углублялся в повесть Красюка, тем муторней
становилось на душе. Журналист утверждает, что Валерия не просто
отреклась от Третьякевича, который, кстати, был реабилитирован при
Хрущеве и награжден Орденом отечественной войны первой степени, а
начала клеветать на него и (!) всячески восхвалять Олега Кошевого.
Хотел было и дальше цитировать Красюка, но стало мерзко: журналист
не должен опускаться до уровня базарных сплетен!
А Валю Борц я все равно буду помнить такой, какой она была в нашей
парашютной школе. Мир ее праху, согласно завещанию, развеянному над
Краснодоном. Валерия (а она младше меня на год) умерла в 1996 году,
будучи, пусть отставным, но подполковником Советской армии.
Здесь я прощаюсь с ней.
Что же произошло в Краснодоне «не по Фадееву»?
23 ноября 1991 года в газете «Куранты» была опубликована большая статья
артистки М.Г. Волиной «Кого оплакивала мать Кошевого». Я бы хотел
привести эту статью целиком, но ограничусь сокращенным вариантом, на
этот раз без моих комментариев. Скажу лишь, что в Краснодон Волина
приехала с театральной труппой, которая привезла пьесу по роману Фадеева.
«…Мне хотелось одной побродить по Краснодону и побывать в музее
Олега Кошевого. Увы! Не только о музее Кошевого, но даже о самом Олеге
либо никто ничего не слышал, либо не хотел о нем со мной говорить.
«Який Олег? Кошевой? У нас таких нема!» «Молодогвардеец? Про то
в Москве знают!»…
День кончался, безуспешные поиски привели меня на холм, где
расположился рынок.
«Кому жареных? А ну, кому каленых, жареных?» — выговаривала
одинокая торговка, постукивая о прилавок граненым стаканчиком. Я купила
"каленых-жареных" и пожаловалась старухе, что никак не могу найти дом
Олега Кошевого!
— А зачем тебе Кошевой? — Что-то все-таки насторожило меня. Я
назвалась журналисткой из Москвы и сказала, что мне нужно собрать
дополнительные сведения о молодогвардейцах.
— Пойдем до моей хаты, — ответила старуха, — я мать Сергея
Тюленина и я тебе все сведения дам.
— Вы… Александра Васильевна? — удивилась я.
— Ишь ты?.. Тебе мое имя-отчество известно?
Она бросила пустой стаканчик в мешок с семечками, затянула
горловину.
— О Вас Фадеев написал!
— Фадеев! — фыркнула она. — Ваш Фадеев в «Шурки» меня произвел!
Александра Васильевна катилась впереди колобком, я за ней еле поспевала.
— Ваш Фадеев со мной пять минут не разговаривал! — выпалила она
на ходу. — Он все с Кошевой, да с Кошевой!
Я пробыла у Тюлениных до позднего вечера…
Не могу поручиться, что все, рассказанное мне Александрой
Васильевной, правда-истина.
Но я считаю возможным и нужным обнародовать хотя бы без малого
через полвека её рассказы. За их подлинность я ручаюсь. В выражениях
Александра Васильевна не стеснялась. Она костерила, честила Александра
Александровича и только матюками не обкладывала. Попутно досталось
Кошевой.
«Немцев приваживала! И ваш Александр Александрович все коло её
терся. Что Кошевая ему наболтала, то он и набрехал! А в тюрьме сидела я,
а не Кошевая. И меня смертным боем били, а не её! Я в камере наблевала…
нутро отшибли, а полицай меня сапогом пнул и сказал: «Подлижи, сука
старая!» Об этом Фадеев не написал.
А за что Фадеев Виктора Третьякевича оклеветал? Доносчика,
предателя из него сделал? Виктора замучили и в шурф сбросили, а кто в
Краснодон из любопытных приедет, то Кошевую норовит разыскать, а дом
Третьякевичей за версту обходит. Там, мол, отец и мать предателя
живут! Каково родителям? Матери каково? Сколько мать Виктора слез
пролила, сына похоронив, а сколько теперь из-за Фадеева льет? Реки!»
—
Олега
похоронили
вместе
с
другими?
—
спросила
я.
— Олега… Похоронили? — усмехнулась Александра Васильевна. — А
зачем
Олега
хоронить,
когда
он
не
помер? В
Ровеньках
из
общей могилы вырыли трупы. Кошевая бросилась к мертвому телу седого
старика и завопила: «Олежка, Олежка!» Все видят, перед ней старик седой,
а она вопит: спорить не стали и… похоронили того неизвестного старика
во второй раз как Олега Кошевого. Фадеев же на этом основании выдумал,
что Олега пытали в Ровеньковской тюрьме, и потому в одну ночь
шестнадцатилетний мальчик поседел!
Так стал Олег Кошевой главным героем романа, а Елена Николаевна —
главной геройской матерью.
При немцах, по словам Александры Васильевны, Кошевая хорошо жила,
а прогнали немцев, стала жить еще лучше, в почете и уважении. Только
недавно этому уважению чуть конец не пришел!
— Почему? — удивилась я.
— А потому, что Олег вернулся.
— Как?!
Александра Васильевна отвечала: появился в доме Кошевых паренек.
Вылитый Олежка, только подрос за три года и потому ростом стал выше.
Елену Николаевну зовет мамой, бабку — бабулей. Спросили люди Елену
Николаевну, кто ж он такой, на Олега похожий? Она ответила:
«Сирота из Одессы. Родителей его немцы замучили, дошел до нас. Не
выгонять же».
Из Краснодона в поселок Шахтный прибыла комиссия — поглядеть:
кто у Кошевой вместо сына живет? А его уже нет. «Где ж он?» —
спрашивают. Елена Николаевна отвечает:
— Прогнали. Хулиган оказался. Дерзкий. Отказали мы ему от дома.
Ушел.
В Краснодоне давать «спектакль-концерт» по роману Фадеева
«Молодая гвардия» нам не разрешили. Даже имя Алексея Дикого на афише не
помогло».
Я привел этот отрывок не как свидетельство очевидца. Сознательно
отделяю зерна от плевел. То, чему был свидетелем, подтверждаю клятвенно.
А выдержки, использованные мною — только иллюстрации. Верить им или
не верить — право читателя.
Но на этом глава не заканчивается. Мне еще предстоит рассказать о
двух случаях из собственной жизни.
— Какое же отношение они имеют к Олегу Кошевому и «Молодой
гвардии?» — спросите вы.
Непосредственное или косвенное — судить вам. Но события, которые я
опишу, как нельзя лучше, вписываются в плоть моего рассказа.
В конце пятидесятых годов я на своем автомобиле поехал отдыхать в
Болгарию. Остановился в отеле Нептун. Кроме меня из русских там была
только одна семья — муж и жена. Остальные номера занимали западные
немцы.
К ним у болгар было особое отношение: например, мою машину, рядом
немец возится со своей. К нему подбегает горничная, заискивающе улыбаясь,
делает книксен и протягивает тряпку. Тот дает ей марку. На меня девушка
внимания не обращает.
Питался я в ресторане, расплачивались чеками «балкантуриста».
Поэтому обслуживали меня нехотя, в последнюю очередь.
Я подружился со своими соотечественниками. И когда мы ходили в
рестораны вместе, нас обслуживали в первую очередь. А дело было в том,
что, садясь за столик, супруги начинали бойко разговаривать по-английски, и
нас принимали за англичан. А когда мы протягивали чеки, на лицах
официантов появлялась гамма чувств: недоумение, огорчение, негодование!
Следующий раз мы шли в другой ресторан, благо на болгарских
курортах их не счесть, и картина повторялась.
Известно, что незнакомые люди, оказавшись на два-три дня в купе
поезда, начинают откровенничать. Долгая поездка, иногда выпивка и
сознание, что они все равно вскоре расстанутся навсегда, развязывают языки.
Нечто подобное случилось и с нами. Через несколько дней в ответ на
мой вопрос, каким образом они научились так бегло говорить на английском,
супруги признались, что являются профессиональными разведчиками.
Работали под дипломатическим прикрытием в Гане, откуда их после
очередного переворота выдворили. И пока они на отдыхе.
Начали вспоминать интересные эпизоды своей деятельности, и…
неожиданно я услышал имя Олега Кошевого.
Повторяю: ручаюсь только за то, что такой разговор состоялся, а
правда ли то, что мне рассказали, не знаю…
А сказали мне вот что. Они будто бы участвовали в операции, цель
которой состояла в том, чтобы выманить Олега Кошевого в восточный
Берлин под предлогом встречи с матерью. Но Кошевой разгадал уловку и на
«встречу» не явился.
Остался еще один эпизод. Но прежде чем перейти к нему, приведу
отрывок из биографии автора «Молодой гвардии».
«После XX съезда КПСС, чувствуя невозможность продолжать свою
жизнь, А.Фадеев 13 мая 1956 кончает жизнь самоубийством. Медицинская
комиссия, назначенная тогда правительством, заявила, что эта трагедия
случилась в результате расстройства нервной системы из-за хронического
алкоголизма. Только в 1990 было опубликовано предсмертное письмо
Фадеева: "Не вижу возможности жить дальше, так как искусство,
которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным
руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие
кадры литературы... физически истреблены или погибли... лучшие люди
литературы умерли в преждевременном возрасте... Жизнь моя как писателя
теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого
гнусного существования, где на тебя обрушивались подлость, ложь и
клевета, ухожу из этой жизни"».
А теперь последний эпизод. Вскоре после самоубийства Александра
Фадеева я ехал в одном купе с литературным критиком, членом Союза
советских писателей. Фамилию его не запомнил, а возможно, и не спросил.
Но это не имеет ни малейшего значения, потому что я не прошу принимать
рассказ литератора на веру. Но подтверждаю подлинность этого эпизода.
Итак, литератор рассказал, что Фадеев, как руководитель союза
писателей, был вынужден визировать приговоры, выносимые «тройками»
членам этого союза. Когда началась реабилитация репрессированных
писателей после ХХ съезда КПСС, выпущенные из лагерей литераторы
приходили к Фадееву и плевали ему в лицо (я не поверил). Это, а также
признание своей вины за увековечение Олега Кошевого, действительно
привело к вспышке алкоголизма, а затем к самоубийству.
Работая над этой главой, я впервые прочитал предсмертное письмо
Фадеева и, если бы был господом богом, простил бы ему вольные и
невольные прегрешения. Думаю, вначале он поддался «обаянию» матери
Кошевого и верил в то, что пишет. Но написанное пером не вырубишь
топором.
И Валерия Борц, и Александр Фадеев были сломлены системой. Меня
она поддерживала в моих начинаниях, их морально раздавила.
Что же могу сказать об Олеге Кошевом? Я не случайно дал этой главе
два названия. Читатель может оставить одно из них, а другое вычеркнуть.
Единственным документом о роли Кошевого, заслуживающим доверия,
на мой взгляд, может служить лишь Итоговая записка межрегиональной
комиссии
по изучению истории организации «Молодая гвардия»,
г. Луганск, март 1993 г., в которой говорится:
«Существует много свидетельств, что Олег Кошевой в "Молодой
гвардии" был куда более скромной фигурой и по целому ряду объективных и
субъективных
причин
не
мог
быть
организатором
комсомольско-молодежного подполья в Краснодоне».
и
комиссаром
Формально Олег Кошевой остается героем. И не мне ниспровергать его
с пьедестала.
Глава восьмая. Расстрел
«Перед расстрелом Колчак спокойно
выкурил папиросу, застегнулся на все
пуговицы и встал по стойке «смирно».
Архив: №07. 17.02.2006
Я колебался: стоит ли писать об этом. Но все же решился, потому что
обещал читателям быть правдивым.
В 1944 году близ Солнечногорска (около 50 км от Москвы) проходил
сбор парашютистов. Я не успевал к его началу, и меня туда доставили на
самолете УТ-2.
В отличие от У-2 (ПО-2) УТ-2 — не биплан, а моноплан. Он был
разработан конструкторским бюро Яковлева в 1935 году. Его скорость
превышала 200 километров в час, а потолок составлял 3500 метров. Я с него
прыгал всего один раз.
Прыжок был довольно эффектным. На высоте 1500 метров летчик
выполнил фигуру высшего пилотажа «бочка» (самолет поворачивается
вокруг оси на 360 градусов). В момент, когда УТ-2 оказался вверх колесами,
я, в отличие от летчика не пристегнутый ремнями, выпал и сделал затяжку 10
секунд. Этим сразу же завоевал авторитет участников сбора.
Днем мы прыгали, ночь проводили в палатках. Ели до отвала
американскую свиную тушёнку, желающие (я к ним не принадлежал) на сон
грядущий пили спирт из жестяных бачков с черепом и костями.
На случай встречи с диверсантами мы были вооружены боевыми
винтовками, а летчики — пистолетами. Нам даже пришлось потренироваться
в стрельбе. А ночью у шеренги самолетов дежурили летчики.
В одну из таких ночей меня разбудил крик: «в ружье!». Оказалось,
только что была попытка поджечь самолеты. Дежуривший летчик сумел
задержать поджигателя, хотя был ранен. Мы, заряжая на ходу винтовки,
выскочили из палаток.
Диверсанта уже приволокли. Думаете, это был матерый немец?
Отнюдь! Перед нами стоял плюгавый мужичонка, дрожавший и умолявший о
пощаде.
Сбором руководил капитан Трунов. Накануне он изрядно выпил и не
успел протрезветь. По всем правилам пойманного диверсанта нужно было
передать в НКВД (народный комиссариат внутренних дел). Но капитан
решил иначе.
Он приказал нам построиться в шеренгу. Затем отволок мужичонку на
двадцать шагов от шеренги и приказал: «целься!».
Никогда не видел, чтобы человек так унижался. Он, стоя на коленях,
целовал сапоги капитана, хватался за него, и так нетвердо державшегося на
ногах. Извините за подробности, под ним образовалась лужа. Капитан,
оттолкнув мужичонку, отскочил от него на несколько шагов и крикнул:
«огонь!».
Спустя несколько дней капитана и нескольких парашютистов,
стоявших в той шеренге, вызвали в НКВД, но все обошлось.
Вот так и получилось, что впервые взять в руки боевое оружие мне
довелось не в 1941 году, а тремя годами позже.
Послесловие к эпиграфу. Решением коллегии Омского Морского
Собрания в связи с восьмидесятилетним юбилеем и столетием Подводных
сил России я был в 2006 году награжден памятным знаком
«Адмирал
Колчак». Сейчас памятники великому ученому и флотоводцу установлены в
Омске, где был штаб Верховного правителя России, в Иркутске, где адмирал
был расстрелян, и в Москве.
Памятники в Омске, Москве и Иркутске
Глава девятая. Глупости, которые я совершал
Ум всегда в дураках у сердца.
Ларошфуко. Максимы
Говорят, что самые умные люди делают самые большие глупости. Если
это суждение правильно, то я самый умный. Ведь в молодости, да и позже,
наделал немало ошибок, в том числе крупных. Впрочем, умен я или глуп, —
пусть судят знакомые, коллеги по работе и читатели.
А сейчас расскажу о двух своих самых непростительных ошибках.
Ненадолго вернусь в мою «парашютную» эпоху.
Сижу в своем кабинете, занимаясь рутинной работой. Открывается
дверь, входит стройная высокая блондинка, которая могла бы украсить обложки «мужских» журналов, если бы такие тогда существовали.
У меня замирает сердце — «любовь с первого взгляда».
Девушка по имени Марина работала лаборанткой на одной из кафедр.
Пришла записываться в парашютную школу. Она приехала в Москву из
глухой провинции
(тогда строгости с «регистрацией»
устроилась на
работу в MAИ. Снимала угол у старушки-монашенки.
не было)
и
Мне девятнадцать лет, у меня уже были девушки, но дальше поцелуев
дело не доходило.
Как потом выяснилось, Марина вовсе не собиралась прыгать. Она
просто хотела соблазнить меня, и это ей удалось. Мы стали встречаться.
Бродили по улицам, ходили в кино, но и только. Думаю, современная
молодежь меня не поймет, теперь, в пору «сексуальной революции», все
обстоит гораздо проще. Если же я не прав в таком суждении, — простите!
Такие платонические отношения продолжались несколько месяцев.
Добавлю, что она была не только красива (на эту удочку я и попался),
но и обладала твердым характером. Ее целью было замужество. И она
разработала операцию по моему «захомутанию».
Однажды мы вечером поехали в театр оперетты. На одной из станций
метро Марина выскочила из вагона. Двери захлопнулись, я остался в вагоне.
Когда поезд тронулся, Марина бросила мне через приспущенное окно
завернутое в бумагу яблоко.
Я машинально схватил его и развернул бумагу. На ней было написано:
«Я выхожу замуж за летчика».
Оперетту (кажется, это была ныне забытая «Мариэта») я смотрел один.
Возвращался домой на электричке. А когда сошел с нее, было уже
темно.
Горели
одиночные
фонари.
Переходя
шоссе,
не
заметил
приближающуюся «Эмку» — легковой автомобиль, предшественник еще не
появившейся «Победы».
Остальное как сквозь сон: глухой удар, меня отшвырнуло на метр, два
— не знаю. Второй удар, и я в наполненном водой кювете. А рядом, на боку
— «Эмка».
Ко мне кинулся водитель. Слышу:
— Миленький… Да как же так…
Потерпи… Я быстро… Вытащу
машину и отвезу тебя в больницу…
Я поднялся, мокрый, вывалянный в грязи, и побрел домой.
Охи, ахи, а у меня ни единого синяка. Судьба снова сжалилась надо
мной.
Замечу, что родители с тех пор, как я поступил в институт,
предоставили мне полную свободу. Я по несколько дней не появлялся дома
— ночевал на аэродроме. И предупредить не мог — мобильных телефонов
тогда еще не придумали, а обычного телефона у нас не было. Мать, может
быть, и переживала, но вида не показывала. Только когда за ужином я сказал,
что прыгаю с парашютом, она уронила стопку тарелок. Они разбились — на
счастье. На счастье ли?
Прошла неделя. Я снова сидел в кабинете, составляя отчет. И вновь открылась дверь, — вошла Марина. Будничным голосом сказала, что летчик
оказался не тем человеком, который ей нужен, и она с ним рассталась.
Простил ее, с условием, что отныне будет «всё или ничего». Она
согласилась на всё.
Монашенка,
у
которой
Марина
снимала
угол,
нам
покровительствовала, и моя привязанность к молодой женщине, которая на 2
года была старше меня, росла. В конце концов, дело закончилось «законным
браком». Марина перебралась в нашу двухкомнатную квартирку.
Конечно же, родителей моя женитьба не порадовала, но никаких сцен
по этому поводу они мне не устраивали.
Вскоре мать защитила докторскую диссертацию и переехала в
Ленинград заведовать кафедрой в педиатрическом институте. Отец в то
время уже не работал.
Квартира досталась нам с Мариной. Но жилье было ведомственное, и
нам предложили немедленно его освободить, иначе нас выселят с милицией.
Тогда я уже был инженером-исследователем в одном из номерных
НИИ. А дальше случился казус. НИИ, в котором я вполне успешно работал,
не располагал правом «бронировать» жилье своих сотрудников. Выход из
положения все же нашли: меня срочно перевели в другой НИИ, который
этим правом был наделен. Логики здесь не видно: второй институт
отпочковался от первого и «по рангу» был даже несколько ниже.
Тем не менее, мне вручили запечатанный сургучом пакет, который я
принес в бабушкинскую прокуратуру, после чего попытки выселения
прекратились.
А в январе 1949 года я стал отцом. Помню, как вез дочь домой в
«Эмке», как баюкал ее по ночам, когда Марина выбивалась из сил: «Лена
бай, Лена Бай, Лена глазки закрывай!».
Через сорок лет она закрыла глазки, увы, навсегда… Об этом писать не
в состоянии — сердце может не выдержать…
А с Мариной мы расстались по одной лишь причине. Она, уже
успевшая окончить экономический институт, была, в общем, хорошей женой.
Не могу ни в чем ее упрекнуть, за единственным исключением: Марина была
патологически,
даже
параноидально
ревнива,
причем
совершенно
беспочвенно. Могла приревновать меня в вагоне метро к женщине, на
которую (вернее, сквозь которую) я, задумавшись, смотрел, как ей казалось,
слишком долго или слишком пристально.
Инициатором развода был я. Лена уже жила в Ялте, где после ухода
матери с работы (уверен, преждевременном) родители купили небольшой
дом.
Добавлю штрих к их пониманию честности. Когда им было уже за
семьдесят, они переехали в Одессу, где я тогда работал в политехническом
институте. Цены на жилье успели значительно повыситься. Тем не менее,
вопреки здравому смыслу, родители продали дом за ту же цену, за которую
купили. Продать дороже было бы для них безнравственно.
Но я отвлекся, а сейчас продолжу рассказ о разводе. В те годы
районный суд всегда принимал отрицательное решение, какими бы
причинами не был вызван развод. Далее нужно было обжаловать это
решение в городской суд, обладавший «правом развода».
Я так и сделал, хотя и с огромной тяжестью на сердце.
Марина была честным человеком: наше имущество мы разделили без
спора: ей осталась квартира с обстановкой, мне автомобиль «Победа».
Некоторое время я снимал квартиру. На алименты Марина не подавала,
я и без этого посылал матери, воспитывавшей Лену, половину своего
заработка.
Замечу, что Марина время от времени наведывалась в Ялту и
сохранила с моей матерью прекрасные отношения.
Я успел отвыкнуть от жизни холостяка, да и Марина не выходила из
головы. И я, вероятно сдуру, решил «вышибить клин клином»— жениться во
второй раз. Но, как говорится, попал из огня да в полымя.
Вот здесь я познал и скандалы, и истерики.
У меня нет ни малейшего желания вдаваться в подробности. Скажу
только, что развод я получил взамен на все, чем владел. Даже собственные
книги и журналы с моими статьями мне прислали спустя несколько лет.
Но недаром говорят: «бог троицу любит». Я, атеист до мозга костей, в
это поверил. Потому что с третьей женой, ныне, как и я, профессором
морской академии, живу в любви и согласии уже сорок один год, несмотря на
двадцатилетнюю разницу в возрасте.
Эти два фрагмента моей жизни считаю апофеозом глупости. Но было
немало других, более мелких, глупостей. Недаром секунды в затяжном
прыжке мы отсчитывали скороговоркой: «раз дурак, что прыгаю, два дурак,
что прыгаю…». За минуту ошибка в отсчете не превышала секунды.
Впрочем, если кто-нибудь из читателей знает человека, ни разу в жизни
не совершавшего глупостей, пусть познакомит меня с ним!
Глава десятая. Жизнь продолжается
Жизнь в том, чтобы работать, радоваться
и непрерывно — обязательно непрерывно —
знать вот эту свежесть бури, когда все
чувства и мысли проветрены насквозь.
К. Паустовский. Дым отечества
Парашютный прыжок в Тушино оказался последним. С авиацией
покончено, о возврате нельзя и мечтать — уши травмированы настолько, что
напоминали о себе болью еще несколько лет. Да что там уши, травмирована
была душа. Ведь я связывал будущее с авиацией, мечтал о прыжках из
стратосферы. И вот всё рухнуло.
Вы, возможно, улыбнетесь, читая эти патетические строки. А мне еще
долго хотелось плакать, когда я видел распустившиеся в небе купола
парашютов. Казалось, жизнь кончена.
В институте ко мне относились сочувственно и до, и после баротравмы.
«До» проявилось, например, в том, что меня «освободили» от вступления в
комсомол, понимая: «Боливар» не увезет двоих. А «после» — предложили
перейти на
полную ставку старшего лаборанта
к знаменитейшему
профессору Иосифу Семеновичу Гоноровскому, чей двухтомный учебник
«Радиотехнические цепи и сигналы» поныне служит основным пособием для
студентов-радистов.
При этом за мной сохранили право не посещать лекции.
Я работал добросовестно, до мозолей на ладонях, и был поражен, когда
много лет спустя обнаружил на лабораторных стендах «мои» приборы.
Впрочем, об этом еще упомяну позже.
Радиотехника стала для меня спасательным кругом, — не зря я увлекся
радиолюбительством еще в одиннадцатилетним возрасте.
А сейчас хочу рассказать о другом. В МАИ срок обучения был на год
больше, чем в большинстве вузов. И весь шестой год мы, будучи
распределены в научно-исследовательские институты на должности старших
техников, делали дипломные проекты. При этом мы дублировали реальные
разработки и «лезли из кожи вон», чтобы «утереть нос» маститым
инженером.
Это было колоссальным стимулом в совершенствовании наших знаний
Могу только пожалеть, что ничего подобного сейчас нет. Впрочем, как нет и
понятия «распределение» — выпускники предоставлены самим себе — один
становится продавцом в каком-нибудь «Эльдорадо», другой находит
престижную работу в банке, третий становится вышибалой в ресторане.
Дело в том, что при социализме нашим «заказчиком» было
государство. А оно было кровно заинтересовано в качестве нашего
образования. Сейчас перед выпуском тоже подсчитывают средний балл
студента (то есть среднее арифметическое всех оценок, полученных за время
обучения). Но это, извините, «филькина грамота». Никто средним баллом
впоследствии не поинтересуется. А при советской власти (когда наше
образование по праву считалось лучшим в мире) «купля-продажа»
новоиспеченных инженеров происходила, например, так.
В одной из аудиторий сидели «купцы» — представители НИИ и
заводов, заинтересованные в «купле» лучших. К ним по очереди заходили
молодые специалисты. Первым, разумеется, тот, у которого средний балл
самый высокий, допустим, пятерка. Он, естественно, выбирал то будущее
место работы, где больше платят, где предоставят жилье, где есть
перспектива роста.
Последним заходил выпускник с самым низким средним баллом. Все
«сливки» уже сняты, осталась «сыворотка».
Но отказаться нельзя:
образование хоть и бесплатное, но «отработать» затраты на него в течение
трех лет, хочешь—не хочешь, придется!
И это тоже было прекрасным стимулом хорошо учиться!
Но были и странные исключения. Об одном я расскажу.
Как я уже упоминал, мы, первокурсники, или, по «маевской»
терминологии «козероги», оказались своего рода первопроходцами — и
младшими, и старшими одновременно. Потому что «довоенных» студентов
поспешили эвакуировать в Алма-Ату.
Через год они вернулись. Так вышло, что разрыв в пройденном материале между нами и ними, поступившими в институт еще до войны, составил
всего семестр. Но смотрели они на нас свысока, словно кадровые солдаты на
резервистов.
Семестр как бы разграничил две эпохи, два студенческих поколения. А
может, нас разделила их эвакуация, которой они подсознательно стыдились,
и надменное отношение к «козерогам» было всего лишь защитной реакцией?
Мы отвечали им той же монетой: в наших глазах они были чем-то вроде
дезертиров, «слинявших» с передовой в глубокий тыл. Словом, мы так и не
сблизились. Но много лет спустя я встретил одного из тех, «кадровых», и
показалось нам обоим, что связывает нас давняя, трогательная дружба. А
ведь, будучи студентами, мы не обмолвились и парой слов.
И вспомнили мы студенческие годы. Были на том втором курсе трое
неразлучных друзей (с одним из них — Евгением Иосифовичем Фиалко) мы
и повстречались («для тебя я просто Женя!»— сразу же воскликнул он).
Двое из них, в том числе Женя, — гордость факультета. Не по летам
степенные, члены КПСС (если память не изменяет, даже в партбюро
состояли!). Важные неимоверно, теперь таких студентов, наверное, и не
встретишь. Оба отличники высшей пробы, сталинские стипендиаты. У
декана пользовались незыблемым авторитетом.
А третий, как мы тогда считали, был заурядным шалопаем:
перебивался с двойки на тройку, частенько посещал не Третьяковскую
галерею, — Тишинский рынок, грандиозную московскую толкучку.
Терпели его в институте единственно благодаря заступничеству
именитых друзей.
Евгений Иосифович уже лет через пять стал доктором наук и
оппонировал
на
защитах
своих
бывших
преподавателей.
Его
добропорядочный друг сделался профессором немного позже, примерно в
одно время со мной. Мы трое, безусловно, выполнили программу-минимум
— заняли институтские кафедры.
— А как ваш неразлучный друг? — поинтересовался я. — Окончил или
выгнали? Ведь постоянно висел на волоске, и только благодаря вам...
— Это ты о Борисе Васильевиче? — удивленно взглянул на меня
Евгений.
— О каком Борисе Васильевиче? — в свою очередь, с недоумением
спросил я.
Евгений Иосифович хмыкнул.
— Раза три на прием к нему пытался попасть. В конце концов, принял.
«А помнишь, — говорит, — как по девочкам бегали?»
—Что вы, мне тогда не до девочек было. Сейчас наверстываю!
— Так кто же он?
— Не знаешь Бункина? — поразился Евгений.
И тут уж ахнул я. Не стану называть должность, которую занимал
бывший шалопай, может, она до сих пор остается государственной тайной.
Ограничусь выпиской из энциклопедии:
«...советский физик, чл. корр. АН СССР (1968), Лауреат Ленинской и
Государственной премий, Дважды Герой Социалистического Труда (1967).
Чл. КПСС с 1953. После окончания Моск. Авиационного ин-та (1947)
работал...»
А дальше — сплошной камуфляж.
Хочу вспомнить свое последнее посещение Московского авиационного
института. Я был приглашен на семидесятилетний юбилей профессора
Неймана. Помню его, когда он вернулся из США, где принимал
оборудование, передаваемое нашей стране по ленд-лизу. И сейчас перед
глазами прекрасно одетый, подтянутый мужчина средних лет читает лекции
по радиопередающим устройствам. Читает сухо и в то же время свободно, не
заглядывая в бумажки.
Тогда я и помыслить не мог, что через несколько лет он внесет в литературный указатель своего учебника мою книгу…
Благодаря увлечению радиолюбительством я неплохо разбирался в
радиотехнике. Михаил Самойлович, будущий оппонент моей докторской
диссертации, особо выделял двух студентов — меня и Мира Андриевского. А
вакансия на его кафедре радиопередающих устройств была только одна. И
досталась она Миру.
Любопытная все же штука — жизнь. На первом курсе Мир был по
нынешним представлениям «крутым», хулиганистым парнем, рассказывал
явно выдуманные криминальные истории, в которых якобы участвовал,
учился на тройки.
Потом Мира словно подменили: пересдал тройки на пятерки, притих. А
все потому, что влюбился в нашу однокурсницу Нину Андрееву. Та была
очень серьезной девушкой, сама отлично училась, а ему поставила условие:
будешь получать одни пятерки, перестанешь юродствовать, тогда и говори о
любви.
По окончании института Мир и Нина поженились, а много лет спустя
мне сказали, что они разошлись…
Конечно, было досадно, что Михаил Самойлович выбрал не меня, но
оказалось, что это к лучшему.
Несмотря на увлечение парашютизмом, я получил неплохой балл, и
меня, еще шестикурсника, распределили на должность старшего техника в
номерной НИИ — знаменитую двадцатку, от которой потом отпочковались
несколько научно-исследовательских институтов.
Нашим отделом руководил Борис Михайлович Коноплев, крупный,
властный человек, лауреат Государственной премии (получил ее за создание
автоматической радиометеорологической станции).
Через несколько месяцев меня перевели в другой отдел, наши пути
разошлись, но стиль работы Коноплева, его талант умного, волевого
руководителя стали примером, которому я (увы, не всегда успешно) стараюсь
следовать.
Борис Коноплев прожил недолгую жизнь, но успел сделать
гигантски много... И погиб он на Байконуре 24 октября 1960. Не удержусь,
чтобы не процитировать, как это случилось.
«В сентябре 1960 г. на полигон прибыла первая летная ракета Р-16.
Пуск ракеты был назначен на 23 октября 1960 г. Руководитель работ в 19
часов 05 минут 24 октября 1960 г. объявил 30-минутную готовность.
Примерно в 19 часов 15 минут в результате импульсов, выданных
программным токораспределителем на исполнительные органы, произошел
запуск основного (маршевого) двигателя второй ступени ракеты. Огневое
воздействие вызвало разрушение баков первой ступени и всей конструкции
ракеты. Произошло соединение и интенсивное взрывообразное возгорание в
общей сложности более 120 тонн компонентов топлива. Расходившиеся от
центра старта концентрические волны огненного смерча с большой
скоростью поглощали на своем пути все живое. Лавинообразное горение
продолжалось немногим более двадцати секунд и распространилось на
100—120 метров от центра старта. В огне погибли 76 человек, 49 человек
были эвакуированы в госпиталь космодрома и помещены в стационар,
Впоследствии скончались еще 16 человек…»
Я снова встретился с Борисом Михайловичем Коноплевым на
страницах маленькой энциклопедии "Космонавтика". И узнал, что один из
кратеров на обратной стороне Луны назван его именем. Конечно, на всех не
хватит ни городов, ни теплоходов, ни улиц. Да и не в этом, очевидно,
главное, не в этом смысл жизни. Но думаю, легче жить, сознавая, что ты
полезен людям, что ты
достоин, пусть самого маленького, пока еще безымянного, лунного кратера.
В заключение вспомню и такой случай. Как я уже упоминал, Михаил
Самойлович Нейман пригласил меня на свой семидесятилетний юбилей.
Увидев своего однокурсника и «соперника» Мира Андреевского, я бросился
к нему с протянутой рукой. Мир вяло пожал руку и сказал:
— Так ты уже профессор… А я до сих пор доцент.
И отошел от меня.
Московский авиационный… Лучший вуз моей жизни! После юбилея
профессора Неймана я не бывал там ни разу. И уже не побываю…
Глава одиннадцатая. Мои НИИ
И вот так, изо дня в день, месяцами,
годами, жизнями, утекает наше время
в бездонный черный ящик.
Михаил Задорнов. Я никогда не думал…
Так уж сложилась моя жизнь после окончания института, что я работал
либо в оборонных научно-исследовательских институтах, либо в вузах, либо
одновременно в НИИ и вузах.
Я
не
стану развертывать
перед
читателями
«севастопольскую
панораму» моей жизни. Ограничусь наиболее значимыми эпизодами. О
других расскажу позже.
Итак, я был распределен в НИИ-20, знаменитую двадцатку. Там
сформировалась моя узкая научная специальность — кварцевая стабилизация
частоты колебаний.
И произошло это так. Коноплев поручил мне разработать кварцевый
генератор для управляемой ракеты. Но в НИИ была специализированная
лаборатория кварцевой стабилизации, поэтому сочли целесообразным
перевести меня туда.
Начальником этой лаборатории был Николай Иванович Коваленок, а
ведущим инженером — Тимофей Михайлович Михайлов. Оба сохранились в
моей памяти как профессионалы высшей пробы, добрые, отзывчивые люди.
К сожалению, ни в энциклопедиях, ни в интернете они не упомянуты.
Именно под их влиянием я решил написать книгу. Не буду утомлять
читателей техническими подробностями, скажу только, что в Советском
Союзе книг по этой специальности не было. Мне предстояло «вспахать
целину»…
И вот в 1951 году в Государственном издательстве энергетической
литературы напечатали мою монографию «Пьезокварц в технике связи». А
было мне тогда 25 лет.
«Первый ком» оказался удачнее всех последующих. На эту книгу
сослался в своем превосходном учебнике Михаил Самойлович Нейман. Были
еще десятки ссылок в других изданиях. Книгу тотчас перевели в Китае.
Но, увы, мой первенец доставил своему молодому автору и немало
неприятностей: мне откровенно завидовали, считали «выскочкой». Об этом я
еще расскажу позже.
Как уже писал, из-за жилищной проблемы меня перевели в другой
НИИ. Там тоже была кварцевая лаборатория. Но возглавлял ее безвольный
человек, фамилии которого я не запомнил. Фактически вся «власть»
принадлежала старшему инженеру с начальным образованием — Зиновию
Эммануиловичу Хайкину. (Прошу не путать с великим радиофизиком
Семеном Эммануиловичем Хайкиным, о котором речь впереди).
С подачи самого Зиновия Эммануиловича все в лаборатории звали его
не иначе как Зямой.
Представьте себе невысокого, юркого, всегда улыбающегося человека с
черными глазами-буравчиками и большой шишкой на лбу. Когда он
приподнимал брови, шишка уползала вверх, почти до самой абсолютно
лысой макушки.
Зяма был уникальным шлифовщиком кварцевых пластин. Этим вообще-то занимались девушки-шлифовщицы, но никто из них, что называется,
ему в подметки не годился. А лаборатория обеспечивала выполнение
правительственных заказов, и тут уж без Зямы нельзя было обойтись.
Меня Зяма встретил настороженно, даже неприязненно: как-никак я
был автором книги, в которой производственные секреты — его главное
достояние — предавались огласке.
Между нами возник своего рода «вооруженный нейтралитет».
Отводил Зяма душу на молодых инженерах, направляемых к нам на
работу. Не хочу вдаваться в технические аспекты, но на примере постараюсь
осветить характер издевательств, которым подвергались новички.
Подходит Зяма к начинающему инженеру.
— Выручай, дорогой, сам знаешь, я академий не кончал, — как здесь
не вспомнить Чапаева! — а поступил правительственный заказ, да еще
срочный. Только генератор никак не запускается! Вот я тебе кварц принес,
покумекай над ним, у тебя-то получится! Ты ведь инженер, а у меня семь
классов, того и гляди выгонят!
Это Зяму-то, на золотых руках которого вся лаборатория держится!
Польщенный новичок, не подозревая о подвохе, берется за дело.
Достает украдкой свой конспект по передатчикам, паяет простейшую схему,
подает напряжение и с надеждой смотрит на подключенный к схеме
осциллограф. На экране только горизонтальная зеленая линия развертки.
Проходит день, другой. Зяма торопит. Наконец, инженер находит в
замусоленном конспекте более сложную схему. Эта загенерирует, даже если
вместо кварца присоединить конденсатор. Читателям подробности не нужны,
но молодой специалист мог бы и догадаться, что к появившейся на экране
синусоиде кварц непричастен!
Радостно зовет Зяму. Тот приходит, радуется, шишка ползет к
макушке.
— Ай, молодец! Выручил меня. Вот что значит высшее образование.
Молодой инженер готов замурлыкать от счастья. И тут Зяма начинает
хмуриться, чешет затылок, шишка нависает над бровью.
— А знаешь, — неуверенно говорит он, — синусоида какая-то не
такая…
— Да такая, такая… — успокаивает новичок, не подозревая, что его
уже ведут на заклание.
Зяма его успокаивает.
— Да ты здесь не причем, это кварц, наверное, плохой!
— Кварц хороший…
Зямины глаза торжествующе вспыхивают — капкан сработал!
— Хороший, говоришь? А вот мы сейчас посмотрим.
Он берет отвертку и вскрывает корпус кварца. Между электродами
вместо кристалла — сырая картошка.
Молодой инженер морально раздавлен.
Мне эти спектакли надоели. Вероятно, лучше всего было предупредить
новичка, но меня раздражало то, что человек с дипломом инженера легко
попадается в примитивную ловушку.
Я решил раз и навсегда отучить Зяму от издевательских «шуток». У
меня нашлись пять заготовок из сегнетовой соли, которая, в отличие от
кварца, растворяется в воде. Отличить их от кварцевых на глаз трудно.
Оставалось побить Зяму его же собственным оружием. Я подошел к
нему и, протягивая заготовки, просительным тоном произнес:
— Зиновий Эммануилович, выручайте! Правительственный заказ,
отшлифовать пластинки с идеальной точностью никто, кроме вас, не сумеет.
Зяма польщен. Раньше я ни разу не обращался к нему с просьбами, но
вот нужда заставила, и пришел на поклон.
Он, как обычно, приклеил заготовки мастикой к колодке и пошел к
шлифовальному станку.
А я, от греха подальше, ушел в другую комнату. Через час
возвращаюсь и застаю такую картину: Зяма, засучил рукава и роется в
поддоне станка, наполненного сметанообразной массой — отходами
шлифовального производства.
— Дурная мастика, заготовки упали в поддон, но я их все равно найду!
Я ушел еще на час. А когда опять вернулся, то, не удержавшись, рассмеялся
и сказал Зяме, что он может прекратить свой подвижнический труд, потому
что заготовки растворились в отходах.
— Как растворились? — не поверил Зяма.
— Неужели вы, такой опытный специалист, не можете отличить кварц
от сегнетовой соли? Да это же даже первокурсник сумеет сделать. Заготовки
нужно было полировать…
И я прочитал Зяме небольшую лекцию, после чего Зяма перестал
измываться над молодыми инженерами, а меня возненавидел.
Результат: меня перевели с повышением в другой НИИ, где я вскоре
стал начальником кварцевой лаборатории. Ее научным руководителем был
великий профессор Борис Константинович Шембель, который когда-то
рецензировал мою первую книгу. (За ней уже последовали еще две).
О Борисе Константиновиче можно написать целый фолиант. Он стоял у
истоков радиолокации, теории стабилизации частоты и многих других
научных направлений. В своей книге я еще не раз помяну его добрым
словом, а пока скажу лишь, что в 1949 году ему, руководителю лаборатории
Института химической физики Академии Наук СССР, руководителю работы,— за разработку новой конструкции государственного эталона для
воспроизведения единицы частоты» была присуждена Сталинская премия.
А ныне в наукограде Протвино есть проезд Шембеля.
Я горжусь, что в соавторстве с Борисом Константиновичем создал
первый в мире кварцевый резонатор с добротностью (синоним качества)
свыше пяти миллионов.
Но судьба продолжала подшучивать надо мной. НИИ перевели в
другой город, а меня назначили начальником лаборатории в Московском
радиотехническом научно-исследовательском институте.
Об этом НИИ, где я проработал, к сожалению, лишь до 1956 года (о
причине ухода расскажу позже) у меня сохранились самые светлые
воспоминания.
Директором
НИИ
был
замечательный
человек
Глеб
Сергеевич Ханевский. В знак доброй памяти я назвал его именем, отчеством
и фамилией героя моего фантастического рассказа «Тропик Рака в созвездии
близнецов»:
«Барометр
стоял
капитан Глеб Сергеевич Ханевский дал команде отдых.
высоко,
Только
и
рулевой
нес вахту у штурвала, да сам капитан стоял
на мостике, изредка переговариваясь с вахтенным офицером».
К великому моему сожалению Глеб Сергеевич был тяжело болен.
Вскоре после моего вынужденного отъезда из Москвы (и об этом речь в
дальнейшем) Глеб Сергеевич умер. На гранитной пластине в колумбарии,
прикрывающей урну с его прахом, нет ничего кроме его характерной
размашистой подписи.
Главным инженером у нас был Фрол Петрович Липсман (между собой
мы называли его просто Фрол) - массивный мужчина (что-нибудь метр
восемьдесят пять роста и килограммов сто двадцать веса). Авторитетный,
шумный, прекраснейший инженер, властный и жесткий, но не злой человек, таким я его помню.
Фрол Петрович был уже лауреатом Сталинской премии, которую
получил за разработку радиорелейной аппаратуры.
Работая над этой главой, я нашел замечательный очерк, который
приведу в сокращенном виде.
Рубрика — Легенды ХХ века
Авторы — Майя Немировская, Владислав Шницер
ФРОЛ
«Фрол» — так любовно и уважительно называли Фрола Петровича
Липсмана, своего Главного инженера и Главного конструктора сотрудники
Московского научно-исследовательского института, друзья и знакомые.
Его, лауреата Ленинской и Государственной премий, широкая
общественность не знала: долгие годы он числился в особом списке
совсекретных советских персон… Недавно, на 95 году жизни, Фрол
Петрович Липсман скончался…
А теперь я расскажу об одном лишь эпизоде моего общения с Фролом.
Читатель, вероятно, знает: радиорелейная линия это цепочка приемопередающих станций, расположенных на расстоянии прямой видимости, то
есть практически в нескольких десятках километров друг от друга.
Сообщение передается от одной станции к другой (принцип эстафеты).
Однажды
Фрол
Петрович
решил,
что
его
непосредственные
подчиненные руководители отделов и лабораторий — слишком уж закисли в
своих четырех стенах, и повез нас на полигон, чтобы мы увидели
разработанную им аппаратуру в действии.
Приезжаем.
автофургоны
с
Смотрим:
большущее
радиорелейными
неуклюжие антенны.
поле,
станциями.
по
На
нему
разбросаны
крышах
шевелятся
Подходим к одному из фургонов. Ефрейтор —
оператор станции вытянулся в струнку: главный, хотя и был человек сугубо
штатский, производил впечатление генерала, если не маршала.
Следом за ефрейтором Фрол и я, его избранник, втискиваемся в кузов.
Две трети свободного пространства занял главный, треть — я. Для ефрейтора
места не осталось — спроецировался на стенку фургона, превратившись в
смутно угадываемую тень.
— Сейчас я вступлю в связь, — торжественно провозглашает главный
и начинает крутить ручки. — Резеда, я Фиалка! Как поняли? Прием!
В громкоговорителе молчание.
— Резеда, я Фиалка...
Проходит минута, вторая. Почему-то никто не спешит вступить в связь
с Фролом, несмотря на его страстные призывы. В ответ слышно только
гудение умформеров.
— Черт знает что, — наконец, не выдерживает Фрол. — Это надо же
суметь довести аппаратуру, такую надежную, такую простую и удобную в
эксплуатации до состояния...
Договорить
ему
не
удается.
Тень
ефрейтора,
внезапно
материализовавшись, вежливо отодвинула в сторону тучного Фрола
Петровича и... буквально через несколько секунд из громкоговорителя
раздалось:
— Фиалка, мать твою... Почему не отвечаешь?
Впервые я видел Фрола таким сконфуженным. Ну как же, за эту самую
станцию, детище его интеллекта, он получил (уверяю, заслуженно) золотую
медаль лауреата. И вдруг так опростоволосился...
Между тем, все закономерно. Знание — многоэтажное, и на каждом
этаже
нужна
своя
сноровка:
академик,
создавший,
к
примеру,
фундаментальные труды по телевидению, высоко ценимые специалистами
высокого ранга, вряд ли исправит поломку в своем собственном домашнем
телевизоре.
Да и возиться не станет, предпочтет пригласить мастера. Тот в два
счета устранит повреждение, хотя понятия не имеет о классических трудах
своего почтенного клиента...
Не следовало Фролу Петровичу состязаться в мастерстве с ефрейтором.
Но надо отдать ему должное, оказавшись в смешном положении на глазах у
подчиненных, он сохранил самообладание:
— Это еще что! Вот во время войны сдавали мы государственной
комиссии радиоуправляемый танк с огнеметом. Пробило какой-то там
конденсатор, и танк двинулся прямо на нас. Комиссия — генералы,
представители главка, врассыпную. Бегу по полю, слышу: танк за мной.
Поворачиваю налево, и он туда же. Направо — то же самое. А огнемет
заряжен... Да, натерпелся я тогда страху...
Перед нами был все тот же уверенный в себе, волевой и властный Фрол
Петрович Липсман, главный инженер НИИ, лауреат Государственной
премии.
А я почему-то до сих пор представляю его сосредоточенно
убегающим от сошедшего с ума танка. Танк так и не выстрелил. Но мог бы...
Интересно, сходят ли с ума атомные бомбы?
Глава двенадцатая. Мои ученые степени
Полагал ли я в золоте опору мою,
и говорил ли сокровищу:
«ты надежда моя»?
Библия.
Книги ветхого завета.
Книга Иова
Отвечаю на вопрос Иова: «нет, нет и нет!». Никогда в жизни не
стремился ни к деньгам, ни к власти. Но сызмальства у меня была цель: я
хотел стать радиоинженером. Потом, как вы знаете, цель раздвоилась: меня
увлекла авиация. И я не представляю, как бы изменилась моя жизнь, не
случись катастрофы (да, для меня это была самая настоящая катастрофа) в
барокамере.
К счастью, судьба одарила меня «подушкой безопасности». Не сразу я
вышел из ступора. Но не зря же в одиннадцать лет стал радиолюбителем! И
мне не пришлось мучительно выбирать профессию. Она, если так можно
высказаться, уже была во мне.
А мечтал ли я стать ученым? Представьте себе, нет!
По окончании МАИ сказал себе: "Аспирантура? Ну, нет, с меня
довольно!". А уже через несколько месяцев поступил в аспирантуру
Института радиоэлектроники АН СССР. Но... из номерного НИИ, куда был
распределен, меня (заметьте, вопреки закону!) не отпустили, а придумали
гениальный ход: перевели в свою очную (!) аспирантуру и оставили на
полной ставке младшего научного сотрудника.
Это отвечало моим интересам, главным образом, по меркантильной
причине: плюс к зарплате я стал получать и аспирантскую стипендию. Не
буду утомлять читателя подробностями. Скажу только, что меня, как
говорится, черт дернул придумать "перпетуум-мобиле" — вечный двигатель.
Разумеется не в прямом, а в переносном смысле слова. Ведь все, что
невозможно, ассоциируется именно с вечным двигателем.
Итак, меня угораздило изготовить и положить в основу диссертации
прибор, над созданием которого безуспешно трудился целый отдел другого
НИИ. У них не получилось. А раз не получилось, то значит — невозможно.
Защита моей диссертации происходила в «чужом» НИИ (в нашем
диссертационного совета не было). Все шло гладко, пока «конкуренты» не
заявили, что мой эксперимент подложен, а созданный мной прибор —
фикция.
«Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» Перед
внутренними взорами членов Совета предстали весы: на одной чаше —
«кустарь-одиночка» со своим «вечным двигателем», а на другой —
творческий
коллектив
целого
отдела,
подтвердивший
упорным
коммунистическим трудом невозможность «перпетуум-мобиле».
Первым оппонентом у меня был уже упоминавшийся мною великий
ученый — профессор Семен Эммануилович Хайкин, создавший в тридцатые
годы в соавторстве с академиком Андроновым и профессором Виттом
фундаментальную «Теорию колебаний».
Поскольку «бог троицу не любит», Витта расстреляли, и несколько
изданий «Теории колебаний» вышли только за двумя подписями.
Незадолго до моей защиты Хайкин опубликовал еще один капитальный
труд «Механику». На его (и мою) беду книгу прочитал другой великий
ученый, крупнейший специалист и в языкознании, и во всех прочих науках
— Иосиф Виссарионович Сталин.
Прочитал и вынес вердикт: книга порочная, идеалистическая. К
счастью, репрессий не последовало. Но «порочная Механика» ударила и по
мне...
Тогда я не был закаленным бойцом (им стал впоследствии). Вместо
того чтобы сказать:
«Уважаемые члены Совета! Прервите, пожалуйста,
защиту, образуйте комиссию для проверки моих результатов. Если ее
решение окажется отрицательным, возобновлять защиту не придется, и в
кандидатской
степени
мне
автоматически
будет
отказано.
Если же
результаты подтвердятся, то зачтите это в мою пользу...»
Я же только бил себя в грудь, клянясь, что результаты правильны...
Встал Хайкин и сказал примерно следующее: «Если возникли сомнения в
достоверности результатов диссертации, то, получив автореферат, надо было
немедленно сообщить о них Совету. А после драки кулаками не машут».
На это председатель Совета ответил так: «Профессор Хайкин! Иосиф
Виссарионович
Сталин
дал
справедливую
оценку
вашей
порочной
идеалистической книжке. Прискорбно, что вы вдобавок выступаете в роли
зажимщика критики. Переходим к голосованию».
В наступившей тишине раздался треск: — мой научный руководитель,
незабвенный
Борис
Константинович
Шембель,
сломал
удочку
для
подледного лова рыбы. Он был страстным рыбаком и, будучи уверен в моем
успехе, собирался до банкета часок-другой половить рыбку.
Эксперименты проводились на глазах Бориса Константиновича, но по
тогдашним правилам научный руководитель, выступив в начале, затем не
имел права открыть рта. Мой главный свидетель сидел с «завязанным ртом»
и мог только в знак протеста и досады переломить о колено бамбуковое
удилище.
С разницей в один голос я был «провален». Семен Эммануилович
Хайкин, сам член ВАК, тут же предложил мне немедленно обжаловать
решение Совета: «Ручаюсь, оно будет отменено!».
Но на меня напала такая депрессия, что ни о каком обжаловании я не
мог и думать. Хайкин этого мне не простил. С тех пор мы не виделись.
Через месяц депрессия прошла, а беспристрастная комиссия не только
подтвердила мою правоту, но и несколько улучшила результаты. Мне было
предоставлено почетное право сделать доклад о своем приборе в конференцзале Политехнического музея.
«Конкуренты» при встрече чуть ли не бросались мне на грудь: «Вы,
дорогой, сами виноваты... если бы вовремя ознакомили... привлекли... Мы бы
вас горячо поддержали!»
Время летит, как известно, быстро. Прошли зима, весна. Наступило
лето. Повторная защита была назначена на осень (нужно было еще успеть
«подновить» диссертацию, отпечатать и разослать автореферат). В июле 1952
года я осуществил право, гарантированное Сталинской конституцией, —
уехал отдыхать в Крым.
Там меня застал свежий номер «Правды» с постановлением ЦК КПСС
и Советского правительства о необходимости ужесточить требования к
диссертациям. Сердце мое екнуло. И не зря. По приезде домой я распечатал
письмо, в котором меня уведомляли, что назначенная на сентябрь защита
состояться не может, поскольку номерные НИИ лишены права принимать
открытые диссертации.
И началось хождение по мукам, продолжавшееся 4 (четыре!) года.
Многие диссертационные Советы были расформированы. Другие боялись
подобной участи и потому принимали диссертации только у «своих». Меня
все время «отфутболивали»: дескать, диссертация не соответствует профилю
Совета.
А потом... Мне предложили сделку: если я соглашусь (не имея ученой
степени!)
возглавить
кафедру
в
Новосибирском
электротехническом
институте связи (НЭИС), то уже через несколько месяцев мне организуют
защиту в Московском электротехническом институте связи (МЭИС).
Так оно и произошло.
Точнее, произошло действо, напоминавшее
комедию. Вся защита продолжалась 40 минут. Мне, несмотря на мои мольбы,
не задали ни одного вопроса. Потом выступил профессор, заслуженный
деятель науки Николай Иосафович Чистяков (впоследствии я удостоился
чести быть соавтором двух его книг), сказал буквально несколько слов вроде:
«Все мы знаем, при каких обстоятельствах...». А через пару месяцев я уже
получил «корочки» кандидата технических наук.
Узнав о моем вынужденном решении уехать из Москвы в Новосибирск,
Глеб Сергеевич Ханевский (а удержать меня он не мог, поскольку я был
избран в НЭИС по конкурсу) сумел через министерство «пробить» мне
квартиру в Москве, но я уже «закусил удила».
А теперь расскажу, как стал доктором наук. В научном мире
существует поговорка: «кандидатскую диссертацию делает доктор, а
докторскую кандидат». Несмотря на кажущуюся ее нелепость, в ней есть
толика здравого смысла. Традиционный путь в кандидаты наук — через
аспирантуру. И если научный руководитель аспиранта относится к своим
обязанностям неравнодушно, то он опекает своего подопечного —
подсказывает идеи, помогает преодолеть «подводные камни», отсекает
лишнее, ошибочное.
Будущий же доктор наук предоставлен самому себе. Докторская
степень в науке — наивысшая. Ранг академика почетнее, но не выше, чем
доктора наук: эти понятия относятся к разным категориям. Кандидат наук,
претендующий на степень доктора, не нуждается в руководителе. Он должен
рассчитывать только на себя, свои знания, интеллект, научную эрудицию.
По описанным причинам я стал кандидатом наук поздно — в 31 год. А
уже в 35 представил к защите в Совет Киевского политехнического
института докторскую диссертацию.
Все шло идеально: оппоненты — даже не два, а три доктора наук дали
превосходные отзывы. Был разослан автореферат, назначен день защиты. А
затем вмешался злой рок...
Вынужден нарушить плавный ход повествования и обратиться к
предыстории. Я еще в Москве. Заведую лабораторией в НИИ. Телефонный
звонок. Начальник отдела кадров просит зайти. В кабинете вижу плотного
парня
с
копной
пшеничных
волос,
румяным
круглым
лицом
и
подслеповатыми глазами, моложе меня года на два.
Представляется: Александр Герасимович Смагин. Не без злого чувства
привожу полностью фамилию, имя и отчество. Мне объясняют, что Смагин
только что окончил университет, по образованию физик-ядерщик, но вот
беда, не может устроиться по специальности. Не могу ли я взять его к себе в
лабораторию младшим научным сотрудником?
Штатные места есть, почему бы ни взять! Знал бы я тогда, какую змею
привечаю...
И опять не хочу утомлять читателя излишними
подробностями...
Прошел год — мы почти что друзья, хотя называем друг друга по имениотчеству. Пишу статью, ее принимают в журнал. Застенчиво улыбаясь,
говорит:
— А меня не возьмете в соавторы? У вас ведь и так ой-ой-ой сколько
опубликовано!
Иду в редакцию, прошу допечатать фамилию соавтора.
Спустя еще несколько дней:
— У вас уже написана диссертация, а я только собираюсь. Нельзя
сделать так, чтобы я был единственным автором статьи? Разумеется, будет
ссылка на ваше участие.
Не скрою, меня покоробило. Но, как известно, дураков не сеют, не
жнут...
Снова иду на поклон в редакцию, как старик из сказки Пушкина к
государыне-рыбке. В редакции удивляются, но просьбу мою выполняют. Ах,
если бы я тогда мог предвидеть, какую пакость себе делаю!
1961-й год.
Я
уже
доцент,
заведующий кафедрой Одесского
политехнического института. Смагин все там же, в Москве, — старший
научный сотрудник без степени. Время от времени мы переписываемся.
Обычно я не сохраняю писем. А смагинские письма, сам не знаю,
почему, сохранил все до единого. И это меня спасло! В одном из последних
писем Смагин пожаловался, что никак не может защитить кандидатскую...
А у меня уже не то что аспиранты, а «свои» кандидаты есть. По
простоте душевной приглашаю Смагина в Одессу, обещаю провести по
конкурсу на должность доцента, хоть и нет у него степени. И, представьте,
провожу!
Сам же в предзащитных хлопотах. Получаю трогательную телеграмму
Смагина. Рассыпается в благодарностях... А затем происходит нечто в духе
Мастера и Маргариты Булгакова. Видно, Воланд решил подшутить, потому
что до сих пор я не нашел иного объяснения случившемуся.
Через неделю после телеграммы в Совет Киевского политехнического
института пришло заявление Смагина, что Плонский... украл у него кусок
диссертации! При этом он ссылался на злосчастную статью, поменявшую
авторов по глупости первого из них. К слову, объект статьи, со ссылкой
на
Смагина, упоминался не в самой диссертации, а в приложении к ней!
Заручаюсь кучей бумаг с печатями за подписями директора НИИ, где
проводились исследования, других известных ученых. В один голос
опровергают Смагина. А в Совете мне соболезнующее говорят: «Мы же не
Петровка, 38. Подайте на Смагина в суд, будет решение — приходите. А
сейчас за результат не ручаемся. Короче, снимаем диссертацию с защиты».
В те годы печать, особенно, партийная, действительно была четвертой
властью. И кто-то меня надоумил обратиться в «Правду».
Через какое-то время корреспондент устраивает нам со Смагиным
очную ставку. Мне, как «потерпевшему» — первое слово.
— Скажите, — спрашиваю Смагина, — как вы относитесь к моей книге
"Пьезокварц в технике связи"?
— Низкопробная книжонка, которая даже для ремесленных училищ не
годится.
И тут я вынимаю письмо Смагина, в котором он превозносит книгу до
небес и уверяет, что только благодаря ей стал специалистом в новой для него
области.
— Нужна экспертиза почерка? — спрашиваю.
Смагин молчит.
Вопрос — ответ — письмо. Вопрос — ответ —
письмо...
— Достаточно, — говорит корреспондент.
И вот в еженедельнике ЦК КПСС "Экономическая газета" появилась
огромная, во всю полосу, статья под названием: «В глупом положении».
Как вы думаете, кто в глупом положении? Конечно же, я! Потому что
покровительствовал проходимцу и даже протащил (!) его через Совет
Одесского института в доценты.
Но для меня эта статья была музыкой с небес. Потому что полностью
снимала с меня обвинения Смагина. Ну что ж, теперь я мог на белом коне
въехать в Совет Киевского политехнического института. Но не пожелал:
оскорбления не забываются!
И уже в 1964 году (вот сколько длилось «разбирательство»!) я
обратился в Совет Львовского политехнического института (единственный
на Украине, кроме Киевского, где принимали докторские по моей
специальности).
— Ты с ума сошел! — пугали меня. — Это же западноукраинские
националисты. Они русских ненавидят! Тебя там просто растерзают!
Но я не внял советам.
До
сих пор
с
благодарностью
вспоминаю
профессора
Юрия
Теофановича Величко. Он и впрямь был «националистом» — разговаривал
на галисийском диалекте украинского языка. Я общался с ним на уровне
подсознания.
Но как благожелательно он ко мне отнесся! Да и счет 21:1 в мою
пользу говорит сам за себя.
Думаете, на этом закончились мои злоключения? Увы... Два с
половиной года Высшая аттестационная комиссия хранила молчание.
Оказывается, все это время она занималась... подметными письмами,
инспирированными Смагиным и моими бывшими «конкурентами» (они тоже
не забыли «унижения»).
А потом меня вызвали на повторную защиту в Президиум ВАК. И я
выступал перед светилами науки. Один за другим вышли «судьи», а мне
сказали, чтобы пришел за ответом через две недели.
До сих пор с дрожью вспоминаю мрачные казематы Высшей
аттестационной комиссии, толпу седовласых старцев, терпеливо ожидавших
решения своей участи. Нас было двадцать пять человек. Одного за другим
приглашали в чиновничий кабинет. Один за другим выходили измученные
люди.
Многие
не
скрывали
слез.
Кое-кто
судорожно
нащупывал
нитроглицерин. Двадцать четыре отказа. Меня вызвали двадцать пятым.
— А знаете, мы вас утвердили, — не скрывая удивления, сказал
чиновник.
В душе — пустота...
Что лучше — инквизиторские защиты ХХ века или снисходительные
ХХI? Вопрос неправомочный. Далеко не все защиты в прошлом столетии
напоминали бои гладиаторов. Но можно с железной убежденностью
утверждать: уровень требовательности к диссертациям если не рухнул, то
снизился на порядок. Неудивительно, что настолько же упал престиж
кандидатов и докторов наук.
Глава тринадцатая. По бездорожью науки
Как создать себя заново? Как распутать
тяжелый клубок воспоминаний?
Антуан де Сент-Экзюпери.
Письмо заложнику
Кто я? Ученый? Преподаватель? Радио и телевизионный обозреватель?
Журналист? Профессиональный редактор? Писатель?
На каждый из этих вопросов ответ — «да».
Но, наверное, не будь я ученым, на все остальные вопросы следовало
ответить — «нет».
Моя «стратосфера» лопнула, как мыльный пузырь. Ее место заняла
наука.
Однако вдумаемся: есть множество понятий, которым нельзя дать
однозначное определение.
Что такое «свобода»? Я не знаю. Для меня свобода была при Советской
власти, потому что каждое лето я садился в автомобиль и ехал, куда
захочется, — в Крым, на Памир, в Нагорный Карабах. И везде меня
встречали как родного, помогали, если машина барахлила, делились куском
хлеба. И я, безоружный, безбоязненно становился на ночлег там, где
заставали сумерки — на опушке леса, стоянке «дальнобойщиков»…
А сейчас я бы не рискнул заночевать в пустынном месте. Почему? Да
вы и сами знаете.
Для других же при «Советах» свободы не было. Тоже не стану
объяснять, почему.
А «прогресс» это хорошо или плохо? Атомная электростанция —
прогресс? Ну, а ее кровная родственница — атомная бомба? Заметим, то и
другое создали ученые.
На мой взгляд, и «свобода», и «прогресс» — слова, лишенные смысла.
Во всяком случае, без прилагательных. Научно-технический прогресс, как
это ни прискорбно, антагонист морального прогресса человечества.
Впрочем, я несколько увлекся размышлениями на отвлеченные темы.
Итак, еще до окончания МАИ я был распределен в научноисследовательский институт на должность старшего техника. А после
защиты
дипломного
проекта
стал
младшим
научным
сотрудником
(сокращенно «мнс»).
Спрашиваю себя: мнс — ученый? А если меня повысят в должности, и
я стану старшим инженером — значит, перестану быть ученым?
Глупые, безответные вопросы. Ученый — не должность и даже не
степень, а дар судьбы. В одних он заложен от рождения, другие обретают его
в результате долгих и порой мучительных поисков.
Я знаю и кандидатов, и докторов наук, которые лишь «притворяются»
учеными, кичатся званиями академиков не существующих на самом деле
академий. И знаю людей не остепенённых, идущих в науке торным путем, не
признанных, даже осмеянных современниками. А потомки, быть может,
будут чтить их, как великих ученых.
Если уподобить науку пути к новому знанию, то для одних это
магистраль, по которой движешься, никуда не сворачивая, для других —
бездорожье.
Пожалуй, я отношусь к последним.
Вероятно, повинуясь законам мемуарного жанра, нужно соблюдать
временную (ударение на «у») последовательность. Но я позволю себе
нарушить эти законы. Ограничусь эпизодами, оставившими в памяти
наиболее яркие «зазубрины» — радости, грусти и горечи.
Вот первое воспоминание. Радиоприемник для связи генерального
штаба с командующими военными округами. Он «на выходе». Остается,
подобно художнику, сделать последний мазок кисти, и картина закончена.
Этот «мазок» должен сделать я.
Днем не успел, остался на ночь в лаборатории один, пренебрегая
строгими правилами техники безопасности. Свет в помещении приглушен.
Вот он, мой фильтр, в который я вложил столько сил. Как поведет он себя в
приемнике? Подпаиваю последние проводники. Священнодействуя, включаю
источник питания, надеваю головные телефоны и медленно, не дыша,
вращаю ручку настройки.
И вдруг обвал, разряд молнии — могучие раскаты симфонического
оркестра. Передают Первый концерт для фортепиано и скрипки Чайковского.
Я оглушен, подавлен. В душе лавина чувств: безумная радость, что все
получилось, гордость за то, что последний мастерский мазок сделан именно
мною, вот прямо сейчас, и вдруг… опустошенность, словно не работа, а
жизнь закончилась… И этот конгломерат чувств был настолько силен, что из
глаз полились слезы…
Кто скажет, что наука и искусство не есть две стороны одной медали?
Я никогда не отрывал преподавание от науки. Заведуя вузовскими
кафедрами, сотрудничал с «фирмой Королева» — под моим руководством
был разработан основной элемент системы терморегулирования — датчик
температуры с надежностью 0,9999 (1 — абсолютная надежность).
Разработали мы и следящий анализатор — прибор для диагностики
турбореактивных двигателей. Раньше после сборки двигатель запускали на
стенде. Если в лопатках турбины были скрытые дефекты (например,
раковины), двигатель после пробного горячего запуска можно было сдавать в
металлолом. Мы же раскручивали турбину с помощью электродвигателя, а о
состоянии лопаток судили по акустическому спектру.
С гордостью могу упомянуть, что мне довелось участвовать в
разработке первого в мире стратегического радиолокатора, который долгое
время был «головной болью» американцев.
Среди трех десятков моих изобретений два «закрытые». На авторских
свидетельствах укороченный номер и пустая строка вместо названия. Даже
сейчас не стану говорить, о чем они. Скажу только, что работа велась по
заказу подводников. Как же я был растроган, когда много лет спустя меня
наградили медалью «Столетие подводных сил России».
Памятны три изобретения, сделанные в соавторстве с моими
дипломниками. Например, одно из них — прибор для дистанционной
диагностики состояния топливных трубопроводов на морских судах.
Это «радостные» зарубки памяти. А вот горькая.
В 1960 году мы с бывшим главным инженером Челябинского часового
завода Шишковым изобрели первые в мире кварцевые часы с шаговым
двигателем. До этого кварцевые часы приводились в действие синхронными
электродвигателями и поэтому были громоздкими. О наручных кварцевых
часах, которые сейчас носят сотни миллионов людей во всех странах, тогда и
мечтать не приходилось.
В наших часах вместо синхронного электродвигателя мы применили
миниатюрное реле, которое впоследствии назвали шаговым двигателем. На
эти часы мы получили авторское свидетельство. Первые в мире кварцевые
часы успешно прошли испытания в НИИЧАСПРОМе. Акт испытаний
содержит до десяти страниц. Ниже привожу отрывки из него.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер НИИЧАСПРОМа
ТАРАСОВ С.В.
12 апреля 1961 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по испытаниям опытного образца кварцевых часов «Кварц», изготовленных
Челябинским
часовым
заводом
по
разработке
Челябинского
политехнического института
Средний суточный ход этих часов за восемь суток испытаний составил
+0,065 сек.
Среднее отклонение от среднего суточного хода за восемь суток составило
+/-0,066 сек.
Максимальный суточный ход не превышает +0,30 сек.
В процессе вибронагрузки до 15 g не превышает 0,10 сек.
Таким
образом
относится
к
представленный
классу
образец
кварцевых
высокопрецизионных
часов.
часов
«Кварц»
Отличительной
особенностью исследованных часов является высокая устойчивость к
вибронагрузке до 15 g.
Зав. ЛКАИ НИИЧАСПРОМа
Ст. научный сотрудник ЛКАИ
Контролер ЛКАИ
Механик лаб. НИИЧП
/ВИНОГРАДОВ/
/АНТОНОВА/
/ЯКОВЛЕВА/
/АКИМОВ/
Казалось бы, что еще? Невиданная дотоле точность подтверждена,
нужно
налаживать
серийное
производство!
Но…
вот
оно,
наше
«бездорожье»! А как же насчет советского приоритета на уникальные часы?
Увы… советские авторские свидетельства на западе не признавались.
А через пару лет начался массовый выпуск часов, использующих наше
изобретение, в Швейцарии, Японии, а через годы и в нашей стране.
На Западе мы с Шишковым стали бы миллионерами. У нас же были и
остаемся патриотами. Жаль только, что приоритет нашей страны на
кварцевые часы с шаговым двигателем не закреплен. А ведь по массовости
их изготовления они заслуживают занесения в книгу рекордов Гиннеса.
Какую же «зарубку» в памяти оставил этот результат моей научной
работы? Пусть догадается читатель…
Скажу лишь, что был полноценным ученым только при Советской
власти. В Одессе и Омске мне посчастливилось создать свои научные школы,
вырастить достойных учеников.
Вот цифры: до развала Советского Союза я подготовил 30 кандидатов
наук, из которых двое стали докторами. А после этого прискорбного события
всего трех. Не буду анализировать причины, а приведу еще два факта.
В 1982 году я был приглашен в Новороссийское высшее инженерное
училище (ныне это Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова), где работали несколько моих учеников — кандидатов наук. Мы
воспользовались приглашением единственно из-за болезни жены, которая
тяжело переносила сибирский климат.
Там по договору с Южным отделением Института океанологии АН
СССР под моим руководством был разработан прибор, за который я получил
медаль Выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
Вместо описания этого прибора приведу с некоторыми сокращениями
следующий документ.
АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Заместителю министра Морского Флота СССР
Т. Тихонову В.И.
Начальнику НВИМУ
профессору Гузееву В.Т.
Глубокоуважаемый Владимир Иванович!
НВИМУ совместно с Южным отделением Института океанологии
им. П.П. Ширшова разработало и изготовило первый в отечественной
практике макет термоградиентометра для измерения теплового потока с
борта подводных обитаемых аппаратов…
Упомянутый
подводный
термоградиентометр
успешно
прошел
испытания в 7-ом рейсе научно-исследовательского судна «Витязь» на
подводном обитаемом аппарате «Аргус». Впервые в мире на подводных
горах Верчелли и Жозефин в Средиземном море и Атлантическом океане
получены массовые значения теплового потока, сделаны важные выводы о
геологической природе этих гор.
Выражаем
искреннюю
признательность
сотрудникам
НВИМУ,
принявшим участие в разработке и изготовлении макета подводного
термоградиентометра:
профессору
А.Ф.
Плонскому,
доцентам
А.Н.
Рождественскому и Ю.С. Ащепкову за действенный вклад в развитие
морских геофизических исследований.
Вице-президент
Академии наук СССР
академик
А.Л. Яншин
Накануне развала СССР я заключил договор с Новороссийским
морским
пароходством
на
прибор
для
дистанционного,
причем
непрерывного, контроля температуры нефти в танках (резервуарах для
транспортировки нефти в танкерах).
До этого измеряли температуру нефти так: матрос откручивал
горловину танка, опускал до днища стержень с термометром на конце,
быстро вынимал его и записывал (или запоминал) значение температуры. Мы
разработали прибор (кстати, за него я тоже получил медаль ВДНХ), который
намного упрощал эту процедуру.
Пароходство выделило нам за разработку прибора мизерную сумму. Но
главное в другом. Когда мы испросили дозволения установить прибор на
танкере, который стоял в доке судоремонтного завода, нас послали к
новороссийскому представителю морского регистра.
Тот сказал, чтобы мы обратились в региональное отделение регистра.
Отправились в Одессу. Оттуда нас «отфутболили» в Москву. В центральном
регистре
потребовали
сертификат
Днепропетровского
НИИ
электровзрывобезопасности. Там ополовинили наши финансы за то, что
опустили прибор в резервуар с гремучей смесью и манипулятором разорвали
проводок, который сочли потенциально опасным.
Взрыва не произошло, и нам выдали сертификат. Но в московском
регистре сказали: «А где доказательство, что сертификат выдан именно на
ваш прибор? Промаркируйте все детали, и пусть это будет отражено в
сертификате».
Промаркировали. Отразили. Провезли по цепочке Москва — Одесса —
Новороссийск. Успели установить на танкер. Судно ушло в рейс. Через месяц
из океанских просторов пришла радиограмма, в которой выражалось полное
удовлетворение работой нашего прибора.
А потом рухнул Советский Союз, и судно вместе с нашей аппаратурой
вернулось в порт приписки на (в?) незалежную и самостийную Украину. Ни
самого прибора, ни акта о его применении, мы не дождались. Как мы ни
пытались связаться с Одесским пароходством, оттуда ни ответа, ни
привета…
Что бы вы сделали на нашем месте? Конечно же, обратились за
помощью в Новороссийское морское пароходство, тем более что именно с
ним был заключен договор на измеритель температуры в танках. Мы так и
поступили.
В ответ нам напомнили пословицу: «спасение утопающих — дело
рук…».
Тогда
мы
попросили
заключить
с
нами
новый
договор
на
интересующую пароходство тему. «Сначала отчитайтесь за прежний!» —
ответили нам.
Это называется «квадратура круга».
Полагаю, среди читателей нет наивных людей. При Советской власти
государство было кровно заинтересовано в развитии науки, в том числе и
вузовской. Но научная работа это не «скатерть самобранка». Мгновенно она
не выдает всё, что пожелаешь. Иногда на нее уходят годы. А капиталисту
надо: «вынь да положь».
Вот и получается: науку по боку, ведь проще купить за валюту
импортную аппаратуру. В конечном счете, окупится!
На этом я, как полноценный ученый, который немыслим без
помещения, оборудования, финансирования, государственной поддержки,
прекратил существование. Последняя «зарубка» своим оскорбительным
бездушием
внесла
в
мою
душу
неискоренимую
горечь.
Горечь
невостребованности, безразличия.
Значит ли сказанное, что я перестал быть ученым? Замените слово
«полноценный» словом «паллиативный». Вот таким «паллиативным»
ученым я себя сейчас сознаю.
Сегодня лаборатория, приборы, комплектующие и прочие атрибуты
науки — подменены емким словом: «интернет». Мой сотрудник и соавтор —
Тамара Васильевна Плонская, о которой я еще напишу многое.
Мы буквально не вылезаем из интернета, по крупицам находим,
обсуждаем, анализируем и прогнозируем новинки в интересующих нас
сферах науки. И ежегодно публикуем результаты своих аналитических и
прогностических исследований.
Стараемся привлекать к нашим научным поискам студентов. И — это
приносит нам творческое удовлетворение — на конференциях молодых
ученых они неизменно завоевывают призовые места.
Я сознательно не упоминаю аспирантов. Увы, это больной вопрос. Ему
я посвящу отдельную главу.
Глава четырнадцатая. Птенцы из моего гнезда
Пусть наставник заставляет ученика
как бы просеивать через сито все, что
он ему преподносит, и пусть ничего
не вдалбливает ему в голову, опираясь
на свой авторитет и влияние.
Мишель Монтень.
Об искусстве жить достойно
Я уже рассказал, по какой причине
переехал из Москвы в
Новосибирск. К числу совершенных мною глупостей относится то, что не
сохранил московскую прописку, а ректор НЭИС полковник в отставке
Бовман меня обманул: строящийся дом, в котором, якобы, будет моя
квартира, на самом деле не имел ни малейшего отношения к институту.
Через год я все же получил квартиру, но не от НЭИС, а от НИИ, куда
меня пригласили на должность начальника одной из лабораторий. Но к этому
времени Новосибирск потерял для меня всякую привлекательность. И вовсе
не из-за сурового климата. Впоследствии я долгие годы проработал в другом
сибирском городе — Омске, который поныне считаю лучшим из городов, где
когда-либо мне приходилось жить.
В 1959 году я подал документы на конкурс и был избран заведующим
кафедрой
«Конструирование
и
производство
радиоаппаратуры»
Челябинского политехнического института.
И это тоже была очередная глупость: не зная броду, я сунулся в весьма
опасную воду. Оказалось, что за год до моего избрания на перепутье между
Челябинском и Свердловском взорвалась емкость с радиоактивными
отходами.
Не слишком погрешу, сказав, что это была прелюдия к Чернобылю.
Я был немало удивлен тем, что люди ходят на рынок с дозиметрами.
Скоро и я обзавелся этим полезным прибором.
Здесь вкратце упомяну, что уже был заядлым автолюбителем
(подробности — впереди) и владельцем «двадцать первой Волги». Родители
мои поселились в Ялте. Летом шестидесятого я приехал к ним за рулем
автомобиля.
В тот раз по пути простудился, меня лечили, и вдруг врач спрашивает:
— Вы, случайно не из Челябинска?
— Оттуда, — ответил я. — А в чем дело?
— У вас неважный анализ крови. Советую как можно скорее переехать
в другой город.
Здесь уместно сказать, что по дороге я сделал небольшой крюк и
проехал через Одессу. Она поразила меня яркими красками, нескончаемым
весельем, озорным гомоном. И в течение следующего года я «флиртовал» с
Одесским
политехническим
институтом
(ОПИ).
Там
была
вакантна
должность доцента, я же меньше, чем на заведование кафедрой, не
соглашался.
Замечу, что тогда «удельный вес» доцента был выше, чем теперь —
профессора.
Добавьте
мою
самоуверенность,
подкрепленную
публикаций и опытом заведования кафедрой…
Но до очередных каникул мы так ни о чем и не договорились.
рядом
Летом шестьдесят первого я вдвоем с приятелем снова направился к
морю. И, конечно, заехал в полюбившуюся мне Одессу (тогда помыслить не
мог, что этот город станет для меня судьбоносным).
Позвонил в институт и сразу же застал проректора по учебной работе.
Тот попросил перезвонить через несколько минут. Я так и сделал. Мне
передали, что ректор ОПИ Стефан Михайлович Ямпольский хочет со мной
встретиться и назначает свидание у памятника Дюку Ришелье (в те годы еще
можно было подъехать вплотную к памятнику).
Мы с приятелем были одного роста и телосложения, оба одеты в
китайские костюмы из «чертовой кожи» (о джинсах тогда не слыхивали).
Оба в пыли с головы до ног.
В назначенное время подъезжаем к Дюку.
Вскоре к нам «припарковывается» другая «Волга». Из нее выходит
крепкий, коренастый мужчина лет пятидесяти с бритой наголо головой,
молча обходит нас по кругу, сделав безошибочный выбор, хлопает меня по
плечу и говорит:
— Ты мне подходишь. Я тебя беру. Будешь заведовать кафедрой
промышленной электроники.
Вы можете спросить, какое отношение имеет этот рассказ к названию
главы.
Поясняю: «птенцы из моего гнезда» — аспиранты, которых я
вынянчил, выпестовал, подобно заботливой наседке. А впервые я «свил» это
«гнездо» в Одесском политехническом институте на кафедре промышленной
электроники, которая теперь называется кафедрой компьютерных систем.
Уже через два года у меня были аспиранты, а со временем даже
образовалась небольшая очередь.
Вот пример. Юрий Сергеевич Иванченко. Был моим студентом. По
окончании института решил поступить в аспирантуру, но мест не было, и он
по распределению уехал в другой город. Проявив настойчивость, через год
приехал поступать снова. Поступил, через три года защитил диссертацию и
стал кандидатом технических наук.
А сейчас он уже давно доктор наук, профессор. При этом не изменил
первоначально
выбранному
научному
направлению
–
кварцевой
стабилизации частоты колебаний.
Аспиранты бывают разные. Одни грезят наукой, все прочее отодвигают
на второй план. Другим аспирантура служит «крышей», спасающей от армии
или
высвобождающей
время
для
каких-то
других
дел,
скажем,
предпринимательства или продвижения по службе.
И научные руководители тоже исповедуют разные методики.
Я считал делом чести, чтобы мой аспирант сделал и защитил
диссертацию в срок. До перехода в Новороссийское высшее инженерное
училище так и было. «До» я выпустил 30 кандидатов наук, «после» — 3.
А
некоторые
руководители
относятся
к
своим
обязанностям
безразлично. Проходит три года (в очной аспирантуре) или четыре (в
заочной), диссертация на нуле. Аспиранта отчисляют. Ну и что же? Ведь все
эти годы по 50 часов якобы выполненной аспирантской нагрузки заносятся
на «счет» руководителя, а за отсутствие результата он ответственности не
несет.
Бывало, и мне приходилось отказываться от руководства, в результате
чего аспиранта отчисляли. Но я поступал так по истечении первого года,
когда видел, что аспирант занимается чем угодно, только не диссертацией.
Не все аспиранты одинаково даровиты. Но нередко феноменальная
настойчивость, непреодолимое стремление к цели восполняют недостаток
способностей. Вот пример. Аспирант Евгений Яковлевич Самков принес в
лабораторию раскладушку и будильник. Ему надо было в течение десяти
дней каждые три часа снимать показания приборов. И он это сделал!
Но разве нельзя было автоматизировать процедуру измерений?
Конечно, можно! Только в шестидесятых годах прошлого века у нас такого
оборудования не было, а создать его, при доступном ассортименте
комплектующих, значило сделать еще одну, другую, диссертацию.
Самков четко выполнял все мои указания, я словно вел его за руку
сквозь Сциллы и Харибды диссертационного процесса. И он блестяще
защитил свою работу.
С тяжелым сердцем вспоминаю его — он покинул «этот безумный,
безумный мир» раньше своего учителя.
Но были аспиранты, которые «зачинали» диссертацию еще на
студенческой скамье. Об одном таком случае я сейчас расскажу.
Дело происходило так. В семидесятых годах, когда я заведовал
кафедрой радиотехнических устройств в милом моему сердцу Омском
политехническом
представился
институте,
студентом
ко
мне
Томского
подошел
института
худощавый
юноша,
радиоэлектроники
и
электронной техники, направленным для преддипломной практики на один
из Омских заводов, и сказал, что хотел бы поступить ко мне в аспирантуру.
В те давние, столь благополучные для вузовской науки, времена у
меня было одновременно до шести аспирантов и еще, как в хорошей
футбольной команде, "скамейка запасных". Иначе говоря, в отличие от
наших дней, я не был заинтересован в новых претендентах на высокое звание
аспиранта. Но, тем не менее, задал "дежурный" вопрос:
— А тема у Вас есть?
Скажу по секрету, что почти всем своим аспирантам тему диссертации
предложил я. Но, к моему удивлению, новичок ответил:
— Да.
— И какая же?
— Искусственное зрение.
Я бы, вероятно, оторопел, но у меня уже был прецедент, когда доцент
Сибирского
автодорожного
института
попросил
оппонировать
докторскую диссертацию "Динамика землеройных машин".
его
На мое
возражение, что, будучи радиоинженером, никогда не имел дела с
землеройными
машинами,
доцент
попросил
хотя
бы
перелистать
диссертацию.
Я с изумлением обнаружил параллель со своей специальностью:
аналогичные
интегро-дифференциальные
уравнения,
представление
землеройной машины как автоколебательной системы и тому подобное.
Пришлось убеждать собеседника: если в Высшей аттестационной комиссии
обнаружат (а это произойдет обязательно!), что оппонент «совсем из другой
оперы», диссертацию провалят с оглушительным треском...
Что же я должен был ответить юноше, который задался благородной
целью осчастливить незрячих? Сказать: «мол, я — не я, и тема не моя...».
Но что-то удержало меня от резонного, на первый взгляд, ответа. Я
предложил юноше написать реферат по теме, составить литературный
указатель, а уж потом продолжить разговор.
Прошло около года, я забыл о странном посетителе, но он напомнил о
себе.
И
когда
я,
волей-неволей,
познакомился
с
толстой
пачкой
машинописных листов, то понял: передо мной не беспочвенный мечтатель, а
человек с задатками ученого.
Я впервые узнал, что, например, женщине, потерявшей зрение в
результате глаукомы, вживили под кожу головы восемьдесят миниатюрных
катушек индуктивности, соединенных микроэлектродами со зрительным
полем коры головного мозга. И женщина, под воздействием наводимых
электрических потенциалов, "видела" световые точки, слагавшиеся в ту или
иную простую фигуру.
Я узнал также, что, по мнению специалистов, вживление шестисот
микроэлектродов позволит слепому различать образы и даже читать книги
для зрячих...
И вот Александр Ильич Одинец стал моим аспирантам. Конечно же,
памятуя
"землеройные
Диссертация
была
машины",
названа:
я
сознательно
"Исследование
"приземлил"
зрительных
тему.
рецепторов
промышленных роботов".
Защита прошла успешно, однако тема, даже в "приземленном" виде,
вызвала в Высшей диссертационной комиссии неприятие. После двух с
половиной лет проволочки работу направили на повторную защиту в
специализированный совет по технической кибернетике. И там защита
прошла блестяще. Вскоре Одинец стал кандидатом наук.
Но вот другой случай. В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе
экспонировался протез руки с биоэлектрическим управлением, созданный в
Центральном
научно-исследовательском
институте
протезирования
и
протезостроения, Институте машиноведения и Институте прикладной
математики АН СССР (как тут не вспомнить подленькую фразу: "Россия —
родина слонов"!).
Изобретение наших соотечественников было подхвачено в ряде стран.
Раньше протезы были косметическими, восполняли пустоту рукава, теперь
же "научились" воспроизводить некоторые утраченные в результате
инвалидности функции "живой" руки.
А какое отношение имею к этому я — не изобретатель и не создатель
биоэлектрического протеза?
В шестидесятых-семидесятых годах в ряде городов нашей страны, в
том числе и в Омске, появились сборочные предприятия, куда из Москвы
посылали комплекты протезов. При каждом таком предприятии был
небольшой
стационар,
в
котором
инвалидов
обучали
"владению"
искусственной рукой — ее сгибанию в локтевом суставе, сгибанию пальцев
кисти по мысленной, причем не формулируемой специально команде (ведь
мы не приказываем руке: возьми карандаш или, к примеру, стул — она как
бы предвосхищает наше желание!).
Специалистов не хватало, и главный инженер Омского протезного
предприятия обратился ко мне с просьбой прислать ему в помощь толкового
студента. Я выбрал Александра Александровича Зубарева.
Он оказался настолько полезным сотрудником, что и дипломный
проект, и кандидатскую диссертацию посвятил биоэлектрическим протезам.
Среди придуманных им новшеств была «ротация кисти»— вращение ее
влево-вправо.
В те годы я был научным комментатором нескольких газет и вел на
Омском телевидении регулярные передачи из цикла "Этюды о чудесах
науки" (об этом будет подробнее рассказано в дальнейшем).
И вот представьте такую картину. На столе, в специальном креплении
(благо Зубарев не инвалид!), — «искусственная рука». От нее тянутся
провода
к
электродам,
Александровича.
наложенным
на
предплечье
Александра
Вот он сгибает руку, и протез повторяет ее движение. Сжаты в кулак
пальцы — то же делает протез. Вращение кисти, и рука "каменного гостя", на
которую так и просятся рыцарские перчатки, послушно исполняет «фуэте».
Жуткое это было зрелище, поверьте мне! Но какое облегчение для
инвалида: можно нести чемодан, держаться за поручень троллейбуса.
Аккумулятор, вмонтированный в протез, расходует энергию только в
«динамике»— во время движения, а в «статике» не разряжается. И хватает
его до подзарядки на весь день.
Здорово? Ой ли...... Все это было еще до Афганистана. А потом, когда
нужда в биопротезах резко возросла, вдруг исчезли предприятия и
стационары...
Рухнул Советский Союз. Наступил «миллениум». Какое же бешенство
я испытал, когда в одной их телевизионных передач слащавый голос с
интонациями нищего, благодарящего за подачку, возвестил, что добрые
американские дяди передали в подарок нескольким нашим инвалидамафганцам изобретенные (конечно же, в США!) биоэлектрические протезы.
Когда же мы научимся ценить интеллект своего народа, наш
собственный гений?
Конечно же, и Одинцу, и Зубареву я многое подсказал. Но это была
скорее методическая помощь. Попутно подчеркну, что не был соавтором их
статей. Ставлю свою подпись только тогда, когда в статье использованы
подсказанные мною идеи. А присваивать себе (пусть путем соавторства)
идеи аспирантов считаю бесчестным.
«Птенцы из моего гнезда» разлетелись по городам и странам. Я долго
хранил экземпляры их диссертаций с трогательными надписями, потом
половину растерял. Поминают ли меня мои «птенцы» добрым словом? — не
знаю. Но в этом ли главное? Важно, что я помог им стать учеными.
Глава пятнадцатая. Я — преподаватель
Сознавайтесь, кто вы такой?—
глухо спросил Иван.
Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита
На вопрос Ивана у меня нет однозначного ответа. Ранее я перечислил
свои «профессии», но одну не назвал. И сделал это не случайно.
Я не уверен, что имею право назвать себя педагогом, потому что у меня, как и у большинства моих коллег, нет педагогического образования. Нет
не только степени доктора или кандидата педагогических наук, но даже
диплома об окончании пединститута.
А ведь педагог и преподаватель — не одно и то же. Я не изучал основ
педагогики. В чтении лекций частично перенял опыт своих преподавателей,
но в основном занимался и продолжаю заниматься самодеятельностью, то
есть излагаю материал, руководствуясь своим суждением о том, как это надо
делать.
Аналогично поступают и мои коллеги. Иначе говоря, каждый
преподает так, как считает нужным, а нередко как может.
Например, я считаю для себя позорным читать лекции по бумажке.
Другие это делают, как говорится, без зазрения совести. Но подумайте: на
экзамене студент, не заглядывая в конспект, должен ответить на любой
вопрос по всему курсу. Почему же преподаватель позволяет себе однуединственную лекцию — малую долю конспекта — читать по бумажке?
Впрочем, в первые дни своей преподавательской карьеры я готовился к
лекции, как к подвигу. Составлял подробнейший конспект, перепечатывал
его на машинке, тщательно разучивал.
В аудитории клал стопку машинописных листов на кафедру и, читая
лекцию наизусть, через каждые несколько минут переворачивал очередную
страницу, чтобы в случае заминки не разыскивать забытую формулу, а
наткнуться на нее с первого взгляда.
Я был уверен, что листаю страницы незаметно. Но студенты замечают
абсолютно все!
И они решили подшутить над молодым "профессором".
Когда я через несколько дней вошел в аудиторию, то... не обнаружил
кафедры. Она исчезла. Разложить листки было негде и я, скрепя сердце,
засунул их в карман.
Через некоторое время с изумлением обнаружил, что работать стало
легче — не приходилось раздваиваться, отвлекаться, то и дело думая: «не
пора ли перевернуть страницу?» Словом, спасибо, милые мои студенты!
Возможно, именно благодаря вашей небезобидной шутке я состоялся как
преподаватель...
А сейчас расскажу о своей методике работы со студентами. Занятия
провожу в интерактивном режиме. Иными словами, периодически задаю
студентам вопросы по теме лекции. Во время экзамена никогда не пользуюсь
билетами. В аудиторию входит вся группа, четверо подсаживаются ко мне, и
я
поочередно
задаю
вопросы.
Принцип:
разговор
специалиста
со
специалистами.
Никогда не стараюсь «завалить» экзаменующегося, избегаю каверзных
вопросов. Но вопросы «на сообразительность» задаю часто.
Лет двадцать проводил послеэкзаменационное тестирование,
не
студентов— себя. Анкеты анонимные, в них по 15 — 20 вопросов:
доходчивость лекций; удобство конспектирования; качество иллюстраций;
темп изложения материала; поведение лектора; дисциплина на лекции….
И по каждой рубрике оценка — от 2 до 5.
Считаю,
что
такое
анкетирование
помогает
преподавателю
контролировать себя, устранять недочеты, совершенствовать методику
чтения лекций.
За все годы анкетирования средняя оценка по всем рубрикам ни разу не
была ниже 4,8.
Еще
один
«плюс»
анкетирования
—
студенты
сознают,
что
преподаватель прислушивается к их мнению.
Кстати, за все годы преподавания я ни разу не обратился к студенту на
«ты» и всячески подчеркивал, что в каждом вижу личность.
Как казус отмечу следующее. В анкете, помимо рубрик с оценками,
были два вопроса, на которые студент отвечал или не отвечал по желанию.
Первый вопрос: «что вам нравится в лекторе», второй: «что не
нравится в лекторе». Так вот, половина опрашиваемых на первый вопрос
давала ответ: «уверенность в себе». А другая половина на второй вопрос
отвечала: «самоуверенность».
Лекцию перемежал короткими рассказами о поучительных примерах из
истории науки, собственного опыта, о великих ученых, с которыми довелось
сотрудничать. Делал это, когда замечал в аудитории признаки утомления.
Наверное, я мог бы написать книгу о своих студентах. Но в ней бы не
всегда преобладали светлые мотивы.
Вчера ко мне приехал коллега из Омска. Начали вспоминать
сотрудников и студентов. Один из них (помню только фамилию — Поляков)
окончил институт с красным дипломом. Защита происходила в одном из
НИИ, поскольку тема была «закрытой».
Поляков
с
гордостью
положил
на
стол
Государственной
экзаменационной комиссии сделанную его руками микросхему. Рассмотрев
ее, я шепнул сидящему рядом главному инженеру НИИ, что она работать не
будет. А потом объяснил дипломнику, почему.
Вдруг глаза у этого рослого, красивого парня закатились, стали
фарфорово-белыми, и он рухнул на пол. Комиссия в полном составе
ринулась к нему. Похлопали по щекам, дали воды.
В конце концов, он получил отличную оценку.
В
те
годы
выпускники
Омского
политехнического
института
устраивали нечто вроде «выпускного бала». Приглашали преподавателей. На
этом «балу» я сказал Полякову:
— Боксера из вас не вышло бы. С вами случался бы нокаут от одного
вида противника.
Поляков улыбнулся:
— Самое смешное, что у меня первый спортивный разряд по боксу.
Прошли годы, и я с радостью узнал, что Поляков уже директор НИИ.
И вот последняя новость, которую сообщил мне недавний
гость: Поляков умер.
омский
Коли я коснулся столь горькой ноты, продолжу.
Дело было еще в Новосибирске. Однажды студентка, придя на экзамен,
не смогла ответить ни на один вопрос.
— Перетрудились? — насмешливо спросил я.
— Неделю назад родила сына...
Я мысленно выругал себя за невнимательность, хотя на потоке было около
ста пятидесяти человек и среди них почти половина — девушки.
— Ну и как назвали?
— Васей.
— Так и быть, ставлю Васе "пятерку".
Конечно же, это было вопиющим нарушением правил. Компьютер,
очевидно, поставил бы «два балла». Иной коллега, скорее всего, расщедрился
бы на «тройку» — в отличие от компьютера он понял бы, каково родить
ребенка «без отрыва от учебы». Но ведь и «тройка» тоже не соответствовала
бы знаниям.
Я же своей «пятеркой» оценил не знания — подвиг. И не ошибся. В
следующем семестре студентка получила у меня отличную оценку и
впоследствии стала добротным инженером. А Вася... Спустя двадцать лет
мои знакомые — муж и жена — как-то спросили:
— Помните Васю?
— Какого?
— Да вы еще поставили его маме пять, когда она после родов...
— А, вот вы о ком! — вспомнил я наконец.
— В их семье это стало настоящей легендой!
— И я оказался в роли Зевса-громовержца: хочу — казню, хочу —
милую?
— Вовсе нет. Кстати, Вася — жених нашей Маринки.
Марина — немного замкнутая, в меру избалованная, но энергичная, а
со сверстниками властная и даже насмешливая семнадцатилетняя девушка,
казалось, была полной противоположностью Васи.
Он был старше Марины года на три-четыре, долго добивался сначала
знакомства, затем дружбы и, наконец, любви. Марина его игнорировала, но,
вопреки кажущейся инфантильности, Вася преследовал ее неотступно, хотя и
ненавязчиво, стал привычной тенью. Видимо, эта пассивная, но неуклонно
проводимая тактика, в конце концов, достигла цели: Марина оттаяла...
И вот уже наметили свадьбу. Жених и невеста были неразлучны
(выражение избитое, но как нельзя более точное). Думалось, союз
предрешен. Однако в считанные дни все рухнуло: Марина заболела раком
крови.
В то время о пересадке костного мозга, тем более, в нашей стране, и не
помышляли. Несколько месяцев врачи боролись — не за жизнь, за ее
продление. Мужество девушки потрясало. И все это время около нее был
Вася.
Заброшен институт, в мире не существует ничего, кроме Марины. И
вот, вроде бы, наступает чудо: девушка чувствует себя здоровой, она дома,
рядом с утра и до поздней ночи — Вася. Он мечтает стать ее мужем:
«Что б ни грозило впереди, Все беды перевешивают счастье свидания
с Джульеттой хоть на миг. С молитвою соедини нам руки, А там хоть
смерть. Я буду ликовать, что хоть минуту звал ее своею».
Но врачи понимали: это не выздоровление, а ремиссия — всего лишь
отсрочка... И конечно, о свадьбе не могло быть речи.
У Ванды Василевской есть рассказ "Барвинок" о девушке, скрасившей
последние часы любимого. Здесь был "Барвинок" наоборот. Вася изучил
болезнь Марины лучше, чем свою будущую специальность. Рассудком он
понимал: конец неизбежен и близок, а сердцем был убежден, что Марина
выздоровеет.
И, казавшийся таким инфантильным, неприспособленным к жизни,
сумел внушить эту уверенность любимой.
Полгода были сравнительно светлыми, затем произошел взрыв. Но до
последнего мгновения Вася находился поблизости...
Прошло несколько лет. Мой «крестник» окончил институт, работает. А
по воскресеньям навещает Марину. Однолюбов мало, но они нужны людям.
Как пример. Как противоядие...
Марины нет более тридцати лет. А я все задумываюсь о судьбе — нет,
не ее, а Васи!
Вероятно, женился, обзавелся детьми. Но, как Дамоклов меч, над ним
довлеет память о Марине. С ней, как с эталоном, он сравнивает жену. И
сравнение (уверен!) в пользу виртуальной Марины — Вася навсегда
останется однолюбом. Так счастлив он или нет?!
Несчастен, потому что образ Марины не потускнеет до конца его дней,
будет становиться все ярче, хотя кто знает, как бы сложилась их супружеская
жизнь, не случись трагедии...
Нет, неправда! — счастлив тем редчайшим по силе счастьем, которое
недоступно подавляющему большинству людей. Ведь в его жизни, может
быть, впервые после Ромео, была такая любовь!
Иногда рассказываю эту историю студентам. И вы бы видели их лица,
когда я заканчиваю рассказ. Может быть, они впервые задумываются о
быстротечности жизни, о том, что молодость — не броня от потрясений.
В моей памяти немало таких историй. И не обязательно с грустным
концом.
Вот одна, которая вызывает чувство гордости. Был у нас студент с
необычной фамилией Боран-Кешишьян. А спустя годы еще один с той же
запоминающейся фамилией. Однофамилец? Нет, сын. Окончил академию с
красным
дипломом
по
двум
специальностям:
«судовождение»
и
«экономика», одновременно плавал и занимался в заочной аспирантуре.
Сейчас — кандидат наук, доцент, заведует кафедрой «судовождение» нашего
же вуза и… «без отрыва от производства» продолжает плавать, пока старшим
помощником капитана, а в следующий рейс пойдет уже капитаном.
Не все наши выпускники одинаково успешны: есть среди них и
продавцы супермаркетов и даже… вышибалы ресторанов. Уверен, что за их
судьбы в ответе мы… чуть было не сказал «педагоги».
А может, я ошибался, считая, что не вправе назвать себя педагогом?
Ведь на древнегреческом языке слово «педагог» означает «сопровождающий
ребенка». А разве я не пытаюсь «сопровождать» моих детей — студентов не
только по разделам своего лекционного курса, но и по жизненным
лабиринтам? Разве не стремлюсь развивать их мировосприятие?
Я внушаю студентам, что знания преходящи, забываются, устаревают.
Но существуют справочники, энциклопедии, поисковые системы интернета,
чтобы восстановить, восполнить, обновить их. Пытаюсь вживить в плоть и
кровь своих учеников то, что Михаил Задорнов называет «соображалкой». И
на экзамене ценю не выученную наизусть трехэтажную формулу, а умение
найти правильное решение в извилинах собственного мозга.
Вместе с тем сознаю, что я сегодня не востребован, что работаю
«вхолостую» с коэффициентом полезного действия, как у паровоза, — чтонибудь 5%. Но от меня ли это зависит?
Выскажу крамольные мысли. Мне решительно не нравятся внедряемые
ныне методы образования
— ЕГЭ, тестирование, в том числе и
компьютерное. Ведь компьютер всего лишь инструмент. Это те же счеты, тот
же арифмометр, та же логарифмическая линейка, только на современном
уровне.
Так называемые «тесты» пробовали проводить и полвека назад— на
бумаге.
Отказались,
потому
что
они
отучали
студентов
мыслить
самостоятельно. Почему надо выбирать навязанные кем-то ответы, если
можно (и нужно!) дать свой собственный, развернутый, полноценный,
исчерпывающий?
Теперь вдруг возвращаемся ктем же «тестам» но «при участии»
компьютера. А смысл прежний — сколько-то вопросов, на каждый три,
четыре, пять ответов. Один или несколько — правильные, остальные —
ошибочные. Ни шага влево, ни шага вправо!
При Советской власти у нас крошечным тиражом издавали журнал
«Америка», а в США соответственно — «СССР».
Как-то мне попался в руки экземпляр «Америки», в котором подробно
описывался вузовский тест, который там заменял экзамен. Тест по предмету,
абсолютно мне чуждому.
Смеха ради я прошел тестирование и, представьте, весьма успешно.
В прошлом учебном году, уже, к сожалению, не смеха ради, а следуя
рекомендациям свыше, провел компьютерное тестирование вместо экзамена.
Долго, мучительно придумывал вопросы, на которые, как мне казалось,
просто невозможно не ответить.
И вот в компьютерном классе двадцать четыре студента за двадцатью
четырьмя компьютерами. Продолжительность теста — 30 минут, после чего
компьютер завершает тестирование и выводит оценку.
Критерии оценок: 50% правильных ответов — удовлетворительно; 70%
— хорошо; 100% — отлично. Ну и, само собой разумеется, менее 50% —
неудовлетворительно.
Результат
меня
ошеломил.
Только
5
человек
преодолели
сорокапроцентный (!) рубеж.
Уверен,
что
если
бы
вместо
простейших
вопросов
на
сообразительность были формулы, даже сложные, результат оказался бы
выше. Только выучили бы эти формулы зубрежкой, без проникновения в их
подспудный смысл. А через день после «теста» напрочь забыли бы.
С сердечной болью наблюдаю чудовищную (не побоюсь этого слова!)
закономерность: после распада Советского Союза и с началом «перестройки»
образования исходный уровень подготовки абитуриентов, тяга к знаниям,
интерес к выбранной специальности не понижаются год от года, а рушатся.
Еще живы в памяти времена, когда, входя в студенческую аудиторию, я
испытывал прилив сил, относился к лекции, как к акту творчества. Увы, все
это осталось в прошлом. Где вы, горящие глаза, умные вопросы, стремление
вникнуть в каждое слово, в каждую мысль преподавателя? Все чаще вместо
вдохновения испытываю досаду и чувство вины, потому что это мы,
умудренные опытом лучшего в мире советского образования, не сумели
противостоять «дебилизации» студентов…
Я пытаюсь по мере сил «второй раз войти в реку» — даю не
ученические, а инновационные темы дипломных работ (за три такие работы
студенты получили авторские свидетельства на изобретения), привлекаю
своих учеников к участию в студенческих научных конференциях, где они
неизменно занимают призовые места. Но это — капля в море!
Почему
копируются
чужие,
дискредитировавшие
себя,
методы
преподавания? Почему под предлогом компьютеризации образования
перечеркивается то, что столь эффективно проявило себя у нас? Может, это
коммунистическая пропаганда сотворила миф о первенстве советской
школы?
А может, дело в том, что государство больше не заинтересовано в
специалистах высочайшего класса, которых так любовно привечают на
западе?
Глава шестнадцатая. Кто я — писатель или графоман?
Комментаторы повсюду так и кишат,
а настоящих писателей — нехватка.
Мишель Монтень. Об искусстве жить достойно
Уж не всевышняя ли сила перенесла Монтеня в двадцать первый век?
И не мне ли адресован его упрек? Ведь я не единожды бывал комментатором
— газетным, радио и даже телевизионным. Об этом собираюсь рассказать в
последующих главах.
А сейчас попробую найти ответ на вопрос, сформулированный в
заголовке.
Не скрою, мне с молодых лет хотелось писать. А ведь тяга к
писательству (или «бумагомаранию») — верный признак графомана.
Яркий, своеобычно талантливый фантаст Илья Иосифович Варшавский
писал о себе:
«Существует мнение, будто человеку, вступившему в седьмой десяток
жизни, приятно вспомнить прошлое, или, выражаясь высоким стилем
романиста, окинуть мысленным взглядом пройденный путь. В иных случаях,
может быть, это верно, но я, предаваясь воспоминаниям, не испытываю
ничего, кроме недоумения, потому что всегда добровольно выбирал себе
занятие, противоречащее моим вкусам и наклонностям.
Так, например,
будучи с детства убежденным домоседом, избрал профессию моряка
торгового флота; питая отвращение ко всякой гремящей технике, большую
часть жизни строил, испытывал и конструировал дизель-моторы...
Фантастику я никогда не любил и еще 12 лет назад и в мыслях не имел
стать когда-нибудь писателем-фантастом».
Он стал фантастом c большой буквы, но, к сожалению, так поздно...
Впрочем, не будь моряка торгового флота и конструктора «гремящей
техники», видимо, не порадовал бы нас своим рождением и писательфантаст...
Значит ли это, что Варшавский вслепую искал призвание и
(повезло!) нашел-таки его? Нет, само призвание нашло Илью Варшавского, а
он, со свойственной ему ироничностью подчинился необходимости.
Возможно, ему казалось, что он лишь притворяется писателемфантастом — не оттого ли столь озорны его рассказы?
В «феномене
Варшавского» главенствовал талант. Он заявил о себе вопреки склонности,
наперекор логике. А бывает и совсем наоборот.
Скажем, человека неудержимо тянет писать. И наслаждение от
литературного творчества он получает огромное. Словом, призвание к
писательскому труду у него вроде бы есть. А вот таланта нет в помине. Без
него же писатель и не писатель вовсе, а графоман.
Никто его не печатает и не читает: в литературе и искусстве без таланта
или, по крайней мере, «прожиточного минимума» способностей делать
нечего... Но ведь человек не знает, есть он у него или нет. Ему нравится
писать, собственные произведения кажутся шедеврами, а другие этого
почему-то не понимают...
У меня, вероятно, хватило ума сообразить, что хотеть и быть — разные
понятия. И я не собирался писать, а тем более печататься. Но судьба
распорядилась иначе.
Я упоминал, что уже в 25 лет опубликовал в Государственном
энергетическом издательстве монографию «Пьезокварц в технике связи». Но
от этого отнюдь не стал писателем.
Об успехах в литературе художественной до далекой поры не было и
речи: для этого не хватало ни таланта, ни жизненного опыта.
Я любил поэтическую музу, она меня — нисколько. И рассчитывать на
взаимность не приходилось. Жизненный опыт — дело наживное, а вот
талант... Перефразируя пословицу, можно сказать: в двадцать лет его нет — и
не будет!
Увы, поэта из меня не получилось, хотя нанизывал стихотворные
строки я весьма бойко. Но поэзия, оказывается, совсем не гладкопись. И
лишь один из миллиарда способен на волшебство поэзии.
От графомании меня спасла научно-популярная литература, эта золушка, на которую смотрят свысока как «истинные» писатели, так и «истинные»
ученые.
Научно-популярный жанр не так прост, как кое-кому кажется. Уже
будучи автором трех научно-технических книг, я написал брошюру
«Пьезоэлектричество».
Рецензировала ее Клавдия Васильевна Шалимова, впоследствии
доктор физико-математических наук, женщина необычайно эрудированная и
едкая,
словно
концентрированная
серная
кислота.
Ее
отзыв
был
уничтожающим.
Заведующий редакцией научно-популярной литературы добрейший
Владимир Андреевич Мезенцев, обращаясь к тому, что от меня осталось,
участливо сказал:
— Воля ваша, но, по-моему, переделывать не стоит, зря потратите
время.
Но я человек упрямый или, как теперь стали говорить, «упертый».
Назло всему переделал книжку «с головы до ног».
На переработанную рукопись та же Клавдия Васильевна дала
диаметрально противоположную по смыслу рецензию. Брошюру издали, а
меня пригласили на работу в издательство, очевидно полагая, что человек,
способный отредактировать свою собственную безнадежную книжку, сумеет
сделать то же самое с чужими.
В главе «Редактор» расскажу об этой своей ипостаси. Можно было бы
объединить две главы, но воздержусь от соблазна, чтобы не разрывать нить
повествования.
То, что случилась дальше, иначе, чем предначертанием судьбы, не
объяснишь. Я успел получить первую и вторую премии Всесоюзных
конкурсов на лучшие произведения научно-популярной литературы, мои
книги переиздавались в других странах, но по мере накопления жизненного
опыта рамки «научпопа» становились для меня все более тесны.
Однако я обжегся на художественной литературе и гнал от себя
соблазн снова заняться ею. Слово «снова» здесь не случайно.
Я уже перебрался в Новосибирск, успел «остепениться», заведовал
кафедрой и лабораторией в НИИ, на полке лежала стопка изданных научнотехнических и популярных книжек, когда мне взбрело в голову предложить
писательские услуги Западно-сибирскому книжному издательству (кстати,
впоследствии оно выпустило мою научно-художественную книгу «Человек –
Машина»).
Замахнулся
я,
разумеется,
на
фантастику,
которая,
как жанр
художественной литературы, была мне наиболее близка.
Издательство, ослепленное моим вузовским положением и упомянутой
стопкой книг, охотно заключило со мной договор на роман «Крушение
Брекленда»(слово «брек» я позаимствовал из терминологии бокса).
Роман был задуман как некий гротеск, и описывал будущее города,
вобравшего в себя все пороки "общества потребления" и доведшего их до
абсурда.
Роман был ужасен. Счастлив, что его не опубликовали, хотя одобрили,
выплатили мне 60% гонорара и уже собирались печатать. Но тут кто-то из
редакторов (спасибо ему великое!) вдруг схватился за голову: «что же это мы
делаем?!».
Название
романа
оказалось пророческим: «Брекленд» потерпел
крушение к тогдашнему огорчению и нынешней радости автора. Но первая
глава романа, в отличие от последующих, была превосходной! В ней
описывалось, до какого маразма дошла реклама в далеком (так мне тогда
казалось!) и, конечно, капиталистическом, будущем.
Показал эту главу редактору, и она от души смеялась над едкой
пародией (тогда я думал, что написал пародию!) на «общество потребления».
«Рукописи не горят», уверял нас один великий писатель, а другой, еще
более великий, собственноручно сжег свою бесценную рукопись. Если бы я
сохранил «Крушение Брекленда», то наверняка поместил бы в эту книгу
первую главу несостоявшегося романа. Потому что она была пророческой.
«Пародия» из далекого Брекленда загадочным образом переместилась к
нам, в XXI век и перестала быть пародией, став уродливой действительностью!
В то время я, естественно, не догадывался о своем «пророческом даре»,
был крайне расстроен и зарекся когда-либо «втереться» в славную когорту
фантастов.
Но спустя четверть века черт попутал, и я решил предпослать главам
очередной научно-популярной книги «фантастические этюды».Редактору
мои новации показались нарушением канонов. И тогда, наобум, я решился
послать свои новеллки в журнал «Вокруг света». К моему изумлению, их
начали печатать одну за другой.
Я даже ухитрился получить премию журнала за фантастический
рассказ «Экипаж». Появился стимул (и огромное желание!) писать
фантастику. «Не мытьем, так катаньем» я стал-таки писателем!
Когда
у меня
накопилось несколько десятков фантастических
рассказов, я решил послать их в Краснодарское книжное издательство. Что
вышло из этой затеи вы узнаете, прочитав отрывок из статьи редактора
отдела фантастики Ю. Макаренко в газете «Человек труда», 13 сентября 1990
г.
«Представьте: в безнадежно «дикой» почте, сотнями килограммов
приходящей в издательство, оказывается вдруг неказистая синяя папка (с
теми самыми кальсонными завязками, о которых свидетельствовал еще
Ильфо-петров).
На аккуратно наклеенном прямоугольнике белой бумаги — одно слово:
ФАНТАСТИКА. А дальше и впрямь чудеса и фантастика начинаются!
Папка, вопреки стойкому редакторскому предубеждению, содержит
именно фантастику, а не бред, зачастую приравниваемый к ней,
к
сожалению, издателями.
Состояние редактора (мое) с замечательной образностью передает
бессмертный штамп: «с первых же строк рукопись буквально...»и т. д. Я
забрал папку домой, читал до утра, а через
оперативности срок!) явилась на
свет
год (беспрецедентный по
книга: «Александр Плонский.
Плюсминус бесконечность. Фантастика».
Это был
первый
опыт
маститого
ученого
в
литературно-художественном плане. Как он, этот опыт, оценен был
поклонниками и знатоками жанра? Ни одной книги (из мизерного, правда,
если соизмерять его с читательскими запросами, 15-тысячного
тиража...) на прилавках магазинов уже на другой день я и не увидел».
Предисловие к «Плюс-минус бесконечности» написал Александр
Петрович Казанцев, один из классиков отечественной фантастики. Я
сохранил о нем самые светлые воспоминания. И с чувством гадливости читал
статью в «Энциклопедии фантастики», где Казанцев был назван «Лысенко в
литературе». Я же считаю его великим тружеником. Даже на пляж он
приходил с пишущей машинкой!
Александр Петрович оставил колоссальное наследие. Его романы
неравноценны. Но такие «жемчужины» как «Пылающий остров» и «Фаэты»
переживут века.
В моем книжном шкафу хранятся несколько собраний сочинений
Александра Петровича с трогательными дарственными надписями.
Он явно переоценивал меня, как писателя-фантаста, подталкивал к
«большой форме» — романам. А это мое слабое место. Мне больше
удавались короткие рассказы. Их я написал более семидесяти, большинство
опубликованы в журналах «Вокруг Света», «Искателе», «Студенческом
меридиане», «Технике молодежи» и др. Благодаря интернету эти рассказы
может прочитать любой любитель фантастики.
В «Молодой гвардии» вышла моя странная книга «Будни и мечты
профессора Плотникова» (1988). «Странная» потому, что относится к
несуществующему жанру «биографической фантастики», и фантастическим
этюдам в ней предшествуют вполне реалистические «прототипы».
За год до крушения Советского союза я под давлением А.П. Казанцева
написал роман «По ту сторону Вселенной». Он, как и само Краснодарское
книжное издательство, «висел на волоске». Я едва успел «впрыгнуть» на
подножку уходящего поезда — роман успели издать, но не в твердом
переплете, а в мягкой обложке, и не планируемым тиражом 30 тысяч
экземпляров, а всего 15. Книжным магазинам Новороссийска не досталось ни
одного экземпляра.
Я
замыслил
трилогию.
Вторую
книгу
романа
«Алгоритм
невозможного» уже готовили к изданию в «Молодой гвардии», когда это
государственное издательство разделило судьбу Советского Союза.
Но я, как и большинство соотечественников, был преисполнен верой и
надеждой, что вот теперь-то… Послал единственный, собственноручно
изданный (причем безукоризненно!) экземпляр «Алгоритма» в частное
издательство. Оттуда незамедлительно ответили, что книга понравилась, и ее
готовы издать. «Ищите спонсора!». Не вступая в дальнейшую переписку,
попросил вернуть книгу.
Мне ответили, что рукописи не возвращают. Я резонно возразил, что
послал не рукопись, а набранную типографским шрифтом на мелованной
бумаге и переплетенную книгу.
В ответном письме мне сообщили, что бюджет издательства не
предусматривает расходы на пересылку книг.
Тогда я предложил возместить расходы и перевел на счет издательства
деньги. Мне обещали вскоре выслать бандероль с книгой.
Было это почти два десятилетия назад. Книга все еще в пути.
Приятно сознавать, что роман не слишком плох, если с ним не хотят
расставаться. Так ли это, могут судить все, кто прочитает книгу в интернете.
Ну а насчет веры и надежды… Как молод я был на седьмом десятке лет
и как наивен! Зато теперь убедился, что не принадлежу к славному племени
графоманов, поскольку не пишу фантастику «в стол». А мемуары— удел не
только писателей!
Глава семнадцатая. Редактор
Лучше скажи мало, но хорошо!
Сочинения Козьмы Пруткова
Автор и редактор — антиподы. Писатель часто злоупотребляет
междометиями, редактор безжалостно их вычеркивает. Пожалуй, не
ошибусь, сказав, что редактор очень редко может быть выдающимся
писателем. Он безупречно грамотен, но, возможно, именно поэтому
подвержен
энтропии
—
сглаживанию,
классический литературный стиль.
усреднению,
подгонке
под
Писатель, напротив, может быть вопиюще безграмотен, писать «корову
через ять», но в сочиненной им кажущейся мешанине слов и фраз есть свой,
присущий только ему, алгоритм. В ней, словно в руде, встречаются
самородки, и чем их больше, чем они крупнее, — тем писатель более велик.
Читая его произведение, можно безошибочно сказать, кто автор.
Хороший редактор (побольше бы таких!) отсеивает «пустую породу»,
бережно сохраняя «самородки». Плохой редактор «перекраивает» рукопись
под «стандарт», набрасывает на произведение «маскхалат», делает его
неузнаваемым.
Но каким бы ни был редактор — из рук вон скверным или виртуозом
своего дела, он ремесленник. А писатель (и даже, представьте, графоман) —
творец, наделенный «божественным» даром, или абсолютно бездарный.
Этой
книги
рука
редактора
не
касалась.
Технология
такова:
написанную главу я перечитываю несколько раз, безжалостно искореняя
повторные «я», «мне», «этот» и тому подобное.
Затем написанное читает жена и тоже находит огрехи. Ее замечания,
как правило, бесспорны. Если же я с ними не согласен, оставляю прежний
вариант.
Еще раз внимательно читаю, сохраняю в резервном диске и отправляю
в интернет. И так главу за главой.
Так же я сочинял «Прощание с веком» и «Осколок Фаэтона», но там
позволял себе импровизировать. Часто не знал, о чем будет следующая глава,
философствовал, жонглировал сюжетными линиями.
Здесь все иначе. Книга уже полностью сложилась в моей голове, и я
печатаю текст как бы «под диктовку».
Различие не случайно. «Прощание» и «Осколок» были сугубо
публицистическими произведениями. «Только миг» — мемуары. В них
должна быть строгая система. И самое трудное — совместить (или даже
«примирить») хронологическую последовательность oт рождения и до наших
дней с последовательностью «профессий» и увлечений.
Сказав, что этой книги рука редактора не касалась, я невольно
слукавил: в ее авторе уживаются и писатель и редактор. Ведь в пятидесятые
годы я одновременно заведовал лабораторией научно-исследовательского
института и был старшим редактором научно-популярной библиотеки
Государственного издательства технико-теоретической литературы.
Из редакции рукопись для редактирования привозил курьер. Работал я
над ней дома. Иногда буквально переписывал заново. Вряд ли имеет смысл
перечислять отредактированные книги — их несколько десятков. Но об
одной расскажу подробно.
Ее автором был Ари Абрамович Штернфельд, которого по праву
можно назвать великим.
В энциклопедии о нем сказано: «... Один из пионеров космонавтики,
доктор технических наук honoris causa АН СССР... Международные премии
Эно-Пельтри-Гирша по астронавтике (1933) и Галабера по космонавтике
(1962)».
Говорят, — жизнь полосатая. Судя по всему, Ари Абрамович,
французский еврей-коммунист, эмигрировавший перед войной в Советский
Союз и надолго отлученный от космоса, переживал темную полосу. Рукопись
его книги «Межпланетные полеты» второй год лежала в издательстве без
движения. Наконец, ее дали мне, как специалисту по «безнадежным»
рукописям.
Рукопись и впрямь была «безнадежна» с точки зрения элементарной
грамотности. По сути дела
книгу надо писать заново. Но зато научное
содержимое выше всяких похвал. Вот только как его просеять через сито
русского языка, причем не изобилующего научными терминами, а
доступного для восприятия «широким кругом читателей»?
Долго мне пришлось поколдовать над «Межпланетными полетами»,
чтобы книга смогла совершить «мягкую посадку» на нашу грешную землю…
И вот работа завершена. Впервые встречаюсь с автором. Внешне он
напоминал древнего (не по возрасту, а по эпохе) ассирийца с гривой
седеющих черных волос, пышной бородой, высоким лбом, выпуклыми
глазами-маслинами. Добавьте к этому наушник слухового аппарата, быструю
нечленораздельную речь, активную мимику, и вы получите мое первое
впечатление об Ари Абрамовиче.
Штернфельда сопровождала жена — тихая, не заметная на его фоне
женщина. В ее отношении к мужу было что-то материнское. Она посуществу
служила
переводчицей:
несмотря
на
слуховой
аппарат,
Штернфельд не понимал меня, а я, в свою очередь, не мог приспособиться к
его речи (Ари Абрамович говорил с сильным акцентом, усугублявшимся
привычкой перебивать самого себя).
И здесь я допустил непростительную для профессионального редактора
оплошность. Правка была настолько обильна, что не оставалось буквально
живого места. Если бы я предварительно отдал рукопись на машинку и
показал Штернфельду чистенький машинописный экземпляр, все бы
обошлось как нельзя лучше. Но перед Ари Абрамовичем было его детище,
подвергшееся чудовищной вивисекции, — так ему, по крайней мере,
показалось.
И Штернфельд, издерганный преследовавшими его в то время
неудачами, буквально взорвался... До сих пор эта сцена у меня перед
глазами... Затолкав смятые листы рукописи в портфель, он выбежал, крикнув
что-то вроде: «ноги моей здесь не будет!»
Назавтра я услышал в телефонной трубке голос его жены.
— Приносим извинения, — сказала она. — Ари Абрамович прочитал
рукопись и остался очень доволен ...
Мы еще не раз встречались, — автор книги оказался милым
приветливым человеком. А когда «Межпланетные полеты» увидели свет, я
получил экземпляр с трогательной дарственной надписью, начинавшейся
словами: «Долгожданному редактору этой книги...»
Вспоминаю еще один случай, на этот раз с чувством стыда.
Как-то вечером ко мне домой пришла сотрудница Государственного
издательства политической литературы Серафима Сергеевна Петрова с
просьбой
отредактировать
книгу
«Заглянем
в
будущее»
корреспондента АН СССР Владимира Ивановича Сифорова.
члена-
Это была не рукопись, а верстка книги с зачеркнутой резолюцией: «По
исправлении печатать».
Я прочитал книгу и понял, что редактировать ее бесполезно. Мне не
понравилась сама архитектоника книги. Ах, если бы я тогда знал, что в
будущем стану соавтором двух книг Владимира Ивановича, если бы
представлял, какой это замечательный, добрый, отзывчивый человек! Я бы
переписал «Заглянем в будущее», какого бы труда это не потребовало!
Но я уже был избалован редакторской востребованностью, и наотрез
отказался.
Назавтра С. Петрова пришла с новым предложением — быть
титульным редактором книги. Иными словами, на титульном листе
«Заглянем в будущее» было бы набрано: «Под общей редакцией А.Ф.
Плонского».
Но и этого мне показалось мало! И тогда мне сделали предложение,
которое я принял — написать книгу «Заглянем в будущее», а титульным
редактором будет Владимир Иванович.
Я согласился. Книга вышла в 1957 году.
До сих пор не могу простить себе этого. Считаю одним из своих
непоправимых смертных грехов. Мне действительно надо было написать
книгу заново, но издать ее в соавторстве с В.И. Сифоровым.
А Владимир Иванович не только не обиделся, но и стал для меня
старшим другом, которому я многим обязан.
В моей редакторской практике встречались и курьезные случаи.
Однажды получил объемистую рукопись под названием «Теория
вечного двигателя». К рукописи было приложено письмо примерно такого
содержания: «Вы, конечно, считаете, что вечный двигатель невозможен. Я и
сам так когда-то думал, недаром физфак окончил. Но вот меня осенило, и я
доказал обратное. Можете написать в редакторском предисловии, что книга
— бред, но напечатать ее вы обязаны: по конституции имею право на это!»
Уже после отъезда из Москвы, в семидесятые годы, я сам, как автор,
оказался в «щекотливом положении». Дернуло же меня опубликовать в
газете «Омская правда», где состоял научным комментатором, статью:
«Парапсихология — наука или лженаука?».
Заключение: все-таки наука.
В то время воспитанные в духе диалектического материализма
советские люди весьма скептически относились не только к «порче» и
«сглазу», но и к телепатии.
Предвидя возможные неприятности, я прибегнул к завуалированному
плагиату: изложил своими словами содержание статьи из Большой советской
энциклопедии. И, как оказалось, не зря. В обком КПСС посыпались письма, в
которых я обвинялся в мракобесии, пропаганде черной магии и прочих
смертных грехах.
Беспартийного профессора немедленно вызвали «на ковер». В обком я
пришел с толстым томом энциклопедии под мышкой и был реабилитирован.
Эта история имела комичное продолжение. Вскоре я получил письмо
из Новосибирского Академгородка от именитого ученого, фамилию которого
называть не буду по этическим соображениям. Тот превозносил меня за
«гражданскую смелость» и просил помочь в опубликовании его статьи на
аналогичную тему.
Испросив
согласия
редактора,
я
предложил
прислать
статью,
обязательно заверенную печатью научного учреждения, в котором работал
автор, что и было вскоре сделано.
Прочитал я творение маститого ученого, и волосы у меня встали
дыбом. В статье описывались способы... лечения порчи и сглаза с помощью
обручального кольца, подвешенного на ниточке, и фотографии объекта.
До чего же «гениальным» оказался мой «единомышленник»—опередил
время на сорок дет! Теперь его статью газетчики рвали бы друг у друга из
рук!
Не выдержав, написал злое-презлое письмо и получил в ответ
аналогичное, в котором я и «Омская правда» посылались по определенному
адресу…
Завершая рассказ о своей редакторской деятельности, хочу вновь
вспомнить своего «крестного отца» в этой профессии — Владимира
Андреевича
Мезенцева.
Мы
не
были
друзьями
—
сказывалась
тринадцатилетняя разница в возрасте, — но симпатизировали друг другу как
нельзя более.
Вскоре
Владимир
Андреевич,
кандидат
философских
наук,
заслуженный работник культуры РСФСР, стал главным редактором журнала
«Знание — сила». И, конечно же, на страницах этого журнала часто
появлялись мои научно-популярные «опусы», а однажды, благоразумно
воспользовавшись
псевдонимом,
я
опубликовал
в
нем
довольно
посредственный рассказ.
Столь интересного человека мне, пожалуй, встречать не приходилось.
Мы разговаривали долгими часами, не надоедая один другому. В основном
говорил Владимир Андреевич, — жизненный опыт у него был богатейший,
да и талант рассказчика незаурядный.
Приезжая по делам в Москву, я прежде всего звонил ему. Владимир
Андреевич жил на Первой Мещанской. В его домашнем кабинете стояло
глубокое кожаное кресло. Утонув в нем, я пил черный кофе и наслаждался
беседой.
Так было и в тот день, о котором хочу рассказать. Прямо из аэропорта я
поехал к Мезенцеву. Как всегда, мы увлеченно разговаривали.
—Я же опаздываю! — вдруг закричал Мезенцев, взглянув на часы.
В редакцию быстрее всего можно было попасть следующим образом:
на такси до станции метро «Площадь Революции», а затем по горьковскозамоскворецкой линии метрополитена до «Автозаводской».
Замечу, что тогда «поймать» такси проблемы не составляло. «Зеленые
огоньки» встречались на каждом шагу.
И вот мы в редакции. Владимиру Андреевичу не до меня: он что-то
подписывает, кого-то наставляет... Я начинаю раздумывать о делах, ради
которых, собственно, и приехал в Москву. Тянусь к портфелю — его нет. А в
портфеле все мои пожитки и, самое главное, документация, без которой
пребывание в столице лишено всякого смысла.
И тут я с облегчением припоминаю, что оставил портфель на
Мещанской. Вижу самого себя в кресле, портфель на полу справа, Владимир
Андреевич кричит: «помчались!». Я вскакиваю, бегу в прихожую одеваться,
портфель остается на месте...
— Забыл портфель у вас дома, — смущенно говорю Мезенцеву.
— Дело поправимое! — отвечает тот и снимает трубку.
— Рядом с креслом... — подсказываю.
— Да нет, — говорит Мезенцев через минуту. — Не нашли портфеля.
— Плохо искали. Я же твердо помню: портфель остался на полу справа
от кресла.
Владимир Андреевич звонит еще раз, — результат прежний.
И здесь я вспоминаю, что, когда мы выходили, портфель был-таки у
меня в руке. Я даже ощущаю на ладони упругую неподатливость ребристой
ручки, словно сжимал ее минуту назад. Значит, портфель остался в такси.
Начал обзванивать таксомоторные парки. Нам отвечали: «рано,
позвоните завтра, а еще лучше послезавтра». Через два дня стало очевидно,
что ни один из таксистов потери не обнаружил.
И мне снова пригрезился мой беглец. Метро, полупустой вагон, крайнее сиденье, сидим вполоборота (удобнее разговаривать).Портфель между
нами, за разговором чуть не проворонили«Автозаводскую»— выскочили под
«осторожно, двери закрываются!», конечно же, не вспомнив о портфеле.
Надежда привела меня в бюро находок Московского метрополитена.
Там добросовестно и благожелательно исследовали множество забытых
портфелей,
а
заодно
безрезультатными.
чемоданов
и
баулов
—
поиски
оказались
Я пошел на Центральный телеграф и, сознавая собственный позор,
отправил депешу с просьбой срочно выслать дубликаты документов.
Через неделю я зашел в редакцию проститься с Владимиром
Андреевичем. По дороге попал под дождь.
— Повесьте плащ, пусть подсохнет, — сказал Мезенцев, — а халат
снимите, это нашей уборщицы...
Под халатом я увидел портфель.
К сожалению, не все «приключения» заканчиваются благополучно.
Когда мы запустили первую межконтинентальную ракету, журнал «Знание
— сила» вышел с яркой обложкой: ракета по эллиптической траектории
уходит в пространство…
Один из бдительных работников типографии не поленился прикинуть,
где должна закончиться траектория. Оказалось — в Соединенных Штатах
Америки!
Мезенцева срочно вызвали в Политбюро ЦК КПСС. Обсуждение
длилось три минуты, Владимиру Андреевичу и рта не дали раскрыть.
Покинул он высокое собрание уже со строгим выговором, занесенным в
учетную карточку члена КПСС.
Вот и все, что я хотел рассказать о себе, как о профессиональном
редакторе.
Впрочем, моя редакторская деятельность не закончилась и поныне.
Только теперь я редактирую диссертации аспирантов и дипломные работы
выпускников.
Глава восемнадцатая. На радиовещании и телевидении
Ольга Сергеевна Высоцкая меня и ввела
в профессию. Помню, мы брали текст
из газеты и размечали его, а потом
читали буквально как по нотам.
Анна Шатилова.
Я прихожу в ужас от современных новостей
Многие годы я был научным комментатором разных газет. Но газетам
предшествовало радиовещание.
На улице Качалова, невдалеке от НИИ, где я работал, располагался Дом
радио — центр советского радиовещания. Уже не помню, как я проник в
число ведущих программы (а моя посвящалась исключительно научным
проблемам), но думаю, что связующим звеном послужила работа в
издательстве. Было это в середине пятидесятых и продолжалось, если память
не изменяет, года три, вплоть до отъезда из Москвы.
Сейчас с усмешкой думаю, что останься в столице, сделал бы на радио
и телевидении завидную карьеру.
Два раза в месяц меня помещали в звуконепроницаемую кабину,
напоминавшую капитанский мостик
океанского лайнера.
В течение
пятнадцати минут я читал текст, который записывали на магнитную ленту.
Если запинался или неправильно произносил слово, из динамика раздавался
голос Ольги Сергеевны Высоцкой, которая поправляла меня. Испорченные
фразы, естественно, перезаписывали. Но, по словам Высоцкой, у меня была
правильная речь, поэтому «остановки» были редки.
А вот голос подкачал — легкая хрипловатость несколько портила
впечатление, и Ольга Сергеевна в шутку советовала мне перед записью
сходить в буфет и выпить теплого пива, что якобы смягчает голос. У меня с
Высоцкой были исключительно теплые отношения.
Был я знаком и с еще одним прекрасным диктором Эммануилом
Тобиашем. А вот с мэтром советского радиовещания Юрием Борисовичем
Левитаном не встречался.
На снимке О.С. Высоцкая и Ю.Б. Левитан за подготовкой к передаче.
Только спустя много лет я осознал, с каким великим человеком свела
меня судьба. Не удержусь от того, чтобы не процитировать одну из многих
посвященных ей статей.
«Ольга Сергеевна Высоцкая — это эталон профессии диктора в самом
полном её смысле. Она умела всё. В послужном списке Ольги Сергеевны
самые ответственные передачи, прямые трансляции с Красной площади, из
Кремлевского Дворца съездов, она вела трансляции концертов и спектаклей
из Колонного зала, Большого театра, МХАТа и др. театров, приобщая
миллионы радиослушателей к великому искусству театра.
Особенно талант Высоцкой раскрылся в годы Великой Отечественной
войны.
Тогда
радионовости
с
фронтов,
сводки
«Совинформбюро»
ассоциировались в представлении советских людей с голосами О.С.
Высоцкой и Ю.Б. Левитана. Вместе с Ю.Левитаном в ночь на 9 мая 1945
года О.Высоцкая передавала сообщение о капитуляции фашистской
Германии, а 24 июня того же года вела трансляцию с Парада Победы.
До 1970 года была «голосом» московского точного времени.
И ещё она была великолепным педагогом, воспитателем новых
дикторов радио и телевидения. Она готовила первые телепередачи на
только зарождающемся советском телевидении. За свои заслуги в области
радиовещания
Ольга
Сергеевна
была
награждена
многими
правительственными наградами: орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" III степени,
медалями.
Ольга Сергеевна проработала у микрофона 60 лет, стала живой
легендой отечественного радио».
В роли «звезды эфира» я вызывал у коллег по работе в НИИ самые
разные чувства — от подтрунивания до затаенной зависти. И однажды со
мной проделали злую шутку.
Признаюсь: ничто человеческое мне не чуждо: в часы передач я
запирался в кабинете, включал приемник и с удовольствием слушал свой
хрипловатый голос.
Сотрудники, конечно же, об этом знали. И однажды, минут за двадцать
до начала передачи, ко мне заглянул инженер из соседней лаборатории и
сказал:
— Только что звонили из радиокомитета и просили передать, чтобы вы
срочно приехали: запуталась пленка, и текст надо читать вживую.
Я должен был сообразить, что это недобрый розыгрыш, но вместо того,
чтобы позвонить на студию, помчался туда со всей доступной мне
скоростью.
У входа — милиционер.
— Ваш пропуск?
Я начинаю объяснять, что случилось непоправимое, и только я могу…
Милиционер непреклонен.
Звоню редактору — Татьяне Борисовне Красиной.
Она мне:
— Бог с вами, Александр Филиппович! Говорите, пленка запуталась? У
нас такого не бывает. Вы уже в эфире.
Возвратившись,
успеваю
прослушать
последние
фразы
своей
передачи…
С отъездом из Москвы моя «радиовещательная» карьера закончилась.
Но ее отголоски догнали меня уже в Новосибирске.
Через несколько месяцев мне переслали толстое, с ученическую тетрадь, письмо, пришедшее по моему старому московскому адресу.
«Здравствуйте
«глубокоуважаемый»
Александр
Филиппович!
—
говорилось в письме. — С чем связано мое желание написать Вам письмо?
Это было в конце декабря 1956 года. Я был на преддипломной практике... 25
декабря лаборатория, где Вы работаете, совершила пиратский поступок.
Она без моего согласия, на что, конечно, не согласился бы ни один человек, а
тем более нормальный, сделала меня объектом исследования работы
головного мозга и нервной деятельности с помощью радиоволн...
Надо сказать, что я был на пятом курсе... Ходил всегда без фуражки,
что не замедлило положительно сказаться на моем здоровье. Я занимался
физкультурой, тяжелой атлетикой, имею второй разряд по шахматам.
Кроме того я получал повышенную стипендию ...
Усилия операторов кибернетической машины, как Вы называете, (я
говорю кибернетическое устройство) привели их к желаемому результату:
пользуясь методом голосов, о котором я буду писать ниже, чтобы Вы и
лаборатория не делали вида, и управлением всем организмом, включая и
мышление, операторы в конце концов довели меня до психиатрической
больницы ...
Я подвергся самым изощренным пыткам операторов кибернетической
машины: головные боли, воздействие на спинной мозг с потерей равновесия,
воздействие на половой орган... Чтобы описать то, что я пережил (а в
будущем это станет известно всем людям: я намерен написать книгу «Я
обвиняю»), надо много страниц.
Только мой характер и воля спасли меня от гибели. Не один раз я
отказывался от пищи, не один раз хотел покончить с собой, хотя в условиях
исследования это невозможно из-за управления организмом. Я превратился в
мученика науки, в Иисуса Христа ...»
Эти отрывки говорят сами за себя, хотя я сознательно опустил
наиболее душераздирающие места. Почему же письмо было адресовано
именно мне? Дело в том, что оно — своеобразный читательский отклик:
«...Вы имеете прямое отношение к исследованию, об этом уже
говорит
Ваша
очень
хорошая
брошюра
("3аглянем
в
будущее
-
радиоэлектроника сегодня и завтра", Госполитиздат, 1957 - А.П.)... Она
была сдана в печать 20 декабря 1956 года. Между прочим, дата почти
совпадает с датой начала исследования...
В вашей брошюре есть такая фраза: «если бы этот вопрос задал ктонибудь 15 лет назад, его сочли бы за сумасшедшего» (имеются в виду
возможности электронных машин играть в шахматы и т.д.). Не странно
ли, что Вы уехали в Новосибирск в 1956 году, а 23 августа 1957 года в 16
часов 15 минут я едва ли не был счастлив слышать Ваш голос по
московскому радио...
Не странным ли Вам покажется Ваше же поведение со стороны?
Насколько мне известно, в Новосибирске нет такого устройства, а если бы
там и велось исследование, то почему Вы там не выступали по радио?
Зачем для этой цели ехать в Москву?»
Иногда мне приходит в голову мистическая мысль:
«А не наказание ли это, ниспосланное мне судьбой, за то, что
бессовестно отобрал у Владимира Ивановича Сифорова авторство на
«Заглянем в будущее»? Ведь именно моя фамилия на титульном листе книги
превратила меня в «палача» которого винит в своих мучениях несчастный
юноша?».
Такова была моя Cantus cycneus (лебединая песня) на радиовещании.
Спустя двадцать лет я стал… телеведущим.
В четырнадцатой главе я уже писал вскользь о своей телевизионной
программе «Этюды о чудесах науки». В те годы омский телецентр
преимущественно транслировал московские передачи. Но «с барского плеча»
и нам перепадало сколько-то часов в день. Ими щедро делились со мной,
поскольку тогда предпочтения телезрителей были совсем иными, чем сейчас.
Не буду останавливаться на тематике «Этюдов», она в основном
повторяла содержание моих статей, которые регулярно печатали «Омская
правда» и другие газеты. Об этом расскажу в главе «Журналист».
А пока совершу хронологический скачок в Новороссийск.
В начале восьмидесятых я был в Новороссийском высшем инженерном
морском училище единственным доктором технических наук. Возможно,
именно по этой причине мне оказали честь представлять НВИМУ в одной из
передач краснодарского телевидения.
Набивший оскомину телевизионный стандарт: двое ведущих —
пожилой мужчина и молодая красивая девушка. Так получилось, что по ходу
передачи моя коллега сбилась. Обладая уже некоторым опытом ведения
телевизионных передач, я «взял инициативу на себя», и зрители не заметили
сбоя в программе.
По окончании передачи начальство отчитало бедную девушку, упирая
на то, что случайный в телевидении человек выручил ее, профессионала…
На этом моя «телевизионная карьера» в Новороссийске не закончилась.
Еще не наступило время, когда науку сделали золушкой. И несколько
месяцев существовала регулярная передача «В гостях у профессора
Плонского».
Ко мне приезжала «летучая бригада» телевизионщиков, и пока
оператор, поочередно наводил камеру на меня и на какую-либо деталь
интерьера, я рассказывал о замечательных людях, с которыми меня сводила
жизнь, о «чудесах» науки, о новшествах в технике…
Ясно, что изначально передача была обречена на медленное умирание,
поскольку уже через пару месяцев телезрители разбирались в интерьере моей
гостиной лучше, чем я сам…
Движущая сила всего на свете — конкуренция. Добралась она и до
новороссийского телевидения. Распрощавшись с одной станцией, я был
подхвачен другой — стал участником передачи «Пока горит свеча», которую
вел (а может, ведет до сих пор?) Виктор Викторович Савельев на
телевидении "Новая Россия".
В 2001 году он издал одноименную книгу. Вот отрывок, относящийся
ко мне.
«Александр Филиппович Плонский — первый профессор, с которым я
лично знаком...
Произошло это знакомство около десяти лет назад на
одной из очередных попыток создания в городе «интеллигентной тусовки»...
«Портье» в ливрее (высокий интересный молодой человек из
самодеятельной студии в соответствующем одеянии и с соответствующей
атрибутикой...) то и дело объявляет: «Господин Цыганко!.. Госпожа
Романова!.. Господин...!.. Госпожа...!..» и вдруг: «Господин Плонский с
супругой!».
И это произвело впечатление! В общем-то, на «приеме» были еще
супружеские пары..., но никого из них так ярко и четко не представляли:
«Гос-по-дин Плон-ский! С су-пру-гой!!».
Это был своего рода вызов или, если хотите, «пощечина» нам и нашей
убогой
привычке
появляться
на
всевозможных
творческих
«междусобойчиках» без своей «половины»...
С тех пор любезно раскланивались...
Встречая знакомую фамилию в прессе, на обложках продаваемых книг,
видя знакомое лицо на местном телевидении, я всегда останавливался и, по
возможности, пытался познакомиться или с длинноватыми, но четко
сформулированными эссе, или с увлекательными рассказами и повестями,
или вслушивался в несколько монотонный, хрипловатый, но чем-то
завораживающий голос, которым немного назидательно, но доступно
формулировались очень интересные, умные мысли человека, повидавшего и
испробовавшего на своем веку очень и очень много, создавшего достаточное
количество «своего», выучившего не одну плеяду сильных профессионалов —
мастеров своего дела... да мало ли что еще...
Но такие люди, как Александр Филиппович, к сожалению, зачастую, на
склоне лет бывают невостребованными окружающими (что случилось и с
нашим героем)... И очень-очень жаль!».
Я благодарен Виктору Викторовичу за сказанное обо мне. Да, я
болезненно воспринимаю «невостребованность», хотя о ней можно говорить
чисто условно. Ведь главная моя профессия и «на склоне лет» продолжает
меня «востребовать» — я по-прежнему преподаю и пытаюсь привлекать к
науке молодых.
Честно говоря, не думал, что когда-нибудь вернусь в радиовещание,
причем даже не отечественное, а зарубежное. Но в 1992 году русская служба
британской радиовещательной корпорации в лице Севы Новгородцева
пригласила меня принять участие в его коронной программе «Севаоборот».
Севу хорошо знают в нашей стране и как ди-джея, и как
радиоведущего.
Вот короткая цитата из его жизнеописания.
«С
2000
года
он
ведет
передачу
для
русской
диаспоры
в
Великобритании на радиостанции Spectrum, а с марта 2003 — ежедневную
новостную передачу на Би-Би-Си «БибиСева, Новости с человеческим
лицом». Осенью 2004 года на телевизионном канале НТВ+ Ностальгия
стартовала передача «Севалогия». 27 апреля 2005 года на церемонии в
Букингемском дворце королева Великобритании Елизавета Вторая вручила
Севе Новгородцеву высшую награду страны — Орден Британской империи
за заслуги в области радиовещания».
На передачу, посвященную неопознанным летающим объектам, меня
пригласили как автора гипотезы о «параллельных мирах».
Здесь необходимо пояснение. В 1973 году издательство «Советская
Россия» выпустило мою книгу «Неисчерпаемое в привычном». Вскоре я
получил «читательский отклик» от дважды лауреата государственной премии
имени Мосина Николая Ивановича Коровякова.
Началась многолетняя переписка. Воздержусь от подробностей, скажу
только, что Николай Иванович был членом советской комиссии по НЛО и
располагал множеством книг об этом феномене. Ксерокопии переводов он
посылал мне.
Я весьма скептически отношусь к рассуждениям об инопланетном
происхождении НЛО (UFO). Вскоре и сами уфологи охладели к «зеленым
человечкам» и переключились на «параллельные миры», посланцы которых
якобы навещают землю.
Но что такое «параллельные миры», никто объяснить не мог.
И тогда я полу в шутку, полу всерьез придумал неопровержимую (но и
недоказуемую) гипотезу, исходящую из теоремы Котельникова, на которой
основана многоканальная связь с временным уплотнением. Смысл: по одной
линии можно параллельно (а на самом деле поочередно) передавать
множество сообщений.
Никто не знает, что такое время. Из бытовых соображений следует, что
оно «течет». Мы убеждены, что течет непрерывно. Но те, кто был под
наркозом или без сознания, знают, что какой-то период времени может
«выпасть» из плавного течения (то же можно сказать о сне).
Представим себе, что на самом деле время течет не непрерывно, а в
виде последовательности коротких отрезков — импульсов, чередующихся с
длительными паузами. А в паузах могут разместиться сотни, тысячи и
вообще, неизвестно сколько, других импульсных последовательностей.
Каждая такая последовательность — свой «параллельный» мир.
Широко применяемые линии импульсной связи с «временным
уплотнением» — прообраз «параллельных миров». А помехи, проникающие
из одной линии в другую (с ними хорошо знакомы связисты) — прообраз
НЛО.
Я изложил суть своей гипотезы, которую, честно говоря, и сам не
принимаю всерьез.
Но поскольку она
твердо «стоит» на
теореме
Котельникова, то и сказать: «ничего подобного не может быть», нельзя.
Вот
об
этом
я
и рассказывал
Севе
Новгородцеву,
Леониду
Владимирову и Алексею Леонидову. Мой рассказ перемежался вопросами,
«компьютерной» музыкой и дополнениями по теме передачи.
Но талант Севы Новгородцева и двух его коллег превратил скучную
лекцию, в увлекательную «пикировку», фейерверк остроумия.
Второе мое «проникновение» на Би-Би-Си произошло три года спустя,
когда вышла знаменитая компьютерная программа Windows 95. В течение
часа я рассказывал о ней… по телефону из Новороссийска. В Лондоне мою
лекцию записывали на пленку. В назначенное время я включил приемник и
услышал музыкальную заставку, вступление диктора и… две минуты своей с
трудом различимой речи, после чего «из-за плохого качества телефонной
связи» продолжил чтение лекции диктор.
Ну а в 1998 году я участвовал в «Севаобороте» на тему «Всевышний
разум
и сознание
человека».
На
фотографии слева
направо Сева
Новгородцев, Леонид Владимиров и автор.
Я убежденный атеист. Но и в теорию Дарвина тоже не верю.
Наблюдая жизнь, заметил, что разум присущ не только человеку.
Муравьи тащат «грузы» в муравейник, но никак не обратно. Пчелы приносят
нектар в улей, но не мед из улья, а разуму наших домашних кошек я просто
поражаюсь.
Конечно, каждому свое. Интеллект муравья и человеческий интеллект
несоизмеримы. Но и муравей, и человек «выше головы» не прыгнут.
Понаблюдайте за ростом рекордов. Он замедляется. Потолок не достигнут,
но рано или поздно это произойдет.
Какой вывод можно сделать? Если разум человека выше, чем разум
муравья, то почему нельзя предположить существование кого-то или чего-то
неведомого, чей интеллект будет в такой же или даже неизмеримо большей
пропорции соотноситься с интеллектом человека, чем человеческий
интеллект с интеллектом муравья?
Значит
ли,
что
мы
должны
стремиться
постичь
природу
непостижимого? Ни в коем случае! Нужно принять это за аксиому.
Вот в таком ключе мы весело и непринужденно, перебиваемые друг
другом и музыкальными вставками, обсуждали тему передачи.
Замечу, что в этой беседе участвовала и Тамара Васильевна, которую
Сева (говорят, это большое исключение!) пригласил в студию.
Замечу, что все передачи «Севаоборота» идут без намека на репетиции,
исключительно импровизационно, начинаясь со звона бокалов. И в этом тоже
проявляется исключительный талант сэра Всеволода Новгородцева.
В память о сотрудничестве с «Севаоборотом» у нас под стеклом стоит
большая фотография — Алексей Леонидов, Сева Новгородцев и Леонид
Владимиров перед парадным входом в здание Би-Би-Си. А на обороте
надпись, сделанная тремя почерками:
Александру Филипповичу — профессору, который многому нас научил.
(Совершенно согласен!) — почерк Севы (А.П.).
Всеволод Новгородцев Леонид Владимиров Алексей Леонидов
Глава девятнадцатая. UA3DMи UA3CR
Как радио, которых не услышат,
Как дальний путь почтовых голубей,
Как этот стих, что, задыхаясь, дышит, Как я...
Николай Тихонов
Вынужден
нарушить
хронологическую
последовательность
повествования и возвратиться в сороковые послевоенные годы. По складу
характера я не могу существовать без увлечения каким-нибудь интересным
делом.
Закончил МАИ, работаю в престижном научно-исследовательском
институте. Работа интересная, но хочется чего-то и «для души». Впереди
аспирантура, первая книга. Но я остаюсь радиолюбителем. И (во время
войны это было невозможно) увлекаюсь короткими волнами.
Быстро осваиваю «морзянку», иду в Московский областной радиоклуб,
получаю позывной UA3DM и право на работу в эфире.
То ли я был каким-то особенно напористым парнем, то ли подкупал
своей увлеченностью, но, подобно тому, как в свое время ни с того, ни с сего
стал начальником летно-парашютной школы, так и в радиоклубе был сразу
же утвержден председателем секции коротких волн.
Коротковолновая любительская связь — квинтэссенция романтики.
Ночь… В головных телефонах
шум прибоя, прерываемый сигналами
телеграфной азбуки — то малиновым звоном, то хрипловатыми стонами. Для
моих ушей это симфония, в которой я различаю звучание скрипок, рояля,
саксофона. Одни «точки» и «тире» мощные, бьющие по барабанным
перепонкам, другие — на грани слуха, замирающие, словно предсмертное
дыхание. Это «дэиксы» — сигналы самых дальних станций.
Нам дозволялось общаться с иностранцами, правда, по очень
ограниченному кругу вопросов
—
мощность
передатчика,
качество
принимаемых сигналов и т. п. Но и это было поразительным для того
времени воплощением свобод.
В подтверждение состоявшейся связи мы обменивались «визитными
карточками» — так называемыми «куэсельками». У меня их накопился
целый мешок — ярких, многоцветных, похожих на прибавившие в росте
почтовые марки. Как и многое другое, я не сумел его сохранить.
В качестве репараций из Германии вывезли много всякой всячины, и в
том числе приемники, как радиовещательные, так и профессиональные,
коротковолновые передатчики, выпрямители. Так что оборудованием мы не
были обделены. Но многое делалось своими руками.
А сейчас хочу рассказать о Леониде Михайловиче Лабутине.
Я познакомился с Леней, когда тому исполнилось двадцать лет — в 1948
году. Леня был в то время (как и потом) страстным радиолюбителем, но
позывной почему-то ему не давали, и он, недолго думая, начал работать
в
эфире
как UN1LIS (unlis на радиолюбительском жаргоне означает
нелегальщик).
Вскоре его запеленговали, и у него были крупные неприятности в
«компетентных
органах».
Меня,
как
председателя
секции
коротковолновиков, привлекли к «расследованию», и мне удалось убедить,
что это просто мальчишеская выходка. «Дело» закрыли.
Через некоторое время я добился, чтобы Лене дали позывной —
UA3CR (кстати, буквы в новых позывных наращивали согласно русскому, а
не латинскому алфавиту). Мы с Леней подружились, и я устроил его на
работу к себе в номерной НИИ старшим техником.
У нас он сделал «головокружительную» карьеру, — еще не закончив
заочно институт, стал начальником лаборатории.
Я считался одним из ведущих коротковолновиков. В различных
соревнованиях (например, телефонном тесте, соревнованиях «Москва
вызывает Дальний восток») занимал первые-вторые места.
Но Леонид Михайлович был без преувеличения гениальным радистом.
Он раз и навсегда «захватил» первые места во всех соревнованиях, в которых
участвовал.
Коротковолновиком я пробыл недолго. В чемпионате 1949 года после
двух основных туров места распределились так: UA3DM —первое место по
первой категории (100 Вт, а фактически 1 кВт) и второе в общем зачете;
UA3CR — первое место по второй категории (20 Вт, а фактически 500 Вт) и
первое же в общем зачете.
На нашу беду перед третьим, «утешительным», туром, который уже
никак не мог повлиять на результаты чемпионата, мы с Леней поговорили в
эфире «на вольную тему».
Это дало повод Центральному радиоклубу, с которым областной
конфликтовал
(«два
медведя
в
одной
берлоге»),
добиться
нашей
дисквалификации. В знак протеста я сдал позывной и прекратил заниматься
короткими волнами, а Леонид Михайлович, самое малое, еще четыре раза
становился чемпионом страны по коротковолновой радиосвязи.
Замечу еще, что Леонид был хорошим шахматистом (если не
ошибаюсь, имел второй разряд по шахматам). Помню, в нашу лабораторию
прислали на стажировку студента — кандидата в мастера по шахматам.
Работать в те времена приходилось по 10-12 часов, и к концу рабочего дня
мы выматывались (впрочем, иногда, наоборот, — с утра бездельничали, а
после обеда впрягались в работу как ломовые лошади).
Во время отдыха Леня со стажером частенько играли в шахматы по
памяти,
без
доски,
сосредоточенно
разглядывая
кривые
на
экране
включенного, приличия ради, осциллографа.
Сейчас, по прошествии шести десятилетий, можно признаться и в
более серьезных проступках. Мы (в километре от Лубянки, к слову сказать)
выбрасывали в окно десятиметровый кусок провода и имитировали
«дэиксов» (сигналы радиолюбителей других континентов).
«Передатчиком» служил незабвенный лабораторный генератор ГСС-6,
а
приемником
—
сохранившийся
со
времен
войны
американский
гетеродинный волномер. Один из нас брал в руку оголенный кончик провода
и периодически касался им одновольтового выхода ГСС, передавая сигнал
общего вызова (CQ). А другой в это время прослушивал эфир на
гетеродинном волномере.
Иллюзия сверхдальней связи с обеих сторон была отменная, тон
сигналов характерно замирающий, слышимость на
уровне звуковой
галлюцинации.
Добавлю,
что
работали
мы
под
вымышленными
сверхэкзотическими позывными.
Не думайте, что мы были бездельниками. После освежающего
«отдыха» вгрызались в работу, и ее результатам могли бы позавидовать наши
внуки. Во всяком случае, мы тянулись за Америкой, и если отставали, то на
самую малость, (бывало, и опережали).
Потом наши пути разошлись. Я перешел на работу в другой НИИ, а
затем уехал из Москвы заведовать кафедрой в сибирском вузе. Но из поля
зрения Леонида Михайловича не упускал, благо он все время был на виду. Я
читал об его организационном участии в полярных экспедициях, об
огромной
общественной
работе
международного
масштаба,
о
«радиолюбительском спутнике».
Единственно, чего я не мог и до сих пор не могу понять, почему
Леонид, при его колоссальном творческом потенциале, не стал доктором
наук, крупным ученым.
Да, он был всемирно известен. Но как гениальный и, все же,
любительский, конструктор. А сколько он мог бы сделать в науке!
Несколько
лет
назад
мой
сосед,
энтузиаст
коротковолновой
компьютерной связи Георгий Григорьевич Сокол (UA6CL), в одном из
сеансов с Леонидом Михайловичем упомянул о нашем соседстве. Вскоре я
получил от Леонида трогательное письмо, начинавшееся словами: «Дорогой
мой «крестный», как я рад...".
Мы обменялись несколькими письмами и фотографиями, а в
дальнейшем передавали через Г.Г. Сокола поздравления.
В жизни почти каждого человека есть друзья, с которыми можно
годами не встречаться и не переписываться, но знать: «На него я всегда могу
положиться». Таким был для меня Леонид Михайлович Лабутин.
С его кончиной в 1998 году я навсегда утратил часть своего «живого»
прошлого, которая перешла в область воспоминаний.
Глава двадцатая. Газетный комментатор
Ты так спешишь писать,
Как будто боишься не поспеть за жизнью.
А если так, скорей к своим истокам
Поторопись и передай
Тебе доставшуюся долю
Чудесного.
Рене Шар, французский поэт ХХ века
Передо мной
толстый
альбом.
На
переплете
два
"золотых"
тиснения: «Правда» и «Омская правда». Этот альбом подарен мне моими
омскими коллегами. В нем газетные вырезки статей, написанных мною за 12
лет жизни в Омске.
На титульном листе набранный «золотом» текст:
«Уважаемый Александр Филиппович!
Примите самые горячие поздравления от журналистов «Омской
правды»
Сегодня мы вправе чествовать Вас не только в связи с
пятидесятилетием. Исполнилось ровно пять лет с тех пор, как в нашей
газете появилась Ваша первая публикация.
За эти годы сотрудничества в «Омской
правде»
ее
научный
комментатор блестяще доказал, что никакой искусственный интеллект
(как бы к нему ни лежала душа нашего комментатора) не в состоянии
создать
такие
шедевры научно-популярного жанра, какие создает
интеллект самого А.Ф. Плонского.
Желаем Вам еще многих лет творчества — научного,
журналистского, писательского!
Редколлегия
Партбюро
Местком
В альбоме 82 статьи. И все они посвящены вопросам науки и
высшего образования.
С отъездом из Омска моя журналистская деятельность не закончилась.
И в Новороссийске меня охотно печатали в краевых и городских газетах.
Более того, «Новороссийский рабочий» из номера в номер публиковал
газетные варианты двух моих научно-фантастических романов. Но все
это
было
до крушения Советской власти. Потом я стал для газет
неинтересен.
А теперь вернусь к альбому со
статьями.
Не
стану
утомлять
читателя перечнем названий. Исключение сделаю для статей в «Правде» и
«Советской России», газетах, которые охотно публиковали все, что я
присылал, причем без малейшей правки. Да, в них я стопроцентно
реализовал свободу слова.
При этом материалы, публикуемые в партийных органах «Правде» и
«Советской
России», служили «руководством к действию». КПСС по-
отечески опекала образование, понимая, какую роль для будущего страны
оно играет. И я горжусь тем, что благодаря партийной прессе мои идеи
становились известны всей стране, реализовались во многих вузах.
Не скрою обиды: сейчас они не востребованы даже в родной академии.
Впрочем, «се ля ви» — изменился строй, изменилось и отношение к «идеям».
Названия статей дадут представление о проблемах, которые я
затрагивал. Но вот что меня смущает: одно и то же название
может
принадлежать крупной статье и маленькой заметке. Поэтому я решился на
необычный шаг. Взял в руки линейку и начал измерять размеры своих
статей в сантиметрах ширины и высоты.
Безусловно, газетные статьи это не рулоны ситца, сантиметрами их
не измерить. Но в таких газетах, как «Правда» и «Советская Россия» каждый
квадратный сантиметр площади был навес
золота.
И
если
уж
эти
драгоценные сантиметры тратили на статьи провинциального ученого и
вузовского преподавателя, то, значит, была от этих статей польза.
Итак, «Правда».
1. «ЛЕКТОР ПЛЮС МАШИНА», 24 марта 1968. Ширина — 34 см,
Высота— 22 см.
2. «ВУЗ И БОЛЬШАЯ НАУКА», 26 апреля 1969. Ширина — 24 см, высота
— 23 см.
3. «НА ПУТИ К ДИПЛОМУ», 11 февраля 1977. Ширина —15 см,
высота — 35 см.
4. «БЕЗ СКИДОК НА ГЕОГРАФИЮ», 22 октября 1977. Ширина —24 см,
высота — 18 см.
5. "КАКОЙ ВУЗ ВПЕРЕДИ" (в соавторстве с ректором Омского
политехнического института Ю. Селезневым), 21 июня 1979. Ширина —
14 см, высота - 30 см.
«Советская Россия».
1. "ЧЕМУ УЧИТЬ СТУДЕНТА", 14 января 1975. Ширина —18 см, высота —
24 см.
2. "СИЛОЙ НАУКИ", 21 июня 1977. Ширина — 10 см, высота — 21 см.
Не хочу злоупотреблять терпением читателей, поэтому не стану
раскрывать содержание этих статей, как и тех, которые были напечатаны в
«Омской правде», «Известиях», «Советском воине», «Московских новостях»
и даже в… еженедельнике «Советское кино».
Но одной статьи все же коснусь. В Омском политехническом
институте, как и во всех вузах страны, проводилось социалистическое
соревнование.
Теперь «вместе с водой выплеснули и ребенка». Поскольку слово
«социалистическое» предпочитают не произносить, то заодно исключили из
обихода и «соревнование».
Не знаю, как в других вузах, но мы в нашей академии не представляем,
какая кафедра по своим показателям на первом месте, а какая — на
последнем. Впрочем, так спокойнее, но полезней ли?
В
Омском
политехническом
институте
был
создан
штаб
социалистического соревнования. А его председателем назначили меня.
Я разработал систему оценки качества работы кафедр. Она себя
оправдала. До нее наш вуз был на предпоследнем месте в регионе, а уже
через год «перескочил» на первое.
Вот тогда я в соавторстве с ректором института Ю.В. Селезневым и
опубликовал статью «Какой вуз впереди?». Ниже приведу отрывок из этой
статьи, поясняющий особенности нашей системы соревнования.
«В нашей системе итоговое место кафедры определяется дробью. В
числителе сумма баллов по всем разделам, а в знаменателе — сумма мест по
каждому из разделов. Добилась кафедра крупного успеха по какому-нибудь
разделу, подскочит числитель. Но при этом кафедра запустила другие виды
работ — тогда резко возрастет знаменатель. А в итоге оценка работы
получится сравнительно объективной.
Особенности внедренной системы состоят не только в принципах
подведения итогов, но и в широком спектре критериев соревнования.
Причем все они подчиняются главному — повышению качества и
эффективности работы вуза. Мы старались, насколько возможно, не
упустить ни одного аспекта трудовой и общественной деятельности, ни
одного потенциально возможного достижения.
Соревнованием
надо
управлять,
и
потому
коэффициенты,
устанавливаемые ректоратом в начале года, соизмеряют значимость тех
или иных результатов с конкретными задачами развития института,
сосредоточивают внимание на узких местах, на преодолении недостатков».
Это лишь небольшой отрывок из статьи в «Правде». И он нуждается в
пояснении. Допустим, кафедра подготовила кандидата наук, ее сотрудник
опубликовал книгу, студент стал призером научной конференции и т.п.
Заранее согласованные численные коэффициенты, соответствующие этим
достижениям, суммируются в числителе.
В то же время по итогам экзаменационной сессии кафедра заняла,
допустим, восьмое место, aпо проценту преподавателей с ученой степенью
двенадцатое. Сумма занятых мест заносится в знаменатель.
Численное значение дроби — место, занятое кафедрой в соревновании.
Могу
засвидетельствовать,
с
каким
энтузиазмом
проводилось
соревнование, впору сравнивать с Олимпийскими играми!
Что же касается результата, то он превзошел все ожидания.
Глава двадцать первая. Мой ангел-хранитель
Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи...
Сергей Есенин
Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год. Я, сорокадвухлетний
профессор
Одесского
политехнического
института,
читаю
лекцию.
Студенческой аудитории. Девушке в голубой блузке. И невдомек мне, что
через год она станет моей женой, а через двадцать семь лет буквально
вырвет меня из удушливых объятий смерти.
Сейчас девушка в голубой блузке, Тамара Васильевна Плонская,
уже семь лет профессор кафедры «Технические средства судовождения»
нашей
академии. Сорок один год мы живем душа в душу, несмотря на
двадцатилетнюю разницу
в возрасте. Мы друзья, единомышленники и
соавторы многих статей.
Признаюсь, вначале я не подозревал, какое сокровище даровала мне
судьба.
Представьте себе, сколько мужества потребовалось от нее, чтобы
пойти наперекор ханжеской морали того неоднозначного времени.
Ректор
Одесского
политехнического
института
Константин
Степанович Коваленко, недавний второй секретарь Одесского горкома
КПСС, всячески пытался удержать меня в своей орбите («вернись, я все
прощу!»). Но я
твердо решил перебраться в другой город, благо меня
настойчиво зазывали в Киевский институт инженеров гражданской авиации.
Дело было, как говорится,
возмущенный моей
«изменой»,
на
мази, но Константин Степанович,
нажал
на
партийные рычаги, и из
Центрального комитета компартии Украины киевскому институту была
дана команда «не пущать»!
Мой
старший
Сифоров, «пристроил»
друг,
меня
незабвенный
заведовать
Владимир
кафедрой
Иванович
электроники
в
Рязанский радиотехнический институт (РРТИ). Тамара перевелась туда,
вскоре получила диплом радиоинженера, а
впоследствии
защитила
кандидатскую диссертацию (ее научным руководителем был профессор В.В.
Кондашевский). Все бы хорошо, но на мою беду годом ранее в РРТИ
была раскрыта «контрреволюционная» студенческая организация, которую
возглавлял
секретарь институтского
комитета
комсомола
—
преподаватель «моей» кафедры.
"Контрреволюционеры"
социализм. Они даже сумели
преследовали
связаться
цель
со
усовершенствовать
своими
зарубежными
единомышленниками.
«Главари» организации были арестованы, рядовые члены исключены
из института. Спросите, причем здесь я? Поясняю: в горком партии пришло
подметное письмо из Одессы, и отцы города вменили в вину ректору РРТИ
то,
что
он доверил
заведование
«такой»
кафедрой
морально
неустойчивой личности.
Немедленно уволить! Чуть ли не со слезами на глазах ректор сообщил
мне об этом решении. Но оно противоречило закону: уволить
чем
ни
в
не провинившегося преподавателя посреди учебного года не
полагалось.
заявления
Мне
на
дали отсрочку, в течение которой я со страху подал
конкурс
в
три вуза, и везде был избран заведующим
кафедрой.
Узнав об этом, в горкоме «дали задний ход». Ректор сказал, что все
претензии ко мне сняты, и я могу оставаться на своем месте. Но тут уж у
меня «взыграло ретивое», и я ответил отказом.
Выбор был между Калининградом, Тулой и Омском. Я выбрал
последний, и не ошибся. Омск — город моего расцвета, как ученого. И
только из-за плеврита, которым болела Тамара, мы переехали на юг — в
Новороссийск.
К счастью, здесь от плеврита не осталось и следа.
В академии она пользуется
общепризнанным
хватает),
интеллигентности.
всеобщим
достоинствам: тактичности
доброжелательности,
уважением
(которой
женственности,
благодаря
мне
порой
не
порядочности,
Не устаю благодарить жену за сорок один год любви, преданности и
дружбы. А еще за то, что обязан ей, по меньшей мере, четырнадцатью годами
жизни.
Да, четырнадцать лет назад я родился во второй раз, жаль, что
уже семидесятилетним. А было это так...
Мне
сделали
тяжелую
хирургическую
операцию.
Она
была
неотложной. Но на беду в больнице шел затяжной ремонт. Отделение, в
котором меня оперировали, находилось в стороне от реанимации. К тому же
их разделял дощатый забор.
Операция прошла благополучно, под наркозом, который почему-то
делали по старинке (не буду вдаваться в
почему-то
подробности).
И
опять-таки
меня положили не в реанимационное отделение, а в общую
палату.
Хирург и анестезиолог разошлись по домам, в отделении
из
медицинского персонала остались две молоденьких сестрички. А рядом с
моей
кроватью неотлучно сидела Тамара. Через несколько часов она
заметила, что я начал синеть,
задыхаться,
а мой пульс «покатился» к
двумстам. Сестрички не знали, что делать.
Тогда жена позвонила в реанимацию. Прибежал врач. Начал делать
искусственное дыхание, раз за разом нажимая на грудь, пока из раны не
потекла кровь. Он, чуть ли не в истерике, закричал: «вызывайте хирурга!».
Хотя кто и как мог это сделать, да и я успел бы сто раз умереть до его
прихода.
«Немедленно несите в реанимационное отделение!». А кто понесет?
Над моей головой — капельница, из раны тянется шланг.
Уже стемнело. Да и больница была на отшибе. Тогда
Тамара
выбежала на дорогу и стала просить проходящих мужчин, чтобы пошли с
ней в больницу перенести мужа. Один из прохожих сначала отказался,
сославшись,
что
спешит на какое-то празднество, отошел на несколько
шагов, потом быстро вернулся и со словами «ради Бога простите!» побежал
за Тамарой.
Я был без сознания и не помню, как четверо мужчин тащили меня
на носилках
через
узкий
проход
с
поворотами,
когда
носилки
приходилось поднимать едва ли не вертикально. А рядом, чуть ли не под
носилками, сестра с капельницей.
Когда меня положили на кровать в реанимации, я был еще жив.
Тамара спросила: «каков прогноз?». Ей ответили: «будет известно часа через
четыре». Надо мной склонились врачи, делали укол за уколом. Тамара не
уходила допоздна, но потом ее отправили домой, сказав, что она все равно
ничем помочь не сможет. Дали номер телефона: звоните!
Тамара звонила всю ночь, — трубку не снимали.
Когда наутро я вышел из комы, реаниматор сказал мне: «Благодарите
жену, это она, а не мы, вас спасла. Промедлила бы пять минут, и вы
покойник».
И здесь я хочу сказать о драгоценном качестве жены: она, не в
пример
многим
мужчинам,
наделена
от
природы
высочайшим
самообладанием. Там, где другая женщина зальется плачем, а мужчина
будет бестолково метаться из стороны в сторону, Тамара стиснет зубы,
сожмет кулачки и будет сражаться с бедой до конца.
В этом смысле она похожа на мою мать — отважного военврача,
которая в свое время сумела подавить панику и вывезти раненых из-под
носа гитлеровцев.
Да, говоря о жене, я не могу снова не упомянуть о матери —
профессоре, докторе медицинских наук Вере Павловне Плонской. Незадолго
до кончины она сказала мне: «Если бы могла начать жизнь сначала, ни за
что не стала бы врачом. Слишком часто оказывалась бессильна».
Эти слова приходят мне на ум. Я чувствую свое бессилие и
невостребованность в судьбах страны…
Глава двадцать вторая. Я и автомобиль
Мы, пешеходы,
шагаем пылью,
где уж нам уж,
где уж бедным
лезть
в карету
в автомобилью!
Владимир Маяковский. Даешь автомобиль!
Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Вдруг потянуло к автомобилю.
«Москвич-401», клон довоенного немецкого «Опеля-Кадета». И чтобы
купить его, не надо протекции («блата»). Нужно только каждое воскресенье
отмечаться в огромной очереди возле автомагазина на Бакунинской.
В толпе люди с тетрадками. Подходишь к «своему», и против твоей
фамилии ставят галочку. Пропустишь два раза — вычеркнут. И тут уж
никакие просьбы не помогут. Но ни криков, ни скандалов. Дисциплина,
прямо-таки военная.
К моему удивлению примерно через месяц ко мне подошли с
вопросом: «подежурить не хочешь?». Условия заманчивые: за каждое
дежурство твоя очередь продвигается на два номера. И всё отнюдь не
подпольно: каждый может стать дежурным.
Через два месяца я стал счастливым обладателем автомобиля. Его надо
было перегнать через всю Москву в Бабушкин, где жил. Но я никогда в
жизни не сидел за рулем. И всё же рискнул, и вполне успешно. Для человека,
дважды прыгавшего со ста метров, рисковать было не внове.
Это не было стопроцентной авантюрой. Я выучил руководство по
вождению и потратился на такси. Но не просто ездил по Москве, а очень
внимательно наблюдал за действиями водителя и мысленно их повторял, а
под конец даже стал предвосхищать.
Я знал, что один из соседей — шофер. И в ближайшее воскресенье
пригласил его проехаться со мной по Москве. Тот охотно согласился.
Замечу, что тогда человеку без прав на вождение автомобиля
разрешалось садиться за руль при условии, что рядом водитель с правами.
Вскоре вы увидите, насколько важно это замечание.
Наряду
со
светофорами
на
перекрестках
нередко
стояли
регулировщики. А в центре даже возвышались застекленные будки, сидя в
которых милиционер переключал сигналы светофоров, а при необходимости
высовывался наружу и свистел.
На Таганке я въехал под запрещающий знак. Милиционер засвистел. Я
по всем правилам подъехал к тротуару, выключил двигатель и накрепко
затянул рычаг ручного тормоза. Подошедшему регулировщику без особого
волнения сказал, что прав у меня еще нет, но рядом — профессиональный
водитель.
Как вдруг сосед воскликнул:
— Да ты что! Меня месяц назад за пьянку прав лишили!
Лицо милиционера окаменело.
— Ах так, значит! За углом отделение милиции. Я передам туда ваш
техталон, пусть разбираются!
Тут уж я разволновался. Завел мотор и попробовал тронуться, забыв
при этом отпустить рычаг тормозного тормоза. «Москвич» дернулся, но
мотор тут же заглох.
Так повторялось несколько раз. Мотор «Москвича» не выносил
перегрева, поэтому, в конце концов, перестал заводиться. Я вспомнил про
ручной тормоз, но было уже поздно. Мотор упрямо не заводился.
Машина застряла как раз поперек трамвайных путей (тогда по Таганке
ходили трамваи). С обеих сторон звон, ругань кондукторов.
Регулировщик, призвав на помощь добровольцев, откатил машину к
тротуару. И тут мотор завелся!
А милиционер произнес фразу, афористичность которой, заслуживает
бессмертия:
— Вы же совсем не умеете ездить, поезжайте в отделение!
В отделении мне сказали, что меня посадят, а машину конфискуют. В
разных вариантах эту мысль вдалбливали в мое сознание часа два, затем
оштрафовали на 25 рублей (по нашему курсу это примерно два с полтиной) и
дали мне бумажную ленту с пятью квитанциями по 5 рублей каждая.
Первое, что я сделал, отъехав от милиции, — аккуратно разделил ленту
на пять частей. И начал, уже без сопровождающего, разъезжать по Москве.
Когда меня останавливали за очередное нарушение, я протягивал
квитанцию и говорил, что меня только что оштрафовали, и еду по добру, по
здорову домой. А два раза подряд не штрафуют.
Милиционер растерянно спрашивал:
— Как, всего на пять рублей?
На что я спокойно отвечал:
— Сколько сказали, столько и заплатил.
Милиционер надрывал квитанцию, и обрывки возвращал мне.
Когда запас квитанций оказался исчерпан, я смело поехал в ГАИ и сдал
экзамен на водительские права.
Понимаю, что этим рассказом утратил изрядную долю вашего
уважения, и что гордиться такой находчивостью не стоит. Чтобы не
выглядеть совсем уж легкомысленным в ваших глазах, скажу, что быстро
понял: подобная самодеятельность до добра не доведет. И нанял за свои
«кровные» профессионального водителя-виртуоза.
И то, что, проездив за рулем пятьдесят лет и почти миллион
километров, я совершил единственную серьезную аварию, в которой, к тому
же, не пострадал никто, говорит в мою пользу.
На долгие годы автомобиль стал моим другом и спутником. Вскоре на
смену «Москвичу» пришла старенькая «Победа», вслед за ней — новая.
Я ездил на ней круглый год. В Москве зимы тогда были довольно
лютые. На ночь сливал из радиатора воду, утром, прежде всего, ставил на
газовую горелку ведро с водой. Когда она закипала, заливал радиатор, а сам
шел бриться, завтракать. Тем временем на газовой плите стояло вновь
наполненное ведро.
Одевшись, выходил с ведром во двор, выпускал из радиатора воду,
закрывал краник и заливал кипяток. После чего заводил мотор и отправлялся
в свой НИИ «делать науку».
А летом меня ожидало путешествие, полное приключений. Об одном
из них я сейчас расскажу. Шел 1957 год. Я уже жил в Новосибирске. Туда же
на железнодорожной платформе отвез «Победу». Всю дорогу от Москвы до
Новосибирска просидел и пролежал в уютном, обитом натуральным драпом
салоне
(во
французском
автомобильном
журнале
удивлялись
«расточительности» русских).
Обратную же дорогу год спустя «Победа» прошла своим ходом. Об
этом путешествии писали «Советский спорт», «Московская правда»,
новосибирские газеты, передавали сообщение по радио. Одну из заметок
приведу с небольшими сокращениями.
«В солнечную Ялту на автомобиле
Сегодня с первым лучом солнца из Новосибирска вышел легковой
автомобиль
марки
автомотоклуба
А.Ф.
«Победа».
Плонский.
За
его
Рядом
рулем
с
член
ним
Новосибирского
член
Московского
автомотоклуба Г.В. Кащенко.
У машины далекий путь — более пяти тысяч километров. Финиш —
на берегу Черного моря, в солнечной Ялте.
Любительский автопробег Новосибирск— Свердловск — Горький —
Москва — Ялта проводится впервые».
Фотография дает представление о том, какими были упомянутые в
заметке пять тысяч километров. Бездорожье, грязь по ступицы колес.
Переправы через реки на хлипких паромах впритирку с грузовиками.
Готов спорить, никто из читателей не догадается, почему при
переправе через Каму вокруг нашей «Победы» столпились люди, почему они
заглядывают внутрь.
А ларчик открывается просто: в ожидании переправы мы бреемся
электробритвой. Подумать только, электробритвой! Воспринимали это наши
попутчики чуть ли не как «Явление Христа народу».
В багажнике «Победы» 235 литров бензина, на задних колесах новая
вездеходовская резина. Мы не только сами преодолевали бездорожье с
глубокими
колеями,
жирной
глиной
и
черноземом,
размокшим
от
преследовавших нас дождей, но и вытаскивали застрявших собратьев.
В дневнике, который вел Герман Кащенко (он на снимке), запись:
«Кировская область. Незадолго прошли дожди. Глубокие колеи,
огромные лужи. В лесу встретили засевшую «Победу», вытащили ее…». И
ни слова больше, хотя пострадавших пришлось буксировать несколько
километров.
Однако, пожалуй, самое неприятное постигло нас, когда до Москвы
оставалось рукой подать. Покрышки передних колес, в том числе и две
запасные, оказались гнилыми. И последние десятки километров мы проехали
на покрышках, набитых сеном.
А в Москве нашли «наварную» (то есть восстановленную путем
наварки нового протектора на «лысую» покрышку) резину и продолжили
путь. Теперь, впервые, перед нами простирался асфальт, пусть разбитый, с
колдобинами, но все же асфальт!
Только об одном этом путешествии можно написать книгу. Питались
мы в дороге американской тушёнкой и китайскими консервированными
ананасами. Но, несмотря на каторжный труд (а нам приходилось и
поддомкрачивать тяжелую машину, чтобы выбраться из колеи, и толкать ее
по колено в грязи, и перебортовывать резину), мы оба поправились на
несколько килограммов.
Сейчас между Москвой и Петербургом носятся скоростные поезда,
великолепное шоссе соединяет столицы России. А в пятидесятых на этой
дороге дежурили трактора, вытаскивая тросом из земной пучины завязшие
автомобили.
Вспоминаю, как в районе Валдая мы с приятелем несколько часов
просидели в «Победе», погрязшей по середины дверец. Открыть их было
невозможно, потому что внутрь хлынула бы грязь.
В то время была модна песня: «Волнами теплыми омытая, лесами
древними покрытая, страна родная Индонезия…». И мы часами в ожидании
трактора горланили: «О, голубка моя, как тебя я люблю…».
Тракторист в сапогах выше колен сам пристегивал карабины троса и
вытягивал нас из колеи. Затем со словами «до встречи!» обдавал нас сизым
облаком выхлопа и уезжал.
Таких
эпизодов
наберется
много.
Но
я
вернусь
к
нашему
«транссибирскому» автопробегу. Буквально через несколько часов после
отъезда (нас торжественно провожали) мы увидели (и не поверили своим
глазам) асфальтовое шоссе, как бы «вытекающее» из нашего бездорожья. Кто
бы, интересно, не воспользовался возможностью сократить путь, да еще «с
ветерком»? И мы бодро неслись, отсчитывая километры, пока не уткнулись в
шлагбаум. Часовой с винтовкой наперевес приказал нам выйти из машины
и… дальнейшее вам известно из беспрерывных сериалов.
Подошло еще несколько военных и вдруг мы услышали хохот.
— Ваше счастье, что мы слышали по радио передачу об автопробеге.
Иначе у вас были бы ба-а-альшие неприятности!
И нас отпустили с миром. В дальнейшем мы избегали подозрительных
асфальтовых ответвлений.
И еще одно: в то время СССР крепко дружил с Китаем. «Бестселлером»
была песня «Москва — Пекин». И кстати, мы ехали по строящейся и широко
разрекламированной
одноименной
магистрали.
Слышали
анекдот
об
экзотическом блюде: рагу из рябчика с лошадью (один рябчик на одну
корову)? Так вот, это был как раз такой случай.
Сотня километров даже не по грейдеру, а по абсолютному бездорожью,
а потом сто метров бетона. Но какого? Пока укладывалась новая стометровая
дорожка, предыдущие вдрызг разбивались тяжелыми грузовиками.
Кстати, это было символично и для того, что именовалось дружбой
Москвы с Пекином. И дружба, и «магистраль» просуществовали недолго.
Поскольку об автомобильных приключениях еще будет сказано в
следующих главах, упомяну лишь, что в ежегодно переиздаваемые и
обновляемые атласы автомобильных дорог преднамеренно вносились
искажения. И едучи по дороге союзного значения, можно было упереться в
непролазный тупик. Делалось это из соображений секретности.
Бедные
американцы,
им
приходилось
пользоваться
картами
собственного производства!
Глава двадцать третья. Я, Тамара и автомобиль
Aх! Ныне я не тот совсем,
Меня друзья бы не узнали,
И на челе тогда моем
Власы седые не блистали.
Михаил Юрьевич Лермонтов
Конечно же, моя Тамара легко получила права на вождение автомобиля
и стала неизменным участником всех наших автомобильных путешествий.
Если раньше нас было двое: я и автомобиль, то теперь в нашу
компанию равноправным членом вошла Тамара. Большой и приятной
неожиданностью стало то, что она оказалась не просто пассажиром или
сменным водителем, но и великолепным штурманом. Даже в незнакомой
местности нас часто выручало ее «голубиное» чувство правильного
направления.
В Омске мы приобрели «Жигули» первой модели. И, добавлю, одного
из первых выпусков, отличающегося от нынешних изделий Волжского
автозавода несравненно большей надежностью.
На спидометре было всего 700 километров, когда мы
решили
повторить путешествие пятнадцатилетней давности.
Оно описано нами в очерке « По земной оси» на «Жигулях» на двух
полных разворотах журнала «За рулем» (7, 1974). Кстати, название очерка не
случайно. Средний радиус Земного шара 6371 километр. Длина земной оси
равна его удвоенному значению, то есть 12742 километра. Именно столько
мы проехали за время первого путешествия на «Жигулях».
Вот выдержка из этого очерка:
«И вот снова, спустя полтора десятилетия за ветровым стеклом
щедрые просторы Сибири, дали неоглядные… Многое изменилось за эти
годы. Началась эра космических путешествий, по сравнению с которыми
самое далекое автомобильное кажется загородной прогулкой. Вот почему
нас не провожали речами, а в центральной прессе (и в местной тоже) не
было ни слова о том, что «сегодня с первым лучом солнца из Омска вышел
легковой автомобиль марки «Жигули»…».
В отличие от автопробега на «Победе» мы поехали «южным» путем —
через Петропавловск и Курган. Не доезжая его, заночевали в гостинице.
В дальнейшем проблему ночлега решили кардинально: на крыше
машины
установили
раскладную,
наподобие
«дипломата»
водонепроницаемую палатку, которая раскладывалась и складывалась ровно
за две минуты.
Влезали в нее и вылезали обратно по лестнице. Ширина палатки —
метр, поролоновый матрас обеспечивал удобство. Как нам завидовали те, кто
ночевал скрючившись в автомобиле или под дождем раскладывал на земле
обычную палатку!
Но все это в будущем. А пока мы в гостинице. Снова выдержка из
очерка:
«А ночью пошел дождь. Даже не дождь — ливень… Надо надевать
цепи… Выехали из двора чудом. Наш «Жигуленок» прошел там, где перед
этим проехали два трактора… Дорога скользкая, как растопленное масло,
возвышалась над местностью метра на два с половиной. Машина танцевала
на ней со скоростью 20 — 30 километров в час… Тридцать семь километров
сплошного месива! Нам повстречались лишь две машины: грузовик, утробно
урча, вытаскивал другой, застрявший поперек дороги».
Да, устроил я своей молодой жене суровейшее испытание. Но она
выдержала его с честью. Я получал удовольствие не столько от красот
природы, как Тамара, сколько от самого процесса вождения машины. И в
день «накатывал» до тысячи километров, бессовестно игнорируя ее просьбы
«отдохнуть немного на природе». Привело это к тому, что на обратном пути,
уже невдалеке от Омска, она потеряла сознание… И ни слова упрека!
Кстати, слово «упрек» в лексиконе Тамары отсутствует.
У читателя может сложиться мнение, что вся наша поездка была
сплошным мучением. Не стану описывать «стандартные» красоты советского
юга. Мы побывали и в Грузии, и в Кабардино-Балкарии, и в Крыму. Все эти
места хорошо известны читателям или по собственному опыту летнего
отдыха, или по телевизионным передачам.
А вот то, о чем говорится в отрывке, который я процитирую ниже,
известно только таким заядлым автотуристам, как мы. Не нынешним
(таковых, наверное, не сохранилось с времен распада Советского Союза), а
«тогдашним», чуточку «чокнутым», добровольно предпочитавшим салону
самолета или купе скорого поезда тесную кабину автомобиля.
Вот какими мы тогда были.
«Отправляясь
в
путешествие,
мы
готовились
к
худшему
и
рассчитывали главным образом на портативную плитку и кулинарное
искусство штурмана. Но ни тем, ни другим злоупотреблять не пришлось.
Особенно запомнился рассчитанный на автомобилистов трактир
(так названо это заведение на вывеске) «Золотой петушок» при въезде в
Пензу.
Деревянный,
сказочно
экзотичный
терем
с
четырехгранной
башенкой. На ней петушок. Вместо боя курантов раздается петушиный
крик. Рядом с «трактиром» площадка, на которой ночует не один десяток
машин. Стоянку «охраняет» бурый медведь, «резиденция» которого
примыкает к терему. Оформленный под русскую старину зал, деревянные
стены и потолок покрыты бесцветным лаком. С потолка свисают удачно
стилизованные «керосиновые» лампы. Деревянные, квадратные с резными
ножками столы и табуреты. На стенах полки с керамическими сосудами.
Официантки с русыми косами достают кушанья из «подов» большой
русской печи. Блюда подстать обстановке — в глиняных горшочках,
неописуемо вкусные…».
Aх,
зачем
через
несколько
лет
мы
решили
«посетить»
так
приглянувшийся нам «Золотой петушок»! Медведя и дух простыл, исчезли
русые косы, а сказать о блюдах, что они «неописуемо вкусные», наверное, не
захотел бы и нынешний (при советской власти их не было) бомж.
Ох уж эти ученые! И зачем они придумали слово «энтропия» и придали
ему свойство неизбежности…
Очерк заканчивался абзацем:
«…Родная Омская область встретила нас лучшей дорогой в мире —
подсохшим «грейдером». Сил вымыть машину уже не было, и омичи
провожали
взглядами
неизвестного
цвета
«Жигули»,
покрытые
шишковатым сантиметровой толщины слоем грязи».
С тех пор мы проехались по «земной оси» около десяти раз — на запад
и на восток, одни и с товарищами, которых сами же и соблазнили. Вот как
мы отдыхали в дружеской компании.
Об автомобильных путешествиях, в результате которых я стал
мастером спорта по автомобильному туризму, а Тамара получила первый
спортивный разряд, можно рассказывать долго. Но самое интересное я
приберег для следующей главы.
Глава двадцать четвертая. Наш Памир
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
Владимир Высоцкий
Передо мной еще один номер журнала «За рулем» — № 4, апрель,
1978. В нем на полный разворот наш очерк «Путешествие на крышу мира».
На обложку наклеена вырезка из «Правды»:
«Лучший маршрут — памирский
Омск, 13. (Корр. «Правды» В. Кирясов). Приятное сообщение
поступило на-днях из Москвы в адрес омича А. Плонского. Он стал
победителем Всесоюзного конкурса на лучший автотуристический маршрут
в честь 60-летия Великого Октября.
Руководимая им группа прошла труднейшими трассами Памира.
Александр Филиппович Плонский — доктор технических наук,
профессор местного политехнического института, мастер спорта СССР».
Раскрываю журнал… и не знаю, как поступить. Перемежать авторский
текст набранными курсивом выдержками из очерка? Тогда почти вся глава
окажется «в курсиве». И я решил просто воспользоваться очерком как
основой
главы,
сократив
его
в
несколько
раз
и
соответственно
отредактировав.
За четыре года, прошедшие со времени описанного в предыдущей
главе
путешествия,
было
еще
несколько
походов:
Прибалтика
и
Приэльбрусье, Военно-Грузинская дорога и Карпаты, наезженный асфальт
Черноморского побережья и пустынные кручи Нагорного Карабаха…
Но вот поздней осенью нам на глаза попалась напечатанная в
«Известиях» короткая заметка «Визит за облака». В ней рассказывалось о
трудном и романтическом труде водителей одной из самых высотных трасс
планеты — Памирского тракта.
Так родилась наша мечта — Памир.
В Киргизии, ныне печально знаменитом городе Ош, находилось ПАТО
— памирское автотранспортное объединение, насчитывавшее 650 грузовиков
ЗИЛ-130. Памирский тракт — единственная нить, связывающая столицу
Горно-Бадахшанской
автономной
области
Таджикистана
Хорог
с
окружающим миром.
Мы, не особенно рассчитывая на ответ, послали письмо главному
инженеру ПАТО Дарвишу Абдулалиеву, о котором упоминалось в
известинской заметке, и вскоре получили приглашение. Оставалось найти
спутников и ждать лета.
Нашими спутниками стали коллеги по институту Иван Яковлевич
Герасимов и Валерий Петрович Кокаулин с женами и детьми-подростками.
Как потом выяснилось, с попутчиками нам повезло.
Начались каникулы, и мы, заранее согласовав маршрут, тронулись в
путешествие, которое продолжалось 38 дней. За это время мы проехали 9550
километров.
Машины наших спутников — «Волга» ГАЗ-21 и «Москвич-412», в
отличие от безотказных «Жигулей», на спидометре которых было уже более
60 тысяч километров, в начале пути доставили нам неприятности, хотя и не
критичные.
На следующий день после старта с маховика «Волги» соскочил венец.
Но мастер на все руки Валерий Петрович прокернил их сочленение, и в
дальнейшем «старушка» вела себя безупречно.
А вот почти новый «Москвич» сразу же стал перегреваться. К счастью,
нам повстречалась станция обслуживания, где выяснили, что трубки
радиатора еще на заводе наполовину запаяли: видимо, не знали, куда деть
припой.
На
этом
злоключения
с
нашими
транспортными
средствами
закончились.
Я сознательно не расписываю по населенным пунктам наш маршрут:
ведь главное в моем рассказе — Памир, а точнее — Памирский тракт. Не
удержусь только от дорожных впечатлений.
Aх, какие у нас были ночлеги! На берегах волшебных озер и бурливых
горных рек, в зарослях шиповника и под нависшей скалой. До чего же было
приятно сдвинуть столики, подвесить переноску, обменяться впечатлениями,
поспорить и самую малость повздорить по пустякам!
Ах, какие у нас были дороги! Асфальт в шесть полос и изборожденный
глубокими колеями грунт, выгоревшая, сизая от полыни степь, пологие
холмы…
И вот, наконец, Ош. Он встретил нас солнцем, яркими красками,
характерным колоритом восточного города. Мы впервые почувствовали, что
находимся в Средней Азии — такой, какой себе ее представляли.
В
кабинете
главного
инженера
ПАТО
нас
встретил
Дарвиш
Абдулалиев, совсем еще молодой, энергичный человек с добрым прямым
взглядом.
— Я уже начал беспокоиться, сказал он, поздоровавшись. — Вы
должны были приехать позавчера.
Знакомимся с директором ПАТО Пайшанбе Мардонаевым. Нас
окружает толпа доброжелательно улыбающихся людей. Жмем руки,
обмениваемся приветствиями.
На следующий день я прочитал лекцию о современной научнотехнической революции.
Самое смешное, что в Омске я, беспартийный, был лектором обкома
КПСС, причем платным — за каждую лекцию мне платили 15 рублей. Мои
лекции прослушали все омские партийные деятели, начиная с секретарей
райкомов и кончая инструкторами. Но такой благодарной аудитории, как в
ПАТО, у меня еще не было.
Затем мы рассказали о нашем институте, о Сибирском автодорожном.
Масса вопросов, интерес несомненный.
Через день после приезда в Ош, рано утром, пять грузовиков
отправились по памирскому тракту в Хорог, затем в Рушан
и обратно.
Полторы тысячи километров той самой «Крыши мира», куда мы так
стремились. В каждом машине рядом с водителем по два пассажира.
Нам «достался» один из знаменитых памирских асов —водитель
бензовоза Имомбек Мамадодов. Он оказался прекрасным гидом. Мы узнали,
что два первых перевала со стороны Оша — Чийирчик и Талдык — это еще
не Памир. Он начинается с Алайской долины у поселка Сары-Таш. Отсюда
открывается панорама снежных вершин, словно отчеканенных на блеклой
голубизне неба.
По Алайской долине течет кровавая река — красная глинистая почва
растворена в воде. Вот потоки вырвались на дорогу, а рядом уже зеленая
река, дальше синяя. Разбитый асфальт, щебень, пыль.
На перевал Кызыларт (4280 метров) подъем крут, ползем на первой
передаче, хотя сам перевал, как, ров), легче, чем «допамирский» Талдык с
его серпантинами и безднами.
Кызыларт разделяет Киргизию и Таджикистан.
Едем по долине Маркансу («Долина смерчей», она же «Долина смерти»
из-за отбеленных солнцем костей). Место безжизненное. От реки, которая
текла здесь, остался лишь толстый слой сухого ила с глубокими трещинами.
В 254 километрах от Оша светло-синим кристаллом сияет соленое
озеро Каракуль.
За ним снова снежные вершины. Дорога напоминает русло реки.
Кругом песок со щебнем. Метров сто по дороге, и впрямь, будто по руслу,
бежит вода. В нескольких местах путь преграждают большие потоки,
особенно мощный перед Акбайталом (4655 метров).
С трудом форсируем этот поток и останавливаемся. Нужно плотно
поесть и морально подготовиться к штурму высочайшего из перевалов
Советского Союза. Сердца бьются учащенно, дышится с трудом: сказывается
высота.
Заночевали мы в Мургабе, на высоте более трех километров, в
общежитии шоферов. А рано утром уже снова были в пути.
В
123
километрах
от
Хорога
одна
из
памирских
достопримечательностей — сероводородные ванны. У реки горячий, почти
кипящий источник. На берегу два каменных домика — для мужчин и для
женщин. За раздевалкой — комната-ванна, куда самотеком по трубам
поступает вода: почти кипяток из источника и ледяная из реки. Температура
воды в ванне регулируется примитивным образом — с помощью камнейпоршней, вдвигаемых в трубы на ту или иную глубину.
Искупаться
в
горячей,
пахнущей
сероводородом,
приятно
пощипывающей кожу воде — истинное блаженство!
После Акбайтала, который мы перенесли достаточно хорошо, сам черт
был нам не страшен. К тому же вскоре наступила акклиматизация.
Возвращаясь в Ош, мы играли на перевалах в снежки.
Через несколько дней после возвращения у нас дома раздался
протяжный телефонный звонок.
— Как доехали? — послышался голос Дарвиша. — А то мы
беспокоимся. Благополучно? Ну, ждем снова!
Кто после этого скажет, что дружба народов это миф, придуманный
коммунистами?
Глава двадцать пятая. Мой Памир
Я вижу, как медленно течет время по высочайшим горам,
как заблудилось оно в сплетении глубоких скалистых теснин.
Павел Николаевич Лукницкий. Путешествия по Памиру
Дорог на свете много,
Но выше не найдешь От города Хорога
В далекий город Ош.
По кручам каменистым,
Смотри, не оборвись!
Машины-альпинисты
Карабкаются ввысь.
Бензин имей, во-первых,
Резиной дорожи
И главный козырь - нервы, Смотри, не растранжирь.
Держи баранку строго, Иначе не пройдешь
От города Хорога
В далекий город Ош.
И, скуку не приемля,
Кричу я на пути:
«Остановите Землю,
Я здесь хочу сойти!»
Но прыгает дорога,
Трясет машину дрожь
От города Хорога
В далекий город Ош.
И мерзли мы, бывало,
И ветер нас сгибал,
И много перевалов
Дарила нам судьба.
Ну что ж, приятель, трогай!
Костер наш был хорош.
В Хорог твоя дорога,
А наша - в город Ош.
Ю.Визбор
Памир притягивает человеческие сердца, как магнит железо. Покидая
Ош, я был уверен, что расстаемся мы ненадолго.
В списке моих научных трудов есть статья, опубликованная в журнале
«Автомобильный
транспорт»
под
прецизионным
названием:
«Опыт
эксплуатации автомобилей ЗИЛ-130 в условиях высокогорного Памира».
Соавторы: Пайшанбе Мардонаев и Дарвиш Абдулалиев.
Какое право имел я на соавторство в статье, далекой от моей
специальности? Может, я просто расспрашивал памирских асов, а затем
обобщил их опыт? Было, конечно, и такое.
Но, подписавшись под этой статьей, я все же не погрешил против
истины, потому что сам, за рулем бензовоза с пробегом полмиллиона
километров, прошел памирский тракт и на себе испытал, пусть малую, но
честно заработанную толику тяжкого труда памирских водителей. И при
этом чуть не поплатился жизнью…
Мне удалось совместить приятное с полезным. Полезное — мой
профессиональный интерес, связанный с прохождением радиосигналов в
горной местности. В этой связи между Омским политехническим институтом
и Памирским автотракторным объединением был заключён договор о
творческом сотрудничестве.
Теперь я мог оформить командировку и добираться до Оша воздушным
транспортом. Из Омска туда летали ЯК-40. И должен сказать, что полет над
горами намного страшнее, чем памирские перевалы. Потому что при отказе
двигателя приземлиться негде.
Вот так примерно выглядят горные хребты в иллюминаторе самолета.
В следующем, 1978 году, я снова оказался в Оше.
Меня встретили как дорогого гостя. А это означает два дня
непрерывного праздничного угощения. На земле расстилается ковер. Сначала
появляются в несметном количестве фрукты, начинается неспешный
разговор. Мы сидим на том же большом ковре и обмениваемся дружескими
словами. Потом появляются плов, шурпа и прочие яства. Вина ни-ни! —
Коран не допускает. Зато водки — залейся. Справедливости ради отмечу, что
в рабочее время памирские водители ведут исключительно трезвый образ
жизни.
На завтра празднество повторяется.
А на третий день, в знак особого уважения к гостю, сам Дарвиш
Абдулалиев приглашает меня в «Волгу» ГАЗ-24 для поездки в Хорог по уже
известному мне Памирскому тракту.
Мы с Дарвишем на заднем сиденье, шофер-узбек — впереди. На
робкую просьбу пустить меня за руль узбек не то, чтобы отвечает отказом, а
просто делает вид, что не понимает по-русски. А Дарвиш дипломатично
молчит.
Здесь напрашиваются пояснения: узбек — персональный водитель
Пайшанбе Мардонаева, ни разу не ездивший по памирскому тракту, а
«Волга» — вариант такси с двигателем меньшей мощности, рассчитанным на
низкооктановый бензин. Смысл этих пояснений будет ясен читателям позже.
Итак, мы благополучно миновали два первых перевала, а при подъезде
к Кызыларту нашему водителю стало плохо. Он остановил машину,
пошатываясь, вылез из нее, перебирая руками по капоту, подошел к
пассажирскому сиденью, открыл рывком дверь и ввалился внутрь.
Настала пора моего торжества: не спрашивая разрешения, я вышел из
«Волги», сел за руль и тронулся. Сразу почувствовал, насколько «тупая»
(термин
понятен
водителям)
машина
мне
досталась
во
временное
пользование, но, «подхлестнув» ее, благополучно преодолел и Кызыларт, и
Акбайтал.
Конечно же, мы не миновали и сероводородные ванны, но испытали
еще одно, непредвиденное, «удовольствие».
Уже невдалеке от Хорога
ответвляется и уходит выше, в горы, к
«верхнему кишлаку» узкая «тропа», по которой может проехать только
вездеход УАЗ-469. При этом разъехаться две встречные машины не могут.
Строго соблюдается расписание: днем, если память не изменяет, —
вверх, вечером — вниз.
Мы пересели в УАЗ, и нас повезли в горы. Но высота была уже не
столь велика, поэтому вокруг простиралась пышная зелень.
Не буду описывать прием, который нам оказали. Такие радостные
впечатления выпадают не каждый день. Да и важно другое. Когда через
несколько часов мы спустились вниз, то не узнали место, которое покинули
не так давно.
Прошел сель, наша «Волга» была полна воды, ее откачивали. Работала
комиссия, словом, я лишний раз убедился, что Памирский тракт не для
легковых автомобилей.
А вот на «ты» с Памирским трактом я перешел лишь в следующем,
1979 году. Не буду описывать двухдневное традиционное празднество,
которое предшествовало очередной поездке по Памирскому тракту. Скажу
только, что на этот раз водитель бензовоза, на котором в качестве пассажира
должен был ехать я, переусердствовав в празднестве, получил тяжелое
алкогольное отравление.
Его погрузили в, мягко говоря, неработоспособном состоянии, а за руль
сел я. Никого не смущали мои «любительские» права, благо ни одного
автоинспектора я так и не увидел.
В коробке передач ЗИЛ-130 нет синхронизаторов, поэтому водитель, не
знакомый с «перегазовками», вряд ли справится с вождением этого
автомобиля.
К счастью, на моей первой «Победе» тоже не было синхронизаторов, и
я волей-неволей изучил искусство «перегазовок». А это, как езда на
велосипеде или работа на телеграфном ключе, запоминается на всю жизнь.
Должен добавить, что на сей раз вместе со мной в Ош прилетел
спутник по первому путешествию Валерий Петрович Кокаулин. Но ему
повезло меньше — его «подсадили» в качестве пассажира на бензовоз к
пятидесятилетнему узбеку.
«Мой» бензовоз был старенький, дребезжащий — того и гляди
развалится — с пробегом полмиллиона километров.
Бензовоз узбека — новехонький, ухоженный. Добавлю, что таких
виртуозов, как этот пятидесятилетний узбек, я больше не встречал. Когда с
крутой извилистой горы я съезжал на второй передаче, он, отпустив руль и
охватив ладонями лицо, с возгласом «Аллах Акбар!» включал прямую.
Видимо, и впрямь в этот момент его бензовозом управлял сам Аллах.
Тронулись мы в путь друг за другом. Узбек впереди, я за ним. Но
постепенно он прибавлял скорость и все более отрывался от меня. Вскоре я
остался лицом к лицу с Памиром (если не считать «мертвого тела»,
храпевшего справа от меня).
Сейчас как раз время сравнить Памир с Нагорным Карабахом. Там и
там, в метре от машины, обрыв. И пока не наберешься опыта вождения по
горным дорогам, лучше не смотреть вниз. Потом привыкаешь.
И на Памире, и в Нагорном Карабахе немало обрывов, граничащих с
дорогой. Но памирские обрывы наклонные, а карабахские — отвесные. В
принципе никакой разницы: если свергнешься с любого из них, результат
будет одним и тем же. Это как прыжок без парашюта с километровой
высоты. Только в одном случае — кувырком, а в другом — свободным
падением.
Управляя доверенной мне машиной, ни о чем подобном я, естественно
не думал. Ехать пассажиром и вести тяжелую машину в горах, отслеживая
каждый изгиб дороги, — несопоставимо. Насколько легко я переносил
высоту, сидя рядом с водителем, развлекающим меня памирскими притчами,
настолько тяжело прочувствовал ее в роли шофера.
К тому же акклиматизация наступает на вторые сутки, а до этого тебя
мучают затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, нестерпимая
головная боль и холод. Кутаешься в бараний тулуп и не можешь согреться.
Усталость, странное чувство, что ты затерян во Вселенной…
Взгляните на эту фотографию, и поймите мои чувства…
Но вот я перевалил «Белую лошадь» — Акбайтал. Впереди поселок
Мургаб, общежитие шоферов, горячий сладкий чай, отдых…
Ставлю бензовоз в ряд с другими грузовиками, размещенными кольцом
по периметру большого плаца, и плетусь в общежитие.
Готовясь к поездке, я прочитал несколько пособий по альпинизму. В
одном из них рекомендовалось перед сном выпить таблетку снотворного и
две таблетки глюкозы. Я так и сделал, а сам, обессилевший настолько, что
отказался от ужина, лег, не раздеваясь, на койку и поверх одеяла накинул
бараний тулуп: меня бил озноб.
Сразу же провалился в сон. Как мне показалось, тут же меня затрясли
за плечи, и я услышал встревоженный голос Кокаулина:
— Вы умираете?
Я прислушался к себе и недовольно спросил:
— Зачем вы меня разбудили?
Оказывается, у меня началось так называемое чейнстоковское
прерывистое дыхание — признак
приближающего
конца.Чейнстоковское
дыхание — медицинский термин. В моем случае оно было связано, помимо
нехватки кислорода, с тяжелой физической и нервной нагрузкой, которую я
испытал.
Валерий смотрел по сторонам, восторгался инопланетными красотами
Памира, словом, несмотря на разреженный воздух, отдыхал.
Я же сидел в напряженной позе, ворочал тяжелый руль, неотрывно
следя за дорогой, переключал передачи.
В следующей главе я расскажу о своем сыне. Если бы кто-то вовремя
потряс его за плечо, он тоже остался бы жив.
Очнувшись, как после тяжелого наркоза, я встал и вышел под открытое
небо,
непривычно
высокое,
усыпанное
мириадами звезд.
Присел,
попробовал заснуть. Но как только веки слипались, голова падала на грудь,
дыхание тотчас перекрывалось, и нужно было сделать несколько глубоких
вдохов.
Так я и не смог заснуть всю ночь. А к утру наступила акклиматизация,
слабость отступила и мы двинулись в путь. Я мог бы продолжить рассказ об
этой поездке, но главное сказано. И, пожалуй, лучше, душевнее, чем Визбор,
рассказать о Памире невозможно. Спасибо ему за чудесный эпиграф!
Покидая Ош, я не догадывался, что больше никогда не проеду по столь
полюбившемуся мне Памирскому тракту.
Мне и в горячечном сне не могло привидеться, что уже через несколько
месяцев мое родное правительство развяжет бессмысленную кровавую
авантюру, вторгнувшись в Афганистан. Авантюру жестокую, кровавую,
стоившую стольких жизней русских солдат и афганцев, родичей памирцев,
которые так по-братски меня привечали. Авантюру, превратившую самую
мирную страну на свете в арену неутихающей братоубийственной бойни.
Глава двадцать шестая. Памир моего сына
Если я не вернусь, когда в горы уйду,
Не ищите меня, проклиная беду.
Я ушел к тем ребятам, что остались в горах,
Что живут в наших душах и приходят во снах.
…………………………………………………………….
И никто не услышал то ли стон, то ли вскрик,
Горы вечны, а жизнь пролетает, как миг.
Это просто черта между светом и тьмой,
Это встречи, мечты и дорога домой.
Олег Савватеев. Если я не вернусь…
Известно, что в соответствии с принципом «сапожник без сапог» у
преподавателей нередко случаются трудные сыновья. К моему сыну и тезке
это нисколько не относилось. Но в силу жизненных обстоятельств я не
уделил достаточно времени его воспитанию, не приблизил к себе, не дал ему
отцовского тепла. И теперь пожинал плоды...
Сын вырос самостоятельным, независимым и отчужденным. Окончил
институт — не тот, где преподавал я, никто профессорского сынка не
«курировал». Мог получить «красный» диплом, но не пожелал пересдать
единственную тройку. Работал системным программистом в проектноконструкторском институте. Был на хорошем счету и вскоре стал
начальником сектора — по заслугам.
Об аспирантуре не думал. Зато к своей профессии программиста, одной
из самых современнейших, относился серьезно, гордился ею, строил планы
на будущее, но избегал обсуждать их со мной, ограничиваясь намеками.
Сын избежал «вещизма». Одевался просто, даже небрежно, не гонялся
за модой. Женился на милой и скромной девушке, учительнице младших
классов. В ожидании квартиры снимал комнату.
Всерьез увлекся альпинизмом и каждый отпуск проводил в горах. И
злополучная «тройка», лишившая его «красного» диплома, была за то, что
вместо производственной практики поехал на сборы альпинистов.
Играл на гитаре, сочинял и пел песни. На мой взгляд, голос у него был
далеко не певческий, но в слушателях недостатка не замечалось: видно,
сверстники исходили из иных критериев, чем я.
Жили мы в разных городах, виделись от случая к случаю. При встречах
говорили о вещах малозначительных, словно условившись, раз и навсегда, не
касаться щекотливых тем.
Я догадывался, что сын не испытывает ко мне особой любви, и
принимал это как должное. Но относился он ко мне с уважением, правда,
скорее как к ученому, а не к отцу.
И еще я видел — не мог не видеть, — что сын пытается по-своему
равняться на меня, возможно, рассчитывает (дай-то бог!) превзойти, но хочет
добиться всего сам, без моей подсказки.
Чувствуя это, я не навязывал сыну советов. Искренне желал ему
счастья, сознавая, остро и порой болезненно, свою непричастность к его
дальнейшей судьбе.
То, что вы сейчас прочитали — незначительно измененный отрывок из
рассказа «В разных вселенных». В свою очередь, рассказ — из моей книги
«Будни и мечты профессора Плотникова».
Эта книга — первый опыт биографической фантастики. В ней
каждому фантастическому рассказу предпослан вполне реалистический
очерк из моей жизни.
Естественно, книгу нельзя было назвать «Будни и мечты профессора
Плонского». В рукописи герой книги носил фамилию «Браницкий». Но по
настоянию незабвенного Александра Петровича Казанцева фамилию, имя
и
отчество героя приблизили к таковым автора. Поэтому в начальном
фрагменте главы я только заменил Плотникова собой.
Фантастическая компонента рассказа «В разных вселенных» оказалась
пророческой.
Случилось так, что после опубликования книги у меня взяла интервью
корреспондентка газеты «Новороссийский рабочий». По ходу беседы она
попросила меня прочитать один из рассказов. Я наугад раскрыл книгу.
Открылась страница с новеллой «В разных вселенных».
Я прочитал ее. И вдруг журналистка расплакалась.
Не отношу себя к сколько-нибудь большим писателям. И, конечно, не
мое мастерство так растрогало эту милую женщину. Видимо, сыграл роль не
осознанный мною самим трагизм рассказа.
С момента опубликования книги прошло три года. И вдруг (такое чаще
всего случается именно «вдруг») мне сообщили по телефону о гибели сына.
Не стану писать о том, как я воспринял это страшное известие. Скажу
лишь, что машинально произнес: «сегодня я получу от Саника письмо».
И я его получил в тот же день! Сын писал, что после восхождения на
Пик Коммунизма обязательно приедет к нам. А позже Лена, его жена,
рассказала, что перед отъездом на Памир он произнес примерно следующее:
«Я почему-то чувствую, что никогда больше не увижусь с отцом».
7 августа 1991 года мой сын и тезка Александр Плонский погиб при
восхождении на высочайшую вершину Памира, по горькой иронии
названную "Пик Коммунизма". Покорить эту вершину было его давней
мечтой. И, почувствовав недомогание, он скрыл его от товарищей. А во
время ночлега, где-то посередине подъема, умер. Как выяснилось потом, —
от ураганного (на высоте!) воспаления легких...
Лежа бок о бок с друзьями в тесной палатке, он не потревожил их
предсмертным стоном.
Пик Коммунизма
Кому-то такая смерть покажется нелепой, лишенной смысла. Но я
вижу в ней героическое начало. Он выбрал цель на пределе своих жизненных
сил — и не отступил до конца, не предал своей мечты.
Похоронили его спустя 11 дней рядом с могилой моей матери.
Заключение
Где-то там, на границе сознанья,
Где не ведают горя, тоски,
Я стою на краю мирозданья,
На обрыве вселенской реки.
Ее воды несут лишь обломки
Затонувших моих кораблей,
И осколки мечты моей ломкой
Растворяются медленно в ней.
Корнелий Рендер. На краю
Насколько понимаю, мемуары пишут раз в жизни. И скорее всего на ее
краю. В будущем году мне исполнится 85. Так что сейчас самое время писать
мемуары. Но их ли я написал? Заглянем в энциклопедию:
«Мемуары
(франц.
Mémoires), записки современников
—
повествования
о
событиях, в которых автор М. принимал участие или которые известны
ему от очевидцев. От хроник современных событий М. отличаются тем,
что в них на первый план выступает лицо автора, со своими сочувствиями и
нерасположениями, со своими стремлениями и видами».
Если верить энциклопедии, эта книга на самом деле мемуары. И все же,
даже получив от первоисточника такую поддержку, я не испытываю
удовлетворения.
И не только потому, что подводит память.
В пятидесятые годы вышла моя книга «Заглянем в будущее». Как я
уже упоминал, она была написана не по указке партийных органов, никакая
цензура ее не коснулась.
С превеликим удивлением, «кочуя» по интернету, я узнал, что эту
книгу и ряд других моих книг можно купить даже сейчас, как антикварное
издание (иногда с припиской «прижизненное»).
А сегодня я бы не взялся за такую тему, поскольку совершенно не
представляю, каким окажется будущность человечества. Порою мне кажется,
что природа расплачивается с нами за то зло, которое мы ей (и себе)
причинили…
Хочу коснуться того, о чем не сказано в энциклопедии. Мемуары не
должны превращаться в некий душевный стриптиз. И я сознательно умолчал
о многом сокровенном, которое верующие выплескивают на исповеди.
Признаюсь, эта небольшая книга далась мне с трудом. Я как бы заново
проживал свою жизнь, что было порой невыносимо больно. Ведь мне
приходилось общаться с дорогими мне людьми, которых уже нет на свете. С
моими родными, с Владимиром Ивановичем Сифоровым, с Александром
Петровичем Казанцевым, с Владимиром Андреевичем Мезенцевым, со
многими другими.
Собственно, за малым исключением герои этой книги переступили
порог вечности. И особенно обидно, что среди них немало тех, кто намного
моложе меня, кто были моими учениками. Из тридцати трех подготовленных
мною кандидатов наук трех уже нет.
Я мог бы написать еще много страниц о событиях, свидетелем либо
участником которых был, о живущих и ушедших замечательных людях, но,
наверное, не хватило душевных сил.
Скорее всего, это моя последняя книга, и я надеюсь, что она найдет
своего читателя.
Август 2010 г.
Оглавление
От автора
Глава первая. Истоки
Глава вторая. Я не знал, что такое соска
Глава третья. Мои родители
Глава четвертая. И была война...
Глава седьмая. Неразгаданная тайна или Разгаданная тайна
Глава восьмая. Расстрел
Глава девятая. Глупости, которые я совершал
Глава десятая. Жизнь продолжается
Глава одиннадцатая. Мои НИИ
Глава двенадцатая. Мои ученые степени
Глава тринадцатая. По бездорожью науки
Глава четырнадцатая. Птенцы из моего гнезда
Глава пятнадцатая. Я - преподаватель
Глава шестнадцатая. Кто я - писатель или графоман?
Глава семнадцатая. Редактор
Глава восемнадцатая. На радиовещании и телевидении
Глава девятнадцатая. UA3DMи UA3CR
Глава двадцатая. Газетный комментатор
Глава двадцать первая. Мой ангел-хранитель
Глава двадцать вторая. Я и автомобиль
Глава двадцать третья. Я, Тамара и автомобиль
Глава двадцать четвертая. Наш Памир
Глава двадцать пятая. Мой Памир
Глава двадцать шестая. Памир моего сына
Заключение