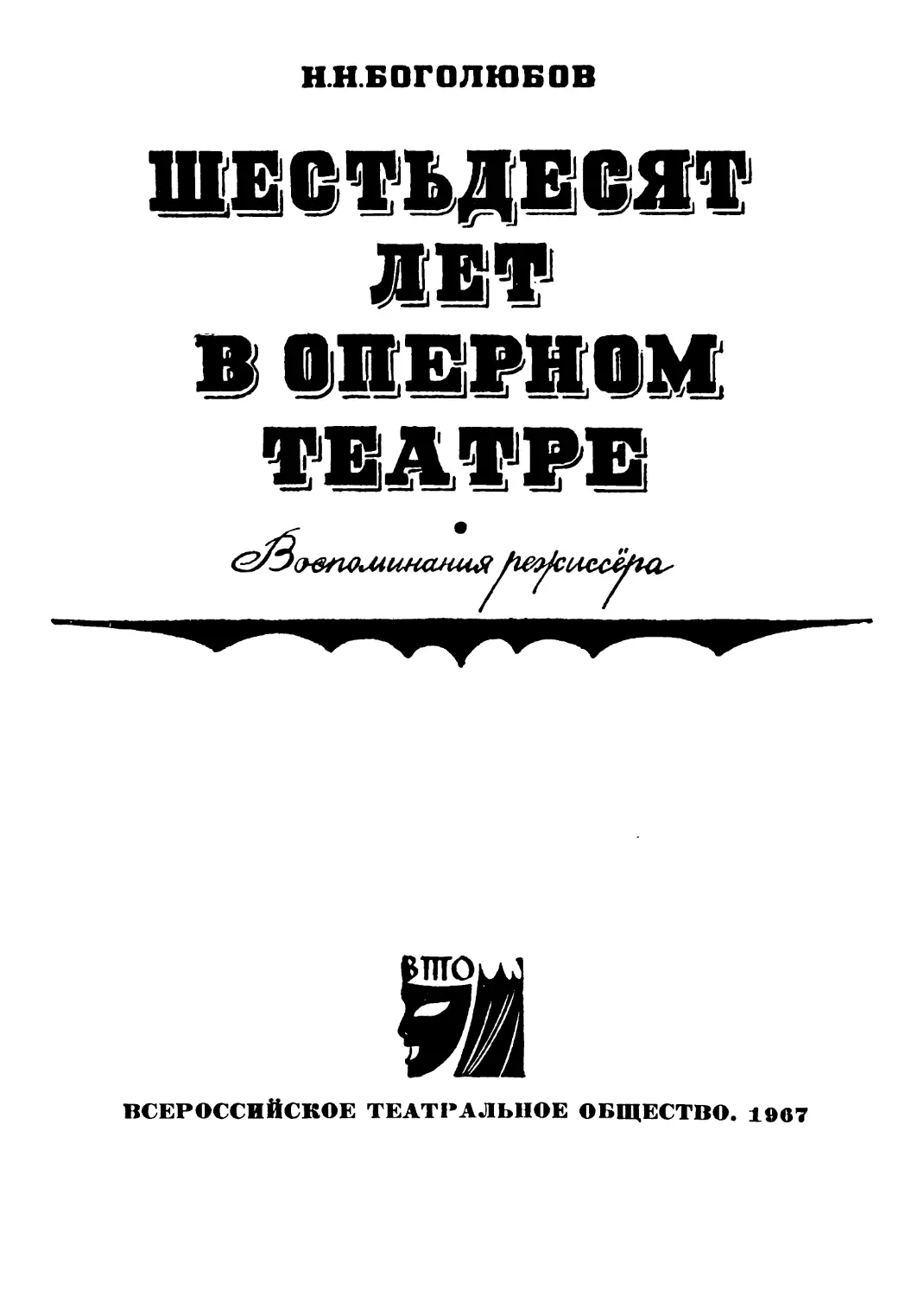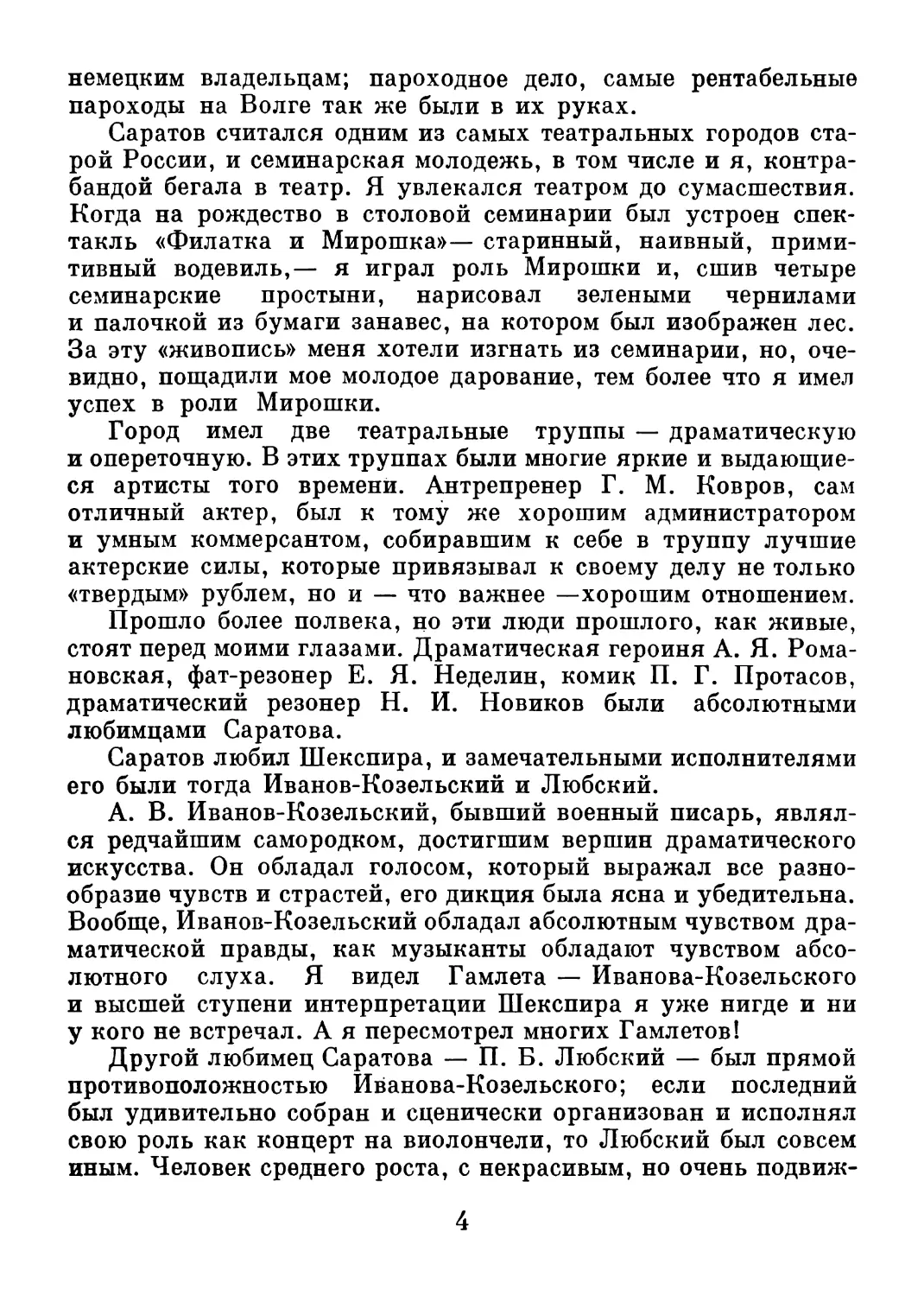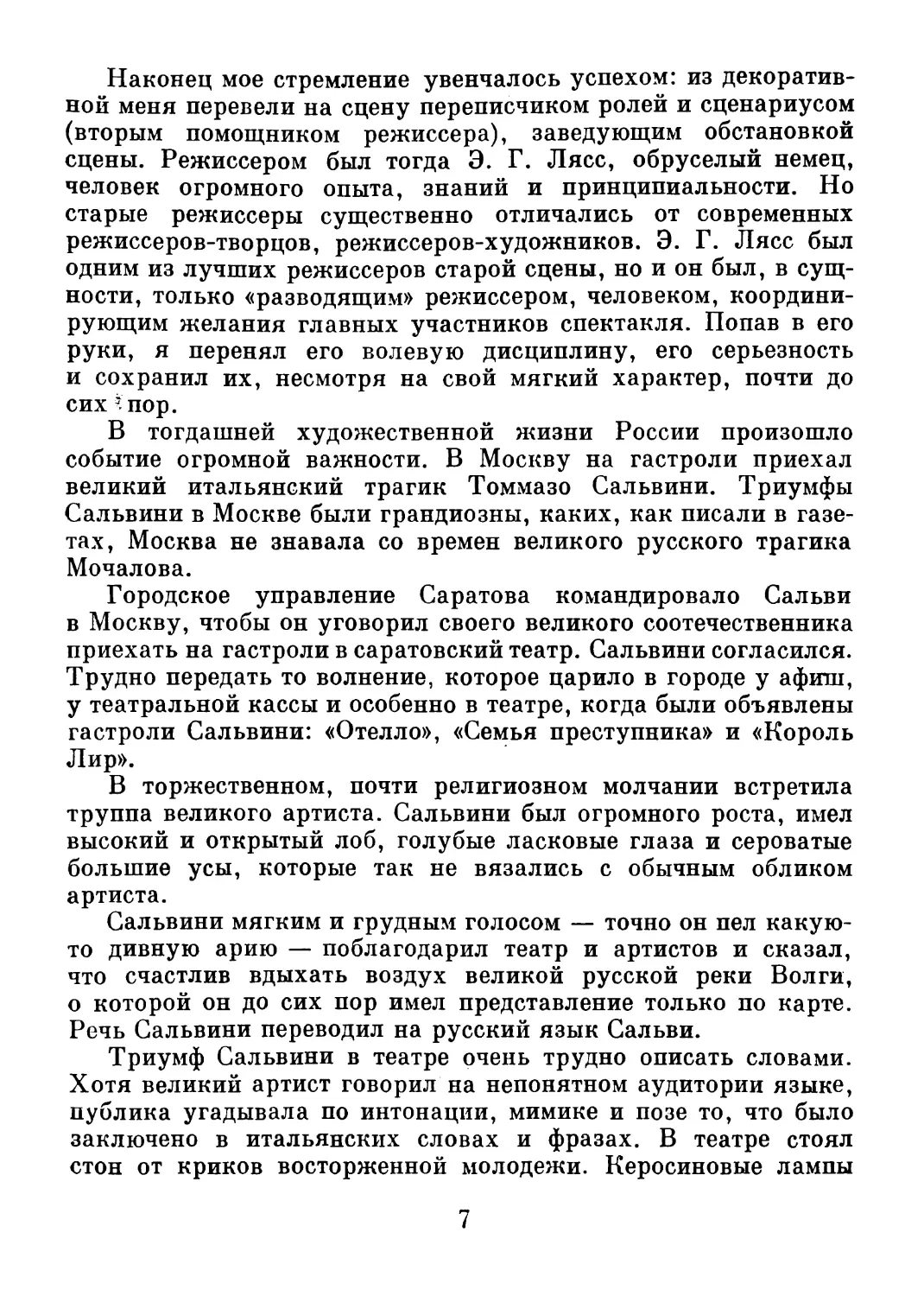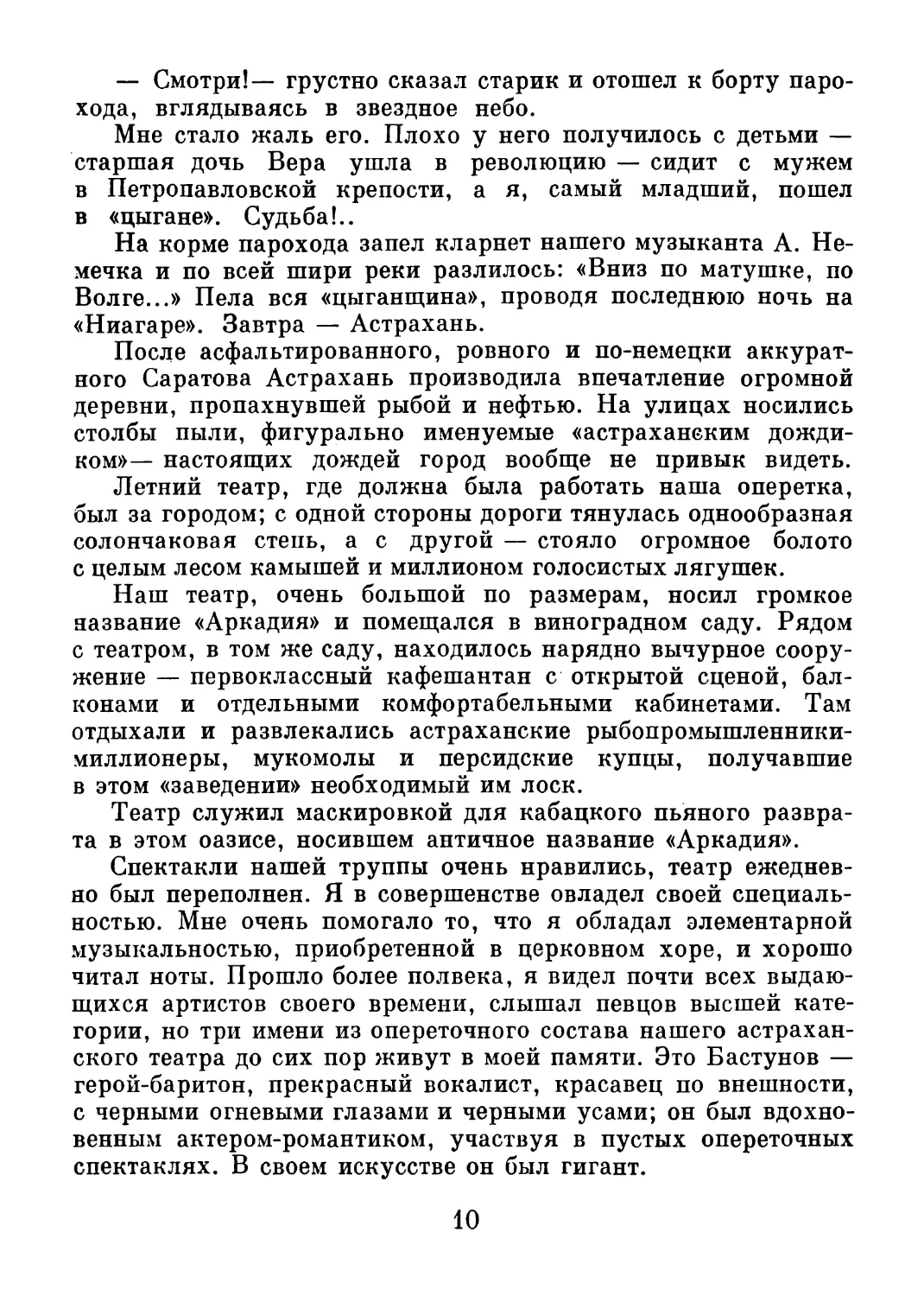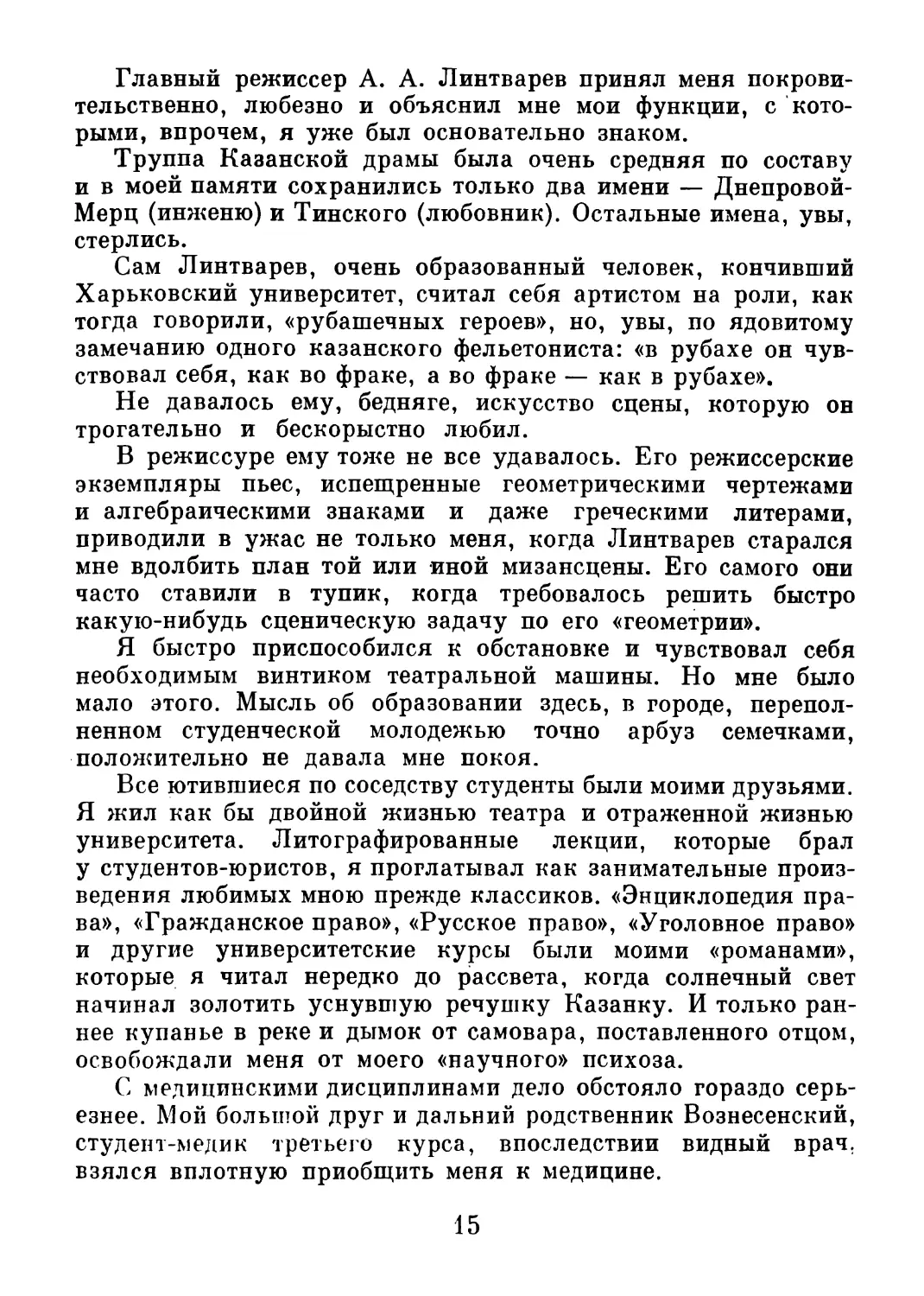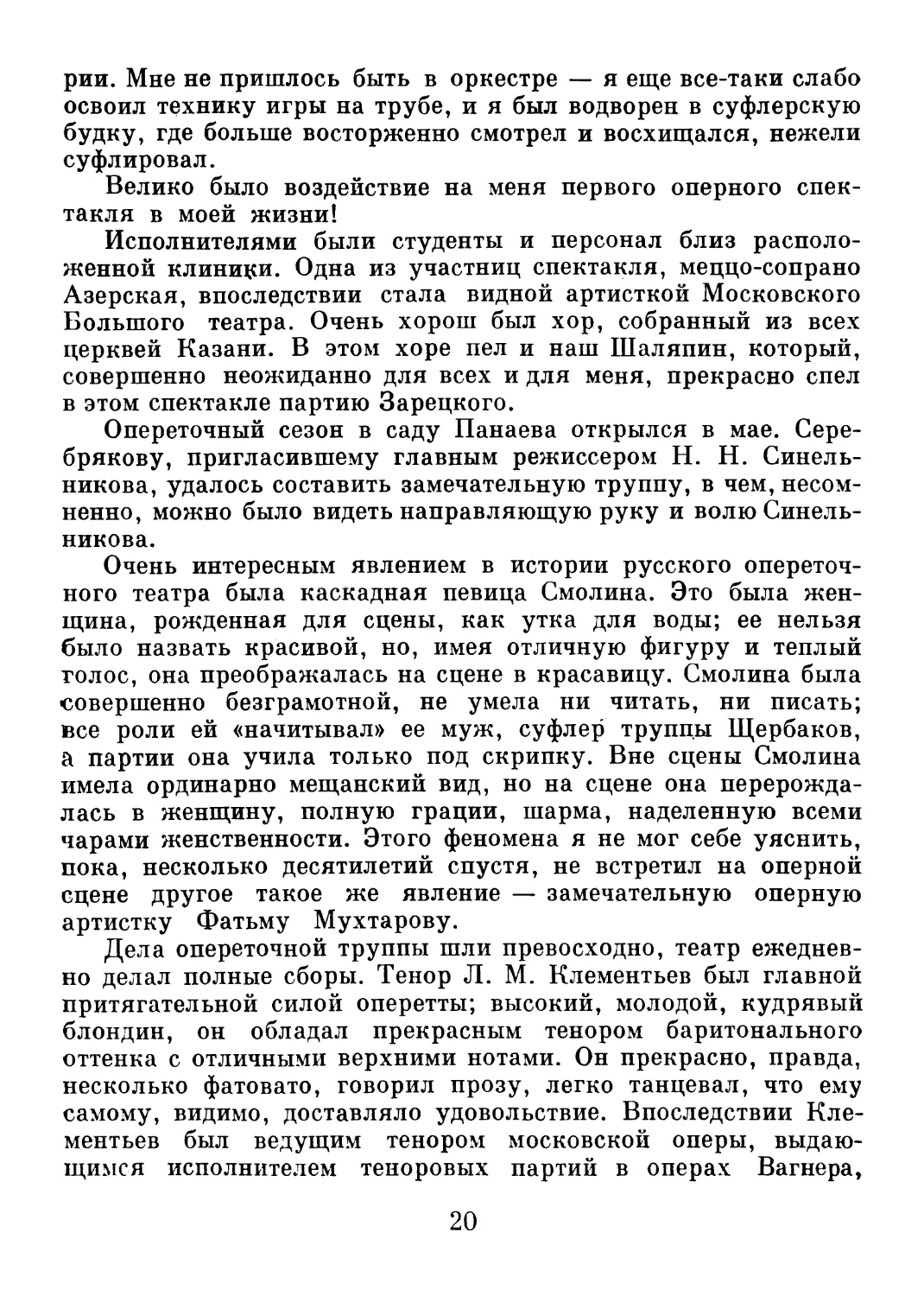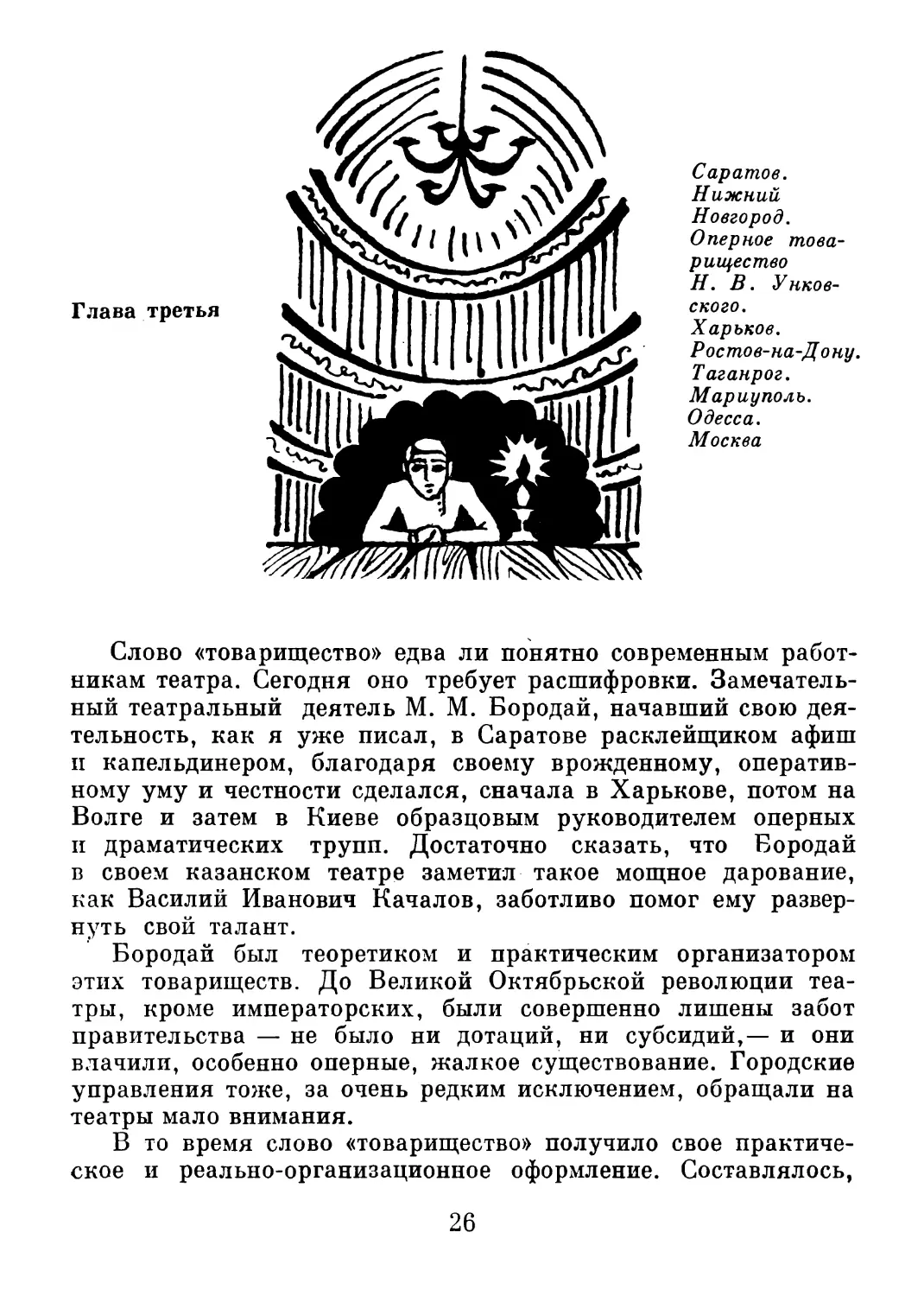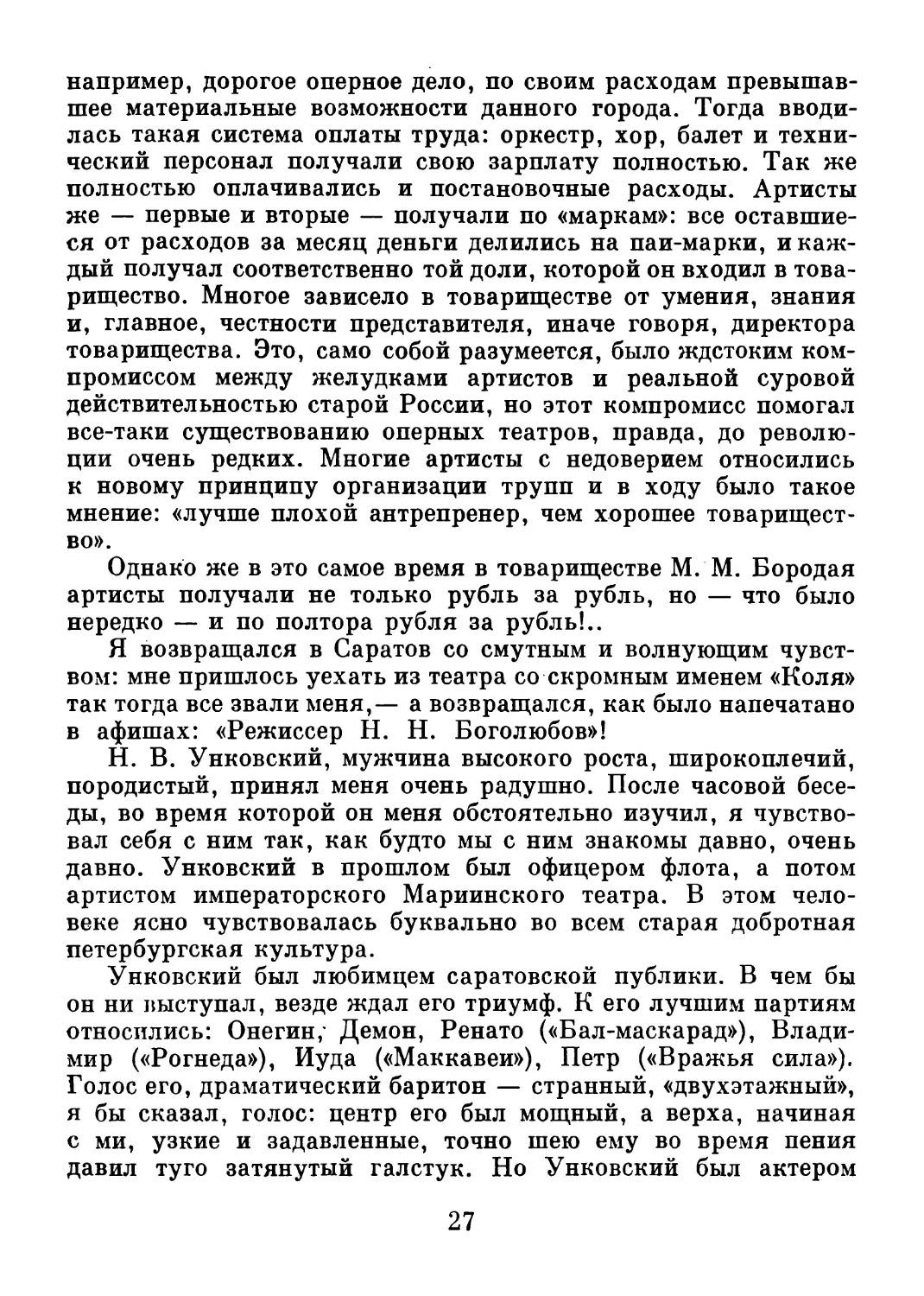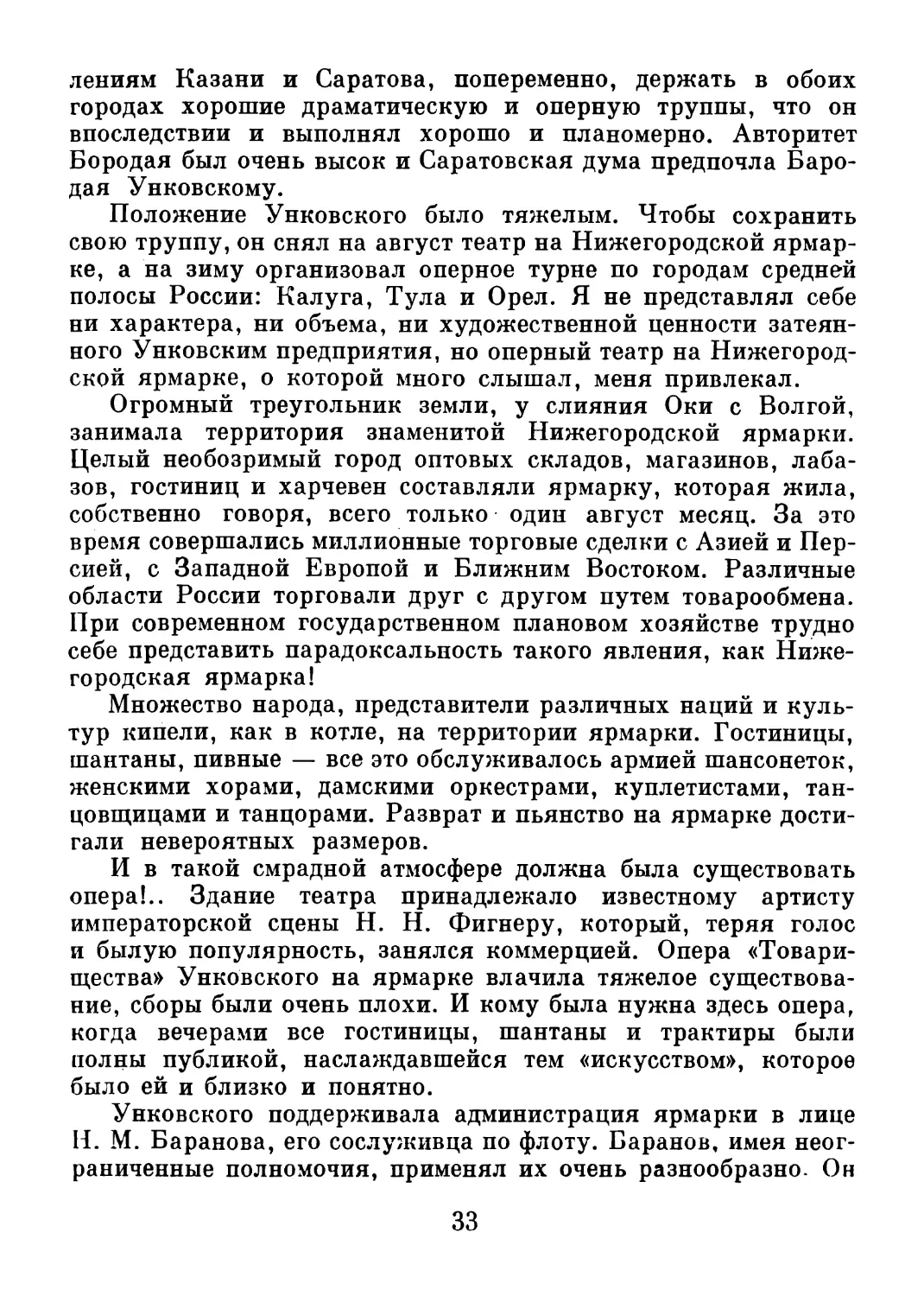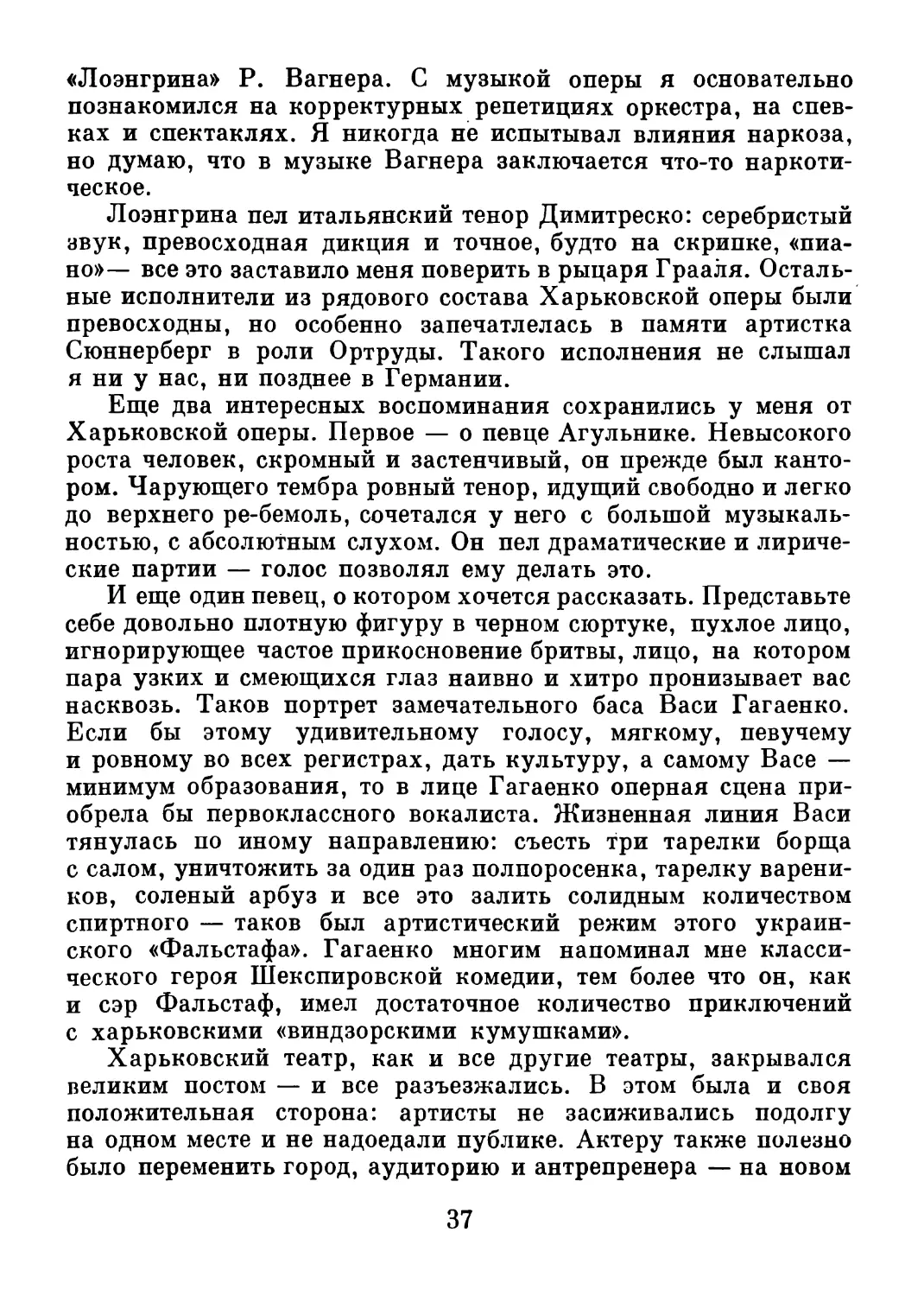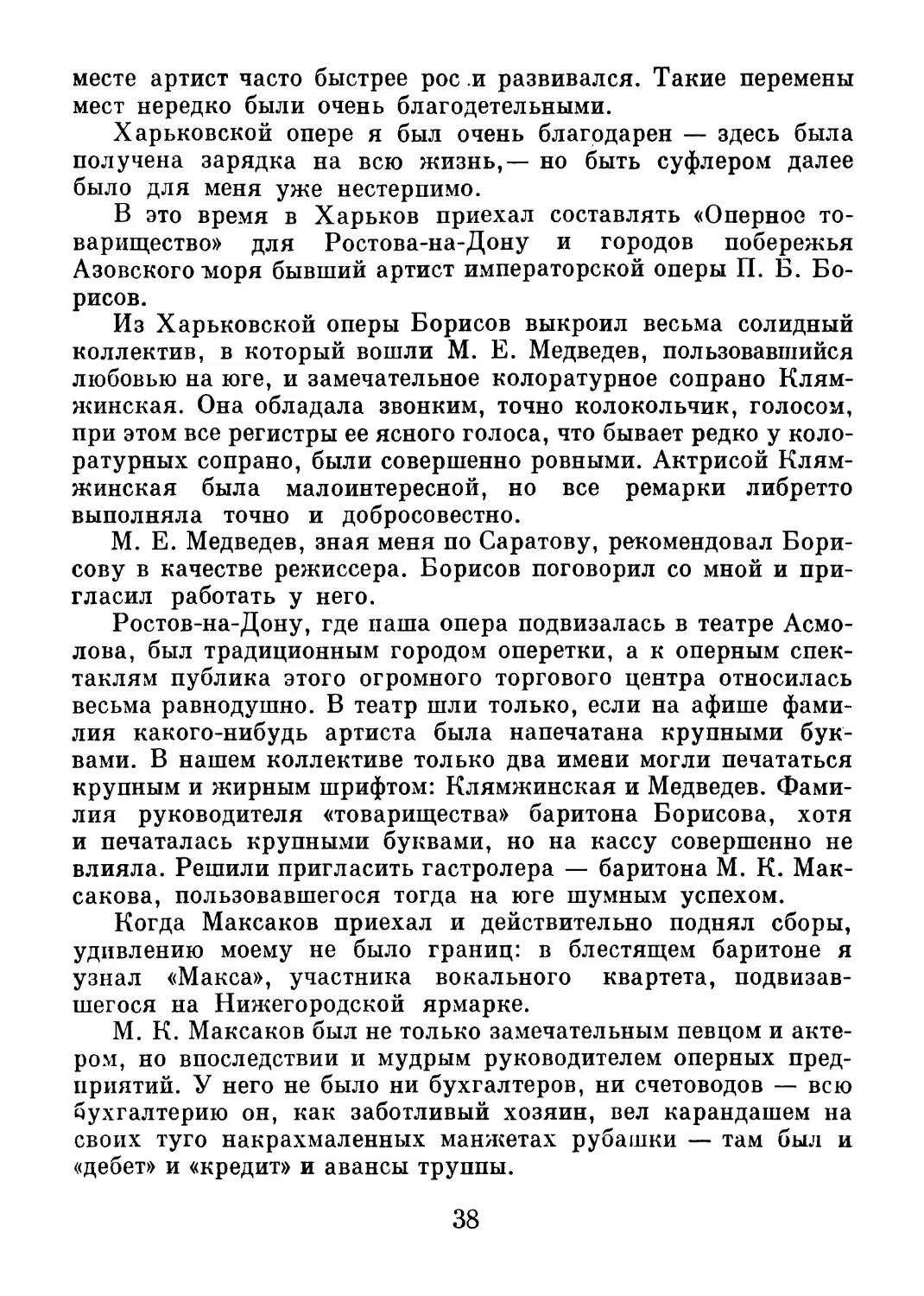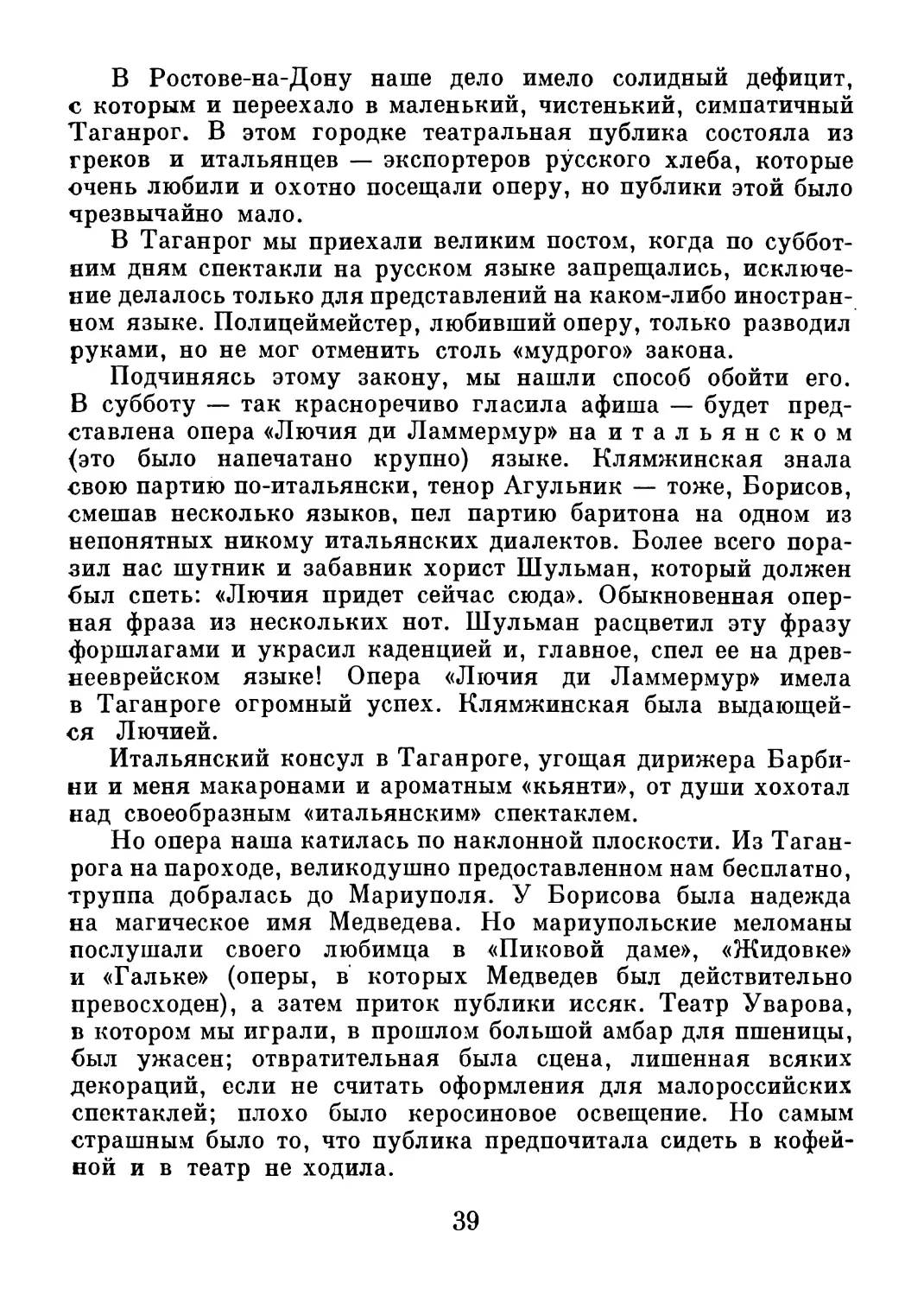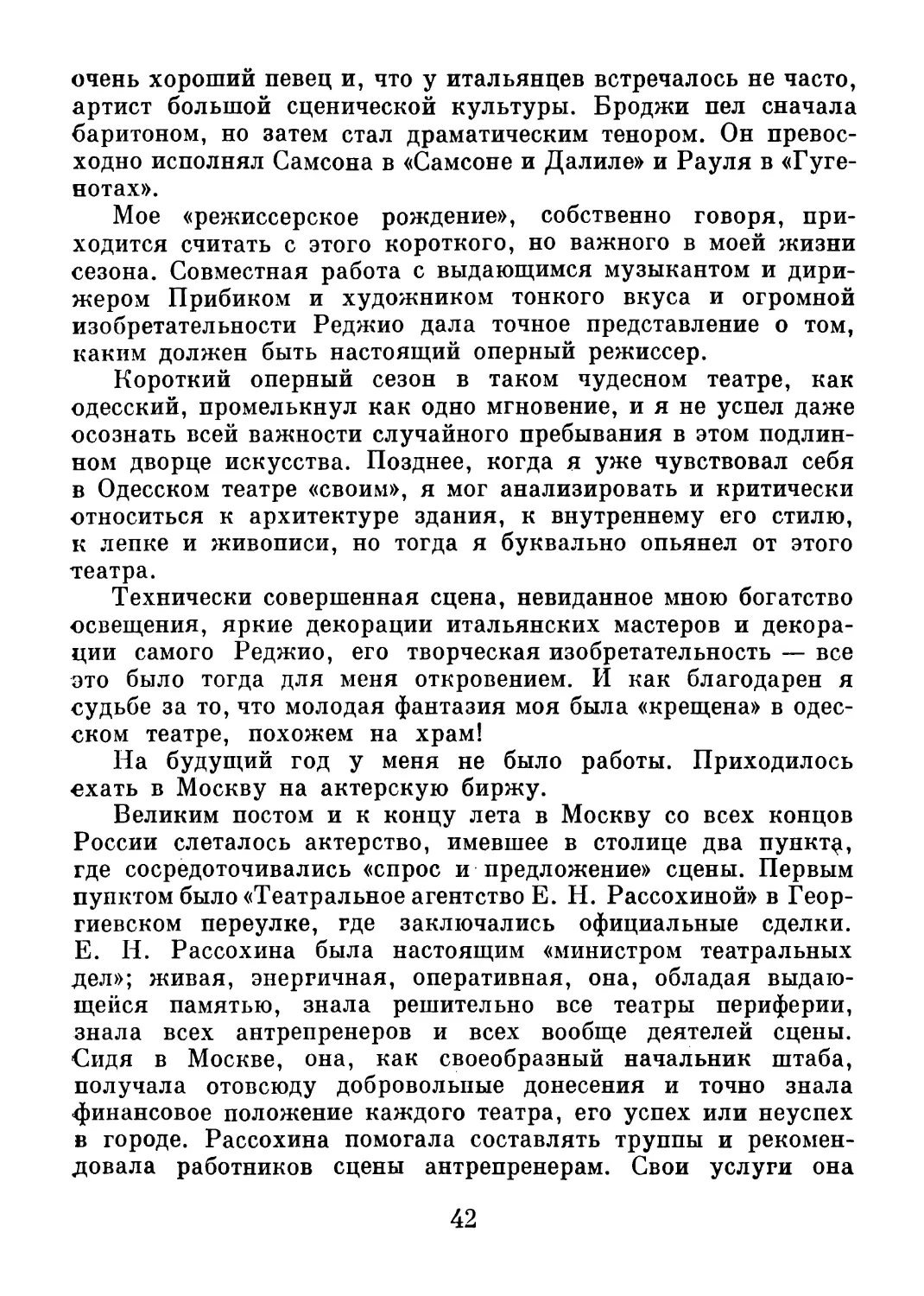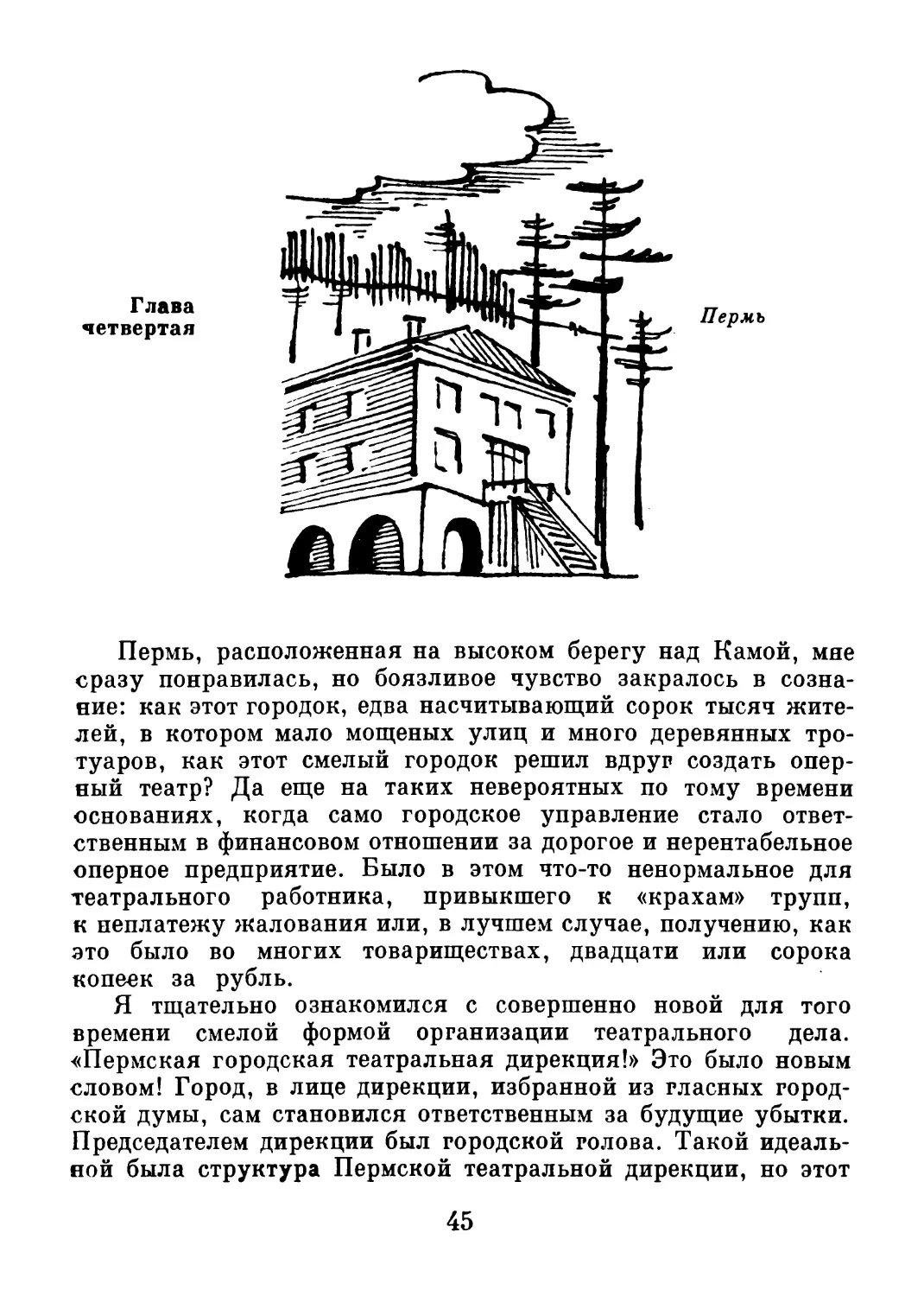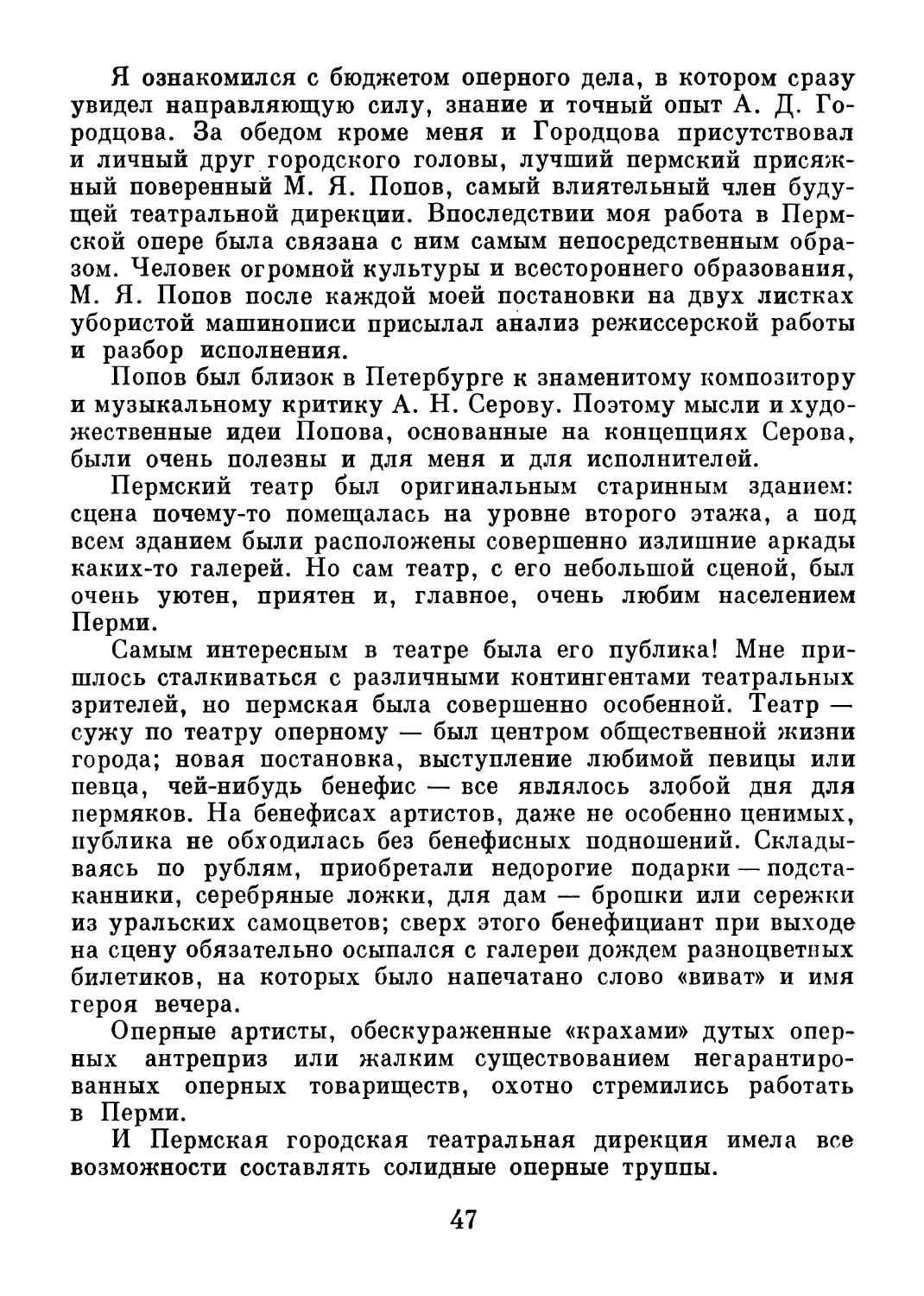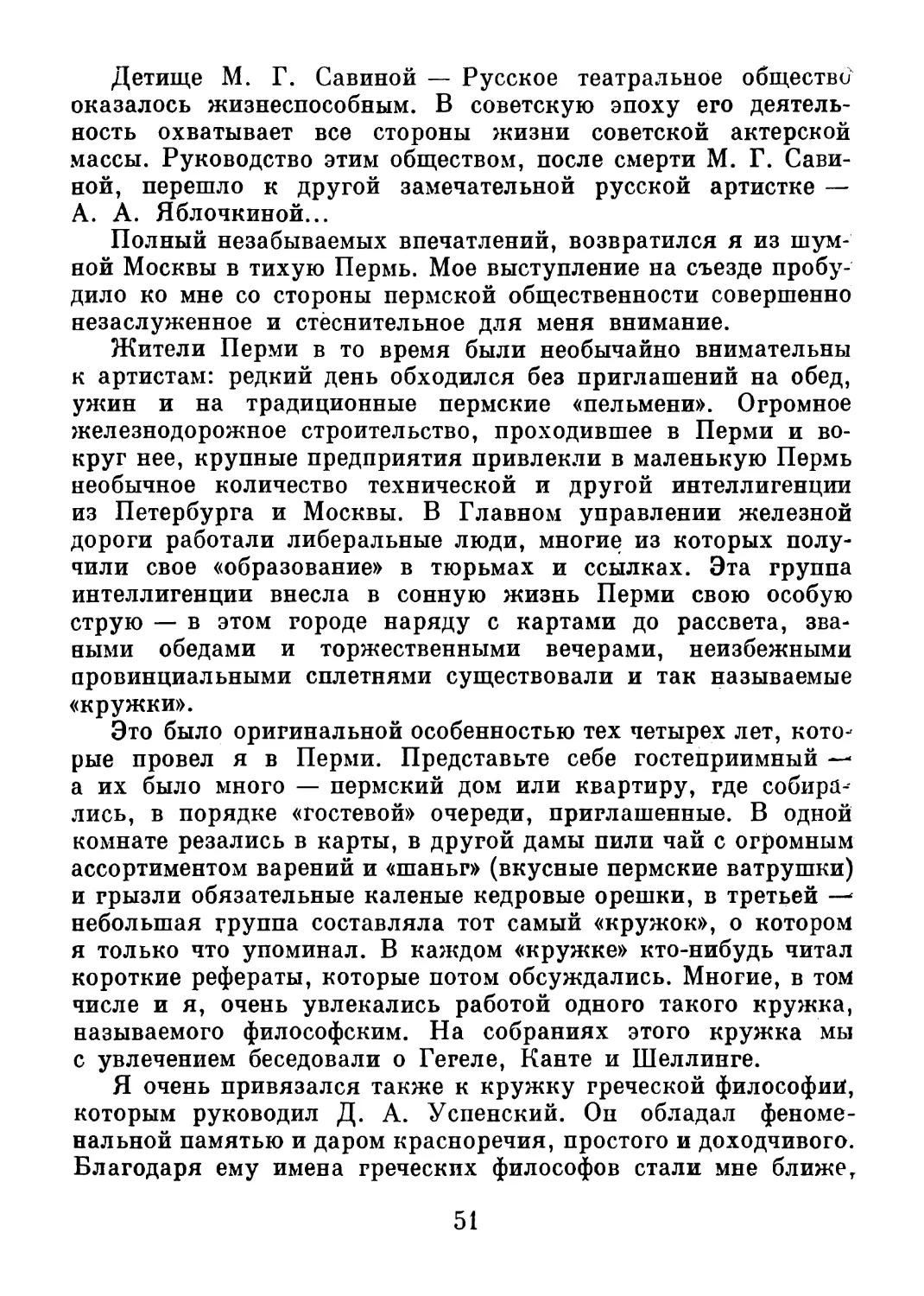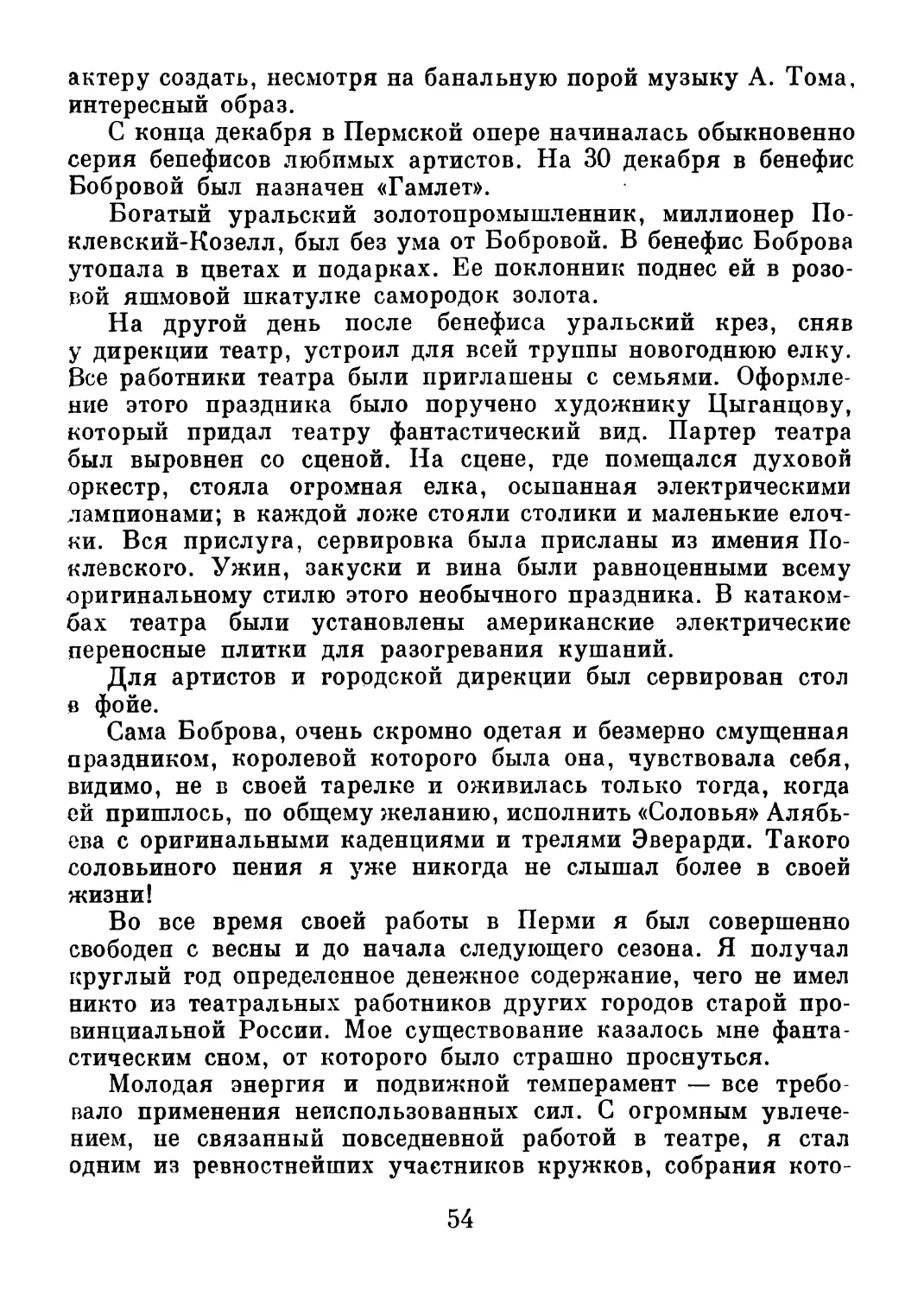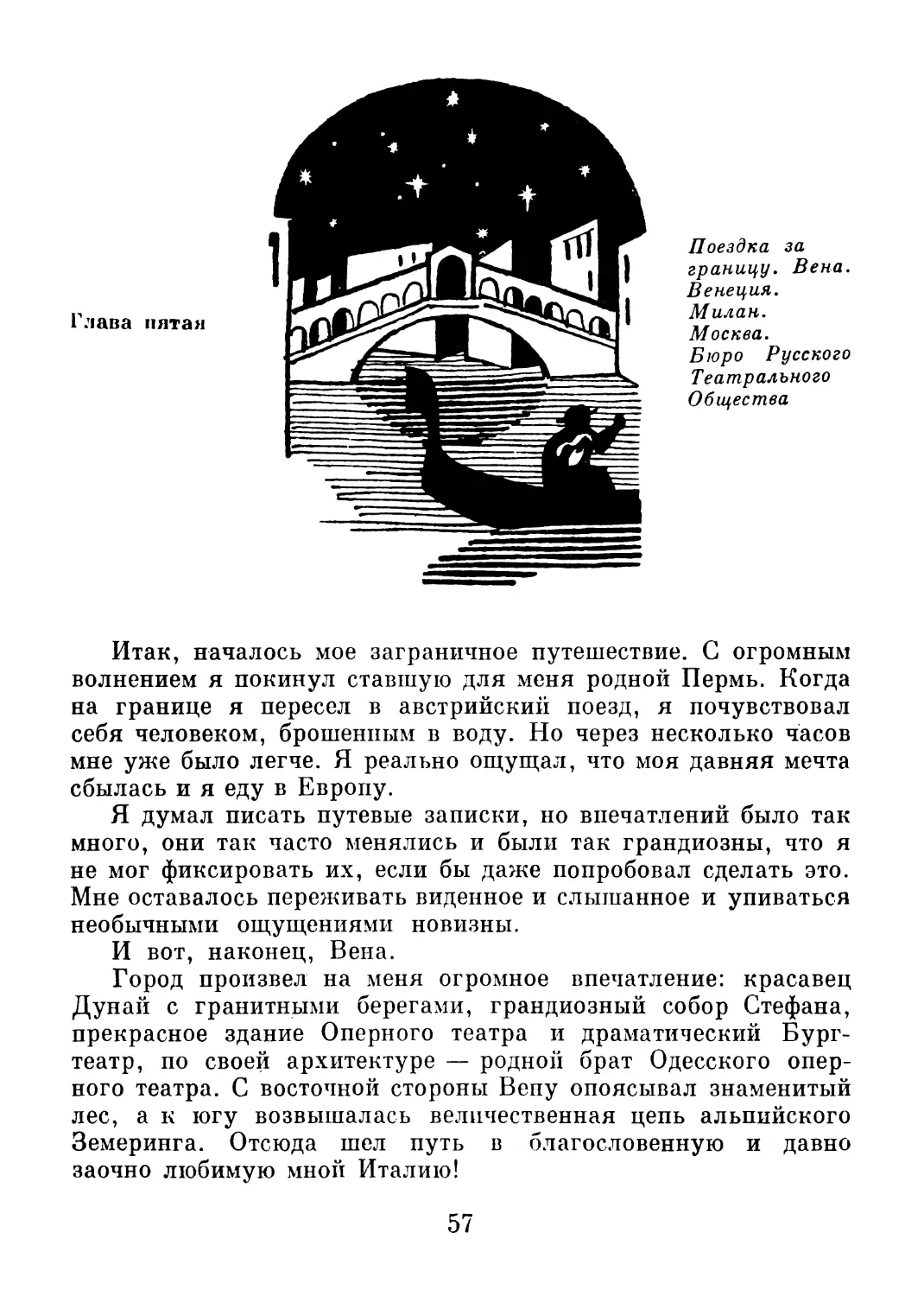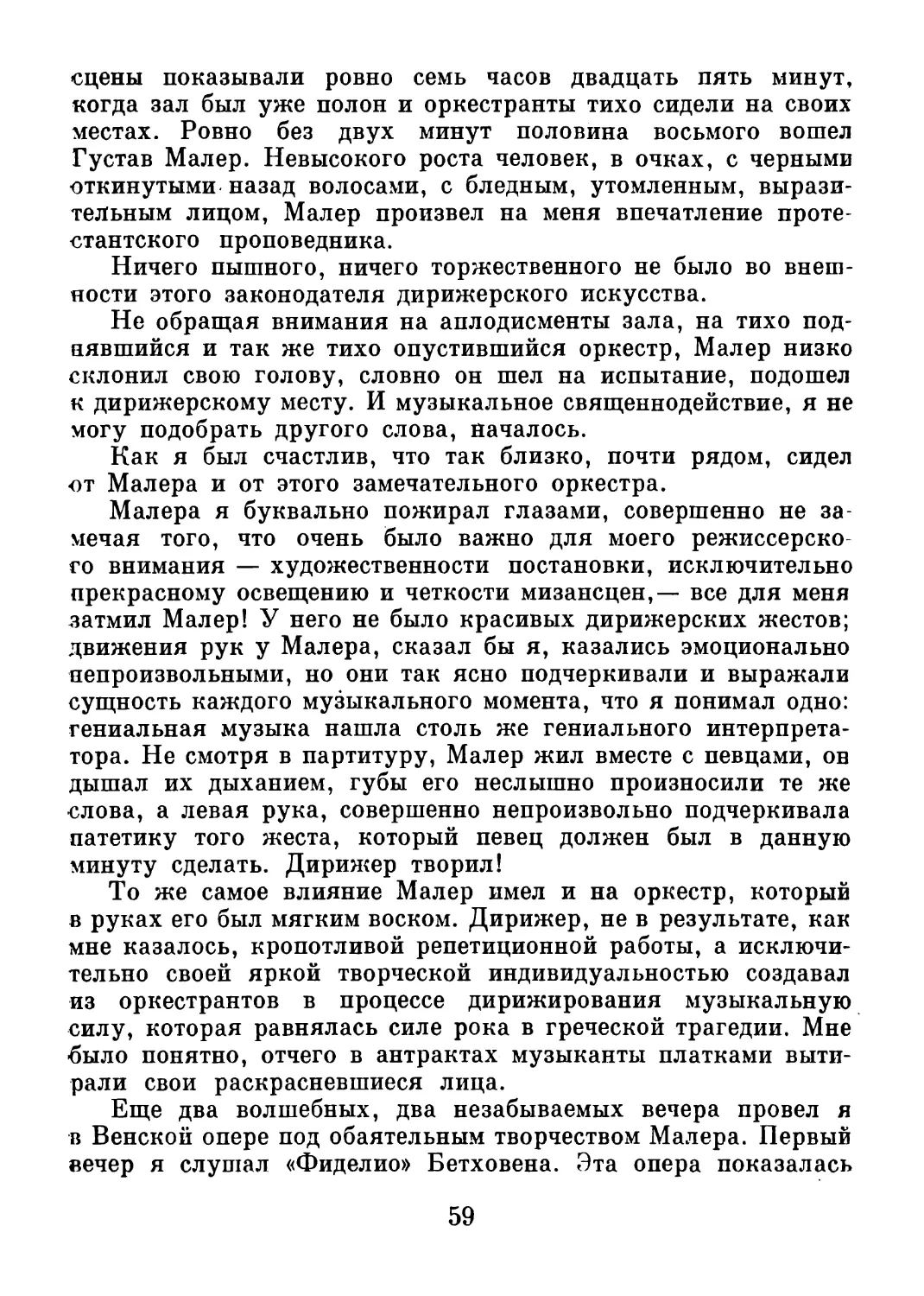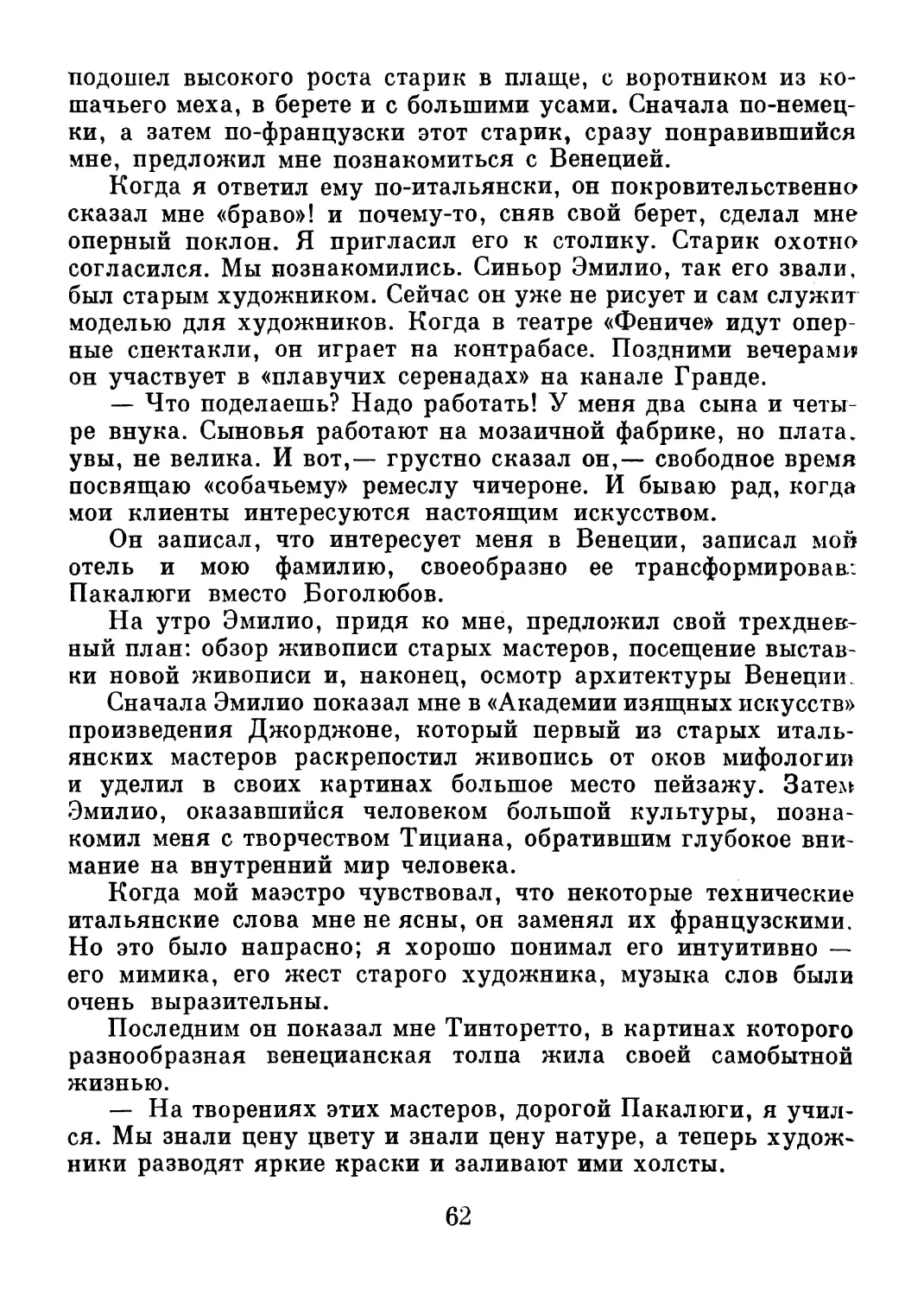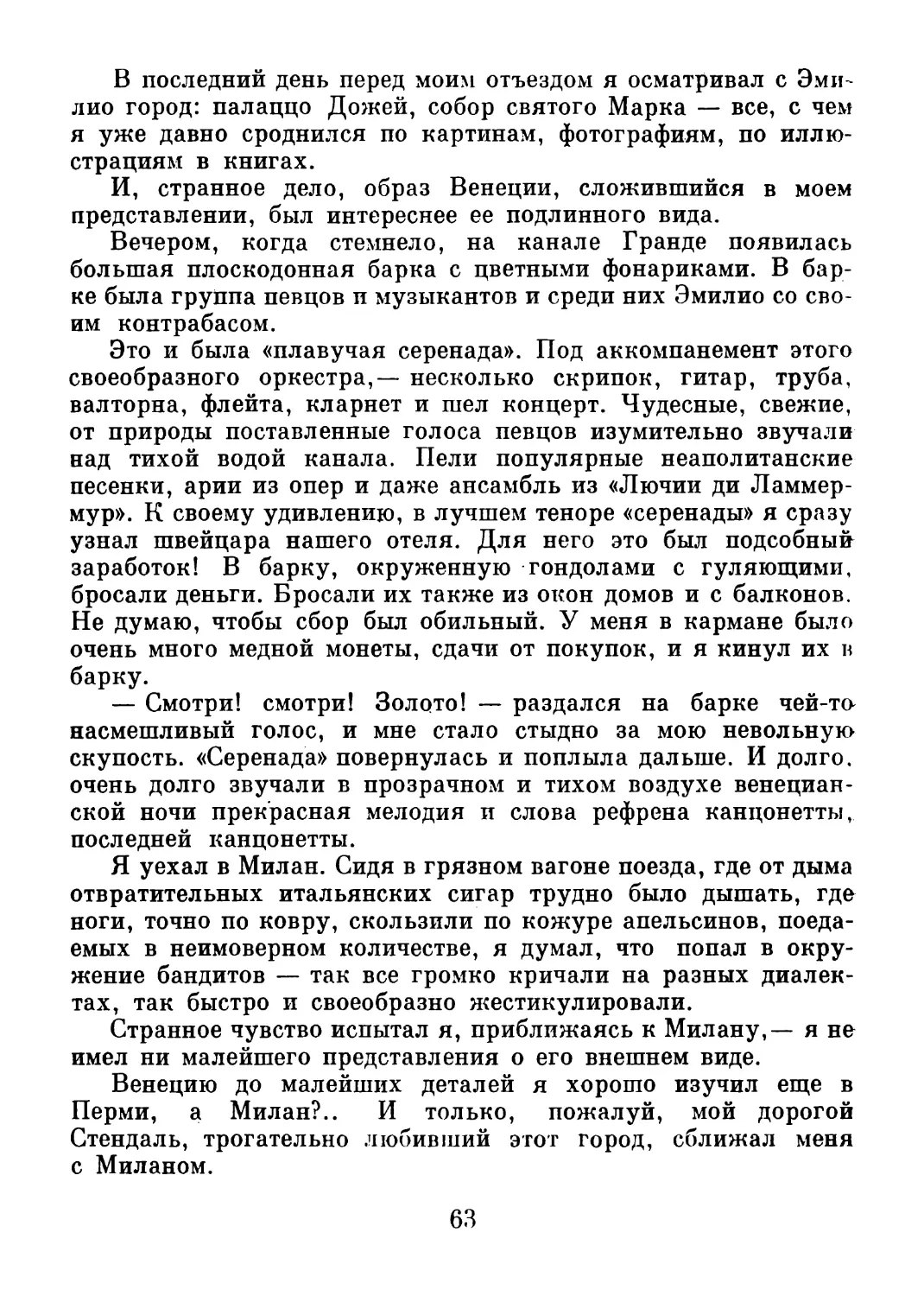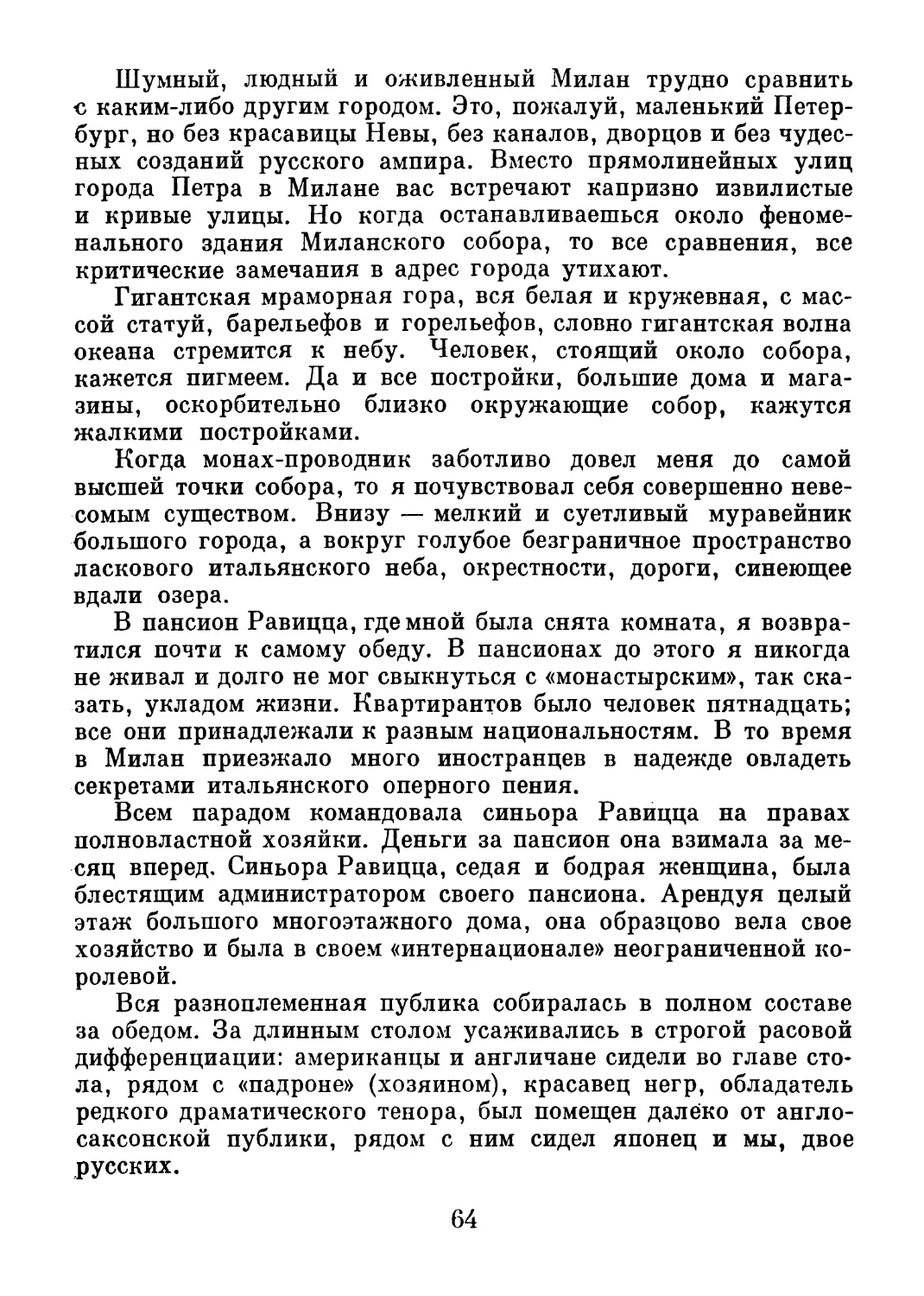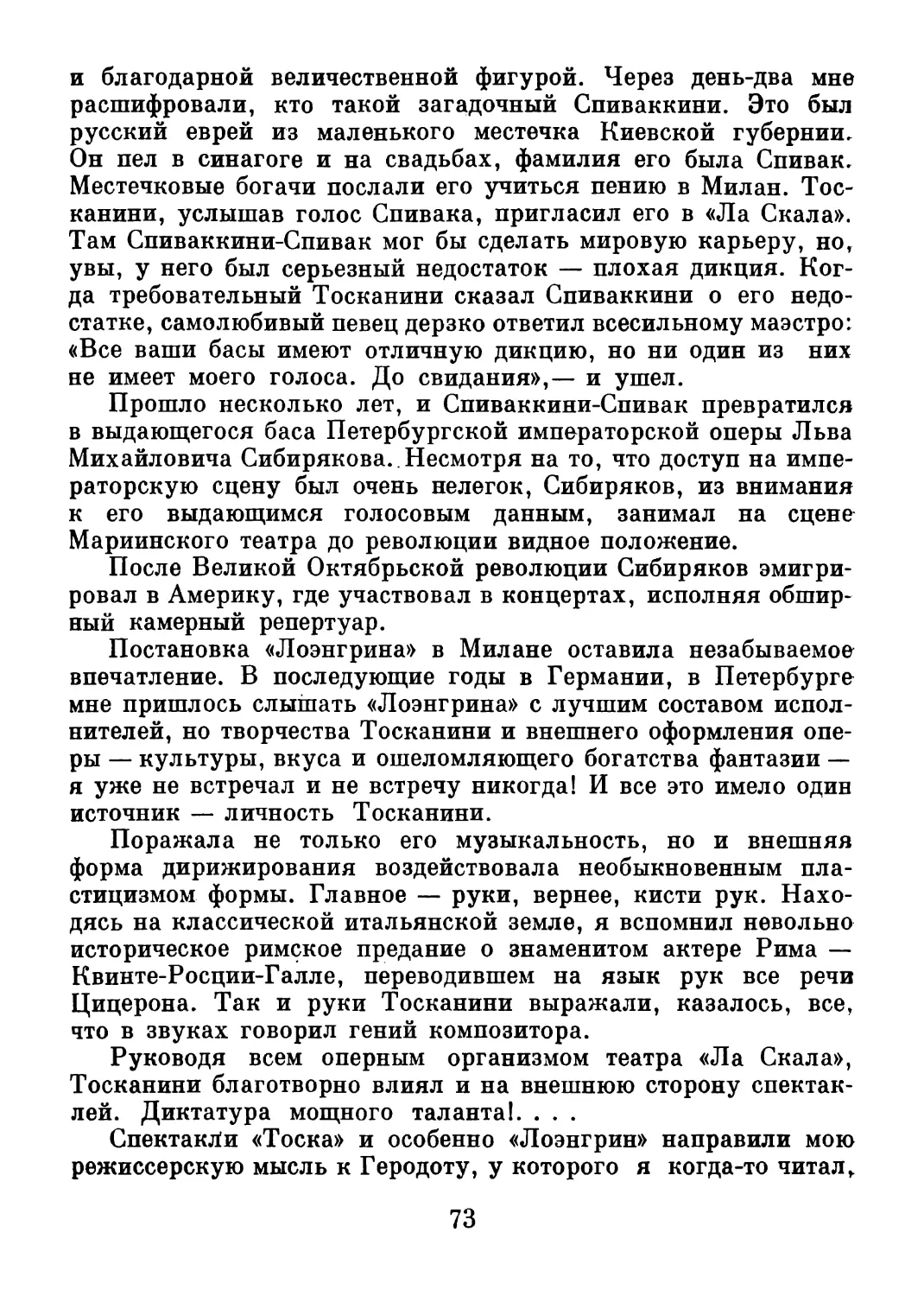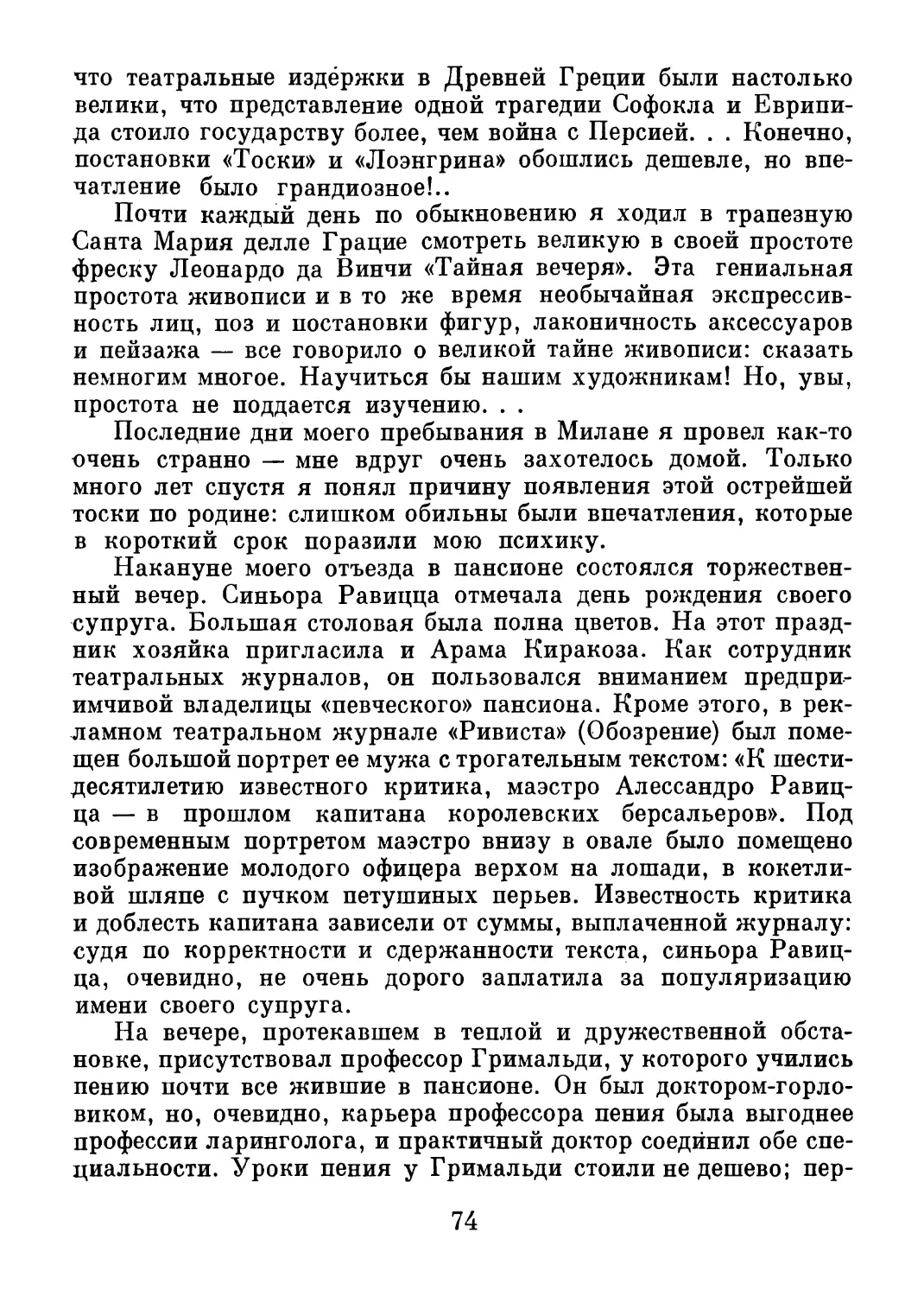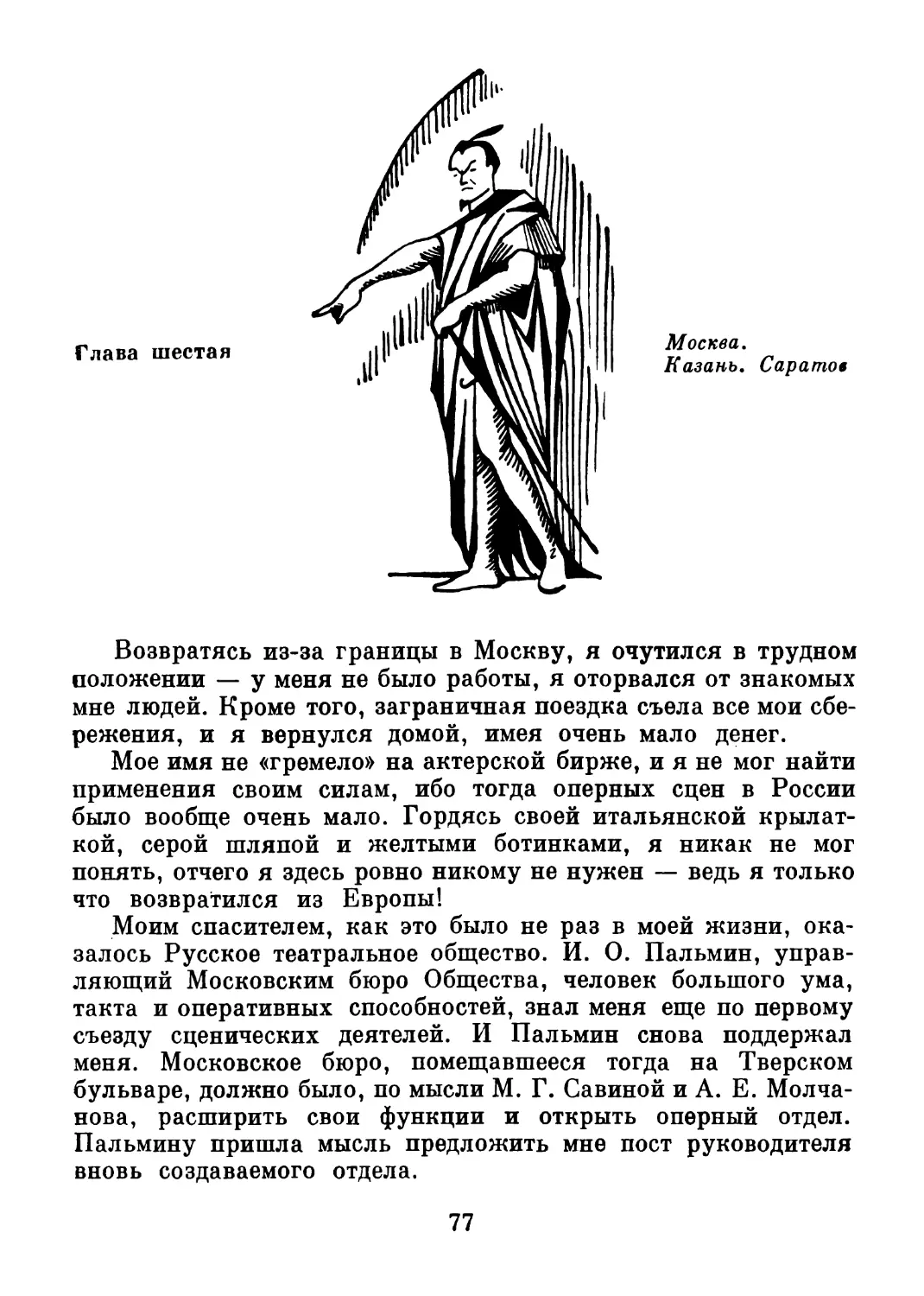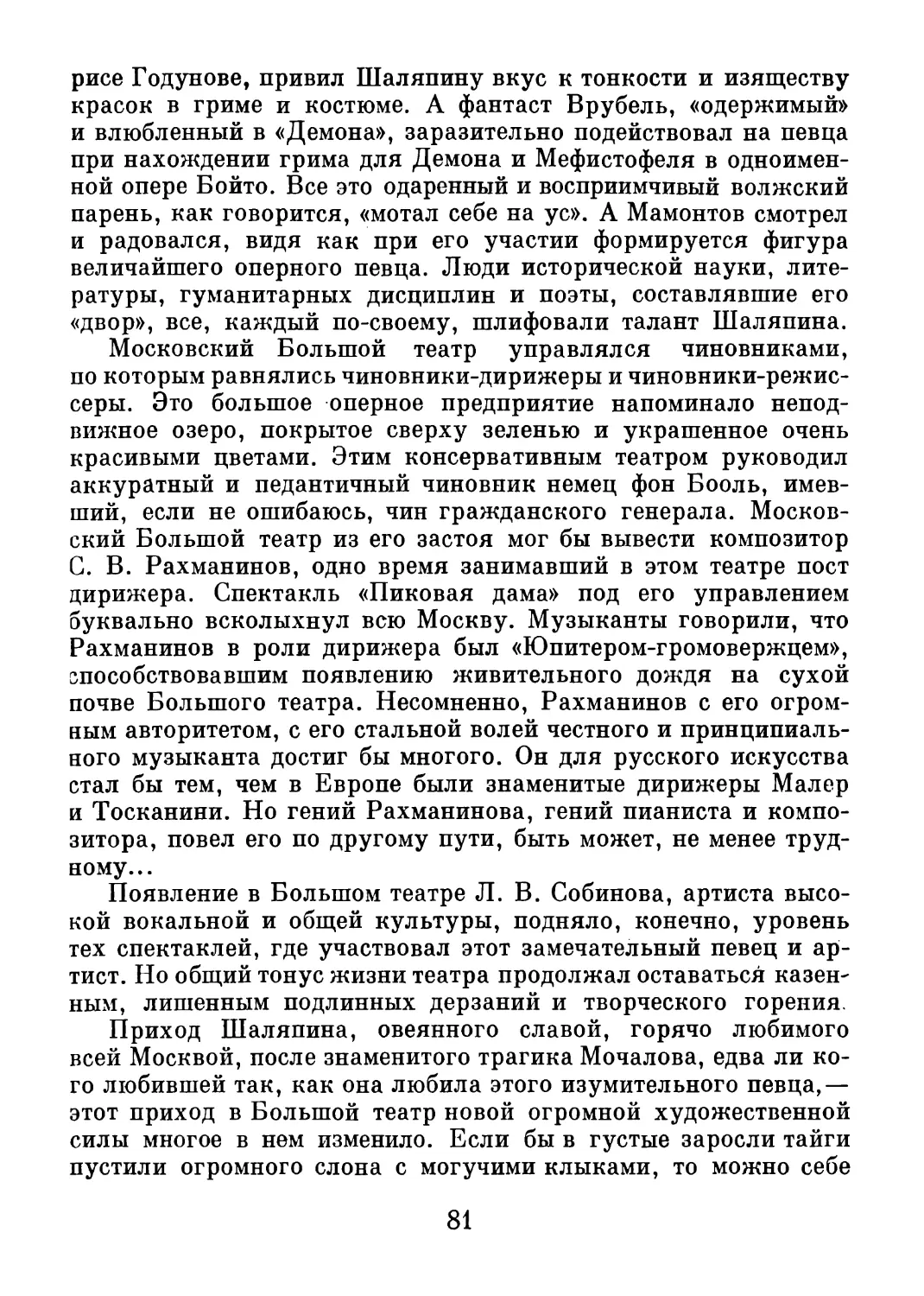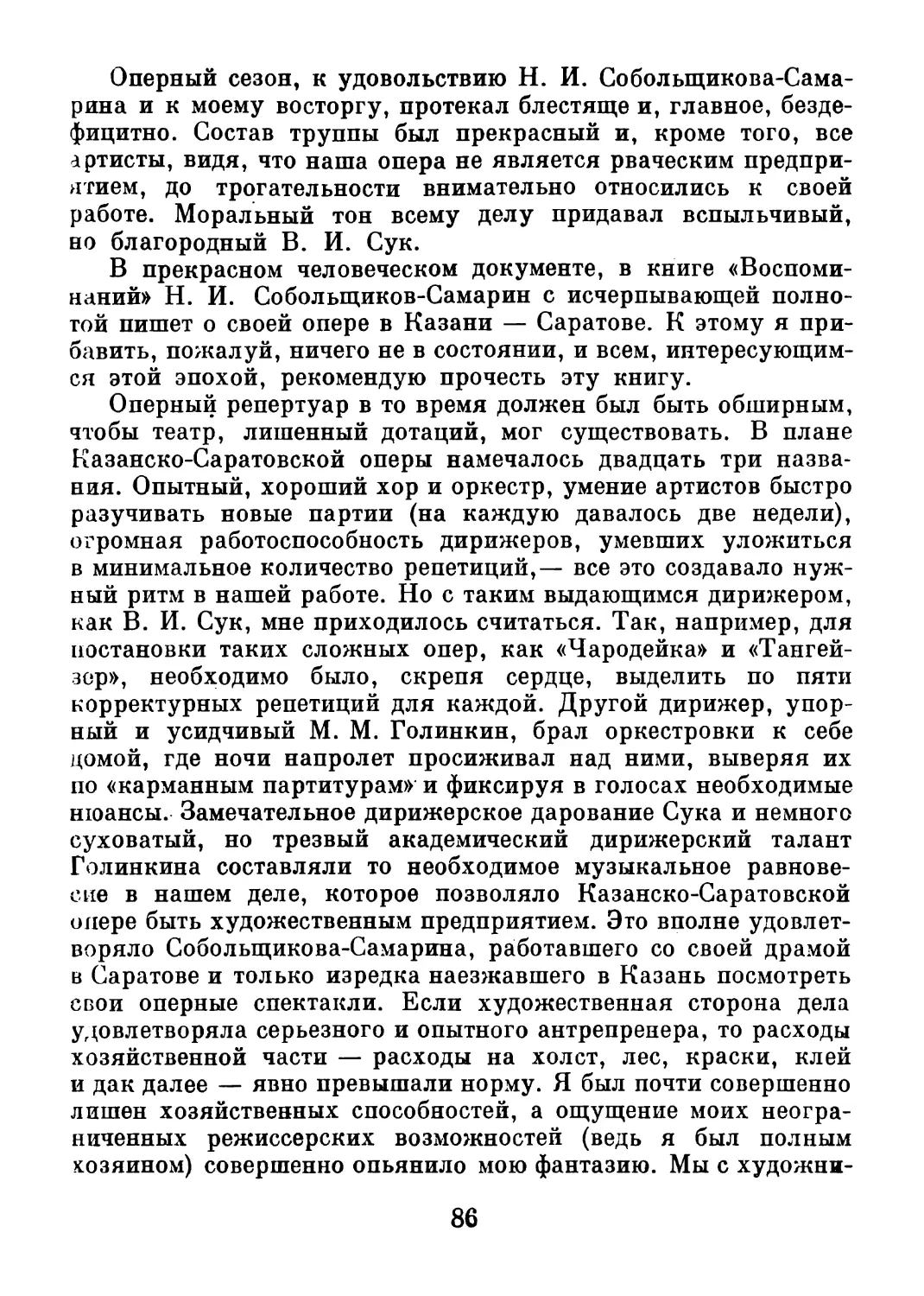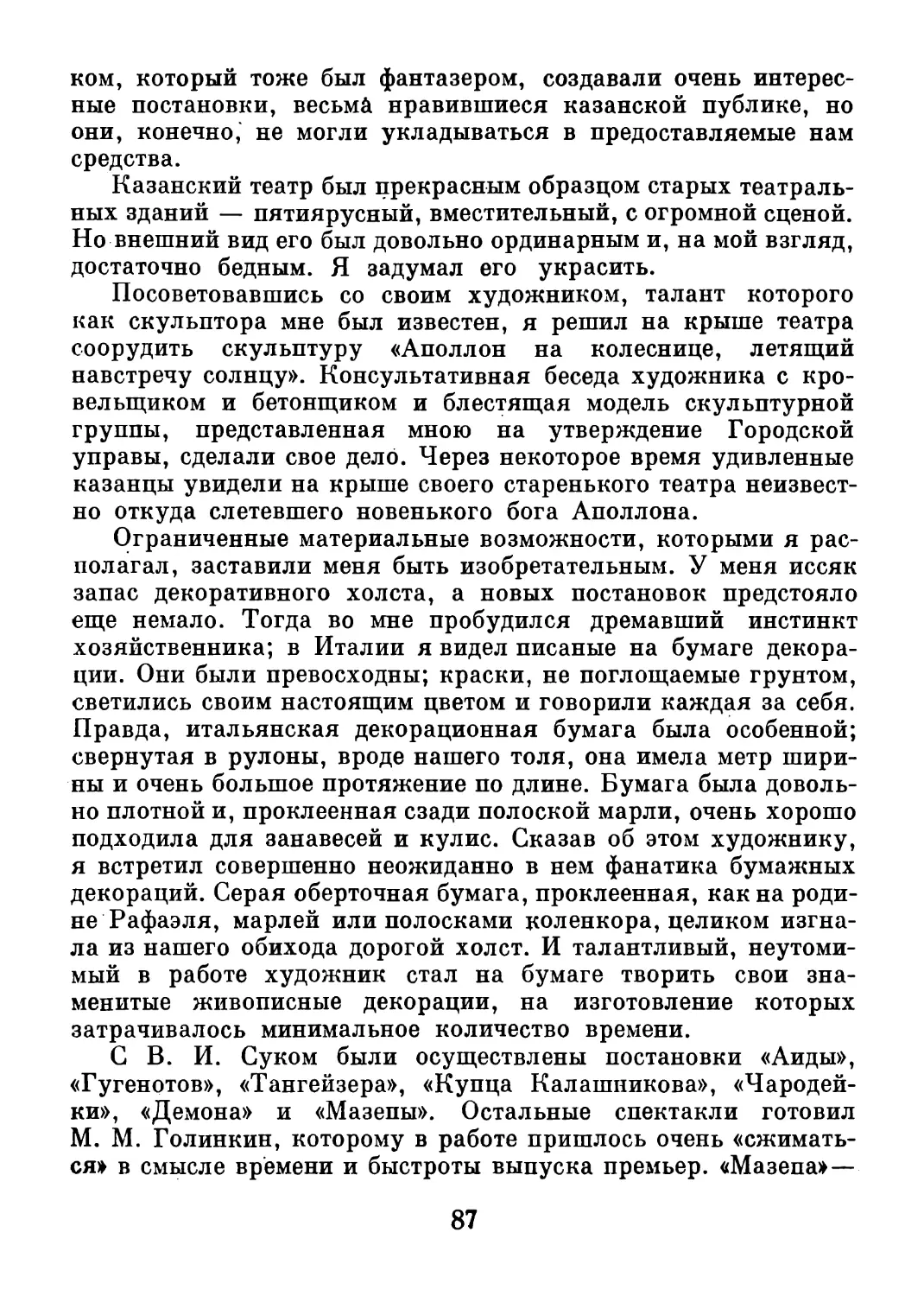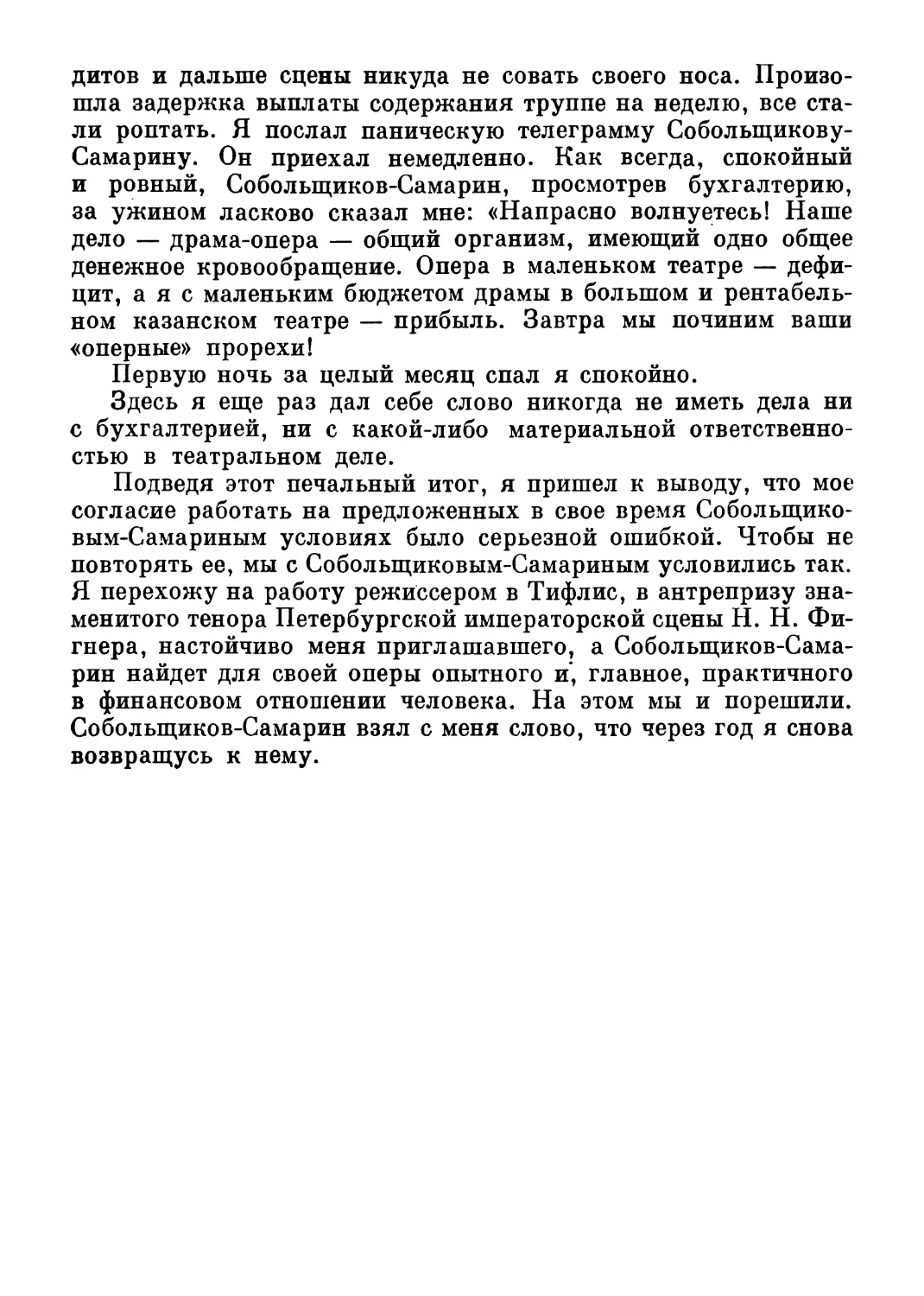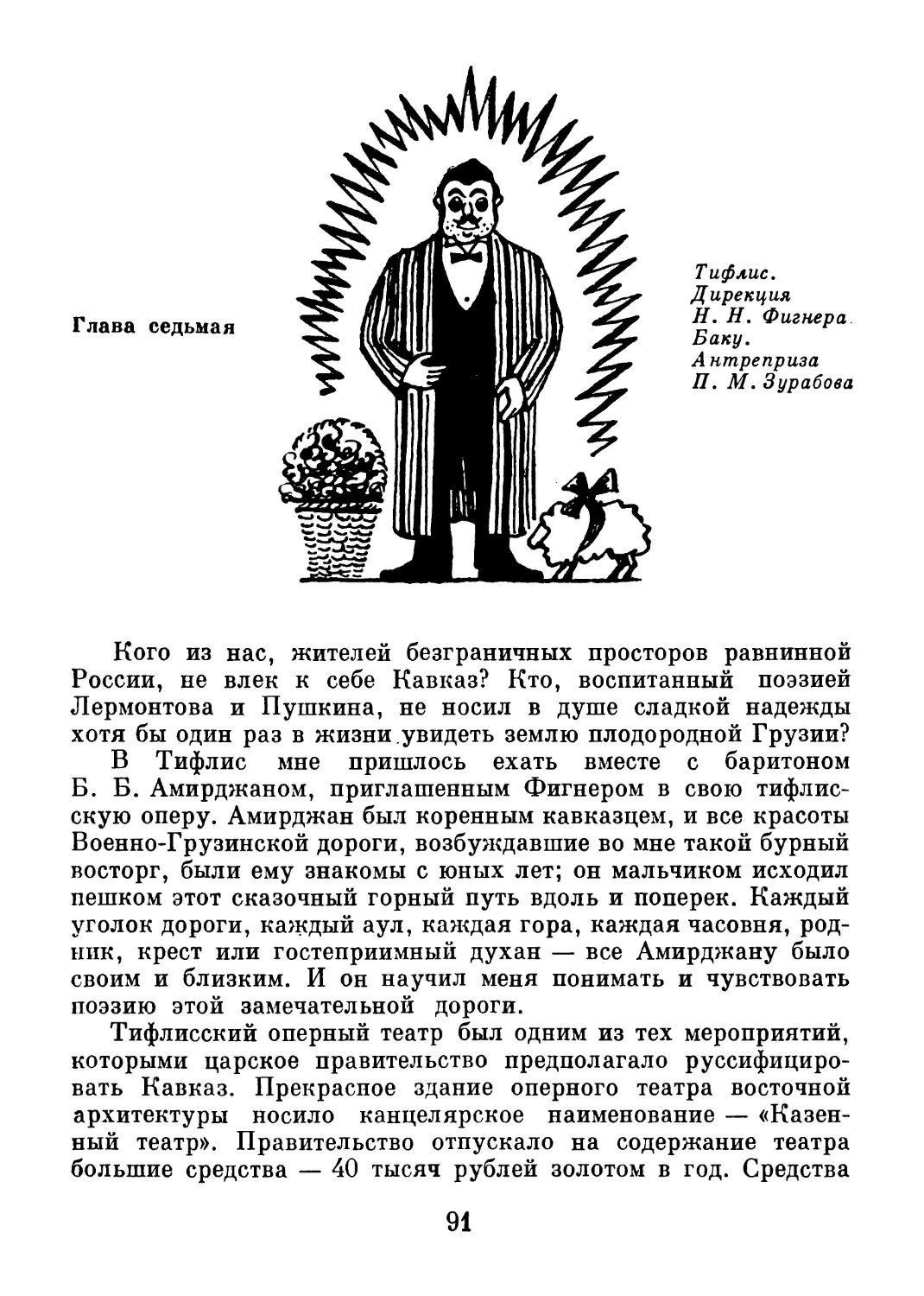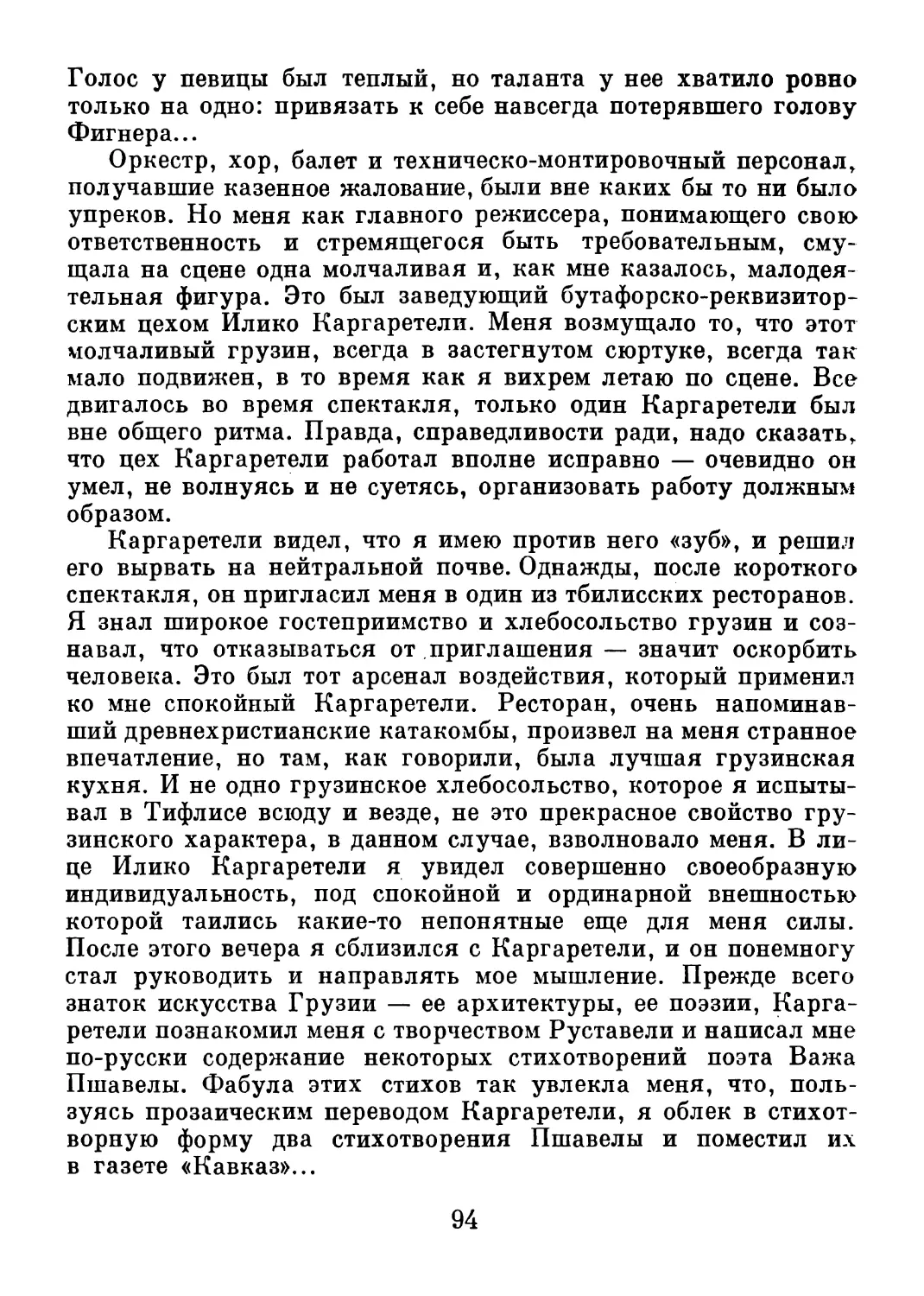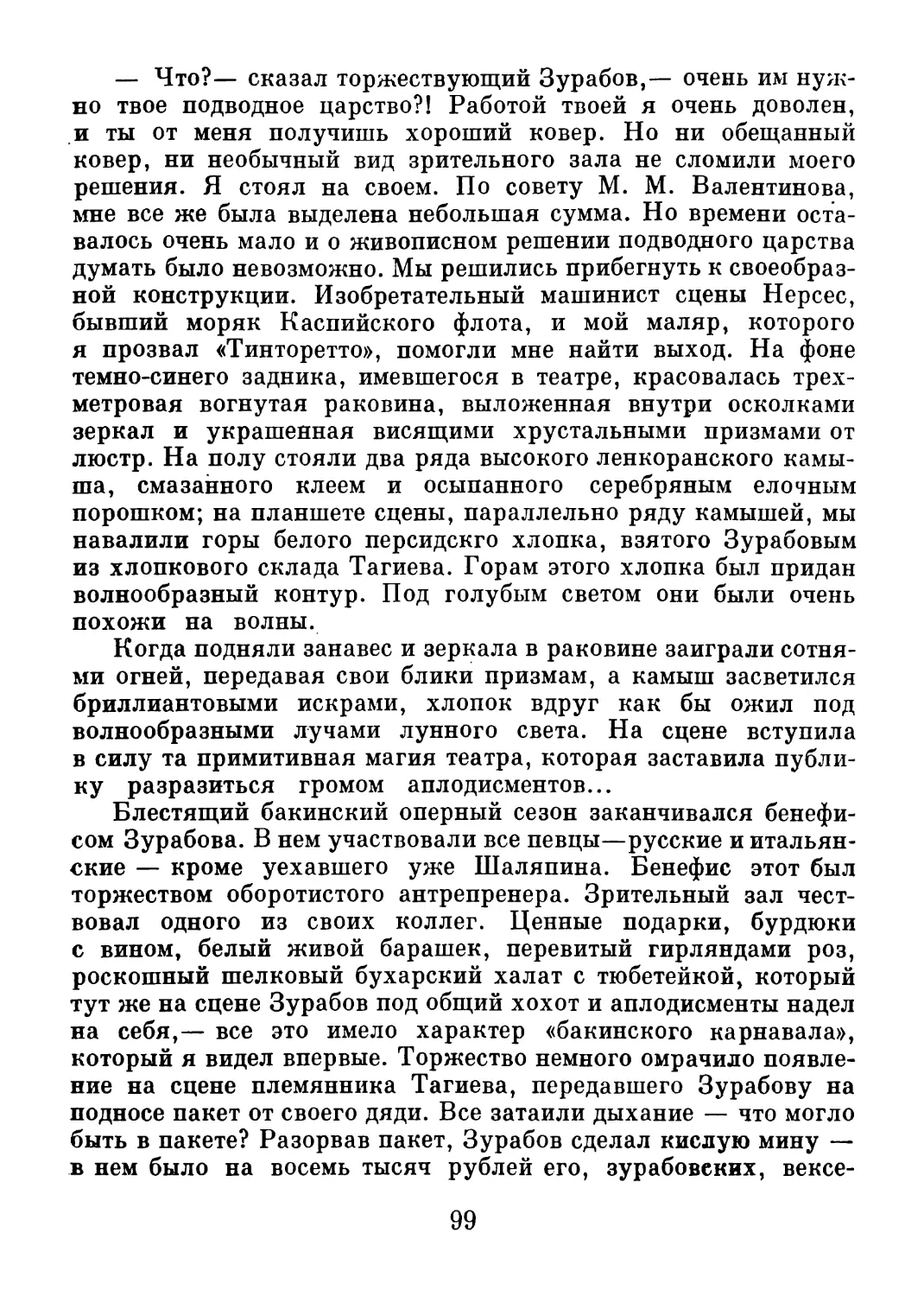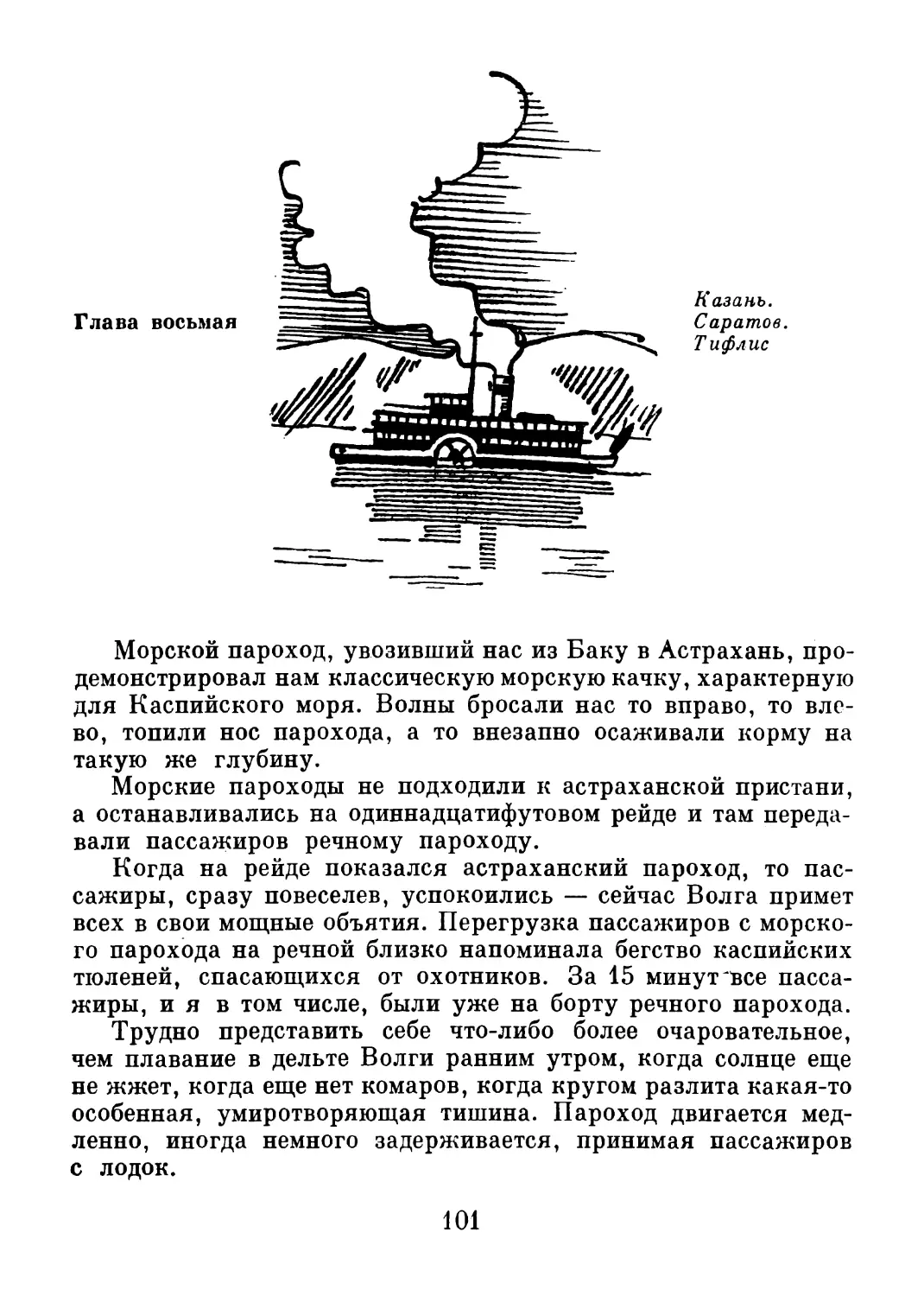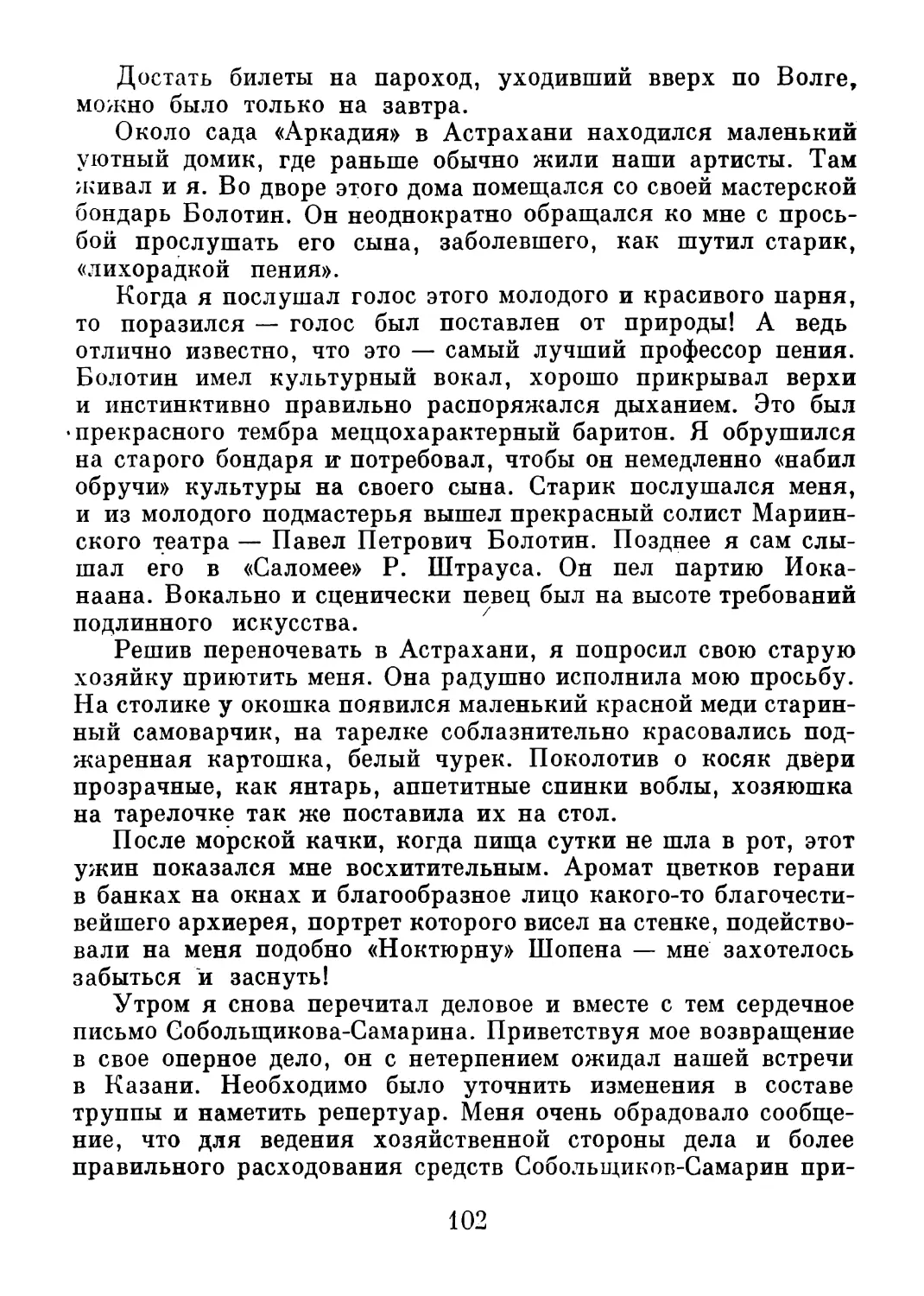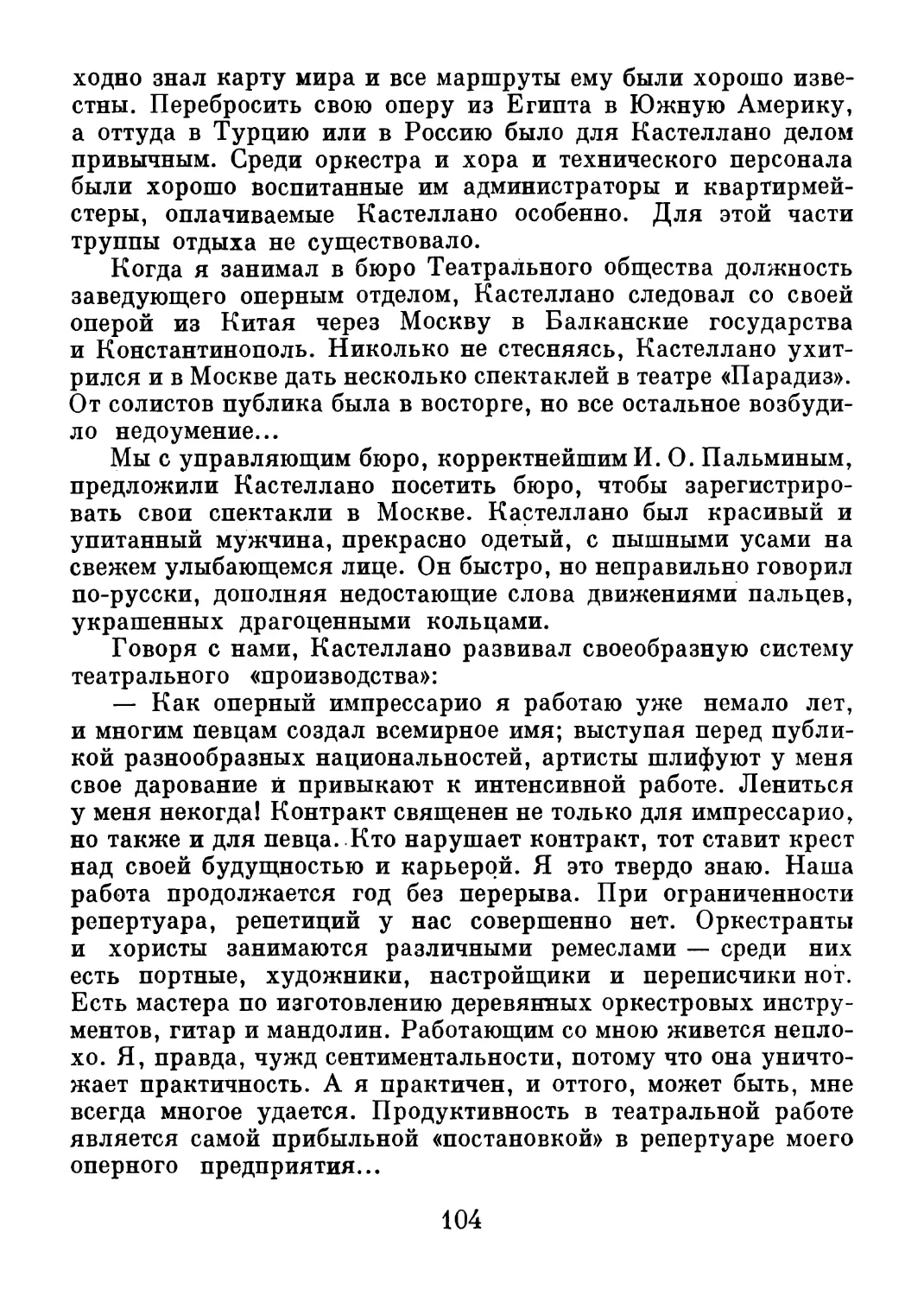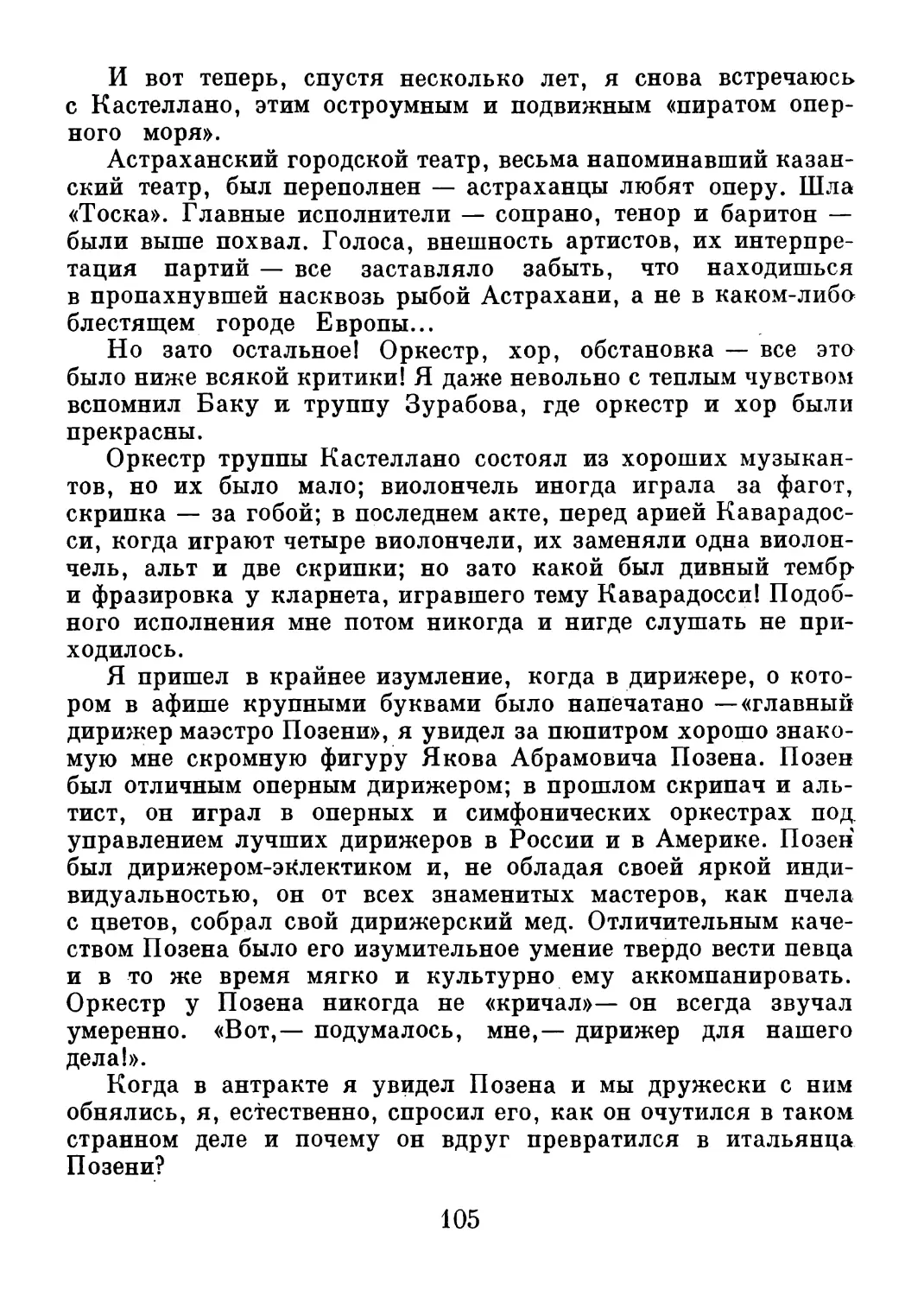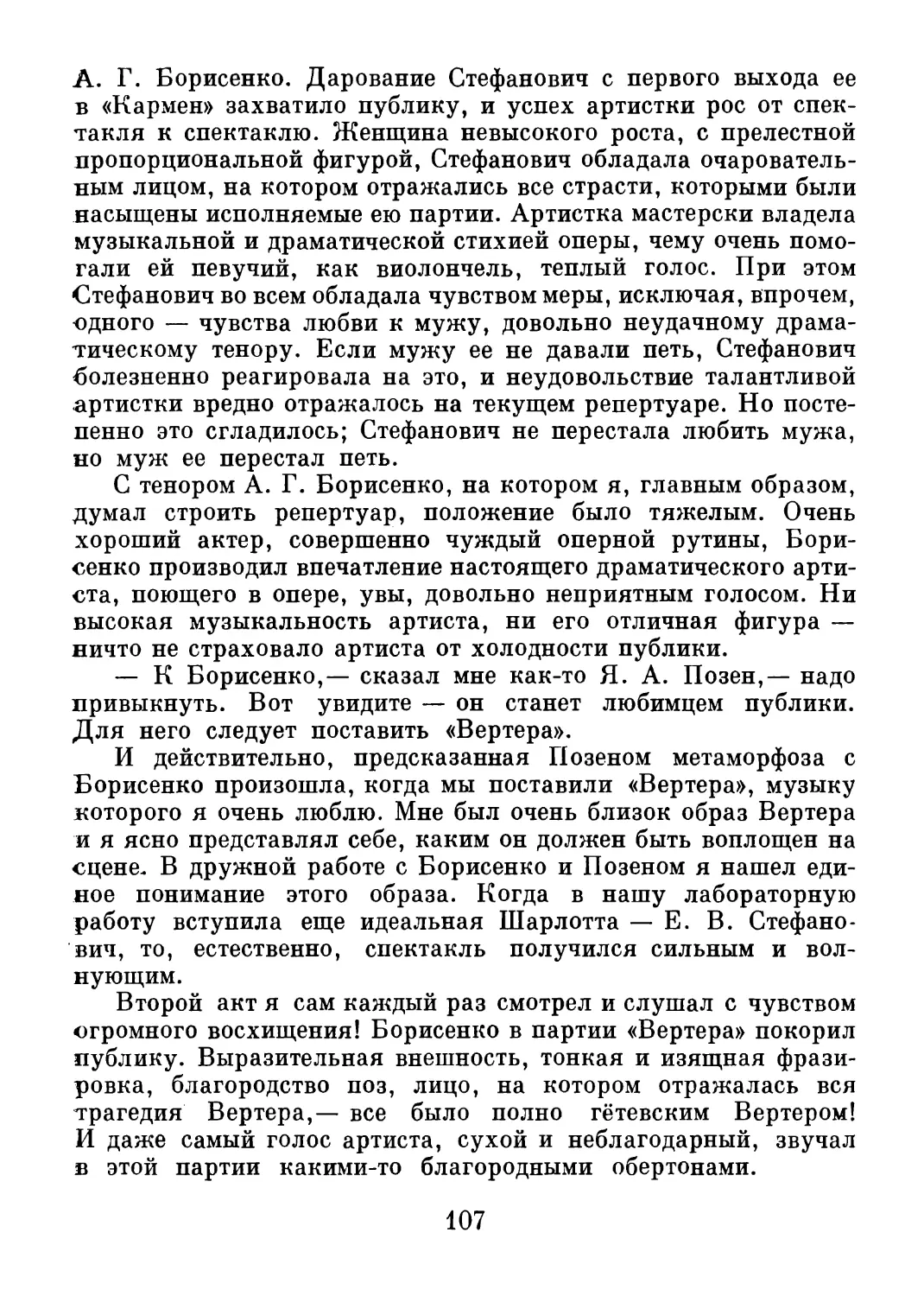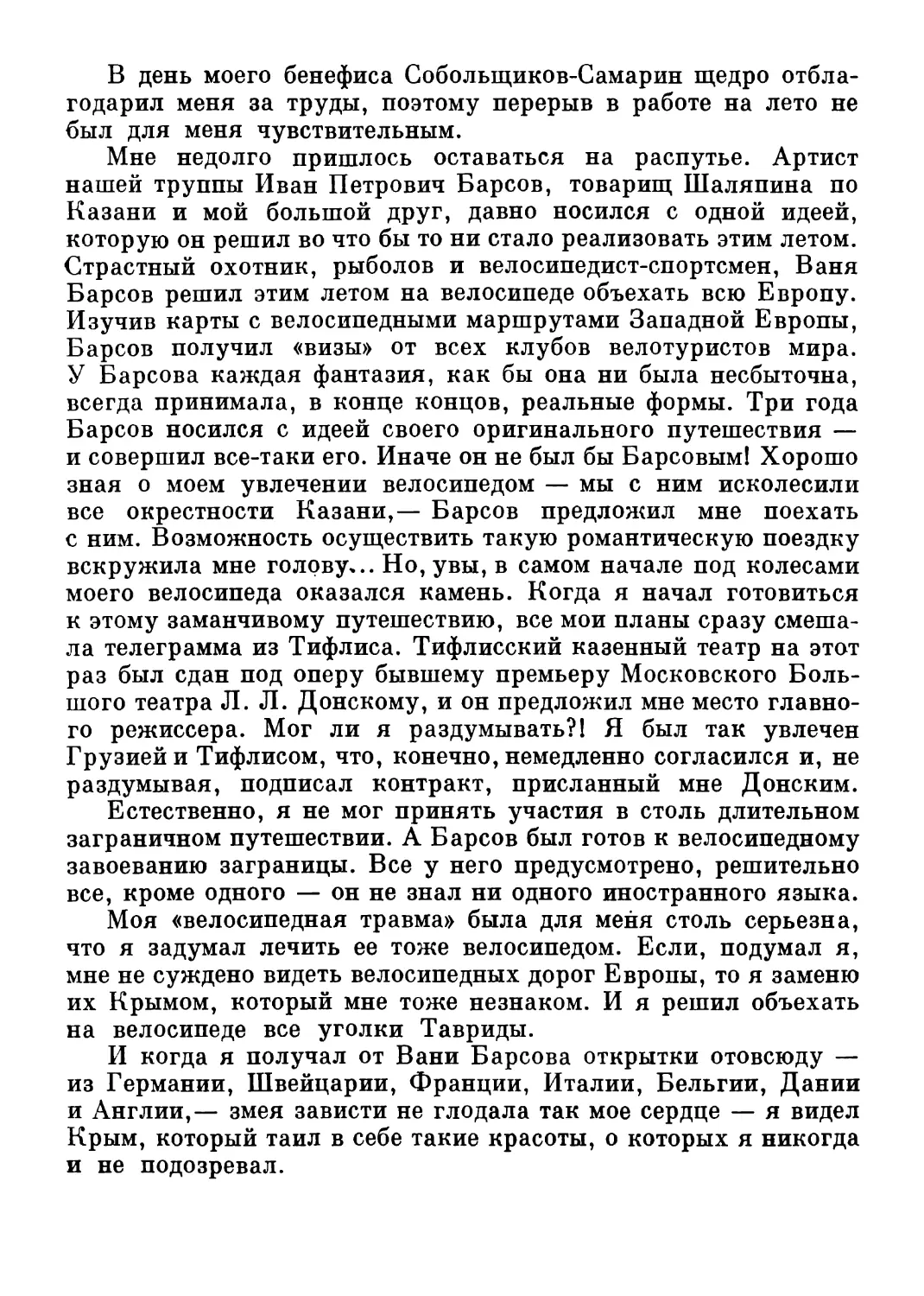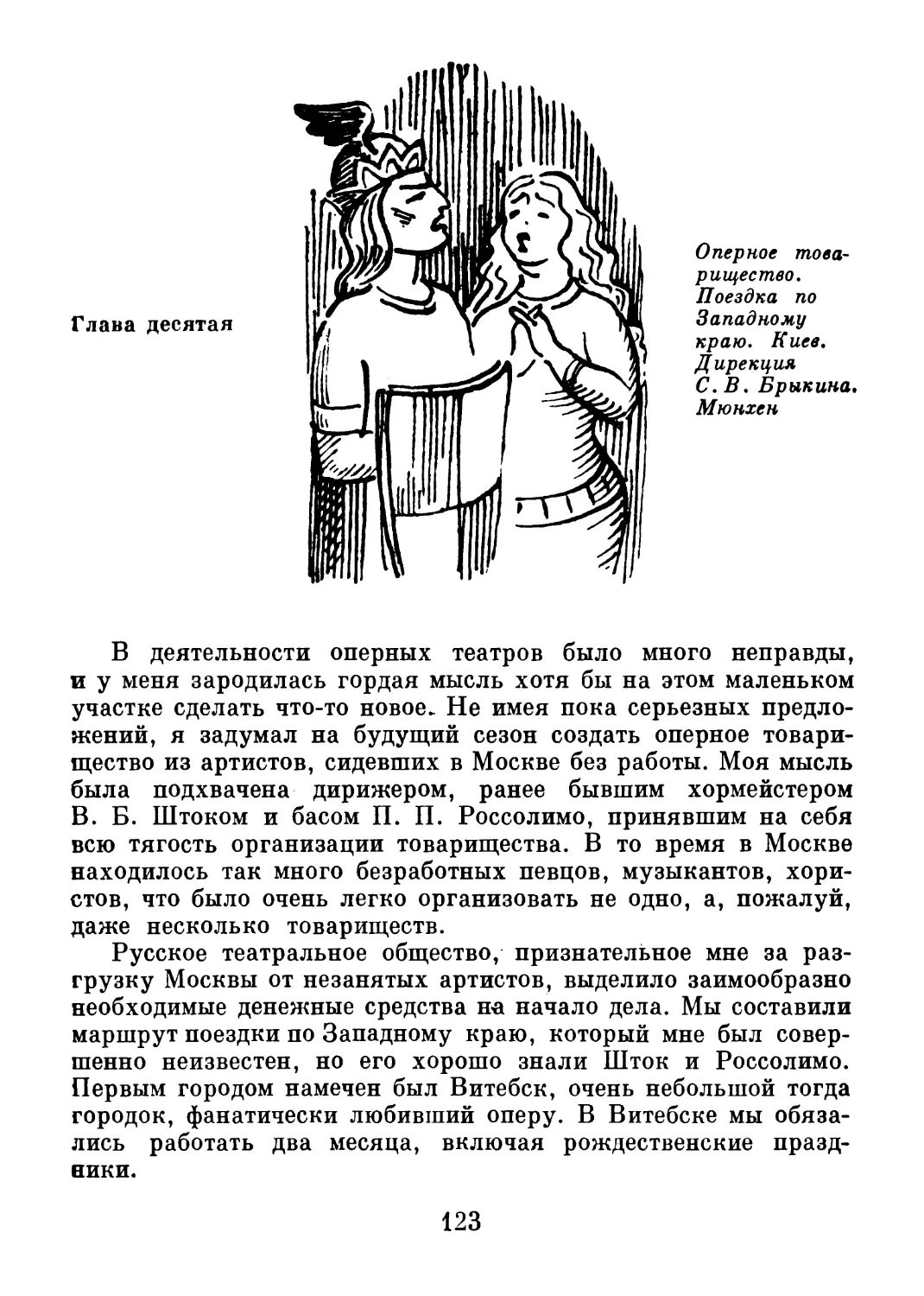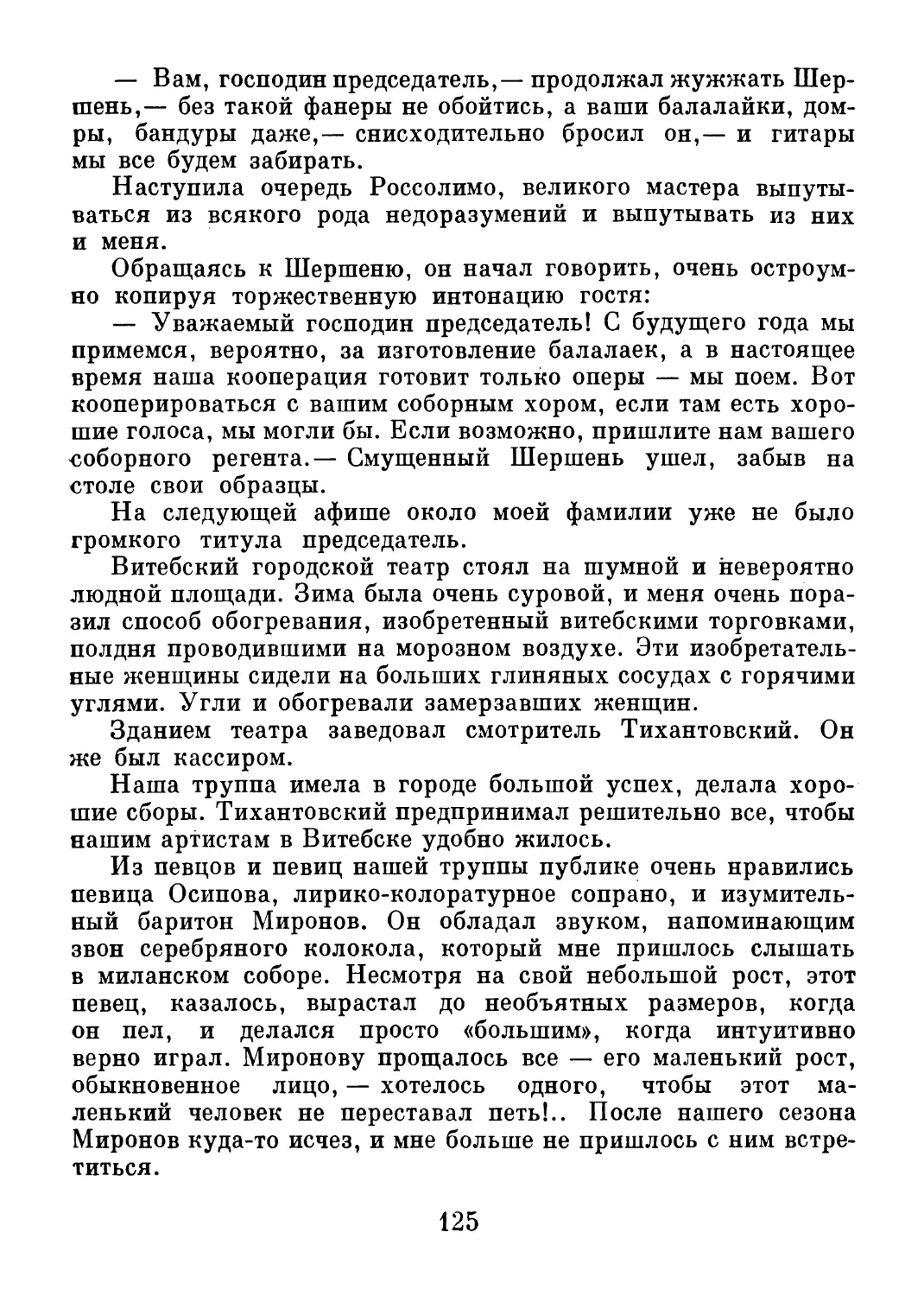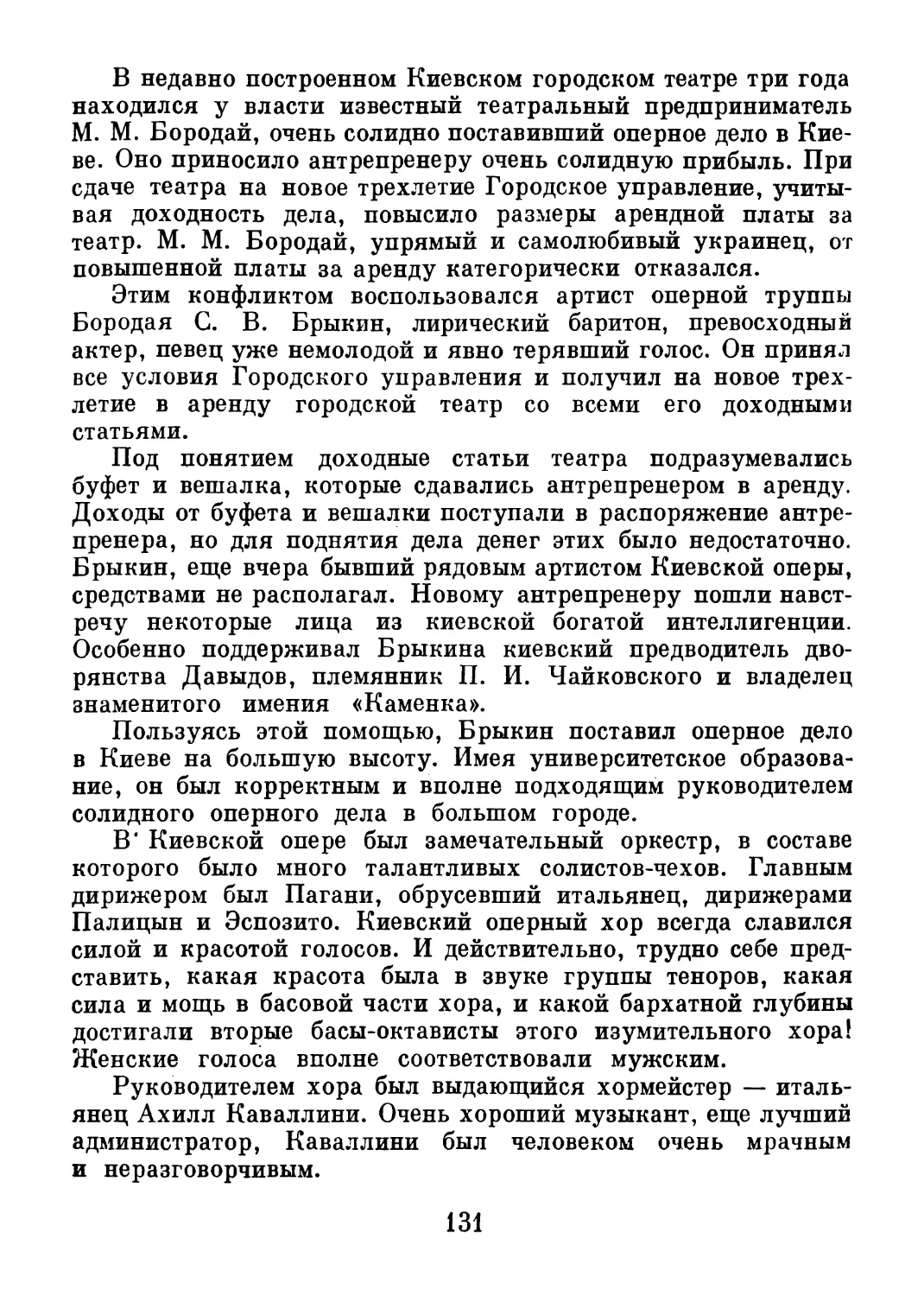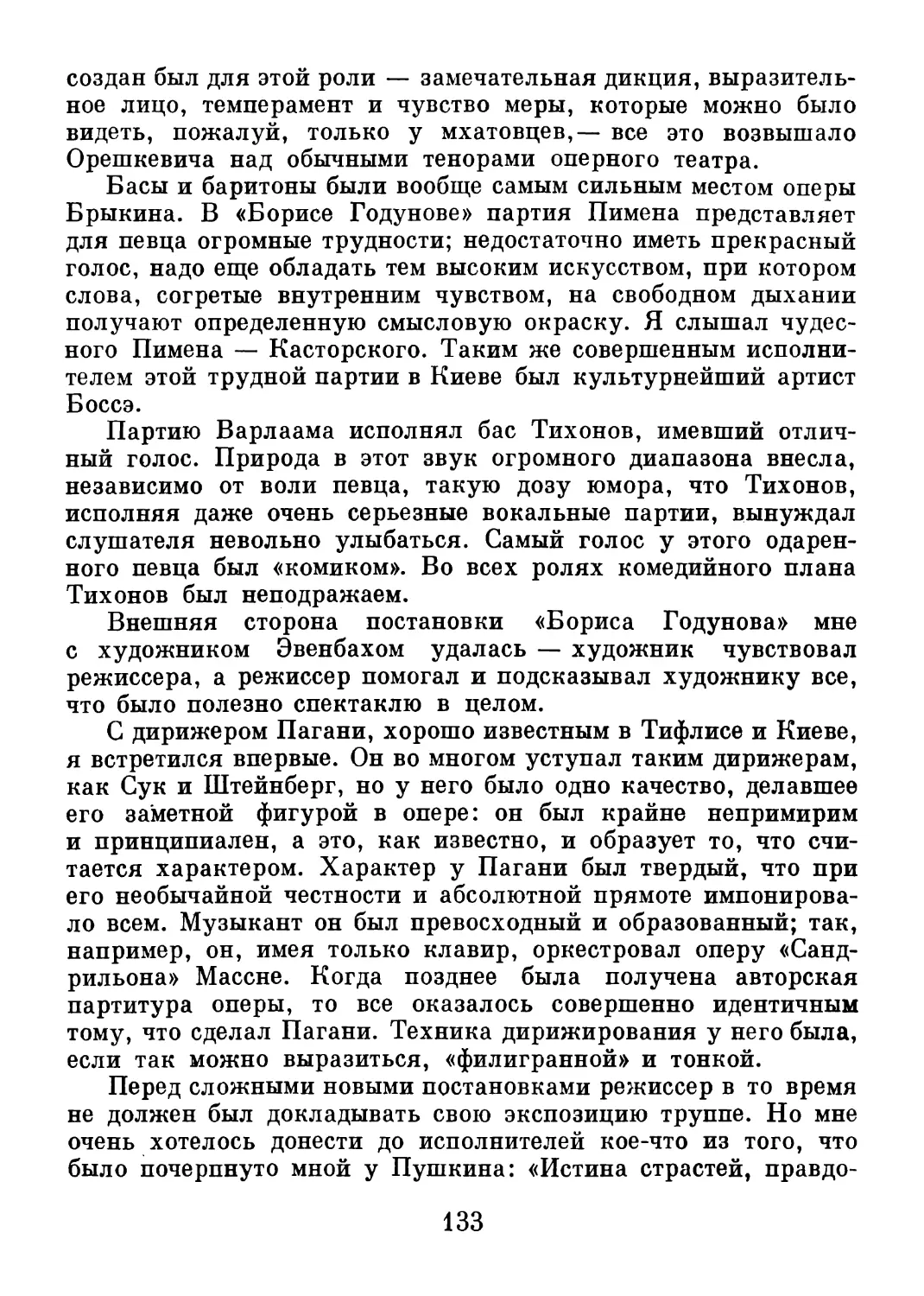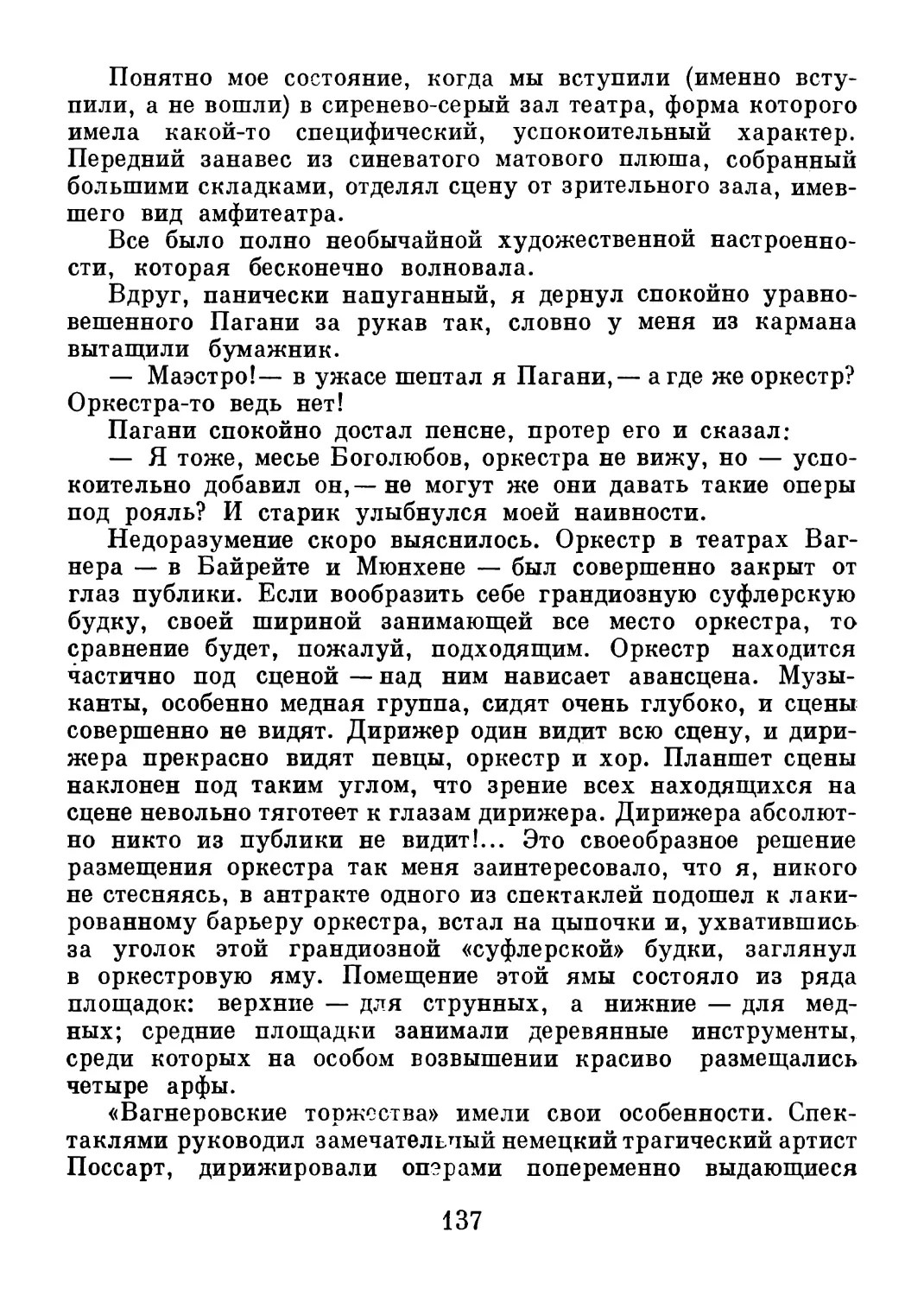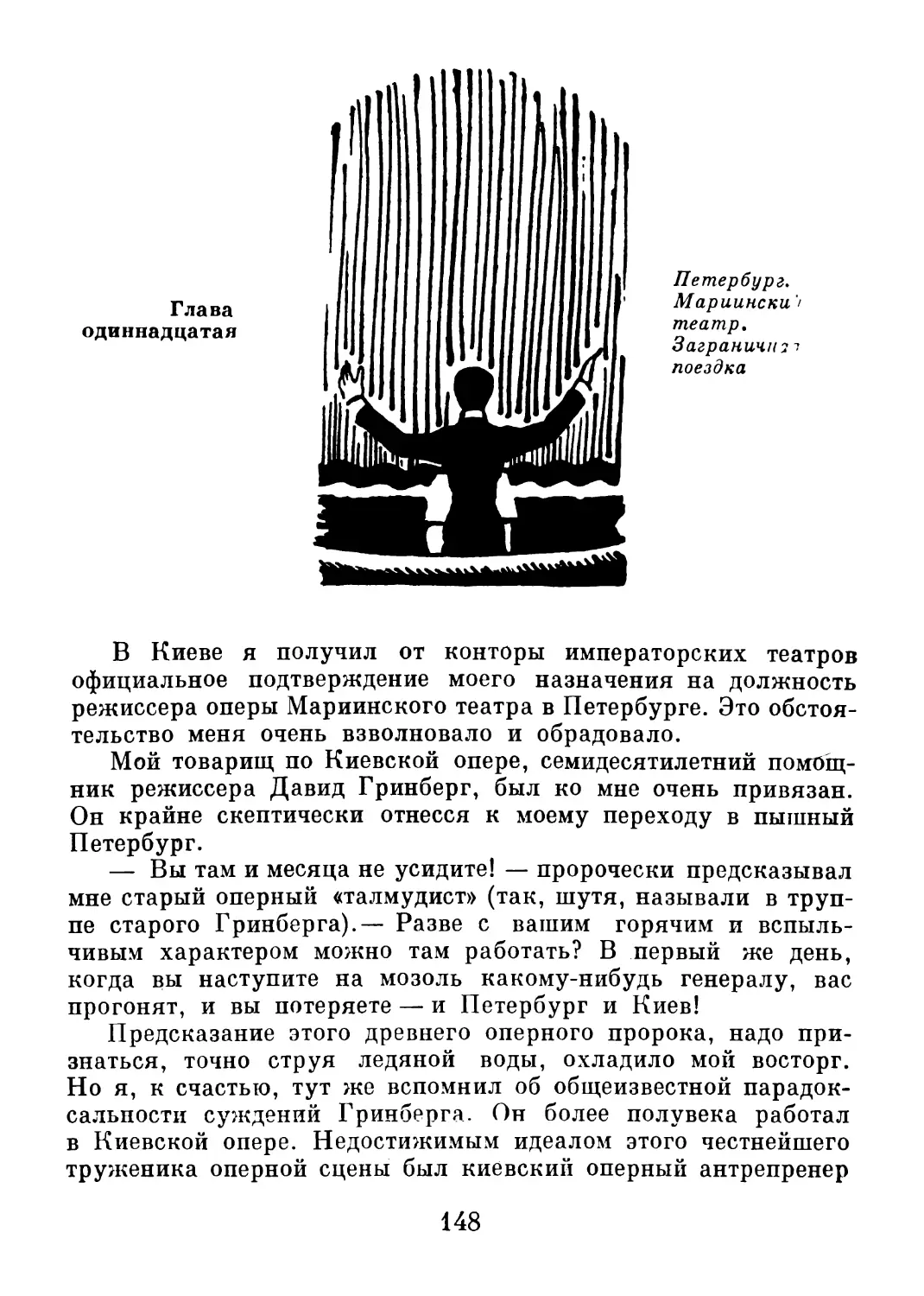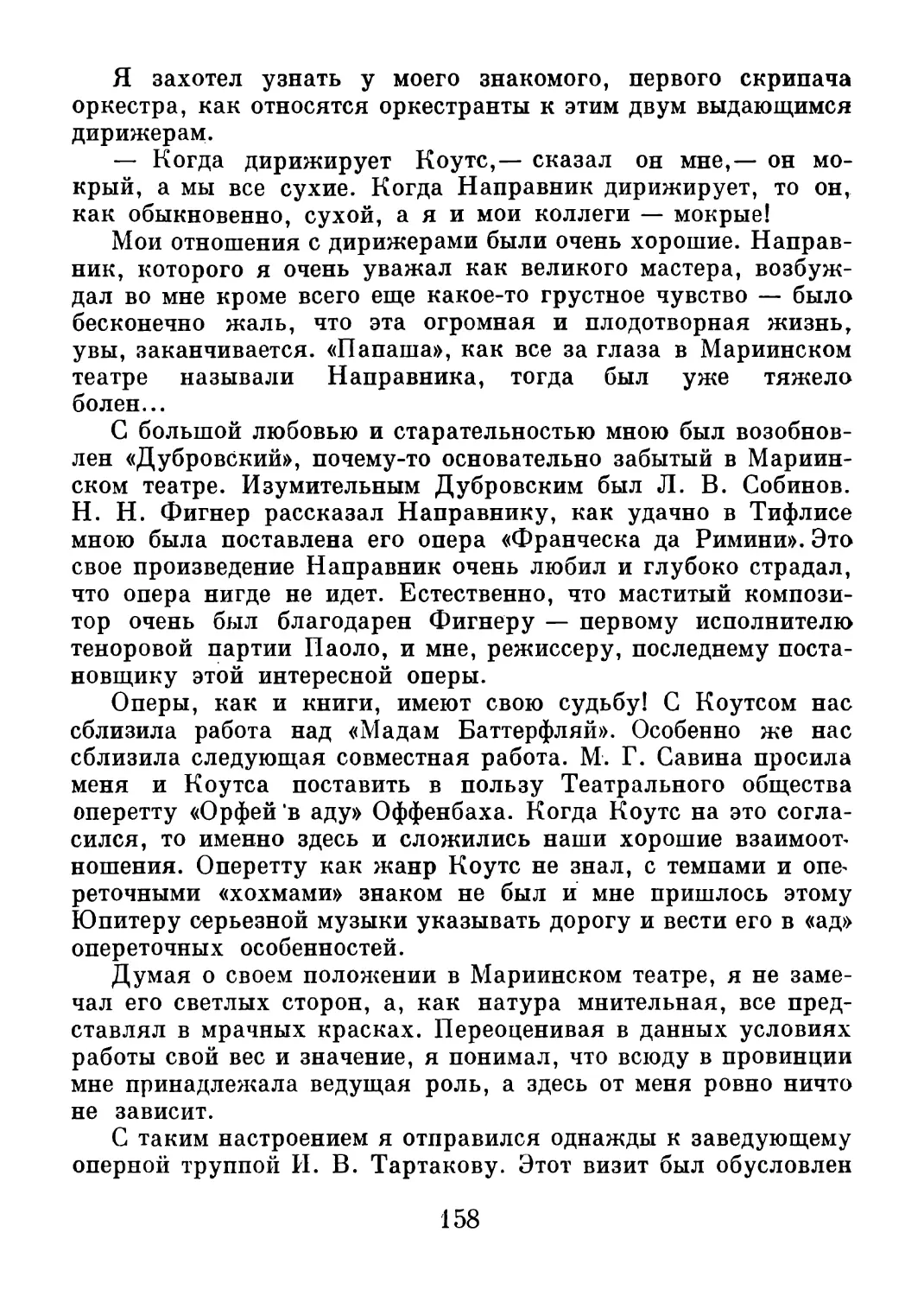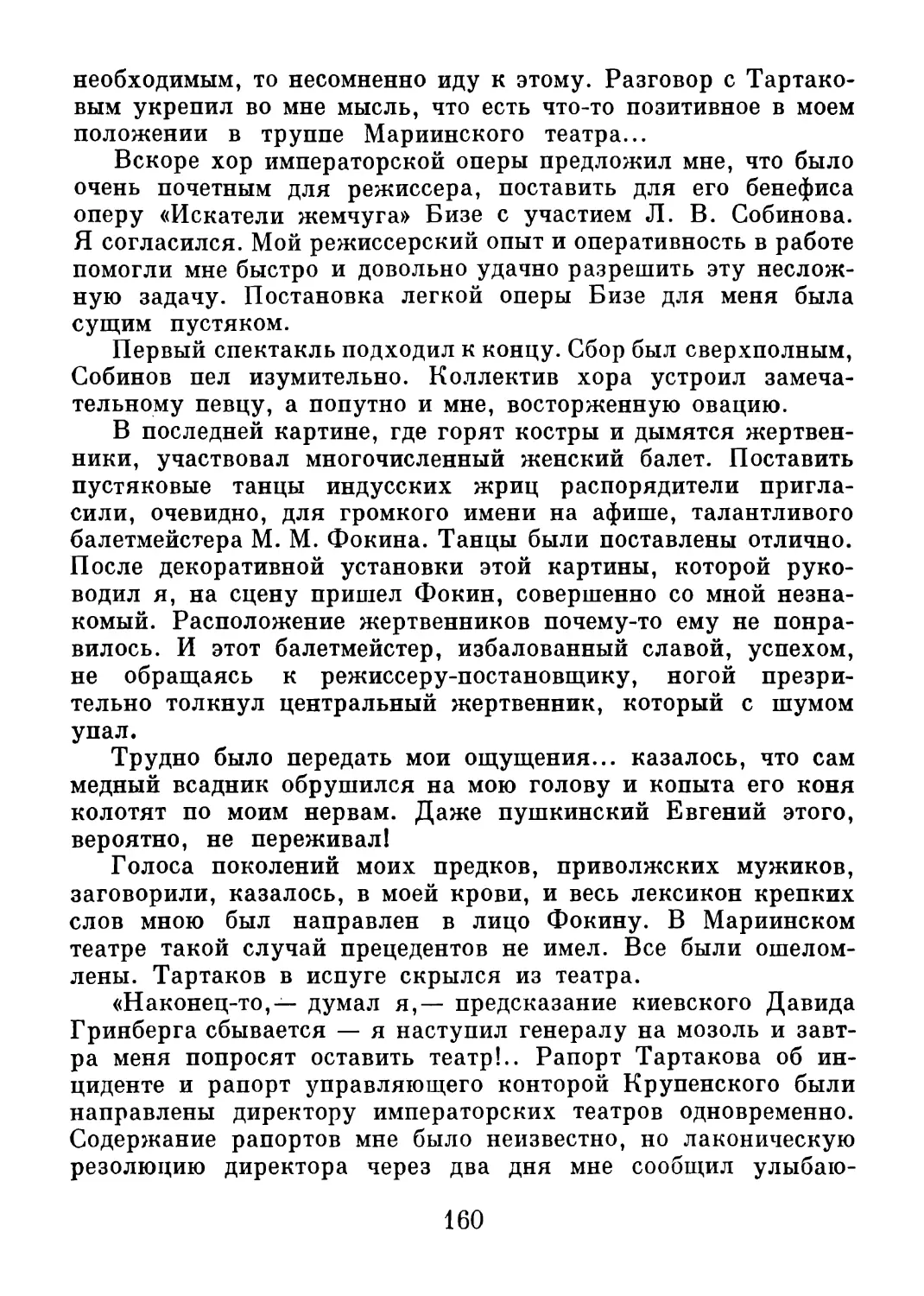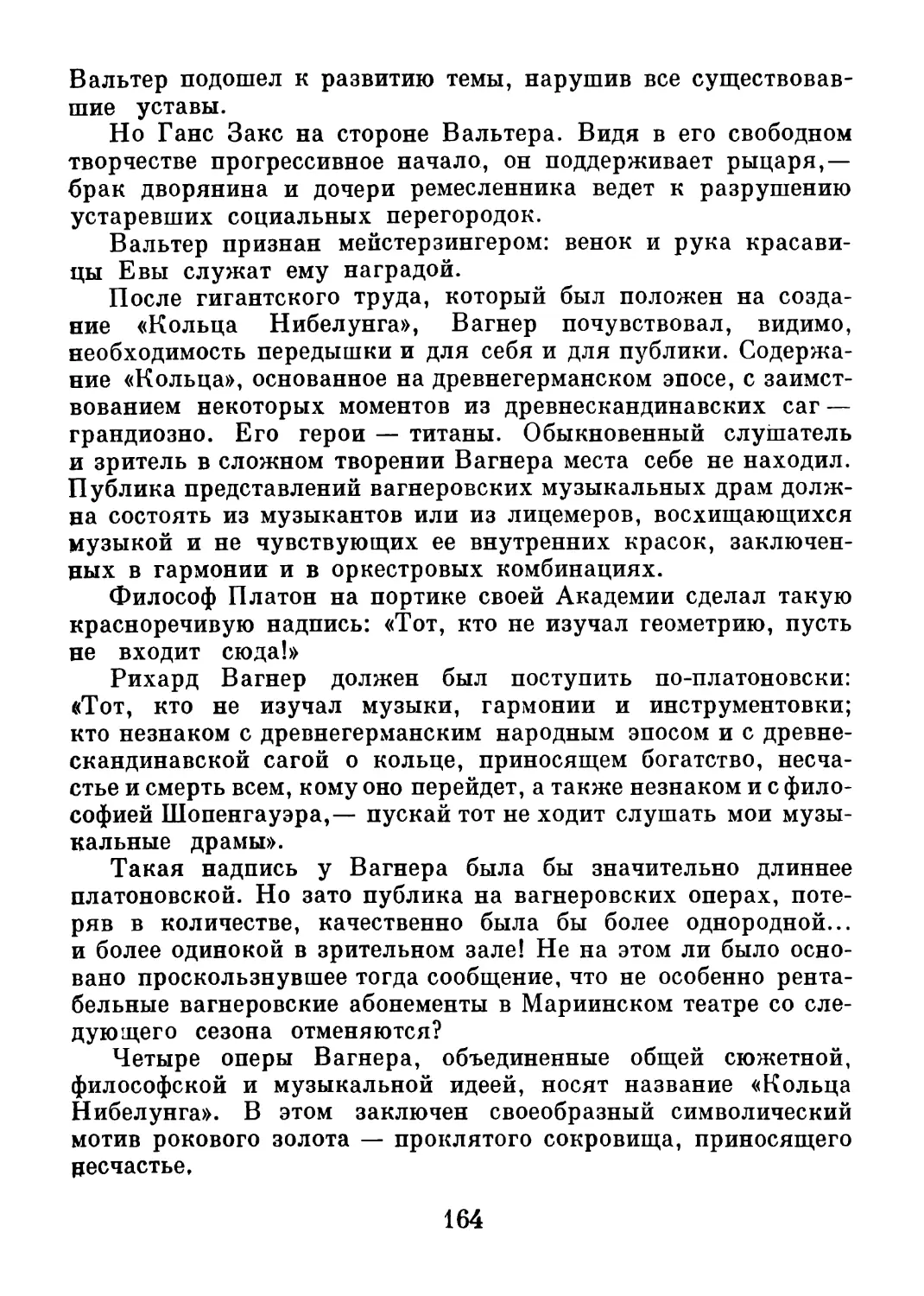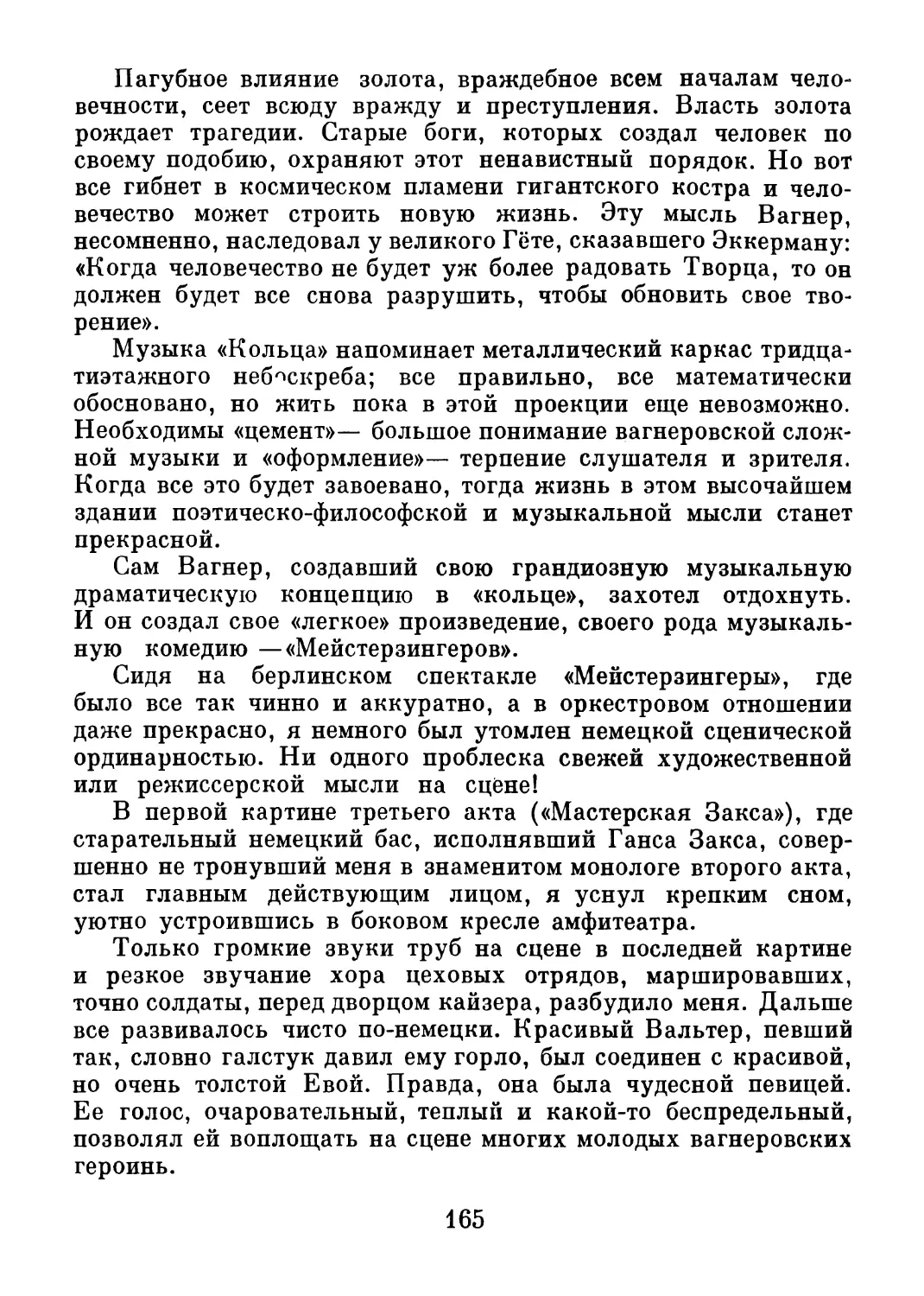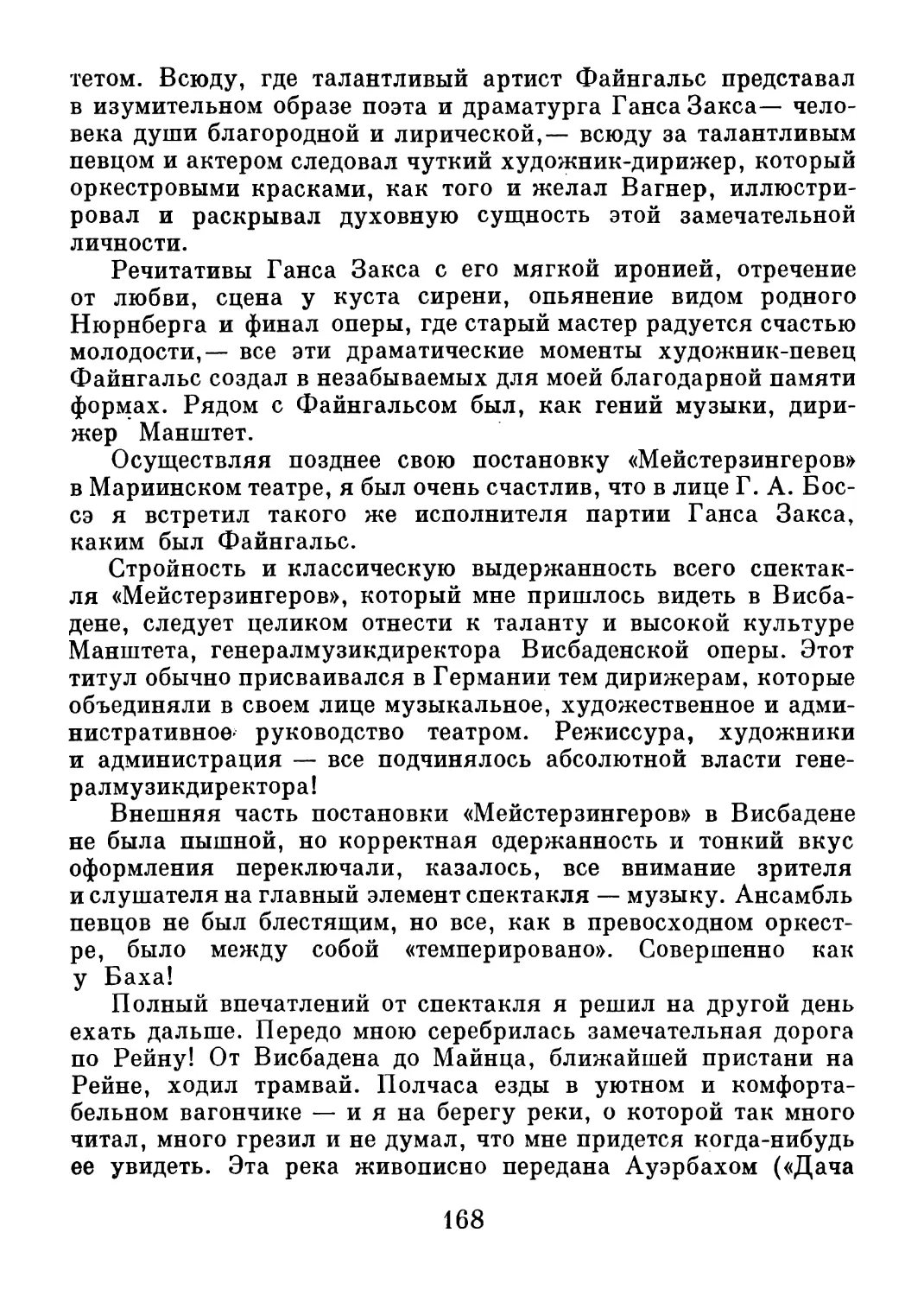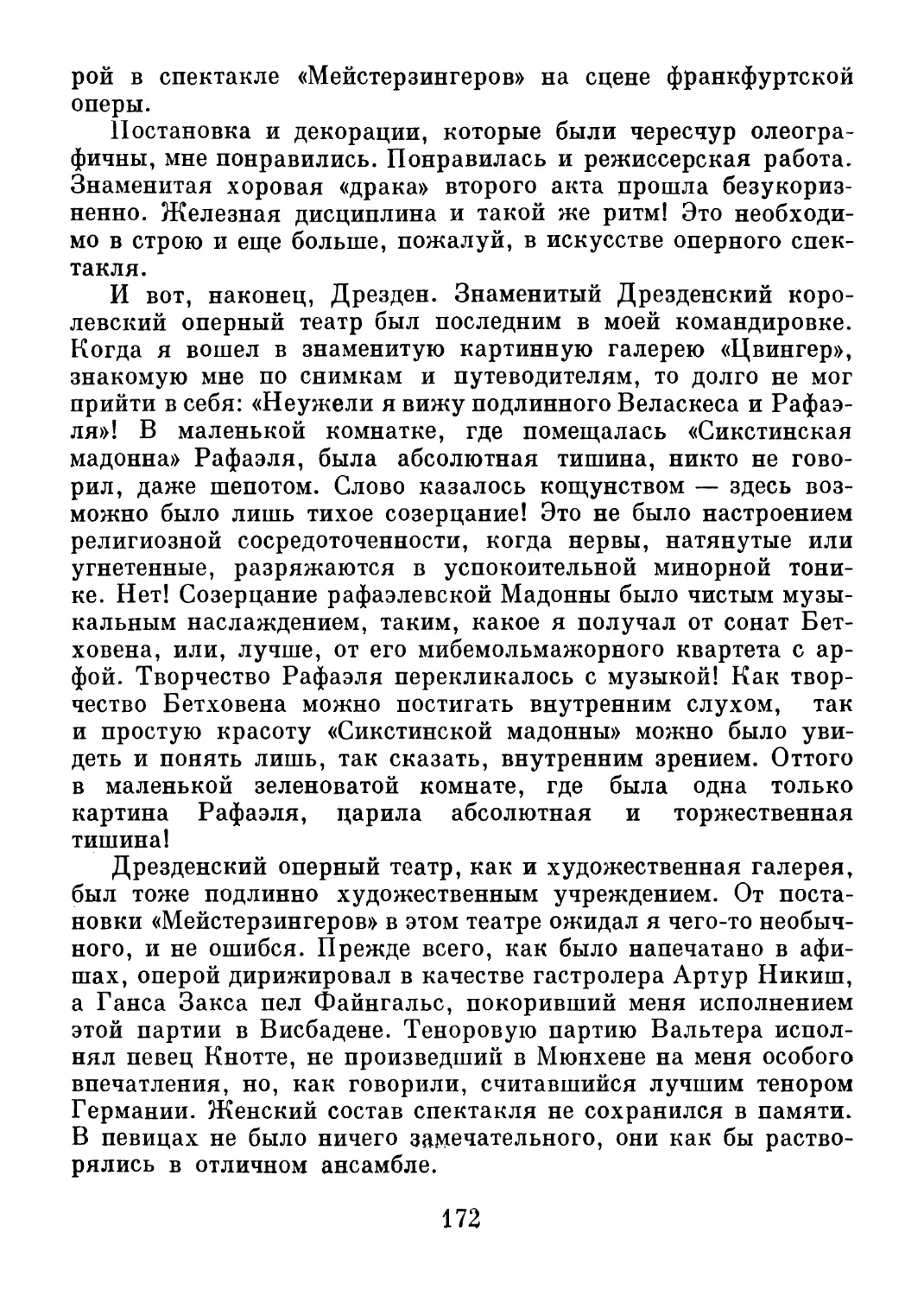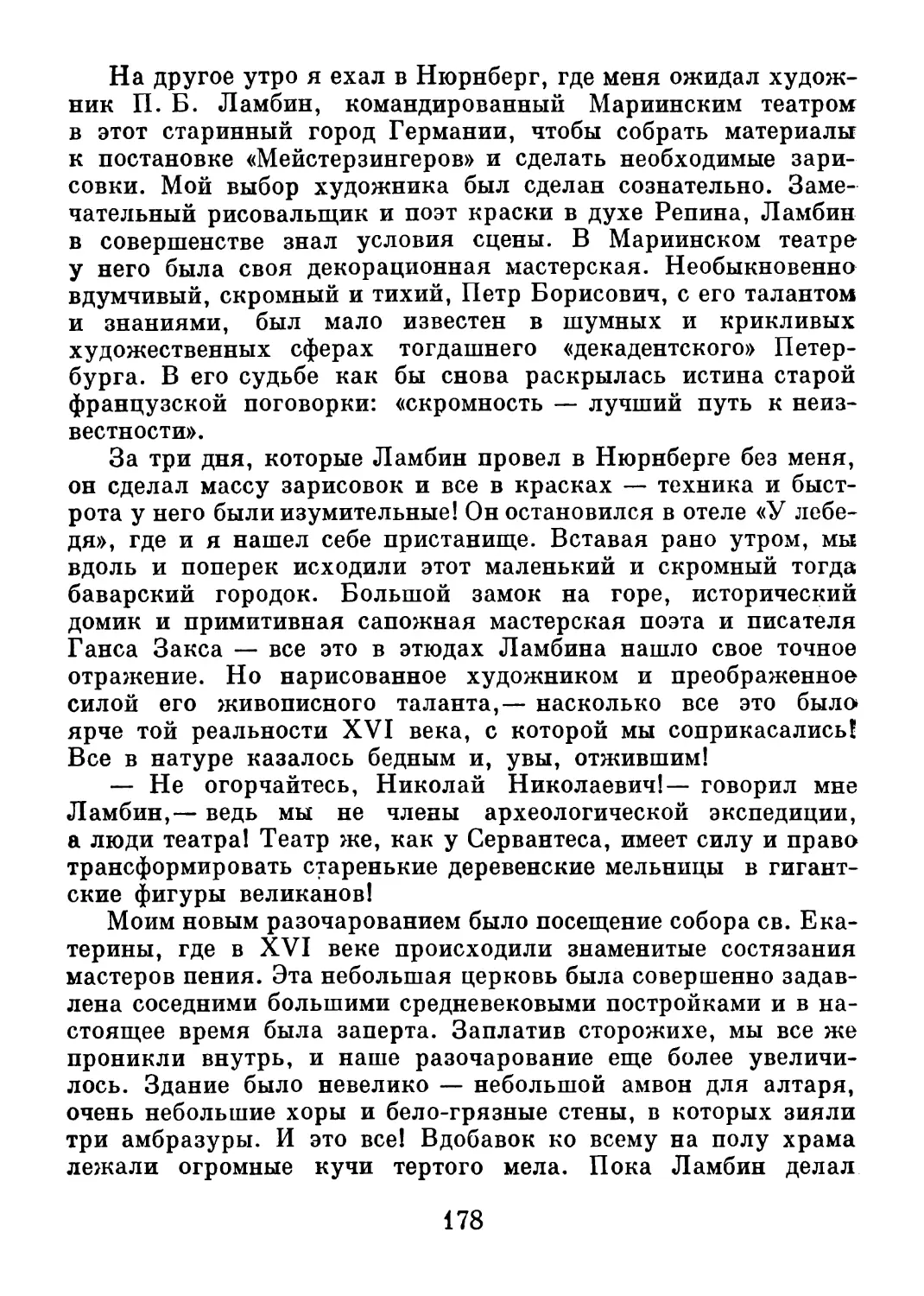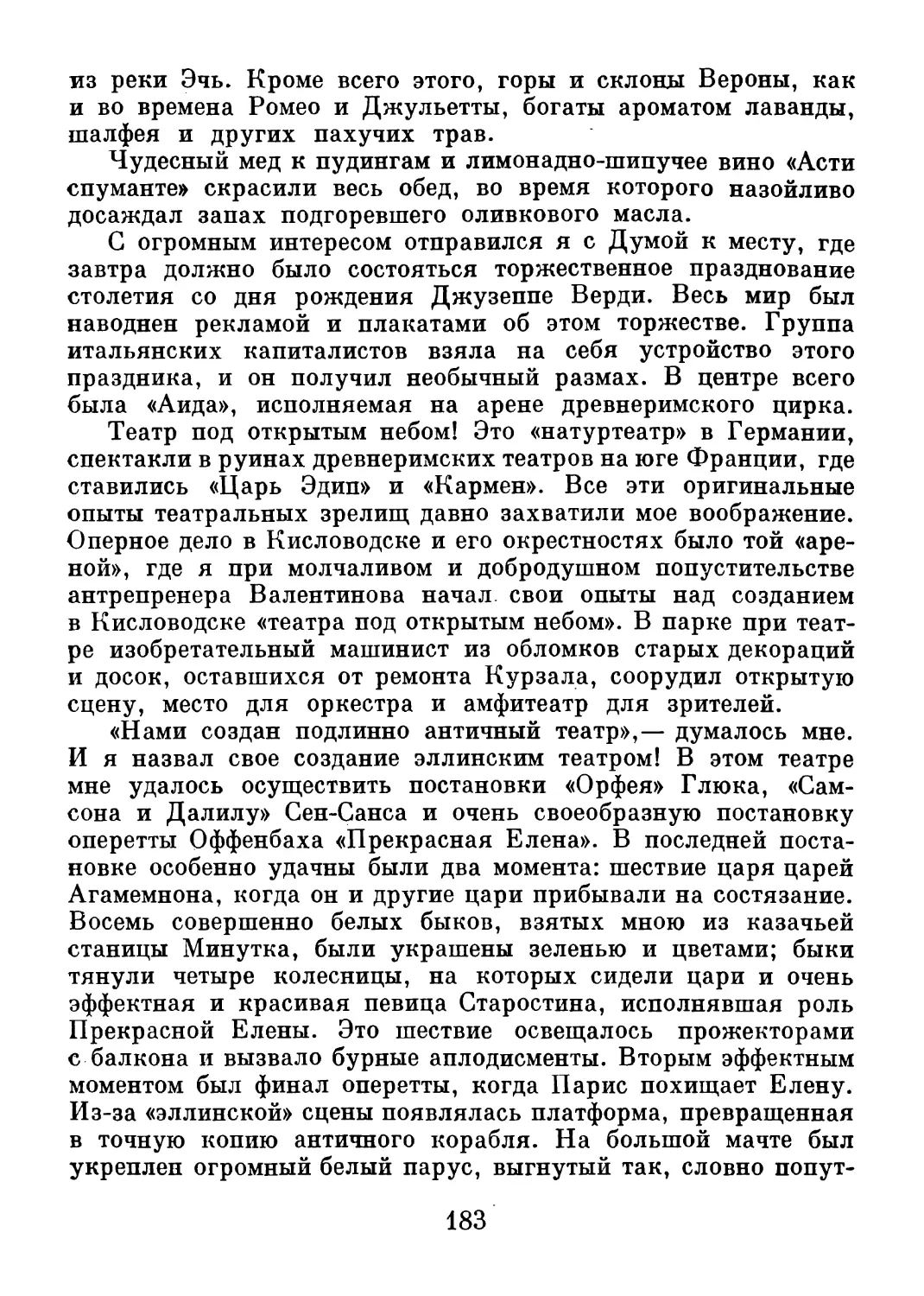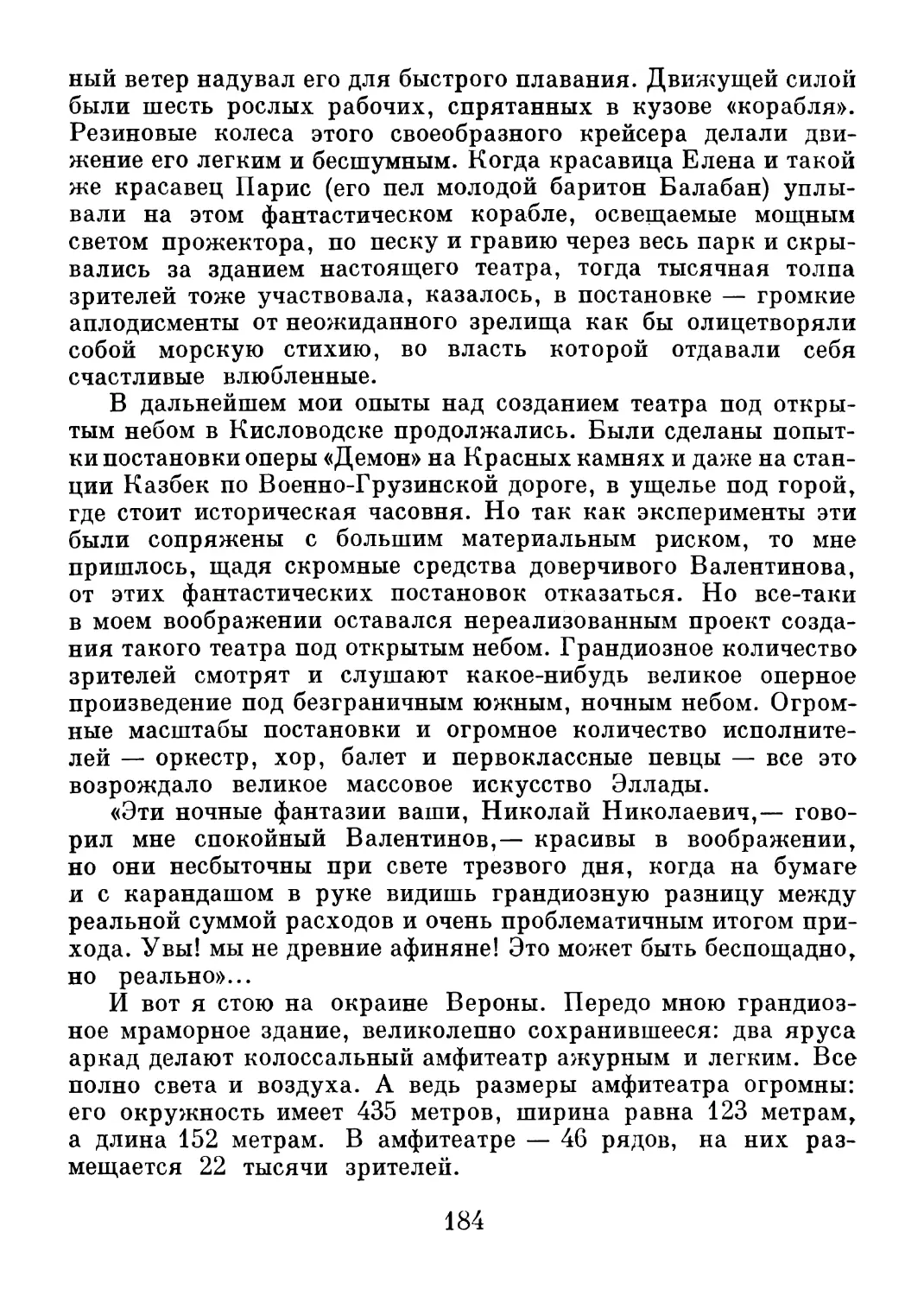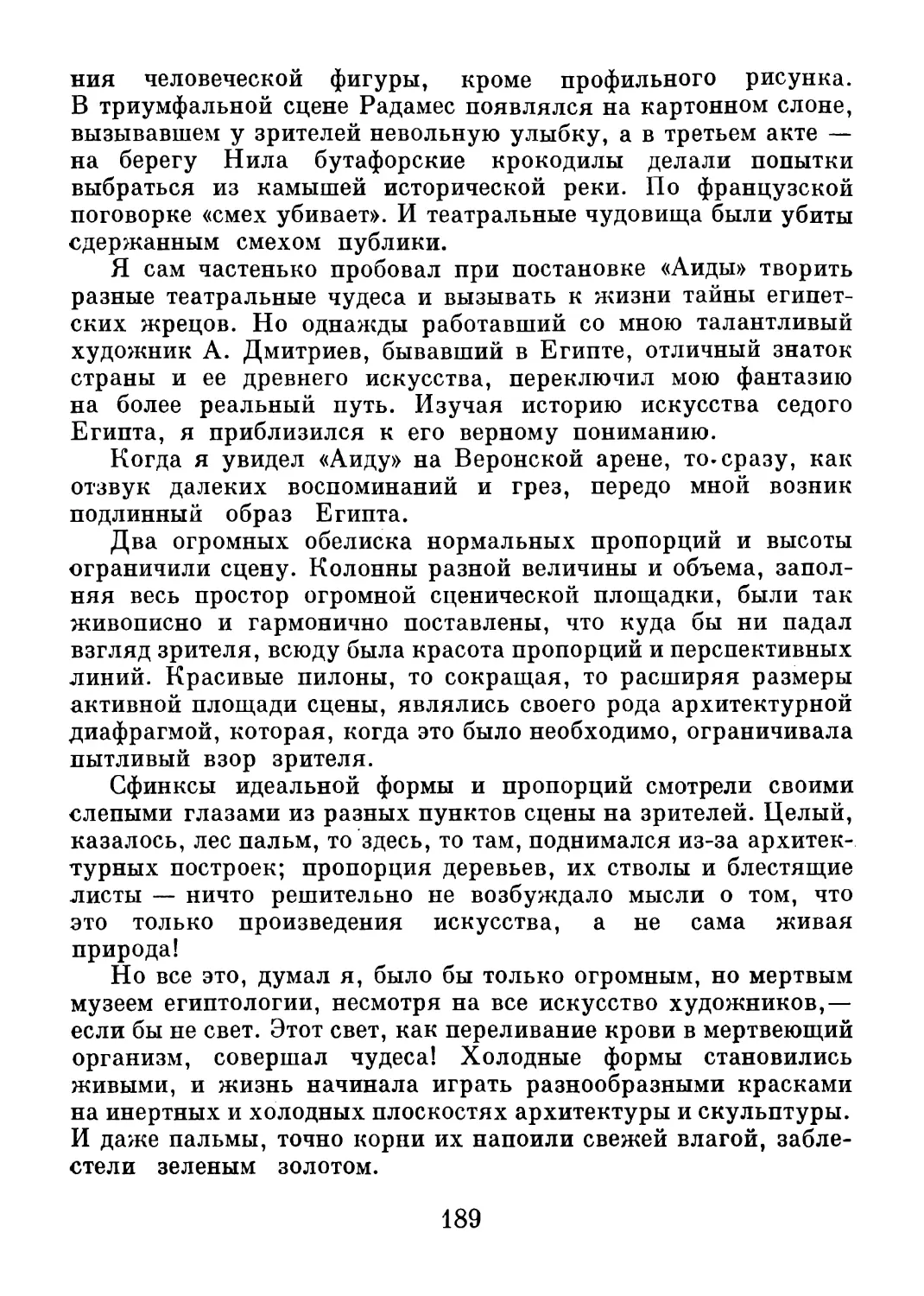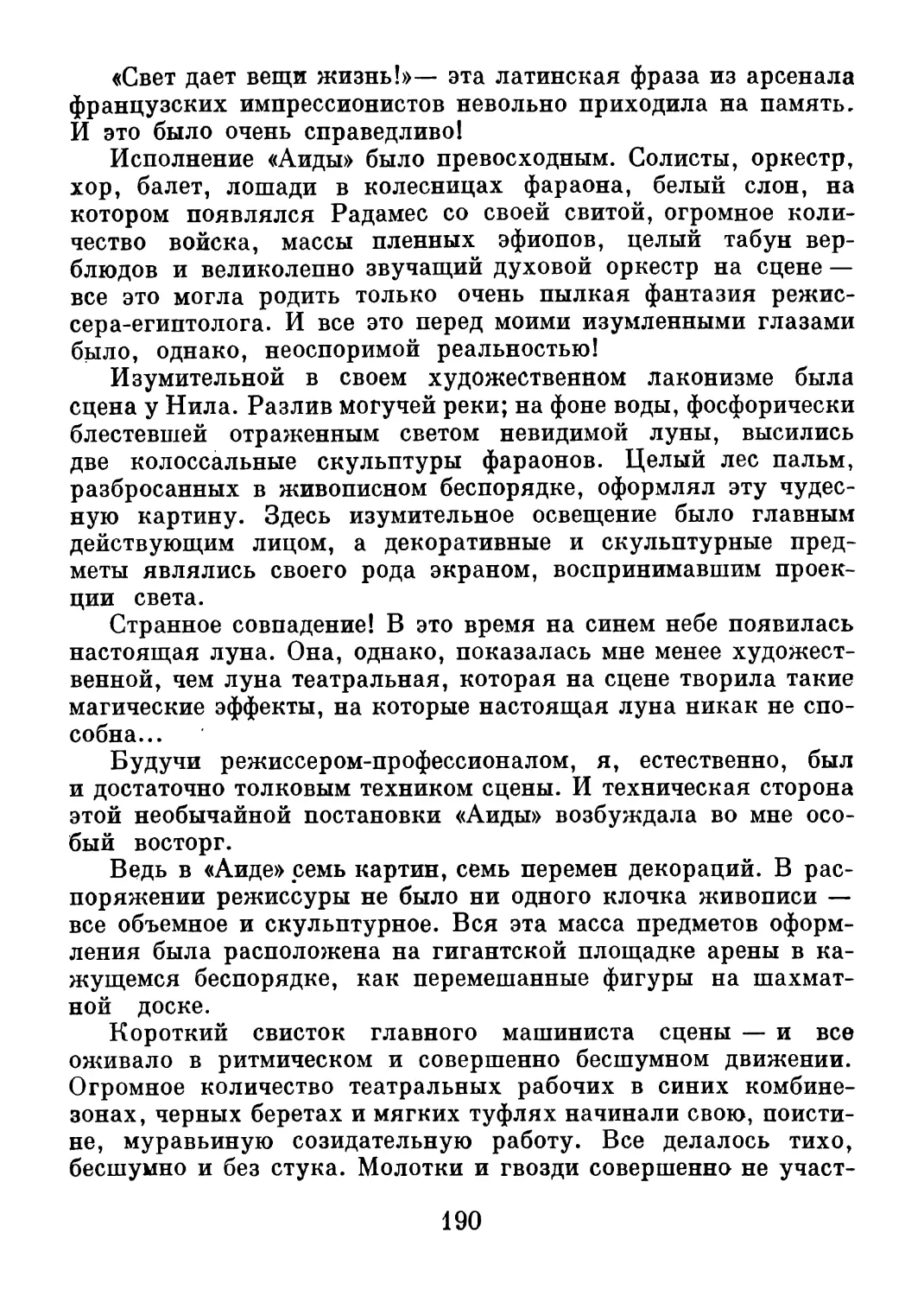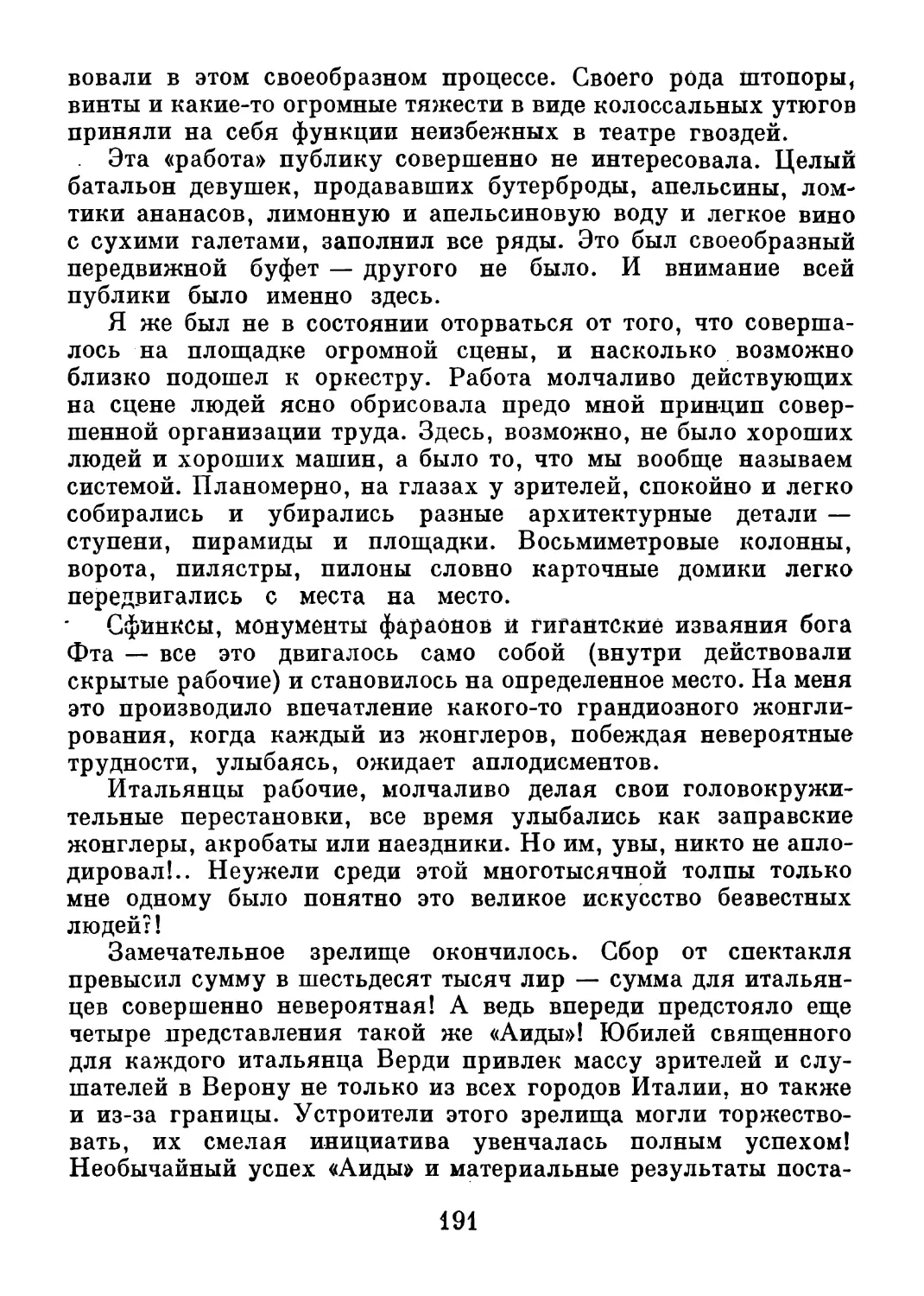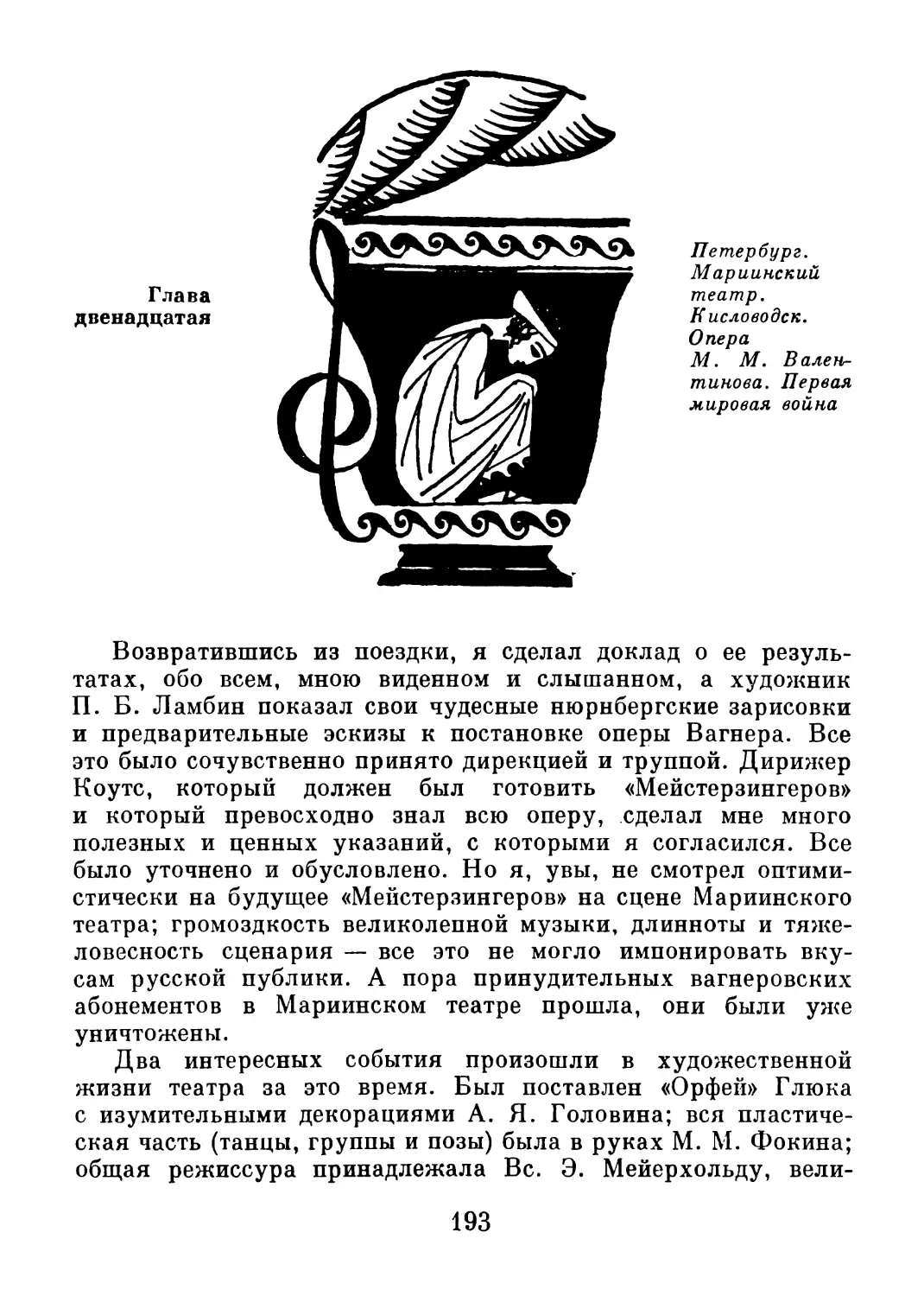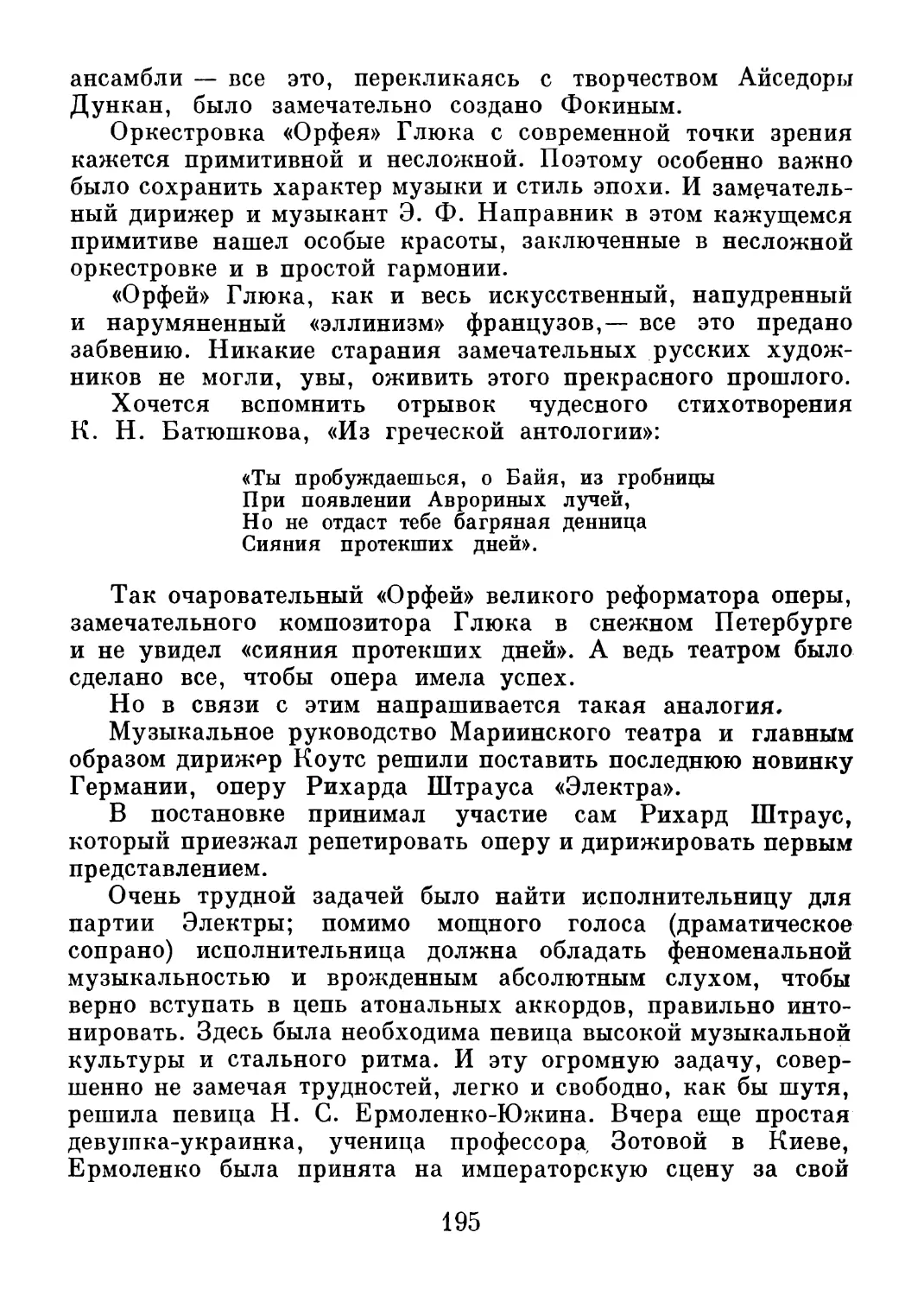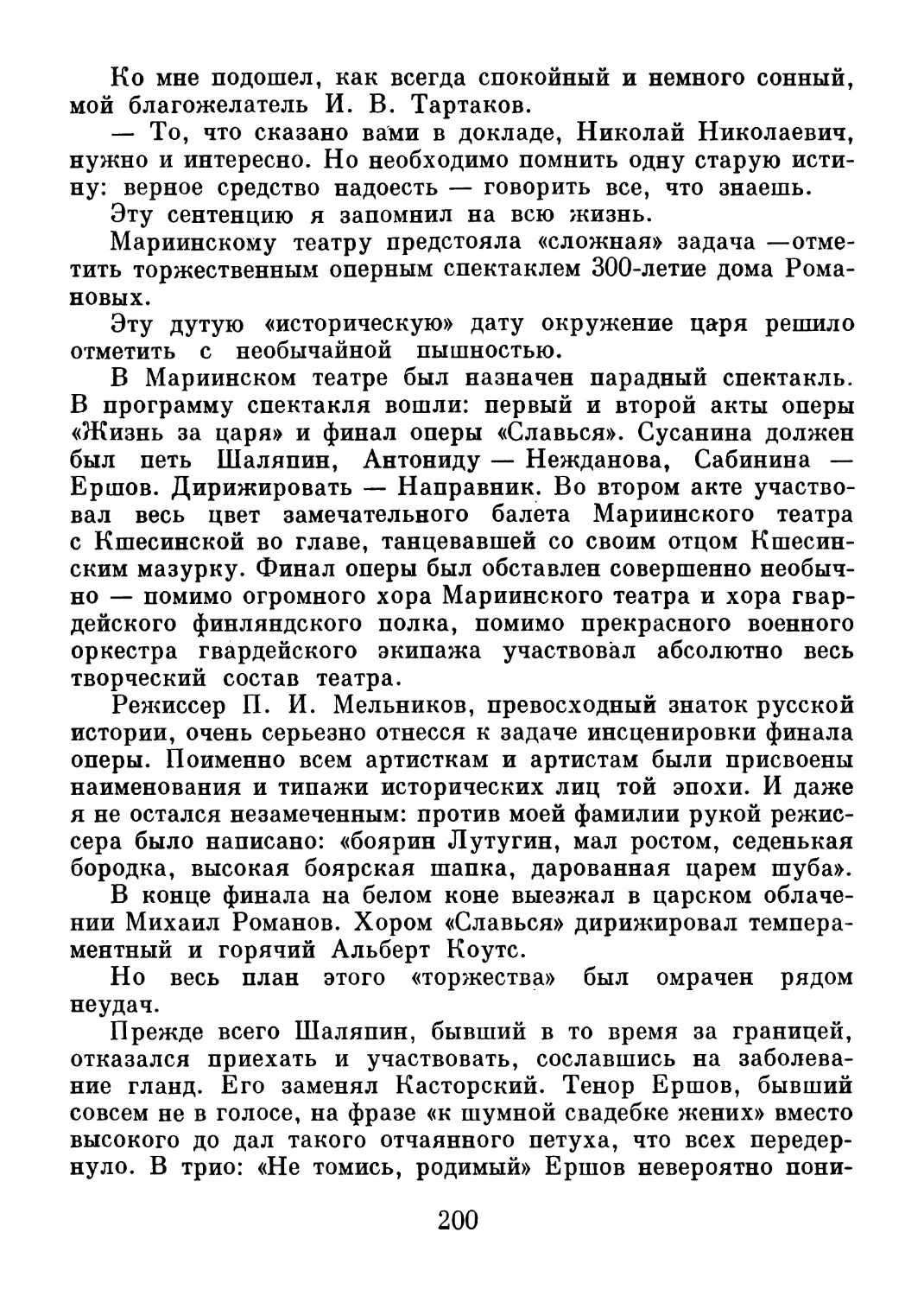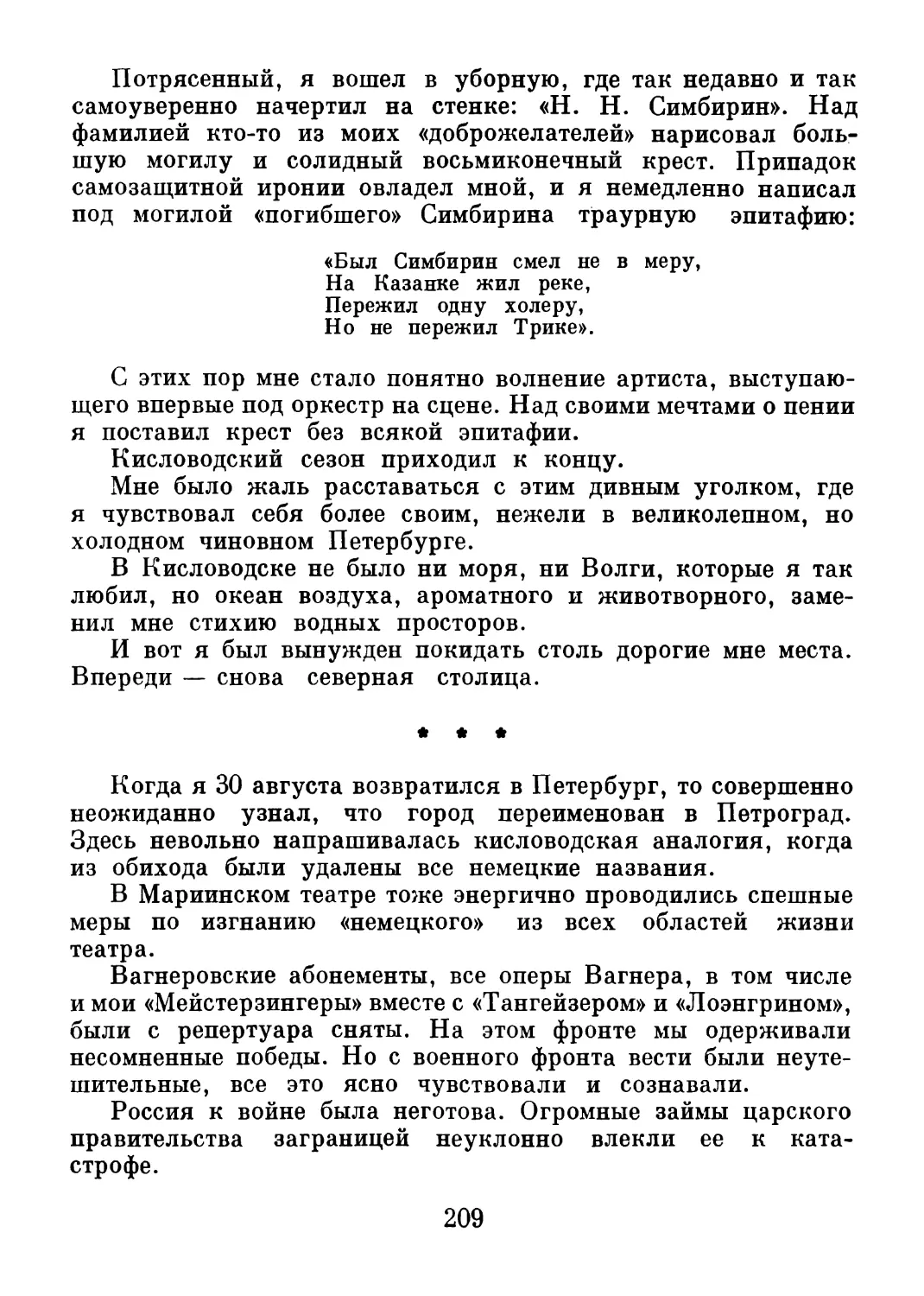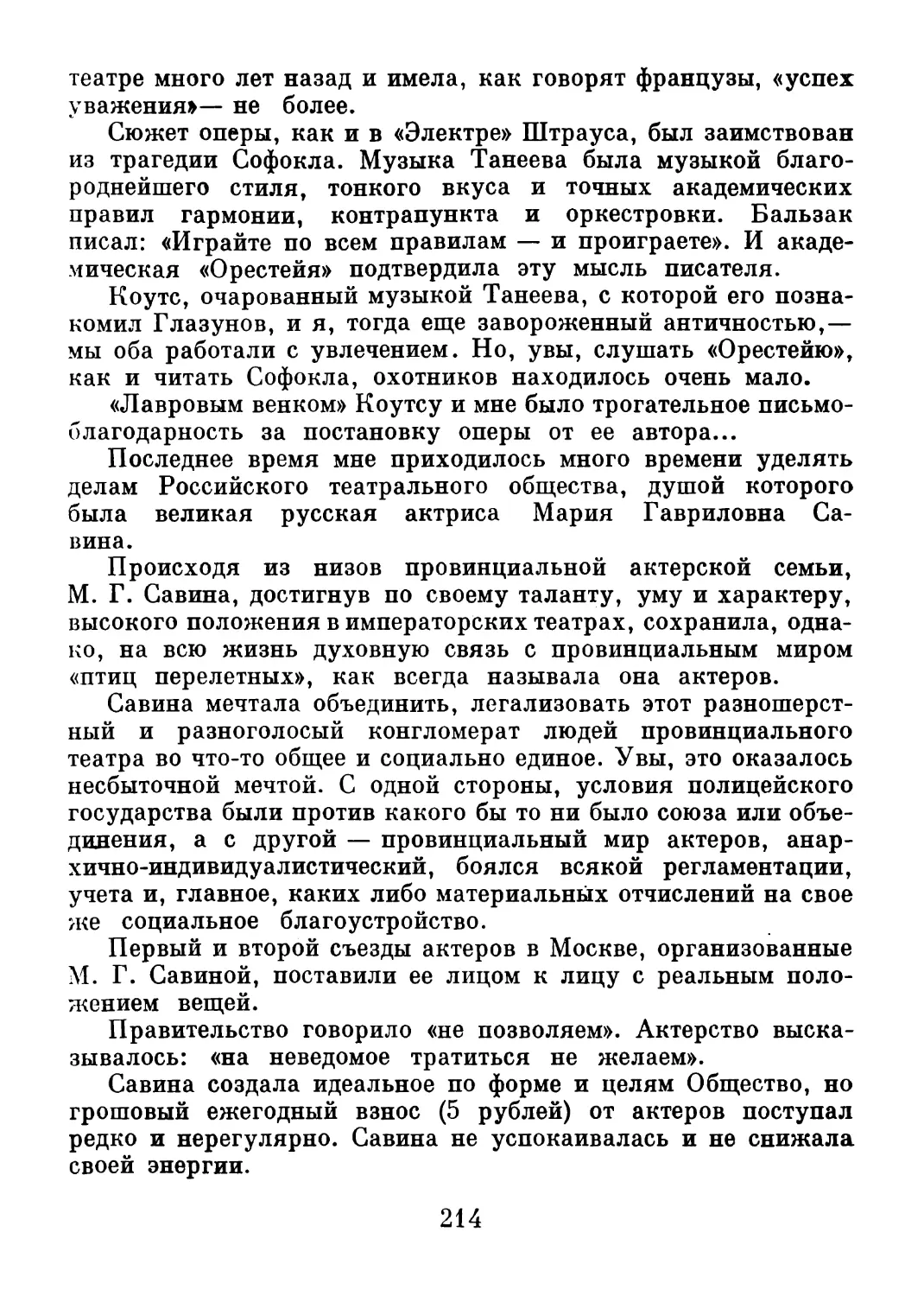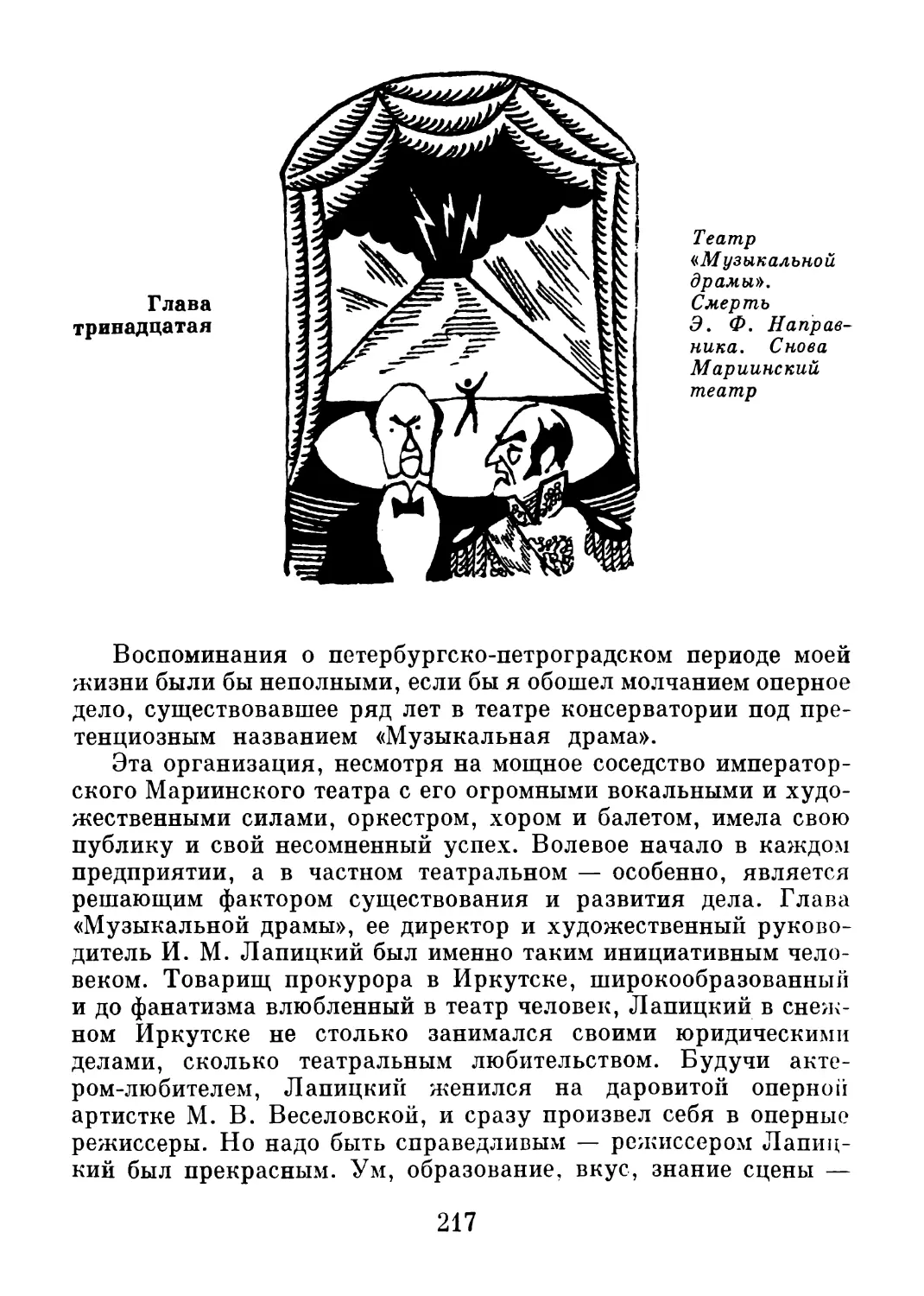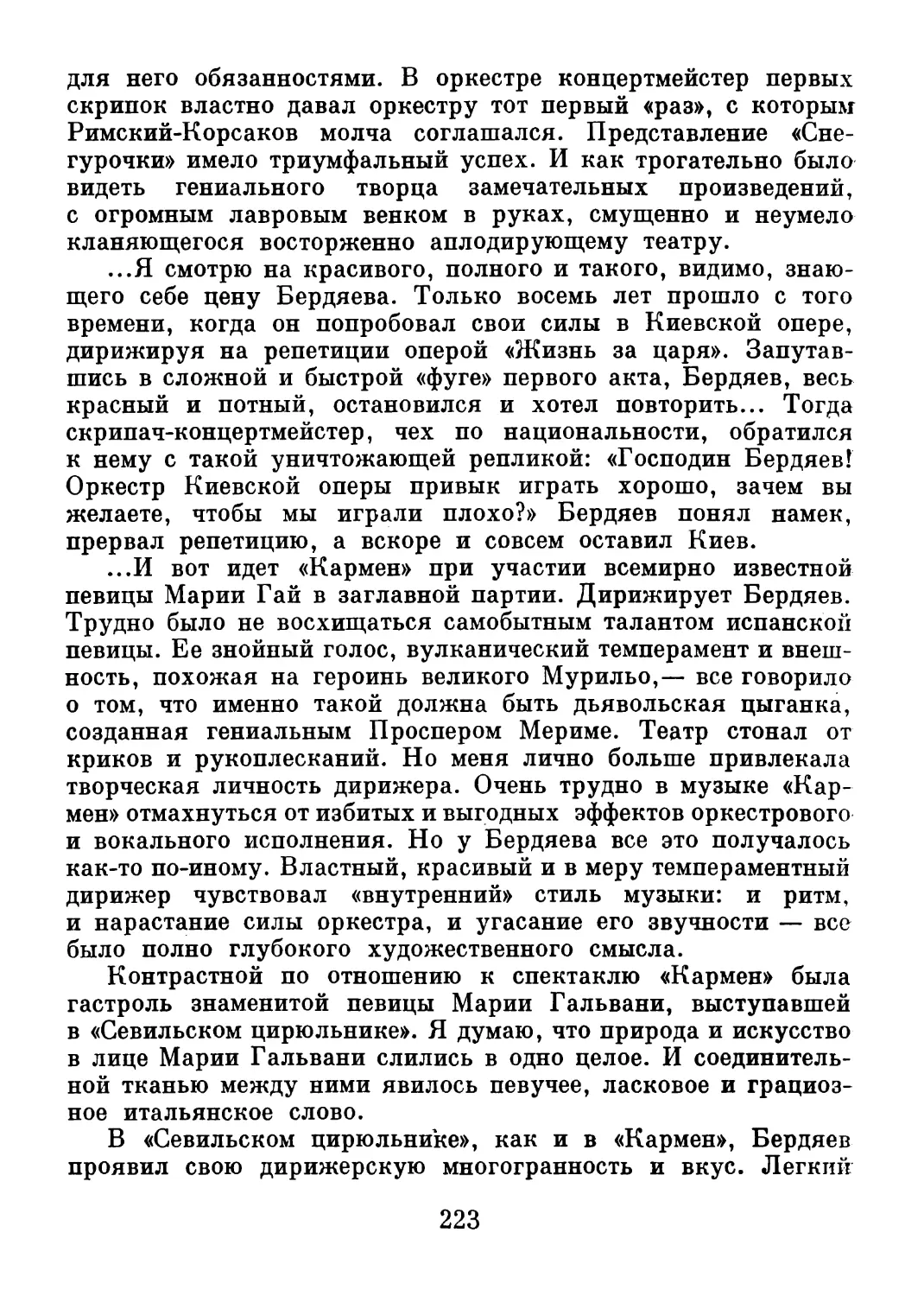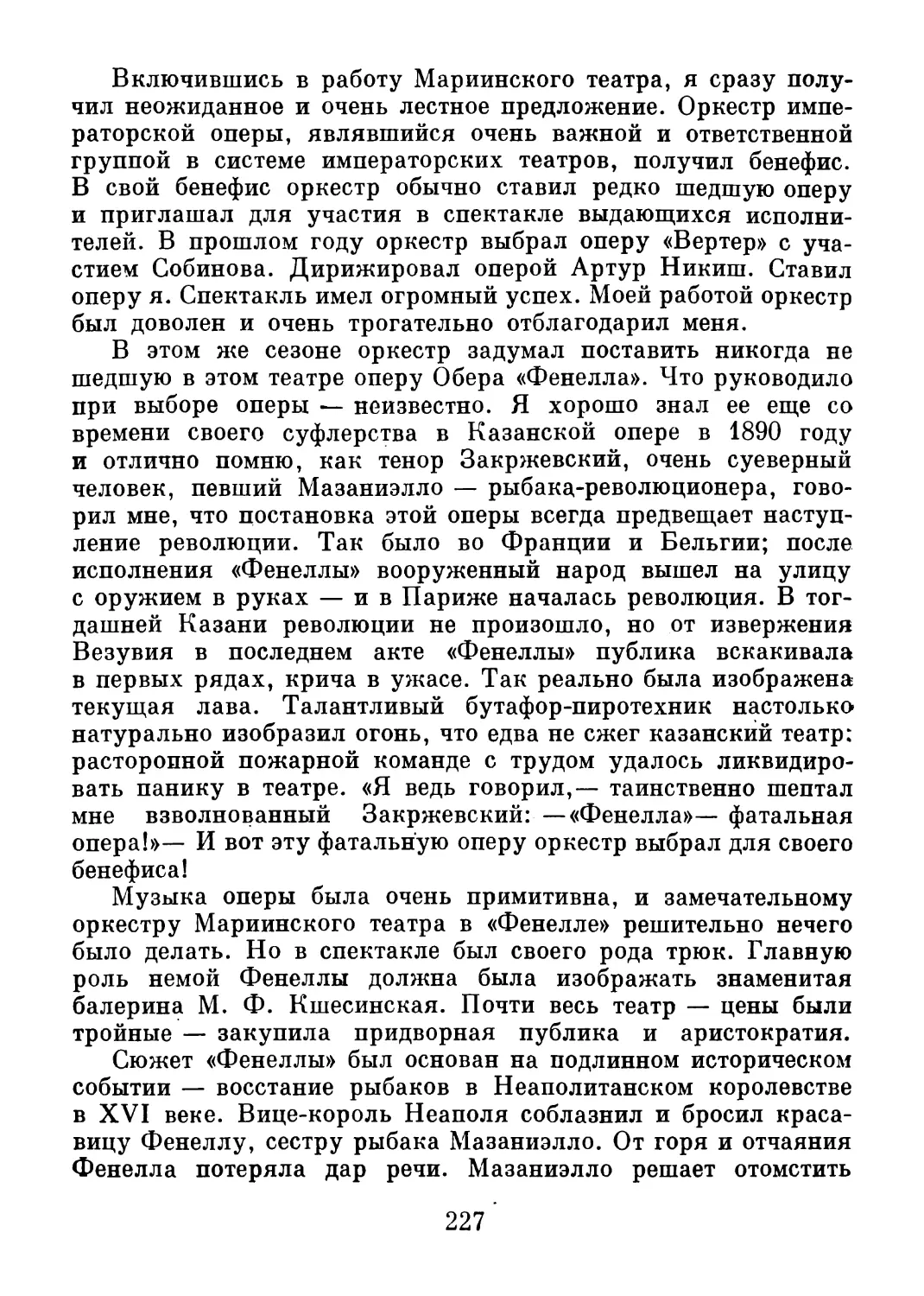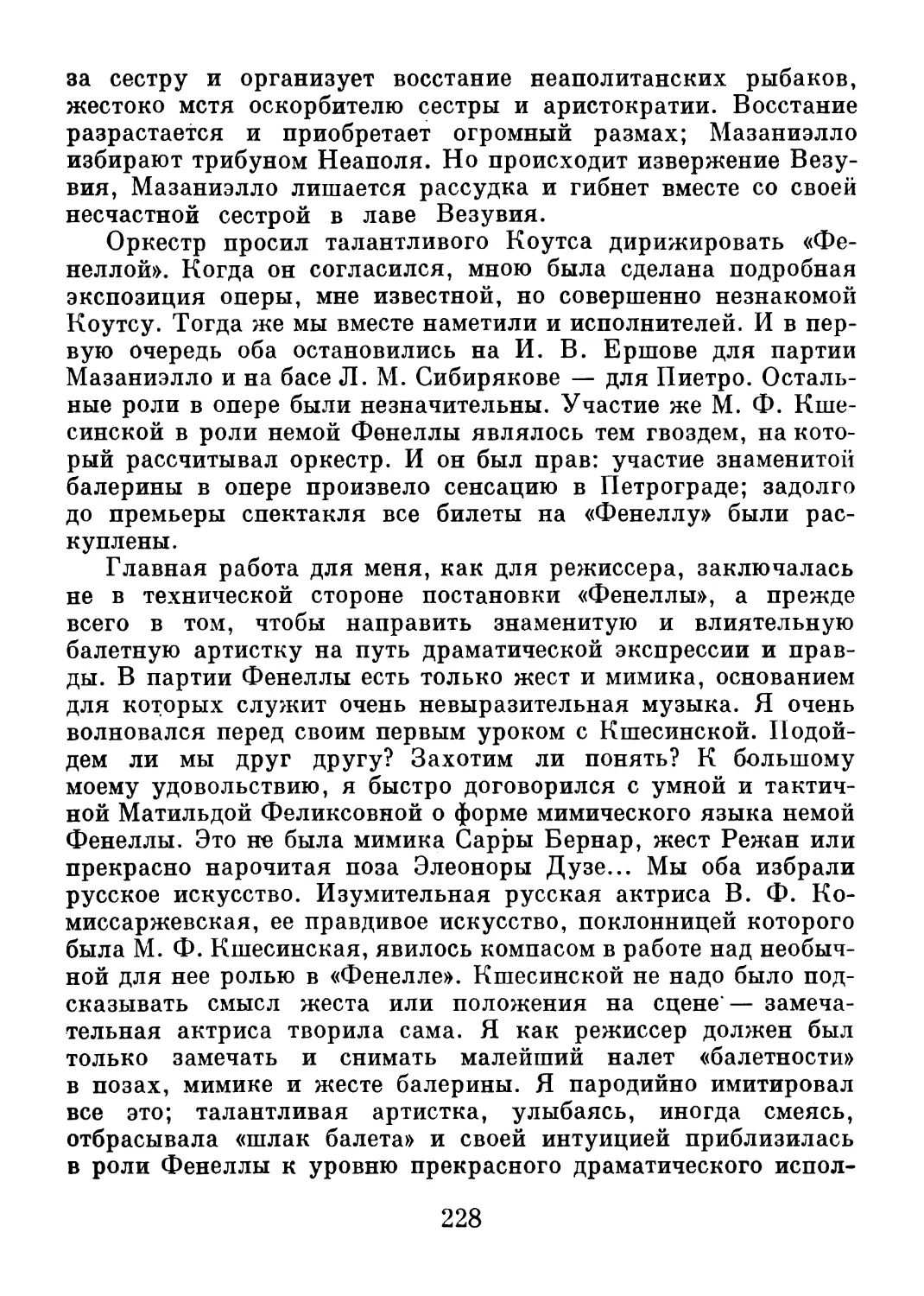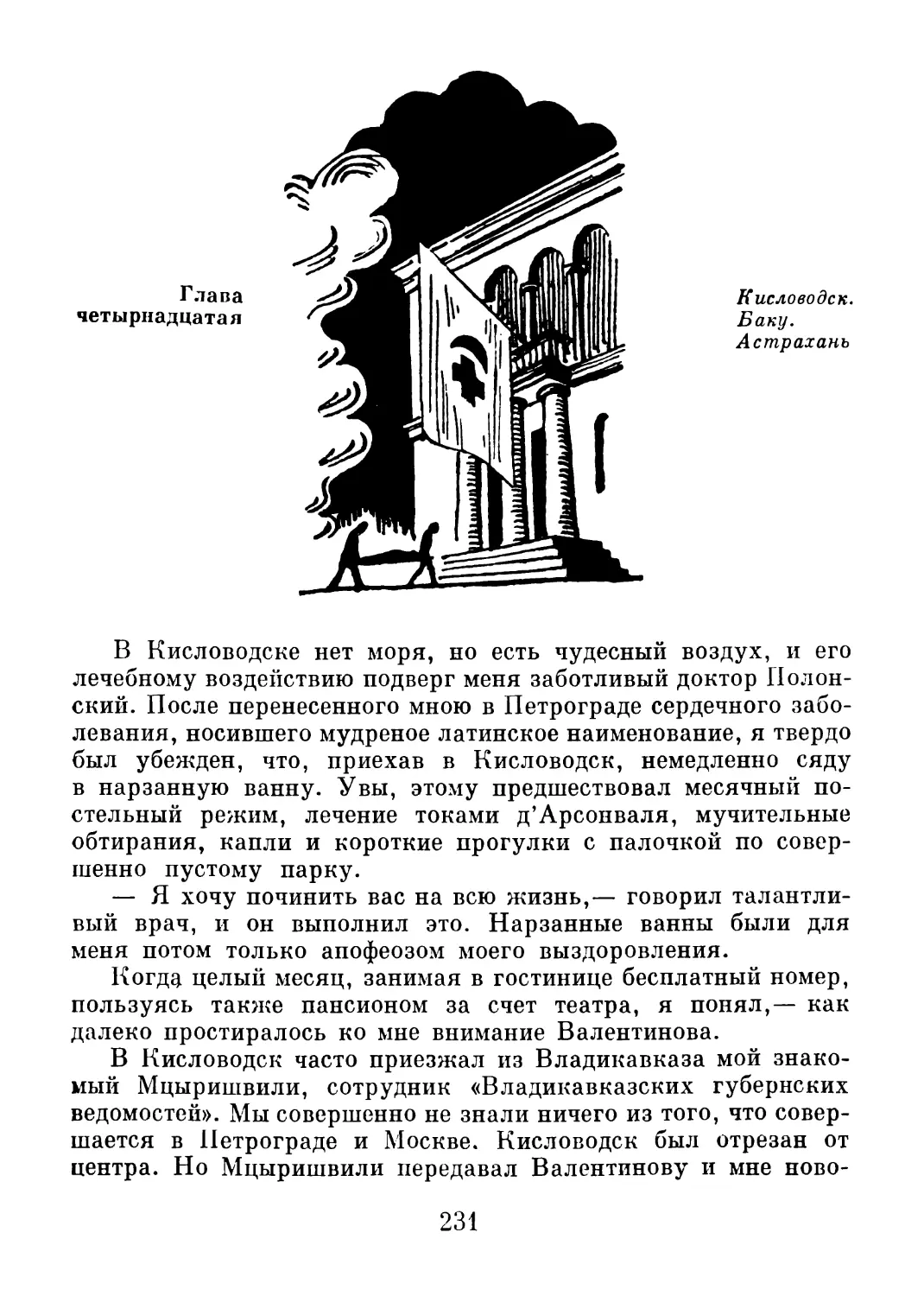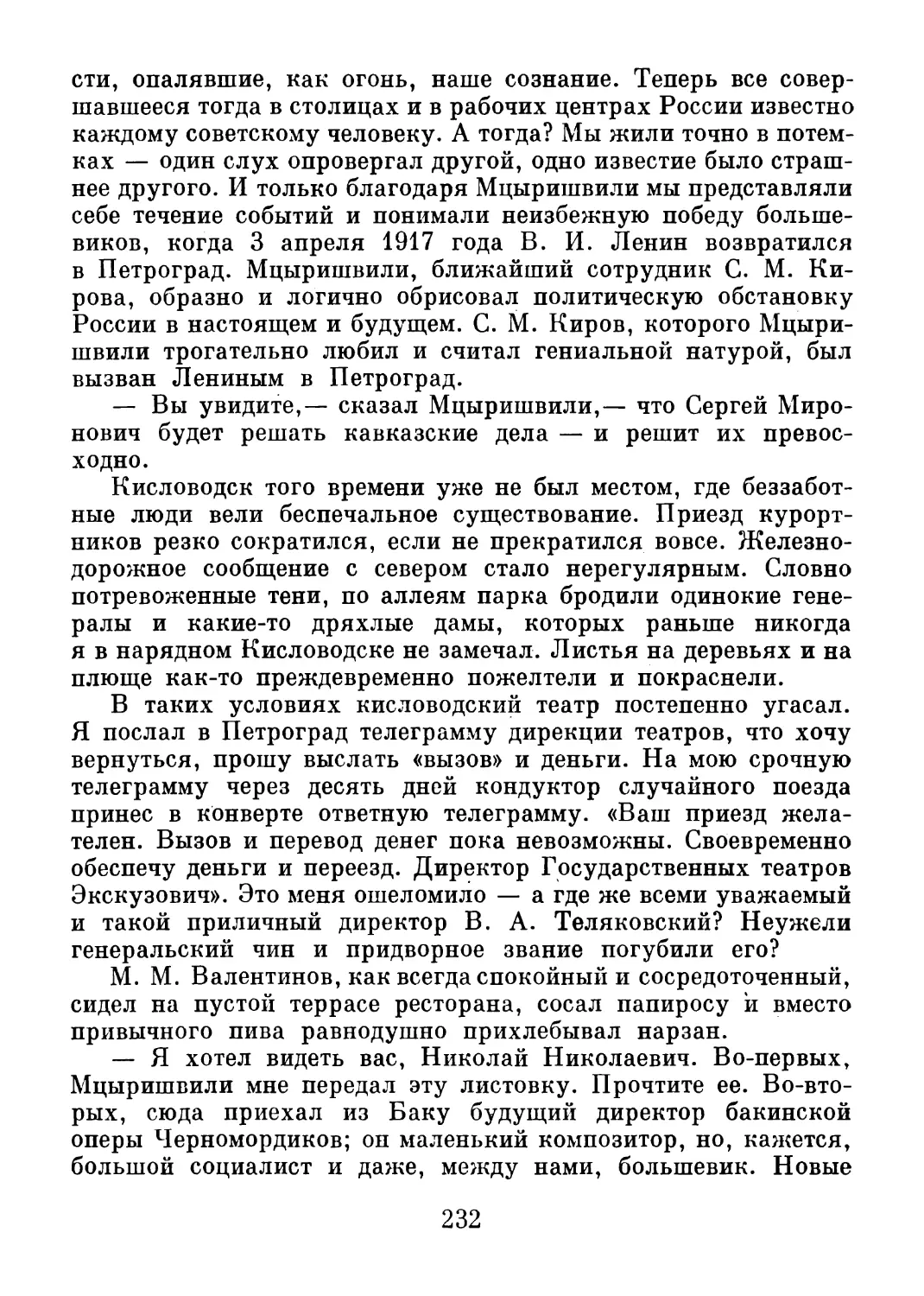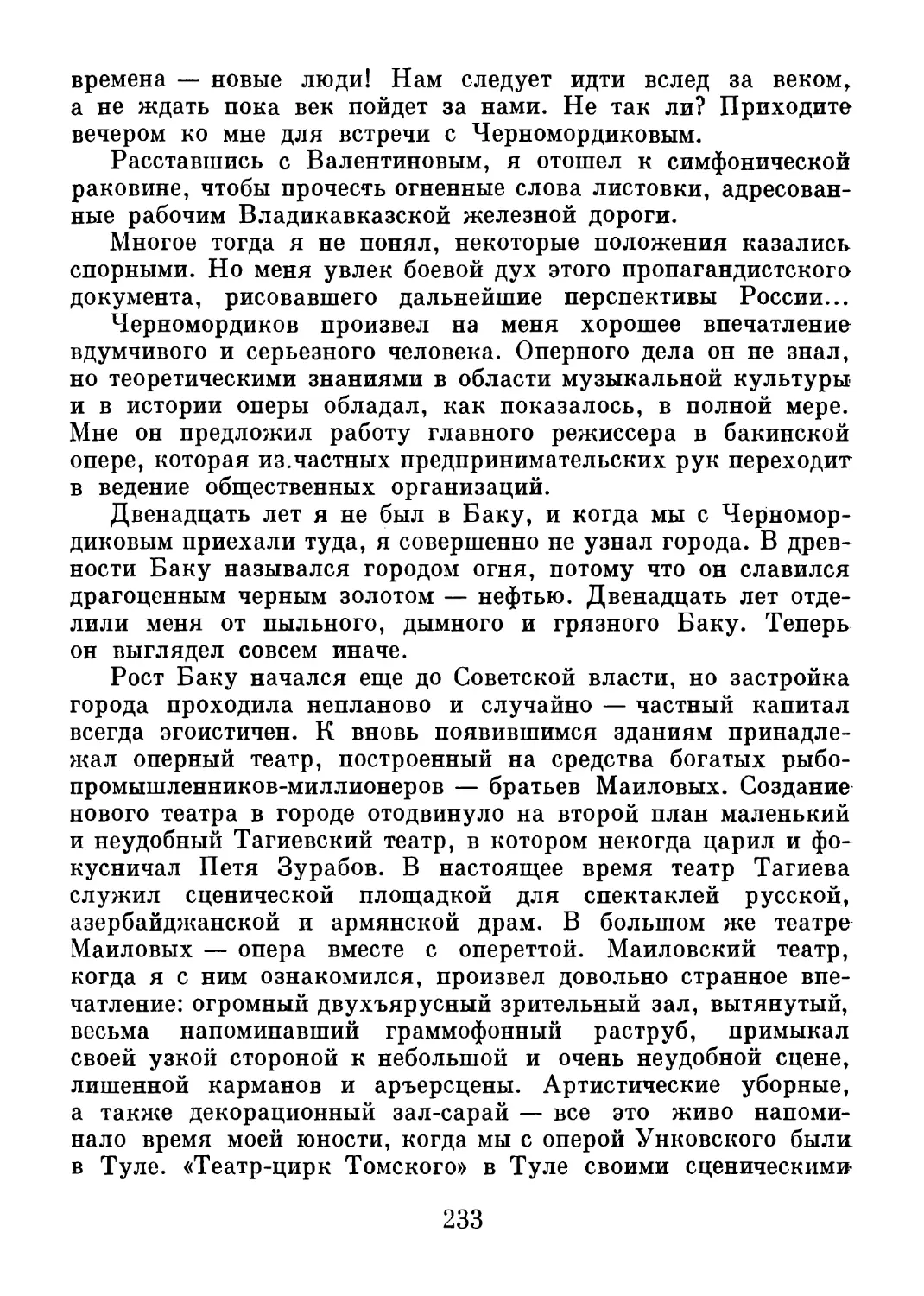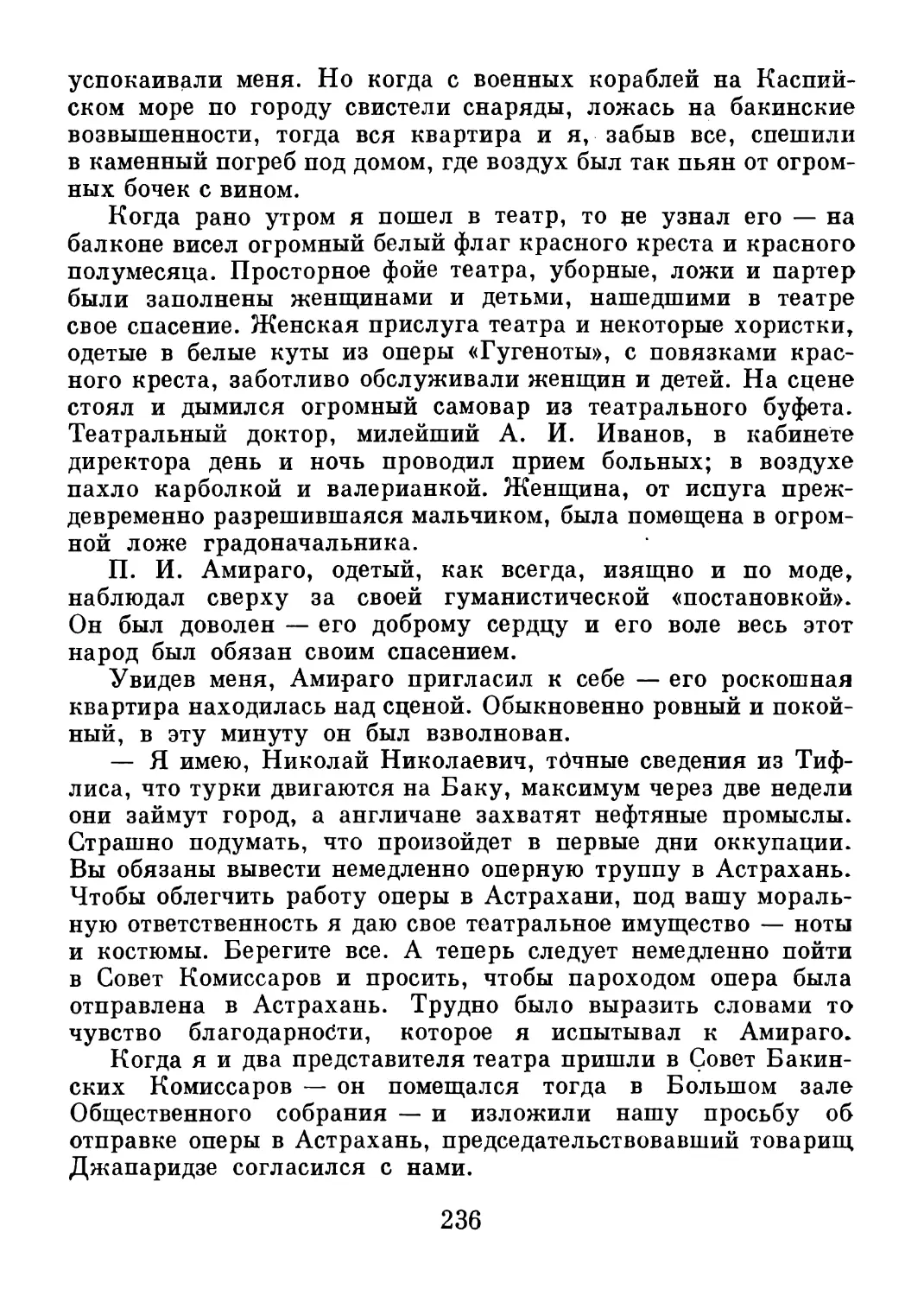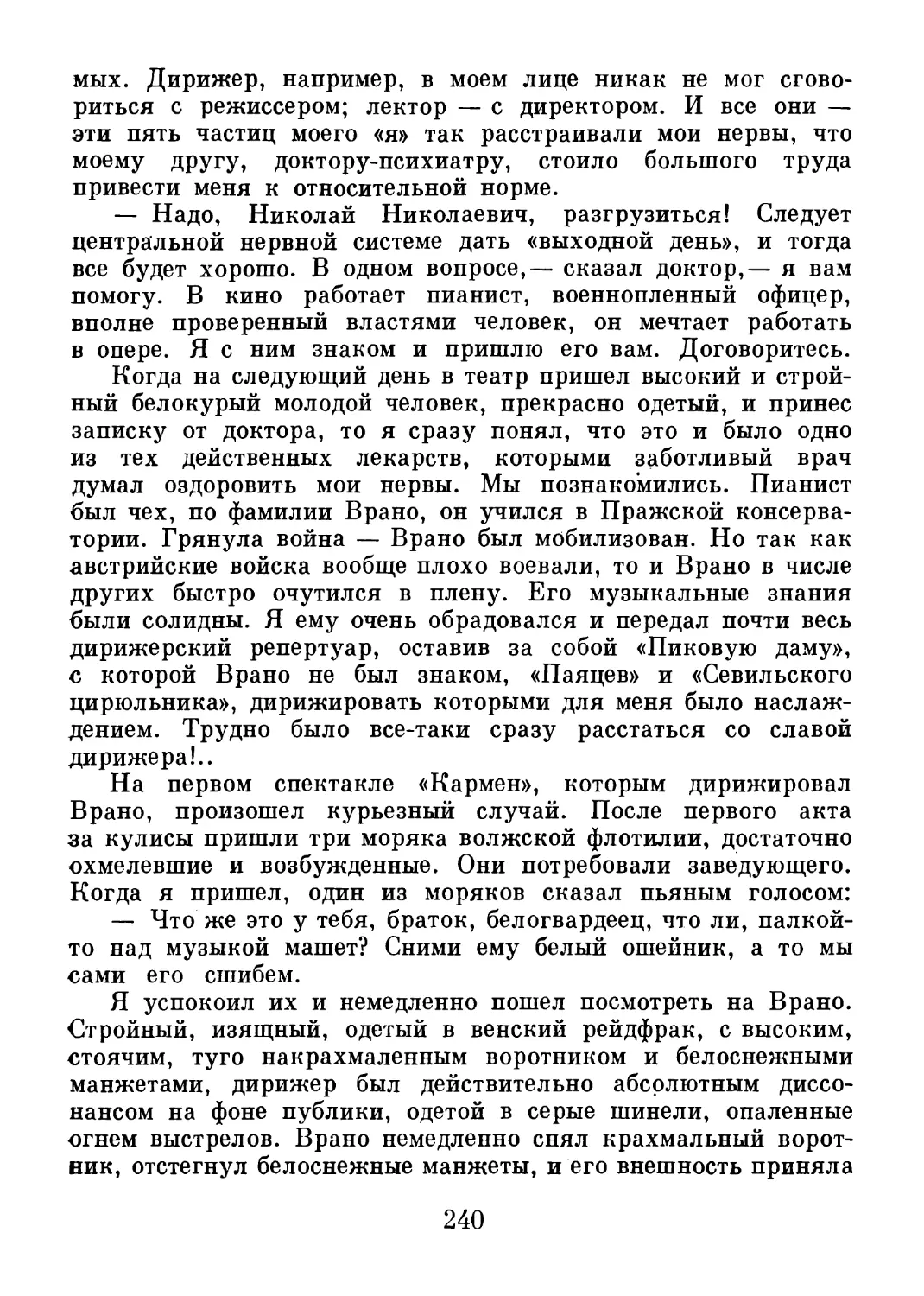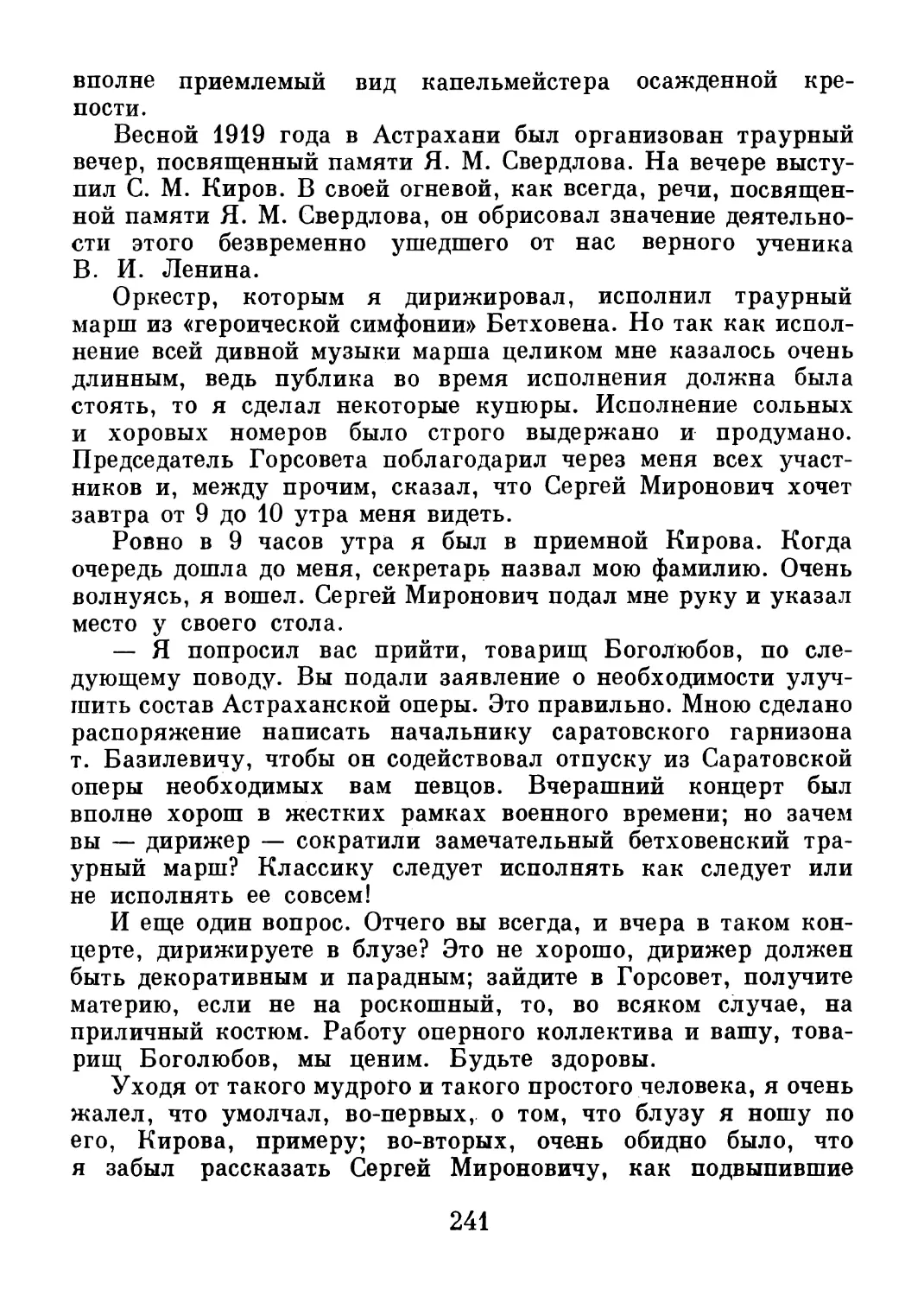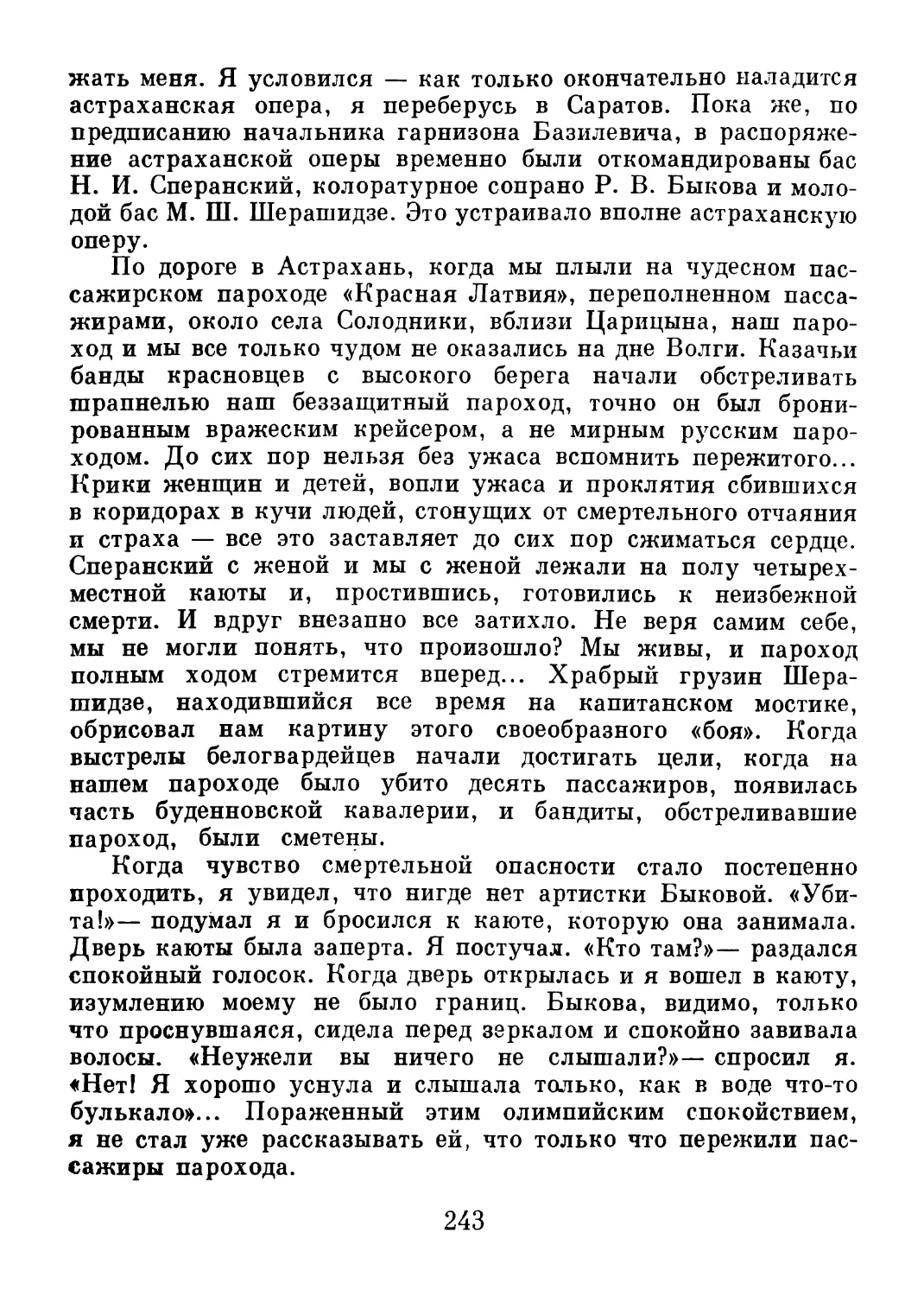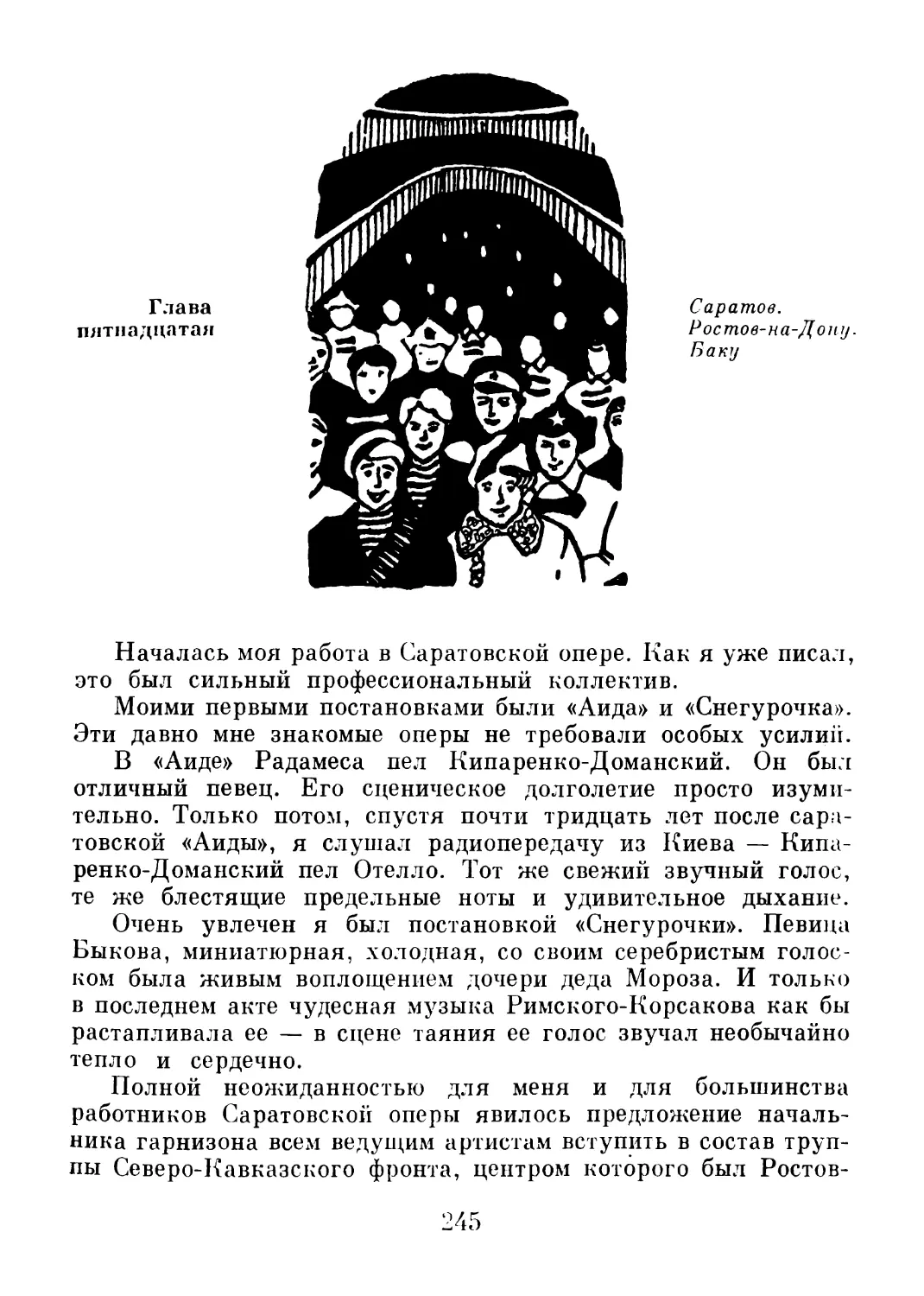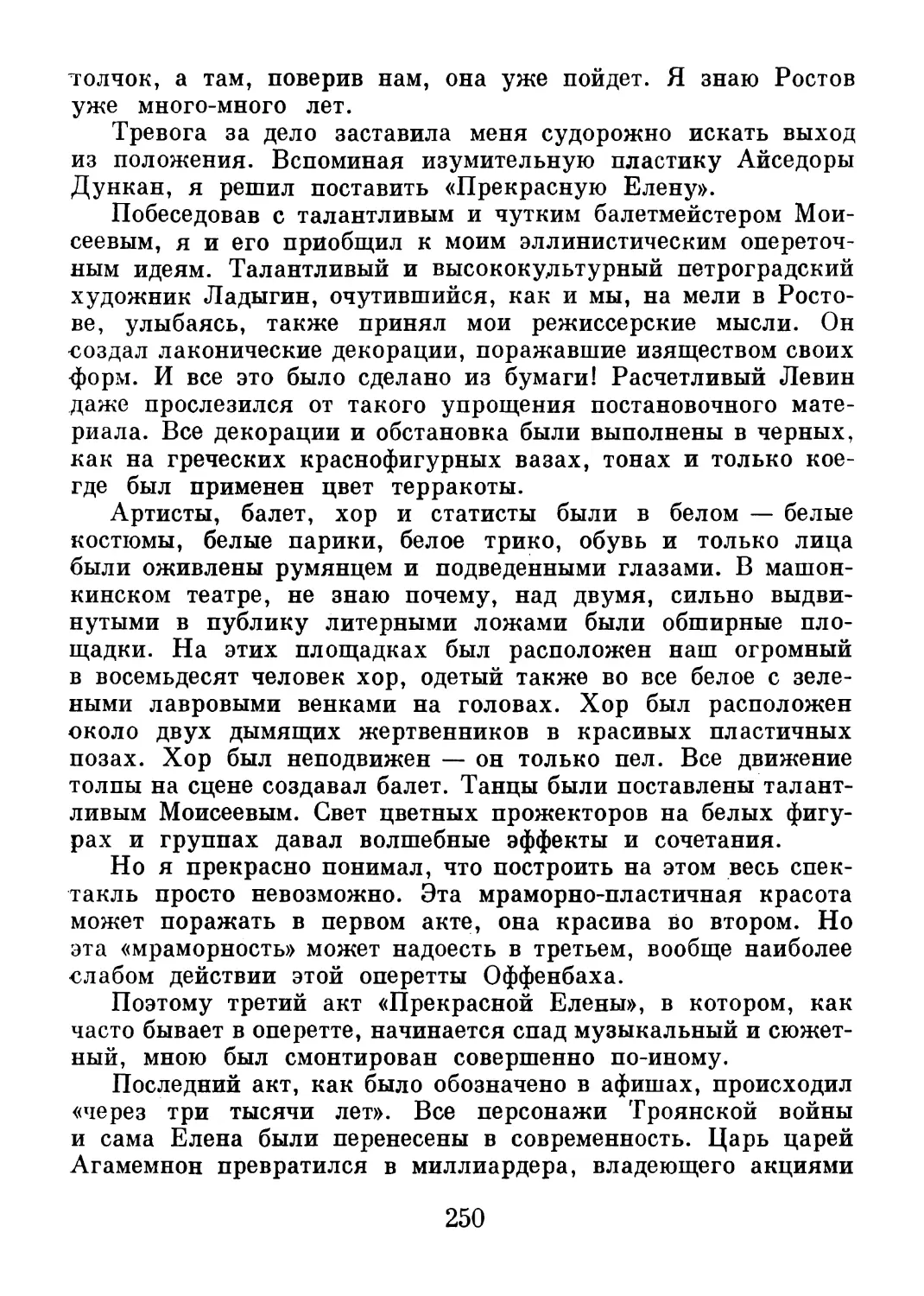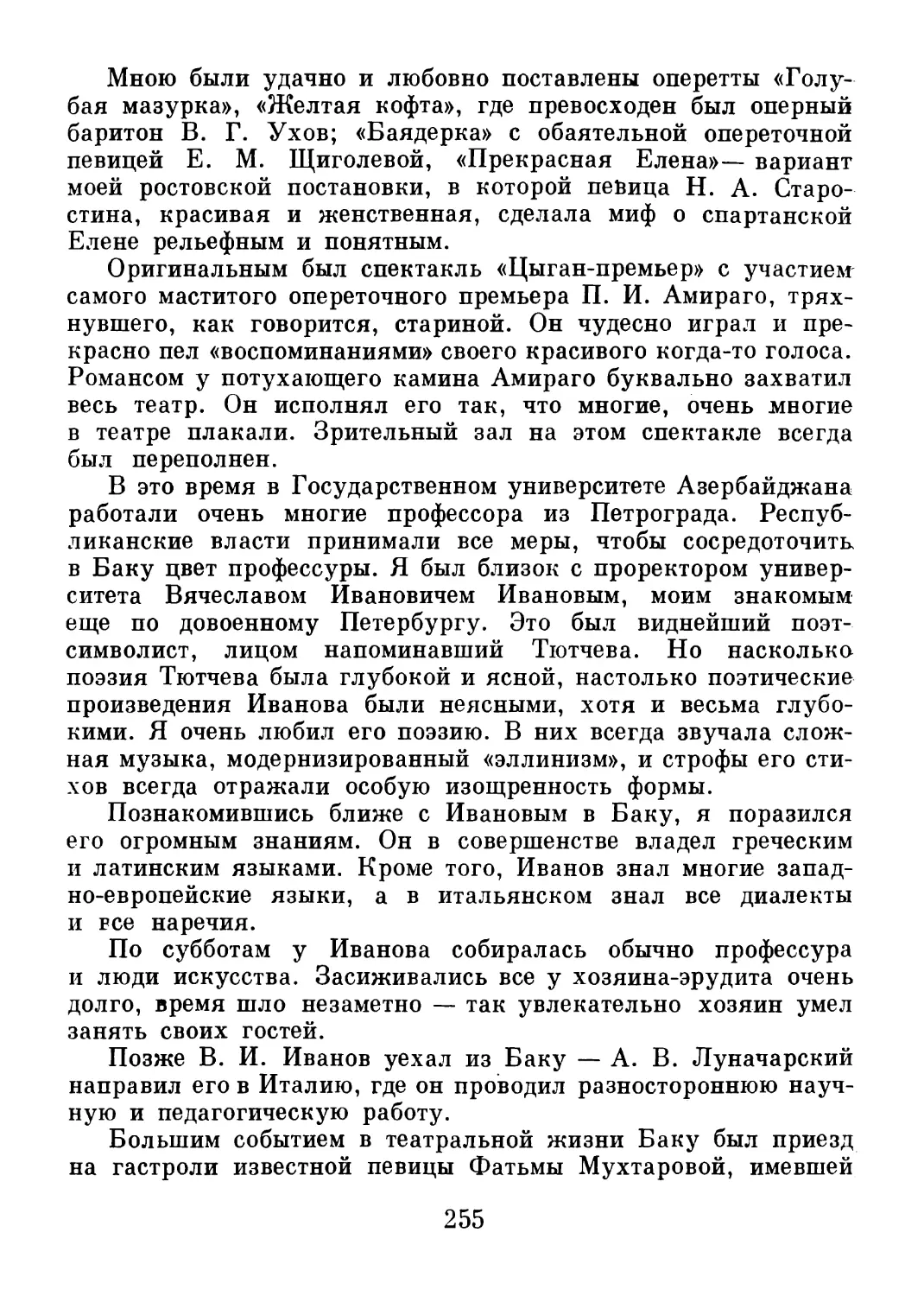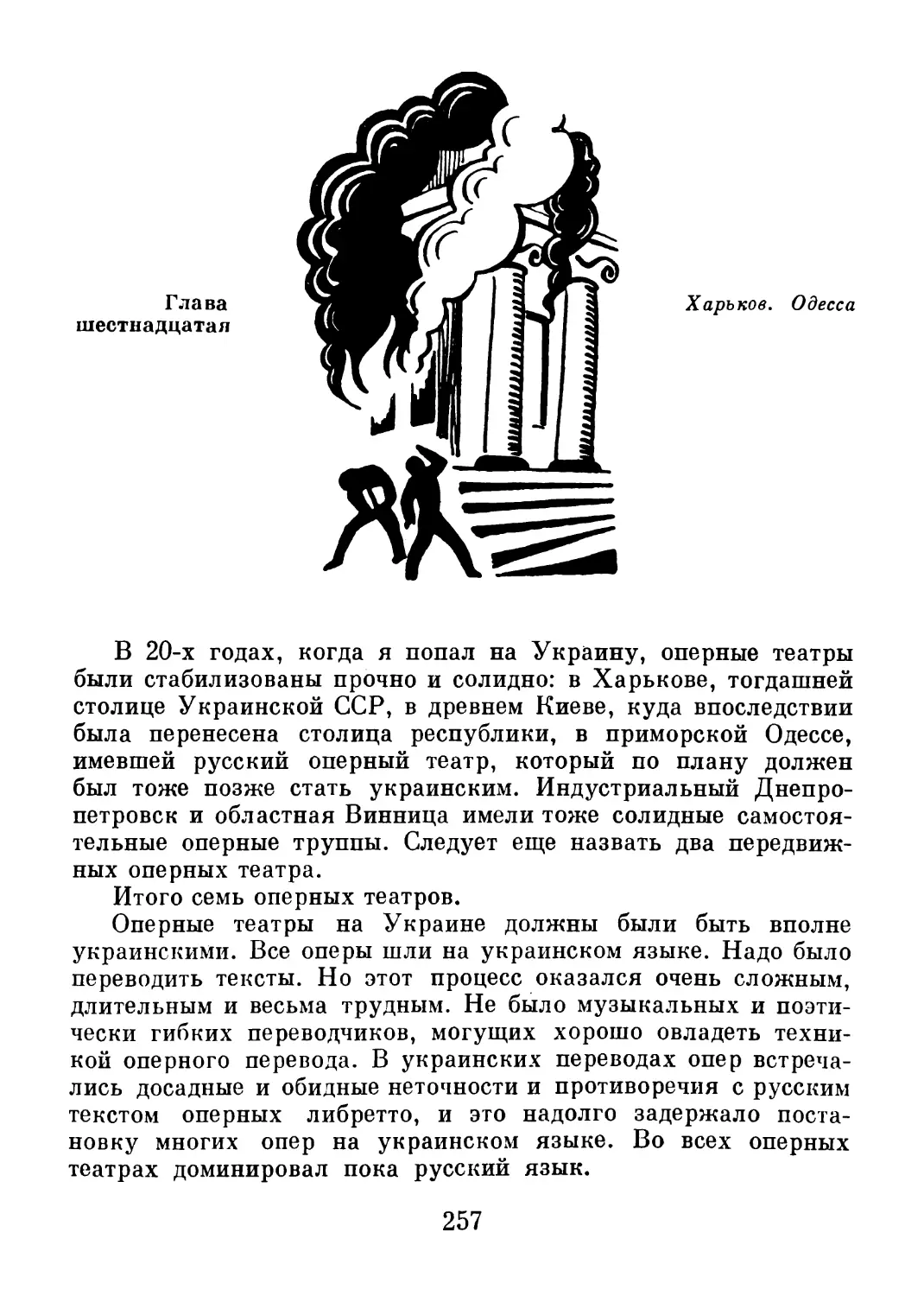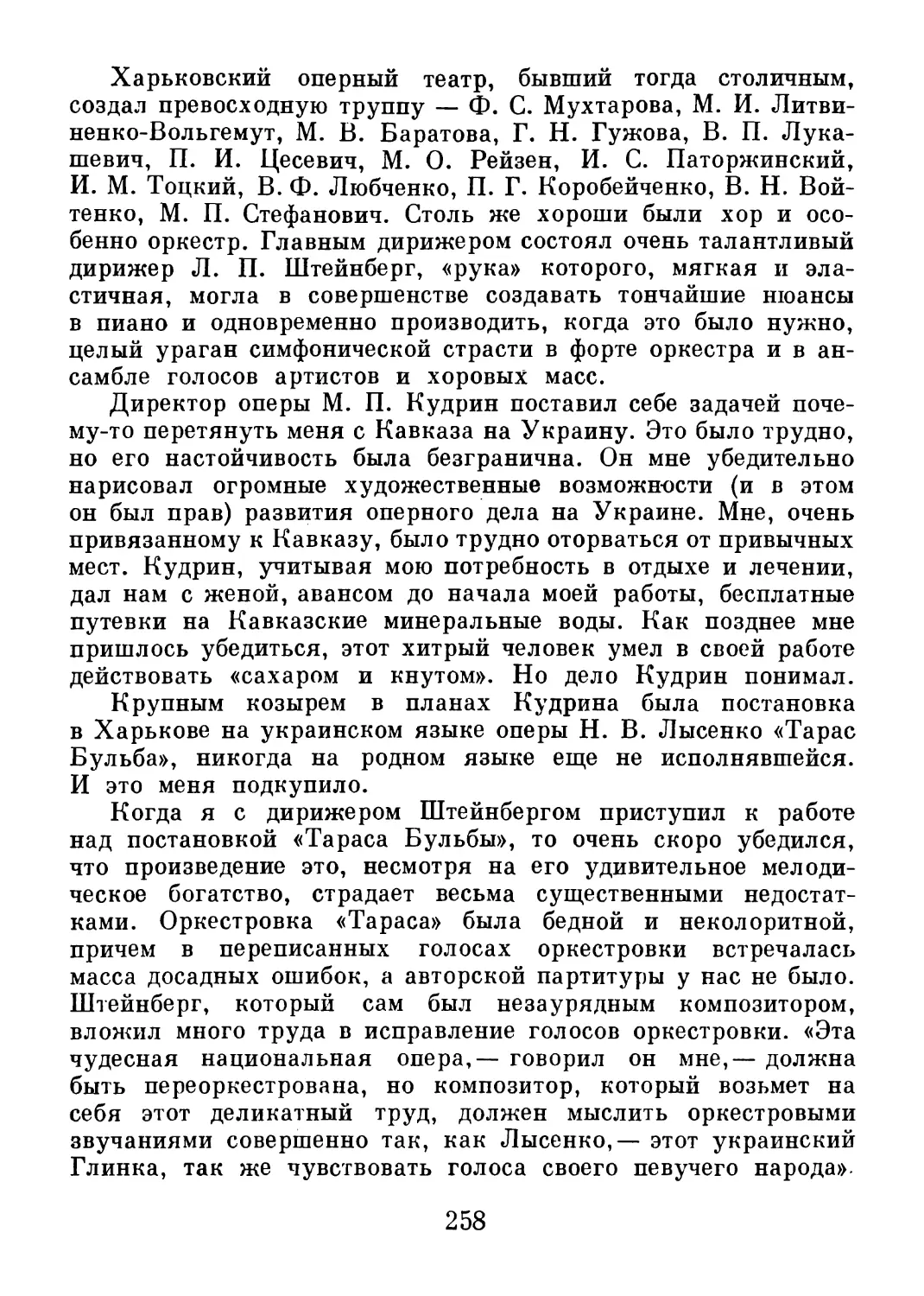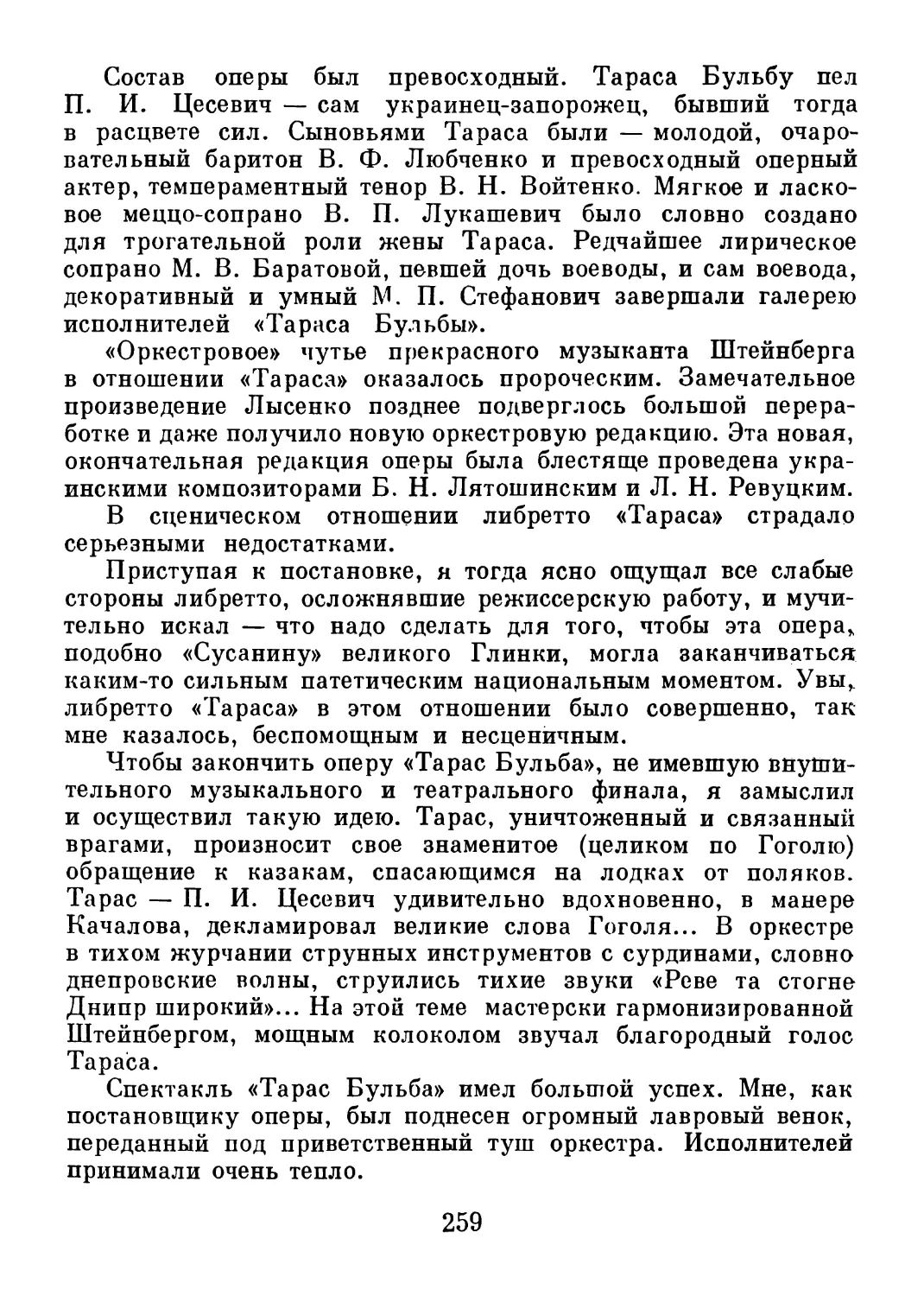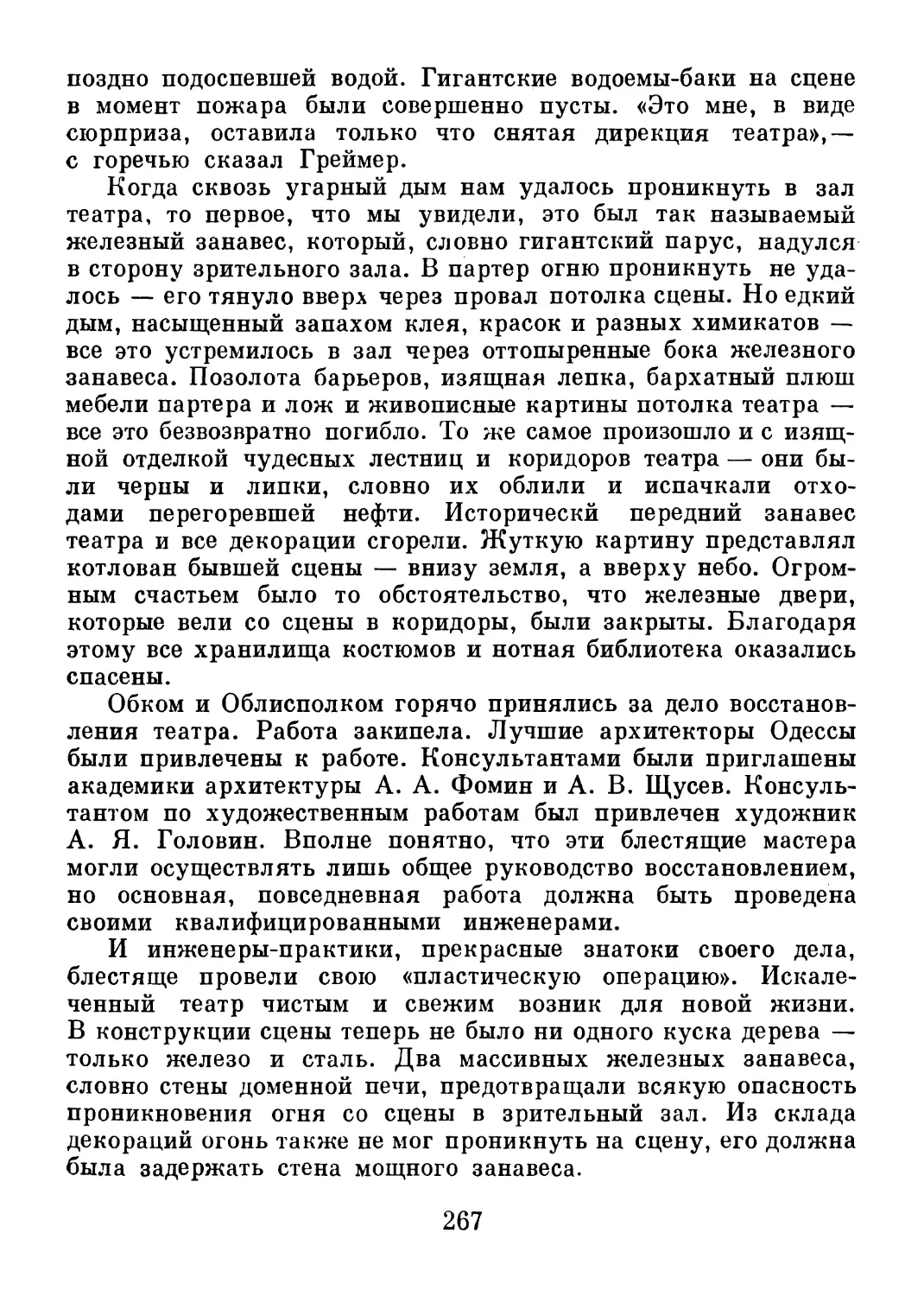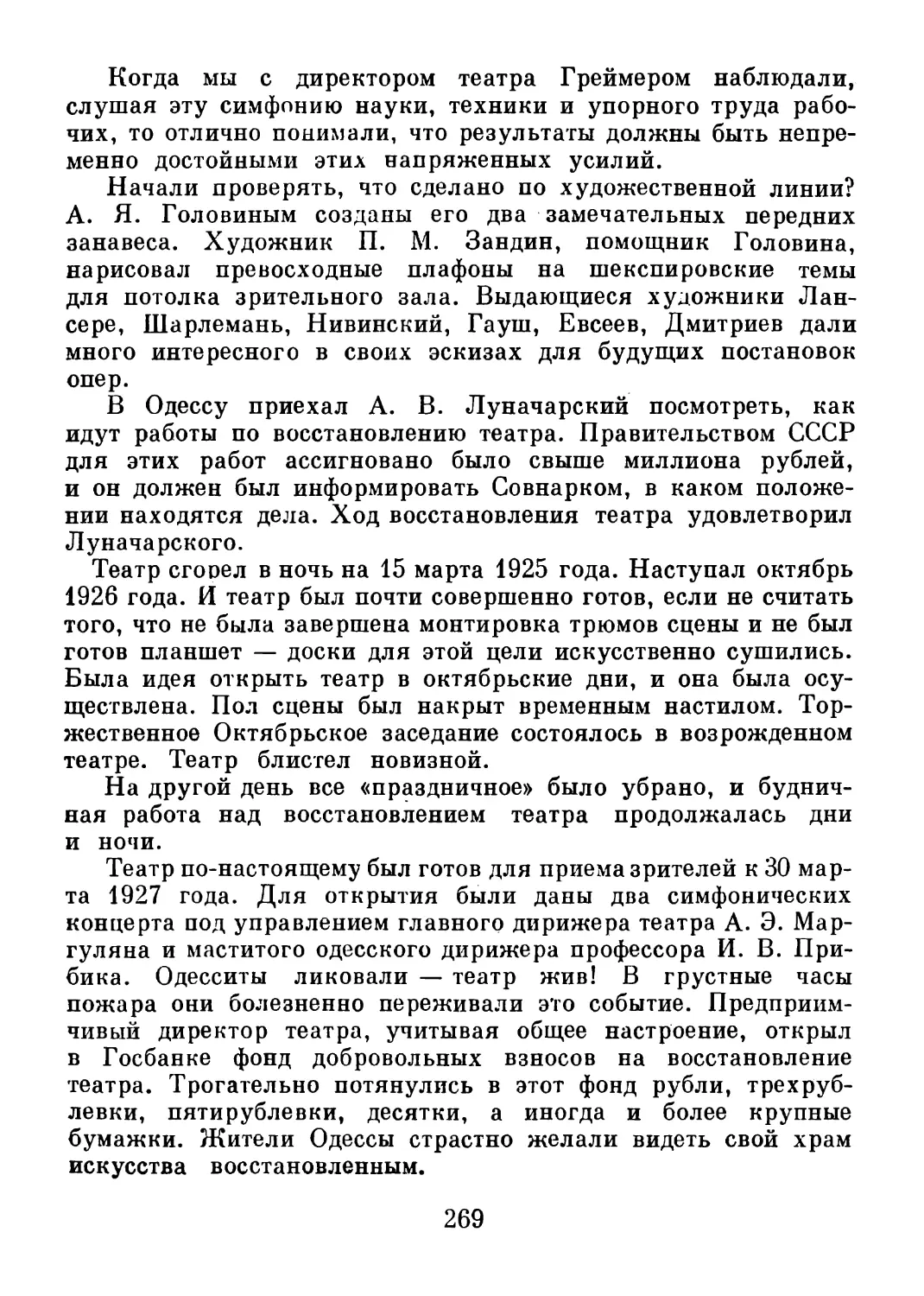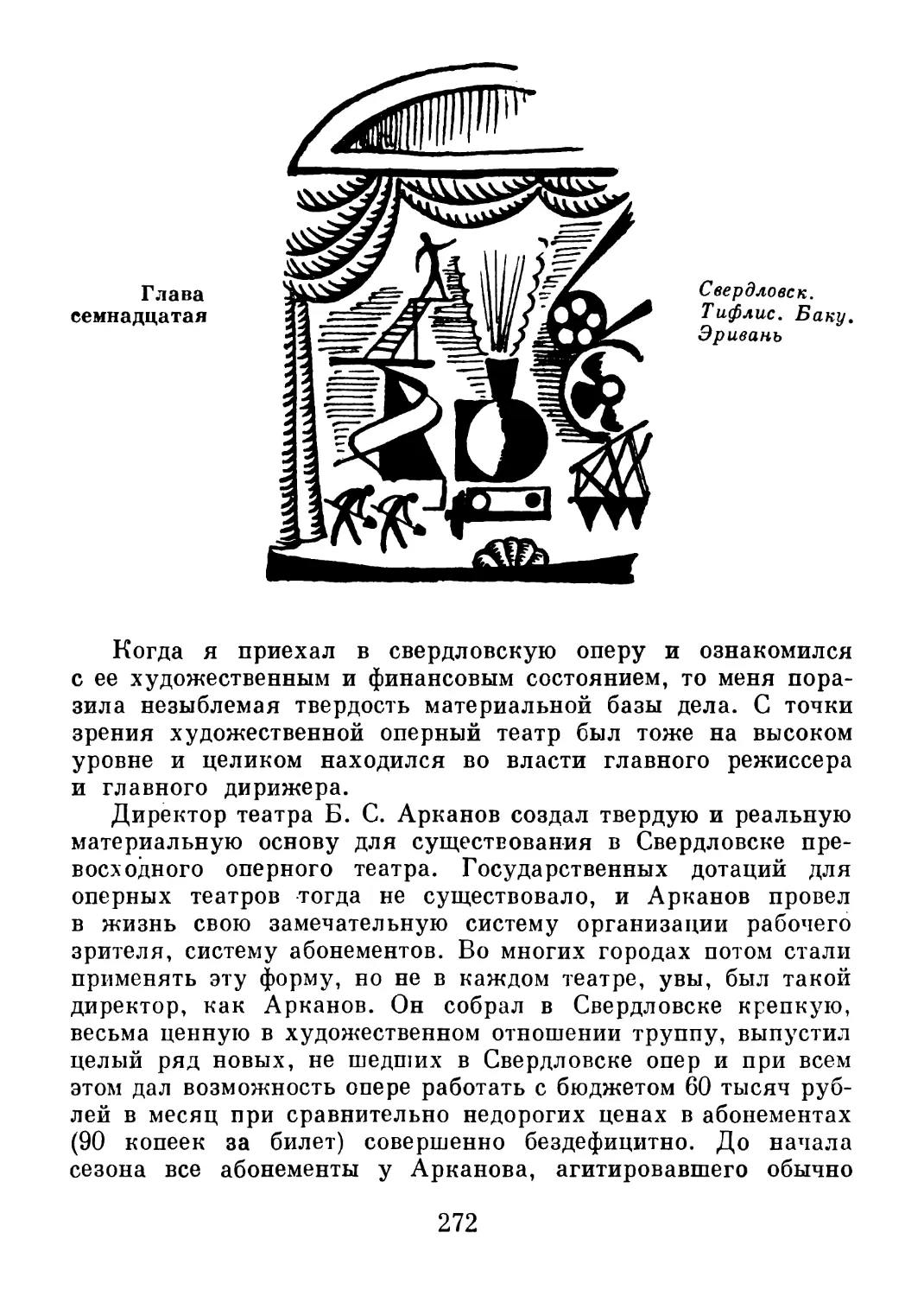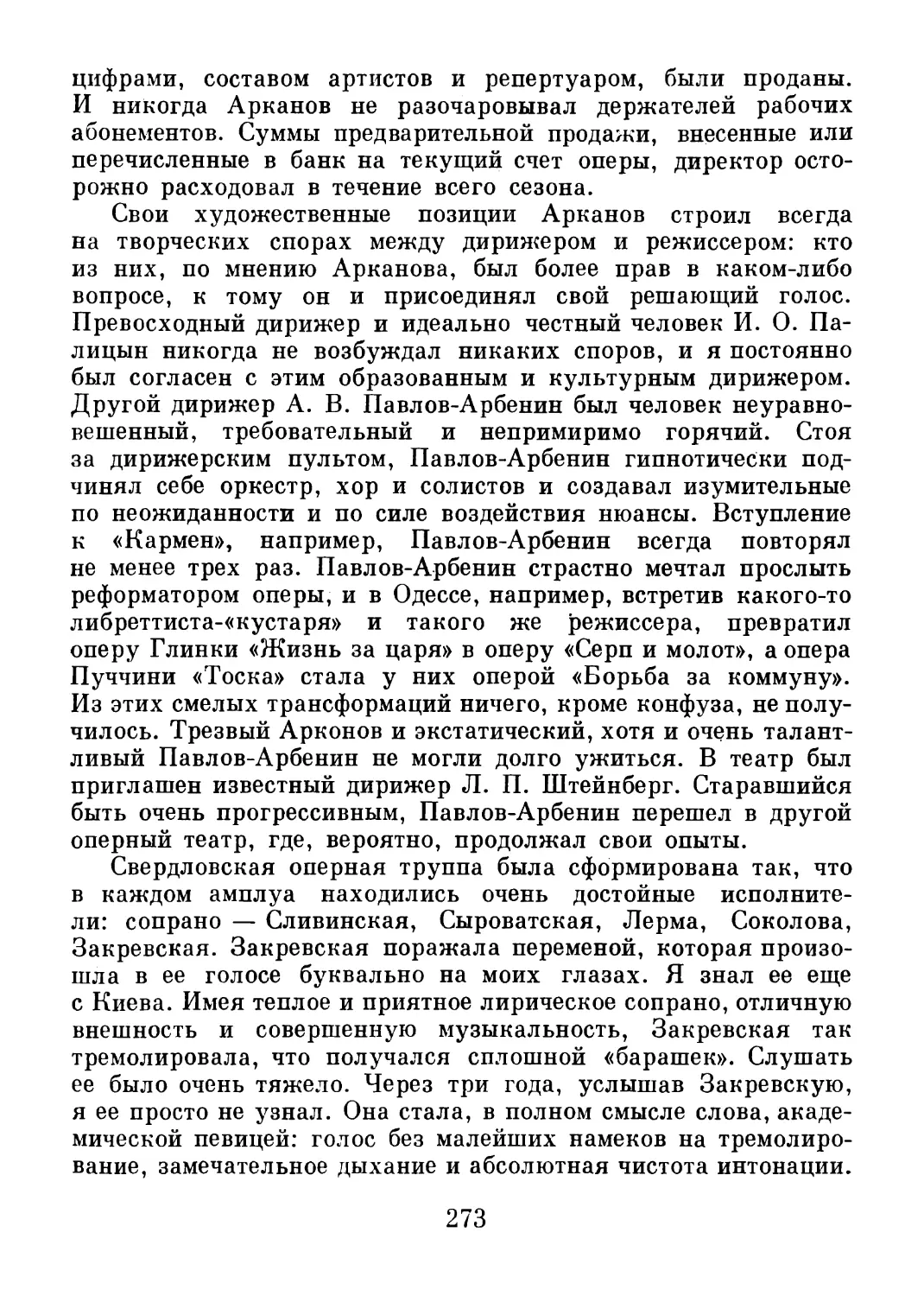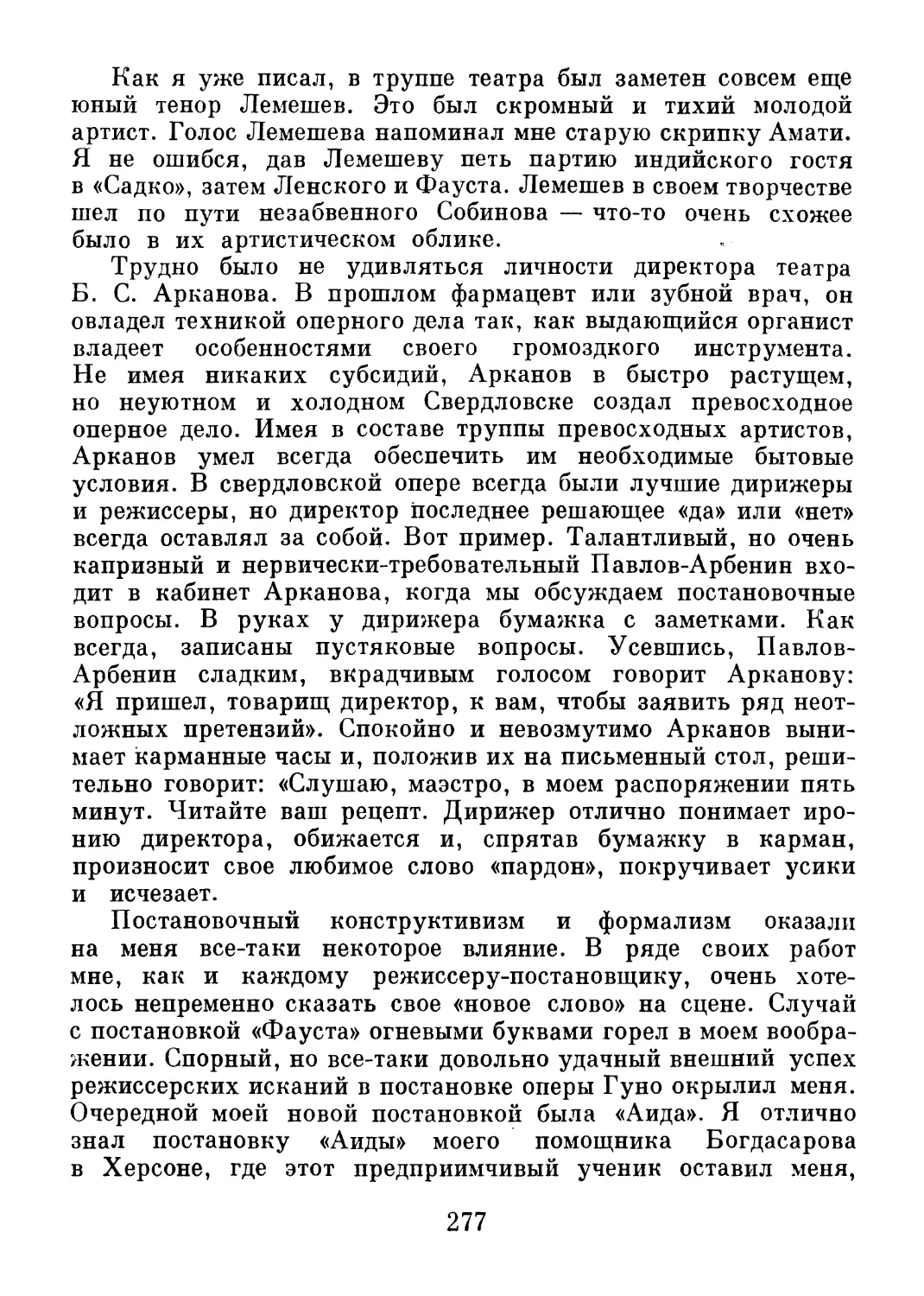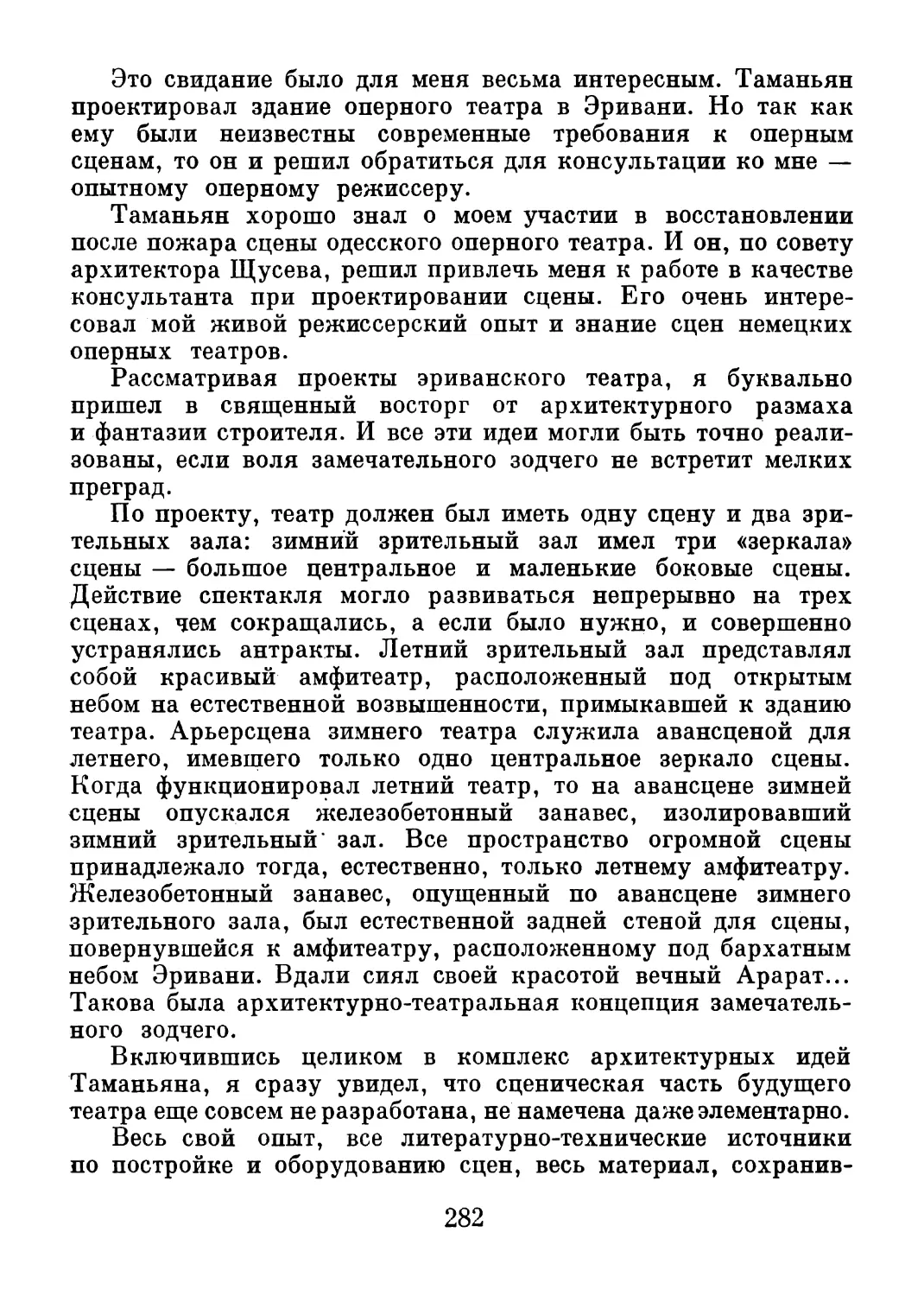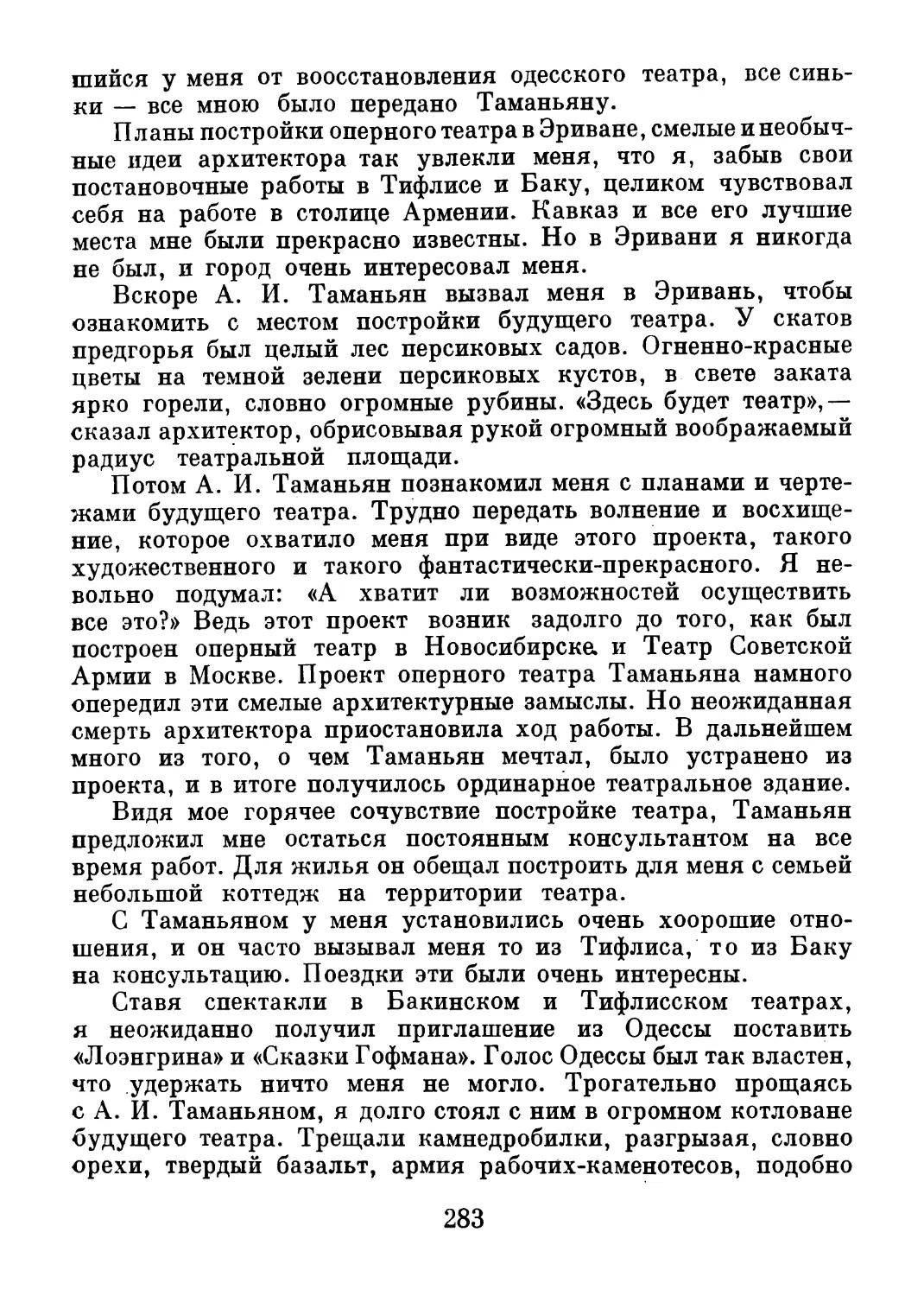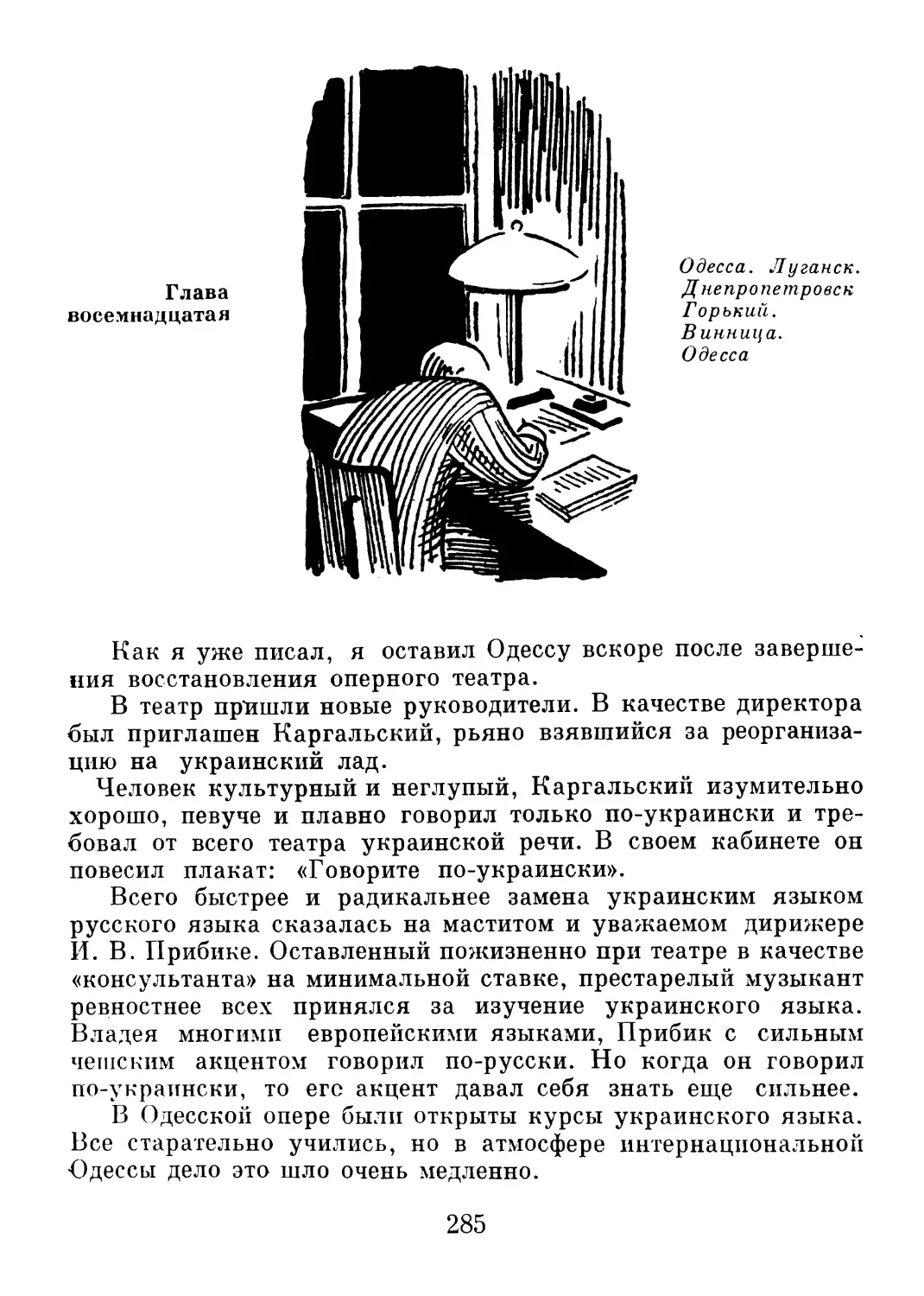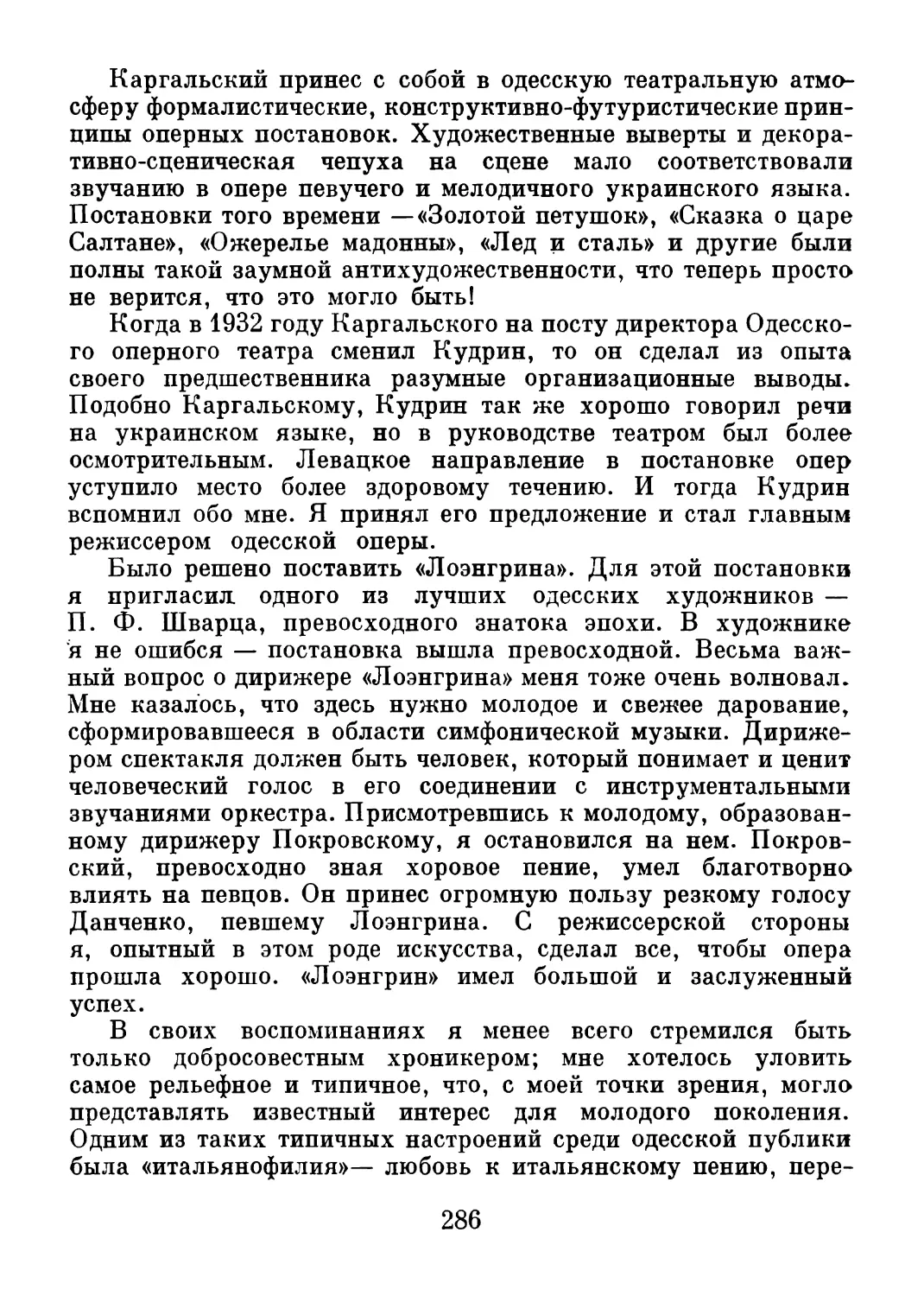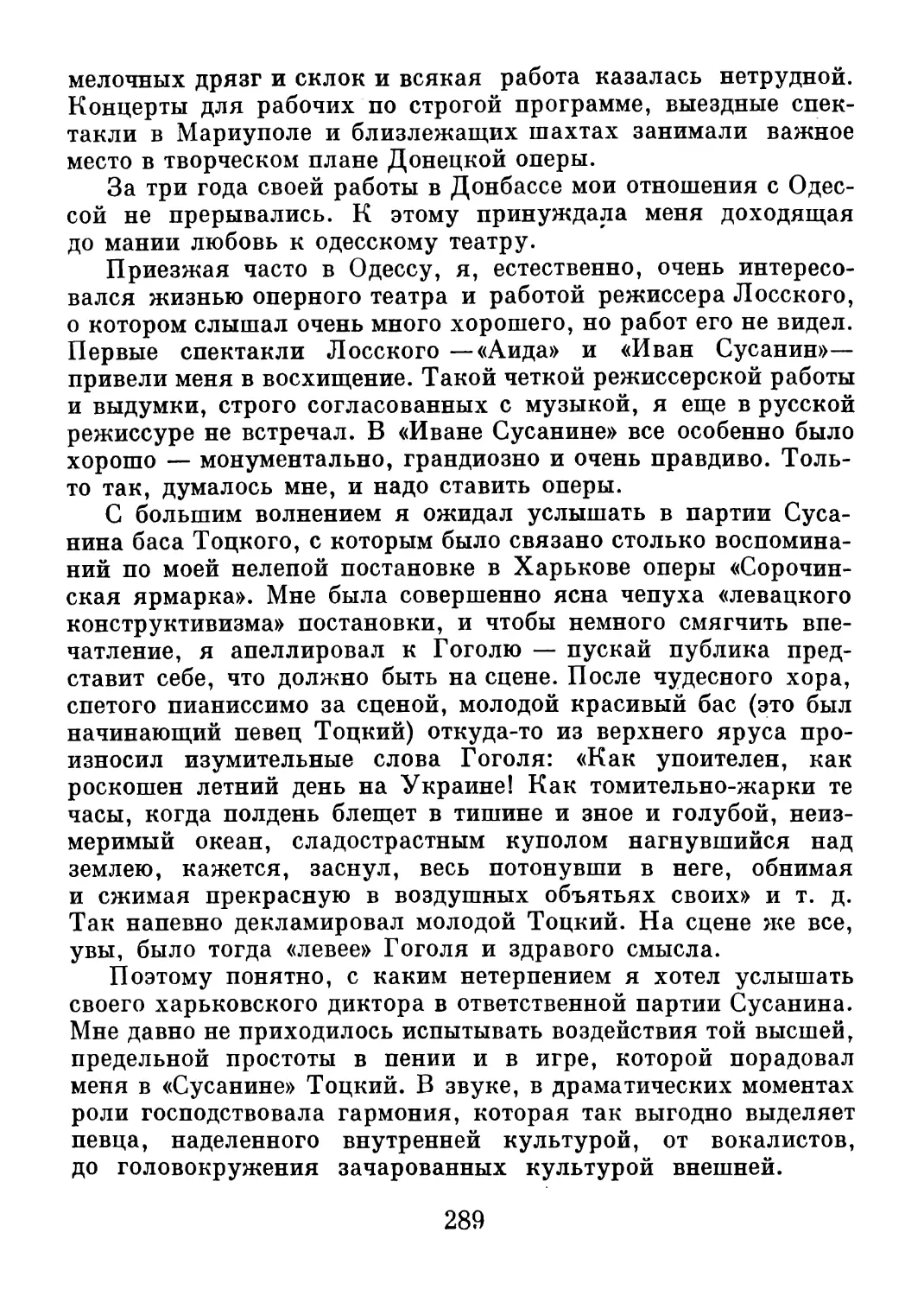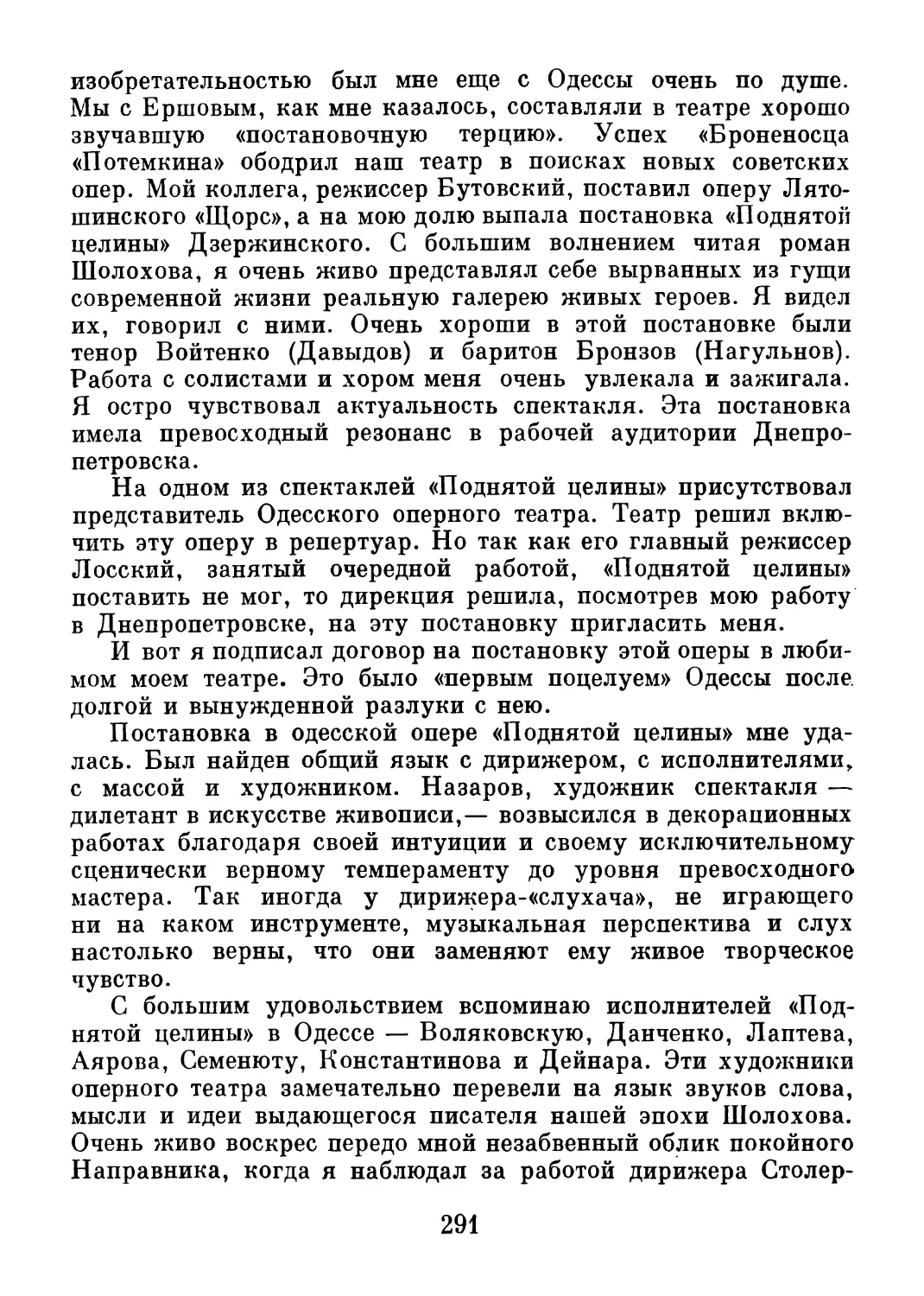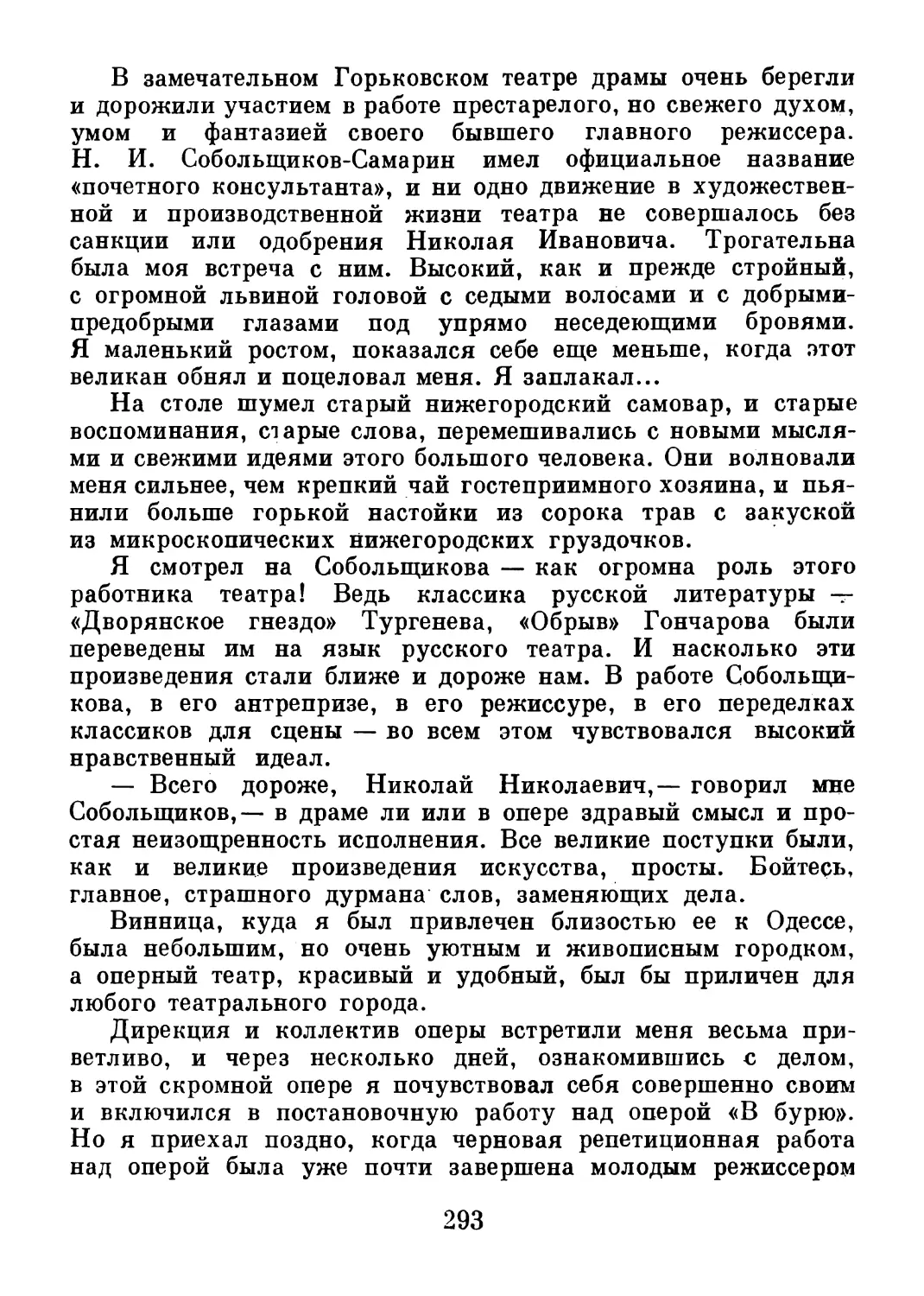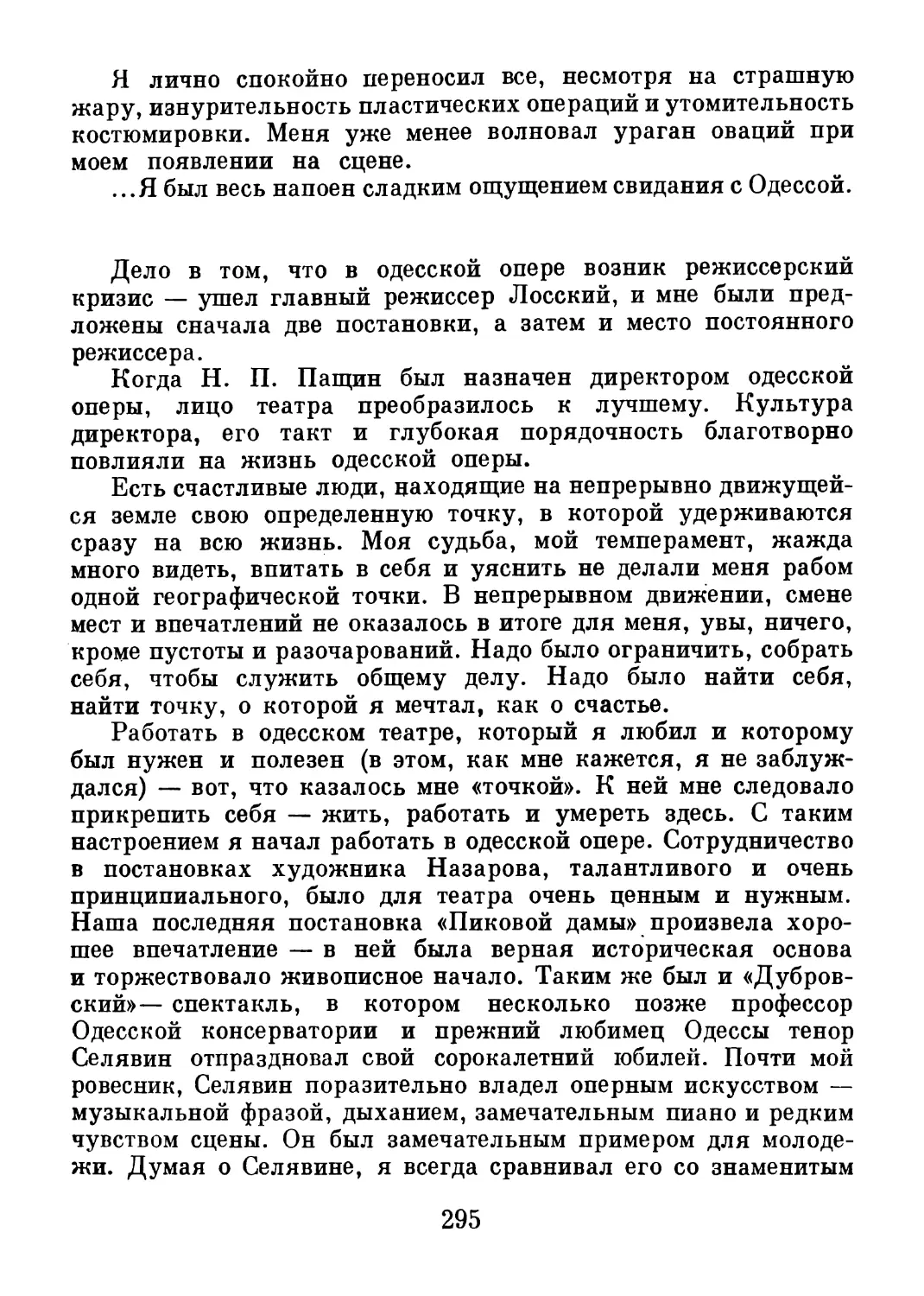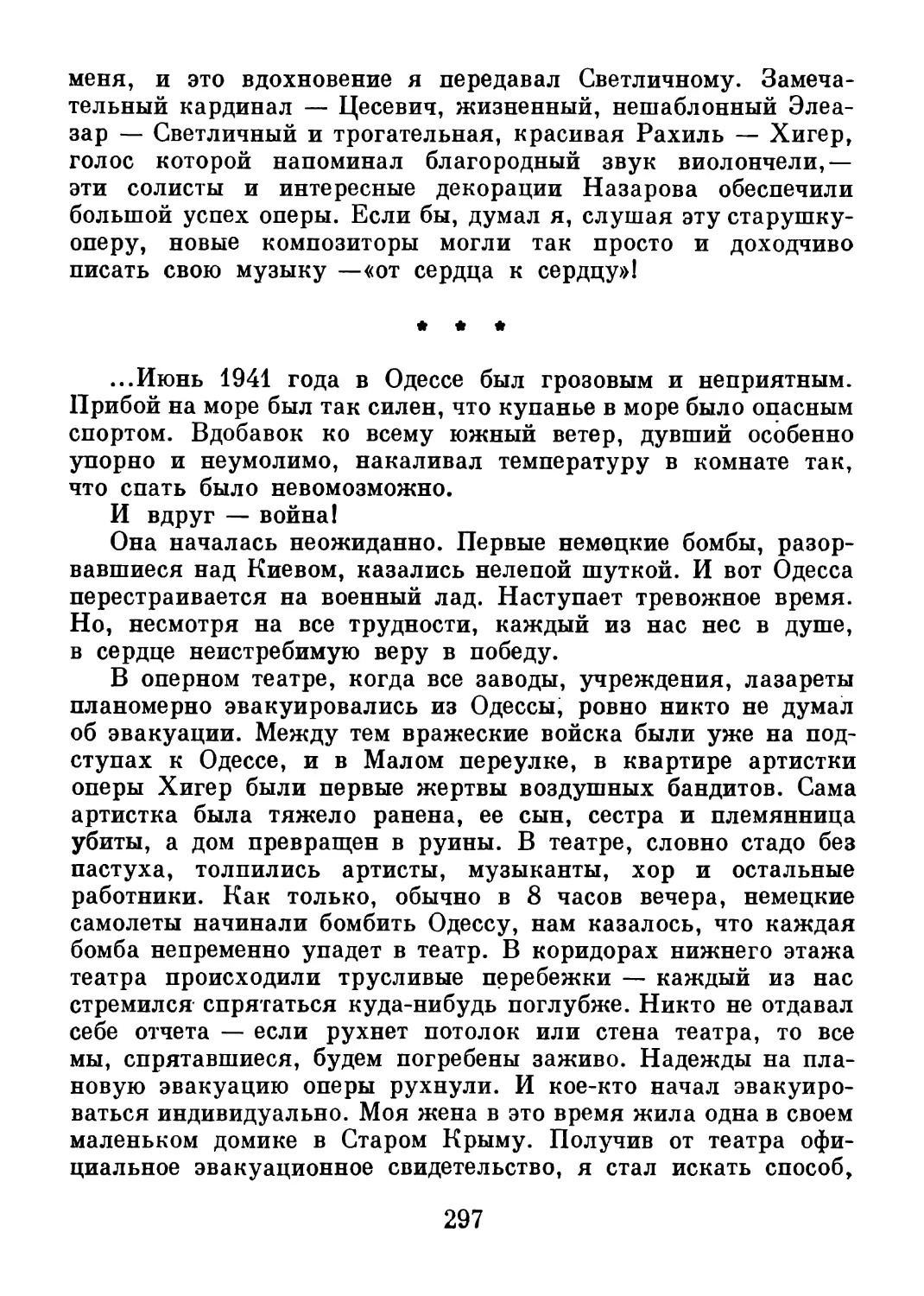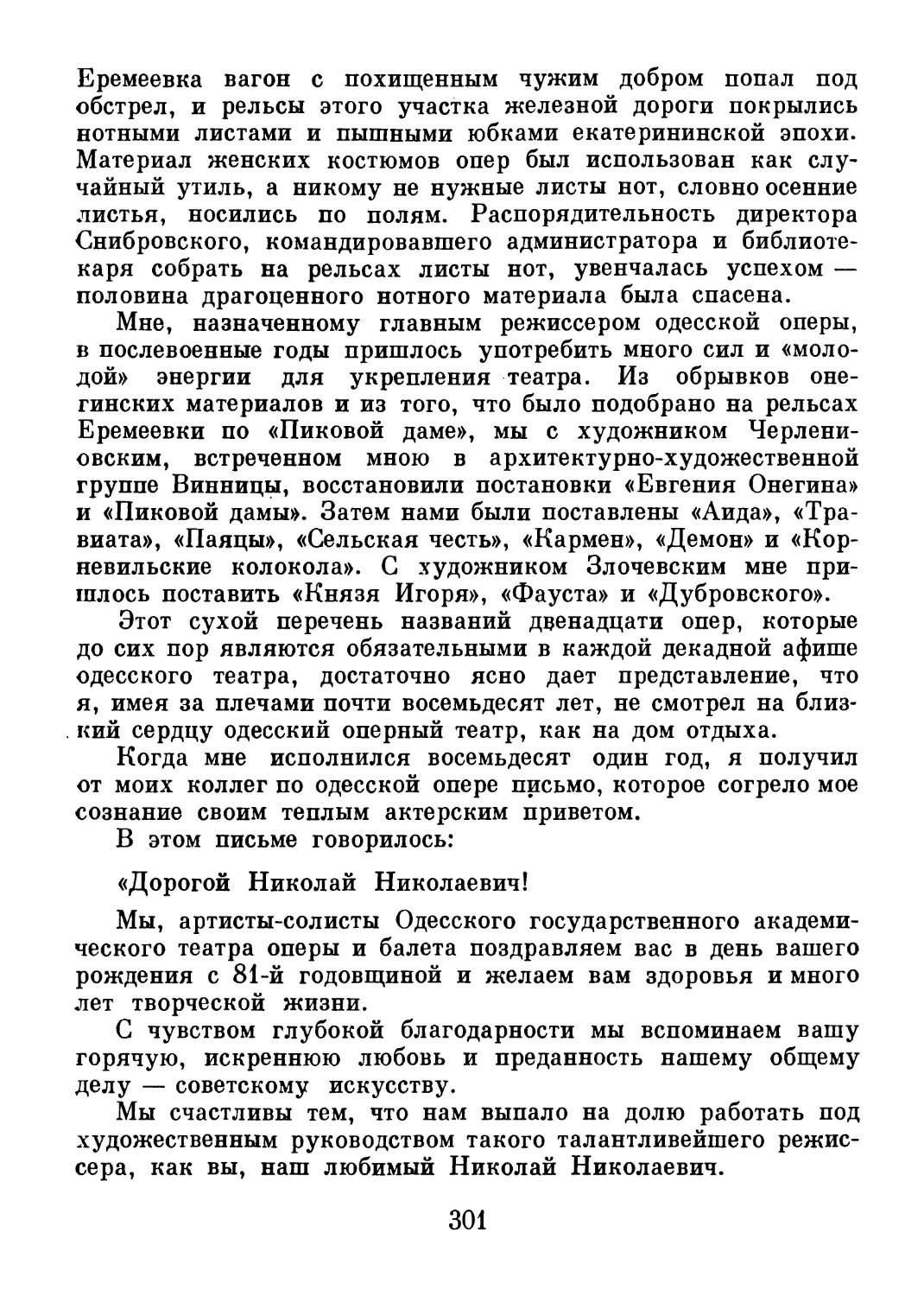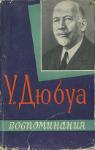Текст
Н. Н. БОГОЛЮБОВ
ШЕСТЬДЕСЯТ
ЛЕТВ ОПЕРНОМТЕАТРЕ
Воспоминания режиссёраВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. 1967
Литературная обработка
Б. В. Рудзеевского
Художник В. Я. Дургин
Детство.
Саратовская
семинария.
Театр
Г. М. Коврова.
Т. Сальвини.
Астрахань.
Встреча
с Н. Г. Черны¬
шевским.
Я родился в 1870 год. Мой отец, учившийся в Саратовской
семинарии вместе с Н. Г. Чернышевским, решил дать и мне
духовное образование, тем более, что и все наши родные при¬
надлежали, как и родственники Чернышевского, к саратовскому
духовенству. Отец мой, поклонник и сверстник великого писа¬
теля-революционера, отказался от духовной карьеры, но меня
отдал в младший класс духовной семинарии: я бесплатно
учился и бесплатно мог находиться в интернате семинарии,
в так называемой «бурсе». Отец мой был беден и эти обстоя¬
тельства очень устраивали его.
Прогрессивный дух Саратовской семинарии заставлял
начальство принимать суровые «предупредительные» меры,
и семинаристы очень чувствовали на себе воздействие «ежовых
рукавиц» духовных властей.
Тогдашний Саратов был центром крупного помещичьего
землевладения и главным пунктом немецкого «засилья» на
Волге. Главная улица города так и носила название «Немец¬
кой». Все вывески в городе были на русском и немецком язы¬
ках. Мукомольное и хлебное дело — все находилось в немец¬
ких руках; лучшие мукомольные мельницы принадлежали
3
Глава первая
немецким владельцам; пароходное дело, самые рентабельные
пароходы на Волге так же были в их руках.
Саратов считался одним из самых театральных городов ста¬
рой России, и семинарская молодежь, в том числе и я, контра¬
бандой бегала в театр. Я увлекался театром до сумасшествия.
Когда на рождество в столовой семинарии был устроен спек¬
такль «Филатка и Мирошка» — старинный, наивный, прими¬
тивный водевиль, — я играл роль Мирошки и, сшив четыре
семинарские простыни, нарисовал зелеными чернилами
и палочкой из бумаги занавес, на котором был изображен лес.
За эту «живопись» меня хотели изгнать из семинарии, но, оче¬
видно, пощадили мое молодое дарование, тем более что я имел
успех в роли Мирошки.
Город имел две театральные труппы — драматическую
и опереточную. В этих труппах были многие яркие и выдающие¬
ся артисты того времени. Антрепренер Г. М. Ковров, сам
отличный актер, был к тому же хорошим администратором
и умным коммерсантом, собиравшим к себе в труппу лучшие
актерские силы, которые привязывал к своему делу не только
«твердым» рублем, но и — что важнее —хорошим отношением.
Прошло более полвека, но эти люди прошлого, как живые,
стоят перед моими глазами. Драматическая героиня А. Я. Рома¬
новская, фат-резонер Е. Я. Неделин, комик П. Г. Протасов,
драматический резонер Н. И. Новиков были абсолютными
любимцами Саратова.
Саратов любил Шекспира, и замечательными исполнителями
его были тогда Иванов-Козельский и Любский.
А. В. Иванов-Козельский, бывший военный писарь, являл¬
ся редчайшим самородком, достигшим вершин драматического
искусства. Он обладал голосом, который выражал все разно¬
образие чувств и страстей, его дикция была ясна и убедительна.
Вообще, Иванов-Козельский обладал абсолютным чувством дра¬
матической правды, как музыканты обладают чувством абсо¬
лютного слуха. Я видел Гамлета — Иванова-Козельского
и высшей ступени интерпретации Шекспира я уже нигде и ни
у кого не встречал. А я пересмотрел многих Гамлетов!
Другой любимец Саратова — П. Б. Любский — был прямой
противоположностью Иванова-Козельского; если последний
был удивительно собран и сценически организован и исполнял
свою роль как концерт на виолончели, то Любский был совсем
иным. Человек среднего роста, с некрасивым, но очень подвиж¬
4
ным лицом и резкими нервическими манерами, он, часто согре¬
тый алкоголем, был неровен, как исполнитель. Но когда
в «Отелло», «Короле Лире» я слушал его голос, похожий на звук
надтреснутого колокола (Любский сильно картавил), когда он
гипнотически властно захватывал весь зрительный зал стонами
Отелло или слезами Лира, — все чувствовали и понимали, что
на сцене рождалось истинное искусство!
Я был весь во власти театра; могущественная помощь капель¬
динера Андреевича, который пел со мной в церковном. хоре,
открыла мне дорогу «зайца» на любой спектакль на галерею.
За это я должен был помогать Андреевичу, страдавшему одыш¬
кой, прибирать на галерке и в коридоре. Как дешево я покупал
счастье быть в любимом театре, дышать его воздухом!
Внутренний вид театра был очарователен: он был весь
белый, с золоченой лепкой и с голубой плюшевой отделкой
барьеров. Театр казался мне фантастическим дворцом в срав¬
нении с унылыми стенами семинарии, пропахшими дезинфек¬
цией.
В театре мне пришлось познакомиться с оригинальной тру¬
довой коммуной театральных рабочих, из поколения в поколе¬
ние работавших в театре, — Петрович, Семеныч, Андреич,
Тихоныч, Васильич, Афиногеныч. Это был строгий и работо¬
способный коллектив: все они были хорошими плотниками
и столярами. Они без машиниста сцены осуществляли, руково¬
дясь русской смекалкой, самые головоломные постановки.
Сцена Саратовского театра — ведь это было более полвека
тому назад — освещалась керосиновыми лампами; в рампе,
в соффитах, в кулисных коробках — всюду были лампы. И ни
одного пожара! Но по ходу спектаклей нужны были сцениче¬
ские эффекты: ночь, закат, восход солнца и т. п. «Петровичи»
нашли выход: они изобрели легкие рамки, затянутые цветными
шелками: голубой — ночь, красный — солнце, оранжевый —
пожар.
Эти рамки назывались «зорьками», они легко открывали
и закрывали источники света — керосиновые лампы. И все это
делалось механизированно, из одного центра, легко и безот¬
казно.
За чрезмерное увлечение театром меня изгнали из семина¬
рии. Могущественная помощь «Петровичей» — и я очутился
в декоративной мастерской краскотером; я тер твердые немец¬
кие краски — брауншвейг и крон, грунтовал холсты, зажи¬
5
гал керосиновые лампы, варил клей и делал грунт. За все
я получал 10 рублей в месяц. Спал я за плитой на стружках,
покрытых свежим ароматным холстом. Я был счастлив, ощущая
всем своим существом любимый театр со всеми его тайнами
и очарованием.
Моим ближайшим товарищем по работе в декоративной
мастерской и по театру был бутафор Саша Цуканов. Исключен¬
ный из учительской семинарии, по его словам, «за громкое
поведение и тихие успехи», Цуканов устроился в театре и тут
сразу как-то нашел себя. Он был очень начитанным и развитым
человеком, любил Бакунина, Писарева и Некрасова, стихи
которого, особенно «Рыцарь на час», трогательно выпевал,
импровизируя мелодию мягким тембристым басом.
Декоративную мастерскую саратовского театра возглавлял
отличный художник — станковист итальянец Этторе Паоло
Сальви; все мы его именовали Гектор Павлович. Он рисовал
пастелью замечательные портреты, и все богачи Саратова были
его заказчиками. Ко мне Сальви относился очень хорошо,
хотя моя «художественная» работа его удовлетворяла мало.
Я небрежно обращался с красками, разливая их часто на пол,
который потом мне самому же приходилось замывать. Весь
измазанный, я неаккуратно красил порученные мне части
декораций. Все мои мысли, все мое внимание были на сцене, —
а мне приходилось мазать противными моему сердцу красками
ненавистный холст, попутно пачкая себе рубаху, руки
и лицо.
Сальви назвал меня «Мазаччио», причем это имя великого
итальянского мастера, флорентийской школы, взятое в ирони¬
ческом смысле, надолго осталось за мной.
Сальви чутко понял мое душевное состояние, понял, что
все мои мечты — быть на сцене, а работа в декоративной мне
чужда. Я часто заходил к талантливому художнику, который
знакомил меня с искусством Флоренции (он был уроженцем
этого города и окончил там Академию).
Снимки, эстампы, акварели Флоренции работы самого
Сальви — все опьянило мое воображение раз и на всю жизнь.
«Хочешь быть счастливым, — сделайся флорентийцем!», — сказал
мне Сальви, приведя старинную тосканскую поговорку. Под
влиянием Сальви я начал учиться итальянскому языку, что
мне, начиненному до отказа семинарской латынью, показалось
делом легким и приятным.
6
Наконец мое стремление увенчалось успехом: из декоратив¬
ной меня перевели на сцену переписчиком ролей и сценариусом
(вторым помощником режиссера), заведующим обстановкой
сцены. Режиссером был тогда Э. Г. Лясс, обруселый немец,
человек огромного опыта, знаний и принципиальности. Но
старые режиссеры существенно отличались от современных
режиссеров-творцов, режиссеров-художников. Э. Г. Лясс был
одним из лучших режиссеров старой сцены, но и он был, в сущ¬
ности, только «разводящим» режиссером, человеком, координи¬
рующим желания главных участников спектакля. Попав в его
руки, я перенял его волевую дисциплину, его серьезность
и сохранил их, несмотря на свой мягкий характер, почти до
сих г пор.
В тогдашней художественной жизни России произошло
событие огромной важности. В Москву на гастроли приехал
великий итальянский трагик Томмазо Сальвини. Триумфы
Сальвини в Москве были грандиозны, каких, как писали в газе¬
тах, Москва не знавала со времен великого русского трагика
Мочалова.
Городское управление Саратова командировало Сальви
в Москву, чтобы он уговорил своего великого соотечественника
приехать на гастроли в саратовский театр. Сальвини согласился.
Трудно передать то волнение, которое царило в городе у афиш,
у театральной кассы и особенно в театре, когда были объявлены
гастроли Сальвини: «Отелло», «Семья преступника» и «Король
Лир».
В торжественном, почти религиозном молчании встретила
труппа великого артиста. Сальвини был огромного роста, имел
высокий и открытый лоб, голубые ласковые глаза и сероватые
большие усы, которые так не вязались с обычным обликом
артиста.
Сальвини мягким и грудным голосом — точно он пел какую-
то дивную арию — поблагодарил театр и артистов и сказал,
что счастлив вдыхать воздух великой русской реки Волги,
о которой он до сих пор имел представление только по карте.
Речь Сальвини переводил на русский язык Сальви.
Триумф Сальвини в театре очень трудно описать словами.
Хотя великий артист говорил на непонятном аудитории языке,
публика угадывала по интонации, мимике и позе то, что было
заключено в итальянских словах и фразах. В театре стоял
стон от криков восторженной молодежи. Керосиновые лампы
7
«пульсировали» — то вспыхивали, то гасли от акустической
силы взрыва криков и аплодисментов переполненного зритель¬
ного зала.
Сальви поставил меня около уборной Сальвини для мелких
услуг и отрекомендовал моей кличкой «Мазаччио».
— «Художник?» — улыбаясь, спросил Сальвини.
— Нет, это просто славный парнишка, — ответил Сальви.
Так состоялось мое знакомство с гениальным артистом.
Как-то во время спектакля «Король Лир», после сцены,
в которой он выносил полумертвую Корделию на вытянутых
руках, и зрительный зал неистовствовал, великий артист вошел
в свою уборную и опустил усталую руку, как он опустил бы,
вероятно, ее на тумбу или на косяк двери, машинально на мое
плечо.
И я невольно поцеловал эту руку.
Шестьдесят лет прошло с тех пор и волжский мальчик,
ставший уже стариком, до сих пор не может забыть того галь¬
ванического тока, который от прикосновения дрожащей руки
великого трагика пронизал все его существо.
Сальвини не актерствовал — он переживал!
Он уехал из Саратова, провожаемый театром и чуть ли не
всем городом; он, если можно так выразиться, канонизировал
любовь саратовцев к Шекспиру, которую согревали до этого
своими огромными дарованиями Иванов-Козельский и Люб¬
ский.
Наступила ранняя весна. Лед на Волге прошел. Свистки
пароходов убедительно напоминали, что пора ехать...
Саратовский театр каждой весной делился на две половины.
Драматическая часть труппы Г. М. Коврова ехала в Воронеж.
Этой труппой управлял Михаил Матвеевич Бородай, бывший
расклейщик афиш, а затем кассир театра. Он был человеком
огромного практического ума и театрального опыта; честность
его была вне всяких сомнений. Впоследствии он сам стал круп¬
ным, сначала драматическим, а затем оперным предпринимате¬
лем. Ему принадлежала честь создания «Театральных това¬
риществ», в которых не было антрепренеров-эксплуататоров
и где все прибыли делились пропорционально паям (маркам)
участниками дела. Эта финансово-экономическая система Боро¬
дая могла бы иметь повсеместный успех, если бы каждое дело
имело «своего» Бородая. Но, увы, он был на всю Россию один
и его идея театральных товариществ в чуждых, неумелых
8
и недобросовестных руках превращалась в отвратительную
карикатуру. Актеры говорили: «Лучше жулик-антрепренер,
чем «Товарищество на марках»!
Опереточная труппа во главе с самим Г. М. Ковровым,
отличным опереточным артистом, должна была ехать в этом
году на летний сезон в Астрахань, пополнив свой состав некото¬
рыми выдающимися певцами. Я был произведен в чин помощ¬
ника режиссера с окладом 20 рублей.
Старик-отец, болезненно переживавший крушение моей
учебной карьеры, решил ехать вместе со мной. Ему хотелось
видеть, в чем заключалось это «призвание», потянувшее меня
в театр, о котором я так много говорил.
Огромный двухэтажный пароход американского типа —
«Ниагара» — поглотил всю труппу, декорации и ящики с костю¬
мами и бутафорией.
Предстояло интересное и заманчивое двухдневное плавание
до Астрахани.
Кто плавал по Волге, тот знает, какое это удивительное
лекарство от всех психических травм, какая это симфония
покоя, тишины и ласкового дыхания зеленых берегов, которые
излучают сладкий аромат прибрежных тальников и запах
сочной травы, еще не покрытой разливом реки.
По пути следования парохода, на остановках нашу белую
красавицу «Ниагару» встречали целые базары. Белые деревен¬
ские калачи, запеченое до красноты в горшках жирное молоко,
куски ароматного масла, лежащие на листьях подорожника,
жареные цыплята, утки, жареные стерляди и караси.
Приятно было смотреть, как люди сцены резвились на при¬
роде, как искрились их глаза и как задорно смеялись они, как
радовались каждому пустяку, каждой безделице. Хмурый
отблеск кулис исчез в их глазах; в них отражалась Волга,
синее небо и зелень молодых листьев на низкорослых кустах
около пристани.
Когда пароход трогался и замолкали все дневные шумы, над
застывшей Волгой далеко разносились только мощные удары
колес «Ниагары».
— Коля, — тихо обратился ко мне отец, — неужели тебе
нравится такая жизнь? Ведь это цыганщина! Неужели в этом
твое призвание?
— Да, папаша, — ответил я с твердостью восемнадцати
лет.
9
— Смотри! — грустно сказал старик и отошел к борту паро¬
хода, вглядываясь в звездное небо.
Мне стало жаль его. Плохо у него получилось с детьми —
старшая дочь Вера ушла в революцию — сидит с мужем
в Петропавловской крепости, а я, самый младший, пошел
в «цыгане». Судьба!..
На корме парохода запел кларнет нашего музыканта А. Не¬
мечка и по всей шири реки разлилось: «Вниз по матушке, по
Волге...» Пела вся «цыганщина», проводя последнюю ночь на
«Ниагаре». Завтра — Астрахань.
После асфальтированного, ровного и по-немецки аккурат¬
ного Саратова Астрахань производила впечатление огромной
деревни, пропахнувшей рыбой и нефтью. На улицах носились
столбы пыли, фигурально именуемые «астраханским дожди¬
ком» — настоящих дождей город вообще не привык видеть.
Летний театр, где должна была работать наша оперетка,
был за городом; с одной стороны дороги тянулась однообразная
солончаковая степь, а с другой — стояло огромное болото
с целым лесом камышей и миллионом голосистых лягушек.
Наш театр, очень большой по размерам, носил громкое
название «Аркадия» и помещался в виноградном саду. Рядом
с театром, в том же саду, находилось нарядно вычурное соору¬
жение — первоклассный кафешантан с открытой сценой, бал¬
конами и отдельными комфортабельными кабинетами. Там
отдыхали и развлекались астраханские рыбопромышленники-
миллионеры, мукомолы и персидские купцы, получавшие
в этом «заведении» необходимый им лоск.
Театр служил маскировкой для кабацкого пьяного развра¬
та в этом оазисе, носившем античное название «Аркадия».
Спектакли нашей труппы очень нравились, театр ежеднев¬
но был переполнен. Я в совершенстве овладел своей специаль¬
ностью. Мне очень помогало то, что я обладал элементарной
музыкальностью, приобретенной в церковном хоре, и хорошо
читал ноты. Прошло более полвека, я видел почти всех выдаю¬
щихся артистов своего времени, слышал певцов высшей кате¬
гории, но три имени из опереточного состава нашего астрахан¬
ского театра до сих пор живут в моей памяти. Это Бастунов —
герой-баритон, прекрасный вокалист, красавец по внешности,
с черными огневыми глазами и черными усами; он был вдохно¬
венным актером-романтиком, участвуя в пустых опереточных
спектаклях. В своем искусстве он был гигант.
10
Светлов-Стоян, болгарин по происхождению, обладал
приятным тенором. Его диапазон не был обширен, но слушать
его пение, как позднее пение Собинова, без волнения было невоз¬
можно. Голос Светлова-Стояна, как хорошая скрипка Стради¬
вариуса или Амати, заключал в своем звуке все «обертоны»
человеческой души. Этот опереточный певец сделался потом
украшением оперных сцен.
Анна Ивановна Спорова была каскадной героиней — Пре¬
красная Елена, Серполетта, Перикола и другие. Она не
была красавицей, но лицо, глаза и разрез губ были изуми¬
тельны.
Через двадцать лет, когда во Флоренции мне пришлось уви¬
деть прекрасную копию Джоконды Леонардо да Винчи, я чуть
не закричал от радостной встречи: «Спорова!» — так много общего
было в овале лица, в простоте прически, в загадочности выраже¬
ния глаз... Я не мог ошибаться. Тогда, в мои 18 лет, платониче¬
ски влюбленный в Спорову, я смотрел на нее восторженно
издали и хорошо изучил ее внешность. Она была тонкой коме¬
дийной актрисой, совершенно чуждой малейшей опереточной
вульгарности; голос был невелик, но каждый его звук точно
передавал сущность слова, суть настроения — она была масте¬
ром чеканной дикции и декламации на музыке.
Сезон наш подходил к концу.
Однажды отец сказал мне, что сегодня мы пойдем к его ста¬
рому товарищу по Саратовской семинарии — Николаю Гаври¬
ловичу Чернышевскому, жившему в Астрахани под надзором
полиции. Эта фамилия, столь яркая и содержательная для
меня впоследствии, тогда оставила меня совершенно незаинте¬
ресованным. Только очень удивило выражение: «под надзо¬
ром полиции». Как это она «надзирает»?
Н. Г. Чернышевский жил на одной из тихих, удаленных
от центра астраханских улиц, в одноэтажном деревянном
домике. Николай Гаврилович весьма радушно встретил отца,
которого после окончания Саратовской семинарии не видел —
молодые люди встретились стариками. Но так как родные Чер¬
нышевского и наши родственники были в Саратове все время
близки, то это, очевидно, было причиной, что Чернышевский
весьма приветливо отнесся к моему отцу и, конечно, довольно
забытому товарищу своего детства и юности. Отец Чернышев¬
ского и мой дед в старину были вместе священниками одной
из саратовских церквей.
И
Самовар приветливо кипел на столике, на тарелках лежала
крупная астраханская клубника и лаваш (белый хлеб); с полок
на стенах и с этажерки глядело множество книг. Николай Гав¬
рилович своей внешностью напоминал мне нашего учителя
греческого языка, но только глаза были у Чернышевского дру¬
гие — изумительные! Я до сих пор не могу забыть этого взгляда.
Тогда мне, конечно, было непонятно, какого великана мысли
я вижу перед собой.
Значительно позже, в 1910 году, когда я с наслаждением
читал диссертационную работу Чернышевского «Эстетическое
отношение искусства к действительности» и три года спустя
после этого слушал замечательные лекции А. В. Луначарского
о Чернышевском, тогда перед моим духовным взором во весь
рост встал великий астраханский поднадзорный ссыльный.
И я был счастлив, что видел его и говорил с ним.
— А что, — сказал Николай Гаврилович отцу, — что делает
твой сын? Где учится?
— Нигде, — с горечью сказал отец, — он бросил учиться
и поступил в театр; в этом он видит свое призвание.
— Призвание? — спокойно сказал Чернышевский, глядя
сквозь очки на мое покрасневшее от смущения лицо, — при¬
звание хорошо, когда ему предшествует образование!
Он проводил нас с отцом до ворот, и я все время чувствовал
себя точно уличенным в чем-то нехорошем — я сознавал, что
мне надо завоевать «образование». Но как?
На улице, когда мы переходили дорогу от дома Чернышев¬
ского, к нам подошел околодочный, записал наши фамилии,
справился о цели посещения «поднадзорного» и строго сказал,
что для следующего посещения необходимо иметь разрешение
пристава. Так заботливо астраханские власти «оберегали»
покой замечательного мыслителя!
«Неуч! Невежда!» — звенело у меня в голове, и я, подавлен¬
ный, пошел к своему «Диогену», который, помимо своей ясной
философской мысли, напоминал Диогена еще тем, что спал на
бочках в сарае бондаря, у которого он снимал чулан.
Я поведал своему Диогену о встрече с Н. Г. Чернышевским
и о моем отчаянии по поводу пробелов моего образования
и отсутствия у меня каких-либо специальный знаний. Цуканов
был на десять лет старше меня. В том, что он в свое время не
получил образования, как я думаю, была замешана политика.
Театр был для этого умного человека своего рода «подпольем»
12
или маскировкой. Он живо понял мое состояние и сказал
мне прямо:
— Чернышевский — голова, каких в России нет. Он спра¬
ведливо пробудил в тебе чувство совести перед самим собой.
Ты, всю жизнь самообразовываясь, должен считаться с голо¬
сом этой неумолимой совести. Впрочем, что такое образование?
Посмотрим, что говорит об этом мой «Талмуд»?
Этим словом Саша обозначал сочинения Белинского и Писа¬
рева, с которыми никогда не расставался. Он достал из своего
деревянного ящика том Писарева, где указал мне в статье
«Реалисты» отчеркнутое красным карандашом место.
— Читай, перепиши и сохрани на всю жизнь эти мысли,
как заклинание! Не все же, брат, люди схватили за хвост
в университетах и академиях образование, а, однако, жизнь
цветет и движется... Необходимо иметь в руках специальность,
ремесло. Это — главное!
Я прочитал и переписал. И вот теперь, через полвека, я снова
вспоминаю эти слова, оказавшиеся для меня такими важными.
На своей жизни, на судьбе проверил я справедливость этих
слов Писарева:
«Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что
настоящее образование есть только самообразование
и что оно начинается только с той минуты, когда человек, рас¬
простившись со всеми школами, делается полным хозяином
своего времени и своих занятий».
Вскоре после этого в жизни моей произошло важное и неожи¬
данное событие — меня рекомендовали казанскому театру на
должность помощника режиссера.
Казань — «Поволжские Афины!» Там Университет, художе¬
ственная и музыкальная школы, целая армия студентов...
Все это для меня, не имеющего права стремиться к высшему
образованию — я ничего не закончил, — было недосягаемой
мечтой. Я с радостью решил ехать в Казань — хоть со стороны
посмотреть, как люди учатся. Слово «студент» для меня было
окружено светлым нимбом!
Казань.
Антреприза
Серебрякова.
Ф. И. Шаляпин.
Гастроли
Адамяна.
Саратов
Казанское театральное дело — городской театр и летний
театр в саду Панаева — находилось в руках предприимчивого
армянина В. Б. Серебрякова, который, кроме того, был и дирек¬
тором шахматного клуба. Театр и шахматы для предприимчи¬
вого Василия Богдановича были только ширмой — в уютных
и гостеприимных кабинетах его клуба процветала крупная
азартная карточная игра. Губернские власти видели (или
хотели видеть) в лице Серебрякова только театрального антре¬
пренера, который вел свое дело с внешней стороны вполне
хорошо.
В. Б. Серебряков, тучный и благообразный армянин, при¬
нял меня довольно индифферентно и, сообщив мне мою став¬
ку — 80 рублей — направил меня в театр, к главному режис¬
серу А. А. Линтвареву, который вел все драматическое дело
в Казанском городском театре.
После чистенького, но миниатюрного саратовского театра
с его коробочкой-сценой, огромный зал казанского театра,
с его глубокой и высокой сценой ошеломил меня.
«Неужели я буду здесь работать?» — взволнованно поду¬
мал я.
14
Глава вторая
Главный режиссер А. А. Линтварев принял меня покрови¬
тельственно, любезно и объяснил мне мои функции, с кото¬
рыми, впрочем, я уже был основательно знаком.
Труппа Казанской драмы была очень средняя по составу
и в моей памяти сохранились только два имени — Днепровой-
Мерц (инженю) и Тинского (любовник). Остальные имена, увы,
стерлись.
Сам Линтварев, очень образованный человек, кончивший
Харьковский университет, считал себя артистом на роли, как
тогда говорили, «рубашечных героев», но, увы, по ядовитому
замечанию одного казанского фельетониста: «в рубахе он чув¬
ствовал себя, как во фраке, а во фраке — как в рубахе».
Не давалось ему, бедняге, искусство сцены, которую он
трогательно и бескорыстно любил.
В режиссуре ему тоже не все удавалось. Его режиссерские
экземпляры пьес, испещренные геометрическими чертежами
и алгебраическими знаками и даже греческими литерами,
приводили в ужас не только меня, когда Линтварев старался
мне вдолбить план той или иной мизансцены. Его самого они
часто ставили в тупик, когда требовалось решить быстро
какую-нибудь сценическую задачу по его «геометрии».
Я быстро приспособился к обстановке и чувствовал себя
необходимым винтиком театральной машины. Но мне было
мало этого. Мысль об образовании здесь, в городе, перепол¬
ненном студенческой молодежью точно арбуз семечками,
положительно не давала мне покоя.
Все ютившиеся по соседству студенты были моими друзьями.
Я жил как бы двойной жизнью театра и отраженной жизнью
университета. Литографированные лекции, которые брал
у студентов-юристов, я проглатывал как занимательные произ¬
ведения любимых мною прежде классиков. «Энциклопедия пра¬
ва», «Гражданское право», «Русское право», «Уголовное право»
и другие университетские курсы были моими «романами»,
которые я читал нередко до рассвета, когда солнечный свет
начинал золотить уснувшую речушку Казанку. И только ран¬
нее купанье в реке и дымок от самовара, поставленного отцом,
освобождали меня от моего «научного» психоза.
С медицинскими дисциплинами дело обстояло гораздо серь¬
езнее. Мой большой друг и дальний родственник Вознесенский,
студент-медик третьего курса, впоследствии видный врач,
взялся вплотную приобщить меня к медицине.
15
Он шутя говорил моему отцу, не зная, какой раны в моем
сердце он касался: «Папаша! Отдайте Колю в студенты»...
Как прежде погружался я в дебри наук юридических, так
теперь медицина завладела моим сознанием. Казанский универ¬
ситет в ту эпоху обладал выдающимися медицинскими силами.
Учебники этих профессоров стали для меня музыкой души;
зачитываясь ими, я был «тайнослушателем» Казанского универ¬
ситета.
Из этого состояния меня вывел Ваня Барсов, скрипач
нашего оркестра и ученик музыкальной школы. Он посоветовал
мне поступить в музыкальную школу А. А. Орлова-Соколов¬
ского и фактически меня туда устроил. Меня приняли бесплат¬
но по классу медных инструментов и я стал учиться играть
на трубе. У меня была перспектива — стать в будущем воен¬
ным дирижером. Но меня очень увлекала теория музыки
и рояль — этим дисциплинам я посвящал все свое свободное
от основной работы в театре время.
По моей должности помощника режиссера я заведывал
приемом статистов для участия в спектаклях, и здесь мною
было проявлено самое заботливое внимание к моим приятелям-
студентам. Существовавшие на грошовую стипендию, они были
фактически бедняками и часто очень нуждались. «Вечеровая»
плата в 50 копеек являлась для них основательным подспо¬
рьем — ведь жизнь в тогдашней Казани была очень дешева.
Однажды студенты, певшие в Петропавловской церкви, при¬
вели ко мне певчего, одних со мной лет, высокого, лохматого,
худого блондина, одетого в косоворотку. Это был писарь зем¬
ской управы — что на Грузинской улице — Федор Шаляпин.
Он мне понравился своей внешностью и независимой манерой
держаться. А так как он был еще и певчим, что было важно
для комплектования случайных хоров в драме, то его зачислили
в театр на штатную должность статиста с окладом 15 рублей
в месяц.
Этот несуразный на первый взгляд парень, с его мешковатой,
как у молодого жеребенка, фигурой был по-настоящему влюб¬
лен в театр или, вернее сказать, рожден для театра. Исполнял
ли Федя роль безмолвного палача в сердцещипательной мело¬
драме, или сурового опричника в свите Иоанна Грозного, или
старого лакея с баками, который передавал посмертное письмо
самоубийцы женщине, изменившей ему, — во всем через этого
безмолвного «статиста» звучало великое искусство театра.
16
Это тогда осязательно чувствовали все: главный режиссер
А. А. Линтварев, ведущие актеры труппы, чувствовал и удив¬
лялся тоже и я. Будущее великого Шаляпина подтвердило наши
ощущения.
Характерный случай произошел с Шаляпиным на представ¬
лении драматической хроники «Дмитрий Самозванец». Главный
режиссер А. А. Линтварев очень любил массовые народные
сцены и всегда количеством участников перегружал «массов¬
ки».
В сцене, когда народ бревном вышибает ворота в Кремле
и оттуда выступают поляки, должен был начаться бой, пре¬
кращающийся лишь с падением занавеса.
На сцене действовали «поляки» — студенты ветеринарного
института в количестве тридцати человек и такое же количе¬
ство студентов университета (моя гвардия! ), изображавших
«московский люд» и «мясников», во главе которых был Федор
Шаляпин. Он был классически прекрасным «мясником»: откры¬
тый ворот красной рубахи, черная борода, бледное лицо. Он
точно воссоздавал знаменитую картину Сурикова «Казнь
стрельцов»! Драка началась, но вся режиссерская экспозиция
по «геометрии» Линтварева была сразу же опрокинута, моло¬
дежь увлеклась — и началась настоящая потасовка. Мои крики
не помогали, свалка и шум на сцене увеличивались. А зри¬
тельный зал, захваченный реальностью стычки, стонал от
восторга. Я бросился к переднему занавесу и приказал его
опустить. Увы, это не помогло, и за опущенным занавесом бит¬
ва, вариируясь, продолжалась с очевидным перевесом на
стороне «поляков». Я метался, как футбольный мяч, от одной
группы к другой, но все напрасно... И вдруг все молниеносно
прекратилось под действием сильной водяной струи, охладив¬
шей пыл бойцов. Это Шаляпин догадался окатить враждующие
стороны из пожарного брандспойта, стоявшего наготове у перед¬
него занавеса. И побеждающие и побеждаемые бросились сразу
в свои уборные переодеваться в сухое платье. Так был завое¬
ван мир.
Зрительный зал шумел. Аплодисменты, крики «браво»
и даже почему-то «бис» не прекращались.
Все эти овации скромно принял на свой счет режиссер спек¬
такля Линтварев.
Дела нашего театра были плохи. Казанская публика, осо¬
бенно студенчество, любила оперу, а антрепренер собрал
17
посредственную драму, которая, увы, оставляла казанцев
довольно равнодушными к театру. Чтобы поднять интерес,
Серебряков выписал из Константинополя знаменитого — так
гласили афиши — армянского трагика Адамяна. Мы в театре
уже имели одного «трагика» — это был Ашот Богданович,
армянин огромного роста и колоссальной силы — управляю¬
щий делами антрепренера. Когда он выдавал нам жалование —
правда, всегда в намеченный срок, — то он так трагически
поводил глазами и тяжело вздыхал, что как будто говорил:
«сборов нет, а деньги все же плати! »
Я предполагал в приезжем артисте найти что-либо аналогич¬
ное нашему «трагику», но был приятно разочарован. Адамян
был невысокого рост, по виду, скорее, художник, нежели актер,
с откинутыми назад черными волосами и небольшими усиками
на выразительном и благородном, пергаментного цвета лице.
Адамян оживил наш театр и всколыхнул всю Казань. Играл
он на французском языке, что почти не имело значения, так
как его классический репертуар был хорошо известен публике.
«Гамлетом» Адамян сразу покорил всех. И действительно,
трудно было представить что-либо более возвышенное, более
благородное и в то же время более глубокое, чем исполнение
роли Гамлета Адамяном! Сдержанный жест, певучая дикция,
отсутствие ложных поз и какая-то, сказал бы я, покоряющая
человечность во всем образе. Я вспомнил невольно Адамяна,
когда, значительно позднее, видел в роли Гамлета знаменитого
немецкого артиста Александра Моисси.
С неослабевающим успехом гастроли трагика продолжались
целый месяц — Адамян приковал внимание всего города.
Замечательный артист выступал в «Гамлете», «Отелло»,
«Семье преступника» и в «Кине», где мне, игравшему в сезоне
все роли подростков, пришлось с Адамяном играть роль
Пристоля.
Здесь я уловил у замечательного артиста одну особенность,
которую определил как «музыку глаз». Это было такое же
волнующее ощущение, как от картин Репина, от портретов
Крамского и Серова. Глаза Адамяна, казалось, играли на
вашей душе, как на инструменте, вызывая массу неожиданных
эмоций.
До публики едва ли эта «музыка глаз» Адамяна доходила,
но мне на его спектаклях приходилось постоянно сидеть в суф¬
лерской будке и, следя за французским текстом пьесы, давать
18
другим актерам начало реплик на русском языке. Поэтому
я был к нему ближе, чем кто-либо из зрителей и мог внима¬
тельно следить за игрой его глаз.
Последнее выступление Адамяна было в роли Уриэля Ако¬
сты. Этим исполнением вся Казань (а особенно студенческая
молодежь) была буквально потрясена. Образ духовного револю¬
ционера и борца против фарисейства и сухой религиозной
догмы трагический артист нарисовал красками Рембрандта
и насытил музыкальным пафосом Бетховена. Таким именно
должен был быть, мне казалось, Барух Спиноза, прототип Уриэ¬
ля Акосты. Сцена в синагоге, когда, униженный и отвержен¬
ный, но духовно несломленный, Уриэль лежал в прахе и все
члены общины шагали через него, торжествуя свою победу,
была проведена артистом незабываемо!
Творчеству Адамяна я был обязан тем, что «Этика» Спинозы
долго занимала и волновала мой юношеский ум.
Замечательный артист относился ко мне хорошо и, уезжая
из Казани, подарил мне на память свой портрет с надписью
на итальянском языке: «Терпение — часто единственное лекар¬
ство в «несчастьях».
Проводы Адамяна были торжественны и необычны. Толпа
студентов после его прощального спектакля провожала арти¬
ста до гостиницы. Длинные палки с паклей, смоченной кероси¬
ном или нефтью, в руках провожавших ярко пылали в темноте
зимней ночи.
Зимний сезон, как всегда в старой театральной России,
окончился перед великим постом. Театр был закрыт до осени.
С будущего сезона антрепренер Серебряков обязался перед
Городской думой держать хорошую оперную труппу. На лет¬
ний сезон предприимчивый директор перенес свою деятельность
в сад Панаева — любимое место отдыха казанцев.
Мои занятия в музыкальной школе, как теперь говорят,
«без отрыва от производства», были очень трудны. Но молодость
все побеждает! Я делал очевидные успехи в игре на трубе.
Ночи я посвящал изучению теории музыки и гармонии. Рояль
я терзал в школе, после окончания репетиций в театре.
Наша музыкальная школа решила поставить в театре цели¬
ком оперу «Евгений Онегин» Чайковского. Эту трудную задачу
замечательно выполнил С. В. Гилев, профессор пения нашей
школы и, между прочим, исполнитель партии Онегина в первой
постановке оперы силами студентов Московской консервато¬
19
рии. Мне не пришлось быть в оркестре — я еще все-таки слабо
освоил технику игры на трубе, и я был водворен в суфлерскую
будку, где больше восторженно смотрел и восхищался, нежели
суфлировал.
Велико было воздействие на меня первого оперного спек¬
такля в моей жизни!
Исполнителями были студенты и персонал близ располо¬
женной клиники. Одна из участниц спектакля, меццо-сопрано
Азерская, впоследствии стала видной артисткой Московского
Большого театра. Очень хорош был хор, собранный из всех
церквей Казани. В этом хоре пел и наш Шаляпин, который,
совершенно неожиданно для всех и для меня, прекрасно спел
в этом спектакле партию Зарецкого.
Опереточный сезон в саду Панаева открылся в мае. Сере¬
брякову, пригласившему главным режиссером H. Н. Синель¬
никова, удалось составить замечательную труппу, в чем, несом¬
ненно, можно было видеть направляющую руку и волю Синель¬
никова.
Очень интересным явлением в истории русского опереточ¬
ного театра была каскадная певица Смолина. Это была жен¬
щина, рожденная для сцены, как утка для воды; ее нельзя
было назвать красивой, но, имея отличную фигуру и теплый
голос, она преображалась на сцене в красавицу. Смолина была
совершенно безграмотной, не умела ни читать, ни писать;
все роли ей «начитывал» ее муж, суфлер труппы Щербаков,
а партии она учила только под скрипку. Вне сцены Смолина
имела ординарно мещанский вид, но на сцене она перерожда¬
лась в женщину, полную грации, шарма, наделенную всеми
чарами женственности. Этого феномена я не мог себе уяснить,
пока, несколько десятилетий спустя, не встретил на оперной
сцене другое такое же явление — замечательную оперную
артистку Фатьму Мухтарову.
Дела опереточной труппы шли превосходно, театр ежеднев¬
но делал полные сборы. Тенор Л. М. Клементьев был главной
притягательной силой оперетты; высокий, молодой, кудрявый
блондин, он обладал прекрасным тенором баритонального
оттенка с отличными верхними нотами. Он прекрасно, правда,
несколько фатовато, говорил прозу, легко танцевал, что ему
самому, видимо, доставляло удовольствие. Впоследствии Кле¬
ментьев был ведущим тенором московской оперы, выдаю¬
щимся исполнителем теноровых партий в операх Вагнера,
20
а в опере Рубинштейна «Нерон» создал образ главного героя
с такой силой и художественной правдой, что приходится
невольно жалеть, что это время еще не имело кинематографа
и, увы, звуковой записи, для того чтобы сохранить для после¬
дующих поколений искусство великих оперных певцов.
Позднее я слушал Клементьева на сцене Большого театра
во всех его партиях и присутствовал в Петербурге на «Неро¬
не» с его участием. Я тщательно искал в нем черты казанских
опереточных героев, современников моей юности; передо мной
был зрелый артист огромного драматического и вокально¬
декламационного масштаба. Умер Клементьев как-то нелепо
и рано, не исчерпав, увы, всех возможностей, вложенных
природой в его многогранную сценическую личность.
Мне хотелось бы вспомнить многих артистов нашей опере¬
точной труппы, составлявших замечательный творческий
ансамбль, но эти фамилии, как лепестки отцветших роз, не
скажут, пожалуй, ровно ничего читателю, и только в моей бла¬
годарной памяти, спустя полвека, они свежи и ароматны. Буду
вспоминать лишь о самых ярких, самых замечательных теат¬
ральных явлениях прошлого.
Таким «явлением», без всякого сомнения, был Николай
Николаевич Синельников. Начав свой творческий путь в опе¬
ретте, Синельников был актером прекрасного комедийного
стиля знаменитой старой венской оперетты эпохи Бетти Стоян,
Шпильмана и других. Мне не хочется прилагать к нему пошло¬
ватого опереточного определения амплуа — «простак», оно
неверно. Голос у Синельникова был небольшой, нечто подобное
второму тенору, но музыкальность, дикция и умение уклады¬
вать фразу на оркестр были изумительны.
Пикилло в «Периколе», Анж Питу в «Дочери мадам Анго»,
Чинделоне в «Певце из Палермо», сержант в оперетте «Рука
и сердце» — вот актерский профиль Синельникова в то время.
Не имея тогда никакого представления о настоящем режис¬
сере, создателе спектакля, стратеге сценического действия, —
я в H. Н. Синельникове нашел именно такого мастера. Работая
при нем помощником режиссера, я каждый день любовался им
и изучал его. В работе он был сдержан, отчасти даже сух,
никогда не кричал, внешне не волновался. Но его режиссерские
идеи были так художественно обоснованы и убедительны, что
каждый, кто бы он ни был, не мог не отдавать себя целиком
власти его режиссерского искусства.
21
Я не преувеличиваю значения Синельникова — он одно¬
временно с молодым Московским Художественным театром
создал в Москве замечательную драматическую труппу в теа¬
тре Ф. А. Корша. Возрождение в Харькове любимого харьков¬
чанами русского драматического театра — дело рук, ума
и таланта Синельникова. У него был здоровый ум и абсолютное
чувство сценической правды. Его участие в любом театраль¬
ном «деле» сразу поднимало это дело до уровня подлинной
художественности...
Летний опереточный сезон в саду Панаева закончился бле¬
стяще и Казанское городское управление сдало зимний театр
под оперу Серебрякову. Во главе оперного дела Серебряков
поставил опытного, но довольно бесцветного дирижера В. О. Зе¬
леного. Чех по происхождению и контрабасист по профессии,
Зеленый имел твердый характер, четкую, железную руку,
огромный репертуар и, увы, никакого вкуса.
Прямой его противоположностью был молодой дирижер
Б. С. Плотников, только что окончивший Московскую консер¬
ваторию. Человек большой общей и музыкальной культуры,
он был прогрессивным явлением в рутинной провинциальной
опере.
Однако надо отдать справедливость Зеленому: он создал
в Казани хорошую оперную труппу, прекрасный оркестр
и хор. Режиссером труппы был М. Н. Рябухин, бывший хорист,
человек большого опыта и феноменального слуха и памяти.
Меня представил Зеленому как суфлера мой и Шаляпина
товарищ, скрипач Ваня Барсов. Зеленый учинил мне формен¬
ный экзамен — по сольфеджио, по инструментовке, по гармо¬
нии и заставил меня даже дирижировать.
Когда я удивился и спросил: для чего это все суфлеру, —
Зеленый громовым голосом — у него был зычный бас — заре¬
вел мне в ответ: «Суфлер — первый помощник дирижера на
репетициях и спектаклях, и я не желаю, чтобы у меня в суфлер¬
ской будке сидел статист». Экзамен я, видимо, кое-как выдер¬
жал, но позднее, уже в процессе работы, мне много доставалось
от сурового чеха — во всем был виноват суфлер.
В Казанской опере самой притягательной силой был драма¬
тический тенор Юлиан Федорович Закржевский, неизменный
любимец Казани. Это был стройный, уже немолодой человек
с черными усиками на бледном и выразительном лице. Голос
Закржевского, особенно средний регистр был не из благо¬
22
звучных, но верхи, начиная с соль до ре бемоль, были столь
металличны и резки, что они прорезывали любую звучность
оркестра, как бы сильна она ни была. Актер Закржевский
был выдающийся. Он завладевал вниманием публики с момен¬
та своего выхода на сцену, и зрительный зал оставался в его
власти до конца. Я сам, сидя в будке, увлекался его замеча¬
тельными сценическими творениями, иногда забывая подавать
слова. Но в суфлере Закржевский не особенно нуждался, одна¬
ко требовал, чтобы он непременно видел у суфлера шевелящие¬
ся губы. Это я и выполнял.
Артистом, оспаривавшим успех Закржевского, был бари¬
тон А. Н. Круглов, абсолютный любимец всех студентов. Осо¬
бенный успех он имел в «Демоне».
Мне никогда, пожалуй, ни у одного баритона не приходи¬
лось слышать такого ласкающего звука с изумительным богат¬
ством обертонов. Такой голос встречался, пожалуй, у некоторых
итальянских певцов.
Репертуар Казанской оперы был огромный, за семь месяцев
сезона прошло не менее двадцати трех опер. В. О. Зеленый
неумолимо «гнал» репертуар. Большой любитель Мейербера,
он поставил: «Гугенотов», «Африканку», «Пророка» и даже неле¬
пого «Роберта-Дьявола», в котором не только публика ничего
не понимала, но и я, суфлер, имевший перед собой клавир опе¬
ры, разбирался мало. Мне только запомнился такой «перл»
русского перевода либретто оперы: когда Дьявол уговаривает
Роберта поставить ставкой в азартной игре все его золотые вещи,
то на танцевальной мелодии он формулирует это так:
«Зачем, зачем носить повсюду
С собой, с собой ненужную посуду? »
Несмотря на хорошую труппу и огромный репертуар,
несмотря на адскую энергию Зеленого, которого в труппе,
вероятно в подражание «Роберту-Дьяволу», шутливо имено¬
вали «Вячеслав-дьявол», оперный сезон дал большой дефицит,
погубивший Серебрякова. Оно и не удивительно — тогдашняя
Казань была бедным чиновничьим и студенческим городом,
который не мог оплатить расходов по содержанию дорогостоя¬
щей оперной труппы.
Моя работа суфлером в опере и занятия в такой солидной
музыкальной школе, какой была тогда Казанская, дали мне
большой запас полезных теоретических и практических знаний.
23
Сидя в будке, я изучил множество опер и хорошо стал раз¬
бираться в различных стилях оперного творчества; я уяснил
себе принципы инструментовки, тембры разных инструментов
и постиг технику дирижирования, так как Зеленый не особенно
любил подавать вступления артиста, а требовал, чтобы суфлер
был «обезьяной дирижера». Это мне нравилось, я развил в себе
способность дирижировать и гордился этим. Как было бы полез¬
но и практично всем молодым дирижерам начинать свою карье¬
ру с суфлерской будки!..
Наступила весна. Мое будущее было неопределенным,
я не знал, где мне придется работать. Театр был закрыт. Зани¬
маясь целый день в музыкальной школе, я понимал однако,
что будущность оркестрового музыканта меня не прельщает
и даже диплом на право быть военным дирижером ничуть не
увлекает. Я был отравлен театром, и именно оперой, а не дра¬
мой. Между тем в Казани, особенно после крупного дефицита
Серебряковского оперного сезона, создавать оперу никто не
рисковал, и на следующую зиму предполагалось приглашение
драматической труппы.
Внезапно я получил предложение от оперного антрепренера
Унковского из Саратова работать с осени в его саратовской
опере в качестве режиссера. Унковскому меня рекомендовал
кто-то из казанских артистов. Я был в восторге и совершенно
не думал о том, как это я из суфлеров превращусь вдруг в режис¬
сера. Но мой давний друг, милый Ваня Барсов, меня успокоил:
«Лучше из будки на сцену, чем со сцены в будку».
Редкостным человеком был Барсов. Его любили все и он
любил всех. Выше среднего роста, с шапкой русых волос, свежим
лицом, которое украшали голубые добрейшие глаза и пушистые
усы над красными, постоянно улыбавшимися губами. Это был
человек без желчи, никогда и никого не обидевший и совершен¬
но не реагировавший на обиду. Он был дружен с Шаляпиным,
с которым вместе жил на Суконной слободке и пел в одном
церковном хоре. Но какая разница была между ними!
Барсов, которого все называли в шутку «ухарь-купец»,
был простой натурой, бесхитростный и безобидный. Шаляпин,
наоборот, производил на меня впечатление человека «себе
на уме»; он был сдержан, пытлив и ироничен.
Барсов начал учиться пению, а пока играл в оркестре на
альте. Позднее он стал приличным басом-солистом провин¬
циальных оперных трупп. Под конец своей жизни Ваня Бар¬
24
сов, любивший стольких женщин и, думаю, любимый ими, жил
бобылем. Он играл на скрипке в Одесском театре. Его седая
львиная голова красиво выделялась на фоне молодых лиц
оркестрантов Одесской оперы.
В июле 1949 года Барсов тихо скончался в Ленинградском
Доме ветеранов сцены, прожив почти семьдесят восемь лет...
Возвращаюсь к Казани, когда вся наша жизнь была еще
впереди, когда мы были бодры и оптимистичны. Ваня Барсов
ехал в Москву учиться пению, а я был накануне отплытия
в Саратов — к месту моей новой работы. В это время в Казань
приехал антрепренер Уфимского театра Перовский и его режис¬
сер Семенов-Самарский, отличный певец и актер. Они собирали
в Казани хор для своего театра в Уфе. Прослушав среди дру¬
гих и Шаляпина, они пришли в восторг и взяли его в хор и на
вторые роли. С этого периода началась феерическая карьера
гениального певца и артиста.
...На пристань я с Барсовым пришел к первому свистку;
пока Ваня прощался с Шаляпиным, я вглядывался в милые
и дорогие черты лица Раечки Стрижевой, уезжавшей с красав¬
цем мужем, только что получившим диплом ветеринарного
врача, в глубь Уфимской области. Это для нее, жившей рядом
со мной и отделенной от моего окна стареньким забором и кус¬
тами цветущей сирени, играл я на трубе самые нежные роман¬
сы, для нее писал, в духе Гейне и Надсона, стихи. Однажды,
когда мы со студентом-ветеринаром — ее теперешним мужем —
сидели у нее дома и пили чай, Рая сказала мне: «Люблю слу¬
шать, когда вы играете на трубе, только жаль, что в этих зву¬
ках нет слов». Она умолчала о моих стихах — в них было много
«слов». Но мне было ясно одно, что «звуки» моей души, увы,
ничего не сказали ее равнодушному сердцу.
Пароход отчалил от пристани и повернул вниз по Волге.
Лохматая голова Шаляпина и милое лицо Раи Стрижевой стали
исчезать из моих глаз...
Глава третья
Саратов.
Нижний
Новгород.
Оперное това¬
рищество
Н. В. Унков¬
ского.
Харьков.
Ростов-на-Дону.
Таганрог.
Мариуполь.
Одесса.
Москва
Слово «товарищество» едва ли понятно современным работ¬
никам театра. Сегодня оно требует расшифровки. Замечатель¬
ный театральный деятель М. М. Бородай, начавший свою дея¬
тельность, как я уже писал, в Саратове расклейщиком афиш
и капельдинером, благодаря своему врожденному, оператив¬
ному уму и честности сделался, сначала в Харькове, потом на
Волге и затем в Киеве образцовым руководителем оперных
и драматических трупп. Достаточно сказать, что Бородай
в своем казанском театре заметил такое мощное дарование,
как Василий Иванович Качалов, заботливо помог ему развер¬
нуть свой талант.
Бородай был теоретиком и практическим организатором
этих товариществ. До Великой Октябрьской революции теа¬
тры, кроме императорских, были совершенно лишены забот
правительства — не было ни дотаций, ни субсидий, — и они
влачили, особенно оперные, жалкое существование. Городские
управления тоже, за очень редким исключением, обращали на
театры мало внимания.
В то время слово «товарищество» получило свое практиче¬
ское и реально-организационное оформление. Составлялось,
26
например, дорогое оперное дело, по своим расходам превышав¬
шее материальные возможности данного города. Тогда вводи¬
лась такая система оплаты труда: оркестр, хор, балет и техни¬
ческий персонал получали свою зарплату полностью. Так же
полностью оплачивались и постановочные расходы. Артисты
же — первые и вторые — получали по «маркам»: все оставшие¬
ся от расходов за месяц деньги делились на паи-марки, и каж¬
дый получал соответственно той доли, которой он входил в това¬
рищество. Многое зависело в товариществе от умения, знания
и, главное, честности представителя, иначе говоря, директора
товарищества. Это, само собой разумеется, было жестоким ком¬
промиссом между желудками артистов и реальной суровой
действительностью старой России, но этот компромисс помогал
все-таки существованию оперных театров, правда, до револю¬
ции очень редких. Многие артисты с недоверием относились
к новому принципу организации трупп и в ходу было такое
мнение: «лучше плохой антрепренер, чем хорошее товарищест¬
во».
Однако же в это самое время в товариществе М. М. Бородая
артисты получали не только рубль за рубль, но — что было
нередко — и по полтора рубля за рубль!..
Я возвращался в Саратов со смутным и волнующим чувст¬
вом: мне пришлось уехать из театра со скромным именем «Коля»
так тогда все звали меня, — а возвращался, как было напечатано
в афишах: «Режиссер H. Н. Боголюбов»!
Н. В. Унковский, мужчина высокого роста, широкоплечий,
породистый, принял меня очень радушно. После часовой бесе¬
ды, во время которой он меня обстоятельно изучил, я чувство¬
вал себя с ним так, как будто мы с ним знакомы давно, очень
давно. Унковский в прошлом был офицером флота, а потом
артистом императорского Мариинского театра. В этом чело¬
веке ясно чувствовалась буквально во всем старая добротная
петербургская культура.
Унковский был любимцем саратовской публики. В чем бы
он ни выступал, везде ждал его триумф. К его лучшим партиям
относились: Онегин, Демон, Ренато («Бал-маскарад»), Влади¬
мир («Рогнеда»), Иуда («Маккавеи»), Петр («Вражья сила»).
Голос его, драматический баритон — странный, «двухэтажный»,
я бы сказал, голос: центр его был мощный, а верха, начиная
с ми, узкие и задавленные, точно шею ему во время пения
давил туго затянутый галстук. Но Унковский был актером
27
большой сценической и музыкальной культуры. Все у него
в партии было экспрессивно и оправданно. Он сам при испол¬
нении своих партий и при постановке опер широко умел поль¬
зоваться литературным, историческим и иконографическим
материалом. К такой работе он приучал и меня. Это легко
было осуществлять, потому что жена Унковского — А. В. За¬
харьина-Унковская, ученица Л. Ауэра, первая скрипка нашей
оперы (у нее был редчайший инструмент работы Амати), обла¬
дала отличной библиотекой и замечательной памятью.
Труппа Унковского была средняя по уровню. Злые языки
говорили, будто Унковский сознательно подбирал слабый
состав, чтобы выделяться самому. Но это было неверно — про¬
сто было трудно привлечь хороших певцов в такое товарище¬
ство.
В оперу Унковского шла или зеленая молодежь, или арти¬
сты, оставшиеся без приглашений.
Приятным исключением в составе оперы был молодой лири¬
ческий тенор Давид Писитько, имевший большой успех. Газета
«Саратовский листок» написала о нем: «Артист с очень прилич¬
ным голосом и с весьма неприличной фамилией». Немедленно
после этого Унковский срочно переименовал злополучного
Писитько в Южина. Так рожден был тенор Давид Христофоро¬
вич Южин, занимавший впоследствии довольно видное место
на оперных сценах.
Музыкальной и моральной силой, скреплявшей оперную
труппу, был дирижер Иван Осипович Палицын. Врач по
образованию, окончивший Московский университет вместе
с А. П. Чеховым, Палицын отдал всю свою жизнь оперному теа¬
тру и даже скончался в оркестре Свердловской оперы в 1931 го¬
ду, продирижировав увертюру к «Тангейзеру». Не выдержало
сердце!
Бывают люди, при имени которых тепло становится на душе
и жизнь не кажется жестокой. Именно таким человеком был
Палицын!
В опере Унковского оркестр был небольшой, не более двад¬
цати трех человек, а оперы исполнялись самые сложные.
И Палицын работал почти круглые сутки: днем репетиции,
вечером спектакли, а ночью, разложив оркестровые партии
по полу своей комнаты, он вдвоем с другом, музыкантом Афа¬
насьевым, до рассвета «сводил» огромные, многоголосные орке¬
стровки большого состава на небольшой состав оркестра.
28
И все в оркестре у Палицына звучало — не было в оркестровом
сопровождении ни «дыр», ни гармонических несообразностей.
Только большой специалист мог заметить, что оркестровка-то
была «заштопана», но и ему, если он был человеком широкого
кругозора, пришлось бы склонить с уважением голову перед
титаническим трудом И. О. Палицына. Иван Осипович был
человеком кротким, терпеливым. Его по заслугам вознагра¬
дила судьба — дирижируя в наших самых крупных оперных
театрах, Палицын был всюду неизменно любим как музыкант,
как человек большой культуры и большого сердца.
Унковский, будучи ранее морским офицером, пользовался
иногда флотской терминологией: свою оперу считал кораблем,
который в пути (в выборе репертуара) должен строго руковод¬
ствоваться компасом, режиссерскую комнату называл кубри¬
ком, а столовую в своем доме — Унковские были очень хлебо¬
сольны — именовал кают-компанией.
И вот, совершенно неожиданно, оперный корабль Унковско¬
го попадает в «циклон», из которого он выбирается с поломан¬
ным такелажем и быстро тонет. Этим роковым циклоном ока¬
залась женщина.
Из Петербургской консерватории приехала в Саратовскую
оперу молодая певица — лирическое сопрано М. И. Инсарова.
Трудно себе представить более обаятельную, красивую и
привлекательную женщину, чем Инсарова. Кто видел портреты
Наталии Пушкиной, тот может составить представление о внеш¬
нем облике Инсаровой. Голос у Инсаровой был суховатый, но
певица она была музыкальная и очень способная. Она жила
на сцене, как рыба в воде.
Инсарова с успехом пела и Татьяну в «Евгении Онегине»
и Лизу в «Пиковой даме». Простота ее игры, сдержанность
жеста и, когда было нужно, пламенность темперамента — все
это делало из молодой певицы фигуру большого значения.
Саратовская публика полюбила Инсарову, но сам Унковский
был очарован ею значительно больше. Как это часто бывает со
стареющими людьми, перешагнувшими сорокапятилетний воз¬
раст, Унковский буквально потерял голову. Он пел все оперы
только с Инсаровой, другой партнерши для него не существо¬
вало.
В своей квартире он устраивал для Инсаровой ужины
и обеды, на которых бывал и я. «Мой старший офицер», — так
шутливо рекомендовал меня Унковский гостям.
29
Увлечение Инсаровой плохо влияло на Унковского, а ведь
он был не только певцом, но и руководителем солидного опер¬
ного театра, очень любимого саратовской публикой. Между
тем Унковский так был занят Инсаровой, что совершенно не
думал о своей семье, мало интересовался положением дел
в своей оперной труппе, которая работала все хуже и хуже.
Чтобы обновить репертуар и поднять сборы, Унковский
с большой пышностью решил поставить оперу Рубинштейна
«Маккавеи». В этой опере Инсарова пела партию Ноэми, а Ун¬
ковский исполнял роль ее мужа — Иуды Маккавея. Инса¬
рова, стройная, красивая и женственная, напоминала тонкий
кипарис, а рядом с нею Иуда Маккавей — Унковский казался
высеченным из мрамора. Играл и пел он замечательно. Их
любовный дуэт «Роза Сарона» вызывал восторг зрительного
зала. Еще бы! Ведь на сцене рождалась подлинная человеческая
любовь.
На постановку «Маккавеев», этой прекрасной оперы Рубин¬
штейна, Унковский бросил массу денег и, разработав со мною
общий план постановки, дал полный простор моей фантазии.
На репетициях, чтобы не ронять мой авторитет в глазах испол¬
нителей, он делал замечания по-французски. Он берег автори¬
тет своего «старшего офицера»!
Трогательно и заботливо во всем мне помогала Александра
Васильевна Захарьина-Унковская. Она дала мне редкое изда¬
ние Библии на английском языке с роскошными иллюстрация¬
ми, переводила мне тексты, относящиеся к эпохе. Она делала
достаточно много для того, чтобы торжество ее мужа и его
дамы сердца было полным. И она, самоотверженная, добилась
этого!
Премьера «Маккавеев» была приурочена к бенефису
М. Н. Инсаровой. Театр был переполнен до отказа. Овации,
подарки и цветы — все было в изобилии. Унковский чувство¬
вал себя именинником.
Дирижер И. О. Палицын превосходно разучил эту «духов¬
ную» оперу. Мне тоже многое удалось в ее постановке — это
был мой первый режиссерский труд. Правда, маленькая сцена
саратовского театра не позволяла реализовать целиком заду¬
манное, особенно в массовых сценах. Кроме того, мужской хор
был крайне малочислен и в нем были такие горчайшие пьяницы,
с которыми было трудно вообще сладить. В героическом эпизоде
на площади, когда Лия, мать Иуды Маккавея, торжествуя*
30
входит на площадь и поет свой замечательный гимн «Бейте
кимвалы и тимпаны...», я с ужасом замечаю, как за спиной
величественной фигуры Лии (ее пела артистка Дигби) хорист
тенор Филатов, совершенно пьяный, корча ужасные рожи,
делал своеобразные «па». Тщетно старался я из кулисы убрать
Филатова со сцены, — ничто не помогало! Тогда, движимый
интуицией, я показал Филатову новенький серебряный рубль,
за которым он немедленно потянулся за кулисы, взял его
и положил себе за щеку. Двое рослых пожарных в этот момент
схватили Филатова и отнесли его под сцену, в склад бутафор¬
ских вещей, где он и проспал до утра. Я потерял новенький
рубль, но спас ответственнейшую сцену спектакля.
А в конце представления произошел случай, который мог
окончиться трагически.
В финале оперы, когда царь Антиох, тиран и губитель
Иудеи, замышляет страшные казни, его поражает «гнев божий»:
раздается удар грома и молния низвергается на него. Антиох
сходит с ума.
Мне очень хотелось усилить эффективность молнии, и я
придумал то, что теперь обозначается словом трюк. От колос¬
ников до ложа царя натягивалась туго по диагонали проволока,
нижний конец которой был закреплен в чане с водой. Разда¬
вался гром и небольшая ракета, зажженная на колосниках,
стремительно пролетая мимо царя, попадала за кулисой в чан
с водой. Впечатление было необычайно сильное. На репетиции
трюк проходил хорошо, но на спектакле, увы, эффект был не
совсем удачен. Ракета, недолетев до чана с водой, сорвалась
с проволоки, осыпала царя искрами и упала на сцене, за ложем
тирана. Произошло минутное замешательство, которое могло
бы перейти в панику. Но, к счастью, в раззолоченный шатер
библейского царя явился расторопный современный русский
пожарный и, накрыв ракету кошмой, быстро ликвидировал
опасность пожара на сцене. Это досадное недоразумение заста¬
вило зрителей забыть торжественный финал оперы. После
этого случая я уже никогда в своей долгой режиссерской
жизни не пользовался на сцене услугами пиротехники.
На другой день после спектакля Унковский устроил у себя
дома обед для участников «Маккавеев», но, естественно, прежде
всего для Инсаровой.
Материальные дела «Товарищества» Унковского были неваж¬
ные. Несмотря на хорошие сборы и материальный успех «Мак¬
31
кавеев», артистическая рублевая «марка» равнялась всего
шестидесяти копейкам.
Унковский пригласил на гастроли тенора императорской
оперы М. Е. Медведева, первого исполнителя партии Германа
в «Пиковой Даме» в Киеве и Москве.
Впоследствие мне пришлось видеть лучших исполнителей
Германа на русской оперной сцене — А. М. Давыдова,
Л. М. Клементьева, Н. К. Печковского, но все они были, в луч¬
шем случае, только копией с замечательного творения, создан¬
ного М. Е. Медведевым. Отдавая должное внешнему виду всех
этих Германов «послемедведевского периода», я должен ска¬
зать, что ни у кого из них не было той музыкальной фразы,
рожденной замечательным вокалом (особенно в среднем реги¬
стре), как у Медведева. Артист и сам, вероятно, не понимал,
каких глубин духа касался он в Германе теплым виолончель¬
ным звуком своего голоса.
С самого первого появления на сцене Медведева — Герма¬
на, с высокой и стройной фигурой, с бледным лицом, на кото¬
ром лихорадочным блеском горели большие темные глаза,
вы уже не в состоянии были от него оторваться — ни слухом,
ни зрением. Я допускаю охотно, что Медведев не был Германом,
созданным пером Пушкина, но что он был неповторимым Гер¬
маном Чайковского и отзвуком его «Патетической симфонии» —
это было абсолютно верно.
В Саратове Медведев имел огромный успех и делал полные
сборы. Но это, увы, была уже осень его большого таланта.
Как роскошный платан, все еще стройный и величественный,
покрываясь осенью золотыми листьями, теряет их, так и Мед¬
ведев не в силах был сдержать перебоев своего сердца; во
время спектаклей он уставал и физически и вокально.
Ему бы отдохнуть! Но где тут?! Как Пушкинский Герман
был одержим маниакальной страстью «трех карт», так и чудес¬
ный и добрейший М. Е. Медведев был маниаком оперных
антреприз. Он создавал и возглавлял многочисленные оперные
предприятия, которые неизменно прогорали. Он должал, снова
занимал деньги — и снова прогорал!
Только советская эпоха успокоила его — он был почетным
директором Саратовской оперы и профессором Саратовской
консерватории.
На следующий год Унковский потерял саратовский театр.
Предприимчивый М. М. Бородай предложил городским управ¬
32
лениям Казани и Саратова, попеременно, держать в обоих
городах хорошие драматическую и оперную труппы, что он
впоследствии и выполнял хорошо и планомерно. Авторитет
Бородая был очень высок и Саратовская дума предпочла Баро¬
дая Унковскому.
Положение Унковского было тяжелым. Чтобы сохранить
свою труппу, он снял на август театр на Нижегородской ярмар¬
ке, а на зиму организовал оперное турне по городам средней
полосы России: Калуга, Тула и Орел. Я не представлял себе
ни характера, ни объема, ни художественной ценности затеян¬
ного Унковским предприятия, но оперный театр на Нижегород¬
ской ярмарке, о которой много слышал, меня привлекал.
Огромный треугольник земли, у слияния Оки с Волгой,
занимала территория знаменитой Нижегородской ярмарки.
Целый необозримый город оптовых складов, магазинов, лаба¬
зов, гостиниц и харчевен составляли ярмарку, которая жила,
собственно говоря, всего только один август месяц. За это
время совершались миллионные торговые сделки с Азией и Пер¬
сией, с Западной Европой и Ближним Востоком. Различные
области России торговали друг с другом путем товарообмена.
При современном государственном плановом хозяйстве трудно
себе представить парадоксальность такого явления, как Ниже¬
городская ярмарка!
Множество народа, представители различных наций и куль¬
тур кипели, как в котле, на территории ярмарки. Гостиницы,
шантаны, пивные — все это обслуживалось армией шансонеток,
женскими хорами, дамскими оркестрами, куплетистами, тан¬
цовщицами и танцорами. Разврат и пьянство на ярмарке дости¬
гали невероятных размеров.
И в такой смрадной атмосфере должна была существовать
опера!.. Здание театра принадлежало известному артисту
императорской сцены H. Н. Фигнеру, который, теряя голос
и былую популярность, занялся коммерцией. Опера «Товари¬
щества» Унковского на ярмарке влачила тяжелое существова¬
ние, сборы были очень плохи. И кому была нужна здесь опера,
когда вечерами все гостиницы, шантаны и трактиры были
полны публикой, наслаждавшейся тем «искусством», которое
было ей и близко и понятно.
Унковского поддерживала администрация ярмарки в лице
H. М. Баранова, его сослуживца по флоту. Баранов, имея неог¬
раниченные полномочия, применял их очень разнообразно. Он
33
мог выслать с ярмарки любого человека, мог оштрафовать
кого угодно на астрономическую сумму. В центре ярмарочного
административного Управления — «Главном Доме» — он уста¬
новил наказание поркой. По лаконической резолюции Баранова
«высечь» подвергались наказанию купцы-скандалисты, воры,
мошенники, нарушители порядка, а иногда и просто сомнитель¬
ные для ярмарочной полиции люди.
Баранов, опираясь на полицию, устраивал в опере благо¬
творительные спектакли, и блюстители порядка распростра¬
няли среди купечества билеты на оперные спектакли. Но, увы,
и это не спасало «Товарищество»; артисты получали всего
40 копеек на рубль.
Я чувствовал, что задыхаюсь в этой атмосфере разложения
оперного дела, что я не росту, а опускаюсь в тину безразличия.
Мне было жаль оставлять Унковского в беде, этого несомненно
талантливого человека и артиста, но молодое эгоистическое
чувство требовало выхода. Я вернулся в Казань и, живя на
грошовую пенсию отца, еще почти год занимался по классу фор¬
тепиано, исправно, однако, посещая и класс трубы, чтобы поль¬
зоваться бесплатным правом на учение. Я написал в Саратов
одному из своих знакомых, который рекомендовал меня суфле¬
ром в Харьковскую оперу. Это меня очень устраивало. Харь¬
ковская опера считалась тогда первоклассной, и быть в ней
даже на рядовой должности суфлера, чуждого администра¬
тивных обязанностей, но все видящего и все наблюдающего,
было очень почетно.
Харьковской оперой руководил князь Церетели, человек
недалекий, но весьма воспитанный и культурный.
Содиректором и главным дирижером был Евгений Эспозито,
вертлявый неаполитанец, внешностью очень напоминавший
Мефистофеля, как его обычно изображали начинающие басы
в захудалых оперных антрепризах.
Должность главного режиссера исполнял П. Ф. Дунаев¬
ский, мужчина высокого роста, с черными усами, очень важ¬
ный. Меня, весьма понятно, прежде всего интересовала лич¬
ность режиссера — какие бывают настоящие режиссеры в боль¬
ших оперных театрах? П. Ф. Дунаевский был убежденным
и планомерным «копиистом», на все постановки у него были
точные оправдательные документы. На оперы русские он имел
пояснительные либретто московских и петербургских импера¬
торских театров, оперы Вагнера ставил по строго размечен¬
34
ным «режибухам» * немецких театров; итальянские оперы режис¬
сировал по клавирам Миланского театра «Ла Скала», где было
размечено решительно все. С французской оперой он имел близ¬
кие связи через режиссера Парижской «Гранд Опера» Ляпис¬
сида, который высылал ему все указания и рисунки. С Дунаев¬
ским спорить было невозможно — он был непогрешим!
Ко мне относился Дунаевский снисходительно, как к чело¬
веку, со сцены упавшему в будку.
Харьковская опера помещалась в здании Коммерческого
клуба. Небольшой концертный двухъярусный зал и сравни¬
тельно небольшая сцена — все мало напоминало солидный
оперный театр, каковым в действительности была тогда Харь¬
ковская опера. Превосходные оркестр, хор, балет и солисты,
в своем составе насчитывавшем немало знаменитых певцов, —
все это ошеломило и привело меня в восторг. Часто вместо
исполнения своих суфлерских обязанностей я, затаив дыхание,
смотрел и слушал, слушал и слушал... А слушать и смотреть
было кого! Я впервые соприкоснулся с вершинами вокальной
и сценической оперной культуры. И даже сейчас, когда про¬
шло почти полвека, эта плеяда замечательных певцов движется,
как кинофильм, перед моими глазами.
Вот Марчелла Зембрих, знаменитое колоратурное сопрано,
не особенно красивая дама среднего роста и посредственная
актриса. Голос ее, как мне казалось тогда, вмещал в себе трели
всех соловьев, слышанных мной в юности. Верхние ноты
Зембрих были беспредельны и легки, как полет ласточки. Она
пела «Севильского цирюльника» и «Лючию ди Ламмермур».
В сцене сумасшествия в последней опере она, увы, была совер¬
шенно беспомощна, но голос ее передавал в совершенстве все
то, чего не могла передать Зембрих-актриса.
Прямой противоположностью Зембрих была гибкая,. как
тростник, итальянская певица Джемма Беллинчиони, певшая
и Виолетту и Кармен. Уже из одного сопоставления этих пар¬
тий можно представить, как многогранно было дарование
этой артистки. Внешность Беллинчиони была мало привлека¬
тельна — она была очень худая, но голос певицы и лицо пере¬
давали все эмоции страсти и горя с неотразимой убедитель¬
ностью. Говорили, что она была ученицей знаменитой итальян¬
ской драматической артистки Элеоноры Дузе.
* «Regiebuch))— режиссерская книга {нем. ).
35
Этому легко можно было верить.
«Король баритонов» — такой титул был присвоен в Европе
французскому артисту Жюлю Девойод, певшему тогда в Харь¬
кове.
Уже немолодой человек, с обязательной бородой, которую
он никогда не брил, Девойод был человеком суровым и недоступ¬
ным. Голос у него был изумителен по тембру — точно звук
серебряного колокола — и свободно шел от низкого басового
фа до верхнего тенорового си-бемоль.
Актером Девойод был выдающимся — типа трагиков новой
французской школы, но горячность и нервозность увлекали
его часто на путь разных эксцессов. Сидя в своей суфлерской
будке, я слышал, как он жутко скрипел зубами, громко бра¬
нил дирижера, партнеров и хор, который просто боялся его
поддерживать в сцене смерти Валентина в опере Гуно «Фауст»:
хористы разбегались от Девойода в стороны.
Девойод умер как солдат на посту: он пел Риголетто и,
выйдя на сцену, скончался от паралича сердца на руках окру¬
живших его артистов. Это случилось в Москве....
В составе труппы был бас Антоновский. Он обладал таким
сильным звуком, что от волны его голоса в комнате гасли керо¬
синовые лампы. Когда первый раз мне пришлось слышать
Антоновского в партии Мефистофеля, я склонен был пове¬
рить этому. Звук голоса Антоновского, особенно на средних
нотах, был так мощен и интенсивен, что казалось, будто связки
певца не выдержат. Между тем самый звук был бархатистым
и вполне культурным; только диапазон голоса ограничивался
на верху ми-бемоль, а низкие ноты казались малозвучными.
Антоновский был, что называется, типичным «бассо-чентрале».
К сценическому образу он относился очень равнодушно. Краси¬
вый по внешности, он никогда не брил своих усов; исполняя,
например, в «Юдифи» Серова партию Олоферна, Антоновский
к своим черным усикам подклеивал черную бородку — и только.
Какая разница с Олоферном — Шаляпиным, этой фигурой,
которая точно отделилась от ассирийского горельефа... Но
в монологе Олоферна «Знойной мы степью идем...» Антоновский
обрушивал на слушателей такую стихию звука, что невольно
забывалась его «бородка» и вся внешность артиста — состоя¬
тельного бессарабского помещика.
Я заболел в Харькове той болезнью, которая носила назва¬
ние «вагнерианства». Здесь в первый раз в жизни я услышал
36
«Лоэнгрина» Р. Вагнера. С музыкой оперы я основательно
познакомился на корректурных репетициях оркестра, на спев¬
ках и спектаклях. Я никогда не испытывал влияния наркоза,
но думаю, что в музыке Вагнера заключается что-то наркоти¬
ческое.
Лоэнгрина пел итальянский тенор Димитреско: серебристый
звук, превосходная дикция и точное, будто на скрипке, «пиа¬
но» — все это заставило меня поверить в рыцаря Грааля. Осталь¬
ные исполнители из рядового состава Харьковской оперы были
превосходны, но особенно запечатлелась в памяти артистка
Сюннерберг в роли Ортруды. Такого исполнения не слышал
я ни у нас, ни позднее в Германии.
Еще два интересных воспоминания сохранились у меня от
Харьковской оперы. Первое — о певце Агульнике. Невысокого
роста человек, скромный и застенчивый, он прежде был канто¬
ром. Чарующего тембра ровный тенор, идущий свободно и легко
до верхнего ре-бемоль, сочетался у него с большой музыкаль¬
ностью, с абсолютным слухом. Он пел драматические и лириче¬
ские партии — голос позволял ему делать это.
И еще один певец, о котором хочется рассказать. Представьте
себе довольно плотную фигуру в черном сюртуке, пухлое лицо,
игнорирующее частое прикосновение бритвы, лицо, на котором
пара узких и смеющихся глаз наивно и хитро пронизывает вас
насквозь. Таков портрет замечательного баса Васи Гагаенко.
Если бы этому удивительному голосу, мягкому, певучему
и ровному во всех регистрах, дать культуру, а самому Васе —
минимум образования, то в лице Гагаенко оперная сцена при¬
обрела бы первоклассного вокалиста. Жизненная линия Васи
тянулась по иному направлению: съесть три тарелки борща
с салом, уничтожить за один раз полпоросенка, тарелку варени¬
ков, соленый арбуз и все это залить солидным количеством
спиртного — таков был артистический режим этого украин¬
ского «Фальстафа». Гагаенко многим напоминал мне класси¬
ческого героя Шекспировской комедии, тем более что он, как
и сэр Фальстаф, имел достаточное количество приключений
с харьковскими «виндзорскими кумушками».
Харьковский театр, как и все другие театры, закрывался
великим постом — и все разъезжались. В этом была и своя
положительная сторона: артисты не засиживались подолгу
на одном месте и не надоедали публике. Актеру также полезно
было переменить город, аудиторию и антрепренера — на новом
37
месте артист часто быстрее рос и развивался. Такие перемены
мест нередко были очень благодетельными.
Харьковской опере я был очень благодарен — здесь была
получена зарядка на всю жизнь, — но быть суфлером далее
было для меня уже нестерпимо.
В это время в Харьков приехал составлять «Оперное то¬
варищество» для Ростова-на-Дону и городов побережья
Азовского моря бывший артист императорской оперы П. Б. Бо¬
рисов.
Из Харьковской оперы Борисов выкроил весьма солидный
коллектив, в который вошли М. Е. Медведев, пользовавшийся
любовью на юге, и замечательное колоратурное сопрано Клям¬
жинская. Она обладала звонким, точно колокольчик, голосом,
при этом все регистры ее ясного голоса, что бывает редко у коло¬
ратурных сопрано, были совершенно ровными. Актрисой Клям¬
жинская была малоинтересной, но все ремарки либретто
выполняла точно и добросовестно.
М. Е. Медведев, зная меня по Саратову, рекомендовал Бори¬
сову в качестве режиссера. Борисов поговорил со мной и при¬
гласил работать у него.
Ростов-на-Дону, где наша опера подвизалась в театре Асмо¬
лова, был традиционным городом оперетки, а к оперным спек¬
таклям публика этого огромного торгового центра относилась
весьма равнодушно. В театр шли только, если на афише фами¬
лия какого-нибудь артиста была напечатана крупными бук¬
вами. В нашем коллективе только два имени могли печататься
крупным и жирным шрифтом: Клямжинская и Медведев. Фами¬
лия руководителя «товарищества» баритона Борисова, хотя
и печаталась крупными буквами, но на кассу совершенно не
влияла. Решили пригласить гастролера — баритона М. К. Мак¬
сакова, пользовавшегося тогда на юге шумным успехом.
Когда Максаков приехал и действительно поднял сборы,
удивлению моему не было границ: в блестящем баритоне я
узнал «Макса», участника вокального квартета, подвизав¬
шегося на Нижегородской ярмарке.
М. К. Максаков был не только замечательным певцом и акте¬
ром, но впоследствии и мудрым руководителем оперных пред¬
приятий. У него не было ни бухгалтеров, ни счетоводов — всю
бухгалтерию он, как заботливый хозяин, вел карандашом на
своих туго накрахмаленных манжетах рубашки — там был и
«дебет» и «кредит» и авансы труппы.
38
В Ростове-на-Дону наше дело имело солидный дефицит,
с которым и переехало в маленький, чистенький, симпатичный
Таганрог. В этом городке театральная публика состояла из
греков и итальянцев — экспортеров русского хлеба, которые
очень любили и охотно посещали оперу, но публики этой было
чрезвычайно мало.
В Таганрог мы приехали великим постом, когда по суббот¬
ним дням спектакли на русском языке запрещались, исключе¬
ние делалось только для представлений на каком-либо иностран¬
ном языке. Полицеймейстер, любивший оперу, только разводил
руками, но не мог отменить столь «мудрого» закона.
Подчиняясь этому закону, мы нашли способ обойти его.
В субботу — так красноречиво гласила афиша — будет пред¬
ставлена опера «Лючия ди Ламмермур» на итальянском
(это было напечатано крупно) языке. Клямжинская знала
свою партию по-итальянски, тенор Агульник — тоже, Борисов,
смешав несколько языков, пел партию баритона на одном из
непонятных никому итальянских диалектов. Более всего пора¬
зил нас шутник и забавник хорист Шульман, который должен
был спеть: «Лючия придет сейчас сюда». Обыкновенная опер¬
ная фраза из нескольких нот. Шульман расцветил эту фразу
форшлагами и украсил каденцией и, главное, спел ее на древ¬
нееврейском языке! Опера «Лючия ди Ламмермур» имела
в Таганроге огромный успех. Клямжинская была выдающей¬
ся Лючией.
Итальянский консул в Таганроге, угощая дирижера Барби¬
ни и меня макаронами и ароматным «кьянти», от души хохотал
над своеобразным «итальянским» спектаклем.
Но опера наша катилась по наклонной плоскости. Из Таган¬
рога на пароходе, великодушно предоставленном нам бесплатно,
труппа добралась до Мариуполя. У Борисова была надежда
на магическое имя Медведева. Но мариупольские меломаны
послушали своего любимца в «Пиковой даме», «Жидовке»
и «Гальке» (оперы, в которых Медведев был действительно
превосходен), а затем приток публики иссяк. Театр Уварова,
в котором мы играли, в прошлом большой амбар для пшеницы,
был ужасен; отвратительная была сцена, лишенная всяких
декораций, если не считать оформления для малороссийских
спектаклей; плохо было керосиновое освещение. Но самым
страшным было то, что публика предпочитала сидеть в кофей¬
ной и в театр не ходила.
39
Однажды мы узнали потрясающую новость. Борисов вместе
с руководящей частью нашей оперы накануне ночью уехал из
Мариуполя. Головы и глаза всех покинутых с немым вопросом
обратились к суфлеру Корецкому, которого все в шутку назы¬
вали юристом. Корецкий попросил три дня срока. На чет¬
вертый день, когда мы, голодные, собрались вместе, сообщил
нам истинное положение дел: Борисов уехал в Одессу, где
заключил с городским театром условие о создании на весен¬
ний сезон русской оперной труппы. Это Борисову сделать
было очень легко, так как город давал решительно все: театр,
оркестр, хор, дирижера, все постановочные средства и нот¬
ную библиотеку. Борисов должен был дать только хороший
состав артистов, что он и задумал сделать, перешагнув через
все правовые и этические нормы. Театральные крахи в про¬
шлом не были новостью, антрепризы часто лопались как
мыльные пузыри, но операция Борисова с оставленной им
труппой была слишком возмутительной. Многие из нашей
«прогоревшей» оперы разъехались, но семнадцать человек,
в том числе и я, остались в Мариуполе. У нас не было денег
не только на дорогу, но даже на еду.
— Всем ехать в Одессу! — такой наивный лозунг выбро¬
сил Корецкий. И сразу вся мудрость нашего «юриста» пошла
насмарку.
— Ехать в Одессу?! А пароход?! А питание?!.. — Все мы
подумали, что Корецкий от отчаяния помешался. Но он был
вполне нормален, как может быть нормальным дальновидный
и очень оперативный одессит.
Когда на следующее утро Корецкий распорядился, что
к вечеру мы все должны быть в порту, где пароходы грузят
уголь на Одессу, мы это беспрекословно исполнили. Здесь мы
узнали, что Корецкий разжалобил добросердечного капитана
одного угольного парохода и тот согласился, совершенно
безвозмездно доставить всех нас в Одессу. Пароход, до отказа
загруженный углем, шел прямым рейсом Мариуполь — Одес¬
са, не заходя в другие порты.
Моряки разместили нас в своих каютах, ночуя сами где
придется. Они же и кормили нас, делясь своими рационами.
До сих пор, когда я вспоминаю наше плавание, теплая волна
благодарности подкатывает к сердцу.
Встреча нашей делегации с Борисовым в Одессе была очень
примечательной: Борисов, бледный, заплетающимся языком
40
говорил что-то невнятное — он никак не ожидал появления
«призраков» из Мариуполя.
Наши требования были изложены в ясной и категориче¬
ской форме — немедленно зачислить нас на работу в театр
и заплатить то, что не было выдано в Мариуполе. В против¬
ном случае мы грозили обратиться к городским властям.
Этого было достаточно, чтобы Борисов немедленно подписал
соглашение. Мы победили!
После скучных и пыльных городов очутиться вдруг в Одес¬
се, где так прекрасны и линейно прямы улицы, где воздух
насыщен ароматом белых акаций.
Замечательное здание Одесского городского театра было
отстроено и открыто в 1887 году. С тех пор в театре ставились,
чередуясь с русской драмой, итальянские оперные спектакли.
И не было в Западной Европе ни одной знаменитой певицы
или певца, которые не пели бы в Одесском оперном театре.
На итальянской и международной театральной бирже этот
оперный театр был причислен к театрам первой кате¬
гории.
Городские власти помогали предпринимателям держать
первоклассные итальянские оперные труппы. Для этой цели
существовал замечательный постоянный оркестр, хор, кото¬
рые поступали в распоряжение антрепренера итальянской
оперы. Такими антрепренерами, в разное время, были: Сетов,
Черепенников, Лубковская, Греков. Во главе оркестра стоял
дирижер Прибик, хормейстером был Каваллини.
Одесская публика была публикой принципиально итальяно¬
фильской. К русской опере она относилась с пренебрежением.
Наконец, городское управление Одессы опомнилось —
настало время подумать и о русской опере.
Начали организовываться краткосрочные — на месяц — на
два — сезоны русской оперы, преимущественно в весенние
и летние месяцы.
Такой летний сезон русской оперы и был в 1896 году
предоставлен Товариществу артистов русской оперы под управ¬
лением артистов императорских театров М. Е. Медведева
и П. Б. Борисова.
Начались спектакли. Огромным успехом пользовались
Клямжинская, Максаков и Медведев.
Чтобы не обидеть окончательно одесситов-итальянофилов,
Борисов пригласил гастролера — итальянца Броджи. Это был
41
очень хороший певец и, что у итальянцев встречалось не часто,
артист большой сценической культуры. Броджи пел сначала
баритоном, но затем стал драматическим тенором. Он превос¬
ходно исполнял Самсона в «Самсоне и Далиле» и Рауля в «Гуге¬
нотах».
Мое «режиссерское рождение», собственно говоря, при¬
ходится считать с этого короткого, но важного в моей жизни
сезона. Совместная работа с выдающимся музыкантом и дири¬
жером Прибиком и художником тонкого вкуса и огромной
изобретательности Реджио дала точное представление о том,
каким должен быть настоящий оперный режиссер.
Короткий оперный сезон в таком чудесном театре, как
одесский, промелькнул как одно мгновение, и я не успел даже
осознать всей важности случайного пребывания в этом подлин¬
ном дворце искусства. Позднее, когда я уже чувствовал себя
в Одесском театре «своим», я мог анализировать и критически
относиться к архитектуре здания, к внутреннему его стилю,
к лепке и живописи, но тогда я буквально опьянел от этого
театра.
Технически совершенная сцена, невиданное мною богатство
освещения, яркие декорации итальянских мастеров и декора¬
ции самого Реджио, его творческая изобретательность — все
это было тогда для меня откровением. И как благодарен я
судьбе за то, что молодая фантазия моя была «крещена» в одес¬
ском театре, похожем на храм!
На будущий год у меня не было работы. Приходилось
ехать в Москву на актерскую биржу.
Великим постом и к концу лета в Москву со всех концов
России слеталось актерство, имевшее в столице два пункту,
где сосредоточивались «спрос и предложение» сцены. Первым
пунктом было «Театральное агентство E. Н. Рассохиной» в Геор¬
гиевском переулке, где заключались официальные сделки.
E. Н. Рассохина была настоящим «министром театральных
дел»; живая, энергичная, оперативная, она, обладая выдаю¬
щейся памятью, знала решительно все театры периферии,
знала всех антрепренеров и всех вообще деятелей сцены.
Сидя в Москве, она, как своеобразный начальник штаба,
получала отовсюду добровольные донесения и точно знала
■финансовое положение каждого театра, его успех или неуспех
в городе. Рассохина помогала составлять труппы и рекомен¬
довала работников сцены антрепренерам. Свои услуги она
42
ценила не дешево, но актеры охотно платили ей проценты,
зная, что если Рассохина и «сдерет», зато не зря.
Вторым неофициальным пунктом «актерской биржи» был
ресторанчик «Ливорно». Там происходили непосредственные
встречи нанимателей с актерами, где обе стороны, знакомясь
за рюмкой водки, часто обходились без посредников или реко¬
мендовали один другого.
В «Ливорно» приходили обычно актеры с весом и положе¬
нием, не желавшие пользоваться услугами агентства. В ресто¬
ранчике их все знали, и появление крупного актера вызывало
между столиками движение, которое не могло не польстить
вошедшему баловню театральной фортуны.
В «Ливорно» я встретился с тенором М. М. Резуновым,
моим сослуживцем по саратовской опере Унковского. Резунов
только что возвратился из Германии, где пел в операх Ваг¬
нера. Мне очень нравился этот артист, человек большой куль¬
туры — общей и музыкальной, — фанатический «вагнерианец»,
прививший впоследствии и мне эту любовь.
Сидя в ресторанчике за традиционными расстегаями и гра¬
финчиком водки, мы о многом говорили. Резунов, между про¬
чим, сообщил мне о курьезном повороте в жизни моего пер¬
вого наставника в опере. Н. В. Унковский был, я об этом
знал, большим оригиналом и фантазером, но на этот раз его
причуда приняла необычные формы. Унковский имел в Туль¬
ской губернии хорошее имение, которое он принес в жертву
своим фантастическим планам. Он продал имение и купил
на Волге буксирный пароход и огромную баржу, превращен¬
ную им в подобие миниатюрного театра с маленькой сценой
и с помещениями для небольших оркестра и хора. Артисты
и он сам размещались на пароходе. Эта оригинальная флоти¬
лия носила название: «Оперный плавучий театр Н. В. Унков¬
ского». Область действий оригинального театра простиралась
от Нижнего Новгорода до Рыбинска. В городах, где были
театры, опера Унковского играла на берегу, а в маленьких
городах и селах спектакли шли на пароходе. Унковский сам
командовал «флотилией»; он ввел строгую морскую дисциплину,
все совершалось по сигналам трубы. Но эта дорогостоящая
затея не оправдала себя, и Унковский «лег в дрейф» в каюте
в уютном доме своей жены...
На другой день после встречи с Резуновым, едва я вошел
в агентство Рассохиной, меня подхватил под руку ее помощ¬
43
ник В. Н. Костомаров и таинственно повел к ней в ка¬
бинет.
— Читайте! — сказала Рассохина, протянув мне теле¬
грамму. Волнуясь, прочел я точно огнем напечатанные слова:
— «Предложите оперному режиссеру Боголюбову годовое
место главного режиссера в Пермской городской театральной
дирекции. Месячный оклад 125, аванс 300. Выезд немедлен¬
ный. Городской голова Синакевич».
Через три дня, получив аванс, я радостно ехал за стариком
отцом в Казань, чтобы оттуда по Каме отплыть в Пермь.
Глава
четвертая
Пермь
Пермь, расположенная на высоком берегу над Камой, мне
сразу понравилась, но боязливое чувство закралось в созна¬
ние: как этот городок, едва насчитывающий сорок тысяч жите¬
лей, в котором мало мощеных улиц и много деревянных тро¬
туаров, как этот смелый городок решил вдруг создать опер¬
ный театр? Да еще на таких невероятных по тому времени
основаниях, когда само городское управление стало ответ¬
ственным в финансовом отношении за дорогое и нерентабельное
оперное предприятие. Было в этом что-то ненормальное для
театрального работника, привыкшего к «крахам» трупп,
к неплатежу жалования или, в лучшем случае, получению, как
это было во многих товариществах, двадцати или сорока
копеек за рубль.
Я тщательно ознакомился с совершенно новой для того
времени смелой формой организации театрального дела.
«Пермская городская театральная дирекция!» Это было новым
словом! Город, в лице дирекции, избранной из гласных город¬
ской думы, сам становился ответственным за будущие убытки.
Председателем дирекции был городской голова. Такой идеаль¬
ной была структура Пермской театральной дирекции, но этот
45
принцип легко мог оказаться скомпрометированным, если бы
у дела оказались случайные люди, а не истинные энтузиасты.
Город Пермь, бывший в прошлом городом ссыльных и лиц,
высылаемых по неблагонадежности, таил в своих нравах,
в своей общественности черты либерализма и прогрессивности.
Эта прогрессивная часть населения очень любила театр, музы¬
ку и мечтала о создании в Перми хорошей оперы. Когда в город¬
ской думе обсуждался вопрос о создании оперы, то он был
принят подавляющим большинством голосов, несмотря на про¬
тесты купцов-толстосумов.
Организация оперы, состав труппы и твердый бюджет —
все носило отпечаток строгой продуманности и рационального
подхода к делу. Главным консультантом в этом новом для
городских властей предприятии был оперный бас А. Д. Город¬
цов, бывший адвокат, очень образованный, глубоко принци¬
пиальный человек. С Городцовым я работал в Казанской
опере, и он нашел возможным рекомендовать меня сюда
на должность главного режиссера. Много содействовал делу
создания городской оперы и певец А. Я. Альтшуллер, пер¬
мяк по рождению. Натура экспансивная и достаточно авто¬
ритетная в глазах пермского общества, Альтшуллер совер¬
шенно бескорыстно агитировал всюду за городскую оперу.
С большим волнением принял я предложение городского
головы и председателя дирекции А. В. Синакевича приехать
к нему на дачу, отобедать, познакомиться и поговорить
о работе. Когда мы с милейшим А. Д. Городцовым переплывали
темно-зеленую Каму и вошли в ароматный сосновый лес
«Курьи», где пермская интеллигенция ютилась в неприхотливых
деревянных домиках, я чувствовал, как сосновый аромат пьянил
меня, сердце учащенно билось, в висках стучало... И мог ли
я предположить тогда, что четыре года своей творческой жизни
проведу в Перми и что простенькая крестьянская девушка-
пермячка, сделавшись позднее моей женой, будет верным
другом до последних дней жизни.
Городской голова принял нас весьма любезно. Он ясно
представлял себе все трудности, которые предстояли городскому
управлению при создании необычной и ответственной отрасли,
городского хозяйства — оперного театра. Такой статьи не было
еще в практике старых городских дум, привыкших смотреть
на здание городских театров, как на доходную часть городского
бюджета, наравне с лабазами, лавками и магазинами.
46
Я ознакомился с бюджетом оперного дела, в котором сразу
увидел направляющую силу, знание и точный опыт А. Д. Го¬
родцова. За обедом кроме меня и Городцова присутствовал
и личный друг городского головы, лучший пермский присяж¬
ный поверенный М. Я. Попов, самый влиятельный член буду¬
щей театральной дирекции. Впоследствии моя работа в Перм¬
ской опере была связана с ним самым непосредственным обра¬
зом. Человек огромной культуры и всестороннего образования,
М. Я. Попов после каждой моей постановки на двух листках
убористой машинописи присылал анализ режиссерской работы
и разбор исполнения.
Попов был близок в Петербурге к знаменитому композитору
и музыкальному критику А. Н. Серову. Поэтому мысли и худо¬
жественные идеи Попова, основанные на концепциях Серова,
были очень полезны и для меня и для исполнителей.
Пермский театр был оригинальным старинным зданием:
сцена почему-то помещалась на уровне второго этажа, а под
всем зданием были расположены совершенно излишние аркады
каких-то галерей. Но сам театр, с его небольшой сценой, был
очень уютен, приятен и, главное, очень любим населением
Перми.
Самым интересным в театре была его публика! Мне при¬
шлось сталкиваться с различными контингентами театральных
зрителей, но пермская была совершенно особенной. Театр —
сужу по театру оперному — был центром общественной жизни
города; новая постановка, выступление любимой певицы или
певца, чей-нибудь бенефис — все являлось злобой дня для
пермяков. На бенефисах артистов, даже не особенно ценимых,
публика не обходилась без бенефисных подношений. Склады¬
ваясь по рублям, приобретали недорогие подарки — подста¬
канники, серебряные ложки, для дам — брошки или сережки
из уральских самоцветов; сверх этого бенефициант при выходе
на сцену обязательно осыпался с галереи дождем разноцветных
билетиков, на которых было напечатано слово «виват» и имя
героя вечера.
Оперные артисты, обескураженные «крахами» дутых опер¬
ных антреприз или жалким существованием негарантиро¬
ванных оперных товариществ, охотно стремились работать
в Перми.
И Пермская городская театральная дирекция имела все
возможности составлять солидные оперные труппы.
47
За четыре года моей работы в Перми там сплотился солид¬
ный оперный коллектив. Вот те имена артистов, которые увле¬
ченно работали в этом небольшом, но безусловно прогрессив¬
ном оперном деле.
Дирижеры — Б. С. Плотников, М. М. Голинкин. Хормей¬
стер — Мстиславская. Драматические сопрано — Джюбелли¬
ни-Ряднова, Асланова, Лирические сопрано — Веселовская,
Мелодист. Колоратурные сопрано — Шор-Плотникова и Боб¬
рова-Пфейфер. Меццо-сопрано — Лидина, Ковелькова. Дра¬
матические тенора — Закржевский, Резунов. Лирические тено¬
ра — Южин, Арцимович, Илющенко и Сикачинский. Бари¬
тоны — Круглов, Шевелев, Амирджан, Образцов. Басы —
Городцов, Гагаенко, Плауктин, Гаврилов. Небольшой опер¬
ный балет руководился балериной Бианкой Джелатто. Я был
режиссером и художественным руководителем.
Художниками были Цыганковы — отец и сын, — причем
о сыне, очень талантливом юноше, говорили, что «Костя одним
движением кисти может сразу целый город нарисовать».
Мы все дорожили нашим общим делом, что сказывалось
на художественном уровне оперных спектаклей. Они были
музыкально крепкими и внешне весьма приличными. Публика
это чувствовала, и маленький театр каждый вечер был полон.
В общем ходе дела незаметно, быть может, для всех, но
ощутительно для меня, чувствовался блестящий административ¬
ный талант А. В. Синакевича, преобразившегося сразу в дирек¬
тора оперного театра. В этой роли городской голова был поло¬
жительно на месте. Ежедневно рано утром я должен был при¬
ходить к нему для получения указаний о репертуаре, о соста¬
вах спектаклей, о монтировочных нуждах, о разрешении слу¬
чайных конфликтов и т. п.
В работе я был совершенно самостоятельным. Персонально
в дело Синакевич никогда не вмешивался — то, что было
решено во время наших утренних встреч, имело силу непре¬
ложного закона для всего хода нашего оперного дела.
Весь свой опыт, знания и молодую энергию я отдавал
этому исключительному делу. Мне тогда казалось, что все
города последуют примеру Перми, и оперные театры, постав¬
ленные в нормальные условия работы, будут успешно работать
и в других городах России...
Абсолютным любимцем публики был баритон А. И. Круг¬
лов, артист и певец крупного дарования, к великому сожале¬
48
нию, злоупотреблявший алкоголем. Природа наделила Круг¬
лова всем: отличным голосом бархатного тембра, ясной дик¬
цией превосходного трагического актера и выразительным
лицом. В Круглове было что-то «мочаловское». Слушая Круг¬
лова в «Демоне», я всегда вспоминал гениальную статью
Белинского о Мочалове. Что-то родственное было у этого
безвестного оперного провинциального певца с знаменитым
трагиком, которого обессмертил в своем труде великий критик.
Этим «родственным» у Круглова был дар бессознательного
вдохновения, того неучитываемого явления, которое Белинский
определяет: «Вдохновение есть состояние духовного ясно¬
видения, кроткого, но глубокого созерцания таинства
жизни».
В речитативах «Демона» Круглов декламировал лермонтов¬
ские стихи так, как мог произносить только художник, наде¬
ленный даром «ясновидения»; вся же кантиленная сторона
«Демона» — «Не плачь, дитя» и «На воздушном океане» у Круг¬
лова звучала, будто певец, вероятнее всего бессознательно,
проникал в тайны итальянского «бель канто».
Бенефисы Круглова были общегородскими праздниками.
Чтобы обычно бедно одетый артист не простужался, ему
на одном бенефисе поднесли прекрасную шубу с бобровым
воротником. А ведь Пермь совсем не была городом богачей1
Первый год существования в Перми Городской театральной
дирекции дал прекрасные результаты; опера кончила сезон
не только без дефицита, но принесла даже небольшой доход.
Этого было достаточно, чтобы сторонники оперы в Перми тор¬
жествовали.
Великим постом театр прекратил свою деятельность до буду¬
щей осени, и пермские оперные артисты, из которых большин¬
ство было приглашено и на будущий год, разъехались.
Этой же весной в Москве произошло событие огромного для
жизни театра значения; был созван «Первый съезд сценических
деятелей». В газетах его иронически называли «актерским
парламентом)
Съезд открылся в помещении Малого театра в очень торже¬
ственной обстановке. Организатором и душой этого мероприя¬
тия была знаменитая драматическая актриса Мария Гаври¬
ловна Савина и ее муж А. Е. Молчанов, видный чиновник
дирекции императорских театров. Благодаря своему автори¬
тету в высших правительственных кругах М. Г. Савиной уда¬
49
лось получить разрешение на созыв в Москве столь необычного
съезда.
Актеры всей России, точно мотыльки на огонек, устреми¬
лись на свой съезд. Как улей с встревоженными пчелами, кипе¬
ло и волновалось это первое в истории русского театра собра¬
ние. Все горе, все страдания, все унижения актерской массы
нашли свое отражение в докладах и импровизированных речах
членов съезда.
Популярнейшими ораторами съезда были актеры Селиванов
и Басманов, говорившие о том, что актер, как и другие граж¬
дане тогдашней России, должен пользоваться одинаковыми
правами, что его труд — труд культурно-просветительный —
должен встречать со стороны государства и городских дум вни¬
мание и поддержку. Горемычным работникам провинциальных
театров казалось, что принятые съездом благодетельные резо¬
люции скоро станут реальностью. Увы, это была только вспыш¬
ка надежд, рожденная пламенными речами ораторов и быстро
погасшая под воздействием суровой российской действитель¬
ности.
Командированный на съезд Пермской городской театраль¬
ной дирекцией, я прочел доклад о первом удачном примере
ведения дел театра самим городом. Мой доклад был снабжен
цифровыми материалами и выводами, которые рекомендовали
городам, имеющим театры, всю ответственность за их деятель¬
ность возлагать на городские власти.
Мой доклад вызвал на съезде бурю энтузиазма и пробудил
у актеров много радужных надежд на изменение существовав¬
шего положения. Увы, смелое начинание Перми не нашло под¬
ражателей, и театральная жизнь в городах шла по-прежнему,
суля работникам сцены постоянную тревогу за завтрашний
день.
М. Г. Савину, эту волевую и энергичную женщину, не мог¬
ли, естественно, удовлетворить результаты съезда.
Из работ съезда она сделала свои выводы и решила объеди¬
нить актерство в Театральном обществе, которое явилось бы
организующим центром для всех сценических деятелей России.
Было рационализировано дело направления актера на рабо¬
ту — создано Московское театральное бюро. Огромными уси¬
лиями М. Г. Савиной в Петербурге был организован Дом для
престарелых артистов, на территории которого она и была,
согласно ее воле, впоследствии похоронена.
50
Детище М. Г. Савиной — Русское театральное общество
оказалось жизнеспособным. В советскую эпоху его деятель¬
ность охватывает все стороны жизни советской актерской
массы. Руководство этим обществом, после смерти М. Г. Сави¬
ной, перешло к другой замечательной русской артистке —
А. А. Яблочкиной...
Полный незабываемых впечатлений, возвратился я из шум¬
ной Москвы в тихую Пермь. Мое выступление на съезде пробу¬
дило ко мне со стороны пермской общественности совершенно
незаслуженное и стеснительное для меня внимание.
Жители Перми в то время были необычайно внимательны
к артистам: редкий день обходился без приглашений на обед,
ужин и на традиционные пермские «пельмени». Огромное
железнодорожное строительство, проходившее в Перми и во¬
круг нее, крупные предприятия привлекли в маленькую Пермь
необычное количество технической и другой интеллигенции
из Петербурга и Москвы. В Главном управлении железной
дороги работали либеральные люди, многие из которых полу¬
чили свое «образование» в тюрьмах и ссылках. Эта группа
интеллигенции внесла в сонную жизнь Перми свою особую
струю — в этом городе наряду с картами до рассвета, зва¬
ными обедами и торжественными вечерами, неизбежными
провинциальными сплетнями существовали и так называемые
«кружки».
Это было оригинальной особенностью тех четырех лет, кото¬
рые провел я в Перми. Представьте себе гостеприимный —
а их было много — пермский дом или квартиру, где собира¬
лись, в порядке «гостевой» очереди, приглашенные. В одной
комнате резались в карты, в другой дамы пили чай с огромным
ассортиментом варений и «шаньг» (вкусные пермские ватрушки)
и грызли обязательные каленые кедровые орешки, в третьей —
небольшая группа составляла тот самый «кружок», о котором
я только что упоминал. В каждом «кружке» кто-нибудь читал
короткие рефераты, которые потом обсуждались. Многие, в том
числе и я, очень увлекались работой одного такого кружка,
называемого философским. На собраниях этого кружка мы
с увлечением беседовали о Гегеле, Канте и Шеллинге.
Я очень привязался также к кружку греческой философий,
которым руководил Д. А. Успенский. Он обладал феноме¬
нальной памятью и даром красноречия, простого и доходчивого.
Благодаря ему имена греческих философов стали мне ближе,
51
понятнее и, главное, человечнее, чем раньше, во время моих
занятий в семинарии.
Кружки политической экономии и философии материализма
существовали в Мотовилихе, железнодорожной станции под
Пермью, но я очень жалею, что не мог их посещать — возвра¬
щаться в Пермь после двух часов ночи мне было очень трудно.
Подходил к концу четвертый оперный сезон. Публике опе¬
ра не только не надоела, но, наоборот, сделалась необходимым
элементом культурной жизни города. Большим огорчением для
пермяков был уход Круглова в Московскую оперу. Прощание
с артистом было трогательным. Цветы, подарки и другие акты
внимания, на которые были способны сентиментальные пермя¬
ки, — все было налицо в этот прощальный вечер. Любимым
романсом Круглова, исполняемым им обычно на всех концер¬
тах, был известный романс Пасхалова: «Под душистою веткой
сирени». И вот изобретательная творческая фантазия поклон¬
ниц артиста придумала следующее: титульный лист романса
был награвирован на серебряной доске бювара, а в уголке
была врезана ветка сирени, художественно сделанная из ураль¬
ских самоцветов. Стебель ветки был золотой, листья — из зеле¬
ных хризолитов, а сам цветок пышной сирени был замеча¬
тельно скомпонован из прекрасных аметистов.
Мне пришлось самому подносить Круглову этот художе¬
ственный подарок, и я видел, какими слезами артист оросил
эту «ветку сирени», а вместе с ней, возможно, и свою близкую
трагическую судьбу. Алкоголь так и не выпустил из рук своей
жертвы.
Заменить Круглова в Перми было трудно, но замена была
крайне необходима. Дирекция пригласила сразу двух барито¬
нов: Н. А. Шевелева и Б. Б. Амирджана. У Шевелева был
редкой красоты голос, от природы поставленный, и изуми¬
тельное дыхание; о певце говорили, что сам бог был его про¬
фессором пения. Другим новым баритоном для Перми был
драматический баритон, армянин Амирджан. У него, как
говорят, был замечательный голос, но поездка в Италию, где
он думал сделать европейскую карьеру, и занятия с итальян¬
скими мастерами пения испортили голос певца. Центральные
ноты у Амирджана были прекрасны, но верхи стали, увы,
узкими и задавленными. Амирджан был очень хорош в «диких»
ролях: Амонасро в «Аиде», Неллюско в «Африканке». Это
именно с Амирджаном произошел классический диалог поста¬
52
новщика «Евгения Онегина», когда Амирджан назначен был
петь заглавную партию.
— Кто такой был Гименей? — задал постановщик вопрос
Амирджану.
— «Какие розы нам заготовит Гименей»... напел Амирд¬
жан и тотчас безапелляционно разъяснил: — «Садовник у Лари¬
ных».
Все внимание публики было сосредоточено на молодом
лирическом баритоне Л. М. Образцове, ученике знаменитого
профессора пения Эверарди. Небольшой, но мягкий звук,
совершенно ровный во всех регистрах, прекрасное дыхание
и большая сценическая культура — все это сделало Образцова
неизменным любимцем пермской публики, особенно в партии
Онегина.
Яркой «звездой» последних двух сезонов в Перми стала
У. Э. Боброва-Пфейфер, колоратурное сопрано. Она была
очень красива и женственна и обладала голосом изумительной
теплоты. Техника ее колоратуры была «соловьиная»: она как
бы родилась вместе с нею. Трель, стаккато, покоряющее соревно¬
вание с флейтой, когда звук голоса певицы нельзя было отли¬
чить от звука инструмента, все было у этой достойной ученицы
прославленного Эверарди. Но великий учитель не мог дать ей
одного — сценического тепла. По происхождению немка, певи¬
ца на сцене во всем была «снегурочкой». Ее замечательный
голос, совершенно бессознательно для нее, выражал разнооб¬
разные душевные эмоции, а внешне актриса была холодна.
На сцене Боброва все делала точно и аккуратно, но это было
холодным и формальным искусством.
Единственная партия, в которой Боброва была безукориз¬
ненна — это Офелия в опере «Гамлет» А. Тома. Артистка была
как бы рождена для воплощения оперного варианта великого
шекспировского образа. Весь стиль исполнения артисткой
этой роли — пение, жест, необыкновенная женственность
и красота — все это позволяло думать, особенно в сцене сума¬
сшествия, что именно такой могла быть Офелия Шекспира.
Очень хорошим Гамлетом был Образцов. Его стройная
фигура, слегка усталый, матовый голос и общая культура
(мы с ним читали Гервинуса) * — все это помогло вдумчивому
* Георг Гервинус (1805—1871) — известный немецкий исследова¬
тель творчества Шекспира.
53
актеру создать, несмотря на банальную порой музыку А. Тома,
интересный образ.
С конца декабря в Пермской опере начиналась обыкновенно
серия бенефисов любимых артистов. На 30 декабря в бенефис
Бобровой был назначен «Гамлет».
Богатый уральский золотопромышленник, миллионер По¬
клевский-Козелл, был без ума от Бобровой. В бенефис Боброва
утопала в цветах и подарках. Ее поклонник поднес ей в розо¬
вой яшмовой шкатулке самородок золота.
На другой день после бенефиса уральский крез, сняв
у дирекции театр, устроил для всей труппы новогоднюю елку.
Все работники театра были приглашены с семьями. Оформле¬
ние этого праздника было поручено художнику Цыганцову,
который придал театру фантастический вид. Партер театра
был выровнен со сценой. На сцене, где помещался духовой
оркестр, стояла огромная елка, осыпанная электрическими
лампионами; в каждой ложе стояли столики и маленькие елоч¬
ки. Вся прислуга, сервировка была присланы из имения По¬
клевского. Ужин, закуски и вина были равноценными всему
оригинальному стилю этого необычного праздника. В катаком¬
бах театра были установлены американские электрические
переносные плитки для разогревания кушаний.
Для артистов и городской дирекции был сервирован стол
в фойе.
Сама Боброва, очень скромно одетая и безмерно смущенная
праздником, королевой которого была она, чувствовала себя,
видимо, не в своей тарелке и оживилась только тогда, когда
ей пришлось, по общему желанию, исполнить «Соловья» Алябь¬
ева с оригинальными каденциями и трелями Эверарди. Такого
соловьиного пения я уже никогда не слышал более в своей
жизни!
Во все время своей работы в Перми я был совершенно
свободен с весны и до начала следующего сезона. Я получал
круглый год определенное денежное содержание, чего не имел
никто из театральных работников других городов старой про¬
винциальной России. Мое существование казалось мне фанта¬
стическим сном, от которого было страшно проснуться.
Молодая энергия и подвижной темперамент — все требо¬
вало применения неиспользованных сил. С огромным увлече¬
нием, не связанный повседневной работой в театре, я стал
одним из ревностнейших участников кружков, собрания кото¬
54
рых к тому времени стали еще интереснее и много¬
люднее.
А. В. Успенский увлекательно читал «Илиаду» Гомера,
филолог Левин, уже не молодой человек, возвратившийся
недавно из Франции, делал талантливые доклады о француз¬
ской литературе XIX века.
Эти кружки в тихой Перми были каким-то необычным
явлением: точно в темную комнату, всю пропахшую цветком
герани и нафталином, проникал через открытую форточку
яркий и горячий луч солнца!
Городская библиотека в Перми тогда была очень богатой:
она, говорят, была основана каким-то видным масоном, вы¬
сланным из столицы в Пермь «на покой». Всю жажду знания,
разбуженную во мне влиянием кружков, все неразрешенные
вопросы пытливого недоучки я удовлетворял тогда в библиотеке.
Но этого было мало — не хватало живой деятельности,
к которой я так привык в театре. При Пермском сиротском
доме был организован довольно большой духовой оркестр
из подростков, и я получил приглашение участвовать в его
работе. Это меня очень заинтересовало и увлекло. Для плано¬
мерной педагогической работы с ребятами у меня, пожалуй,
недоставало знаний, но за дирижерскую палочку я ухва¬
тился охотно. И вот, два раза в неделю я выступал в качестве
дирижера то в губернаторском саду, то в Верхнем парке,
а иногда мы с оркестром ездили в рабочий центр — Мотови¬
лиху. Публике наша музыка очень нравилась. Здесь я на мно¬
го лет был заражен преступной страстью всех дилетантов:
влечением к дирижерской палочке.
Последний год существования городской оперы в Перми
проходил под знаком спада. Публика по-прежнему любила
и посещала театр, но городской голова, видимо, уставший
от театральных забот, сложил с себя обязанности председа¬
теля дирекции. Это было плохо, потому что он был человеком
твердой воли и большого практического ума, а мне, ведшему
все оперное дело, без твердой поддержки было тяжело. Кроме
этого, что было особенно грустно, прекрасная инициатива
Перми нигде не нашла подражателей. Всюду в провинции
театральное дело по-прежнему было в состоянии хаоса и спе¬
кулятивных махинаций.
Здесь у меня окончательно созрела мысль о поездке в Ита¬
лию, томившая меня давно. Мне хотелось коснуться вершины
55
оперного искусства в Европе, а кроме того я сознавал, что
предоставленный сам себе, варясь в собственном соку, я не
расту, а стою на месте. Эго тяготило, крайне тяготило.
Дирекция оперы и публика, которая в Перми вообще инте¬
ресовалась жизнью артистов, узнав о моем намерении, оказали
мне трогательную поддержку. В бенефис, который бывал
у меня обычно в конце сезона, я получил от публики зеленую
яшмовую шкатулочку, в которую было вложено 300 рублей
золотыми монетами, а сверх того дирекция отчислила такую
же сумму в мою пользу со сбора бенефисного спектакля.
Написав заявление в канцелярию губернатора, я через два
дня получил заграничный паспорт. Когда я положил его
в свой внутренний боковой карман, мне казалось, что на серд¬
це у меня лежит и греет его сладким теплом кусок горячего
металла!
Тенор М. М. Резунов, хорошо знавший Европу, дал мне
точные указания, куда надо ехать. По его словам, Вена и Ми¬
лан были теми точками, где оперное искусство в это время
стояло особенно высоко. В венской опере царил гениальный
дирижер Густав Малер, а в Милане — Артуро Тосканини.
Эти великие художники были абсолютными распорядителями
жизни своих театров: музыкальная, художественная, режис¬
серская и репертуарная часть — все было в их власти и все
подчинялось им.
Резунов дал мне письмо в Вену к русскому немцу Рит¬
теру, проходившему курс усовершенствования при Венской
консерватории.
Взволнованный и напуганный необычной перспективой, я
с борта парохода с теплым чувством благодарности смотрел
на удаляющуюся Пермь, с которой у меня было связано так
много хорошего.
Глава пятая
Поездка за
границу. Вена.
Венеция.
Милан.
Москва.
Бюро Русского
Театрального
Общества
Итак, началось мое заграничное путешествие. С огромным
волнением я покинул ставшую для меня родной Пермь. Когда
на границе я пересел в австрийский поезд, я почувствовал
себя человеком, брошенным в воду. Но через несколько часов
мне уже было легче. Я реально ощущал, что моя давняя мечта
сбылась и я еду в Европу.
Я думал писать путевые записки, но впечатлений было так
много, они так часто менялись и были так грандиозны, что я
не мог фиксировать их, если бы даже попробовал сделать это.
Мне оставалось переживать виденное и слышанное и упиваться
необычными ощущениями новизны.
И вот, наконец, Вена.
Город произвел на меня огромное впечатление: красавец
Дунай с гранитными берегами, грандиозный собор Стефана,
прекрасное здание Оперного театра и драматический Бург¬
театр, по своей архитектуре — родной брат Одесского опер¬
ного театра. С восточной стороны Вену опоясывал знаменитый
лес, а к югу возвышалась величественная цепь альпийского
Земеринга. Отсюда шел путь в благословенную и давно
заочно любимую мной Италию!
57
Письмо, данное мне в Перми артистом Резуновым к его
венскому знакомому, имело благодетельные для меня послед¬
ствия. Пианист Риттер, которому оно было адресовано, ока¬
зался очень радушным человеком. Это был молодой человек
высокого роста, рыжеватый, с добрыми улыбающимися гла¬
зами. Он принял меня очень приветливо и, улыбаясь, сказал,
что уже два года не говорил по-русски.
Консерватория прикомандировала Риттера к известному
тогда музыкальному критику Ганслику для чтения на рояле
партитур русской музыки — симфоний и опер. Это у Риттера,
воспитанника русской консерватории, получалось настолько
хорошо, что ворчливый критик очень ценил своего «чтеца».
Близость к Ганслику давала Риттеру много практических
преимуществ: он работал в соборе Стефана помощником орга¬
ниста и в опере занимал должность музыкального помощника
режиссера. Функции Риттера были такие: в спектаклях «Фауст»
и «Лоэнгрин» он играл на органе, в «Тоске», согласно клавиру,
звонил в колокола, следил за нарастанием огня в «Валькирии»,
руководил артикуляцией рта дракона в «Зигфриде» и так
далее. Все это давало возможность Риттеру безбедно существо¬
вать в Вене.
По рекомендации Риттера я устроился в недорогой и очень
симпатичной гостинице с романтической вывеской «У золотого
барана», недалеко от Карлскирхе. Каждый день я проводил
с пользой, следуя указаниям своего нового друга, столь счаст¬
ливо посланного мне судьбой.
«Сегодня, — однажды сказал мне Риттер, — вы увидите ди¬
рижера, которые рождаются, может быть, раз в столетие.
Этот дирижер — Густав Малер. Смотрите и слушайте. Я убеж¬
ден, что этого ощущения совершенства дирижерского искус¬
ства вы второй раз в жизни не испытаете».
Можно вообразить, что я чувствовал после такого напут¬
ствия, входя в прекрасное, строгое здание венской оперы.
Давали «Валькирию». Я купил себе место в первом ряду, что¬
бы быть ближе к дирижеру.
Оркестр оперы сидел не глубоко, не более полуметра глуб¬
же пола партера. В оркестре было 112 человек, они были пре¬
красно одеты и к своим местам проходили чинно и спокойно,
словно на параде, с настроенными уже инструментами. Только
четыре арфистки в белых платьях, легко касаясь струн, про¬
веряли точность настройки инструментов. Часы над порталом
58
сцены показывали ровно семь часов двадцать пять минут,
когда зал был уже полон и оркестранты тихо сидели на своих
местах. Ровно без двух минут половина восьмого вошел
Густав Малер. Невысокого роста человек, в очках, с черными
откинутыми назад волосами, с бледным, утомленным, вырази¬
тельным лицом, Малер произвел на меня впечатление проте¬
стантского проповедника.
Ничего пышного, ничего торжественного не было во внеш¬
ности этого законодателя дирижерского искусства.
Не обращая внимания на аплодисменты зала, на тихо под¬
нявшийся и так же тихо опустившийся оркестр, Малер низко
склонил свою голову, словно он шел на испытание, подошел
к дирижерскому месту. И музыкальное священнодействие, я не
могу подобрать другого слова, началось.
Как я был счастлив, что так близко, почти рядом, сидел
от Малера и от этого замечательного оркестра.
Малера я буквально пожирал глазами, совершенно не за
мечая того, что очень было важно для моего режиссерско¬
го внимания — художественности постановки, исключительно
прекрасному освещению и четкости мизансцен, — все для меня
затмил Малер! У него не было красивых дирижерских жестов;
движения рук у Малера, сказал бы я, казались эмоционально
непроизвольными, но они так ясно подчеркивали и выражали
сущность каждого музыкального момента, что я понимал одно:
гениальная музыка нашла столь же гениального интерпрета¬
тора. Не смотря в партитуру, Малер жил вместе с певцами, он
дышал их дыханием, губы его неслышно произносили те же
слова, а левая рука, совершенно непроизвольно подчеркивала
патетику того жеста, который певец должен был в данную
минуту сделать. Дирижер творил!
То же самое влияние Малер имел и на оркестр, который
в руках его был мягким воском. Дирижер, не в результате, как
мне казалось, кропотливой репетиционной работы, а исключи¬
тельно своей яркой творческой индивидуальностью создавал
из оркестрантов в процессе дирижирования музыкальную
силу, которая равнялась силе рока в греческой трагедии. Мне
-было понятно, отчего в антрактах музыканты платками выти¬
рали свои раскрасневшиеся лица.
Еще два волшебных, два незабываемых вечера провел я
в Венской опере под обаятельным творчеством Малера. Первый
вечер я слушал «Фиделио» Бетховена. Эта опера показалась
59
мне утомительной и малосценичной, хотя, конечно, музыка
говорила сама за себя. Малер, этот, по словам Риттера, страст¬
ный «бетховинеанец», тут просто священнодействовал.
Вторым и, увы, последним спектаклем был «Тангейзер»,
опера, которую я хорошо знал и сам ставил. Здесь было все
ясно и все знакомо. И опять, не обращая внимания на всю пре¬
лесть постановки, я был во власти чародея Малера.
Увертюра и все симфонические места оперы казались мне
огромной глыбой мрамора, на которой вдохновенный скульп¬
тор своим резцом вызывал к жизни формы высокой красоты
и неоспоримой правды. «Тангейзера» пел тенор Винкельман,
любимец венцев. Остатки прекрасного некогда голоса, опыт¬
ность, апломб актера, чувствующего себя на сцене, как рыба
в море, и никакого сценического художественного образа.
Как и в «Валькирии», изумителен был Рейхман в партии Воль¬
фрама. Благородная фигура, чудесный голос, ясная дикция —
все делало из Рейхмана по музыкальному и сценическому
исполнению фигуру, равноценную творцу спектакля, — вдохно¬
венному дирижеру Густаву Малеру.
На эти спектакли Риттер не позволил мне тратить деньги.
И устроил меня бесплатно в боковой ложе для ассистентов-
дирижеров; три молодых человека сидели с клавираусцугами
в руках, отмечая в них все темпы, все нюансы Малера. Иногда
только мне слышался их тихий шепот: «вундербар»! «вундер¬
шен»!
Я разделял их восхищение.
На следующий после «Тангейзера» день я должен был уез¬
жать в Италию...
Италия! В этом слове было так много музыки и солнца,
что я невольно закрыл глаза, чтобы, наедине с самим собой,
острее пережить сладкое и волнующее чувство.
Грязный вагон, отвратительный запах сигар, напоминавший
запах горькой резины, — все мне казалось приятным и сладким.
Над всем этим доминировал образ никогда не виданной, но
такой близкой и такой необходимой мне Италии.
Моей конечной целью был Милан — центр итальянского
оперного искусства, но по дороге была Венеция. И как я мог
миновать этот город, к которому в своих мечтах стремились
все поэтические души нашего столетия. Не напрасно великий
композитор и человек огромного творческого пафоса Рихард
Вагнер приехал умирать в Венецию.
60
Гордон Крэг, выдающийся режиссер-экспериментатор,
писал: «Режиссер, не живописец в душе, также бесполезен для
театра, как палач для больницы».
Я всю жизнь безнадежно любил живопись, не умея рисовать.
Я приходил и прихожу в священный трепет от шедевров живо¬
писного искусства. «Живопись в Италии» Стендаля и «Возро¬
ждение» Бурхгарда были моими постоянными спутниками
в эстетическом развитии. Как же я мог миновать Венецию,
где творили Джорджоне, Тициан и Веронезе? И мне удалось
выполнить мое желание.
Странное чувство испытываешь, приезжая в Венецию, ког¬
да у ступенек вокзала садишься не на извозчика, не в авто¬
мобиль, а в узкую и длинную черную гондолу. Город произво¬
дит впечатление, будто он захвачен наводнением, которое
завладело им навеки. Везде и всюду вода. Не проспекты, не ули¬
цы, а только каналы. В городе жуткая тишина и только горло¬
вые крики гондольеров оживляют эту мертвую тишь. Я испу¬
гался Венеции!
Остановившись в одном из отелей, я еле пришел в себя
от панического настроения, овладевшего мною. Влажно и сыро
было всюду — на лестнице отеля, на скатертях и салфетках
буфета, на простыне и подушках постели.
Утром, когда я вышел на площадь святого Марка, распо¬
ложенную в центре города, я увидел ту Венецию, которая жила
в моем воображении, — Венецию поэтов, художников, музы¬
кантов. И первое, что меня обрадовало, — это большой кусок
твердой земли под ногами. На площади жила и двигалась
нарядная толпа людей; тучи жирных сизых голубей летали над
толпой и ходили совершенно свободно и независимо по плитам
площади. Мальчики, продававшие зерна пшеницы и овса, сбы¬
вали свой товар публике, которая, забавляясь, кормила
голубей. Птицы, ничего не боясь, садились на плечи, на голову
своих «кормильцев», клевали зерна прямо из протянутых ладо¬
ней. Голубей никто не трогал и не уничтожал — это было
неписаным законом города святого Марка — патрона Венеции.
Десятки подозрительного вида людей крутились в толпе.
Это были чичероне, то есть проводники по городу, жадно высма¬
тривающие себе добычу среди иностранцев. Оттого ли, что
моя небольшая фигура и скромность одежды не привлекали
внимания, никто из чичероне не удостоил меня пи словом.
Я сел за столик кафе, чтобы позавтракать. В эту минуту ко мне
61
подошел высокого роста старик в плаще, с воротником из ко¬
шачьего меха, в берете и с большими усами. Сначала по-немец¬
ки, а затем по-французски этот старик, сразу понравившийся
мне, предложил мне познакомиться с Венецией.
Когда я ответил ему по-итальянски, он покровительственна
сказал мне «браво»! и почему-то, сняв свой берет, сделал мне
оперный поклон. Я пригласил его к столику. Старик охотно
согласился. Мы познакомились. Синьор Эмилио, так его звали,
был старым художником. Сейчас он уже не рисует и сам служит
моделью для художников. Когда в театре «Фениче» идут опер¬
ные спектакли, он играет на контрабасе. Поздними вечерами
он участвует в «плавучих серенадах» на канале Гранде.
— Что поделаешь? Надо работать! У меня два сына и четы¬
ре внука. Сыновья работают на мозаичной фабрике, но плата,
увы, не велика. И вот, — грустно сказал он, — свободное время
посвящаю «собачьему» ремеслу чичероне. И бываю рад, когда
мои клиенты интересуются настоящим искусством.
Он записал, что интересует меня в Венеции, записал мой
отель и мою фамилию, своеобразно ее трансформировав:
Пакалюги вместо Боголюбов.
На утро Эмилио, придя ко мне, предложил свой трехднев¬
ный план: обзор живописи старых мастеров, посещение выстав¬
ки новой живописи и, наконец, осмотр архитектуры Венеции.
Сначала Эмилио показал мне в «Академии изящных искусств»
произведения Джорджоне, который первый из старых италь¬
янских мастеров раскрепостил живопись от оков мифологии
и уделил в своих картинах большое место пейзажу. Затем
Эмилио, оказавшийся человеком большой культуры, позна¬
комил меня с творчеством Тициана, обратившим глубокое вни¬
мание на внутренний мир человека.
Когда мой маэстро чувствовал, что некоторые технические
итальянские слова мне не ясны, он заменял их французскими.
Но это было напрасно; я хорошо понимал его интуитивно —
его мимика, его жест старого художника, музыка слов были
очень выразительны.
Последним он показал мне Тинторетто, в картинах которого
разнообразная венецианская толпа жила своей самобытной
жизнью.
— На творениях этих мастеров, дорогой Пакалюги, я учил¬
ся. Мы знали цену цвету и знали цену натуре, а теперь худож¬
ники разводят яркие краски и заливают ими холсты.
62
В последний день перед моим отъездом я осматривал с Эми¬
лио город: палаццо Дожей, собор святого Марка — все, с чем
я уже давно сроднился по картинам, фотографиям, по иллю¬
страциям в книгах.
И, странное дело, образ Венеции, сложившийся в моем
представлении, был интереснее ее подлинного вида.
Вечером, когда стемнело, на канале Гранде появилась
большая плоскодонная барка с цветными фонариками. В бар¬
ке была группа певцов и музыкантов и среди них Эмилио со сво¬
им контрабасом.
Это и была «плавучая серенада». Под аккомпанемент этого
своеобразного оркестра, — несколько скрипок, гитар, труба,
валторна, флейта, кларнет и шел концерт. Чудесные, свежие,
от природы поставленные голоса певцов изумительно звучали
над тихой водой канала. Пели популярные неаполитанские
песенки, арии из опер и даже ансамбль из «Лючии ди Ламмер¬
мур». К своему удивлению, в лучшем теноре «серенады» я сразу
узнал швейцара нашего отеля. Для него это был подсобный
заработок! В барку, окруженную гондолами с гуляющими,
бросали деньги. Бросали их также из окон домов и с балконов.
Не думаю, чтобы сбор был обильный. У меня в кармане было
очень много медной монеты, сдачи от покупок, и я кинул их в
барку.
— Смотри! смотри! Золото! — раздался на барке чей-то
насмешливый голос, и мне стало стыдно за мою невольную
скупость. «Серенада» повернулась и поплыла дальше. И долго,
очень долго звучали в прозрачном и тихом воздухе венециан¬
ской ночи прекрасная мелодия и слова рефрена канцонетты,
последней канцонетты.
Я уехал в Милан. Сидя в грязном вагоне поезда, где от дыма
отвратительных итальянских сигар трудно было дышать, где
ноги, точно по ковру, скользили по кожуре апельсинов, поеда¬
емых в неимоверном количестве, я думал, что попал в окру¬
жение бандитов — так все громко кричали на разных диалек¬
тах, так быстро и своеобразно жестикулировали.
Странное чувство испытал я, приближаясь к Милану, — я не
имел ни малейшего представления о его внешнем виде.
Венецию до малейших деталей я хорошо изучил еще в
Перми, а Милан?.. И только, пожалуй, мой дорогой
Стендаль, трогательно любивший этот город, сближал меня
с Миланом.
63
Шумный, людный и оживленный Милан трудно сравнить
о каким-либо другим городом. Это, пожалуй, маленький Петер¬
бург, но без красавицы Невы, без каналов, дворцов и без чудес¬
ных созданий русского ампира. Вместо прямолинейных улиц
города Петра в Милане вас встречают капризно извилистые
и кривые улицы. Но когда останавливаешься около феноме¬
нального здания Миланского собора, то все сравнения, все
критические замечания в адрес города утихают.
Гигантская мраморная гора, вся белая и кружевная, с мас¬
сой статуй, барельефов и горельефов, словно гигантская волна
океана стремится к небу. Человек, стоящий около собора,
кажется пигмеем. Да и все постройки, большие дома и мага¬
зины, оскорбительно близко окружающие собор, кажутся
жалкими постройками.
Когда монах-проводник заботливо довел меня до самой
высшей точки собора, то я почувствовал себя совершенно неве¬
сомым существом. Внизу — мелкий и суетливый муравейник
большого города, а вокруг голубое безграничное пространство
ласкового итальянского неба, окрестности, дороги, синеющее
вдали озера.
В пансион Равицца, где мной была снята комната, я возвра¬
тился почти к самому обеду. В пансионах до этого я никогда
не живал и долго не мог свыкнуться с «монастырским», так ска¬
зать, укладом жизни. Квартирантов было человек пятнадцать;
все они принадлежали к разным национальностям. В то время
в Милан приезжало много иностранцев в надежде овладеть
секретами итальянского оперного пения.
Всем парадом командовала синьора Равицца на правах
полновластной хозяйки. Деньги за пансион она взимала за ме¬
сяц вперед. Синьора Равицца, седая и бодрая женщина, была
блестящим администратором своего пансиона. Арендуя целый
этаж большого многоэтажного дома, она образцово вела свое
хозяйство и была в своем «интернационале» неограниченной ко¬
ролевой.
Вся разноплеменная публика собиралась в полном составе
за обедом. За длинным столом усаживались в строгой расовой
дифференциации: американцы и англичане сидели во главе сто¬
ла, рядом с «падроне» (хозяином), красавец негр, обладатель
редкого драматического тенора, был помещен далеко от англо¬
саксонской публики, рядом с ним сидел японец и мы, двое
русских.
64
Председательствовал за обедом супруг синьоры Равиццы.
В прошлом, видимо, очень красивый человек, он был довольно
стар, сильно накрашен и безукоризненно одет. Производил он
впечатление весьма внушительное. К концу обеда «падроне»,
большой поклонник красного вина, обыкновенно засыпал в сво¬
ем мягком и удобном кресле. Тогда все тихо расходились.
На утро мой сосед Хренов, певец из Томска, попросил
меня пойти с ним к его профессору пения Барбачини, уроками
которого Хренов не был доволен.
— Я чувствую, что он загоняет мой звук в затылок. После
десяти уроков я стал реветь, как медведь, и пропали верхи, —
сказал он.
Хренов не знал ни одного слова по-итальянски, а карман¬
ная книжка «Русский в Италии», которую сибиряк постоянно
носил при себе, мало помогала.
Когда мы пришли к маэстро, то старик сначала обрадовал¬
ся, но, услышав мое разъяснение о нежелании Хренова продол¬
жать уроки, поднялся от рояля и, приняв мнимо равнодушный
вид, изрек: «Платите!» Хренов, приготовивший заранее 60 лир,
вручил их маэстро; с ранее данным авансом в 40 лир гонорар
маэстро равнялся ста лирам. Взбешенный Барбачини бросил
деньги на пол. Я боязливо отступил к двери и моим глазам
представилось такое зрелище. Хладнокровный сибиряк подо¬
брал с паркета лиры и готовился спокойно положить их себе
в карман, но пламенный итальянец не мог этого допустить.
Одним прыжком маэстро очутился около Хренова, вырвал
у него обратно 60 лир и жестом полного презрения указал нам
на дверь.
Не знаю, как теперь, но тогда в Милане профессоров пения
было множество. Преподавали оперные артисты, певцы опер¬
ного театра «Ла Скала» и театра «Лирико», пианисты-концерт¬
мейстеры, дирижеры, суфлеры, врачи по горловым болезням
и шефы «клаки» — «негодяи в желтых перчатках», — так в теат¬
ральном мире именовали лиц этой необходимой в итальянских
оперных театрах профессии. И учащихся хватало всем; целый
мир посылал в Милан — в эту «вокальную Мекку» — стремя¬
щихся научиться петь. И, странное дело, часто совершенно без¬
вестные педагоги выпускали замечательных певцов. В Италии
искусство пения, техника подачи звука и развитое певческое
дыхание являлись как бы неотъемлемым аттрибутом каждого
итальянца. Например, кто мог научить полотера в пансионе
65
Равицца во время натирки полов так дивно исполнять мелодии
Доницетти, Пуччини и Денца? И ведь как он пел! Имея прекрас¬
ный слух, этот плутоватый мужик распоряжался своим дыха¬
нием, звуком, форте и пиано с таким же мастерством, с каким
он умел доводить до положенного блеска паркет синьоры Ра¬
вицца. Был ли у него настоящий голос, решить было трудно,
но он знал, как надо петь, чтобы доставить удовольствие дру¬
гим. И это все было бессознательно — так поют птицы!
Хренов очень давно собирался пойти в «Галерею», на биржу
певческих сил всего мира, но, очевидно, не очень доверяя путе¬
водителю «Русский в Италии», находившемуся постоянно в его
кармане, решил привлечь меня к этому делу. Я тоже был заин¬
тересован в этом посещении — и мы пошли.
Огромный, светлый пассаж с верхним светом и чудесным
мозаичным полом был весьма комфортабелен и приятен. Всюду
в арках были расположены кафе и кондитерские, переполнен¬
ные публикой, весьма нарядно, словно напоказ, одетой, гово¬
рившей громко и необыкновенно жестикулировавшей, точно
на одно слово приходилось четыре жеста.
«Это артисты», подумал я, и не ошибся. Все столики, ска¬
мейки были заняты оперными деятелями, а более эконом¬
ные или неимущие ходили по «Галерее» из одного конца в
другой.
Мальчишки орали во все горло, продавая газеты. Мы подош¬
ли к столику, за которым сидел бледный человек восточного
типа и пил свой кофе. Он мне показался художником или музы¬
кантом. Едва мы с Хреновым успели сказать несколько слов,
как наш сосед по столу взволнованно встал и, сняв шляпу,
заговорил с явно армянским акцентом:
— Русские! Как я рад! Ведь я целых пять лет не встречал
русских! — и слезы волнения заблестели в его миндалевид¬
ных глазах. Он тронул нас и понравился нам своей непосредст¬
венностью. За макаронами и литровой бутылкой «Кьянти»* мы
разговорились по душам, как это часто бывает у русских.
Его звали Арам Киракоз, он был армянским учителем
на Кавказе. По политическим мотивам ему пришлось бежать
из Батума.
— И вот, — рассказывал Киракоз, — пять лет я без родины.
Я сходил с ума, не находил себе места, и кончил тем, что ровно
* Кьянти — сорт итальянского вина.
66
год пробыл в психиатрической больнице, куда меня устроили
мои друзья. А там, в Эчмиадзине, жена и сын... Вы пони¬
маете?! Сейчас я ловлю каждое русское слово на улице, в ре¬
сторане, читаю обрывки русских газет — это моя радость,
мой праздник! С русским представительством в Милане я, увы,
не имею ничего общего: я эмигрант и сотрудник революцион¬
ной газеты «Аванти»...
В Хренове, сыне богатого сибирского купца, печальная
повесть Киракоза не нашла должного сочувствия. Уплатив
за все, он достал свой магический путеводитель «Русский в Ита¬
лии» и отправился за покупками. Я был рад этому; сытое спо¬
койствие Хренова парализовало мою впечатлительность и воз¬
двигало перегородку между мной и Киракозом. А он был мне
очень симпатичен.
— Теперь, — продолжал Киракоз, — я работаю хроникером
в «Аванти» и в двух театральных газетах. В этих театральных
газетах каждый певец, в зависимости от платы, может написать
о себе,, что угодно: об огромном успехе, об овациях, поместить
свой портрет и, понятно, указать свой адрес.
Итальянские артисты, с одной стороны, очень скупы и рас¬
четливы, но на рекламу и на «клаку» они готовы истратить
последний грош.
Посмотрите на этот народ, — Киракоз указал мне на наряд¬
ную и весело двигавшуюся по «Галерее» толпу, — это все певцы
и певицы, ожидающие ангажементов и контрактов. Два мощ¬
ных агентства дают контракты достойным и пока безвестным
певцам. Эти агентства — страшная сила: от них зависит жизнь
и театральная смерть певца. Но когда певец уже знаменит, то
они сами бегают за ним, как кошка за куском колбасы. Итальян¬
ская опера — ходкий товар в мире; Северная и Южная Амери¬
ка, Лондон, Мадрид, Лиссабон, Ницца, Александрия, Констан¬
тинополь, Афины — все эти географические точки являются
мировой ареной деятельности итальянской оперы. Сезоны везде,
правда, не велики — месяц или два, не более. Оттого русская
Одесса с ее пятимесячным сезоном и ценится особенно на бирже
певцов в Милане.
В Италии самым солидным оперным театром считается
миланский театр «Ла Скала». Петь в этом театре часто недости¬
жимое счастье для каждого итальянского певца. Финансовая
жизнь этого театра, его бюджет, покрытие неизбежных в опере
дефицитов, ремонт здания — все зависит от группы богатейших
67
граждан Милана. Они называются «фондатори» — основатели.
В этой группе числились богатые фабриканты, коммерсанты,
помещики и представители старейших аристократических фами¬
лий. С изменением экономики Италии группа фондатори,
однако, не распалась; потомки первых фондатори считали
делом чести сохранять свои родовые традиции. Фондатори вла¬
дели в театре пожизненными ложами, состоящими из двух ком¬
нат, комфортабельно обставленных.
В остальной Италии, фанатически любящей пение, солид¬
ных оперных театров немного: Рим, Неаполь, Турин, Палермо,
Флоренция, но и в этих городах сезоны короткие. В остальных
итальянских городах, очень, между прочим, строгих и требо¬
вательных к певцам, сезоны совсем небольшие — не более
одного месяца. Обыкновенно предприниматель составляет
ансамбль для трех излюбленных опер и везет их в город, где
часто на месте имеется оркестр и хор (подсобный заработок для
живущих в городе музыкантов); художественный уровень этих
спектаклей, понятно, не очень высок, но публике важны преж¬
де всего голоса и голоса! Все остальное имеет второстепенное
значение.
— Вот я вам нарисовал, — закончил свой рассказ Арам
Киракоз, — сжатую схему оперной жизни Италии, а завтра
увидите ее вершину — знаменитый оперный театр «Ла Скала».
Своим художественным уровнем театр обязан исключительно
творческому гению дирижера Тосканини, совмещающему в себе
гения оперной музыки и диктатора художественной и эконо¬
мической жизни театра. Я посажу вас на редакционные места.
Мы условились о следующей встрече и он ушел. Я долго с бла¬
годарным чувством смотрел вслед Киракозу — его худая
и высокая фигура в черной крылатке и черной шляпе резко
выделялась среди шумной и нарядной толпы. И первый раз
в жизни слово «товарищ», так часто произносимое Киракозом
во время разговора, приобрело для меня новое глубокое зна¬
чение.
С большим волнением шел я вечером в оперный театр «Ла
Скала», о котором так часто вспоминал любимый мною Стендаль.
Театр, представлявшийся мне солнцем оперного искусства,
воспламенявший мою молодую фантазию еще в заснеженных
улицах Казани, Саратова и Перми. Слово «скала» означает
лестница; эта лестница, думал я, должна вести к вершинам
нашего искусства. И я не ошибся.
68
В театре шла опера «Тоска» Д. Пуччини, совершенно неиз¬
вестная мне и никогда еще не исполнявшаяся в России. Выйдя
из пансиона очень рано, я прошелся по улицам города и с ра¬
достью наткнулся на простой и очень скромный монумент Лео¬
нардо да Винчи, возвышавшийся на маленькой площадке неда¬
леко от здания театра. Редко бывает, чтобы искусство ваяния,
казалось бы такое холодное, так точно и так исчерпывающе
отразило физическую и духовную сущность гения. На простом
и строгом постаменте, лишенном всяких прикрас, скромно стоял
старый уже человек, и взгляд его, казалось, предвидел все на
столетия вперед.
Как и вчера над собором, резвые ласточки делали свои
причудливые «виражи» в глубокой синеве неба, над памятником
того, который на полетах птиц построил реальную схему возду¬
хоплавания. Еще сегодня утром в музее, рассматривая гениаль¬
ные картины Леонардо да Винчи, я видел его рисунки различ¬
ных птиц во всевозможных ракурсах, из которых можно было
понять, как пытливо гениальный художник хотел раскрыть
тайну полета.
Я внимательно рассматривал внешний вид театра, совер¬
шенно сдавленного большими соседними постройками. По внеш¬
нему виду здания невозможно предположить, что ты стоишь
на пороге всемирно известного оперного святилища, — до того
прост и ординарен был внешне этот прославленный театр.
Когда подошел Арам Киракоз и мы вместе с шумной и бы¬
стро двигающейся волной публики вошли в театр, я восторжен¬
но ахнул!.. Оказывается, огромный зрительный зал и столь же
обширная сцена вместе с пристройками — все это было распо¬
ложено в глубину квартала, и с улицы невозможно было пред¬
ставить себе всю грандиозность ансамбля внутренней части
театра. Многоярусный зал являлся прототипом Большого
театра в Москве; только Миланский театр более сдержан в по¬
золоте. Но зато электрическое освещение, ровное и мягкое, рас¬
положенное по принципу отражения, из незаметных источни¬
ков заливало весь театр ласковым и спокойным светом.
Сюжет и музыка пуччиниевской «Тоски» тогда мне были со¬
вершенно незнакомы. Но за последние пятьдесят лет эта опера
стала одним из самых популярных произведений на русской
оперной сцене и мне сейчас нет нужды подробно излагать ее
содержание и музыкально-сценические достоинства. Я перейду
прямо к исполнителям. Когда исполнение меня не захватывало,
69
как в Вене, я совершенно не запоминал фамилий артистов:
их внешность, тембр голосов, сценическое поведение — все
умирало для меня в тот же вечер.
Но то, что пережито было мною в Милане на представлении
«Тоски» пятьдесят лет назад, сегодня совершенно свежо в моей
памяти, как будто это происходило только вчера. Так неиз¬
гладима сила подлинного искусства!
И это воздействие искусства, пережитое мною так сильно
в Милане, не явилось результатом воздействия только голосов
замечательных певцов или звучания чудесного оркестра и хо¬
ра, или впечатления от стильных декораций и продуманности
мизансцен и умелого освещения сцены.
«Тоску» в Милане мне пришлось слушать три раза подряд.
Исполнители были замечательные: драматическое сопрано Дар¬
кле пела Тоску, ее мягкий, теплый с бесконечными верхами
голос наполнял зрительный зал своим звуком точно теплом
Средиземного моря. При этом она была превосходной тра¬
гической актрисой — искренней, трогательной, женственной.
В партии Каварадосси выступал молодой тенор, растущая
«челебрита» (знаменитость), Боргатти, голос, дыхание, темпе¬
рамент и внешность которого как будто специально соедини¬
лись, чтобы служить свидетельством того уровня, которого
может достигать неповторяемое в веках искусство Италии.
Драматический баритон Джиральдони исполнял Скарпиа. Его
прекрасная фигура, мощный, но мягкий, как звук виолончели,
голос и четко выразительная дикция, подчеркнутая логически
оправданным жестом, — все в исполнении Джиральдони напо¬
минало незабываемые картины великого Тициана. Чтобы
подчеркнуть яркий сценический профиль актера и певца Джи¬
ральдони, так захватившего меня в Скарпиа, я должен приве¬
сти один пример из жизни этого художника сцены. Когда
искусство Западной Европы приняло и усыновило по инициати¬
ве гениального Шаляпина «Бориса Годунова» Мусоргского,
то всюду в Европе — в Америке, Франции, Италии и Испа¬
нии — признанным и единственным (после Шаляпина) испол¬
нителем роли Бориса был Джиральдони. И я уверен, что этот
певец-артист не был только рабской копией великого шаляпин¬
ского создания. Несомненно, он внес и свое, индивидуальное,
в исполнение партии Бориса. Это тем более вероятно, что Джи¬
ральдони знал русский язык и мог читать Пушкина в ори¬
гинале.
70
С открытием занавеса, когда я, весь превратившийся в слух
и внимание, смотрел на сцену, меня прежде всего поразило
никогда невиданное мною в России освещение. Декорация,
изображавшая внутренность одного из римских храмов, нари¬
сованная в боковом ракурсе, производила впечатление подлин¬
ной архитектуры. Помимо того что архитектурные детали были
написаны удивительно точно и грамотно, магия освещения, под¬
черкивая светотени, оживляла контрастно плоскость и застав¬
ляла верить, что это все имеет объем! Во всех спектаклях,
виденных мною в «Ла Скала», освещение сцены производило
на меня неизгладимое впечатление, самые пышные и замечатель¬
ные постановки в столицах России не имели замечательного
миланского освещения и, конечно, теряли половину своей
художественной ценности. А ведь Россия имела великих масте¬
ров театральной живописи!
Особенно сильное впечатление освещение производило
в третьем акте «Тоски» — сцене рассвета над Римом. Здесь «ды¬
хание» света, его нарастание так было увязано с музыкой,
что казалось, будто гениальный дирижер Тосканини сам стоит
у регулятора осветительного аппарата. Три раза слушал я
«Тоску» и два раза «Лоэнгрина», и в обеих постановках были
сцены рассвета. И каждый раз я поражался единым «дыханием»
оркестра и точно совпадающим с ним «дыханием» магии замеча¬
тельного освещения.
Готовясь слушать спектакли в «Ла Скала», я был весь еще
во власти великого чародея Густава Малера. Его вулканический
темперамент и жест, его незначительная фигура во фраке не
первой свежести и библейские тоскующие глаза, гипнотически
сверкавшие сквозь стекла очков, — все производило неизгла¬
димое впечатление.
Но теперь новая встреча — Тосканини. Стройная фигура,
бледное выразительное лицо с черными короткими усами, и гла¬
за — ласковые, слегка улыбающиеся, в которых сквозит в то
же время и непреклонная воля. Тосканини — чистокровный
итальянец, но он чем-то напоминал англичанина. Говорили,
что он плохо видел, — все оперы он дирижировал наизусть, пар¬
титуры для него не существовало, она была у него целиком
в голове. В этом я убедился, присутствуя на репетициях «Ло¬
энгрина». Этим счастьем я был обязан Араму Киракозу, сот¬
руднику очень маленькой, но влиятельной газетки «Аванти».
Прижавшись к креслу, я тихо сидел в темном зрительном зале,
71
боясь пошевелиться. И я видел, как творил Тосканини: не
только его слово, но движение руки, поворот головы, взгляд —
все было законом для огромного оперного коллектива. На сце¬
не и в оркестре царствовала торжественная тишина, прерывае¬
мая спокойными, но властными указаниями Тосканини, царя¬
щего над толпой и сознающего свое право на эту власть. Слух
у него, в прошлом, как говорят, выдающегося виолончелиста,
был абсолютным. Рука его, дирижерский жест не были только
эмоциональны — они четко выражали музыкальную мысль.
И дирижерская сила Тосканини заключалась, как чувствовал
я, не только в его физических средствах, но и в непреклонной
воле. Во всем Тосканини был великий художник — в оркест¬
ровой музыке, в фразировке солистов, в вокальной динамике
хоровых масс, но самое главное достоинство его было в неоспо¬
римой выразительности. Талант... Талант есть ум, но ум
сосредоточенный. Таким был Тосканини.
«Лоэнгрин» поставлен был в театре грандиозно. Вся обста¬
новка — декорации, костюмы и металлические бутафорские
вещи из тисненной жести и латуни, производившей впечатление
чистого золота, — могла привести в восторг любого деятеля
театра. В Милане была специальная фабрика изумительных
по стилю и по отделке бутафорских металлических вещей и дра¬
гоценных камней; фабрика эта снабжала своими художествен¬
ными произведениями театры всей Европы и Америки. Мне
пришлось на месте видеть процесс производства, которым руко¬
водил один известный ученый археолог и нумизмат.
И «Лоэнгрин», виденный мною тогда, был обильно сдобрен
этой замечательной «музейной» бутафорией, что вместе с пыш¬
ными костюмами, декорациями и волшебным освещением
оставляло незабываемое впечатление. Но странное явление —
моя память не сохранила ни одной фамилии главных исполни¬
телей оперы (они были очень средние). Только тенор Дзени
(Лоэнгрин), певец с голосом, напоминавшим звук челесты
и тембр серебряного колокольчика одновременно, только он
один, как и волшебный Тосканини, живет в моей памяти.
С курьезным случаем столкнулся я на спектакле «Лоэнгрин».
Певец, исполнявший партию глашатая, написанную, как
известно, в плане певучего речитатива, меня поразил своим
необычайно красивым звуком, заполнявшим огромный зал
театра. Посмотрев в программу, я узнал, что э. ту партию поет
Спиваккини. Этот Спиваккини обладал замечательным голосом
72
и благодарной величественной фигурой. Через день-два мне
расшифровали, кто такой загадочный Спиваккини. Это был
русский еврей из маленького местечка Киевской губернии.
Он пел в синагоге и на свадьбах, фамилия его была Спивак.
Местечковые богачи послали его учиться пению в Милан. Тос¬
канини, услышав голос Спивака, пригласил его в «Ла Скала».
Там Спиваккини-Спивак мог бы сделать мировую карьеру, но,
увы, у него был серьезный недостаток — плохая дикция. Ког¬
да требовательный Тосканини сказал Спиваккини о его недо¬
статке, самолюбивый певец дерзко ответил всесильному маэстро:
«Все ваши басы имеют отличную дикцию, но ни один из них
не имеет моего голоса. До свидания», — и ушел.
Прошло несколько лет, и Спиваккини-Спивак превратился
в выдающегося баса Петербургской императорской оперы Льва
Михайловича Сибирякова. Несмотря на то, что доступ на импе¬
раторскую сцену был очень нелегок, Сибиряков, из внимания
к его выдающимся голосовым данным, занимал на сцене
Мариинского театра до революции видное положение.
После Великой Октябрьской революции Сибиряков эмигри¬
ровал в Америку, где участвовал в концертах, исполняя обшир¬
ный камерный репертуар.
Постановка «Лоэнгрина» в Милане оставила незабываемое
впечатление. В последующие годы в Германии, в Петербурге
мне пришлось слышать «Лоэнгрина» с лучшим составом испол¬
нителей, но творчества Тосканини и внешнего оформления опе¬
ры — культуры, вкуса и ошеломляющего богатства фантазии —
я уже не встречал и не встречу никогда! И все это имело один
источник — личность Тосканини.
Поражала не только его музыкальность, но и внешняя
форма дирижирования воздействовала необыкновенным пла¬
стицизмом формы. Главное — руки, вернее, кисти рук. Нахо¬
дясь на классической итальянской земле, я вспомнил невольно
историческое римское предание о знаменитом актере Рима —
Квинте-Росции-Галле, переводившем на язык рук все речи
Цицерона. Так и руки Тосканини выражали, казалось, все,
что в звуках говорил гений композитора.
Руководя всем оперным организмом театра «Ла Скала»,
Тосканини благотворно влиял и на внешнюю сторону спектак¬
лей. Диктатура мощного таланта!....
Спектакле «Тоска» и особенно «Лоэнгрин» направили мою
режиссерскую мысль к Геродоту, у которого я когда-то читал,
73
что театральные издержки в Древней Греции были настолько
велики, что представление одной трагедии Софокла и Еврипи¬
да стоило государству более, чем война с Персией... Конечно,
постановки «Тоски» и «Лоэнгрина» обошлись дешевле, но впе¬
чатление было грандиозное!..
Почти каждый день по обыкновению я ходил в трапезную
Санта Мария делле Грацие смотреть великую в своей простоте
фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Эта гениальная
простота живописи и в то же время необычайная экспрессив¬
ность лиц, поз и постановки фигур, лаконичность аксессуаров
и пейзажа — все говорило о великой тайне живописи: сказать
немногим многое. Научиться бы нашим художникам! Но, увы,
простота не поддается изучению...
Последние дни моего пребывания в Милане я провел как-то
очень странно — мне вдруг очень захотелось домой. Только
много лет спустя я понял причину появления этой острейшей
тоски по родине: слишком обильны были впечатления, которые
в короткий срок поразили мою психику.
Накануне моего отъезда в пансионе состоялся торжествен¬
ный вечер. Синьора Равицца отмечала день рождения своего
супруга. Большая столовая была полна цветов. На этот празд¬
ник хозяйка пригласила и Арама Киракоза. Как сотрудник
театральных журналов, он пользовался вниманием предпри¬
имчивой владелицы «певческого» пансиона. Кроме этого, в рек¬
ламном театральном журнале «Ривиста» (Обозрение) был поме¬
щен большой портрет ее мужа с трогательным текстом: «К шести¬
десятилетию известного критика, маэстро Алессандро Равиц¬
ца — в прошлом капитана королевских берсальеров». Под
современным портретом маэстро внизу в овале было помещено
изображение молодого офицера верхом на лошади, в кокетли¬
вой шляпе с пучком петушиных перьев. Известность критика
и доблесть капитана зависели от суммы, выплаченной журналу:
судя по корректности и сдержанности текста, синьора Равиц¬
ца, очевидно, не очень дорого заплатила за популяризацию
имени своего супруга.
На вечере, протекавшем в теплой и дружественной обста¬
новке, присутствовал профессор Гримальди, у которого учились
пению почти все жившие в пансионе. Он был доктором-горло¬
виком, но, очевидно, карьера профессора пения была выгоднее
профессии ларинголога, и практичный доктор соединил обе спе¬
циальности. Уроки пения у Гримальди стоили не дешево; пер-
74
вый пробный урок имел характер медицинского осмотра: певец
садился в кресло, а Гримальди с зеркалом на лбу и маленьким
зеркальцем в руках осматривал горло, связки, зев и уши паци¬
ента-ученика... После осмотра доктор-вокалист показывал
ученикам механизированный макет горла со связками, легки¬
ми, диафрагмой и так далее. А уже после всех этих жреческих
таинств начиналось обучение постановке голоса.
К русской школе пения, к русским певцам и русским голо¬
сам Гримальди относился очень отрицательно.
— Итальянская система позволяет певцу петь до предель¬
ных лет, потому что не насилует и не спорит с природой, а рус¬
ские педагоги стремятся природу подогнать к своим приемам,
спорными непроверенным, — говорил Гримальди, — таким обра¬
зом в России искусство бельканто отсутствует, а царит искус¬
ство крика. Я был, — продолжал Гримальди, — в Москве и Пе¬
тербурге. В такой великой стране, как Россия, есть случайные
приличные певцы и хорошие голоса, но нет системы воспита¬
ния вокала. В Петербурге пришлось мне слушать знаменитого
русского певца Фигнера. Но где у него, скажите, искусство
пения? Мне говорили, что этот талантливый актер, но не певец,
был морским офицером. Я понимаю, что для командова¬
ния фрегатом этот звук — то носовой, то горловой — очень
хорош, но в пении даже русские, вероятно, предпочли бы
Мазини!
Парадоксальные и развязные нападки Гримальди на рус¬
ское вокальное искусство вызвали очень спокойное, но доволь¬
но внушительное возражение одного японца, присутствовавшего
на вечере. Педагог и член дирекции Музыкального института
музыки в Токио, большой поклонник русской музыки, он на¬
шел мысли Гримальди примитивными:
— Италия, — говорил японец, смотря в упор через очки
на самоуверенного итальянца, — в области оперы совершила
все возможное. Ее миссия кончена, остальное принадлежит Рос¬
сии!
Виновник торжества тоже принял участие в споре об искус¬
стве пения.
— Искусство пения, сказал он, — слишком грандиозно,
чтобы его хватило на одну жизнь; когда мы молоды, у нас есть
голос, но мы не умеем петь; когда мы стареем, мы начинаем
понимать пение, но у нас тогда уже нет более голоса. Так мыс¬
лил великий певец и педагог Рубини. И вот, чтобы спасти и сох-
75
ранить тайну искусства пения в мире, Италия послала повсюду
некоторых своих великих стариков, как, например, Эверарди
в Россию, чтобы священный огонек бельканто не угас для
человечества...
Поздно вечером я покинул Милан и расстался, может быть,
навсегда с Италией — этим, по словам Стендаля, «кусочком
неба, упавшим на землю».
Перед отъездом я долго сидел около памятника Леонардо
да Винчи, где в эти часы обыкновенно играл великолепный
духовой оркестр — пятьдесят музыкантов, одетых в новую,
нарядную форму карабинеров. Они все были превосходными
музыкантами. Строй инструментов — равновесие между «дере¬
вом» и «медью» — был предельным. Исполнялась увертюра
к «Тангейзеру», и трудно было, право, вообразить себе, чтобы
скрипичные пассажи увертюры так чисто и так ровно исполня¬
лись флейтами и маленькими кларнетами этого замечательного
духового оркестра.
В красавце-дирижере я сразу узнал первого трубача из ор¬
кестра Тосканини, которому этот «профессор» (так именуются
все оркестранты театра «Ла Скала») усиленно и во многом удач¬
но подражал.
...Огромный стеклянный навес миланского вокзала. Шум¬
ная толпа непрерывно струится по перрону, точно вода из от¬
крытого шлюза.
Я вошел в вагон и увидел печального Арама Киракоза, при¬
шедшего меня проводить. В своей черной крылатке, называе¬
мой в Милане «летучей мышью», и черной шляпе он был трога¬
тельно печален, этот невольный эмигрант.
— Если бы я мог сейчас вернуться в Россию!.. Но, увы,
— сказал он грустно, — приходится ждать, пока ваш лед рас¬
тает... А он все-таки растает! Высокое давление пара социализ¬
ма — это динамит, который взорвет вашу ледяную крепость.
Мы с вами еще увидим эту спасительную метаморфозу. Про¬
щайте!» — и Арам Киракоз махнул шляпой вслед поезду, кото¬
рый увозил меня, переполненного «динамитом» незабываемых
итальянских впечатлений.
Возвратясь из-за границы в Москву, я очутился в трудном
положении — у меня не было работы, я оторвался от знакомых
мне людей. Кроме того, заграничная поездка съела все мои сбе¬
режения, и я вернулся домой, имея очень мало денег.
Мое имя не «гремело» на актерской бирже, и я не мог найти
применения своим силам, ибо тогда оперных сцен в России
было вообще очень мало. Гордясь своей итальянской крылат¬
кой, серой шляпой и желтыми ботинками, я никак не мог
понять, отчего я здесь ровно никому не нужен — ведь я только
что возвратился из Европы!
Моим спасителем, как это было не раз в моей жизни, ока¬
залось Русское театральное общество. И. О. Пальмин, управ¬
ляющий Московским бюро Общества, человек большого ума,
такта и оперативных способностей, знал меня еще по первому
съезду сценических деятелей. И Пальмин снова поддержал
меня. Московское бюро, помещавшееся тогда на Тверском
бульваре, должно было, по мысли М. Г. Савиной и А. Е. Молча¬
нова, расширить свои функции и открыть оперный отдел.
Пальмину пришла мысль предложить мне пост руководителя
вновь создаваемого отдела.
77
Москва.
Казань. Саратов
Глава шестая
Москва захватила мое воображение своим необычайным
расцветом оперного искусства — Большой театр, оперное дело
С. И. Мамонтова, многочисленные симфонические концерты
и концерты мировых знаменитостей — все это пленило мое
воображение возможностью дальнейшего роста. И я принял
предложение Пальмина, телеграфировавшего о моей кандида¬
туре Савиной в Петербург. Мое назначение было утверждено,
я получил аванс и поехал за женой. Мне надо было также устро¬
ить в Казани старика-отца.
Возвращаясь в Москву, я остановился в Нижнем Новгоро¬
де, чтобы побывать на Всероссийской выставке. Две причины
приковали мое внимание к выставке: художественный отдел
на выставке был необыкновенно богат и интересен, кроме того,
в городском нижегородском театре была опера С. И. Мамонто¬
ва, где пел Ф. И. Шаляпин, слава о таланте и феноменальном
успехе которого была всем известна. Меня не могла не волно¬
вать мысль об этой метаморфозе — как из неопытного казан¬
ского статиста, которого я так хорошо знал, могло развиться
такое выдающееся мощное художественное явление? Это было
загадкой.
Говорят, что чудес не бывает, но мне самому пришлось пере¬
жить одно такое чудо...
В театре шел «Фауст» Гуно с Шаляпиным, фамилия которого
на афишах была напечатана крупными буквами.
Исполнение Шаляпиным Мефистофеля было для меня цепью
непрерывного восторга и восхищения. Точно великий худож¬
ник-вокалист, трагический декламатор-композитор и философ-
мыслитель на материале Мефистофеля Гёте творили вместе
нечто новое, неповторимое.
На другой день я отправился осматривать выставку. Тер¬
ритория выставки была огромна, и для детального осмотра ее
потребовалось бы не менее недели. Технические и экономиче¬
ские экспонаты интересовали меня мало, все свое внимание
решил я посвятить художественному отделу, занимавшему
центральное место. Увы, меня мало тронули выставленные там
произведения искусства. Для того, вероятно, чтобы привлечь
внимание посетителей к этому отделу, там было выставлена
несколько шедевров из Московской Художественной галереи
Третьякова. Это было правильно. Не все бывают в Москве и не
всем удается любоваться подлинными сокровищами русской
живописи. У этих картин народ стоял толпой, а у картин эпи¬
78
гонов передвижников, составлявших основу экспозиции, мож¬
но было заметить лишь одинокие фигуры.
Подлинный художественный «гвоздь» выставки оказался
вне ее пределов. Близорукое и художественно ограниченное
жюри отказалось принять на выставку полотна тогда еще
никому не известного художника Врубеля, который озарил
позднее русское искусство таким ярким сиянием.
Савва Иванович Мамонтов, пригревший талант Шаляпина,
не мог остаться безучастным к обиде Врубеля. Он понимал его
значение для русской живописи. Обладая большими средства¬
ми, огромной инициативой и связями, Мамонтов с молниенос¬
ной быстротой построил на личные средства у входа на выстав¬
ку отдельный оригинальный и красивый павильон для картин
Врубеля. Над портиком павильона сияло золотом одно слово:
«Врубель».
Все любители новой живописи, и я в том числе, получили
огромное наслаждение от картин Врубеля, от его манеры
пользоваться красками. «Демон» и варианты этой основной
идеи художника вызвали справедливое восхищение одних
и презрительные обвинения в декадентстве со стороны других.
Во всяком случае, Мамонтов этим поступком и позднейшим
отношением к Врубелю сохранил для русского искусства
одного из выдающихся художников.
В Москве я активно включился в работу по организации
оперного отдела бюро Театрального общества. Мне приходи¬
лось составлять списки всех оперных работников России, учи¬
тывать безработных, готовить статистические данные о русских
оперных театрах (их вместимость, условия аренды, требования
к предпринимателям со стороны городских управлений). Полу¬
чая из всех городов оперные афиши, я должен был составлять
перечень излюбленных опер и знать сумму ежемесячного вало¬
вого дохода в каждом оперном театре. В вопросах предложения
и спроса труда я был обязан не рекомендовать, а только указы¬
вать на необходимое лицо и наблюдать, чтобы не было в опер¬
ных предприятиях системы переманивания и рвачества.
Эти разделы деятельности оперного отдела были подсказа¬
ны А. Е. Молчановым.
Но действительность оказалась сильнее молчановской идеи:
глобус театральной жизни вращался по-прежнему.
...Москва в эту эпоху переживала расцвет театральной
жизни. В Каретном ряду начал свои спектакли драматиче¬
79
ский театр Станиславского и Немировича-Данченко, театр,
которому суждено было впоследствии стать художественным
откровением для театрального искусства всего мира. В театре
Солодовникова С. И. Мамонтов перестраивал заново старый
уклад рутинной оперной жизни: прекрасный состав солистов,
оркестр и хор высокого уровня и, главное, репертуар, в кото¬
ром были представлены почти все оперы Римского-Корсакова,
композитора, к которому недостаточно внимательно относились
императорские театры Петербурга и Москвы. В оперном деле
Мамонтова (он был негласным руководителем предприятия)
все было подчинено русскому оперному искусству и творчеству
современных русских художников. Даже потолок зрительного
зала этого довольно неуютного театра Мамонтов поручил укра¬
сить знаменитой плафонной живописью на тему «Садко» худож¬
нику Врубелю. Врубель с его мощным талантом художника-
станковиста переключился в оперную декоративную живопись,
а его жена, выдающаяся певица-сопрано Надежда Забелла-Вру¬
бель, стала образцовой исполнительницей женских партий
в операх Римского-Корсакова.
Огромный ущерб опере Мамонтова принес уход из ее соста¬
ва Шаляпина, перешедшего в Большой театр. За этого певца
Большой театр выплатил опере Мамонтова значительную неус¬
тойку, но, конечно, Мамонтов заплатил бы, вероятно, вдвое,
лишь бы Шаляпин остался у него.
Все развитие высокоодаренной натуры Шаляпина было
завершено, в конечном счете, под влиянием тех лиц, которые
окружали Мамонтова в его подмосковном имении «Абрамцево»
и в гостеприимном, открытом Мамонтовском особняке на Садо¬
вой. Там было яркое созвездие художественных сил тогдашней
России — Серов, Суриков, Коровин, Головин, Врубель, Анто¬
кольский, Судейкин. Там бывали критики, литераторы, истори¬
ки, музыканты, композиторы. И в этой атмосфере ума, талан¬
тов и разнообразных знаний Шаляпин был любимым и желан¬
ным гостем Мамонтова, который с радостью наблюдал, как
талантливая натура этого исключительного самородка, словно
губка, вбирала в себя весь комплекс передовой культуры. Там
Серов, набрасывая Шаляпину рисунок Олоферна для оперы
«Юдифь», научил певца технике владения карандашом; скульп¬
тор Судейкин, ученик знаменитого Родена, внушил талантливо¬
му певцу любовь к лепке портретов из глины; тонкий, изящный
Головин, создавший свой знаменитый портрет Шаляпина в Бо¬
80
рисе Годунове, привил Шаляпину вкус к тонкости и изяществу
красок в гриме и костюме. А фантаст Врубель, «одержимый»
и влюбленный в «Демона», заразительно подействовал на певца
при нахождении грима для Демона и Мефистофеля в одноимен¬
ной опере Бойто. Все это одаренный и восприимчивый волжский
парень, как говорится, «мотал себе на ус». А Мамонтов смотрел
и радовался, видя как при его участии формируется фигура
величайшего оперного певца. Люди исторической науки, лите¬
ратуры, гуманитарных дисциплин и поэты, составлявшие его
«двор», все, каждый по-своему, шлифовали талант Шаляпина.
Московский Большой театр управлялся чиновниками,
по которым равнялись чиновники-дирижеры и чиновники-режис¬
серы. Это большое оперное предприятие напоминало непод¬
вижное озеро, покрытое сверху зеленью и украшенное очень
красивыми цветами. Этим консервативным театром руководил
аккуратный и педантичный чиновник немец фон Бооль, имев¬
ший, если не ошибаюсь, чин гражданского генерала. Москов¬
ский Большой театр из его застоя мог бы вывести композитор
С. В. Рахманинов, одно время занимавший в этом театре пост
дирижера. Спектакль «Пиковая дама» под его управлением
буквально всколыхнул всю Москву. Музыканты говорили, что
Рахманинов в роли дирижера был «Юпитером-громовержцем»,
способствовавшим появлению живительного дождя на сухой
почве Большого театра. Несомненно, Рахманинов с его огром¬
ным авторитетом, с его стальной волей честного и принципиаль¬
ного музыканта достиг бы многого. Он для русского искусства
стал бы тем, чем в Европе были знаменитые дирижеры Малер
и Тосканини. Но гений Рахманинова, гений пианиста и компо¬
зитора, повел его по другому пути, быть может, не менее труд¬
ному...
Появление в Большом театре Л. В. Собинова, артиста высо¬
кой вокальной и общей культуры, подняло, конечно, уровень
тех спектаклей, где участвовал этот замечательный певец и ар¬
тист. Но общий тонус жизни театра продолжал оставаться казен¬
ным, лишенным подлинных дерзаний и творческого горения.
Приход Шаляпина, овеянного славой, горячо любимого
всей Москвой, после знаменитого трагика Мочалова, едва ли ко¬
го любившей так, как она любила этого изумительного певца, —
этот приход в Большой театр новой огромной художественной
силы многое в нем изменило. Если бы в густые заросли тайги
пустили огромного слона с могучими клыками, то можно себе
81
представить, что испытали бы тогда кусты, заросли тайги и
мелкие деревья, если бы слону было тесно.
Управляющим Московскими императорскими театрами был
назначен Владимир Аркадьевич Теляковский. Человек боль¬
шого ума, мягкий, но принципиальный во всех своих действиях,
Теляковский был практичен, по существу, во всех вопросах
искусства и хозяйства. Будучи неплохим пианистом, он имел
близкое отношение к музыке, а его жена, хороший художник,
привила, очевидно, Теляковскому сознательную и крепкую
любовь к живописи в лучших ее проявлениях.
Теляковский упорядочил и рационализировал жизнь и дея¬
тельность московских казенных театров. Во главе художествен¬
ной части им были поставлены два замечательных мастера живо¬
писи — Головин и Коровин. Театральные постановки после
надоевшей и ординарной, ремесленной работы штампованных
декораторов получили самостоятельное художественное зна¬
чение. Понимая хорошо экономическую сущность работы каж¬
дого, в том числе и театрального предприятия, новый управля¬
ющий пробудил в театрах инициативу в смысле улучшения
обновления репертуара. Одновременно Теляковским было,
насколько возможно, улучшено положение низкооплачиваемых
работников театров. Встретившись в Москве в Большом и Малом
театрах с замечательными артистами, Теляковский проявил
к ним максимум уважения и внимания, но на поводу ни у кого
не шел. Он показал себя прирожденным администратором
большого масштаба...
Ошеломленный и до отказа сытый всеми богатыми впечат¬
лениями тогдашней Москвы, я очень томился своей канцеляр¬
ской работой в бюро Русского театрального общества. Будучи
еще молодым, я, естественно, скучал по живой работе в театре.
Зимой в Москве скопилось большое количество безработных
оперных артистов, ежедневно приходивших в бюро. У меня яви¬
лась идея организовать оперную труппу для выездных спектак¬
лей на подмосковных фабриках. Этому очень помог энергичный
и деятельный хормейстер В. Б. Шток. Оперы исполнялись под
рояль, на котором играли то известный дирижер Труффи, то
прекрасный концертмейстер-пианист Оцеп. У нас шли «Оне¬
гин», «Русалка», «Травиата», «Пиковая дама». В зоне нашей дея¬
тельности были Орехово-Зуево, Тверь и Серпухов. Иногда мы
давали спектакли в Московском охотничьем клубе. Эти спектак¬
ли меня очень увлекали, я чувствовал себя снова на сцене!
82
Весной этого года в Москве состоялся Второй съезд сце¬
нических деятелей, происходивший в театре Незлобина, что
что рядом с Большим театром. На этот съезд была перенесена
деятельность бюро Театрального общества, получившего к это¬
му времени, по ходатайству М. Г. Савиной, пышное наименова¬
ние: «Императорское Русское театральное общество, основан¬
ное М. Г. Савиной».
Второй съезд был менее шумен, чем первый, но более дело¬
вит. На этом съезде вопрос об оперных театрах был вынесен
на отдельные секционные заседания. Председателем оперной
секции был избран композитор М. М. Ипполитов-Иванов.
а я — товарищем председателя. По вопросам работы провин¬
циальных оперных театров давать информацию приходилось
мне. Все мои короткие доклады и сообщения были, конечно,
очень верными и деловыми, потому что шли прямо от жизни.
Но съезд, увы, не мог ничего изменить и улучшить. Беспра¬
вие работников оперы в провинции и экономическая анархия
в жизни оперных театров оставались прежними. Прекрасный
почин Пермской оперной театральной дирекции не нашел под¬
ражателей.
Мое участие в работе съезда обратило на себя внимание
самого лучшего антрепренера того времени Н. И. Собольщикова-
Самарина. Он был не только образцовым антрепренером круп¬
ных драматических театров, но и художником-режиссером
автором пьес и сценических переделок для театра произведений
классиков русской и иностранной литературы.
Н. И. Собольщиков-Самарин много лет держал театр в Ниж¬
нем Новгороде. Но когда известный руководитель театров
Казани и Саратова М. М. Бородай получил для оперы новый
Киевский городской театр, то Казань и Саратов сдали свои
театры лучшему из всех кандидатов — Собольщикову-Самарину.
Он получил оба театра на тех же условиях, как и Бородай: надо
было организовать две труппы — оперу и драму, — и каждая
из них должна была играть в этих двух городах по пол¬
сезона.
Драматическое дело Собольщиков понимал в совершенстве,
но оперы он не знал. Ему нужен был опытный оперный руково¬
дитель-хозяйственник и хороший режиссер. Слушая на съезде
мои выступления и реплики при обсуждении вопросов опер¬
ного театра, которые обычно покрывались аплодисментами,
мудрый и прекраснодушный Собольщиков решил, что в моем
83
лице он нашел именно то, что ему было в данную минуту необ¬
ходимо — крепкого диктатора оперного дела. Мне предложено
было стать во главе большого оперного предприятия и вести
дело так, как я его понимаю. Все оборотные средства и покры¬
тие возможных убытков по нему принимал на себя Собольщи¬
ков-Самарин. Я был тогда еще очень молод и голова набита
была до отказа фантазиями и верой в то, что именно мне сужде¬
но создать образцовое оперное дело. Поэтому я без колебаний
принял предложение Собольщикова-Самарина.
Когда я начал формировать труппу для крупного оперного
театра, чутье подсказало мне, что прежде всего необходим
крупный и авторитетный дирижер. Был свободен В. И. Сук,
с которым я и начал вести переговоры. Меня отговаривали от
приглашения этого крупного дирижера: он был капризный
и требовательный, и при нем мое положение художественного
руководителя якобы сведется на нет. К счастью, я не обратил
внимания на эти досужие разговоры и привлек В. И. Сука
в состав Казанско-Саратовской оперы. И как потом я был сча¬
стлив, работая с этим исключительным дирижером! В. И. Сук
был неумолим и принципиален в музыкальных вопросах, но
это был художник высокого класса и как дирижер, и как музы¬
кальный создатель оперного спектакля в целом. В прошлом
В. И. Сук был первоклассным скрипачом и пианистом, но он
был рожден для того, чтобы стать замечательным дирижером.
Обладая абсолютным слухом и огневым темпераментом, он
«горел» во время дирижирования, зажигая и всех нас своим свя¬
щенным огнем. Абсолютно все подчинялось его гипнотической
воле: артисты, оркестр, хор, все становилось мягким воском, из
которого Сук лепил ту форму, которую диктовала ему вдохно¬
венная интуиция. И публика нередко была захвачена его гипно¬
зом. В патетических местах опер — триумфальная сцена в «Аи¬
де», заговор в «Гугенотах» — Сук, увлеченный и вдохновенный,
поднимался за пультом (это не было позой!), и слушатели стре¬
мились подняться за ним.
В частной жизни В. И. Сук был весел, часто наивен, иногда
по-смешному вспыльчив, но всегда быстро отходил. Что-то
моцартовское было заключено в этом одаренном чехе. После
Малера и Тосканини я чувствовал в Суке, пускай и не равноцен¬
ное, но подлинное дирижерское искрометное дарование.
Вторым дирижером был М. М. Голинкин — человек, с ко¬
торым я всегда стремился работать. Серьезный музыкант, дири¬
84
жер крепкой воли и стального ритма, он создавал свои спектак¬
ли крепкими и, я бы сказал, монолитными. Шаляпин, страдав¬
ший хронической «дирижерофобией», с Голинкиным был всегда
спокоен и очень корректен. Уже это одно могло заставить отно¬
ситься к дирижеру Голинкину с огромным уважением.
Хормейстером был В. Б. Шток, один из лучших хормейсте¬
ров того времени. Он любил и понимал свое дело, был очень
горяч и требователен. Даже небольшой хор у Штока звучал пре¬
восходно. Оба дирижера очень ценили Штока, а я невыносимо
страдал от его вонючей сигары, которую Шток ухитрялся никог¬
да не выпускать изо рта.
В моей голове созрели планы всех оперных постановок, мною
избранных и утвержденных Н. И. Собольщиковым, но для
оформления нужен был художник, который мог бы уследить
за полетом моей режиссерской фантазии, взбудораженной спек¬
таклями Московского Художественного театра и виденными
мною в Италии оперными постановками. Я не собирался быть
копиистом, но мне хотелось непременно сказать свое собственное
слово, проявить свое «я». Молодость заносчива и самоуверенна!
Мне повезло. Один из помощников декоратора Московского
Большого театра, художник Федоров-Егоров был сокращен
театром за чрезмерное увлечение Бахусом. Художник пригла¬
сил меня к себе в студию. Но слово «студия» звучало очень
громко! На Сивцевом Вражке, во дворе старого дома, помняще¬
го, вероятно, войну 1812 года, помещался кое-как застекленный
сарайчик, где жил и творил художник. На всех стенах в огром¬
ном количестве висели картины, широкими мазками нарисован¬
ные на обороте обоев. Палитра художника была очень яркой
и своеобразной. На черном «японском» фоне его работ горели
краски — крап-лак, киноварь, французская зелень, кадмий
и какая-то своеобразная сиреневая краска — нечто среднее
между ультрамарином и брауншвейгом. Фантазия Федорова
была безгранична. Как у Гонзаго или у Бибиены. Реальное
у него было перемешано с ирреальным, но театральный темпе¬
рамент художника был очевиден. В углах студии помещались
скульптуры из глины, столь же фантастические и спорные,
словно автор не решил, за кем следовать, — за Роденом или
за Трубецким. Я был рад встрече с этим, во всяком случае,
интересным художником и, не думая об алкогольных симпатиях
Федорова-Егорова, пригласил его в труппу. В этом я потом
никогда не раскаивался.
85
Оперный сезон, к удовольствию Н. И. Собольщикова-Сама¬
рина и к моему восторгу, протекал блестяще и, главное, безде¬
фицитно. Состав труппы был прекрасный и, кроме того, все
артисты, видя, что наша опера не является рваческим предпри¬
ятием, до трогательности внимательно относились к своей
работе. Моральный тон всему делу придавал вспыльчивый,
но благородный В. И. Сук.
В прекрасном человеческом документе, в книге «Воспоми¬
наний» Н. И. Собольщиков-Самарин с исчерпывающей полно¬
той пишет о своей опере в Казани — Саратове. К этому я при¬
бавить, пожалуй, ничего не в состоянии, и всем, интересующим¬
ся этой эпохой, рекомендую прочесть эту книгу.
Оперный репертуар в то время должен был быть обширным,
чтобы театр, лишенный дотаций, мог существовать. В плане
Казанско-Саратовской оперы намечалось двадцать три назва¬
ния. Опытный, хороший хор и оркестр, умение артистов быстро
разучивать новые партии (на каждую давалось две недели),
огромная работоспособность дирижеров, умевших уложиться
в минимальное количество репетиций, — все это создавало нуж¬
ный ритм в нашей работе. Но с таким выдающимся дирижером,
как В. И. Сук, мне приходилось считаться. Так, например, для
постановки таких сложных опер, как «Чародейка» и «Тангей¬
зер», необходимо было, скрепя сердце, выделить по пяти
корректурных репетиций для каждой. Другой дирижер, упор¬
ный и усидчивый М. М. Голинкин, брал оркестровки к себе
домой, где ночи напролет просиживал над ними, выверяя их
по «карманным партитурам» и фиксируя в голосах необходимые
нюансы. Замечательное дирижерское дарование Сука и немного
суховатый, но трезвый академический дирижерский талант
Голинкина составляли то необходимое музыкальное равнове¬
сие в нашем деле, которое позволяло Казанско-Саратовской
опере быть художественным предприятием. Это вполне удовлет¬
воряло Собольщикова-Самарина, работавшего со своей драмой
в Саратове и только изредка наезжавшего в Казань посмотреть
свои оперные спектакли. Если художественная сторона дела
удовлетворяла серьезного и опытного антрепренера, то расходы
хозяйственной части — расходы на холст, лес, краски, клей
и так далее — явно превышали норму. Я был почти совершенно
лишен хозяйственных способностей, а ощущение моих неогра¬
ниченных режиссерских возможностей (ведь я был полным
хозяином) совершенно опьянило мою фантазию. Мы с художни¬
86
ком, который тоже был фантазером, создавали очень интерес¬
ные постановки, весьма нравившиеся казанской публике, но
они, конечно, не могли укладываться в предоставляемые нам
средства.
Казанский театр был прекрасным образцом старых театраль¬
ных зданий — пятиярусный, вместительный, с огромной сценой.
Но внешний вид его был довольно ординарным и, на мой взгляд,
достаточно бедным. Я задумал его украсить.
Посоветовавшись со своим художником, талант которого
как скульптора мне был известен, я решил на крыше театра
соорудить скульптуру «Аполлон на колеснице, летящий
навстречу солнцу». Консультативная беседа художника с кро¬
вельщиком и бетонщиком и блестящая модель скульптурной
группы, представленная мною на утверждение Городской
управы, сделали свое дело. Через некоторое время удивленные
казанцы увидели на крыше своего старенького театра неизвест¬
но откуда слетевшего новенького бога Аполлона.
Ограниченные материальные возможности, которыми я рас¬
полагал, заставили меня быть изобретательным. У меня иссяк
запас декоративного холста, а новых постановок предстояло
еще немало. Тогда во мне пробудился дремавший инстинкт
хозяйственника; в Италии я видел писаные на бумаге декора¬
ции. Они были превосходны; краски, не поглощаемые грунтом,
светились своим настоящим цветом и говорили каждая за себя.
Правда, итальянская декорационная бумага была особенной;
свернутая в рулоны, вроде нашего толя, она имела метр шири¬
ны и очень большое протяжение по длине. Бумага была доволь¬
но плотной и, проклеенная сзади полоской марли, очень хорошо
подходила для занавесей и кулис. Сказав об этом художнику,
я встретил совершенно неожиданно в нем фанатика бумажных
декораций. Серая оберточная бумага, проклеенная, как на роди¬
не Рафаэля, марлей или полосками коленкора, целиком изгна¬
ла из нашего обихода дорогой холст. И талантливый, неутоми¬
мый в работе художник стал на бумаге творить свои зна¬
менитые живописные декорации, на изготовление которых
затрачивалось минимальное количество времени.
С В. И. Суком были осуществлены постановки «Аиды»,
«Гугенотов», «Тангейзера», «Купца Калашникова», «Чародей¬
ки», «Демона» и «Мазепы». Остальные спектакли готовил
М. М. Голинкин, которому в работе пришлось очень «сжимать¬
ся» в смысле времени и быстроты выпуска премьер. «Мазепа»—
87
опера, которую мы с Суком ставили почти перед самым переез¬
дом труппы в Саратов, потребовала большого напряжения. Это
произведение Чайковского Сук очень любил, великолепно
интерпретировал и был крайне неуступчив в малейших своих
требованиях. Состав исполнителей был превосходный; бумаж¬
ные декорации были свежи, сочны и поражали оригинально¬
стью замысла и выполнения. Перед последней картиной в опе¬
ре, как известно, имеется небольшая симфоническая картина
«Полтавский бой». В этой музыкальной «баталии» за опущен¬
ным занавесом, на сцене должен играть военный оркестр, сим¬
волизирующий, по мысли композитора, волю одной из воюющих
сторон. Сук потребовал, чтобы военный оркестр обязательно
был, я охотно этому подчинился. Далее Сук требовал, чтобы
Голинкин руководил выступлениями военного оркестра на сце¬
не. Мне стоило немало усилий склонить этого сдержанного, но
самолюбивого дирижера подчиниться желанию Сука (обычно
военными оркестрами в операх руководил хормейстер).
На двух репетициях «Полтавского боя», когда военные музы¬
канты видели Сука, все шло прекрасно. Но на спектакле, когда
передний занавес отделил военных музыкантов от палочки
Сука, а Голинкин, вместо того чтобы, смотря в дырочку зана¬
веса, по указанию Сука, давать абсолютно точное вступление
военному оркестру, стал дирижировать по-своему. «Полтав¬
ский бой»... остался нерешенным, и Голинкин отступил на зара¬
нее подготовленные позиции — ушел домой. Я был в ужасе,
я трепетал, боясь встречи с Суком. Какого же было мое удивле¬
ние, когда Сук, красный и потный, выходя из оркестра, смеялся
своим высоким заразительным смехом.
— Николай Николаевич! — громко закричал мне Сук: —
Вы знаете, кто победил под Полтавой?
— Русские, конечно! — робко ответил я ему.
— Нет, никто не победил! — продолжал смеяться Сук,
добродушно намекая на бегство Голинкина и воцарившуюся
суматоху на сцене.
Этим было исчерпано все, и добродушный Сук никогда впо¬
следствии не вспоминал «полтавского» недоразумения. В этом
эпизоде оперы военному оркестру всегда стал давать вступле¬
ние аккуратный и точный хормейстер В. В. Шток.
Казанский оперный сезон заканчивался. Наступил декабрь.
Драматическая труппа из Саратова переезжала в Казань, а опе¬
ра из Казани должна была передвинуться в Саратов. Этот слож¬
88
ный процесс обмена труппами лежал на моей ответствен¬
ности.
На Волге был сплошной ледоход, и наш огромный коллек¬
тив — артисты, оркестр, хор, балет, все оперное имущество —
должен был переправляться около села Березники, что выше
Казани, на другой берег. Железнодорожный мост был еще не
готов, и вся переправа совершалась на лодках, лавировавших
среди льдов, а иногда и боровшихся с ледоходом, под сильным
снегопадом суровой зимы. Жутко было мне, распорядителю
переправы, смотреть на переполненные народом лодки, которые
исчезали за снежной пеленой. — А вдруг лодка перевернется
от напора льда?! Или ее перевернет быстрым течением Волги?!
Писк детей, крики женщин, брань и проклятия мужчин —
все это я воспринимал очень остро и болезненно, так как цели¬
ком, как представитель дирекции, отвечал за успех перепра¬
вы. Когда с последней лодкой я сам переехал на другой берег,
то счастью моему не было границ: все было благополучно.
В помещении маленькой станции на той стороне Волги, где мы
должны были ночевать, стояло несколько крестьянских само¬
варов, в зале пахло колбасой, чесноком, копченой рыбой, чер¬
ным хлебом и кем-то неосторожно пролитой водкой. Моя «поста¬
новка» переправы удалась! С удовольствием выпил я стакан
крепкого чая с коньяком, который любезно предложил мне
В. И. Сук, сидевший мирно у самоварчика вместе с М. М. Голин¬
киным.
В Саратове наше оперное дело имело огромный успех, труп¬
па, репертуар, постановка — все нравилось требовательной
и взыскательной саратовской публике. Особенный успех имел
Сук, каждое появление которого за дирижерским пюпитром
встречалось громом аплодисментов. Городской Театральный
комитет вынес благодарность Н. И. Собольщикову-Самарину,
переданную ему по телеграфу в Казань. В ответ на это тактич¬
ный антрепренер ответил так: «Я счастлив, что оправдал дове¬
рие города, но без содействия режиссера Боголюбова я был бы
бессилен выполнить свои обязательства. Собольщиков».
Театр был ежедневно полон. Саратовцы очень любили оперу,
но маленький зал типа коробочки, увы, вмещал мало публики,
и приходная часть от сборов не могла покрыть наших расходов.
Рос дефицит. Только теперь я понял всю меру моей ответствен¬
ности за материальную сторону дела. Я дал себе клятву, и сдер¬
жал ее, впредь никогда в жизни не быть распорядителем кре¬
89
дитов и дальше сцены никуда не совать своего носа. Произо¬
шла задержка выплаты содержания труппе на неделю, все ста¬
ли роптать. Я послал паническую телеграмму Собольщикову-Самарину. Он приехал немедленно. Как всегда, спокойный
и ровный, Собольщиков-Самарин, просмотрев бухгалтерию,
за ужином ласково сказал мне: «Напрасно волнуетесь! Наше
дело — драма-опера — общий организм, имеющий одно общее
денежное кровообращение. Опера в маленьком театре — дефи¬
цит, а я с маленьким бюджетом драмы в большом и рентабель¬
ном казанском театре — прибыль. Завтра мы починим ваши
«оперные» прорехи!
Первую ночь за целый месяц спал я спокойно.
Здесь я еще раз дал себе слово никогда не иметь дела ни
с бухгалтерией, ни с какой-либо материальной ответственно¬
стью в театральном деле.
Подведя этот печальный итог, я пришел к выводу, что мое
согласие работать на предложенных в свое время Собольщико¬
вым-Самариным условиях было серьезной ошибкой. Чтобы не
повторять ее, мы с Собольщиковым-Самариным условились так.
Я перехожу на работу режиссером в Тифлис, в антрепризу зна¬
менитого тенора Петербургской императорской сцены H. Н. Фи¬
гнера, настойчиво меня приглашавшего, а Собольщиков-Сама¬
рин найдет для своей оперы опытного и, главное, практичного
в финансовом отношении человека. На этом мы и порешили.
Собольщиков-Самарин взял с меня слово, что через год я снова
возвращусь к нему.
Тифлис.
Дирекция
H. Н. Фигнера
Баку.
Антреприза
П. М. Зурабова
Кого из нас, жителей безграничных просторов равнинной
России, не влек к себе Кавказ? Кто, воспитанный поэзией
Лермонтова и Пушкина, не носил в душе сладкой надежды
хотя бы один раз в жизни. увидеть землю плодородной Грузии?
В Тифлис мне пришлось ехать вместе с баритоном
Б. Б. Амирджаном, приглашенным Фигнером в свою тифлис¬
скую оперу. Амирджан был коренным кавказцем, и все красоты
Военно-Грузинской дороги, возбуждавшие во мне такой бурный
восторг, были ему знакомы с юных лет; он мальчиком исходил
пешком этот сказочный горный путь вдоль и поперек. Каждый
уголок дороги, каждый аул, каждая гора, каждая часовня, род¬
ник, крест или гостеприимный духан — все Амирджану было
своим и близким. И он научил меня понимать и чувствовать
поэзию этой замечательной дороги.
Тифлисский оперный театр был одним из тех мероприятий,
которыми царское правительство предполагало русифициро¬
вать Кавказ. Прекрасное здание оперного театра восточной
архитектуры носило канцелярское наименование — «Казен¬
ный театр». Правительство отпускало на содержание театра
большие средства — 40 тысяч рублей золотом в год. Средства
91
Глава седьмая
эти расходовались на театральный инвентарь (декорации,
костюмы, ноты и т. п. ), часть субсидии выдавалась антрепренеру
на покрытие дефицита. Оркестр, хор и весь обслуживающий
персонал получали денежное содержание от казны. Антрепре¬
нер, таким образом, находился в очень выгодном положении:
ему надо было только дать хороший состав солистов, который
отвечал бы требованиям кавказских властей — наместника
или, позднее, главнокомандующего, которым в описываемое
время был Голицын. Тифлисский казенный театр был, в миниа¬
тюре, маленьким императорским театром.
Все оперные предприниматели стремились к тому, чтобы
получить в свое владение Тифлисскую оперу, но всех опередил
H. Н. Фигнер. Ему был сдан Тифлисский оперный театр, в виде
пробы, сроком на один год. Сам H. Н. Фигнер в прошлом был
офицером флота, но судьба бросила его на оперную сцену.
Одаренный счастливой сценической внешностью, резким, но
выразительным вокалом, Фигнер был наделен огромным темпе¬
раментом. Он не только пламенел сам, но и слушатели заража¬
лись его пафосом — немного ходульным, но горячим и очень
гипнотическим. Как алмаз выигрывает от шлифовки, так и рез¬
кий голос Фигнера и его сценическая порывистость были смяг¬
чены благотворным влиянием его жены, итальянки Медеи
Фигнер-Мей. Выдающаяся певица и артистка, Медея Ивановна
была виртуозом бельканто и обладала идеальным чувством
меры на сцене. Такие «полярности» в ее репертуаре, как Татья¬
на и Иоланта, с одной стороны, и огненная Кармен, — с другой,
талантливая итальянка преодолевала легко и с блеском.
Супруги Фигнеры были очень дружны с П. И. Чайковским
и часто гостили со своими детьми в гостеприимном домике ком¬
позитора в Клину. Известно также, что творческая индивидуаль¬
ность H. Н. Фигнера оказала влияние на Чайковского при соз¬
дании им «Пиковой дамы».
Положение Фигнера на сцене императорской оперы в Петер¬
бурге было прочно и незыблемо. Признанный премьер, любимец
публики и авторитет в глазах дирекции, принятый в аристокра¬
тических кругах Петербурга, Фигнер пользовался правом «вето»
во всех сценических вопросах императорской оперы, в которой
он и его супруга занимали первое место.
Но, увы, все проходит. Появление Собинова, певца и ар¬
тиста высокой вокальной и сценической культуры, и вторжение
в атмосферу казенных театров яркого гения Шаляпина, — все
92
это сразу сделало творчество Фигнера в глазах публики арха¬
ичным и устарелым. Властный и избалованный артист стал
метаться: то он становится во главе частной оперы Народного
дома в Петербурге, то, когда эта форма деятельности его не
удовлетворила, Фигнер задумал стать директором Казенного
оперного театра в Тифлисе.
Тифлисское оперное дело, когда я с ним ближе познакомился
и установил хорошие деловые отношения с темпераментным
H. Н. Фигнером, стало мне абсолютно понятным. Фигнер и его
новая супруга, с которой он приехал в Тифлис, молодая певи¬
ца Рене-Радина, должны быть центром Тифлисской оперы, что
по существу, так и получалось, потому что состав труппы, подо¬
бранной Фигнером, не отличался обилием талантов. Главным
дирижером был мой старый сослуживец Е. Д. Эспозито, хоро¬
ший музыкант и композитор; в труппу Фигнера он перешел
от С. И. Мамонтова, у которого Эспозито, ловкий дипломат-
итальянец, был всем — дирижером, аккомпаниатором и даже
композитором, написавшим на либретто Мамонтова оперу из
жизни неаполитанских босяков под названием «Каморра». Фиг¬
нер очень дорожил Эспозито, который был нетребовательным
и во всем предупреждал и угадывал малейшие желания
директора.
Доверие Фигнера ко мне особенно выросло после того, как
я поставил «Тоску», прекрасно изученную мною в Милане.
Располагая планами и снимками постановки этой оперы в «Ла
Скала», я удачно оформил ее вместе с тифлисским художником
Новаком. Этот спектакль упрочил мое положение в театре еще
и потому, что и сам Фигнер и Рене-Радина имели в «Тоске»,
впервые шедшей в Тифлисе, большой успех. Этого было доста¬
точно, чтобы требовательный Фигнер произвел сразу меня на
афишах в сан главного режиссера. Это не вызвало никаких
осложнений, так как я был единственным режиссером в
труппе.
В дальнейшем мною была поставлена очень интересная
опера Направника «Франческа да Римини», мало кому извест¬
ная, но обладающая большими музыкальными достоинствами.
Франческу пела Рене-Радина, а Паоло — Фигнер.
Вообще весь тифлисский оперный сезон производил впе¬
чатление бесконечно варьируемого любовного дуэта между ста¬
реющим Фигнером и молодой певицей, делающей, что называет¬
ся, себе «карьеру». Радина была молода, свежа и женственна.
93
Голос у певицы был теплый, но таланта у нее хватило ровно
только на одно: привязать к себе навсегда потерявшего голову
Фигнера...
Оркестр, хор, балет и техническо-монтировочный персонал,
получавшие казенное жалование, были вне каких бы то ни было
упреков. Но меня как главного режиссера, понимающего свою
ответственность и стремящегося быть требовательным, сму¬
щала на сцене одна молчаливая и, как мне казалось, малодея¬
тельная фигура. Это был заведующий бутафорско-реквизитор¬
ским цехом Илико Каргаретели. Меня возмущало то, что этот
молчаливый грузин, всегда в застегнутом сюртуке, всегда так
мало подвижен, в то время как я вихрем летаю по сцене. Все
двигалось во время спектакля, только один Каргаретели был
вне общего ритма. Правда, справедливости ради, надо сказать,
что цех Каргаретели работал вполне исправно — очевидно он
умел, не волнуясь и не суетясь, организовать работу должным
образом.
Каргаретели видел, что я имею против него «зуб», и решил
его вырвать на нейтральной почве. Однажды, после короткого
спектакля, он пригласил меня в один из тбилисских ресторанов.
Я знал широкое гостеприимство и хлебосольство грузин и соз¬
навал, что отказываться от приглашения — значит оскорбить
человека. Это был тот арсенал воздействия, который применил
ко мне спокойный Каргаретели. Ресторан, очень напоминав¬
ший древнехристианские катакомбы, произвел на меня странное
впечатление, но там, как говорили, была лучшая грузинская
кухня. И не одно грузинское хлебосольство, которое я испыты¬
вал в Тифлисе всюду и везде, не это прекрасное свойство гру¬
зинского характера, в данном случае, взволновало меня. В ли¬
це Илико Каргаретели я увидел совершенно своеобразную
индивидуальность, под спокойной и ординарной внешностью
которой таились какие-то непонятные еще для меня силы.
После этого вечера я сблизился с Каргаретели, и он понемногу
стал руководить и направлять мое мышление. Прежде всего
знаток искусства Грузии — ее архитектуры, ее поэзии, Карга¬
ретели познакомил меня с творчеством Руставели и написал мне
по-русски содержание некоторых стихотворений поэта Важа
Пшавелы. Фабула этих стихов так увлекла меня, что, поль¬
зуясь прозаическим переводом Каргаретели, я облек в стихот¬
ворную форму два стихотворения Пшавелы и поместил их
в газете «Кавказ»...
94
Началась русско-японская война. Она развивалась груст¬
ной и оскорбительной кровавой хроникой для русского наро¬
да. Бездарное командование, отсутствие цели, вагоны, в кото¬
рых вместо снарядов посылались иконы, падение Порт-Артура,
Цусима, позорный мир — все это давило русское общество...
Театральные предприятия тоже переживали депрессию,
и опера Фигнера в первую очередь. Состав труппы не мог
удовлетворить требовательных тифлисцев. Театральные завсег¬
датаи острили, что им надоело быть свидетелями почти ежед¬
невных свиданий Фигнера на сцене со своей женой: «Пусть он
их устраивает у себя дома».
Дирекция Фигнера в Тифлисе фактически закончилась, и ра¬
дости моей не было границ, когда получена была ласковая
телеграмма от Собольщикова, который предлагал мне снова
с будущей осени возвратиться на работу в Казань и Саратов.
Я радостно принял это предложение. Черствый, сухой
и в общем довольно неприятный Фигнер меня не привлекал.
Особенно эти черты его характера проявлялись в спектаклях,
в которых он сам пел.
Надо все же отметить, что Фигнер был ярким явлением рус¬
ской оперной сцены. Прекрасная фигура, отчетливая ясность
и строгая продуманность исполнения каждой роли, изумитель¬
ная дикция — все это требовало от окружавших певца арти¬
стов точно такой же серьезности и четкости. Имея голос сталь¬
ного оттенка, певец строго подчинял его смыслу каждого сло¬
ва; в лирических моментах он силой огромного напряжения
добивался предельной мягкости и нежности звука; в патетиче¬
ских местах Фигнер поднимался до таких трагических высот,
которых достигали только великие драматические артисты.
Кто слышал Фигнера в «Отелло», «Пиковой даме», «Ромео
и Джульетте», «Опричнике» и «Фра-Дьяволо», тот может понять,
почему целых четверть века его исключительный актерский
талант владел вниманием избалованной публики столицы,
видевшей на своих сценах и слышавших лучших представите¬
лей мирового оперного искусства.
По своей натуре Фигнер был человеком корыстным, а ко¬
рысть всегда деятельна. Поэтому, утеряв право на Тифлисский
казенный театр, этот предприимчивый актер-делец приобретает
на Керченском перешейке соляной промысел и еще крепче начи¬
нает эксплуатировать принадлежавший ему на Нижегородской
ярмарке огромный театр с лавками и гостиницей.
95
Тифлисский оперный сезон приближался к концу. Из сосед¬
него Баку приехал представитель оперной антрепризы Зурабо¬
ва, чтобы дополнить состав оперной труппы для весеннего
бакинского оперного сезона. Этим представителем был
М. М. Валентинов, один из редких и удивительных людей. Он
в совершенстве знал и понимал оперное дело. Будучи в высо¬
кой степени честным и прямым человеком, он никогда не умел
лгать и хитрить — данное им кому-нибудь слово было крепче
векселя. Все выдающиеся оперные артисты уважали и ценили
Валентинова, даже неистовый в обращении с антрепренерами
Шаляпин был с ним всегда корректен.
Бакинское оперное дело было довольно оригинально: про¬
должавшееся всего четыре недели великого поста, оно ежегодно
стремилось дать публике самых знаменитых оперных певцов.
Наряду с Шаляпиным, Собиновым, Смирновым, Тартаковым,
Камионским и другими корифеями русской оперы в Баку
гастролировали и знаменитые итальянцы — Мария Гальвани,
Маттиа Баттистини, Джузеппе Ансельми, Марио Саммарко
и Мария Гай.
Небольшой театрик нефтепромышленника-миллионера Тагие¬
ва не мог, конечно, покрывать чудовищных расходов по
гастролям, и поэтому среди богачей, воротил нефтяного дела,
была установлена своеобразная гарантия неизбежных убытков
и возможность крупного авансирования артистов. Душой этого
своеобразного предприятия был Зурабов, находившийся
в дружеских отношениях со всеми нефтепромышленниками —
а их было немало в городе «черного золота».
П. М. Зурабов, человек небогатый, но наделенный талантом
и темпераментом авантюриста, умело и остроумно спекулировал
на театре. В тогдашнем Баку спекулировали все — кто на неф¬
ти, кто на продаже и покупке нефтяных участков, кто на мак¬
лерстве и оптовой торговле рисом и персидскими фруктами
или на самом ходком товаре — на дешевой рабочей силе
И вполне естественно, что Зурабов нашел в этом городе для
себя благодарную почву. Его талант расцвел здесь полностью.
Оригинальным способом удавалось Зурабову организовать
денежные фонды для оперного сезона. Свою деятельность он
развивал с рождественских праздников. Среди богатых нефтя¬
ников он продавал места, главным образом ложи, по непомерно
вздутым ценам. Если, например, какой-нибудь богач покупал
ложу № 3 за две тысячи рублей, то ложа № 1 продавалась
96
другому нефтяному крезу уже за три или четыре тысячи — все
зависело от того ажиотажа или от соревнования, которые Зура¬
бов умел мастерски создавать.
Лож в театре Тагиева было много и богатая семейная публи¬
ка очень их любила. Места партера Зурабов продавал обычно
в Общественном собрании, где в верхнем зале велась крупная
игра. Там, у круглых столов, выигрывались и проигрывались
астрономические суммы. Здесь Зурабов был «странствующей
театральной кассой»: выигравшие покупали билеты с радости,
а проигравшие — от огорчения. Так или иначе, но остроумный
Зурабов организовывал публику, и к необходимому сроку на
его текущем счете имелась нужная сумма, вполне гарантирую¬
щая бездефицитное существование короткого оперного сезона.
Ни бухгалтерии, ни счетоводов Зурабов не признавал и не
имел, все денежные операции он отмечал на туго накрахмален¬
ных манжетах своей рубашки. Но память у него, как я в том
не раз убеждался, была феноменальная и вполне равнялась его
изворотливости.
Приглашал всех знаменитостей в дело Зурабова М. М. Ва¬
лентинов, человек вполне авторитетный и непогрешимый.
В дела же оперы Валентинов не вмешивался, оставаясь только
консультантом.
Мое положение было ужасным — вся режиссерская работа
парализовалась жуткой бедностью театрального инвентаря.
Театр Тагиева сдавался второстепенному драматическому
антрепренеру Васильеву-Вятскому, чередовавшему в сезоне
драму с опереткой и украинской труппой. Художественный
уровень этих зрелищ был крайне низок. Для оперы в театре
просто не было декораций. Привозя необходимые для оперных
спектаклей костюмы из Тифлиса, Зурабов о декорациях даже
не думал.
«Поют, Коля, — он был со мною, как и со всеми, после
третьего дня работы на ты, — поют не декорации, а певцы!
Наша публика приходит слушать замечательное пение, а не
смотреть красивые картинки на сцене».
Цинизм Зурабова был безграничен. Но что мне оставалось
делать? Уехать, бросить интересное дело, обречь себя и своде
семью на голод я не мог. Оставалось бороться с самим собой
и обстоятельствами. Я так и поступил. Перебирая ночами
с декоратором и машинистом сараи, мы доставали разное старье
из драмы и опереток и приспосабливали его к опере. Мой юно-
97
шеский саратовский стаж художника-декоратора очень помог
мне на этот раз. Декоратор театра, в недавнем прошлом маляр,
оказался понятливым человеком и к началу сезона иностранные
оперы были смонтированы: декораций никто не замечал,
и публика все свое внимание отдавала искусству итальян¬
ских певцов.
Труднее было со спектаклями Шаляпина — два раза шел
«Фауст» и один раз «Русалка». За эти спектакли он получил
пять тысяч рублей — сумма по тому времени баснословная.
Театр был переполнен. Дешевые места, билеты на которые пре¬
дусмотрительный Зурабов припрятал, продавались из-под полы,
по сверхнормальным ценам — лишь бы слышать Шаляпина!
Зурабов умел делать деньги!
Обстановку «Фауста» мне удалось кое-как организовать, но
с «Русалкой» было труднее — необходима была декорация
подводного царства, заменить которую было невозможно.
Я настойчиво требовал от Зурабова создания этой деко¬
рации.
Кому нужно твое подводное царство? Сейчас царство Шаля¬
пина, а под водой он не поет! — и Зурабов полуласково, полу¬
настойчиво потащил меня на сцену и подвел к «глазку» перед¬
него занавеса. Шел «Севильский цирюльник» с Марией Гальва¬
ни. Театр был полон. — Смотри! — с мефистофельской интона¬
цией произнес над моей головой Зурабов.
Картина, которую я увидел через дырочку в занавесе, ока¬
залась действительно оригинальной. Весь партер был заполнен
отлично одетыми мужчинами с обязательными черными персид¬
скими шапочками на головах. Но всего удивительнее были
многочисленные ложи бель-этажа. Все открытые рамы лож
были затянуты черной или темно-синей кисеей, через которую
невозможно было видеть, что находится внутри лож. Это про¬
извело на меня впечатление какого-то траура.
Оказывается, в ложах находились богачи-мусульмане с же¬
нами и дочерьми, лица которых не должны были видеть мужчи¬
ны. Это было, как понял я, своего рода театральной «чадрой»,
предусмотрительно сконструированной изобретательным Зура¬
бовым. Ни одной мусульманки на улицах Баку нельзя было
увидеть тогда с открытым лицом. Через тонкий тюль зрители,
находившиеся в ложах, видели, что происходит на сцене
и в зале, но ничей нескромный взгляд не мог проникнуть
в ложу.
98
— Что? — сказал торжествующий Зурабов, — очень им нуж¬
но твое подводное царство?! Работой твоей я очень доволен,
и ты от меня получишь хороший ковер. Но ни обещанный
ковер, ни необычный вид зрительного зала не сломили моего
решения. Я стоял на своем. По совету М. М. Валентинова,
мне все же была выделена небольшая сумма. Но времени оста¬
валось очень мало и о живописном решении подводного царства
думать было невозможно. Мы решились прибегнуть к своеобраз¬
ной конструкции. Изобретательный машинист сцены Нерсес,
бывший моряк Каспийского флота, и мой маляр, которого
я прозвал «Тинторетто», помогли мне найти выход. На фоне
темно-синего задника, имевшегося в театре, красовалась трех¬
метровая вогнутая раковина, выложенная внутри осколками
зеркал и украшенная висящими хрустальными призмами от
люстр. На полу стояли два ряда высокого ленкоранского камы¬
ша, смазанного клеем и осыпанного серебряным елочным
порошком; на планшете сцены, параллельно ряду камышей, мы
навалили горы белого персидского хлопка, взятого Зурабовым
из хлопкового склада Тагиева. Горам этого хлопка был придан
волнообразный контур. Под голубым светом они были очень
похожи на волны.
Когда подняли занавес и зеркала в раковине заиграли сотня¬
ми огней, передавая свои блики призмам, а камыш засветился
бриллиантовыми искрами, хлопок вдруг как бы ожил под
волнообразными лучами лунного света. На сцене вступила
в силу та примитивная магия театра, которая заставила публи¬
ку разразиться громом аплодисментов...
Блестящий бакинский оперный сезон заканчивался бенефи¬
сом Зурабова. В нем участвовали все певцы—русские и итальян¬
ские — кроме уехавшего уже Шаляпина. Бенефис этот был
торжеством оборотистого антрепренера. Зрительный зал чест¬
вовал одного из своих коллег. Ценные подарки, бурдюки
с вином, белый живой барашек, перевитый гирляндами роз,
роскошный шелковый бухарский халат с тюбетейкой, который
тут же на сцене Зурабов под общий хохот и аплодисменты надел
на себя, — все это имело характер «бакинского карнавала»,
который я видел впервые. Торжество немного омрачило появле¬
ние на сцене племянника Тагиева, передавшего Зурабову на
подносе пакет от своего дяди. Все затаили дыхание — что могло
быть в пакете? Разорвав пакет, Зурабов сделал кислую мину —
в нем было на восемь тысяч рублей его, зурабовских, вексе¬
99
лей, которые великодушный миллионер возвращал бенефи¬
цианту.
— Как будто, — сказал Зурабов, — я собирался когда-ни¬
будь платить по этим векселям!
После бенефиса Зурабову устроили в Общественном собра¬
нии продолжавшийся до рассвета ужин, с тамадой, бесконечны¬
ми речами и тостами и с неизменной лезгинкой. После тоста за
меня Зурабов тихо подошел ко мне и конфиденциально сказал:
— Тобою, Коля, очень доволен! Каждый пост можешь приез¬
жать ко мне работать, двери моего театра для тебя всегда
открыты! Я хотел подарить тебе ковер, но что бы ты делал
с ним в вагоне? Вот, передай это своей жене на память, — и он
протянул мне футлярчик, в котором был золотой медальон.
...Итак, завтра еду в Казань. Одна мысль снова очутиться
в серьезном оперном деле Собольщикова-Самарина успокаивала
меня, взбудораженного своеобразием бакинского оперного
сезона.
Глава восьмая
Казань.
Саратов.
Тифлис
Морской пароход, увозивший нас из Баку в Астрахань, про¬
демонстрировал нам классическую морскую качку, характерную
для Каспийского моря. Волны бросали нас то вправо, то вле¬
во, топили нос парохода, а то внезапно осаживали корму на
такую же глубину.
Морские пароходы не подходили к астраханской пристани,
а останавливались на одиннадцатифутовом рейде и там переда¬
вали пассажиров речному пароходу.
Когда на рейде показался астраханский пароход, то пас¬
сажиры, сразу повеселев, успокоились — сейчас Волга примет
всех в свои мощные объятия. Перегрузка пассажиров с морско¬
го парохода на речной близко напоминала бегство каспийских
тюленей, спасающихся от охотников. За 15 минут все пасса¬
жиры, и я в том числе, были уже на борту речного парохода.
Трудно представить себе что-либо более очаровательное,
чем плавание в дельте Волги ранним утром, когда солнце еще
не жжет, когда еще нет комаров, когда кругом разлита какая-то
особенная, умиротворяющая тишина. Пароход двигается мед¬
ленно, иногда немного задерживается, принимая пассажиров
с лодок.
101
Достать билеты на пароход, уходивший вверх по Волге,
можно было только на завтра.
Около сада «Аркадия» в Астрахани находился маленький
уютный домик, где раньше обычно жили наши артисты. Там
живал и я. Во дворе этого дома помещался со своей мастерской
бондарь Болотин. Он неоднократно обращался ко мне с прось¬
бой прослушать его сына, заболевшего, как шутил старик,
«лихорадкой пения».
Когда я послушал голос этого молодого и красивого парня,
то поразился — голос был поставлен от природы! А ведь
отлично известно, что это — самый лучший профессор пения.
Болотин имел культурный вокал, хорошо прикрывал верхи
и инстинктивно правильно распоряжался дыханием. Это был
прекрасного тембра меццохарактерный баритон. Я обрушился
на старого бондаря и потребовал, чтобы он немедленно «набил
обручи» культуры на своего сына. Старик послушался меня,
и из молодого подмастерья вышел прекрасный солист Мариин¬
ского театра — Павел Петрович Болотин. Позднее я сам слы¬
шал его в «Саломее» Р. Штрауса. Он пел партию Иока¬
наана. Вокально и сценически певец был на высоте требований
подлинного искусства.
Решив переночевать в Астрахани, я попросил свою старую
хозяйку приютить меня. Она радушно исполнила мою просьбу.
На столике у окошка появился маленький красной меди старин¬
ный самоварчик, на тарелке соблазнительно красовались под¬
жаренная картошка, белый чурек. Поколотив о косяк двери
прозрачные, как янтарь, аппетитные спинки воблы, хозяюшка
на тарелочке так же поставила их на стол.
После морской качки, когда пища сутки не шла в рот, этот
ужин показался мне восхитительным. Аромат цветков герани
в банках на окнах и благообразное лицо какого-то благочести¬
вейшего архиерея, портрет которого висел на стенке, подейство¬
вали на меня подобно «Ноктюрну» Шопена — мне захотелось
забыться и заснуть!
Утром я снова перечитал деловое и вместе с тем сердечное
письмо Собольщикова-Самарина. Приветствуя мое возвращение
в свое оперное дело, он с нетерпением ожидал нашей встречи
в Казани. Необходимо было уточнить изменения в составе
труппы и наметить репертуар. Меня очень обрадовало сообще¬
ние, что для ведения хозяйственной стороны дела и более
правильного расходования средств Собольщиков-Самарин при-
102
крепляет к оперному делу специального человека. Это меня
очень успокоило, так как я убедился, что в этой области я доста¬
точно беспомощен. В письме было и неприятное известие:
дирижер В. И. Сук перешел на работу в Харьковскую оперу —
она по объему была крупнее, интереснее; в опере был замеча¬
тельный оркестр, хор и балет. Кроме того, Сук очень любил
этот город, и харьковская публика платила ему тем же. Наше
положение представлялось мне очень тяжелым — замены Суку
не было и на оперном горизонте я не видел ни одного выдающе¬
гося дирижера — все они были уже заняты.
Я шел на пароходную пристань, чтобы купить себе билет на
пароход, и на первом же углу большой улицы остановился
в невероятном изумлении. На доске театрального киоска висело
следующее объявление: «Городской театр. Итальянская опера
Кастеллано. Маршрут — Греция, Турция, Болгария, Россия».
Фамилии главных певцов, составлявших, видимо, основу
труппы, были напечатаны крупным шрифтом, остальные фами¬
лии — мелкими буквами.
Я пытался найти на афише фамилию режиссера, но ее не
было. Вместо этого крупными буквами была напечатана фами¬
лия главного дирижера — маэстро Позени.
Были объявлены только четыре спектакля: «Тоска», «Тру¬
бадур», «Кармен» и «Паяцы» в один вечер с «Сельской
честью».
Об оперном антрепренере Кастеллано мне пришлось слышать
еще в Милане. Это был ловкий и предприимчивый итальянец,
умевший, что называется, «делать монету». Обычно Кастеллано
приглашал трех-четырех действительно выдающихся певцов,
платя им в итальянской валюте огромные деньги, а остальное
все было крайне убого. Правда, оркестр и хор (в сильно умень¬
шенном составе) были вполне профессиональны, но как могла
звучать опера при оркестре в двадцать один и хоре в восем¬
надцать человек?
Во время переездов труппы — а их было очень много —
Кастеллано не выдавал Жалования, а лишь финансировал сум¬
мой от одного до трех рублей на суточное питание.
Срок работы труппы Кастеллано был годовой, деньги он
платил аккуратно и оперативно-административная часть пред¬
приятия была поставлена блестяще. Сам «диретторе» * превос¬
* Диретторе — директор {итал. ).
103
ходно знал карту мира и все маршруты ему были хорошо изве¬
стны. Перебросить свою оперу из Египта в Южную Америку,
а оттуда в Турцию или в Россию было для Кастеллано делом
привычным. Среди оркестра и хора и технического персонала
были хорошо воспитанные им администраторы и квартирмей¬
стеры, оплачиваемые Кастеллано особенно. Для этой части
труппы отдыха не существовало.
Когда я занимал в бюро Театрального общества должность
заведующего оперным отделом, Кастеллано следовал со своей
оперой из Китая через Москву в Балканские государства
и Константинополь. Нисколько не стесняясь, Кастеллано ухит¬
рился и в Москве дать несколько спектаклей в театре «Парадиз».
От солистов публика была в восторге, но все остальное возбуди¬
ло недоумение...
Мы с управляющим бюро, корректнейшими. О. Пальминым,
предложили Кастеллано посетить бюро, чтобы зарегистриро¬
вать свои спектакли в Москве. Кастеллано был красивый и
упитанный мужчина, прекрасно одетый, с пышными усами на
свежем улыбающемся лице. Он быстро, но неправильно говорил
по-русски, дополняя недостающие слова движениями пальцев,
украшенных драгоценными кольцами.
Говоря с нами, Кастеллано развивал своеобразную систему
театрального «производства»:
— Как оперный импрессарио я работаю уже немало лет,
и многим певцам создал всемирное имя; выступая перед публи¬
кой разнообразных национальностей, артисты шлифуют у меня
свое дарование и привыкают к интенсивной работе. Лениться
у меня некогда! Контракт священен не только для импрессарио,
но также и для певца. Кто нарушает контракт, тот ставит крест
над своей будущностью и карьерой. Я это твердо знаю. Наша
работа продолжается год без перерыва. При ограниченности
репертуара, репетиций у нас совершенно нет. Оркестранты
и хористы занимаются различными ремеслами — среди них
есть портные, художники, настройщики и переписчики нот.
Есть мастера по изготовлению деревянных оркестровых инстру¬
ментов, гитар и мандолин. Работающим со мною живется непло¬
хо. Я, правда, чужд сентиментальности, потому что она уничто¬
жает практичность. А я практичен, и оттого, может быть, мне
всегда многое удается. Продуктивность в театральной работе
является самой прибыльной «постановкой» в репертуаре моего
оперного предприятия...
104
И вот теперь, спустя несколько лет, я снова встречаюсь
с Кастеллано, этим остроумным и подвижным «пиратом опер¬
ного моря».
Астраханский городской театр, весьма напоминавший казан¬
ский театр, был переполнен — астраханцы любят оперу. Шла
«Тоска». Главные исполнители — сопрано, тенор и баритон —
были выше похвал. Голоса, внешность артистов, их интерпре¬
тация партий — все заставляло забыть, что находишься
в пропахнувшей насквозь рыбой Астрахани, а не в каком-либо
блестящем городе Европы...
Но зато остальное! Оркестр, хор, обстановка — все это
было ниже всякой критики! Я даже невольно с теплым чувством
вспомнил Баку и труппу Зурабова, где оркестр и хор были
прекрасны.
Оркестр труппы Кастеллано состоял из хороших музыкан¬
тов, но их было мало; виолончель иногда играла за фагот,
скрипка — за гобой; в последнем акте, перед арией Каварадос¬
си, когда играют четыре виолончели, их заменяли одна виолон¬
чель, альт и две скрипки; но зато какой был дивный тембр
и фразировка у кларнета, игравшего тему Каварадосси! Подоб¬
ного исполнения мне потом никогда и нигде слушать не при¬
ходилось.
Я пришел в крайнее изумление, когда в дирижере, о кото¬
ром в афише крупными буквами было напечатано — «главный
дирижер маэстро Позени», я увидел за пюпитром хорошо знако¬
мую мне скромную фигуру Якова Абрамовича Позена. Позен
был отличным оперным дирижером; в прошлом скрипач и аль¬
тист, он играл в оперных и симфонических оркестрах под.
управлением лучших дирижеров в России и в Америке. Позен
был дирижером-эклектиком и, не обладая своей яркой инди¬
видуальностью, он от всех знаменитых мастеров, как пчела
с цветов, собрал свой дирижерский мед. Отличительным каче¬
ством Позена было его изумительное умение твердо вести певца
и в то же время мягко и культурно ему аккомпанировать.
Оркестр у Позена никогда не «кричал» — он всегда звучал
умеренно. «Вот, — подумалось, мне, — дирижер для нашего
дела!».
Когда в антракте я увидел Позена и мы дружески с ним
обнялись, я, естественно, спросил его, как он очутился в таком
странном деле и почему он вдруг превратился в итальянца
Позени?
105
— Я был в Одессе в то время, как в труппе Кастеллано,
проезжавшего из Константинополя через Одессу, заболел дири¬
жер, и Кастеллано пригласил временно меня, попросив в дели¬
катной форме изменить в моей фамилии только одну букву.
Я согласился. Таким образом, вместо Позена появился неведо¬
мый Позени. Я доволен, — сказал он, смеясь: —пусть этот
Позени краснеет за то музыкальное свинство, в котором
участвует Позен по причине острой нужды. С Кастеллано я еду
только до Самары. Оттуда уже прямо в Казань.
Когда я намекнул Позену о возможности нашей совместной
работы в опере Собольщикова-Самарина, радости его не было
границ. Прослушав еще «Трубадура», я уехал в Казань.
Когда в хороший, погожий день плывешь на комфортабель¬
ном, стройном и белом, как чайка, волжском пароходе, а берега
реки, с детства тебе знакомые, кажутся новыми и интересны¬
ми, — сколько в этом тихой и не пережитой еще радости! Кру¬
гом нет знакомых, ты одинок на пароходе. Одноместная каюта
служит на три дня добровольной тюрьмой. Но в то же время
ты со всеми близок, молчаливо общаешься — и в этом есть
своя прелесть: нет банальных вопросов и безразличных ответов.
Каждый, кто знает высокое наслаждение быть наедине с собой,
тот поймет поэзию плавания на Волге, где воздух так чист,
где силен и ароматен дух прибрежного тальника и где, наконец,
так вкусна янтарная уха из стерлядей...
Палубные пассажиры тоже захвачены этим настроением
тишины и покоя. Как аппетитен волжский калач с зеленым
луком и жирная вобла свежего улова!.. А глоток водки, равный
целому стакану, совершенно незаметно растворяется в потоках
чая, который особенно вкусно пьется на Волге...
Все это я переживал, приближаясь к дорогой моему серд¬
цу Казани.
...Зимний сезон в Казани и Саратове протекал удачно.
Позен, по моему совету приглашенный Н. И. Собольщиковым-
Самариным, вполне оправдал себя. Он, конечно, не мог заста¬
вить забыть В. И. Сука, но новые постановки, которые мы
с Позеном осуществили, очень укрепили его положение в деле.
Вначале нами была поставлена «Юдифь» Серова; в этой опере
у нас были прекрасные исполнители главных партий — с хоро¬
шими голосами и подлинными актерскими способностями.
Очень яркими артистическими индивидуальностями нового
состава труппы были меццо-сопрано Е. В. Стефанович и тенор
106
А. Г. Борисенко. Дарование Стефанович с первого выхода ее
в «Кармен» захватило публику, и успех артистки рос от спек¬
такля к спектаклю. Женщина невысокого роста, с прелестной
пропорциональной фигурой, Стефанович обладала очарователь¬
ным лицом, на котором отражались все страсти, которыми были
насыщены исполняемые ею партии. Артистка мастерски владела
музыкальной и драматической стихией оперы, чему очень помо¬
гали ей певучий, как виолончель, теплый голос. При этом
Стефанович во всем обладала чувством меры, исключая, впрочем,
одного — чувства любви к мужу, довольно неудачному драма¬
тическому тенору. Если мужу ее не давали петь, Стефанович
болезненно реагировала на это, и неудовольствие талантливой
артистки вредно отражалось на текущем репертуаре. Но посте¬
пенно это сгладилось; Стефанович не перестала любить мужа,
но муж ее перестал петь.
С тенором А. Г. Борисенко, на котором я, главным образом,
думал строить репертуар, положение было тяжелым. Очень
хороший актер, совершенно чуждый оперной рутины, Бори¬
сенко производил впечатление настоящего драматического арти¬
ста, поющего в опере, увы, довольно неприятным голосом. Ни
высокая музыкальность артиста, ни его отличная фигура —
ничто не страховало артиста от холодности публики.
— К Борисенко, — сказал мне как-то Я. А. Позен, — надо
привыкнуть. Вот увидите — он станет любимцем публики.
Для него следует поставить «Вертера».
И действительно, предсказанная Позеном метаморфоза с
Борисенко произошла, когда мы поставили «Вертера», музыку
которого я очень люблю. Мне был очень близок образ Вертера
и я ясно представлял себе, каким он должен быть воплощен на
сцене- В дружной работе с Борисенко и Позеном я нашел еди¬
ное понимание этого образа. Когда в нашу лабораторную
работу вступила еще идеальная Шарлотта — Е. В. Стефано¬
вич, то, естественно, спектакль получился сильным и вол¬
нующим.
Второй акт я сам каждый раз смотрел и слушал с чувством
огромного восхищения! Борисенко в партии «Вертера» покорил
публику. Выразительная внешность, тонкая и изящная фрази¬
ровка, благородство поз, лицо, на котором отражалась вся
трагедия Вертера, — все было полно гётевским Вертером!
И даже самый голос артиста, сухой и неблагодарный, звучал
в этой партии какими-то благородными обертонами.
107
Борисенк в «Вертере», а затем уже и в последующих спек¬
таклях озарило вдохновение, которое Белинский называл
«внезапным проникновением в истину».
Работа в антрепризе Собольщикова-Самарина была легкой,
так как все сознавали, что дело возглавляет человек высокой
нравственности и необычайной честности.
Когда мы с Позеном задумали поставить «Лоэнгрина»
и, советуясь с Собольщиковым-Самариным, сказали ему
о трудностях постановки, Николай Иванович ответил:
— Если вы верите в произведение и не сомневаетесь в своих
силах, то трудностей бояться не следует. Боязнь часто мешает
реализовать хорошие мысли в прекрасной форме. — И он
окрылил нас в нашей работе, выделив для постановки оперы
все, что нужно.
Я с художником Федоровым-Егоровым разработал интерес¬
ный план постановки, а также способ изготовления костюмов
из раскрашенного холста. Труднее всего было с хором для
«Лоэнгрина» — наш состав был маловат. Но инициативный
и энергичный хормейстер В. Б. Шток организовал из студентов-
ветеринаров прекрасный, голосистый дополнительный хор.
Дирижер Позен усилил группу струнных инструментов,
и «Лоэнгрин» прошел с большим успехом в Казани и с еще
большим успехом в Саратове. К премьере «Лоэнгрина» мною
была выпущена специальная популярная брошюра. Лоэнгрина
пел Борисенко, сделавшийся к этому времени любимцем публи¬
ки. Очаровательной Эльзой была Позднякова, певица с голосом
хрустального тембра, женщина редкой красоты и удивительного
обаяния. Баритон Светлов, человек высокого роста, с мрачным,
но благородного тембра голосом, был, по-моему, выдающимся
исполнителем партии Тельрамунда. Мы с дирижером много
поработали, но были вполне удовлетворены результатом нашего
труда, — «Лоэнгрин» получил общее признание и шел при
полных сборах.
После серьезных и сложных постановок, осуществленных
нами в сезоне, необходима была постановка каких-то легких
произведений. Мы поставили прелестную оперу Флотова
«Марта». В осуществлении другого «легкого» спектакля мне
помогла моя московская встреча с С. И. Мамонтовым. Он в это
время, как мне казалось, находился в состоянии депрессии.
Строительство железной дороги на Архангельск, которое он
возглавлял, вызывало много нареканий завистливых и просто
108
досужих людей. Злые языки говорили, что эта дорога построена
только для того, чтобы возить в Москву клюкву. Мало кто
понимал, что эта дорога имеет огромное будущее.
Мамонтов спасался от гримас жизни в искусстве; художни¬
ки, артисты, писатели, поэты, литераторы составляли его
постоянное окружение.
Вместе с композитором-дирижером Эспозито Мамонтов написал
комическую оперу «Каморра» — из жизни лаццарони — ловких
плутов и вымогателей из Неаполя, в цепкие руки которых
попадает богатая русская семья. Неаполитанский песенный
фольклор, чередующийся с лирической музыкой и юмористиче¬
скими сценами, очень остроумно скомпонованное — все это
делало из «Каморры» грациозное, легкое и веселое произведе¬
ние для сцены. Либреттист и соавтор оперы, Мамонтов, беско¬
нечно влюбленный в Италию, предпослал опере следующее
лирическое четверостишие:
Пока солнце в небе блещет,
Пока в жилах бьется кровь,
И волна о берег плещет,
Будет царствовать любовь!
Прослушивание оперы происходило в свое время в роскош¬
ном особняке Мамонтова. Как заведующий оперным отделом
бюро Русского театрального общества, был приглашен и я. На
всю жизнь у меня сохранилось впечатление о той творческой
атмосфере, которую Мамонтов умел вокруг себя создать. Да
и сам он был личностью далеко незаурядной!..
Музыка оперы «Каморра», горячая, темпераментная, говоря¬
щая подлинным языком Южной Италии, волновала. Такое же
волнение испытывал и я от либретто, представляя воплощение
его на сцене. Позднее, я часто, где только мог, ставил на сцене
эту оперу: ее игривая музыка, забавный сюжет были очень
уместны в репертуаре рядом с серьезными монументальными
произведениями.
Включением в репертуар неувядаемой оперы Флотова
«Марта» и шутливо-легкой «Каморры» Эспозито нам удалось
освежить репертуар.
Казанская половина оперного сезона закончилась благо¬
получно. Предстоящий переезд через Волгу уже не являлся, как
прежде, «арктическим» странствованием труппы во льдах —
теперь через Волгу был построен прекрасный железнодорож¬
109
ный мост, и переезд из Казани в Саратов совершался без вся¬
ких опасностей.
Освободившись, по договоренности с Собольщиковым-Сама¬
риным, от хозяйственных обязанностей, я целиком ушел в ре¬
жиссерскую работу, и дело от этого, конечно, только выиграло.
Готовя новые постановки, мне пришлось прежде всего работать
над собой. Ведь в деле Собольщикова-Самарина, имея полную
творческую свободу и достаточный сценический опыт, я обязан
был определить, каков мой режиссерский профиль, чего я хочу
добиться в опере и что я в состоянии фактически сделать?
Это было время, когда идеи Станиславского еще не явля¬
лись проверенной системой создания спектакля. Крепкие дра¬
матические режиссеры типа Синельникова шли путем благо¬
родной индукции — от четкого, простого, как тогда говорили,
к сложному, возвышенному. Потом появился Мейерхольд,
который рекомендовал идти обратным путем. Такая распутица
продолжалась для нас, рядовых работников сцены, до тех
пор, пока взгляды Станиславского не сложились в единую
общепризнанную систему, которая вооружила надежной тео¬
рией всех практиков театра, стоящих на реалистических
позициях.
И вот в этой-то сложной обстановке и формировались мои
взгляды. Я понимал, что работа в оперном театре имеет свои
особенности. Мне стало ясным, что оперный режиссер должен
быть организатором всего спектакля в целом. Общая культура
постановки, стиль декораций, костюмов — все должно носить
на себе следы твердой режиссерской руки, отражать личную
индивидуальность режиссера, его понимание искусства. Работа
с певцами, с хором не должна напоминать труд дрессировщика.
Свои постановочные идеи, свое понимание образов режиссер
должен заранее разработать и непременно уметь твердо и ясно
выражать. Ясность в сценической работе обуздывает сопротив¬
ление людского «материала», делает его податливым и послуш¬
ным. Поэтому режиссеру необходимо быть предельно ясным.
Когда исполнители побеждены и убеждены, то работа с ними
идет легко. Еще одна особенность имеет, по-моему, немало¬
важное значение; в опере режиссер является творцом двух
стихий — сценической и музыкальной. Поэтому он должен быть
одновременно и дирижером в душе. Совершенно лишенный этого
качества режиссер так же мало полезен в опере, как слепой
шофер за рулем автомобиля.
110
Понимание психологии певцов, умение в нужный момент
быть ироничным, простота объяснений и их верная направлен¬
ность, точность и изящество аргументации, волевая настойчи¬
вость — вот то оружие, с которым режиссер в опере всегда
останется победителем.
Опера наша, приехавшая в Саратов к рождественским празд¬
никам, пользовалась большим успехом. Небольшой театр был
постоянно переполнен. К старым любимцам зрителей прибави¬
лись новые — Стефанович и Борисенко. Но Саратов особенно
ценил ансамбль, который почти во всех наших спектаклях был
довольно крепким. Новые постановки, подготовленные в Каза¬
ни, — «Чародейка», «Купец Калашников», «Каморра», «Марта»,
«Вертер» и «Лоэнгрин» — приняты были публикой Саратова
очень тепло. Особенно посчастливилось в этом отношении
«Лоэнгрину», так как немецкой публики в городе было много.
Кроме того, на спектакли «Лоэнгрина» приезжали немцы, даже
из-за Волги. Они организовывали нечто вроде «культпоходов»,
во главе с лютеранским пастором, очень образованным челове¬
ком, замечательным органистом. В день спектакля утром я был
на концерте этого органиста в местной лютеранской церкви.
Он играл произведения Баха. Я с дирижером Позеном был на
хорах и с восхищением следил за музыкой по нотам. Впервые
я слушал Баха на органе — для меня это было высоким
наслаждением!
Пастор в свою очередь благодарил нас за «Лоэнгрина»,
который, по его словам, всем очень понравился.
К масленице приехал к нам Собольщиков-Самарин, которого
встретили, как всегда, очень тепло и радушно. Благодаря всех
за дружную работу, он сказал, что гордится своей оперой. Но
тут же Николай Иванович всех нас опечалил. Он сказал, что
его трехлетний договор с городами Казанью и Саратовым
заканчивается и возобновлять его он не хочет. Долголетняя
связь антрепренера с Нижним Новгородом, его большая привя¬
занность к этому городу и, наконец, желание целиком отдаться
своему прямому делу — драме, — все это продиктовало Соболь¬
щикову-Самарину целесообразность принять решение, о кото¬
ром он нам сообщил, — с будущего года сосредоточить свое
внимание только на драматическом театре в Нижнем Новгороде.
Тут все с горечью вздохнули: одним прекрасным оперным
делом стало меньше и наш коллектив лишился такого мудрого
и благородного антрепренера.
11J
В день моего бенефиса Собольщиков-Самарин щедро отбла¬
годарил меня за труды, поэтому перерыв в работе на лето не
был для меня чувствительным.
Мне недолго пришлось оставаться на распутье. Артист
нашей труппы Иван Петрович Барсов, товарищ Шаляпина по
Казани и мой большой друг, давно носился с одной идеей,
которую он решил во что бы то ни стало реализовать этим летом.
Страстный охотник, рыболов и велосипедист-спортсмен, Ваня
Барсов решил этим летом на велосипеде объехать всю Европу.
Изучив карты с велосипедными маршрутами Западной Европы,
Барсов получил «визы» от всех клубов велотуристов мира.
У Барсова каждая фантазия, как бы она ни была несбыточна,
всегда принимала, в конце концов, реальные формы. Три года
Барсов носился с идеей своего оригинального путешествия —
и совершил все-таки его. Иначе он не был бы Барсовым! Хорошо
зная о моем увлечении велосипедом — мы с ним исколесили
все окрестности Казани, — Барсов предложил мне поехать
с ним. Возможность осуществить такую романтическую поездку
вскружила мне голову... Но, увы, в самом начале под колесами
моего велосипеда оказался камень. Когда я начал готовиться
к этому заманчивому путешествию, все мои планы сразу смеша¬
ла телеграмма из Тифлиса. Тифлисский казенный театр на этот
раз был сдан под оперу бывшему премьеру Московского Боль¬
шого театра Л. Л. Донскому, и он предложил мне место главно¬
го режиссера. Мог ли я раздумывать?! Я был так увлечен
Грузией и Тифлисом, что, конечно, немедленно согласился и, не
раздумывая, подписал контракт, присланный мне Донским.
Естественно, я не мог принять участия в столь длительном
заграничном путешествии. А Барсов был готов к велосипедному
завоеванию заграницы. Все у него предусмотрено, решительно
все, кроме одного — он не знал ни одного иностранного языка.
Моя «велосипедная травма» была для меня столь серьезна,
что я задумал лечить ее тоже велосипедом. Если, подумал я,
мне не суждено видеть велосипедных дорог Европы, то я заменю
их Крымом, который мне тоже незнаком. И я решил объехать
на велосипеде все уголки Тавриды.
И когда я получал от Вани Барсова открытки отовсюду —
из Германии, Швейцарии, Франции, Италии, Бельгии, Дании
и Англии, — змея зависти не глодала так мое сердце — я видел
Крым, который таил в себе такие красоты, о которых я никогда
и не подозревал.
Глава девятая
Тифлис.
Антреприза
Л. Д. Донского.
Кисловодск
После летнего отдыха я снова очутился в Тифлисе. Когда
я был в этом городе впервые, на одном из грузинских обедов
тамада сказал мне в ответ на мои слова о том, что я с сожале¬
нием покидаю Тифлис: «Не грусти, дорогой! Кто хоть раз пьет
воду из Куры, тот навек становится нашим»! И этот афоризм
сыграл роль предсказания — в Тифлисе затем я работал много
раз и всегда очень интересно. Я был профессором оперного
класса Тифлисской консерватории. Театральная публика Тиф¬
лиса, горячая, отзывчивая, воспламеняющаяся, вдохновляла
меня — я сам «горел» в Тифлисе! Как я уже говорил, Тифлис¬
ский казенный театр был сдан Лаврентию Дмитриевичу Дон¬
скому, покинувшему Большой театр. Донской в Москве, как
и Фигнер в Петербурге, четверть века украшал оперную сцену.
Самородок, в прошлом рабочий-маляр, Донской обладал такой
силой природной одаренности, что ему легко далось все:
самообразование, музыкальная и сценическая культура, и ред¬
кое умение владеть своим прекрасным тенором, и абсолютно
верное чувство сцены.
Л. Д. Донской должен бы стать идеальным профессором
пения, учителем сцены. Но скромный по своей натуре человек
ИЗ
вдруг делается почему-то антрепренером оперы, принимая на
себя обязанности, явно ему не подходящие?.. *
Но как в тифлисской антрепризе H. Н. Фигнера, так
и в оперном предприятии Донского, ход событий предопределя¬
ла женщина.
Дело в том, что Донской был женат на артистке Надежде
Эйхенвальд, происходившей из московской артистической семьи
Эйхенвальдов. Отец — художник, мать — выдающаяся арфист¬
ка оркестра Большого театра, профессор Московской консер¬
ватории; дети: Мария — драматическое сопрано, пела под
фамилией Дубровская; Маргарита — солистка Большого театра,
лучшая исполнительница Снегурочки; Антон — известный
оперный дирижер и талантливый композитор-этнограф и, нако¬
нец, Надежда — лирико-колоратурное сопрано и арфистка.
Надежда Эйхенвальд была обаятельна, красива, очень ода¬
рена как артистка. Но голос у нее был небольшой, но, как
тогда любили говорить, «умный».
Донской пригласил в Тифлис дирижера Льва Петровича
Штейнберга. Штейнберг окончил Петербургскую консервато¬
рию, был хорошим пианистом, композитором, и, без сомнения,
выдающимся дирижером; абсолютный слух, изумительное пони¬
мание любого музыкального произведения, художественная его
трактовка и своеобразные тончайшие нюансы — все это выде¬
ляло Штейнберга из окружавших его людей. При этом
Штейнберг обладал необычайным «взмахом», который очень
редко встречается у дирижеров: рука у него была легкая и гра¬
циозная, но в то же время предельно четкая и властная. Она
подчеркивала то, что, быть может, и сам дирижер не всегда
оценивал рассудком.
Оперная труппа Донского была неравноценна, и поэтому
из моей памяти совершенно выпали фамилии многих ее солистов.
Запомнились лишь некоторые имена. Очень яркой фигурой был
баритон Сокольский, обладатель прекрасного голоса с беспре¬
дельными верхами. Несмотря на обилие в голосе Сокольского
металла, он был богат тем тембровым своеобразием, которое
дает неиссякаемое наслаждение слуху.
* Впоследствии Донской занялся тем, что было ему наиболее близко.
В своем небольшом тверском имении, он организовал студию с интерна¬
том для оперных певцов. Эта студия многим вокалистам принесла боль¬
шую пользу.
114
Видное место в труппе занимал бас Дракули. Человек
огромного роста, атлет, в прошлом чемпион-борец, Дракули
наделен был прекрасным голосом и очень скромным сцениче¬
ским дарованием.
Сам Донской, певец прекрасного академического стиля, не
мог, конечно, не нравиться публике. Он пел Рауля в «Гугено¬
тах» и русский репертуар, но ему не удавалось, увы, так захва¬
тить внимание слушателей, как это делал в свое время горячий
и темпераментный Фигнер.
Донской-Эйхенвальд было предопределено, по ходу собы¬
тий, первое место на нашей сцене. И действительно, в «Трави¬
ате» певица имела шумный успех, но еще большее восхищение
певица вызвала исполнением роли Денизы в оперетте Эрве
«Мадемуазель Нитуш», поставленной специально для нее.
В первом действии певица, прекрасная музыкантша, исполняла
свою песенку, аккомпанируя себе на арфе. Примитивный
аккомпанемент этой песенки она обогатила головокружительны¬
ми пассажами. Это производило огромное впечатление, и Эйхен¬
вальд срывала гром аплодисментов.
Нашу труппу украшал молодой грузин, тенор Сараджев
(Вано Сараджашвили). Я прожил долгую жизнь, полную разно¬
образных событий, но впечатление от голоса, от фигуры, от
игры, от выразительных глаз этого певца не исчезло до сих пор!
Стройный, горячий, как молодой арабский конь, Сараджев вно¬
сил с собой на сцену темперамент своей солнечной родины; его
голос, теплый и будто немного усталый, возбуждал у слушателя
те ощущения, которые возникают при чтении знаменитого
стихотворения французского поэта Поля Верлэна «Осенняя
песнь», где каждый звук, каждое слово равноценны музыке.
В полную, силу его талант раскрылся много позднее, когда он
обессмертил себя исполнением партии Абессалома в опере
«Абессалом и Этери» Палиашвили. В опере Донского Сараджев
делал первые робкие шаги.
Живя в ту пору в Тифлисе, мы были очень слабо ориенти¬
рованы в том, что происходит в центральной России. Кавказ¬
ский горный хребет служил как бы непроницаемой преградой,
сквозь которую проникали только скупые и сбивчивые офици¬
альные сообщения, помещаемые в правительственной газете
«Кавказ». Между тем в городе было неспокойно — ползли злове¬
щие слухи и сгущали атмосферу. Кому в такое время было
дело до театра? Он часто пустовал.
115
Мой старый друг Илико Каргаретели снова был на своем
посту. Наша дружба возобновилась. Но в эти дни он был как-то
по-особенному сдержан и замкнут, избегал говорить со мной,
хотя я чувствовал, что его отношение ко мне нисколько не
изменилось. В удобный момент, когда и сам Каргаретели, каза¬
лось, был полон невысказанных дум, я подошел к нему и пред¬
ложил прокатиться за город. Илико согласился и мы на парном
фаэтоне отправились в Белый духан.
Чистый горный воздух п наше дружеское уединение смягчи¬
ли сдержанность моего друга, который не имел никаких основа¬
ний не доверять мне. Каргаретели читал газету «Искра» и был
в курсе всего происходящего. Он растолковал мне суть проис¬
ходивших тогда в России революционных событий.
Теперь это знают все. Но тогда, в 1905 году, каждое слово
Каргаретели было для меня подобно блеску молнии в черном
небе. Каргаретели говорил мне, что Кавказ и особенно Тифлис
безусловно являются революционным котлом, готовым каждый
день к взрыву.
Наш оперный сезон был дезорганизован окончательно — то
часто не было света в связи с недостатком топлива, то панические
слухи, циркулирующие по городу, мешали публике при насту¬
плении темноты выходить из дома. На окраинах Тифлиса кроме
того стали возникать столкновения между армянами и тата¬
рами.
Как я уже говорил, Тифлис в это время был почти изолиро¬
ван от внешнего мира. Отчасти эта изоляция, вероятно, входила
в тактические планы местных властей.
О стачках в Петербурге и в других городах, о создании
Советов рабочих депутатов население Тифлиса не знало совер¬
шенно — в центре внимания были чрезвычайные городские
события.
В центре города, на Головинском проспекте, около Алек¬
сандровского садика, какой-то человек на глазах у многочис¬
ленной публики выбросил из ведра, бывшего у него в руках,
бомбу огромной силы в проезжавшего начальника штаба намест¬
ника генерала Грязнова, который был убит.
В Тифлисе началась пора репрессий. Аресты, обыски, высыл¬
ки из города стали обычным явлением. Они вызваны были ростом
революционного движения. Железнодорожное сообщение, на¬
пример, целиком находилось под контролем революционных
рабочих организаций.
116
Пронесся слух, что под дворец наместника подведены мины.
Наместник был в панике. Сотни солдат-саперов долго трудились
вокруг дворца — был вырыт, на подобие окопов, глубокий ров,
но никаких мин не оказалось. Но все-таки день и ночь в этих
траншеях дежурили солдаты-саперы.
Положение нашей оперы продолжало быть критическим: не
было ни афиш, ни света и, главное, не было публики, предпочи¬
тавшей по вечерам сидеть дома. Скромный, деликатный, но
совершенно неоперативный Донской потерял голову. Из уваже¬
ния к нему Штейнберг и я старались подменять его всюду.
В канцелярии наместника нам удалось из установленной казен¬
ному театру субсидии добиться получения солидной суммы,
чтобы выдать аванс труппе. Но самое трудное было впереди.
Типографии, подвоз горючего — все находилось под контролем
подпольного революционного комитета тифлисских рабочих.
Отправляясь в этот комитет, я просил Каргаретели поехать
с нами, что он ц сделал. Войдя с нами в комнату, где размещал¬
ся Комитет, он представил нас секретарю Комитета и что-то
очень убедительно сказал о нас по-грузински.
Закончив разговор, которым был занят в момент нашего
прихода, секретарь обратился ко мне:
— Товарищ Илико, — сказал он, кивая на Каргаретели, —
рассказал мне все. Театр и опера — вещь очень хорошая, рабо¬
чие оперу любят, хотя она ими не по карману! Театрам придет¬
ся с недельку еще помолчать — надо водворить в городе поря¬
док! Через неделю театры откроются. Мы в этом вам поможем.
Прощаясь с нами, секретарь на минуту задержался с Кар¬
гаретели, что-то горячо говоря ему по-грузински.
Несмотря на помощь ревкома, наше оперное дело все еще
переживало тяжелый кризис. Выбраться из цепких объятий
этого кризиса при большой задолженности и при неработающем
пока театре не было никакой надежды. Это по дореволюцион¬
ным юридическим и моральным нормам театрального законо¬
дательства считалось «форс мажором», то есть ситуацией, при
которой предприниматель ввиду чрезвычайных, непреодолимых
событий снимает с себя всякую материальную ответственность
перед труппой. Л. Д. Донской уже вложил в оперное дело
крупные личные средства и не имел возможности производить
дополнительные расходы на неработающий театр. Все отлично
понимали положение Донского и, ценя его порядочность как
человека и артиста, признали факт «форс мажора». Необходимо
117
было найти выход — и мы искали его. Штейнберг и я сошлись на
одном: переводить наше оперное дело на рельсы «оперного това¬
рищества», когда заработок любого члена труппы зависел бы
от сборов в театре. Это предложение было принято всеми, так
как иного выхода все равно не было. Но!.. Нам пришла мысль
написать князю Голицыну доклад, в котором должно быть
сказано, что раз оперный театр — казенный, то есть правитель¬
ственный театр, то и финансироваться он должен на равных
правах с другими правительственными учреждениями, и, сле¬
довательно, жалование мы должны получать, как и все другие
«чиновники».
Был ли достаточно убедителен мой доклад, но через день
начальник канцелярии сообщил мне решение наместника — все
оперное дело и существующая задолженность по ведомостям
оплачивается до конца сезона из средств казны. Нас очень
обрадовало это решение, так как оно сразу разрешало все
казавшиеся непреодолимыми трудности.
На следующее утро весь состав оперы собрался на сцене
театра, чтобы обсудить положение дела и наметить срок откры¬
тия театра, а также и план работы. Штейнберг и я — мы были
в центре внимания за удачный выход из создавшегося положе¬
ния. В дальнейшем, очевидно, уже Донскому, Штейнбергу
и мне предстояла задача довести дело до конца сезона. Стихий¬
но образовалась «тройка», полномочий и прав которой никто не
оспаривал и распоряжениям которой все добровольно подчи¬
нялись.
Но театр пока еще был мертв! Серовато-голубой зрительный
зал, украшенный восточной росписью, был пуст; прекрасная
сцена, на которой так чудесно звучали все голоса, стояла обна¬
женной, точно инструмент, покрытый пылью, на котором никто
не играет; а холсты декораций, вчера еще при освещении такие
яркие и сочные, висели грязно-серыми тряпками над слегка
покатым планшетом сцены. Весь театр напоминал организм,
сердце которого замерло, остановилось, — нужна была искра,
чтобы жизнь победила смерть! Пока мы собирались начать
говорить о деле, на Головинском проспекте послышались выст¬
релы, крики и цоканье лошадиных копыт по мостовой. Главный
балкон, здания представлял удобное и безопасное место для
наблюдений. Выйдя на этот балкон, я увидел такую картину.
За толпой бегущих безоружных людей на лошадях скакали
казаки и беспорядочно стреляли. Народ бежал в панике.
118
У самого театра, двери которого были наглухо заперты, из толпы
отделилась огромная фигура человека, в котором я сразу узнал
нашего баса Дракули. Он нес на вытянутых руках женщину.
Пока я побежал вниз, чтобы отпереть двери, Дракули исчез.
А толпа все бежала... Через минуту в помещении оркестра,
имевшем свой отдельный выход в переулок, послышался страш¬
ный треск — Дракули своим мощным плечом сорвал дверь,
и мы увидели, как он из оркестровой ямы положил бездыханное
тело женщины около суфлерской будки. Это была артистка
нашего театра Прокудина; во время уличной паники она упала
на панели в обморок, и Дракули, находившийся неподалеку,
применив свою незаурядную силу, спас ее от верной гибели.
Пока все суетились около пришедшей в себя Прокудиной,
в главные двери театра послышался стук прикладов и громкое
приказание: «Открывай!» Имея около себя, на всякий случай,
Дракули, я со сторожем пошел открыть главный вход. В театр,
словно вода в трещину корабля, хлынула толпа казаков.
Возбужденные и злые, они разбежались по всем уголкам
и закоулкам обширного здания, надеясь, очевидно, поймать
революционеров. Но таковых в театре не было. Казаки зря
суетились.
Вся труппа смущенно столпилась на сцене, я находился там
же. Казачий офицер в резкой форме набросился на нас:
— Что здесь такое? Что за конспиративное собрание?
— Здесь нет никакого собрания, —ответил я спокойно, —
здесь театр, в котором мы работаем. Мы, артисты, собрались
для того, чтобы обсудить план работы.
— А все же собрание! — гаркнул офицер. —А вам известно,
что для каждого собрания необходимо разрешение коменданта
города? Мы только что нагайками распустили одно такое
собрание, распустим и вас!..
— Я полагаю, — возразил я, — что к нам нагаек применять
не придется. Вот прочтите! — и я показал этому офицеру рас¬
поряжение князя Голицына о закреплении за нами здания
театра.
Казачий командир сообразил, что в данном случае он пере¬
хватил. Извинившись, он скомандовал: — На коней! В казармы!
Я уже думал, что столь бурный день закончился. Но, увы,
оказалось, что нет! Из Михайловской больницы на фаэтоне за
мной приехал санитар. Боярский, молодой человек, которого
я устроил на стажировку в театре на должность помощника
119
режиссера, был тяжело ранен и хотел меня видеть. Окончив¬
ший пензенское землемерное училище, Боярский случайно
оказался в Тифлисе, куда его привела неудачная и романти¬
ческая любовь.
Когда меня ввели в светлую хирургическую палату, в углу
я сразу заметил кудрявую голову Боярского.
— Ваш помощник ранен пулей навылет в правое легкое.
Рана пока весьма тяжелая и прогноз труден. Волновать больно¬
го не следует! Покажитесь и уходите, — сказал мне шепотом
дежурный врач.
Боярский мне очень обрадовался. Я его успокоил, сказав,
что он должен молчать, и пообещал скоро зайти. Уходя из
больницы, я знал, что Боярский ранен на революционной сход¬
ке, в которой он будто бы принимал активное участие, — так
сообщил больнице жандармский офицер.
Через несколько дней я снова пришел к больному и принес
ему цветы. Радости его не было границ. Он даже пытался поце¬
ловать мою руку, которую мне удалось отдернуть.
— Я перед вами, Николай Николаевич, бесконечно вино¬
ват, — шептал Боярский мне на ухо, — мне поручили распро¬
странить листовки. Я это сделал так, что никто не мог предпола¬
гать, будто это совершено мной. Мне становилось страшно от
мысли, что я могу навлечь неприятности на вас лично и на
театр, пригревший меня.
Через месяц Боярский, не простившись со мной, исчез из
Тифлиса.
Жизнь в театре возобновилась, но шла как-то неуверенно
и нервозно. События в России, известия о которых с опоздани¬
ем, но все же проникали в Тифлис, были слишком грандиозны.
Одно было с очевидностью ясно каждому мыслящему
человеку — а меня Каргаретели заставлял «мыслить», — что
существующий государственный строй прогнил насквозь
и великие социальные перемены близки.
Но жизнь текла своим чередом, надо было существовать,
надо было работать. Это давало какое-то моральное удовлет¬
ворение.
На ближайший летний сезон директор кисловодского театра
М. М. Валентинов пригласил Л. П. Штейнберга и меня к себе на
работу. Штейнбергу предстояло дирижировать превосходным
симфоническим оркестром в раковине Курзала, а я должен был
возглавить режиссерскую часть кисловодской оперы. Владикав¬
120
казская железная дорога управлялась тогда инженером Печков¬
ским, человеком широкого кругозора и инициативы. Печков¬
ский любил кристально чистого Валентинова и доверял ему все,
касающееся дел искусства и музыки на железнодорожной
линии Минеральные воды — Кисловодск.
Когда дела у Валентинова, который никогда не лгал, были
плохи, он шел к Печковскому, на словах определял убытки,
и начальник дороги уменьшал аренду за театр и парк на сумму,
указанную Валентиновым. В прошлом певец-баритон, а затем
суфлер в первоклассных оперных театрах, Валентинов был
великим стратегом оперного дела. Он никогда не желал ничего
для себя лично — ему было приятно, когда все вокруг него
были довольны. На все трудности он реагировал только
своей доброй улыбкой и, пуская дым из папироски, поступал
всегда мудро — так, как надо. Когда вокруг Валентинова
волновались все — дирижер, режиссер, управляющий, админи¬
страторы — боясь, что проливной дождь сорвет многотысячный
сбор от гулянья в парке и помешает съезду публики в оперу, —
«Бывает!» — спокойно говорил Валентинов и шел, как всегда,
на террасу ресторана пить свою очередную кружку пива, за
которой мог сидеть часами. Потоки дождя, уносившие из кассы
Валентинова сотни и тысячи рублей, не нарушали его душев¬
ного равновесия — Марк Маркович был спокоен и невозмутим,
как всегда.
Таким был Валентинов. На протяжении десяти — двенадцати
лет во время летних сезонов я был у него неизменным главным
режиссером.
Кисловодская опера, сезон в которой продолжался всего
полтора месяца (июль — август), имела оригинальный профиль.
Хороший оркестр, хор и балет и вторые солисты у Валентинова
были постоянными. О ведущих артистах, имена которых влия¬
ли на сборы, Валентинов не беспокоился. Весь оперный цвет
России приезжал лечиться в Ессентуки и Кисловодск. Вален¬
тинову стоило протянуть руку — и самое крупное артистиче¬
ское имя появлялось на афише кисловодской оперы. Помню
такой случай. Шла опера «Лакме» с известной певицей Марией
Ван Занд; перед самым спектаклем выяснилось, что нет Нила¬
канты — бас Л. М. Сибиряков не приехал. Валентинов, как
всегда спокойный, берет меня, волнующегося, под руку. Мы
идем в нижний парк, где среди гуляющей публики он заметил
красивую фигуру известного московского баса Н. И. Сперан¬
121
ского. Пятиминутной финансово-дипломатической беседы Ва¬
лентинова со Сперанским было достаточно. Спектакль спасен —
талантливый артист экспромтом прекрасно поет партию
Нилаканты.
Кисловодский оперный сезон Валентинова очень напоминал
нарзанную ванну— он действовал возбуждающе на сердце, сти¬
мулировал жизнедеятельность всего организма. Но главной
прелестью этого сезона была его кратковременность: в кисло¬
водской опере, как и в нарзанной ванне, находиться долго было
противопоказано. Но шесть минут для ванны и шесть недель
для оперы было вполне достаточно.
В деятельности оперных театров было много неправды,
и у меня зародилась гордая мысль хотя бы на этом маленьком
участке сделать что-то новое. Не имея пока серьезных предло¬
жений, я задумал на будущий сезон создать оперное товари¬
щество из артистов, сидевших в Москве без работы. Моя мысль
была подхвачена дирижером, ранее бывшим хормейстером
В. Б. Штоком и басом П. П. Россолимо, принявшим на себя
всю тягость организации товарищества. В то время в Москве
находилось так много безработных певцов, музыкантов, хори¬
стов, что было очень легко организовать не одно, а, пожалуй,
даже несколько товариществ.
Русское театральное общество, признательное мне за раз¬
грузку Москвы от незанятых артистов, выделило заимообразно
необходимые денежные средства rat начало дела. Мы составили
маршрут поездки по Западному краю, который мне был совер¬
шенно неизвестен, но его хорошо знали Шток и Россолимо.
Первым городом намечен был Витебск, очень небольшой тогда
городок, фанатически любивший оперу. В Витебске мы обяза¬
лись работать два месяца, включая рождественские празд¬
ники.
123
Оперное това¬
рищество.
Поездка по
Западному
краю. Киев.
Дирекция
С. В. Брыкина.
Мюнхен
Глава десятая
Финансовые отношения внутри нашего товарищества были
таковы: оркестр, хор, балет (две пары! ) и технический персонал
имели гарантированный заработок. Все остальное делилось на
«марки»: 200, 300, 400 рублей на человека. В зависимости
от свободного остатка средств цифры эти часто уменьшались.
Это бывало, увы, нередко!
Мне предложили гарантировать за «представительство» две¬
сти рублей в месяц, но у меня не могло возникнуть даже и мыс¬
ли согласиться на такое предложение, тем более что моя жена,
певшая в хоре, уже получала 40 рублей в месяц гарантирован¬
ного заработка.
Меня, как завзятого фантазера больше всего занимали
пустяки — какую, например, вывеску будет носить наше дело?
Всякие мысли проносились в голове и наконец нашли свое
окончательное оформление. С большим волнением прочитал
я нашу первую афишу на стене театра.
В верхнем углу афиши была довольно крупная эмблема —
сияющий диск солнца поднимается из темноты, веером разбра¬
сывая вокруг себя лучи.
Наше дело носило очень громкое, но едва ли убеждающее
название: «Первое кооперативное товарищество оперных арти¬
стов». Внизу афиши красовалась не менее громкая подпись:
«Председатель кооперативного оперного товарищества и глав¬
ный режиссер H. Н. Боголюбов». Слово «кооперативное» каза¬
лось мне полным внутреннего революционного смысла. Увы,
здесь меня ожидало некоторое разочарование, предсказанное
умным и дальновидным Россолимо, который к слову «коопера¬
тивное» в оперном деле относился довольно иронически.
Вскоре после начала сезона капельдинер привел за кулисы
человека, который хотел увидеть председателя. Это был человек
гигантского роста, с лицом, заросшим рыжеватой седеющей
бородой. Он назвал себя — это был председатель кооператив¬
ной фабрики фанеры из города Орши — Терентий Диомидо¬
вич Шершень.
— Я приехал, чтобы предложить вам кооперироваться
с нами. Ваша кооперация, вероятно, вырабатывает балалайки,
домры, бандуры, а мы чудесную фанеру — тонкую, как бума¬
га, и толстую, которая крепче всякой доски. И тут же Шершень
выложил на стол образцы своей действительно замечательной
продукции. Я был в смущении и глазами просил Россолимо,
стоявшего рядом, выручить меня.
124
— Вам, господин председатель, — продолжал жужжать Шер¬
шень, — без такой фанеры не обойтись, а ваши балалайки, дом¬
ры, бандуры даже, — снисходительно бросил он, — и гитары
мы все будем забирать.
Наступила очередь Россолимо, великого мастера выпуты¬
ваться из всякого рода недоразумений и выпутывать из них
и меня.
Обращаясь к Шершеню, он начал говорить, очень остроум¬
но копируя торжественную интонацию гостя:
— Уважаемый господин председатель! С будущего года мы
примемся, вероятно, за изготовление балалаек, а в настоящее
время наша кооперация готовит только оперы — мы поем. Вот
кооперироваться с вашим соборным хором, если там есть хоро¬
шие голоса, мы могли бы. Если возможно, пришлите нам вашего
соборного регента. — Смущенный Шершень ушел, забыв на
столе свои образцы.
На следующей афише около моей фамилии уже не было
громкого титула председатель.
Витебский городской театр стоял на шумной и невероятно
людной площади. Зима была очень суровой, и меня очень пора¬
зил способ обогревания, изобретенный витебскими торговками,
полдня проводившими на морозном воздухе. Эти изобретатель¬
ные женщины сидели на больших глиняных сосудах с горячими
углями. Угли и обогревали замерзавших женщин.
Зданием театра заведовал смотритель Тихантовский. Он
же был кассиром.
Наша труппа имела в городе большой успех, делала хоро¬
шие сборы. Тихантовский предпринимал решительно все, чтобы
нашим артистам в Витебске удобно жилось.
Из певцов и певиц нашей труппы публике очень нравились
певица Осипова, лирико-колоратурное сопрано, и изумитель¬
ный баритон Миронов. Он обладал звуком, напоминающим
звон серебряного колокола, который мне пришлось слышать
в миланском соборе. Несмотря на свой небольшой рост, этот
певец, казалось, вырастал до необъятных размеров, когда
он пел, и делался просто «большим», когда интуитивно
верно играл. Миронову прощалось все — его маленький рост,
обыкновенное лицо, — хотелось одного, чтобы этот ма¬
ленький человек не переставал петь!.. После нашего сезона
Миронов куда-то исчез, и мне больше не пришлось с ним встре¬
титься.
125
Хорошим тенором был Данилов. Он был и прекрасным акте¬
ром, но его нервная экзальтация делала неустойчивой его музы¬
кальную интонацию — он постоянно повышал.
Феноменальной силой звука обладал драматический тенор
Корнилов. Но, несмотря на свой замечательный голос, он не
стал большим певцом.
После первого месяца нашей работы в Витебске начались
сплошные бенефисы полюбившихся зрителям артистов. Со сбора
бенефицианту доставалось обычно бенефисная наценка — руб¬
лей 150—200. Кроме этого, витебский полицеймейстер Крылов,
любивший оперу, обычно производил среди публики сбор на
подарок бенефицианту. Размер этого своеобразного полицей¬
ского «мероприятия», составляемого из зрительских рублей,
был невелик — артисткам подносили брошки или дешевые
варшавские часики, а мужчины получали подстаканники или
серебряные портсигары. Ассортимент бенефисных подношений
всегда находился у Тихантовского в кассе.
Наступил день моего бенефиса. Шла опера «Каморра», кото¬
рой дирижировал я сам. Небольшой театрик был полон, и я уже
предвкушал получение серебряного полицеймейстерского под¬
стаканника. После второго акта рабочие типографии, с которы¬
ми у меня были очень теплые отношения, поднесли адрес, где
эмблема нашего товарищества послужила темой для проре¬
волюционного смысла текста адреса. Взволнованный, я ответил
рабочим горячей речью в том же духе. Успех был огромный.
Тщетно ждал я «подарка от публики». Обиженный полицеймей¬
стер роздал обратно рубли, ибо, по его мнению, я оказался
недостойным подарка. Симпатичный и внимательный Тихан¬
товский, чтобы смягчить этот «удар», устроил для меня ужин.
Я стал упорно отказываться, но потом согласился.
И хорошо сделал. Ужин в патриархальной семье был превос¬
ходным, и я нисколько не жалел о неврученном подстаканнике.
После гостеприимного Витебска дальнейшее существование
нашего кооперативного товарищества было трудным. В Минске,
Двинске и Риге (в этом городе нам пришлось играть в латыш¬
ском клубе «Улей») дела шли плохо. И кто заинтересовался бы
нашей оперой в этом городе, где в превосходном здании сущест¬
вовала отличная немецкая опера?
К нам ходили немногочисленные русские, стосковавшиеся
по родной речи, и латыши, привязанные к своему клубу.
И только.
126
Но как бы ни было плохо, наше товарищество, кооперируя
терпение и надежды, держалось стойко. Жалование мы выпла¬
чивали аккуратно, а сами, вырабатывая гроши на «марку»,
едва получали свой прожиточный минимум.
Но с каким теплым чувством я всегда вспоминаю наш
маленький сплоченный коллектив, сохранивший в столь труд¬
ных условиях свое единство! Чем труднее было всем, тем
теснее жался один к другому — и в этом, пускай даже вынуж¬
денном, единении было спасение нашего товарищества. Когда
мы получили на месяц театр в Либаве, мы вздохнули свободно.
Маленький, чистенький, на немецкий манер, приморский горо¬
док встретил нас ласково. Небольшой, но уютный городской
театр на наших спектаклях ежевечерне был полон.
Наша опера была в центре внимания скучающего города.
В хорошеньком ресторане «Петербургской гостиницы», в кото¬
рой мы все жили, вечерами, после спектаклей, с нами многие
старались познакомиться. Отличное немецкое пиво, сосиски
с хреном и буженина с кислой капустой — все это было тем
«цементом», который очень дружески соединял общественность
Либавы с бродячими артистами. На одном из ужинов со мной
познакомился агент местного пароходства и предложил осмо¬
треть огромный пароход «Смоленск», отплывавший в Америку.
На пароходе пятьсот русских и польских евреев эмигриро¬
вали за океан. Это предложение меня заинтересовало.
Подходя к пристани, я увидел огромный корпус «Смолен¬
ска», который в сравнении с изящными белыми коробочками
волжских пароходов, производил впечатление мощного завода.
Мы осматривали кают-компании первого, второго классов,
каюты, машины — все было красивым и грандиозным. Затем
любезный агент, угостив меня в капитанском помещении
ароматным кофе с французским коньяком, пригласил посмо¬
треть помещение эмигрантов. Лучше бы мне не видеть этого!
Колоссальная часть трюмов стального гиганта «Смоленска»,
тех трюмов, где перевозится обычно груз, была приспособлена
для переезда людей через океан. Деревянные нары в несколько
ярусов занимали все пространство; мужчины, женщины, дети,
точно пчелы в улье, заполняли не только все места, но даже
располагались на полу. Пятьсот человек!...
Из широкого входа в трюм, где находились эмигранты, на
меня, словно из грандиозного вентилятора, пахнуло каким-то
страшным смрадом.
127
Собираясь сойти с парохода, я на секунду остановился:
у борта первого класса я увидел хорошо знакомую мне краси¬
вую фигуру Леонида Георгиевича Яковлева. Кумир петербург¬
ской публики, знаменитый в прошлом баритон, прекрасный
«Онегин» и «Демон», Яковлев был необыкновенно любим
П. И. Чайковским. Чайковский находил Яковлева идеальным
исполнителем Онегина, возражая только против его черной
бородки, с которой Яковлев никогда не расставался. В прош¬
лом блестящий гвардейский офицер, обаятельный и благород¬
ный человек, Яковлев обладал баритоном, звук которого очень
напоминал звук голоса итальянского баритона Тита Руффо,
только яковлевский голос был богаче обертонами и бархатистее.
Будучи широкой русской натурой, Яковлев никак не мог
уложиться в строгие рамки жизненного режима знаменитых
итальянских вокалистов. Купаясь в сыпавшихся на него со
всех сторон деньгах и в ласках женщин, он не знал меры.
Увлечение радостями жизни привело к тому, что Яковлев быст¬
ро потерял вокальную «форму» и передал первенство на опер¬
ной сцене другим. Перестав петь в императорской опере, он
стал гастролировать в провинции. Певца стали забывать и скоро
забыли совсем.
И вот теперь, на борту «Смоленска», я встретил знаменитого’
певца. Яковлев постарел, но держался довольно бодро, его
волосы и изящно подстриженная бородка носили заметные
следы подкраски, а лицо, как и прежде, было выразительным
и все еще интересным.
Яковлев разговаривал с немолодой, но, видимо, очень
красивой в прошлом, одетой во все темное дамой.
У меня возникла блистательная идея. Из Либавы мы пере¬
езжаем в Вильно, где товарищество заканчивает свою работу.
«Что, думал я, если пригласить Яковлева на гастроли?» В Виль¬
но имя Яковлева было очень популярно по частым его гастро¬
лям в летнем театре. Я подошел к нему. Узнав меня сразу, он
очень обрадовался. Воспоминания о кисловодских гастролях
в опере Валентинова оживили певца. На мое предложение
спеть в Вильно три спектакля он ответил полным согласием.
— Сегодня я провожаю знакомых в Америку, завтра еду на
три дня в Петербург, а затем буду в Вильно. Мои условия:
150 рублей спектакль, гостиница, дорога. Подтвердив свое
согласие на эти более чем скромные условия, я распрощался
с Яковлевым.
128
Вечерело. Оранжево-красная полоса вечерней зари захвати¬
ла край скучного северного горизонта, с моря стали подни¬
маться туманные испарения, вскоре совсем закрывшие огром¬
ный пароход...
В Вильно наша опера давала свои спектакли в прекрасном
здании городской думы, в котором большой белый зал превра¬
щался в театральное помещение. Виленская публика любила
оперу, и билеты на наши спектакли быстро раскупались. На
три спектакля «Евгения Онегина» с участием Л. Г. Яковлева
все моментально было распродано — публика помнила Яковле¬
ва по прежним гастролям. Фамилия знаменитого баритона была
магнитом для любителей оперы.
Но выступления Л. Г. Яковлева произвели грустное впечат¬
ление на публику и на нас. Всем было как-то «неловко» слу¬
шать сейчас некогда знаменитого исполнителя Онегина. Звук
яковлевского баритона, его металл, его бархатный тембр
и беспредельная, казалось бы, мощь исчезли. По сцене ходил
красивый, но уже пожилой человек и старался петь, как пел
он в совсем еще недалеком прошлом... Но артисты и зрители
словно сговорившись ничем не давали Яковлеву понять его
трагическое положение. После арий публика не восторженно,
как прежде, а снисходительно аплодировала, а мы, — артисты,
после спектакля поднесли Яковлеву лавровый венок. Но все
это, увы, было очень похоже на прощание с дорогим и близким
человеком, уходившим в прошлое!
На втором спектакле «Онегина» с Яковлевым произошел
курьез, очень взволновавший меня. В сцене ссоры Ленского
с Онегиным я вижу, что Яковлев, выйдя из своей роли, подо¬
шел к рампе, достал пенсне (он был близорук) и стал в упор
смотреть в оркестр. Это продолжалось только одно мгновение,
но я подумал, что Яковлев сходит с ума... Когда опустился
занавес, взволнованный Яковлев подошел ко мне:
— Извините, Николай Николаевич, я думал, что со мной
происходит что-то неладное! Я совершенно ясно видел, как
первый скрипач оркестра держит свою скрипку на правом пле¬
че, а смычок в левой руке. Мне показалось, что мой мозг тоже
меняет свое положение... Что это такое? Не посоветоваться ли
с доктором? Никогда я не переживал таких ощущений!
«Доктор» быстро нашелся в лице дирижера В. Б. Штока,
который, громко смеясь, открыл причину смятения Яковлева:
чтобы усилить группу струнных, Шток пригласил на наши
129
спектакли замечательного скрипача-концертмейстера. Но скри¬
пач этот был левшой. Мы от души смеялись, а более других
сам Яковлев.
Я поговорил со Штоком и Россолимо, который управлял
финансами товарищества, о том, что неприлично платить
Яковлеву, который сделал огромные сборы, всего 150 рублей
за выступление. Мы быстро сошлись на сумме в 250 рублей
и, вручив Яковлеву 750 рублей, были обрадованы его словами:
— Спасибо! Это происходит со мной в первый раз. Обычно
антрепренеры, жалуясь на плохие сборы, уменьшали мой
гонорар, а вы, бедняки, подняли его не по заслугам. Сборы-то
были, правда, хорошие, но я-то пел плохо... очень плохо!
Что ж? Будем считать это моим прощальным бенефисом! — гру¬
стно сказал Яковлев, опуская свою прекрасную голову.
Мы трое — Шток, Россолимо и я — не могли отказаться
разделить последний ужин знаменитого певца. На этом ужине
Леонид Георгиевич — изобретатель тридцати рецептов крюшо¬
нов — демонстрировал тридцать первый: в большую хрусталь¬
ную граненую вазу, с накрошенным льдом, Яковлев вылил две
бутылки французского шампанского, бутылку ликера, две бу¬
тылки русского кваса, и затем положил в эту адскую смесь
еще порцию мелконатертого хрена! Сначала мы пили очень
осторожно, но потом рецепт номер 31 нам очень понравился.
Как я уже говорил, спектаклями в Вильне заканчивалась
деятельность Кооперативного оперного товарищества, построен¬
ного на очень привлекательных, но малореальных основах...
Организация наша продержалась и проработала пять с полови¬
ной месяцев. Кооперативный принцип товарищества заключал¬
ся, главным образом в том, что каждый из нас был кооперирован
с чувством страха, — как бы не остаться без каких бы то ни
было средств к существованию! Прижимаясь один к другому,
мы как бы плыли в маленькой, дырявой лодке, но ясное пони¬
мание опасности сурово дисциплинировало нас — и мы все же
приставали к берегу!
Находясь еще в Вильно, я получил от дирекции Киев¬
ской городской оперы предложение занять должность главного
режиссера. Закончив письменные переговоры с директором опе¬
ры С. В. Брыкиным, я отправился в Киев, чтобы ознакомиться
с делом и войти в работу, которая представлялась мне очень
интересной. Киевский городской оперный театр тогда был
одним из самых интересных русских музыкальных театров.
130
В недавно построенном Киевском городском театре три года
находился у власти известный театральный предприниматель
М. М. Бородай, очень солидно поставивший оперное дело в Кие¬
ве. Оно приносило антрепренеру очень солидную прибыль. При
сдаче театра на новое трехлетие Городское управление, учиты¬
вая доходность дела, повысило размеры арендной платы за
театр. М. М. Бородай, упрямый и самолюбивый украинец, от
повышенной платы за аренду категорически отказался.
Этим конфликтом воспользовался артист оперной труппы
Бородая С. В. Брыкин, лирический баритон, превосходный
актер, певец уже немолодой и явно терявший голос. Он принял
все условия Городского управления и получил на новое трех¬
летие в аренду городской театр со всеми его доходными
статьями.
Под понятием доходные статьи театра подразумевались
буфет и вешалка, которые сдавались антрепренером в аренду.
Доходы от буфета и вешалки поступали в распоряжение антре¬
пренера, но для поднятия дела денег этих было недостаточно.
Брыкин, еще вчера бывший рядовым артистом Киевской оперы,
средствами не располагал. Новому антрепренеру пошли навст¬
речу некоторые лица из киевской богатой интеллигенции.
Особенно поддерживал Брыкина киевский предводитель дво¬
рянства Давыдов, племянник П. И. Чайковского и владелец
знаменитого имения «Каменка».
Пользуясь этой помощью, Брыкин поставил оперное дело
в Киеве на большую высоту. Имея университетское образова¬
ние, он был корректным и вполне подходящим руководителем
солидного оперного дела в большом городе.
В Киевской опере был замечательный оркестр, в составе
которого было много талантливых солистов-чехов. Главным
дирижером был Пагани, обрусевший итальянец, дирижерами
Палицын и Эспозито. Киевский оперный хор всегда славился
силой и красотой голосов. И действительно, трудно себе пред¬
ставить, какая красота была в звуке группы теноров, какая
сила и мощь в басовой части хора, и какой бархатной глубины
достигали вторые басы-октависты этого изумительного хора!
Женские голоса вполне соответствовали мужским.
Руководителем хора был выдающийся хормейстер — италь¬
янец Ахилл Каваллини. Очень хороший музыкант, еще лучший
администратор, Каваллини был человеком очень мрачным
и неразговорчивым.
131
Художественно-постановочной частью заведовал художник
Семен Эвенбах. Он не был ни художником-академиком, ни
новатором, постоянно искавшим новых путей в искусстве. Нет,
он был настоящим художником «милостью божьей»: что бы он
ни творил, его талант подсказывал ему все — размеры, ракур¬
сы, сочетания и силу красок. Кроме того, он был прекрасным
рисовальщиком.
Я очень подружился с Эвенбахом и привязался к нему.
Художник платил мне тем же. В результате нашей дружбы
и взаимного понимания появились те постановки, которые за
три года совместной работы в Киевской опере мне с Эвенбахом
удалось осуществить.
. Состав Киевской оперы был большой и очень интересный:
драматические сопрано — Л. Н. Балановская, М. Г. Балиц¬
кая; лирические сопрано — Е. Д. Воронец-Монтвид, Мара
Дерибас, 3. В. Петровская; колоратурные сопрано —
О. А. Шмид, Н. А. Арцыбашева, П. Н. Русова; меццо-сопра¬
но — А. П. Чалеева, Л. А. Дельмас, М. А. Ратмирова; тено¬
ра — П. С. Орешкевич, В. И. Каржевин, В. С. Селявин;
баритоны — П. 3. Андреев, М. В. Бочаров, О. И. Камионский,
А. Г. Сокольский; басы — П. И. Цесевич, Г. А. Боссэ,
П. И. Тихонов.
Труппа была так велика и интересна, что в каждой постанов¬
ке удавалось создавать отличный ансамбль.
Сначала я чувствовал себя не особенно уверенно: из мелких
провинциальных опер я попал в первоклассный оперный театр,
который считался тогда ступенькой к императорским театрам.
Особенно меня смущал мой титул главного режиссера!
Тактичный и осторожный Брыкин, пригласивший меня по
рекомендации Фигнера и Донского, счел нужным все-таки
выяснить — кто я? Для этого он изобрел очень верный, а для
меня приятный способ — две недели я обедал у него дома,
а ужинали мы в гостинице «Франция» обязательно с тремя
дирижерами — Пагани, Эспозито и Палицыным. Атмосфера
широкого гостеприимства очень сблизила всех нас с антре¬
пренером.
Положение мое сразу упрочилось после первой моей рабо¬
ты — постановки «Бориса Годунова». Исключительно удачно
распределились главные роли. Борис — Цесевич. Молодой
и весь какой-то трепетный, он заливал своим изумительным
звуком весь зал театра; Самозванец — Орешкевич. Он словно
132
создан был для этой роли — замечательная дикция, выразитель¬
ное лицо, темперамент и чувство меры, которые можно было
видеть, пожалуй, только у мхатовцев, — все это возвышало
Орешкевича над обычными тенорами оперного театра.
Басы и баритоны были вообще самым сильным местом оперы
Брыкина. В «Борисе Годунове» партия Пимена представляет
для певца огромные трудности; недостаточно иметь прекрасный
голос, надо еще обладать тем высоким искусством, при котором
слова, согретые внутренним чувством, на свободном дыхании
получают определенную смысловую окраску. Я слышал чудес¬
ного Пимена — Касторского. Таким же совершенным исполни¬
телем этой трудной партии в Киеве был культурнейший артист
Боссэ.
Партию Варлаама исполнял бас Тихонов, имевший отлич¬
ный голос. Природа в этот звук огромного диапазона внесла,
независимо от воли певца, такую дозу юмора, что Тихонов,
исполняя даже очень серьезные вокальные партии, вынуждал
слушателя невольно улыбаться. Самый голос у этого одарен¬
ного певца был «комиком». Во всех ролях комедийного плана
Тихонов был неподражаем.
Внешняя сторона постановки «Бориса Годунова» мне
с художником Эвенбахом удалась — художник чувствовал
режиссера, а режиссер помогал и подсказывал художнику все,
что было полезно спектаклю в целом.
С дирижером Пагани, хорошо известным в Тифлисе и Киеве,
я встретился впервые. Он во многом уступал таким дирижерам,
как Сук и Штейнберг, но у него было одно качество, делавшее
его заметной фигурой в опере: он был крайне непримирим
и принципиален, а это, как известно, и образует то, что счи¬
тается характером. Характер у Пагани был твердый, что при
его необычайной честности и абсолютной прямоте импонирова¬
ло всем. Музыкант он был превосходный и образованный; так,
например, он, имея только клавир, оркестровал оперу «Санд¬
рильона» Массне. Когда позднее была получена авторская
партитура оперы, то все оказалось совершенно идентичным
тому, что сделал Пагани. Техника дирижирования у него была,
если так можно выразиться, «филигранной» и тонкой.
Перед сложными новыми постановками режиссер в то время
не должен был докладывать свою экспозицию труппе. Но мне
очень хотелось донести до исполнителей кое-что из того, что
было почерпнуто мной у Пушкина: «Истина страстей, правдо¬
133
подобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот
чего требует наш ум от драматического писателя». Слово
«писатель» я заменил словом «артиста», и мы очень оживленно
побеседовали.
— Боголюбов, — говорили злые языки, — хочет свою обра¬
зованность показать!
На спектакле «Бориса Годунова», имевшем большой успех,
у меня произошла интересная встреча. После сцены «Под Кро¬
мами», где замечательный хор Киевской оперы, будучи единым
вокальным и сценическим организмом, достиг высоких граней
искусства, после этой сцены адъютант пригласил меня в ложу,
находившуюся рядом со сценой.
Взволнованный успехом этой сцены, я предполагал, что
генерал-губернатор станет благодарить меня и в моем лице
труппу за хороший спектакль. Увы! Меня ожидало горькое
разочарование.
Высокий, лысый, с кокетливо подстриженной седенькой
бородкой, одетый в небесного цвета гусарку, которая совер¬
шенно не гармонировала с его преклонным возрастом, генерал-
губернатор сухо и официально обратился ко мне:
— Вы режиссер этого спектакля? Господин... — генерал
заглянул в программу — ...Боголюбов, кажется?
— Совершенно верно, ваше высокопревосходительство,
я режиссер спектакля, — последовал мой ответ.
— Как же вы, любезнейший, — здесь генерал нахохлился,
точно индюк, — позволяете, чтобы на оперной сцене творилось
подобное безобразие: разнузданное мужичье и разная голь
оскорбляет царского наместника, вешают христианских бого¬
служителей и, наконец, словно стадо тупых скотов, именуют
бродягу и вора самозванца — царем и бегут за ним?! Разве это
может совершаться на оперном театре?! В Петербургской опере
не допускают этого, отчего же в Киеве возможно показывать
эту оскорбительную грязь и клевету на русский народ?! Я очень
доволен спектаклем в целом, но эту безобразную сцену уберите!
Скажите Брыкину, чтобы завтра утром был у меня на приеме
в обычное время.
Совершенно иной была вторая встреча в Киеве с украинским
композитором Н. В. Лысенко, с которым меня познакомил
дирижер Палицын. Когда Палицын и я вошли в класс Лысенко
в его музыкальной школе, нам навстречу поднялся седеющий
уже человек с необычайно свежим цветом лица и какими-то
134
лучистыми голубыми глазами. Это и был сам Николай Виталь¬
евич Лысенко.
Лысенко пригласил нас к себе в кабинет, где просто и есте¬
ственно поблагодарил за «Бориса Годунова» и особенно за
сцену «Под Кромами»:
— Я буду счастлив, — сказал композитор, — если когда-
нибудь сцену Запорожской сечи в моем «Тарасе Бульбе» хор
исполнит так, как вчера он исполнил «Кромы».
Как приятно мне было слышать этот теплый отзыв замеча¬
тельного композитора после той «распеканки», которую выслу¬
шал я от генерал-губернатора.
Из беседы с Н. В. Лысенко я понял его тайное желание,
чтобы опера «Тарас Бульба» пошла на сцене Киевской оперы.
Спустя несколько дней мы с Палицыным снова были у Николая
Витальевича, который исполнял нам отрывки из своего «Тара¬
на». Музыка была, как и все произведения Лысенко, изуми¬
тельной, она так верно, живо и сочно отражала все песенное
богатство украинского народа! Но либретто оперы меня сму¬
щало своей малой сценичностью и отсутствием концовок в актах.
Но все-таки я решил посоветовать Брыкину, который в репер¬
туарных вопросах меня всегда слушал, включить в план поста¬
новок «Тараса». Тем более это мне казалось необходимым, что
перед нашим сезоном Бородай поставил оперу Лысенко «Ночь
перед рождеством», имевшую большой успех. Через несколько
дней Брыкин опечалил меня известием, что местные власти
против постановки «Тараса»; не следует подогревать в городе
украинофильскцх настроений! Эта неудача не нарушила моих
дружеских отношений с композитором, и Николай Витальевич
даже приглашал меня работать в оперном классе его музыкаль¬
ной школы. Но времени на это у меня не было.
Следующие мои постановки — я был в деле единственным
режиссером: «Царь-плотник» Лорцинга, опера, в которой пар¬
тию Петра Великого замечательно пел баритон Андреев;
«Сказки Гофмана» с изумительным Гофманом — Орешкевичем;
«Каморра» Эспозито, проходившая в Киеве с неповторимым
составом исполнителей, когда даже маленькие роли исполня¬
лись первыми артистами, и, наконец, «Сандрильона» и «Манон»
Массне. Ставить все эти новые оперы и возобновлять «ходовые»
приходилось мне одному. Вот что может сделать молодость!
Однажды Брыкин сообщил нам очень интересную новость.
В будущем сезоне должны пойти две оперы Вагнера: «Вальки¬
135
рия» и «Тангейзер». Для ознакомления с постановками он дол¬
жен поехать в Мюнхен. Пагани и я должны сопровождать его.
В августе в Мюнхенском оперном театре происходили так
называемые вагнеровские торжества, на которые публика
съезжалась со всех концов света. Билеты на эти спектакли
продавались за много месяцев вперед во всех уголках земного
шара. Этому своеобразному мероприятию предшествовала чудо¬
вищная реклама. Красивые плакаты, брошюры, почтовые марки
с портретом Вагнера, художественные плакаты в вагонах
европейских поездов, миллионы листовок, бросаемых с аэро¬
планов, — все кричало о том, что в августе 1909 года в Мюнхене
состоятся Вагнеровские торжества. И всюду портреты Вагнера!
Они были в журналах, на открытках, на конфетных коробках,
на ящиках сигар, на спинках стульев чистильщиков обуви, на
коробках зубного порошка, на красивых обложках мыла —
всюду был Рихард Вагнер! От этого скрыться было некуда,
и даже ночью на темном небе горели огненные слова; «Мюнхен.
Август. Вагнеровские торжества».
И вот мы в Мюнхене.
Пагани и я устроились в уютном и недорогом пансионе, где
жили художники. Я был для Пагани незаменимым спутником
в городе — старик не знал ни одного слова по-немецки и поэто¬
му очень стеснялся. Я знал всего двадцать — тридцать немецких
слов — и ровно ничего не стеснялся.
Мы пошли осматривать театр, где должны были происходить
вагнеровские спектакли.
Здание театра находилось на краю города.
Внешний вид театра был красив. Афиши «Вагнеровских тор¬
жеств» нег были так безобразно крикливы, как рекламная
шумиха анонсов. Они выглядели строго и лаконично.
С каким волнением Брыкин, Пагани и я вошли в театр, где
нас ожидало откровение. Еще в Киеве я старался сделать из
себя настоящего вагнерианца. Ознакомившись с клавиром
тетралогии, я достал основную литературу о Вагнере и его
собственные сочинения. На «полочках» моего мозга были акку¬
ратно разложены все лейтомотивы вагнеровских опер. Я твердо
знал, когда боги и герои любят, когда сердятся, когда они спят;
мне был знаком язык «огня», «воды», «грома»; признаки «золо¬
та», «меча», «кольца», «дракона». А ритм «ковки меча» я мог
свободно выстукивать на столе пальцами, насвистывая при этом
лейтмотив «птички» из «Зигфрида».
136
Понятно мое состояние, когда мы вступили (именно всту¬
пили, а не вошли) в сиренево-серый зал театра, форма которого
имела какой-то специфический, успокоительный характер.
Передний занавес из синеватого матового плюша, собранный
большими складками, отделял сцену от зрительного зала, имев¬
шего вид амфитеатра.
Все было полно необычайной художественной настроенно¬
сти, которая бесконечно волновала.
Вдруг, панически напуганный, я дернул спокойно уравно¬
вешенного Пагани за рукав так, словно у меня из кармана
вытащили бумажник.
— Маэстро! — в ужасе шептал я Пагани, — а где же оркестр?
Оркестра-то ведь нет!
Пагани спокойно достал пенсне, протер его и сказал:
— Я тоже, месье Боголюбов, оркестра не вижу, но — успо¬
коительно добавил он, —не могут же они давать такие оперы
под рояль? И старик улыбнулся моей наивности.
Недоразумение скоро выяснилось. Оркестр в театрах Ваг¬
нера — в Байрейте и Мюнхене — был совершенно закрыт от
глаз публики. Если вообразить себе грандиозную суфлерскую
будку, своей шириной занимающей все место оркестра, то
сравнение будет, пожалуй, подходящим. Оркестр находится
частично под сценой — над ним нависает авансцена. Музы¬
канты, особенно медная группа, сидят очень глубоко, и сцены
совершенно не видят. Дирижер один видит всю сцену, и дири¬
жера прекрасно видят певцы, оркестр и хор. Планшет сцены
наклонен под таким углом, что зрение всех находящихся на
сцене невольно тяготеет к глазам дирижера. Дирижера абсолют¬
но никто из публики не видит!... Это своеобразное решение
размещения оркестра так меня заинтересовало, что я, никого
не стесняясь, в антракте одного из спектаклей подошел к лаки¬
рованному барьеру оркестра, встал на цыпочки и, ухватившись
за уголок этой грандиозной «суфлерской» будки, заглянул
в оркестровую яму. Помещение этой ямы состояло из ряда
площадок: верхние — для струнных, а нижние — для мед¬
ных; средние площадки занимали деревянные инструменты,
среди которых на особом возвышении красиво размещались
четыре арфы.
«Вагнеровские торжества» имели свои особенности. Спек¬
таклями руководил замечательный немецкий трагический артист
Поссарт, дирижировали операми попеременно выдающиеся
137
немецкие дирижеры — Артур Никиш, Ганс Рихтер, Карл Мук,
Бруно Вальтер, Феликс Моттль.
Лучшие оперные силы Германии, прославленные исполнители
вагнеровских опер, привлекались к участию в этих спектаклях.
Оркестр был составлен из знаменитых оркестрантов Германии
и Австрии, а иногда, как в «Тристане и Изольде», где был необ¬
ходим чарующий звук английского рожка, — из Московского
Большого театра приглашали солиста оркестра Тесситоре;
Никиш для «Тангейзера» обязательно выписывал замечатель¬
ного итальянца-кларнетиста, которого я слышал у Кастеллано
в Астрахани.
Мы внимательно слушали весь цикл. Но, конечно, «Вальки¬
рия», которую мы должны были ставить в Киеве, захватила нас
целиком. Публика, собравшаяся со всех концов мира, произво¬
дила оригинальное впечатление; с партитурами, клавирами
и путеводителями по операм Вагнера в руках, эта публика
казалась серьезной и очень сосредоточенной. Так, вероятно,
когда-то масоны собирались на торжественные заседания своих
лож. Преобладали американцы и англичане — всюду была
слышна английская речь.
Вагнеровские спектакли начинались ровно в четыре часа
дня; после первого действия был антракт, длившийся больше
часа. Во время антракта публика наводняла рестораны и кафе,
где обедала, закусывала и пила кофе. Как только кончался
антракт, на балконе здания театра появлялись трубачи, играв¬
шие трижды коротенький лейтмотив из оперы, шедшей в этот
вечер. Трубы заменяли обычные театральные звонки. Услышав
этот сигнал, публика быстро и организованно заполняла
театр.
Странное впечатление на нас, киевлян, произвели эти
спектакли, столь громко разрекламированные задолго до нача¬
ла торжеств. Потрясал оркестр; совершенно невидимый, он
казался каким-то сверхъестественным органом, звуки которого,
захватив вас в начале оперы, тиранически владели вашим
вниманием до самого конца спектакля. И только последний
аккорд освобождал вас от напряженного внимания, от волшеб¬
ной власти этого изумительного оркестра! Тем большим
абсурдом казалось, что дирижер не был виден слушателям!
Индивидуальность творца всего спектакля, его музыкальной
«волны» — дирижера, рисующего рукой огромный сказочный
мир бесконечной мелодии —эта сила, непрерывно творящая на
138
/
глазах слушателей, была скрыта от зрительного зала! Я по¬
нимаю, что суфлера, режиссера, даже автора оперы публика
может и не видеть, но дирижер в опере, как протагонист в драме,
должен быть видим публике постоянно. Замечательный актер
может изумительно читать роль Гамлета из-за кулис, но зритель
непременно захочет своими глазами «осязать» его фигуру.
Состав исполнителей оперы ничем не поражал. Правда,
изумительный голос Фелии Литвин, этой признанной вагнеров¬
ской певицы, ее дикция, ее чеканная фраза, бесконечное дыха¬
ние и очаровательное лицо — все могло привести в восхищение.
Но громоздкая фигура, неподвижность и мучительная «стяну¬
тость форм» очень затрудняли работу даже очень пылкого
воображения: трудно было представить, что в эти громоздкие
формы может воплотиться идеал женской красоты вагнеровских
героинь. Вот если бы Фелия Литвин пела из закрытого
оркестра...
Все лирические певицы, которых мы слышали, имели
какие-то ровные и прямые голоса, и ни одна из них не могла
заставить забыть теплый и волнующий голос киевской певицы
Воронец-Монтвид, певшей Эльзу в «Лоэнгрине».
Тенор Кнотте произвел очень хорошее впечатление. Он
был настоящим вагнеровским певцом. Голос, дикция, сцени¬
ческий образ — все было на месте, но, увы, певец не обладал
одухотворенностью, без которой нет подлинного искусства.
После замечательных московских спектаклей, созданных
Головиным и Коровиным, оформление опер в Мюнхенском
театре было подобно хорошим олеографиям, где все чисто,
свежо, стильно, но нет главного — индивидуальности худож¬
ника.
Подобные декорации нас, русских, не могли ни удивить,
ни взволновать, и мы остались холодны.
Мы покидали Мюнхен без особого сожаления. Впечатле¬
ний было много самых разнообразных, кое-что нас поразило,
но в целом знакомство с вагнеровским фестивалем оставило
какое-то двойственное впечатление. Музыкальная сторона спек¬
таклей была на чрезвычайно высоком уровне. Но в целом они
были отмечены той традиционной немецкой аккуратностью,
которая порой несовместима с вдохновенным взлетом истин¬
ного творчества.
Возвратившись из Мюнхена в Киев, мы были полны све¬
жих впечатлений. Относясь критически к тому, что мы виде¬
139
ли и слышали, мы все же прекрасно понимали, что соприкос¬
нулись с наиболее интересными явлениями в жизни оперного
театра Западной Европы.
При включении в репертуар «Валькирии», никогда ранее
в Киеве не шедшей, мы поставили себе целью, во-первых,
познакомить музыкальную публику Киева с самой лучшей
частью титанического труда Вагнера: — тетралогией, которая
носила название «Кольцо Нибелунга». Во-вторых, дирекция
Киевской оперы и. городские власти желали равняться по Петер¬
бургу, где исполнение произведений Вагнера считалось зна¬
ком высокого творческого уровня театра.
Мне лично страшно хотелось, как теперь принято гово¬
рить, догнать и перегнать Мюнхен. Для этого мы имели все
возможности: отличный состав исполнителей, превосходную
сцену, чуткого и изобретательного художника, замечательный
оркестр, который был, если не сильнее мюнхенского, то и, во
всяком случае, не слабее. Два момента казались мне уязви¬
мыми в нашей работе над «Валькирией»: освещение и дирижер.
Достичь того уровня освещения— технического и художест¬
венного, — как в Мюнхене, мы, пожалуй, и не смогли бы.
Хотя киевская сцена освещалась и неплохо, но у нас не было
той аппаратуры, которой обладали тогда немцы.
Вопрос о дирижере меня тоже очень смущал. Суммируя
свои впечатления о работе дирижеров, таких как Малер, Тос¬
канини и Моттль (правда, я его не видел, но живо чувствовал
в закрытой оркестровой яме), я представлял себе, каким дол¬
жен быть дирижер в вагнеровских операх.
Пагани — прекрасный музыкант и человек крепкого харак¬
тера, но хватит ли у него силы и темперамента передать в музы¬
ке повышенную силу вагнеровских страстей? Но потом я понял,
что его опыт, одаренность и нежночувствующая душа дают
ему право дирижировать «Валькирией».
Вопрос о режиссуре меня не волновал. Я проглотил
такую массу вагнеровской литературы, что хорошо знал всю
алгебру лейтмотивов опер Вагнера. Кроме того, я побывал
на вагнеровских спектаклях Мюнхенского театра — посетил,
так сказать, вагнеровскую «Мекку». Все это давало мне как
будто право смело и без колебаний заняться сценическим вопло¬
щением «Валькирии» в Киевской опере.
Оперный сезон в Киеве проходил блестяще. Огромным
успехом пользовался баритон Оскар Камионский. Его голос,
140
небольшой по силе, словно зеркало отражал в себе яркое золо¬
то итальянского искусства пения. Изумительное дыхание,
предельно четкая дикция, чудесные верхи, которые певец,
опирая на дыхание, мог вытягивать «в ниточку», — все гово¬
рило о том, что в лице Камионского театр имел первоклас¬
сного мастера-певца. И даже некоторая «фатоватость» пения
Камионского не мешала впечатлению. Так виртуоз-жонглер,
побеждая огромные трудности, дозволяет себе некоторые воль¬
ности, чтобы подчеркнуть свою победу над тем, что казалось
невозможным! В операх итальянских Камионский был неза¬
меним.
Прямой противоположностью Камионскому был драма¬
тический баритон П. 3. Андреев. Русский красавец высокого
роста, с прекрасным лицом, на котором лучисто светились
добрые и спокойные глаза, Андреев был рожден для исполнения
партий в русских операх: Руслан, Игорь, князь Владимир
в «Рогнеде»...
Баритон М. В. Бочаров как бы объединял в себе качества
этих двух столь различных по своему характеру певцов. Ему
легко удавались партии лирического плана и партии сильно
драматические. Бочаров был в этом сезоне несменяемым Онеги¬
ным, но и свирепого Амонасро в «Аиде» лучше Бочарова, пожа¬
луй, никто не исполнял. Звук голоса Бочарова напоминал
звук большого колокола, язык которого для смягчения уда¬
ров обтянут мягкой замшей.
Женские голоса — Воронец-Монтвид, Балановская, Балиц¬
кая и Дерибас были такими, что, я думаю, немецкие оперные
сцены значительно выиграли бы, если бы артистки эти пели
на языке Шиллера и Гёте.
Пока театр готовился к программным оперным постанов¬
кам — «Валькирии» и «Сказке о царе Салтане», — я познал
искусство, которое оказало на меня огромное влияние.
В Киеве в театре Соловцова были скромно объявлены, без
всякой рекламы, «Вечера пластики Айседоры Дункан». Сна¬
чала я не обратил на эти вечера решительно никакого внима¬
ния, тем более артисты нашего балета, смотревшие Дункан,
сказали, что она «босоножка» — выступает без трико, ноги
босые — и что она вообще не умеет танцевать. Вероятно, я
пропустил бы одно из ярчайших впечатлений своей
художественной жизни, если бы прислушался к этим сужде¬
ниям.
141
К моему большому счастью, дирижер Палицын настоятель¬
но советовал мне посмотреть Айседору Дункан.
Войдя в зрительный зал театра Соловцова, когда уже от¬
крылся занавес, я видел сцену, затянутую серо-голубыми
шелковыми тканями; весь пол сцены был покрыт шелком
того же цвета.
Под музыку Палестрины с левой стороны сцены, обойдя
ее каким-то благородно-скользящим шагом или, вернее, посту¬
пью, появилась женщина. Одета она была в полупрозрачный
греческий хитон цвета электрик. Руки, ноги и плечи обна¬
женные. Прическа напоминала античные барельефы. Обойдя
всю сцену, женщина остановилась на возвышении и подня¬
ла свои прекрасные руки. Театр задрожал от рукоплесканий.
Была ли она красива или соблазнительна? Нет, она была худо¬
жественно прекрасна! Лицо строгое, как профиль античной
камеи. Вся ее фигура казалась ожившим мрамором античных
статуй. Но эта «античность» не была музейной — в этой класси¬
ческой фигуре из мрамора билось живое человеческое серд¬
це и струилась горячая кровь.
В отношении Айседоры Дункан оскорбительно сказать
«танцевала». Нет, она интерпретировала, объясняла и рисо¬
вала музыку Палестрины, Глюка, Бетховена, Баха и Шопена,
переводя их мелодии и ритмы на язык пластических жестов
и поз. Кисти рук Дункан передавали все эмоциональные пере¬
живания, которые, по мнению Дункан, должны были возбуж¬
дать мелодии и ритмы той или иной музыки. В момент вдох¬
новенного творчества Дункан спорить с нею было невозмож¬
но — изумительный художник, она побеждала скептицизм}
Постановка «Валькирии» приближалась к своем завершению.
Из всего огромного количества изобразительного материала —
снимки, картины, технические планы, — привезенного мной
из Мюнхена, наш художник Эвенбах сделал свои правильные
организационно-художественные выводы. Почувствовав стиль
произведения, характерные особенности пейзажей, на фоне
которых развивается действие «Валькирии», ее условную исто¬
рическую эпоху, художник, прислушиваясь к моим советам,
создал превосходные оригинальные эскизы, макеты и рисун¬
ки костюмов. Работая в двух обширных декорационных мастер¬
ских театра, нередко по ночам, он старался днем бывать на
всех репетициях «Валькирии», чтобы понять музыку оперы
142
и уяснить себе линию драматического развития действия этой
оперы.
На составе исполнителей оперы Брыкин, Пагани и я со¬
шлись единодушно: Брунгильда — Балицкая, Зиглинда — Во¬
ронец-Монтвид, Фрика — Чалеева, Зигмунд — Орешкевич,
Вотан — Боссэ, Хундинг — Тихонов. Партии остальных валь¬
кирий исполняли первые артистки нашей оперы и частично
талантливая молодежь труппы.
Работая над постановкой этой одной из самых сложных опер
Вагнера, я особенно ясно понял, как велика роль творца спек¬
такля — режиссера. В работе над спектаклем у меня, как
и у других режиссеров, часто возникало много мыслей, кото¬
рые не помогали решению основной идеи, а только загромож¬
дали сцену ненужными деталями. Вот примеры некоторых
режиссерских вольностей в опере, взятые, правда, из практи¬
ки более поздних лет. В Харьковском оперном театре извест¬
ный режиссер H. М. Форрегер в третьем акте «Фауста», во
время любовного дуэта Маргариты и Фауста, выпустил на
крышу домика Маргариты бутафорских кота и кошку. Они
как бы пародировали слащавую лирику музыки Гуно. Пре¬
красный, культурный оперный режиссер В. А. Лосский, ставя
в Тифлисе советскую оперу, одел всех революционных пер¬
сонажей в красные костюмы, а всех белогвардейцев — в
белые. В одесской постановке «Руслана и Людмилы» Лосский
заставил Фарлафа исполнять знаменитое рондо, сидя верхом
на игрушечной лошадке, которая в ритм быстрой музыки кон¬
вульсивно дергала то головой, то хвостом.
Когда мне пришлось в бакинском оперном театре ставить
отличную оперетту Легара «Голубая мазурка», у меня все
было голубым: декорации, мебель, костюмы! Я пощадил толь¬
ко лица исполнителей — они были естественного цвета. Я реши¬
тельно не согласен также с режиссерским своеволием, если
не сказать больше, В. Э. Мейерхольда в Малом оперном театре
«Пиковой дамы» Чайковского.
Творческая работа режиссера в драме имеет источником
многогранную личность самого режиссера. Его фантазия
совершенно свободна в своем творчестве, и даже личность
автора пьесы, если он не классик, часто совершенно не лими¬
тирует размаха творческих дерзаний режиссера.
В опере иначе. Есть два типа оперных режиссеров: режиссер
немузыкант, который, как правило, не признает абсолютного
143
приоритета музыки в опере. Такой режиссер, часто очень
талантливый и смелый, подчинив себе волю послушных дири¬
жеров, деформирует лицо оперы: делает произвольные купюры,
бесцеремонно искажает автора — благо автора давно уже
нет на свете!
Другой принцип режиссерской работы особенно рельефно
виден на операх Вагнера.
Как бы скептически мы ни относились к музыкальной и со¬
вершенно чуждой нам сюжетной фактуре опер, к их очень запу¬
танной идеологии — задача режиссера при их сценическом
воплощении вполне определенна. Режиссер творит на музы¬
кальной канве, не отрываясь от музыки. Его работа строго
определена тем, что дано композитором. Чувства героев, их
переживания, взлеты и падения — вот предмет размышлений
режиссера. Он должен сценически воплотить музыкальный
замысел композитора. И, естественно, при решении этой зада¬
чи он просто обязан быть вместе с композитором.
Дав в руки дирижера и режиссера мощное оружие —
музыку, композитор вооружил и артистов, которые к тому же,
еще владеют и словом.
После многих репетиций, в результате огромного труда
дирижера, режиссера и художника, «Валькирия» была испол¬
нена. Трудно передать волнения, которые мне пришлось пере¬
жить, сохраняя полное внешнее спокойствие. Я был в поло¬
жении хирурга, который в случае неудачной операции мог
умертвить «Валькирию», а вместе с ней — и свою репутацию.
Но этого не случилось! Первое представление было сплошным
триумфом. Как я и предполагал, киевские исполнители основ¬
ных партий — Воронец-Монтвид — Зиглинда и Орешкевич —
Зигмунд были выше мюнхенских. Они обладали свежими
голосами, превосходной манерой пения и были так схожи
фигурами, что легко можно было поверить, что они брат и сест¬
ра. Кроме того, Орешкевич и Воронец-Монтвид, будучи питом¬
цами русской школы, на сцене были просты и естественны,
чем выгодно отличались от своих ходульных и напыщенных
немецких собратьев. Трудно, конечно, сравнивать киевскую
исполнительницу Валицкую с мюнхенской Брунгильдой —
знаменитой Фелией Литвин, у которой все было огромно — ее
искусство пения, голос, сценический опыт и... объем фигуры.
Кроме того, в то время она не была уже молодой, хотя испол¬
няла партии молодых девушек и романтических молодых
144
героинь. Киевская исполнительница Брунгильды — Балицкая
отличалась тремя достоинствами: она не была знаменита,
имела хороший голос и была молода.
Вотана в спектакле пел Боссэ, выдающийся вокалист и пре¬
красный актер. На его примере я с удовлетворением видел,
как моя система оперной режиссуры дает свои плоды. Мону¬
ментальный характер вагнеровских образов был очень верно
схвачен певцом и полностью донесен до слушателей.
«Валькирия» в Киеве имела успех, но это был успех у узко¬
го круга зрителей — у интеллигенции, у музыкантов. Широ¬
кая публика, прослушав оперу три-четыре раза, полюбовав¬
шись «волшебством огня» в третьем акте, перестала запол¬
нять зрительный зал Киевской оперы.
И тогда наш художественный совет поступил вполне пра¬
вильно, решив поставить оперу Римского-Корсакова «Сказка
о царе Салтане», никогда еще не шедшую в Киеве. С огромным
увлечением художник Эвенбах и я принялись за эту интересную
работу. Я не хотел применять во внешнем оформлении лубочно¬
го русского стиля, — мне всегда такой подход казался оскор¬
бительным для русского искусства. Мне хотелось видеть во
внешнем оформлении спектакля воплощение тех принципов,
которые лежали в основе творчества таких художников, как
Васнецов, Головин и другие. В работах этих художников,
основанных на народном живописном фольклоре, возникали
новые образцы русского народного стиля. Таким мне пред¬
ставлялось и оформление нашего нового спектакля.
Постановка «Сказки о царе Салтане» была очень удачной.
Дирижер Эспозито, знакомый с музыкой оперы по москов¬
ской постановке в Мамонтовской опере, где давал указания
сам Римский-Корсаков, проявил огромный музыкальный
талант.
Партию царя Салтана исполнял бас Тихонов, голос которо¬
го, таивший в себе бесконечное количество своеобразного
юмора, и его сценическое дарование позволили артисту создать
незабываемую фигуру царя-самодура и добряка.
Балановская — Милитриса, красавица-женщина, при содей¬
ствии своего красавца-голоса, была в «Салтане» фигурой
яркой, рельефной. Если Салтан — Тихонова невольно ассо¬
циировался с деревянной скульптурой известного скульптора
С. Т. Коненкова, вырезавшего своих героев из сучков и корней
обыкновенного дерева, то Балановская своей внешностью
145
и, главное, своими чудесными глазами заставляла невольно
вспоминать изумительных русских женщин на стенах Влади¬
мирского собора, где Васнецов, Нестеров и Сведомский напи¬
сали живописную поэму этих глаз.
Когда в Москве я неоднократно слушал в «Салтане» изве¬
стную певицу Н. И. Забелу-Врубель, любимицу Римского-
Корсакова, прославленную Царевну-лебедь, то мне казалось,
что голос этой выдающейся певицы слишком теплый и недо¬
статочно «инструментальный» для этой партии. Киевская
исполнительница Царевны-лебедь певица Шмид не обладала
вокальным очарованием Забелы-Врубель, но технически она
была на высоте и ее голос звучал как хорошая флейта.
Лирический тенор Махин пел Гвидона; высокая, стройная
фигура, красивое лицо и голос кристального тембра с беспре¬
дельными верхами. Махин в актерском отношении был крайне
примитивен, но руки режиссера из него многое могли сделать.
Ансамбль в киевской постановке «Салтана» был вообще
очень удачен. Его очень украшал тенор Селявин, впоследст¬
вии выдающийся вокалист, певший Старого деда. Он изуми¬
тельно фразировал, а внешностью был совершенно похож
на одного из нестеровских старцев. Баритон П. 3. Андреев
в маленькой роли Гонца двумя-тремя сценическими и вокаль¬
ными штрихами дал чисто «репинско-шаляпинский» этюд рус¬
ской натуры, которой во хмелю море по колена.
В этой постановке сказалось изумительное мастерство
хормейстера Каваллини. Замечательный хор Киевской оперы
не только предельно чисто интонировал, но совершенно не
смотрел на дирижера. Хор мог стоять боком, спиной — как
угодно, — но интонации и ритм от этого не страдали. Кавал¬
лини весь спектакль стоял на высоком табурете в первой кули¬
се и неуклонно мобилизовывал внимание хорового коллекти¬
ва. Это было обычным приемом очень строгого и очень прин¬
ципиального хормейстера.
Оформление постановки «Салтана», созданное художником
Эвенбахом, было настолько интересно, что редкая картина
обходилась без аплодисментов, на которые тогда киевская
публика, обычно, не была щедра.
Моя гордость была вполне удовлетворена. В спектакле
везде чувствовалась твердая режиссёрская рука — в поведении
артистов и хора на сцене, в идее и реализации декораций,
в освещении сцены, в костюмной и бутафорской части поста¬
146
новки. Мне казалось, что такое чувство должен испытывать
скульптор, когда он видит на удачной форме гипсовой статуи
следы своих пальцев, или глубокие следы своего резца на белом
мраморе. Мне казалось, что я, человек широких волжских
просторов, именно так обязан показать Русь — ту Русь, которая
жила постоянно в моем сознании, о которой так сильно ска¬
зал Сергей Есенин:
«О, Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку!
Люблю до радости, до боли
Твою озерную тоску».
Так, тая в душе впечатления далекой юности, я работал
над «Салтаном» — и мне, пожалуй, удалось достичь известных
результатов. Этот спектакль стал основным спектаклем Киев¬
ской оперы и потом долгие годы сохранялся в репертуаре.
Справедливо говорили, что Киевский оперный театр являет¬
ся ступенькой для артистов к поступлению их на император¬
ские сцены Петербурга и Москвы. Из состава Киевской оперы
в Московский Большой театр тогда же были приглашены Бала¬
новская, Цесевич и Тихонов; в Мариинский театр перешли
Андреев и Боссэ. В Мариинский театр на должность режиссе¬
ра-постановщика был приглашен и я. До меня этот пост занимал
профессор О. О. Палечек. В это время он был серьезно болен.
Болезнь для него оказалась роковой...
Мне было уже сорок лет. За три года работы в Киевской
опере помимо возобновления старых ходовых опер мне при¬
шлось совершенно заново поставить такие оперы, как «Борис
Годунов», «Царь-плотник», «Сказки Гофмана», «Сестра Беа¬
триса» (опера киевского композитора Яновского), «Сандрильо¬
на» и «Манон» Массне, «Валькирия» Вагнера, «Садко» и «Сказка
о царе Салтане» Римского-Корсакова. Постановка «Салтана»
была моей последней работой в Киевской опере.
В театре Соловцова мною была поставлена с выдающимся
составом оперных артистов оперетта «Корневильские колокола»
Планкетта. Спектакль шел в пользу Русского театрального
общества. Этим спектаклем я дирижировал сам.
Энергии было у меня так много, что, несмотря на очень
трудные зимние сезоны, на лето я организовывал Товарищест¬
во артистов Киевской оперы для поездок по Крыму. Заработ¬
ки были невелики, но мы хорошо проводили время под ласко¬
вым южным небом, совмещая работу с отдыхом.
Глава
одиннадцатая
Петербург.
Мариинский
театр.
Заграничная
поездка
В Киеве я получил от конторы императорских театров
официальное подтверждение моего назначения на должность
режиссера оперы Мариинского театра в Петербурге. Это обстоя¬
тельство меня очень взволновало и обрадовало.
Мой товарищ по Киевской опере, семидесятилетний помощ¬
ник режиссера Давид Гринберг, был ко мне очень привязан.
Он крайне скептически отнесся к моему переходу в пышный
Петербург.
— Вы там и месяца не усидите! — пророчески предсказывал
мне старый оперный «талмудист» (так, шутя, называли в труп¬
пе старого Гринберга). — Разве с вашим горячим и вспыль¬
чивым характером можно там работать? В первый же день,
когда вы наступите на мозоль какому-нибудь генералу, вас
прогонят, и вы потеряете — и Петербург и Киев!
Предсказание этого древнего оперного пророка, надо при¬
знаться, точно струя ледяной воды, охладило мой восторг.
Но я, к счастью, тут же вспомнил об общеизвестной парадок¬
сальности суждений Гринберга. Он более полувека работал
в Киевской опере. Недостижимым идеалом этого честнейшего
труженика оперной сцены был киевский оперный антрепренер
148
и режиссер Иосиф Яковлевич Сетов, в прошлом замечательный
тенор. У Сетова Гринберг всю жизнь работал помощником
режиссера не за страх, а за совесть. В глазах Гринберга Сетов
был неоспоримым авторитетом.
Гринберг горячо любил дело, которому он посвятил всю
свою жизнь. У него были свои своеобразные взгляды на опер¬
ный спектакль. Рассуждал он обычно примерно так: «Зачем
в опере дорогие и пышные постановки? Дайте мне в состав
труппы Мазини, Зембрих, Руффо, Баттистини, Медведева
и Тартакова, — так я на сцене вместо ваших дорогих декора¬
ций и очень сложных постановок поставлю ведро и метелку —
и театр каждый вечер будет полон! »
Расставаясь с красивым живописным Киевом, покидая
прекрасный оперный театр, где мне впервые пришлось жить
настоящей творческой жизнью, я старался еще раз проанали¬
зировать, что же необходимо знать оперному режиссеру?
Я сознавал, что общей культуры — философской, литератур¬
ной, исторической, искусствоведческой и культуры музыкаль¬
ной, позволявшей мне, когда нужно, продирижировать («про¬
махать») любой оперой, — у меня как будто достаточно. Я все
это завоевал своей цепкостью к жизни и к знаниям. Но, увы!
Мне не удалось выковать в себе то, что мы называем характе¬
ром. Я во многом еще оставался тем робким семинаристом,
каким был в самые молодые годы, еще задолго до начала моей
театральной карьеры. Имея уже довольно большой опыт прак¬
тической творческой работы, я не воспитал в себе той безапел¬
ляционной уверенности, которая, как говорится, «города
берет» и очень помогает иной раз в трудных случаях жизни.
Мне всегда нужна была сторонняя опора. Такой опорой,
твердой и принципиальной, для меня всегда была моя
жена.
Когда я приехал в Петербург, то невольно вспомнил пред¬
сказание Давида Гринберга — если наступлю на мозоль како¬
му-нибудь генералу, а их кругом было так много, то немед¬
ленно получу отставку! Это обязывало меня за все время моей
работы в Петербурге вести себя крайне осторожно в отношении
оперного генералитета. Я решил, что лучше сначала хорошо
осмотреться.
За прекрасным зданием Александринского театра, в ансамб¬
ле гениальных творений зодчего Росси помещалась квартира
директора императорских театров.
149
И вот я на пороге этой квартиры. Я быстро вошел в роскош¬
ную приемную. Гигант-швейцар, одетый в красную длинную
ливрею, затканную двуглавыми орлами, покровительственно
спросил мою фамилию, так же покровительственно снял мое
пальто и указал мне рукой путь — вверх по мраморной лест¬
нице. «Какой же величественной внешностью должен обла¬
дать сам директор императорских театров, если столь пред¬
ставителен его швейцар», — подумал я. Мое разочарование
было полным. В кабинете из-за большого письменного стола
поднялся и протянул мне приветливо руку скромно одетый
небольшого роста человек, бывший когда-то, вероятно, темным
блондином; гладкая прическа и скромные усы удивительно
тли к его умному лицу. Это был Владимир Аркадьевич Теля¬
ковский.
Десятиминутной беседы с ним было достаточно, чтобы уяс¬
нить мне свое положение. Директору я был известен по моей
работе во время Московского съезда сценических деятелей.
Кроме этого, И. В. Тартаков, управляющий труппой Мариин¬
ского театра и постоянный гастролер кисловодской оперы
Валентинова, видел поставленные мной спектакли и нашел
возможным рекомендовать меня Теляковскому.
— Мариинскому театру, — сказал директор, — нужен опыт¬
ный и практичный режиссер, который не стремился во что бы
то ни стало к открытию Америк или к изобретению пороха.
Нам необходимы грамотные классические постановки опер.
Поэтому мой выбор остановился на вашей кандидатуре. В пер¬
вый, пробный, год вы будете получать 3600 рублей. В даль¬
нейшем, если вы справитесь со своими задачами, будет заклю¬
чен контракт на три года, с оплатой по 6 тысяч рублей в год.
Такова нормальная оплата труда ответственного режиссера
в Мариинском театре. Всю свою режиссерскую работу будете
согласовывать с Тартаковым. Желаю полного успеха! — и Те¬
ляковский дружелюбно протянул мне на прощание руку.
Выходя из кабинета, я совершенно утерял ощущение весо¬
мости своего организма. Атмосфера незнакомого мне Петер¬
бурга стала как будто той атмосферой, которой я дышал с ран¬
него детства.
Когда я пришел в Мариинский театр, чтобы познакомить¬
ся с труппой и с своими ближайшими сотрудниками, то эта
встреча, которая меня, до известной степени, волновала, про¬
шла так же необычайно просто. Мне казалось, что я давно со
150
всеми знаком и что я просто продолжаю прежнюю работу в зна¬
комом коллективе. Управляющий труппой, знаменитый бари¬
тон И. В. Тартаков, с которым я был очень дружен по кисло¬
водским оперным спектаклям, умело поставил меня «на рельсы»
во время этой ответственной встречи с артистами, хором и адми¬
нистрацией. Мое ответное слово коллективу, взволнованно
сказанное от всего сердца, было покрыто аплодисментами.
Сознание, что я становлюсь маленькой частью того «вели¬
кого очага воспоминаний», где неугасимым светом светилось
и продолжает светиться творчество Глинки, Даргомыжского,
Серова, Чайковского и Римского-Корсакова, где, казалось,
до сих пор еще звучат дивные голоса О. А. Петрова, А. Я. Во¬
робьевой, И. А. Мельникова и Ф. И. Стравинского — певцов,
поставивших те художественные «вехи», по которым твердо
и уверенно развивался гений Шаляпина. Особое волнение
я переживал в ту минуту, когда знакомился с Э. Ф. Направ¬
ником. Этот замечательный дирижер и композитор внешне
был очень прост. Такой простотой поражали, вероятно, многие
великие люди. Направник, трудясь полвека в русском оперном
театре, создал классический стиль исполнения симфонической
музыки. Чех по происхождению, всесторонне образованный
человек, отличный дирижер и плодовитый композитор, На¬
правник начал свою деятельность как преподаватель музыки.
Но постепенно талант, серьезность и прирожденная воля при¬
вели молодого талантливого человека к высокому посту музы¬
кального руководителя петербургской оперы.
За годы своей работы Направник, чуждый всего мелочного
и эгоистичного, стремился только к одной цели — к процвета¬
нию оперы Мариинского театра. И этой цели ему достичь уда¬
лось! Опера при Направнике напоминала огромный художест¬
венный орган, где все регистры подчинялись его воле. Ведь
не напрасно Направник в молодости был талантливым орга¬
нистом.
Направник — дирижер. В этом сложном искусстве он был
оригинальной и, пожалуй, неповторимой индивидуальностью.
Спокойно сидя во главе оркестра, он властно подчинял его
себе, творя все инструментальные чудеса. Ни одного лишнего
движения головы или левой руки, которая у Направника
всегда «молчала», и совершенно покойная, ровная спина, не реа¬
гирующая на прилив и отлив музыкальных волн оркестра, —
в нем решительно не было ничего, что мы считаем теперь дири¬
151
жерским темпераментом. Так, пожалуй, Зевс олимпийский
восседал на своем мраморном троне. Но правая рука замеча¬
тельного дирижера, всегда в белой перчатке, классически пре¬
красными движениями, словно взмах крыла белого лебедя,
определяла ритм и силу музыкальной стихии, которая Направ¬
нику подчинялась беспредельно. В быстрых темпах действова¬
ла у дирижера только одна кисть руки; короткие и собранные
движения этой руки могли «заряжать» ритм музыкального
потока до предельных скоростей. Сам Направник был совер¬
шенно спокоен. Всех нюансов оркестрового и вокального
исполнения, предельной точности и незыблемости ритмов,
чистоты интонирования и максимальной слаженности ансамб¬
лей — всего этого Направник добивался на репетициях. На
спектаклях он был внешне спокоен.
Для моей первой постановки была намечена опера Пуччини
«Мадам Баттерфляй», никогда еще не шедшая на сцене Мариин¬
ского театра. Дирижировать оперой должен был Альберт
Коутс, а заглавную партию должна была исполнять известная
певица М. Н. Кузнецова-Бенуа. Ни певицы, ни дирижера пока
еще не было в Петербурге; Коутс находился в Лондоне, а Куз¬
нецова пела в Париже.
Будучи пока почти свободным, я очень хотел поподроб¬
нее познакомиться с Петербургом.
Я, как вином, упивался архитектурными красотами города.
Они были действительно застывшей музыкой, как принято
называть архитектуру.
Наконец, наступило время, когда мне надо было начать
постановку «Баттерфляй». С огромным волнением приступил
я к этой ответственной работе — ведь от успеха или неуспеха
ее зависела вся моя дальнейшая судьба... Буду ли я, вчера
еще безвестный провинциальный режиссер, признан достойным
занимать положение режиссера первоклассного оперного теа¬
тра или, наоборот, мне снова придется погрузиться в тину
провинциальной оперной жизни?
Тогдашний японский посол в России очень помогал театру
в монтировочной части. Костюмы, мебель, музыкальные инстру¬
менты, обувь, веера, головные уборы — все это было достав¬
лено театру из Японии в достаточном количестве. Ко мне в ка¬
честве консультанта был прикреплен секретарь японского
посольства, уморительно смешно говоривший по-русски. Он был
мне очень полезен при изучении японского фольклора, обыча¬
152
ев, типов, манер, домашнего быта и искусства. Только что
закончивший университетское образование в Англии, секре¬
тарь страстно любил искусство вообще, но национальное,
японское, ставил выше всего.
Меня восхищали более всего ткани, из которых были сши¬
ты присланные костюмы! Ткани этих костюмов были похожи
на мечту, принесенную мне, как сказочный дар далекой, неведо¬
мой страны, где жила, любила, страдала и умерла прекрасная
Чио-Чио-Сан, героиня оперы Пуччини. И в спектакле мне как
будто удалось передать это ощущение Японии, тем более что
Чио-Чио-Сан пела М. Н. Кузнецова-Бенуа, обладавшая отлич¬
ным голосом и редкой для оперной певицы пластичностью.
Дирижировал спектаклем, как я уже сказал, Альберт
Коутс. Родившийся в России и воспитанный в Англии, Коутс
происходил из богатой английской фамилии. Он был высокий
красавец, типичный представитель современного англосакса.
Свое музыкальное образование он начал в Петербурге и закон¬
чил его в Германии, приобретя вместе с ним достоинства и недо¬
статки многих немецких дирижеров.
В Мариинском театре Коутс занимал совершенно особое,
независимое положение. Был ли он близок к высоким прави¬
тельственным сферам или нет, я не знаю, но в театре он чувство¬
вал себя неограниченным властелином: дирижировал, чем
хотел и когда хотел, и имел свой отдельный кабинет. Это обстоя¬
тельство очень красноречиво подчеркивало скромность Э. Ф. На¬
правника, которому кабинет заменяло старое кресло из «Фаус¬
та», в котором этот замечательный человек, отдыхая в антрак¬
тах, просидел ровно пятьдесят лет. Коридор около мужских
артистических уборных и старое кресло с высокой спинкой,
стоявшее в уголке, — вот что было кабинетом старейшего
дирижера.
Специализировавшись в Германии на операх Вагнера, Коутс
был большим знатоком вагнеровской музыки. Но он влюблен¬
но и благоговейно относился также к музыке русской. «Борис
Годунов», «Хованщина», «Сказка о царе Салтане» и особенно
«Сказание о невидимом граде Китеже» были в числе любимых
им опер — он не только стремился постоянно ими дирижировать,
но и пропагандировал их постановку в Лондоне и Париже.
Казалось бы, трудно было ужиться в одном театре таким
двум крупным дирижерам, как Направник и Коутс. Но удиви¬
тельный такт Направника, уступившего часть репертуара
153
молодому Коутсу, и огромное джентльменское преклонение
Коутса перед Направником начисто снимали все конфликты,
которые могли неизбежно возникнуть при такой ситуации.
Моя первая режиссерская работа в Мариинском театре
была удачной. Превосходные декорации художников Коровина
и Головина вместе с оригинальными, подлинно художествен¬
ными японскими костюмами — все это явилось превосходным
фоном, на котором к моему счастью, развернулось и превос¬
ходное исполнение певцами основных партий. М. Н. Кузнецо¬
ва-Бенуа, никогда прежде не певшая партии Чио-Чио-Сан,
буквально вдохновляла меня в период репетиционной работы.
Замечательная певица и красавица-женщина, она вниматель¬
но ловила мысли, подсказываемые моей режиссерской интуи¬
цией, то есть тем своеобразным инстинктом, который, как я потом
неоднократно наблюдал в своей работе, обусловливал «бес¬
сознательное знание». Оно давало идеи и ритм в работе, под¬
сказывало те или иные сценические формы и развязывало,
наконец, такие крепкие узлы сценических положений, развя¬
зать которые, не разрубив их, казалось невозможным. Осно¬
вой каждого большого дарования является логика; М. Н. Куз¬
нецова-Бенуа в своем творчестве была очень логична, и эта
черта, встретившись с моей интуицией и корректируя ее формы,
доставила нам победу. Опера «Мадам Баттерфляй» имела успех.
Встретившись впервые в общей работе с дирижером Коут¬
сом, мы хорошо узнали друг друга. Человек вулканического
темперамента, необыкновенно чуткий к самым тончайшим
нюансам в оркестровом сопровождении, Коутс отлично пони¬
мал и чувствовал сцену, и режиссеру легко было сговориться
с ним, если режиссер имел какие-либо твердые принципиаль¬
ные мысли, касающиеся музыки. Зная хорошо оперу, ее орке¬
стровку и темпы, мне было очень легко и приятно работать
с Коутсом, который впервые готовил эту оперу. Продири¬
жировав несколько раз, он передал спектакль дирижеру
Д. И. Похитонову, переключившись на подготовку опер Ваг¬
нера.
С теплым чувством благодарности вспоминаю превосходный
ансамбль «Баттерфляй» — чарующую М. Н. Кузнецову-Бенуа,
В. И. Панину — Сузуки, превосходных теноров Е. Э. Витин¬
га и молодого К. И. Пиотровского, певших Пинкертона, и от¬
личную фигуру, благородный голос и стильное исполнение
молодым баритоном М. Н. Каракашем партии Шарплеса.
154
Мой режиссерский экзамен прошел благополучно, и я под¬
писал контракт на три года. Работа над новыми постановками
в Мариинском театре шла довольно медленно. Достаточно
сказать, что для небольшой оперы Пуччини потребовалось
пятьдесят репетиций.
Художественная жизнь этого театра делилась на четыре
части: первая — гастрольные спектакли с участием Шаляпина,
Собинова и Смирнова. Эти артисты пели и в Петербурге и в Моск¬
ве попеременно; вторая — вагнеровские спектакли; третья —
спектакли русского балета, завоевавшие мировую славу;
в этих спектаклях участвовали такие замечательные артисты,
как М. Ф. Кшесинская, А. П. Павлова, Т. П. Карсавина,
О. И. Преображенская и E. М. Люком, а выдающийся балет¬
мейстер М. М. Фокин, артист большой культуры, огромной
выдумки и тонкого вкуса, придавал каждой новой балетной
постановке характер художественного события; к четвертой
части могла быть отнесена постановка новых опер, возобновле¬
ние старых и бенефисные спектакли оркестра и хора; эти спек¬
такли имели всегда необычный и торжественный характер.
Моя режиссерская работа целиком относилась к четвертой
части. Но так как выяснилось, что я хорошо знаком с творче¬
ством Вагнера, то на меня, по предложению Коутса и Направ¬
ника, было еще возложено и наблюдение за всем текущим вагне¬
ровским репертуаром театра. Эта обязанность была утомитель¬
ной и скучной; я не имел права ничего изменять в постановке,
а присутствовать на всех спектаклях был обязан.
Главный библиотекарь нотной библиотеки императорских
театров II. П. Шенк пришел ко мне однажды с поручением от
В. А. Теляковского — познакомиться с оперой Шенка «Чудо
роз». Насколько я понял, от меня зависело ускорить срок поста¬
новки этой оперы, дирижировать которой должен был Д. И. По¬
хитонов. Ознакомившись с оперой, я увидел, что либретто
сделано хорошо — литературно и сценично, а музыка, создан¬
ная по старым оперным канонам, едва ли могла возбудить
интерес в публике, воспитываемой на Вагнере. Музыка Шенка
обличала в композиторе прекрасного музыканта, но сами
музыкальные идеи оперы были недостаточно яркими и новыми
для современности. Тем не менее вместе с Похитоновым мы
добросовестно и любовно осуществили постановку. Опера
«Чудо роз» имела солидный внешний успех. Очень хороши
были в спектакле Елизавета — молодая певица E. М. Попова,
155
граф — баритон П. 3. Андреев и Капеллан — Г. А. Боссэ,
перешедшие, как и я, из киевской оперы. Декорации и костюмы
были созданы по рисункам князя К. М. Шервашидзе, худож¬
ника, прекрасно чувствовавшего стиль средневековья. При
осуществлении постановки у меня возник конфликт с каприз¬
ным балетмейстером Н. Г. Легатом: в третьем действии оперы,
которое происходит на площади, должен быть представлен
«танец смерти». Балетмейстер отказался ставить этот эпизод
под тем предлогом, что в нем нет ровно ничего «танцевально¬
го». Не споря с балетной логикой, я взял восемнадцать моло¬
дых балетных артистов и, руководствуясь рисунками Дюрера
и Гольбейна, одел их «скелетами» и сам поставил эту жуткую
пантомиму. В работе мне очень помогли мои впечатления от
постановок Айседоры Дункан. Смерть с косой очень вырази¬
тельно изображал тенор А. Д. Александрович. Курьезнее
всего, что единственным иконографическим материалом от
постановки оперы «Чудо роз» в журналах сохранился только
танец смерти, поставленный режиссером, который совершенно
не умел танцевать!
Своеобразным установлением в Мариинском театре были
вагнеровские абонементные спектакли. В течение великого
поста было два цикла опер Вагнера. В каждый абонемент вхо¬
дили четыре названия: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зиг¬
фрид» и «Гибель богов». Первым циклом дирижировал Направ¬
ник, а вторым — Коутс. Я был пассивным участником обоих
циклов, неимоверно скучая на этих спектаклях от длиннот
музыки Вагнера. Меня, впрочем, ожидала большая награда:
единственной оперой Вагнера, еще никогда не шедшей в Мариин¬
ском театре, были «Мейстерзингеры», и постановка этой оперы
была поручена мне. А с ней была связана заграничная коман¬
дировка!
Главной артистической силой вагнеровских опер, «сцени¬
ческим нервом» этих спектаклей был выдающийся трагический
певец-актер И. В. Ершов, который, казалось, был рожден
для интерпретации цикла «Кольца Нибелунгов». Ершов обла¬
дал чудесной фигурой, выразительным лицом и замечательной
дикцией, позволявшей артисту создавать на музыке свои драма¬
тические фразы, которые смело могли спорить с гениальным
шаляпинским декламационным творчеством. Если Шаляпин
был Леонардо да Винчи в оперном искусстве, то Ершов многими
сторонами своего огромного таланта соприкасался с творчест¬
156
вом монументального Микеланджело. Но не только в операх
Вагнера был велик Ершов.
Кто видел его в партии Гришки Кутерьмы в опере Римско¬
го-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже», тот может
понять мое восхищение перед артистом, правда, голос которо¬
го, сухой и горловой, меня никогда в восхищение не приводил.
Но когда Ершов жил и творил на сцене, то меньше всего хоте¬
лось обращать внимание на его голос. Замечательное чекан¬
ное слово, оправленное музыкой, образ, задуманный автором,
а иногда, может быть, и недодуманный им, в творчестве Ершо¬
ва получал необычайный рельеф и гипнотическую, законченную
убедительность.
Публика вагнеровских абонементов была совершенно осо¬
бенной. Тогда считалось признаком хорошего тона (хотя мно¬
гие и скучали) быть вагнерианцем и сидеть без антракта час
сорок минут в кресле, как это было в «Гибели богов». Фраки,
смокинги, бальные платья и тончайший аромат парижских
духов — вот те внешние признаки, по которым, даже еще не
слышав музыки, можно было сразу почувствовать, что нахо¬
дишься на одном из вагнеровских спектаклей. Это было
модно!
Первым абонементом опер Вагнера, как я уже писал, дири¬
жировал Направник; это было, если можно так выразиться,
ровным, покойным, чинным богослужением; оркестр играл
нормально, слова достигали слушателей. Антракты дирижер,
как всегда, проводил в своем знаменитом кресле в уголке
коридора.
Вторым абонементом дирижировал Альберт Коутс. Из свое¬
го отдельного комфортабельного кабинета этот красавец-чело¬
век и талантливый дирижер выходил, одетый в прекрасный
лондонский фрак, и занимал свое место у дирижерского пюпи¬
тра. Если у Направника музыка Вагнера излучала свет алтаря
какого-то неведомого бога, то эта же самая музыка у Коутса,
взятая в двойной скорости, явно перекликалась с оргией в честь
Вакха. Оркестр горел, стонал и неистовствовал, подчиняясь
вулканическому темпераменту дирижера. Тщетно слушатель
старался понять хотя бы одно слово у певцов. Слова таяли,
точно олово, на гигантском паяльнике оркестровой динамики
Коутса. Сам Коутс, красный, потный, взволнованный, шел
в свой кабинет и в каждом антракте заменял мокрую рубашку
сухой.
157
Я захотел узнать у моего знакомого, первого скрипача
оркестра, как относятся оркестранты к этим двум выдающимся
дирижерам.
— Когда дирижирует Коутс, — сказал он мне, — он мо¬
крый, а мы все сухие. Когда Направник дирижирует, то он,
как обыкновенно, сухой, а я и мои коллеги — мокрые!
Мои отношения с дирижерами были очень хорошие. Направ¬
ник, которого я очень уважал как великого мастера, возбуж¬
дал во мне кроме всего еще какое-то грустное чувство — было
бесконечно жаль, что эта огромная и плодотворная жизнь,
увы, заканчивается. «Папаша», как все за глаза в Мариинском
театре называли Направника, тогда был уже тяжело
болен...
С большой любовью и старательностью мною был возобнов¬
лен «Дубровский», почему-то основательно забытый в Мариин¬
ском театре. Изумительным Дубровским был Л. В. Собинов.
H. Н. Фигнер рассказал Направнику, как удачно в Тифлисе
мною была поставлена его опера «Франческа да Римини». Это
свое произведение Направник очень любил и глубоко страдал,
что опера нигде не идет. Естественно, что маститый компози¬
тор очень был благодарен Фигнеру — первому исполнителю
теноровой партии Паоло, и мне, режиссеру, последнему поста¬
новщику этой интересной оперы.
Оперы, как и книги, имеют свою судьбу! С Коутсом нас
сблизила работа над «Мадам Баттерфляй». Особенно же нас
сблизила следующая совместная работа. М. Г. Савина просила
меня и Коутса поставить в пользу Театрального общества
оперетту «Орфей в аду» Оффенбаха. Когда Коутс на это согла¬
сился, то именно здесь и сложились наши хорошие взаимоот¬
ношения. Оперетту как жанр Коутс не знал, с темпами и опе¬
реточными «хохмами» знаком не был и мне пришлось этому
Юпитеру серьезной музыки указывать дорогу и вести его в «ад»
опереточных особенностей.
Думая о своем положении в Мариинском театре, я не заме¬
чал его светлых сторон, а, как натура мнительная, все пред¬
ставлял в мрачных красках. Переоценивая в данных условиях
работы свой вес и значение, я понимал, что всюду в провинции
мне принадлежала ведущая роль, а здесь от меня ровно ничто
не зависит.
С таким настроением я отправился однажды к заведующему
оперной труппой И. В. Тартакову. Этот визит был обусловлен
158
еще и тем, что директор одесской оперы Гомберг прислал мне
блестящее предложение: 900 рублей в месяц, квартира, бене¬
фис и тысяча рублей подъемных. А при слове Одесса сердце
мое всегда трепетало, словно перепелка, услышавшая свист
знакомой дудочки.
И. В. Тартаков, в красивой и живописно-лохматой голове
которого совмещались ум, осторожность, такт Талейрана
и мудрость библейского равви, сказал мне, приблизительно
следующее:
— Неужели, Николай Николаевич, вы думаете, что импера¬
торская оперная сцена и оперы Перми, Саратова, а также
кисловодская антреприза нашего милого Валентинова — одно
и то же? Посмотрите и подумайте, — что и кто нас с вами окру¬
жает! Шаляпин, Собинов, Смирнов, Ершов, Алчевский, Направ¬
ник, Коутс, Фокин, изумительный женский состав певиц и луч¬
ший в мире балет... А что хотели вы делать со своим провин¬
циальным театропониманием? Командовать? Но это, увы,
никому не под силу, даже мне; я только направляю водопад
самолюбий и капризов этих баловней судьбы — и то едва-
едва — в берега возможного равновесия. Но и мне это удается
не всегда. Как можете вы состязаться с Мейерхольдом, у кото¬
рого друг лучший театральный художник Европы — А. Я. Го¬
ловин? Как можно спорить с Мейерхольдом, который дружен
со всеми писателями, художниками и поэтами столицы, как
можно конкурировать с ним, когда все газеты каждую его
постановку приравнивают к факту открытия Америки или
к изобретению пороха, или, точнее сказать, к созданию теат¬
рального динамита? Он большой умница и талант, этот Мейер¬
хольд. Что могу посоветовать вам? Существует древнее выра¬
жение, которое по-русски будет звучать приблизительно так:
«проживи незаметным!» Это для нас с вами не годится! Я
перевожу его по-своему: «проживи всегда нужным и необхо¬
димым». Это будет вернее. За это время в театре вам удалось
сделаться нужным, еще немного усилий и выдержки — и вы
сделаетесь необходимым. А там — пенсия и покойная ста¬
рость!
Расставшись с Тартаковым, я пошел к медному всаднику —
набережная от памятника Петра до Эрмитажа была местом
моих любимых прогулок. Там Нева немного напоминала море.
Слова мудрого Тартакова «сделаться необходимым» овладели
моим сознанием и мне казалось, что если я еще не целиком стал
159
необходимым, то несомненно иду к этому. Разговор с Тартако¬
вым укрепил во мне мысль, что есть что-то позитивное в моем
положении в труппе Мариинского театра...
Вскоре хор императорской оперы предложил мне, что было
очень почетным для режиссера, поставить для его бенефиса
оперу «Искатели жемчуга» Бизе с участием Л. В. Собинова.
Я согласился. Мой режиссерский опыт и оперативность в работе
помогли мне быстро и довольно удачно разрешить эту неслож¬
ную задачу. Постановка легкой оперы Бизе для меня была
сущим пустяком.
Первый спектакль подходил к концу. Сбор был сверхполным,
Собинов пел изумительно. Коллектив хора устроил замеча¬
тельному певцу, а попутно и мне, восторженную овацию.
В последней картине, где горят костры и дымятся жертвен¬
ники, участвовал многочисленный женский балет. Поставить
пустяковые танцы индусских жриц распорядители пригла¬
сили, очевидно, для громкого имени на афише, талантливого
балетмейстера М. М. Фокина. Танцы были поставлены отлично.
После декоративной установки этой картины, которой руко¬
водил я, на сцену пришел Фокин, совершенно со мной незна¬
комый. Расположение жертвенников почему-то ему не понра¬
вилось. И этот балетмейстер, избалованный славой, успехом,
не обращаясь к режиссеру-постановщику, ногой презри¬
тельно толкнул центральный жертвенник, который с шумом
упал.
Трудно было передать мои ощущения... казалось, что сам
медный всадник обрушился на мою голову и копыта его коня
колотят по моим нервам. Даже пушкинский Евгений этого,
вероятно, не переживал!
Голоса поколений моих предков, приволжских мужиков,
заговорили, казалось, в моей крови, и весь лексикон крепких
слов мною был направлен в лицо Фокину. В Мариинском
театре такой случай прецедентов не имел. Все были ошелом¬
лены. Тартаков в испуге скрылся из театра.
«Наконец-то, — думал я, — предсказание киевского Давида
Гринберга сбывается — я наступил генералу на мозоль и завт¬
ра меня попросят оставить театр!.. Рапорт Тартакова об ин¬
циденте и рапорт управляющего конторой Крупенского были
направлены директору императорских театров одновременно.
Содержание рапортов мне было неизвестно, но лаконическую
резолюцию директора через два дня мне сообщил улыбаю¬
160
щийся Тартаков. Она гласила следующее: «Режиссер Боголю¬
бов ругается, значит, хочет работать!» Точка!
Когда этот удар театрального грома благополучно разра¬
зился над моей головой, оставив меня в живых, я понял,
что, по прогнозу Тартакова, для театра я сделался необходи¬
мым. И в самом деле! Ведь большинство оперных постановок
за эти годы было сделано мною. Воспитанный на бюджете
провинциальных театров, я берег деньги и время на новые
постановки и на возобновление старых опер. Такой системы
режиссеры казенных театров не придерживались. В. А. Теля¬
ковский, умный человек и расчетливый руководитель колос¬
сального театрального хозяйства Петербурга и Москвы, этого
не мог не заметить. Он не был тупым и ограниченным чиновни¬
ком — под его раззолоченным генеральским мундиром скры¬
вался простой, умный и честный человек.
Гуляя по гранитным панелям быстробегущей Невы, я мыс¬
ленно подсчитывал свои работы за эти годы в Мариинском теат¬
ре: «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Чудо роз» Шенка, «Измена»
Ипполитова-Иванова, «Мегаэ», опера из японской жизни
Адама Венявского, «Сын мандарина» Кюи, «Алеко» Рахмани¬
нова, «Вертер» Массне (с Л. В. Собиновым и с дирижером
Артуром Никишем), прошедший в бенефис оркестра, «Богема»
Пуччини (с Д. А. Смирновым); возобновления: «Дубровский»
Направника и «Пророк» Мейербера (эти возобновления рав¬
нялись по сумме затраченного времени и расходам новым поста¬
новкам); постановка в бенефис хора оперы «Искатели жем¬
чуга» (с Л. В. Собиновым); предстояла мне и постановка в бене¬
фис оркестра оперы Обера «Немая из Портичи» («Фенелла»),
где главную роль должна была исполнять знаменитая балери¬
на М. Ф. Кшесинская. Кроме всего этого, состоя в звании режис¬
сера вагнеровского репертуара, я был фактически прикован
к очень длинным и очень скучным обязанностям. Сидя в уют¬
ном и удобном кресле электромонтерской будки, читая
Гегеля, я плавал в океане звуков удивительных гармоний
Вагнера.
Две «лаборатории» содействовали развитию моего самосо¬
знания — саратовская декорационная мастерская — там Писа¬
рев и Белинский и, конечно, Пушкин были моими юношескими
наставниками, — и уютная электромонтерская будка Мариин¬
ского театра, где Вагнер и Гегель затуманивали мой мозг
и где солнечный и светлый Гёте просветлял его.
161
* * *
Я уже писал о том, что в связи с постановкой оперы Ваг¬
нера «Мейстерзингеры» мне предстояла поездка за границу.
И вот, наконец, командировочные документы в моих руках.
Оформив эту волновавшую меня командировку и расписав¬
шись у важного кассира министерства дворца в получении
пятисот рублей, я чувствовал, как на моей спине шевелились
и росли, увеличиваясь с каждым часом, крылья.
Мой маршрут был твердо установлен: Берлин, Висбаден,
Франкфурт-на-Майне, Кёльн и Дрезден. Но мне страстно
хотелось попасть еще и в Верону, где в исключительных усло¬
виях — в руинах древнего цирка под открытым небом —
праздновалось столетие со дня рождения Верди. У меня было
тайное намерение попасть и в Париж, выкроив для этого часть
времени из моего «вагнеровского» маршрута. Но Верона,
ничем особенным не примечательная, похоронила навсегда
для меня Париж, который все-таки упорно до сих пор господ¬
ствует в моем сознании.
Когда я был молодым и служил в должности помрежа в Ка¬
занской антрепризе Серебрякова, талантливый режиссер
H. Н. Синельников интересно поставил смешную оперетку
«Зеленый остров» Лекока, в которой есть очаровательный
вальс:
«О, Париж, край родной!
Я тебя вспоминаю,
И твой образ дорогой
В сердце я ощущаю! »
На мелодии этого вальса я дал себе клятву, что непременно
увижу Париж.
Но мне так и не пришлось никогда увидеть любимый мною
Париж!..
Свое изучение оперы Вагнера «Мейстерзингеры» я начал
с Берлина. Приехав в немецкую столицу, я остановился в чу¬
десной гостинице «Руссишер гоф». Завтракая, я взял газету
на последней странице которой, в отделе объявлений, был поме¬
щен репертуар решительно всех оперных сцен Германии на две
недели вперед.
В Берлин я приехал рано утром, а вечером уже мог слушать
«Мейстерзингеров» в театре Кролль. Театр этот оказался
учреждением второго разряда. Несмотря на то, что оперой
162
дирижировал превосходный музыкант Бруно Вальтер и певцы
были очень хороши, спектакль в целом произвел на меня впе¬
чатление гастрольного — когда хорошо слаженная постановка1
переносится с основной сцены в случайное помещение.
Способы приспособления были довольно курьезными. Так,
например, в правом углу оркестра, где помещались медные
и ударные инструменты, над головами музыкантов был натянут
обычный ковер, чтобы смягчить излишнюю звучность этой
оркестровой группы.
Такого рода приспособления были заметны и во многом
другом: сцена театра Кролль не была, очевидно, пригодна
к оперным спектаклям большого масштаба.
В своей опере «Мейстерзингеры» Вагнер рисует Нюрнберг
XVI века и замечательную историческую личность — сапож¬
ника Ганса Закса, бывшего выдающимся поэтом и драматургом
того времени. Цеховая жизнь всех ремесленников в средневе¬
ковом Нюрнберге имела свои особенности. Ремесленники-
певцы (мейстерзингеры) состязались в сочинении поэтических
и музыкальных (под аккомпанемент лютни) пьес по строго
установленным канонам, которые деспотически соблюдались.
Певец, победивший во время состязаний, увенчивался на всена¬
родном празднике почетным венком и вступал в организацион¬
ную «верхушку» цеха мастеров пения. Для победителя с этим
были связаны общественные и различные цеховые преимущества.
Признанным и неоспоримым судьей в этом вопросе был
Ганс Закс. Рихард Вагнер замечательно тонко наметил в серд¬
це стареющего Ганса Закса глубокое чувство любви к юной
Еве, которое он. героически в себе подавил. Этой душевной
коллизии Вагнер посвятил много страниц своей замечатель¬
ной музыки.
Второй психологической и романтической темой сюжета и
музыки оперы является личность Вальтера Штольцинга, без
памяти влюбленного в ту же Еву. Чтобы получить руку девуш¬
ки, Вальтер обязан победить на состязании и стать мейстер¬
зингером. Только после этого титулованный рыцарь и богатый
дворянин мог получить руку дочери простого ремесленника.
Вальтер Штольцинг преодолевает это препятствие! Движи¬
мый искренним и глубоким чувством к юной красавице, он при¬
нимает участие в конкурсе и, нарушив сухие каноны, воспева¬
ет любовь в ярких поэтических образах. Консервативные судьи
из цеха мастеров возражают против принципов, с которыми
163
Вальтер подошел к развитию темы, нарушив все существовав¬
шие уставы.
Но Ганс Закс на стороне Вальтера. Видя в его свободном
творчестве прогрессивное начало, он поддерживает рыцаря, —
брак дворянина и дочери ремесленника ведет к разрушению
устаревших социальных перегородок.
Вальтер признан мейстерзингером: венок и рука красави¬
цы Евы служат ему наградой.
После гигантского труда, который был положен на созда¬
ние «Кольца Нибелунга», Вагнер почувствовал, видимо,
необходимость передышки и для себя и для публики. Содержа¬
ние «Кольца», основанное на древнегерманском эпосе, с заимст¬
вованием некоторых моментов из древнескандинавских саг —
грандиозно. Его герои — титаны. Обыкновенный слушатель
и зритель в сложном творении Вагнера места себе не находил.
Публика представлений вагнеровских музыкальных драм долж¬
на состоять из музыкантов или из лицемеров, восхищающихся
музыкой и не чувствующих ее внутренних красок, заключен¬
ных в гармонии и в оркестровых комбинациях.
Философ Платон на портике своей Академии сделал такую
красноречивую надпись: «Тот, кто не изучал геометрию, пусть
не входит сюда! »
Рихард Вагнер должен был поступить по-платоновски:
«Тот, кто не изучал музыки, гармонии и инструментовки;
кто незнаком с древнегерманским народным эпосом и с древне¬
скандинавской сагой о кольце, приносящем богатство, несча¬
стье и смерть всем, кому оно перейдет, а также незнаком и с фило¬
софией Шопенгауэра, — пускай тот не ходит слушать мои музы¬
кальные драмы».
Такая надпись у Вагнера была бы значительно длиннее
платоновской. Но зато публика на вагнеровских операх, поте¬
ряв в количестве, качественно была бы более однородной...
и более одинокой в зрительном зале! Не на этом ли было осно¬
вано проскользнувшее тогда сообщение, что не особенно рента¬
бельные вагнеровские абонементы в Мариинском театре со сле¬
дующего сезона отменяются?
Четыре оперы Вагнера, объединенные общей сюжетной,
философской и музыкальной идеей, носят название «Кольца
Нибелунга». В этом заключен своеобразный символический
мотив рокового золота — проклятого сокровища, приносящего
несчастье.
164
Пагубное влияние золота, враждебное всем началам чело¬
вечности, сеет всюду вражду и преступления. Власть золота
рождает трагедии. Старые боги, которых создал человек по
своему подобию, охраняют этот ненавистный порядок. Но вот
все гибнет в космическом пламени гигантского костра и чело¬
вечество может строить новую жизнь. Эту мысль Вагнер,
несомненно, наследовал у великого Гёте, сказавшего Эккерману:
«Когда человечество не будет уж более радовать Творца, то он
должен будет все снова разрушить, чтобы обновить свое тво¬
рение».
Музыка «Кольца» напоминает металлический каркас тридца¬
тиэтажного небоскреба; все правильно, все математически
обосновано, но жить пока в этой проекции еще невозможно.
Необходимы «цемент» — большое понимание вагнеровской слож¬
ной музыки и «оформление» — терпение слушателя и зрителя.
Когда все это будет завоевано, тогда жизнь в этом высочайшем
здании поэтическо-философской и музыкальной мысли станет
прекрасной.
Сам Вагнер, создавший свою грандиозную музыкальную
драматическую концепцию в «кольце», захотел отдохнуть.
И он создал свое «легкое» произведение, своего рода музыкаль¬
ную комедию — «Мейстерзингеров».
Сидя на берлинском спектакле «Мейстерзингеры», где
было все так чинно и аккуратно, а в оркестровом отношении
даже прекрасно, я немного был утомлен немецкой сценической
ординарностью. Ни одного проблеска свежей художественной
или режиссерской мысли на сцене!
В первой картине третьего акта («Мастерская Закса»), где
старательный немецкий бас, исполнявший Ганса Закса, совер¬
шенно не тронувший меня в знаменитом монологе второго акта,
стал главным действующим лицом, я уснул крепким сном,
уютно устроившись в боковом кресле амфитеатра.
Только громкие звуки труб на сцене в последней картине
и резкое звучание хора цеховых отрядов, маршировавших,
точно солдаты, перед дворцом кайзера, разбудило меня. Дальше
все развивалось чисто по-немецки. Красивый Вальтер, певший
так, словно галстук давил ему горло, был соединен с красивой,
но очень толстой Евой. Правда, она была чудесной певицей.
Ее голос, очаровательный, теплый и какой-то беспредельный,
позволял ей воплощать на сцене многих молодых вагнеровских
героинь.
165
Выходя из театра, я с жадностью стал вдыхать запах цве¬
тущих лип; вся территория, где стоял оперный Кролль-театр,
и примыкавшая к нему улица Унтер ден линден — все было
во власти липовых деревьев, которые стихийно цвели!
Я уже направлялся к Бранденбургским воротам, когда
дорогу мне загородила фигура очень высокого человека. Длин¬
нополый сюртук черного цвета, черная шляпа и борода — все
было мне совершенно незнакомо. Я подумал, что это, может
быть, какой-нибудь мексиканский ковбой!.. Но когда он отчет¬
ливо по-русски назвал мою фамилию и, улыбаясь, сказал:
«Мирошка!» — мне все сделалось ясным. Передо мной был мой
товарищ по семинарии Элеонский.
Когда мы ставили ученический спектакль «Филатка и Ми¬
рошка», огромный Элеонский изображал «Филатку», а я — Ми¬
рошку. Уходя со сцены, огромный Филатка — Элеонский брал
меня, Мирошку, под мышку, словно маленького козленка,
а я болтал ногами. Наш «уход» всегда вызывал восторг семи¬
нарской публики; этот успех я приписывал быстрому движе¬
нию своих ног, обутых в лапти, причем один из огромных
лаптей, развязавшись, падал, вызывая громовой взрыв аплодис¬
ментов.
Элеонский пригласил меня в садик около театра, где липо¬
вые деревья неотразимо излучали свой пряный аромат и где
на красивом возвышении буфета стояли огромные пузатые
хрустальные кувшины с любимым немецким напитком —
боолем. Белое рейнское вино, клубника, сахар и лед составляли
сущность этого очаровательного напитка.
Элеонский рассказал мне о своей духовной карьере: он
много лет живет в Германии, а в данное время состоит при
русской посольской церкви. Узнав о моем служебном поло¬
жении, Элеонский нашел его прекрасным. Мы тепло вспоминали
Саратов, нашу юность и выпили так много бооля, что уважаемому
отцу архимандриту пришлось проводить меня до двери моего
отеля, чтобы я не заплутался в лабиринте цветущих лип.
Следующим городом, обозначенным в моем маршруте,
был Висбаден. Из Берлина я выехал утром, а в пять часов
вечера был уже в Висбадене. На мое счастье, вечером в театре
шли «Мейстерзингеры». Знакомство с очаровательным городом,
таким чистым, как будто его только что вымыли, — это вол¬
новавшее меня знакомство я отложил на завтра, а сам немед¬
ленно поспешил в театр — надо было приобрести билет.
166
Все билеты в сравнительно небольшой театр были, увы,
проданы, и мне пришлось прибегнуть к помощи моего команди¬
ровочного свидетельства из конторы императорских театров,
напечатанного на немецком и французском языках. Интендант
оперы, красивый и упитанный человек, принял меня очень
любезно и, прочитав текст моей бумаги, сразу же выдал мне
пропуск.
— Герр доктор, — здесь я в первый раз узнал, что я —
«доктор»! — седьмое место в фремденложе * — ваше!» Тронутый
столь молниеносной любезностью, я пошел искать эту загадоч¬
ную ложу.
Звание «доктора» мне, оказывается, присвоено было не слу¬
чайно и не в насмешку. В Германии существовала такая пред¬
посылка, что режиссер императорской оперы должен обяза¬
тельно носить ученую степень.
«Хорошо, — подумал я, — буду доктором! »
Фремденложе, отличная и большая, предназначалась для
гостей и была расположена в бельэтаже.
Стильный и уютный зал висбаденской оперы, плюшевый
передний занавес, лежавший широкими мягкими складками,
чинно сидевший оркестр, человек восемьдесят, мягкое освеще¬
ние — все настраивало на серьезное восприятие спектакля.
Дирижировал генералмузикдиректор Манштет. Пожилой
человек, стройный и худой, с седеющей бородой, Манштет
очень напоминал профессора, который вышел на кафедру,
чтобы прочесть- увлекательную лекцию.
Всей оперой, начиная с замечательной увертюры, Манштет
своим высоким дирижерским искусством «прочитал» изумитель¬
ную лекцию о нюрнбергских мастерах пения. Лирика влюблен¬
ных сердец — Вальтера и Евы, народные сцены: «табулатура»,
«хоровая» сцена драки и финал оперы, перекликающийся
с гимном Лютера — все было воспроизведено Манштетом так,
как будто у дирижера в руке была не дирижерская палочка,
а кисть художника. Эпоха XVI века, романтика того времени,
выраженная в слове и в музыке, неотразимо захватывала
и удерживала внимание до финального аккорда. Полным тор¬
жеством искусства было чудесное соединение в спектакле
образа Ганса Закса, созданного Файнгальсом, и чуткое оркест¬
ровое раскрытие этого образа изумительным дирижером Манш¬
* Fremdenloge — ложа для гостей {нем. ).
167
тетом. Всюду, где талантливый артист Файнгальс представал
в изумительном образе поэта и драматурга Ганса Закса— чело¬
века души благородной и лирической, — всюду за талантливым
певцом и актером следовал чуткий художник-дирижер, который
оркестровыми красками, как того и желал Вагнер, иллюстри¬
ровал и раскрывал духовную сущность этой замечательной
личности.
Речитативы Ганса Закса с его мягкой иронией, отречение
от любви, сцена у куста сирени, опьянение видом родного
Нюрнберга и финал оперы, где старый мастер радуется счастью
молодости, — все эти драматические моменты художник-певец
Файнгальс создал в незабываемых для моей благодарной памяти
формах. Рядом с Файнгальсом был, как гений музыки, дири¬
жер Манштет.
Осуществляя позднее свою постановку «Мейстерзингеров»
в Мариинском театре, я был очень счастлив, что в лице Г. А. Бос¬
сэ я встретил такого же исполнителя партии Ганса Закса,
каким был Файнгальс.
Стройность и классическую выдержанность всего спектак¬
ля «Мейстерзингеров», который мне пришлось видеть в Висба¬
дене, следует целиком отнести к таланту и высокой культуре
Манштета, генералмузикдиректора Висбаденской оперы. Этот
титул обычно присваивался в Германии тем дирижерам, которые
объединяли в своем лице музыкальное, художественное и адми¬
нистративное руководство театром. Режиссура, художники
и администрация — все подчинялось абсолютной власти гене¬
ралмузикдиректора!
Внешняя часть постановки «Мейстерзингеров» в Висбадене
не была пышной, но корректная сдержанность и тонкий вкус
оформления переключали, казалось, все внимание зрителя
и слушателя на главный элемент спектакля — музыку. Ансамбль
певцов не был блестящим, но все, как в превосходном оркест¬
ре, было между собой «темперировано». Совершенно как
у Баха!
Полный впечатлений от спектакля я решил на другой день
ехать дальше. Передо мною серебрилась замечательная дорога
по Рейну! От Висбадена до Майнца, ближайшей пристани на
Рейне, ходил трамвай. Полчаса езды в уютном и комфорта¬
бельном вагончике — и я на берегу реки, о которой так много
читал, много грезил и не думал, что мне придется когда-нибудь
ее увидеть. Эта река живописно передана Ауэрбахом («Дача
168
на Рейне»), воспета Генрихом Гейне в его бессмертных стро¬
фах. На ее дне Рихард Вагнер поместил свое страшное «Золо¬
то Рейна».
Таким в моем представлении был Рейн. Крутые живописные
берега с бесконечными виноградниками по склонам гор, чистень¬
кие и уютные городки с маленькими домиками, утопавшими
в зелени и гирляндах шток-роз, развалины каких-то замков,
политых, вероятно, когда-то кровью побежденных и победите¬
лей. Вся эта реальная картина удивительно напоминала гран¬
диозный художественный макет, так изумительно выполнен¬
ный, что решительно ни к чему невозможно было придраться!
Чистенький и аккуратный одноэтажный пароходик «Майнц»
вез нас в Кёльн. Сидя на корме парохода, невозможно было
оторваться от менявшейся панорамы берегов. Невольно в уме
возникало сопоставление — Волга и Рейн! Но тут же и коренное
различие между ними. Если огромное пространство великой
русской реки ожидало еще прихода гидротехника, то на значи¬
тельно меньшей немецкой реке все давно уже было решено —
технически и декоративно. И, несмотря на прошлые войны,
красавец Рейн тихо струил свои волны, и голубое небо покойно
отражалось в ровном течении этой исторической реки. Но
сердце мое было устремлено к родной матушке-Волге!
Моя поездка в огромный и очень интересный Кёльн была
неудачной — постановка оперы «Мейстерзингеры» была отло¬
жена на неделю и вместо нее шли «Сказки Гофмана» Оффен¬
баха!
Историко-театральная параллель! Великий Вагнер, со вре¬
мени своих парижских неудач ненавидел Оффенбаха, занимав¬
шего тогда в Париже ведущее положение в театрах. «Злодей
из Кёльна» — вот эпитет, которым Вагнер наградил Оффенбаха,
сына кёльнского раввина. Гнев Вагнера тогда был безразличен
Оффенбаху — его музыка завоевала всю Европу.
Я очень любил талантливое произведение Оффенбаха
«Сказки Гофмана» и отмена «Мейстерзингеров», которые мне
еще не раз придется слушать, меня не очень опечалила! В теат¬
ральном мире я считался почему-то «специалистом» по поста¬
новке этого шедевра оффенбаховской музыки, что, пожалуй,
было не лишено некоторых оснований. Я живо чувствовал
музыку Оффенбаха и меня всегда волновали фантастические
произведения подлинного Гофмана, которым Белинский дал
такую блестящую оценку.
169
Спектакль «Сказки Гофмана» в Кёльне был положительно
художественным сюрпризом. Если «Мейстерзингеры» в Вис¬
бадене носили во всем отпечаток творческой индивидуальности
дирижера Манштета, то в кёльнских «Сказках Гофмана» талант¬
ливый дирижер, еще совершенный юноша, не мог, конечно,
иметь такого решающего значения. Здесь на первом месте
было творчество удивительного режиссера, имя которого я узнал
из афиши — Макс Рейнгардт. Режиссерская работа в этом
спектакле была на очень высоком уровне — ее отличали выдум¬
ка, замечательное мастерство, основанное на неотразимой логи¬
ке. Весь «гротеск» постановки был подан в такой забавной
перестановке деталей, которая не могла не увлечь слушателя.
Оживающие и танцующие фрески на стенах студенческого
погребка и сам король Гамбринус, летающий на бочке и коман¬
дующий вакханалией охмелевших студентов, — все было вос¬
произведено с технической и художественной стороны безупреч¬
но. Студенческая песнь «Гаудеамус игитур», которой в парти¬
туре Оффенбаха нет, была исполнена хором замечательно
и вызвала восторг всей публики. В сцене с куклой певица, совсем
Еще девочка, с изумительной техникой колоратуры, и ее созда¬
тель — физик и механик Спалланцани, загримированный под
философа Шопенгауэра, были изумительны! Следующая сцена
в Венеции также была чудесна. Двигающаяся панорама иллю¬
минированного города, снующие гондолы, барка с «серенадой» —
все это было художественным воплощением виденной мной
подлинной Венеции. «Театральная» Венеция была даже кра¬
сивее и соблазнительнее настоящей.
Изумительной была постановка знаменитой баркароллы,
в которой масса балерин в легких тканях, пропитанных светя¬
щимся составом, изображали волны. Грандиозным вышел
и финал спектакля — шествие с факелами студентов, друзей
Гофмана. Режиссер своей остроумной постановкой словно хотел
подчеркнуть величайший трагизм в судьбе знаменитого писате¬
ля, поэта и музыканта Э. -А. -Т. Гофмана, которого так ценили
Белинский и Пушкин. Я ушел со спектакля взволнованный
и очарованный. Так велики были искусство и «магия» режис¬
сера.
Следующую постановку «Мейстерзингеров» мне пришлось
видеть во Франкфурте-на-Майне. С городом для меня невольно
-ассоциировались воспоминания о Гёте. Из этого коммерческого
ж небольшого тогда города Германии засветил миру всеобъемлю¬
170
щий гений поэта, мыслителя, натуралиста и театроведа. Ваг¬
нера тогда еще не существовало, но Гёте знал Бетховена.
Мне, когда я шел слушать «Мейстерзингеров», пришли
невольно на память мысли о музыке великого поэта, сформули¬
рованные в воспоминаниях Эккермана. «Странно, — говорил
Гёте, — куда уводит нас далеко продвинутая техника и меха¬
ника новейших композиторов. Их произведения — уже не
музыка, они выходят за пределы человеческих ощущений,
и тому, что слышишь, нельзя найти отзвука в уме и сердце».
Интересно подумать, что сказал бы Гёте о музыкальном цикле
Вагнера «Кольцо Нибелунга»!
Оперный театр Франкфурта-на-Майне был превосходным
сооружением. Выстроенный сравнительно недавно, он был
полон всех рационализаторских нововведений в области сце¬
ны и в расположении зрительного зала. Удобство, уют и какой-
то особого рода комфорт окружали публику в этом симпатич¬
ном оперном театре.
Постановка «Мейстерзингеров» — оркестр семьдесят пять —
восемьдесят человек, многочисленный хор, живописное оформле¬
ние и весь общий «тонус» спектакля были превосходными, но
исполнители, будучи очень старательными и корректными, не
оставили, к сожалению, в моей памяти ярких воспоминаний.
Яркой индивидуальностью на этом фоне был молодой дирижер
Поллак, очень живо напомнивший мне пламенного петербург¬
ского Коутса. Огонь темперамента, властный и абсолютно вер¬
ный взмах правой руки и действенная левая рука в те моменты,
когда нужно подчеркнуть патетичность музыкального куска
в оркестре или на сцене, — все эти особенности дирижерского
искусства были необходимым атрибутом силы тогдашнего немец¬
кого дирижирования. Из этого образовалась своего рода дири¬
жерская школа «бури и натиска». Поллак был несомненно
представителем такого рода дирижеров. Он горячился не всег¬
да к месту и ко времени. И когда на пиано в оркестре или на
сцене нужен был лишь легкий штрих руки, Поллак, обладавший,
видимо, большой физической силой, делал выпад эспадрон-
ного сабельного удара. Тогда сознание невольно искало сопо¬
ставления, защиты. И оно ее находило при воспоминании
об «олимпийцах» дирижерского искусства — Никише, Направ¬
нике, Манштете и нашем Суке, который имел вкус к форте и та¬
лантливо умел смаковать пиано и даже пианиссимо. Но все-
таки нужно признать, что дирижер Поллак был яркой фигу¬
171
рой в спектакле «Мейстерзингеров» на сцене франкфуртской
оперы.
Постановка и декорации, которые были чересчур олеогра¬
фичны, мне понравились. Понравилась и режиссерская работа.
Знаменитая хоровая «драка» второго акта прошла безукориз¬
ненно. Железная дисциплина и такой же ритм! Это необходи¬
мо в строю и еще больше, пожалуй, в искусстве оперного спек¬
такля.
И вот, наконец, Дрезден. Знаменитый Дрезденский коро¬
левский оперный театр был последним в моей командировке.
Когда я вошел в знаменитую картинную галерею «Цвингер»,
знакомую мне по снимкам и путеводителям, то долго не мог
прийти в себя: «Неужели я вижу подлинного Веласкеса и Рафаэ¬
ля»! В маленькой комнатке, где помещалась «Сикстинская
мадонна» Рафаэля, была абсолютная тишина, никто не гово¬
рил, даже шепотом. Слово казалось кощунством — здесь воз¬
можно было лишь тихое созерцание! Это не было настроением
религиозной сосредоточенности, когда нервы, натянутые или
угнетенные, разряжаются в успокоительной минорной тони¬
ке. Нет! Созерцание рафаэлевской Мадонны было чистым музы¬
кальным наслаждением, таким, какое я получал от сонат Бет¬
ховена, или, лучше, от его мибемольмажорного квартета с ар¬
фой. Творчество Рафаэля перекликалось с музыкой! Как твор¬
чество Бетховена можно постигать внутренним слухом, так
и простую красоту «Сикстинской мадонны» можно было уви¬
деть и понять лишь, так сказать, внутренним зрением. Оттого
в маленькой зеленоватой комнате, где была одна только
картина Рафаэля, царила абсолютная и торжественная
тишина!
Дрезденский оперный театр, как и художественная галерея,
был тоже подлинно художественным учреждением. От поста¬
новки «Мейстерзингеров» в этом театре ожидал я чего-то необыч¬
ного, и не ошибся. Прежде всего, как было напечатано в афи¬
шах, оперой дирижировал в качестве гастролера Артур Никиш,
а Ганса Закса пел Файнгальс, покоривший меня исполнением
этой партии в Висбадене. Теноровую партию Вальтера испол¬
нял певец Кнотте, не произведший в Мюнхене на меня особого
впечатления, но, как говорили, считавшийся лучшим тенором
Германии. Женский состав спектакля не сохранился в памяти.
В певицах не было ничего замечательного, они как бы раство¬
рялись в отличном ансамбле.
172
Превосходное здание Дрезденской оперы производило не¬
обыкновенное впечатление строгостью своих форм и отсутствием
в архитектуре лишних деталей. Войдя в театр, я увидел, что
и внутренние его помещения отвечают вполне его внешности.
Зал был таким же строгим, с чудесной акустикой.
Театр был переполнен — ни одного непроданного билета.
Вспоминая о магической силе своей командировочной бумаги,
иду к интенданту. И здесь, как и в Висбадене: «Господин док¬
тор, пожалуйста!» Мне любезно был вручен талон в ложу для
ассистентов дирижера. Пять молодых людей, превосходно
одетых, неприязненно посмотрели на меня — им и так было
тесно в крошечной ложе. Но когда я объяснил им, что приехал
из Петербурга, что командирован императорской оперой, их
отношение изменилось, и мне уступили место около барьера
ложи. Это были молодые люди, окончившие консерваторию
и готовившиеся стать дирижерами. Они все, как правило,
обязаны были вполне владеть роялем, уметь играть на одном
из оркестровых инструментов и прилично быть знакомыми
с техникой игры на органе.
С грустью вспомнились имена некоторых наших оперных
дирижеров— «слухачей», не только не умевших играть на роя¬
ле, но и не знавших разницы между «позициями» на струнных
инструментах и «позициями» балета. И такие музыканты возглав¬
ляли нередко работу наших оперных театров!
Молодой чех Яначек, хорошо знавший русский язык, сидел
рядом со мной. Он был пианистом-репетитором и суфлером
оперного театра в Праге и специально приехал в Дрезден слу¬
шать Никиша.
Все ассистенты имели в руках карманные партитурки «Мей¬
стерзингеров». Яначек любезно предложил мне свою, поло¬
жив ее на барьер, чтобы и я мог следить. Но мне, типичному
«слухачу», полезнее было смотреть спектакль.
Появление Артура Никиша, такого степенного и спокойно¬
го, словно это был солидный профессор, пришедший на кафед¬
ру прочесть лекцию влюбленной в него аудитории, — это появ¬
ление было встречено овацией всего театра. Когда Никиш кла¬
нялся, вместе с ним кланялся и какой-то громадный орден,
висевший на цветной ленте на шее дирижера.
Постановка оперы была превосходной, отпечаток культу¬
ры — внешней и внутренней — чувствовался решительно во
всем. Объемные декорации, соприкасаясь с декорациями живо¬
173
писными, не обнаруживали досадных «трещин» между продук¬
цией кисти и строительной техники. Все технически было изу¬
мительно. Падуги не висели оскорбительными разноцветными
тряпками. Круглый высокий горизонт и замечательное освеще¬
ние «фортуни» (прожекторы из-за первого просвета зеркала
сцены) давали безграничное ощущение воздуха и простора.
Во всем обнаруживалась пытливая творческая мысль художника
и постановщика — результат их обоюдных стремлений! Обра¬
щала на себя внимание и такая мелочь — пол сцены не светился,
как обычно, унылыми досками своего планшета, а в каждом
акте он был остроумно художественно оформлен.
Костюмы солистов и хора были точным отображением на
сцене творчества знаменитых художников — Дюрера, Голь¬
бейна и Кранаха. В их расцветке, покрое, разнообразии фасо¬
нов чувствовалась тонкая, вдохновенная работа костюмеров,
внимательно руководимых художниками.
Очень захватило меня поведение хора на сцене. Он не был
безликой массой из ста человек. Мой опытный глаз увидел
детальную индивидуализацию каждого из участников хорового
коллектива. И как бы ни была велика и абсолютна воля и власть
постановщика, этого оказалось бы недостаточно, если бы каж¬
дый из хористов не жил, как в знаменитой сцене «драки», своей
индивидуальной жизнью. Режиссерский план был очевиден,
он осуществлялся не за страх, а за совесть высоко сознатель¬
ным коллективом артистов хора дрезденской оперы.
Ярким моментом дрезденской постановки «Мейстерзинге¬
ров» было творческое содружество двух больших художников —
Никиша и Файнгальса, исполнителя партии Ганса Закса.
Когда во втором акте Файнгальс пел свой знаменитый мело¬
дический речитатив, в котором он отказывался от радостей
жизни, недоступных стареющему человеку, но, однако, храня¬
щему в душе высокие идеалы красоты, — оркестр, вдохновляе¬
мый Никишем, рисовал звуками то, что таилось в подсознании
Ганса Закса, — его веру в красоту жизни, в неиссякаемую
силу любви и в право молодости на счастье!
И второй эпизод, когда Ганс Закс в своей сапожной мастер¬
ской любуется в окно Нюрнбергом. Оркестровое сопровож¬
дение этой сцены полно невыразимой простоты и мелодической
грации. Но если дирижер увлечется хоть на минуту богатством
оркестрового сопровождения, то мысли Закса утонут безнадеж¬
но в звуковом богатстве оркестровки. Никиш, казалось, сам
174
пел с Файнгальсом — каждое слово, дыхание, пауза — все
доходило до слушателя. Мы с Яначеком следили за всей дири¬
жерской «магией» Никиша по партитуре и восхищению нашему
не было пределов. Молодые ассистенты своим шепотом «прима»,
«колоссаль» только подчеркивали наши ощущения.
Мне, видевшему и слышавшему уже стольких выдающихся
дирижеров, Никиш, казалось, был понятен. Не только каприз¬
ные уклонения от обычных темпов и ритмов и изменение обще¬
принятых нюансов — не только это делало его огромной фигу¬
рой!
Мне пришлось ставить с Никишем в Мариинском театре
в бенефис оркестра «Вертера» с Собиновым в заглавной партии.
Тогда я составил себе понятие о свойствах таланта Никиша.
В его дирижерском искусстве, во взмахе руки таилось такое
же необъяснимое очарование, как в тембре голоса Соби¬
нова.
Все выдающиеся дирижеры, ведя оперы, играли словно
на скрипках (и играли превосходно! ) свои «концерты» — Никиш
же исполнял свои дирижерские функции в симфониях и операх
так, словно он играл на скрипке Страдивариуса. Слушатели
чувствовали звучание и аромат певучести этого изумительного
итальянского инструмента! Так же были необъяснимы и «обер¬
тоны» дирижерского Дарования Никиша. Организм скрипки
Страдивариуса и организм замечательного дирижера как бы
заключали в себе однородные элементы.
Превосходный спектакль окончился. Ассистенты, с кото¬
рыми нас сблизила невероятная теснота маленькой ложи и об¬
щее восхищение Никишем, предложили мне пойти поужинать
вместе с ними. Обращение ко мне «герр доктор» смущало меня,
но одновременно и обязывало быть предупредительным к этим
молодым и серьезным музыкантам. Яначек, родившийся в том
же местечке, где и Направник, расспрашивал меня об этом
выдающемся музыканте и дирижере, которым чехи очень горди¬
лись. Я охотно сообщал свои восторженные впечатления о Нап¬
равнике. Яначек немедленно переводил мои слова своим колле¬
гам. Никто из них не удивился, почему я так скверно владею
немецким языком!
И вот дружеский ужин в ресторане на берегу Эльбы: холод¬
ный мозельвейн, тепловатое мюнхенское пиво, рейнская лосо¬
сина и обязательный мирабеллен-компот составляли меню
нашего ужина. Немцы веселились и смеялись вовсю.
175
Расставшись с моими новыми друзьями, я потерял надежду
уснуть и пошел на знаменитую Брюллевскую террасу. Заме¬
чательная луна, как во втором акте «Мейстерзингеров», выплы¬
ла на серо-голубое саксонское небо. На другой стороне реки
было маленькое местечко Лошвиц, где я еще вчера поклонился
памяти Фридриха Шиллера; там юношей он бродил по зеленым
берегам реки и там, может быть, в его романтической душе роди¬
лись те слова, которые он написал Гумбольту: «Проникните
в область красоты, и в прахе у ваших ног останется материя
с ее тяжестью! »
Мадонна Рафаэля в музее, знаменитые полотна Веласкеса;
изумительное собрание произведений саксонского фарфора
в нижних залах галереи — произведений, где мысль, искусст¬
во и тонкий вкус достигли своего высшего и, увы, бесполезного
развития; «Мейстерзингеры», давшие мне ощущение подлин¬
ной шиллеровской красоты в искусстве, именно того ощущения
настоящей красоты, которая зовет к труду и творчеству, —
именно эти впечатления и привели меня на террасу.
Уходя с террасы, которая в эту минуту вся была затянута,
словно тончайшей паутиной, лунной дымкой, я мысленно
прощался с целым поколением русских мечтателей 40—60-х
годов; все они так любили это романтическое место над Эльбой!
Многие из них жили и умирали в Дрездене. Большая тень
Тургенева и мечтательных героев его повестей растаяла дым¬
кой в воздухе, и ветерок гнал ее на север. Там, медленно, но
верно, готовилось великое таинство — превращение природы,
как говорил Базаров, в мастерскую!
На темной и замкнутой площади спящего города меня обсту¬
пили призраки и воспоминания 48-го года. Баррикады, вос¬
торженные лица людей, опьяненных пафосом революции.
Среди них революционер-анархист Бакунин и молодой Рихард
Вагнер, захваченный стихией революции. Над всей этой вооб¬
ражаемой мною дрезденской панорамой доминировал строгий
облик Карла Маркса.
На утро, подойдя к оперному театру, я с удивлением про¬
читал, что в Дрезденской Королевской опере — этом серьезном
оперном театре Европы — сегодня идет «Боккаччо» Зуппе.
Из состояния крайнего недоумения меня вывел Яначек, кото¬
рого я встретил в кафе.
— У немцев, — сказал он мне, — существует такое прави¬
ло — важно не «что», а «как». В Дрезденском оперном театре,
176
наряду с произведениями высокой классики — «Фиделио» Бет¬
ховена, операми Моцарта и всеми операми Вагнера, — здесь
Яначек улыбнулся — для «умственного» пищеварения немцев
дают «Боккаччо» и «Летучую мышь». Эти легкие произведения
являются для желудков немцев своего рода мирабеллен-ком-
потом, с которым вы, конечно, уже познакомились. Но оперет¬
ты эти — продолжал Яначек — пользуются со стороны театра
полным вниманием и той серьезностью, на которую способны
немцы. Увидев «Боккаччо», вы поймете, что немцы способны
даже из пустяка состряпать нечто солидное.
Когда, скептически настроенный, я сидел в партере на
«Боккаччо», которое было мне хорошо знакомо, то изумлению
и восхищению моему не было границ. Во-первых, на сцене
я увидел подлинную Флоренцию, которую художник так изо¬
бразил, что этот город на сцене был, пожалуй, интереснее
и живописнее реального. Во-вторых, атмосфера итальянского
Ренессанса чувствовалась во всем — в архитектуре, костюмах,
аксессуарах, в пластике артистов и в общем настроении, тон¬
ком и не пошлом, «Декамерона» Боккаччо.
Партию Боккаччо пела оперная певица Эльза Вильденбрух,
меццо-сопрано. В ее репертуаре — «Кармен». Эта артистка
обладала очаровательной внешностью и фигурой, а в мужском
костюме она живо напоминала тех красавцев-юношей, которые
живут и восхищают глаз на полотнах итальянцев. Голос певицы
очень напоминал звук тенорового саксофона, прозу она гово¬
рила превосходно, совершенно как заправская драматическая
актриса. Такой «Боккаччо», естественно, был в центре спектакля.
Другие певцы, еще вчера в «Мейстерзингерах» исполнявшие
ответственные роли, чувствовали себя сегодня в оперетте, как
рыба в воде.
В антракте между первым и вторым актом артисты произво¬
дили среди публики сбор денег на устройство детского тубер¬
кулезного санатория — этот день был объявлен «днем белой
ромашки». Публика охотно жертвовала артистам-сборщикам,
а особенно исполнительнице Боккаччо. Я тоже положил ей
пять марок. В ответ на этот жест очаровательный Боккаччо
сделал мне женский книксен, лукаво произнеся «Спасибо»,
и приколол на отворот моего смокинга белый цветок. Если бы
я был награжден тогда каким-либо большим орденом, то он
обрадовал бы меня в тот вечер меньше, чем скромная ромашка,
пожалованная мне очаровательной ручкой фрау Вильденбрух!
177
На другое утро я ехал в Нюрнберг, где меня ожидал худож¬
ник П. Б. Ламбин, командированный Мариинским театром
в этот старинный город Германии, чтобы собрать материалы
к постановке «Мейстерзингеров» и сделать необходимые зари¬
совки. Мой выбор художника был сделан сознательно. Заме¬
чательный рисовальщик и поэт краски в духе Репина, Ламбин
в совершенстве знал условия сцены. В Мариинском театре
у него была своя декорационная мастерская. Необыкновенно
вдумчивый, скромный и тихий, Петр Борисович, с его талантом
и знаниями, был мало известен в шумных и крикливых
художественных сферах тогдашнего «декадентского» Петер¬
бурга. В его судьбе как бы снова раскрылась истина старой
французской поговорки: «скромность — лучший путь к неиз¬
вестности».
За три дня, которые Ламбин провел в Нюрнберге без меня,
он сделал массу зарисовок и все в красках — техника и быст¬
рота у него были изумительные! Он остановился в отеле «У лебе¬
дя», где и я нашел себе пристанище. Вставая рано утром, мы
вдоль и поперек исходили этот маленький и скромный тогда
баварский городок. Большой замок на горе, исторический
домик и примитивная сапожная мастерская поэта и писателя
Ганса Закса — все это в этюдах Ламбина нашло свое точное
отражение. Но нарисованное художником и преображенное
силой его живописного таланта, — насколько все это было
ярче той реальности XVI века, с которой мы соприкасались!
Все в натуре казалось бедным и, увы, отжившим!
— Не огорчайтесь, Николай Николаевич! — говорил мне
Ламбин, — ведь мы не члены археологической экспедиции,
а люди театра! Театр же, как у Сервантеса, имеет силу и право
трансформировать старенькие деревенские мельницы в гигант¬
ские фигуры великанов!
Моим новым разочарованием было посещение собора св. Ека¬
терины, где в XVI веке происходили знаменитые состязания
мастеров пения. Эта небольшая церковь была совершенно задав¬
лена соседними большими средневековыми постройками и в на¬
стоящее время была заперта. Заплатив сторожихе, мы все же
проникли внутрь, и наше разочарование еще более увеличи¬
лось. Здание было невелико — небольшой амвон для алтаря,
очень небольшие хоры и бело-грязные стены, в которых зияли
три амбразуры. И это все! Вдобавок ко всему на полу храма
лежали огромные кучи тертого мела. Пока Ламбин делал
178
зарисовки, словоохотливая сторожиха сообщила мне, что храм
давно уже превращен в склад и что художникам гораздо инте¬
реснее посмотреть знаменитый храм св. Зебальда, нежели эту
заброшенную церковь.
Готический храм св. Зебальда с гениальными работами
из гнутого железа Петра Фишера был действительно велико¬
лепен. И как только мы вошли в этот просторный храм, я не¬
медленно узнал его — в Дрезденской опере состязание мейстер¬
зингеров происходило не в тесном здании собора св. Екатерины,
а под роскошными готическими сводами именно этого храма.
От перестановки слагаемых сумма не изменяется — важно,
чтобы состязание мейстерзингеров происходило в Нюрнберге,
а место действия могло быть любым — лишь бы оно было сце¬
ничным. Так, вероятно, и думали постановщики оперы «Мей¬
стерзингеры» в Дрездене. Цели они достигли — первый акт
оперы выглядел пышно и эффектно.
После этого нам с Ламбиным оставалось только зарисовать
панораму Нюрнберга для последнего акта оперы. Мы ушли
далеко за реку Печниц, которая едва ли превышала величину
реки Казанки. Там мы выбрали наиболее живописную пано¬
раму города, с его башнями и средневековым замком. И пока
я, лежа на траве, мечтал о своем путешествии в Верону на празд¬
нование столетия со дня рождения Верди, Петр Борисович
нарисовал красками превосходный большой этюд Нюрнберга.
На первом плане он, шутя, поместил и мою распростертую
фигуру.
На утро я провожал Ламбина, увозившего в Петербург
огромную папку своих нюрнбергских этюдов. Где они теперь?
Неужели бесследно исчезли труды такого скромного и такого
замечательного художника театра?..
Почти со всеми большими городами Италии я был хорошо
знаком — если это знакомство и не было личным, то по лите¬
ратурным и иллюстрированным источникам. Одна Верона,
город венецианской области, оставалась вне моего внимания,
хотя именно этот город и был мне близок по целому ряду при¬
чин. Во-первых, в опере Гуно «Ромео и Джульетта» Верона
для меня была известна по прологу к опере, в котором хор пел:
«В Вероне две семьи жили в распрях ужасных...» Во-вторых,
Любимейший мой художник Паоло Веронезе был родом из
Вероны и, наконец, те, кто изучал в гимназиях и семинариях
латинский язык, должен не без душевного трепета вспоминать
179
педантический призрак Корнелия Непота, родившегося тоже
в Вероне. Слова этого друга Цицерона, как отдаленное эхо
моей латинизированной семинарской юности, до сих пор зву¬
чат в ушах.
Мобилизовав таким образом все свои познания о совершенно
незнакомом мне городе, я спокойно подъезжал к Вероне.
Все-таки есть общие знакомые: Паоло Веронезе, Корнелий
Непот и Цицерон! Но остановиться у них я, увы, не мог и чув¬
ствовал бы себя беспризорным, если бы в кармане у меня
не лежало письмо директора кисловодской оперы, добрейшего
М. М. Валентинова к его другу, режиссеру итальянской оперы
Доменико Дума.
Верона, расположенная в красивой цветущей долине, про¬
извела приятное впечатление — обилие церквей ясно пока¬
зывало, что веронцы всегда были очень богомольны. В долине
протекала река, носившая смешное название Эчь, точно ласко¬
вая кличка для любимой собачки!
Когда я со своим чемоданом вышел на площадь и остано¬
вился на минуту, то первым моим желанием было закричать
«караул»: на меня набросилась стая рослых и очень темпера¬
ментных «факини» (носильщиков), которые швыряли меня,
словно футбольный мяч, из рук в руки и кричали на всех язы¬
ках — на разных диалектах итальянского, по-немецки, по-фран¬
цузски, по-английски, по-испански и даже, кажется, по-еврей¬
ски. Если бы не вмешательство рослого полицейского, то мне
пришлось бы, вероятно, быть похороненным на том же клад¬
бище, где, как говорит легенда, покоятся тела Ромео и Джуль¬
етты.
Полицейский, взяв меня со строгим видом под руку, точно
я был в чем-то виноват, передал мою персону и чемодан росло¬
му носильщику. Узнав адрес, «факини» положил мой чемодан
на голубую тележку с нарисованными на ней летящими пче¬
лами. «Далеко. Будет стоить пять лир», — безапелляционно
заявил мне потомок Корнелия Непота. Он летел по улицам,
и я должен был двигаться с такой же сказочной скоростью.
Когда дорога стала подниматься в гору, у меня уже не было
сил, и счастливая идея — угостить «быстроногого Ахилла»
стаканом вина спасла меня. Сидя в кабачке и угощая носиль¬
щика вином, я, чтобы иметь возможность передохнуть, предло¬
жил ему еще тарелку макарон с сыром. «Быстроногий» охотно
согласился. Отдохнув таким образом, я скоро был у цели.
180
Доменико Дума, совершенно обрусевший итальянец, от души
смеялся над моим путешествием по улицам Вероны. «Извозчик
стоил бы немного дороже, а вы, Николай Николаевич, попали
в руки мошенника. А лучше всего надо было дать мне теле¬
грамму! »
Доменико Антонович работал режиссером в лучших оперных
театрах России, а когда подошла старость и засеребрились чер¬
ные волосы, его потянуло на родину, в солнечную Италию.
В Миланском театре «Ла Скала» Дума занимал скромное место
режиссера, ведущего спектакль. Но одна особенность этого
милого человека и прекрасного товарища помогала ему без¬
бедно существовать.
Итальянские певцы, как бы высоко они ни стояли на лест¬
нице славы, были все суеверны до смешного, до невероятного!
Слово «эттатура» (неудача, несчастье) было абсолютно реально
для итальянского певца, и у каждого из них в жилете или
на ожерелье у женщин непременно имелся амулет — крошеч¬
ная рука из красного коралла с вытянутыми вторым и пятым
пальцами. По существовавшему поверью, это было верное
средство от неудачи.
Человек, прослывший «эттаторе» (приносящий несчастье),
не найдет себе работы ни в одной оперной труппе. При встрече
с ним у каждого на правой руке автоматически, где бы она
ни находилась — в кармане, за спиной или под столом — скла¬
дывался из пальцев «антиэттаторный» символ. Это было наивно,
глупо, но, увы, это имело широкое распространение.
Д. А. Дума среди итальянских артистов имел счастливую
репутацию человека, приносящего счастье и вдобавок страхую¬
щего от «эттатуры». Основанием к этому был, как мне казалось,
прекрасный характер, абсолютная незлобивость и какой-то
его своеобразный русско-итальянский юмор. В театре каждый
артист или артистка непременно требовали перед своим выходом
на сцену, чтобы синьор Доменико дал руку «на счастье».
Когда это совершалось, у певцов великолепно звучали голоса,
высокие ноты вызывали восторг, и каждому певцу или певице
вообще был гарантирован триумф в спектакле.
Такая репутация среди суеверных деятелей итальянской
оперной сцены приносила Думе большие материальные выгоды.
Он был своего рода гипнотизером для добровольно подчиняю¬
щихся этому гипнозу нервных и впечатлительных итальян¬
ских артистов.
181
Дума принял меня по-родственному — ведь с моим приездом
на него нахлынули, вероятно, воспоминания о России, где ему
жилось прекрасно и где все его любили за чудный характер.
Письмо М. М. Валентинова, его большого друга, переданное
мною, взволновало его до слез. Дума сделал все, чтобы мое
короткое пребывание в Вероне было незабываемым. Перегово¬
рив с хозяином дома, Дума устроил меня в своей квартире.
Владелец дома Нинно Вермильо был очень красивым и пред¬
ставительным стариком; глядя на него, я вспомнил замечатель¬
ную картину художника Семирадского «Вазу или женщину»:
старый сенатор в затруднении: перед ним нагая красавица-
рабыня и редкостная ваза, и старик не знает, что купить —
женщину или вазу. Можно было подумать, что Семирадскому
натурой для фигуры упитанного римского старика-сенатора
служил Нинно Вермильо. Он был владельцем старого, но
уютного дома и, кроме этого, президентом общества пчеловодов
Вероны. Мед же был главной статьей заграничного экспорта
этого города.
И я поселился в этом гостеприимном доме. Обедая вместе
с Нинно, мы с Дума грустно вздыхали по поводу отсутствия
традиционной рюмки русской водки! Нинно, глотая перед
обедом стаканчик вермута, не мог даже и вообразить себе,
как далека была эта лекарственная настойка от прозрачной
и аппетитной двойной очищенной «смирновки» с белой голов¬
кой! Рисовый суп с какими-то ароматными травами и лимоном,
котлеты, зажаренные в оливковом масле, и макароны в томате
с острейшим сыром — все это было типичным итальянским
обедом, за которым мысль несколько настраивала воображение
на солянку из осетрины, на расстегайчики, филе на вертеле
или осетровый шашлык. Все эти вкусовые ассоциации русско-
кавказского порядка разбудил Дума, большой гастроном,
умевший и любивший покушать.
Но заключительная часть обеда — сладкое — привело меня
в восторг: пуддинги трех сортов и в огромной вычурной фарфо¬
ровой вазе — янтарно-золотой мед Вероны! Липовый, цветоч¬
ный, акациевый, полевой, гречичный мед нашей Родины —
ты прекрасен в своем роде. Но ароматические свойства меда
Вероны были выше вкусовых качеств лучших сортов русского
меда. Вокруг пчеловодческих хозяйств Вероны целые гектары
роз и ароматных медоносных цветов и трав, специально культи¬
вируемых для питания пчел. Когда сухо, эти цветы поливают
182
из реки Эчь. Кроме всего этого, горы и склоны Вероны, как
и во времена Ромео и Джульетты, богаты ароматом лаванды,
шалфея и других пахучих трав.
Чудесный мед к пудингам и лимонадно-шипучее вино «Асти
спуманте» скрасили весь обед, во время которого назойливо
досаждал запах подгоревшего оливкового масла.
С огромным интересом отправился я с Думой к месту, где
завтра должно было состояться торжественное празднование
столетия со дня рождения Джузеппе Верди. Весь мир был
наводнен рекламой и плакатами об этом торжестве. Группа
итальянских капиталистов взяла на себя устройство этого
праздника, и он получил необычный размах. В центре всего
была «Аида», исполняемая на арене древнеримского цирка.
Театр под открытым небом! Это «натуртеатр» в Германии,
спектакли в руинах древнеримских театров на юге Франции, где
ставились «Царь Эдип» и «Кармен». Все эти оригинальные
опыты театральных зрелищ давно захватили мое воображение.
Оперное дело в Кисловодске и его окрестностях было той «аре¬
ной», где я при молчаливом и добродушном попустительстве
антрепренера Валентинова начал свои опыты над созданием
в Кисловодске «театра под открытым небом». В парке при теат¬
ре изобретательный машинист из обломков старых декораций
и досок, оставшихся от ремонта Курзала, соорудил открытую
сцену, место для оркестра и амфитеатр для зрителей.
«Нами создан подлинно античный театр», — думалось мне.
И я назвал свое создание эллинским театром! В этом театре
мне удалось осуществить постановки «Орфея» Глюка, «Сам¬
сона и Далилу» Сен-Санса и очень своеобразную постановку
оперетты Оффенбаха «Прекрасная Елена». В последней поста¬
новке особенно удачны были два момента: шествие царя царей
Агамемнона, когда он и другие цари прибывали на состязание.
Восемь совершенно белых быков, взятых мною из казачьей
станицы Минутка, были украшены зеленью и цветами; быки
тянули четыре колесницы, на которых сидели цари и очень
эффектная и красивая певица Старостина, исполнявшая роль
Прекрасной Елены. Это шествие освещалось прожекторами
с балкона и вызвало бурные аплодисменты. Вторым эффектным
моментом был финал оперетты, когда Парис похищает Елену.
Из-за «эллинской» сцены появлялась платформа, превращенная
в точную копию античного корабля. На большой мачте был
укреплен огромный белый парус, выгнутый так, словно попут¬
183
ный ветер надувал его для быстрого плавания. Движущей силой
были шесть рослых рабочих, спрятанных в кузове «корабля».
Резиновые колеса этого своеобразного крейсера делали дви¬
жение его легким и бесшумным. Когда красавица Елена и такой
же красавец Парис (его пел молодой баритон Балабан) уплы¬
вали на этом фантастическом корабле, освещаемые мощным
светом прожектора, по песку и гравию через весь парк и скры¬
вались за зданием настоящего театра, тогда тысячная толпа
зрителей тоже участвовала, казалось, в постановке — громкие
аплодисменты от неожиданного зрелища как бы олицетворяли
собой морскую стихию, во власть которой отдавали себя
счастливые влюбленные.
В дальнейшем мои опыты над созданием театра под откры¬
тым небом в Кисловодске продолжались. Были сделаны попыт¬
ки постановки оперы «Демон» на Красных камнях и даже на стан¬
ции Казбек по Военно-Грузинской дороге, в ущелье под горой,
где стоит историческая часовня. Но так как эксперименты эти
были сопряжены с большим материальным риском, то мне
пришлось, щадя скромные средства доверчивого Валентинова,
от этих фантастических постановок отказаться. Но все-таки
в моем воображении оставался нереализованным проект созда¬
ния такого театра под открытым небом. Грандиозное количество
зрителей смотрят и слушают какое-нибудь великое оперное
произведение под безграничным южным, ночным небом. Огром¬
ные масштабы постановки и огромное количество исполните¬
лей — оркестр, хор, балет и первоклассные певцы — все это
возрождало великое массовое искусство Эллады.
«Эти ночные фантазии ваши, Николай Николаевич, — гово¬
рил мне спокойный Валентинов, — красивы в воображении,
но они несбыточны при свете трезвого дня, когда на бумаге
и с карандашом в руке видишь грандиозную разницу между
реальной суммой расходов и очень проблематичным итогом при¬
хода. Увы! мы не древние афиняне! Это может быть беспощадно,
но реально»...
И вот я стою на окраине Вероны. Передо мною грандиоз¬
ное мраморное здание, великолепно сохранившееся: два яруса
аркад делают колоссальный амфитеатр ажурным и легким. Все
полно света и воздуха. А ведь размеры амфитеатра огромны:
его окружность имеет 435 метров, ширина равна 123 метрам,
а длина 152 метрам. В амфитеатре — 46 рядов, на них раз¬
мещается 22 тысячи зрителей.
184
Конечно нам, советским людям, имеющим грандиозные ста¬
дионы, вмещающие до 100 тысяч зрителей, античные амфитеатры
покажутся очень скромными. Но ведь Верона — один из древ¬
нейших городов Италии, и создание в этой далекой от Рима
провинции такого амфитеатра являлось делом необычным.
Эта постройка необычна и, пожалуй, показательна и для наше¬
го времени. Это мраморное чудо строительного и архитектур¬
ного искусства выдержало экзамен на вечность!..
И вот здесь, сегодня должно быть большое торжество —
празднование столетия со дня рождения Верди. Всю куль¬
турную Европу всколыхнуло известие об этом необычном тор¬
жестве. Праздник привлек цвет мировой музыкальной, худо¬
жественной и литературной интеллигенции. Здесь были
А. М. Горький и многие музыканты, художники и литераторы
России, Германии, Англии, Америки, Италии. Последнюю
представляли композиторы Пуччини, Масканья, друг Верди
Арриго Бойто, его либреттист и страстный поклонник. В отелях
Вероны не хватало места для прибывших на торжество — столь
велик был размах этого праздника итальянского народа и его
музыкальной культуры.
Итальянцы, неплохие коммерсанты, превосходно учли все
возможности, художественные и коммерческие, и не прогадали.
На приспособление амфитеатра для спектакля и на необычай¬
ную постановку «Аиды» была затрачена огромная сумма. Работы
над постановкой этого шедевра Верди продолжались два меся¬
ца; в них участвовало много видных художников, архитекторов,
консультантов-египтологов, замечательных бутафоров, армия
плотников и осветителей.
Режиссерской работой руководила коллегия видных италь¬
янских оперных режиссеров; в этой коллегии состоял и
Д. А. Дума с правом совещательного голоса. Он заведовал
армией статистов и парком лошадей, верблюдов и слонов.
«Не хватает только нильских крокодилов, да кавказских иша¬
ков!» — смеясь, говорил Дума.
Оркестровый и хоровой коллективы были огромны; этой
частью руководил дирижер, маэстро Тулио Серафин — вторая
после Тосканини дирижерская величина в Италии.
В спектакле «Аида» участвовали лучшие итальянские певцы
этой эпохи. Партию Радамеса пел один из лучших драматиче¬
ских теноров Италии Дзенателло. Огромный, приятный по темб¬
ру голос, беспредельные верхи и дыхание, напоминающее огром¬
185
ные меха, которое позволяло певцу свой звук расширять до пре¬
делов баритоновой силы на «медиуме». Наоборот, на верхних
нотах Дзенателло превращал очаровательный звук своего
голоса в сладкое пиано и даже пианиссимо изумительного
лирического тенора. Артистические данные Дзенателло были
очень шаблонными и условными. Так итальянские певцы,
вероятно, жили и творили на сцене сто лет назад. Но Дзенателло
был не только певцом — он был и богатым, предприимчивым
коммерсантом. Один из лучших отелей и ресторанов в Милане
принадлежал ему. А в постановке «Аиды» он был не только
главной вокальной силой, но и силой финансовой; ему, его
опыту и знанию театра был доверен огромный капитал на не¬
обычную постановку «Аиды», и Дзенателло оправдал доверие
других пайщиков.
Роль Аиды исполняла певица Маццолени. Теплый, большой
звук изумительной ровности и равнозвучности; у певицы оди¬
наково звучали ноты низкого ми и предельного до. Маццолени
была великим мастером филировки звука. Это искусство достав¬
ляло огромное и часто неожиданное наслаждение. Голос
певицы напоминал скрипку Амати в руках вдохновенного скри¬
пача, но не виртуоза, а скрипача, который чувствует и слушает
свой замечательный инструмент. Как актриса Маццолени
ничем не поражала, но все у нее было оправданным и логич¬
ным. Лицо ее было красивым и выразительным, но фигура
отличалась излишней полнотой. Чтобы сгладить это впечатле¬
ние, умная артистка очень изобретательно и пластично драпи¬
ровалась в свои темные ткани, учитывая, очевидно, каждое
положение, каждый ракурс своей фигуры.
Амнерис пела знаменитая исполнительница партии Кар¬
мен — Мария Гай, жена тенора Дзенателло. Насколько Мария
Гай — испанка по происхождению — в партии Кармен была,
что называется, на своем месте, настолько в роли египетской
царевны ее вулканический темперамент и глубоко поставлен¬
ный звук (почти контральто) связывали артистку. Зато в сцене
судилища Мария Гай была изумительна!
Баритон Страччари, певец высокого вокального мастерства,
очень культурный сценически, пел Амонасро. Все у певца
было сделано хорошо и обоснованно, но акустические условия
театра под открытым небом были губительны для этого мягкого
голоса. Вот где был бы хорош наш кавказский «дикарь» бари¬
тон Амирджан!
186
Вся сценическая установка занимала значительный сектор
южной части арены и высота ее была несколько выше челове¬
ческого роста, а «ширина» сцены равнялась, пожалуй, простран¬
ству площади перед Московским Большим театром. Понятно,
что при таких условиях звучание оркестра было крайне нерав¬
номерным. Несмотря на все искусство и незаурядное дарование
дирижера Тулио Серафина, несмотря на огромное усиление
струнной группы оркестра, «медь» все-таки звучала победонос¬
нее в оркестровом сопровождении оперы.
С хором обстояло лучше. Сто пятьдесят человек мужского
хора и сто человек женского представляли собой такой мощный
певческий коллектив, что звучание этого огромного вокаль¬
ного «органа» на деревянном планшете сцены было превосход¬
ным, и многие нюансы хорового исполнения, о которых я и не
предполагал, поражали меня своей необычностью и тонким
музыкальным вкусом.
Будучи фанатиком идеи театров под открытым небом,
я имел всегда в своем распоряжении только самые ничтожные
средства для реализации пышных фантазий в этой области.
«Печатание бумажных денег идет на монетном дворе гораздо
медленнее, — говорил Валентинов, — на много медленнее режис¬
серских фантазий и головокружительных проектов!» И на
постановки под открытым небом я получал открытый кредит...
в пятьсот рублей, вместо запроектированных мною пяти тысяч.
И очаровательное кисловодское небо часто, очень даже часто,
плакало проливными дождями над крушением моих режиссер¬
ских фантазий...
Теперь станет понятным мое волнение и те ощущения, кото¬
рыми я был захвачен, подходя в день столетнего юбилея Вер¬
ди и постановки «Аиды» к монументальному зданию Веронской
арены. Никаких речей и докладов в этот вечер не было. Все
это происходило накануне в здании консерватории. Сегодня
у входа на Арену каждый зритель возлагал цветы к подножию
колонны, на которой возвышался колоссальный бюст Верди.
Из роз и других цветов у подножия колонны образовался целый
ароматный стог. Огромный венок из белых роз и бархатных
пармских фиалок — приветствие от королевы Италии — был
прикреплен к основанию бюста. От аромата цветов сердце уси¬
ленно билось и кружилась голова!
Для меня милейший Дума отметил место среди представи¬
телей печати, и я благодаря этому все хорошо видел и слышал.
187
Попробую спустя почти четыре десятилетия восстановить атмо¬
сферу этого спектакля.
...Огромные мраморные стены арены, бесконечное коли¬
чество голов зрителей на мраморных уступах и шум экспан¬
сивной итальянской и разноязычной толпы — все это живо
напомнило мне знакомое жужжанье пчел в закрытом улье.
Сцена находилась в относительной темноте, а места для пуб¬
лики освещались мягким матовым отраженным светом. Между
публикой шныряла, словно стая мух над сладким тортом,
целая армия мальчишек, продававших «кушинетти», малень¬
кие подушечки из морской травы: просидеть три часа на холод¬
ном мраморе было делом трудным и, пожалуй, опасным.
Когда все уселись и успокоились, я весь обратился в слух.
Над амфитеатром было распростерто синее небо Италии. Звук
мелодического гонга... Тишина... Во время интродукции сцена
постепенно, по силе нарастания звучности в оркестре, начала
освещаться. Прожекторы разного размера — от самого малень¬
кого до большого — стали творить свою симфонию света
и красок. Я чувствовал, что в области света и в сфере освещения
предметов сценической архитектуры и скульптуры здесь сущест¬
вует точная и разработанная световая партитура. И многочис¬
ленные осветители, хорошо инструктированные и помещен¬
ные над головами зрителей, превосходно выполняли свою худо¬
жественную функцию.
Вся эта оригинальная и, можно сказать, неповторимая
постановка «Аиды» для режиссеров, художников сцены и для
каждого техника театра представляла глубокий и поучитель¬
ный интерес.
Над всем пространством обширной площадки сцены, имев¬
шей высоту до трех метров, было живописно растянуто на четы¬
рех стальных тросах огромное полотнище, разрисованное крас¬
ками египетских тканей. Оно было очень красиво и живописно,
да и в акустическом отношении имело, вероятно, некоторое
значение для звучания голосов.
Постановка «Аиды» соблазнительна для каждого режиссера.
В этой опере есть много моментов, когда режиссер, даже не
мобилизуя своих знаний о Египте, если они имеются у него,
может проявлять чудеса изобретательности. В Одессе, напри¬
мер, один известный режиссер вымуштровал всех исполнителей
«Аиды» так, что их позы и жесты были точной копией стенной
живописи египтян, не знавших, как известно, иного положе¬
188
ния человеческой фигуры, кроме профильного рисунка.
В триумфальной сцене Радамес появлялся на картонном слоне,
вызывавшем у зрителей невольную улыбку, а в третьем акте —
на берегу Нила бутафорские крокодилы делали попытки
выбраться из камышей исторической реки. По французской
поговорке «смех убивает». И театральные чудовища были убиты
сдержанным смехом публики.
Я сам частенько пробовал при постановке «Аиды» творить
разные театральные чудеса и вызывать к жизни тайны египет¬
ских жрецов. Но однажды работавший со мною талантливый
художник А. Дмитриев, бывавший в Египте, отличный знаток
страны и ее древнего искусства, переключил мою фантазию
на более реальный путь. Изучая историю искусства седого
Египта, я приблизился к его верному пониманию.
Когда я увидел «Аиду» на Веронской арене, то сразу, как
отзвук далеких воспоминаний и грез, передо мной возник
подлинный образ Египта.
Два огромных обелиска нормальных пропорций и высоты
ограничили сцену. Колонны разной величины и объема, запол¬
няя весь простор огромной сценической площадки, были так
живописно и гармонично поставлены, что куда бы ни падал
взгляд зрителя, всюду была красота пропорций и перспективных
линий. Красивые пилоны, то сокращая, то расширяя размеры
активной площади сцены, являлись своего рода архитектурной
диафрагмой, которая, когда это было необходимо, ограничивала
пытливый взор зрителя.
Сфинксы идеальной формы и пропорций смотрели своими
слепыми глазами из разных пунктов сцены на зрителей. Целый,
казалось, лес пальм, то здесь, то там, поднимался из-за архитек¬
турных построек; пропорция деревьев, их стволы и блестящие
листы — ничто решительно не возбуждало мысли о том, что
это только произведения искусства, а не сама живая
природа!
Но все это, думал я, было бы только огромным, но мертвым
музеем египтологии, несмотря на все искусство художников, —
если бы не свет. Этот свет, как переливание крови в мертвеющий
организм, совершал чудеса! Холодные формы становились
живыми, и жизнь начинала играть разнообразными красками
на инертных и холодных плоскостях архитектуры и скульптуры.
И даже пальмы, точно корни их напоили свежей влагой, забле¬
стели зеленым золотом.
189
«Свет дает вещи жизнь!» — эта латинская фраза из арсенала
французских импрессионистов невольно приходила на память.
И это было очень справедливо!
Исполнение «Аиды» было превосходным. Солисты, оркестр,
хор, балет, лошади в колесницах фараона, белый слон, на
котором появлялся Радамес со своей свитой, огромное коли¬
чество войска, массы пленных эфиопов, целый табун вер¬
блюдов и великолепно звучащий духовой оркестр на сцене —
все это могла родить только очень пылкая фантазия режис¬
сера-египтолога. И все это перед моими изумленными глазами
было, однако, неоспоримой реальностью!
Изумительной в своем художественном лаконизме была
сцена у Нила. Разлив могучей реки; на фоне воды, фосфорически
блестевшей отраженным светом невидимой луны, высились
две колоссальные скульптуры фараонов. Целый лес пальм,
разбросанных в живописном беспорядке, оформлял эту чудес¬
ную картину. Здесь изумительное освещение было главным
действующим лицом, а декоративные и скульптурные пред¬
меты являлись своего рода экраном, воспринимавшим проек¬
ции света.
Странное совпадение! В это время на синем небе появилась
настоящая луна. Она, однако, показалась мне менее художест¬
венной, чем луна театральная, которая на сцене творила такие
магические эффекты, на которые настоящая луна никак не спо¬
собна...
Будучи режиссером-профессионалом, я, естественно, был
и достаточно толковым техником сцены. И техническая сторона
этой необычайной постановки «Аиды» возбуждала во мне осо¬
бый восторг.
Ведь в «Аиде» семь картин, семь перемен декораций. В рас¬
поряжении режиссуры не было ни одного клочка живописи —
все объемное и скульптурное. Вся эта масса предметов оформ¬
ления была расположена на гигантской площадке арены в ка¬
жущемся беспорядке, как перемешанные фигуры на шахмат¬
ной доске.
Короткий свисток главного машиниста сцены — и все
оживало в ритмическом и совершенно бесшумном движении.
Огромное количество театральных рабочих в синих комбине¬
зонах, черных беретах и мягких туфлях начинали свою, поисти¬
не, муравьиную созидательную работу. Все делалось тихо,
бесшумно и без стука. Молотки и гвозди совершенно не участ¬
190
вовали в этом своеобразном процессе. Своего рода штопоры,
винты и какие-то огромные тяжести в виде колоссальных утюгов
приняли на себя функции неизбежных в театре гвоздей.
Эта «работа» публику совершенно не интересовала. Целый
батальон девушек, продававших бутерброды, апельсины, лом¬
тики ананасов, лимонную и апельсиновую воду и легкое вино
с сухими галетами, заполнил все ряды. Это был своеобразный
передвижной буфет — другого не было. И внимание всей
публики было именно здесь.
Я же был не в состоянии оторваться от того, что соверша¬
лось на площадке огромной сцены, и насколько возможно
близко подошел к оркестру. Работа молчаливо действующих
на сцене людей ясно обрисовала предо мной принцип совер¬
шенной организации труда. Здесь, возможно, не было хороших
людей и хороших машин, а было то, что мы вообще называем
системой. Планомерно, на глазах у зрителей, спокойно и легко
собирались и убирались разные архитектурные детали —
ступени, пирамиды и площадки. Восьмиметровые колонны,
ворота, пилястры, пилоны словно карточные домики легко
передвигались с места на место.
Сфинксы, монументы фараонов и гигантские изваяния бога
Фта — все это двигалось само собой (внутри действовали
скрытые рабочие) и становилось на определенное место. На меня
это производило впечатление какого-то грандиозного жонгли¬
рования, когда каждый из жонглеров, побеждая невероятные
трудности, улыбаясь, ожидает аплодисментов.
Итальянцы рабочие, молчаливо делая свои головокружи¬
тельные перестановки, все время улыбались как заправские
жонглеры, акробаты или наездники. Но им, увы, никто не апло¬
дировал!.. Неужели среди этой многотысячной толпы только
мне одному было понятно это великое искусство безвестных
людей г!
Замечательное зрелище окончилось. Сбор от спектакля
превысил сумму в шестьдесят тысяч лир — сумма для итальян¬
цев совершенно невероятная! А ведь впереди предстояло еще
четыре представления такой же «Аиды»! Юбилей священного
для каждого итальянца Верди привлек массу зрителей и слу¬
шателей в Верону не только из всех городов Италии, но также
и из-за границы. Устроители этого зрелища могли торжество¬
вать, их смелая инициатива увенчалась полным успехом!
Необычайный успех «Аиды» и материальные результаты поста¬
191
новки были премией за смелость, оригинальность и изобре¬
тательность.
У меня все время неотвязно в ушах звучала мелодия уми¬
рающих Аиды и Радамеса — «и наши души летят туда, где
вечный день царит!» Откуда у таких больших голосов, как
Маццолени и Дзенателло, откуда, думал я, взялось у них
такое изумительное пианиссимо, бесконечное дыхание и абсо¬
лютная, точная интонация?
Провожал меня на поезд милый и обязательный Дума.
Я передал ему свои впечатления от вокального искусства испол¬
нителей партий Аиды и Радамеса. «Русские певцы, — сказал
Дума, — тоже могут достигнуть такого искусства, если переста¬
нут кричать, а будут петь. Но возможно ли это? Шаляпин
и Собинов — единицы! »
«Русские, — отвечал я, — побеждали, побеждают и большие
трудности, они завоюют и ваше итальянское «бельканто»!
«Дай бог! — целуя меня, ласково сказал Дума. — Привет
всем моим друзьям и низкий поклон моей второй родине —
России! »
Кондуктор дал отправление — поезд, оторвавшись от пер¬
рона, стремительно бросился вперед.
Глава
двенадцатая
Петербург.
Мариинский
театр.
Кисловодск.
Опера
М. М. Вален¬
тинова. Первая
мировая война
Возвратившись из поездки, я сделал доклад о ее резуль¬
татах, обо всем, мною виденном и слышанном, а художник
П. Б. Ламбин показал свои чудесные нюрнбергские зарисовки
и предварительные эскизы к постановке оперы Вагнера. Все
это было сочувственно принято дирекцией и труппой. Дирижер
Коутс, который должен был готовить «Мейстерзингеров»
и который превосходно знал всю оперу, сделал мне много
полезных и ценных указаний, с которыми я согласился. Все
было уточнено и обусловлено. Но я, увы, не смотрел оптими¬
стически на будущее «Мейстерзингеров» на сцене Мариинского
театра; громоздкость великолепной музыки, длинноты и тяже¬
ловесность сценария — все это не могло импонировать вку¬
сам русской публики. А пора принудительных вагнеровских
абонементов в Мариинском театре прошла, они были уже
уничтожены.
Два интересных события произошли в художественной
жизни театра за это время. Был поставлен «Орфей» Глюка
с изумительными декорациями А. Я. Головина; вся пластиче¬
ская часть (танцы, группы и позы) была в руках М. М. Фокина;
общая режиссура принадлежала Вс. Э. Мейерхольду, вели¬
193
кому мастеру на всякого рода трюки и сценические выдумки.
Мне думается, что даже сам Глюк не мог и мечтать о таком
исполнении своей оперы. Орфея пел Л. В. Собинов; голос
певца, его фигура, его лицо в лавровом венке, умение изуми¬
тельно передавать голосом сущность исполняемой музыки —
все это производило незабываемое впечатление.
Эвридика — М. Н. Кузнецова-Бенуа, красавица, с глазами,
светящимися точно два раскаленных уголька, стройная и пла¬
стичная в античном хитоне, была фигурой, сошедшей с какой-
нибудь краснофигурной вазы Эрмитажа. Голос и дикция артист¬
ки, ее манера держаться и позировать на сцене — все это
носило отпечаток вкуса и требований Парижской Гранд-Опера,
где певица гастролировала все последнее время. Такой стиль
в исполнении оперы Глюка был очень уместным и гармонировал
вполне со стилем офранцуженной античности. Трудно было себе
представить кого-либо изящнее и. грациознее, чем Л. Я. Лип¬
ковская в роли Амура. Она была похожа на чудесную статуэтку
саксонского фарфора, которой мне пришлось любоваться
в замечательном дрезденском собрании старого фарфора.
Грация, пластичность и воздушная легкость движений артистки
были таковы, что каждое положение ее на сцене хотелось
зафиксировать в мраморе. Партия Амура невелика, но каждая
нота и фраза у Липковской светились, как чудесно отшлифо¬
ванный алмаз.
Декорации, костюмы и вся обстановка «Орфея» были созда¬
ны, как я уже писал, Головиным. Это было сновидением на яву,
легким, прозрачным, как голубые тени на розовом закате,
сновидением, которое хочется удержать как можно дольше,
но, увы, оно исчезает и взамен его возникают другие, которые
так же невозможно зафиксировать, как нельзя бывает удержать
в памяти форму движущихся облаков на бездонной синеве
неба. Декорации не были подлинно античными, в них совер¬
шенно не было музейности. И обстановка не была вполне антич¬
ной, и талант Головина, его тонкий вкус, его специфическая
гамма красок рисовали ту Элладу, которая может возникнуть
в душе поэта и художника в тот момент, когда он представляет
себе идеальную грацию, возможно, никогда и не существовав¬
шую. Сны часто бывают прекраснее действительной жизни...
Так же созвучны постановке были и движения замечательно¬
го балета Мариинского театра. Это нельзя было назвать тан¬
цами: группы, хороводы, похоронная процессия, пластические
194
ансамбли — все это, перекликаясь с творчеством Айседоры
Дункан, было замечательно создано Фокиным.
Оркестровка «Орфея» Глюка с современной точки зрения
кажется примитивной и несложной. Поэтому особенно важно
было сохранить характер музыки и стиль эпохи. И замечатель¬
ный дирижер и музыкант Э. Ф. Направник в этом кажущемся
примитиве нашел особые красоты, заключенные в несложной
оркестровке и в простой гармонии.
«Орфей» Глюка, как и весь искусственный, напудренный
и нарумяненный «эллинизм» французов, — все это предано
забвению. Никакие старания замечательных русских худож¬
ников не могли, увы, оживить этого прекрасного прошлого.
Хочется вспомнить отрывок чудесного стихотворения
К. Н. Батюшкова, «Из греческой антологии»:
«Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней».
Так очаровательный «Орфей» великого реформатора оперы,
замечательного композитора Глюка в снежном Петербурге
и не увидел «сияния протекших дней». А ведь театром было
сделано все, чтобы опера имела успех.
Но в связи с этим напрашивается такая аналогия.
Музыкальное руководство Мариинского театра и главным
образом дирижер Коутс решили поставить последнюю новинку
Германии, оперу Рихарда Штрауса «Электра».
В постановке принимал участие сам Рихард Штраус,
который приезжал репетировать оперу и дирижировать первым
представлением.
Очень трудной задачей было найти исполнительницу для
партии Электры; помимо мощного голоса (драматическое
сопрано) исполнительница должна обладать феноменальной
музыкальностью и врожденным абсолютным слухом, чтобы
верно вступать в цепь атональных аккордов, правильно инто¬
нировать. Здесь была необходима певица высокой музыкальной
культуры и стального ритма. И эту огромную задачу, совер¬
шенно не замечая трудностей, легко и свободно, как бы шутя,
решила певица Н. С. Ермоленко-Южина. Вчера еще простая
девушка-украинка, ученица профессора, Зотовой в Киеве,
Ермоленко была принята на императорскую сцену за свой
195
феноменально красивый голос — драматическое сопрано.
Внешность и лицо Ермоленко вполне гармонировали с голосом
певицы. Артистка, как и многие украинки, казалась сначала
холодноватой и инертной, но, загораясь, как в «Аиде» или
«Юдифи», она творила, быть может, бессознательно или под
диктат дирижера или режиссера, образы совершенные со сто¬
роны музыкальной и сценической. Поразив всех, Ермоленко
быстро выучила Электру.
Постановке «Электры» в Мариинском театре было уделено
большое внимание, а приезд в Петербург автора оперы еще
больше подогрел к спектаклю интерес общественности.
Вс. Э. Мейерхольд, ставивший «Электру» с художником
А. Я. Головиным, как всегда, должен был придумать что-нибудь
оригинальное. Он смешал понятия различных эпох античности
и получилось что-то совершенно непонятное. Художник спек¬
такля увлекся идеями постановщика.
А. Я. Головин построил на сцене дворец Аттридов, очень
напоминавший жилище доисторических правителей Мексики;
для артистов были созданы неудобные, несценичные костюмы.
На сцене ожили осколки ваз, похоронные урны и примитивный
орнамент Критской культуры. Это было, пожалуй, очень инте¬
ресно для археолога, но даже мне, человеку театра и искус¬
ства, показалось экспериментом ошибочным и фальшивым.
Все исполнители были одеты в узкие, туго накрахмаленные
костюмы, стеснявшие движения. Лица живых людей тоже
напоминали темные черепки Критской культуры. Положение
Электры — Ермоленко было особенно критическим; ее пре¬
красная фигура была втиснута в какой-то гигантский твердый
корсаж, идущий от подошв до плеч, а прекрасное лицо артистки
было выкрашено под цвет наиболее сохранившегося черепка
античной вазы.
Я стремился не пропустить ни одной сценической и орке¬
стровой репетиции «Электры». Мы все ждали, что, возможно,
зазвучит «новое слово» в оперном искусстве.
Огромный оркестр Мариинского театра Рихард Штраус
увеличил: из оркестровой ямы торчали, точно длинные шесты,
два контр-фагота — инструменты, совершенно мне неве¬
домые.
Тщетно я старался в оркестровке «Электры» на чем-нибудь
остановиться; непрерывный поток звуков, непрерывные
и неожиданные модуляции из одной тональности в другую дер¬
196
гали нервы. Это напоминало душ Шарко, когда горячая и ледя¬
ная вода, чередуясь, окатывает человеческое тело.
Глядя на режиссерскую работу Мейерхольда, я всегда
немного завидовал ему. Этот исступленный мастер обладал
даром гипнотически подчинять себе волю актера. Как бы спор¬
ны и парадоксальны ни были те или иные сценические реше¬
ния, Мейерхольд всегда умел талантливо проводить их в жизнь.
Когда состоялось первое представление «Электры», публика,
собравшаяся в большом количестве, — пришли все музыканты,
все декаденты, символисты, художники и критики Петербур¬
га, — эта избранная публика «первых спектаклей», ровно
ничего не поняв в музыке Штрауса и в экспонатах «критской
культуры», которыми была загромождена сцена, молча оста¬
вила театр.
На второе представление «Электры» собралось едва чет¬
верть зала... После этого опера была снята с репертуара,
и огромные расходы на постановку были вписаны в дебет
царственного рода Аттридов. Случай беспримерный в истории
Мариинского театра!
Оскорбленный Рихард Штраус, получив установленный
гонорар, с чувством глубокого отвращения покинул столицу
северных варваров.
После острого кушанья «Электры» театр должен был пере¬
ключиться на более удобоваримое питание. На меня были
возложены обязанности диетического врача. Мне предстояло
поставить в один вечер оперу «Мегаэ» польско-французского
композитора Адама Венявского и оперу Ц. А. Кюи «Сын ман¬
дарина», не шедшую в Мариинском театре пятьдесят лет. Сюжет
«Мегаэ» был из японской жизни, а «Сын мандарина» был наив¬
ной стилизацией жизни Китая.
После моей удачной постановки «Мадам Баттерфляй», мне
присвоено было звание знатока фольклора страны «Восходя¬
щего солнца». Не быв никогда в Японии, я, однако, крепко
литературно и иконографически изучил быт этой интересной
страны. Сказочный и легендарный сюжет двухактной оперы
и ее легкая прекрасная музыка, в духе Массне, мне понрави¬
лась, а ее романтически-красочный сюжет открывал для полета
фантазии режиссера и художника неограниченные возможности.
Мы с художником П. Б. Ламбиным широко использовали
все эти возможности, и постановка «Мегаэ» была удачной.
Прекрасными исполнителями были: Мегаэ — Е. А. Попова,
197
Бог Куаной — К. И. Пиотровский, мать — Н. А. Панина.
Любовно и внимательно, как всегда, дирижировал Б. В. Ас¬
ланов.
Второй частью спектакля была небольшая опера Кюи
«Сын мандарина».
Оперы этой я не знал и в китайском фольклоре был лицом
несведущим. Но в Казанской оперетте, помню, мне хорошо
удалось поставить «Чайный цветок» Лекока, тоже из китай¬
ской жизни. Труппа китайских акробатов и фокусников из бро¬
дячего цирка была моими добровольными лаборантами и инструк¬
торами. И моя постановка «Чайного цветка» делала сборы.
Светящиеся вывески, гирлянды бумажных фонариков, четыре
огненных гигантских дракона, двигавшихся на палках во время
шествия, и, наконец, много круглых оранжевых фонарей в руках
хора, загоравшихся в момент превращения огромного чайного
цветка в девушку, — все это вызывало восторг невзыскательной
публики. И даже сам глава китайской цирковой труппы, смот¬
ревший спектакль, похлопал меня по плечу и одобрил спектакль.
Весь этот театральный «китаизм», не имея других источ¬
ников, я перенес в петербургскую постановку «Сына манда¬
рина». И опера имела внешний успех.
Вместо старого китайца-фокусника на сцену в конце спек¬
такля пришел старый образованнейший генерал, композитор
Цезарь Антонович Кюи и, пожимая руку мне, сказал: «Спасибо,
Николай Николаевич, вы омолодили мою оперу, мой «пустя¬
чок» на все пятьдесят лет».
Невольно вспомнилось мне при этом последнее наше свида¬
ние в Вероне с режиссером Дума, когда мы сидели в уютной
и живописной остерии, попивая бархатистое кианти.
— Искусство оперной режиссуры, — говорил этот поседев¬
ший в оперных «переделках» режиссер, — должно быть легким
и свободным. Оперный режиссер должен создавать свои поста¬
новки так, как Моцарт писал оперы, — легко и непринужденно.
Алгебра и геометрия — хорошие и полезные дисциплины
в багаже оперного режиссера, но они — только ингредиенты
в его творчестве. Одна музыка является для оперного режиссера
богом, царем и компасом.
Только потом я узнал, что Д. А. Дума, участвуя в зна¬
менитой поездке итальянской оперы по Европе с Тосканини,
скончался в вагоне около Парижа от разрыва сердца. Как
и мне, ему, увы, не пришлось увидеть столицы Франции.
198
Большое удовлетворение испытывает человек, когда он
чувствует себя нужным и необходимым в каком-нибудь сложном
процессе работы. И это чувство удовлетворенности своей рабо¬
той и признаки внимания со стороны окружающих товарищей
очень меня радовали хорошей и теплой, покойной радо¬
стью.
После первой удачной постановки «Баттерфляй» последова¬
ли и другие мои работы на сцене Мариинского театра. Затем
я поставил спектакли «Орфей в аду» и «Прекрасная Елена»,
давшие огромные сборы в пользу Русского театрального
общества.
М. Г. Савина предложила мою кандидатуру на пост това¬
рища председателя этого общества. Моя кандидатура была
утверждена. Одновременно с этим труппа Мариинского театра
избрала меня председателем «Фонда артистов русской оперы»,
который имел благотворительные и бытовые функции.
И вот, наконец, настало время приступить к работе над
оперой Вагнера «Мейстерзингеры». К ней я фактически был
уже всесторонне подготовлен. Превосходные эскизы декора¬
ций и костюмов художника П. Б. Ламбина были утверждены.
На репетиции оперы было отведено сто дней, то есть более трех
месяцев.
Мне пришлось выступить перед труппой театра с докладом
о постановке «Мейстерзингеров». Обильные литературно-исто¬
рические материалы и заграничные впечатления сделали мой
доклад, может быть, и очень интересным, но, увы, многослов¬
ным. Необходимо было «округлять», а этой спасительной систе¬
мы я тогда еще не знал.
Пройдясь по истории XVI века в Германии, я коснулся
цехового устройства немецких городов и замкнутой конституции
мастеровых-певцов Нюрнберга, я стал цитировать слова зна¬
менитого поэта и драматурга, нюрнбергского сапожника Ганса
Закса, и показывать репродукции с картин Дюрера, Голь¬
бейна и Кранаха. И когда, наконец, стал излагать содержание
самой оперы, то, оказалось, что уже прошло более часа. В ауди¬
тории послышалось предательское нервное покашливание
моих уставших слушателей.
Я испугался. Интуитивно сократив изложение длинного
либретто «Мейстерзингеров», я довел его до объема либретто
какой-нибудь «Травиаты» — и закончил. Аплодисментами меня
наградили и за доклад и, конечно, за «округление».
199
Ко мне подошел, как всегда спокойный и немного сонный,
мой благожелатель И. В. Тартаков.
— То, что сказано вами в докладе, Николай Николаевич,
нужно и интересно. Но необходимо помнить одну старую исти¬
ну: верное средство надоесть — говорить все, что знаешь.
Эту сентенцию я запомнил на всю жизнь.
Мариинскому театру предстояла «сложная» задача —отме¬
тить торжественным оперным спектаклем 300-летие дома Рома¬
новых.
Эту дутую «историческую» дату окружение царя решило
отметить с необычайной пышностью.
В Мариинском театре был назначен парадный спектакль.
В программу спектакля вошли: первый и второй акты оперы
«Жизнь за царя» и финал оперы «Славься». Сусанина должен
был петь Шаляпин, Антониду — Нежданова, Сабинина —
Ершов. Дирижировать — Направник. Во втором акте участво¬
вал весь цвет замечательного балета Мариинского театра
с Кшесинской во главе, танцевавшей со своим отцом Кшесин¬
ским мазурку. Финал оперы был обставлен совершенно необыч¬
но — помимо огромного хора Мариинского театра и хора гвар¬
дейского финляндского полка, помимо прекрасного военного
оркестра гвардейского экипажа участвовал абсолютно весь
творческий состав театра.
Режиссер П. И. Мельников, превосходный знаток русской
истории, очень серьезно отнесся к задаче инсценировки финала
оперы. Поименно всем артисткам и артистам были присвоены
наименования и типажи исторических лиц той эпохи. И даже
я не остался незамеченным: против моей фамилии рукой режис¬
сера было написано: «боярин Лутугин, мал ростом, седенькая
бородка, высокая боярская шапка, дарованная царем шуба».
В конце финала на белом коне выезжал в царском облаче¬
нии Михаил Романов. Хором «Славься» дирижировал темпера¬
ментный и горячий Альберт Коутс.
Но весь план этого «торжества» был омрачен рядом
неудач.
Прежде всего Шаляпин, бывший в то время за границей,
отказался приехать и участвовать, сославшись на заболева¬
ние гланд. Его заменял Касторский. Тенор Ершов, бывший
совсем не в голосе, на фразе «к шумной свадебке жених» вместо
высокого до дал такого отчаянного петуха, что всех передер¬
нуло. В трио: «Не томись, родимый» Ершов невероятно пони¬
200
жал, и безумно больно было за очаровательный голос Неждано¬
вой, которой пришлось свой дивный звук топить в этой досад¬
ной фальши. Но ужаснее и, если так можно выразиться, «похо¬
роннее» была сама публика в театре. Верхние ярусы были
закрыты. Все ложи заняты посольствами, а партер — исклю¬
чительно сенаторами, высшими чинами двора и гвардейским
офицерством высших рангов. Понятно, что такой зрительный
зал, лишенный шумной галерки, лишенный молодости, был
очень чинен, тих и спокоен. Спектакль, -скорее, напоминал
«Реквием», посвященный чему-то уходящему, умершему...
Ни аплодисментов, ни криков одобрения — господствовала
тишина, которая, может быть, была уместна в заседаниях сената
или Государственного совета, но никак не в театре. Так про¬
шел этот вечер, ни у кого не вызвав сочувствия.
Возвращаюсь к рассказу о работе над «Мейстерзингерами».
Началась горячая пора. Корректурные репетиции оркестра
(их было 45) были проведены Коутсом. Хор Мариинского
театра, под руководством хормейстера Толстякова, звучал
грандиозно, сцену «драки» хор пел с закрытыми глазами,
не обращая внимания на дирижера, — боком, спиной, лежа,
сидя и т. д.
Декорации, костюмы и аксессуары были готовы. Я был
всем очень доволен. Теперь оставалось самое главное — чтобы
и режиссером остались все довольны.
Огромный клавираусцуг оперы, по системе немецких режис¬
серов, был превращен мною в «режибух». Мои юношеские тет¬
радки по геометрии, алгебре и черчению были лепетом желто¬
ротого цыпленка по сравнению с этим огромным «режибухом»,
разработанным мною по всем правилам режиссерского искус¬
ства. Линии синего, красного, желтого и зеленого цветных
карандашей испещрили все страницы клавира, а для магиче¬
ских литер латинского и греческого алфавита я применил
карандаш-тушь, чтобы эти буквы ярче выделялись в поли¬
хромности горящих линий режиссерской «географии». Очень
жаль, что я не изучал, как мой покойный отец, санскрита;
санскритские литеры я вписал бы для ясности золотом. Защи¬
щенный броней такой режиссерской премудрости, я чувствовал
себя как в танке. Но, увы, позднее я узнал, что такая режис¬
серская «география» может погубить всю режиссерскую манев¬
ренность, без которой режиссер напоминает самолет, совер¬
шенно лишенный горючего.
201
Главные роли в «Мейстерзингерах» были распределены так:
Ева — Ю. А. Больска, Вальтер — Е. Э. Виттинг, Ганс Закс —
Г. А. Боссе, Бекмессер — В. Н. Лосев, Давид — П. 3. Андреев,
Погнер — Л. М. Сибиряков. Составом мы с Коутсом были
довольны.
С огромным увлечением я принялся за работу с артистами
в классе. Не ограниченный временем, я не боялся надоесть
и говорил все, что знал об опере. А знаний у меня было доста¬
точно: я ведь был пропитан музыкой и идеями «Мейстерзин¬
геров».
В начале, при совместной работе с Коутсом, который тоже
в совершенстве знал эту оперу, у нас могли бы возникнуть кон¬
фликты. Но я нашел способ во имя успеха общей работы стол¬
коваться с этим выдающимся дирижером и музыкантом. И до
самого конца мы представляли собой хорошо темперированную
«терцию» в общей музыке постановки.
В процессе работы мой клавир, мои цветные разметки
пришлось отбросить — они мешали мне, они парализовали
мою режиссерскую свободу.
На сцене, при живом общении с актерами, все получалось
или должно было получиться совершенно иначе, интереснее,
живописнее, правдивее.
Я отбросил мой «режибух» и, сохраняя в голове четкий
план постановки, отдался целиком своей интуиции, которая для
меня всегда является бессознательным знанием. Так я овла¬
дел постановкой и достиг цели. «Мейстерзингеры» прошли хо¬
рошо и были сочувственно приняты публикой, дирекцией и
прессой...
Заканчивался апрель. Личный состав императорских теат¬
ров Петербурга и Москвы уходил в длительный четырехмесяч¬
ный оплачиваемый отпуск. Для меня этот долгий период отдыха
не существовал. Привыкнув в провинциальных театрах все
время работать, я даже и вообразить себе не мог, как это
я четыре месяца буду вне театра и вне театральной лихо¬
радки?
Поэтому Кисловодский театр и антреприза М. М. Валенти¬
нова имели в моем лице преданнейшего работника. Весь запас
нервной энергии, накопленный в Петербурге, мною расходо¬
вался в Кисловодске. Моральные и деловые качества Вален¬
тинова приковывали к нему сильнее всяких договоров. С этим
человеком я мог говорить откровенно о порядках в император¬
202
ской опере. В то время как казенные театры, имевшие огром¬
ные средства, тратили массу денег и времени на постановку
совершенно случайных и не нужных никому опер, оперы Чай¬
ковского, Римского-Корсакова, Мусоргского и Серова ими
игнорировались. Не возникало даже и мысли о стимулировании
оперного творчества молодых русских композиторов. Лучшие
оперные силы — Шаляпин, Кузнецова-Бенуа, Смирнов, Лип¬
ковская — больше обслуживали Западную Европу, нежели
своих русских слушателей. Два действительно замечательных
художника — Головин и Коровин, — были диктаторами худо¬
жественной жизни императорских театров, но эта «диктатура»
парализовала приток свежих художественных сил на сцену
Петербурга и Москвы.
Наши театры не были отгорожены от политической жизни,
правда, до нас доходило немногое.
Безвольный и жестокий царь, властная царица, находя¬
щаяся под гипнозом церквей, монастырей и Распутина, постоян¬
ный созыв и роспуск Государственных дум, непрерывная
«чехарда» министров и, наконец, подпольное немецкое влияние
на царя — все что нам было известно. Но мы чувствовали, что
страна была больна, а с нею болел и каждый из нас.
Инженер И. В. Экскузович, муж нашей артистки М. В. Ко¬
валенко, был со мною дружен; это был образованный человек
с очень острым умом.
В советское время Экскузович был директором всех госу¬
дарственных театров Петрограда-Ленинграда. И директором
он был хорошим. В довоенное время Экскузович очень сбли¬
зился через меня, председателя фонда артистов императорской
оперы, с жизнью Мариинского театра. Так этот умный человек
совершенно незаметно вошел в жизнь того театра, которым
после революции властно и мудро управлял.
Расставаясь со мной перед моим отъездом в Кисловодск,
он говорил мне:
— Необходимо, Николай Николаевич, прежде всего
научиться правильно политически мыслить. Но я имею все
основания предполагать, что этой дисциплиной скоро не овла¬
деть. Но овладеть необходимо. Гибель социального строя,
в котором живем, предрешена — это неизбежно, как переход
ночи в день. Каждый режим имеет свой «нажим». Страшный
«нажим» царского времени кончается; он ослаб, и скоро, —
поверьте мне, — разлетится вдребезги. — Улыбаясь, ласково,
203
Экскузович пожал мою руку и, зная мое тяготение к поэзии,
смеясь, дружески продекламировал строки Некрасова:
«Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан! »
На этом мы расстались с Эскузовичем до осени.
С тяжелым чувством покидал я на этот раз Петербург.
Российская столица, словно великолепная декорация, вол¬
шебно освещаемая моей провинциальной фантазией, казалась
мне чем-то вроде твердыни императорского Рима или сказоч¬
ными садами Семирамиды. Проведя три года в столице, я увидел
эту громоздкую декорацию при тусклом дневном освещении,
когда все краски блекнут и широкие и смелые мазки самоуве¬
ренных художников кажутся странной пачкотней.
Поэтому, понятно, с какой радостью ехал я на этот раз
в солнечный Кисловодск. Как будто это был не уголок той же
России, а какое-то океанское побережье неведомой мне Кали¬
форнии...
Встреча с М. М. Валентиновым для меня была всегда прият¬
ной. На протяжении долгой трудовой жизни я всегда наблюдал,
как личность антрепренера, председателя товарищества или,
позднее, директора невольно оставляет свой отпечаток на руко¬
водимом им предприятии.
Тени Унковского, Собольщикова-Самарина, Валентинова,
Амираго — все это тени людей, отношение которых к делу
и вызывало чувство бесконечного уважения. Они были резким
контрастом тем, кто в театре искал наживу, действовал обманом
и хитростью.
...Валентинов встретил меня весело — пессимизма никогда
не было в деловом тоне этого удивительного предпринимателя.
Ни проливные дожди в Кисловодске, ни пустой театр, ни «чахо¬
точная» театральная касса — ничто решительно не могло
вывести Валентинова из равновесия. Я, режиссер, горел и вол¬
новался за его дело, а он, как индус-иог, спокойно сидел на тер¬
расе Курзала за вечной кружкой пива, посасывая давно потух¬
шую папироску. Валентинов всегда мне казался центром
какой-то неведомой сосредоточенности, быть может, это было
своего рода театральной Нирваной.
Когда баритон О. И. Камионский, великолепный певец
и артист, пришел к Валентинову и потребовал, чтобы фамилия
его, написанная на плакатах слишком маленькими буквами,
204
немедленно была написана буквами в четверть аршина, иначе
петь он не станет, — Валентинов спокойно ответил возмущен¬
ному артисту: «Милый Оскар, буквы не поют, а поет артист;
впрочем, если не будешь петь, я заменю тебя. Решай».
Камионский отлично пел и при маленьких буквах. Сбор
был большой. И не удивительно — вокалист, при среднем голо¬
се, он был превосходный.
На этот сезон Валентинов пригласил двух европейских
гастролеров, имевших уже большое имя в Западной Европе
и Америке. Первым был Лео Слезак, премьер Венской оперы,
героический тенор, а вторым гостем — бас Адам Дидур. Оба
артиста находились тогда в зените своей славы. Многие пред¬
полагали, что приглашением Дидура Валентинов думал сбить
«спесь» строптивого Шаляпина, но Валентинов был слишком
тонким ювелиром, чтобы не отличить позолоченной бронзы
от червонного золота.
У Дидура был чистый и свежий бассо-кантанте, которым
он распоряжался виртуозно; дыхание у певца было изумитель¬
ное, все регистры голоса — нижнее фа и верхнее соль — зву¬
чали одинаково. В первом акте «Фауста» Дидур — Мефисто¬
фель, певший по-итальянски, в каденции брал такое изуми¬
тельное соль и держал его, филируя, так долго, что весь
зрительный зал разражался громом аплодисментов. Трогательно
было смотреть, как Шаляпин, лечившийся тогда в Кисловод¬
ске, сидел в первом ряду и громче всех аплодировал Дидуру.
Так, верно, прославленный гроссмейстер находит удобным
и тактичным сказать громкое «браво» молодому шахматисту,
сделавшему удачный ход. Умудренный опытом и талантом,
мастер видит, вероятно, что этот молодой шахматист гроссмей¬
стером все. -таки не будет.
В этом звании на шахматной доске оперного театра мира
был и остался Федор Шаляпин.
Драматический тенор Лео Слезак, этот прославленный
в Европе и Америке певец, производил своим внешним видом
впечатление борца-атлета из цирка или боксера. Большого
роста, широкоплечий, с копной русых волос на большой голове
и ясными голубыми глазами, светящимися ласковым светом,
Слезак напоминал живо героев былин — Добрыню Никитича
или Алешу Поповича.
Атлетическую фигуру певца портил непомерно большой
живот.
205
Мне было совершенно непонятно, как Слезак с такой фигу¬
рой будет воплощать изящных героев в опере? Это было загад¬
кой для моей режиссерской фантазии.
Когда на следующий день, шли «Гугеноты», я подошел
к уборной, где Слезак одевался один и где фрау Слезак, дама
одинакового с мужем роста, заменяла ему костюмера и парик¬
махера, и пригласил артиста посмотреть сцену, изумлению
моему не было предела. Из уборной вышел человек — подлин¬
ный герой знаменитой хроники Мериме. Передо мною был
рыцарь-гугенот — высокий, стройный, смуглый, с черными
усиками и небольшой бородкой. Слезак в своем фиолетовом
костюме (он возил костюмы с собой) как бы сошел с картины.
Как же он смог так изменить свою фигуру? Этот фокус мне
открылся позднее.
Пел Слезак изумительно. Для его исключительного голоса
не было, казалось, пределов, — низкие ноты баритонального
тембра, верхнее си и высочайшее ре бемоль в последнем акте
«Гугенотов» давались певцу легко и свободно. Слезак пел
с лучшими дирижерами мира, оттого музыкальная и ритмиче¬
ская сторона партии были строго академичны и неуязвимы.
В голосе Слезака не было столько металла, как у Карузо, но
его звук, матовый и широкий, производил на меня такое впе¬
чатление, будто по лицу кто-то водил ласково и ритмично кус¬
ком шелкового бархата. Сценическая и драматическая сторона
исполнения Слезаком его ролей была на уровне средних худо¬
жественных запросов европейских театров — не более.
Но в течение всего спектакля меня мучил вопрос о секрете
его перевоплощения.
Мою режиссерскую от уборной Слезака отделяла наглухо
забитая дверь с замазанными мелом стеклами. Однажды я при¬
шел в театр довольно рано, еще до прихода супругов Слезак.
В этот вечер был назначен «Отелло»; меня страшило, что
тайна трансформации фигуры останется нераскрытой. Но
я ошибся. В небольшой «глазок», протертый мною в замазан¬
ном стекле, я стал с любопытством наблюдать за магией исчез¬
новения живота. Фрау Слезак с ловкостью высоко квалифици¬
рованной хирургической медсестры, ловко и быстро начала
бинтовать живот своего прославленного супруга. Это была
изумительная ловкость рук. Шелковые бинты, извиваясь змей¬
кой, опутывали его живот. И с каждым кольцом менялась
фигура певца — он становился стройнее и тоньше. Наконец,
206
чтобы достойно увенчать свою пластическую хирургию, фрау
Слезак надела на супруга огромный пояс-корсет и, упираясь
ногой в стену, стала затягивать петли бесконечных ремешков.
Я помню, как в первом акте стройный Отелло, словно тигр,
выскочил на сцену и, торжествуя, взял свое триумфальное до,
установленное знаменитым Отелло — Таманьо вместо скром¬
ного фа, имеющегося в партитуре. Когда Слезак взял эту
изумительную ноту полной грудью, я невольно посмотрел
на живот певца — его не было, он как бы переместился в область
богатырской груди.
* * *
Когда в Кисловодских горах ночью грохотали раскаты
грома и сверкала молния, мне казалось, будто огромные мас¬
сивы гор, сталкиваясь, меняют свои места, становясь одни на
место других, и страшные разряды атмосферного электриче¬
ства тщетно пытаются остановить это геологическое перемеще¬
ние. Только стихийно проливной кавказский дождь успокаивал
это безумие природы.
Страшно в такую ночь в прекрасной долине Кисловодска!
Но еще страшнее дни и ночи в Кисловодске были в июле
1914 года, когда Германия объявила войну России и началась
всеобщая мобилизация.
Живописный Кисловодск и другие уютные городки Мине¬
ральных вод живо напоминали потревоженный и разворошен¬
ный муравейник.
Началась механическая кустарная борьба со всем немец¬
ким. На главной улице вывеска «Немецкая колбасная» была
заменена новой — «Национальная колбасная»; в меню ресторана
Курзала многие кушанья тоже утеряли свою немецкую специ¬
фику — сосиски с капустою стали именоваться: «колбасками
в капусте», а популярный немецкий «шницель» подавался под
псевдонимом «отбивной телячьей», и только пиво, имевшее
в своем основании вечно славянский корень «пить», только
этот немецкий напиток, как и кисловодский «Нарзан», распи¬
вался вполне свободно.
В театре стали преувеличенно часто ставить «Жизнь за царя».
В сцене смерти Сусанина поляки не смели его убивать — Суса¬
нин в момент смерти, поднимая правую руку, начинал петь
гимн, который поддерживали хор и часто публика.
207
Две основные силы нашей оперы — Лео Слезак и Адам
Дидур, славяне по рождению, но, увы, австрийские поддан¬
ные по документам, были в двадцать четыре часа высланы
жандармским управлением из России. Дошла очередь и до
необходимейшего члена нашей оперы, тенора фон Ригена.
Он был очень культурным певцом и хорошим товарищем. Совер¬
шенно русский человек, фон Риген окончил высший техноло¬
гический институт в России, но так увлекся оперным театром
и пением, что предпочел карьеру второстепенного оперного
певца деятельности инженера. Он, между прочим, замеча¬
тельно исполнял роль Трике в «Онегине». Здесь он был неподра¬
жаем. На афише я попытался заменить фамилию фон Риген
почти равноценным именем Леонид Рижский, но, увы, моя
афишная дипломатия не помогла — фон Ригена выслали
в Москву на усмотрение тамошней жандармерии. Предстоял
спектакль «Онегина» с тенором Смирновым, надо было со¬
здать хороший ансамбль, и тут демон-искуситель подал мне
мысль, —самому исполнить партию Трике, которую я хорошо
знал.
Мой голос, после того как я перестал играть на трубе,
звучал, так мне казалось, очень хорошо. Но воспоминание
о первом провале этой партии в саратовской антрепризе Унков¬
ского вовремя остановило мое необдуманное намерение.
В Саратове это в свое время произошло так. Я был главным
режиссером. Город переживал тогда пору холерных бунтов
на Волге. Молодой тенорок Игнатьев, певший у нас Трике,
заболел. И я решился его заменить: «Отчего бы, — думал я, —
мне не испробовать сладких ощущений вокалиста?» Партию
я выучил «на зубок», костюм и парик примерил; не желая
выступать под своей «духовной» фамилией, я избрал сцениче¬
ским псевдонимом девичью фамилию матери и стал Симбириным.
На стене в уборной, где я одевался и гримировался, я гордо
написал свой певческий псевдоним: «H. Н. Симбирин». «Теперь
я начну с Трике, а потом дойду дальше и выше».
Когда внешне и духовно преображенный в Трике, я смело
вышел на сцену и резкий свет рампы ударил мне в глаза, я сразу
почувствовал, что оступился и падаю в пропасть.
Не дожидаясь знака дирижера, я сразу при первых аккор¬
дах темы Трике вступил и начал петь... С большим трудом
выпутался я из этого жуткого положения — весь грим ручьями
стекал на манишку и лацканы фрака.
208
Потрясенный, я вошел в уборную, где так недавно и так
самоуверенно начертил на стенке: «H. Н. Симбирин». Над
фамилией кто-то из моих «доброжелателей» нарисовал боль¬
шую могилу и солидный восьмиконечный крест. Припадок
самозащитной иронии овладел мной, и я немедленно написал
под могилой «погибшего» Симбирина траурную эпитафию:
«Был Симбирин смел не в меру,
На Казанке жил реке,
Пережил одну холеру,
Но не пережил Трике».
С этих пор мне стало понятно волнение артиста, выступаю¬
щего впервые под оркестр на сцене. Над своими мечтами о пении
я поставил крест без всякой эпитафии.
Кисловодский сезон приходил к концу.
Мне было жаль расставаться с этим дивным уголком, где
я чувствовал себя более своим, нежели в великолепном, но
холодном чиновном Петербурге.
В Кисловодске не было ни моря, ни Волги, которые я так
любил, но океан воздуха, ароматного и животворного, заме¬
нил мне стихию водных просторов.
И вот я был вынужден покидать столь дорогие мне места.
Впереди — снова северная столица.
* * *
Когда я 30 августа возвратился в Петербург, то совершенно
неожиданно узнал, что город переименован в Петроград.
Здесь невольно напрашивалась кисловодская аналогия, когда
из обихода были удалены все немецкие названия.
В Мариинском театре тоже энергично проводились спешные
меры по изгнанию «немецкого» из всех областей жизни
театра.
Вагнеровские абонементы, все оперы Вагнера, в том числе
и мои «Мейстерзингеры» вместе с «Тангейзером» и «Лоэнгрином»,
были с репертуара сняты. На этом фронте мы одерживали
несомненные победы. Но с военного фронта вести были неуте¬
шительные, все это ясно чувствовали и сознавали.
Россия к войне была неготова. Огромные займы царского
правительства заграницей неуклонно влекли ее к ката¬
строфе.
209
На мысль невольно приходило второе название драмы
Л. Толстого «Власть тьмы»: «Коготок увяз и всей птице про¬
пасть».
Какая-то русская княгиня, приехавшая из Вены, привезла
личное письмо от престарелого австрийского императора
Николаю II; Франц-Иосиф заклинал русского царя немедленно
заключить мир с Германией. Содержание этого письма стало
каким-то образом всем известно, и лозунг: «Война до победного
конца»! сделался очень популярным среди правящей верхуш¬
ки, которая воевала чужими руками.
Бездарное руководство, страшные неудачи на фронте, смя¬
тение и разногласия в верхушке — все это не могло не действо¬
вать угнетающе. Хотелось протестовать, кричать — так
обидно было за все.
Мариинский театр должен был как-то перестраивать свой
репертуар. Оперы, в которых пел Шаляпин, — «Борис Году¬
нов», «Юдифь», «Хованщина» и «Сказание о невидимом граде
Китеже», где так замечателен был в роли Гришки Кутерьмы
И. В. Ершов, — были в центре внимания театра.
Из Парижа возвратился тенор И. А. Алчевский, певший
все последнее время в парижской Гранд Опера. Для него мне
было поручено возобновить очень давно не шедшую и совсем
забытую оперу Мейербера «Пророк». С этим произведением
я был знаком по своей работе в провинции и опытный дирижер
Асланов тоже знал оперу хорошо. Это очень упростило поста¬
новочную задачу.
В опере «Пророк» было что-то от революции. Крестьянство
и ремесленники Германии XVI века, доведенные до отчаяния
тиранией помещиков и экономической кабалой богатых горо¬
дов, стонали от своего бесправия и голода. Тогда в Саксонии
родилось движение, которое внешне носило религиозный
характер, а по сути ставило задачи экономического и социаль¬
ного переустройства жизни. Главой этого движения был «про¬
рок», ремесленник Иоанн Лейденский. Но оно успеха не имело
и было потоплено в крови.
Интересная, темпераментная музыка «Пророка» давала,
как и динамичные народные сцены, большой простор фанта¬
зии режиссера.
Я использовал все это. Алчевский, признанный драматиче¬
ский тенор, исполнял роль Иоанна. Это был человек высокого
роста с большим и красивым голосом, идущим свободно до высо¬
210
кого до диез. Но голос Алчевского был как бы двойственным —
до среднего фа это был звук баритона, а начиная 6 верхнего
соль Алчевский поражал слушателей звуком, тембром и лег¬
костью первоклассного лирического тенора. Не случайно ему
очень удавалась роль Ромео.
Алчевский был очень музыкален; все тайны гармонии, рит¬
ма, искусство форте, пиано, технику филировки звука — все
это он демонстрировал в каждом своем спектакле.
Актером Алчевский был неплохим — все было на месте.
Но рядом с неповторимым драматическим творчеством Шаля¬
пина, Собинова и Ершова искусство Алчевского производило
впечатление более слабое
Трагичен был конец жизни и сценической карьеры
И. А. Алчевского — этого выдающегося певца, прославившего
русское искусство в Европе: великим постом 1917 года он
гастролировал в оперном театре Баку. Исполняя свою лучшую
партию — Элеазара в опере «Жидовка», — Алчевский заболел
психически и вскоре умер...
После постановки «Пророка» на мою долю выпало ставить
«Богему» Пуччини. Дирижировал Коутс, с которым мы очень
любовно работали над спектаклем.
Ансамбль в «Богеме» был прекрасный: Рудольфа пел
Д. А. Смирнов, Мими — Е. А. Попова, Мюзетту — Е. А. Врон¬
ская, Марселя — М. П. Каракаш, Шонара — В. С. Шаронов
и Бенуа — В. Н. Лосев.
Декорации писал К. А. Коровин, замечательный знаток
Парижа и всего «парижского». Только мансарду первого акта
Коровин разогнал во всю ширину сцены. Это был не уютный
чердак художника, а огромный сарай. Художник находился
в Париже, и я был бессилен что-либо изменить. Только изу¬
мительный вид Парижа, перспектива крыш и Сены, мостов
на реке, а также изумительные краски далей и неба, видимые
через огромное окно мансарды, примиряли меня с масштабами
«сарая».
Спектакль, а особенно изумительный Рудольф — Смирнов
имели огромный успех. Мы с Коутсом были довольны. Неболь¬
шой случай внес юмористический штрих в постановку.
В театре присутствовали на одном из спектаклей предста¬
вители французского генерального штаба. После второго акта
они пришли на сцену, сопровождаемые министром двора и ди¬
ректором, благодарить постановщиков и исполнителей за пре¬
211
восходное исполнение «Богемы». Начальник штаба, очень
старенький генерал, сказал несколько любезных слов.
Взволнованный своей речью, старичок стал целовать ар¬
тисткам руки. Артист Лосев, певший Бенуа, был в длинном
халате; толстый, бритый он очень напоминал пожилую жен¬
щину-привратницу. А так как он стоял рядом с Поповой
и Бронской, то начальник штаба поцеловал галантно руку
и ему! Это могло бы вызвать взрыв гомерического хохота среди
всех на сцене, но кто-то догадался крикнуть: «Да здравствует
Франция!» — и общий смех потонул в дружном приветствен¬
ном шуме. Генералы ушли со сцены, оставляя аромат тончай¬
ших духов и впечатление необычайной французской галант¬
ности...
Война, губительная, жестокая и бессмысленная, тянулась
уже около трех лет. Она уносила миллионы жизней, она окон¬
чательно расстроила экономику государства. Русская армия,
лишенная вооружения, пушек и винтовок, не имевшая хоро¬
шего командования, эта армия, героическая в своей горькой
неволе, терпела одно поражение за другим. Солдаты на фронте
были голодны, раздеты и разуты.
Наш театр сделал почин по сбору среди населения денег
для покупки теплых вещей и сапог солдатам. Факт такого
«кустарного» снабжения армии еще больше подчеркивал пол¬
ную немощность и бездарность государственного администра¬
тивного аппарата. Эпоха Порт-Артура и Цусимы повторялась
в грандиозных масштабах.
Странное воспоминание осталось у меня об этих десяти
днях.
Все крепкие спиртные напитки в столице были категориче¬
ски запрещены, но самые шикарные рестораны «Астория»,
«Медведь», «Кюба» подавали посетителям все — от водки, конья¬
ка и до шампанского... в суповых мисках. Этот замаскирован¬
ный алкоголь носил скромное и невинное название: «Бабушкин
квас». Рестораны были полны крупными и мелкими спекулян¬
тами, наживавшимися на войне, окопавшимися в тылу, шикар¬
ными военными и столь же шикарными дамами. И вот перед
такой аудиторией артисты императорских театров в течение
десяти ночей выполняли сомнительную миссию, стараясь своим
исполнением сделать публику, согретую «бабушкиным квасом»,
щедрой и отзывчивой. Сбором денег заведовал выдающийся
артист Александринского театра H. Н. Ходотов, певший под
212
аккомпанемент гитары де Лазари свои драматические и шуточ¬
ные песни. В шляпу Ходотова обильным дождем сыпались день¬
ги, которые здесь же неутомимый артист под расписку сдавал
кассиру Городской думы. Оперная, балетная и драматическая
труппы делали все, чтобы эти своеобразные и необычные «каба¬
ре» в ресторанах приносили максимальный материальный
результат.
Перед глазами у всех стоял голодный, плохо одетый, без
сапог, русский солдат на фронте. И нам казалось, что мы в ка¬
кой-то степени сможем улучшить положение, в котором нахо¬
дилась царская армия, поставленная бездарными и вороватыми
начальниками в трагическое положение. Мы, артисты лучших
театров столицы, напоминали ту «синицу» из русской посло¬
вицы, которая собиралась «зажечь море»...
Обновление принес только очистительный огонь Великого
Октября.
На всех концертах, в кабаре и ресторанах, в которых участ¬
вовали артисты Мариинского театра, на мою долю выпадала
роль конферансье.
Я помню один вечер, когда на эстраде шикарного кафе¬
шантана «Медведь» согласились выступить А. К. Глазунов
и А. К. Коутс. На двух роялях они должны были исполнить
«Маленькую польку» Глинки. Мой конферанс я лаконически
построил так: «Два больших музыканта исполнят «Маленькую
польку» великого Глинки: Александр Константинович Глазу¬
нов и Альберт Карлович Коутс! »
В помещении ресторана совершилось что-то невероятное.
Публика встала и все время стояла во время исполнения
«Маленькой польки». Успех, как и добровольный сбор, были
в этот вечер грандиозными. До автомобиля Глазунова и Коутса
провожала вся публика, восторженно аплодируя.
Затем возбужденный ресторан снова перешел к успокои¬
тельному воздействию «бабушкиного кваса».
Талантливым исполнением песенок под гитару де Лазари
неутомимый H. Н. Ходотов закончил наш десятый вечер
по сбору средств на покупку теплых вещей для солдат...
Мариинский театр жил подавленно, но по инерции все шло
своим чередом. На меня была возложена задача возобновления
очень давно не шедшей оперы «Орестейя» С. И. Танеева. Этот
замечательный музыкант, теоретик и педагог, написал свою
«Орестейю» давно. Она была впервые поставлена в Мариинском
213
театре много лет назад и имела, как говорят французы, «успех
уважения» — не более.
Сюжет оперы, как и в «Электре» Штрауса, был заимствован
из трагедии Софокла. Музыка Танеева была музыкой благо¬
роднейшего стиля, тонкого вкуса и точных академических
правил гармонии, контрапункта и оркестровки. Бальзак
писал: «Играйте по всем правилам — и проиграете». И акаде¬
мическая «Орестейя» подтвердила эту мысль писателя.
Коутс, очарованный музыкой Танеева, с которой его позна¬
комил Глазунов, и я, тогда еще завороженный античностью, —
мы оба работали с увлечением. Но, увы, слушать «Орестейю»,
как и читать Софокла, охотников находилось очень мало.
«Лавровым венком» Коутсу и мне было трогательное письмо-
благодарность за постановку оперы от ее автора...
Последнее время мне приходилось много времени уделять
делам Российского театрального общества, душой которого
была великая русская актриса Мария Гавриловна Са¬
вина.
Происходя из низов провинциальной актерской семьи,
М. Г. Савина, достигнув по своему таланту, уму и характеру,
высокого положения в императорских театрах, сохранила, одна¬
ко, на всю жизнь духовную связь с провинциальным миром
«птиц перелетных», как всегда называла она актеров.
Савина мечтала объединить, легализовать этот разношерст¬
ный и разноголосый конгломерат людей провинциального
театра во что-то общее и социально единое. Увы, это оказалось
несбыточной мечтой. С одной стороны, условия полицейского
государства были против какого бы то ни было союза или объе¬
динения, а с другой — провинциальный мир актеров, анар¬
хично-индивидуалистический, боялся всякой регламентации,
учета и, главное, каких либо материальных отчислений на свое
же социальное благоустройство.
Первый и второй съезды актеров в Москве, организованные
М. Г. Савиной, поставили ее лицом к лицу с реальным поло¬
жением вещей.
Правительство говорило «не позволяем». Актерство выска¬
зывалось: «на неведомое тратиться не желаем».
Савина создала идеальное по форме и целям Общество, но
грошовый ежегодный взнос (5 рублей) от актеров поступал
редко и нерегулярно. Савина не успокаивалась и не снижала
своей энергии.
214
На Петровском острове в Петербурге она устроила неболь¬
шое убежище для престарелых.
Мои задачи товарища председателя Общества носили кон¬
сультативный характер — хорошо зная певцов и все оперные
театры в России, я легко мог давать правлению Общества необ¬
ходимую информацию по всяким вопросам...
Актерские данные Савиной были многогранны и много¬
образны. Она была удивительным виртуозом сцены!
«Сцена — моя жизнь», — писала в своей автобиографии
артистка. Лучшие традиции русского театра она соединяла
в себе с комедийным блеском Мольера. Ее голос, интонирование
напоминали звучание удивительного струнного инструмента
виола д’амур, когда один звук, одна нота вызывают параллель¬
ные звучания других обертонов, часто красивее и пленительнее
основной ноты.
Савина была актрисой «полярностей» — «Чародейка» и «Ди¬
карка» — восемнадцатилетняя девушка, едва открывшая глаза
на жизнь и полюбившая старика. В «Месяце в деревне» Турге¬
нева Савина из Верочки превращалась в трогательную Наталью
Павловну... Все это пришлось мне видеть и восхищаться.
Странно и страшно было в осенний петербургский день
1915 года стоять у гроба артистки и мысленно говорить ей
прости. М. Г. Савина завещала похоронить себя на земле
«убежища для престарелых артистов».
После похорон И. В. Экскузович, бывший тогда городским
архитектором, посадил меня в свой экипаж и повез к себе
обедать.
Он работал над очень интересной книгой о технике сцены
и ему было интересно проконсультироваться со мной по вопро¬
сам практической режиссуры.
Его жена, артистка Коваленко, угостила нас замечатель¬
ным обедом, после которого мы перешли в кабинет-студию,
где я нашел такую массу картин, фотографий и планов сцен
театров всего мира, что у меня захватило дыхание.
На основе всех этих материалов, Экскузович создал позд¬
нее свое полезное руководство по постройке сцен, монтажу
освещения и всего того, что абсолютно необходимо в новых
оперных театрах.
На мой вопрос о политической конъюнктуре и о хрониче¬
ской «лихорадке» Государственных дум и о «чехарде» министров
Экскузович ответил мне коротко.
215
— На политическую сцену России выступил рабочий.
Только та власть, та партия будет прочной и сильной, которая
посчитается с этим обстоятельством.
Возможна ли у нас революция? Да, возможна, если отжив¬
шие установления будут мешать созданию новых. Это закон
движения, строительства жизни!
В советскую эпоху он был директором всех государственных
театров Ленинграда, и директором отличным.
Позже он настойчиво звал меня вернуться в Мариинский
театр, но я тогда работал в Астраханской опере, и мой уход
был бы сочтен за дезертирство с фронта. Я остался в Астрахани.
Воспоминания о петербургско-петроградском периоде моей
жизни были бы неполными, если бы я обошел молчанием оперное
дело, существовавшее ряд лет в театре консерватории под пре¬
тенциозным названием «Музыкальная драма».
Эта организация, несмотря на мощное соседство император¬
ского Мариинского театра с его огромными вокальными и худо¬
жественными силами, оркестром, хором и балетом, имела свою
публику и свой несомненный успех. Волевое начало в каждом
предприятии, а в частном театральном — особенно, является
решающим фактором существования и развития дела. Глава
«Музыкальной драмы», ее директор и художественный руково¬
дитель И. М. Лапицкий был именно таким инициативным чело¬
веком. Товарищ прокурора в Иркутске, широкообразованный
и до фанатизма влюбленный в театр человек, Лапицкий в снеж¬
ном Иркутске не столько занимался своими юридическими
делами, сколько театральным любительством. Будучи акте¬
ром-любителем, Лапицкий женился на даровитой оперной
артистке М. В. Веселовской, и сразу произвел себя в оперные
режиссеры. Но надо быть справедливым — режиссером Лапиц¬
кий был прекрасным. Ум, образование, вкус, знание сцены —
217
Глава
тринадцатая
Театр
«Музыкальной
драмы».
Смерть
Э. Ф. Направ¬
ника. Снова
Мариинский
театр
все помогало ему в его оперной деятельности, но мешало, увы
одно — он не был музыкантом. А римское право и все судей¬
ские дисциплины не могли заменить Лапицкому даже элемен¬
тарной музыкальности. Это обстоятельство особо сказалось
в деятельности «Музыкальной драмы», когда властный режиссер
свой любительский вкус образованного дилетанта ставил выше
требований дирижеров. И дирижеры подчинялись. Исключе¬
нием был талантливый музыкант и замечательный пианист-ак¬
компаниатор М. А. Бихтер, совершенно лишенный, однако,
дирижерских способностей, но свято веривший, что в искусстве
дирижирования он, Бихтер, призван сказать «новое слово».
Произвольные купюры в операх, произвольное замедление
темпов и вкусовое «рубато» в оркестровом и вокальном испол¬
нении опер — вот то «новое», что этот одаренный человек принес
в оперу. Он, очевидно, думал, что оркестр и вокальная часть
оперы являются только огромной клавиатурой рояля под его
пальцами. Но на этом пути фантазера ждали горькие разоча¬
рования!
Уверовавший в «гениальность» Бихтера, Лапицкий следо¬
вал слепо за экспериментами дирижера; очень хорошо, когда
режиссер-немузыкант подчиняется в музыкальной стихии оперы
образованному и, главное, трезвому вкусу дирижера. Но здесь
опьяненный своей фантазией Бихтер увлек трезвого Лапицкого
на совершенно ложный путь. А ведь в труппе был очень талант¬
ливый дирижер А. В. Павлов-Арбенин и толковый дирижер
Э. А. Маргулян, но и они слепо следовали воле Лапицкого.
Главным достоинством спектаклей «Музыкальной драмы»
была их внешняя, монтировочная часть. Здесь вкус, изобрета¬
тельность и целеустремленная воля режиссера достигали пре¬
дельных результатов. По сравнению с застывшим академизмом
Мариинской сцены в постановках Лапицкого было что-то свежее
и новое. Прекрасное освещение, круглый твердый горизонт,
уничтожение падуг — все это, новое для невской столицы,
было хорошо известно в Германии, и заслуга Лапицкого в том,
что он внес в нашу жизнь новости западной сценической тех¬
ники. Планировка опер, мизансцены, костюмы — все было
продуманно, изобретательно, но в погоне за излишним натура¬
лизмом в постановках порой можно было встретить курьезные
детали. Так, например, в отличном спектакле «Кармен» все
солдаты были одеты в современные мундиры цвета хаки,
л в последнем акте было много ненужных подробностей — сани¬
218
тарный пункт для раненых тореадоров, носилки, сестры мило¬
сердия, доктор-хирург и т. п.
В превосходной постановке «Онегина» (если не принимать
во внимание заумные темпы Бихтера) был очень оригинальный
режиссерский замысел: в сцене дуэли, когда на сцене была
зима (декорация была превосходной), подошвы обуви всех
участников дуэли были закрашены мелом... Зима, так уж зима!
Несмотря на такие натуралистические детали, спектакли
«Музыкальной драмы» волновали меня, и я был их постоянным
посетителем. Замечательный дирижер В. И. Сук, приехавший
из Москвы послушать «Онегина» в дирижерской интерпретации
Бихтера, на вопрос: «Что такое «Музыкальная драма»?» — отве¬
тил лаконично: «Когда муж расходится с женой, это семейная
драма, а когда артисты и хор расходятся с дирижером, то это —
музыкальная драма».
Остроумная сентенция замечательного дирижера была вер¬
ной, и Бихтер скоро вернулся в свою сферу — выдающегося
пианиста-аккомпаниатора. Для постановки «Мейстерзингеров»
театр выписал польского дирижера Г. Г. Фительберга, большого
знатока вагнеровской музыки.
...В ненастный ноябрьский день 1916 года Мариинский
театр хоронил Эдуарда Францевича Направника. Из скромной
квартирки на Крюковом канале, где почти всю свою жизнь
прожил этот скромный, но великий человек, его путь к месту
последнего успокоения лежал мимо Мариинского театра. Мы,
артисты театра, в скорбном молчании следовали за гробом.
П. 3. Андреев, И. В. Ершов, Н. А. Большаков, Д. И. Похи¬
тонов и другие на руках донесли гроб до парадного входа в театр
где ожидал катафалк. Из театра и консерватории вышли орке¬
стры, и грустная мелодия шопеновского траурного марша,
прерываемая рыданиями женщин, долго провожала кортеж,
на одно мгновение задержавшийся у памятника М. И. Глинки.
Трогательная минута. Титан русской музыки Глинка со своего
высокого пьедестала благородным взглядом, казалось, про¬
вожал верного рыцаря своей музыки — лучшего ее толкова¬
теля и исполнителя.
Во время долгого скорбного пути на кладбище Е. И. Збруе¬
ва, артистка и человек очень мною уважаемый и ценимый,
подошла ко мне и сказала, что прощальное слово на могиле
надлежит сказать мне. На мой невольный испуг и смущение
Евгения Ивановна ответила, что я председатель фонда артистов
219
Мариинского театра и товарищ председателя Всероссийского
театрального общества и что именно мне необходимо от имени
всех сказать последнее прости «папаше» —так в театре заочно
все называли покойного.
Взволнованный и смущенный столь серьезным поручением,,
я всю дорогу репетировал свое прощальное слово, но кроме
хаоса мыслей и слов в голове ровно ничего не оседало. Я при¬
звал тогда на помощь свое подсознание и интуицию, которые
нередко выручали меня в таких обстоятельствах. Хроникер
«Биржевых ведомостей» стенографически записал все, что
я в состоянии возбуждения говорил над свежей могилой чело-
века, бесконечно меня восхищавшего. Прошло очень много
лет — передо мной лежит пожелтевший, случайно сохранив¬
шийся клочок этой газеты. И я читаю то, что когда-то было
сказано мною:
«Прощай, дорогой и незабвенный Папаша! Сейчас мы
отдаем земле то, что было смертного в этом замечательном
человеке, поставившем русскую оперу на предельно высокую
ступень среди всех оперных театров мира. Нет слов обрисовать
творческий и организационный гений покойного, его музы¬
кальность, абсолютную честность и деловую строгость ко всем
и в первую очередь к самому себе. Из трудовой жизни Направ¬
ника мы обязаны для самих себя и для всех будущих работников
Мариинского театра создать нетленный идеал такого руково¬
дителя, который достоин был бы продолжать созидательный
труд покойного. Мы оплакиваем тебя, незабвенный Папашаt
А с нами вместе и ноябрьское небо столицы, столь любимой
тобой. Это небо роняет холодные капли слез над твоей могилой,
смешиваясь с сердечным теплом людей, тебя любивших; эти
слезы обусловят весною всходы новых ароматных цветов на
ниве русского оперного искусства. Это сбудется! »
Над могилой Направника, рядом с надгробным памятником
его покойной жены, артистки Мариинского театра, постепенно
вырос холм сырой осенней земли... Все тихо расходились...
* * *
Я вместе с И. В. Тартаковым сел на извозчика и поехал
в «Вену», где ожидал нас вчера прибывший в Петроград
М. М. Валентинов, составлявший оперную труппу для вели¬
копостного сезона в Харькове.
220
Ресторан «Вена» был излюбленным местом сбора писате¬
лей, поэтов, художников, музыкантов и артистов. Хозяин
ресторана, весьма учтивый и заботливый человек, дорожил
своими посетителями, к услугам которых было очень недо¬
рогое меню, превосходный буфет и очень дисциплинированная
прислуга, уже во второе посещение именовавшая гостя по
имени и отчеству.
Стены уютных и строгих комнат «Вены», ее «артистиче¬
ского» сектора были украшены случайными зарисовками вид¬
ных посетителей-художников, импровизациями и эпиграммами
поэтов, нотными строками композиторов и краткими сентен¬
циями писателей и философов. Все это, превосходно застек¬
ленное и красиво окантованное, производило впечатление
стендов какой-то своеобразной выставки талантов, мудрости
и остроумия, согретых к тому же жидким теплом Бахуса
и Гамбринуса.
К услугам посетителей в «Вене» заботливо хранились самые
дорогие краски, веленевая бумага, бумага нотная — партитур¬
ная и обыкновенная.
Постоянный посетитель «Вены» был, если так можно выра¬
зиться, психологически прикреплен к ее уюту: у каждого
имелась своя прекрасная хрустальная пивная кружка, на
которой заботливо было вырезано подлинное «факсимиле» посе¬
тителя. В холодном и сыром климате Петрограда, особенно
осенью и зимой, теплое и уютное помещение вызывало невольно
ассоциации подлинной Вены: Дунай, вальсы Штрауса, аромат
венского леса...
М. М. Валентинов, И. В. Тартаков и я составляли ту неболь¬
шую группу людей, которых незаметно, но крепко сблизили
воздух Кисловодска и живительное влияние нарзана. Заду¬
мав организовать великопостный сезон в Харькове, Валенти¬
нов приехал в Петроград приглашать на гастроли Шаляпина,
Смирнова, Тартакова, Сибирякова, а попутно и меня. Хотя
никакой режиссерской работы в короткий четырехнедельный
сезон я иметь не мог, но Валентинов привык ко мне и, кроме
того, очень важно, — улыбаясь сказал он, — когда на афише
будет напечатано: «режиссер императорской оперы H. Н. Бого¬
любов». А вся режиссура фактически пусть находится в руках
мастера гастрольных дел Исая Дворищина».
Нося в себе постоянно дух актерской непоседливости,
я согласился.
221
...Понятно, с каким легким чувством стремился я из Петро¬
града в южный Харьков, далеко стоявший от всех дворцовых:
перипетий, волновавших тогда столицу, — убийство Распутина
и другие события, — где «оперное царство» Валентинова —
такое логичное и плановое — руководилось волей осторож¬
ного, спокойного и предусмотрительного человека. У кассы
театра на все гастрольные спектакли творилось нечто сти¬
хийное: четверо рослых городовых были бессильны сдержать
прибой толпы, особенно студенчества, и только появление
кавалерии в лице четырех рослых жандармов на огромных
конях внесло относительный порядок.
В маленькой комнатушке у кассы Валентинов, как всегда
спокойный и невозмутимый, сидел и сосал свою вечную папи¬
роску. С ним рядом был главный дирижер Бердяев, начинав¬
ший свою карьеру в Киеве не особенно удачно, но затем несколь¬
ко лет занимавшийся в Лейпциге у дирижера А. Никиша.
Странный феномен — дирижерский талант! Мне за мою
долгую жизнь в опере пришлось видеть великих музыкантов
за дирижерским пюпитром — Чайковского, Глазунова, Рим¬
ского-Корсакова! И удивительное дело — ни один из этих
творцов великой музыки не мог как дирижер передать как
следует своей музыки слушателям. Все было бледно, невыра¬
зительно и сбивчиво. И только исполнители — певцы, орке¬
стры и хоры, — вдохновленные присутствием замечательных
композиторов, сами рождали нюансы произведений, в волнах
которых авторы музыки, словно дети, беспомощно плыли от
волны к волне. Всех беспомощнее в этом отношении был гени¬
альный Римский-Корсаков. Я вспоминаю спектакль Москов¬
ской оперы в зале Петербургской консерватории. Шла «Сне¬
гурочка», которой дирижировал автор. Говорили, что Римский-
Корсаков очень любил дирижировать. Высокий, сухой человек
с бородой, в очках, в длинном мешковатом черном сюртуке
стоял за дирижерским пюпитром, стеснительно взмахивал
палочкой и очень старался провалить труднейшую для дири¬
жирования свою изумительную «Снегурочку». Но это ему не
удалось — в суфлерской будке сидел хормейстер, руководив¬
ший всеми хорами, в первых кулисах стояли два дирижера,
которые подавали все вступления артистам, а режиссер и помощ¬
ница хормейстера, одетые в костюмы, были с хором, регулируя
движения массы и мобилизуя их внимание на всех помощниках
дирижера и композитора, взволнованного столь непривычными
222
для него обязанностями. В оркестре концертмейстер первых
скрипок властно давал оркестру тот первый «раз», с которым
Римский-Корсаков молча соглашался. Представление «Сне¬
гурочки» имело триумфальный успех. И как трогательно было
видеть гениального творца замечательных произведений,
с огромным лавровым венком в руках, смущенно и неумело
кланяющегося восторженно аплодирующему театру.
...Я смотрю на красивого, полного и такого, видимо, знаю¬
щего себе цену Бердяева. Только восемь лет прошло с того
времени, когда он попробовал свои силы в Киевской опере,
дирижируя на репетиции оперой «Жизнь за царя». Запутав¬
шись в сложной и быстрой «фуге» первого акта, Бердяев, весь
красный и потный, остановился и хотел повторить... Тогда
скрипач-концертмейстер, чех по национальности, обратился
к нему с такой уничтожающей репликой: «Господин Бердяев!
Оркестр Киевской оперы привык играть хорошо, зачем вы
желаете, чтобы мы играли плохо?» Бердяев понял намек,
прервал репетицию, а вскоре и совсем оставил Киев.
...И вот идет «Кармен» при участии всемирно известной
певицы Марии Гай в заглавной партии. Дирижирует Бердяев.
Трудно было не восхищаться самобытным талантом испанской
певицы. Ее знойный голос, вулканический темперамент и внеш¬
ность, похожая на героинь великого Мурильо, — все говорило
о том, что именно такой должна быть дьявольская цыганка,
созданная гениальным Проспером Мериме. Театр стонал от
криков и рукоплесканий. Но меня лично больше привлекала
творческая личность дирижера. Очень трудно в музыке «Кар¬
мен» отмахнуться от избитых и выгодных эффектов оркестрового
и вокального исполнения. Но у Бердяева все это получалось
как-то по-иному. Властный, красивый и в меру темпераментный
дирижер чувствовал «внутренний» стиль музыки: и ритм,
и нарастание силы оркестра, и угасание его звучности — все
было полно глубокого художественного смысла.
Контрастной по отношению к спектаклю «Кармен» была
гастроль знаменитой певицы Марии Гальвани, выступавшей
в «Севильском цирюльнике». Я думаю, что природа и искусство
в лице Марии Гальвани слились в одно целое. И соединитель¬
ной тканью между ними явилось певучее, ласковое и грациоз¬
ное итальянское слово.
В «Севильском цирюльнике», как и в «Кармен», Бердяев
проявил свою дирижерскую многогранность и вкус. Легкий
223
дирижерский штрих, отсутствие всяких «нажимов» в класси¬
ческой увертюре к опере — все говорило, что общение Бердяе¬
ва с великим дирижером Никишем не прошло для русского
самородка бесследно. Я остановился на Бердяеве потому, что
на его примере можно размышлять о феномене дирижерского
искусства. Бердяев не играл ни на каком инструменте, в искус¬
стве композиции он, вероятно, не пошел далее писания гармо¬
нических «начал», которые все мы преодолевали в музыкаль¬
ных школах. И, однако, никто не может сказать, что он не
дирижер. Он дирижер в лучшем смысле этого слова! Превосход¬
ный слух, абсолютное чувство ритма, огромная воля и тонкое
ощущение стиля музыки — вот те элементы, которые для
оперного дирижера иногда заменяют, если человек образован
и талантлив, годы работы над инструментом и композицией.
Но это, конечно, не правило, а счастливое и редкое исклю¬
чение.
Ярким доказательством положения о врожденности дири¬
жерских способностей у человека может служить пример
с гениальным мальчиком-дирижером Вилли Ферреро, которому
было восемь-девять лет. Я посещал тогда в Петрограде все его
симфонические концерты. Вообразите себе маленькое существо
в бархатной курточке и коротеньких штанишках; темные пряди
волос обрамляли бледное выразительное личико, на котором
искрились глаза, смотрящие куда-то вдаль и вглубь совершенно
не по-детски. И этот ребенок, обладая гениально восприимчи¬
вой памятью, совершенно абсолютным слухом и ритмом, дири¬
жировал наизусть труднейшими симфоническими шедеврами
Бетховена, Моцарта и Вагнера. Все музыканты, профессора
и ученые Петрограда не могли объяснить себе этого явления.
Больше всего чувствовал это «таинство» оркестр, когда маль¬
чик-дирижер давал абсолютно точный темп и ритм, слышал
каждую неверную ноту, которой тот или иной артист оркестра
желал «испытать» слух Вилли Ферреро. Публика была в неве¬
роятно восторженном состоянии. А мальчик-дирижер испытал
еще больший восторг и радость, когда получил подарок от
публики — тройку игрушечных коней, запряженных в санки;
на коренном коне была дуга с колокольчиком, а на козлах
сидел бородатый русский ямщик...
Гастрольный харьковский сезон Валентинова протекал пре¬
красно. Театр был всегда полон. Я обратил внимание на одну
типическую особенность оперных дел этого предпринимателя:
224
у Валентинова в опере никогда не было паники или истерики.
Финансовые или административные трудности, а их было
немало, Валентинов переносил спокойно и ни на ком не отра¬
жались его внутренние переживания. Вот и сейчас, когда
мы ехали в одном вагоне, Валентинов рассказал, что его вызвал
жандармский генерал, предъявив ему обвинение в укрыва¬
тельстве в театре немецких шпионов: в прошлом году в Кисло¬
водске были Лео Слезак и Адам Дидур, а в этом году в Харь¬
кове пели Мария Гай и Мария Гальвани.
— Ну и что же? — встревоженно спросил я.
— Не беспокойтесь! Я хорошо знаю этого генерала, —
сказал улыбаясь Валентинов — к нему смело можно приме¬
нить выражение Наполеона, сказанное им о Мюрате: он боль¬
шой дурак, но лучший кавалерийский генерал. С ним я все
быстро улажу! Слезак и Дидур своевременно были высланы
из России, а мировые знаменитости — Гай и Гальвани — приеха¬
ли из Бухареста по визам союзного французского правитель¬
ства. Лучше бы генералы искали шпионов за кулисами цар¬
ского дворца, а не в оперных театрах. Кстати, — продолжал
Валентинов, — мы с вами, Николай Николаевич, будущим
летом должны в Кисловодске поставить оперу французского
композитора Нугеса «Камо грядеши?..» (либретто написано по
роману Г. Сенкевича), — об этом французское посольство
просило начальника Владикавказской железной дороги. Управ¬
ляющий дорогой, от которого зависит кисловодский театр,
передал мне эту полупросьбу, полураспоряжение. На поста¬
новку отпущены солидные средства. Я уже договорился с пре¬
восходным харьковским художником Суворовым, остальное
все — в ваших творческих руках! — Валентинов пересажи¬
вался на Ростов. Я сердечно расцеловался с этим чудесным
человеком и мы расстались, как всегда, до нашей дружеской
традиционной январской встречи в уютной петроградской
«Вене».
Под ритмический стук колес скорого поезда, один в ком¬
фортабельном двухместном купе, я размышлял о постановке
оперы Нугеса, которую мне пришлось слышать в Московской
опере С. И. Зимина. Во всей опере чувствовались поиски чего-
то необычного, стремление к свежим музыкальным нюансам
в оркестре и в звучании человеческих голосов. Музыка Нугеса,
казалось, светила отраженным светом музыкального творчества
Дебюсси, произведения которого тогда было очень мало,
225
к сожалению, известны у нас. Но его музыкой со смутным
восхищением я упивался неоднократно в «Музыкальной драме»,
когда слушал «Пелеаса и Мелисанду».
Мои ощущения тогда напоминали мне ощущения древнего
скифа приднепровских степей, когда, копая землю, он случайно
находил изящную вазу или обломок ее — признак иной куль¬
туры.
Думая о постановке оперы «Камо грядеши?..», я невольно
вспоминал о своеобразной фигуре С. И. Зимина. Богатый
московский купец, учившийся, кажется, когда-то пению,
несколько своеобразно расходовал свои миллионы. В ту эпоху,
когда его товарищи били в московских ресторанах огромные
зеркала и мазали горчицей, что стоило недешево, лица услуж¬
ливых лакеев, Зимин начал чудить по-иному. На благород¬
ных руинах оперного театра Мамонтова Зимин основал свою,
«зиминскую», оперу. Не имея других страстей и увлечений,
он вложил огромные средства в свое оперное предприятие.
Дело, поставленное очень широко и с купеческим размахом,
не приносило, конечно, доходов, но проценты с огромных
капиталов позволяли Зимину вести свою оперу от «форте»
до «фортиссимо». Театр Зимина, где авторитетом для всех был
уравновешенный и мудрый композитор М. М. Ипполитов-
Иванов, имел свою своеобразную художественную физиономию.
Все русские композиторы, особенно Римский-Корсаков, поль¬
зовались приоритетом в репертуаре Зиминской оперы. Все
оперные новинки Западной Европы, если они стоили того,
немедленно ставились на сцене оперы Зимина. Здесь я и позна¬
комился с новой оперой Нугеса «Камо грядеши?.. »
В советскую эпоху его заслуги в развитии русской оперы
не были забыты. Сергей Иванович доживал спокойно свой
век в должности консультанта по оперным вопросам при дирек¬
ции Московского Большого театра.
...Наш поезд приближается к Петрограду. Серый туман
окутывал город. Моросил мелкий холодный дождик... Я мыс¬
ленно прощался с югом. Харьков остался далеко позади.
Дорогой моей душе ароматный Кисловодск, ласковые контуры
гор, зеленых холмов казались далеким и дорогим воспоми¬
нанием. Сознание, что ты десять лет был связан с этой жемчу¬
жиной Кавказа, будущей весной и летом снова вернешься
туда — это примиряло с пронизывающей сыростью северной
столицы.
226
Включившись в работу Мариинского театра, я сразу полу¬
чил неожиданное и очень лестное предложение. Оркестр импе¬
раторской оперы, являвшийся очень важной и ответственной
группой в системе императорских театров, получил бенефис.
В свой бенефис оркестр обычно ставил редко шедшую оперу
и приглашал для участия в спектакле выдающихся исполни¬
телей. В прошлом году оркестр выбрал оперу «Вертер» с уча¬
стием Собинова. Дирижировал оперой Артур Никиш. Ставил
оперу я. Спектакль имел огромный успех. Моей работой оркестр
был доволен и очень трогательно отблагодарил меня.
В этом же сезоне оркестр задумал поставить никогда не
шедшую в этом театре оперу Обера «Фенелла». Что руководило
при выборе оперы — неизвестно. Я хорошо знал ее еще со
времени своего суфлерства в Казанской опере в 1890 году
и отлично помню, как тенор Закржевский, очень суеверный
человек, певший Мазаниэлло — рыбака-революционера, гово¬
рил мне, что постановка этой оперы всегда предвещает наступ¬
ление революции. Так было во Франции и Бельгии; после
исполнения «Фенеллы» вооруженный народ вышел на улицу
с оружием в руках — ив Париже началась революция. В тог¬
дашней Казани революции не произошло, но от извержения
Везувия в последнем акте «Фенеллы» публика вскакивала
в первых рядах, крича в ужасе. Так реально была изображена
текущая лава. Талантливый бутафор-пиротехник настолько
натурально изобразил огонь, что едва не сжег казанский театр:
расторопной пожарной команде с трудом удалось ликвидиро¬
вать панику в театре. «Я ведь говорил, — таинственно шептал
мне взволнованный Закржевский: — «Фенелла» — фатальная
опера!» — И вот эту фатальную оперу оркестр выбрал для своего
бенефиса!
Музыка оперы была очень примитивна, и замечательному
оркестру Мариинского театра в «Фенелле» решительно нечего
было делать. Но в спектакле был своего рода трюк. Главную
роль немой Фенеллы должна была изображать знаменитая
балерина М. Ф. Кшесинская. Почти весь театр — цены были
тройные — закупила придворная публика и аристократия.
Сюжет «Фенеллы» был основан на подлинном историческом
событии — восстание рыбаков в Неаполитанском королевстве
в XVI веке. Вице-король Неаполя соблазнил и бросил краса¬
вицу Фенеллу, сестру рыбака Мазаниэлло. От горя и отчаяния
Фенелла потеряла дар речи. Мазаниэлло решает отомстить
227
за сестру и организует восстание неаполитанских рыбаков,
жестоко мстя оскорбителю сестры и аристократии. Восстание
разрастается и приобретает огромный размах; Мазаниэлло
избирают трибуном Неаполя. Но происходит извержение Везу¬
вия, Мазаниэлло лишается рассудка и гибнет вместе со своей
несчастной сестрой в лаве Везувия.
Оркестр просил талантливого Коутса дирижировать «Фе¬
неллой». Когда он согласился, мною была сделана подробная
экспозиция оперы, мне известной, но совершенно незнакомой
Коутсу. Тогда же мы вместе наметили и исполнителей. И в пер¬
вую очередь оба остановились на И. В. Ершове для партии
Мазаниэлло и на басе Л. М. Сибирякове — для Пиетро. Осталь¬
ные роли в опере были незначительны. Участие же М. Ф. Кше¬
синской в роли немой Фенеллы являлось тем гвоздем, на кото¬
рый рассчитывал оркестр. И он был прав: участие знаменитой
балерины в опере произвело сенсацию в Петрограде; задолго
до премьеры спектакля все билеты на «Фенеллу» были рас¬
куплены.
Главная работа для меня, как для режиссера, заключалась
не в технической стороне постановки «Фенеллы», а прежде
всего в том, чтобы направить знаменитую и влиятельную
балетную артистку на путь драматической экспрессии и прав¬
ды. В партии Фенеллы есть только жест и мимика, основанием
для которых служит очень невыразительная музыка. Я очень
волновался перед своим первым уроком с Кшесинской. Подой¬
дем ли мы друг другу? Захотим ли понять? К большому
моему удовольствию, я быстро договорился с умной и тактич¬
ной Матильдой Феликсовной о форме мимического языка немой
Фенеллы. Это не была мимика Сарры Бернар, жест Режан или
прекрасно нарочитая поза Элеоноры Дузе... Мы оба избрали
русское искусство. Изумительная русская актриса В. Ф. Ко¬
миссаржевская, ее правдивое искусство, поклонницей которого
была М. Ф. Кшесинская, явилось компасом в работе над необыч¬
ной для нее ролью в «Фенелле». Кшесинской не надо было под¬
сказывать смысл жеста или положения на сцене — замеча¬
тельная актриса творила сама. Я как режиссер должен был
только замечать и снимать малейший налет «балетности»
в позах, мимике и жесте балерины. Я пародийно имитировал
все это; талантливая артистка, улыбаясь, иногда смеясь,
отбрасывала «шлак балета» и своей интуицией приблизилась
в роли Фенеллы к уровню прекрасного драматического испол¬
228
нения. Как в знаменитой Дункан нельзя было видеть балетной
артистки, так и Кшесинская в «Фенелле» ничем не напоминала
выдающуюся балерину; образ, стиль и интерпретация роли —
все следовало отнести к редкому виду искусства театра —
к мелодраме.
Спектакль «Фенелла» в один из дней января 1917 года
имел ошеломляющий успех. И. В. Ершов — этот «поющий»
трагик — в партии Мазаниэлло был на сцене воплощением
революции: пафос, силу и стремительность восставших неа¬
политанских рыбаков Ершов передавал с такой силой страсти,
что казалось, — будто революционный вихрь, воссозданный на
сцене Мариинского театра, ярким пламенем огненной лавы
затопит весь Петроград! Сцена восстания на площади мною
была поставлена красочно: баррикады, горящий дворец вице-
короля, экстатические лица и буйные движения огромного
хора Мариинской оперы, ритмические возгласы хора: «Кинжа¬
лов! Огня!» «Кинжалов! Огня!..» — все это создавало подлин¬
но революционную атмосферу в императорском театре.
Несмотря на огромный успех «Фенеллы», где так трога¬
тельно правдива была М. Ф. Кшесинская, где трагизм
И. В. Ершова достигал высоких граней сценического искусства,
где замечательный коллектив хора жил и дышал, точно Везу¬
вий, огнем и лавой; несмотря на все это, опера «Фенелла» была
снята с репертуара «за вредное направление постановки».
А я, режиссер, выслушал ехидное замечание управляю¬
щего конторой Крупенского: «Его высокопревосходительство
Министр внутренних дел поручил сказать мне, что режиссер
императорской оперы не имеет права стремиться к лаврам
Робеспьера! »
Я должен был бы ответить начальнику: «Слушаюсь, Ваше
превосходительство»... — но я смолчал и только вспомнил сло¬
ва казанского тенора Закржевского: «Фенелла — фатальная
опера! »
Год 1917-й, как известно, начался январской стачкой.
1 февраля началась забастовка путиловских рабочих. К 24 фев¬
раля события разрастаются с огромной силой. Бастуют уже
около 200 тысяч рабочих. В этот день у актерского входа
в Мариинский театр была устроена трибуна и происходили
непрерывные митинги. И. В. Экскузович и я были председате¬
лями этих митингов. От имени театра мне довелось говорить
рабочим приветственную речь. Я предполагал, что меня не
229
будет слышно. Но — странный акустический фокус — слово
мое, как и слова других ораторов, отражаемые массивом стоя¬
щего напротив здания консерватории, были превосходно слыш¬
ны. Лава многотысячной толпы рабочих, построенной правиль¬
ными шеренгами, организованно останавливалась и была вни¬
мательна. Выступали ораторы всех направлений: кадеты,
эсеры, меньшевики, большевики. Но сочувствие и симпатии
рабочих были явно на стороне ораторов-большевиков. Ора¬
торы-монархисты на митингах выступать не решались.
От перенесенных потрясений из-за «Фенеллы» я заболел,
дело дошло до сердечных спазм. Необходимо было срочно
переменить климат и немедленно лечить сердце. Валентинов
и его родственник Полонский, известный доктор-кардиолог
Кисловодска, вызвали меня к себе. Лежа в минераловодском
вагоне, я переживал только что минувшее: «Фенеллу», выговор
Министра внутренних дел и грандиозный, волнующий митинг
с океаном людских голов на площади.
Невольно вспомнились отдельные моменты горячей речи
красивого, рослого студента на митинге. Не таков ли был
любимец Тургенева — Базаров?
В купе было душно. Ритмический стук колес успокаивал
нервы. Больной, я увидел кошмарный сон: мне приснилось,
что дерзкий управляющий конторой, камергер Крупенский,
один из династии кишиневских черносотенцев Крупенских,
а с ним и возбужденный И. В. Ершов в роли полубезумного
Гришки Кутерьмы из оперы «Сказание о невидимом граде
Китеже» с большим трудом натягивали на меня голубой фрак
Робеспьера... Я проснулся...
В Кисловодске нет моря, но есть чудесный воздух, и его
лечебному воздействию подверг меня заботливый доктор Полон¬
ский. После перенесенного мною в Петрограде сердечного забо¬
левания, носившего мудреное латинское наименование, я твердо
был убежден, что, приехав в Кисловодск, немедленно сяду
в нарзанную ванну. Увы, этому предшествовал месячный по¬
стельный режим, лечение токами д’Арсонваля, мучительные
обтирания, капли и короткие прогулки с палочкой по совер¬
шенно пустому парку.
— Я хочу починить вас на всю жизнь, — говорил талантли¬
вый врач, и он выполнил это. Нарзанные ванны были для
меня потом только апофеозом моего выздоровления.
Когда целый месяц, занимая в гостинице бесплатный номер,
пользуясь также пансионом за счет театра, я понял, — как
далеко простиралось ко мне внимание Валентинова.
В Кисловодск часто приезжал из Владикавказа мой знако¬
мый Мцыришвили, сотрудник «Владикавказских губернских
ведомостей». Мы совершенно не знали ничего из того, что совер¬
шается в Петрограде и Москве. Кисловодск был отрезан от
центра. Но Мцыришвили передавал Валентинову и мне ново¬
231
Кисловодск.
Баку.
Астрахань
Глава
четырнадцатая
сти, опалявшие, как огонь, наше сознание. Теперь все совер¬
шавшееся тогда в столицах и в рабочих центрах России известно
каждому советскому человеку. А тогда? Мы жили точно в потем¬
ках — один слух опровергал другой, одно известие было страш¬
нее другого. И только благодаря Мцыришвили мы представляли
себе течение событий и понимали неизбежную победу больше¬
виков, когда 3 апреля 1917 года В. И. Ленин возвратился
в Петроград. Мцыришвили, ближайший сотрудник С. М. Ки¬
рова, образно и логично обрисовал политическую обстановку
России в настоящем и будущем. С. М. Киров, которого Мцыри¬
швили трогательно любил и считал гениальной натурой, был
вызван Лениным в Петроград.
— Вы увидите, — сказал Мцыришвили, — что Сергей Миро¬
нович будет решать кавказские дела — и решит их превос¬
ходно.
Кисловодск того времени уже не был местом, где беззабот¬
ные люди вели беспечальное существование. Приезд курорт¬
ников резко сократился, если не прекратился вовсе. Железно¬
дорожное сообщение с севером стало нерегулярным. Словно
потревоженные тени, по аллеям парка бродили одинокие гене¬
ралы и какие-то дряхлые дамы, которых раньше никогда
я в нарядном Кисловодске не замечал. Листья на деревьях и на
плюще как-то преждевременно пожелтели и покраснели.
В таких условиях кисловодский театр постепенно угасал.
Я послал в Петроград телеграмму дирекции театров, что хочу
вернуться, прошу выслать «вызов» и деньги. На мою срочную
телеграмму через десять дней кондуктор случайного поезда
принес в конверте ответную телеграмму. «Ваш приезд жела¬
телен. Вызов и перевод денег пока невозможны. Своевременно
обеспечу деньги и переезд. Директор Государственных театров
Экскузович». Это меня ошеломило — а где же всеми уважаемый
и такой приличный директор В. А. Теляковский? Неужели
генеральский чин и придворное звание погубили его?
М. М. Валентинов, как всегда спокойный и сосредоточенный,
сидел на пустой террасе ресторана, сосал папиросу и вместо
привычного пива равнодушно прихлебывал нарзан.
— Я хотел видеть вас, Николай Николаевич. Во-первых,
Мцыришвили мне передал эту листовку. Прочтите ее. Во-вто¬
рых, сюда приехал из Баку будущий директор бакинской
оперы Черномордиков; он маленький композитор, но, кажется,
большой социалист и даже, между нами, большевик. Новые
232
времена — новые люди! Нам следует идти вслед за веком,
а не ждать пока век пойдет за нами. Не так ли? Приходите
вечером ко мне для встречи с Черномордиковым.
Расставшись с Валентиновым, я отошел к симфонической
раковине, чтобы прочесть огненные слова листовки, адресован¬
ные рабочим Владикавказской железной дороги.
Многое тогда я не понял, некоторые положения казались
спорными. Но меня увлек боевой дух этого пропагандистского
документа, рисовавшего дальнейшие перспективы России...
Черномордиков произвел на меня хорошее впечатление
вдумчивого и серьезного человека. Оперного дела он не знал,
но теоретическими знаниями в области музыкальной культуры
и в истории оперы обладал, как показалось, в полной мере.
Мне он предложил работу главного режиссера в бакинской
опере, которая из. частных предпринимательских рук переходит
в ведение общественных организаций.
Двенадцать лет я не был в Баку, и когда мы с Черномор¬
диковым приехали туда, я совершенно не узнал города. В древ¬
ности Баку назывался городом огня, потому что он славился
драгоценным черным золотом — нефтью. Двенадцать лет отде¬
лили меня от пыльного, дымного и грязного Баку. Теперь
он выглядел совсем иначе.
Рост Баку начался еще до Советской власти, но застройка
города проходила непланово и случайно — частный капитал
всегда эгоистичен. К вновь появившимся зданиям принадле¬
жал оперный театр, построенный на средства богатых рыбо¬
промышленников-миллионеров — братьев Маиловых. Создание
нового театра в городе отодвинуло на второй план маленький
и неудобный Тагиевский театр, в котором некогда царил и фо¬
кусничал Петя Зурабов. В настоящее время театр Тагиева
служил сценической площадкой для спектаклей русской,
азербайджанской и армянской драм. В большом же театре
Маиловых — опера вместе с опереттой. Маиловский театр,
когда я с ним ознакомился, произвел довольно странное впе¬
чатление: огромный двухъярусный зрительный зал, вытянутый,
весьма напоминавший граммофонный раструб, примыкал
своей узкой стороной к небольшой и очень неудобной сцене,
лишенной карманов и аръерсцены. Артистические уборные,
а также декорационный зал-сарай — все это живо напоми¬
нало время моей юности, когда мы с оперой Унковского были
в Туле. «Театр-цирк Томского» в Туле своими сценическими
233
удобствами и «культурой» родствен был новому оперному
театру. Впрочем, между тульским и бакинским «храмами искус¬
ства» была для меня все-таки осязательная разница.
В Туле, где актеров не пускали ни в одну гостиницу, —
они были «нерентабельны и неплатежеспособны», — и боль¬
шинству из них, в том числе и мне, пришлось жить в уборных
цирка-театра. В Баку Черномордиков устроил меня сразу
хорошо. В только что открытой гостинице окно моей комнаты
выходило прямо на море, и — странное дело — негостеприим¬
ное и суровое лицо Каспия через двенадцать лет показалось
приветливым и ласковым.
На утро, когда мы с Черномордиковым занялись делами,
картина театрального Баку для меня стала ясной. Многолетним
антрепренером и, пожалуй, фактическим хозяином театра был
Павел Иванович Амираго. Армянин из Гори, Амираго совер¬
шенно не говорил по-армянски; грузинский язык и грузинская
культура — вот на чем сформировалась привлекательная
и благородная личность этого человека. И надо отдать спра¬
ведливость, Амираго всеми своими поступками оправдывал
лестные о нем отзывы театрального мира и всех лиц, с ним
►соприкасавшихся. В прошлом оперный артист, Амираго пере¬
ключился на роли опереточных героев. С течением времени,
когда голос ему начал изменять, Амираго сделался антрепре¬
нером. Но и в новой своей роли Павел Иванович, как говорится,
нашел себя.
— Когда революция будет побеждать и когда, — Амираго
это предсказывал мне еще до Октября, — она победит, то слова
антреприза, антрепренер выйдут совершенно из обращения.
Я должен видеть, во что это выльется, а когда понадоблюсь, —
позовут. Пока, передавая театр общественной кооперации, я
остаюсь не у дел — у них есть свой директор, композитор
Черномордиков. Мы увидим, как осилит он эту «симфонию».
В это время наше бакинское оперное дело переживало тяже¬
лый кризис. Народ не интересовался искусством и театром,
хотя наша опера добросовестно делала свое дело, которое
в эти дни, увы, никому не было нужно. Продовольственный
кризис захватил в свои цепкие лапы огромный город. Не было
хлеба и жиров. В эти трудные моменты бакинской жизни
Черномордиков, отлично знавший гармонию по Римскому-
Корсакову и инструментовку по Геварту, не мог ничего сделать
по организации минимального снабжения питанием труппы.
234
На голодные желудки, правда, у всех хорошо звучали голоса,
но долго продолжаться так не могло... Тогда руководящие
круги перебросили «теоретика» Черномордикова на другую
работу, а в оперный театр был возвращен «практик» Амираго.
Он не мог, конечно, сразу организовать снабжение нас продук¬
тами питания, но все-таки его изобретательность и оператив¬
ность выручила жрецов оперного искусства. Каждое утро
из кооперации артист-бас Кузин и двое хористов приносили
три мешка чудесных кавказских орехов, что следовало счи¬
тать «хлебом». Кроме этого своеобразного заменителя хлеба,
Амираго придумал для нас и жиры. Имея непосредственную
связь с рыбными промыслами Маиловых, он организовал еже¬
дневную доставку в оперный театр деликатесной прессованной
черной икры, отправляемой обычно в столицы и заграницу.
Но Баку был тогда изолирован от внешнего мира, и роскошная
черная икра, отливавшая блеском черного золота, была исполь¬
зована для внутреннего употребления. Икра была спрессована
в мешочках; мешочки резались на дольки и каждый из нас
получал свою дольку. Поначалу это казалось вкусным, но
впоследствии такой деликатесный режим — орехи и икра —
опротивел всем, и мы были счастливы, когда из Астрахани
пароходы привезли простую картошку и кукурузу.
Оперный театр переживал страшное время. Интервенция
империалистов принимала огромные размеры и могла бы захлест¬
нуть революционную Россию, если бы стратегический гений
Ленина не остановил и не разрушил планы интервентов.
Мы с женой жили в это время за театром, на Телефонной
улице. В обычное время это был тихий район, но сейчас бес¬
покойное бремя наложило на него свой отпечаток. Покоя и сна
не было, — лекарства не помогали, и жена спасалась только
тем, что лежала на кровати, закрыв голову подушкой. Я защи¬
щал свои нервы от треска пулеметов и разрозненных выстрелов
при помощи музыки и литературы. В соседней комнате дочь
хозяина играла на рояле хроматические гаммы Ханона для
обеих рук. В предыдущие дни я готов был убить девочку за
эту ужасную музыку, а сейчас с наслаждением сидел у рояля.
Ханон победил музыку выстрелов!
Кроме того, я читал книгу Гюйо «Мораль Эпикура» и готов
был спокойно умереть: философ древности так убедительно
и логично писал «пока мы существуем, нет смерти; когда смерть
есть, нас более нет». Музыка Ханона и философия Эпикура
235
успокаивали меня. Но когда с военных кораблей на Каспий¬
ском море по городу свистели снаряды, ложась на бакинские
возвышенности, тогда вся квартира и я, забыв все, спешили
в каменный погреб под домом, где воздух был так пьян от огром¬
ных бочек с вином.
Когда рано утром я пошел в театр, то не узнал его — на
балконе висел огромный белый флаг красного креста и красного
полумесяца. Просторное фойе театра, уборные, ложи и партер
были заполнены женщинами и детьми, нашедшими в театре
свое спасение. Женская прислуга театра и некоторые хористки,
одетые в белые куты из оперы «Гугеноты», с повязками крас¬
ного креста, заботливо обслуживали женщин и детей. На сцене
стоял и дымился огромный самовар из театрального буфета.
Театральный доктор, милейший А. И. Иванов, в кабинете
директора день и ночь проводил прием больных; в воздухе
пахло карболкой и валерианкой. Женщина, от испуга преж¬
девременно разрешившаяся мальчиком, была помещена в огром¬
ной ложе градоначальника.
П. И. Амираго, одетый, как всегда, изящно и по моде,
наблюдал сверху за своей гуманистической «постановкой».
Он был доволен — его доброму сердцу и его воле весь этот
народ был обязан своим спасением.
Увидев меня, Амираго пригласил к себе — его роскошная
квартира находилась над сценой. Обыкновенно ровный и покой¬
ный, в эту минуту он был взволнован.
— Я имею, Николай Николаевич, точные сведения из Тиф¬
лиса, что турки двигаются на Баку, максимум через две недели
они займут город, а англичане захватят нефтяные промыслы.
Страшно подумать, что произойдет в первые дни оккупации.
Вы обязаны вывести немедленно оперную труппу в Астрахань.
Чтобы облегчить работу оперы в Астрахани, под вашу мораль¬
ную ответственность я даю свое театральное имущество — ноты
и костюмы. Берегите все. А теперь следует немедленно пойти
в Совет Комиссаров и просить, чтобы пароходом опера была
отправлена в Астрахань. Трудно было выразить словами то
чувство благодарности, которое я испытывал к Амираго*
Когда я и два представителя театра пришли в Совет Бакин¬
ских Комиссаров — он помещался тогда в Большом зале
Общественного собрания — и изложили нашу просьбу об
отправке оперы в Астрахань, председательствовавший товарищ
Джапаридзе согласился с нами.
236
— Приходите завтра. Я свяжусь с С. М. Кировым и после
этого дам ответ. Мы поддерживаем переезд оперы в Астра¬
хань.
Выходя из зала заседаний, можно ли было думать, что
комиссары, эти 26 человек — такие молодые, энергичные
и оперативные, рано найдут братскую могилу в горячих и зной¬
ных песках Закаспия?
Ровно через сутки от С. М. Кирова, совмещавшего в своем
лице гражданскую и военную власть, было получено распо¬
ряжение отправить оперу в Астрахань. Комиссары Джапаридзе
и ведавший транспортом Фиолетов предоставили в наше рас¬
поряжение промысловый пароход «Тюлень». Артист нашей
оперы Славянов, прирожденный администратор и диспетчер
оперных поездок, быстро погрузил на пароход театральное
имущество и всю труппу. Пароход «Тюлень», служивший для
лова и перевозки убитых каспийских тюленей, был большим,
но мелкосидящим судном. Вся наша труппа — артисты, оркестр,
хор, балет и технический персонал, — сбившись в кучу, очень
напоминали испуганных тюленей. Превосходный скрипач и сим¬
фонический дирижер, ученик Никиша, К. С. Сараджев, испу¬
гавшийся наступления турок, только что приехал в Баку из
Тифлиса и просил меня увезти его с семьей. Я очень любил
и уважал Сараджева, но единственное место, которое я мог
предоставить этому достойному артисту и его семье, был уго¬
лок в открытом трюме среди ящиков с костюмами и нотами.
Но и за это Сараджев, целуя, трогательно благодарил меня, —
так велика была паника при слухах о приближении турецких
войск.
Провожать нас и весь наш «тюлений» оперный ансамбль
приехал П. И. Амираго; внешне он был в своей обычной «фор¬
ме». Я любовался его внешностью, но еще более привлекатель¬
но было внутреннее спокойствие Амираго.
Прощаясь, Амираго сказал пророчески:
— Мы скоро увидимся. То, что совершается — весь этот
кошмар — уступит свое место твердой государственной вла¬
сти. Такие люди, как Киров, которого я хорошо знаю, будут
настоящими режиссерами раздробленной жизни Кавказа и,
вероятно, всей России.. Эти люди — сила. Берегите себя,
будьте осмотрительны в поступках и, главное в словах. Посы¬
лаю с вами Семена Азизова, он присмотрит за имуществом
и будет вам полезен.
237
Армянин Азизов фамильярно пожал мою руку. «Он будет
в театре курьером» — решил я.
Наше двухдневное плавание на плоскодонном «Тюлене»
было ужасным; если бы Данте плавал вместе с нами на «Тюле¬
не», то, вероятно, в «Божественной комедии», прибавились бы
терцины, превосходящие своим ужасом описания мучений
грешников. Дантовский ад существовал все же в литературе,
тогда как наши пытки на «Тюлене» являлись, увы, реально¬
стью.
Мрачный капитан корабля, суровый армянин Мариянц, оде¬
тый в тюленью куртку, штаны и тюлений же картуз, живо
напоминал тюленя. Он мрачно ходил среди палубных пасса¬
жиров и грозным басом отдавал распоряжения.
Когда наш пароход подошел к Астрахани — прямо, без
утомительной перегрузки на одиннадцатифутовом рейде, где
Волга соприкасается с глубиной Каспия, — мы все радостно
вздохнули: «Земля!» Распорядительный Славянов уже узнал
о резолюции С. М. Кирова, по которой летний театр «Аркадия»
и отличное здание зимнего городского театра поступали в рас¬
поряжение эвакуированной из Баку оперной труппы.
Белый хлеб, изобилие картофеля, рыбы, баранины, битой
птицы и «чихиря» (терпкое красное астраханское вино) — все
это после бакинской голодовки превращало для нас пыльную
Астрахань в своего рода обетованную землю.
Только постепенно нам стало все ясно. Мы находились
в своего рода крепости, сопротивляющейся нажиму врагов:
банды Деникина и белогвардейские полчища казаков Краснова,
двигающиеся с Дона, решили взять Астрахань — этот ключ
Волги и Каспийских областей. Астрахань превратилась, таким
образом, в крепость на Волге. По предложению В. И. Ленина,
в феврале 1919 года был создан Временный Военно-револю¬
ционный комитет во главе с С. М. Кировым.
Наша опера, ставившая сначала спектакли в Зимнем театре,
затем перенесла свою деятельность в обширный летний театр
«Аркадия». Большим ударом для планомерной работы оперы
был уход из состава главного дирижера Маргуляна, испугавше¬
гося экономических трудностей. Вслед за Маргуляном, уже
тайно и незаметно, исчез второй дирижер — Хорошанский.
Замечательный виолончелист и очень посредственный дирижер,
Хорошанский дезертировал (неизвестно как) в Америку. Наша
опера совершенно обезглавилась. Вся труппа потребовала,
238
чтобы я стал у дирижерского пульта. Мне пришлось подчи¬
ниться. Как раз в это время, по иронии судьбы, мною были
получены две правительственные телеграммы из Петрограда;
в одной Директор Государственных театров Экскузович предла¬
гал возвратиться в Мариинский театр, где я обеспечивался
пайком и квартирой. А вторая телеграмма была от Луначар¬
ского, который директивно предлагал «всем начальникам
станций и комендантам станций содействовать беспрепятствен¬
ному проезду оперного режиссера Боголюбова в Петроград».
Совмещая в своем лице власть режиссера, дирижера и заве¬
дующего труппой, я обязан был сверх того читать краткие,
лекции по музыке и говорить вступительные слова к спектак¬
лям. Нависшая над городом опасность и общее боевое настрое¬
ние в Астрахани удваивали и утраивали мои силы.
Мои дирижерские функции облегчались еще тем, что наш
оркестр, понимая дирижерский кризис, всемерно шел навстре¬
чу мне — непрофессиональному, хотя и очень смелому дири¬
жеру. Будучи суфлером в опере, трубачом в музыкальной
школе, проглотив столько знаний по гармонии, сколько их
требуется для рядового военного капельмейстера, я, увы,
не обладал «оркестровым слухом», что меня очень и очень
смущало. На репетициях в этом очень помогали первый скри¬
пач и первый кларнетист, деликатно подсказывавшие мне,
у какого инструмента неверная нота. Я быстро к этому при¬
способился. Для усвоения внешней техники дирижирования
мне пришлось мысленно обращаться к неумирающим воспо¬
минаниям о тех великих и замечательных дирижерах, которых
я видел и слышал. Так из меня выработался типичный оперный
дирижер-«слухач» военной эпохи.
Наш оперный сезон в летнем театре протекал благополуч¬
но. Несмотря на недостаточный состав нашей труппы, все
работали дружно, всех объединяла нависшая над городом
опасность. Не считали количества выступлений, все пели, что
нужно и сколько нужно, и репетировали безотказно до полной
готовности спектакля.
Многочисленные обязанности, возложенные на меня, были
так трудны и так разнообразны, что мне иногда казалось,
будто со мной происходит не только то, что в психиатрии назы¬
вается раздвоением личности, но процесс гораздо более слож¬
ный: расщепление личности на пять отдельных индивидуаль¬
ностей — несговорчивых, вспыльчивых, нервных и очень упря¬
239
мых. Дирижер, например, в моем лице никак не мог сгово¬
риться с режиссером; лектор — с директором. И все они —
эти пять частиц моего «я» так расстраивали мои нервы, что
моему другу, доктору-психиатру, стоило большого труда
привести меня к относительной норме.
— Надо, Николай Николаевич, разгрузиться! Следует
центральной нервной системе дать «выходной день», и тогда
все будет хорошо. В одном вопросе, — сказал доктор, — я вам
помогу. В кино работает пианист, военнопленный офицер,
вполне проверенный властями человек, он мечтает работать
в опере. Я с ним знаком и пришлю его вам. Договоритесь.
Когда на следующий день в театр пришел высокий и строй¬
ный белокурый молодой человек, прекрасно одетый, и принес
записку от доктора, то я сразу понял, что это и было одно
из тех действенных лекарств, которыми заботливый врач
думал оздоровить мои нервы. Мы познакомились. Пианист
был чех, по фамилии Врано, он учился в Пражской консерва¬
тории. Грянула война — Врано был мобилизован. Но так как
австрийские войска вообще плохо воевали, то и Врано в числе
других быстро очутился в плену. Его музыкальные знания
были солидны. Я ему очень обрадовался и передал почти весь
дирижерский репертуар, оставив за собой «Пиковую даму»,
с которой Врано не был знаком, «Паяцев» и «Севильского
цирюльника», дирижировать которыми для меня было наслаж¬
дением. Трудно было все-таки сразу расстаться со славой
дирижера!..
На первом спектакле «Кармен», которым дирижировал
Врано, произошел курьезный случай. После первого акта
за кулисы пришли три моряка волжской флотилии, достаточно
охмелевшие и возбужденные. Они потребовали заведующего.
Когда я пришел, один из моряков сказал пьяным голосом:
— Что же это у тебя, браток, белогвардеец, что ли, палкой-
то над музыкой машет? Сними ему белый ошейник, а то мы
сами его сшибем.
Я успокоил их и немедленно пошел посмотреть на Врано.
Стройный, изящный, одетый в венский рейдфрак, с высоким,
стоячим, туго накрахмаленным воротником и белоснежными
манжетами, дирижер был действительно абсолютным диссо¬
нансом на фоне публики, одетой в серые шинели, опаленные
огнем выстрелов. Врано немедленно снял крахмальный ворот¬
ник, отстегнул белоснежные манжеты, и его внешность приняла
240
вполне приемлемый вид капельмейстера осажденной кре¬
пости.
Весной 1919 года в Астрахани был организован траурный
вечер, посвященный памяти Я. М. Свердлова. На вечере высту¬
пил С. М. Киров. В своей огневой, как всегда, речи, посвящен¬
ной памяти Я. М. Свердлова, он обрисовал значение деятельно¬
сти этого безвременно ушедшего от нас верного ученика
В. И. Ленина.
Оркестр, которым я дирижировал, исполнил траурный
марш из «героической симфонии» Бетховена. Но так как испол¬
нение всей дивной музыки марша целиком мне казалось очень
длинным, ведь публика во время исполнения должна была
стоять, то я сделал некоторые купюры. Исполнение сольных
и хоровых номеров было строго выдержано и продумано.
Председатель Горсовета поблагодарил через меня всех участ¬
ников и, между прочим, сказал, что Сергей Миронович хочет
завтра от 9 до 10 утра меня видеть.
Ровно в 9 часов утра я был в приемной Кирова. Когда
очередь дошла до меня, секретарь назвал мою фамилию. Очень
волнуясь, я вошел. Сергей Миронович подал мне руку и указал
место у своего стола.
— Я попросил вас прийти, товарищ Боголюбов, по сле¬
дующему поводу. Вы подали заявление о необходимости улуч¬
шить состав Астраханской оперы. Это правильно. Мною сделано
распоряжение написать начальнику саратовского гарнизона
т. Базилевичу, чтобы он содействовал отпуску из Саратовской
оперы необходимых вам певцов. Вчерашний концерт был
вполне хорош в жестких рамках военного времени; но зачем
вы — дирижер — сократили замечательный бетховенский тра¬
урный марш? Классику следует исполнять как следует или
не исполнять ее совсем!
И еще один вопрос. Отчего вы всегда, и вчера в таком кон¬
церте, дирижируете в блузе? Это не хорошо, дирижер должен
быть декоративным и парадным; зайдите в Горсовет, получите
материю, если не на роскошный, то, во всяком случае, на
приличный костюм. Работу оперного коллектива и вашу, това¬
рищ Боголюбов, мы ценим. Будьте здоровы.
Уходя от такого мудрого и такого простого человека, я очень
жалел, что умолчал, во-первых, о том, что блузу я ношу по
его, Кирова, примеру; во-вторых, очень обидно было, что
я забыл рассказать Сергей Мироновичу, как подвыпившие
241
моряки переодевали «декоративного» дирижера Врано и как
смешон он был со своим поднятым воротником.
В театре меня ожидал неожиданный сюрприз. Приехал
комендант речной флотилии извиниться за самоуправство
и бестактный поступок в театре нетрезвых моряков, которым,
по словам коменданта, было сделано солидное «внушение».
Инцидент был исчерпан и забыт.
В дальнейшем Врано, оказавшийся очень способным дири¬
жером и культурным музыкантом, появлялся уже за дирижер¬
ским пюпитром всегда в полном блеске. Когда же приходила
очередь дирижировать мне, то я, с гордостью нося новенький
френч, сшитый заботами Кирова, всегда смотрел в боковую
ложу: не увижу ли там Сергея Мироновича в его обязательной
блузе и высоких сапогах...
Через несколько дней мне пришлось поехать в Саратов для
пополнения нашей оперы новыми силами.
Нарядный и благоустроенный Саратов после Астрахани,
превращенной в крепость, имел вид совершенно нормального
города, живущего обычной жизнью.
Опера находилась в театре Очкина, директором оперы был
мой старый знакомый М. Е. Медведев. Это оперное дело имело
репутацию вполне солидного советского учреждения. Пре¬
восходный состав труппы, такие же оркестр, хор и балет,
твердый бюджет и постоянная правительственная дотация —
все это было прототипом будущих советских оперных те¬
атров.
В составе труппы были выдающиеся артисты — М. А. Ку¬
ренко-Гонцова, колоратурное сопрано, замечательный драма¬
тический тенор Ю. А. Кипаренко-Доманский, выдающийся
бас и артист-художник Н. И. Сперанский, превосходные бари¬
тоны Б. П. Томский, В. Ф. Любченко и редкостный лирический
тенор М. Е. Мархиль, рано погибший от туберкулеза. Очень
интересным явлением в искусстве оперы был лирико-драма¬
тический тенор В. Н. Яковенко. Это был как бы возрожденный
молодой Медведев — такая же внешность, такой же теплый
волнующий звук матового голоса, черные выразительные глаза
и горячий темперамент. Но Яковенко не пошел далеко; страш¬
ная инертность и русская лень были плохими помощниками
в его сценической судьбе. Дирижерами были опытные Э. Н. Ку¬
пер и М. Д. Морской. Но постановщика-режиссера в труппе
не было, и Медведев обрадовался моему приезду, думая удер¬
242
жать меня. Я условился — как только окончательно наладится
астраханская опера, я переберусь в Саратов. Пока же, по
предписанию начальника гарнизона Базилевича, в распоряже¬
ние астраханской оперы временно были откомандированы бас
Н. И. Сперанский, колоратурное сопрано Р. В. Быкова и моло¬
дой бас М. Ш. Шерашидзе. Это устраивало вполне астраханскую
оперу.
По дороге в Астрахань, когда мы плыли на чудесном пас¬
сажирском пароходе «Красная Латвия», переполненном пасса¬
жирами, около села Солодники, вблизи Царицына, наш паро¬
ход и мы все только чудом не оказались на дне Волги. Казачьи
банды красновцев с высокого берега начали обстреливать
шрапнелью наш беззащитный пароход, точно он был брони¬
рованным вражеским крейсером, а не мирным русским паро¬
ходом. До сих пор нельзя без ужаса вспомнить пережитого...
Крики женщин и детей, вопли ужаса и проклятия сбившихся
в коридорах в кучи людей, стонущих от смертельного отчаяния
и страха — все это заставляет до сих пор сжиматься сердце.
Сперанский с женой и мы с женой лежали на полу четырех¬
местной каюты и, простившись, готовились к неизбежной
смерти. И вдруг внезапно все затихло. Не веря самим себе,
мы не могли понять, что произошло? Мы живы, и пароход
полным ходом стремится вперед... Храбрый грузин Шера¬
шидзе, находившийся все время на капитанском мостике,
обрисовал нам картину этого своеобразного «боя». Когда
выстрелы белогвардейцев начали достигать цели, когда на
нашем пароходе было убито десять пассажиров, появилась
часть буденновской кавалерии, и бандиты, обстреливавшие
пароход, были сметены.
Когда чувство смертельной опасности стало постепенно
проходить, я увидел, что нигде нет артистки Быковой. «Уби¬
та!» — подумал я и бросился к каюте, которую она занимала.
Дверь каюты была заперта. Я постучал. «Кто там?» — раздался
спокойный голосок. Когда дверь открылась и я вошел в каюту,
изумлению моему не было границ. Быкова, видимо, только
что проснувшаяся, сидела перед зеркалом и спокойно завивала
волосы. «Неужели вы ничего не слышали?» — спросил я.
«Нет! Я хорошо уснула и слышала только, как в воде что-то
булькало»... Пораженный этим олимпийским спокойствием,
я не стал уже рассказывать ей, что только что пережили пас¬
сажиры парохода.
243
Прибавив к астраханской опере выдающегося певца и арти¬
ста Сперанского, Быкову и Шерашидзе, мы с нашей оперой
просуществовали в Астрахани ровно до того времени, когда
Астрахань под руководством С. М. Кирова выполнила свое
замечательное стратегическое задание. Генерал Краснов был
оттеснен от Царицына, захват которого он считал обеспечен¬
ным; белогвардейские силы были отброшены за Дон. В районе
нижней Волги наступило относительное спокойствие.
...В 1920 году я принял приглашение директора Саратов¬
ской оперы М. Е. Медведева и перешел в этот театр главным
режиссером-постановщиком. После астраханской оперы, где
много было кустарщины из-за трудных условий боевой обста¬
новки, саратовский театр дал мне возможность работать нор¬
мально.
Началась моя работа в Саратовской опере. Как я уже писал,
это был сильный профессиональный коллектив.
Моими первыми постановками были «Аида» и «Снегурочка».
Эти давно мне знакомые оперы не требовали особых усилий.
В «Аиде» Радамеса пел Кипаренко-Доманский. Он был
отличный певец. Его сценическое долголетие просто изуми¬
тельно. Только потом, спустя почти тридцать лет после сара¬
товской «Аиды», я слушал радиопередачу из Киева — Кипа¬
ренко-Доманский пел Отелло. Тот же свежий звучный голос,
те же блестящие предельные ноты и удивительное дыхание.
Очень увлечен я был постановкой «Снегурочки». Певица
Быкова, миниатюрная, холодная, со своим серебристым голос¬
ком была живым воплощением дочери деда Мороза. И только
в последнем акте чудесная музыка Римского-Корсакова как бы
растапливала ее — в сцене таяния ее голос звучал необычайно
тепло и сердечно.
Полной неожиданностью для меня и для большинства
работников Саратовской оперы явилось предложение началь¬
ника гарнизона всем ведущим артистам вступить в состав труп¬
пы Северо-Кавказского фронта, центром которого был Ростов-
245
Саратов.
Ростов-на-Дону.
Баку
Глава
пятнадцатая
на-Дону. Начальник гарнизона Базилевич, сам страстный
любитель музыки и пения, потянул за собой Кипаренко-Доман¬
ского, Сперанского и меня. Если других переезд привлекал
военным пайком и более аккуратной выдачей зарплаты, то
мною руководило желание приблизиться к Баку и, возможно,
снова работать с обаятельным директором П. И. Амираго.
Военная ситуация к этому времени представляла такую
картину: армия Деникина была разгромлена; в начале 1920 го¬
да вся Украина и Северный Кавказ были освобождены от
белых. Северо-Кавказский фронт в это время имел своим
центром Ростов-на-Дону.
Из Саратова в Ростов-на-Дону мы со Сперанским ехали
в поезде армейского начальства. Переезд Саратов — Ростов-
на-Дону занимал тогда, как правило, не менее четырех суток,
а наш поезд покрыл это расстояние в рекордно быстрый срок —
всего в 48 часов.
Большой торговый Ростов-на-Дону был тогда основательно
дезорганизован военными событиями, бушевавшими на под¬
ступах к городу. Но все-таки сам город сохранял свой вну¬
шительный вид. Бедой для театрального дела в Ростове был
пожар в театре Асмолова, который сгорел дотла. В этом уютном
и удобном театре было накоплено за сорок лет его существо¬
вания множество богатейшего театрального инвентаря — деко¬
раций, мебели, костюмов, нот и бутафории. И все это за одну
ночь превратилось в угли и пепел.
Оперному театру Политотдела фронта был предоставлен
огромный, но очень несуразный театр-цирк Машонкиной. Осо¬
бенностью этого здания было то, что оно было неудобно как
для театральных спектаклей, так и для цирковых.
В связи с этим мне пришлось обратиться к начальнику
Политотдела фронта, суровому и малоразговорчивому латышу
Спилвенеку. Я был совершенно заморожен его ледяным прие¬
мом.
На мои слова о том, что в неудобном и совершенно непри¬
способленном здании опере будет работать трудно, мрачный
Спилвенек ответил мне приблизительно так:
— Советской власти приходится часто на голой земле или
на пожарищах строить новую жизнь и новые производства —
и мы делаем это. Мы даем театру денежные средства и военные
пайки. Организуйте рабочую тройку и приступайте немедленно
к делу. Помните одно — бойцам сейчас необходим отдых,
246
нужна легкая музыка и зрелище веселое и занимательное.
Все. — Спилвенек встал. Аудиенция окончилась.
Я немедленно приступил, по совету Спилвенека, к органи¬
зации «рабочей тройки», которая разгрузила бы меня от хо¬
зяйственных хлопот, а кстати, и от ледяных аудиенций у суро¬
вого начальника Политотдела.
Бывший директор крупного кино коммерсант Левин и при¬
рожденный дипломат лирический тенор Лютнев явились теми
крыльями, которые поддерживали мое неуверенное планиро¬
вание над дезорганизованной театральной жизнью в городе.
Сперанский, имевший счастье давать уроки пения кое-кому
из высоких военных начальников, тоже очень помогал укреп¬
лению нашего оперно-опереточного театра.
Труппа в Ростове-на-Дону оказалась огромной; все тяну¬
лись к пайкам, к военному хлебу, а отчасти и к деньгам, кото¬
рые все более утрачивали свое реальное значение. Но что
интересовало больше всего — это справка о том, что человек
работает в театре. Это было главное.
Наш хор состоял из восьмидесяти человек. Дирижером
был властный Н. В. Бердяев, объединивший под своей властью
всех ростовских музыкантов. Опереттами дирижировал другой
музыкант — В. А. Неймер.
В оперном составе оказалось замечательное драматическое
сопрано — В. К. Павловская, впоследствии примадонна акаде¬
мической оперы в Ленинграде. Эта певица у нас пела и в опе¬
рах и в опереттах. И трудно, право, было определить, в чем
Павловская была лучше — в «Аиде» или в «Сильве», в «Тоске»
или в «Веселой вдове», «Гугенотах» или «Баядерке»? Так
многогранно было дарование этой замечательной артистки
и певицы.
Опера и оперетта при Политотделе Северо-Кавказского
фронта были живым опровержением старого римского поло¬
жения, — «Во время войны музы должны молчать». Военные
части Ростовского гарнизона и войска, проходившие через
Ростов, — все они наполняли до отказа огромное помещение
театра-цирка, где мы давали наши спектакли, и очень часто
среди нашей публики мы видели крепкие и бодрые фигуры
К. Е. Ворошилова и С. М. Буденного.
Военная публика, желавшая отдохнуть в театре, предпо¬
читала оперетту, и мы должны были учитывать зрительские
симпатии.
247
Для этого у нас было решительно все, но, увы, не было
ни одного опереточного «героя». Однажды, смелая, но парадок¬
сальная мысль пришла мне в голову. Два лучших артиста
нашей оперы — Кипаренко-Доманский и чудесный баритон
Книжников, один из образцовых исполнителей партии Онегина,
обязаны были стать опереточными премьерами. Время было
военное и отказываться нельзя!
Великолепный голос Кипаренко-Доманского очень подходил
к роли шикарного турецкого офицера Энвер-бея в оперетке
«Роза Стамбула». Но во втором акте, когда Энвер-бей должен
обучать европейским танцам очаровательную турчанку, Розу
Стамбула — Павловскую, возник безысходный режиссерский
«тупик». Артист, в прошлом сапожник и исполнитель выход¬
ных ролей в малороссийских спектаклях, отлично знал гопак
и все его разновидности, а к бальным европейским танцам он
был способен так же, как медвежонок к танцу на туго натя¬
нутой проволоке.
Что мне оставалось делать? Одна бессонная режиссерская
ночь — и выход был найден. Талантливому художнику Лады¬
гину я поручил нарисовать на стене фреску — дама и кавалер
танцуют какое-то замысловатое танго. Фреска была написана
на тюле, а позади него танец исполнялся балериной Сальни¬
ковой и балетмейстером театра Моисеевым. Когда фигуры
освещались, казалось, что фреска оживала.
Энвер-бей — Кипаренко садился к роялю, играл, отлично
пел и советовал героине танцевать, подражая фреске.
Талантливая Павловская, вообще прекрасно танцевавшая,
кружилась свободно одна, радуясь, вероятно, в душе тому,
что освободилась от жестких объятий своего партнера.
Эффектный номер в спектакле был сохранен. С другим
«опереточным» премьером, талантливым певцом Книжниковым
тоже было немало хлопот. Он должен был играть роль Эдвина
в «Сильве». Если Кипаренко, привыкший все-таки «размов¬
лять» в малороссийских спектаклях Кропивницкого, добро¬
совестно чеканил свои диалоги, то Книжникову опереточные
«разговоры» были очень трудны. Но тренировка сделала свое
дело, и он привык к новой специфике.
Когда вопрос о «героях» был благополучно разрешен, то
наше оперно-опереточное дело стало на твердые рельсы. Два
замечательных комика, Г. П. Данильский и В. Н. Елизавет¬
ский, дополняя один другого, и прекрасный простак В. Н. Та¬
248
ганский — были в центре каждого спектакля. Особый успех
имел Данильский. Умный и образованный актер, без малей¬
шего шаржа и нажима, он извлекал смех из самой суровой
публики одним жестом, одной невинной, казалось бы, интона¬
цией своего голоса. Мне пришла в голову дерзкая мысль пору¬
чить Данильскому в «Борисе Годунове» партию Мисаила. И вот
сцена в корчме — при каждом движении Данильского в зале
стоял сплошной хохот, от которого мне, режиссеру, пришлось
горько плакать.
Но вот настал день, когда Северо-Кавказский фронт был
расформирован и наше оперно-опереточное «дело» перешло
в слабые руки Ростовского наробраза, естественно, не знав¬
шего, что делать с такой массой людей. Кипаренко-Доманский
с какой-то военной частью уехал на Кавказ. Его, к счастью,
заменил в труппе опытный тенор В. Б. Струков-Баратов,
певший все, что угодно. Это было истинным спасением для
нас.
Перейдя в подчинение Ростовского наробраза, мы сразу же
почувствовали разницу. Военный паек, который был у нас
раньше, этот роскошный паек остался, увы, только фанта¬
стическим воспоминанием. Денежная система тогда в Ростове
представляла оригинальную картину — все были «миллионе¬
рами»; но, владея сотнями миллионов, мы платили за коробку
спичек 250 рублей, и за серую булку 400 рублей. И все-таки
обилие денег, напечатанных на простой бумаге красной крас¬
кой, рождало чувство какой-то гордости. С каким сознанием
своей кредитоспособности и финансовой мощи я, например,
легко дал своему другу сто пятнадцать тысяч рублей на покуп¬
ку во Владикавказе картошки и доставки ее нам в Ростов.
Военные власти расплатились с театром хорошо — мы полу¬
чили зарплату за месяц вперед и выходное пособие в размере
месячного оклада. Но все, конечно, вздыхали молча о военном
пайке...
Наш театр находился в тупике. Военные зрители схлынули,
а ростовская публика оперу не любила, предпочитая ей веселый
жанр оперетты. Коммерческий директор театра Левин, очень
осторожный и опытный человек, угощая изумительной донской
щукой и водкой, припер меня, как говорится, к стенке.
— Дело наше на волоске. Если мы с вами не ударим ростов¬
чанам по нервам и не придумаем какой-нибудь сногсшибатель¬
ной опереточной постановки, мы пропали! Важно дать публике
249
толчок, а там, поверив нам, она уже пойдет. Я знаю Ростов
уже много-много лет.
Тревога за дело заставила меня судорожно искать выход
из положения. Вспоминая изумительную пластику Айседоры
Дункан, я решил поставить «Прекрасную Елену».
Побеседовав с талантливым и чутким балетмейстером Мои¬
сеевым, я и его приобщил к моим эллинистическим опереточ¬
ным идеям. Талантливый и высококультурный петроградский
художник Ладыгин, очутившийся, как и мы, на мели в Росто¬
ве, улыбаясь, также принял мои режиссерские мысли. Он
создал лаконические декорации, поражавшие изяществом своих
форм. И все это было сделано из бумаги! Расчетливый Левин
даже прослезился от такого упрощения постановочного мате¬
риала. Все декорации и обстановка были выполнены в черных,
как на греческих краснофигурных вазах, тонах и только кое-
где был применен цвет терракоты.
Артисты, балет, хор и статисты были в белом — белые
костюмы, белые парики, белое трико, обувь и только лица
были оживлены румянцем и подведенными глазами. В машон¬
кинском театре, не знаю почему, над двумя, сильно выдви¬
нутыми в публику литерными ложами были обширные пло¬
щадки. На этих площадках был расположен наш огромный
в восемьдесят человек хор, одетый также во все белое с зеле¬
ными лавровыми венками на головах. Хор был расположен
около двух дымящих жертвенников в красивых пластичных
позах. Хор был неподвижен — он только пел. Все движение
толпы на сцене создавал балет. Танцы были поставлены талант¬
ливым Моисеевым. Свет цветных прожекторов на белых фигу¬
рах и группах давал волшебные эффекты и сочетания.
Но я прекрасно понимал, что построить на этом весь спек¬
такль просто невозможно. Эта мраморно-пластичная красота
может поражать в первом акте, она красива во втором. Но
эта «мраморность» может надоесть в третьем, вообще наиболее
слабом действии этой оперетты Оффенбаха.
Поэтому третий акт «Прекрасной Елены», в котором, как
часто бывает в оперетте, начинается спад музыкальный и сюжет¬
ный, мною был смонтирован совершенно по-иному.
Последний акт, как было обозначено в афишах, происходил
«через три тысячи лет». Все персонажи Троянской войны
и сама Елена были перенесены в современность. Царь царей
Агамемнон превратился в миллиардера, владеющего акциями
250
крупнейшего нефтяного концерна; царь Менелай состоял его
«компаньоном по спекуляции нефтью; жрец Калхас был главным
редактором «Нефтяных известий»; цари Аяксы превратились
в юрких биржевых маклеров, а герой Ахилл трансформировался
в зловеще-внушительную фигуру председателя Ку-клукс-клана.
Сын царя Агамемнона, юркий принц Орест, был учеником
Ахилла. Два персонажа — Елена Прекрасная и сын царя
Приама, красавец Парис, тоже подверглись внешней транс¬
формации — Елена была прекрасной американской дамой,
а Парис, превращенный властью режиссера в авиатора, летал
на скоростном самолете-электроплане.
Таким образом, этот акт был перенесен в наши дни и про¬
исходил на площадке богатейшего ресторана сотого этажа
огромного небоскреба. Балетмейстер Моисеев превосходно
поставил самые модные танцы, особенный восторг вызывал
негритянский блюз. Все герои и героини были, конечно, в совре¬
менных модных костюмах.
Восхищение публики достигло высокой степени накала
(в театре очень было холодно), когда авиатор Парис на вели¬
колепно сделанном бутафорском самолете похищал Елену,
исчезал с ней вверху кулис, и самолет для большего впечат¬
ления пускал дым.
Успех «Прекрасной Елены» превзошел все ожидания. Театр
всегда был полон, и Левин торжествовал. Зато на оперных
спектаклях было пусто. Ростову нужна была оперетта — это
было совершенно ясно.
Уступив режиссерскую власть в театре опереточному про¬
стаку Таганскому, мастеру этих дел, я переехал в Баку
к П. И. Амираго, приславшему за мной и другими оперными
артистами уполномоченного с авансами (со мной уезжали
Моисеев и Данильский).
Тяжело тогда было в Ростове — никакие миллионы или
«лимоны», как их называли, не помогали. Превосходный
дирижер Березовский, человек многосемейный, уступил табач¬
ной фабрике свою нотную библиотеку, где был весь Бетховен,
Вагнер, Шуман и Брамс, за мешок муки и мешок картошки.
Нотная бумага немецкого производства — плотная, твердая
и глянцевитая — прельстила табачную фабрику тем, что она
была очень хороша для изготовления папиросных мундштуков.
Оставив Ростов и миновав Тихорецк, мы ехали по Кубани.
Всюду на станциях в больших ведрах дымился жирный свиной
251
борщ и продавались буханки белого хлеба, сало и кукурузные
лепешки.
Когда мы подъехали к Баку, нас прежде всего ошеломило
море огней в городе. Нефть — источник электрической мощи!
В Ростове мы с дирижером Березовским ставили иногда
в железнодорожном клубе на Темеринке оперные спектакли,
дававшие нам скудное подобие хлебного пайка. Ночью, воз¬
вращаясь в стужу, снег, холод и ветер из пригорода Теме¬
ринка на Таганрогский проспект, мы должны были пройти
пешком почти половину огромного города. И все кругом было
в абсолютном мраке, только иногда редкая электрическая
лампочка, скромно мерцая, светила у ворот какого-то воен¬
ного учреждения. Под лампочкой стоял озябший часовой
и согревал себя махоркой. Дома меня ожидала обычная кар¬
тина. Жена, насилуя свое зрение, из цветных лоскутков, при¬
несенных мною из театра, при коптилке шила куклы, бывшие
тогда дефицитным товаром. Продав на утро на базаре несколь¬
ко кукол за 60—75 тысяч рублей, она приносила домой
мороженого судака, овощей и какое-то подобие овсяного хлеба.
Выпив горячий стакан морковного кофе, я спал сном правед¬
ника, видевшего в грезах свою Мекку. Моя Мекка — это
Мариинский театр и культурные условия жизни.
...Встретивший нас в Баку представитель Амираго на
машине отвез всех в гостиницу «Новая Европа». Огромное
движение на улицах Баку, масса электрического света, трам¬
вай. Хорошо одетая толпа — как все это мало напоминало
Баку во время недавней резни между меньшевиками, даш¬
наками и мусаватистами.
Азербайджанский оперный театр, руководимый опытным
и тактичным Амираго, был очень сложной театральной орга¬
низацией. В одном театре на едином государственном бюджете
базировались — русская опера, национальная азербайджан¬
ская опера и русская оперетта. Оркестр, хор и балет были
общими для всех трех трупп.
Азербайджанская опера благодаря своей национальной спе¬
цифике занимала в этом союзе особое положение, представляя
совершенно исключительное явление в области театральной
и музыкальной культуры. Ни итальянская комедиа дель арте,
ни неаполитанский народный театр не были связаны с публи¬
кой во время спектакля так, как это было во время представ¬
лений азербайджанских опер.
252
Оперой эти музыкальные представления можно было назвать
очень условно, потому что гармоническая и сценическая сторо¬
на этих своеобразных «опер» была крайне примитивна. Но
в этом искусстве — в характере вокала, в своеобразном тре¬
моло на высоких нотах мужских голосов, в капризных ритмах
танца и, наконец, в гармониях инструментовки, для которой
даже европейская хроматическая гамма казалась невырази¬
тельной и пресной, — все было увлекательно и интересно.
Мужские голоса пели в очень высоком регистре, например для
тенора верхнее до являлось нотой только среднего регистра.
Сколько бы раз в оперном театре ни ставилась опера «Шах-
Измаил» Магомаева или «Лейла и Меджнун» Гаджибекова,
театр был переполнен до отказа.
Азербайджанский народ от мала до велика трогательно
любил свое искусство. В театр шли все — старики и молодые,
люди состоятельные и бедняки, женщины и дети. Нередко
в публике слышен был писк грудного младенца, это никого
не смущало. Весь базар, все предместья Баку бывали в театре.
После спектакля из-под всех мест зрительного зала выметали
горы остатков сладкой моркови, любимого угощения простого
народа.
Выдающаяся оперная певица Азербайджана Шевкет-Ханум
Мамедова, Амираго и я раздумывали над вопросом, как при¬
влечь симпатии народа к европейской музыке. Для этой цели
решено было поставить оперу Делиба «Лакме» на азербайд¬
жанском языке. Старожил Баку, хормейстер Я. Гросман,
педантично разучил с хором и артистами весь текст на незна¬
комом языке. Амираго отпустил мне солидные средства на
постановку. Я решил в последнем акте выпустить четырех
слонов. Увы, слоны не помогли. Собравшаяся в большом коли¬
честве азербайджанская публика не поняла, на каком азер¬
байджанском диалекте пели до смерти перепуганные русские
артисты. Пение прекрасной певицы Мамедовой в партии Лакме,
очевидно, не дошло. Для ушей азербайджанцев оно было
слишком диатоничным. А слонов так решительно никто и не
заметил!
Если на первом спектакле «Лакме» было много публики,
то пустой зал на втором спектакле ясно показал, что механи¬
ческая прививка европейского стиля оперы к оригинальному
и самобытному организму азербайджанской оперы не удалась.
Но Мамедова была человеком волевым и принципиальным;
253
она ясно понимала, что ее родное искусство не может и не
должно оставаться на примитивных позициях музыкального
любительства. Необходим прогрессивный сдвиг. Пользуясь
авторитетом в правительственных кругах, Мамедова получила
разрешение и большие средства на то, чтобы привлечь выдаю¬
щегося русского композитора для создания на материале нацио¬
нального фольклора национальной азербайджанской оперы.
Был приглашен замечательный композитор Р. М. Глиэр. Ему
дан был превосходный азербайджанский сюжет — лирическая
поэма о «Шах-Сенем». Композитор собрал обширный фольклор¬
ный музыкальный материал и создал оперу с большой увер¬
тюрой, поражающей красотой и роскошью своих музыкальных
форм. Но, увы, опера Глиэра все-таки не решила вопроса
создания национальной оперы в Азербайджане. По-прежнему
«Шах-Измаил», «Лейла и Меджнун» и «Аршин мал Алан» оста¬
лись любимыми спектаклями народа.
Сдвиг в истории азербайджанской оперы произвел старый
композитор Узеир Гаджибеков, автор известной музыкальной
комедии «Аршин мал Алан». Этот настойчивый человек, непре¬
рывно совершенствуя свою музыкальную эрудицию и обога¬
щаясь композиторской техникой, написал свою лебединую
песнь — оперу «Кер-Оглы». Это произведение — вполне нацио¬
нальный, глубоко правдивый и вполне серьезный музыкальный
труд покойного композитора.
Большой удачей в сценической судьбе оперы было то, что
создателем главной роли на сцене был замечательный певец
Бюль-бюль, владевший в совершенстве стилем азербайджанской
музыки и кроме того достаточно компетентный в музыке и вока¬
ле европейском.
Положение мое, главного режиссера, единого в трех раз¬
нообразных труппах, было затруднительно. Специфики азер¬
байджанского искусства я не знал и мне было трудно осущест¬
влять режиссерское руководство в азербайджанской труппе.
Состав русской оперы не отличался стройным ансамблем,,
и работа в этой области увлечь меня не могла, хотя я и отно¬
сился к делу самым добросовестным образом. А яркий состав
опереточной труппы, очень культурной, привлекал меня
и я невольно тяготел более всего к нему. Оперетте нужен был
свежий и нешаблонный режиссер и меня захватило чувство
новизны работы, создание спектаклей, где музыка и слово»
сливались в одно стройное целое.
254
Мною были удачно и любовно поставлены оперетты «Голу¬
бая мазурка», «Желтая кофта», где превосходен был оперный
баритон В. Г. Ухов; «Баядерка» с обаятельной опереточной
певицей E. М. Щиголевой, «Прекрасная Елена» — вариант
моей ростовской постановки, в которой певица Н. А. Старо¬
стина, красивая и женственная, сделала миф о спартанской
Елене рельефным и понятным.
Оригинальным был спектакль «Цыган-премьер» с участием
самого маститого опереточного премьера П. И. Амираго, трях¬
нувшего, как говорится, стариной. Он чудесно играл и пре¬
красно пел «воспоминаниями» своего красивого когда-то голоса.
Романсом у потухающего камина Амираго буквально захватил
весь театр. Он исполнял его так, что многие, очень многие
в театре плакали. Зрительный зал на этом спектакле всегда
был переполнен.
В это время в Государственном университете Азербайджана
работали очень многие профессора из Петрограда. Респуб¬
ликанские власти принимали все меры, чтобы сосредоточить
в Баку цвет профессуры. Я был близок с проректором универ¬
ситета Вячеславом Ивановичем Ивановым, моим знакомым
еще по довоенному Петербургу. Это был виднейший поэт-
символист, лицом напоминавший Тютчева. Но насколько
поэзия Тютчева была глубокой и ясной, настолько поэтические
произведения Иванова были неясными, хотя и весьма глубо¬
кими. Я очень любил его поэзию. В них всегда звучала слож¬
ная музыка, модернизированный «эллинизм», и строфы его сти¬
хов всегда отражали особую изощренность формы.
Познакомившись ближе с Ивановым в Баку, я поразился
его огромным знаниям. Он в совершенстве владел греческим
и латинским языками. Кроме того, Иванов знал многие запад¬
но-европейские языки, а в итальянском знал все диалекты
и гее наречия.
По субботам у Иванова собиралась обычно профессура
и люди искусства. Засиживались все у хозяина-эрудита очень
долго, время шло незаметно — так увлекательно хозяин умел
занять своих гостей.
Позже В. И. Иванов уехал из Баку — А. В. Луначарский
направил его в Италию, где он проводил разностороннюю науч¬
ную и педагогическую работу.
Большим событием в театральной жизни Баку был приезд
на гастроли известной певицы Фатьмы Мухтаровой, имевшей
255
очень романтическую биографию. До получения музыкального
образования в Саратовской консерватории она была уличной
певицей и пела под шарманку на базарах. Что выработалось
из этой замечательной многообещающей натуры? Первый
спектакль был «Кармен», второй — «Аида». Эти спектакли
поставили меня лицом к лицу с редчайшим феноменом, когда,
казалось, сама природа избрала человеческую индивидуаль¬
ность, чтобы через нее дарить человечеству свои откровения.
Так, в узкобуржуазной семье зажегся всеобъемлющий гений
Гёте, из семьи вятского крестьянина, нигде не учась, только
разве у жизни, возникло неповторимое явление — Шаляпин.
Не сравнивая Мухтарову с этими гигантами, я только хочу
подчеркнуть общий принцип — в суровых грунтах земли нахо¬
дятся редкие самородки золота. В таланте Мухтаровой — этой
вчера еще «девушки с шарманкой» — все блестело золотом —
голос, фигура, глаза, движения, неподдельный темперамент.
Но, увы, все это было только золотой россыпью. Культура
могла бы сцементировать золотые искорки в один прекрасный
золотой слиток. Но Мухтарова, имея всюду головокружитель¬
ный успех, поставила себя выше всех — и осталась только
золотым песком в быстро струящейся реке оперного искусства.
Глава
шестнадцатая
Харьков. Одесса
В 20-х годах, когда я попал на Украйну, оперные театры
были стабилизованы прочно и солидно: в Харькове, тогдашней
столице Украинской ССР, в древнем Киеве, куда впоследствии
была перенесена столица республики, в приморской Одессе,
имевшей русский оперный театр, который по плану должен
был тоже позже стать украинским. Индустриальный Днепро¬
петровск и областная Винница имели тоже солидные самостоя¬
тельные оперные труппы. Следует еще назвать два передвиж¬
ных оперных театра.
Итого семь оперных театров.
Оперные театры на Украине должны были быть вполне
украинскими. Все оперы шли на украинском языке. Надо было
переводить тексты. Но этот процесс оказался очень сложным,
длительным и весьма трудным. Не было музыкальных и поэти¬
чески гибких переводчиков, могущих хорошо овладеть техни¬
кой оперного перевода. В украинских переводах опер встреча¬
лись досадные и обидные неточности и противоречия с русским
текстом оперных либретто, и это надолго задержало поста¬
новку многих опер на украинском языке. Во всех оперных
театрах доминировал пока русский язык.
257
Харьковский оперный театр, бывший тогда столичным,
создал превосходную труппу — Ф. С. Мухтарова, М. И. Литви¬
ненко-Вольгемут, М. В. Баратова, Г. Н. Гужова, В. П. Лука¬
шевич, П. И. Цесевич, М. О. Рейзен, И. С. Паторжинский,
И. М. Тоцкий, В. Ф. Любченко, П. Г. Коробейченко, В. Н. Вой¬
тенко, М. П. Стефанович. Столь же хороши были хор и осо¬
бенно оркестр. Главным дирижером состоял очень талантливый
дирижер Л. П. Штейнберг, «рука» которого, мягкая и эла¬
стичная, могла в совершенстве создавать тончайшие нюансы
в пиано и одновременно производить, когда это было нужно,
целый ураган симфонической страсти в форте оркестра и в ан¬
самбле голосов артистов и хоровых масс.
Директор оперы М. П. Кудрин поставил себе задачей поче¬
му-то перетянуть меня с Кавказа на Украину. Это было трудно,
но его настойчивость была безгранична. Он мне убедительно
нарисовал огромные художественные возможности (и в этом
он был прав) развития оперного дела на Украине. Мне, очень
привязанному к Кавказу, было трудно оторваться от привычных
мест. Кудрин, учитывая мою потребность в отдыхе и лечении,
дал нам с женой, авансом до начала моей работы, бесплатные
путевки на Кавказские минеральные воды. Как позднее мне
пришлось убедиться, этот хитрый человек умел в своей работе
действовать «сахаром и кнутом». Но дело Кудрин понимал.
Крупным козырем в планах Кудрина была постановка
в Харькове на украинском языке оперы Н. В. Лысенко «Тарас
Бульба», никогда на родном языке еще не исполнявшейся.
И это меня подкупило.
Когда я с дирижером Штейнбергом приступил к работе
над постановкой «Тараса Бульбы», то очень скоро убедился,
что произведение это, несмотря на его удивительное мелоди¬
ческое богатство, страдает весьма существенными недостат¬
ками. Оркестровка «Тараса» была бедной и неколоритной,
причем в переписанных голосах оркестровки встречалась
масса досадных ошибок, а авторской партитуры у нас не было.
Штейнберг, который сам был незаурядным композитором,
вложил много труда в исправление голосов оркестровки. «Эта
чудесная национальная опера, — говорил он мне, — должна
быть переоркестрована, но композитор, который возьмет на
себя этот деликатный труд, должен мыслить оркестровыми
звучаниями совершенно так, как Лысенко, — этот украинский
Глинка, так же чувствовать голоса своего певучего народа».
258
Состав оперы был превосходный. Тараса Бульбу пел
П. И. Цесевич — сам украинец-запорожец, бывший тогда
в расцвете сил. Сыновьями Тараса были — молодой, очаро¬
вательный баритон В. Ф. Любченко и превосходный оперный
актер, темпераментный тенор В. Н. Войтенко. Мягкое и ласко¬
вое меццо-сопрано В. П. Лукашевич было словно создано
для трогательной роли жены Тараса. Редчайшее лирическое
сопрано М. В. Баратовой, певшей дочь воеводы, и сам воевода,
декоративный и умный М. П. Стефанович завершали галерею
исполнителей «Тараса Бульбы».
«Оркестровое» чутье прекрасного музыканта Штейнберга
в отношении «Тараса» оказалось пророческим. Замечательное
произведение Лысенко позднее подверглось большой перера¬
ботке и даже получило новую оркестровую редакцию. Эта новая,
окончательная редакция оперы была блестяще проведена укра¬
инскими композиторами Б. Н. Лятошинским и Л. Н. Ревуцким.
В сценическом отношении либретто «Тараса» страдало
серьезными недостатками.
Приступая к постановке, я тогда ясно ощущал все слабые
стороны либретто, осложнявшие режиссерскую работу, и мучи¬
тельно искал — что надо сделать для того, чтобы эта опера,
подобно «Сусанину» великого Глинки, могла заканчиваться
каким-то сильным патетическим национальным моментом. Увы,
либретто «Тараса» в этом отношении было совершенно, так
мне казалось, беспомощным и несценичным.
Чтобы закончить оперу «Тарас Бульба», не имевшую внуши¬
тельного музыкального и театрального финала, я замыслил
и осуществил такую идею. Тарас, уничтоженный и связанный
врагами, произносит свое знаменитое (целиком по Гоголю)
обращение к казакам, спасающимся на лодках от поляков.
Тарас — П. И. Цесевич удивительно вдохновенно, в манере
Качалова, декламировал великие слова Гоголя... В оркестре
в тихом журчании струнных инструментов с сурдинами, словно
днепровские волны, струились тихие звуки «Реве та стогне
Днипр широкий»... На этой теме мастерски гармонизированной
Штейнбергом, мощным колоколом звучал благородный голос
Тараса.
Спектакль «Тарас Бульба» имел большой успех. Мне, как
постановщику оперы, был поднесен огромный лавровый венок,
переданный под приветственный туш оркестра. Исполнителей
принимали очень тепло.
259
Мою вторую постановку в этом театре — «Сорочинскую
ярмарку» Мусоргского — оформлял выдающийся украинский
художник А. Г. Петрицкий. Этот яркий мастер в то время был
болен острым формалистическим психозом, и вот как он,
к моему ужасу, разрешил красочный украинский пейзаж
«Сорочинской ярмарки». Вся сцена была затянута совершенно
белым чистым полотном. Посреди сцены вертикально было
поставлено, высотою в три с половиной метра, узкое зеркало,
на котором красовалась лаконичная плакатная надпись —
«река Псёл»; левее был мост из реек, причем он воздействовал
на зрителя своей деревянной фактурой. Около моста стояли
четыре столба, покрытые старым камышом; наверху этого
своеобразного сооружения гордо стоял неподвижный бута¬
форский аист; в пространстве между столбами, которое, по
мысли художника, должно было изображать уютный шинок,
на откосе висел огромный водочный штоф и большой пук
соломы. Вот и все.
Я мог предположить, что такой фактурной бессмыслицей
был наказан я, режиссер, осмелившийся незадолго до этого
поставить «Тараса» в реалистическом плане. Но, увы, нет.
Конструктивное помешательство захватило буквально всех.
Следующую постановку театра — оперу Вольфа-Феррари
«Ожерелье мадонны» — осуществлял украинский режиссер
М. Н. Манзий и превосходный художник, изобретательный
М. В. Хвостов. «Тут-то, — думалось мне, — эти люди покажут
на сцене ослепительно солнечный Неаполь, где происходит
действие оперы, и я увижу ярко-синий неаполитанский залив,
слегка дымящийся Везувий, знакомые мне контуры кипарисов
и гордые шапки итальянских пиний». Так представлял я себе
декорации этой оперы, проникнутой неаполитанским мелосом,
богатой динамичными массовыми сценами, в которых народ
шумит, поет и жестикулирует на набережной Санта Лючиа.
Как же тогда режиссер и художник поняли свои задачи?
Вся сцена была затянута темным бархатом. На этом ней¬
тральном фоне в причудливых комбинациях стояли различной
высоты площадки, лестницы, арочки, скаты, тумбы, кубы,
призмы и шары. Все эти строения были окрашены в оранжевый
цвет и очень тщательно лакированы. Изощренность такой
конструкции была удобна и выгодна для режиссерских мизан¬
сцен, группировок, переходов. Это мне живо напомнило бер¬
линский цирк Шумана, где под потолком арены в таких же
260
точно замысловатых конструкциях шестьдесят акробатов —
женщин и мужчин — творили, вниз головой, свои изумитель¬
ные и рискованные воздушные мизансцены.
У меня было страстное желание задать режиссеру Манзию
вопрос: «А где же у вас Неаполь?» Но я не решился на это,
так как Манзий мог в свою очередь спросить меня: «А где же
у вас в «Сорочинской ярмарке» Украина?» Я был бы повержен
в прах. Впрочем, постановщики «Ожерелья мадонны» немного
подсластили все-таки горечь своего нелепого конструктивизма:
на первом плане сцены все время висела огромная, метра
в четыре, копия цветного пейзажа Неаполя. Художник, оче¬
видно, хотел показать зрителям, что действие происходит
в определенной местности, а не в черном пространстве какой-то
неведомой потухшей планеты. Художник Петрицкий, офор¬
митель моей постановки «Сорочинской ярмарки», оказался
более принципиальным — пейзаж живописной Украины не
украшал нашей сцены, только огромное зеркало с надписью
«река Псёл» выражало идею художника и режиссера. «Над
чем смеетесь? Над собой смеетесь! »
Бежать из этого царства конструктивизма и нелепых услов¬
ностей постановок — вот что хотелось непременно сделать.
«Но куда? — с мефистофельским сарказмом говорил скепти¬
ческий Кудрин, — это художественное движение захватило все
театры и от него никуда не уйдешь». «Уйду!» —думал я, радост¬
но ощущая в кармане телеграмму из Одессы с приглашением
на должность главного режиссера. Условия были превосходные.
Я часто думал о замечательном одесском театре, а в то время,
когда мной был потерян Мариинский театр вместе с ненастно¬
сырым Петроградом, чудесная Одесса и ее театр казались мне
наградой за перенесенные житейские и творческие испытания.
Среди них сценический формализм, словно липкая бумага для
мух, сковывал все естественные движения самого трезвого
художника театрального искусства. Художник К. Ф. Юон
прекрасно оценил роль «формализма» в живописи. Но эти
трезвые мысли замечательного мастера целиком относятся
и к оперному театру.
«Формализм, — писал К. Ф. Юон, — идет от идейной опу¬
стошенности художника; художник тогда пускается на ни
чем не оправданные трюки, на псевдоноваторство, на левацкое
уродство, когда ему нечего сказать». «Но вот, думалось мне,
талантливые художники Украины Петрицкий и Хвостов,
261
могли сказать свое слово в искусстве, но они творили в духе
формализма, считая, очевидно, что это — атрибут революции».
...Получив приглашение в Одесский оперный театр, я был
рад сверх меры. Еще в 1898 году я был очарован этим храмом
искусства на всю жизнь. А в данный момент, зная богатый
декоративно-художественный инвентарь одесской оперы, я пони¬
мал, что художественный вкус публики, воспитанный на
чудесных декорациях итальянских мастеров и на реалистиче¬
ских постановках отличного художника А. Н. Реджио (Бек¬
лемишева), бывшего четверть века диктатором всей поста¬
новочной части одесской оперы, не допустит вторжения на
сцену оперы дешевой разменной монеты формализма.
Перед моим переездом в Одессу в Харькове пришлось пере¬
жить довольно забавный случай. В Полтаве находилось очень
солидное Музыкальное училище, директором которого был
умный и деятельный музыкант А. Г. Ерофеев, у меня с ним
были хорошие, дружественные отношения. В Полтаве Ерофеев
изредка ставил оперные спектакли, которыми сам и дирижи¬
ровал. Я, будучи главным режиссером Харьковской оперы,
помогал Ерофееву тем, что посылал ему для участия в этих
спектаклях свободных артистов, которых Ерофеев очень хоро¬
шо оплачивал и комфортабельно устраивал в своей Полтаве.
Наши артисты очень любили гастролировать у гостеприимного
директора полтавской школы.
Однажды мною была отправлена группа артистов для участия
в «Аиде» — исполнители партий Радамеса, Амнерис и Амонасро.
Заглавную партию Аиды должна была исполнять жена Еро¬
феева E. Н. Старостенецкая. Я был спокоен. Но на утро внезап¬
но получаю отчаянную телеграмму из Полтавы: «Нет царя,
вышлите немедленно царя». В Харькове не было свободного
артиста, знавшего эту партию, и мне, скрепя сердце, пришлось
огорчить бедного Ерофеева тоже срочной депешей: «В Харь¬
кове царя нет, необходимо приготовить его в Полтаве». Я уже
забыл об этом, как неожиданно был вызван в одно важное
учреждение, где меня спросили о скрытом смысле моих теле¬
графных «монархических» переговоров с Полтавой. Когда
я все рассказал, мой собеседник, улыбаясь, сказал: «Не мне
учить вас, товарищ Боголюбов, но вам, оперному работнику,
лучше бы телеграфировать не «царь», а «фараон». Это то же самое,
но менее скользко». Покраснев от этого справедливого замеча¬
ния, я ушел. В Полтаве наша компрометирующая телеграфная
262
переписка имела еще больший резонанс. Но шум был быстро
ликвидирован тем, что один руководящий работник, в прошлом
учитель пения и музыкант, в одну ночь любезно выучил всю
партию и, наклеив себе длинную черную бороду, исполнил
ее на спектакле весьма успешно.
...В теплый мартовский день 1925 года я приехал в Одессу.
Свинцовые холодные облака, упорно гнавшиеся от Харькова
за нашим поездом, на подступах к Одессе встретили могучий
поток теплого южного ветра, дующего из неведомых знойных
стран. Одесса, спокойная внешне и кипучая внутри, жила
ощущениями прихода южной весны. Свинцовые облака повер¬
нули на запад.
Мое первое знакомство с одесской оперой началось с посе¬
щения директора театра A. Л. Греймера, недавно назначенного
на этот пост. Я никогда не был раньше знаком с этим человеком.
После получасовой беседы мне показалось, что я давным-
давно знаком и даже близко его знаю. Крупная фигура, в блузе
и высоких сапогах, полное веселое лицо с шапкой черных
волос и добрые искрящиеся глаза под нависшими бровями —
таков был внешний портрет этого директора, свято верившего
в чистоту и важность своей миссии на посту руководителя опер¬
ного театра. Пламенность темперамента и некоторая фантастич¬
ность поступков, немного напоминавшая мне знаменитого
героя Тартарена из романа Доде, нисколько не мешали Грей¬
меру наряду с отличной теоретической подготовкой превосходно
знать арифметику и бухгалтерию. Происходя из культурной
киевской семьи, Греймер обладал свежим умом, независимостью,
редкой бескорыстностью и каким-то, сказал бы я, «гейновским
юмором и лиричностью». Я останавливаюсь на личности Грей¬
мера так долго потому, что в потоке одесской театральной
жизни боевых 20-х годов Греймер был цементом, соединявшим
элементы, иногда несоединимые. И это в тех условиях было
очень важно.
Устроил меня Греймер в гостинице «Лондонской» — в кро¬
хотном номере с большим окном во внутренний дворик, где
рос огромный гигант-платан — предмет моего постоянного
восхищения.
Вступив в должность главного режиссера одесской оперы,
я сказал труппе взволнованную речь, в которой было, кажется,
больше лирики, нежели практического содержания. Но мне
все аплодировали, поверив в кредит, что за красивыми словами
263
последуют и красивые дела — ведь актерская масса экспан¬
сивна и доверчива.
Не было ни одного уголка, ни одной лестницы и ни одного
скульптурного украшения в нарядном театре, которые бы
я не исходил и не ощупал своими руками. Превосходные шек¬
спировские картины на плафоне зала, трогательный передний
занавес с пушкинским дубом у лукоморья и с котом на золотой
цепи — все это вместе с огромной парадной люстрой, позолотой
барьеров лож и с вишневым бархатом кресел партера составляло
для меня невыразимое очарование. Я давно любил этот театр,
и как хотелось бы мне верить, что «гений» театра оценит эту
мою давнюю привязанность.
Нисколько не задыхаясь, шагая через ступеньку, я почти
бегом поднимался в декорационный зал, откуда была видна
голубая даль моря, берега лиманов, пароходные пристани
и крыши приморских построек.
Однажды, находясь там, я не успел распахнуть полукругло¬
го окна, чтобы полной грудью вдохнуть свежий воздух моря,
как почувствовал себя в мощных объятиях совершенно незна¬
комого мне человека. Большая шляпа, широкие бархатные
брюки, вычурная визитка и огромные воротники рубахи —
все говорило, что передо мной художник. Седеющие усы и кокет¬
ливая эспаньолка на коричневом лице сбивали меня с толка —
я старался припомнить, кто это, и никак не мог.
Саша Дмитриев! Декорационная мастерская саратовского
театра, где почти сорок лет тому назад мы, тогда еще юноши,
мазали декорации. Талант Дмитриева уже ярко определился.
Мне пришлось уйти — меня тянула сцена. А Дмитриев стал
крупным художником в опере. Одесский антрепренёр Гомберг
высоко ценил талант Дмитриева, давая ему разные команди¬
ровки — во Францию, Египет, Палестину, Италию. Дмитриев
оправдал заботы о своем развитии — все его постановки в
одесской опере были ярки и колоритны. Мы, друзья давней
юности, оживили воспоминания в ресторане «Лондонский» аро¬
матным и терпким бордо. И будущее наше предстало в розовом
свете.
Назавтра, 15 марта 1925 года, в театре была назначена опера
Мейербера «Пророк». В спектакле меня очень интересовал
тенор А. Г. Мосин, певший заглавную партию. Будучи очень
музыкальным и выразительным актером, он имел суховатый
звук голоса с носовым оттенком. Я не мог понять, почему
264
одесситы, тонкие знатоки оперного пения, с таким восторгом
принимают этого певца. Правда, я его не слышал в течение
довольно длительного времени.
Во втором акте, когда Мосин спел свое знаменитое ариозо,
стало понятно, что совершилось великое вокальное чудо,
доступное каждому певцу, если он критически относится
к своему пению и много работает. В звуке Мосина совершенно
исчезли неприятные носовые обертоны и вместо них появился
хорошо маскированный звук, направляемый ровно распределен¬
ным дыханием. Умелое дыхание и верная механика диафрагмы
позволяли Мосину достигать чисто инструментального пиано,
а форте певца не было криком — верное чутье подсказывало
ему предел звучности. Тембр голоса артиста не мог, конечно,
измениться, но сумма вокального мастерства в достаточной
мере компенсировала органическую тембровую бедность голо¬
са. На протяжении всего спектакля Мосин имел шумный
успех.
Декоративная часть «Пророка» была в верных руках опыт¬
ного мастера А. И. Реджио, художника-реалиста. Коронование
в соборе, катанье на коньках, восход солнца, взрыв и пожар
дворца Иоанна Лейденского все было исполнено превосход¬
ной живописности и тонкого вкуса. Воображаю, какими насмеш¬
ками харьковские художники-формалисты наделили бы эту
работу маститого волшебника сцены.
Пожар в последнем акте был сделан отлично; главными
источником «огня» были электрический свет, вентиляторы
и пар. По ассоциации я вспомнил почти такой же «пожар» в
опере «Пророк» в Казанском театре, где я был тогда начинаю¬
щим суфлером; на лотках горела масса бенгальского красного
огня; из гигантских хлопушек выдували столбы воспламеняю¬
щегося ликоподиума (детская присыпка); в воздухе пахло серой
и шерлаком, — такая атмосфера должна, очевидно, существо¬
вать в аду. Все пожарные стояли в кулисах, имея наготове
пожарные насосы. Но когда с колосников, в момент гибели
Пророка, хлынул поток опилок, смешанных с мелкими кусоч¬
ками красной фольги, публика первых рядов партера начала
в ужасе вставать. Я позорно дезертировал из суфлерской буд¬
ки, тщетно стараясь освободить глаза и горло от той порции
опилок, которая полагалась суфлеру. Галерка стонала в диком
восторге от натуральности «пожара», а часть публики и не¬
счастный оркестр стряхивали и долго не могли стряхнуть
265
с себя опилки, облепившие всех, как известковая пыль обле¬
пила людей в трагический момент разрушения Помпеи.
...Ложась спать после спектакля, я был полон тихих и при¬
ятных ощущений. Мне суждено быть режиссером превосходного
оперного театра, где я так ласково был принят труппой и где
я сразу нашел с директором, очень мне понравившимся, общий
язык. Здесь я могу плодотворно и интересно работать. Под
звуки джаз-оркестра, доносившиеся из ресторана, я стал засы¬
пать, и заснул сном моряка, вошедшего в тихую и хорошо
оборудованную гавань.
В три или четыре часа утра, когда небо еле-еле готовилось
окрашиваться неясными признаками рассвета, в мою дверь
раздался громкий и тревожный стук. Я сразу открыл глаза
и увидел мужа Мухтаровой, А. И. Малинина, который преры¬
вающимся голосом сказал мне: «Вставайте и скорее идем,
оперный театр горит!» Это было пробуждение! Я быстро оделся,
хотя от волнения у меня руки были словно парализованы...
Когда мы прибежали в Театральный переулок, все небо над
театром было раскаленно-красным. Из здания театра со стороны
арьерсцены, к небу стремился ввысь огненный поток пламени
и дыма, в котором летали огненные «галки» — куски горящего
дерева. Стекла высоких этажей соседних с театром домов лопа¬
лись от жары и звонко падали на панели.
Весь переулок за театром был полон народа, многие жен¬
щины плакали, видя гибель дорогого сердцам одесситов здания.
Балетмейстер Баланотти вместе с артистами балета выносил
с черного хода театра какие-то вещи и ноты и складывали их
в кучу на тротуар. «Неужели, подумал я, костюмы и нотная
библиотека погибли?» Через садик мы побежали к главному
входу в театр. Там огня не было, но из разбитых зеркальных
стекол густым потоком шел черный и едкий дым. Из вестибюля
вышла группа беспомощных пожарных и с ними Греймер.
Узнать директора было трудно — лицо и волосы были в саже,
гимнастерка разорвана и опалена огнем, сапоги — в известке.
Вытирая свое почерневшее, потное лицо грязной кепкой, он
увидел меня и закричал мне и Малинину: «Пойдите и посмотри¬
те, что случилось. Только закройте глаза и нос платком от
дыма, огонь уже кончается».
Гигантский костер из лесных материалов и декорационных
строек — все «вытянуло» в провалившуюся крышу сцены.
Теперь это все, для очистки совести, орошается очень, увы,
266
поздно подоспевшей водой. Гигантские водоемы-баки на сцене
в момент пожара были совершенно пусты. «Это мне, в виде
сюрприза, оставила только что снятая дирекция театра», —
с горечью сказал Греймер.
Когда сквозь угарный дым нам удалось проникнуть в зал
театра, то первое, что мы увидели, это был так называемый
железный занавес, который, словно гигантский парус, надулся
в сторону зрительного зала. В партер огню проникнуть не уда¬
лось — его тянуло вверх через провал потолка сцены. Но едкий
дым, насыщенный запахом клея, красок и разных химикатов —
все это устремилось в зал через оттопыренные бока железного
занавеса. Позолота барьеров, изящная лепка, бархатный плюш
мебели партера и лож и живописные картины потолка театра —
все это безвозвратно погибло. То же самое произошло и с изящ¬
ной отделкой чудесных лестниц и коридоров театра — они бы¬
ли черны и липки, словно их облили и испачкали отхо¬
дами перегоревшей нефти. Исторический передний занавес
театра и все декорации сгорели. Жуткую картину представлял
котлован бывшей сцены — внизу земля, а вверху небо. Огром¬
ным счастьем было то обстоятельство, что железные двери,
которые вели со сцены в коридоры, были закрыты. Благодаря
этому все хранилища костюмов и нотная библиотека оказались
спасены.
Обком и Облисполком горячо принялись за дело восстанов¬
ления театра. Работа закипела. Лучшие архитекторы Одессы
были привлечены к работе. Консультантами были приглашены
академики архитектуры А. А. Фомин и А. В. Щусев. Консуль¬
тантом по художественным работам был привлечен художник
А. Я. Головин. Вполне понятно, что эти блестящие мастера
могли осуществлять лишь общее руководство восстановлением,
но основная, повседневная работа должна быть проведена
своими квалифицированными инженерами.
И инженеры-практики, прекрасные знатоки своего дела,
блестяще провели свою «пластическую операцию». Искале¬
ченный театр чистым и свежим возник для новой жизни.
В конструкции сцены теперь не было ни одного куска дерева —
только железо и сталь. Два массивных железных занавеса,
словно стены доменной печи, предотвращали всякую опасность
проникновения огня со сцены в зрительный зал. Из склада
декораций огонь также не мог проникнуть на сцену, его должна
была задержать стена мощного занавеса.
267
Очень важен вопрос освещения театра. Специальную аппа¬
ратуру для сценических эффектов, пожарную сигнализацию,
то есть все то, что тогда еще не производилось в нашей стране,
а также установку мощного органа мы принуждены были при¬
обрести у солидных немецких фирм. Эту сложную операцию
очень быстро и организованно провели директор театра Греймер
и лучший по тому времени инженер-электрик Ястржембский.
В период восстановления театра моя режиссерская работа
не была нужна и я решил возвратиться в Харьков. Но одесские
власти меня не отпустили — на меня были возложены консуль¬
тации по монтировке сцены, а также общие консультации реши¬
тельно по всем вопросам восстановления театра.
В мое распоряжение был отдан пустовавший тогда бывший
театр Стамерова, где мы готовили деревянные установки и бута¬
форию. Кроме этого, я получил также для писания декораций
обширные залы бывшего купеческого собрания, которое поме¬
щалось около оперы. Когда в первую очередь был восстановлен
декорационный зал театра, мы имели достаточную площадь
для писания декораций. Меня очень занимал будущий тип
планшета сцены. В Германии я видел различные типы план¬
шетов, но все они были не мертвыми, а подвижными. С талант¬
ливыми художниками Ершовым и Дмитриевым мы разработали
интересный план электрифицированной «шахматки» сцены,
когда вся сцена, разбитая на большие квадраты, может электри¬
ческой силой в любом плане принимать любые формы плоско¬
стей. Увы, этот прогрессивный проект наш по смете оказался
очень дорогим, и мне пришлось удовлетвориться гидравличе¬
ским подъемом целых планов сцены. Торжествовала чужая
идея. Это было довольно громоздко, но сцена-то все-таки была
«живой».
В театре кипела живая работа: группа скульпторов, леп¬
щиков, маляров, позолотчиков, обойщиков, каждая в своем
секторе, трудилась над возрождением театра. Сцена оформля¬
лась железными фермами, конструкциями, металлическими
колосниками, световыми башнями. Под сценой устанавлива¬
лись загадочные плунжеры гидравлических подъемов. Завод
имени Марти в Николаеве осуществил эту грандиозную конст¬
рукцию из железа и стали, и целый полк монтировщиков
и слесарей проводил сборку деталей, чтобы получилось одно
целое и гармоничное. В верхних комнатах третьего и четвертого
этажей театра помещался штаб стройки.
268
Когда мы с директором театра Греймером наблюдали,
слушая эту симфонию науки, техники и упорного труда рабо¬
чих, то отлично понимали, что результаты должны быть непре¬
менно достойными этих напряженных усилий.
Начали проверять, что сделано по художественной линии?
А. Я. Головиным созданы его два замечательных передних
занавеса. Художник П. М. Зандин, помощник Головина,
нарисовал превосходные плафоны на шекспировские темы
для потолка зрительного зала. Выдающиеся художники Лан¬
сере, Шарлемань, Нивинский, Гауш, Евсеев, Дмитриев дали
много интересного в своих эскизах для будущих постановок
опер.
В Одессу приехал А. В. Луначарский посмотреть, как
идут работы по восстановлению театра. Правительством СССР
для этих работ ассигновано было свыше миллиона рублей,
и он должен был информировать Совнарком, в каком положе¬
нии находятся дела. Ход восстановления театра удовлетворил
Луначарского.
Театр сгорел в ночь на 15 марта 1925 года. Наступал октябрь
1926 года. И театр был почти совершенно готов, если не считать
того, что не была завершена монтировка трюмов сцены и не был
готов планшет — доски для этой цели искусственно сушились.
Была идея открыть театр в октябрьские дни, и она была осу¬
ществлена. Пол сцены был накрыт временным настилом. Тор¬
жественное Октябрьское заседание состоялось в возрожденном
театре. Театр блестел новизной.
На другой день все «праздничное» было убрано, и буднич¬
ная работа над восстановлением театра продолжалась дни
и ночи.
Театр по-настоящему был готов для приема зрителей к 30 мар¬
та 1927 года. Для открытия были даны два симфонических
концерта под управлением главного дирижера театра А. Э. Мар¬
гуляна и маститого одесского дирижера профессора И. В. Прибик. Одесситы ликовали — театр жив! В грустные часы
пожара они болезненно переживали это событие. Предприим¬
чивый директор театра, учитывая общее настроение, открыл
в Госбанке фонд добровольных взносов на восстановление
театра. Трогательно потянулись в этот фонд рубли, трехруб¬
левки, пятирублевки, десятки, а иногда и более крупные
бумажки. Жители Одессы страстно желали видеть свой храм
искусства восстановленным.
269
В восстановленном театре был целый ряд технических
нововведений: круглый горизонт, превосходное освещение,
гидравлическая система сцены, идеальная пожарная сигнали¬
зация и замечательный новый орган.
С весны 1927 года в театре предполагалось давать оперные
спектакли на русском языке. А с осени театр должен был
войти в систему украинских оперных театров.
Для весеннего сезона русской оперы нам с Греймером
удалось собрать превосходный состав труппы: сопрано и меццо-
сопрано — Мухтарова, Боголепова, Закревская, Яблоновская,
Орлинская, Лукашевич; тенора — Виттинг, Евлахов; бари¬
тоны — Брагин, Зубарев; басы — Ильин, Шерашидзе, дири¬
жеры — Маргулян и Прибик. Превосходным одесским хором
руководил хормейстер Шток; балетмейстером был Вакарец.
Сезон предстоял короткий, а потому состав труппы и репертуар
были очень невелики. Но все-таки этот небольшой сезон русской
оперы театралы-одесситы нашли возможным сравнивать с фей¬
ерверком.
В процессе работ по возобновлению театра, помимо своих
прямых функций, я был болельщиком и во всех других отраслях
производимых строительных процессов. Об этом никто меня
не просил и никто мне этого не поручал. Но все было мне очень
близко: распоряжения главного инженера, заботы произво¬
дителя работ, скульптурные, малярные, кровельные, столярные,
обойные и электротехнические разделы — я «болел» всем этим.
Так на огромном стадионе, когда идет борьба молодости, силы
и ловкости, какой-нибудь скромный одинокий человек напря¬
женно следит за полетом мяча. Так было и со мной. Нов этом
была и своя хорошая сторона — я был в курсе всех дел и очень
помогал руководству своей эрудицией.
Замечательным отдыхом для нас были «четверги» имени
выдающегося художника Костанди. Весь художественный мир
Одессы чтил память покойного поэта станковой живописи,
и эти «четверги» собирали в скромной, но уютной квартирке
главного библиотекаря Городской библиотеки А. М. Дерибаса
весь художественный мир Одессы.
Дерибас привлек и меня на одно из этих собраний, и я потом
сделался их ревностным посетителем. Атмосфера искусства,
остроумия и дискуссий по всем вопросам русской и иностранной
живописи — все это было очень интересно. Среди участников
были художники, литераторы, профессора и ученые. Весьма
270
своеобразным человеком показался мне профессор хирургии
Лысенков, занимавший в этих собраниях роль своего рода
«тамады».
Многих художников из «Общества Костанди» мне удалось
привлечь к работе в опере, но самым подходящим мастером
театральной живописи оказался П. Ф. Шварц. Его декорации
к «Аиде» и к «Лоэнгрину» были поразительны по мысли, по
стилю и колориту.
Наш короткий сезон русской оперы заканчивался. С Украи¬
ны приехало новое руководство театра, новые художники,
на знамени которых было ясно написано «конструктивизм».
Мне, «отсталому» режиссеру, пришлось искать себе другой
театр. Но это было делом легким — каждый год я имел два-
три приглашения.
В это время меня усиленно звала Свердловская опера.
И в это солидное дело мною был подписан договор на два года.
Перед отъездом, в конце сезона, мне был дан бенефис.
Шла «Аида». Спектакль был очень торжественным, я был возна¬
гражден за все — и как специалист и как болельщик восста¬
новления театра. Дирекция поднесла мне замечательный сереб¬
ряный бювар и знак, которым награждались участники восста¬
новления театра; артист Ильин прочитал трогательный адрес
от труппы, в котором перечислялись мои существующие и несу¬
ществующие заслуги. Все это было очень трогательно, но
грустное чувство не оставляло меня в течение всего вечера...
И вот настал час отъезда — я покидал милую мне Одессу
ради холодного Свердловска.
Проводить меня на вокзал пришла вся труппа — поцелуи,
прощальные цветы, последнее прости. И Одесса с ее морем
и родным театром стала исчезать из глаз. Но она никогда
не исчезала из моего сердца.
Когда я приехал в свердловскую оперу и ознакомился
с ее художественным и финансовым состоянием, то меня пора¬
зила незыблемая твердость материальной базы дела. С точки
зрения художественной оперный театр был тоже на высоком
уровне и целиком находился во власти главного режиссера
и главного дирижера.
Директор театра Б. С. Арканов создал твердую и реальную
материальную основу для существования в Свердловске пре¬
восходного оперного театра. Государственных дотаций для
оперных театров тогда не существовало, и Арканов провел
в жизнь свою замечательную систему организации рабочего
зрителя, систему абонементов. Во многих городах потом стали
применять эту форму, но не в каждом театре, увы, был такой
директор, как Арканов. Он собрал в Свердловске крепкую,
весьма ценную в художественном отношении труппу, выпустил
целый ряд новых, не шедших в Свердловске опер и при всем
этом дал возможность опере работать с бюджетом 60 тысяч руб¬
лей в месяц при сравнительно недорогих ценах в абонементах
(90 копеек за билет) совершенно бездефицитно. До начала
сезона все абонементы у Арканова, агитировавшего обычно
272
Глава
семнадцатая
Свердловск.
Тифлис. Баку.
Эривань
цифрами, составом артистов и репертуаром, были проданы.
И никогда Арканов не разочаровывал держателей рабочих
абонементов. Суммы предварительной продажи, внесенные или
перечисленные в банк на текущий счет оперы, директор осто¬
рожно расходовал в течение всего сезона.
Свои художественные позиции Арканов строил всегда
на творческих спорах между дирижером и режиссером: кто
из них, по мнению Арканова, был более прав в каком-либо
вопросе, к тому он и присоединял свой решающий голос.
Превосходный дирижер и идеально честный человек И. О. Па¬
лицын никогда не возбуждал никаких споров, и я постоянно
был согласен с этим образованным и культурным дирижером.
Другой дирижер А. В. Павлов-Арбенин был человек неуравно¬
вешенный, требовательный и непримиримо горячий. Стоя
за дирижерским пультом, Павлов-Арбенин гипнотически под¬
чинял себе оркестр, хор и солистов и создавал изумительные
по неожиданности и по силе воздействия нюансы. Вступление
к «Кармен», например, Павлов-Арбенин всегда повторял
не менее трех раз. Павлов-Арбенин страстно мечтал прослыть
реформатором оперы, и в Одессе, например, встретив какого-то
либреттиста-«кустаря» и такого же режиссера, превратил
оперу Глинки «Жизнь за царя» в оперу «Серп и молот», а опера
Пуччини «Тоска» стала у них оперой «Борьба за коммуну».
Из этих смелых трансформаций ничего, кроме конфуза, не полу¬
чилось. Трезвый Арконов и экстатический, хотя и очень талант¬
ливый Павлов-Арбенин не могли долго ужиться. В театр был
приглашен известный дирижер Л. П. Штейнберг. Старавшийся
быть очень прогрессивным, Павлов-Арбенин перешел в другой
оперный театр, где, вероятно, продолжал свои опыты.
Свердловская оперная труппа была сформирована так, что
в каждом амплуа находились очень достойные исполните¬
ли: сопрано — Сливинская, Сыроватская, Лерма, Соколова,
Закревская. Закревская поражала переменой, которая произо¬
шла в ее голосе буквально на моих глазах. Я знал ее еще
с Киева. Имея теплое и приятное лирическое сопрано, отличную
внешность и совершенную музыкальность, Закревская так
тремолировала, что получался сплошной «барашек». Слушать
ее было очень тяжело. Через три года, услышав Закревскую,
я ее просто не узнал. Она стала, в полном смысле слова, акаде¬
мической певицей: голос без малейших намеков на тремолиро¬
вание, замечательное дыхание и абсолютная чистота интонации.
273
Вот что творит упорная работа над собой. Закревская одина¬
ково хорошо пела Людмилу и Джульетту, Аиду и Валентину
в «Гугенотах» — так обширен был диапазон певицы. И только
некоторый сценический холодок мешал Закревской — она
была больше певицей, нежели актрисой. Среди меццо-сопрано
были Фатьма Мухтарова, находившаяся тогда в расцвете
своего оригинального дарования, Данилова с ее звучным голо¬
сом, Буколова, обладавшая редким по красоте голосом. Фигурка
мальчика, низкий голос, ласкавший слух богатством своих
обертонов. Буколова была незаменимым Ваней и Ратмиром.
Вспоминая Буколову спустя четверть века, я слышу ее голос
так же ясно, как и раньше. Теноровая группа была представле¬
на довольно ярким драматическим тенором Аграновским,
певцом с короткими верхами, но с прекрасным звуком во всех
регистрах. Аграновский превосходно чувствовал и передавал
вокальное и драматическое начало в сложном искусстве оперы.
Дублировал Аграновскому тенор Оржельский. В этом сезоне
созревало и вокальное дарование лирического тенора Лемешева.
Вчерашний пастух, Лемешев пел от избытка души. Его пение
случайно услышал профессор консерватории. Судьба Лемешева
была решена. Московская консерватория, затем свердловская
опера, Оперная студия Станиславского и, наконец, Большой
театр. Так судьба отмечает своих избранников.
Был в труппе театра и интересный тенор Сабинин, очень
своеобразный, талантливый человек, чья судьба сложилась
потом трагически — он покончил жизнь самоубийством.
В свердловской опере были три отличных баритона — Зуба¬
рев, Книжников и Ухов. Из них Ухов представлял совершенно
оригинальное явление в вокальном мире. Человек уже очень
немолодой, он сохранил свежесть своего голоса, дыхание
и поразительную ясность дикции.
Григорий и Алексей Пироговы, Луканин, Суходольский
занимали басовое амплуа. Трудно представить что-либо более
величественное, более монументальное в сценическом и вокаль¬
ном отношении, чем Григорий Пирогов. Он слишком быстро
промелькнул и исчез, чтобы мы могли его оценить. Какая
яркая комета пронеслась над русской оперной сценой!
В Свердловске мне пришлось ставить много опер, и все
эти постановки были в живописно-реалистическом духе. Конст¬
руктивизм и формализм были чужды мне и не захватывали
меня. Постановка «Пиковой дамы», приуроченная к моему
274
сорокалетнему юбилею, была архитектурной и красочной —
эта форма соответствовала моим режиссерским убеждениям.
Юбилей мой был очень торжествен. А. В. Луначарский, вспом¬
нив мою работу в одесском театре, прислал телеграмму. Поста¬
новлением Наркомпроса мне было присвоено звание заслужен¬
ного артиста РСФСР.
Спустя несколько дней после юбилея в местной газете
появился фельетон о моей работе в оперном театре. Из фельето¬
на было совершенно ясно, что режиссер Боголюбов, как об этом
свидетельствуют его постановки, очень устарелый творческий
работник; ни одна из постановок этого отставшего мастера
сцены (слово «мастер» было взято в ядовитые кавычки) не созвуч¬
на революционной современности. «Влияние новатора сцены
Мейерхольда и его последователей или великие постановочные
идеи английского знаменитого режиссера Гордона Крэга
совершенно не волнуют консервативного спокойствия нашего
оперного режиссера». И мне захотелось доказать, что этот
фельетон — ложь, что и мне свойственны творческие поиски,
что я не только консерватор.
Следующей моей новой постановкой была опера «Фауст».
Все оформление этой достаточно надоевшей оперы было заду¬
мано и осуществлено, как грандиозная сценическая гравюра.
В декорациях и мебели было только три краски — черная,
белая и серая; костюмы артистов, хора и всей массы тоже были
в черных, белых и серых тонах. Только в женских костюмах
иногда встречалось цветовое пятно — сиреневый берет или
какая-нибудь другая деталь костюма. Такой графический прин¬
цип мне самому очень понравился, словно гравюры гениаль¬
ного Дюрера ожили на сцене. Но на этом моя идейная борьба
с автором фельетона не кончилась — я пошел дальше. Фило¬
соф-поэт Вяч. Иванов говорил мне как-то о чередовании куль¬
тур в человеческой жизни. Эта идеалистическая теория меня
тогда увлекала. Культура «дионисовская» — Греция и отчасти
Рим; культура «магическая» — Египет, иудейство, христианство
и культура арабов. В настоящее время, по Иванову, человече¬
ство переживает «фаустовскую» культуру, родоначальником
которой является великий ум Гёте. В этой культуре заключена
общая перестройка мира — огромное развитие точных наук,
господство техники, механики, пара и электричества. И мне
в финале оперы «Фауст» захотелось показать торжество «фау¬
стовской» культуры. Пользуясь лозунгом Мейерхольда, что
275
режиссеру все возможно и позволено, я сделал финальную
картину оперы в виде целого мира движущихся машин: колеса,
маховики, действующие дизели и так далее. Хор, которому
обычные слова «марша», перенесенного из третьего акта в финал
оперы, были заменены производственным текстом, кирками
и лопатами, ритмически копал уголь и выбрасывал его к под¬
ножию машин. Фауст — Лемешев стоял наверху какой-то
причудливой высокой конструкции, откуда и взирал с любо¬
пытством на «фаустовскую» культуру в действии. Под финаль¬
ный аккорд марша из глубины сцены, блестя своими огневыми
фарами, двигался к рампе паровоз, пуская из трубы дым
и искры. Публика была в восторге. Режиссер (то есть я) вместо
вызова к психиатру для освидетельствования его рассудка
был неоднократно вызван к рампе. Автор фельетона о рутин¬
ности режиссера Боголюбова в своей очередной статье о «Фау¬
сте» нашел, что не все еще потеряно, и постановщик, кажется,
начинает чувствовать ритм и дух современности.
Превосходная налаженность всех постановочных цехов
свердловской оперы и точность в руководстве всеми трудовыми
процессами со стороны директора Арканова были изумительны,
и мне, постановщику, приходилось не подгонять, а только
догонять всех.
Потом мне пришлось поставить «Евгения Онегина»; совет¬
скую оперу Пащенко «Орлиный бунт», где прекрасным Пуга¬
чёвым был баритон Книжников и общее восхищение вызывал
тенор Аграновский в роли атамана Хлопуши; «Кармен» с Мух¬
таровой и Сабининым. Этот спектакль был самым популярным
в сезоне. Декорации художника Иоаннова и моя режиссерская
работа были отмечены держателями абонементов — нам под¬
несли трогательный адрес от рабочих организаций. Огромным
музыкальным событием явилась поставленная мною опера
Вагнера «Валькирия», в которой замечательным Вотаном
был Григорий Пирогов, превосходивший в этой партии всех
европейских исполнителей своим чудесным голосом и трагиче¬
ской интерпретацией. Брунгильда — Сливинская, Зиглинда —
Сыроватская и Зигмунд — Аграновский, с которыми было
очень интересно работать, доставили мне своим вокальным
и сценическим мастерством большое наслаждение. Дирижер
Л. П. Штейнберг при постановке «Валькирии», загоревшись
сам, зажигал и воспламенял всех исполнителей своим благо¬
родным горением вдохновенного художника.
276
Как я уже писал, в труппе театра был заметен совсем еще
юный тенор Лемешев. Это был скромный и тихий молодой
артист. Голос Лемешева напоминал мне старую скрипку Амати.
Я не ошибся, дав Лемешеву петь партию индийского гостя
в «Садко», затем Ленского и Фауста. Лемешев в своем творчестве
шел по пути незабвенного Собинова — что-то очень схожее
было в их артистическом облике.
Трудно было не удивляться личности директора театра
Б. С. Арканова. В прошлом фармацевт или зубной врач, он
овладел техникой оперного дела так, как выдающийся органист
владеет особенностями своего громоздкого инструмента.
Не имея никаких субсидий, Арканов в быстро растущем,
но неуютном и холодном Свердловске создал превосходное
оперное дело. Имея в составе труппы превосходных артистов,
Арканов умел всегда обеспечить им необходимые бытовые
условия. В свердловской опере всегда были лучшие дирижеры
и режиссеры, но директор последнее решающее «да» или «нет»
всегда оставлял за собой. Вот пример. Талантливый, но очень
капризный и нервически-требовательный Павлов-Арбенин вхо¬
дит в кабинет Арканова, когда мы обсуждаем постановочные
вопросы. В руках у дирижера бумажка с заметками. Как
всегда, записаны пустяковые вопросы. Усевшись, Павлов-
Арбенин сладким, вкрадчивым голосом говорит Арканову:
«Я пришел, товарищ директор, к вам, чтобы заявить ряд неот¬
ложных претензий». Спокойно и невозмутимо Арканов выни¬
мает карманные часы и, положив их на письменный стол, реши¬
тельно говорит: «Слушаю, маэстро, в моем распоряжении пять
минут. Читайте ваш рецепт. Дирижер отлично понимает иро¬
нию директора, обижается и, спрятав бумажку в карман,
произносит свое любимое слово «пардон», покручивает усики
и исчезает.
Постановочный конструктивизм и формализм оказали
на меня все-таки некоторое влияние. В ряде своих работ
мне, как и каждому режиссеру-постановщику, очень хоте¬
лось непременно сказать свое «новое слово» на сцене. Случай
с постановкой «Фауста» огневыми буквами горел в моем вообра¬
жении. Спорный, но все-таки довольно удачный внешний успех
режиссерских исканий в постановке оперы Гуно окрылил меня.
Очередной моей новой постановкой была «Аида». Я отлично
знал постановку «Аиды» моего помощника Богдасарова
в Херсоне, где этот предприимчивый ученик оставил меня,
277
учителя, далеко в хвосте своих режиссёрских новаций. «Аиду»
Богдасаров поставил как восстание рабов в Египте. Радамес
был главой восстания; рабы, строившие пирамиду, казнили
фараона и так далее.
Богдасаровская режиссура вдохновила меня; я хотел,
оставаясь в пределах либретто, насытить всю постановку
«Аиды» магической культурой Египта.
Случай окрылил меня. В один из антрактов моего «Фауста»
на сцену пришел познакомиться со мною политэмигрант из
Франции. Он был врачом по специальности и очень интерес¬
ным, эрудированным собеседником. Я часто беседовал с ним
о жизни парижских театров. Однажды я изложил ему прин¬
ципы, по которым был создан спектакль «Фауст», и добавил,
что теперь готовлюсь погрузиться в область магической куль¬
туры — мною должна быть поставлена «Аида». Египет — его
душа, его обряды, тайны египетских жрецов, весь комплекс
магической культуры страны — должен стать для меня понят¬
ным и ясным. Выслушав мои взволнованные слова, врач спо¬
койно сказал мне: «Я вооружу и окрылю вас. Завтра я принесу
вам очень интересные источники по этой, как вы именуете,
магической культуре страны фараонов».
На другой день передо мной лежал роскошный номер
французского журнала.
В этом журнале была помещена статья, снабженная превос¬
ходными красочными иллюстрациями. В ней говорилось, что
в 1923 году в Париже один из известных химиков со своими
учениками на сцене небольшого театра воспроизвел чудеса
египетских жрецов. Появление Изиды, бой Озириса с Сэтом,
полет теней всех знаменитых царей и цариц Египта, цветение
лилий и лотосов, сияние бактерий в насыщенной кислородом
атмосфере — все это ученый химик воспроизводил в современно¬
сти на уровне знаний и опыта верховных жрецов Египта.
Зрелищная сторона чудес египетских жрецов была выполнена
студентами. «Ура»! — все кричало и пело во мне — вот она,
магическая культура, которой будет насыщена моя постановка
«Аиды». Мне даже снилось, как мои руки крепко держали
роскошные рога белого священного быка Аписа и я торжествен¬
но въезжал в Мемфис, который почему-то очень напоминал
Свердловск...
Я устроил производственное совещание с художественными
и производственными цехами. Итог этого совещания был груст¬
278
ный — новая постановка «Аиды» будет стоить 50 тысяч рублей.
Директор театра, к которому я пришел со сметой, усадил
меня в кресло, снял пенсне и, посмотрев близорукими глазами,
сказал взволнованно:
— На такой расход согласиться не могу! Состав «Аиды»
у нас превосходный и без магической атмосферы; вся магия
этой оперы в голосах певцов, звучности оркестра и талантах
дирижера и режиссера. Возобновите старую хорошую поста¬
новку «Аиды» и эта ваша режиссерская магия спасет дело
от прорыва. Я не могу ходатайствовать об ассигновании допол¬
нительных сумм на постановку старой оперы. Ведь я, вам это
известно, получил разрешение на устройство вашего юбилея,
который прошел так удачно, и мне, право, неудобно показы¬
вать теперь властям, что новый заслуженный артист не хочет
считаться с финансовым положением дела.
Придя в свой номер, я с грустью стал еще раз просматривать
французский журнал с рисунками чудес египетских жрецов.
Неужели мне никогда не удастся создать на сцене какой-либо
спектакль, насыщенный магической культурой? В том же
журнале я случайно прочитал фразу: «Все приходит вовремя
к тому, кто умеет ждать». И я дождался этого. Когда мне
позднее пришлось ставить советские оперы «Броненосец «Потем¬
кин», «Степан Разин», «Тихий Дон», «Поднятая целина»
и «В бурю», то, несмотря на некоторые недостатки этих произ¬
ведений, я в патетике музыки народных сцен, в суровом ритме
народных напевов, объединявших зрительный зал со сценой,
чувствовал то новое магическое, которое способно по-настояще¬
му объединить миллионы в одно целое. В этом и заключен
магический элемент оперной музыки. Но необходимо, чтобы
она была непременно музыкой и шла бы, как писал Бетховен,
«от сердца к сердцу».
Несмотря на то, что оперное дело в Свердловске велось
прекрасно, два года, проведенные там, утомили меня. Привычка
к югу, к солнцу, к безграничному простору морских далей
и к аромату горных высот оказалась сильнее всех реаль¬
ных удобств сурового и холодного уральского климата. По
первой телеграмме директора тифлисской оперы я оказался в
Грузии.
Будучи главным режиссером тифлисской оперы и позднее
профессором оперного класса консерватории, я был свидетелем,
как росло и крепло замечательное дарование баритона Амира-
279
нишвили, меццо-сопрано Цомая и других вокалистов нового
поколения. В репертуаре оперного театра было широко пред¬
ставлено творчество основоположника грузинской оперной
музыки Захария Палиашвили; его оперы «Абессалом и Этери»,
«Даиси» сначала смущали меня необычностью гармонии и свое¬
образными мелодическими оборотами, но я скоро привык
и полюбил это новое для меня оперное искусство. То же самое
произошло со мной и в отношении к оперным произведениям
классика грузинской оперной музыки Аракишвили. Произве¬
дения этого композитора, ученика Римского-Корсакова «Ковар¬
ная Дериджан» и «Шота Руставели» вообще воспринимались
как старые и прекрасные добрые знакомые.
Огромную роль в развитии грузинского оперного искусства
сыграли пламенный и фанатический режиссер Александр
Цуцунава и дирижер Вано Палиашвили, брат композитора.
Я любовался и завидовал им — они создали на пустом месте
национальное оперное искусство, до них не существовавшее.
Они отдавали себя целиком любимому делу, и я впоследствии
часто думал о них и невольно вспоминал чудесную грузинскую
пословицу — «что ты спрятал — то пропало; что ты роздал,
то — твое». Эти люди, а вместе с ними и другие пионеры гру¬
зинской оперы — Инашвили, Кумсиашвили, Андгуладзе, Сарад¬
жишвили «раздавали» целиком себя и «приобретали» свое
родное оперное искусство.
Я помню тенора Сараджишвили еще молодым певцом,
подававшим огромные надежды. С тех пор прошло много лет.
Вано Сараджишвили возмужал, но остался превосходным
актером и столь же ярким певцом. Мне пришлось ставить с ним
«Пиковую даму», «Кармен» и «Сказки Гофмана». Предваритель¬
ная проработка, «раскрытие образов», у режиссера и певца
часто происходили в духане над Курой, что около Воронцов¬
ского моста. Отличными консультантами в художественных
и сценических вопросах для нас были острые блюда грузинской
кухни и кахетинское вино. И на репетицию в театр мы прихо¬
дили во всеоружии нашего взаимного понимания задач сцены
и музыки.
Изумительным музыкально-сценическим созданием Вано
Сараджишвили был Абессалом в опере Палиашвили «Абесса¬
лом и Этери». Это была целая трагическая поэма, живо напоми¬
навшая мне «Тристана и Изольду» Вагнера. В этих двух произ¬
ведениях, как на вечной лире Овидия, звучала одна струна,
280
не смолкавшая в течение многих веков, — любовь. Но какую
массу чувств, благородных и глубоких, раскрывал Вано в пар¬
тии Абессалома, для которой он, казалось, был создан.
Замечательный талант Сараджишвили погас рано. Тифлис¬
ский театр трогательно почтил его память. Шла опера «Абесса¬
лом и Этери». Все персонажи были на сцене, исполняя свои
роли. Не было только Абессалома. Но каждый раз, когда этот
главный герой музыкальной трагедии должен был появляться
на сцене, образ Вано Сараджишвили, в костюме и гриме Абес¬
салома, проектировался кино на условном экране сцены.
Партию любящего, страдающего и умирающего Абессалома
исполнял в оркестре на виолончели лучший виолончелист
театра Копельницкий.
Мое положение в Тифлисе было довольно сложным. Работая
здесь, я часто выезжал на отдельные постановки в Баку. Такое
положение смущало сначала меня, но скоро я привык. Это было
интересно и вносило разнообразие в жизнь.
В Баку мною был удачно поставлен «Лоэнгрин». В роли
рыцаря Грааля выступал тенор Белугин, обладавший очарова¬
тельным лирическим голосом, но человек он был, увы, очень
капризный. Певица Бевза, исполнявшая партию Эльзы, была
явлением исключительным в оперном театре. Вчера еще кон¬
дукторша трамвая в Виннице, Бевза, обладая отличным голосом
и внешностью, имела такую врожденную музыкальность
и чувство сцены, словно она приобрела это все в лучшей кон¬
серватории, а не в скрипучем вагоне трамвая. Демоническую
Ортруду исполняла певица Карпова, как нельзя более под¬
ходившая к этой партии. Тельрамунда пел выразительный
певец и артист Книжников, а партию короля Генриха исполнял
бас Никольский. Он как бы специализировался на воплощении
образов царственных особ. Оперой дирижировал Алевладов,
у которого все было на месте, но сам он не горел и не зажигал —
все за него делала волшебная музыка «Лоэнгрина».
Вернувшись в Тифлис, я нашел дома письмо, в котором
сообщалось, что со мной хочет встретиться архитектор из
Эривани академик А. И. Таманьян. Имя этого архитектора
мне ничего не говорило, но, иногда бывая у Шаляпина на Новин¬
ском бульваре в Москве, я любовался замечательной ампирной
постройкой. Это был дом князя Щербатова, построенный архи¬
тектором Тамановым (Таманьяном). Вспомнив об этом, я понял,
с кем мне предстояло встретиться.
281
Это свидание было для меня весьма интересным. Таманьян
проектировал здание оперного театра в Эривани. Но так как
ему были неизвестны современные требования к оперным
сценам, то он и решил обратиться для консультации ко мне —
опытному оперному режиссеру.
Таманьян хорошо знал о моем участии в восстановлении
после пожара сцены одесского оперного театра. И он, по совету
архитектора Щусева, решил привлечь меня к работе в качестве
консультанта при проектировании сцены. Его очень интере¬
совал мой живой режиссерский опыт и знание сцен немецких
оперных театров.
Рассматривая проекты эриванского театра, я буквально
пришел в священный восторг от архитектурного размаха
и фантазии строителя. И все эти идеи могли быть точно реали¬
зованы, если воля замечательного зодчего не встретит мелких
преград.
По проекту, театр должен был иметь одну сцену и два зри¬
тельных зала: зимний зрительный зал имел три «зеркала»
сцены — большое центральное и маленькие боковые сцены.
Действие спектакля могло развиваться непрерывно на трех
сценах, чем сокращались, а если было нужно, и совершенно
устранялись антракты. Летний зрительный зал представлял
собой красивый амфитеатр, расположенный под открытым
небом на естественной возвышенности, примыкавшей к зданию
театра. Арьерсцена зимнего театра служила авансценой для
летнего, имевшего только одно центральное зеркало сцены.
Когда функционировал летний театр, то на авансцене зимней
сцены опускался железобетонный занавес, изолировавший
зимний зрительный зал. Все пространство огромной сцены
принадлежало тогда, естественно, только летнему амфитеатру.
Железобетонный занавес, опущенный по авансцене зимнего
зрительного зала, был естественной задней стеной для сцены,
повернувшейся к амфитеатру, расположенному под бархатным
небом Эривани. Вдали сиял своей красотой вечный Арарат...
Такова была архитектурно-театральная концепция замечатель¬
ного зодчего.
Включившись целиком в комплекс архитектурных идей
Таманьяна, я сразу увидел, что сценическая часть будущего
театра еще совсем не разработана, не намечена даже элементарно.
Весь свой опыт, все литературно-технические источники
по постройке и оборудованию сцен, весь материал, сохранив¬
282
шийся у меня от восстановления одесского театра, все синь¬
ки — все мною было передано Таманьяну.
Планы постройки оперного театра в Эриване, смелые и необыч¬
ные идеи архитектора так увлекли меня, что я, забыв свои
постановочные работы в Тифлисе и Баку, целиком чувствовал
себя на работе в столице Армении. Кавказ и все его лучшие
места мне были прекрасно известны. Но в Эривани я никогда
не был, и город очень интересовал меня.
Вскоре А. И. Таманьян вызвал меня в Эривань, чтобы
ознакомить с местом постройки будущего театра. У скатов
предгорья был целый лес персиковых садов. Огненно-красные
цветы на темной зелени персиковых кустов, в свете заката
ярко горели, словно огромные рубины. «Здесь будет театр», —
сказал архитектор, обрисовывая рукой огромный воображаемый
радиус театральной площади.
Потом А. И. Таманьян познакомил меня с планами и черте¬
жами будущего театра. Трудно передать волнение и восхище¬
ние, которое охватило меня при виде этого проекта, такого
художественного и такого фантастически-прекрасного. Я не¬
вольно подумал: «А хватит ли возможностей осуществить
все это?» Ведь этот проект возник задолго до того, как был
построен оперный театр в Новосибирска и Театр Советской
Армии в Москве. Проект оперного театра Таманьяна намного
опередил эти смелые архитектурные замыслы. Но неожиданная
смерть архитектора приостановила ход работы. В дальнейшем
много из того, о чем Таманьян мечтал, было устранено из
проекта, и в итоге получилось ординарное театральное здание.
Видя мое горячее сочувствие постройке театра, Таманьян
предложил мне остаться постоянным консультантом на все
время работ. Для жилья он обещал построить для меня с семьей
небольшой коттедж на территории театра.
С Таманьяном у меня установились очень хорошие отно¬
шения, и он часто вызывал меня то из Тифлиса, то из Баку
на консультацию. Поездки эти были очень интересны.
Ставя спектакли в Бакинском и Тифлисском театрах,
я неожиданно получил приглашение из Одессы поставить
«Лоэнгрина» и «Сказки Гофмана». Голос Одессы был так властен,
что удержать ничто меня не могло. Трогательно прощаясь
с А. И. Таманьяном, я долго стоял с ним в огромном котловане
будущего театра. Трещали камнедробилки, разгрызая, словно
орехи, твердый базальт, армия рабочих-каменотёсов, подобно
283
муравьям, заполняла всю территорию, обтесывая маленькими
молоточками необыкновенно умело и математически точно
гранит и базальт в ровные кирпичи будущего здания. Пожимая
на прощанье руку Таманьяна, я не мог отвести глаз от дивного
зрелища — снежный Арарат, освещенный солнцем, казался
розовым, а внизу лежали длинные голубые прозрачные тени...
Ни один художник, какой бы волшебной кистью ни владел,
не в силах передать это очарование.
— Я понимаю вас, — задумчиво сказал мне Александр
Иванович. — Когда будет готов наш театр, мы сядем с вами
на балкон или, лучше, на крышу, будем пить чай, любоваться
Араратом и слушать неумолкаемый шум нового города.
Мы простились и я больше уже никогда не видел этого чудес¬
ного человека.
Как я уже писал, я оставил Одессу вскоре после заверше¬
ния восстановления оперного театра.
В театр пришли новые руководители. В качестве директора
был приглашен Каргальский, рьяно взявшийся за реорганиза¬
цию на украинский лад.
Человек культурный и неглупый, Каргальский изумительно
хорошо, певуче и плавно говорил только по-украински и тре¬
бовал от всего театра украинской речи. В своем кабинете он
повесил плакат: «Говорите по-украински».
Всего быстрее и радикальнее замена украинским языком
русского языка сказалась на маститом и уважаемом дирижере
И. В. Прибике. Оставленный пожизненно при театре в качестве
«консультанта» на минимальной ставке, престарелый музыкант
ревностнее всех принялся за изучение украинского языка.
Владея многими европейскими языками, Прибик с сильным
чешским акцентом говорил по-русски. Но когда он говорил
по-украински, то его акцент давал себя знать еще сильнее.
В Одесской опере были открыты курсы украинского языка.
Все старательно учились, но в атмосфере интернациональной
Одессы дело это шло очень медленно.
285
Глава
восемнадцатая
Одесса. Луганск.
Днепропетровск
Горький.
Винница.
Одесса
Каргальский принес с собой в одесскую театральную атмо¬
сферу формалистические, конструктивно-футуристические прин¬
ципы оперных постановок. Художественные выверты и декора¬
тивно-сценическая чепуха на сцене мало соответствовали
звучанию в опере певучего и мелодичного украинского языка.
Постановки того времени — «Золотой петушок», «Сказка о царе
Салтане», «Ожерелье мадонны», «Лед и сталь» и другие были
полны такой заумной антихудожественности, что теперь просто
не верится, что это могло быть!
Когда в 1932 году Каргальского на посту директора Одесско¬
го оперного театра сменил Кудрин, то он сделал из опыта
своего предшественника разумные организационные выводы.
Подобно Каргальскому, Кудрин так же хорошо говорил речи
на украинском языке, но в руководстве театром был более
осмотрительным. Левацкое направление в постановке опер
уступило место более здоровому течению. И тогда Кудрин
вспомнил обо мне. Я принял его предложение и стал главным
режиссером одесской оперы.
Было решено поставить «Лоэнгрина». Для этой постановки
я пригласил, одного из лучших одесских художников —
П. Ф. Шварца, превосходного знатока эпохи. В художнике
я не ошибся — постановка вышла превосходной. Весьма важ¬
ный вопрос о дирижере «Лоэнгрина» меня тоже очень волновал.
Мне казалось, что здесь нужно молодое и свежее дарование,
сформировавшееся в области симфонической музыки. Дириже¬
ром спектакля должен быть человек, который понимает и ценит
человеческий голос в его соединении с инструментальными
звучаниями оркестра. Присмотревшись к молодому, образован¬
ному дирижеру Покровскому, я остановился на нем. Покров¬
ский, превосходно зная хоровое пение, умел благотворно
влиять на певцов. Он принес огромную пользу резкому голосу
Данченко, певшему Лоэнгрина. С режиссерской стороны
я, опытный в этом роде искусства, сделал все, чтобы опера
прошла хорошо. «Лоэнгрин» имел большой и заслуженный
успех.
В своих воспоминаниях я менее всего стремился быть
только добросовестным хроникером; мне хотелось уловить
самое рельефное и типичное, что, с моей точки зрения, могло
представлять известный интерес для молодого поколения.
Одним из таких типичных настроений среди одесской публики
была «итальянофилия» — любовь к итальянскому пению, пере¬
286
дававшаяся от старых меломанов к молодым любителям оперы.
В разговоре с любым пожилым одесситом слышались одни
жалобы: «Кого я могу теперь слушать в опере? Ведь сейчас
нет Ансельми, Руффо, Гальвани», — далее следовал еще десяток
громких имен итальянских вокалистов, действительно некогда
певших в Одессе. После этой тирады одессит-театрал, уничтожив
вас своей эрудицией, с чувством огромного превосходства
отворачивался: «О чем говорить? »
По проторенной стариками дороге часто и молодое поколе¬
ние, кланяясь звучным итальянским именам певцов, которых
никогда не слышало, грустило о золотом веке бель-канто.
Но во всякой карикатуре часто таится зерно глубокой
истины. Так и в жалобах одесских меломанов заключена
справедливая тоска по хорошему вокалу, по горячей музыкаль¬
ной фразе певца на оперной сцене. Поэтому понятен многолетний
успех в Одессе тенора Селявина. Человек невысокого роста,
начавший свою артистическую карьеру при мне в Тифлисе
и Киеве в первом десятилетии века с второстепенных партий,
он вырос в большого мастера. Селявин поражал меня до послед¬
них дней своей жизни. Это был какой-то синтетический оперный
талант. Нельзя было не восхищаться его уникальными способ¬
ностями. Весь «спектр» оперного искусства — предельную
музыкальность, абсолютно чистую интонацию, правдивость
искреннего драматического актера и голос, очень небогатый,
но изумительно гибкий, голос «хитрый» — все это незаурядный
артист конденсировал в своем умном даровании, как луч солнца
конденсируется в толстом и крепком теле зажигательного
стекла. И Селявину удавалось зажигать и воспламенять.
Любителям итальянского пения он давал изумительное пиана
и точный вокальный «слепок» с повышенных оперных страстей
итальянских певцов. Драматический талант Селявина мог
удовлетворить самых строгих и придирчивых критиков. Таким
образом, этот человек, ничем не облагодетельствованный
природой, усилием воли, напряжением огромной энергии
и ума сделался своим собственным благодетелем. Сценический
и вокальный диапазон у него был поразителен: от Радамеса
и Рауля — к Вертеру, Дубровскому и Ленскому. Мне при¬
шлось сказать последнее «прости» этому незаурядному мастеру
оперной сцены... Жаль было одесситов — со смертью Селявина
они потеряли последнее воспоминание об искусстве пения
выдающихся итальянских певцов.
287
Мое положение главного режиссера в одесском театре при
Кудрине было очень трудным. Этот директор, пользовавшийся
большой поддержкой, держался с труппой очень резко и иро¬
нически надменно. Так же Кудрин вел себя и со мной.
И вот мною было получено предложение об организации
в городе Луганске украинского оперного театра. Меня увлекла
возможность создать оперу в рабочем центре. Имея своим помощ¬
ником по формированию труппы опытного дирижера А. Г. Еро¬
феева, я быстро развернул работу и совсем не интересовался
мнением Кудрина по этому вопросу.
Я отлично помнил выражение Шекспира: «Власть, которой
не боятся, близка к падению». Но «падения» Кудрина я ожи¬
дать не стал, чувствуя, что ему на смену может прийти еще
более живописная фигура, и мое предположение оправда¬
лось. Директором одесской оперы был назначен малоизвест¬
ный художник Кривень, несший в своей душе целый океан
левацких настроений. Ему мерещились лавры Герострата —
он думал все старые оперы уничтожить, и оркестровки и парти¬
туры, как ненужную ветошь, сдать в музей, сделав исклю¬
чение (? ) только для «Евгения Онегина» и «Аиды».
В одесской опере «чехарда» директоров прекратилась с того
момента, когда директорский пост занял культурный и обра¬
зованный человек Н. П. Пащин. Музыкальной частью стал
заведовать дирижер С. А. Столерман, а художественная часть
перешла в руки В. А. Лосского, человека, обладавшего всем
комплексом режиссерских знаний. В прошлом превосходный
характерный певец в опере, человек с университетским обра¬
зованием, он обладал высокой принципиальностью, что всеми
считалось за твердый характер. Во всяком случае, Лосский
был настоящим режиссером.
Но в это время мне целиком пришлось заняться созданием
оперного театра в Луганске. Мне хотелось привлечь к работе
максимум молодежи, что мне в известной степени и удалось
осуществить.
В состав труппы вошли: Хигер, Собецкая, Егунова, Аяров,
Павловский, Мартыненко, художник Ефимов и другие. Опи¬
раясь на опыт старых певцов, они вносили в работу атмосферу
молодости. Уравновешенному темпераменту дирижера Еро¬
феева противостоял вечно молодой темперамент Купера млад¬
шего. В коллективе царила дружная обстановка, и он, как
говорится, двигал горы легко и свободно. В труппе не было
288
мелочных дрязг и склок и всякая работа казалась нетрудной.
Концерты для рабочих но строгой программе, выездные спек¬
такли в Мариуполе и близлежащих шахтах занимали важное
место в творческом плане Донецкой оперы.
За три года своей работы в Донбассе мои отношения с Одес¬
сой не прерывались. К этому принуждала меня доходящая
до мании любовь к одесскому театру.
Приезжая часто в Одессу, я, естественно, очень интересо¬
вался жизнью оперного театра и работой режиссера Лосского,
о котором слышал очень много хорошего, но работ его не видел.
Первые спектакли Лосского — «Аида» и «Иван Сусанин» —
привели меня в восхищение. Такой четкой режиссерской работы
и выдумки, строго согласованных с музыкой, я еще в русской
режиссуре не встречал. В «Иване Сусанине» все особенно было
хорошо — монументально, грандиозно и очень правдиво. Толь-
то так, думалось мне, и надо ставить оперы.
С большим волнением я ожидал услышать в партии Суса¬
нина баса Тоцкого, с которым было связано столько воспомина¬
ний по моей нелепой постановке в Харькове оперы «Сорочин¬
ская ярмарка». Мне была совершенно ясна чепуха «левацкого
конструктивизма» постановки, и чтобы немного смягчить впе¬
чатление, я апеллировал к Гоголю — пускай публика пред¬
ставит себе, что должно быть на сцене. После чудесного хора,
спетого пианиссимо за сценой, молодой красивый бас (это был
начинающий певец Тоцкий) откуда-то из верхнего яруса про¬
износил изумительные слова Гоголя: «Как упоителен, как
роскошен летний день на Украине! Как томительно-жарки те
часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой, неиз¬
меримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над
землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая
и сжимая прекрасную в воздушных объятьях своих» и т. д.
Так напевно декламировал молодой Тоцкий. На сцене же все,
увы, было тогда «левее» Гоголя и здравого смысла.
Поэтому понятно, с каким нетерпением я хотел услышать
своего харьковского диктора в ответственной партии Сусанина.
Мне давно не приходилось испытывать воздействия той высшей,
предельной простоты в пении и в игре, которой порадовал
меня в «Сусанине» Тоцкий. В звуке, в драматических моментах
роли господствовала гармония, которая так выгодно выделяет
певца, наделенного внутренней культурой, от вокалистов,
до головокружения зачарованных культурой внешней.
289
Немного позднее мне пришлось познакомиться с другой
гранью творчества такого серьезного режиссера, как Лосский,
и тогда я перестал краснеть за свои формалистические трюки
в Свердловске. Не я один! Например, в «Фаусте», поставленном
Лосским со всей олеографической роскошью безвкусных немец¬
ких кинокартин, он ввел антирелигиозную пропаганду: в храме
монахи дерутся, отнимая друг у друга деньги, собранные
у прихожан; в последнем акте те же монахи рубят и не могут
отрубить огромными деревянными топорами голову Маргариты,
лежащей на плахе. Изобиловала подобными находками и дру¬
гая работа Лосского — опера «Руслан и Людмила».
Совершенно ясно, что сценический формализм имел много
общего с болезнью. Мой паровоз в Свердловской постановке
«Фауста» возникал в болезненной атмосфере безответствен¬
ности... перед разумом, — режиссеры очень боялись эпитета
отсталый.
В 1937 году я перешел из Луганска в днепропетровскую
оперу в качестве главного режиссера и заведующего художест¬
венной частью. Сначала я был этим очень доволен, так как
украинское оперное дело Днепропетровска было организацией
более мощной и представляло для режиссера-постановщика
возможности более широкие, чем скромные средства донецкой
оперы. Но скоро мне пришлось раскаяться и искать всякие
способы, чтобы освободиться от громкого титула заведующего
художественной частью. И я ушел из днепропетровской оперы,
вцепившейся в меня всеми своими театральными щупальцами.
Но тогдашнему положению, заведующий художественной
частью нес наравне с директором театра ответственность за
материальное состояние дела. Никогда этим не занимаясь
и не будучи человеком хозяйственным, я просто боялся, что
могу оказаться без вины виноватым. И только в 1939 году,
выйдя на пенсию по старости, я освободился от этого пышного
титула, мешавшего мне спокойно спать. Я стал только ставить
оперы, имевшие всегда неизменный успех.
Первой моей новой постановкой в Днепропетровске была
опера Чишко «Броненосец «Потемкин». Прекрасное либретто
и музыка, во всяком случае удобная для пения и легко воспри¬
нимаемая, увлекли меня. А мои любимые места — Севасто¬
поль, а особенно Одесса, которой я по-прежнему бредил, нака¬
лили мою режиссерскую фантазию до предела. Художник
Ершов, с его красочным аскетизмом и огромной технической
290
изобретательностью был мне еще с Одессы очень по душе.
Мы с Ершовым, как мне казалось, составляли в театре хорошо
звучавшую «постановочную терцию». Успех «Броненосца
«Потемкина» ободрил наш театр в поисках новых советских
опер. Мой коллега, режиссер Бутовский, поставил оперу Лято¬
шинского «Щорс», а на мою долю выпала постановка «Поднятой
целины» Дзержинского. С большим волнением читая роман
Шолохова, я очень живо представлял себе вырванных из гущи
современной жизни реальную галерею живых героев. Я видел
их, говорил с ними. Очень хороши в этой постановке были
тенор Войтенко (Давыдов) и баритон Бронзов (Нагульнов).
Работа с солистами и хором меня очень увлекала и зажигала.
Я остро чувствовал актуальность спектакля. Эта постановка
имела превосходный резонанс в рабочей аудитории Днепро¬
петровска.
На одном из спектаклей «Поднятой целины» присутствовал
представитель Одесского оперного театра. Театр решил вклю¬
чить эту оперу в репертуар. Но так как его главный режиссер
Лосский, занятый очередной работой, «Поднятой целины»
поставить не мог, то дирекция решила, посмотрев мою работу
в Днепропетровске, на эту постановку пригласить меня.
И вот я подписал договор на постановку этой оперы в люби¬
мом моем театре. Это было «первым поцелуем» Одессы после,
долгой и вынужденной разлуки с нею.
Постановка в одесской опере «Поднятой целины» мне уда¬
лась. Был найден общий язык с дирижером, с исполнителями,
с массой и художником. Назаров, художник спектакля —
дилетант в искусстве живописи, — возвысился в декорационных
работах благодаря своей интуиции и своему исключительному
сценически верному темпераменту до уровня превосходного
мастера. Так иногда у дирижера-«слухача», не играющего
ни на каком инструменте, музыкальная перспектива и слух
настолько верны, что они заменяют ему живое творческое
чувство.
С большим удовольствием вспоминаю исполнителей «Под¬
нятой целины» в Одессе — Воляковскую, Данченко, Лаптева,
Аярова, Семенюту, Константинова и Дейнара. Эти художники
оперного театра замечательно перевели на язык звуков слова,
мысли и идеи выдающегося писателя нашей эпохи Шолохова.
Очень живо воскрес передо мной незабвенный облик покойного
Направника, когда я наблюдал за работой дирижера Столер¬
291
мана. Тот же аскетизм движений, та же углубленность в суще¬
ство музыки и то же понимание индивидуальности каждого
инструмента в оркестре и голоса на сцене.
Премьера оперы состоялась в разгар курортного сезона
в Одессе. В одном из санаториев отдыхал директор горьков¬
ской оперы Н. В. Сулоев. Увидев мою постановку «Поднятой
целины» в одесском театре, Сулоев очень заинтересовался ею
и, предложив мне прямо-таки фантастическую сумму гонорара
за постановку «Целины», перевез меня в Горький.
В горьковской опере главным дирижером тогда был
А. Г. Ерофеев, который, вспоминая мою энергичную работу
вместе с ним в Луганске, настойчиво рекомендовал меня Сулоеву
на должность главного режиссера и заведующего художествен¬
ной частью оперы.
Пригласив в театр, Сулоев окружил меня максимальным
вниманием и заботами.
Но скоро умному и доброжелательному директору при¬
шлось во мне разочароваться. Ритм моей «гастрольной» режис¬
серской работы в Баку, Тбилиси, Еревана, Днепропетровске,
Одессе деформировал мою режиссерскую психику — я потерял
усидчивость, столь необходимую в работе. Если моя постановка
«Поднятой целины» в Горьком и была удачной, то неудачная
(по либретто и музыке) опера «Степан Разин» А. Касьянова
нашла во мне вполне неудачного режиссера. Опера и я, само¬
надеянный постановщик, успеха не имели. В Горьком мне
было неуютно, я тосковал по Украине. При этом рядом со мной
уже достаточно ярко загоралось молодое режиссерское дарова¬
ние Бориса Покровского, и мой бывший помощник Валентинов,
энциклопедист, начитанный скептик и отец уже чуть ли не дюжи¬
ны ребят, тоже требовал своего места под солнцем оперной
режиссуры. Мне надо было деликатно посторониться, что
я и сделал, приняв предложение украинского оперного театра
в Виннице — поставить оперу Хренникова «В бурю». С этим
произведением талантливого композитора я был знаком по
московскому спектаклю. Опера мне нравилась и волновала
меня своим сюжетом и музыкой.
Когда я готовился оставить Горький, Сулоев предложил
мне повидаться с Собольщиковым-Самариным, который через
четверть века, очень хотел видеть своего бывшего казанско-
саратовского режиссера, которому в ароматной книге своих
театральных «Воспоминаний» он посвятил немало теплых строк.
292
В замечательном Горьковском театре драмы очень берегли
и дорожили участием в работе престарелого, но свежего духом,
умом и фантазией своего бывшего главного режиссера.
Н. И. Собольщиков-Самарин имел официальное название
«почетного консультанта», и ни одно движение в художествен¬
ной и производственной жизни театра не совершалось без
санкции или одобрения Николая Ивановича. Трогательна
была моя встреча с ним. Высокий, как и прежде стройный,
с огромной львиной головой с седыми волосами и с добрыми-
предобрыми глазами под упрямо неседеющими бровями.
Я маленький ростом, показался себе еще меньше, когда этот
великан обнял и поцеловал меня. Я заплакал...
На столе шумел старый нижегородский самовар, и старые
воспоминания, старые слова, перемешивались с новыми мысля¬
ми и свежими идеями этого большого человека. Они волновали
меня сильнее, чем крепкий чай гостеприимного хозяина, и пья¬
нили больше горькой настойки из сорока трав с закуской
из микроскопических нижегородских груздочков.
Я смотрел на Собольщикова — как огромна роль этого
работника театра! Ведь классика русской литературы —
«Дворянское гнездо» Тургенева, «Обрыв» Гончарова были
переведены им на язык русского театра. И насколько эти
произведения стали ближе и дороже нам. В работе Собольщи¬
кова, в его антрепризе, в его режиссуре, в его переделках
классиков для сцены — во всем этом чувствовался высокий
нравственный идеал.
— Всего дороже, Николай Николаевич, — говорил мне
Собольщиков, — в драме ли или в опере здравый смысл и про¬
стая неизощренность исполнения. Все великие поступки были,
как и великие произведения искусства, просты. Бойтесь,
главное, страшного дурмана слов, заменяющих дела.
Винница, куда я был привлечен близостью ее к Одессе,
была небольшим, но очень уютным и живописным городком,
а оперный театр, красивый и удобный, был бы приличен для
любого театрального города.
Дирекция и коллектив оперы встретили меня весьма при¬
ветливо, и через несколько дней, ознакомившись с делом,
в этой скромной опере я почувствовал себя совершенно своим
и включился в постановочную работу над оперой «В бурю».
Но я приехал поздно, когда черновая репетиционная работа
над оперой была уже почти завершена молодым режиссером
293
Я. А. Пресманом. Имелась возможность взять чужой постано¬
вочный «черновик» и внести свои режиссерские коррективы.
Но это искушение не захватило меня. В лице режиссера Пресма¬
на передо мной была творческая, пытливая и горячая режис¬
серская индивидуальность. Сохранив за ним приоритет на
постановку оперы «В бурю», я закрепил за собой постановку
старой оперы Галеви «Дочь кардинала».
При постановке оперы «В бурю» возникло немаловажное
затруднение — не было исполнителя на роль В. И. Ленина.
Долго об этом думали и совещались и наконец решили, что
единственной фигурой, которая могла бы в нашей труппе дать
приблизительное внешнее сходство с Владимиром Ильичем,
был я. Моя долгая борьба с самим собой — я отлично понимал
всю ответственность задачи воплощения на сцене образа гени¬
ального вождя — привела к тому, что я согласился.
Вся постановка оперы была уже готова и дело оставалось
за мной. Огромная энергия и тонкий вкус костюмерши Працюк,
талант гримера Виницкого, искусство лучшего портного
Винницы — все помогало мне. Очень полезны были также
фотографии и пластинки с записью речи Ленина. Перед спек¬
таклем я два часа одевался и гримировался, подвергаясь
пластическим операциям на лбу, носу, подбородке. Это было
мучительно и страшно! М. Н. Працюк бережно одевала меня —
костюм, рубаха, воротничок и галстук, а также ботинки —
все было специально изготовлено. Когда перерожденный
и перевоплощенный я увидел себя в трюмо, я задрожал и испу¬
гался, — это был не я, а кто-то иной.
Постановка оперы «В бурю» была, кажется, удачной, но
я никогда не видел ее: все время меня одевали и гримировали
для того, чтобы я ровно на три минуты появлялся на сцене
и произносил бы три короткие фразы. Но ураган аплодисментов,
встречавший каждый раз мое появление на сцене, был так
велик, что я едва-едва удерживался на ногах, чтобы не грох¬
нуться на землю.
В винницкую оперу я приехал уже ко второй половине
сезона. Далее в плане театра были гастроли по небольшим
рабочим центрам Украины — Шостка, Сумы, Кировоград.
Режиссерская работа свелась к нулю; все ограничилось моим
участием в спектакле «В бурю», особенно интересовавшем
рабочую аудиторию появлением на сцене Ленина. Все предпо¬
лагали, что Ленин, как и полагается в опере, должен будет петь.
294
Я лично спокойно переносил все, несмотря на страшную
жару, изнурительность пластических операций и утомительность
костюмировки. Меня уже менее волновал ураган оваций при
моем появлении на сцене.
...Я был весь напоен сладким ощущением свидания с Одессой.
Дело в том, что в одесской опере возник режиссерский
кризис — ушел главный режиссер Лосский, и мне были пред¬
ложены сначала две постановки, а затем и место постоянного
режиссера.
Когда Н. П. Пащин был назначен директором одесской
оперы, лицо театра преобразилось к лучшему. Культура
директора, его такт и глубокая порядочность благотворно
повлияли на жизнь одесской оперы.
Есть счастливые люди, находящие на непрерывно движущей¬
ся земле свою определенную точку, в которой удерживаются
сразу на всю жизнь. Моя судьба, мой темперамент, жажда
много видеть, впитать в себя и уяснить не делали меня рабом
одной географической точки. В непрерывном движении, смене
мест и впечатлений не оказалось в итоге для меня, увы, ничего,
кроме пустоты и разочарований. Надо было ограничить, собрать
себя, чтобы служить общему делу. Надо было найти себя,
найти точку, о которой я мечтал, как о счастье.
Работать в одесском театре, который я любил и которому
был нужен и полезен (в этом, как мне кажется, я не заблуж¬
дался) — вот, что казалось мне «точкой». К ней мне следовало
прикрепить себя — жить, работать и умереть здесь. С таким
настроением я начал работать в одесской опере. Сотрудничество
в постановках художника Назарова, талантливого и очень
принципиального, было для театра очень ценным и нужным.
Наша последняя постановка «Пиковой дамы» произвела хоро¬
шее впечатление — в ней была верная историческая основа
и торжествовало живописное начало. Таким же был и «Дубров¬
ский» — спектакль, в котором несколько позже профессор
Одесской консерватории и прежний любимец Одессы тенор
Селявин отпраздновал свой сорокалетний юбилей. Почти мой
ровесник, Селявин поразительно владел оперным искусством —
музыкальной фразой, дыханием, замечательным пиано и редким
чувством сцены. Он был замечательным примером для молоде¬
жи. Думая о Селявине, я всегда сравнивал его со знаменитым
295
некогда итальянцем баритоном Котоньи. Прославленному
певцу было уже восемьдесят лет. Изредка выступая в концертах,
он демонстрировал чарующий голос. Своим ученикам, спраши¬
вавшим всегда о секрете феноменального вокального долго¬
летия, Котоньи охотно раскрывал эту простую тайну. «Дышите
хорошо, произносите ясно слова — и ваше пение будет совер¬
шенным!» По этому рецепту жил и творил скромный одесский
певец Селявин.
Желая повысить рентабельность театра и оживить репер¬
туар, состоявший из одних и тех же «переводных» опер, очень
уже надоевших, дирекция решила поставить давно не шедшую
оперу Галеви «Дочь кардинала». Толчком к постановке этой
забытой оперы послужило то обстоятельство, что очень любимый
Одессой бас Платон Цесевич считал партию кардинала одной
из своих коронных. В Одессе Цесевич очень нравился и всегда
делал полные сборы. Препятствием к постановке оперы было
отсутствие в труппе артиста, который мог бы петь Элеазара,
высокую теноровую партию. Смелая режиссерская мысль
пришла мне в голову. Такие эксперименты я любил и часто
применял их в своей практике. Я любил взять артистку или
артиста, совершенно не знающих музыки и даже содержания
оперного произведения и вылепить, создать такой образ, кото¬
рый целиком отражал бы музыкальные и сценические идеи
режиссера.
В одесской опере пел тогда драматический тенор Светлич¬
ный, обладавший таким звуком, который без всяких «но»
доставлял слушателю прямое вокальное удовольствие. Свежий,
теплый украинский звук. На этом артисте, весьма скромном,
но вдумчивом и терпеливом, я и остановился. Неповторимым
для меня в оперной партии Элеазара был любимец Казани
Закржевский. И сколько острых, волнующих моментов пере¬
живали тогда в Казани мы, неофиты оперного театра, — Федя
Шаляпин, Ваня Барсов и я, когда Закржевский поднимал
в публике бурю восторгов своим исполнением знаменитой
арии «Рахиль! Ты мне дана небесным провиденьем»... Как
передать эту свежесть, эту пленительную яркость старых воспо¬
минаний.
Обобщая в своем сознании все виденное и слышанное,
я бережно вносил в послушную психику Светличного сцениче¬
ские, психологические и декламационные нюансы роли. Я не был
только копиистом. Но яркость воспоминаний вдохновляла
296
меня, и это вдохновение я передавал Светличному. Замеча¬
тельный кардинал — Цесевич, жизненный, нешаблонный Элеа¬
зар — Светличный и трогательная, красивая Рахиль — Хигер,
голос которой напоминал благородный звук виолончели, —
эти солисты и интересные декорации Назарова обеспечили
большой успех оперы. Если бы, думал я, слушая эту старушку-
оперу, новые композиторы могли так просто и доходчиво
писать свою музыку — «от сердца к сердцу»!
* * *
...Июнь 1941 года в Одессе был грозовым и неприятным.
Прибой на море был так силен, что купанье в море было опасным
спортом. Вдобавок ко всему южный ветер, дувший особенно
упорно и неумолимо, накаливал температуру в комнате так,
что спать было невозможно.
И вдруг — война!
Она началась неожиданно. Первые немецкие бомбы, разор¬
вавшиеся над Киевом, казались нелепой шуткой. И вот Одесса
перестраивается на военный лад. Наступает тревожное время.
Но, несмотря на все трудности, каждый из нас нес в душе,
в сердце неистребимую веру в победу.
В оперном театре, когда все заводы, учреждения, лазареты
планомерно эвакуировались из Одессы, ровно никто не думал
об эвакуации. Между тем вражеские войска были уже на под¬
ступах к Одессе, и в Малом переулке, в квартире артистки
оперы Хигер были первые жертвы воздушных бандитов. Сама
артистка была тяжело ранена, ее сын, сестра и племянница
убиты, а дом превращен в руины. В театре, словно стадо без
пастуха, толпились артисты, музыканты, хор и остальные
работники. Как только, обычно в 8 часов вечера, немецкие
самолеты начинали бомбить Одессу, нам казалось, что каждая
бомба непременно упадет в театр. В коридорах нижнего этажа
театра происходили трусливые перебежки — каждый из нас
стремился спрятаться куда-нибудь поглубже. Никто не отдавал
себе отчета — если рухнет потолок или стена театра, то все
мы, спрятавшиеся, будем погребены заживо. Надежды на пла¬
новую эвакуацию оперы рухнули. И кое-кто начал эвакуиро¬
ваться индивидуально. Моя жена в это время жила одна в своем
маленьком домике в Старом Крыму. Получив от театра офи¬
циальное эвакуационное свидетельство, я стал искать способ,
297
как бы мне пробраться к жене и выручить моего одинокого
старого друга. Увы, все пароходы были переполнены эвакуирую¬
щимися одесситами, и я терял надежду выехать. С огромным
трудом удалось мне достать, наконец, посадочный талон на
пароход «Грузия». Когда я через бесконечно тревожные улицы
Одессы нес на спине свой тяжелый чемодан и тюк с книгами
в порт, я оценил труд носильщика. Пароход «Грузия», куда
я попал, очень напоминал огромный сладкий торт, облеплен¬
ный мухами. Всюду беспокойные фигуры людей, только мачты
да капитанский мостик пока были еще свободны от народа —
даже в спасательных лодках уже устроились семьи. Пароход
принял до трех тысяч человек. Я пришел поздно. Проверка
моих документов тоже заняла некоторое время, и когда я, весь
в горячем поту, внес по очень крутому трапу парохода на палубу
свои вещи, я понял, что каждый свободный метр на полу будет
для меня спасением.
Около бывшего киоска для газет примостился на полу
директор самой комфортабельной одесской гостиницы со своей
женой. Узнав и пожалев меня, они любезно потеснились,
и полтора метра грязного пола оказалось в моем распоряжении.
Эго было 17 июля 1941 года. Наш пароход и соседний пароход,
конвоируемые военными катерами, медленно покидали одес¬
скую гавань. Все сердца, и мое в том числе, болезненно сжа¬
лись: «Увидим ли мы еще когда-нибудь родной и любимый
город? »
Я попросил бинокль и долго рассматривал серую громаду
оперного театра, на крыше которого бродила одинокая фигура.
Это был очередной дежурный оперного коллектива по наблюде¬
нию за налетами самолетов.
Добравшись до маленького городка Старый Крым, где
в неведении жила в паническом страхе моя жена, я совершенно
не знал, что предпринять. Из Старого Крыма никого без вызова
и пропуска не выпускали. Муж моей ученицы, артистки Хигер,
прислал мне телеграмму о том, что часть артистов одесской
оперы находится в Алма-Ате. На мои телеграммы-молнии
и отчаянные письма прислать мне вызов я получил от моих
коллег ответ, что они находятся в Алма-Ате на положении
безработных и вызова прислать не могут.
Старый Крым был занят оккупационными войсками, при¬
шедшими из Одессы. В Симферополе, столице Крыма, нахо¬
дился главнокомандующий. Наше положение с женой было
298
ужасным. У нас в доме поселились немецкий капитан, като¬
лический военный пастор и два офицера. Все кровати были
заняты ими. Только моя жена имела старую кровать, а я спал
на полу около печки. Голодали мы страшно. Но дух мой был
бодр. Всегда, когда немцы уходили в клуб, пастор разрешал
мне пользоваться германским приемником. Слушая Москву,
я черпал моральную силу и бодрую веру в силу нашего народа.
Всем этим богатством я делился из-под полы с другими совет¬
скими людьми, бродившими, словно тени, по улицам городка.
На терраске нашего дома стоял огромный медицинский ящик,
где в изобилии лежали немецкие медикаменты в красивой упа¬
ковке. И каждый раз, когда молодой парень приносил мне
заказ на медикаменты из леса от партизан, я старался выполнить
этот заказ как можно добросовестнее.
Наступило лето 1943 года. Военная фашистская авантюра
приближалась к позорному краху. Это я знал не только из
радиопередач, но еще больше из состояния немецких войск
в Крыму. Немцы были злы и кусались, как осы. Католический
пастор, страстный латинист и знаток Овидия, относился ко мне
внимательнее других. Он запретил мне слушать радио: надо
быть осторожным! И сказал, что против многих русских немцы
готовят репрессии. Потом он деликатно намекнул мне, что
я тоже в глазах немцев неблагонадежный человек. Через
некоторое время он уже более настойчиво советовал мне оста¬
вить Старый Крым и поехать в Николаев или Одессу. В Сим¬
ферополь ехать было нельзя —? там немцы были особенно злы.
Румынский священник, воспитанник Киевской духовной
академии, помог и, может быть, спас меня. 5 августа 1943 года
я покинул Старый Крым на большом грузовике с пустыми
бочками для бензина. Эта машина следовала из Крыма через
Симферополь, Николаев и Херсон — в Одессу. В Симферополе
при содействии того же румынского священника мною было
получено необходимое разрешение путешествовать на пустых
бочках. Католический священник, как я с ужасом об этом
узнал значительно позднее, был прав. Отступая из Старого
Крыма, немцы уничтожили много русской интеллигенции.
Трусливо убегая под давлением советских войск и под нажимом
с фланга крымских партизан, немцы убивали без разбора
всех.
Еще ужаснее картина была в Симферополе, где фашисты
убили и бросили в колодец во дворе театра восьмерых театраль¬
299
ных работников за то, что они во время оккупации не поже¬
лали уехать с ними. Ужасные воспоминания преследовали
меня, как кошмар, и я долго, долго, уже приехав в Одессу,
не мог успокоиться. Только полученное известие о том, что
моя жена, оставшаяся в Старом Крыму, жива и здорова,
восстановило мое психическое равновесие.
Я появился на улицах Одессы рано утром на машине,
громыхающей пустыми бочками. Единственное место, где
я мог найти пристанище, был дом Вани Барсова, друга моей
юности. Барсов принял меня радостно.
Далее жизнь сложилась так. В оперном театре артист
Селявин занимал место консультанта. Пользуясь этим, он
никого из труппы не оставил без хлеба; все служили в опере.
Меня он тоже включил в невероятно раздутый состав опер¬
ного театра.
Моя режиссерская работа возобновилась с того момента,
когда Одесса была окончательно освобождена. Директором
оперы был назначен артист Снибровский, мужественно выбро¬
сивший своими руками в окно фугасный снаряд, сброшенный
с вражеского самолета в левый коридор второго этажа театра.
С директором Снибровским я стал заниматься восстановлением
советского оперного театра. Когда возвратились основные силы
труппы, опера в Одессе начала жить своей обычной жизнью.
Назначенный директором театра Алексеев, человек хозяй¬
ственный, немногословный и достаточно опытный, окончательно
наладил работу театра.
Кончилась война. Одесса, израненная оккупантами, начала
залечивать свои раны. Оперный театр, несмотря на то, что иму¬
щество в значительной степени было разграблено, стал восста¬
навливать утраченное. Лучшие костюмы и ценные ноты одесской
оперы при оккупантах были намечены к вывозу за границу.
И только патриотизм костюмерш Михальской, Шанявской
и библиотекаря Дорошенко спас имущество, без которого
оперный театр долгое время был бы безжизненным. Советские
патриоты положили в ящики самое бросовое имущество теат¬
ра — старые костюмы и никому не нужные оркестровки.
Ящики были заполнены. Но тогдашний директор театра настоял,
чтобы ноты и костюмы «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы»
были уложены при нем. Одесса теряла свои самые дорогие
произведения и замечательные костюмы — шелк и бархат —
«Пиковой дамы». Но чужое добро впрок не идет! На станции
300
Еремеевка вагон с похищенным чужим добром попал под
обстрел, и рельсы этого участка железной дороги покрылись
нотными листами и пышными юбками екатерининской эпохи.
Материал женских костюмов опер был использован как слу¬
чайный утиль, а никому не нужные листы нот, словно осенние
листья, носились по полям. Распорядительность директора
Снибровского, командировавшего администратора и библиоте¬
каря собрать на рельсах листы нот, увенчалась успехом —
половина драгоценного нотного материала была спасена.
Мне, назначенному главным режиссером одесской оперы,
в послевоенные годы пришлось употребить много сил и «моло¬
дой» энергии для укрепления театра. Из обрывков оне¬
гинских материалов и из того, что было подобрано на рельсах
Еремеевки по «Пиковой даме», мы с художником Черлени¬
овским, встреченном мною в архитектурно-художественной
группе Винницы, восстановили постановки «Евгения Онегина»
и «Пиковой дамы». Затем нами были поставлены «Аида», «Тра¬
виата», «Паяцы», «Сельская честь», «Кармен», «Демон» и «Кор¬
невильские колокола». С художником Злочевским мне при¬
шлось поставить «Князя Игоря», «Фауста» и «Дубровского».
Этот сухой перечень названий двенадцати опер, которые
до сих пор являются обязательными в каждой декадной афише
одесского театра, достаточно ясно дает представление, что
я, имея за плечами почти восемьдесят лет, не смотрел на близ¬
кий сердцу одесский оперный театр, как на дом отдыха.
Когда мне исполнился восемьдесят один год, я получил
от моих коллег по одесской опере письмо, которое согрело мое
сознание своим теплым актерским приветом.
В этом письме говорилось:
«Дорогой Николай Николаевич!
Мы, артисты-солисты Одесского государственного академи¬
ческого театра оперы и балета поздравляем вас в день вашего
рождения с 81-й годовщиной и желаем вам здоровья и много
лет творческой жизни.
С чувством глубокой благодарности мы вспоминаем вашу
горячую, искреннюю любовь и преданность нашему общему
делу — советскому искусству.
Мы счастливы тем, что нам выпало на долю работать под
художественным руководством такого талантливейшего режис¬
сера, как вы, наш любимый Николай Николаевич.
301
Мы не сомневаемся в том, что вы внесете ценный вклад
в историю советского театра, написав свои воспоминания.
Живите и творите еще долгие, долгие годы, наш родной
учитель!
26 января 1951 года
Любящие вас ученики»
Я ответил моим дорогим друзьям письмом, в заключение
которого я писал:
«...Получив, дорогие товарищи, реальные знаки вашего
идеального ко мне отношения, хотелось бы мне в цифрах моих
лет (81) сделать небольшую режиссерскую перестановку,
передвинув единицу на место восьмерки.
И в эти воображаемые восемнадцать лет я стал бы еще
больше любить театр и ценить больше таких замечательных
людей, как вы, родные мне по духу товарищи».
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава первая. Детство. Саратовская семинария. Театр Г. М. Ков¬
рова. Т. Сальвини. Астрахань. Встреча с Н. Г. Чернышевским 3
Глава вторая. Казань. Антреприза Серебрякова. Ф. И. Шаляпин.
Гастроли Адамяна. Саратов 14
Глава третья. Саратов. Нижний Новгород. Оперное товарищество
Н. В. Унковского. Харьков. Ростов-на-Дону. Таганрог. Мариуполь.
Одесса. Москва 26
Глава четвертая. Пермь 45
Глава пятая. Поездка за границу. Вена. Венеция. Милан. Москва.
Бюро Русского Театрального Общества 57
Глава шестая. Москва. Казань, Саратов 77
Глава седьмая. Тифлис. Дирекция H. Н. Фигнера. Баку. Антре¬
приза П. М. Зурабова 91
Глава восьмая. Казань. Саратов. Тифлис 101
Глава девятая. Тифлис. Антреприза Л. Д. Донского. Кисловодск. 113Глава десятая. Оперное товарищество. Поездка по Западному
краю. Киев. Дирекция С. В. Брыкина. Мюнхен 123
Глава одиннадцатая. Петербург. Мариинский театр. Заграничная
поездка 148
Глава двенадцатая. Петербург. Мариинский театр. Кисловодск.
Опера М. М. Валентинова. Первая мировая война 193
Глава тринадцатая. Театр «Музыкальной драмы». Смерть Э. Ф. На¬
правника. Снова Мариинский театр 217
Глава четырнадцатая. Кисловодск. Баку. Астрахань 231
Глава пятнадцатая. Саратов. Ростов-на-Дону. Баку. 245
Глава шестнадцатая. Харьков. Одесса 257
Глава семнадцатая. Свердловск. Тифлис. Баку. Эривань.... 272
Глава восемнадцатая. Одесса. Луганск. Днепропетровск. Горький.
Винница. Одесса 285
Николай Николаевич Боголюбов
ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ
Редактор Б. В. Рудзеевский. Художник В. Я. Дургин
Корректор А. А. Позина
Сдано в набор 18/V 1967г. Подписано к печати 5/XI 1967 г. Л130014.
60x84/16. Печ. листов 19. Уч. -изд. л. 16, 8. Изд. № 318. Тираж 20000 экз.
Зак. № 1061. Цена 1 руб. 45 коп.
Всероссийское театральное общество
Москва, К-9, ул. Горького, 16
Московская типография Кв 16 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва, Трехпрудный пер., 9