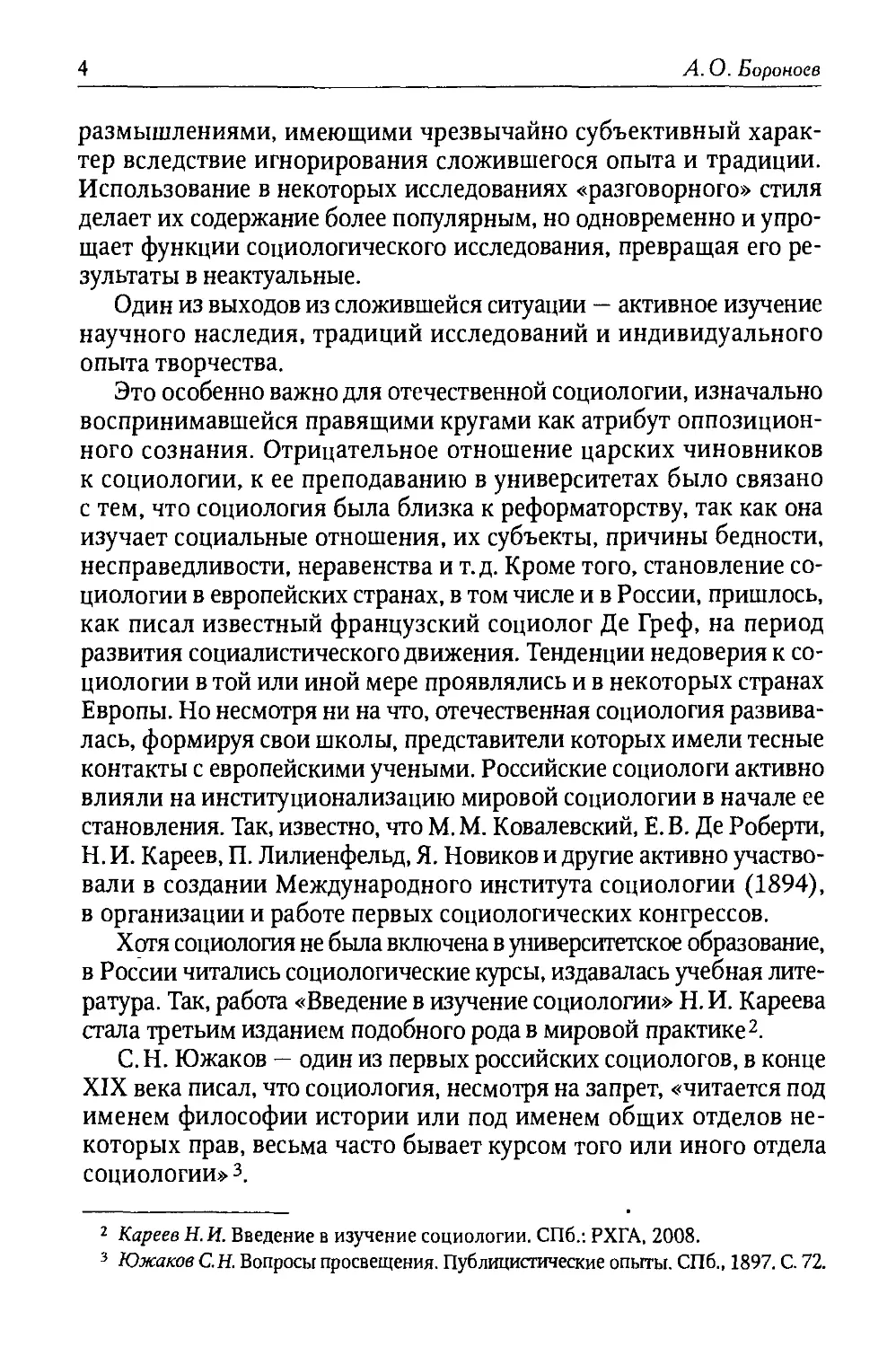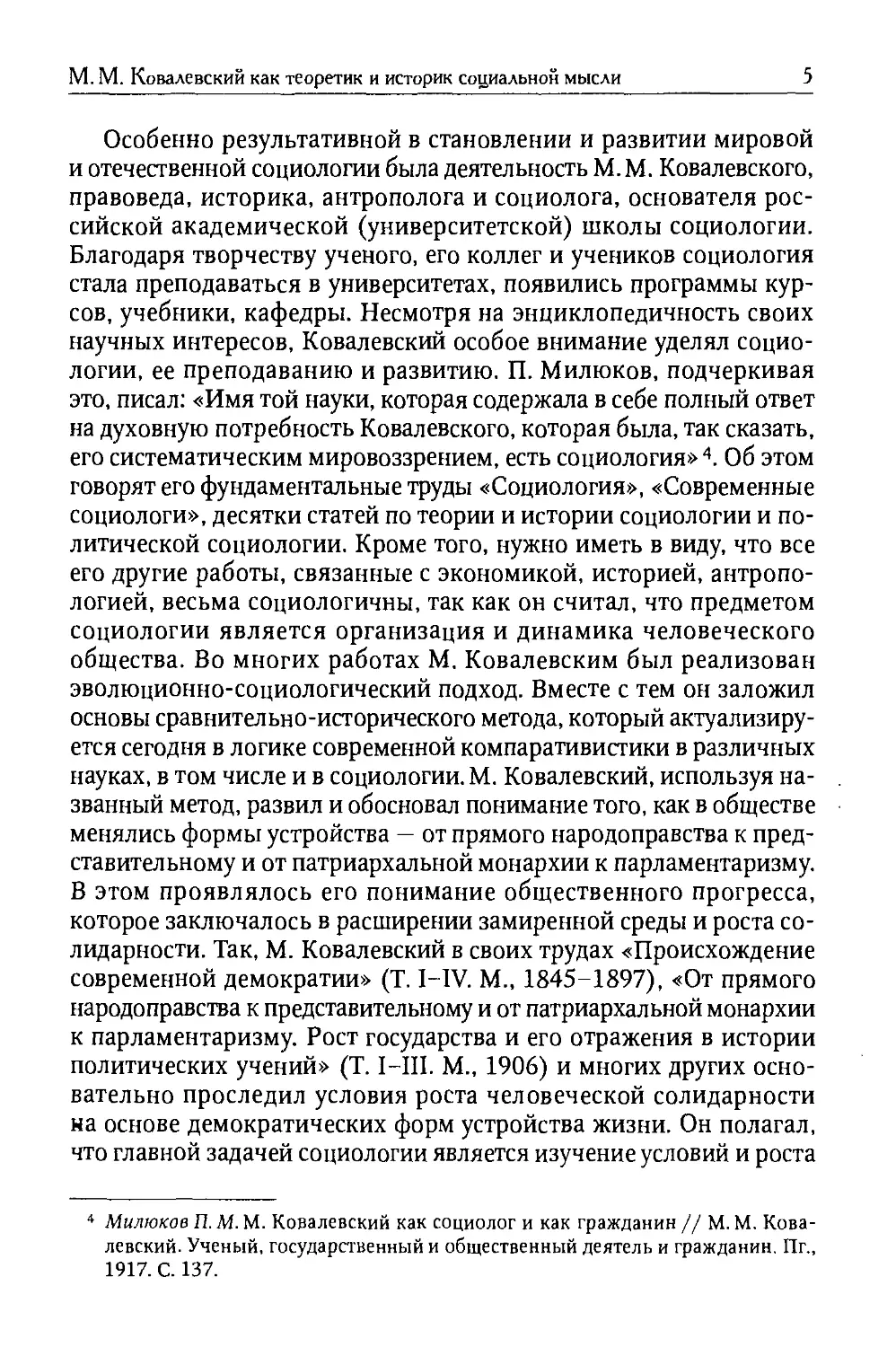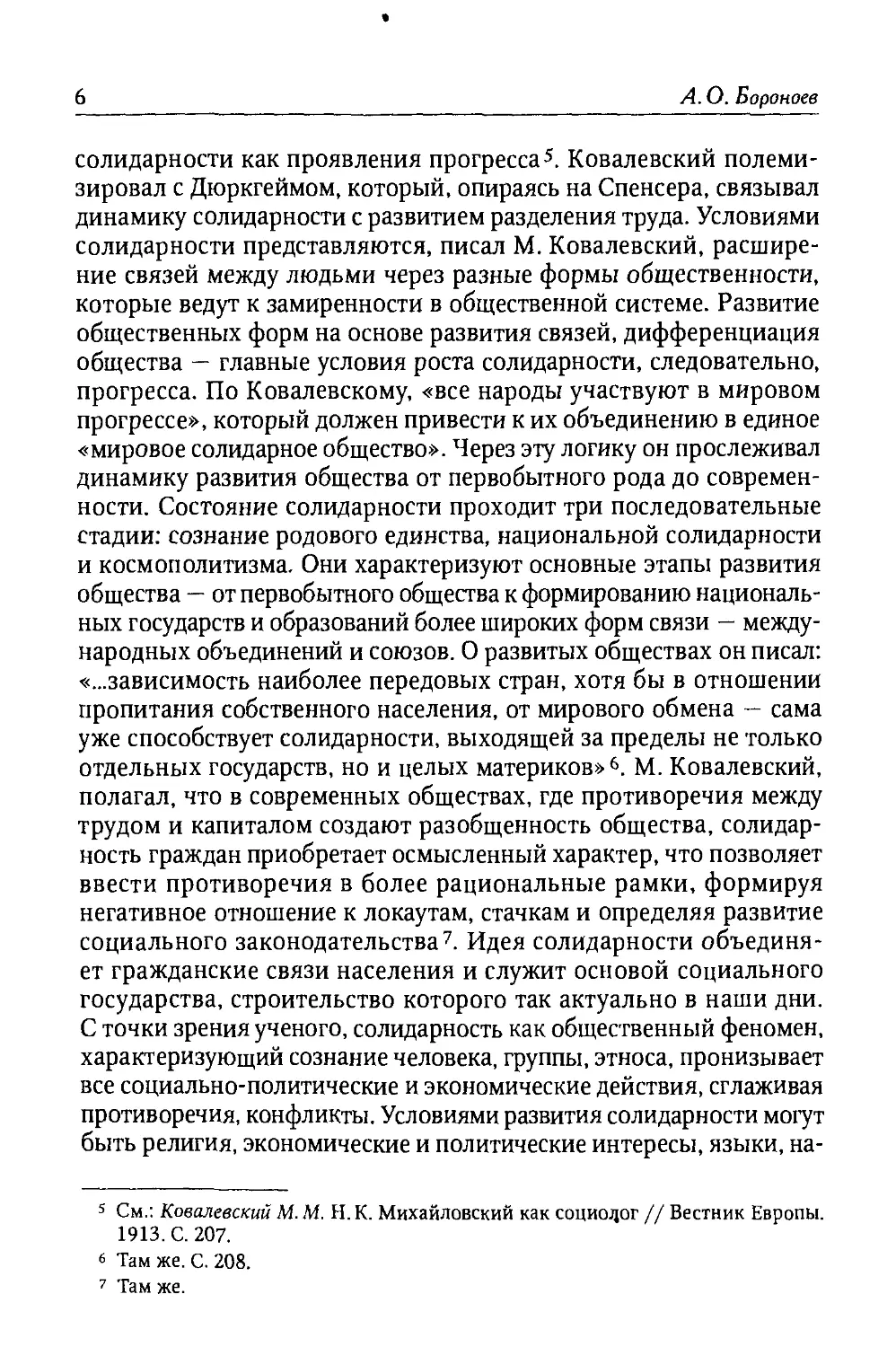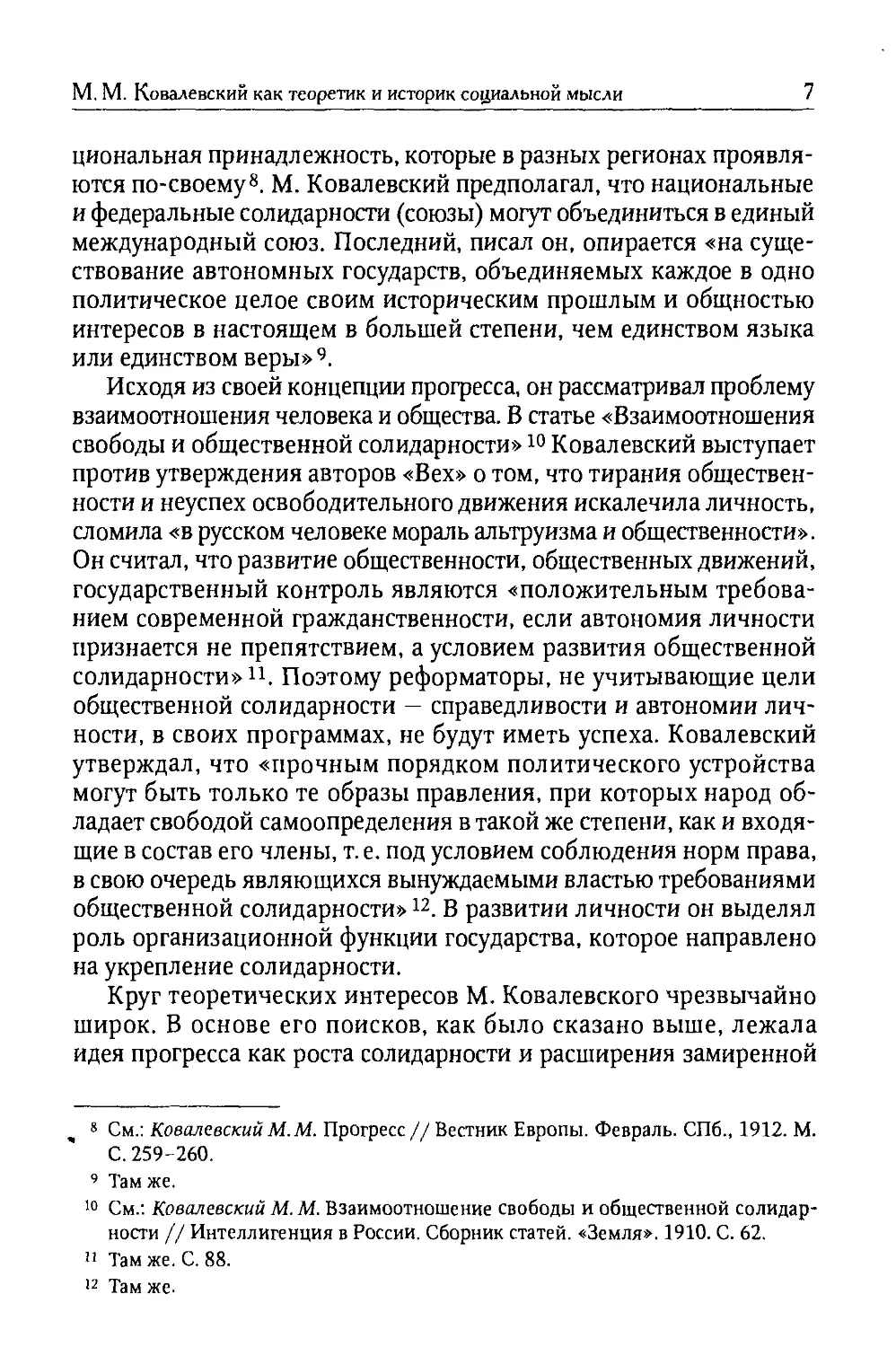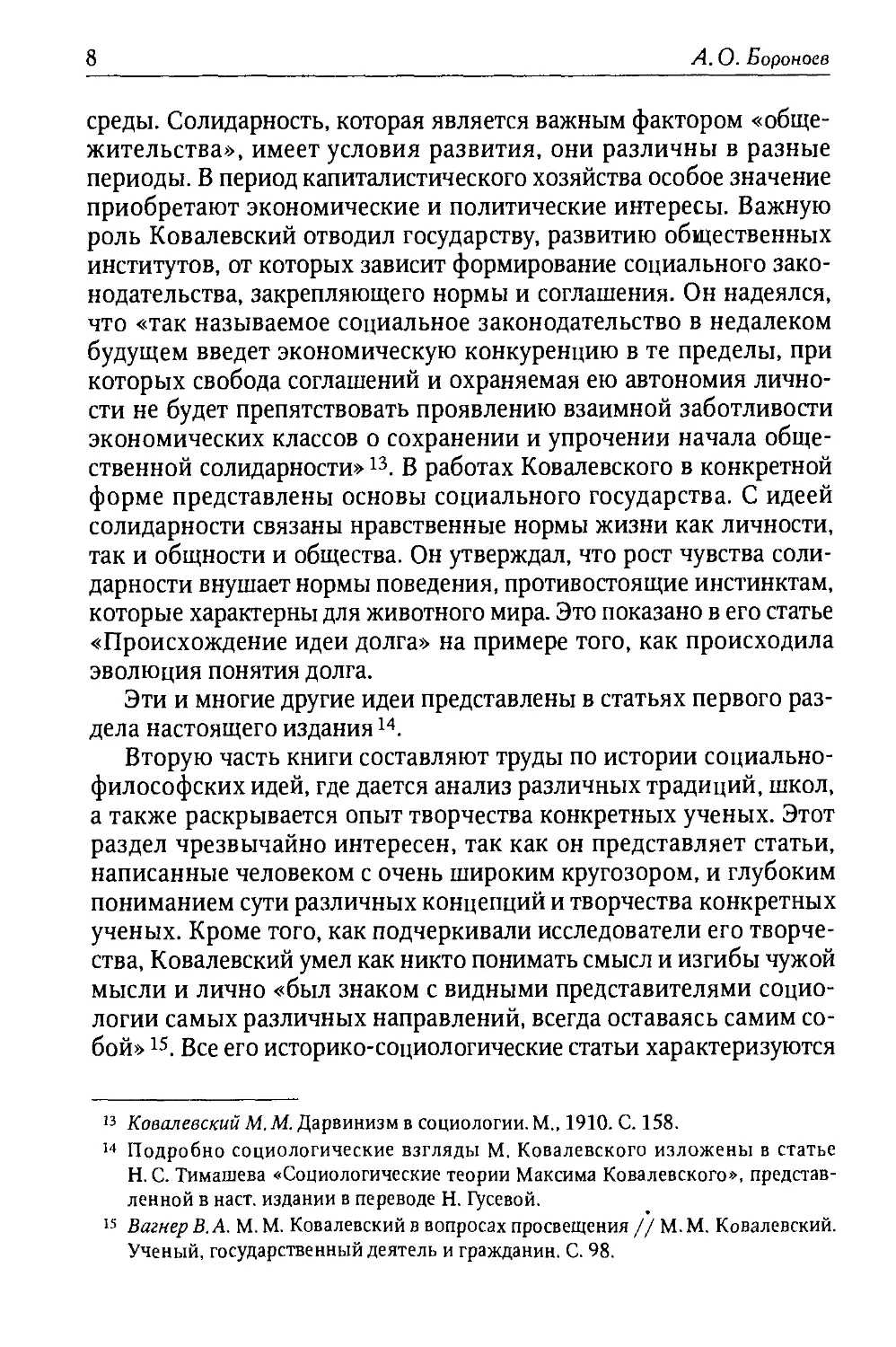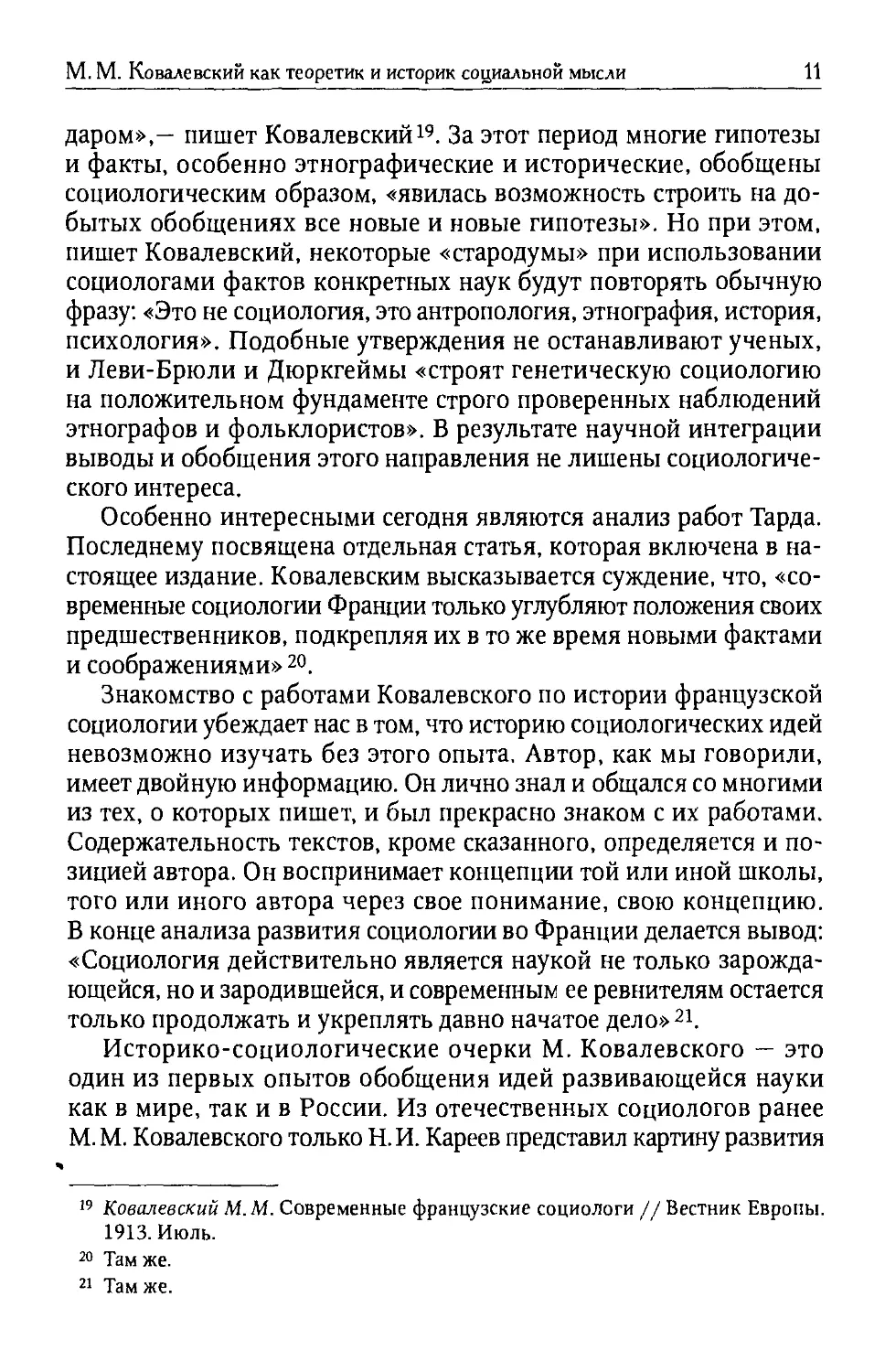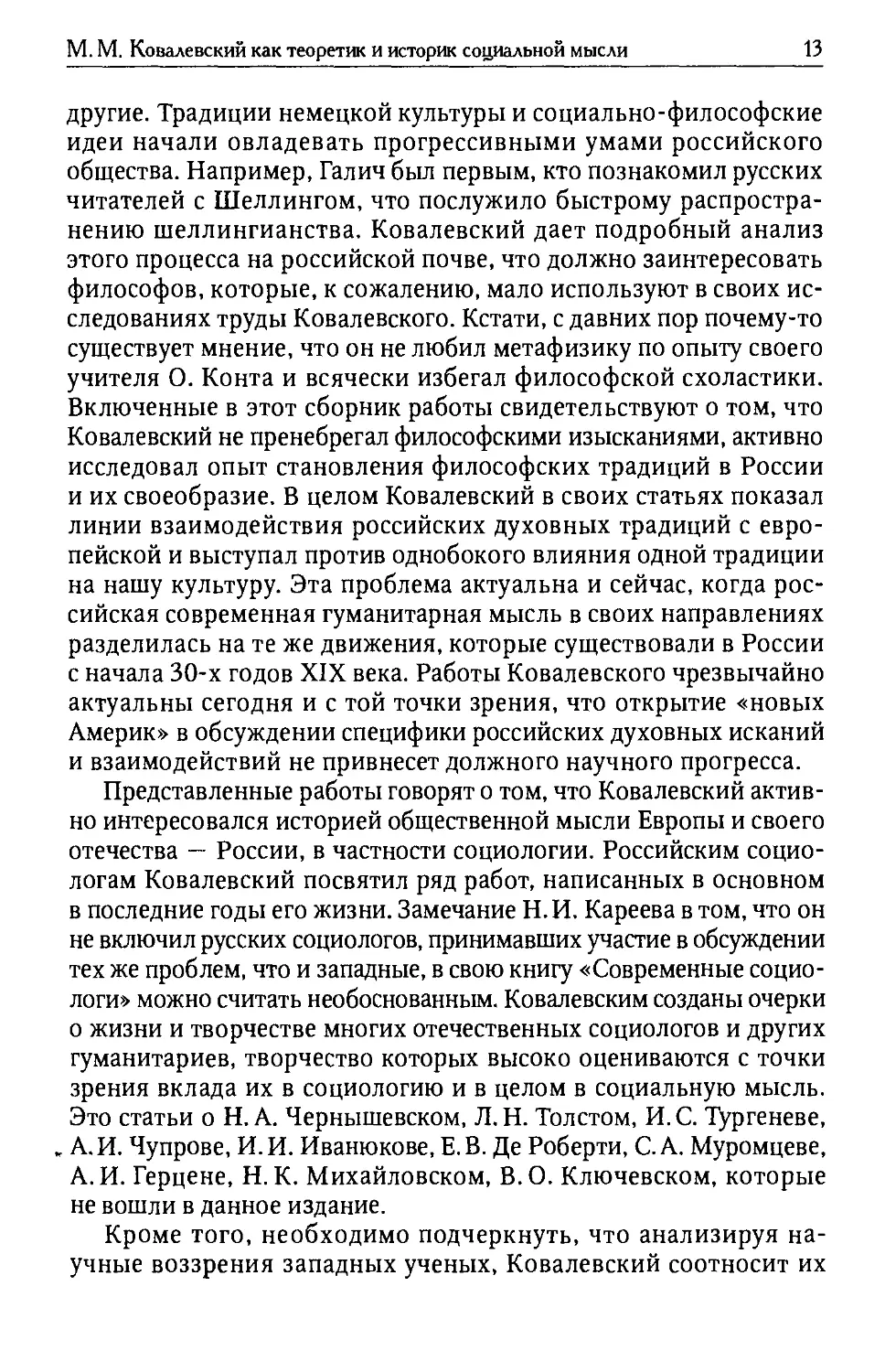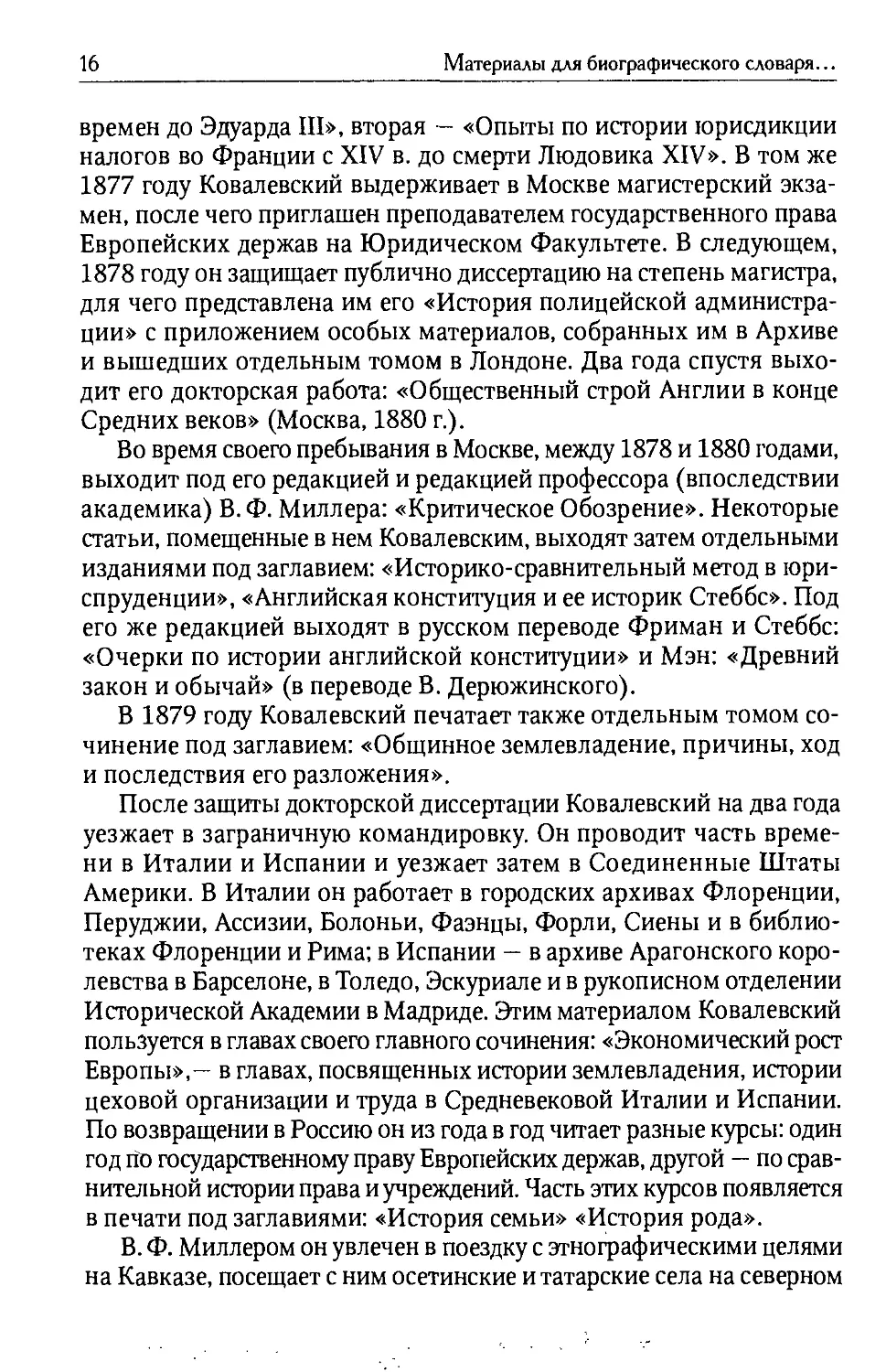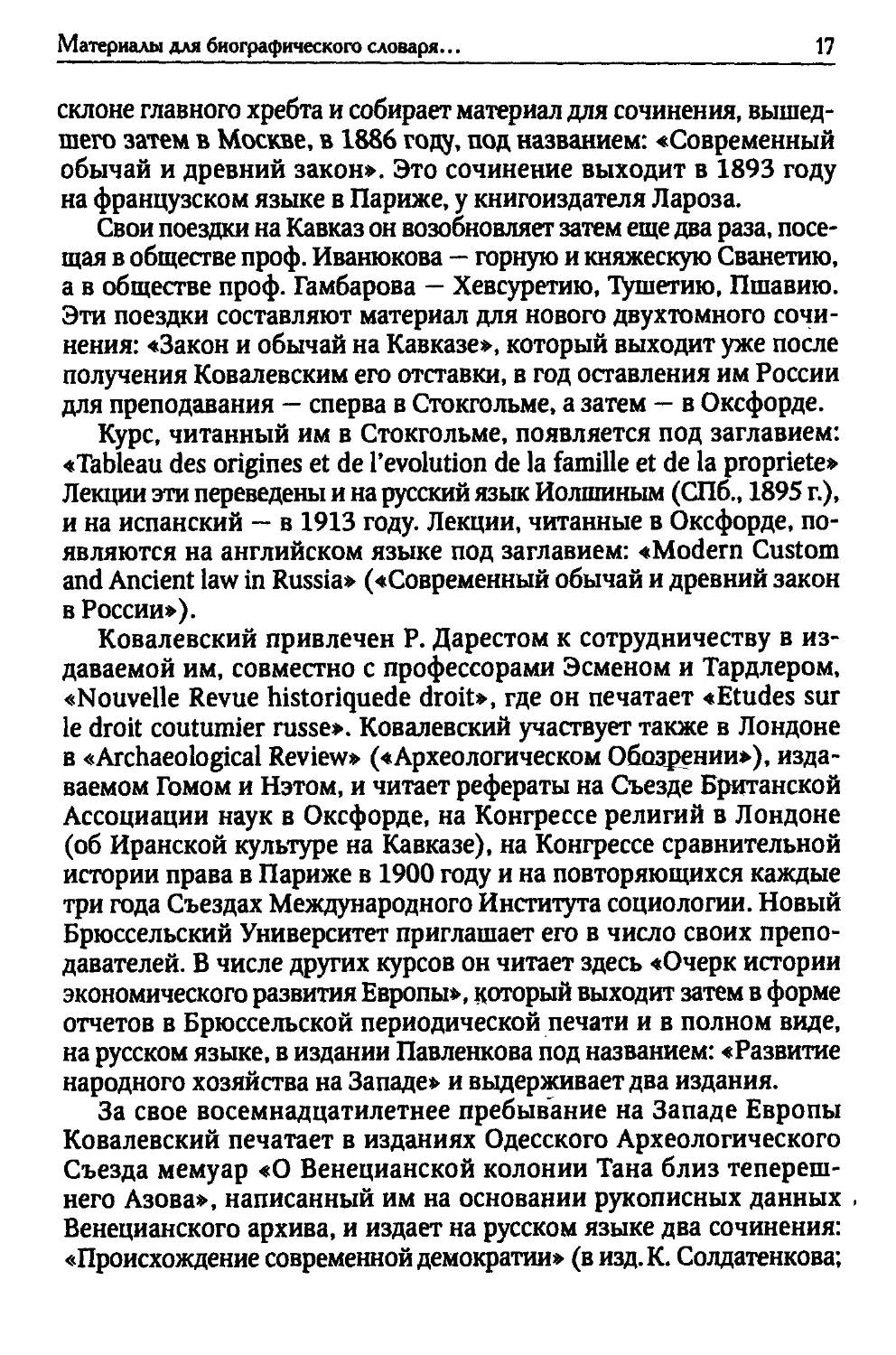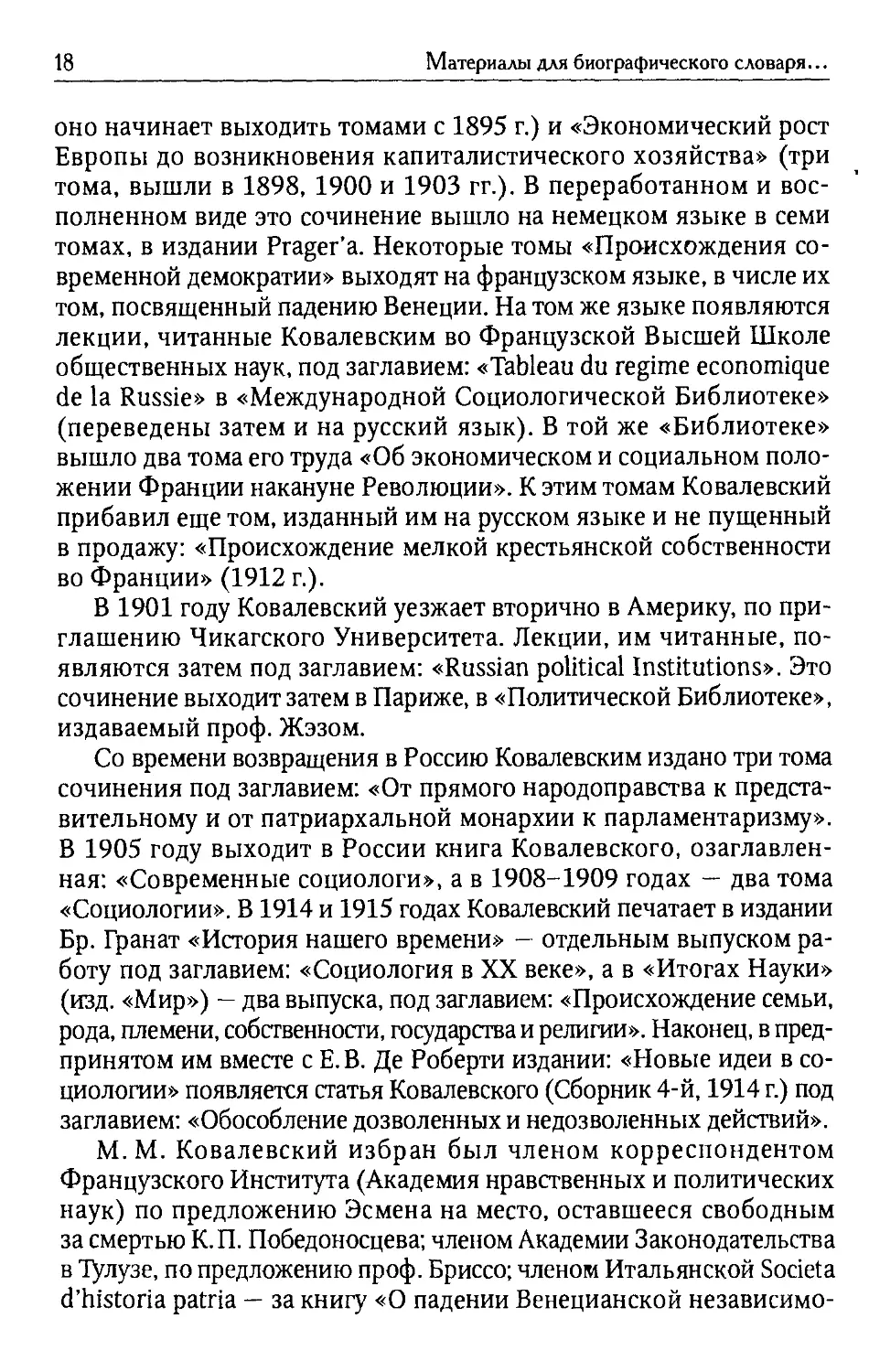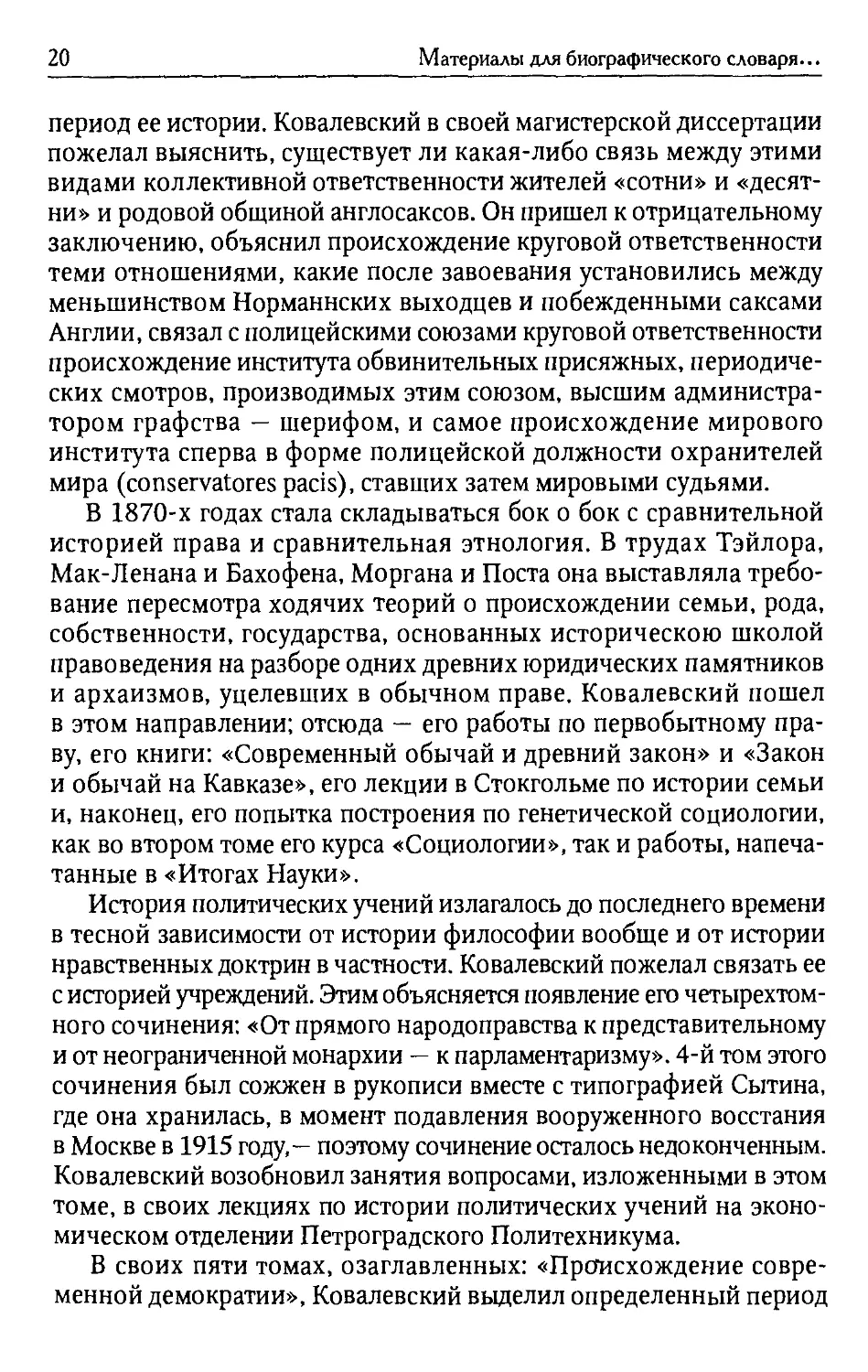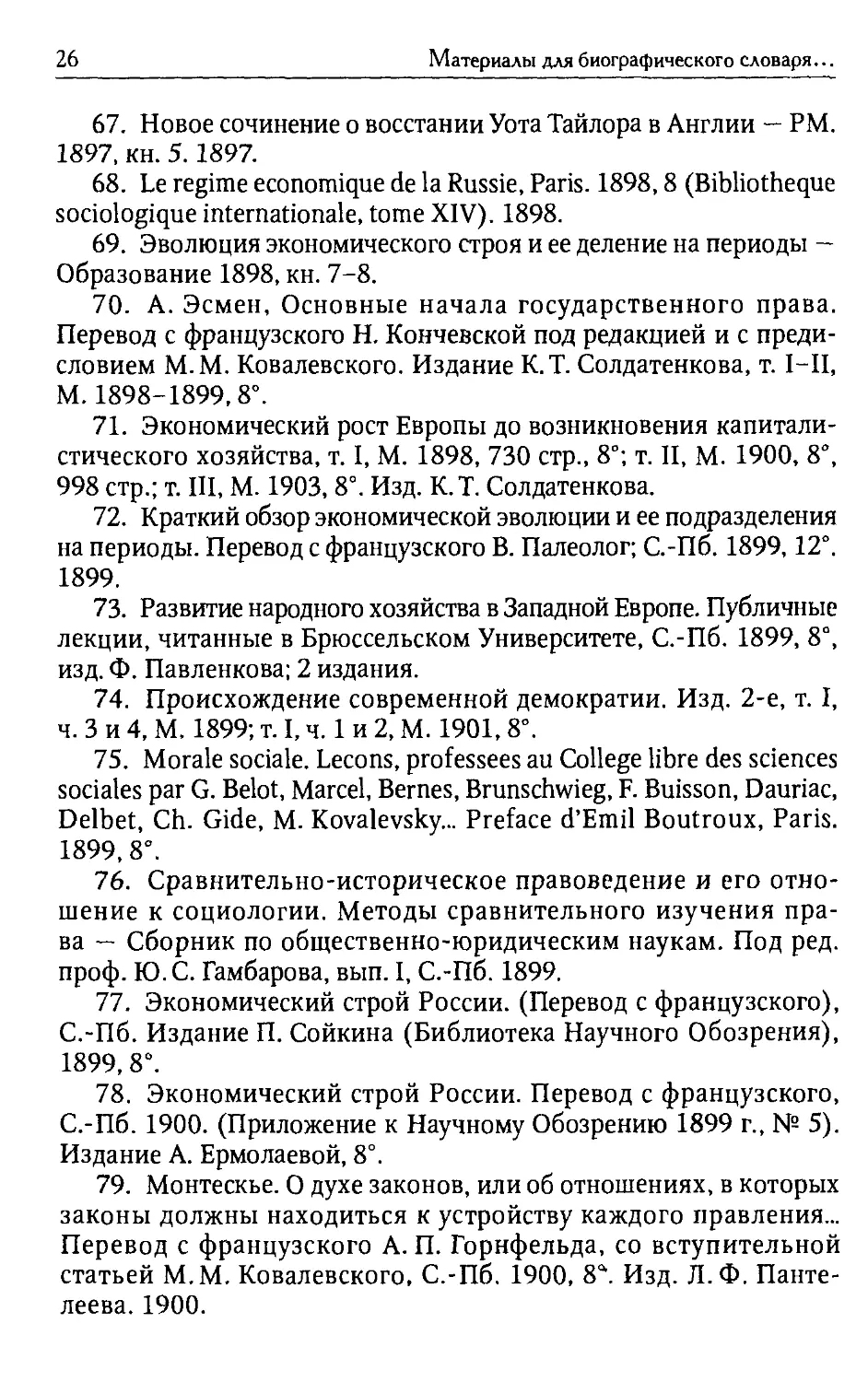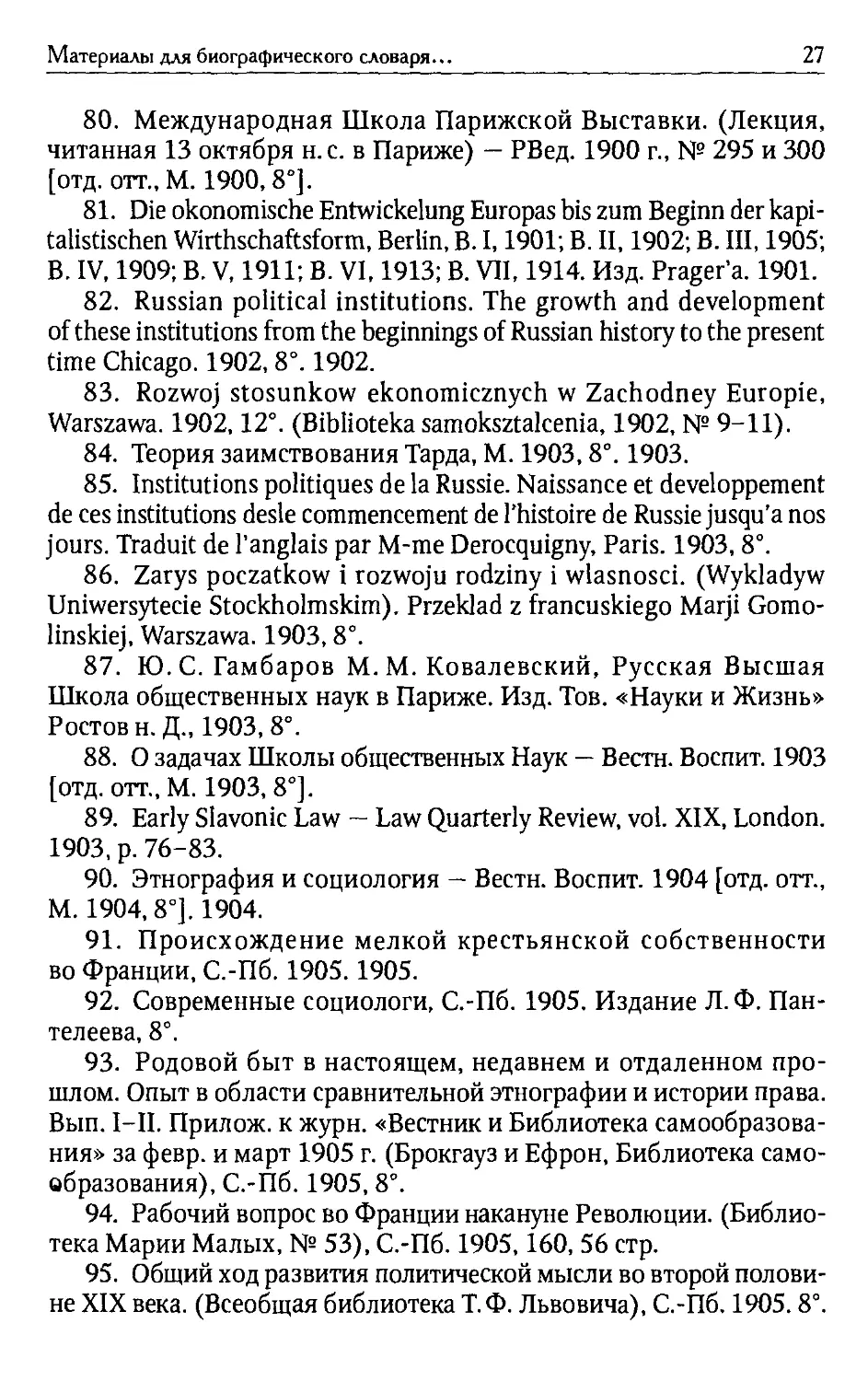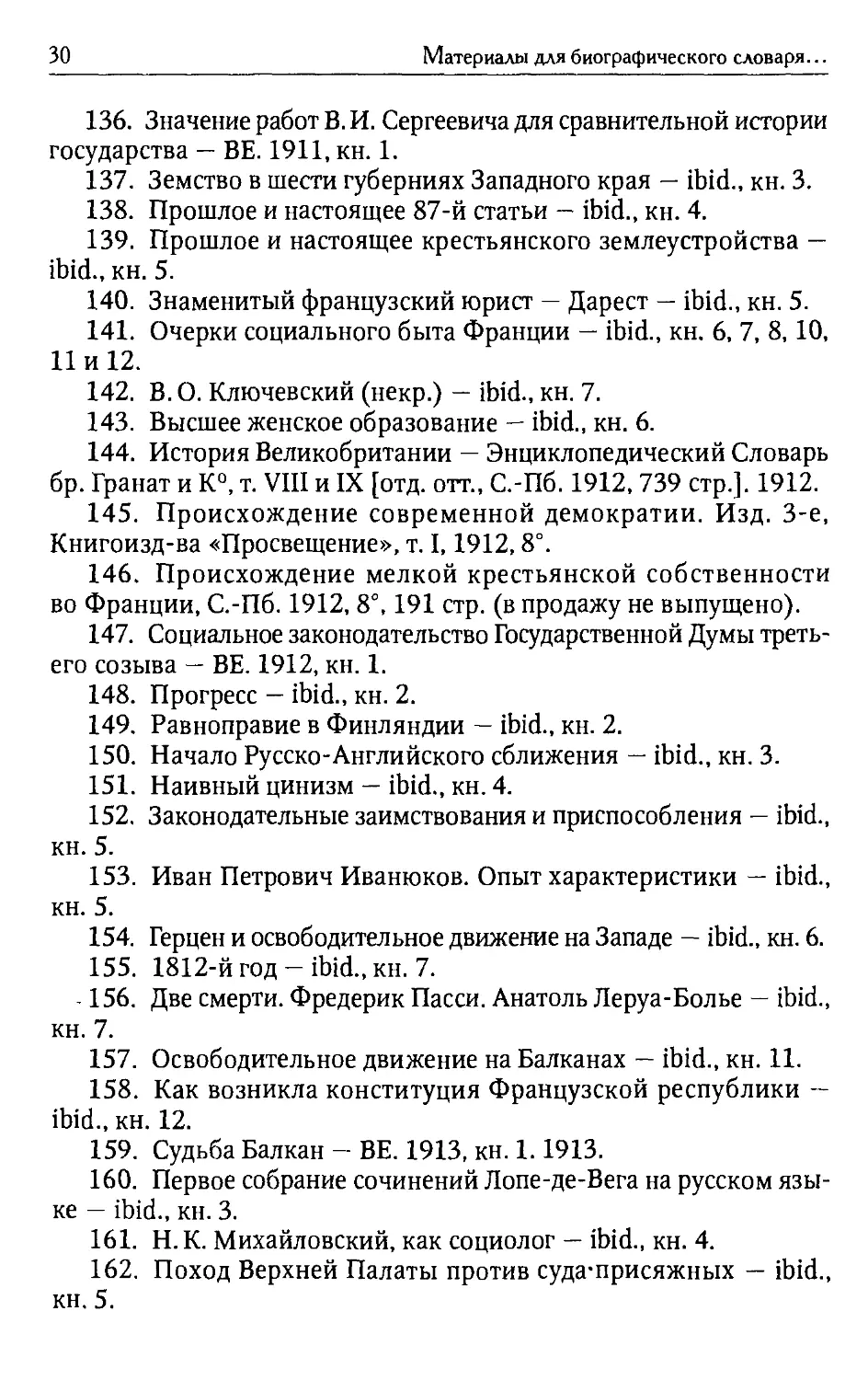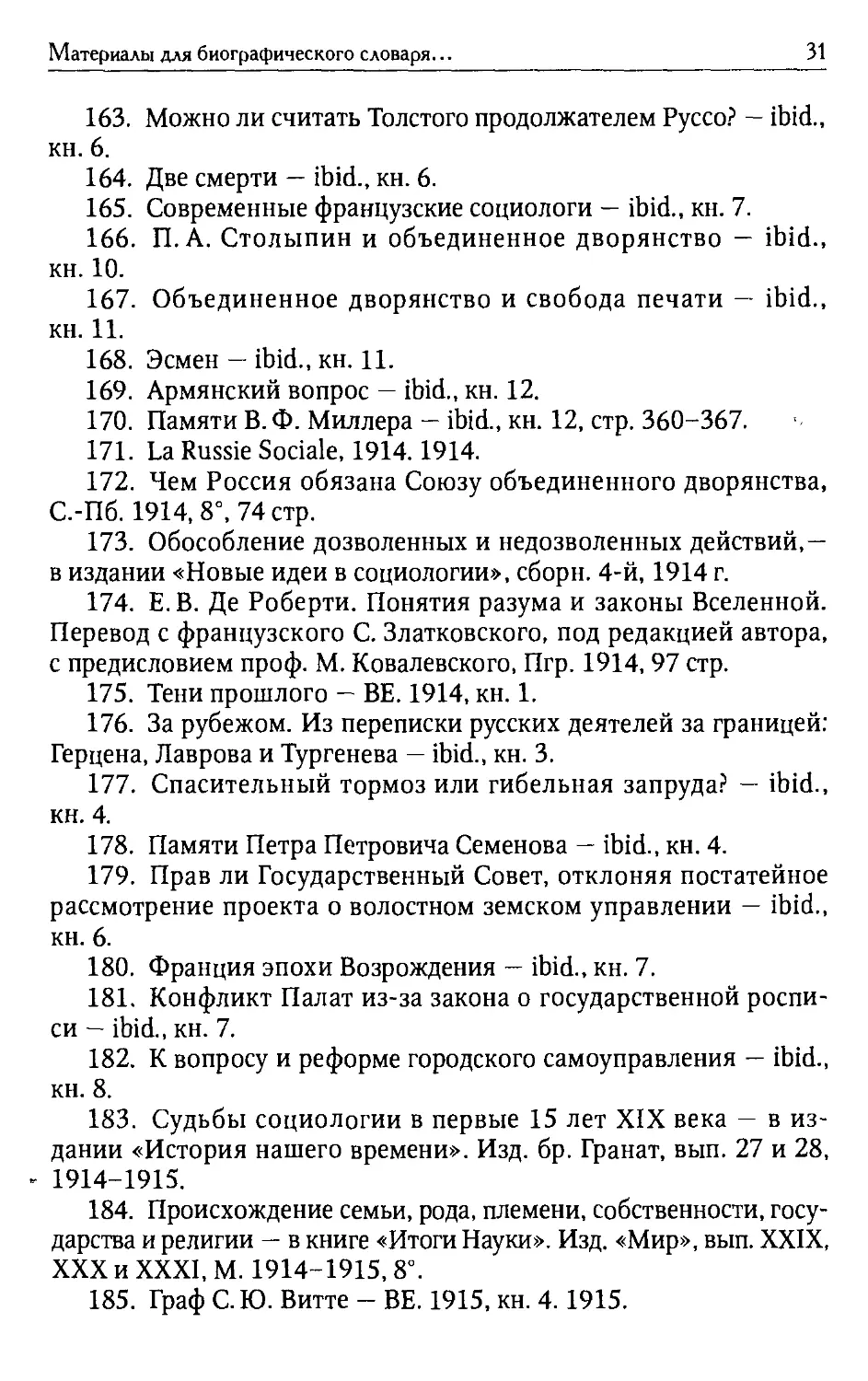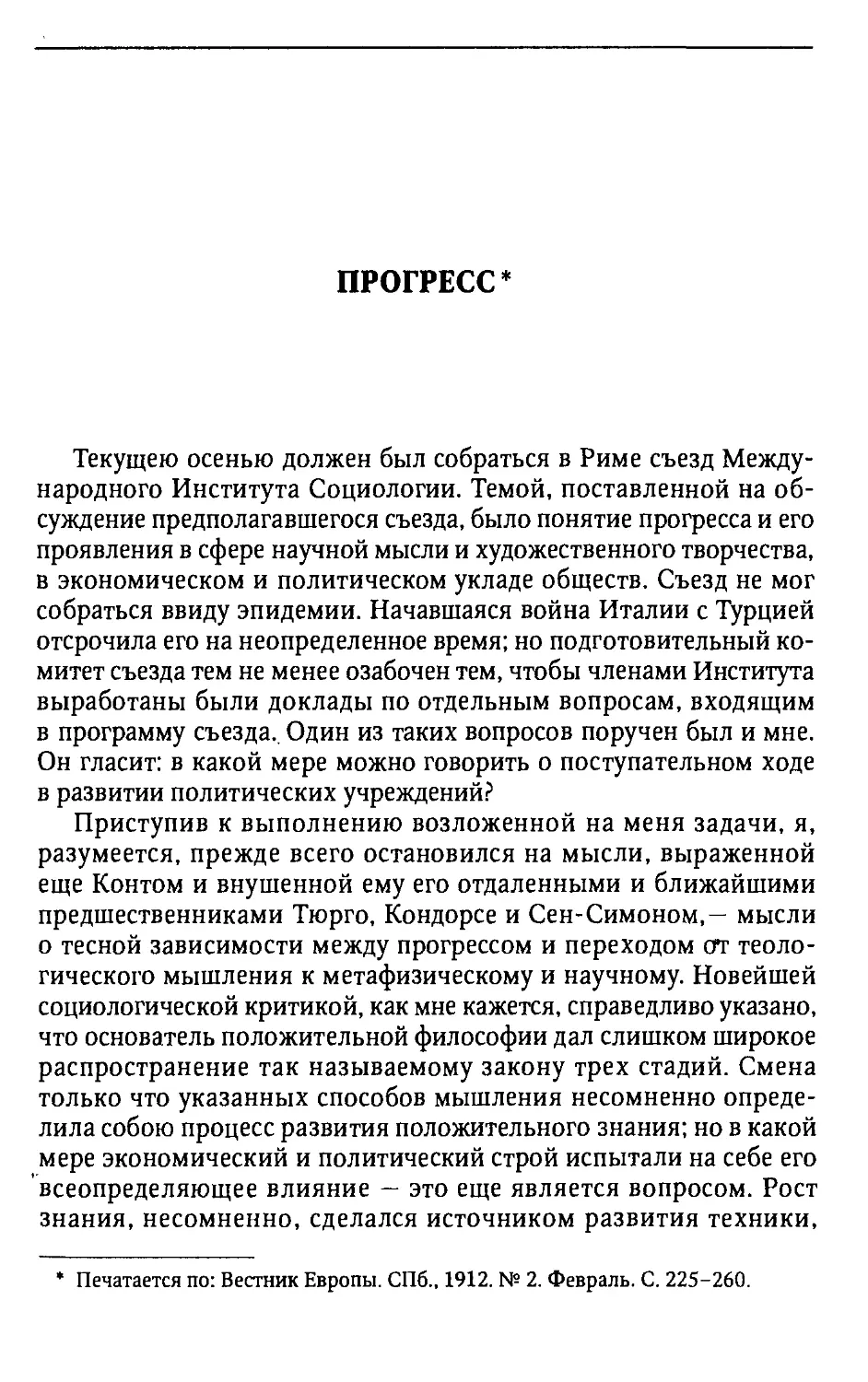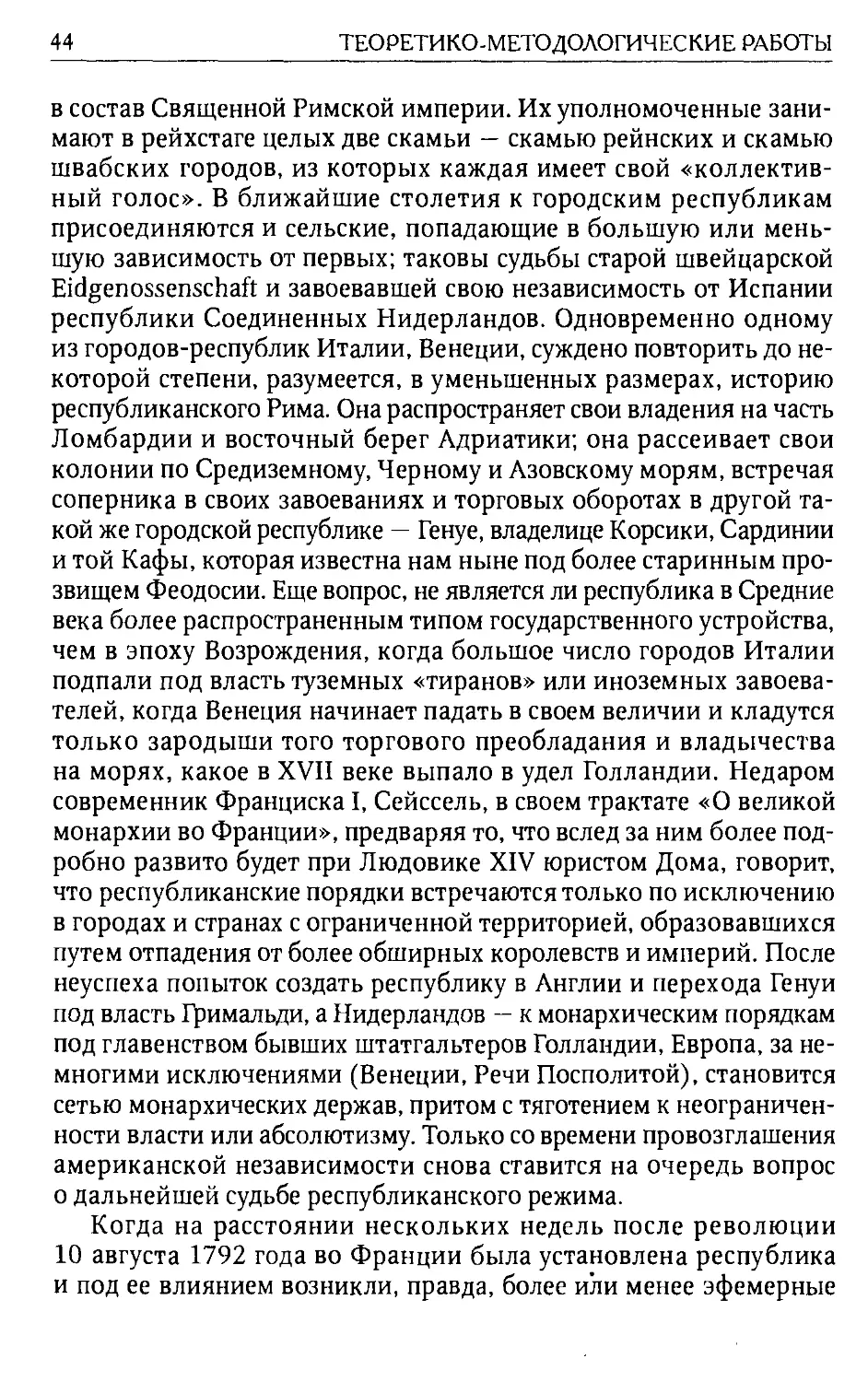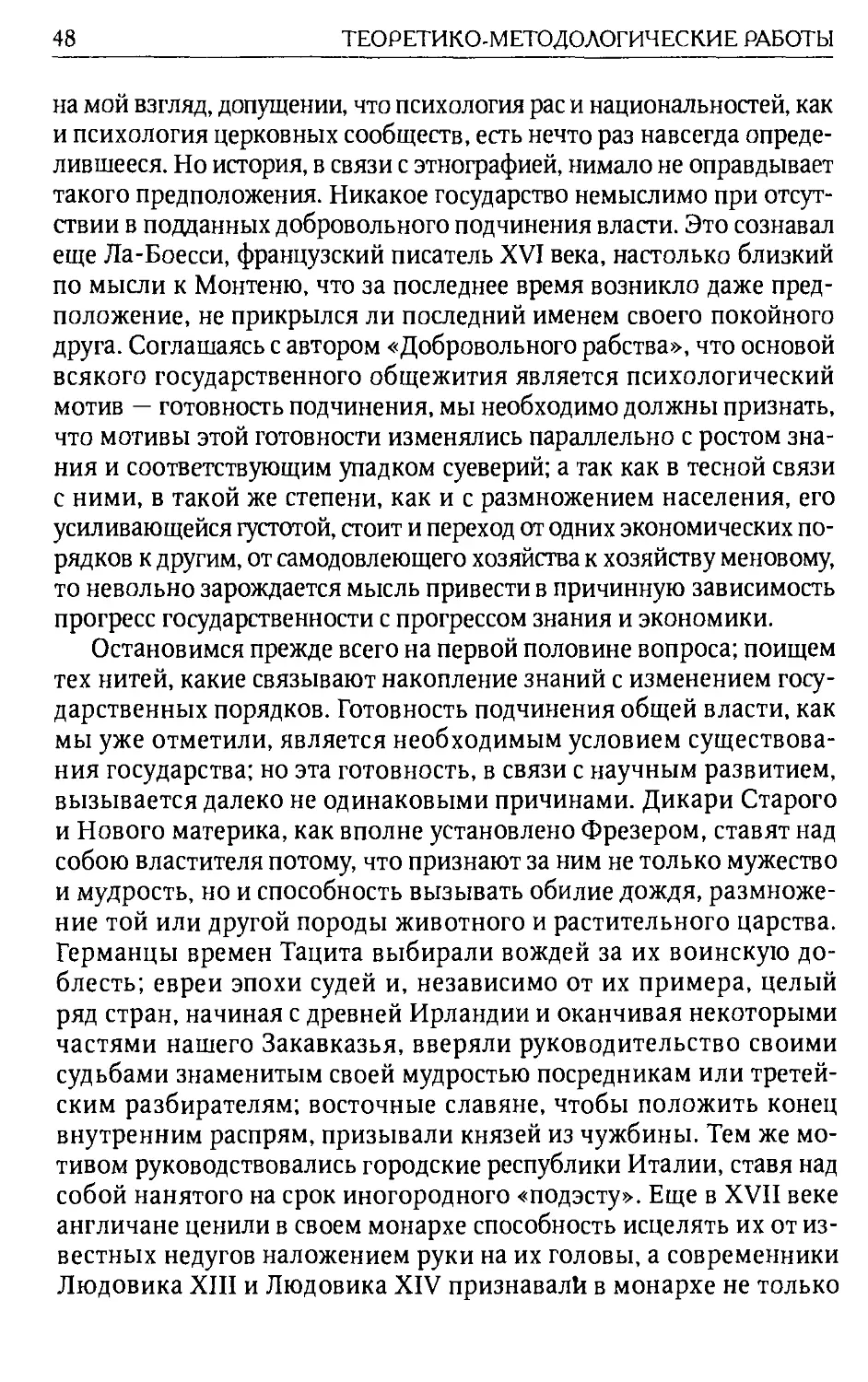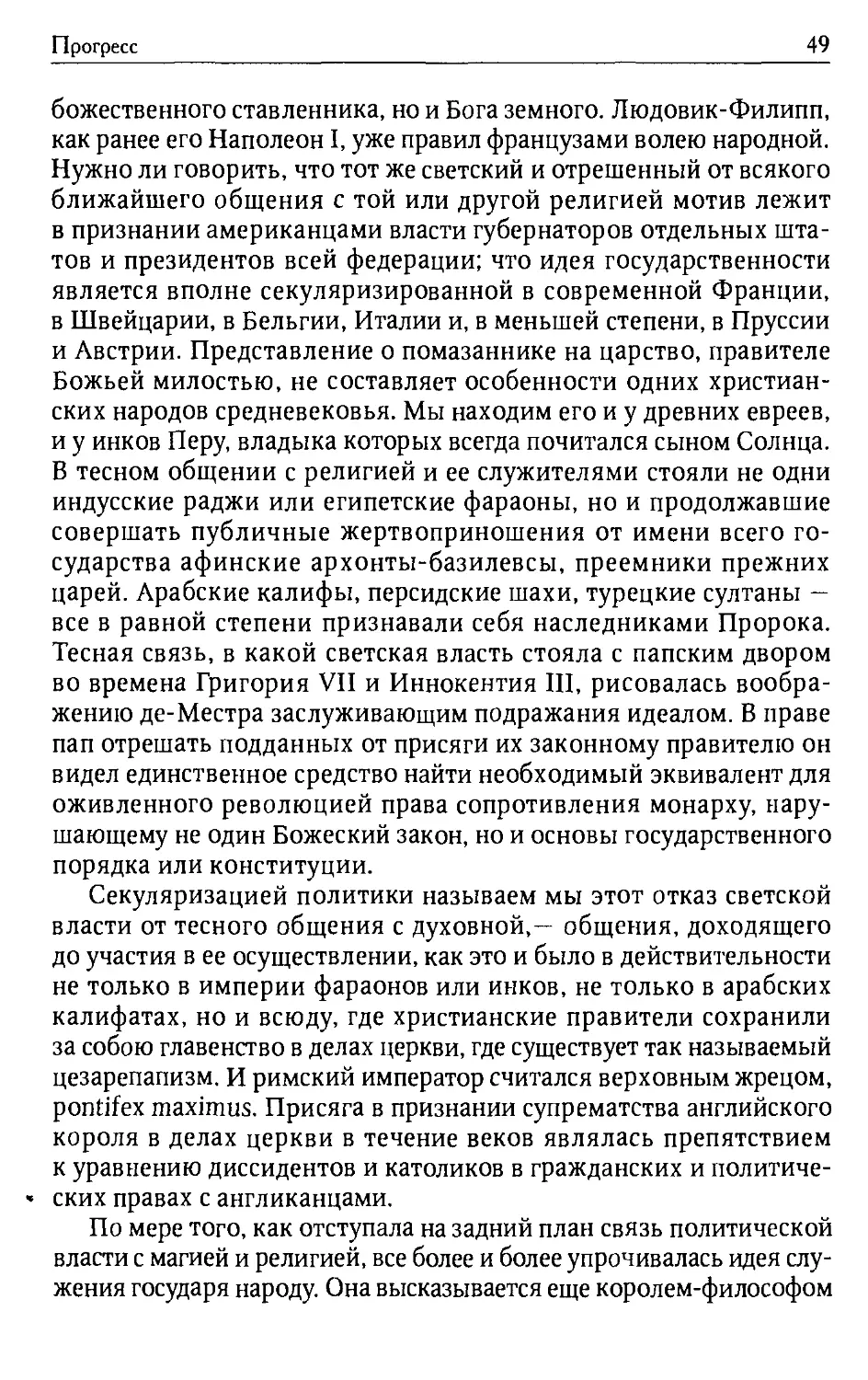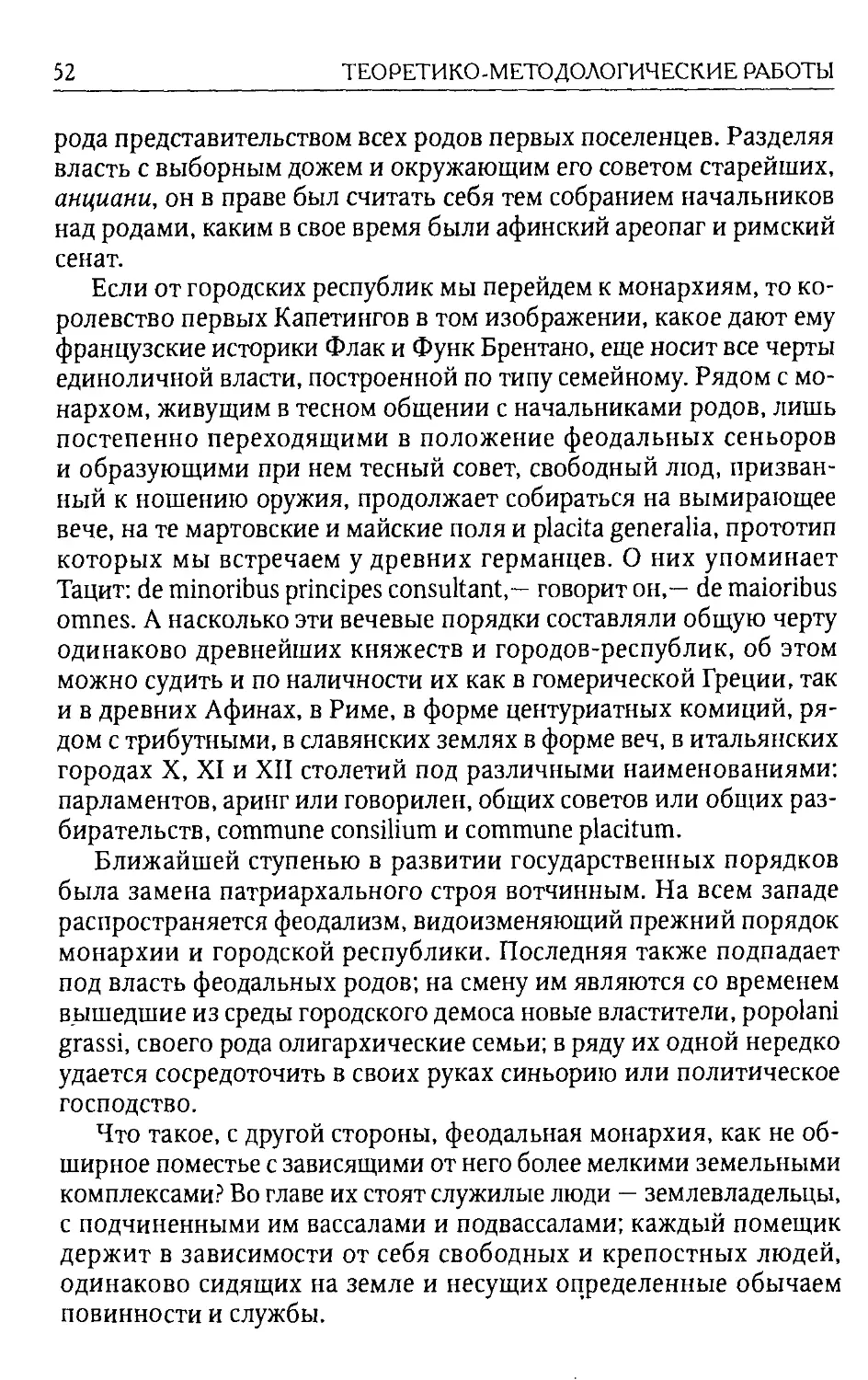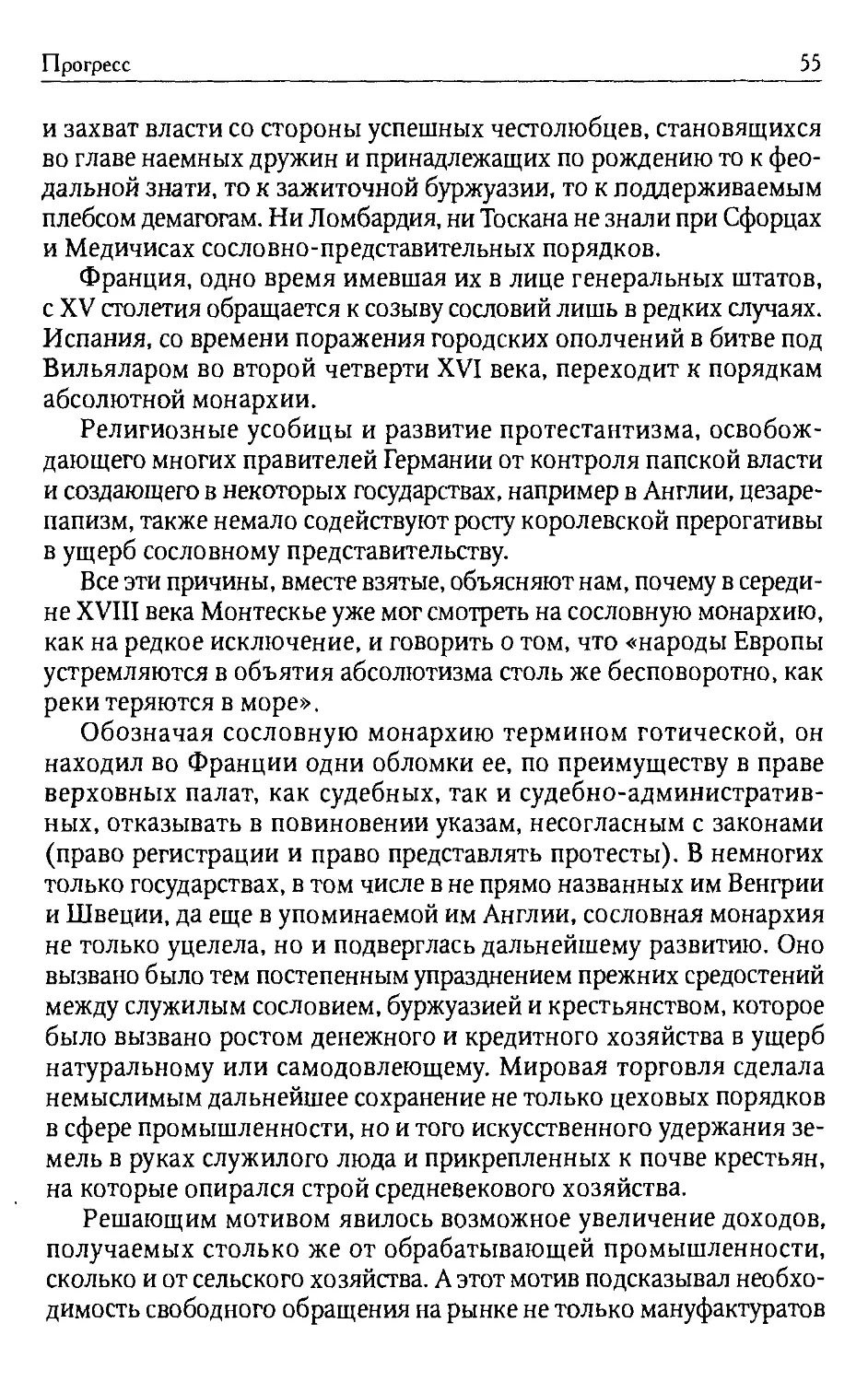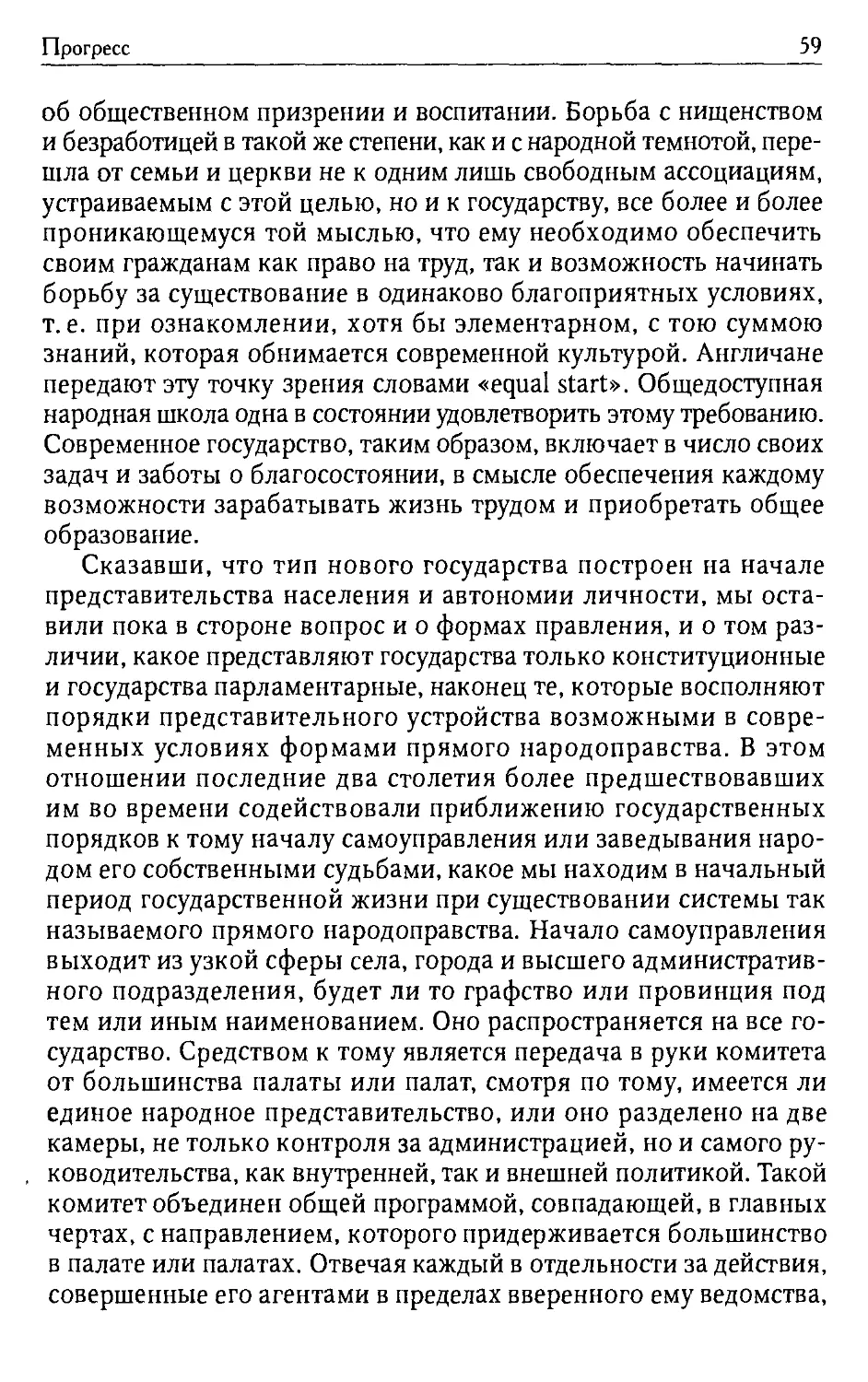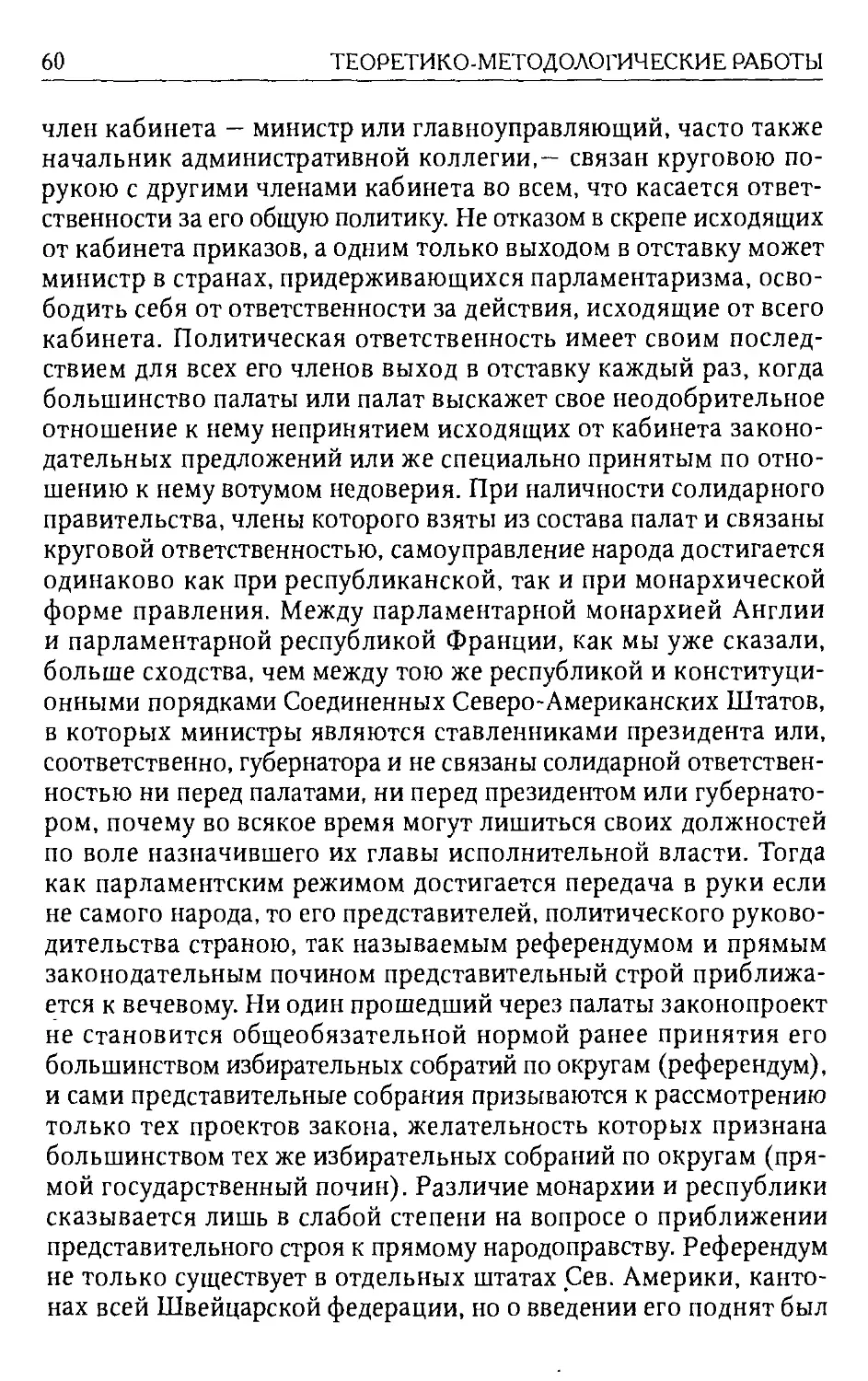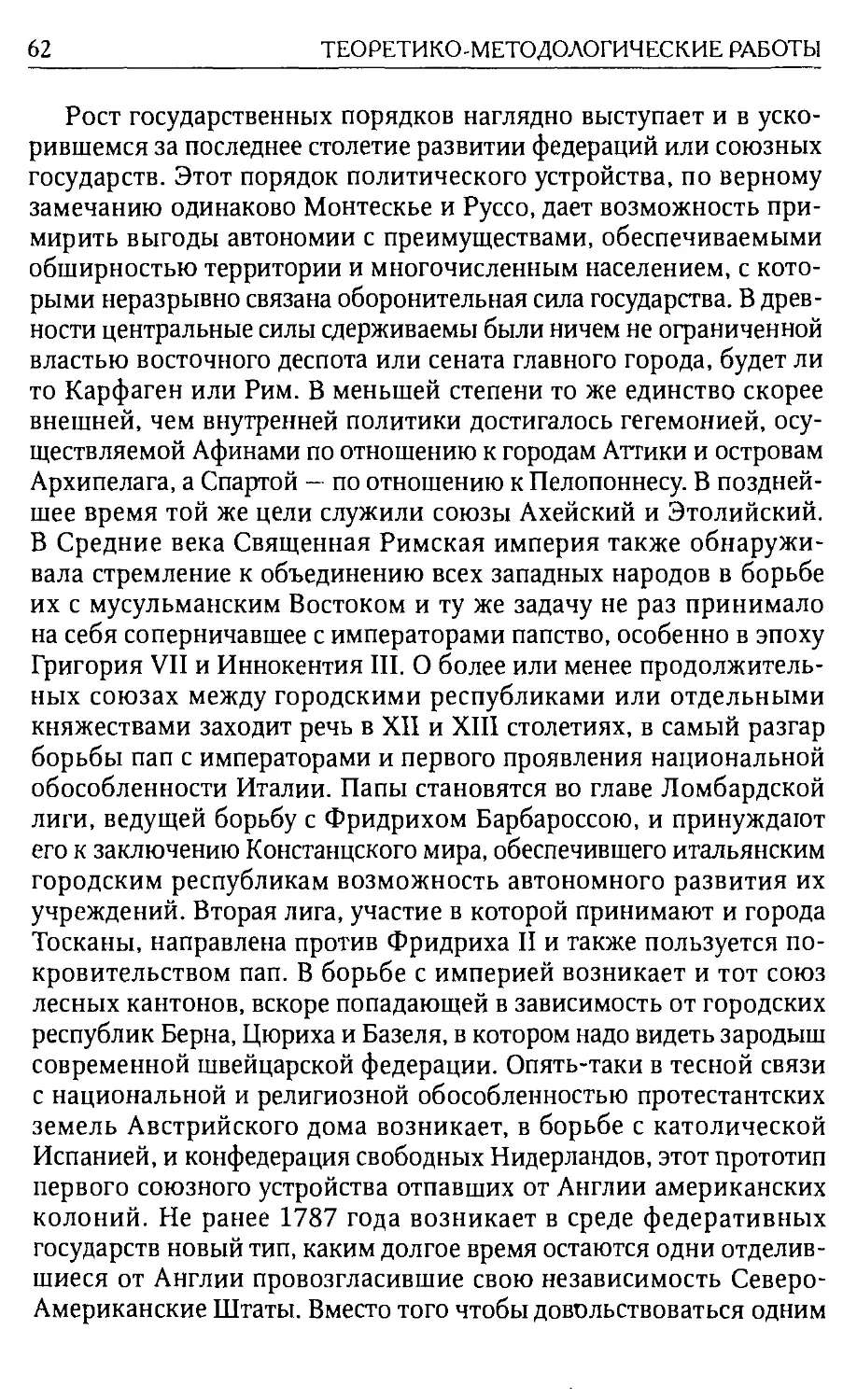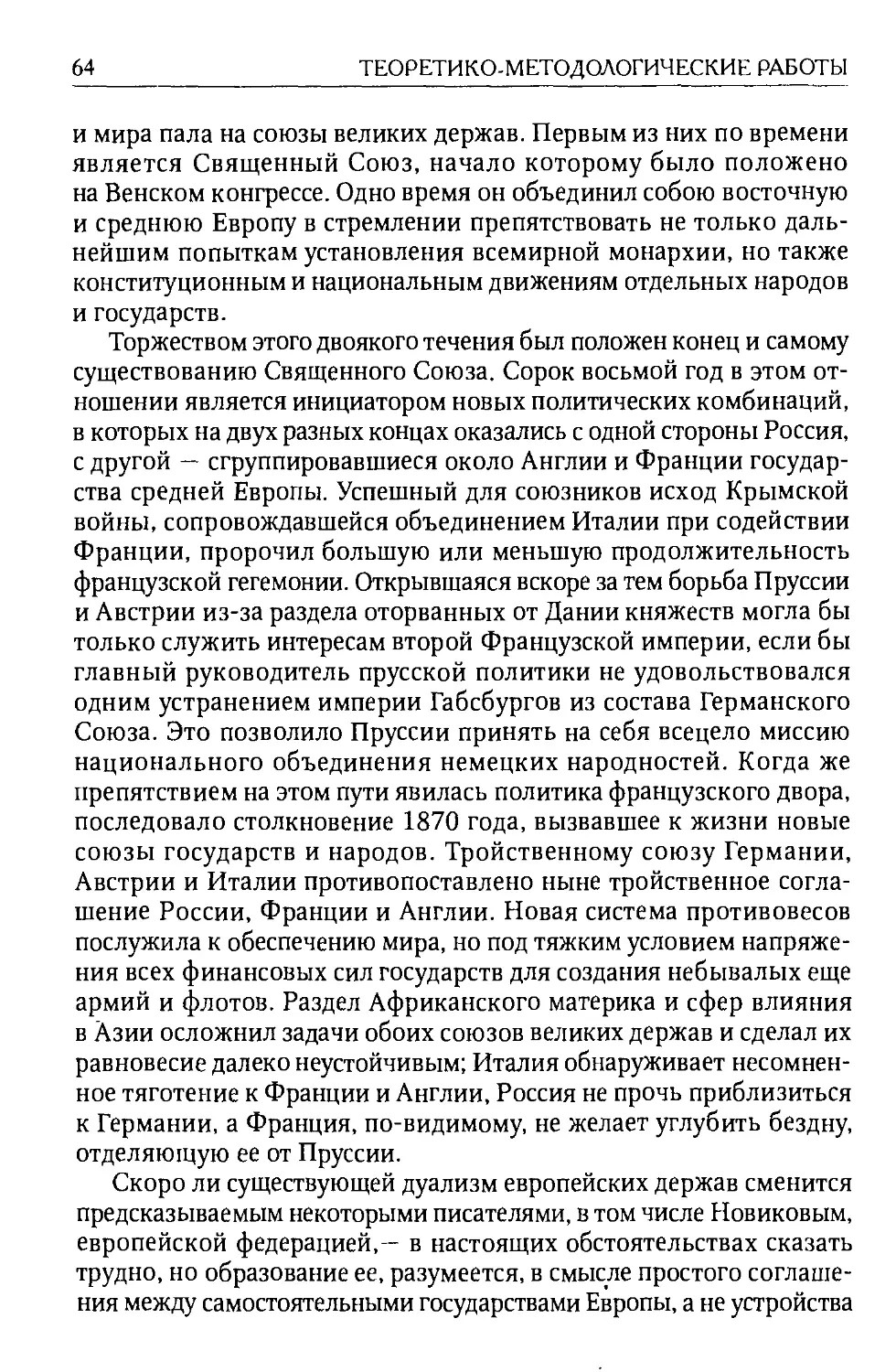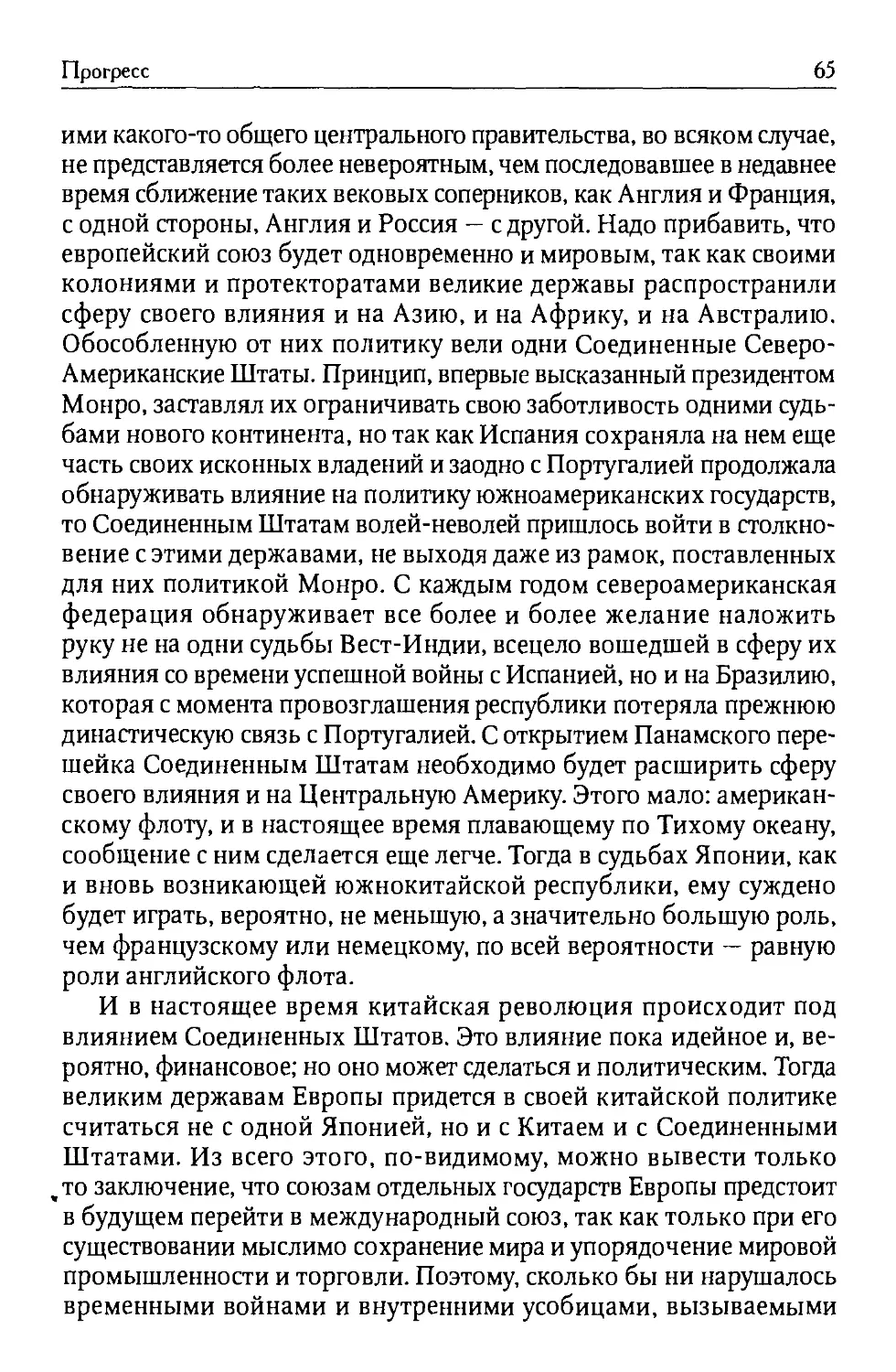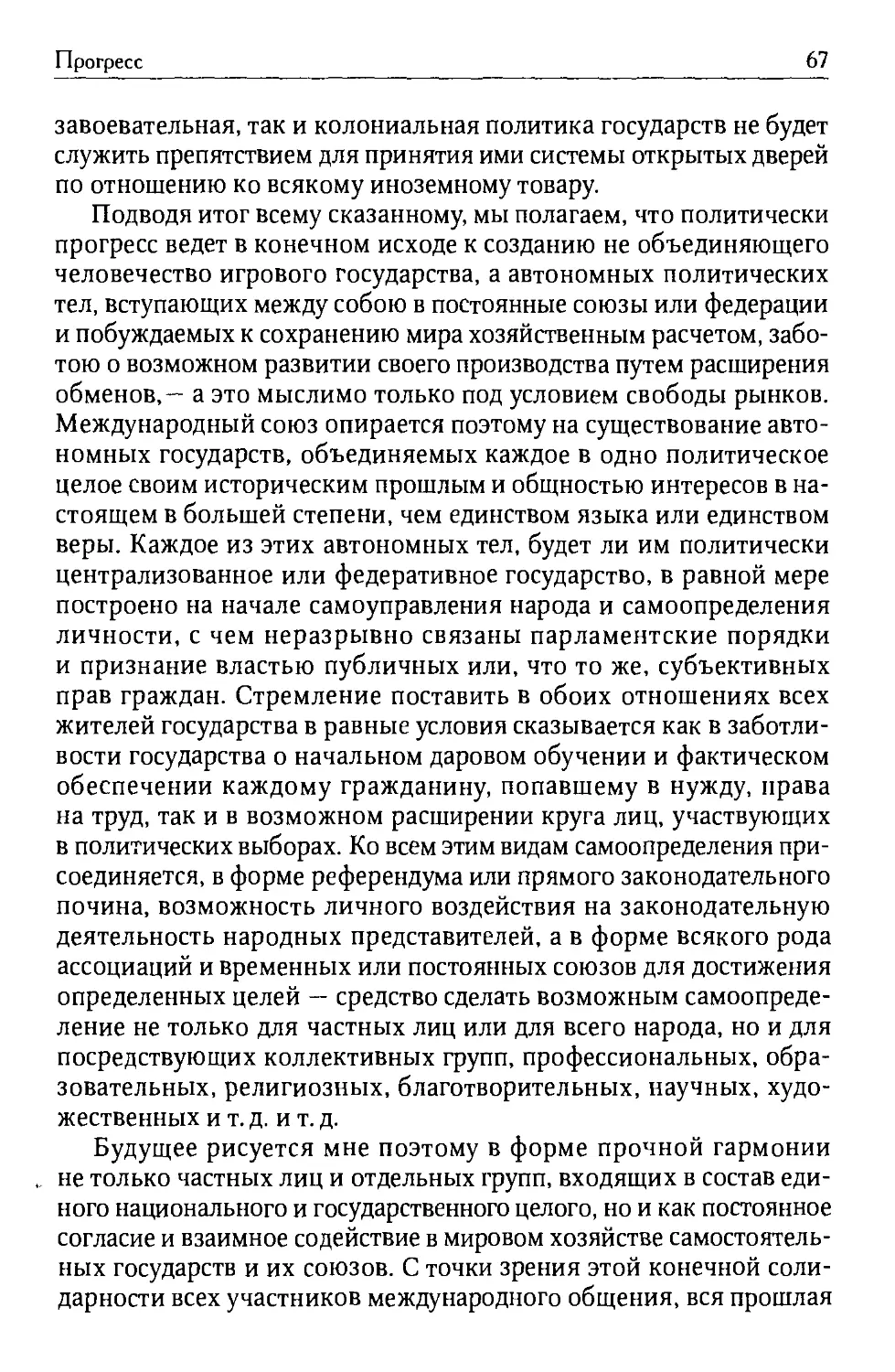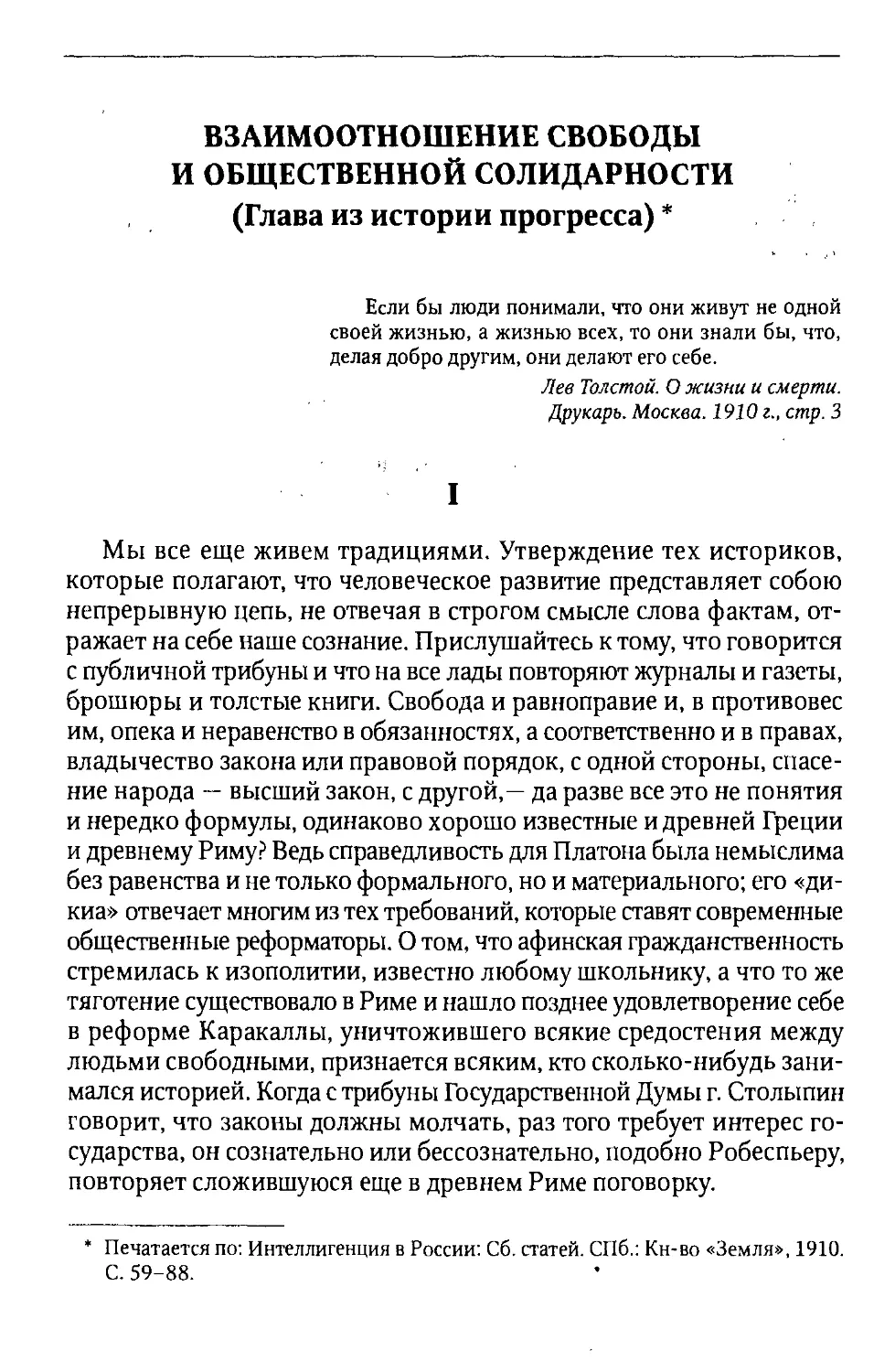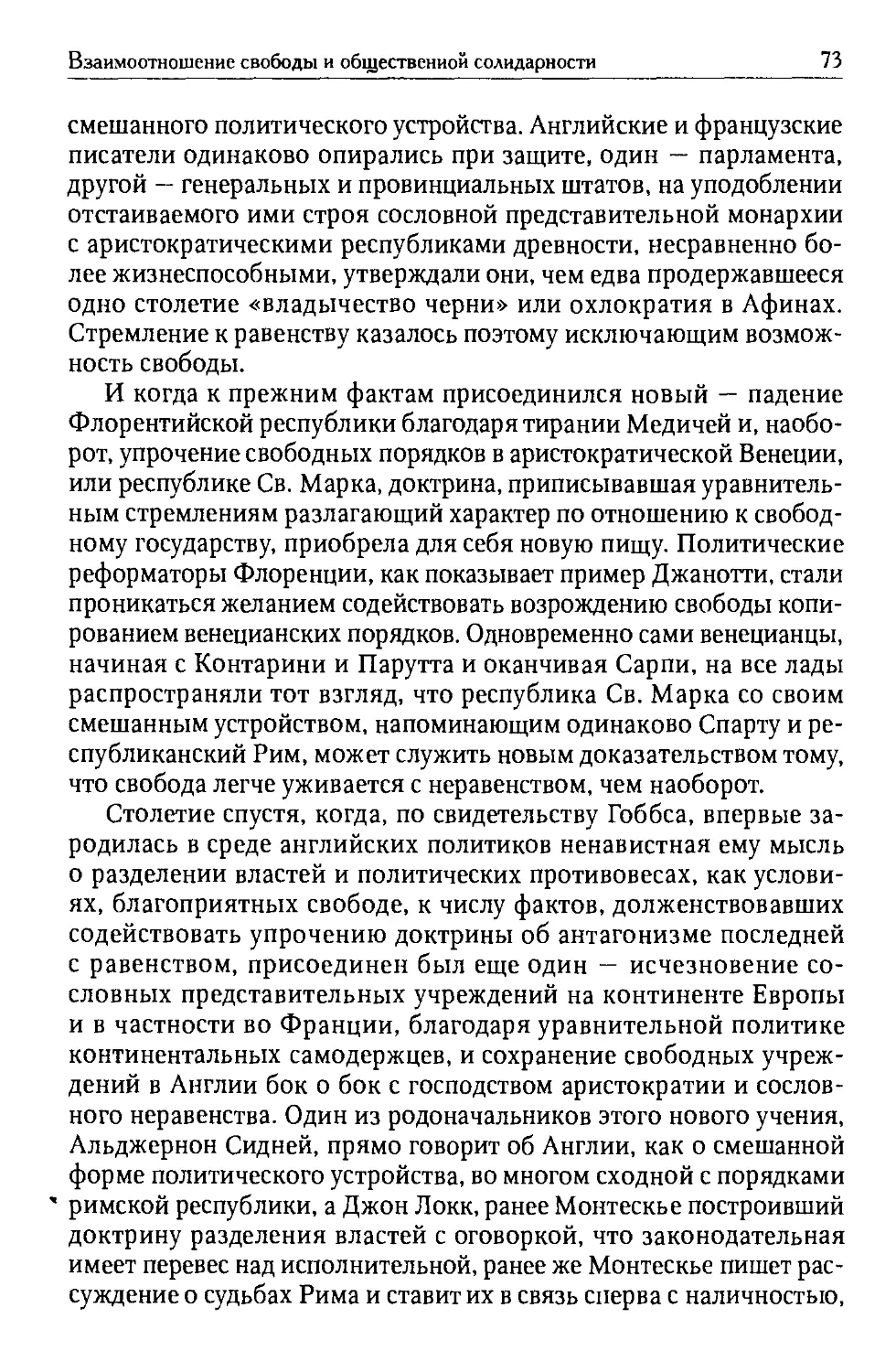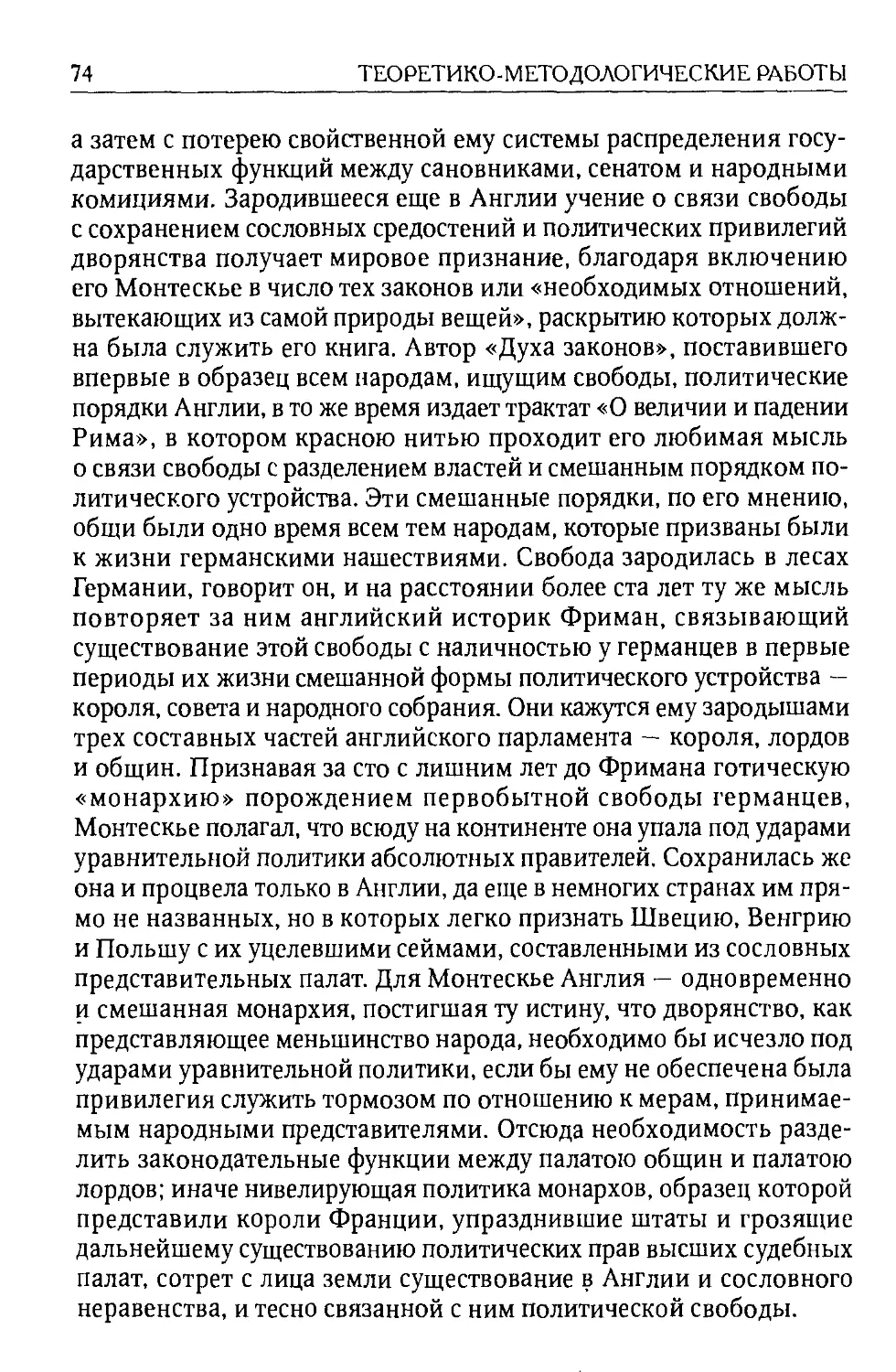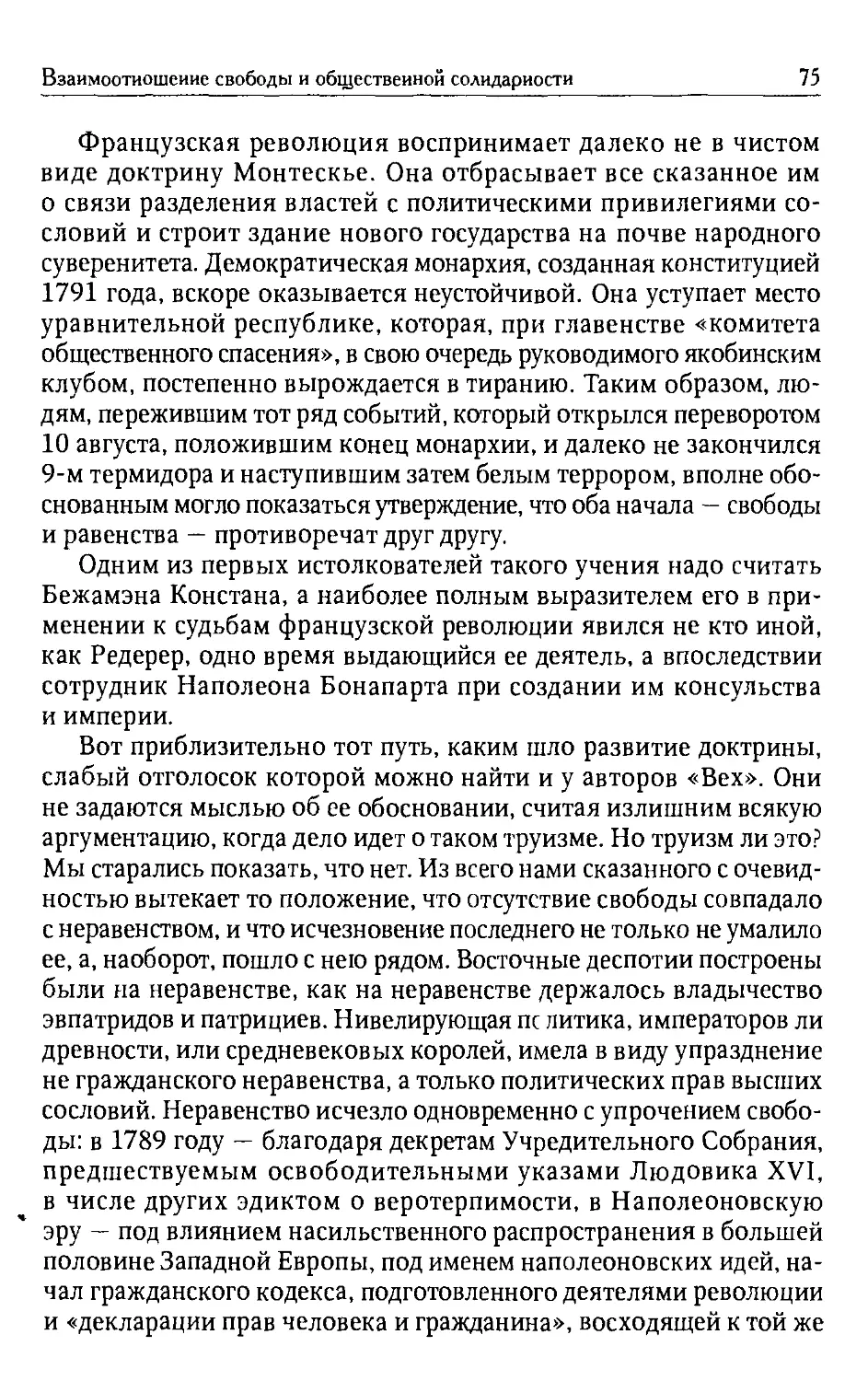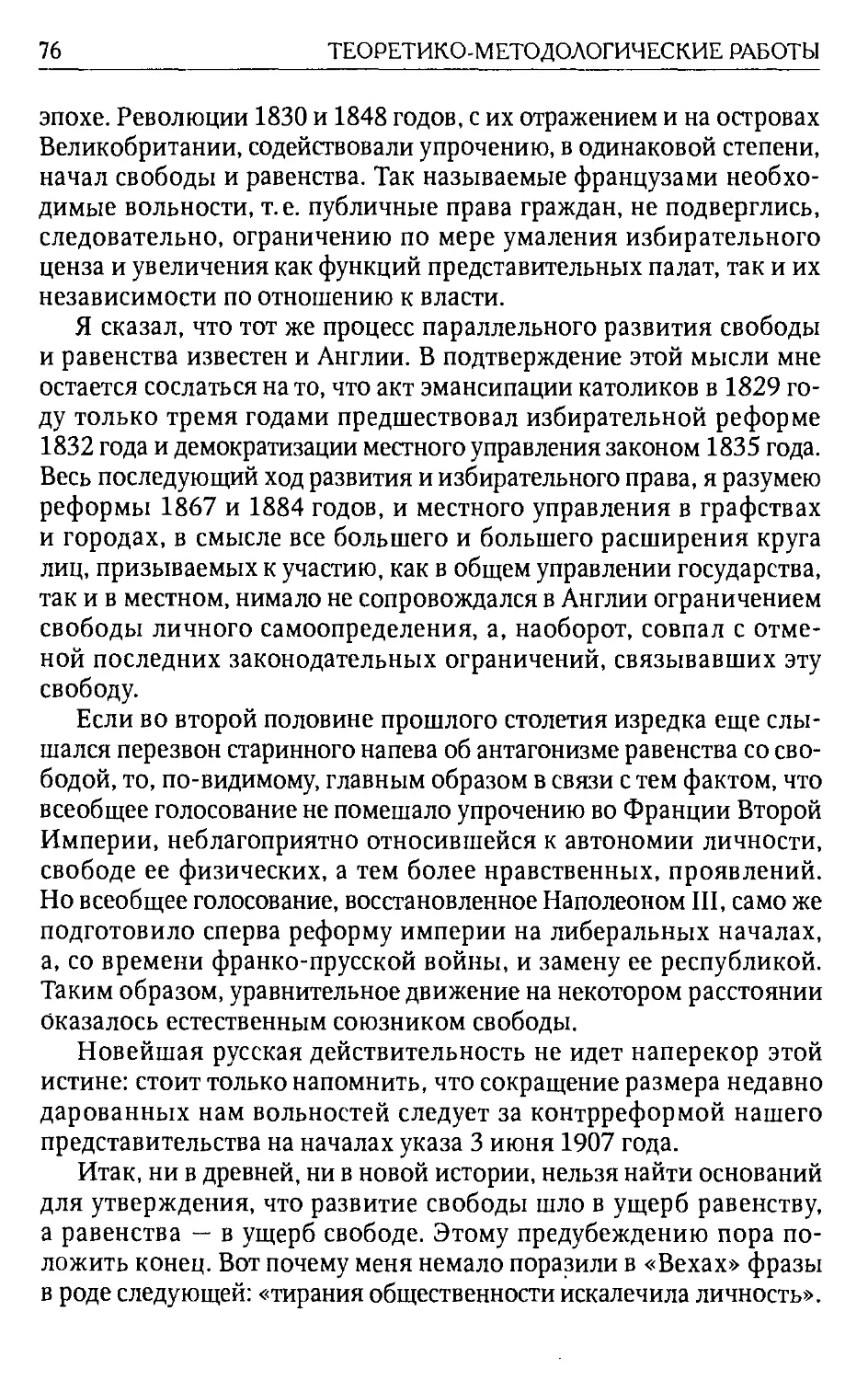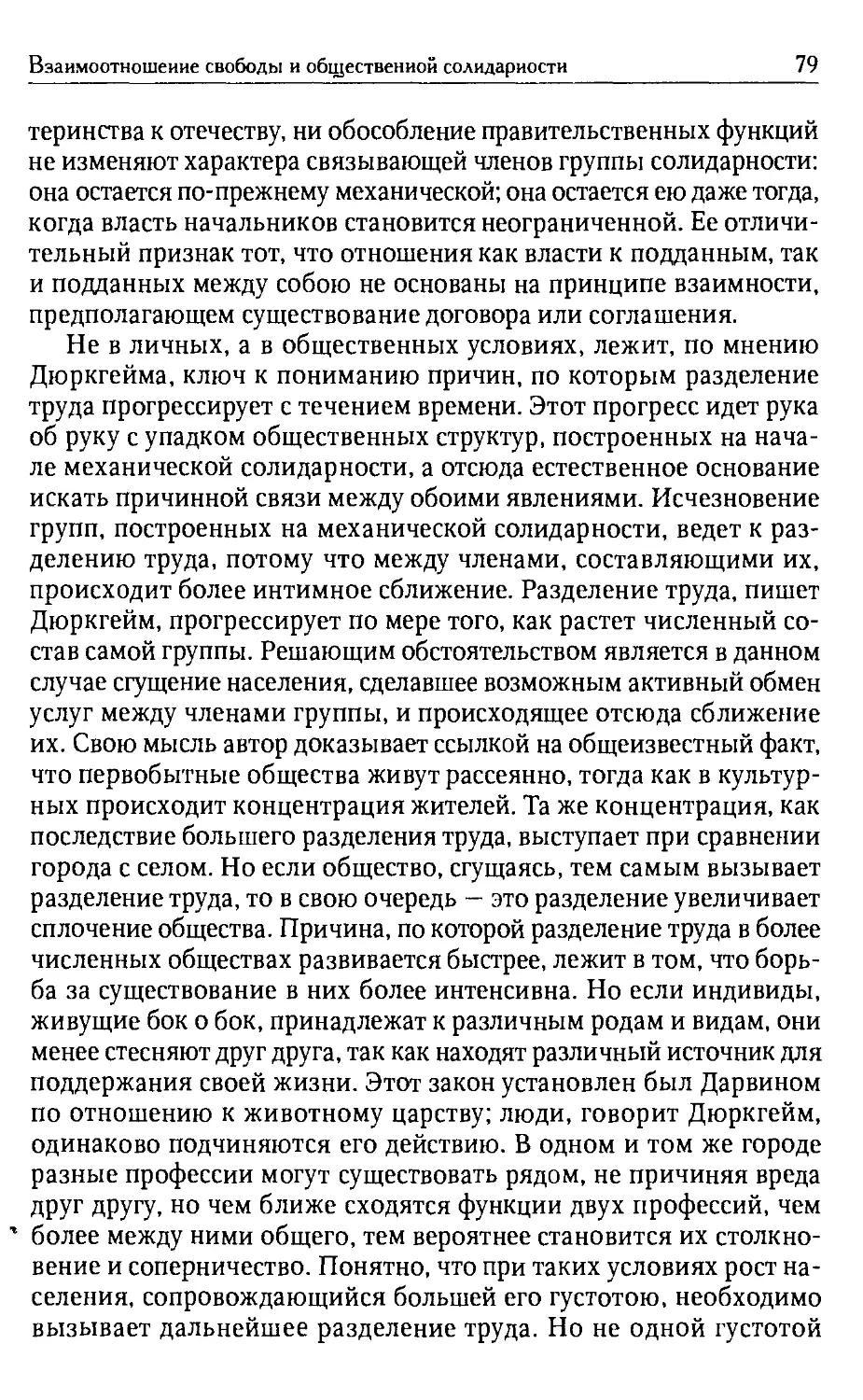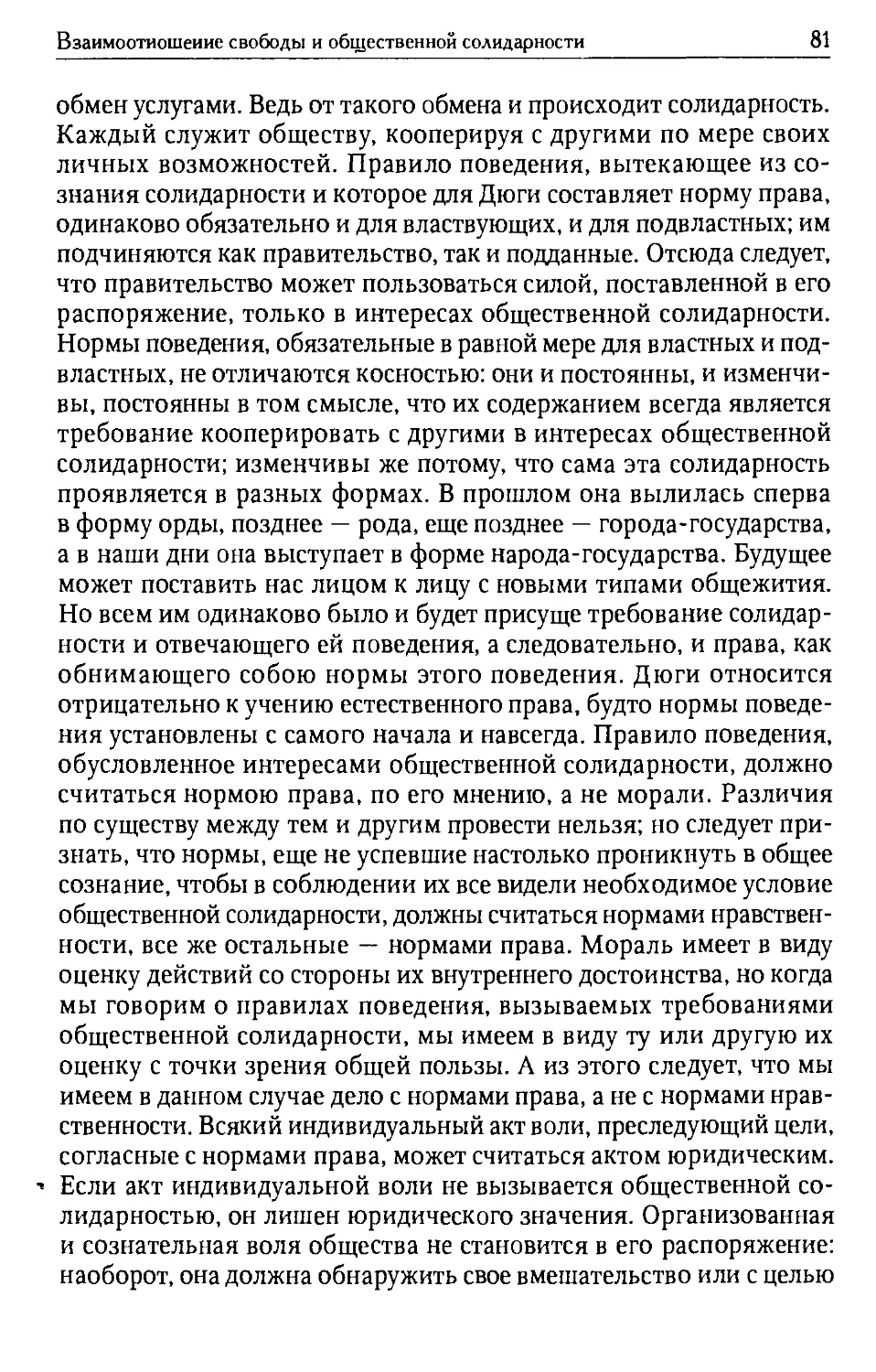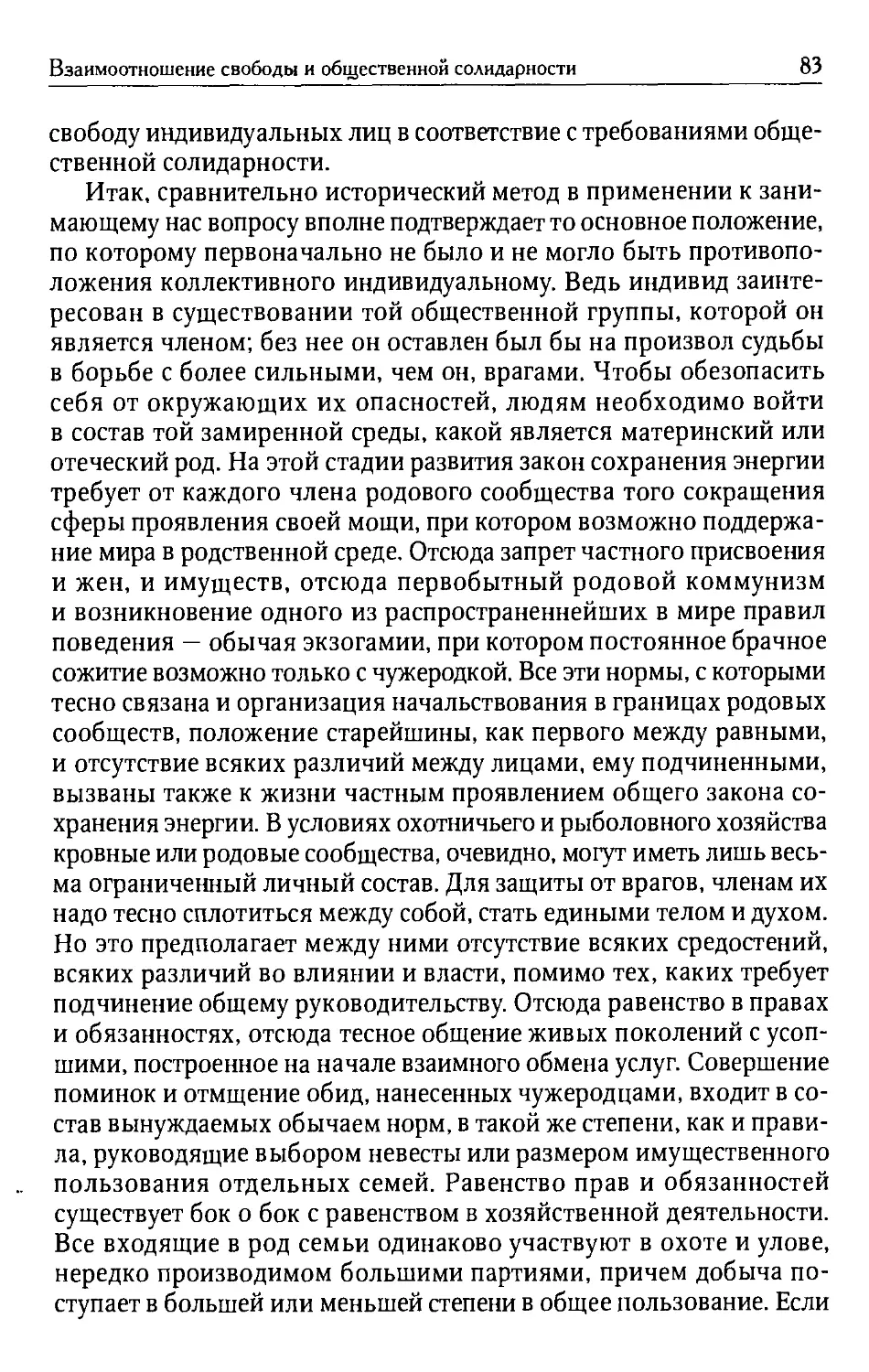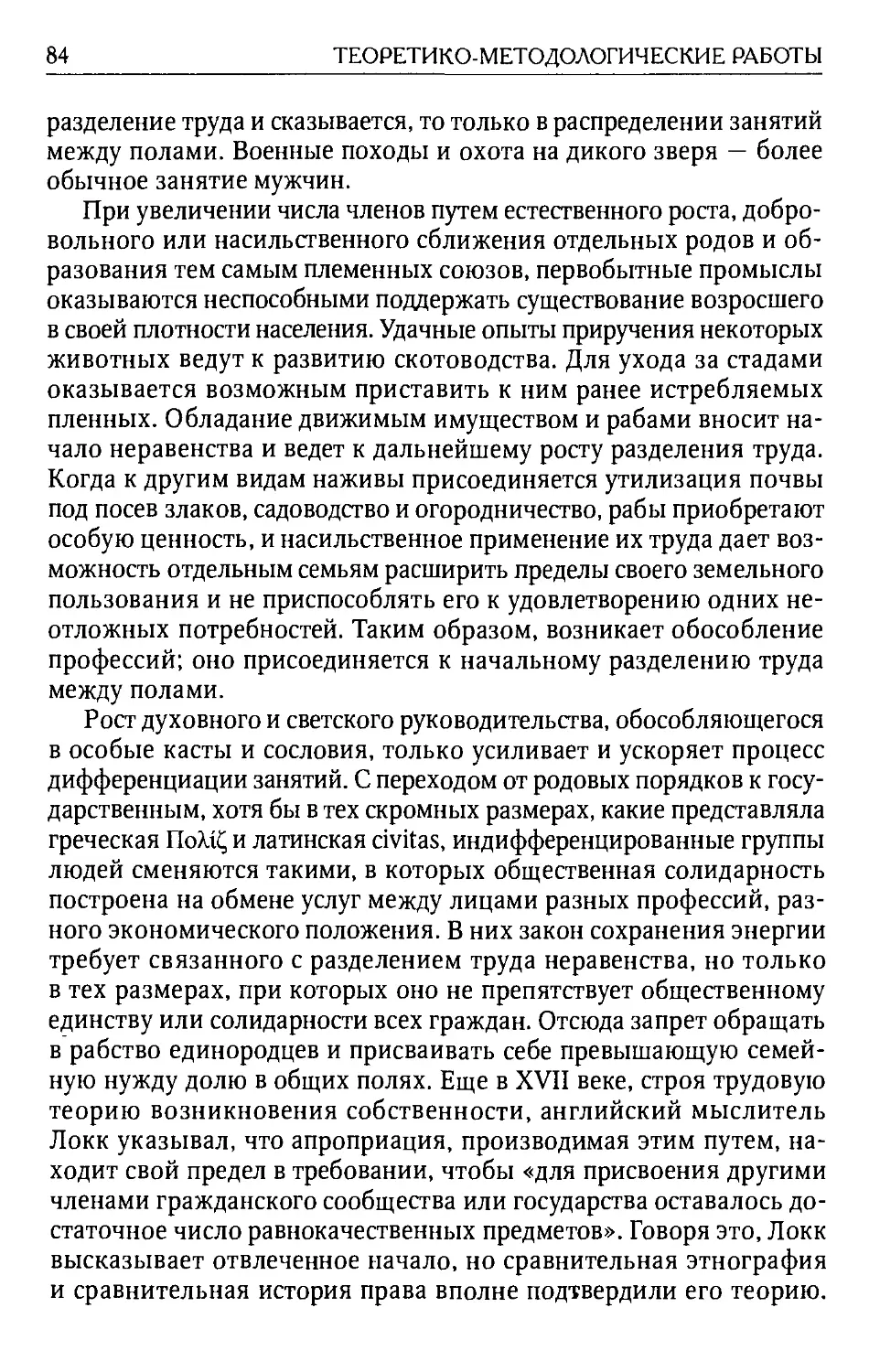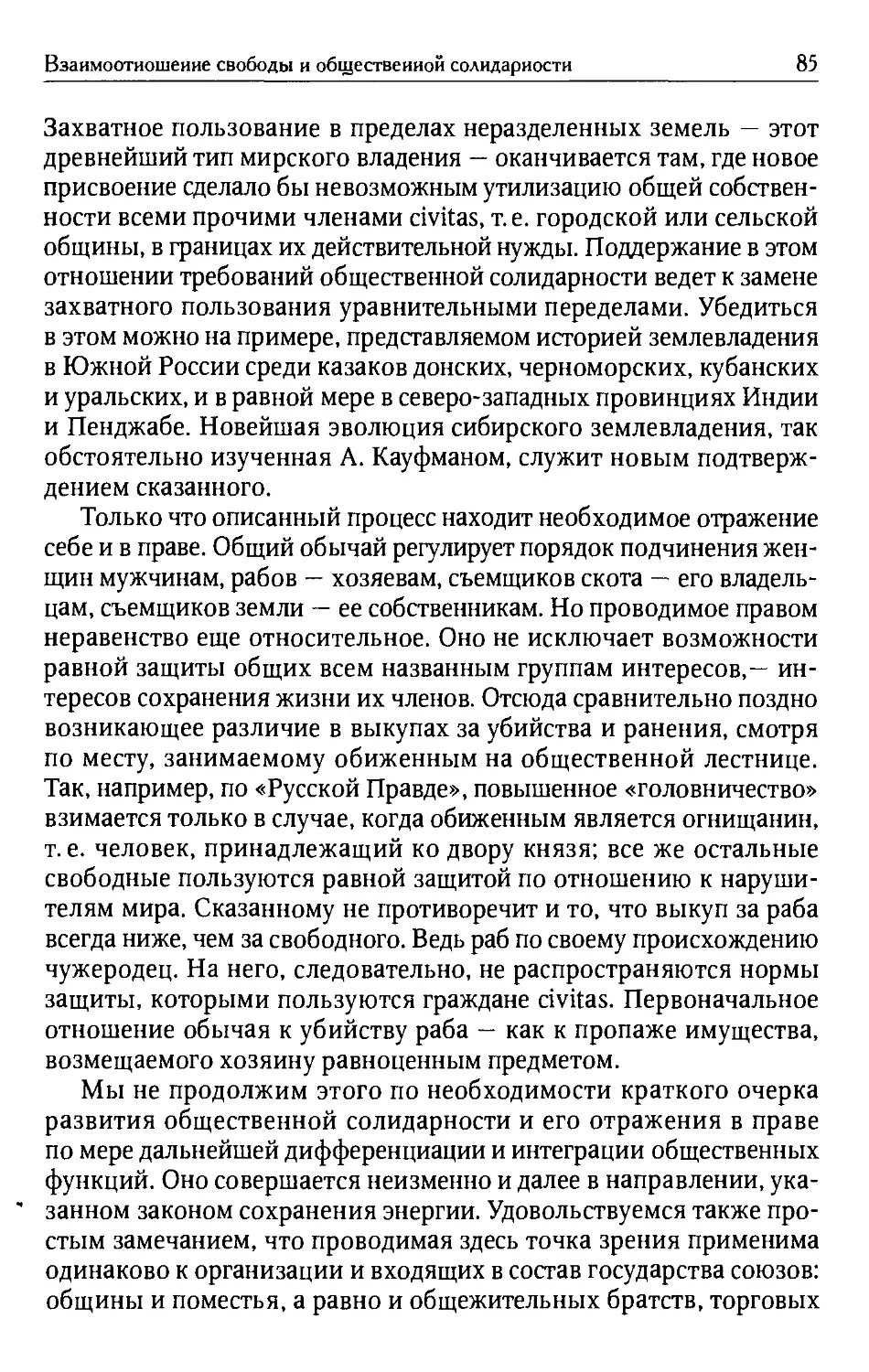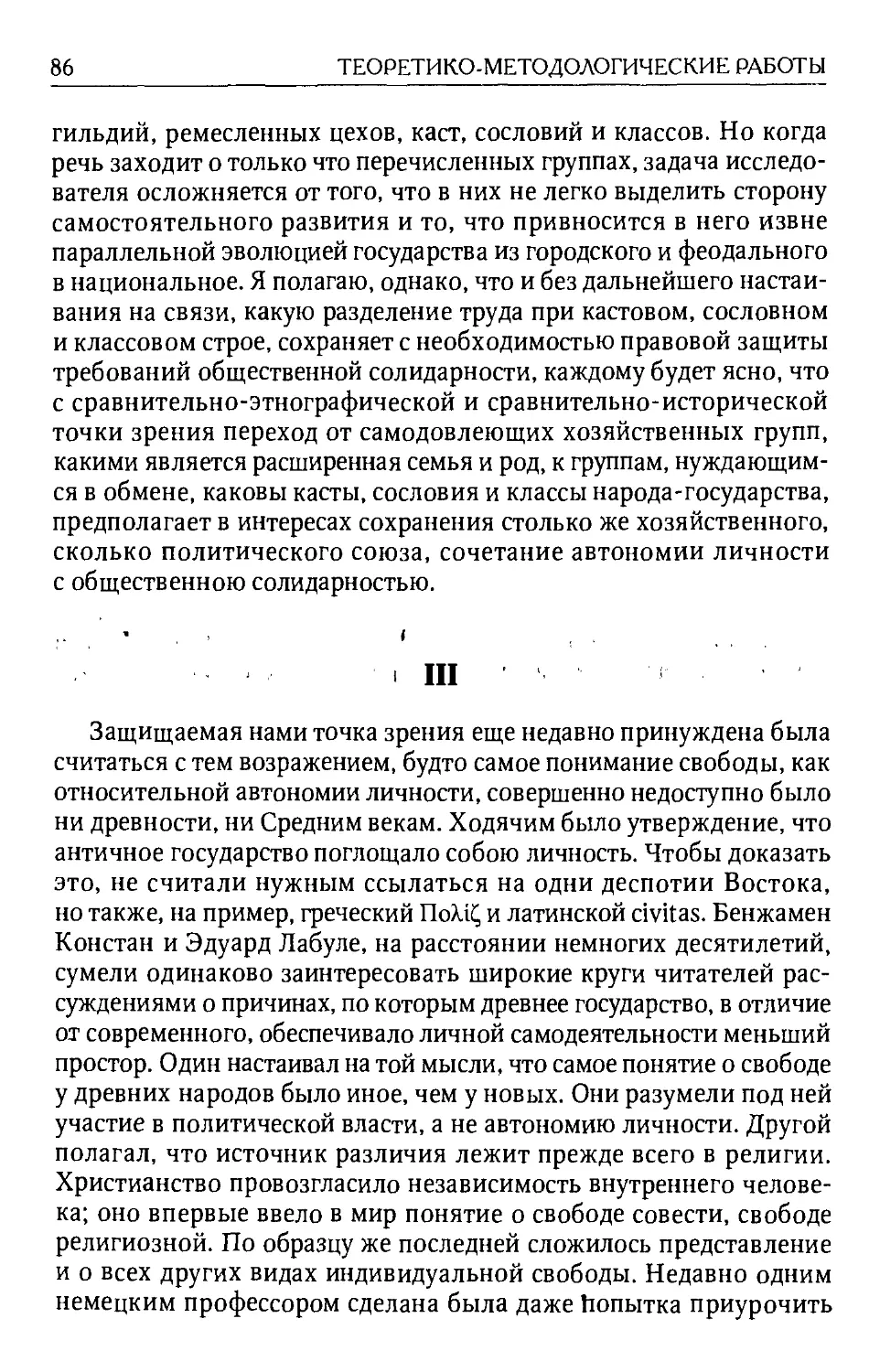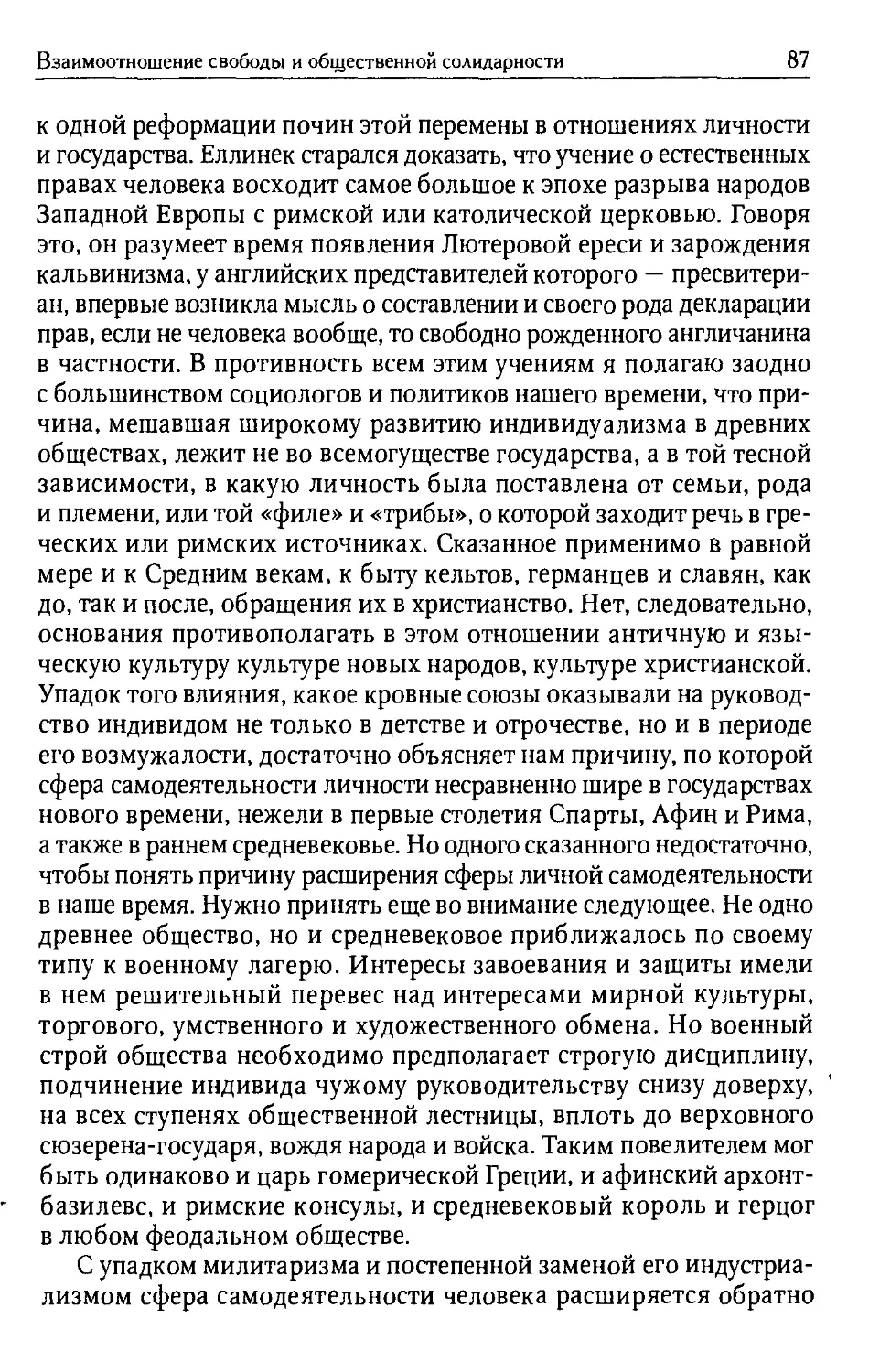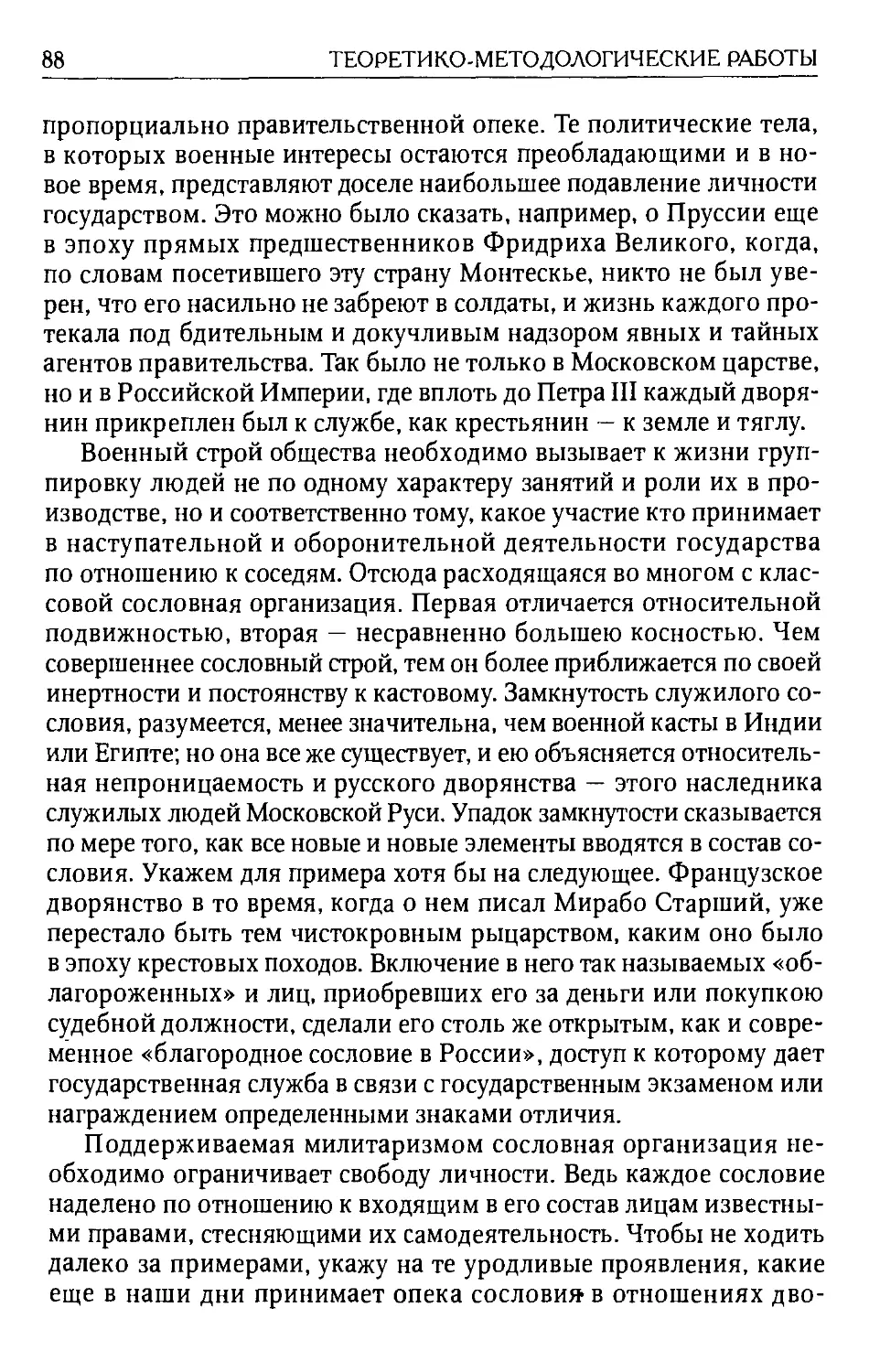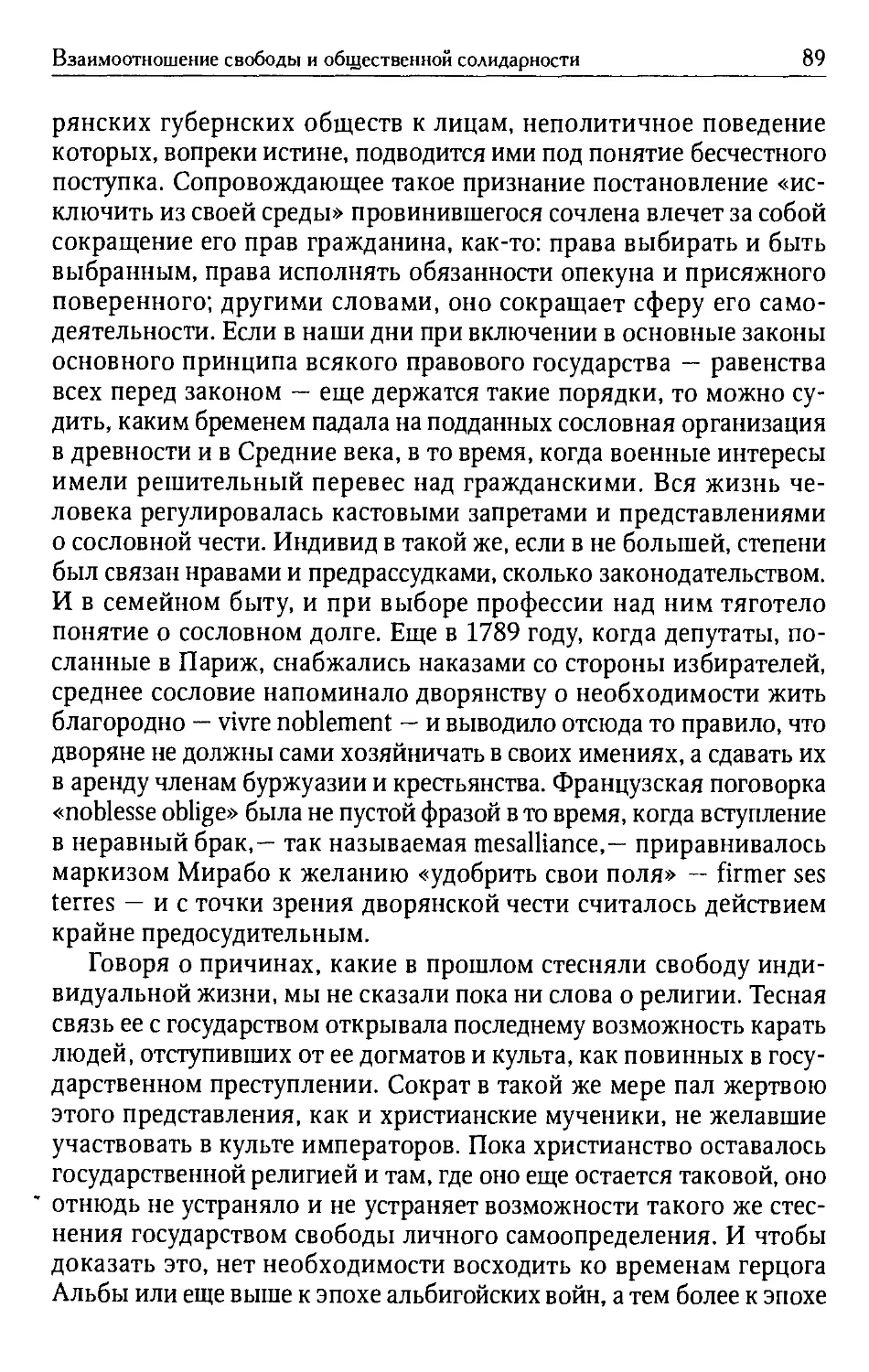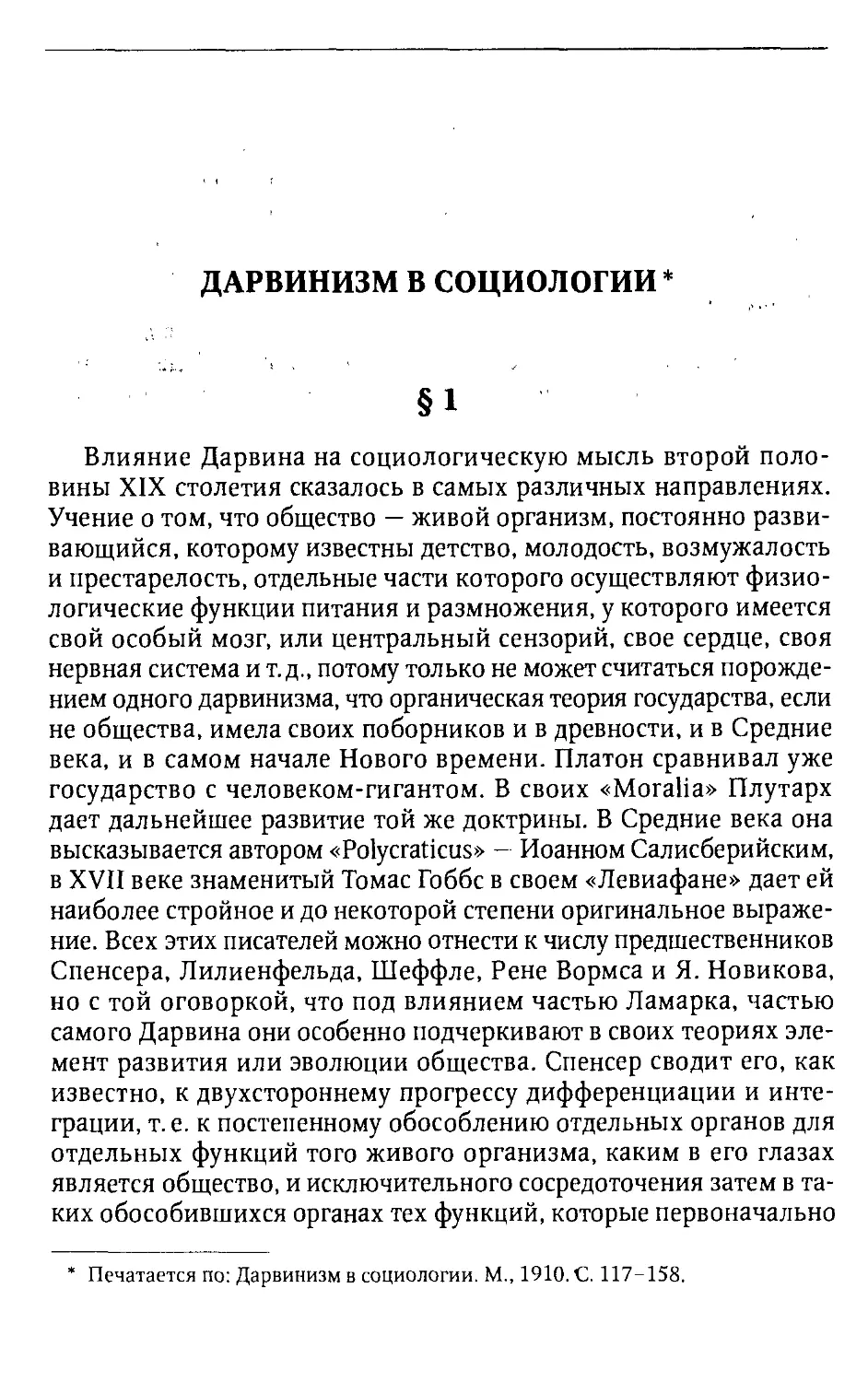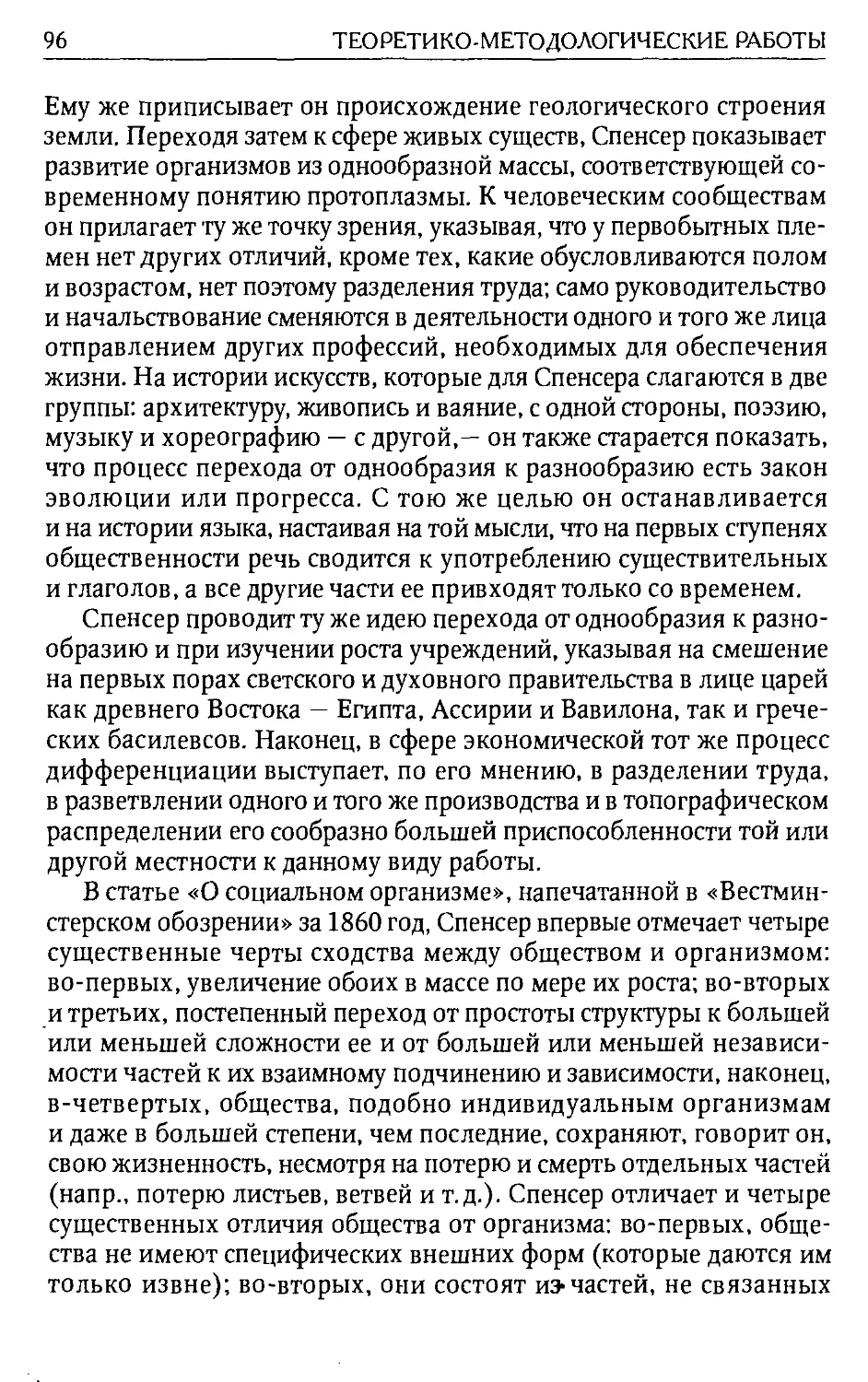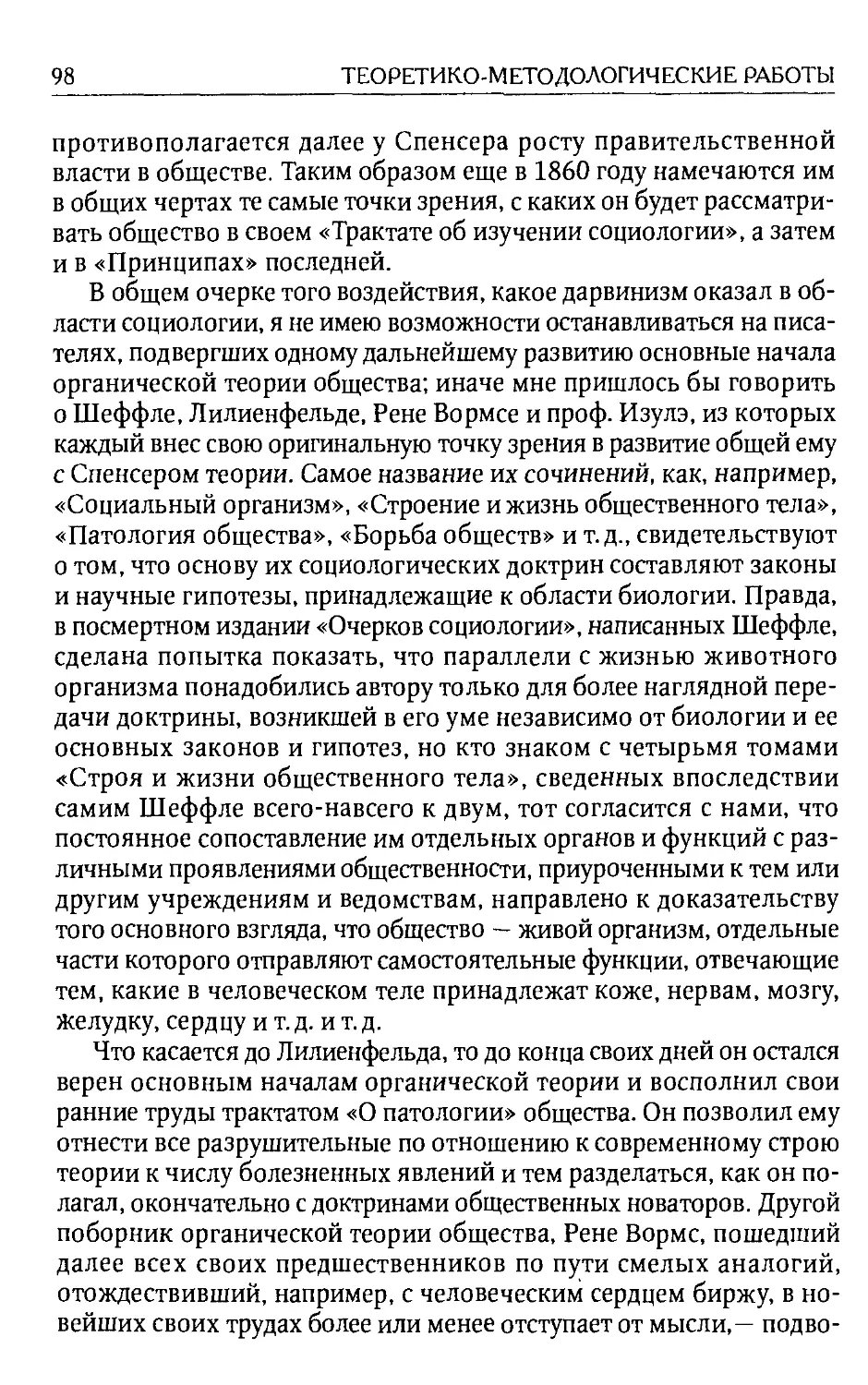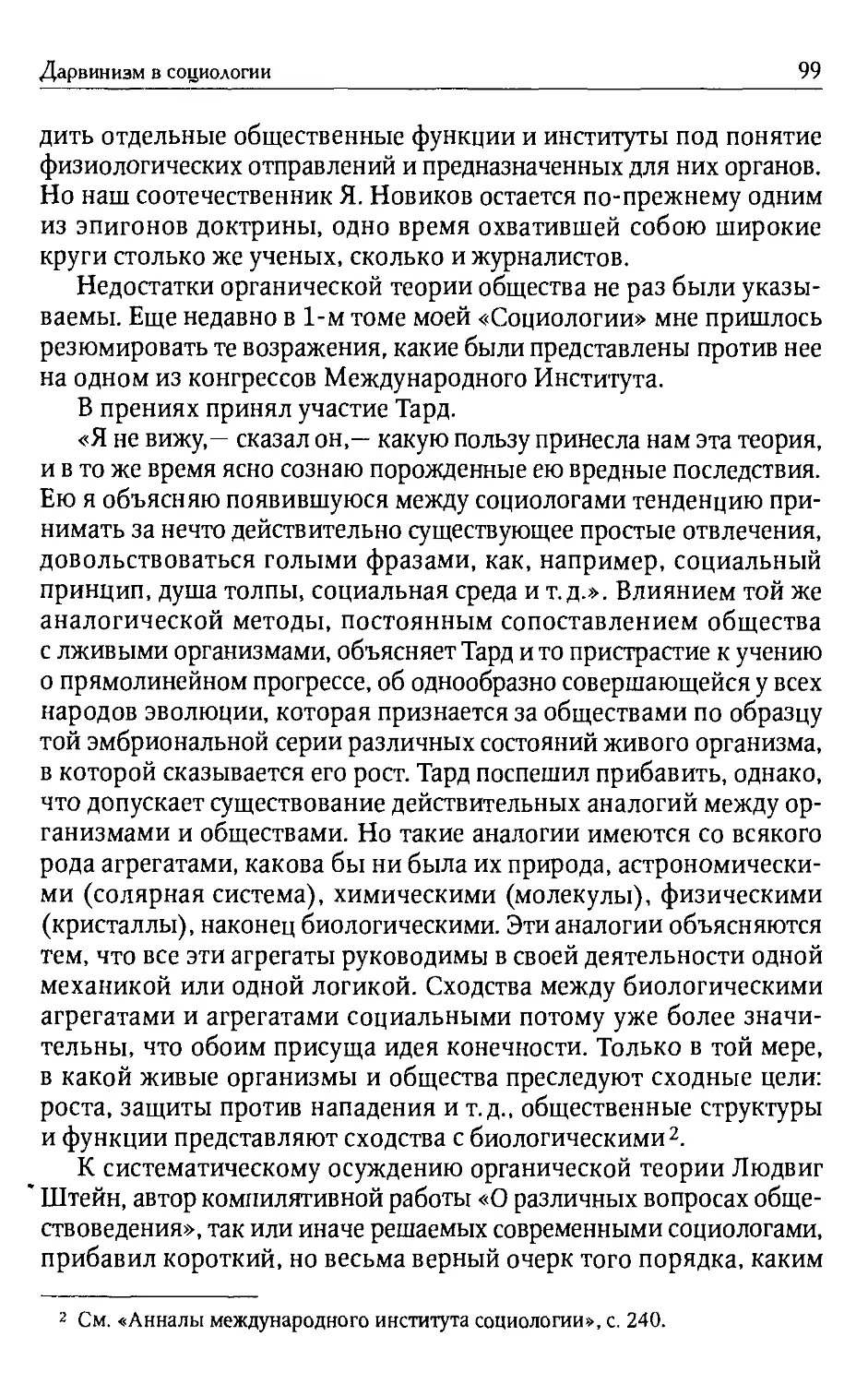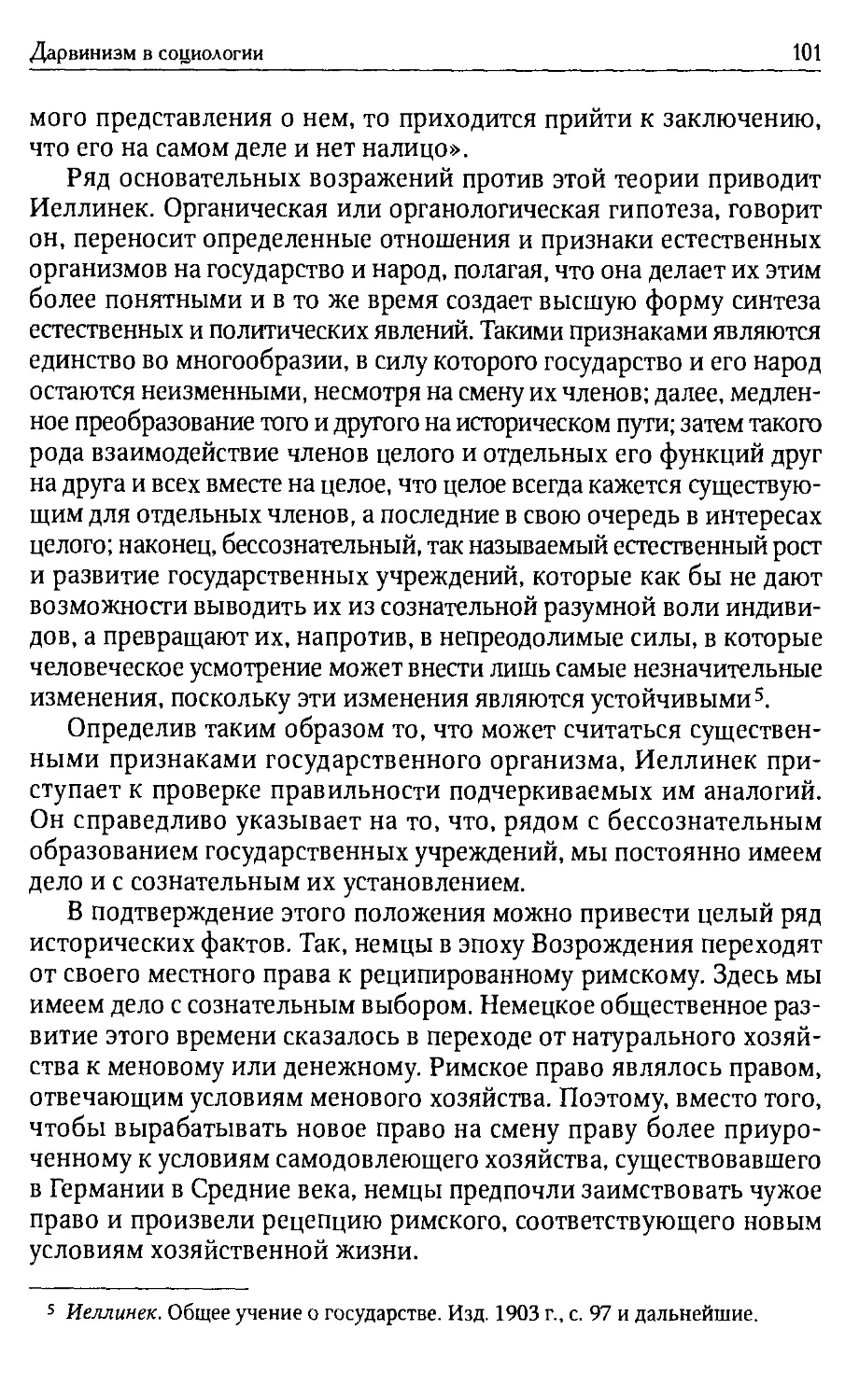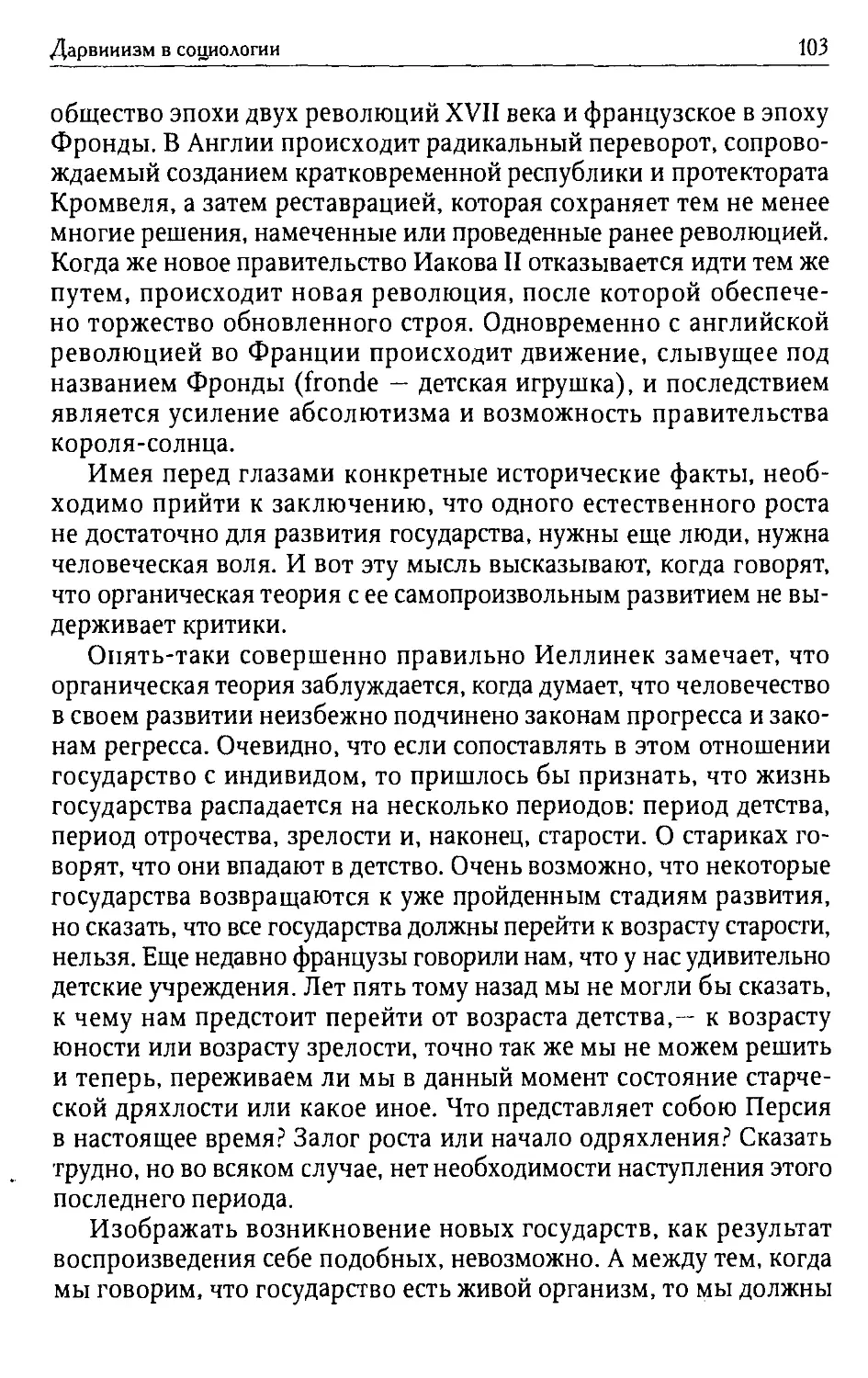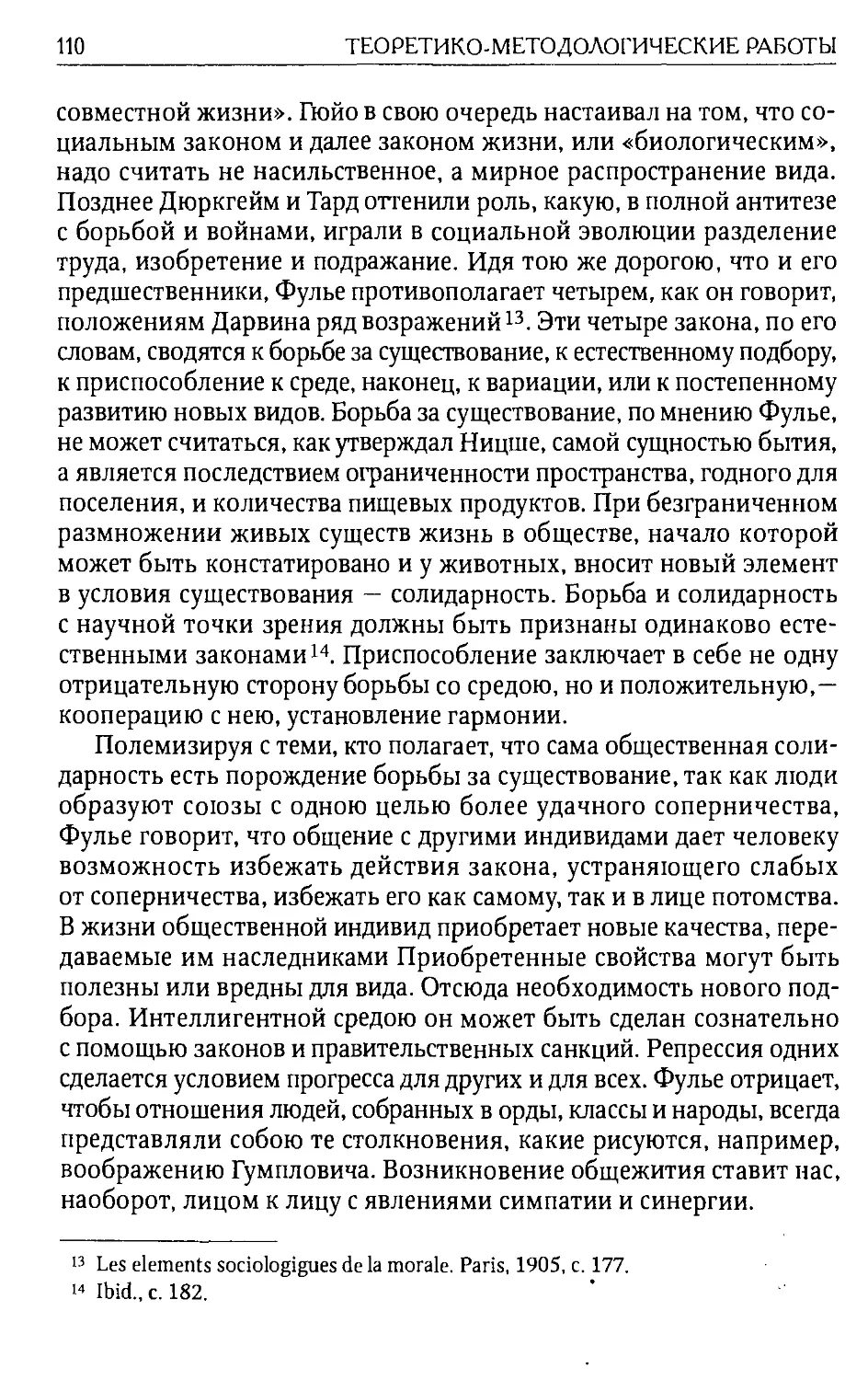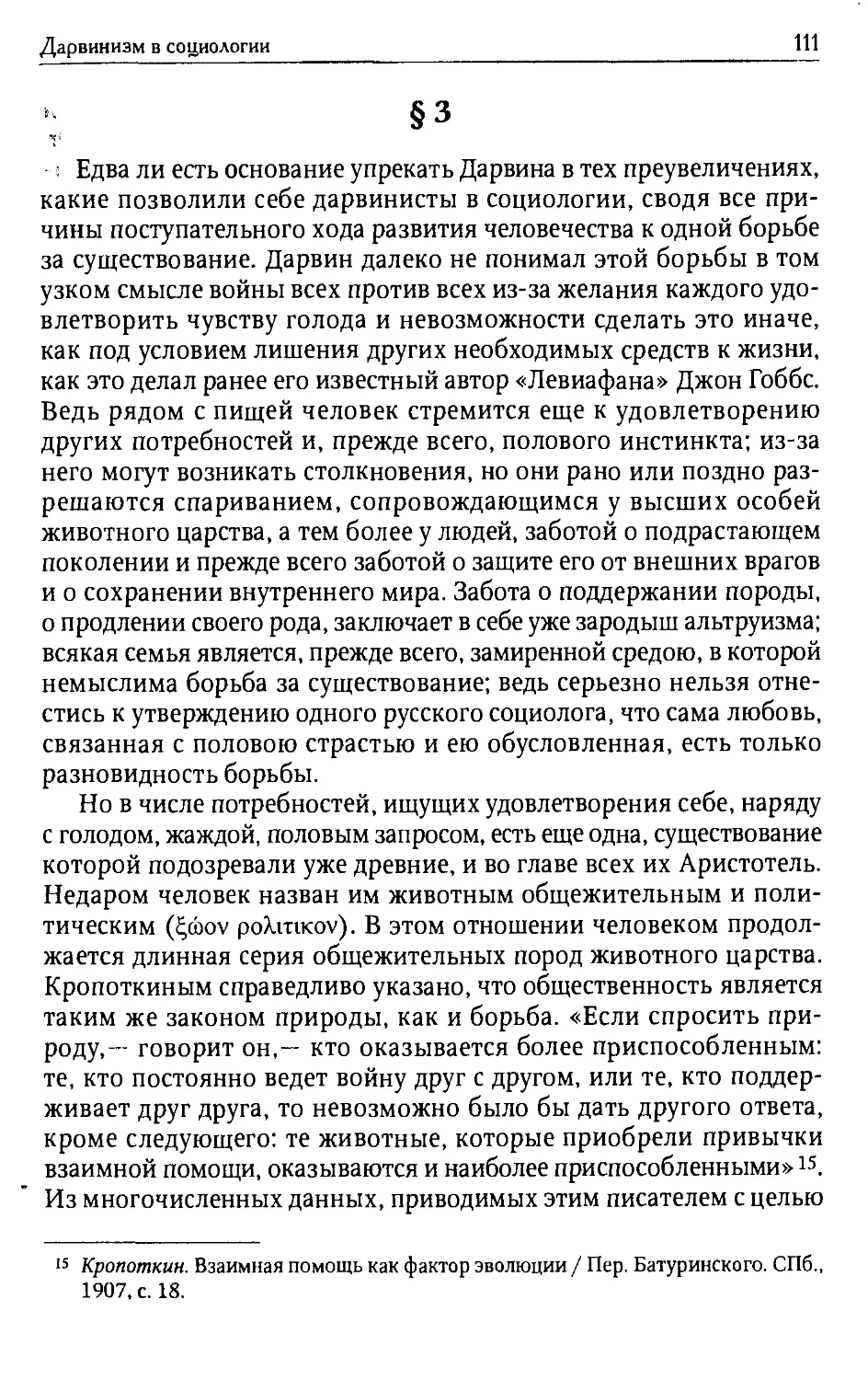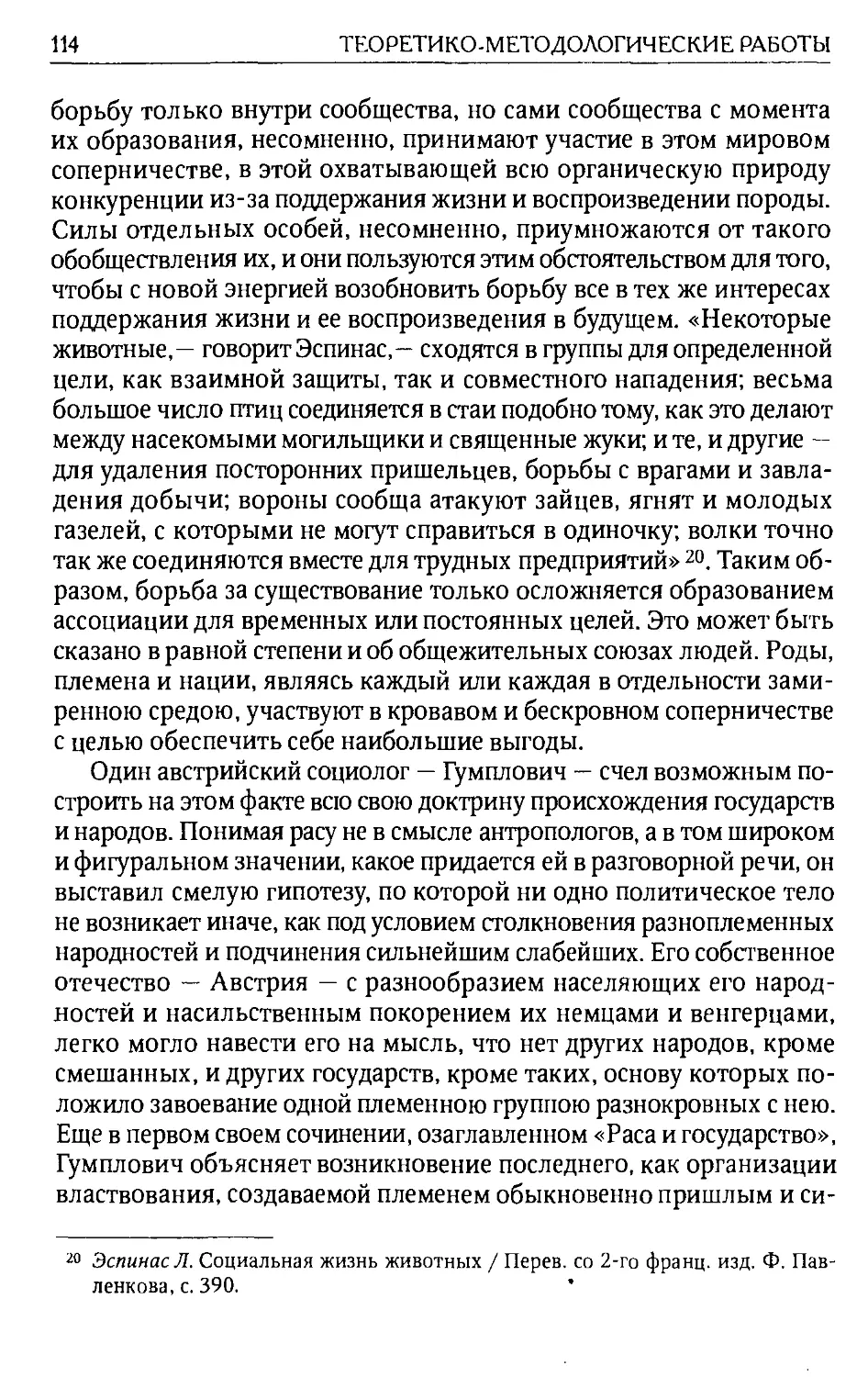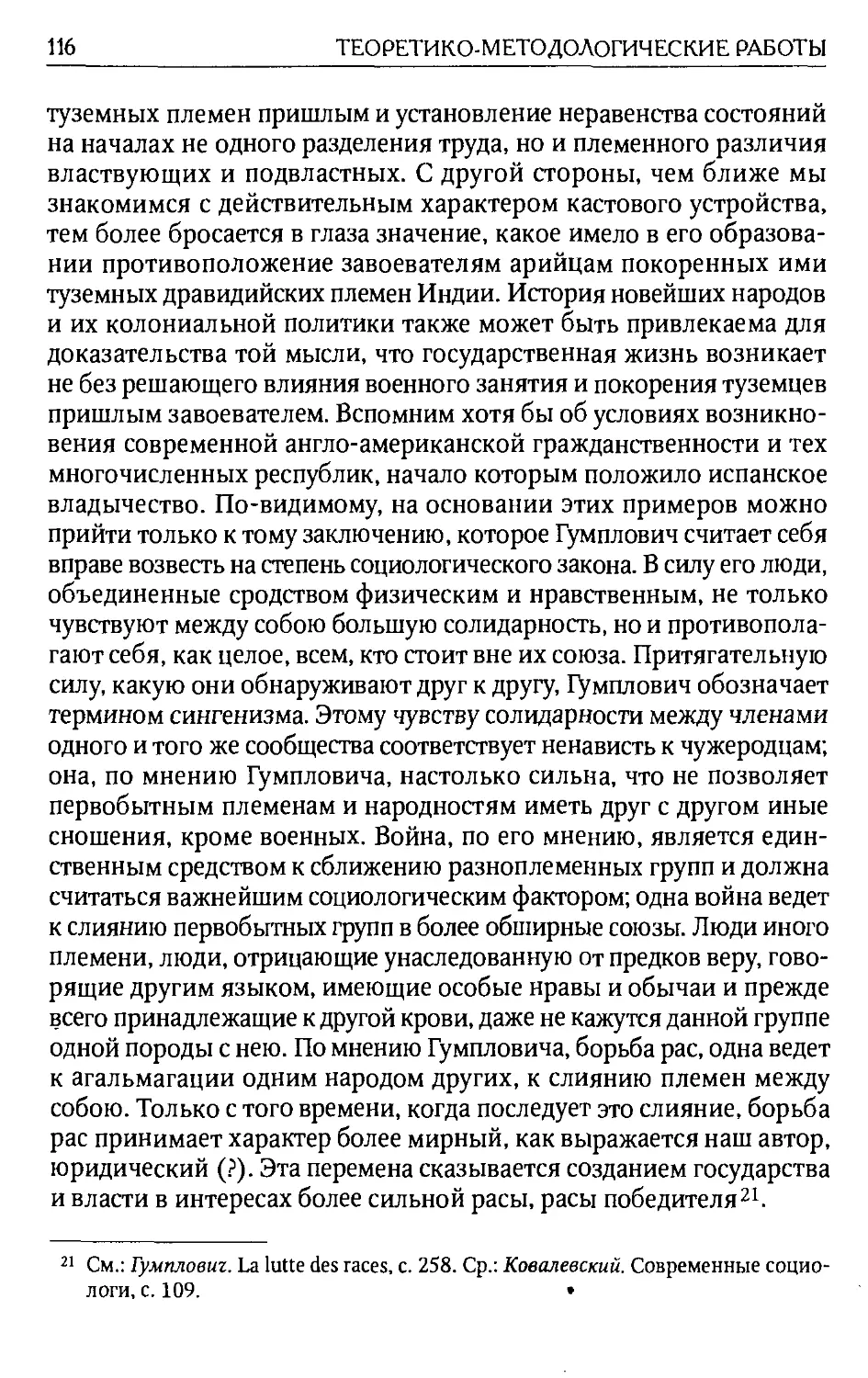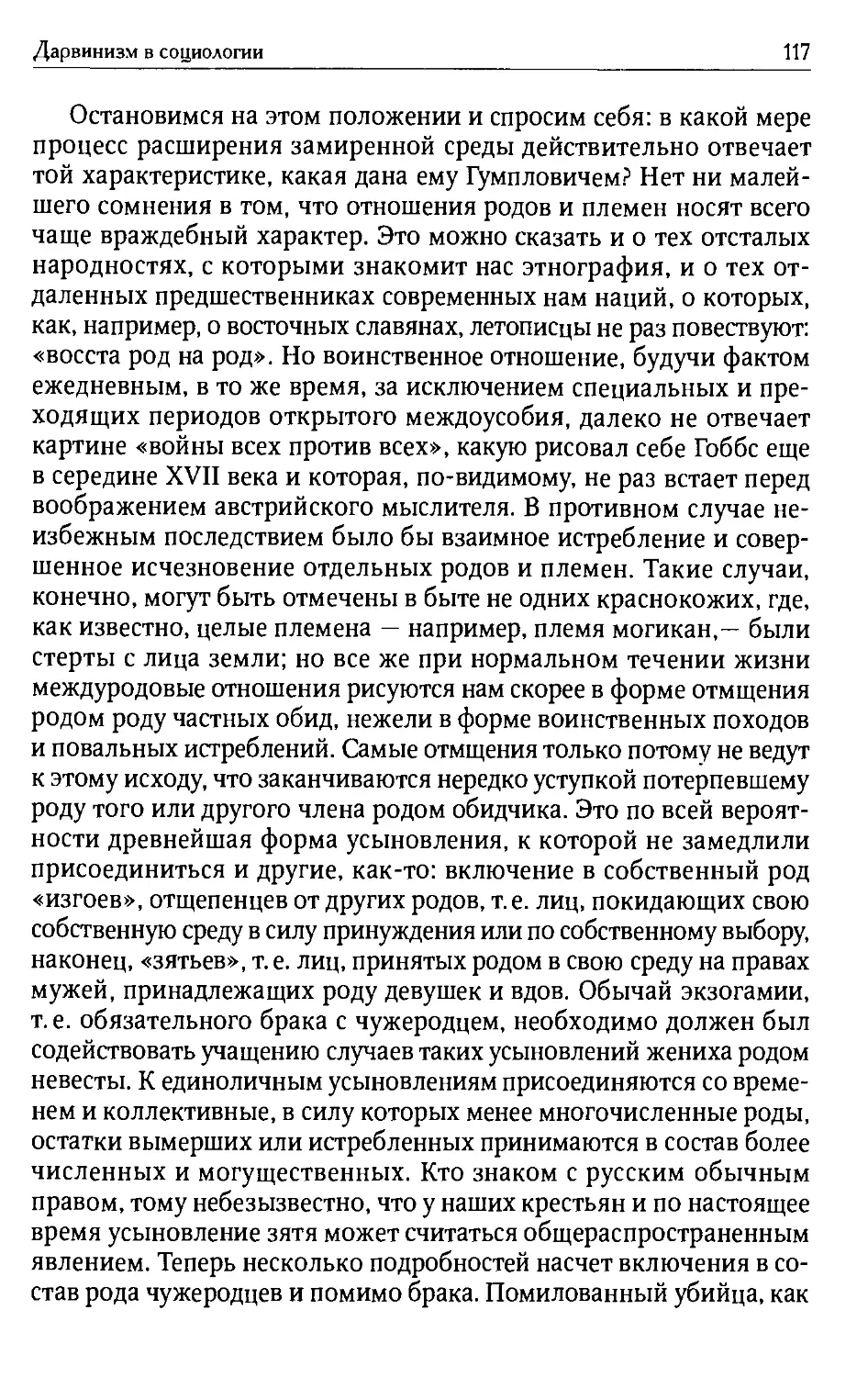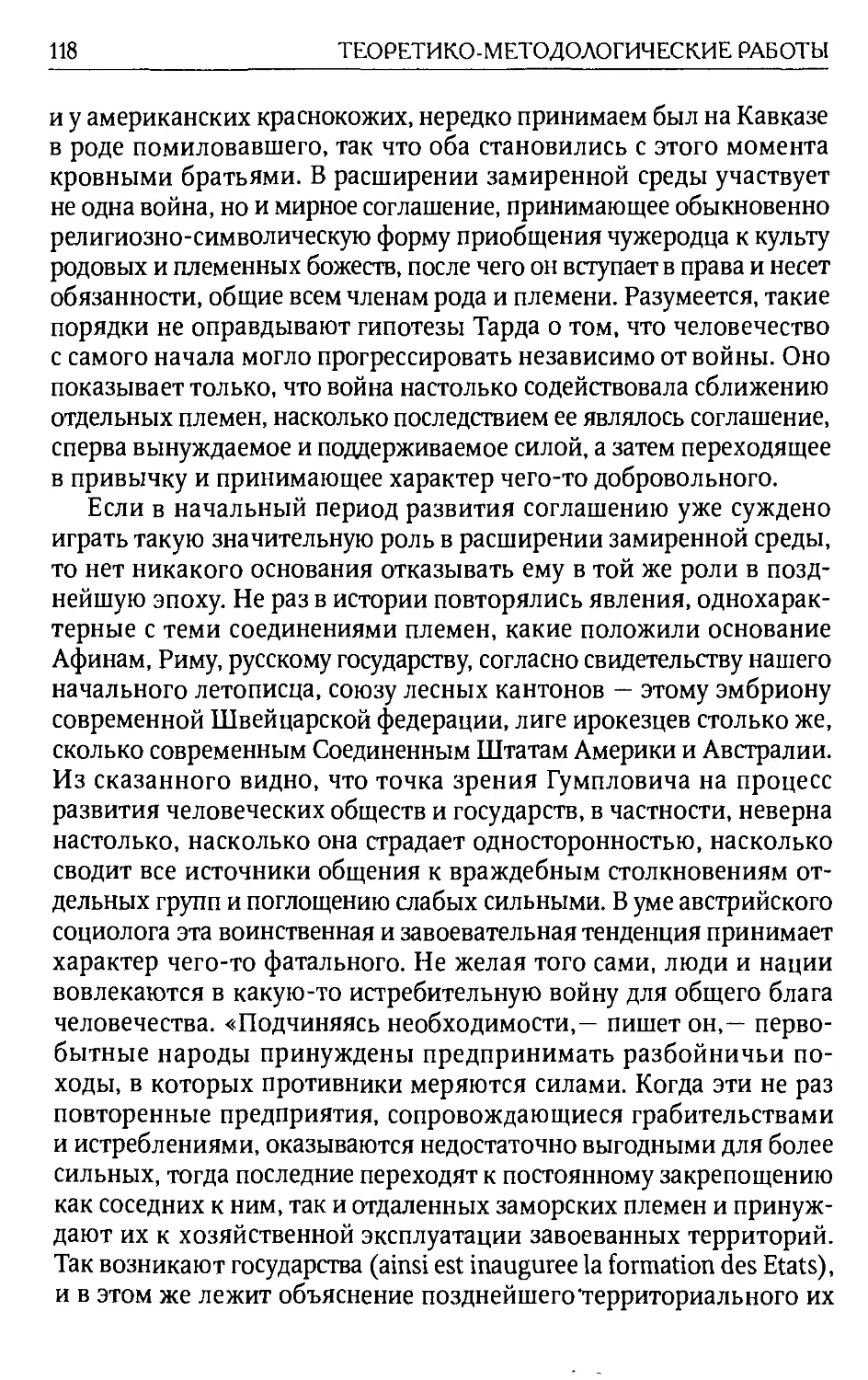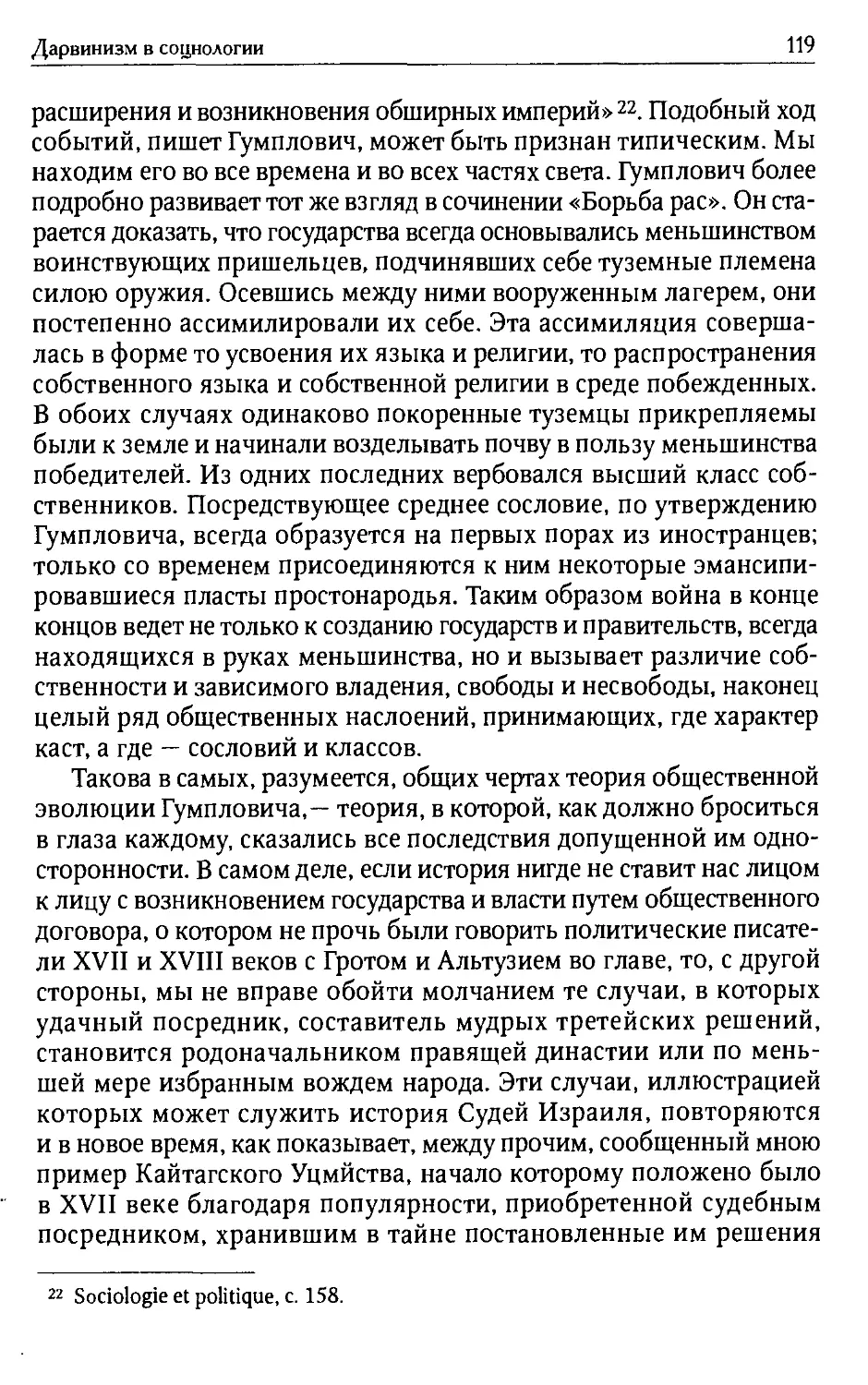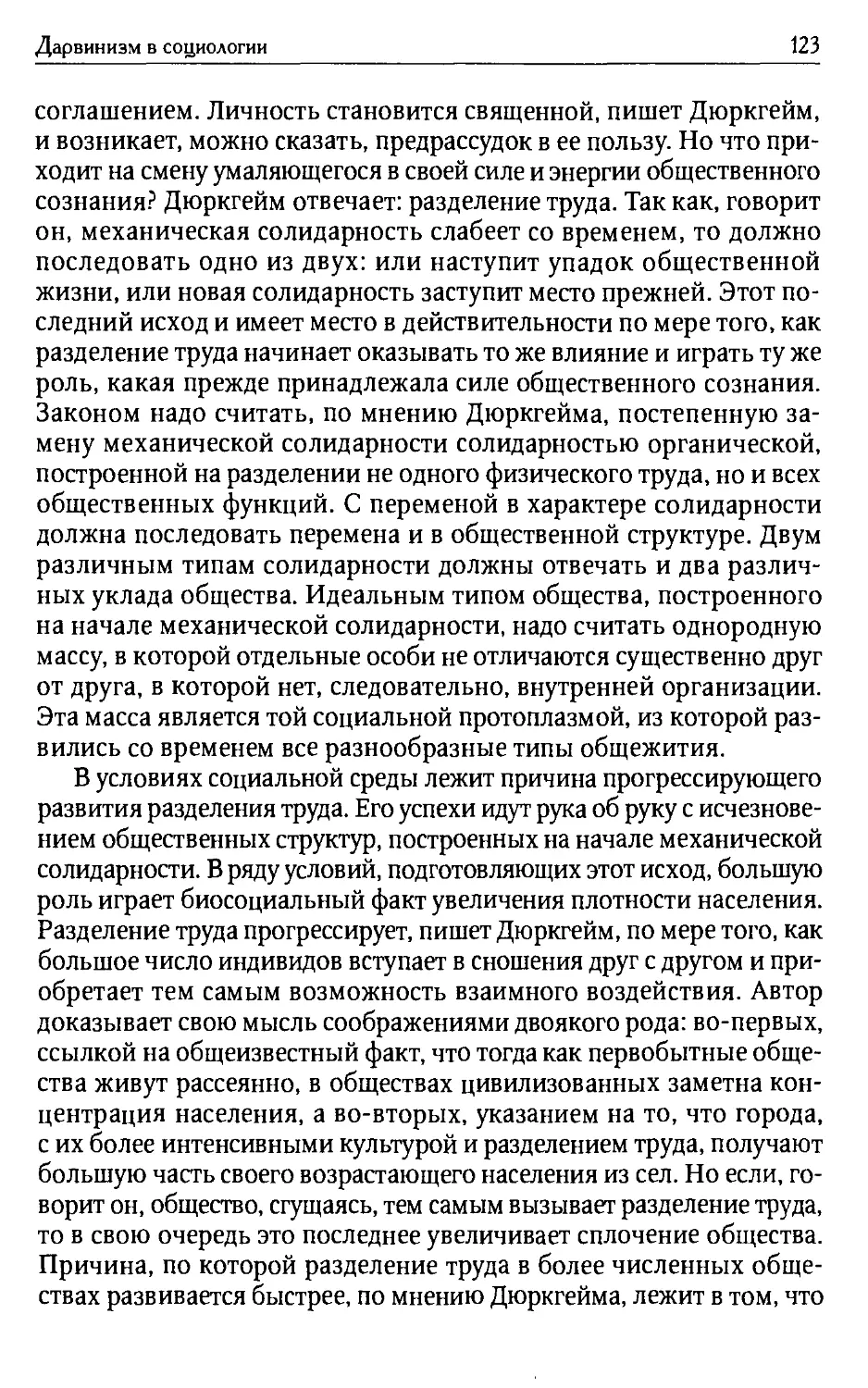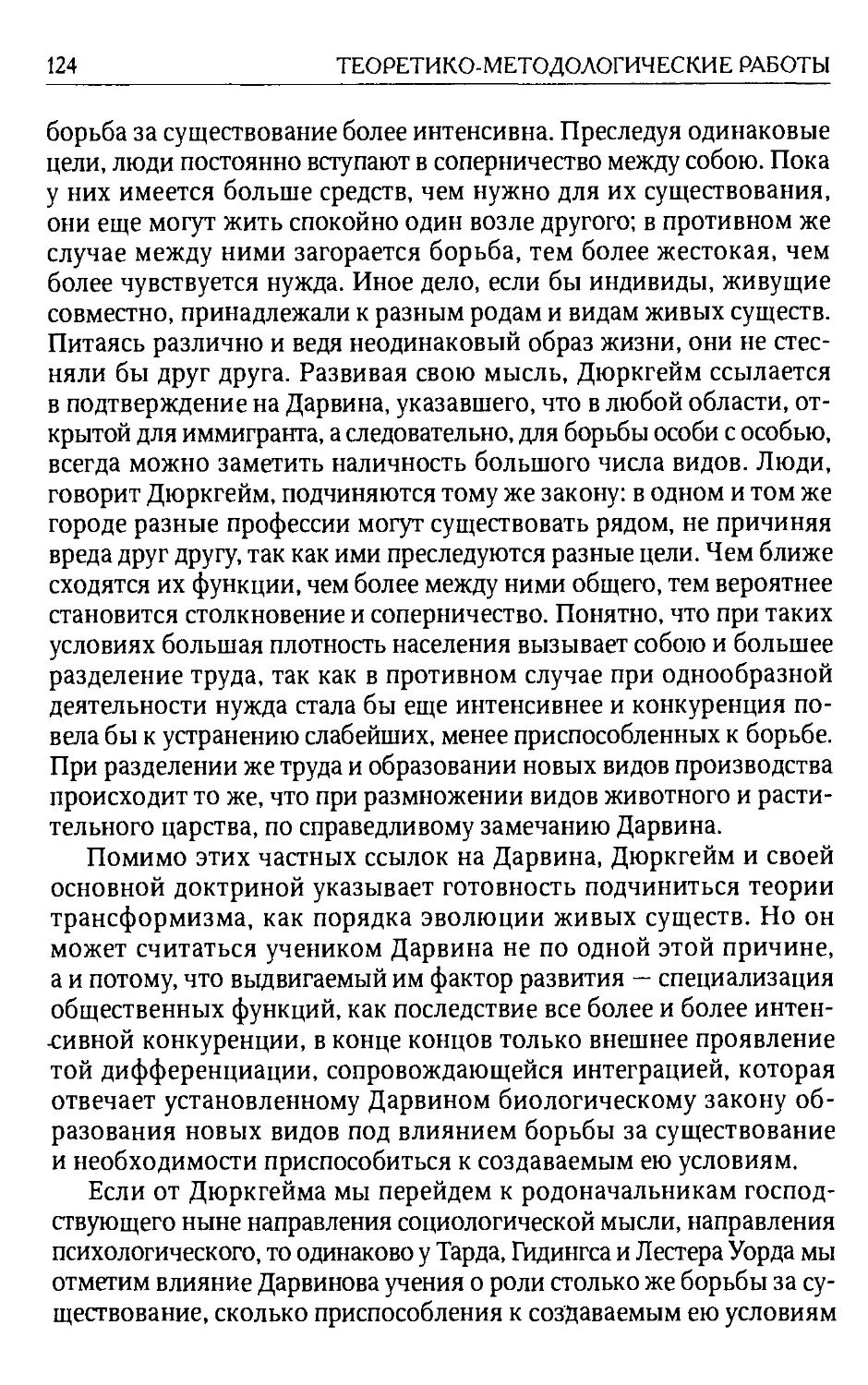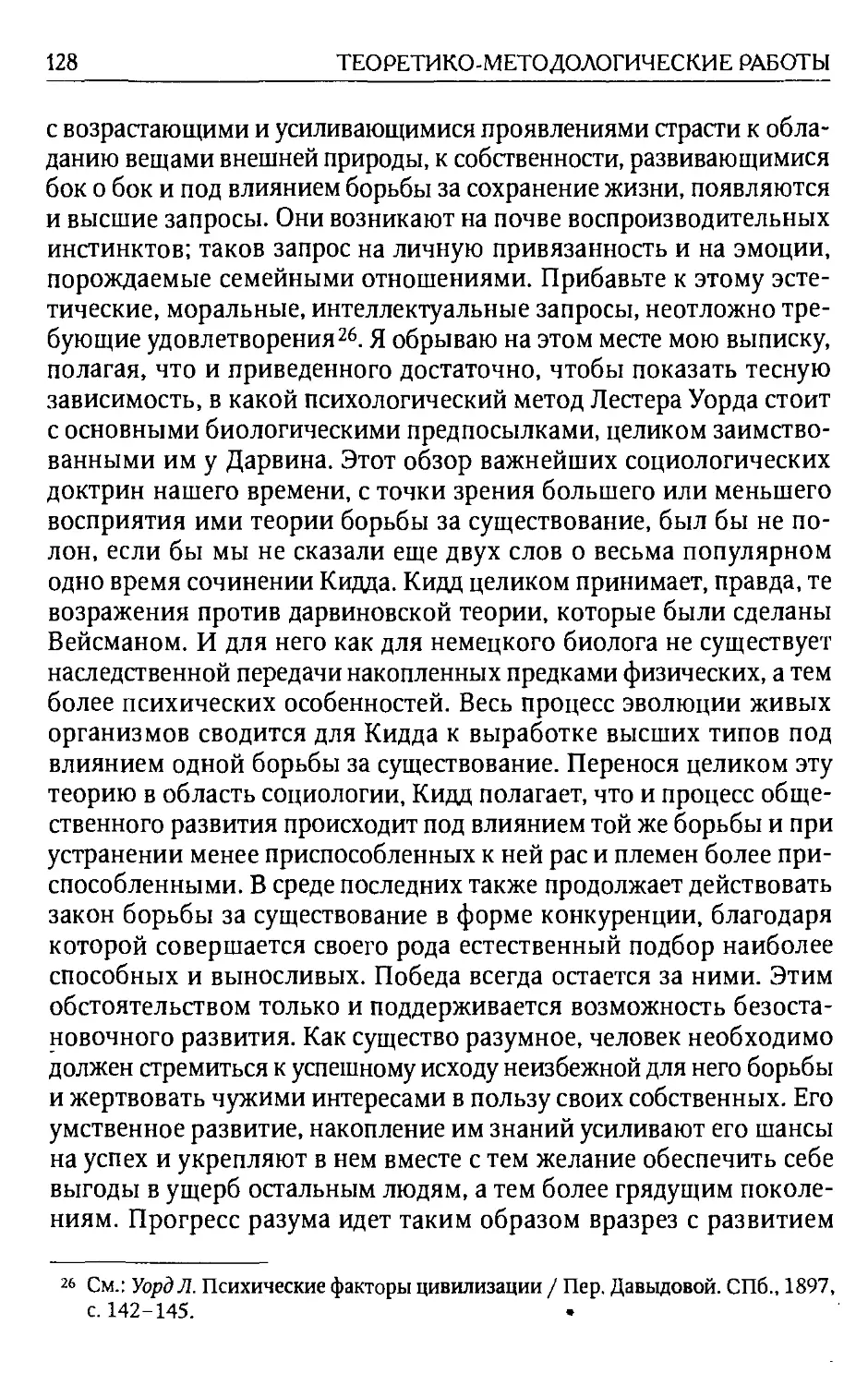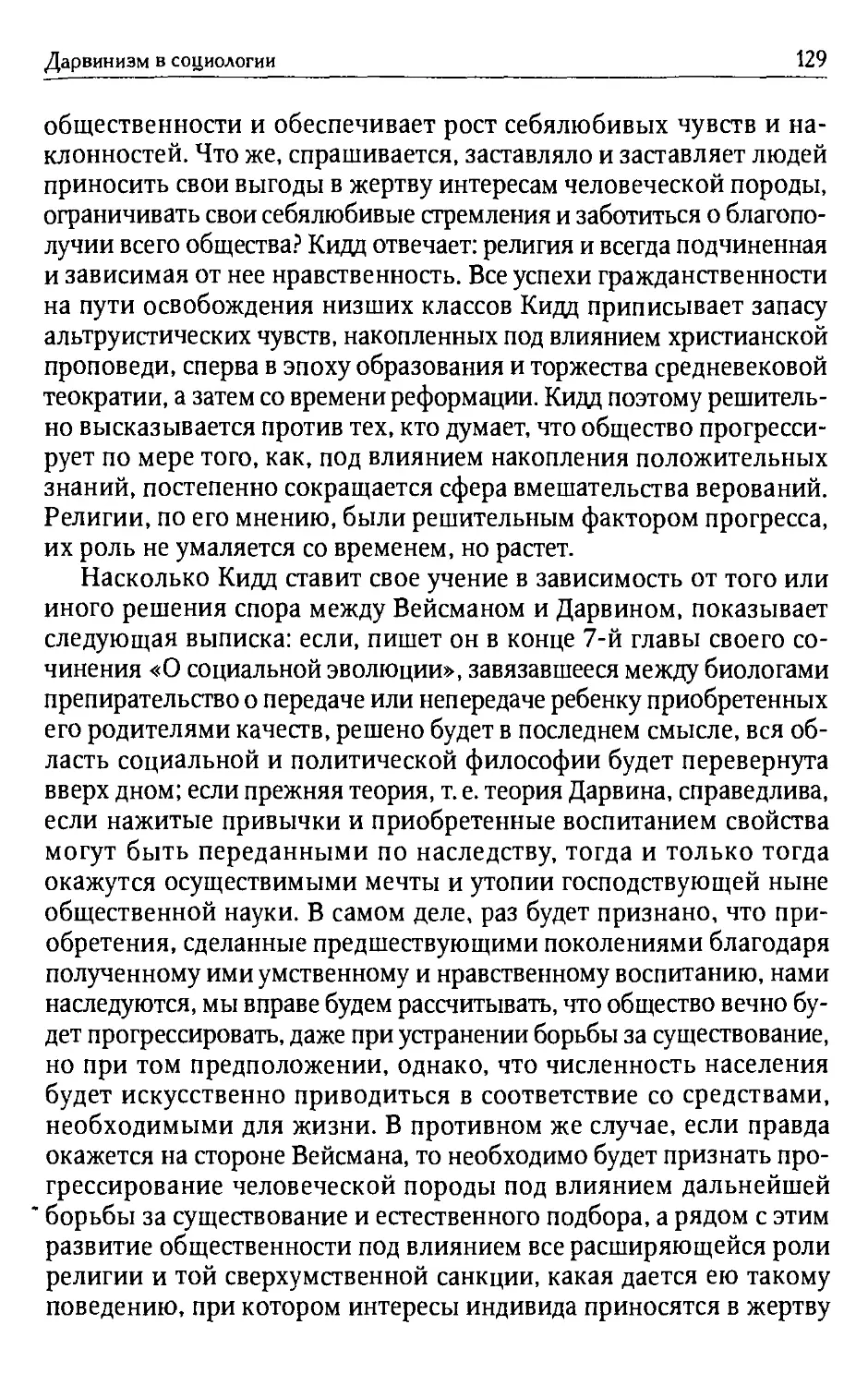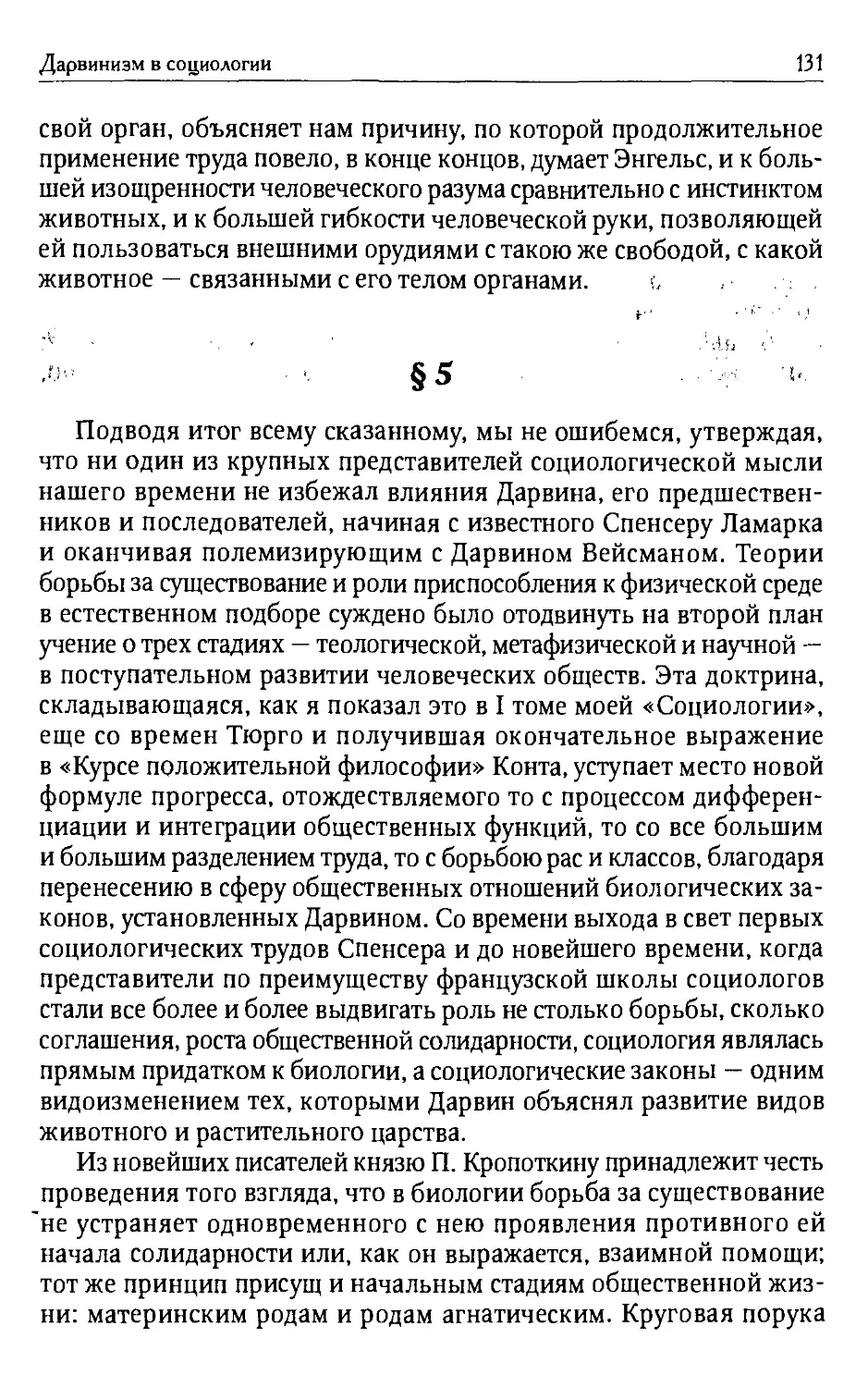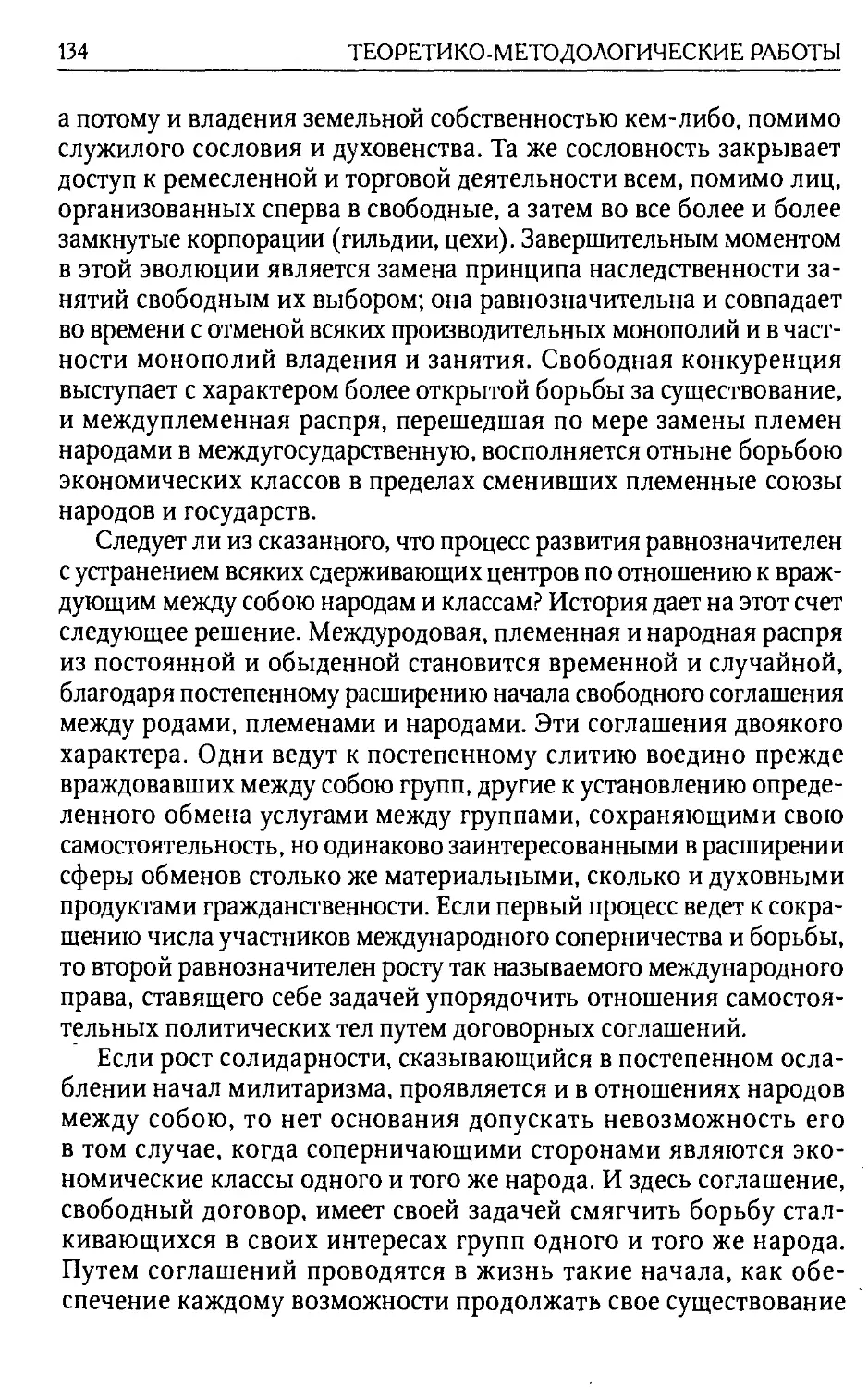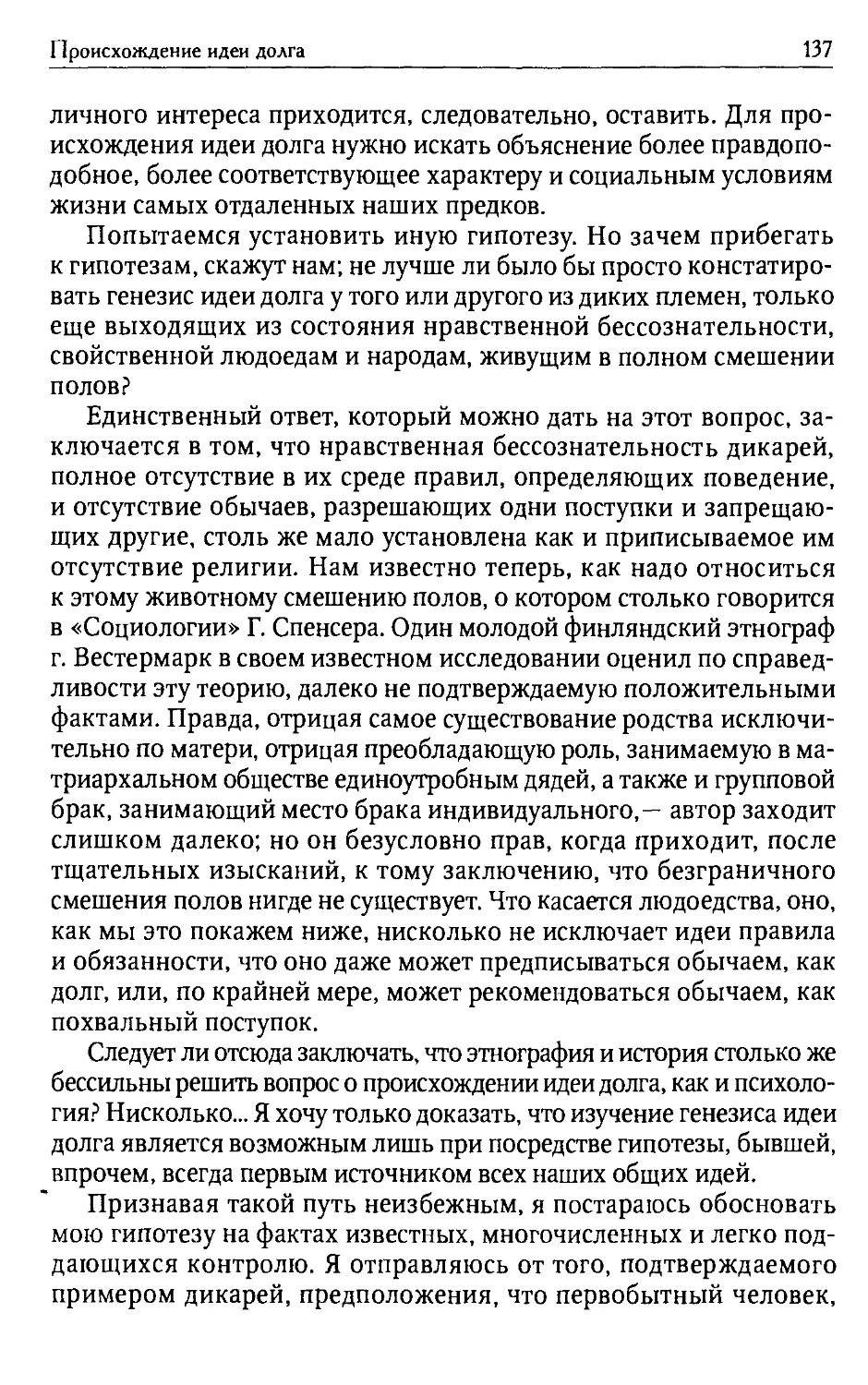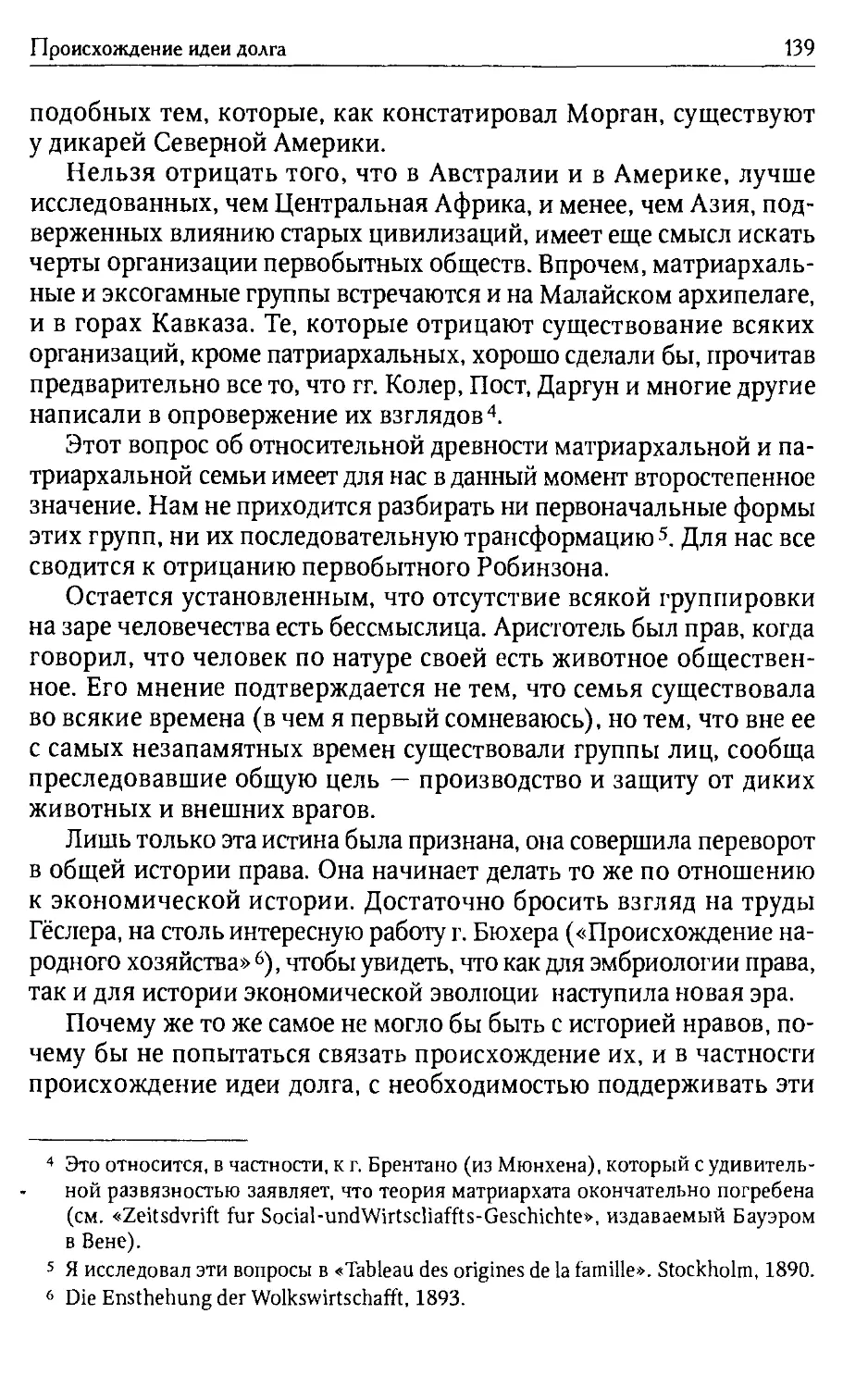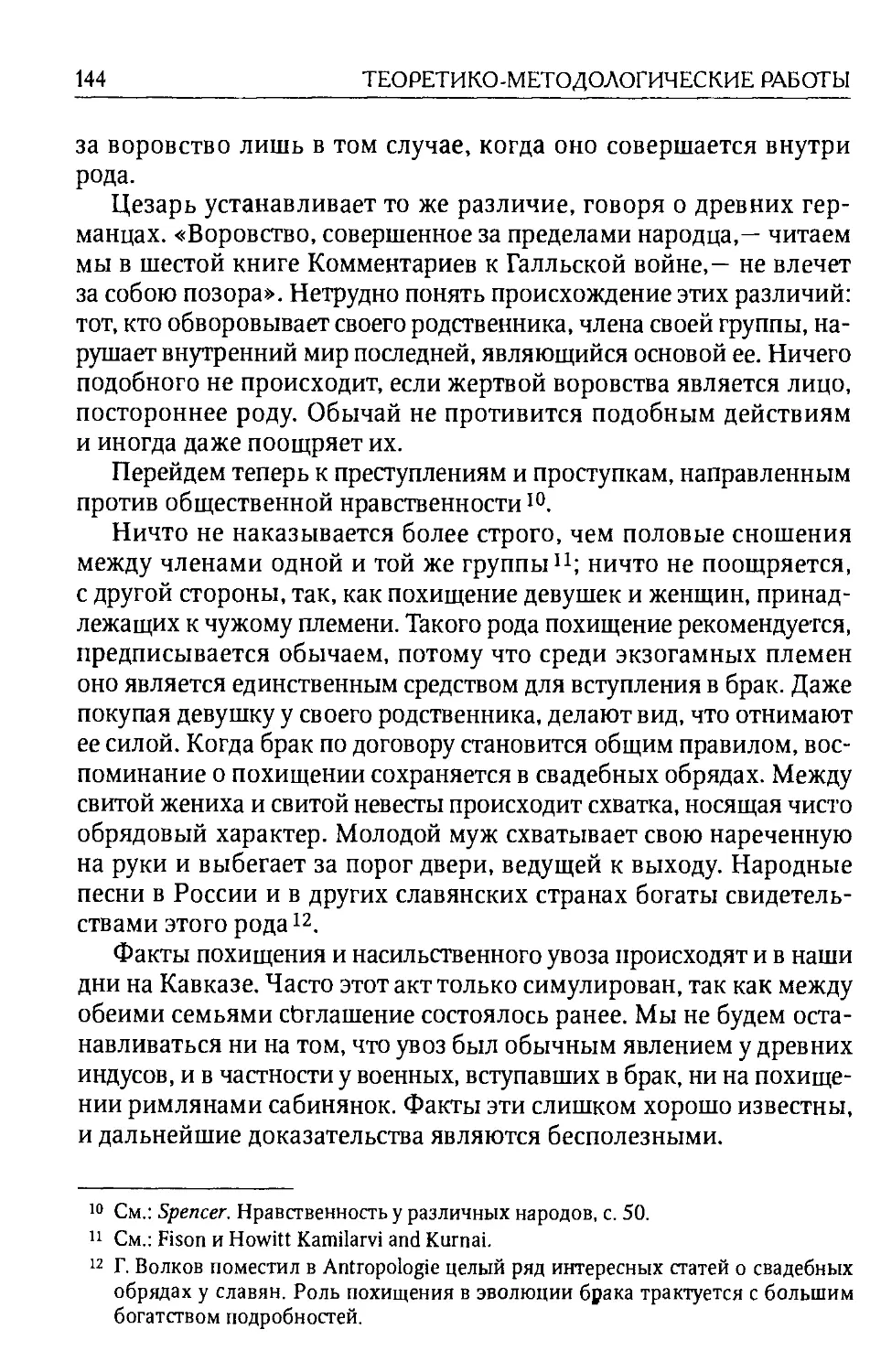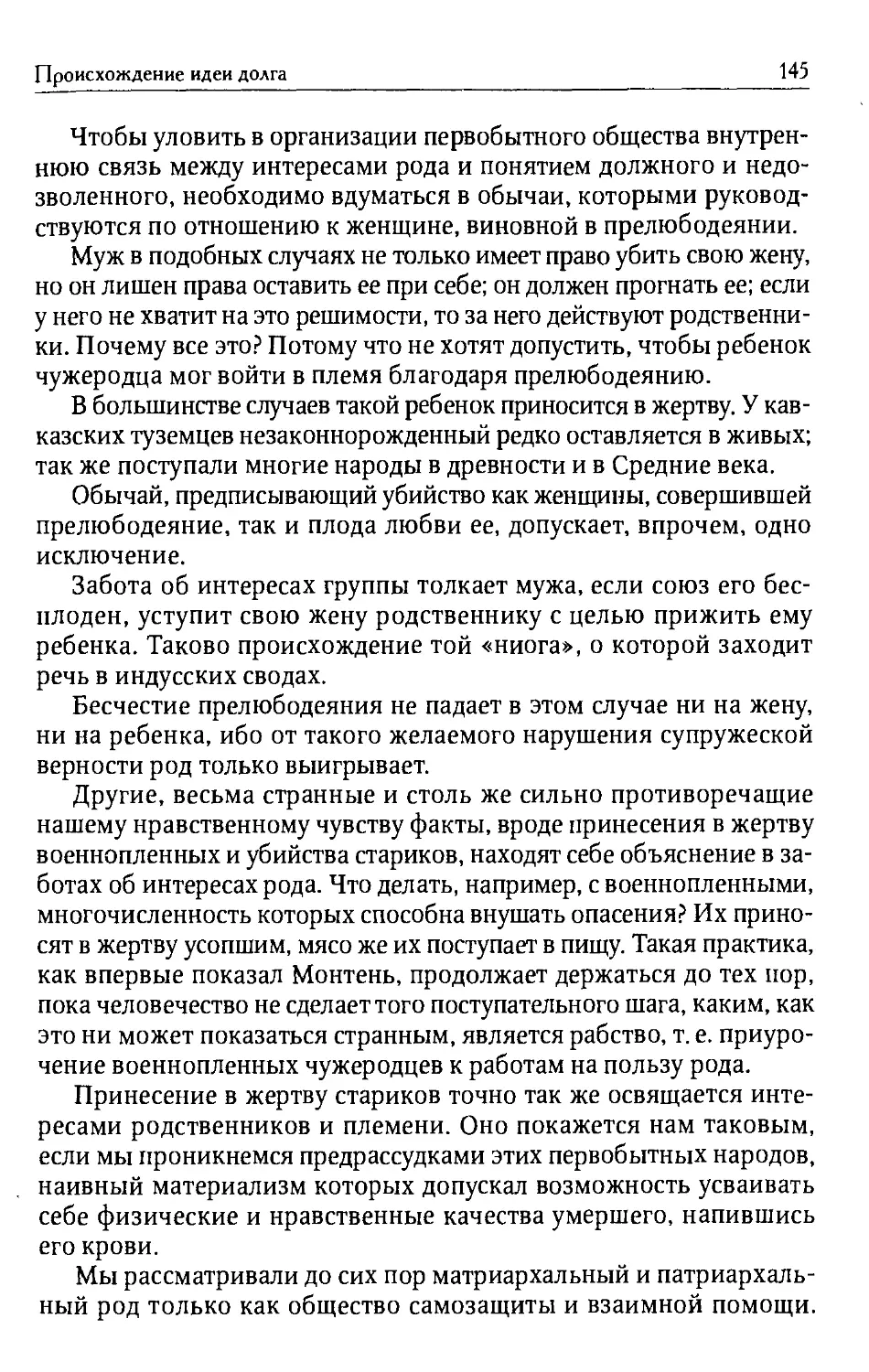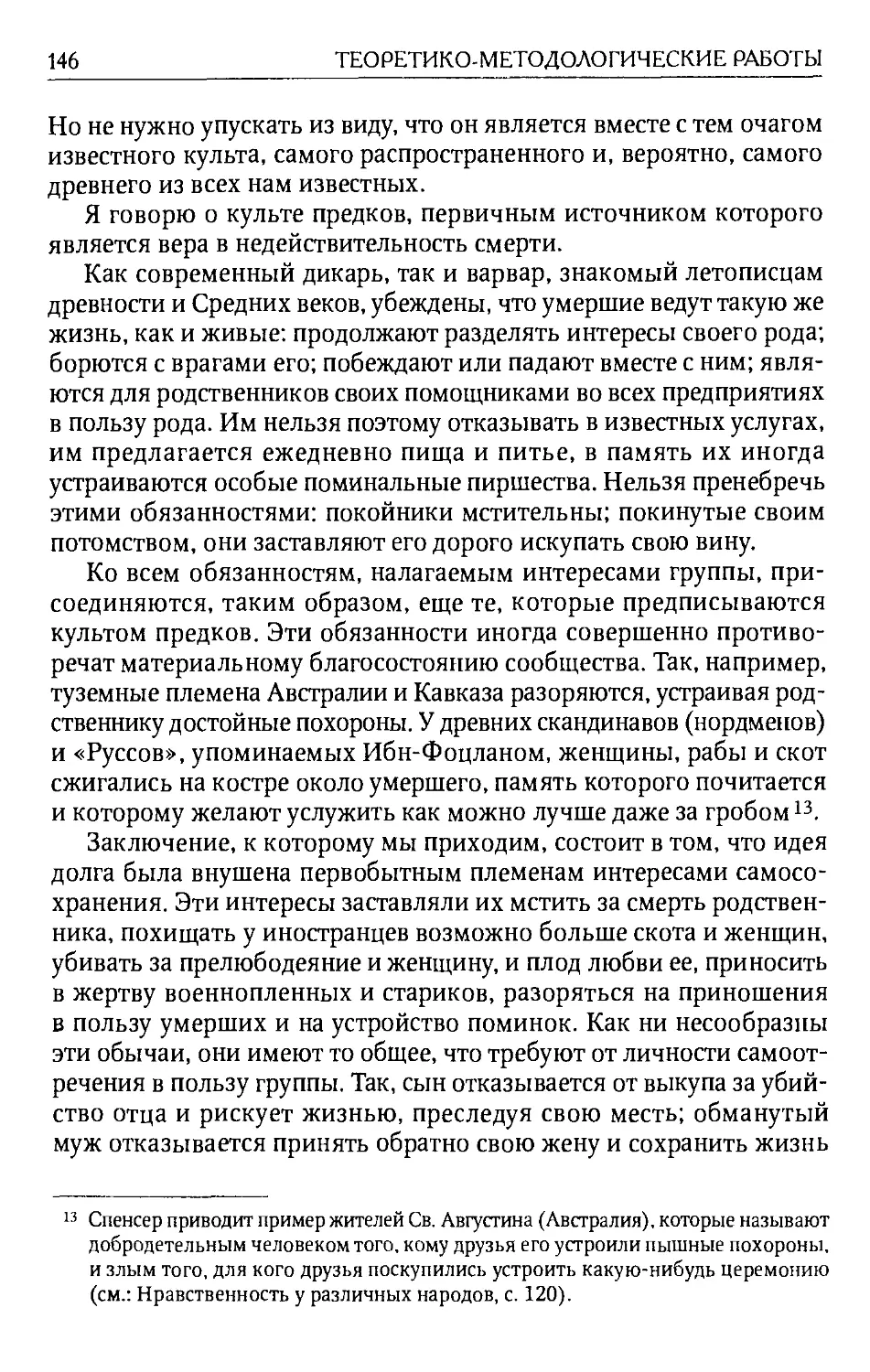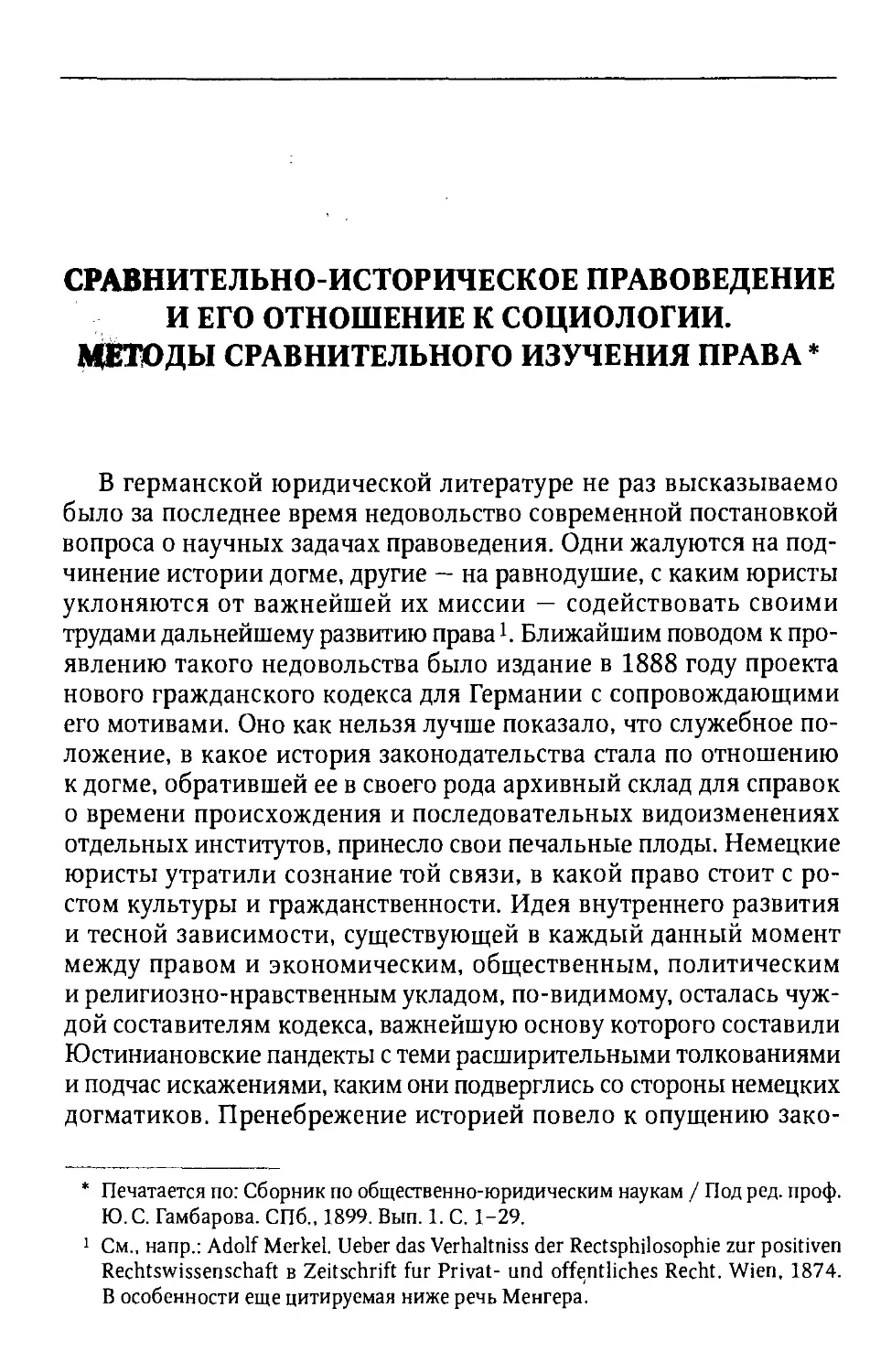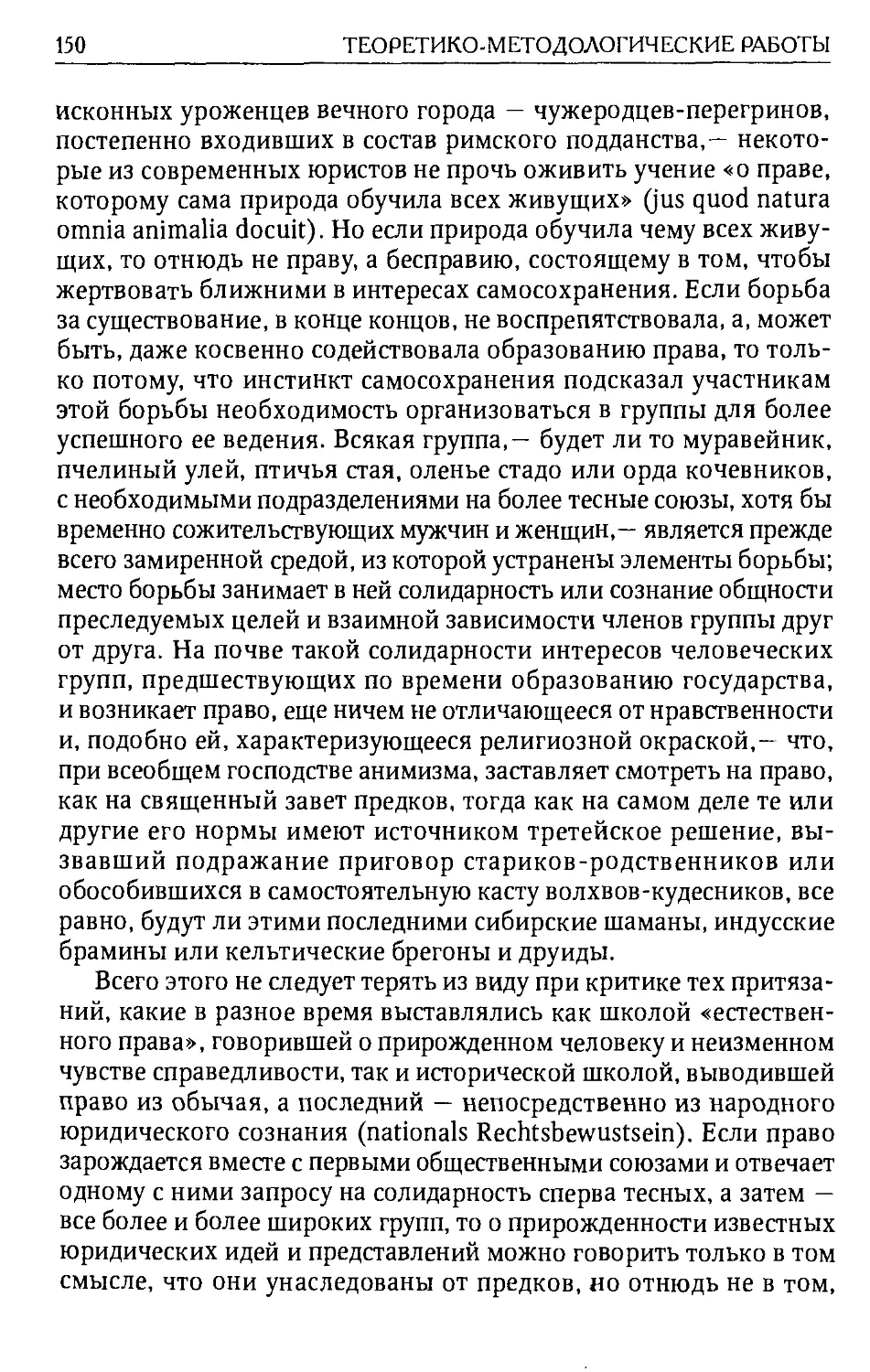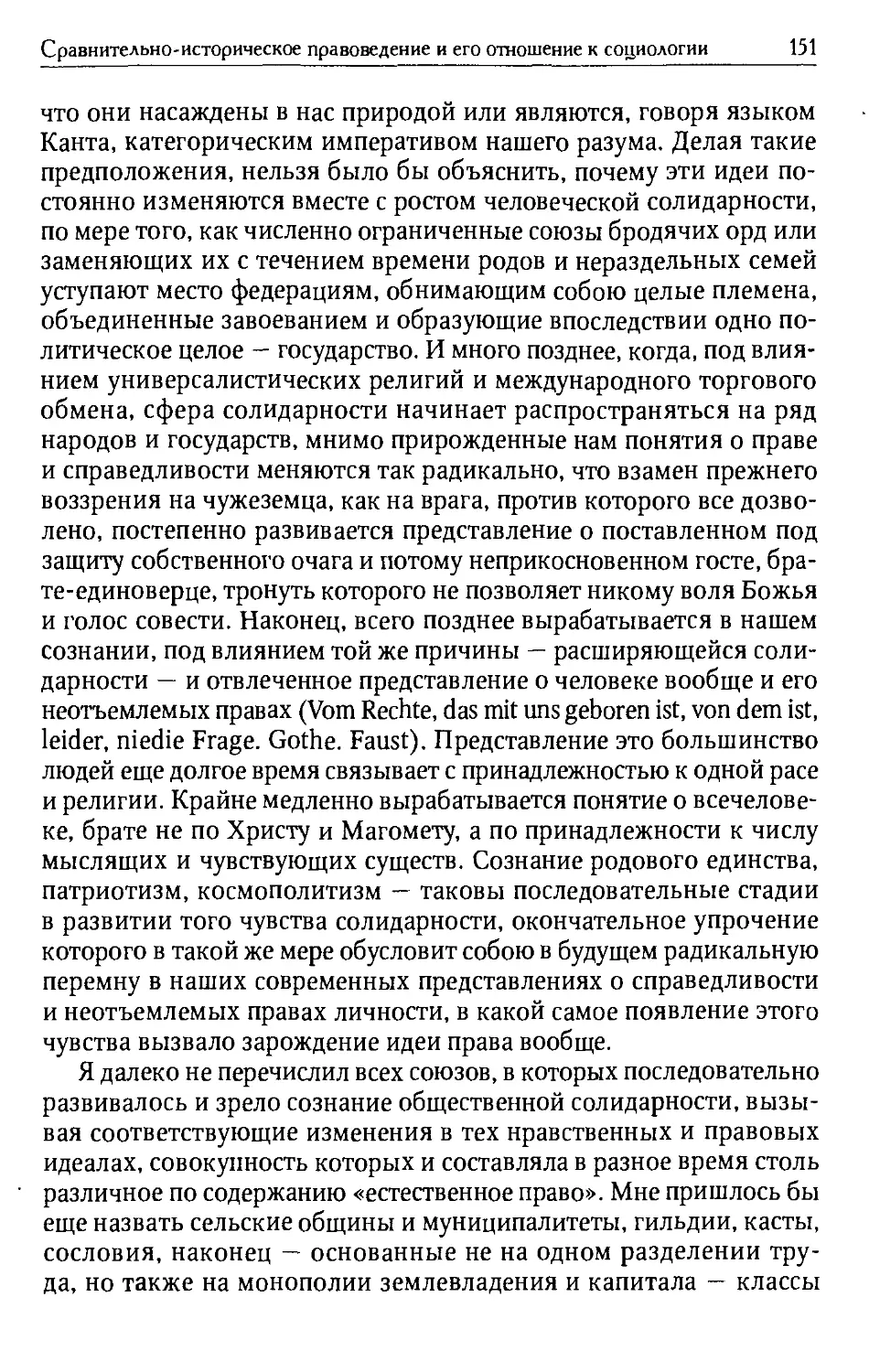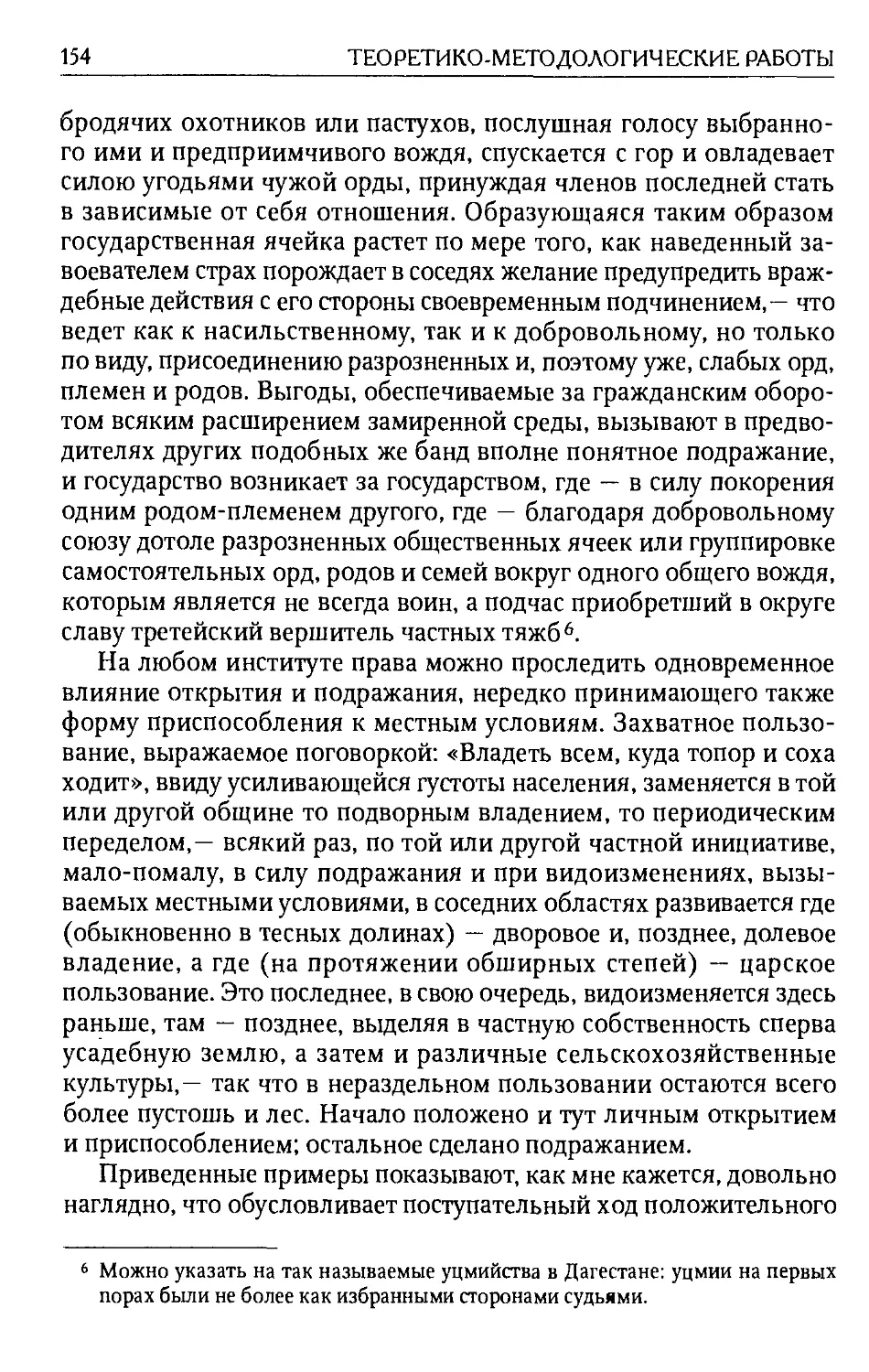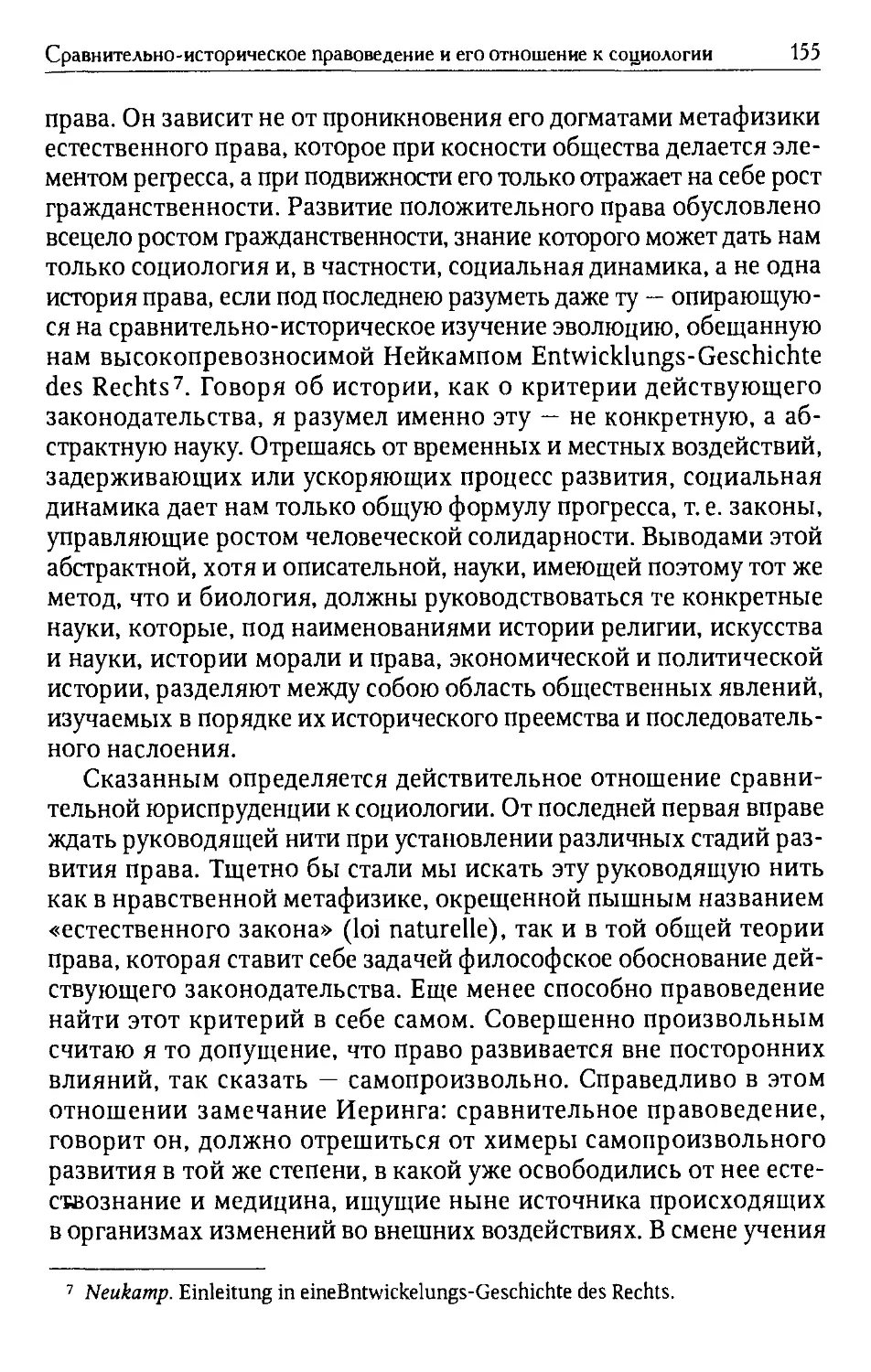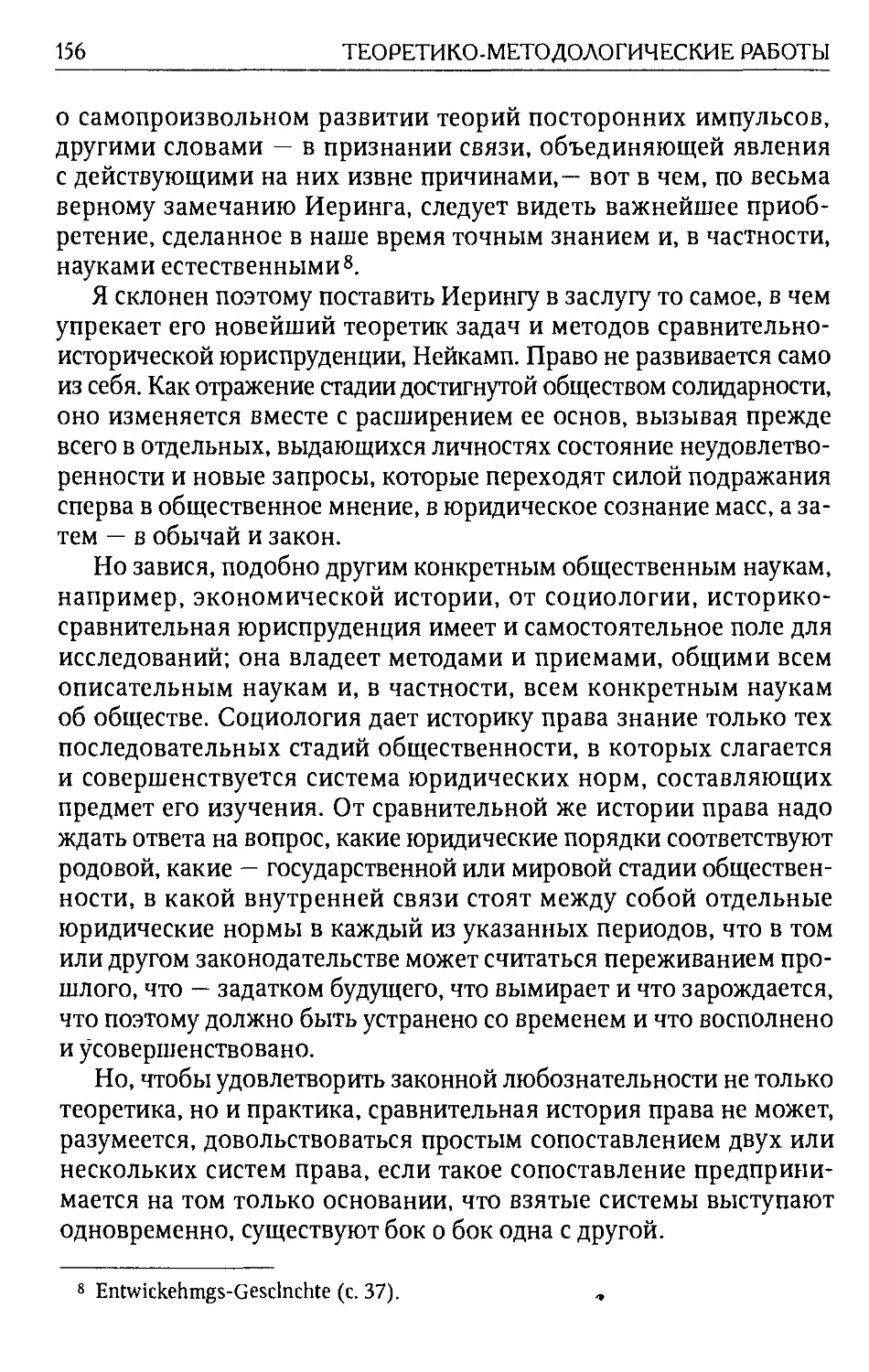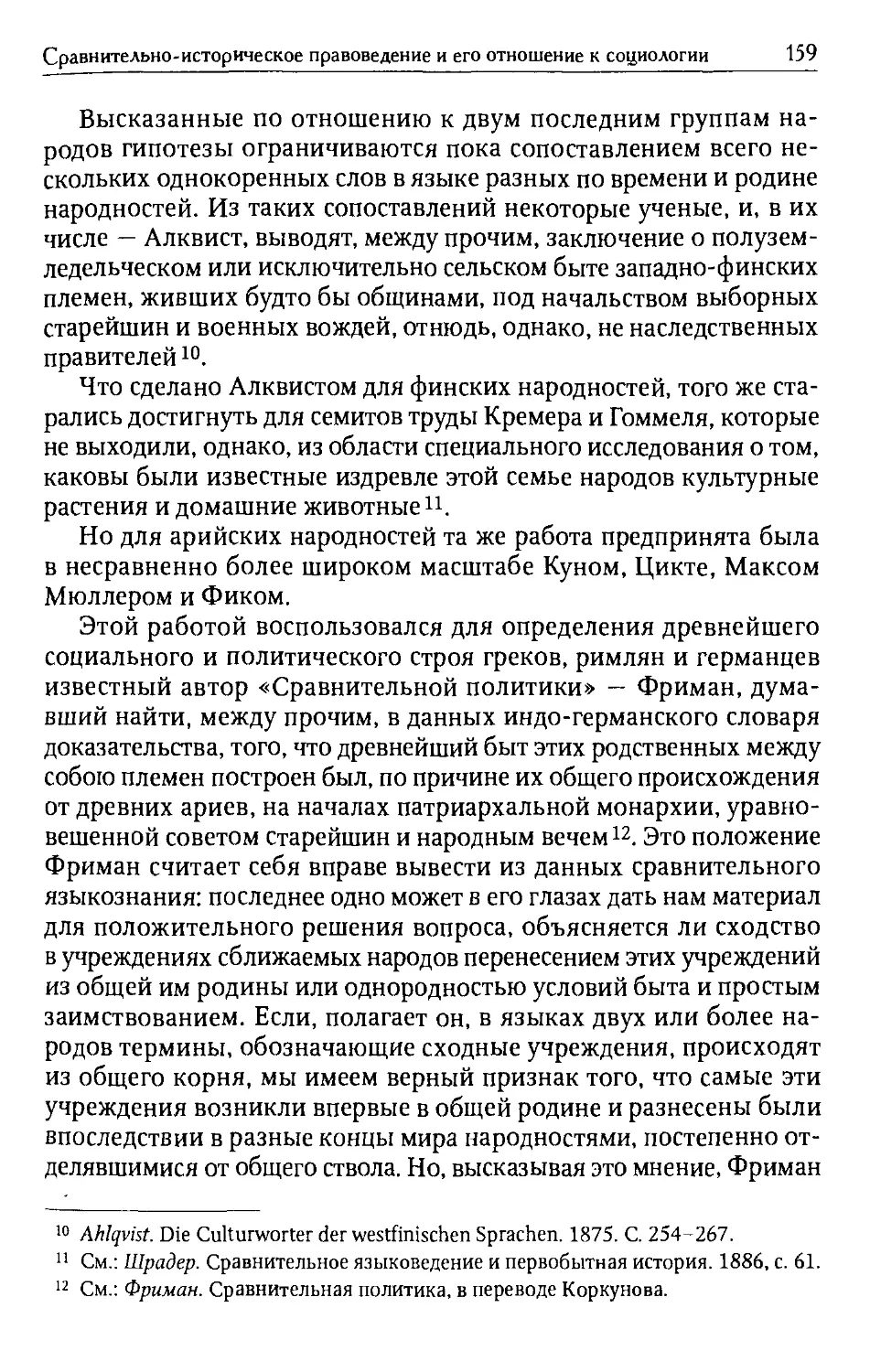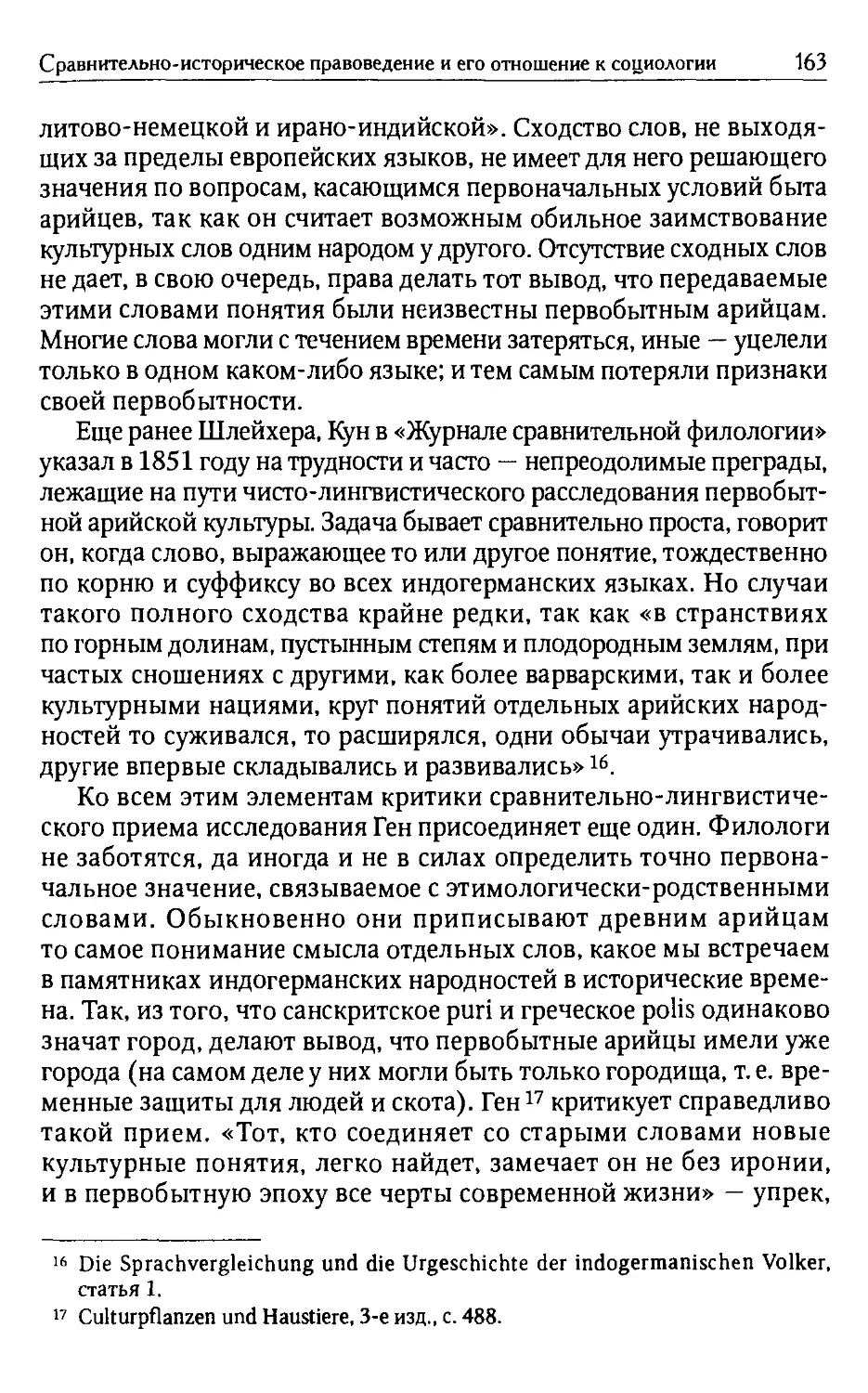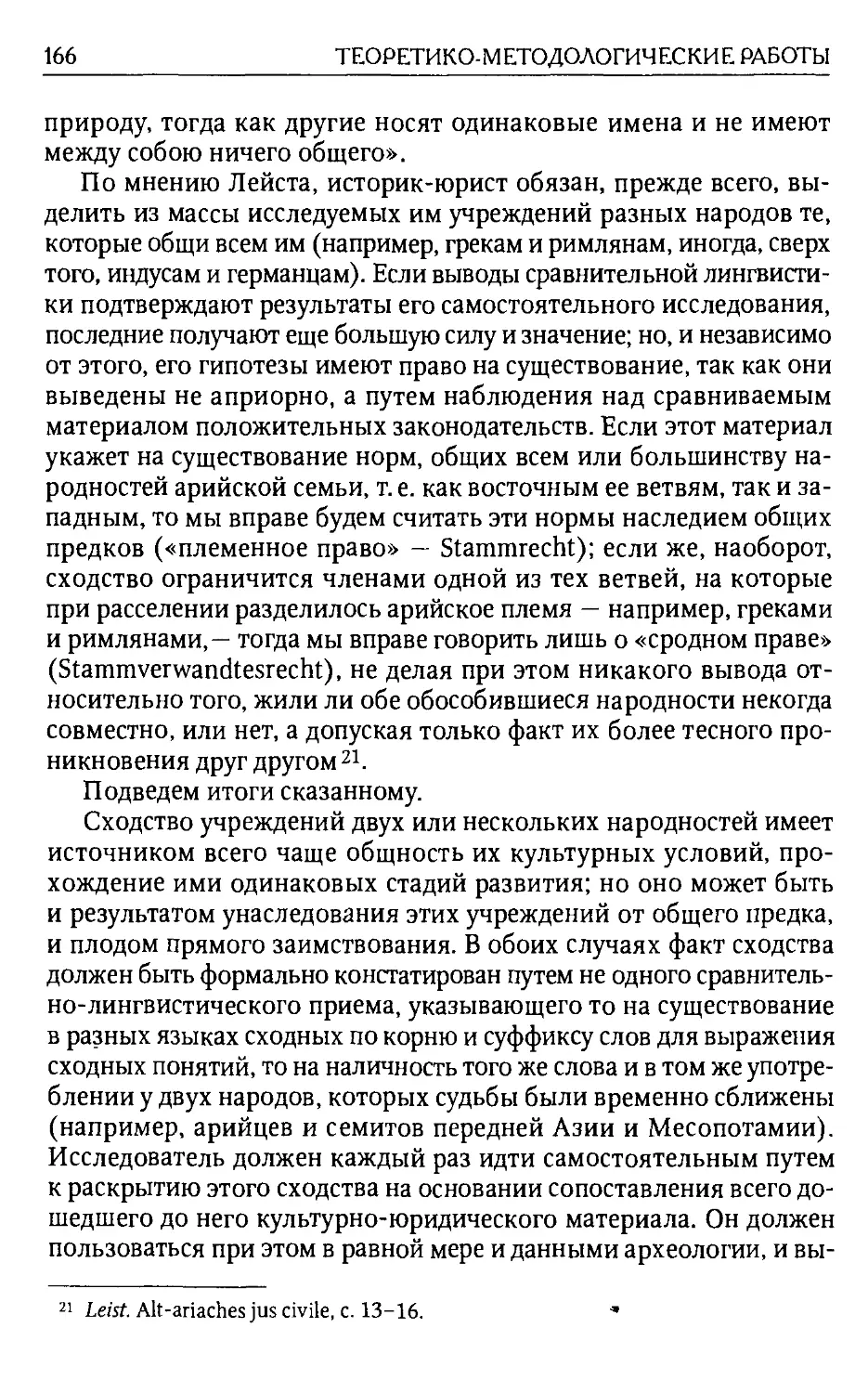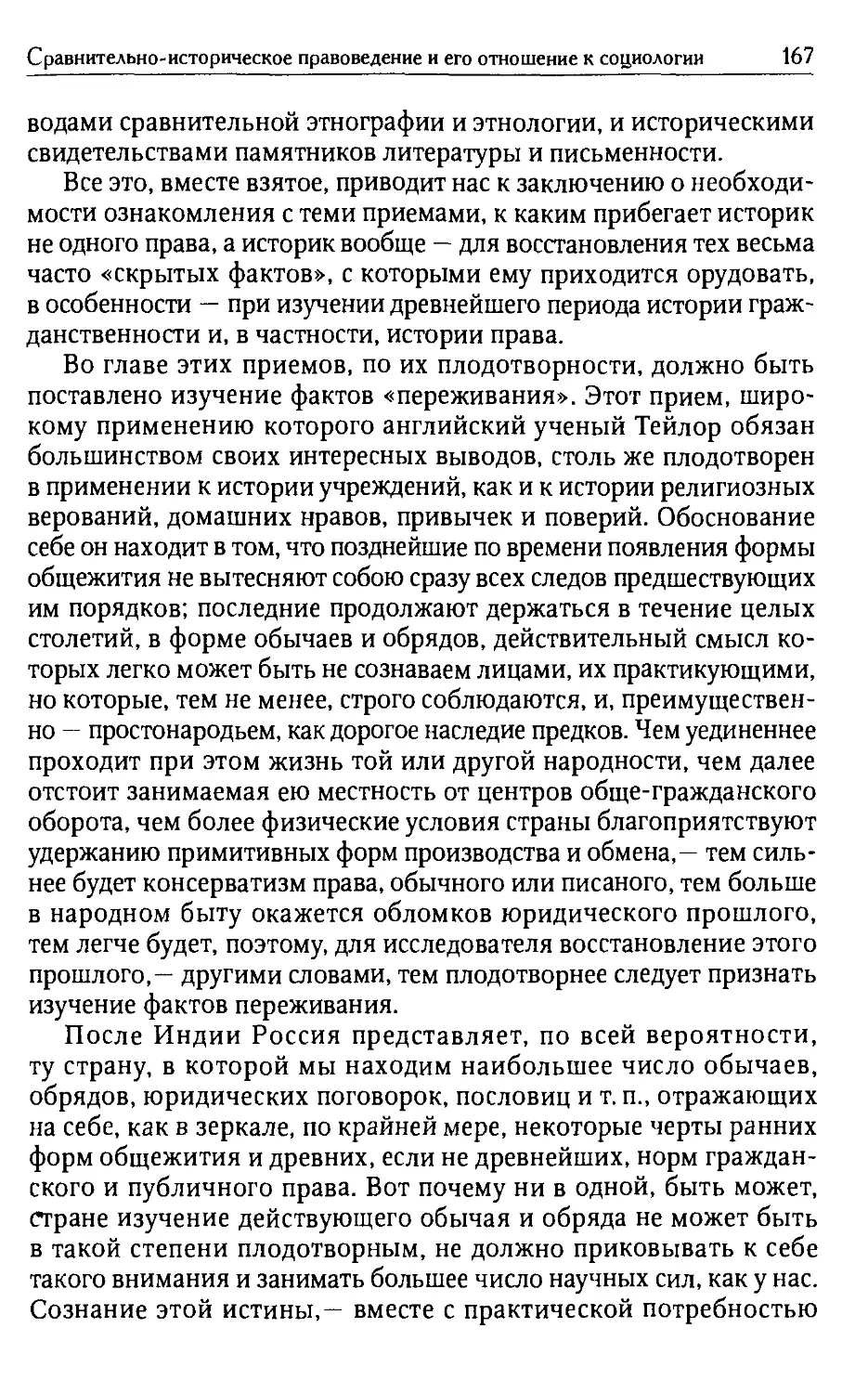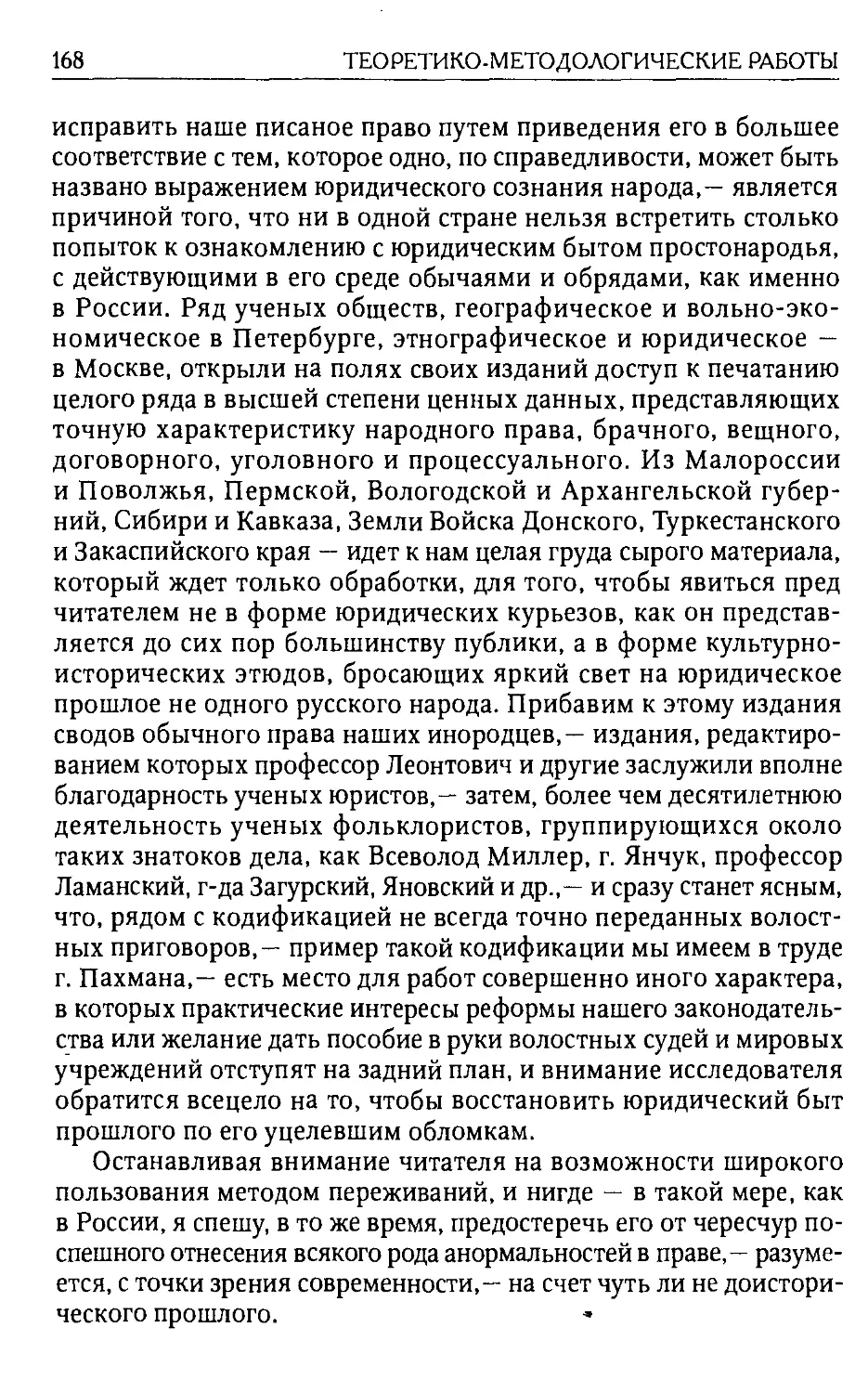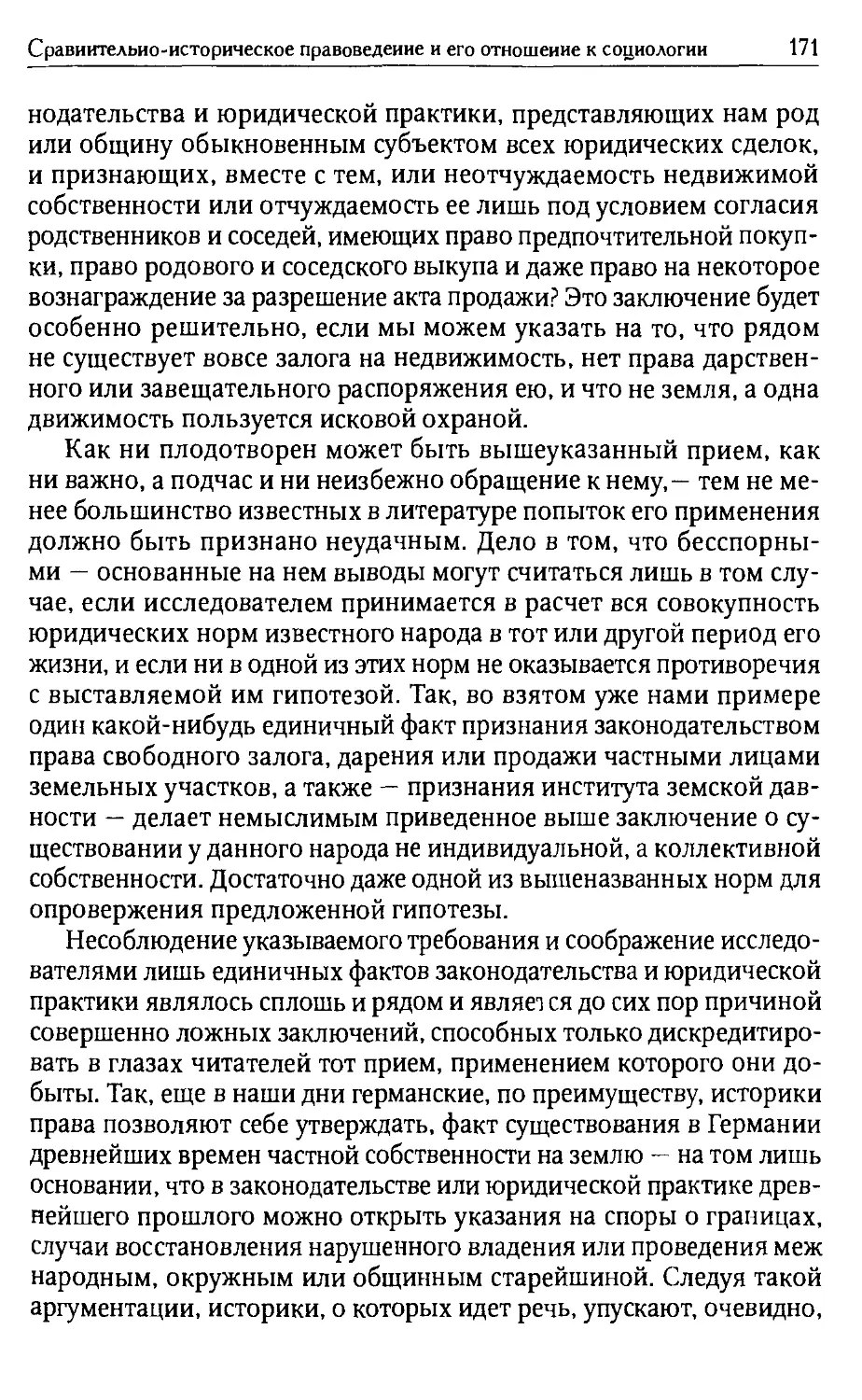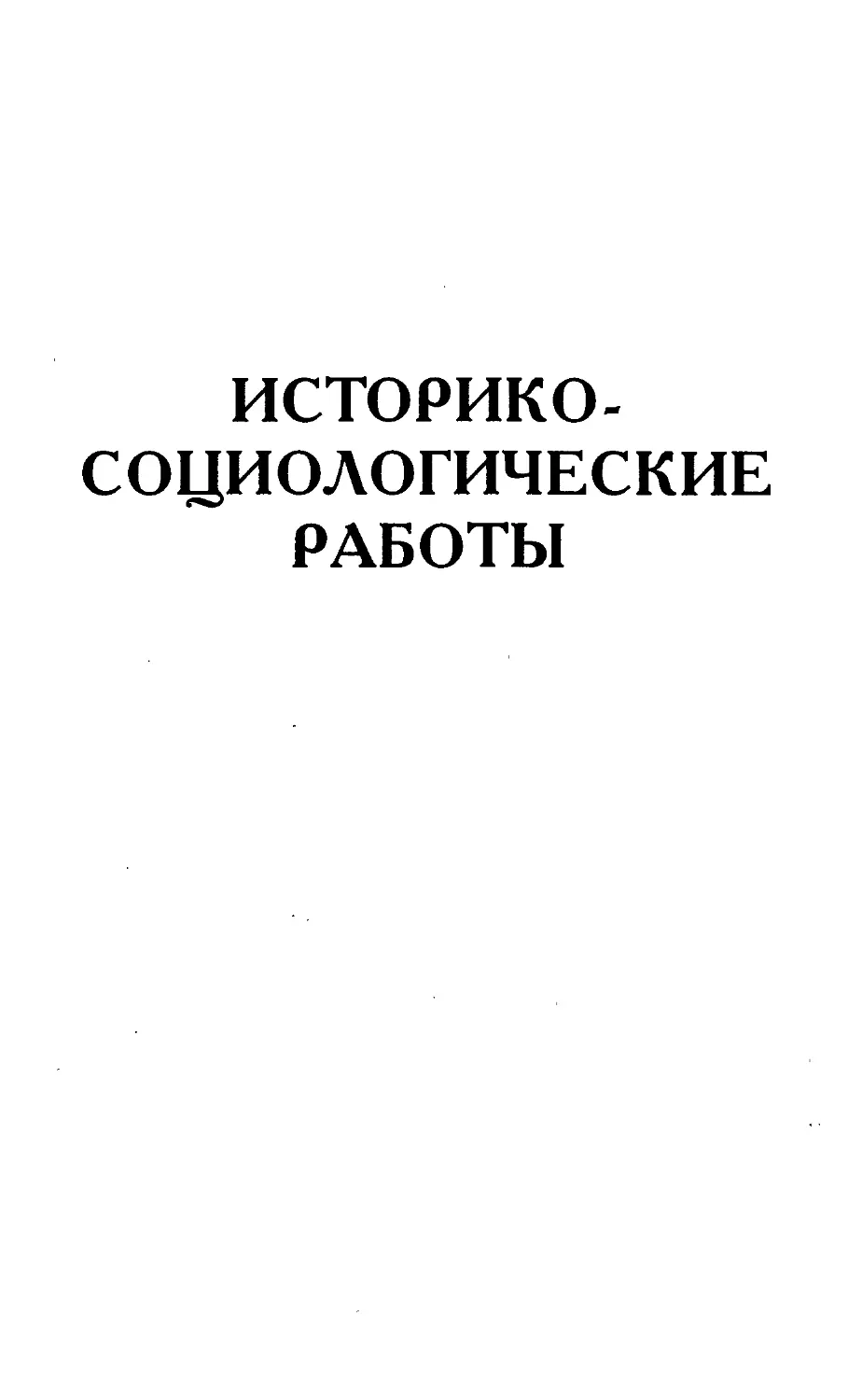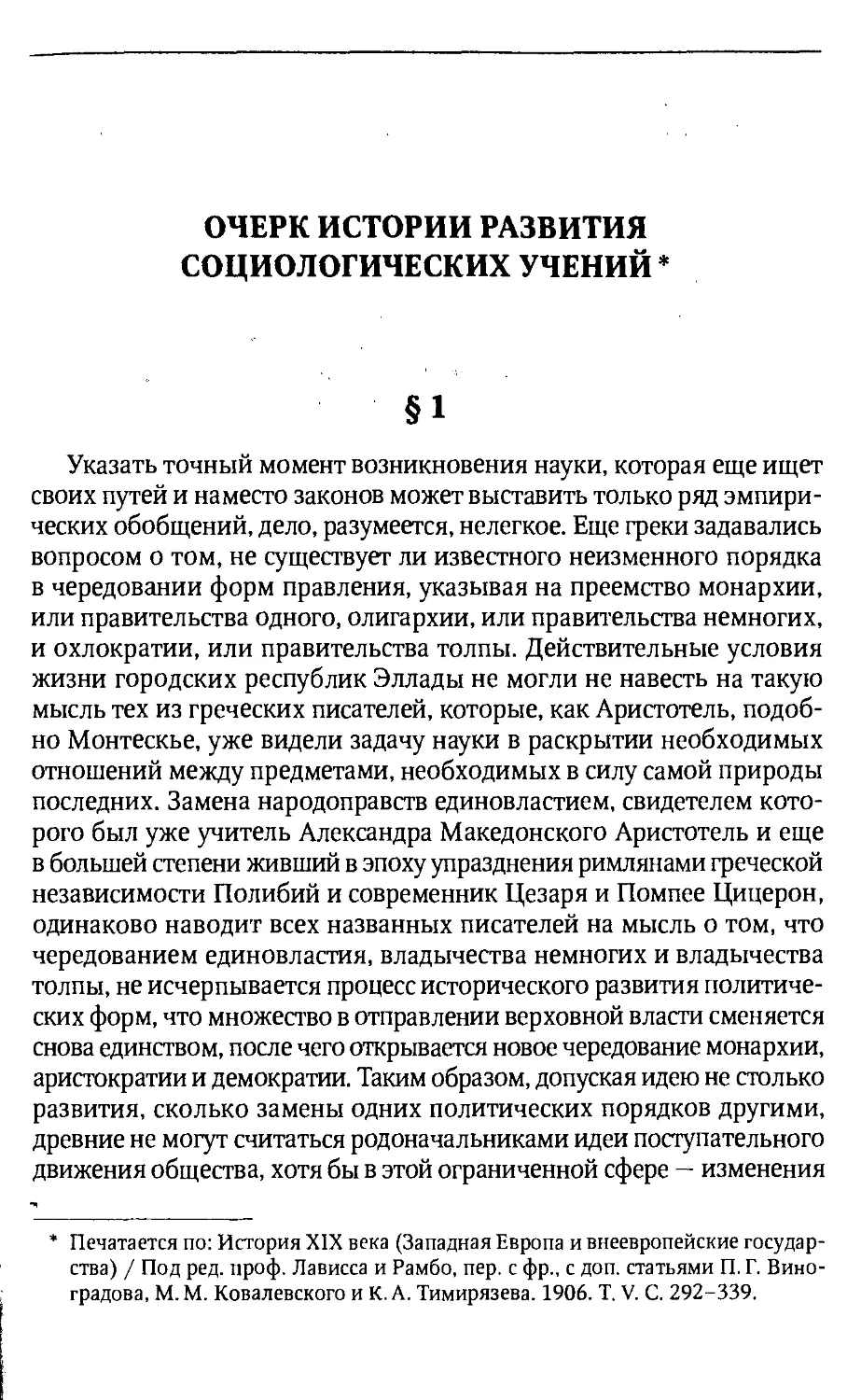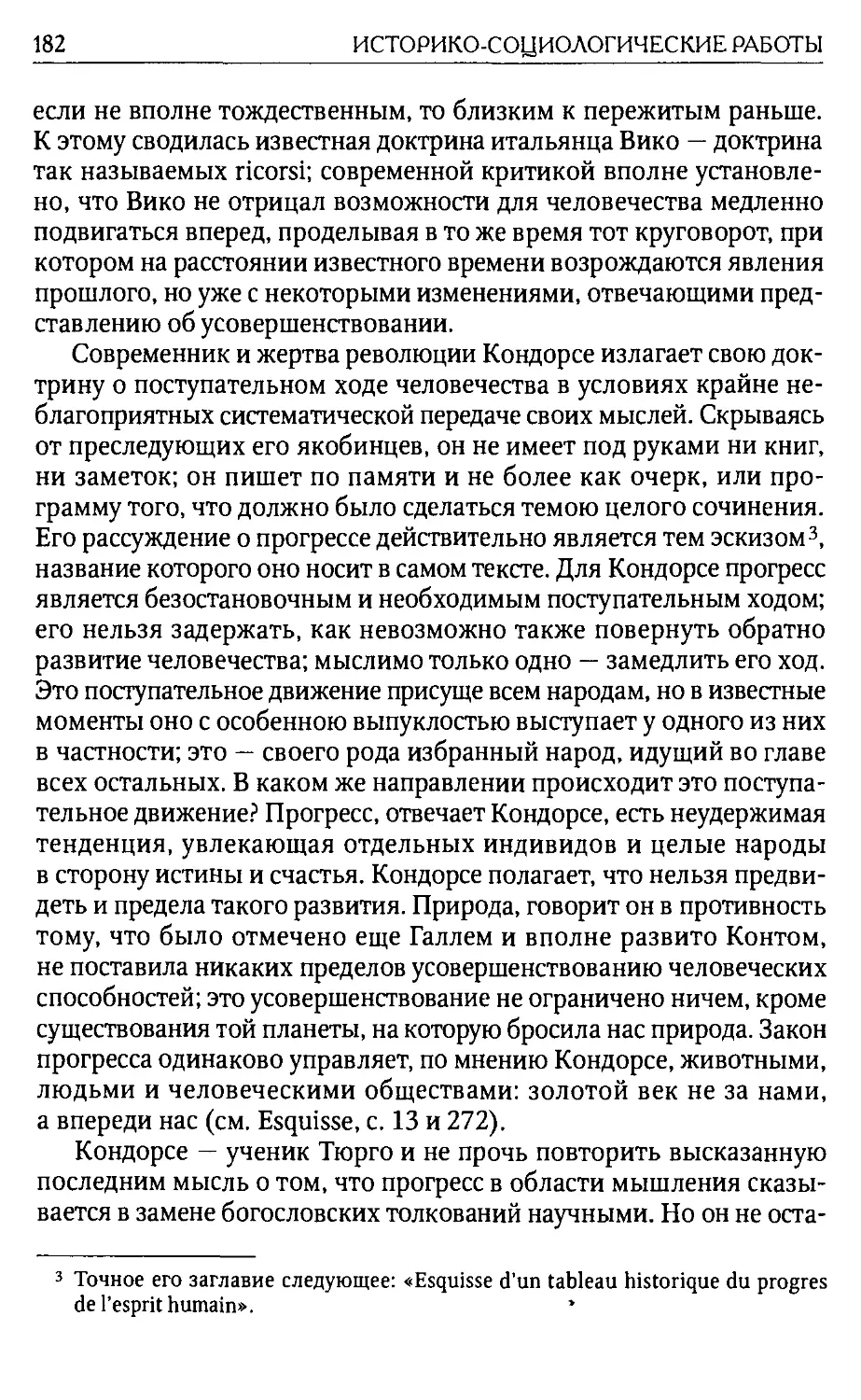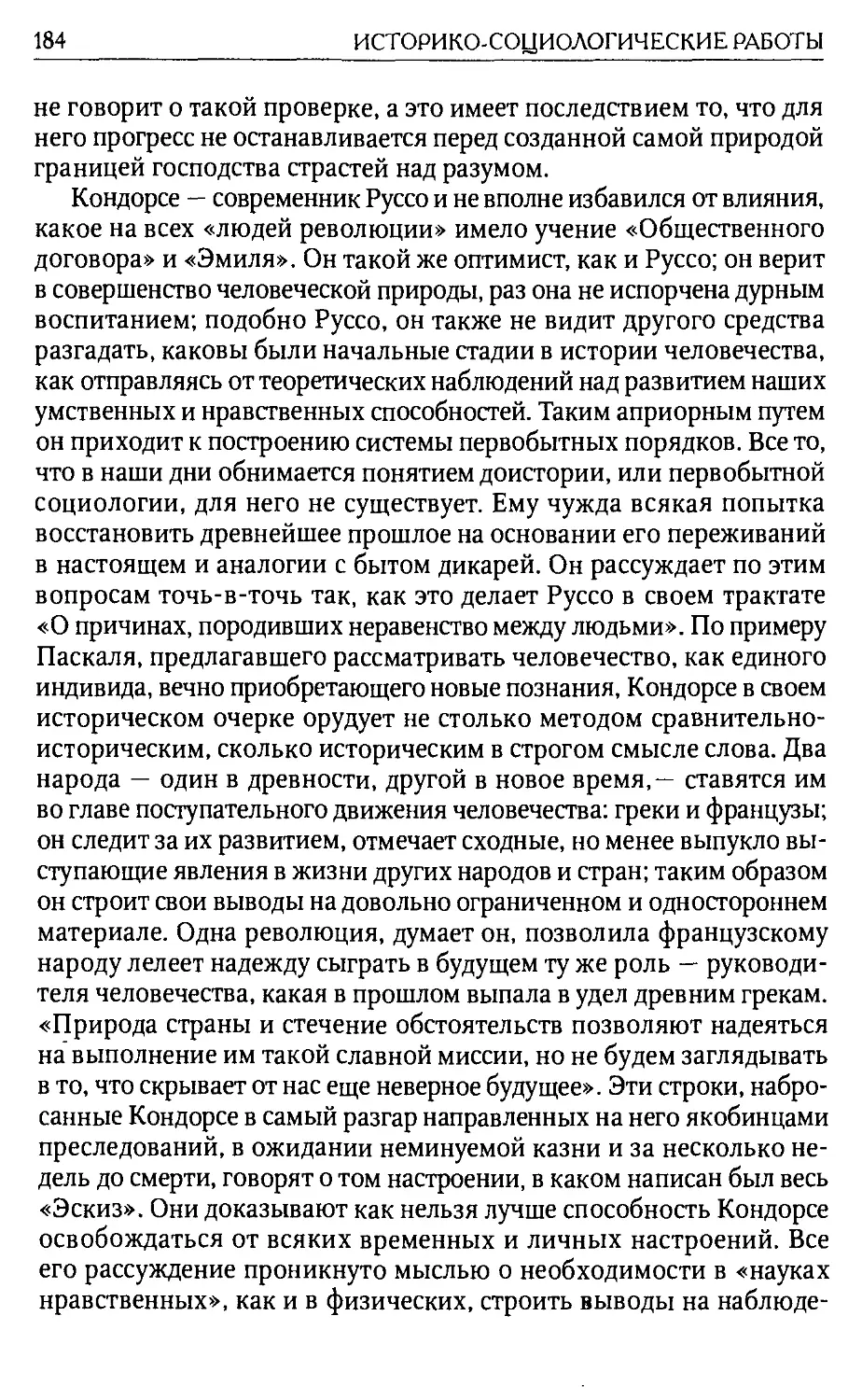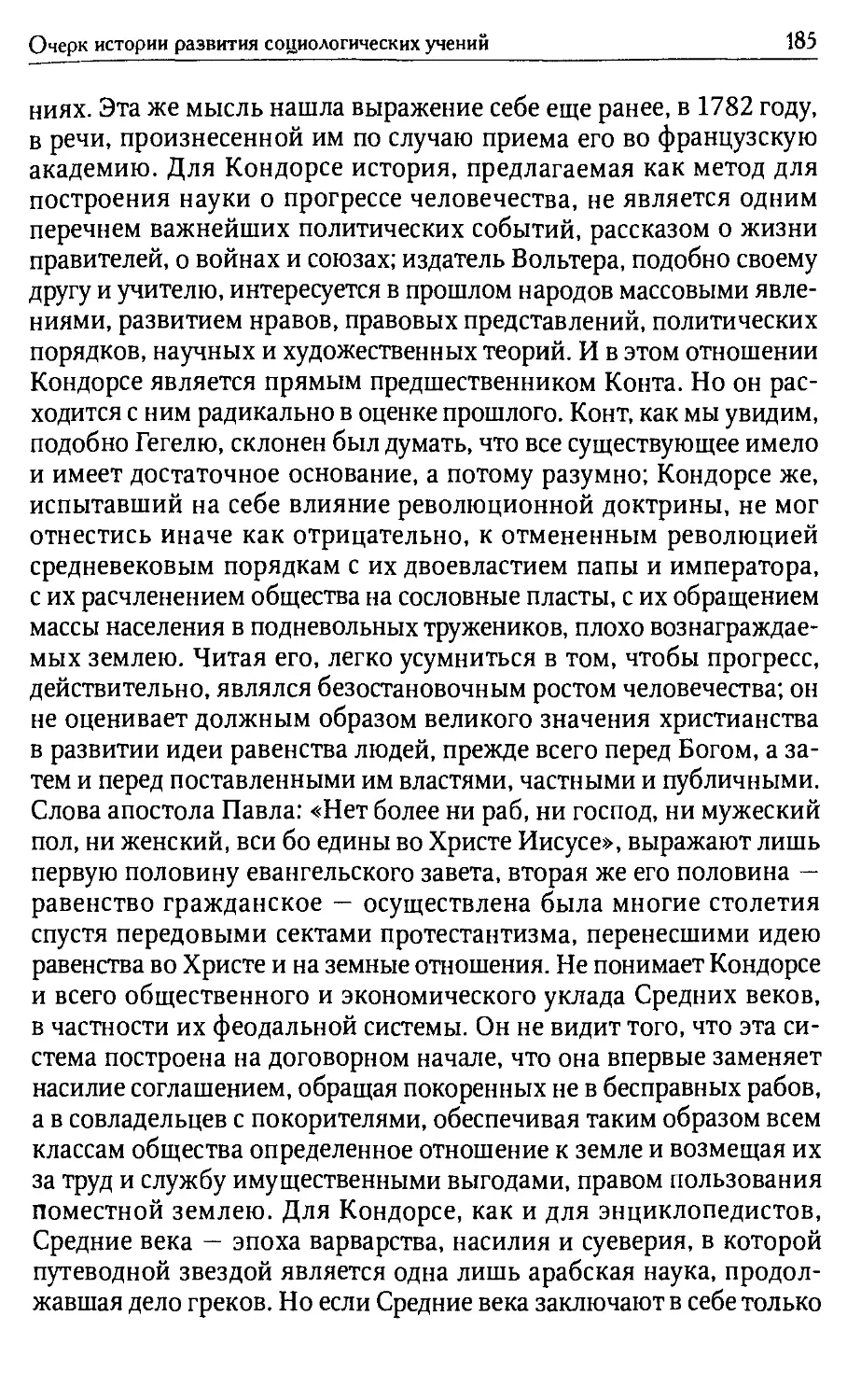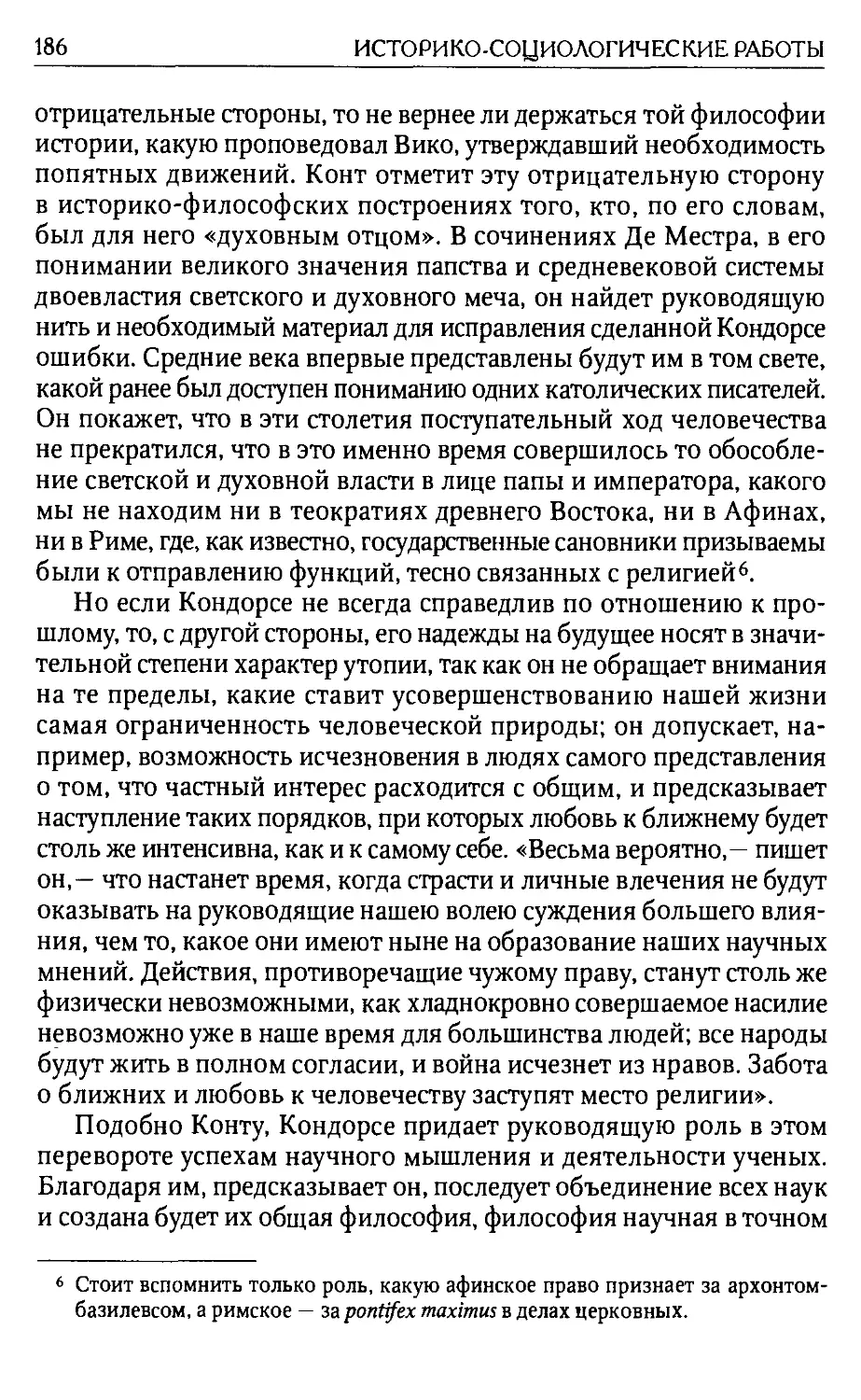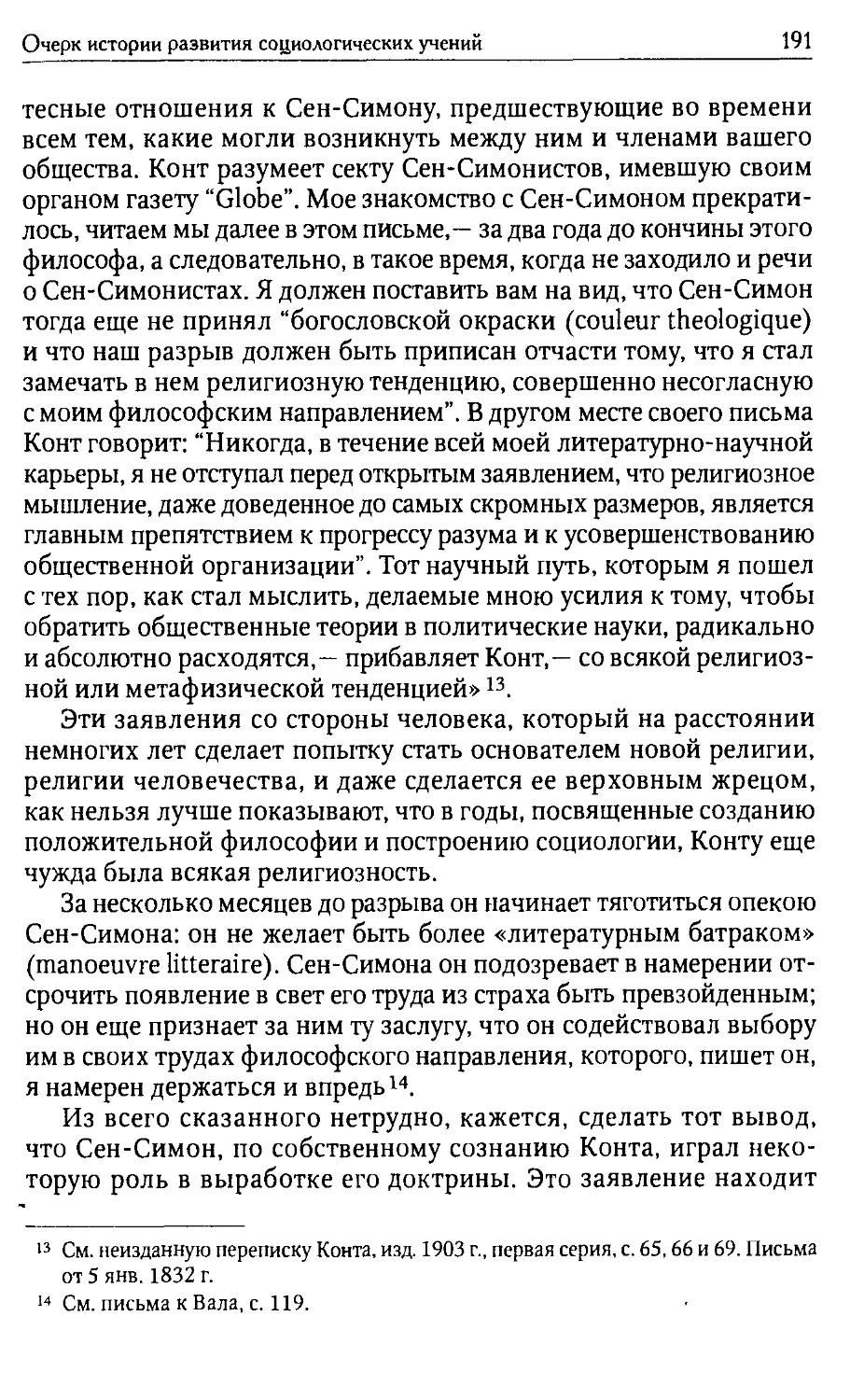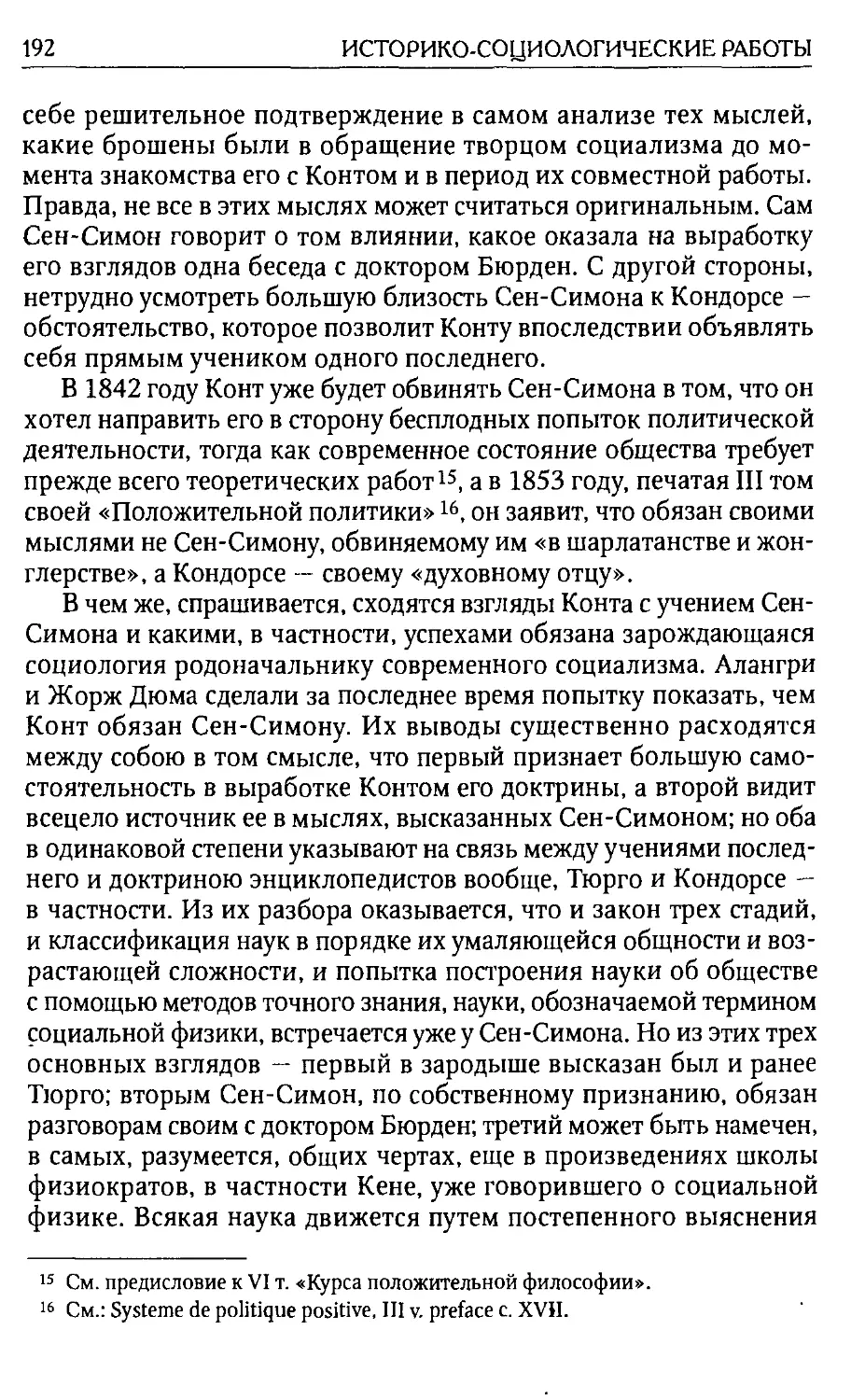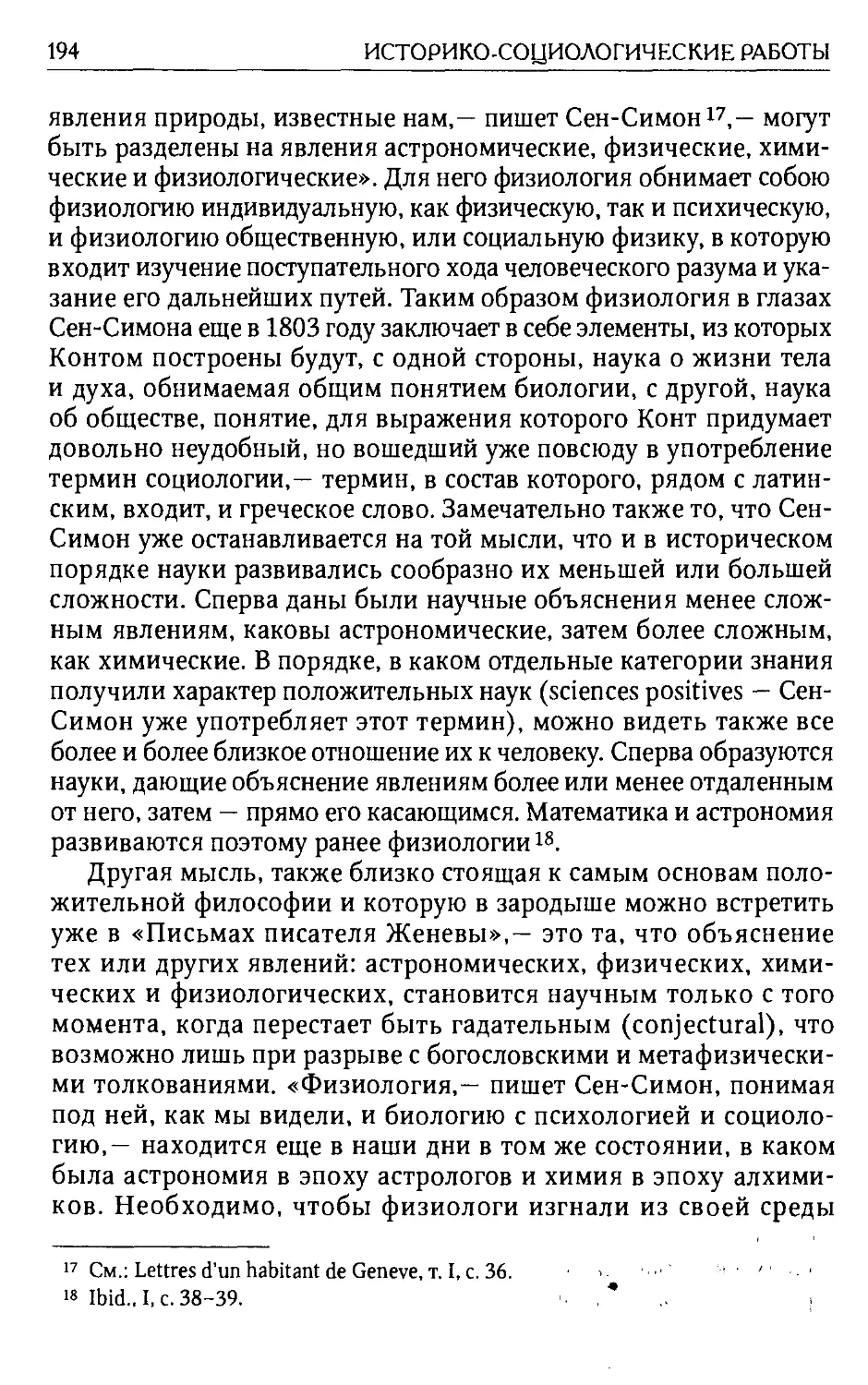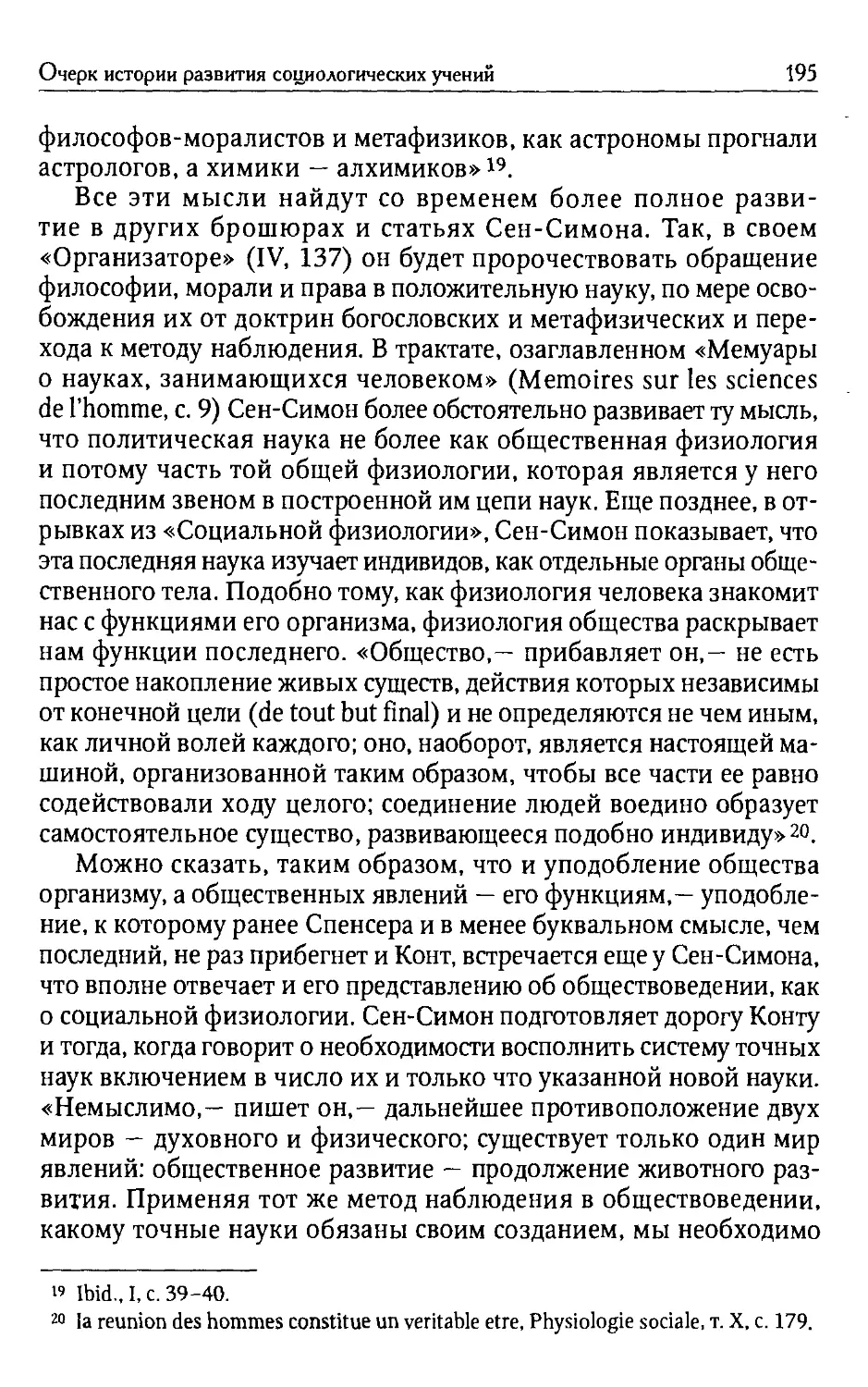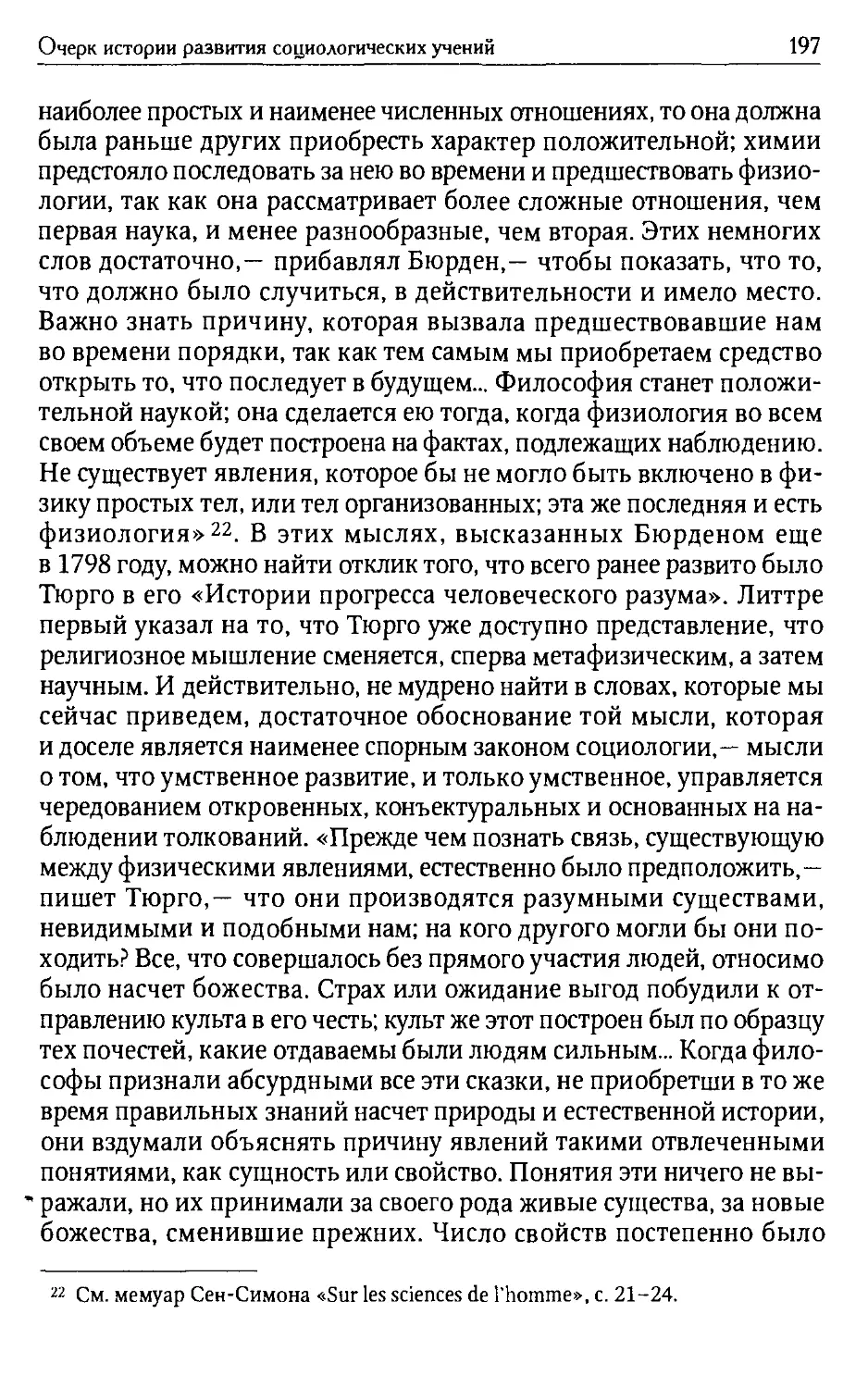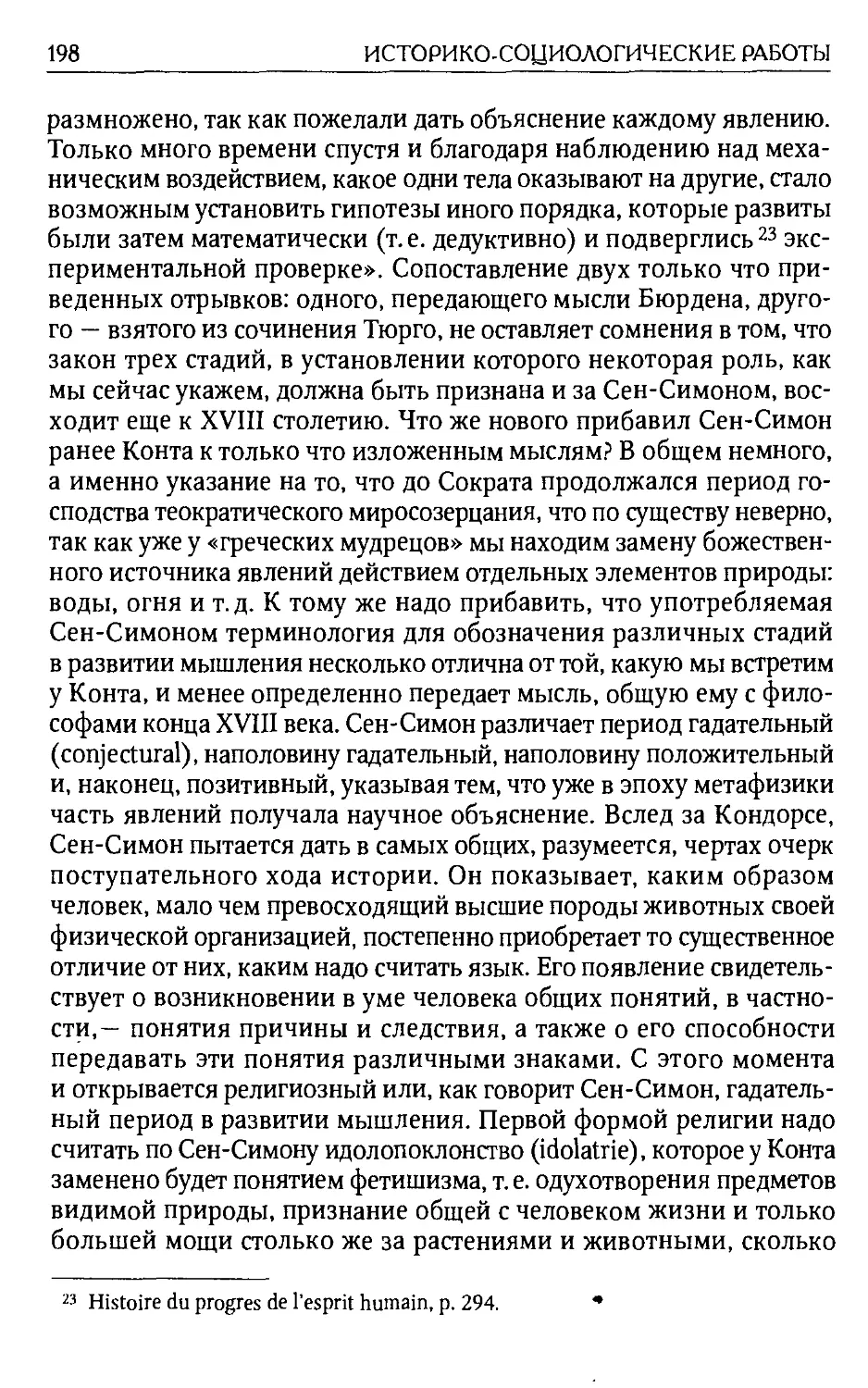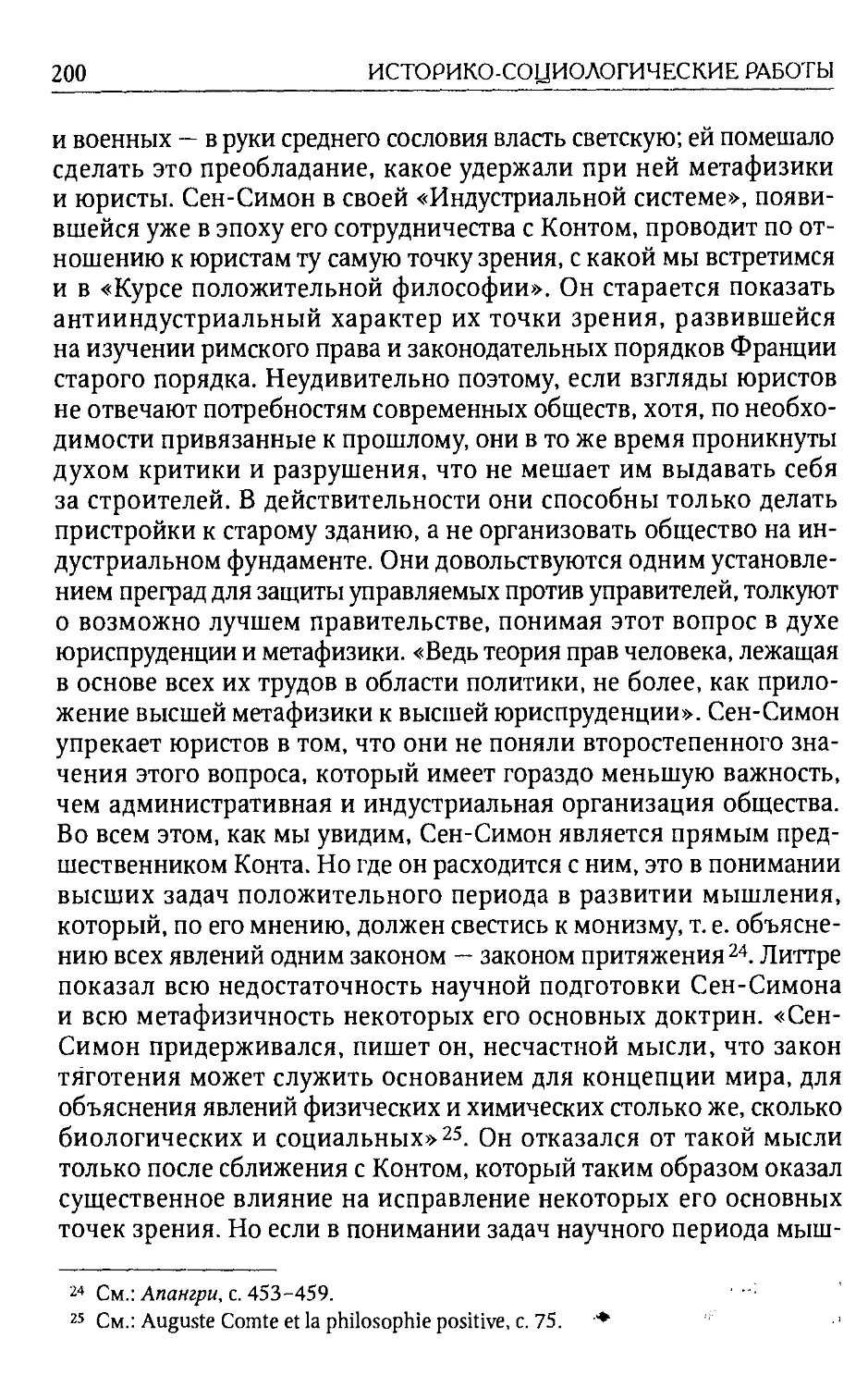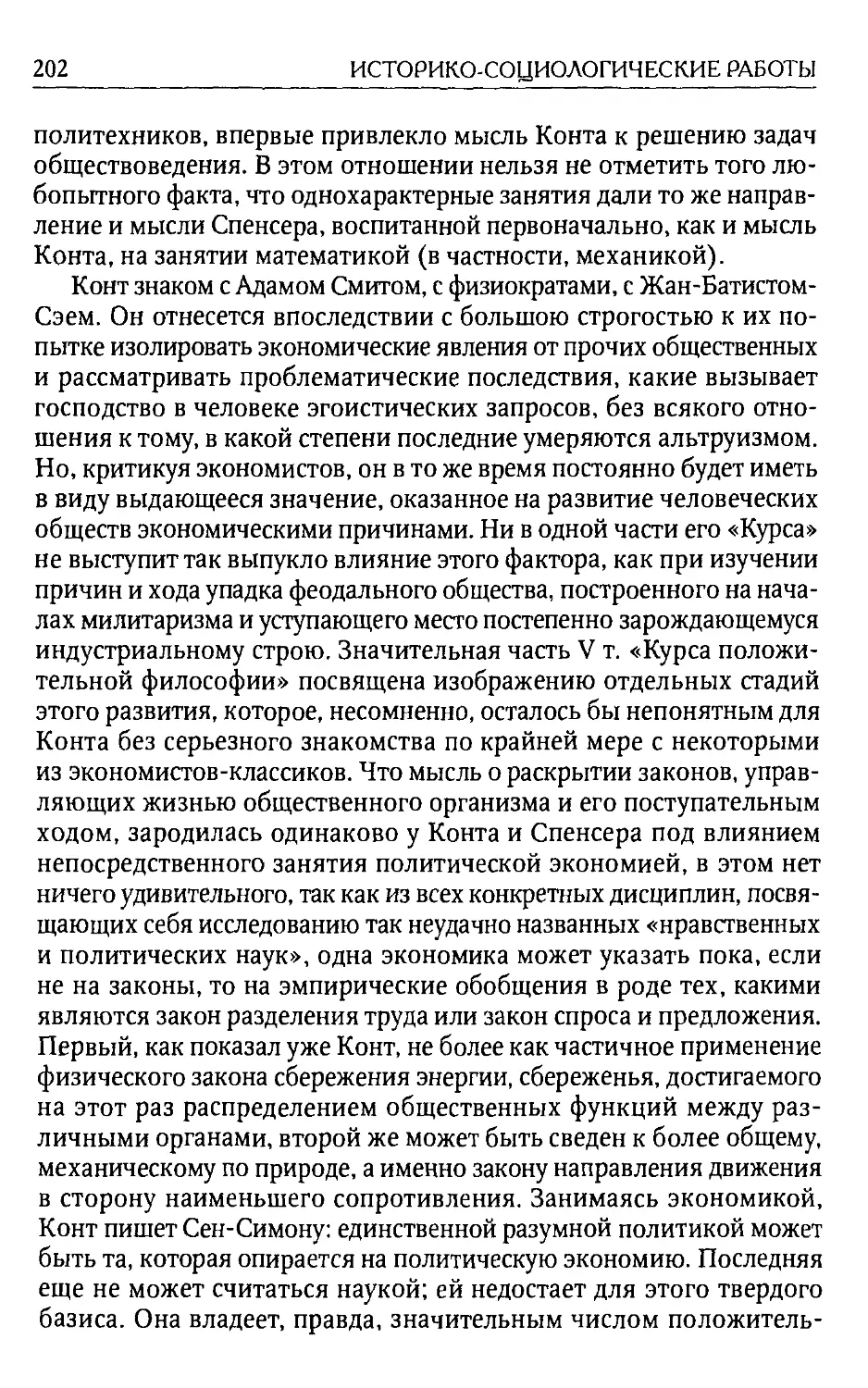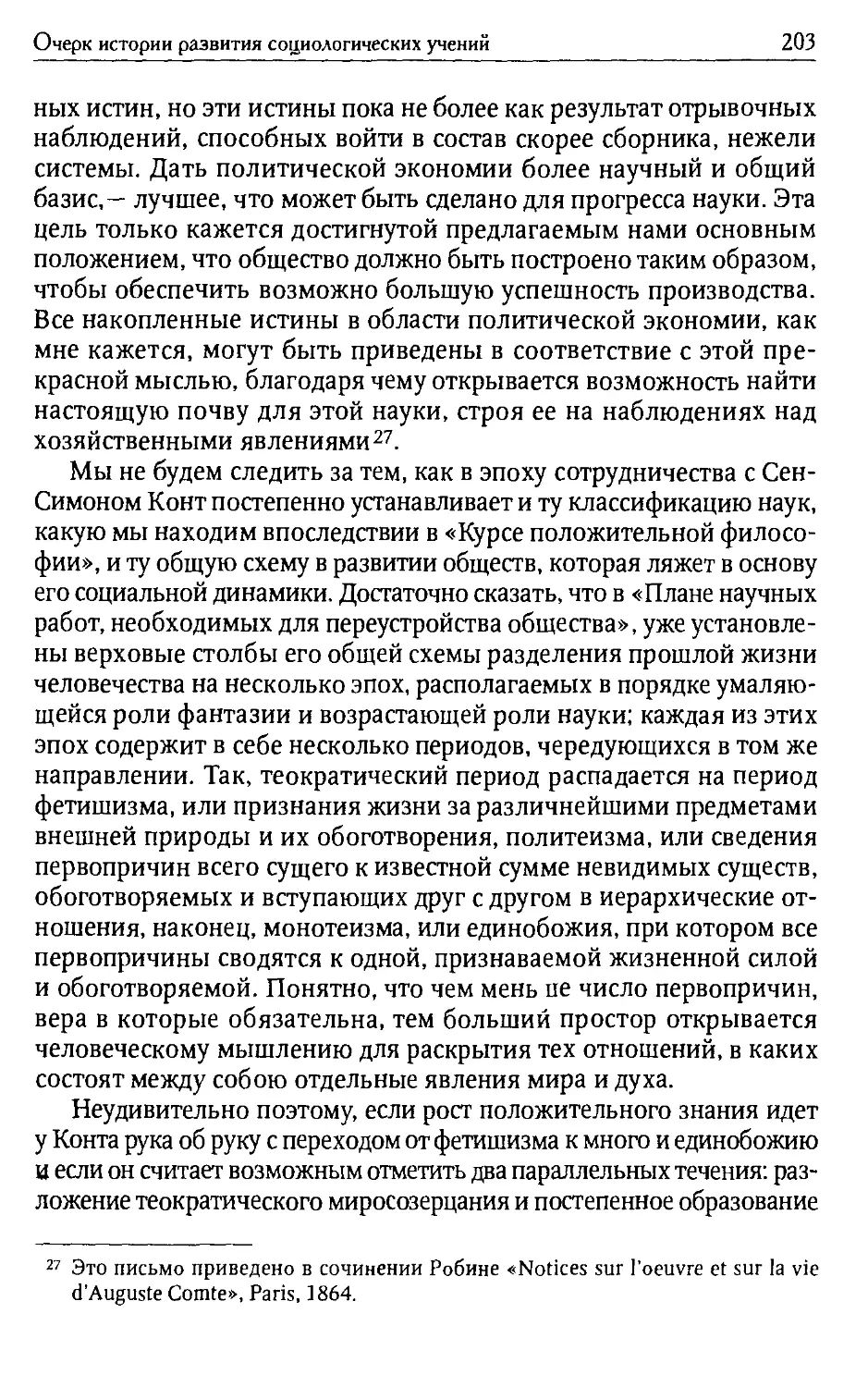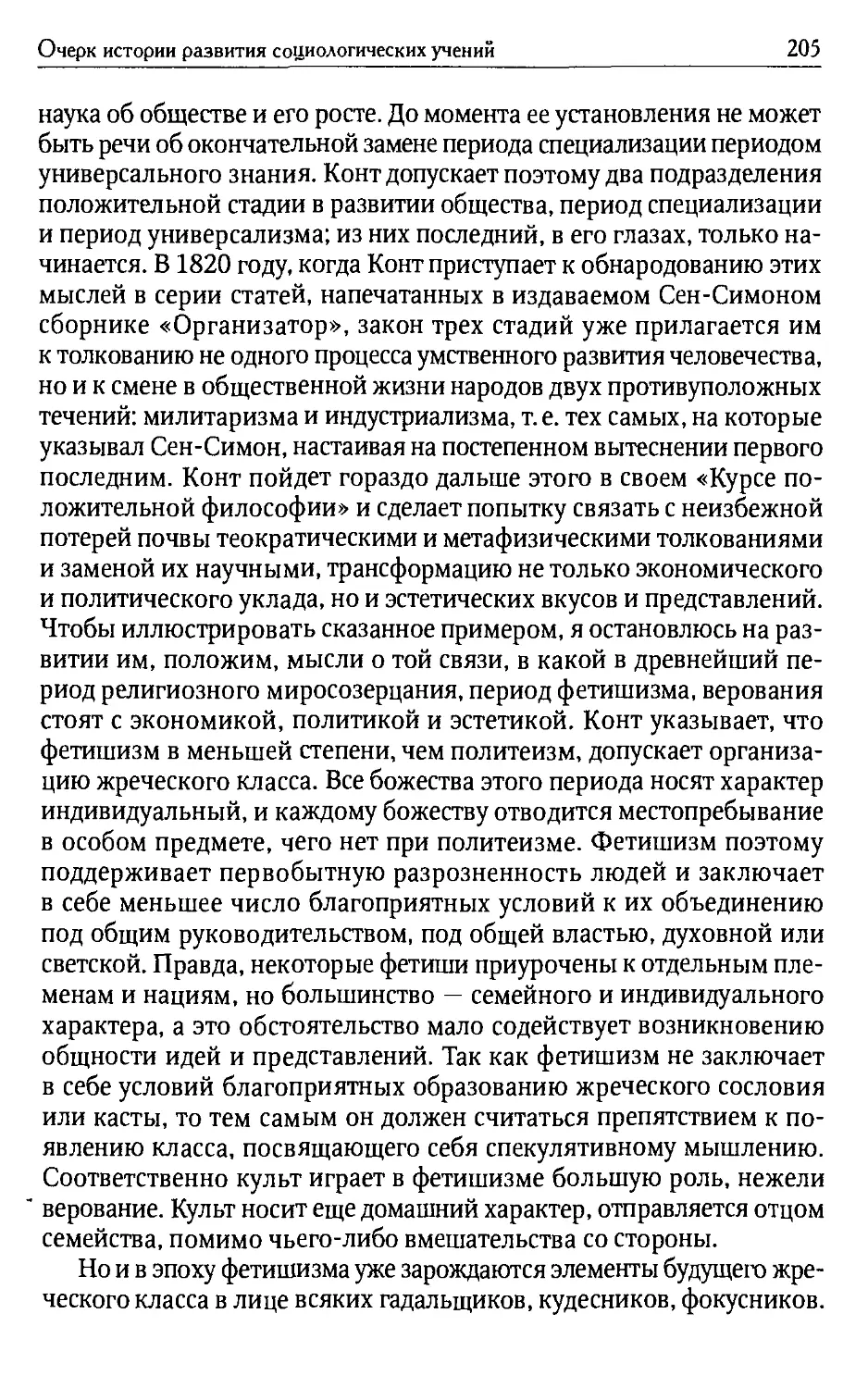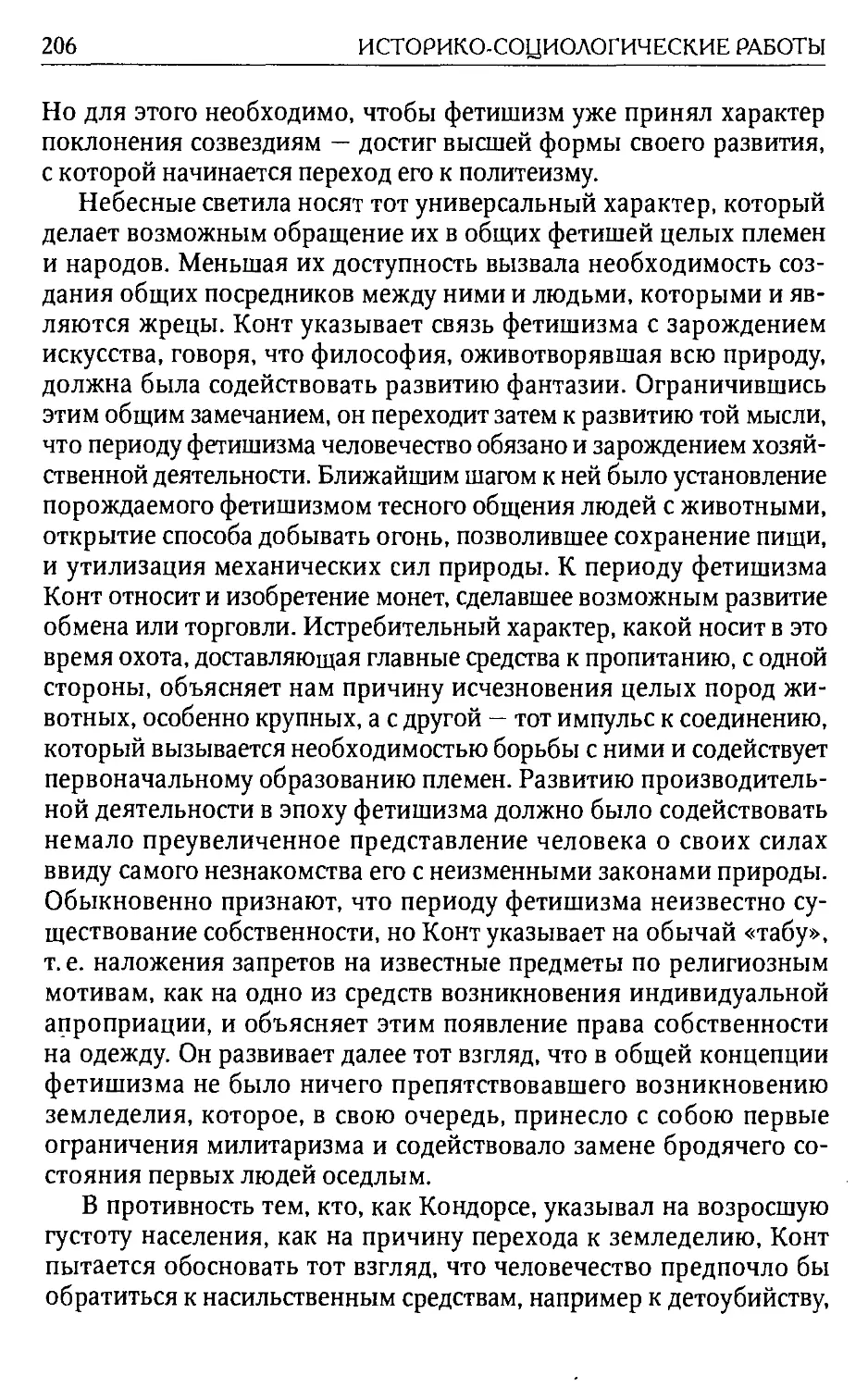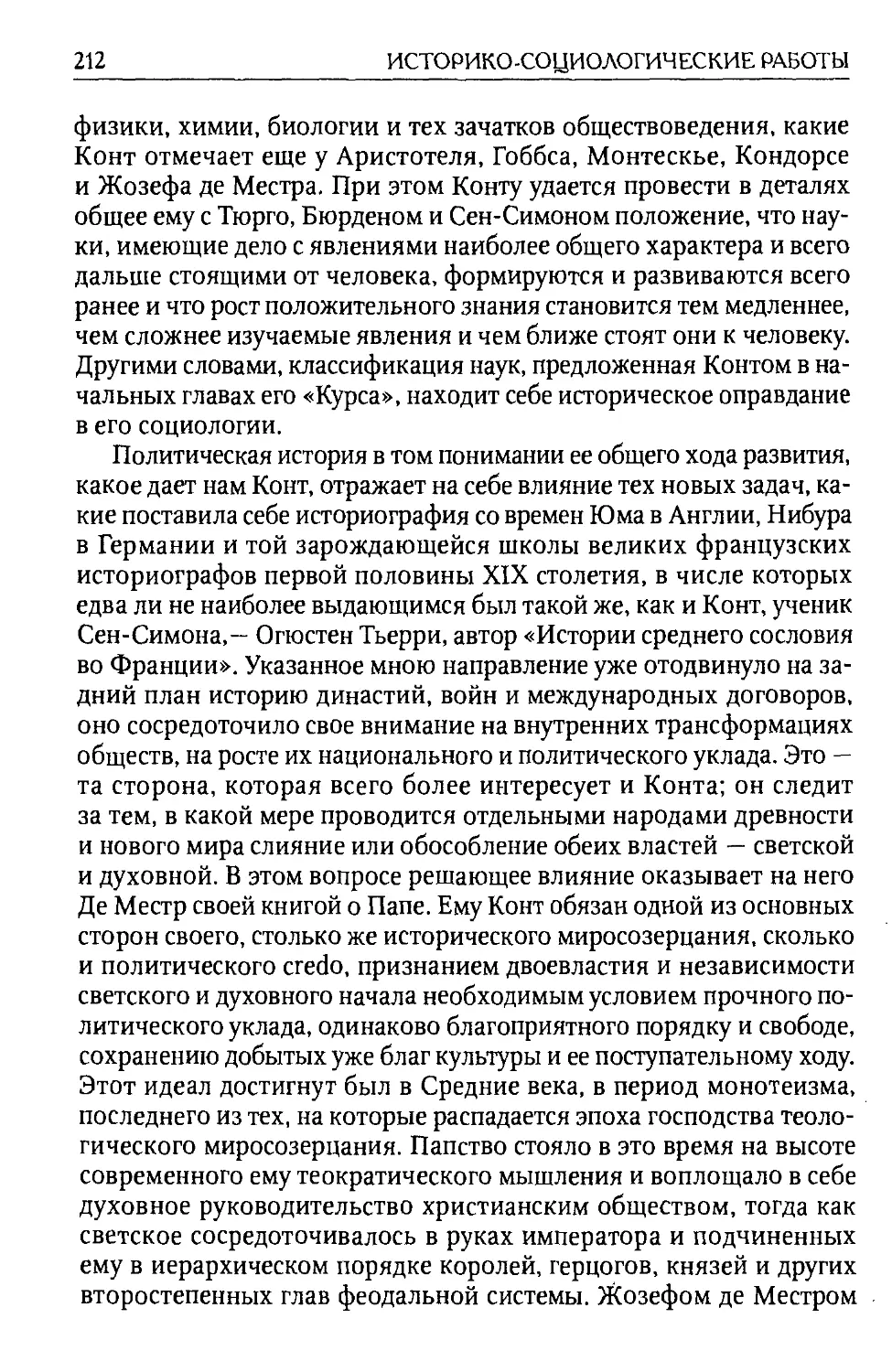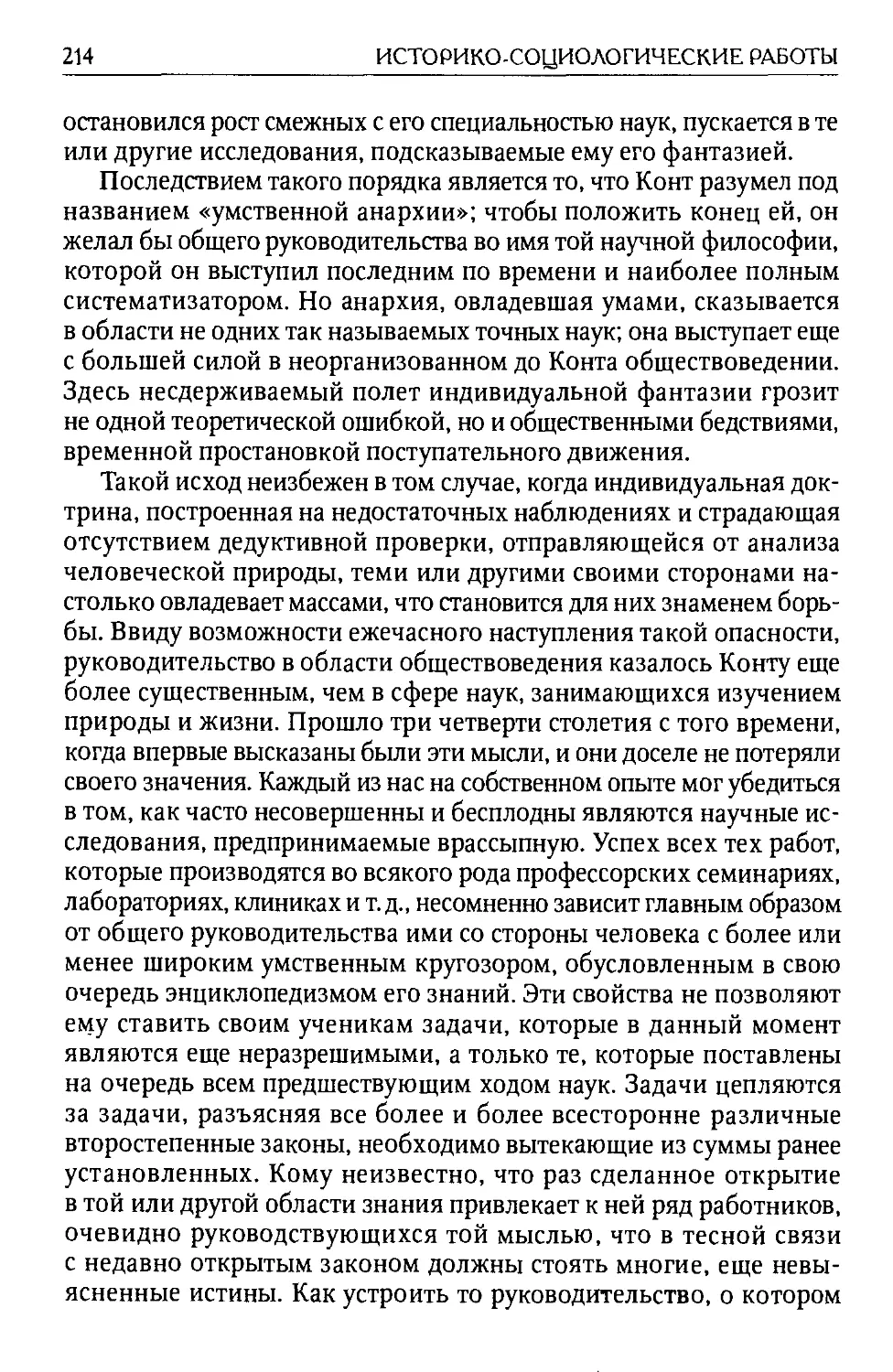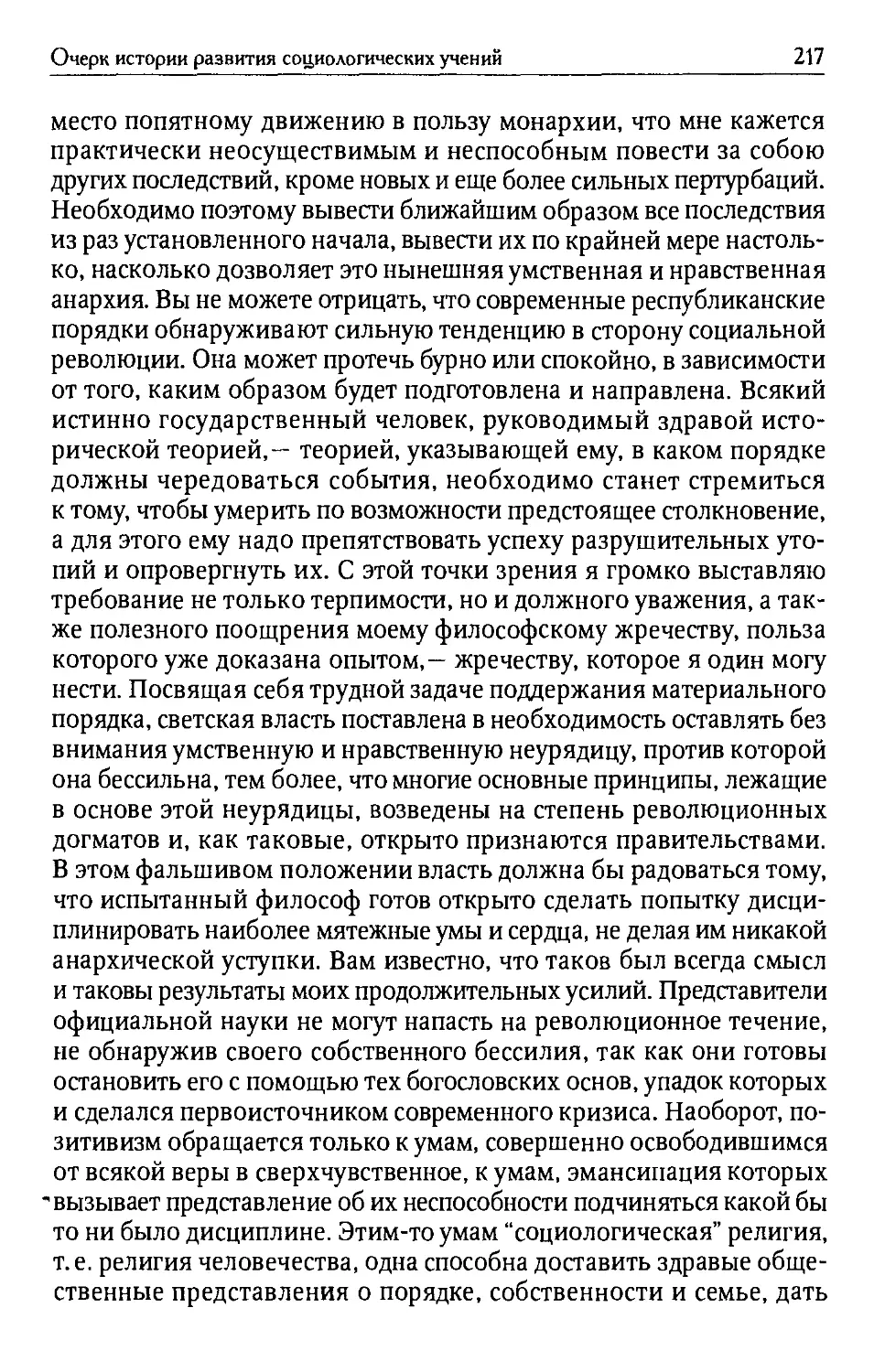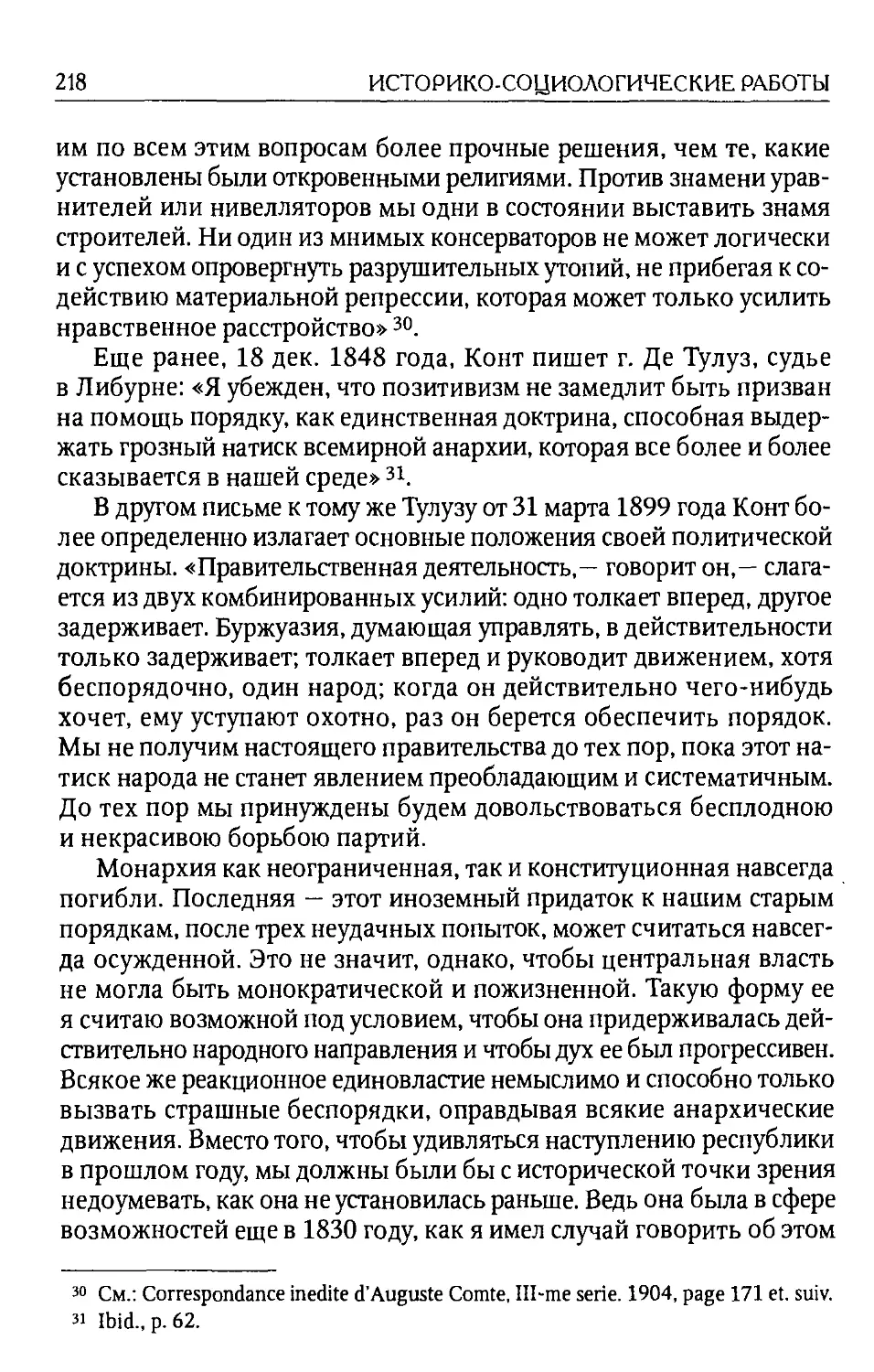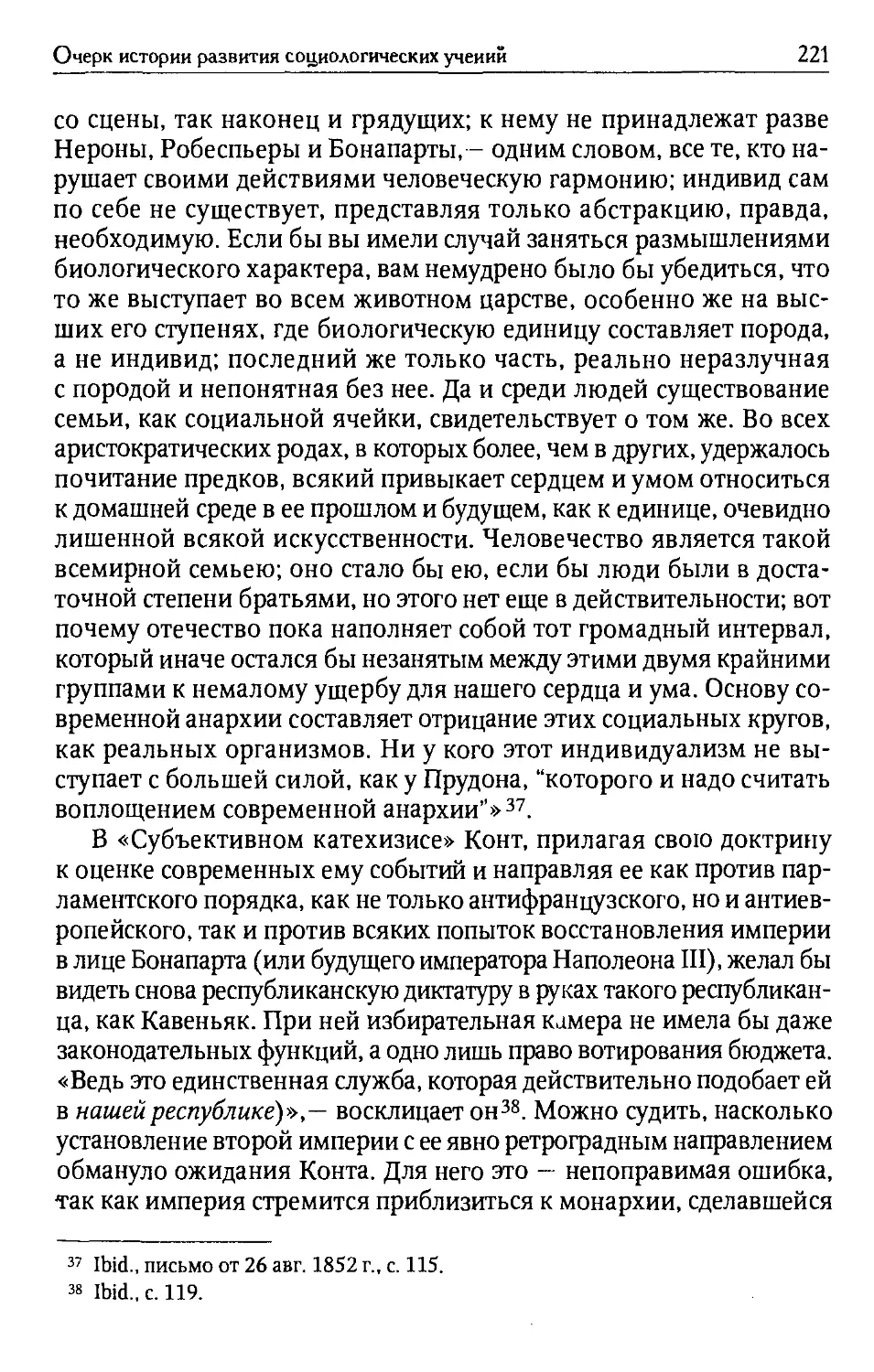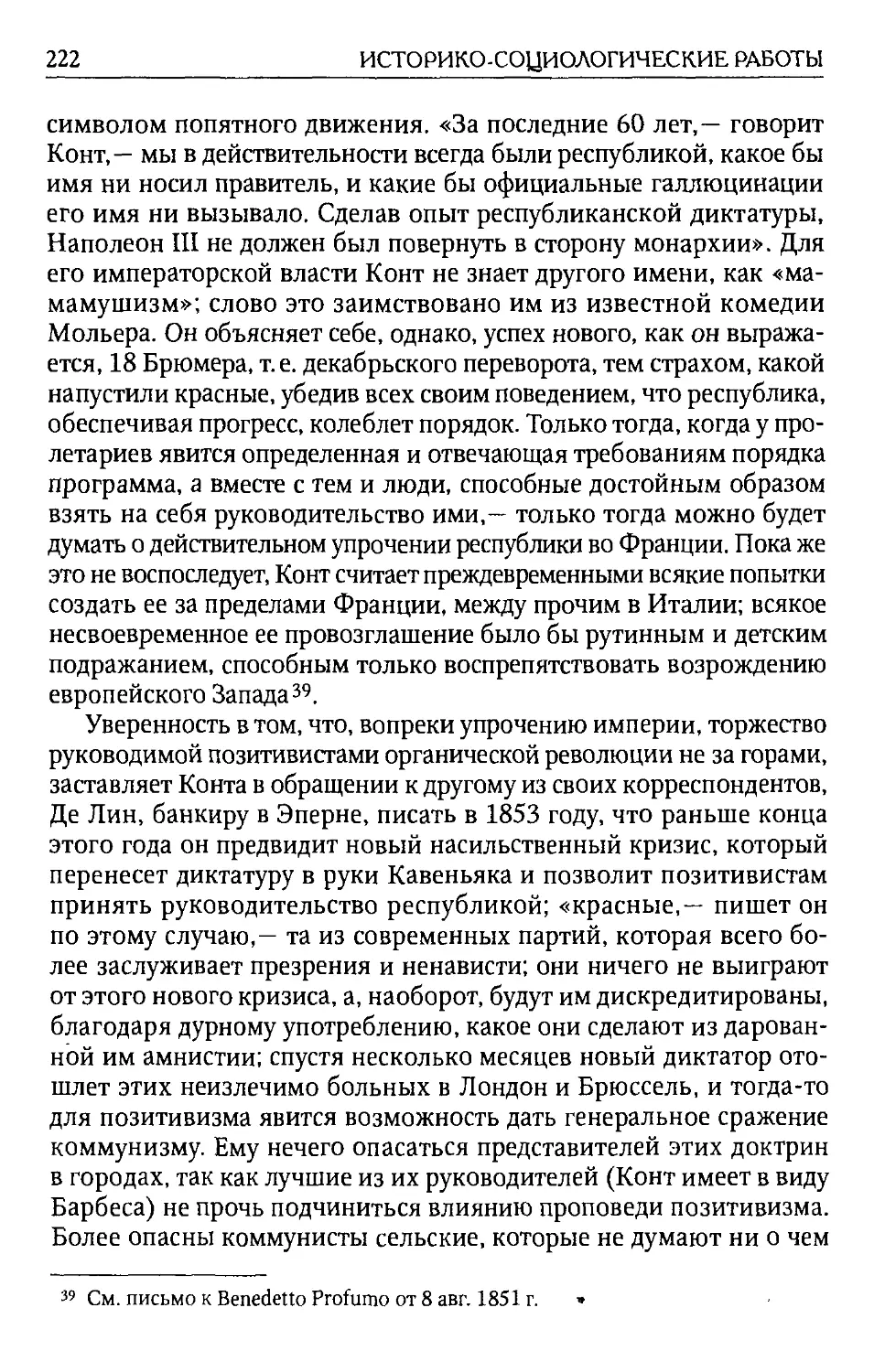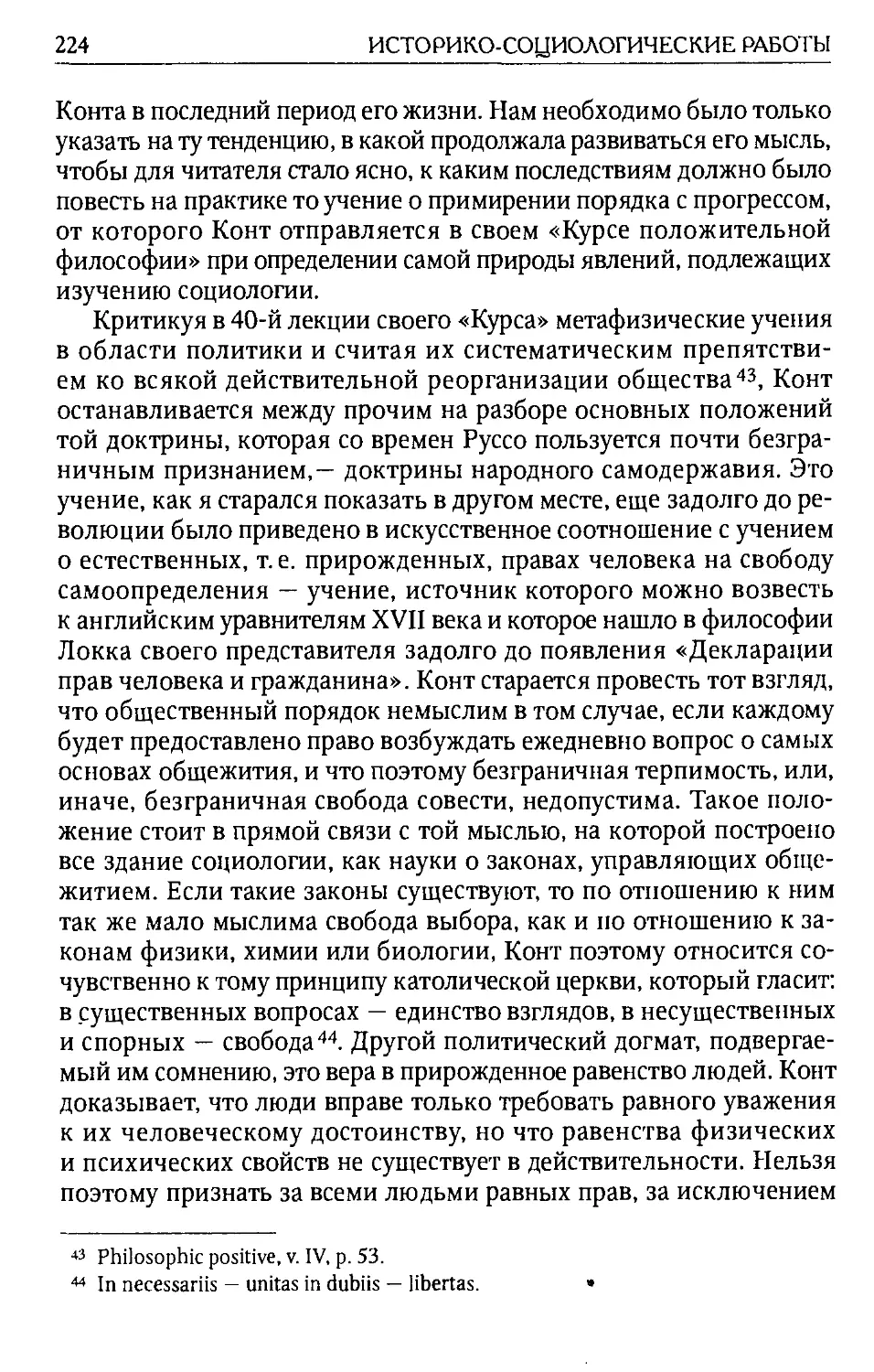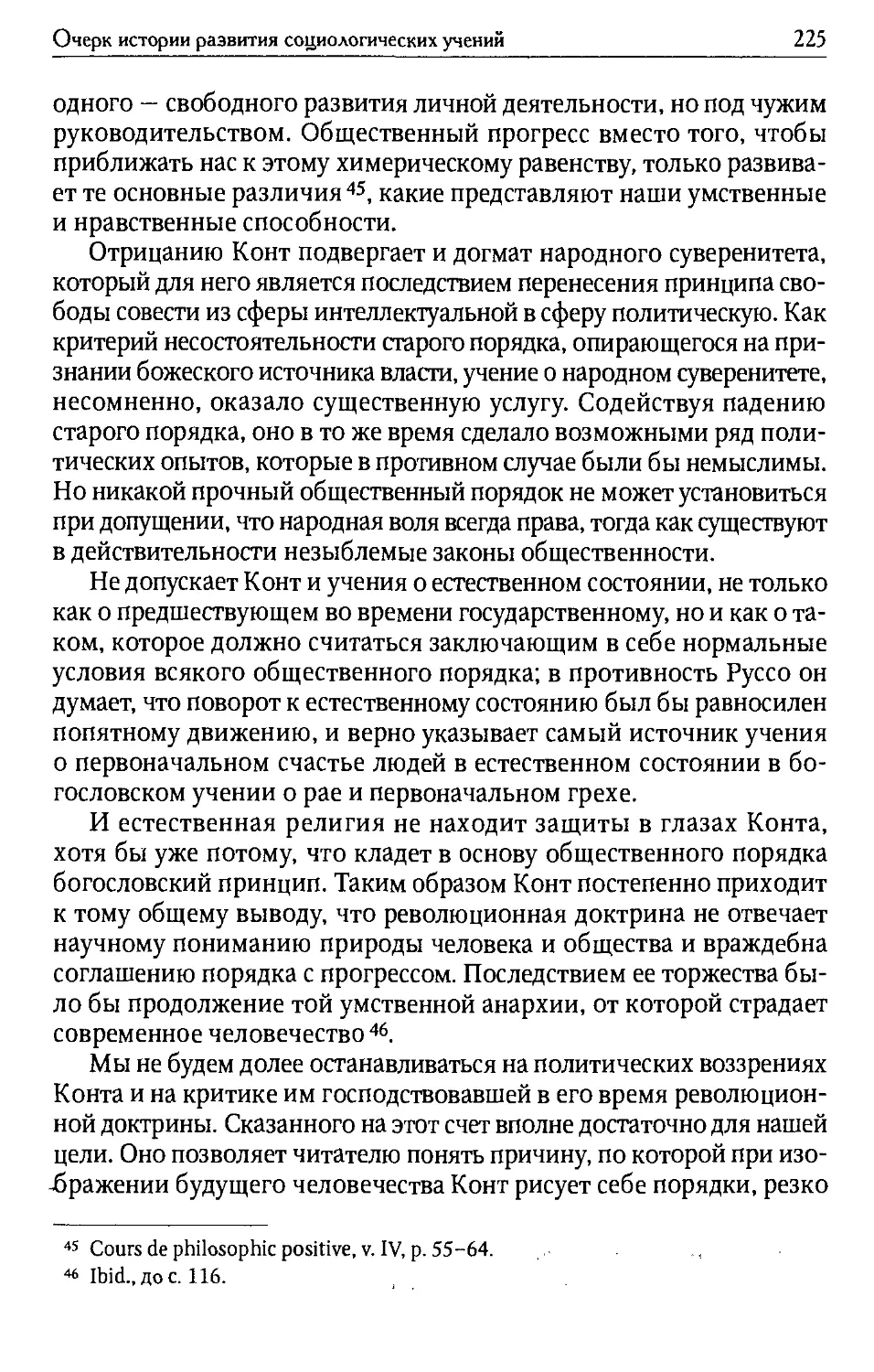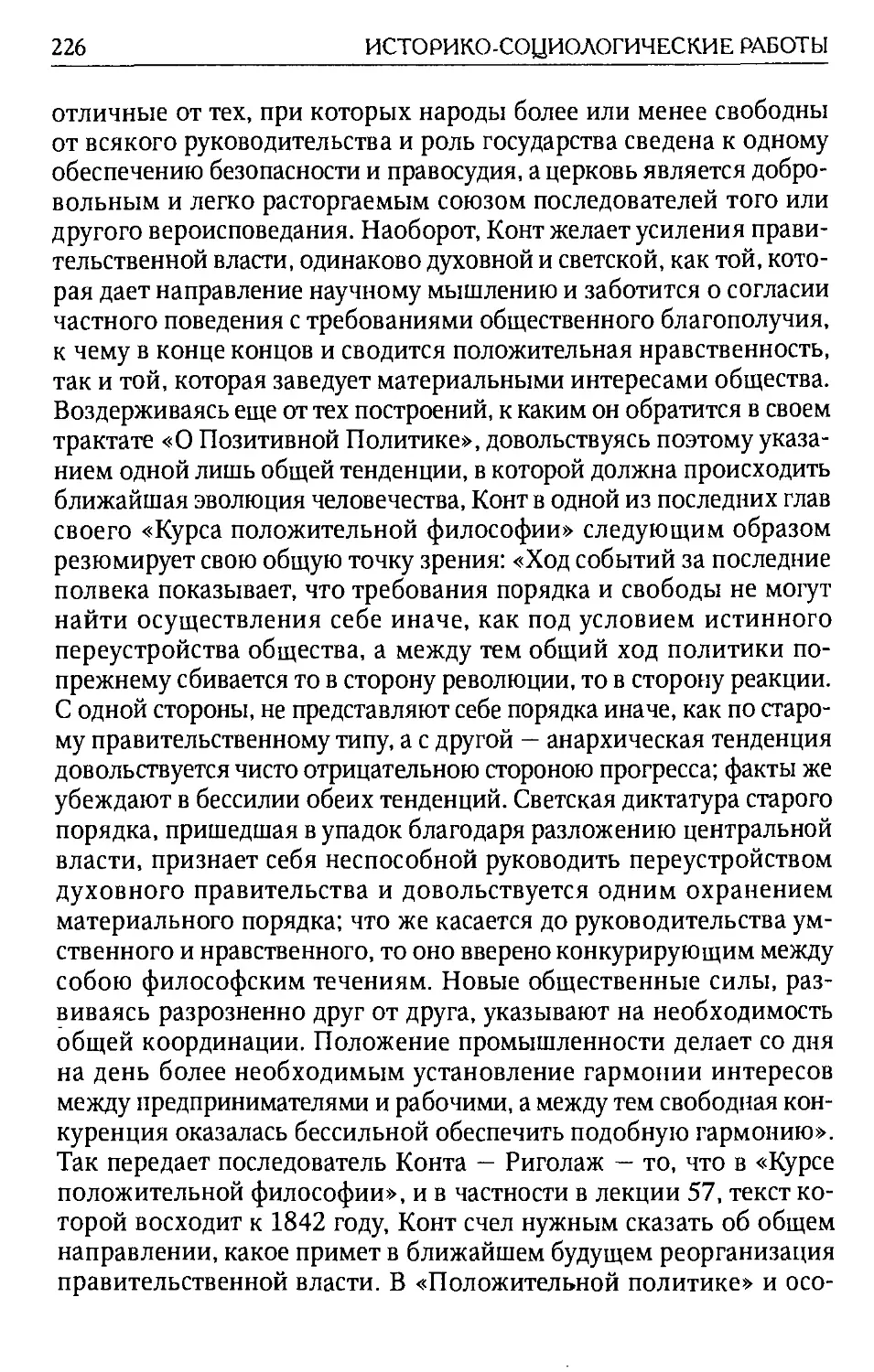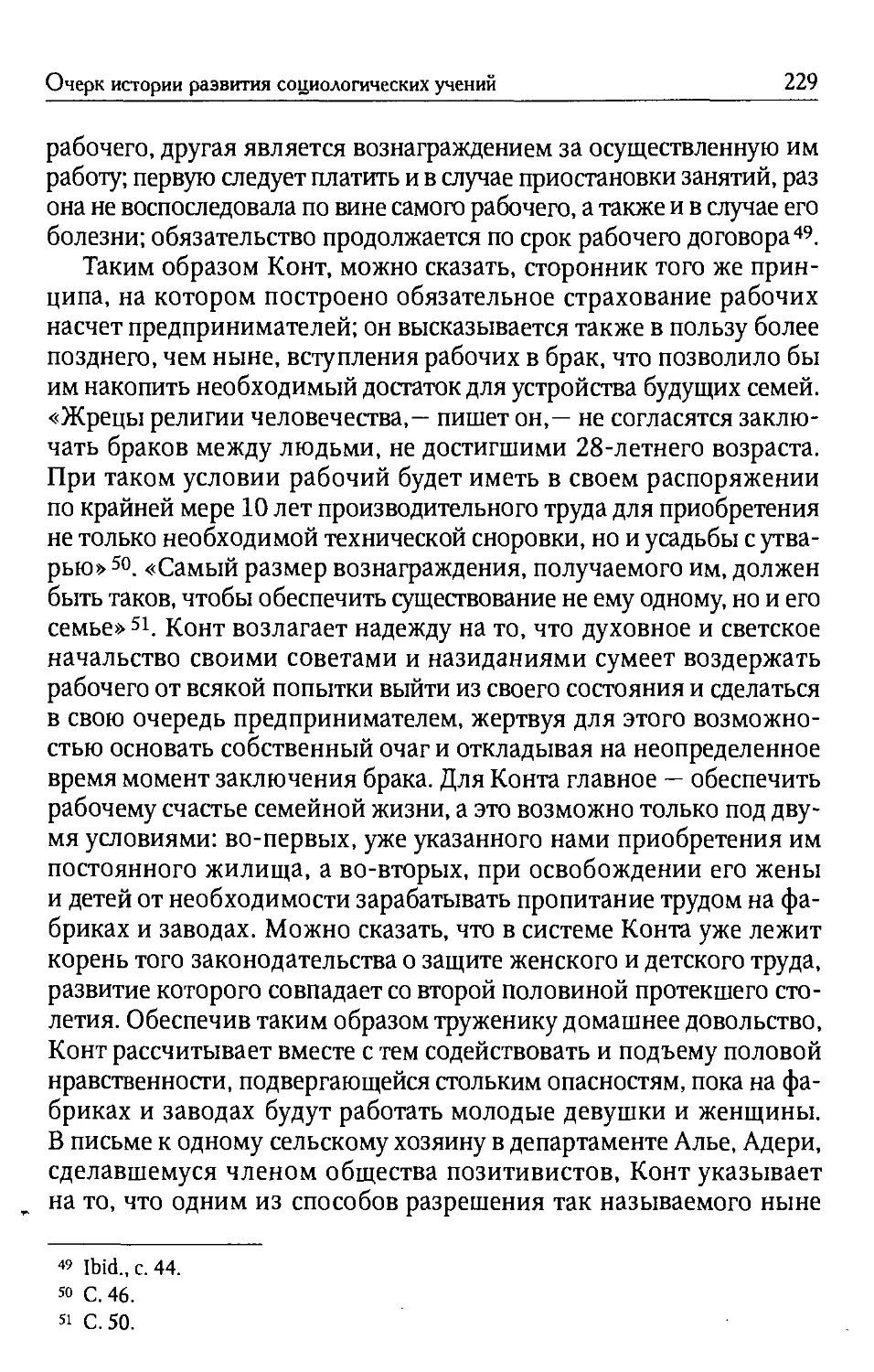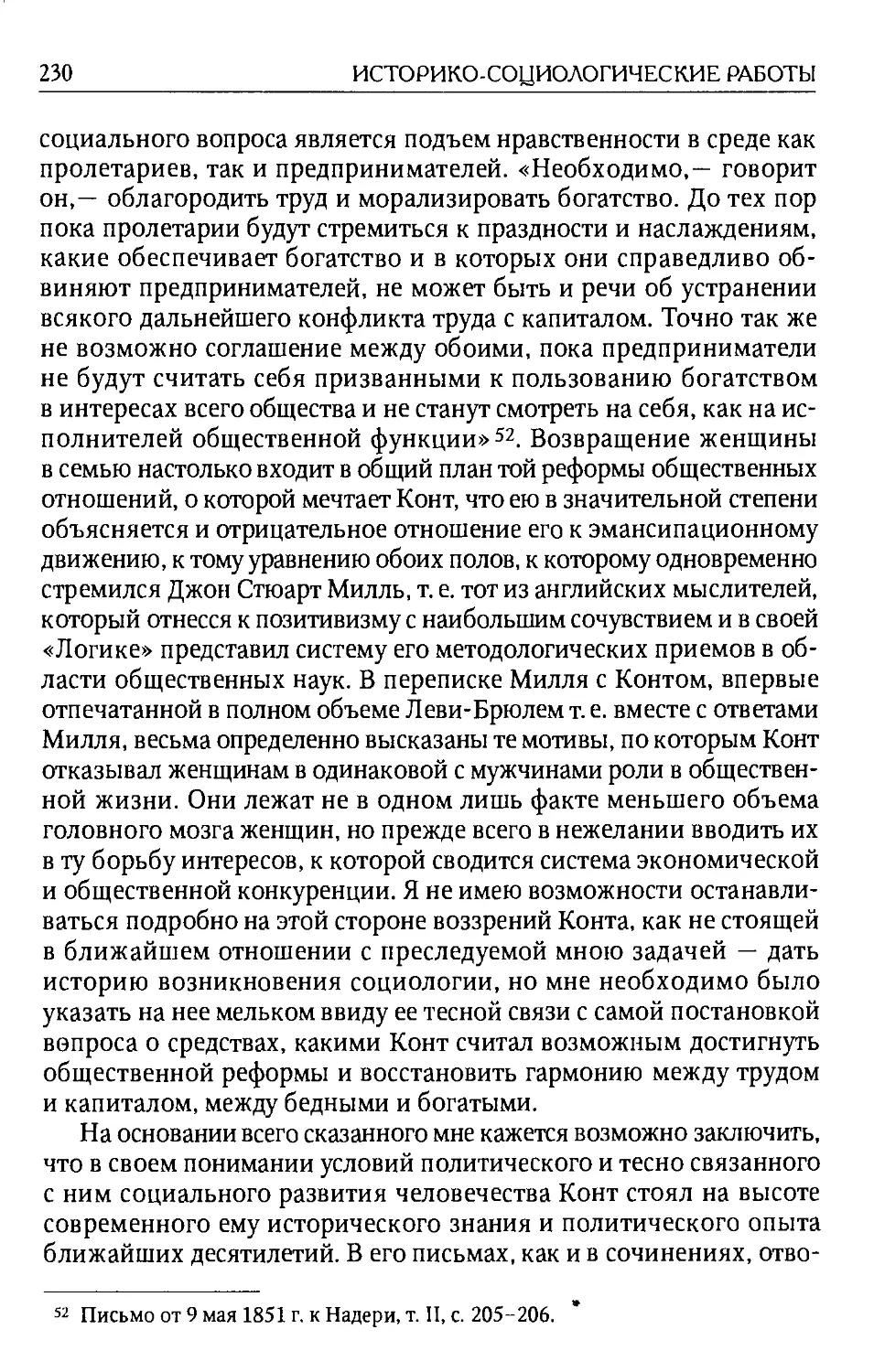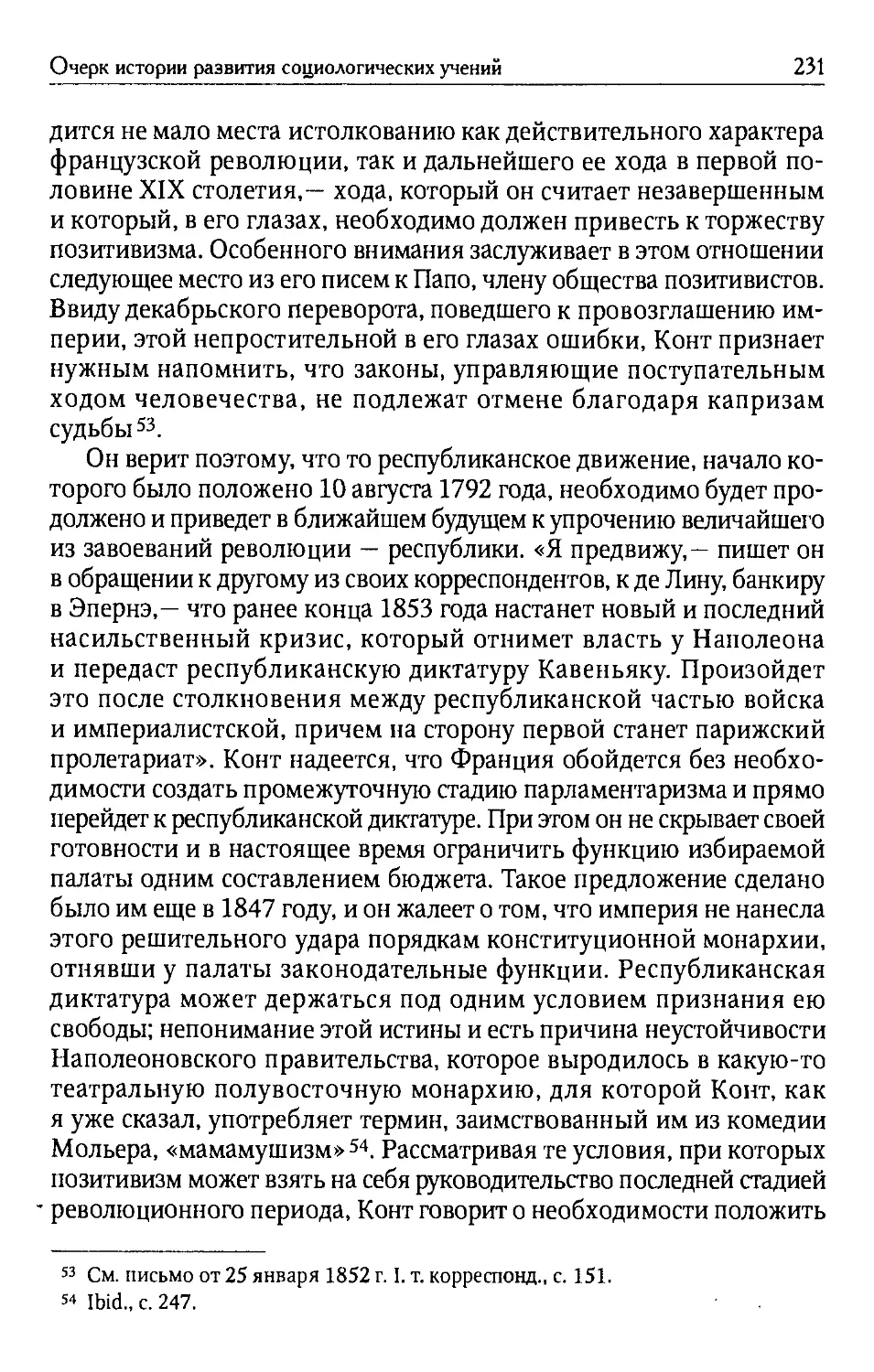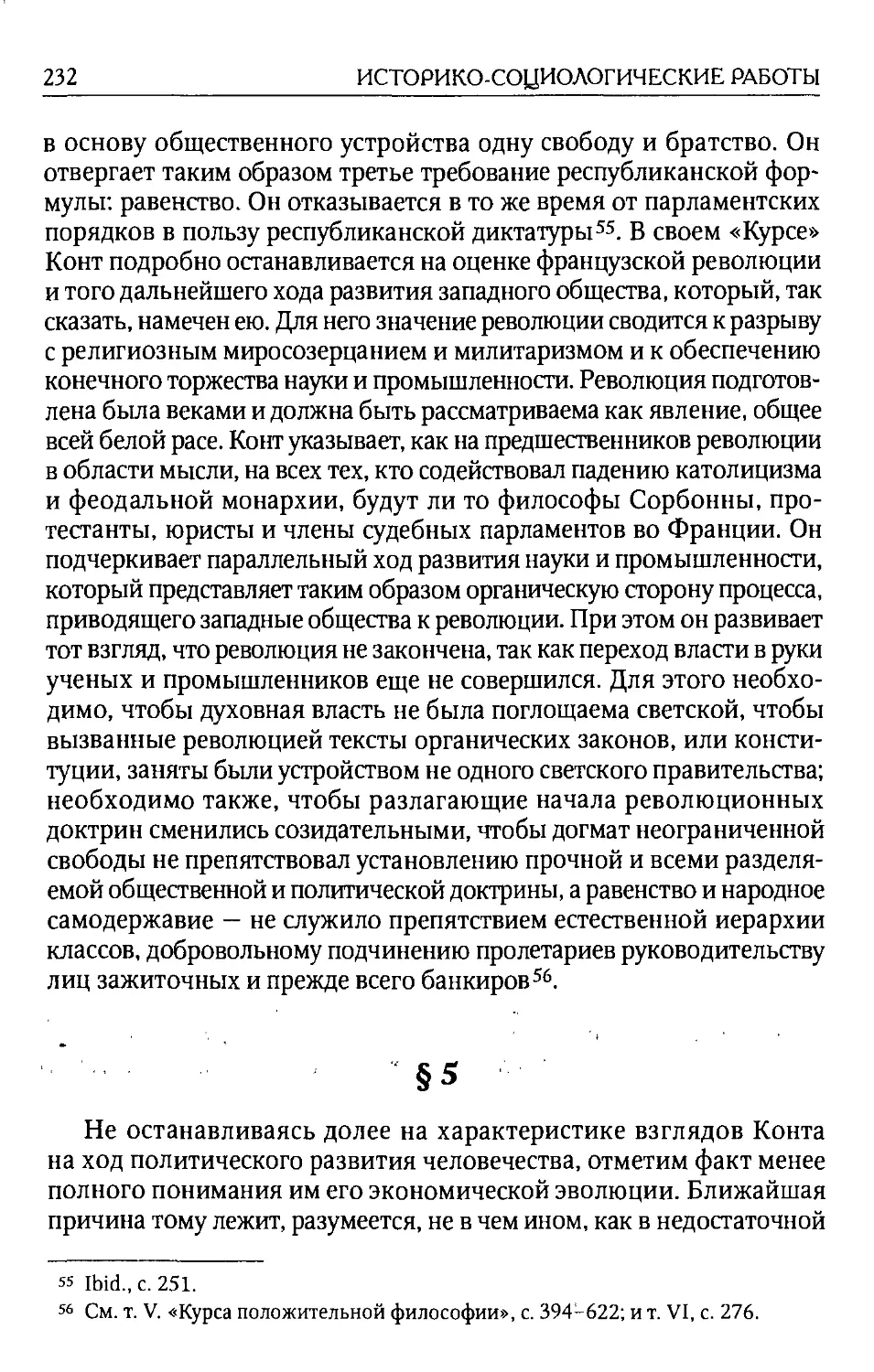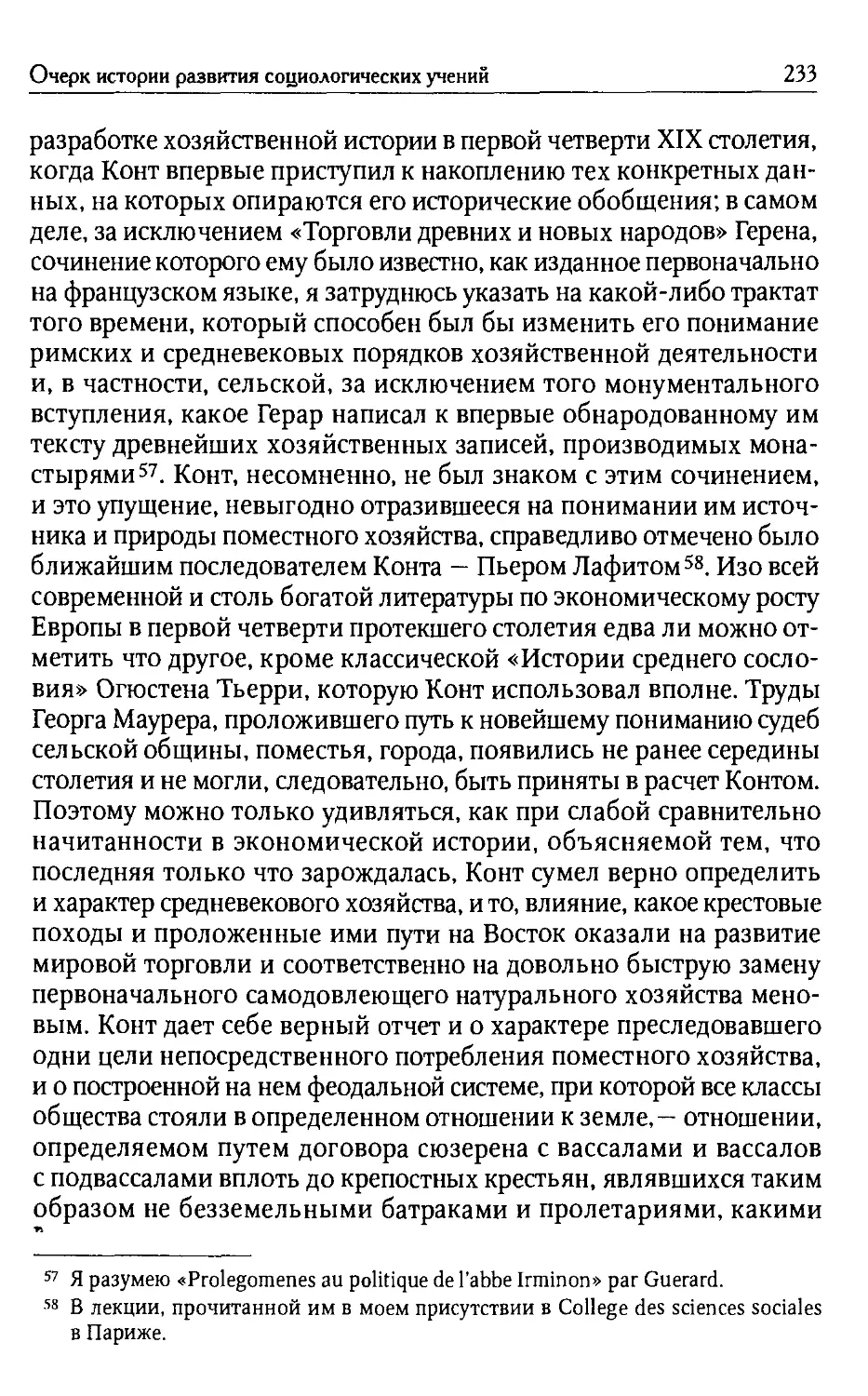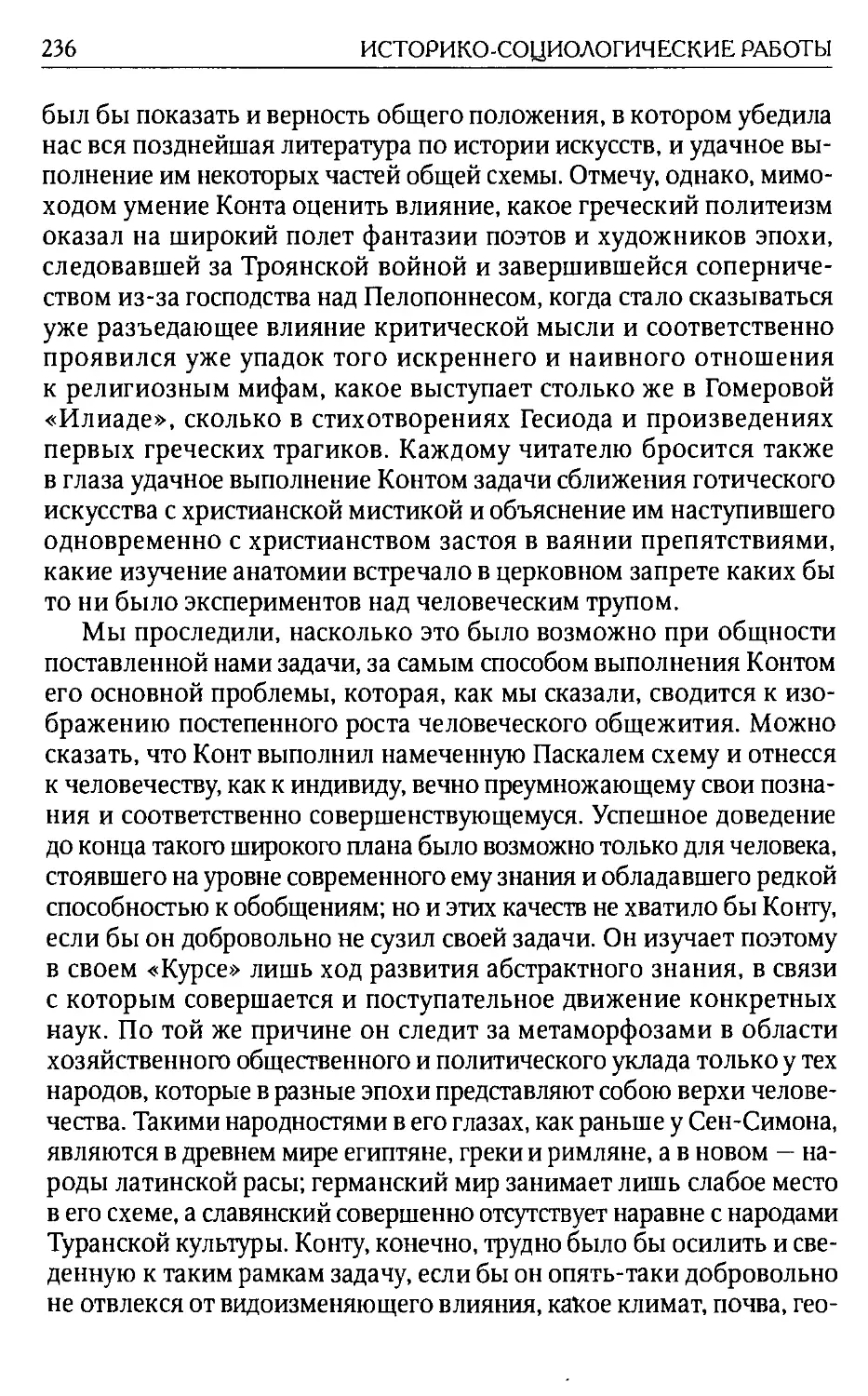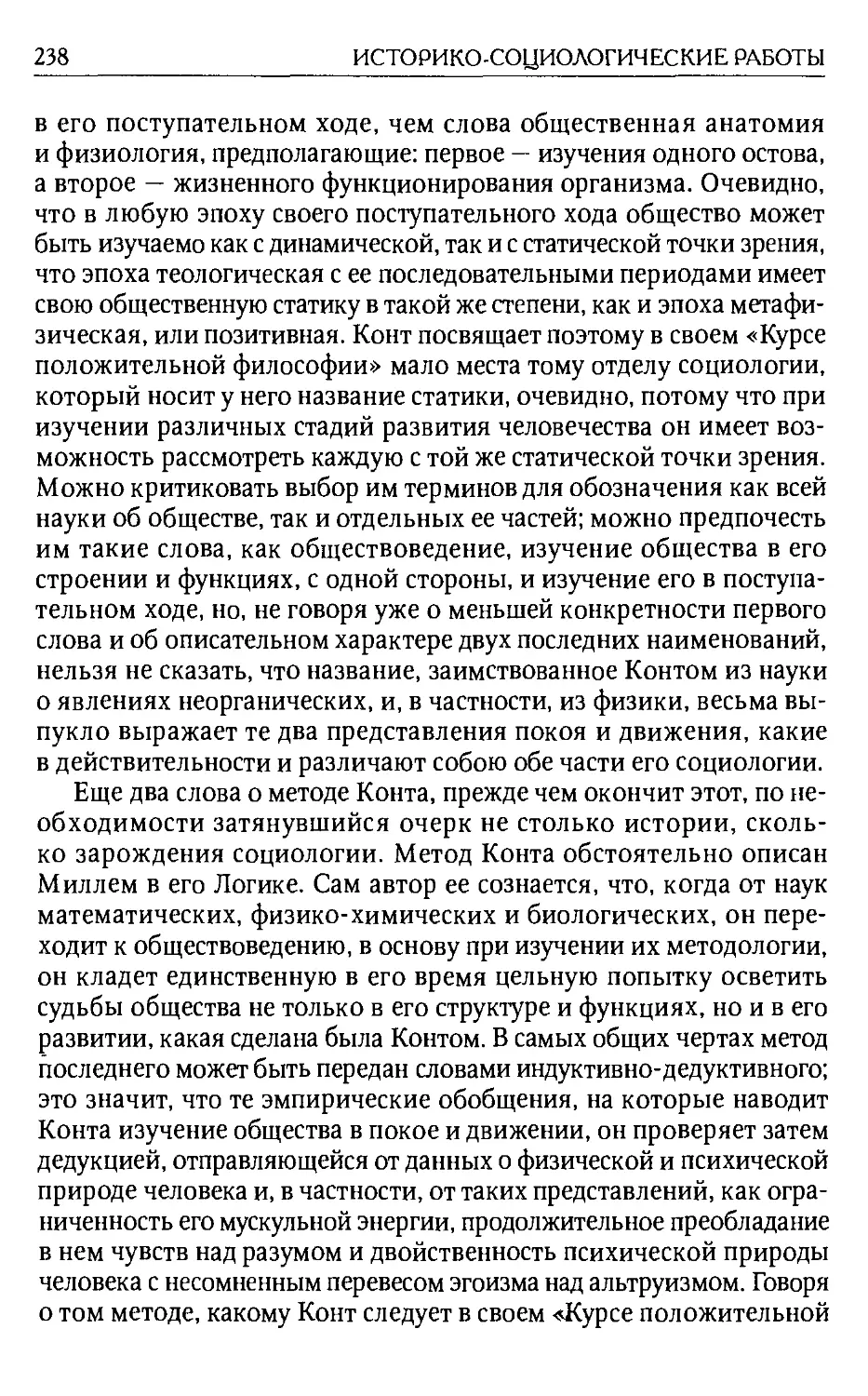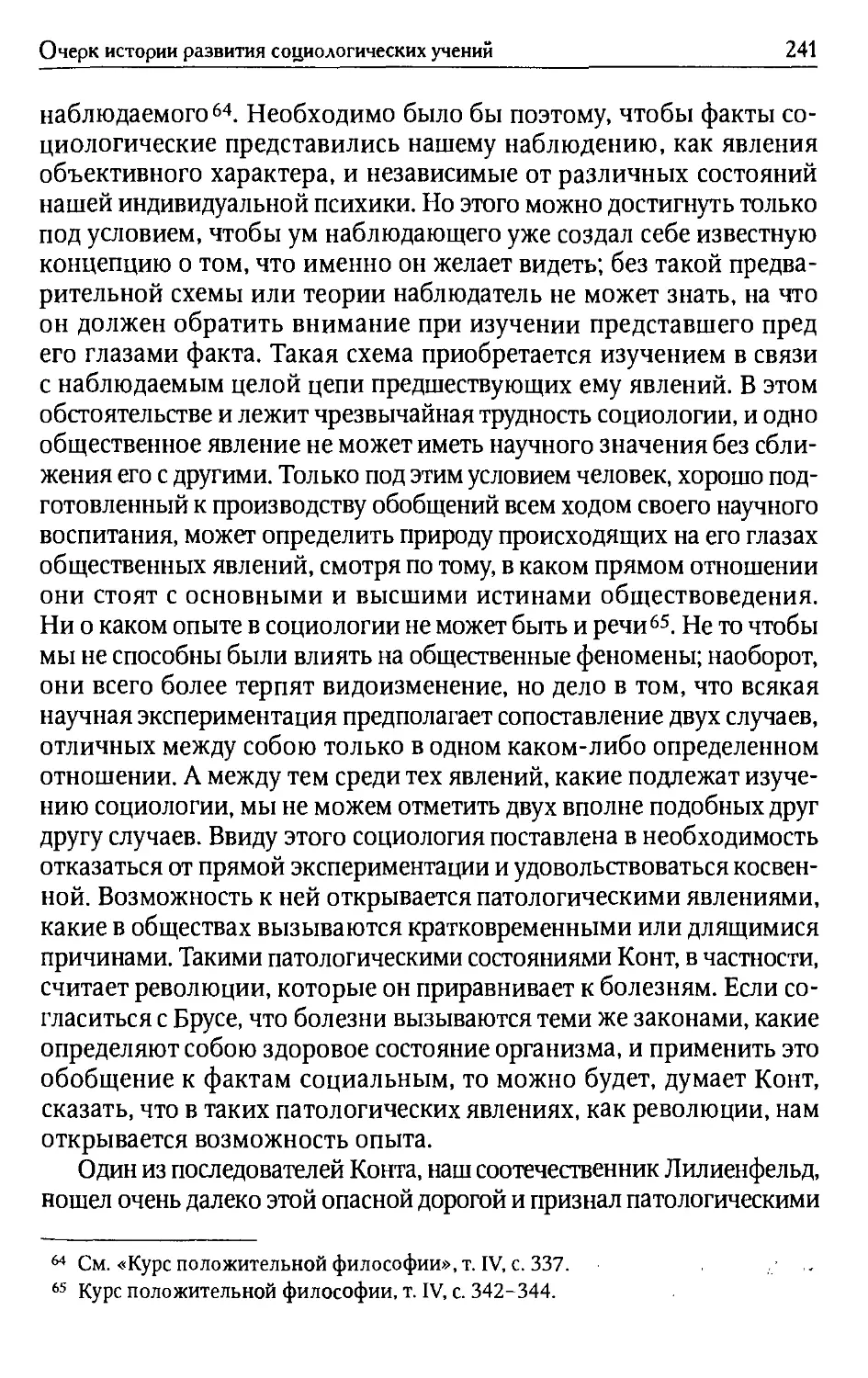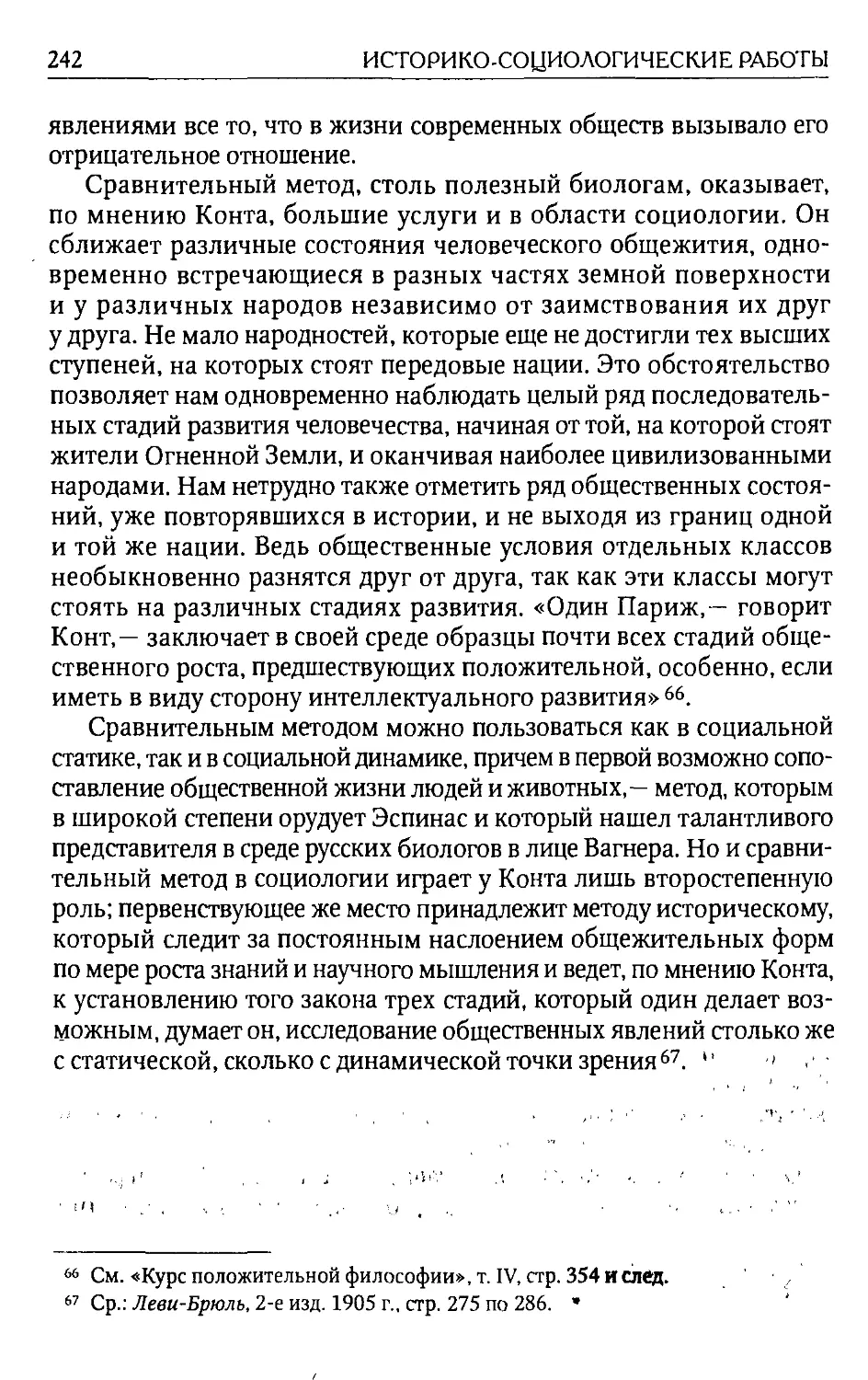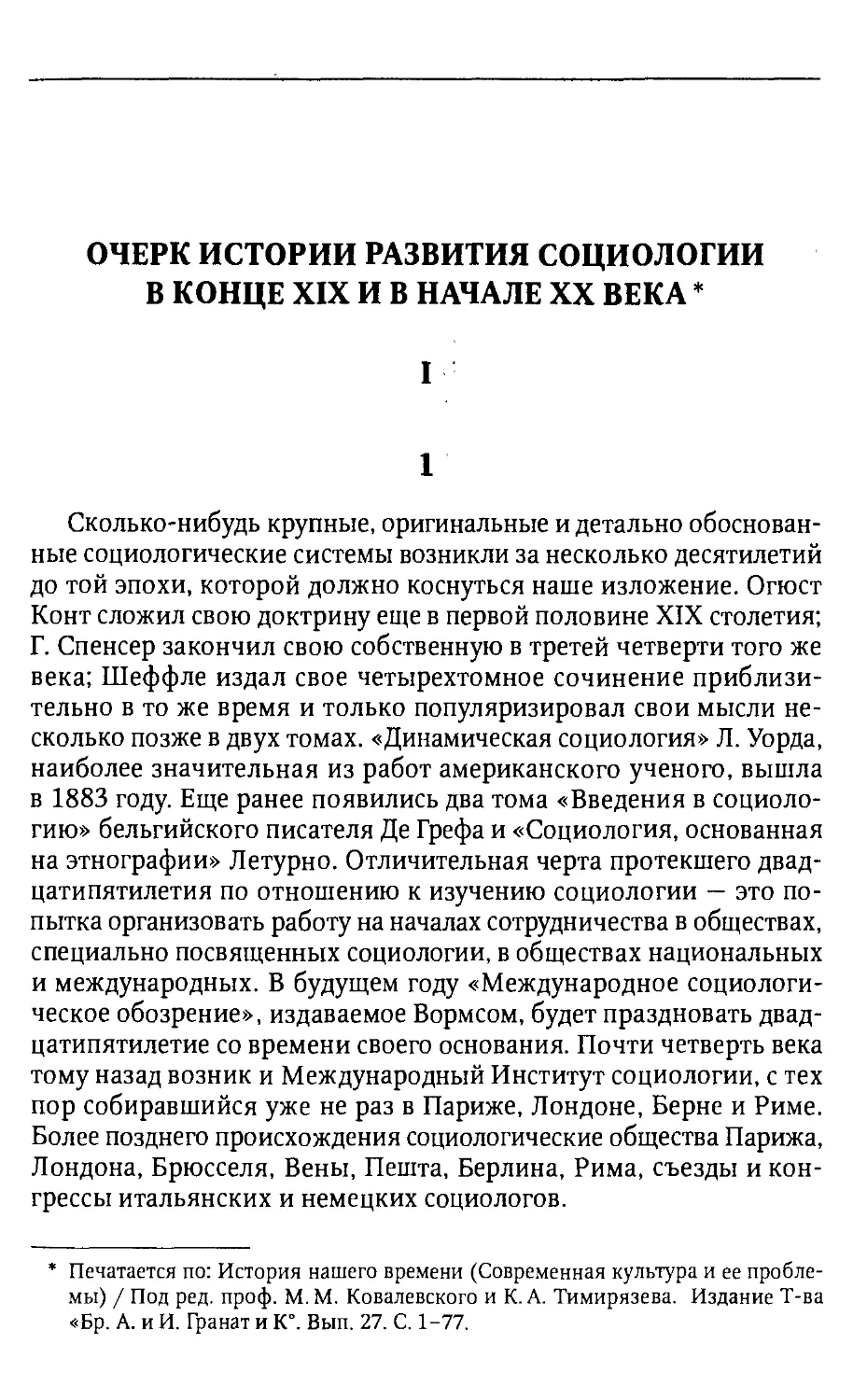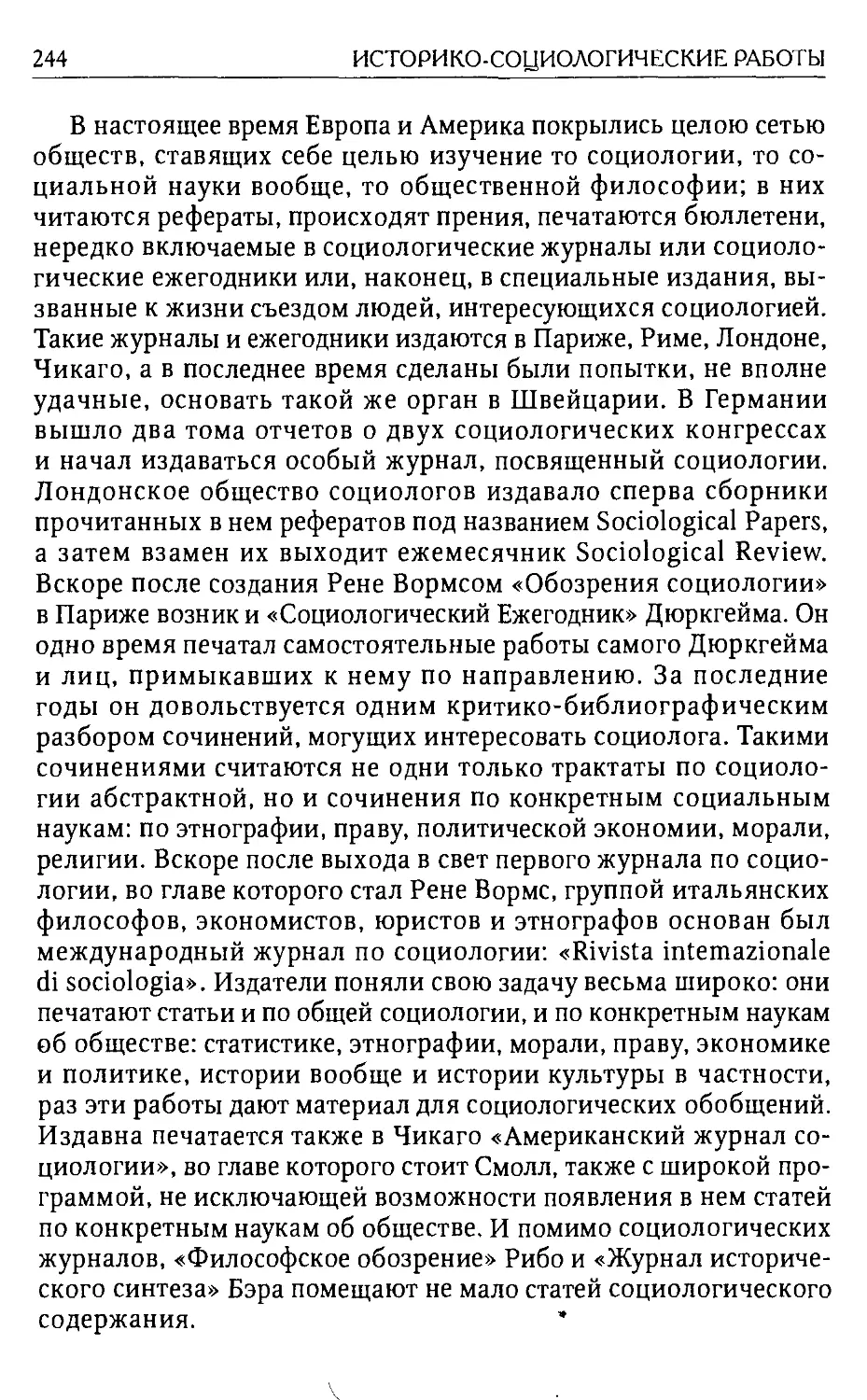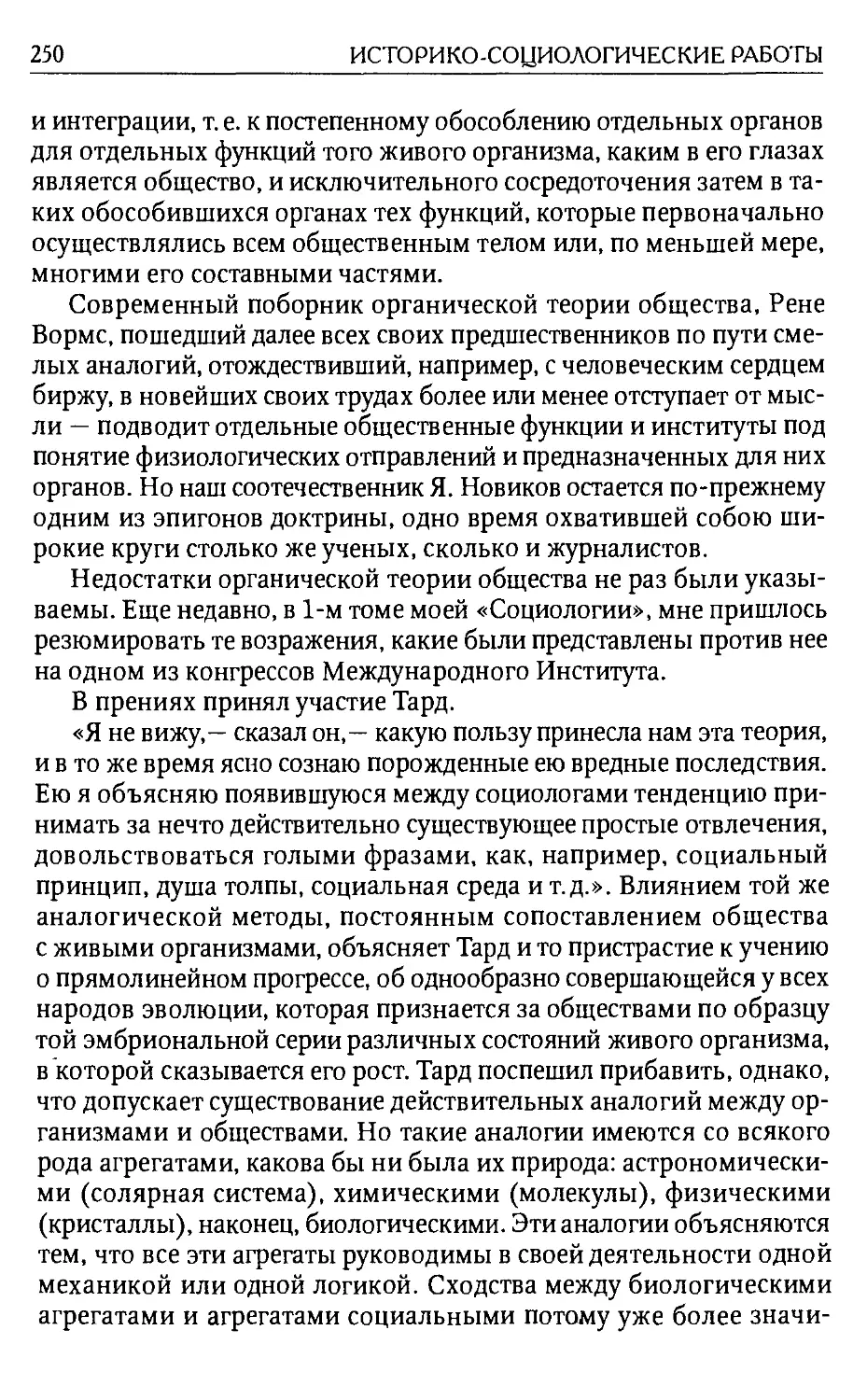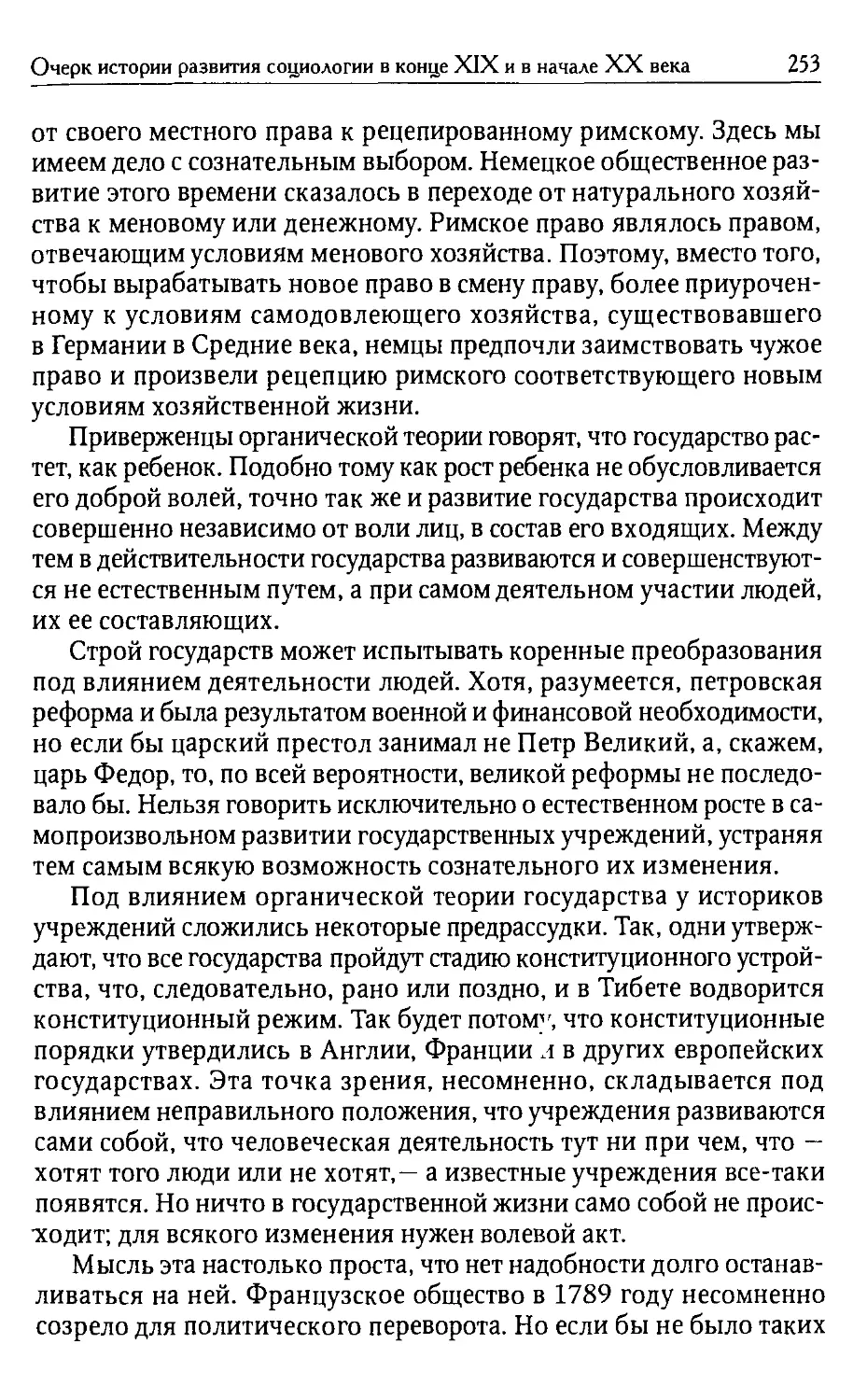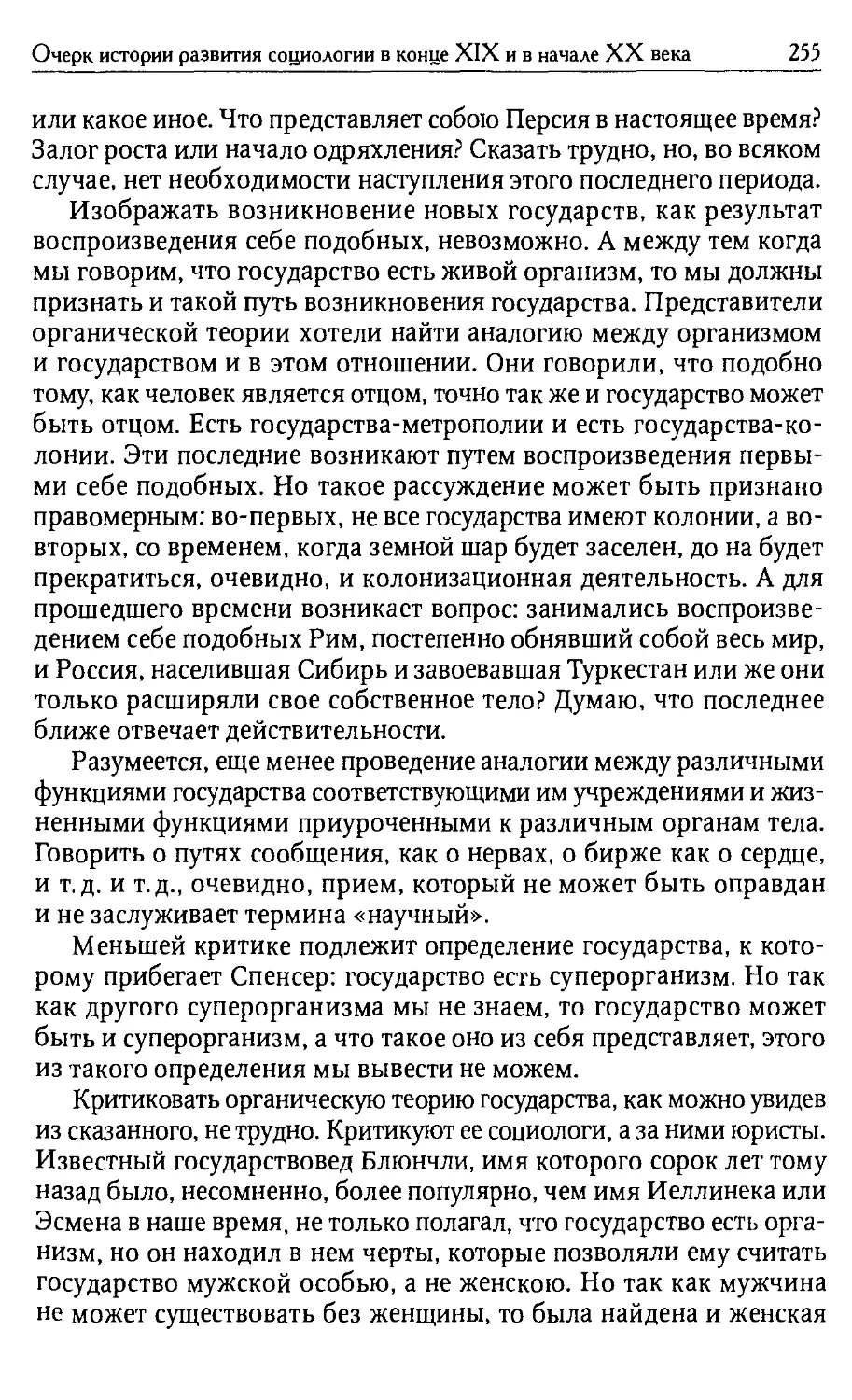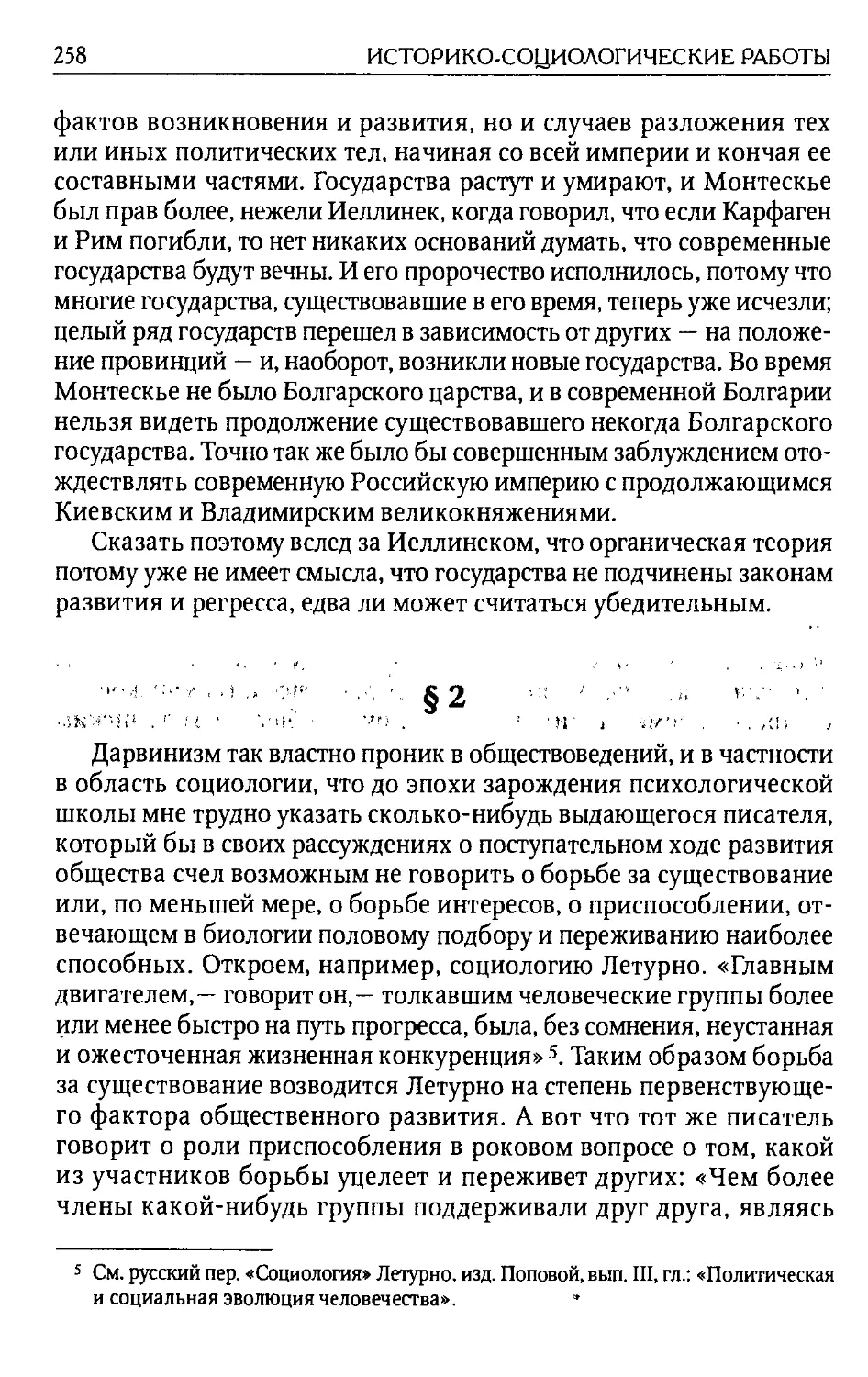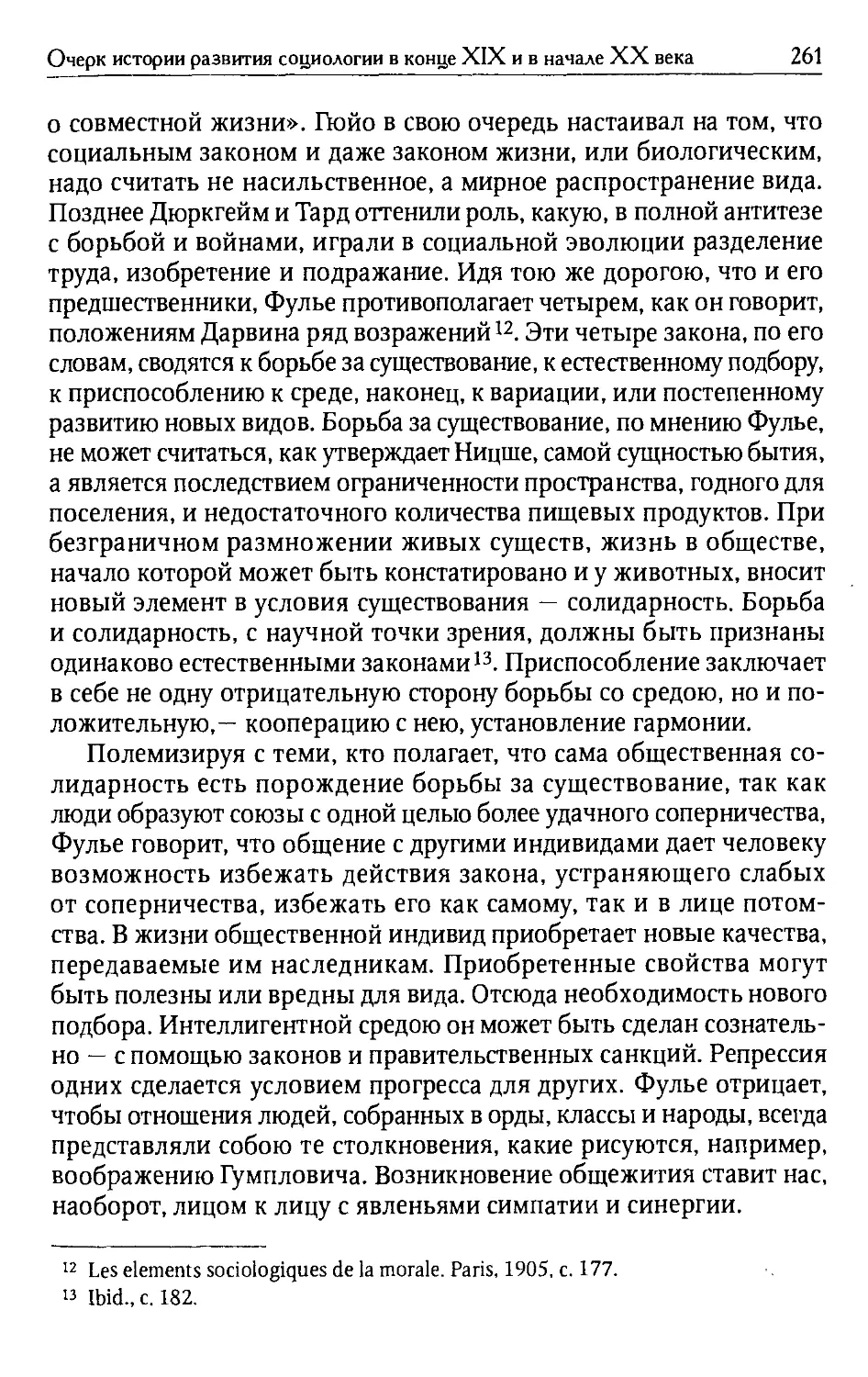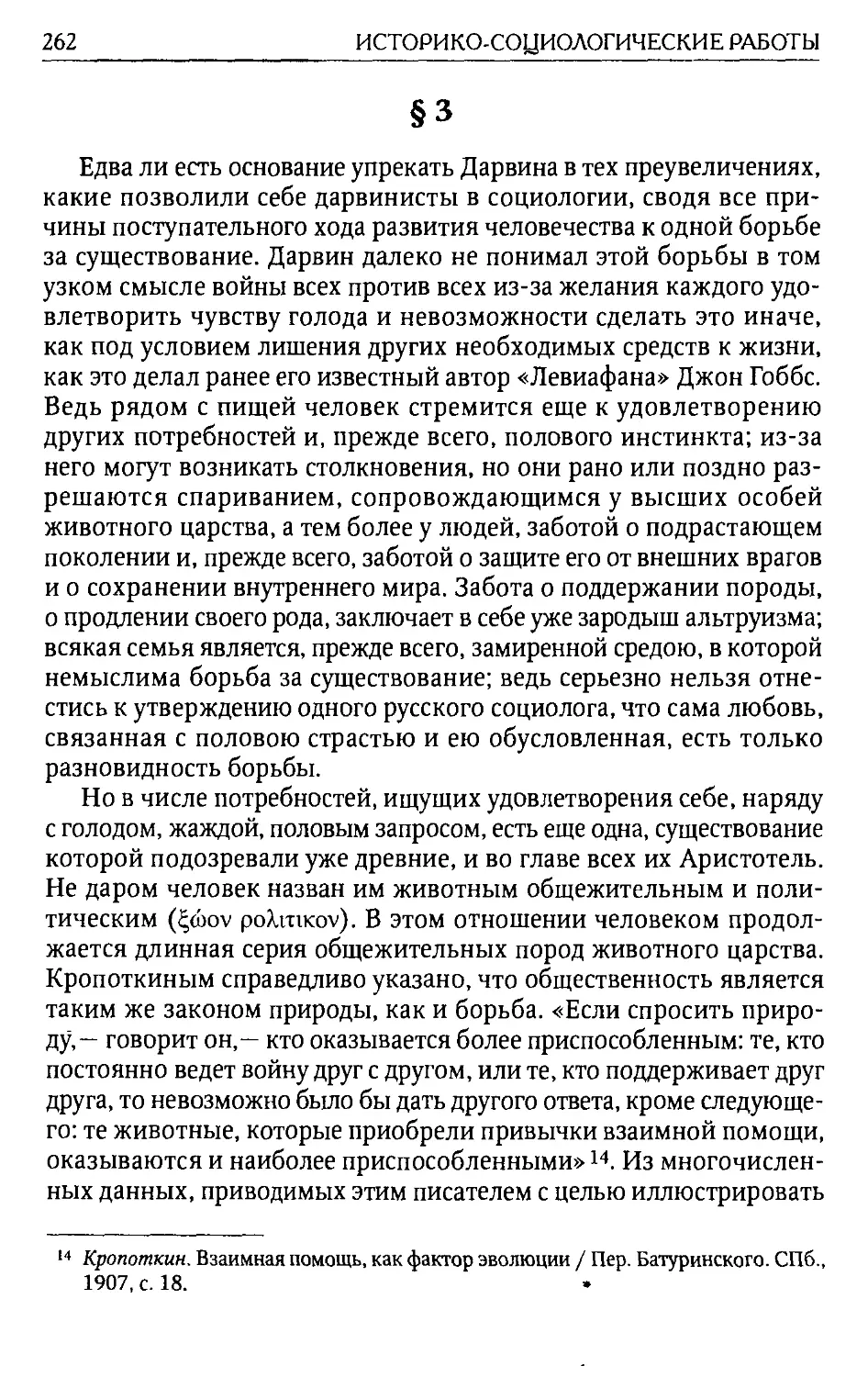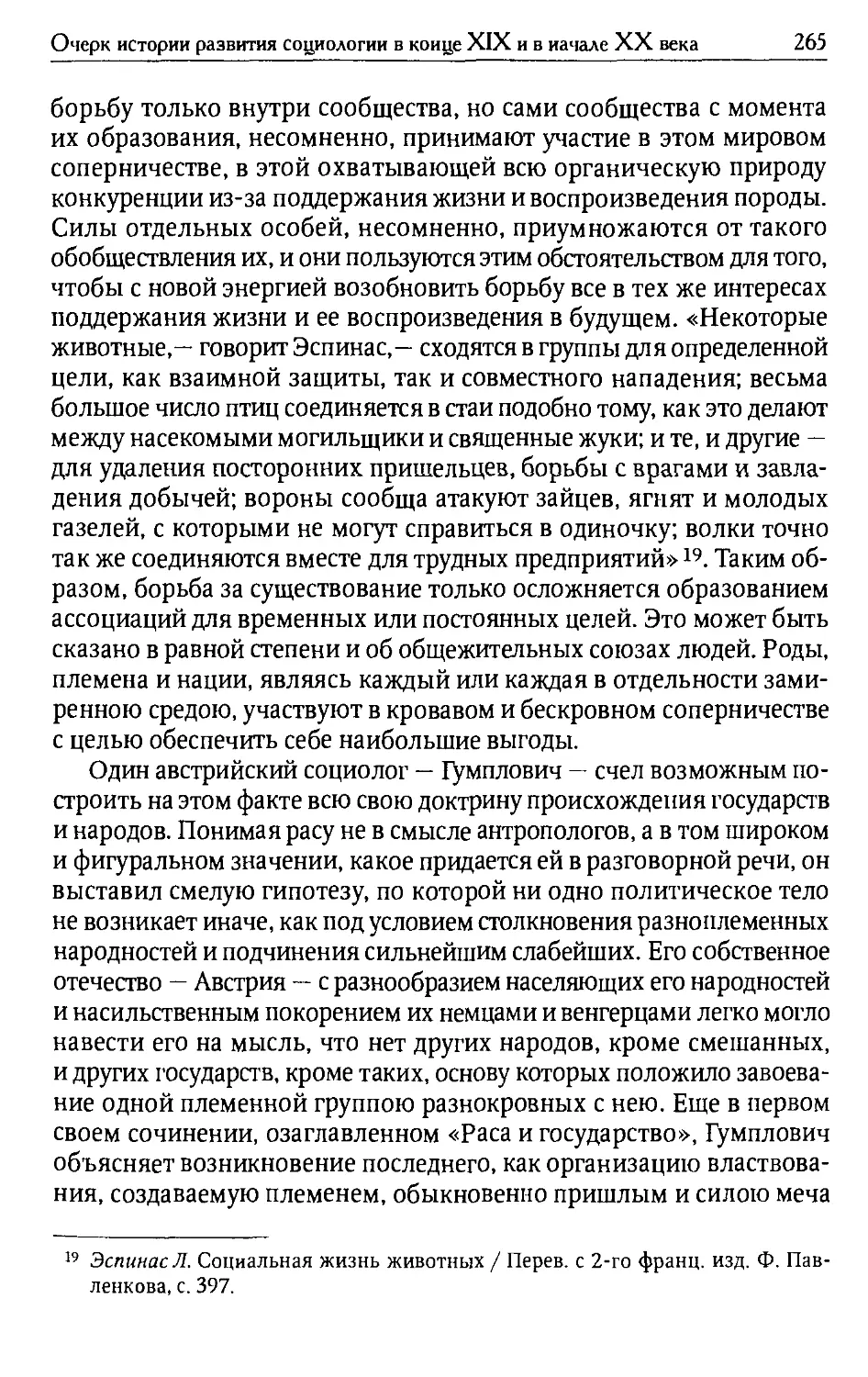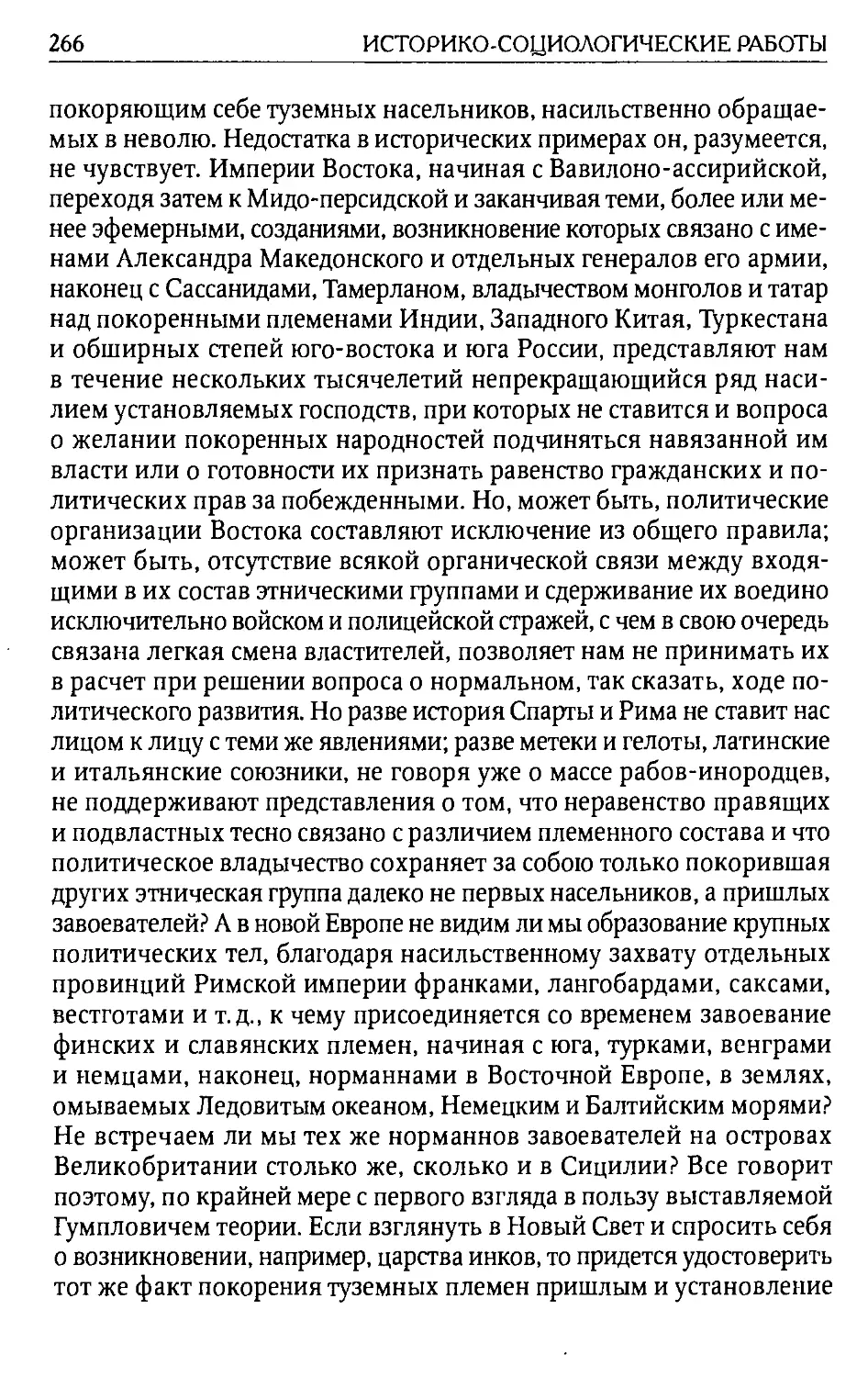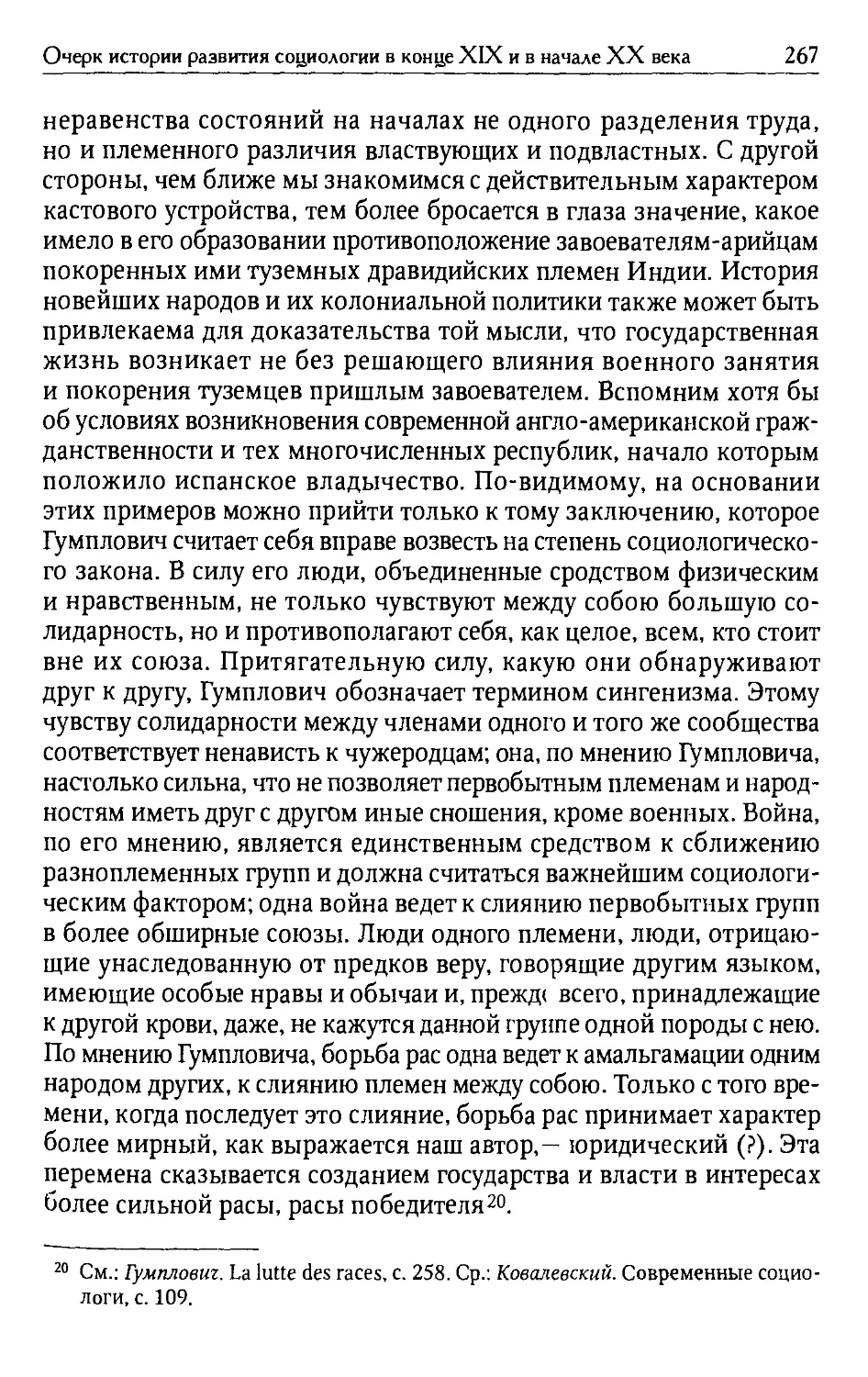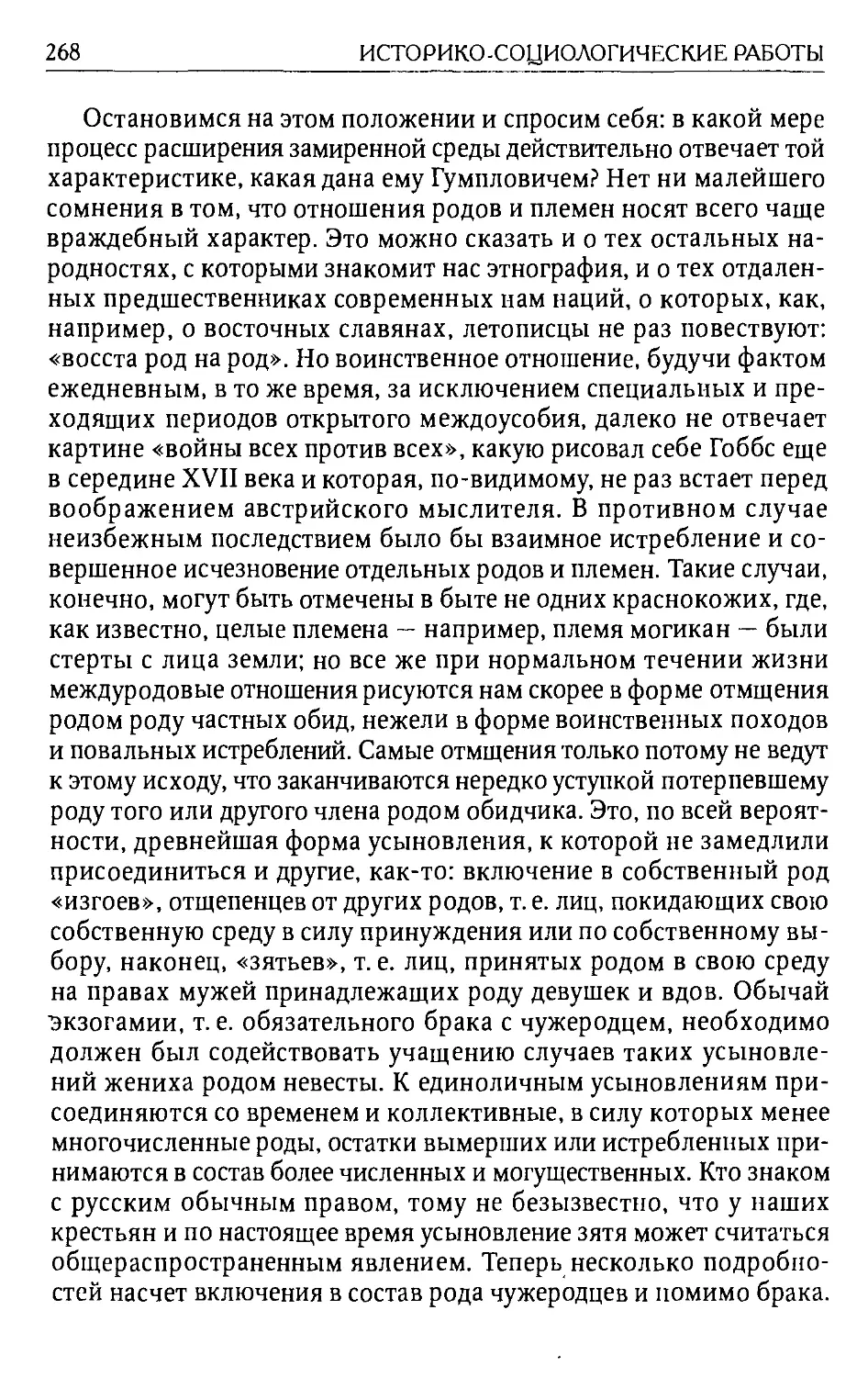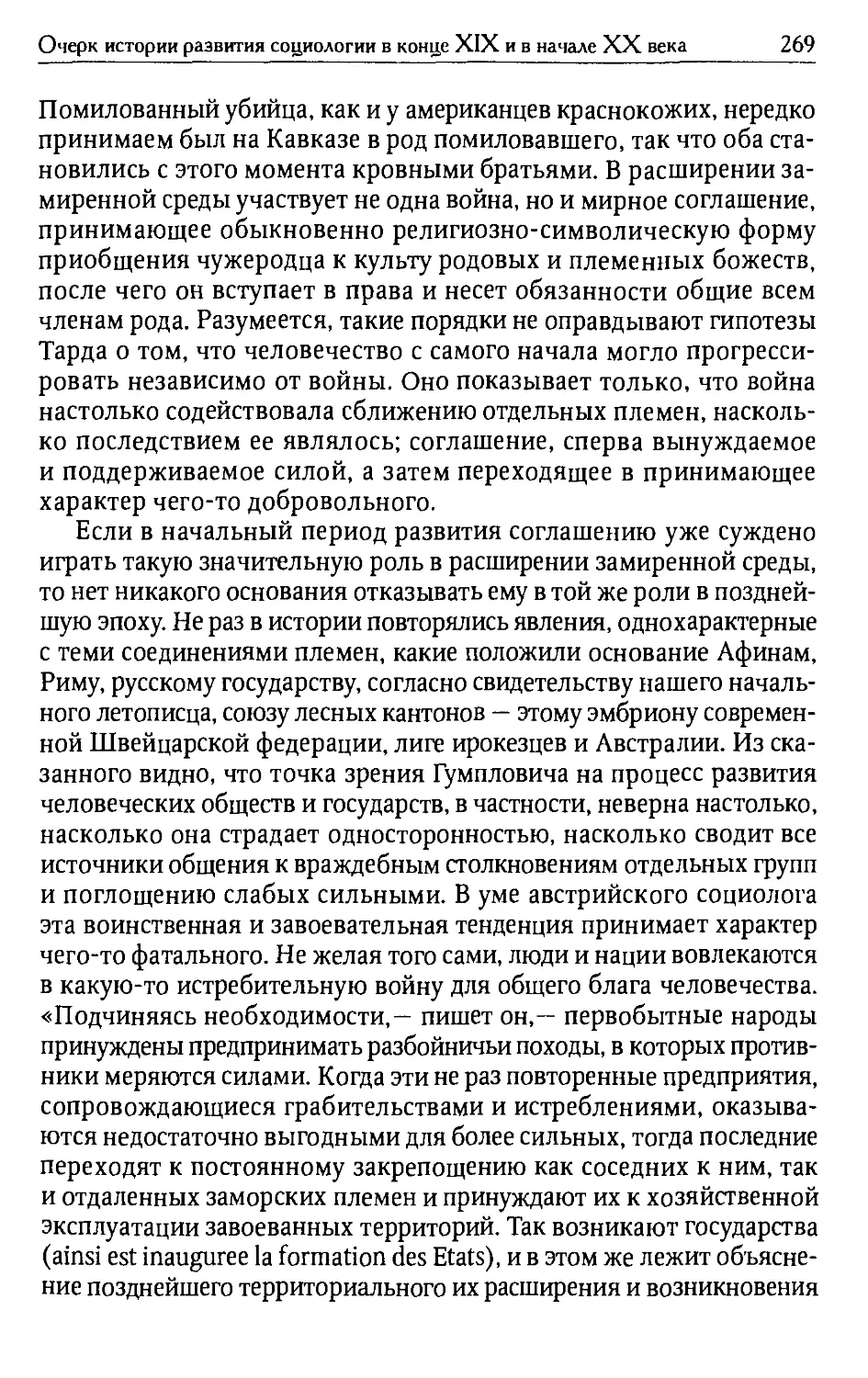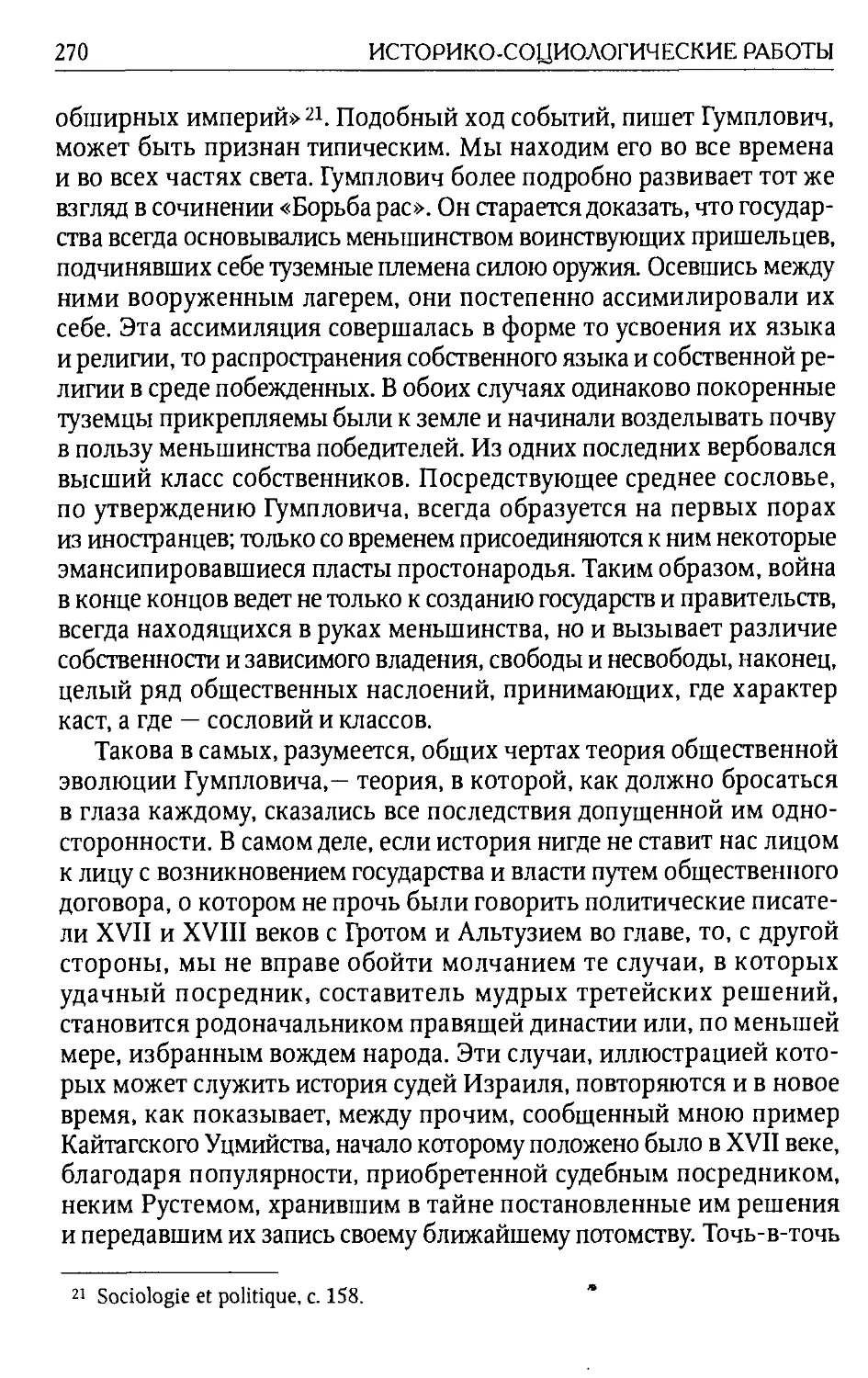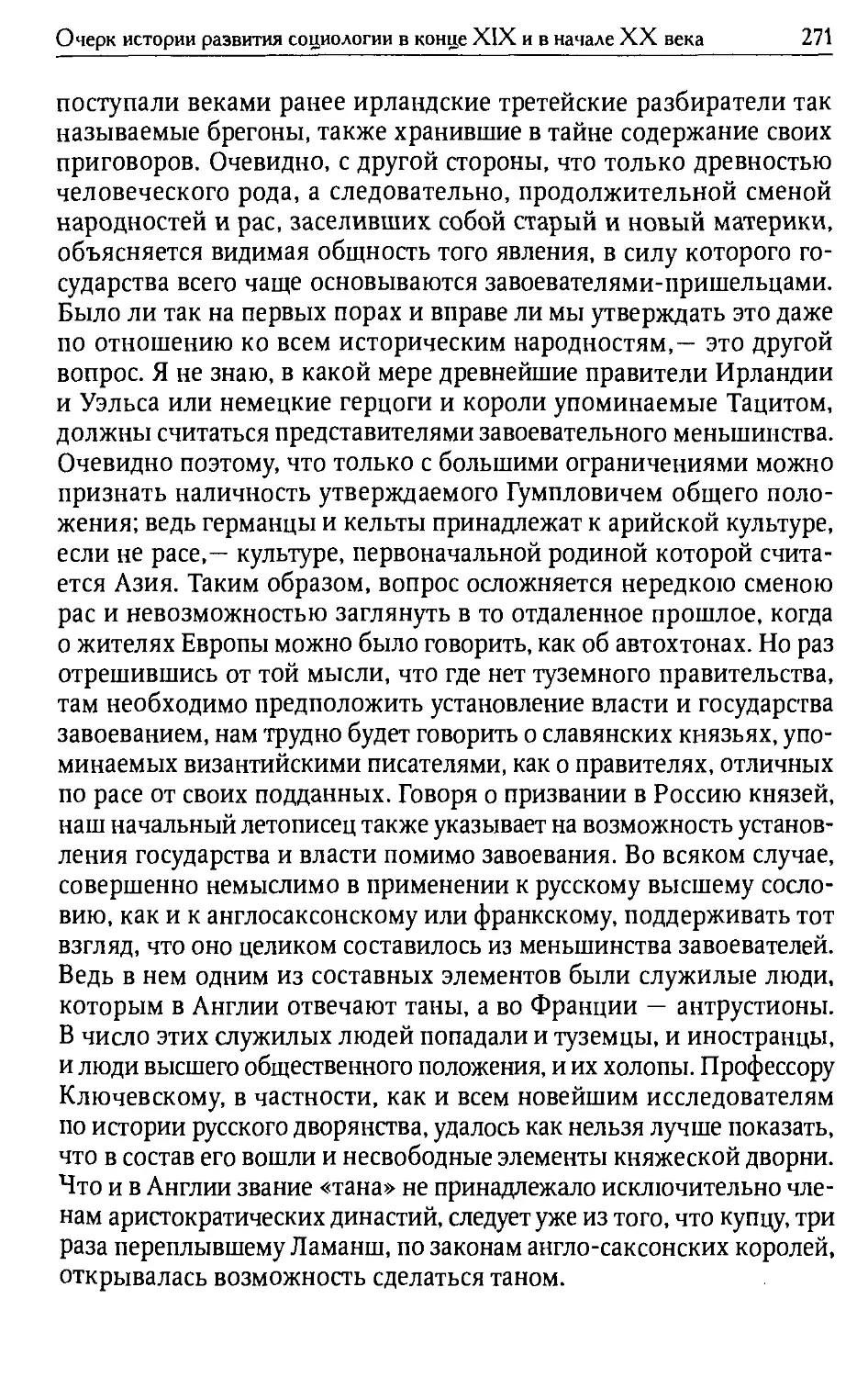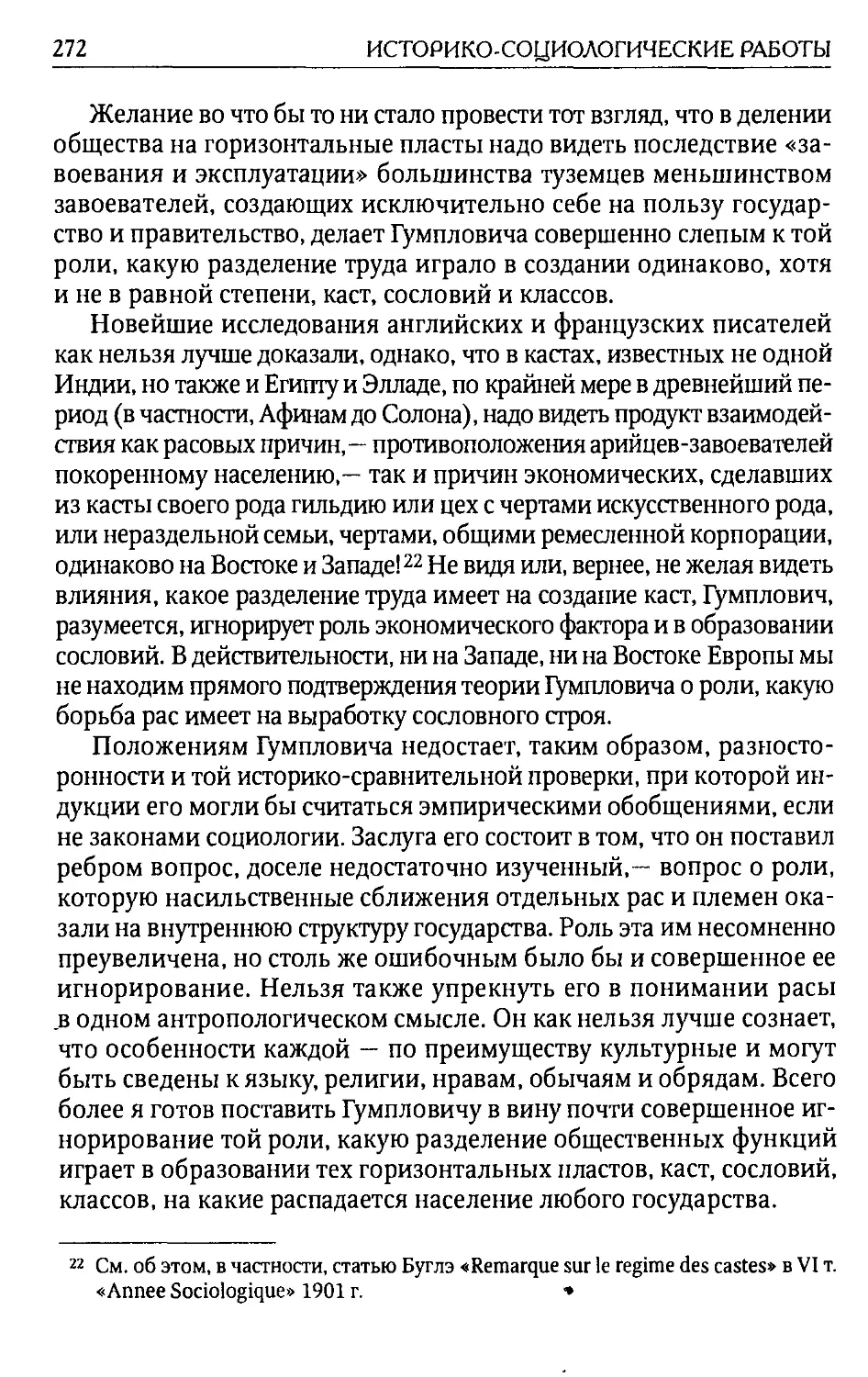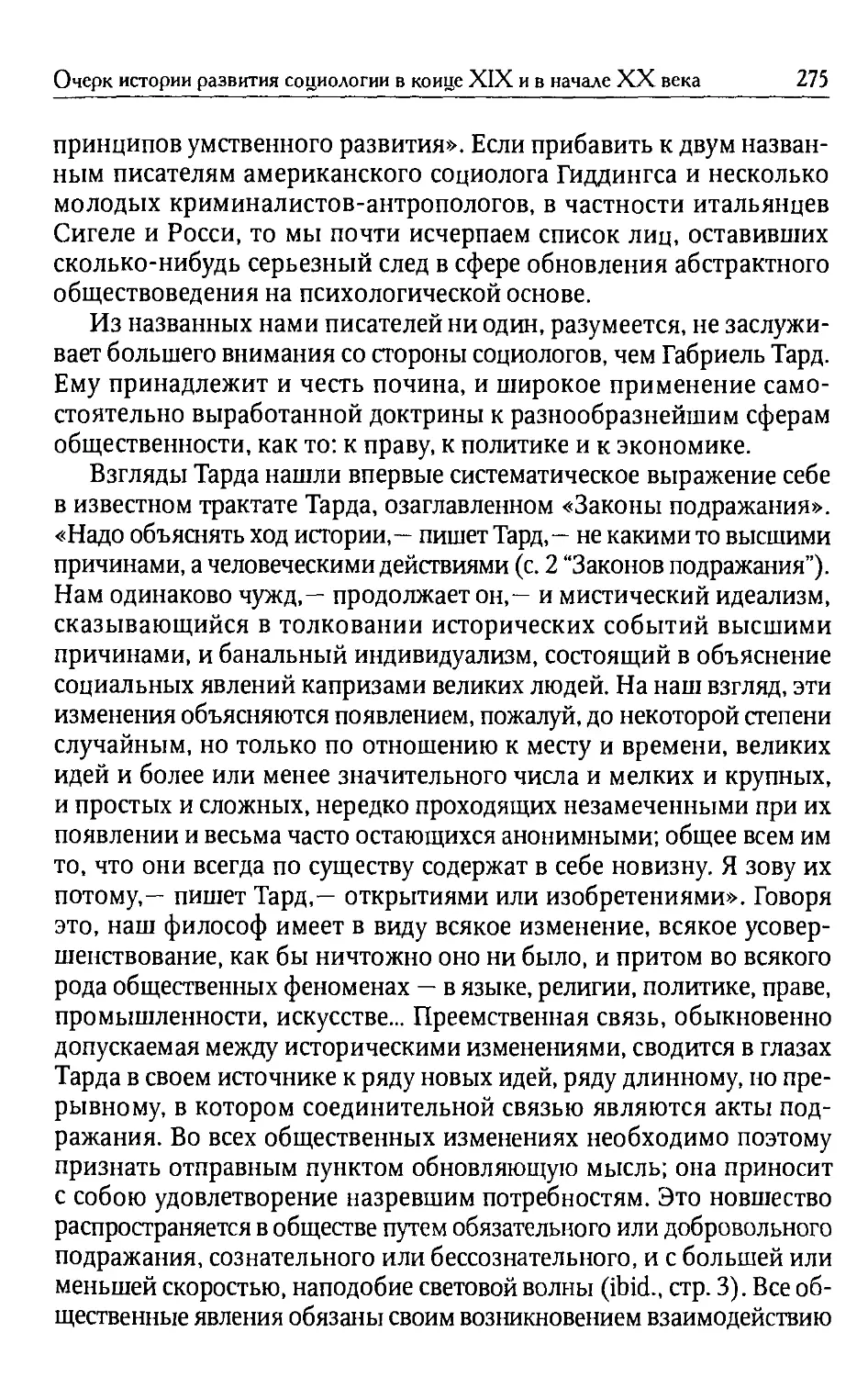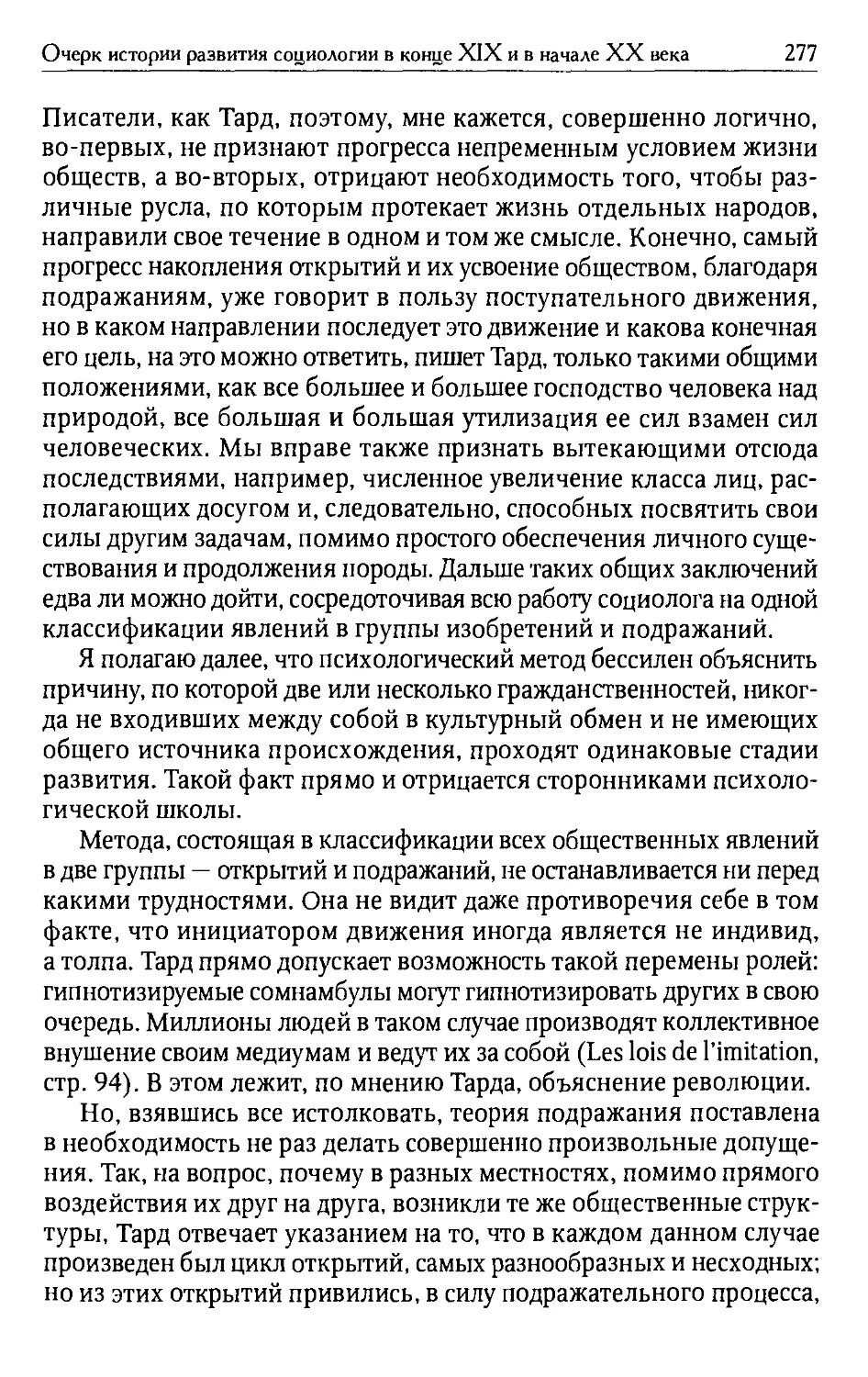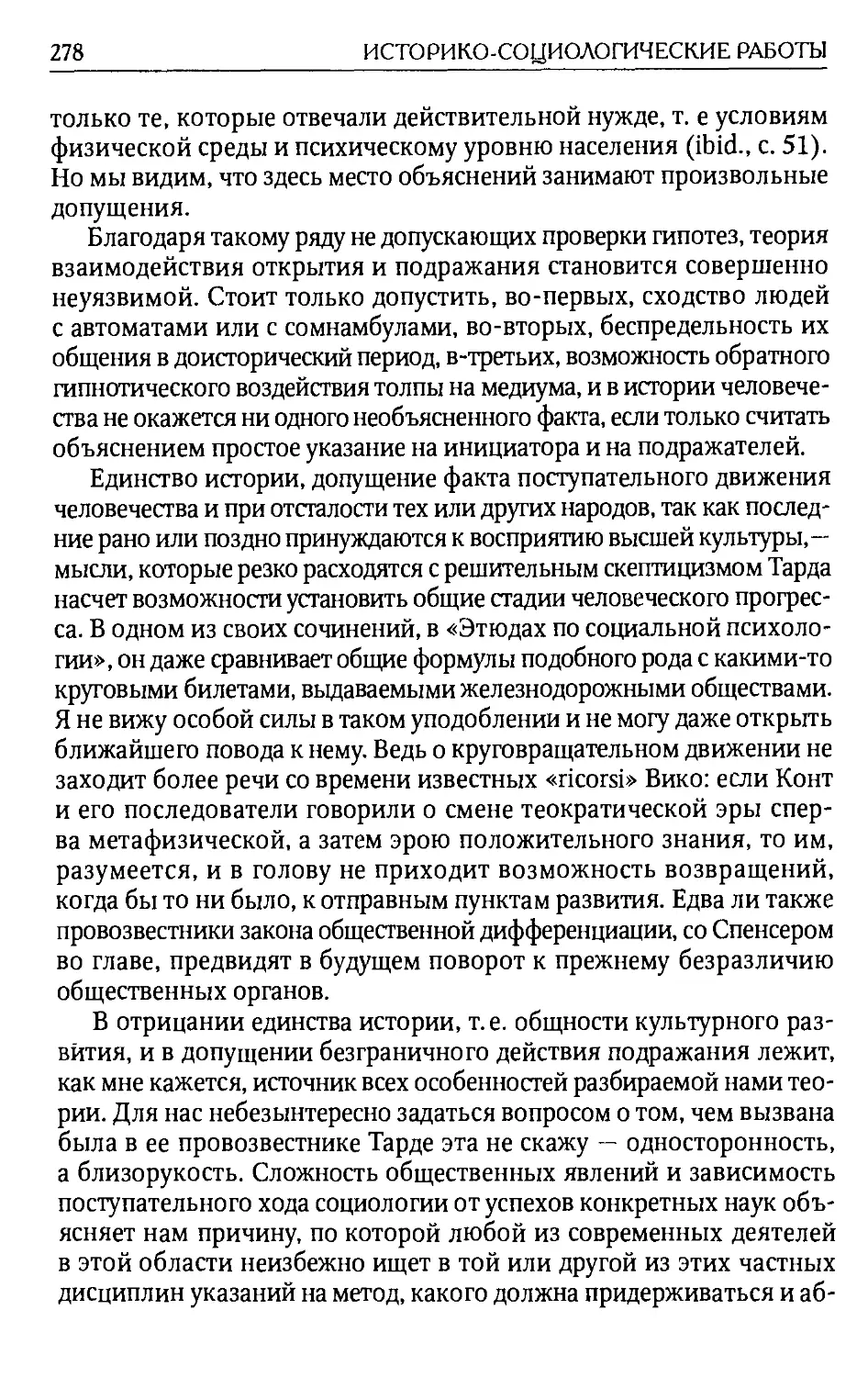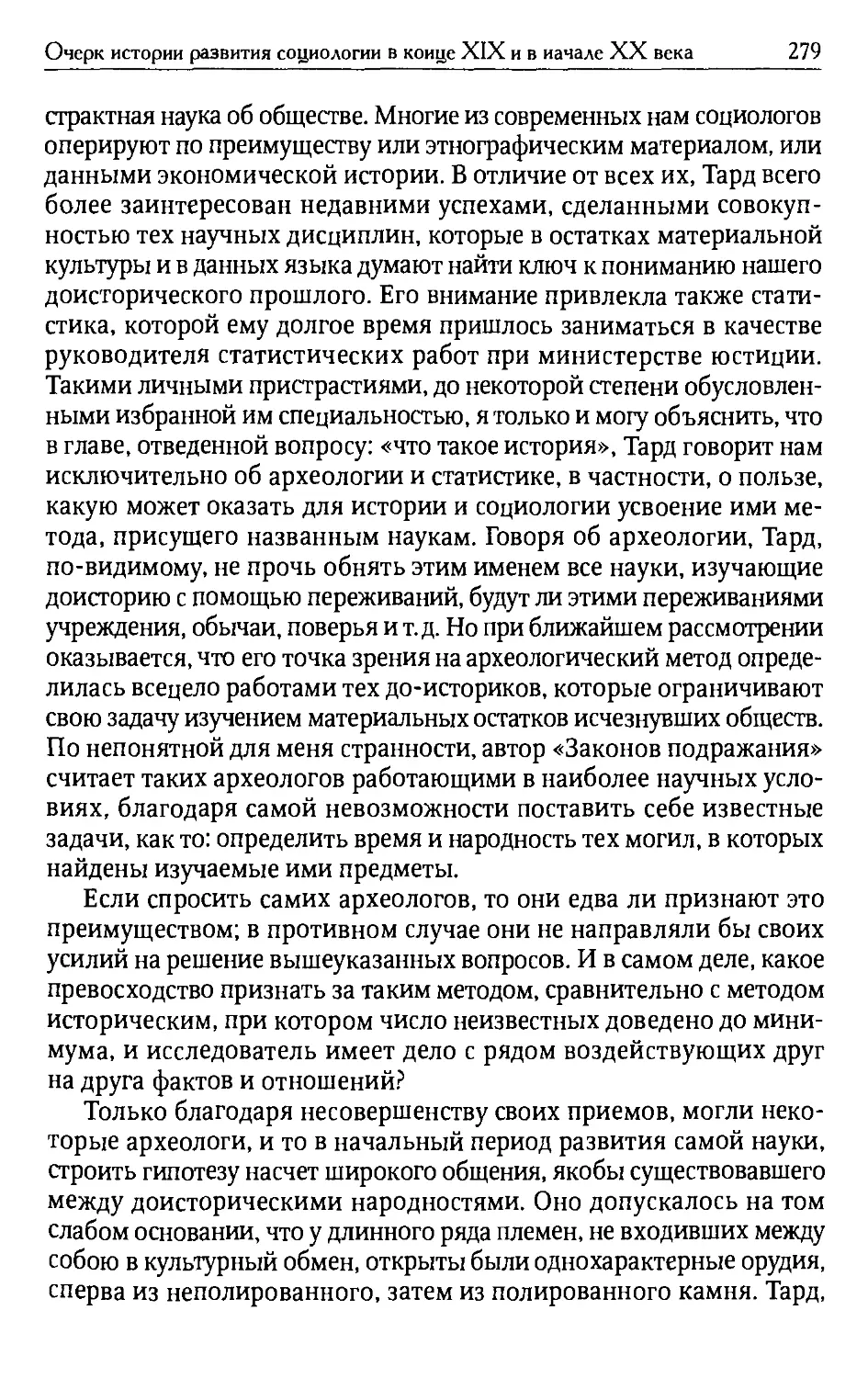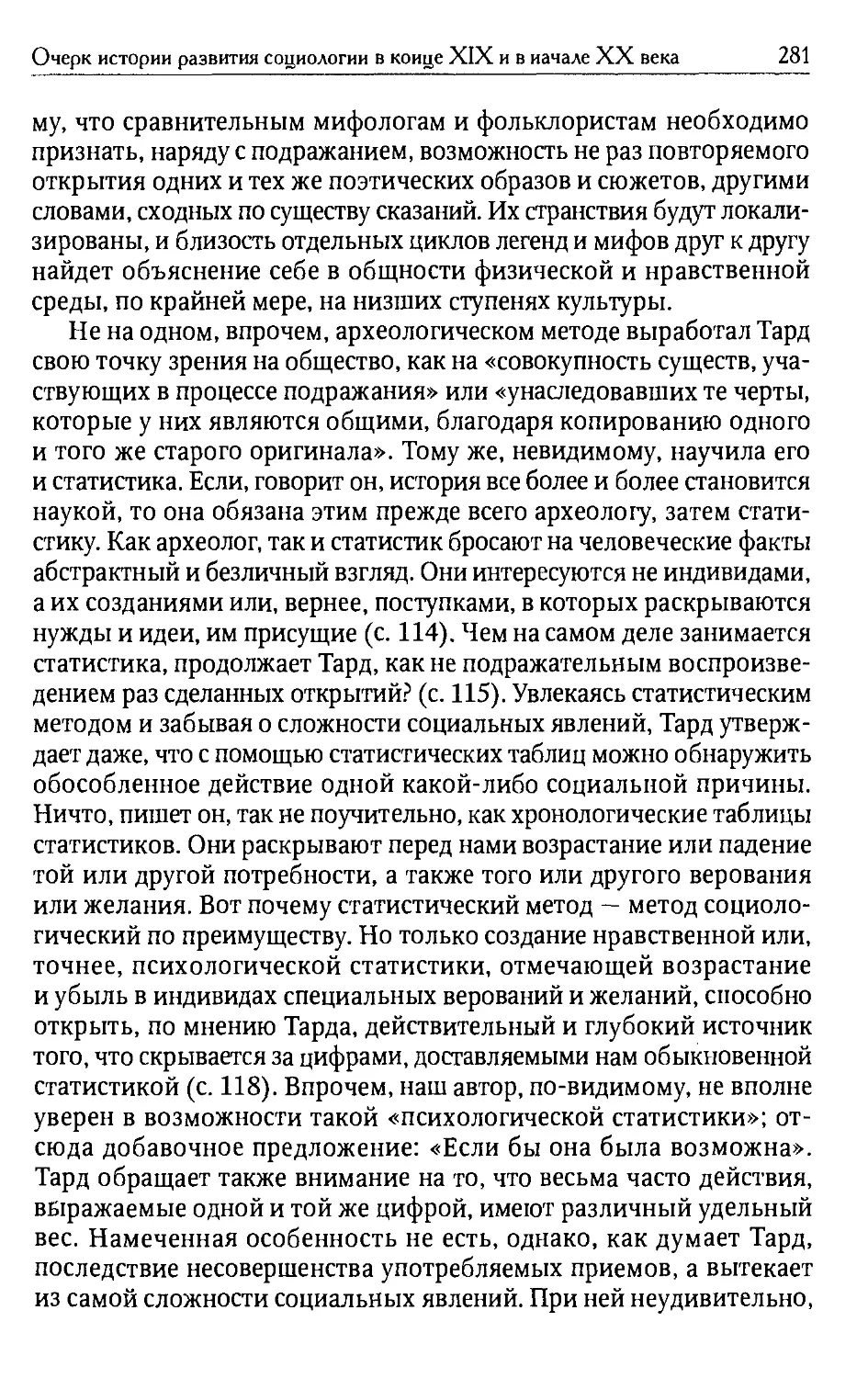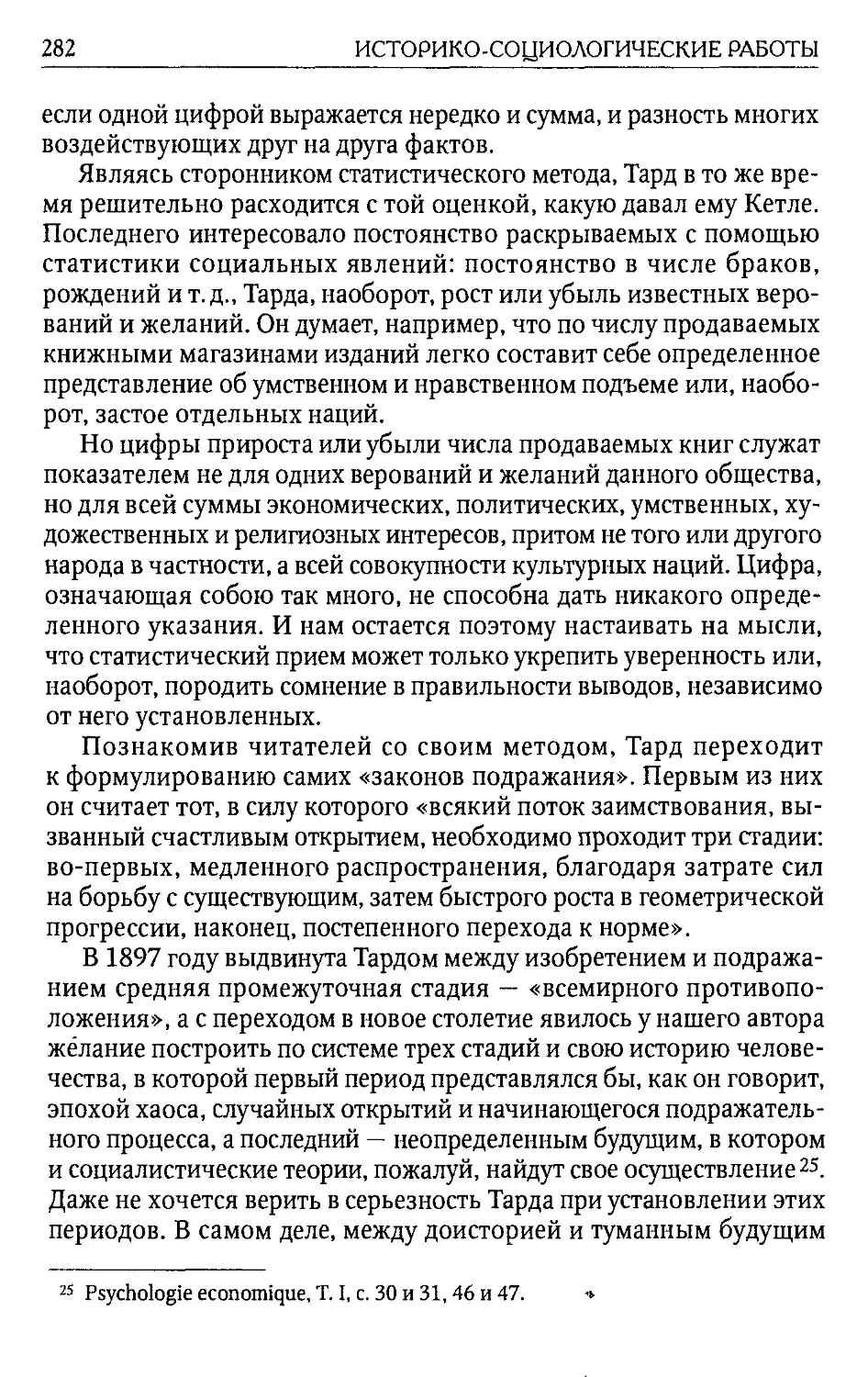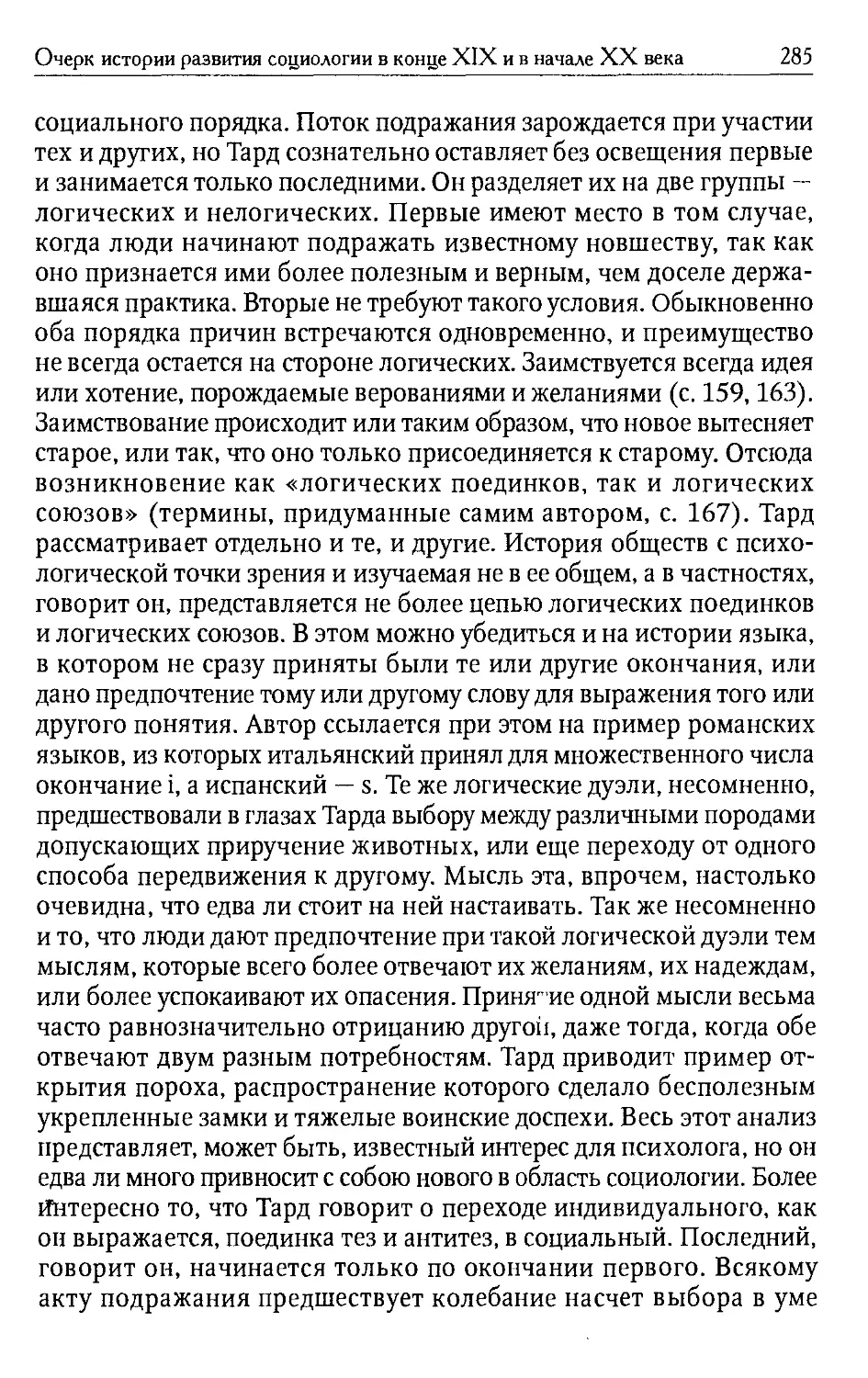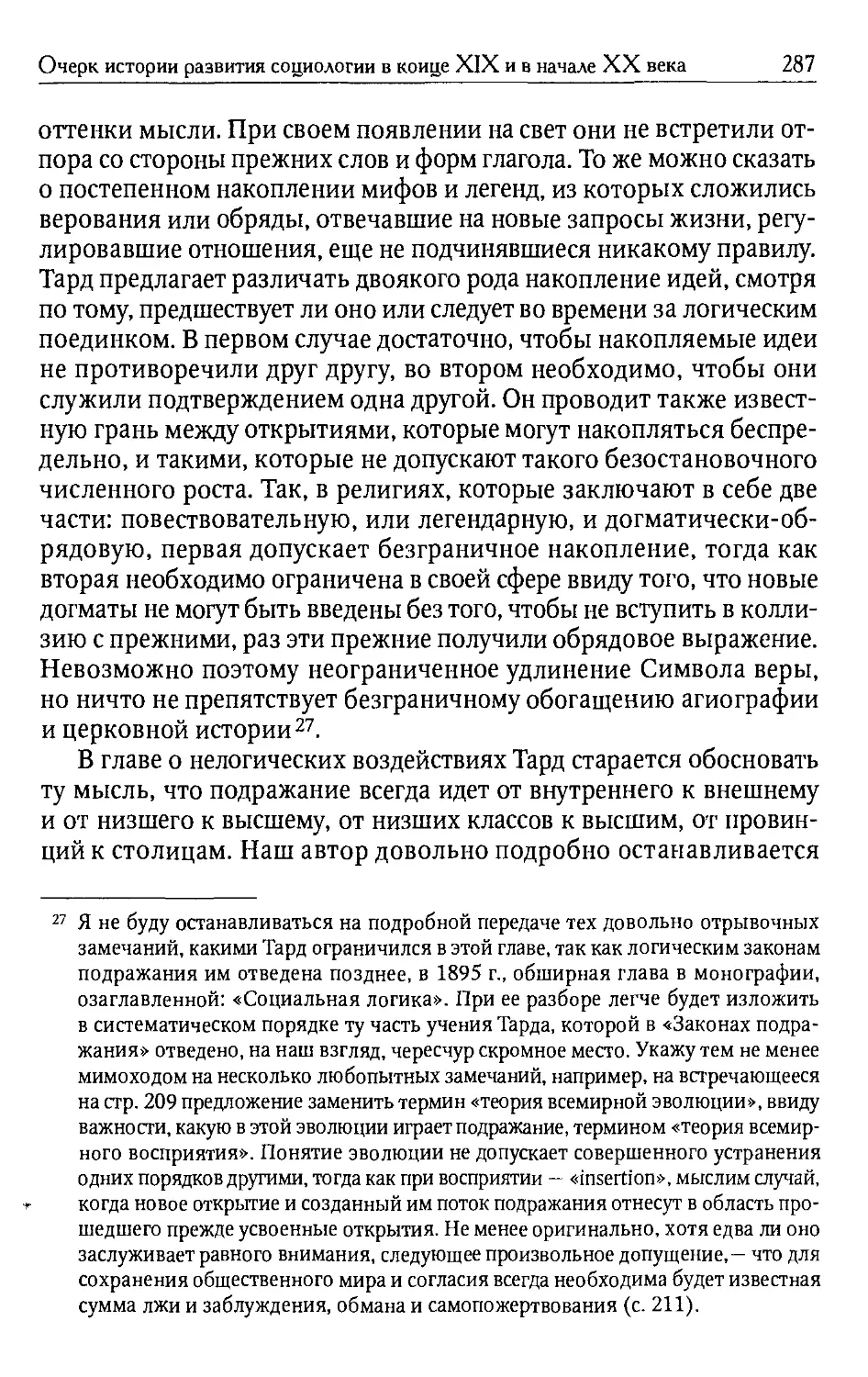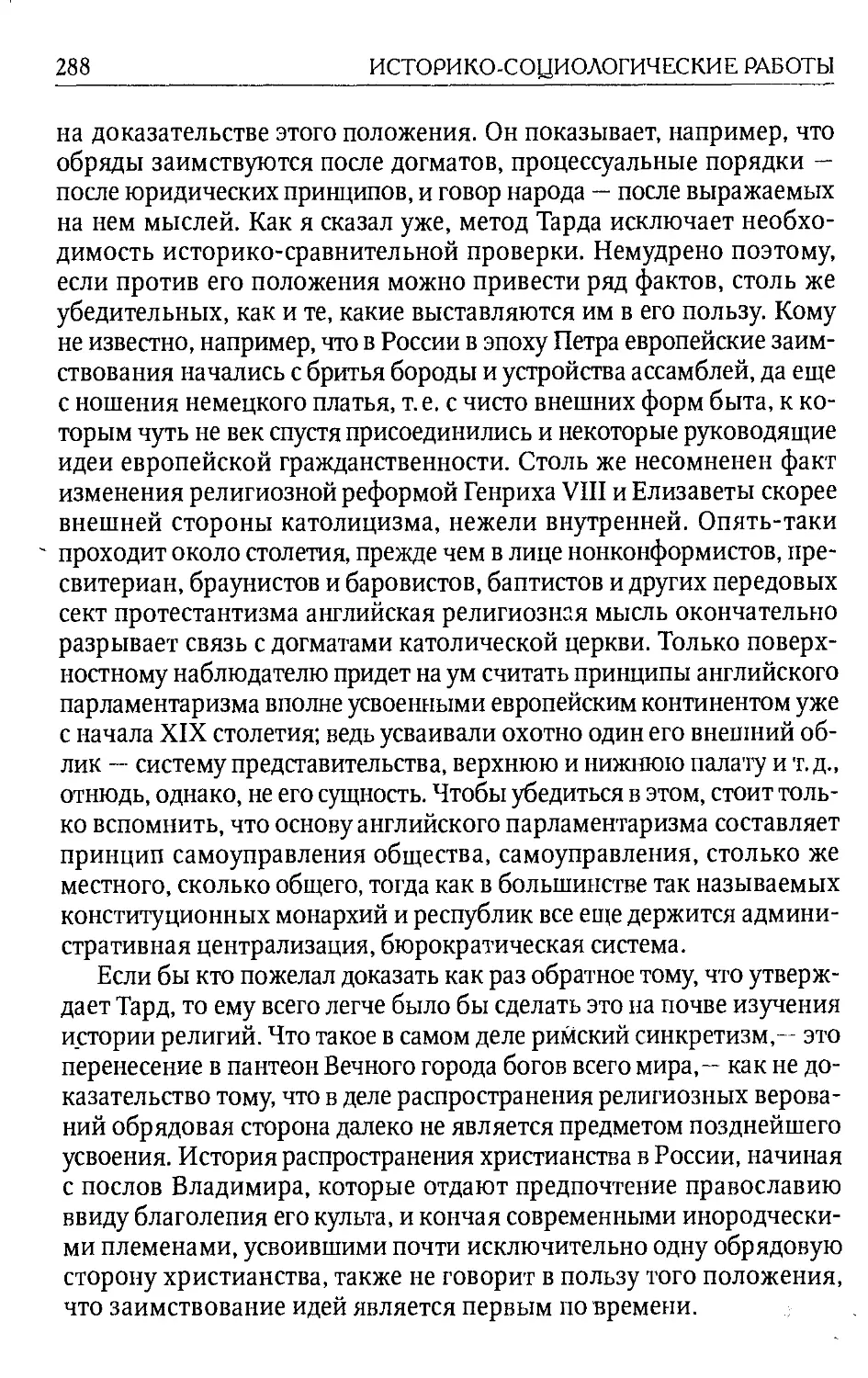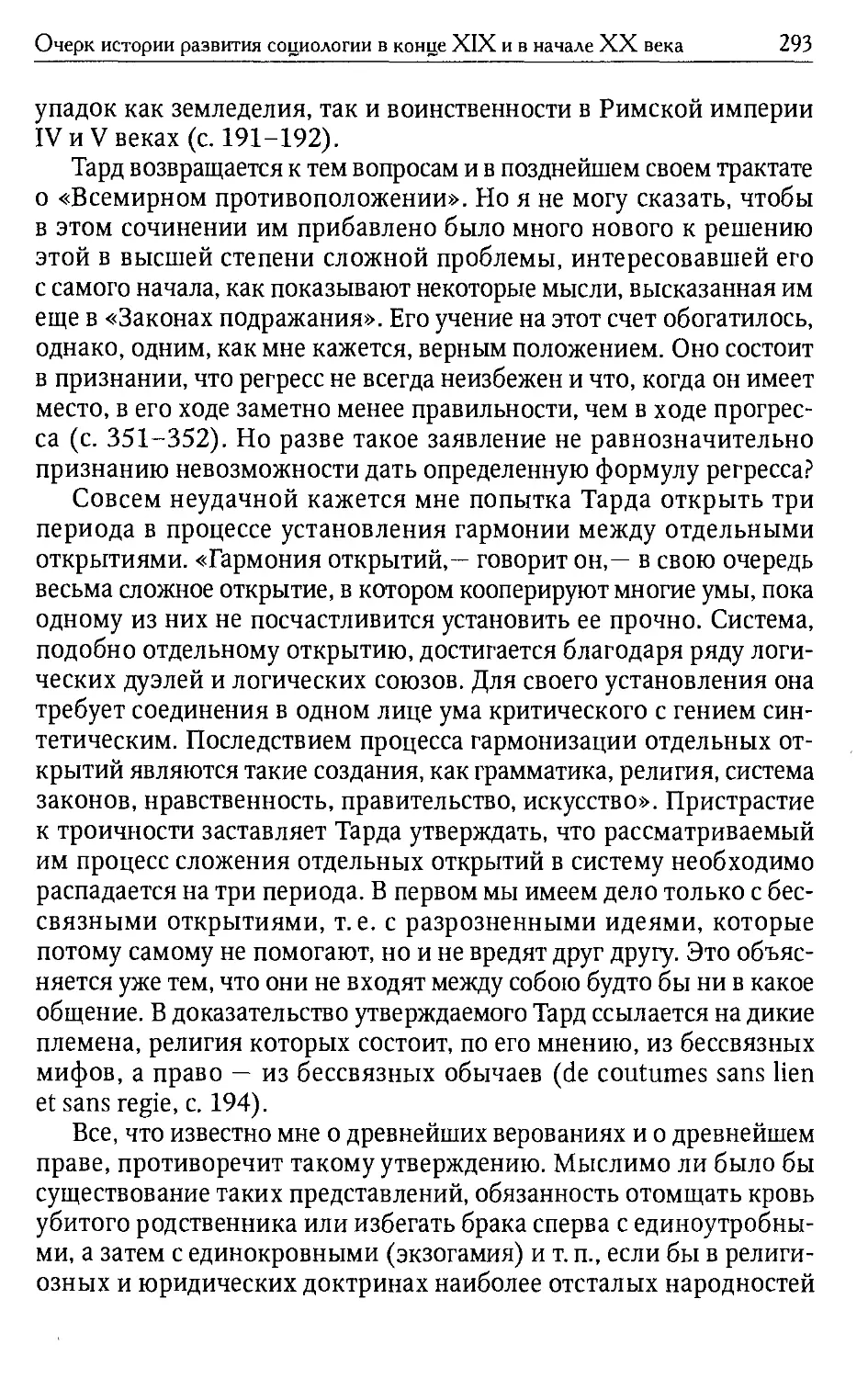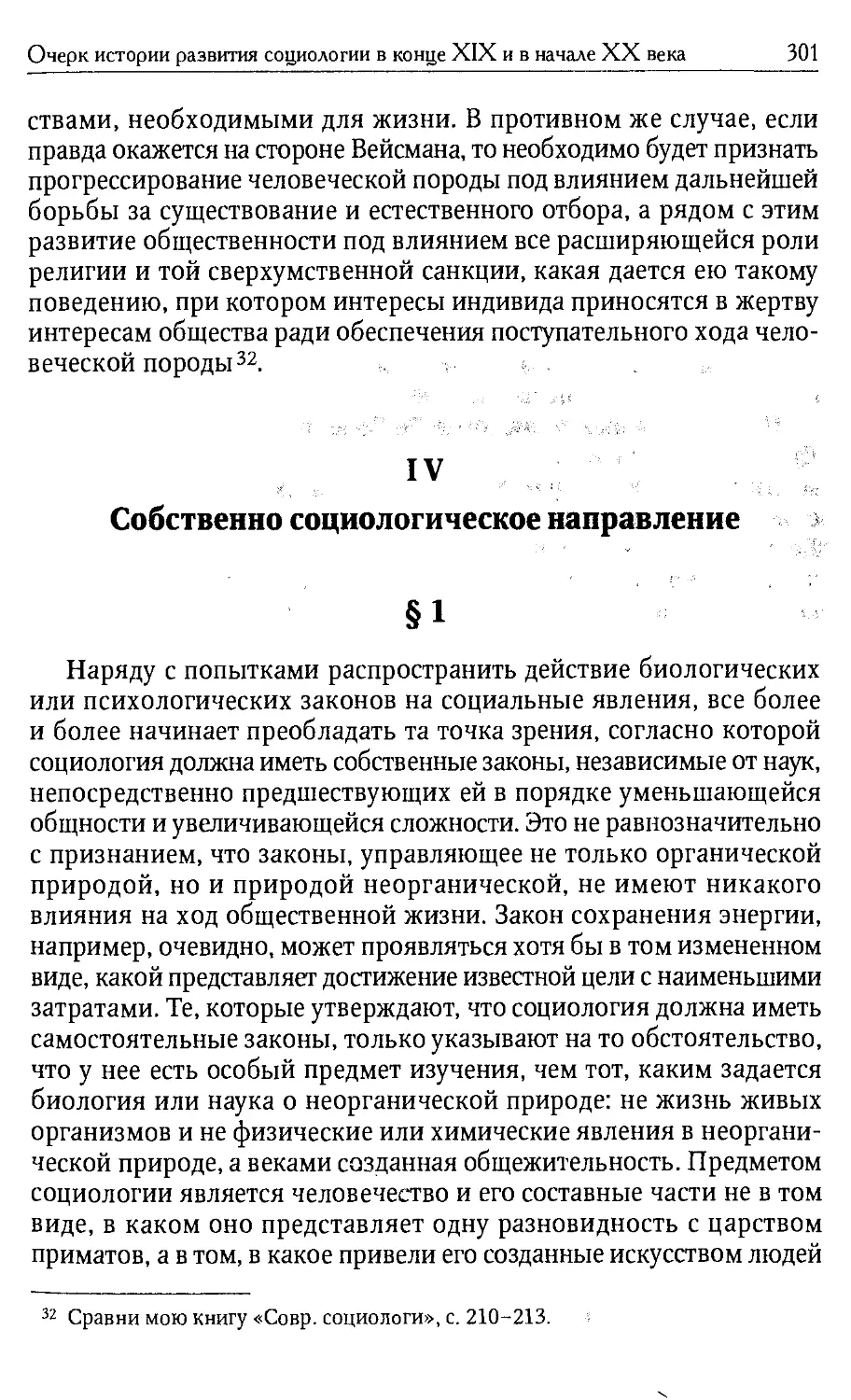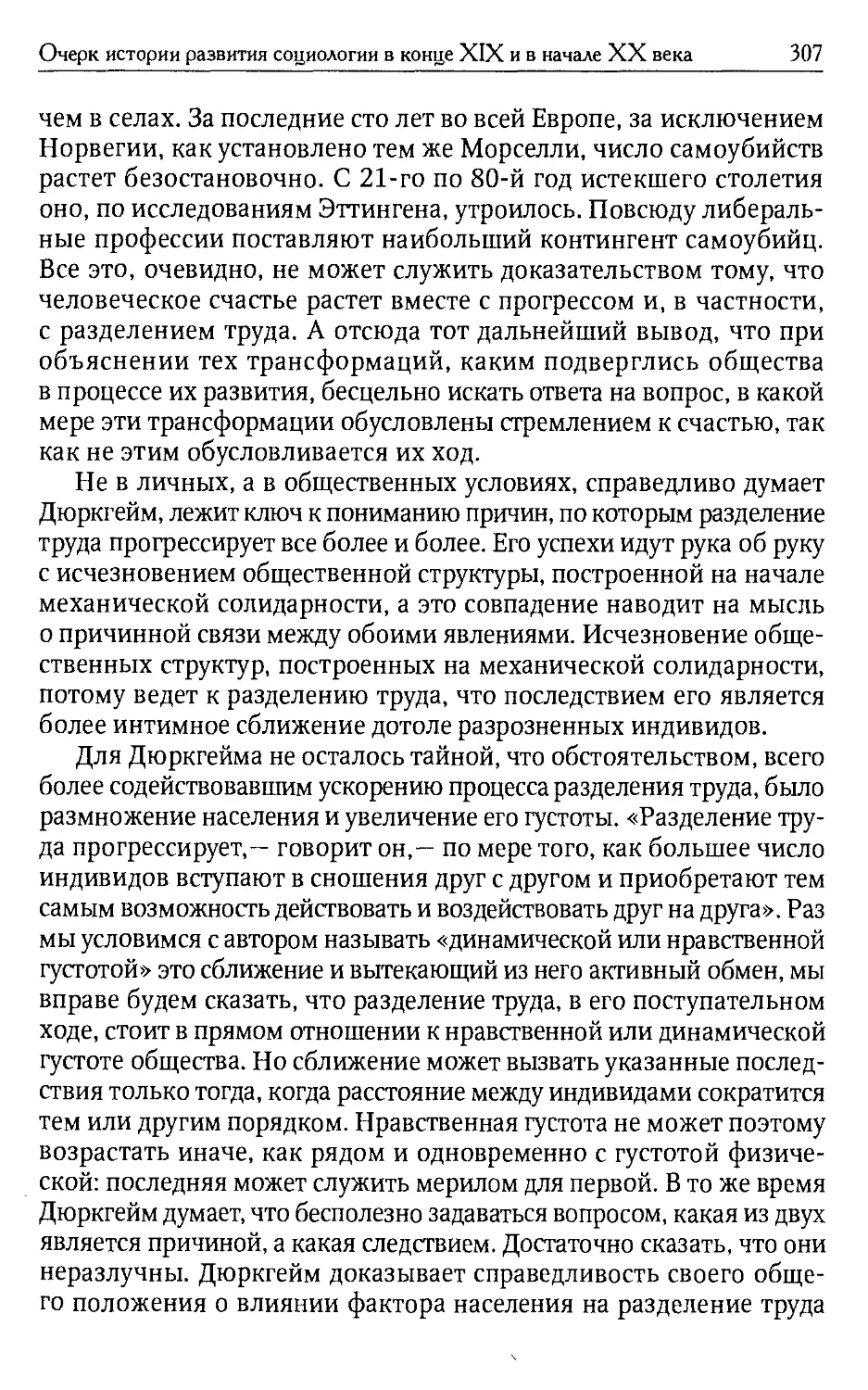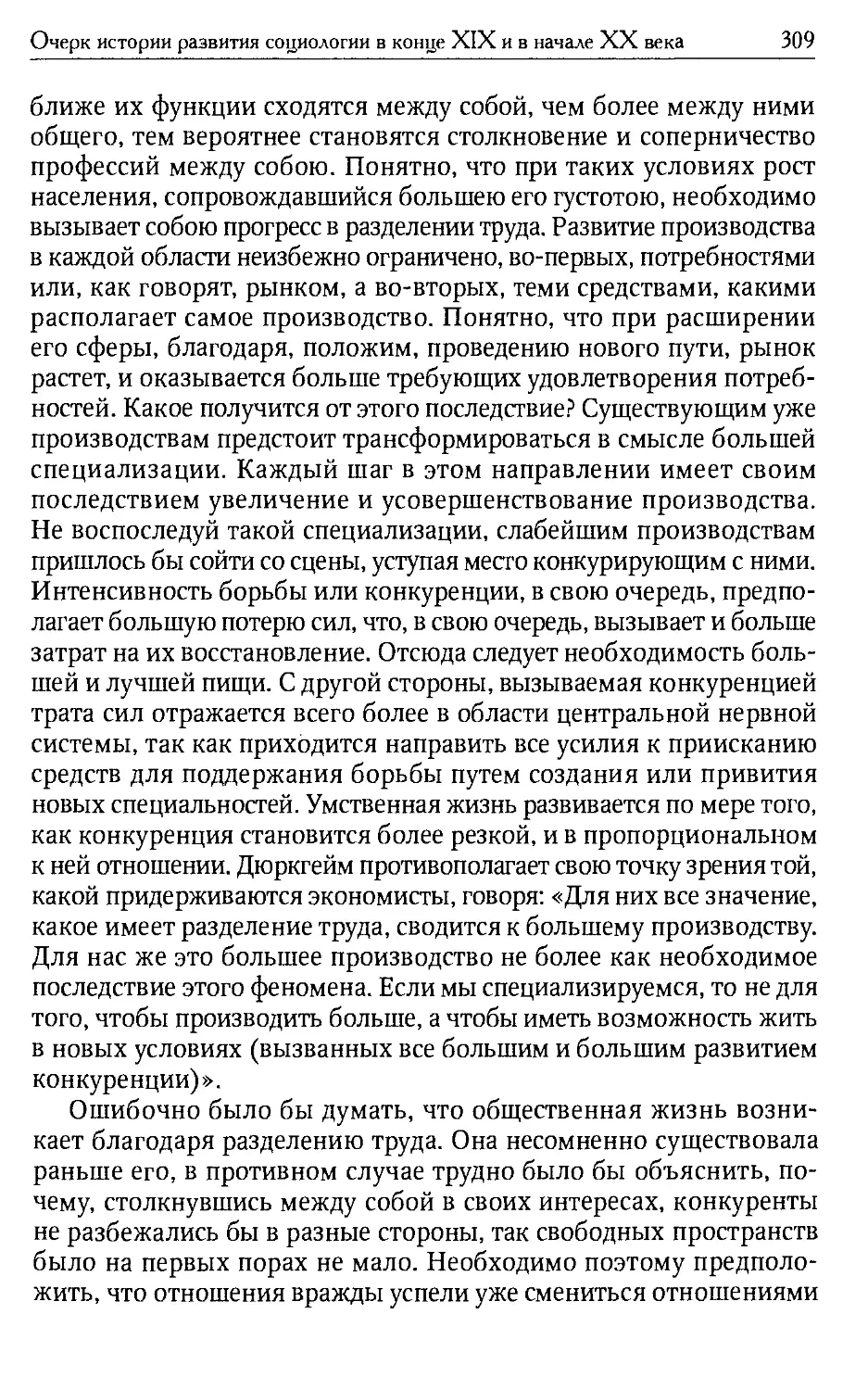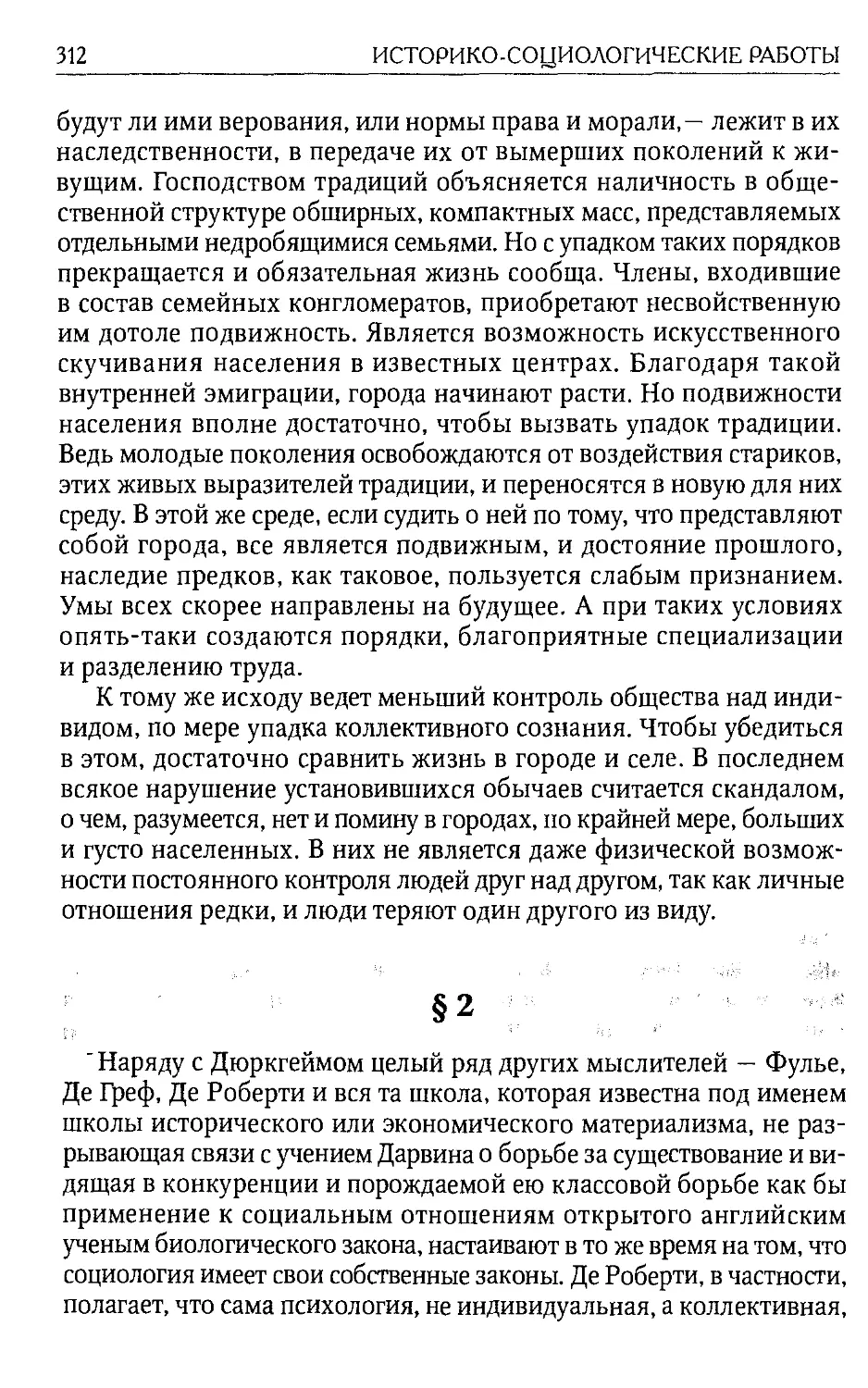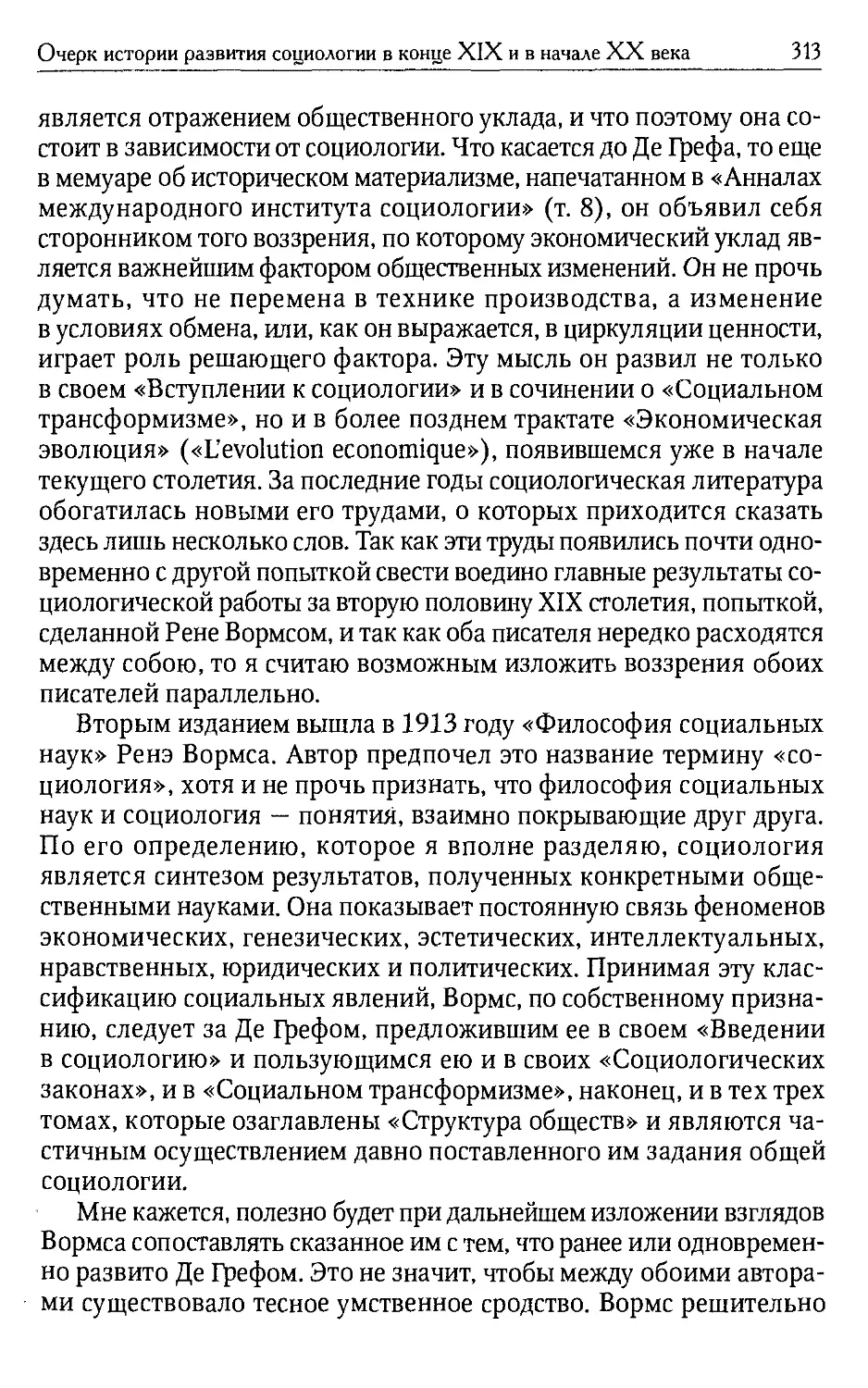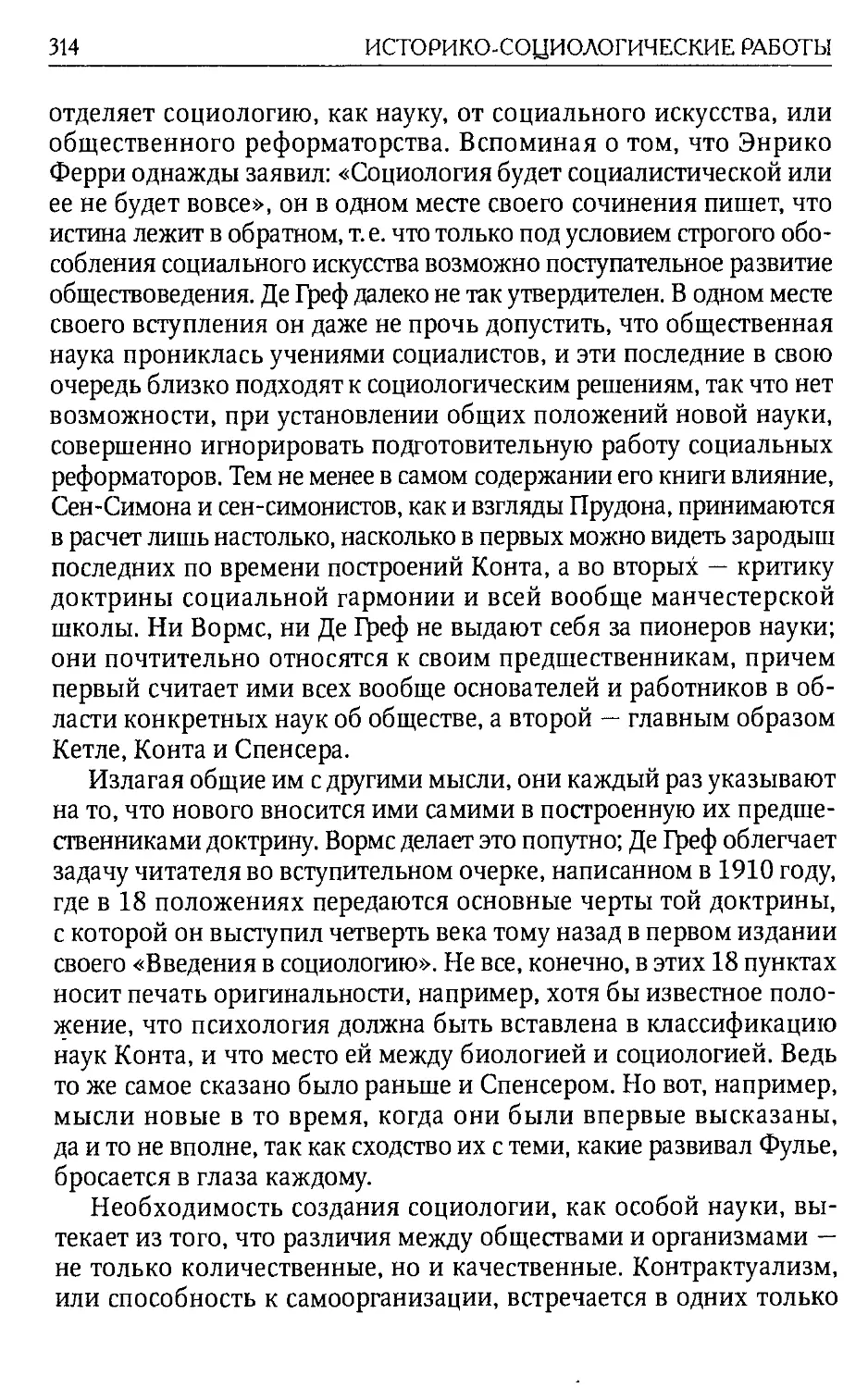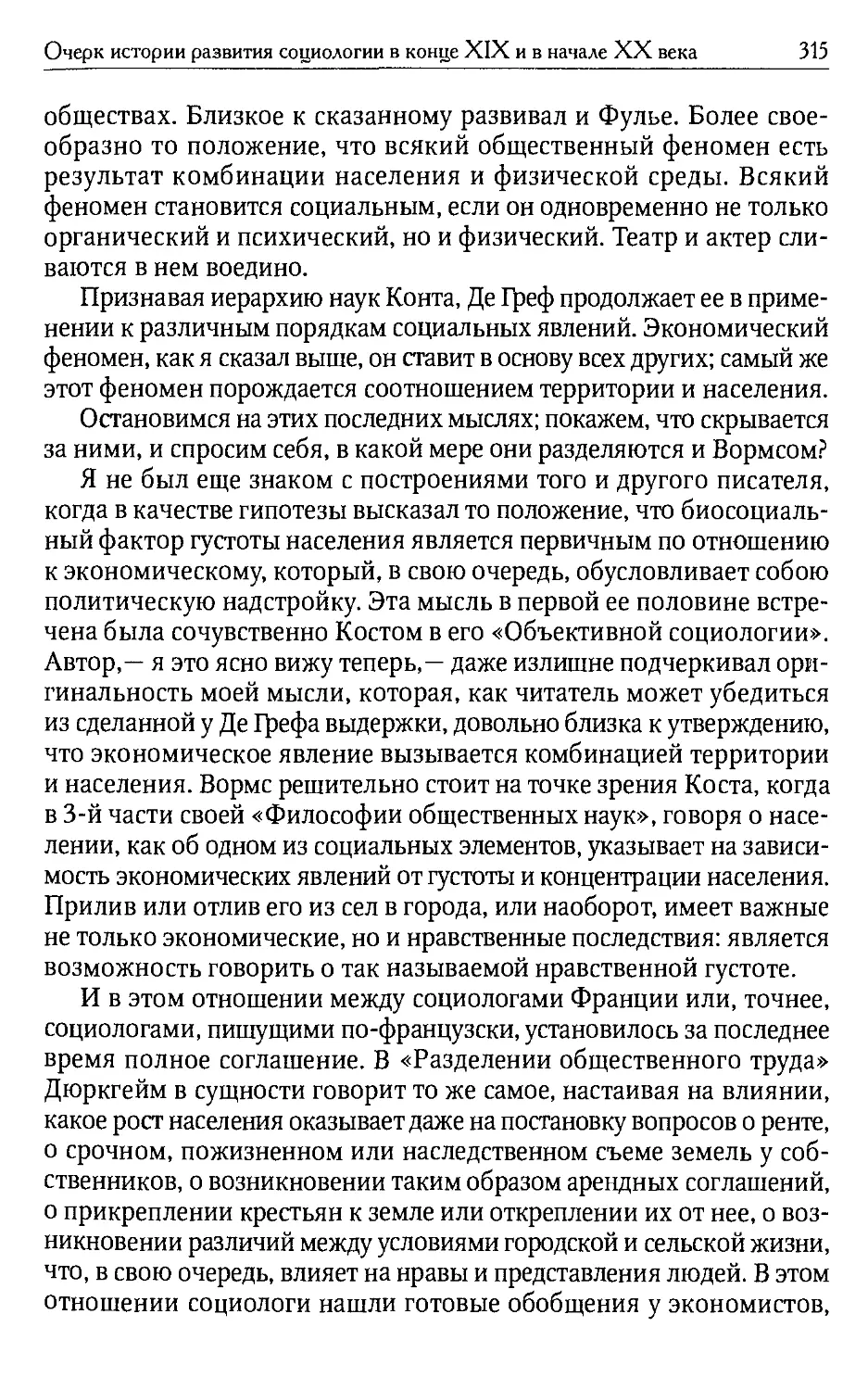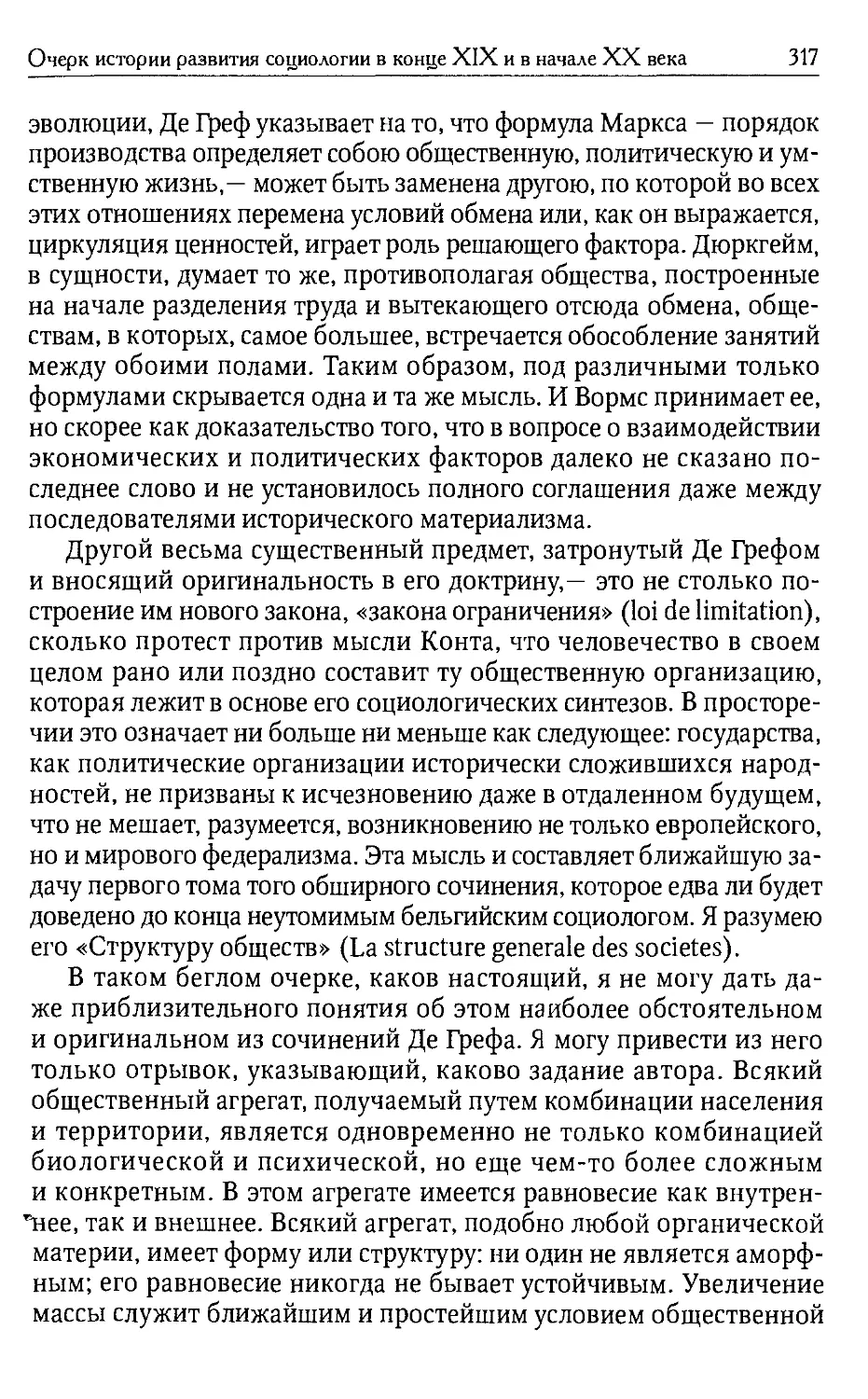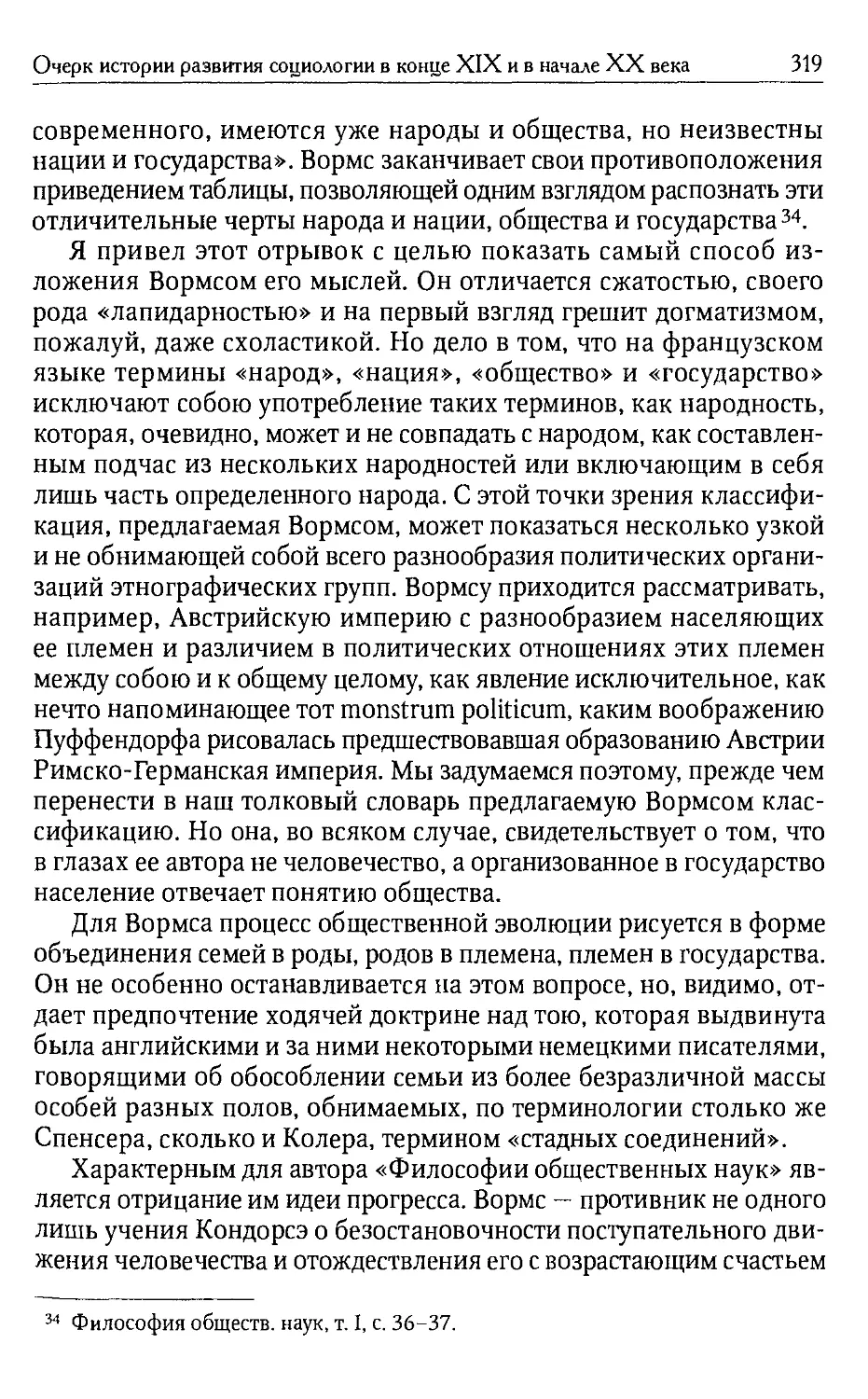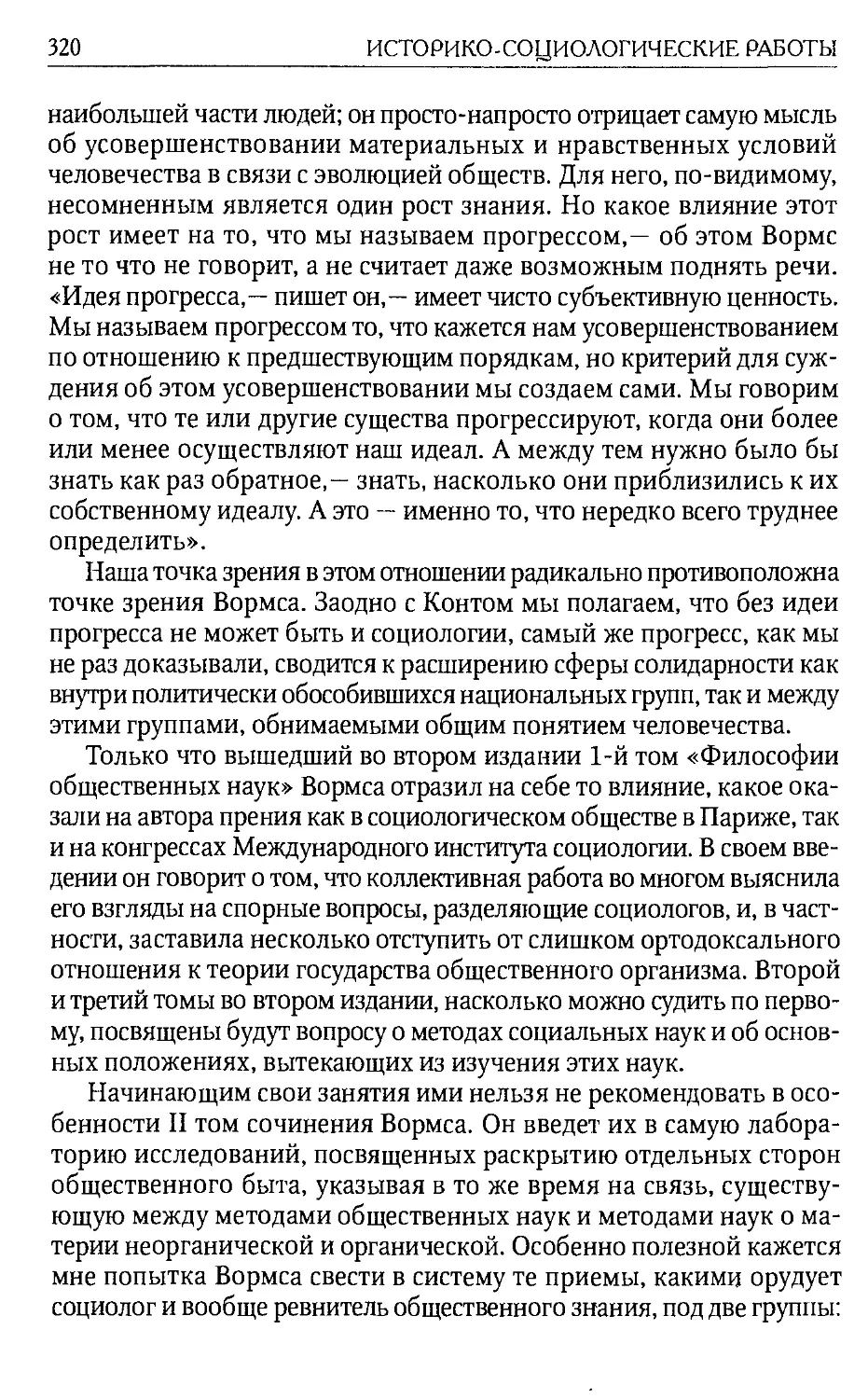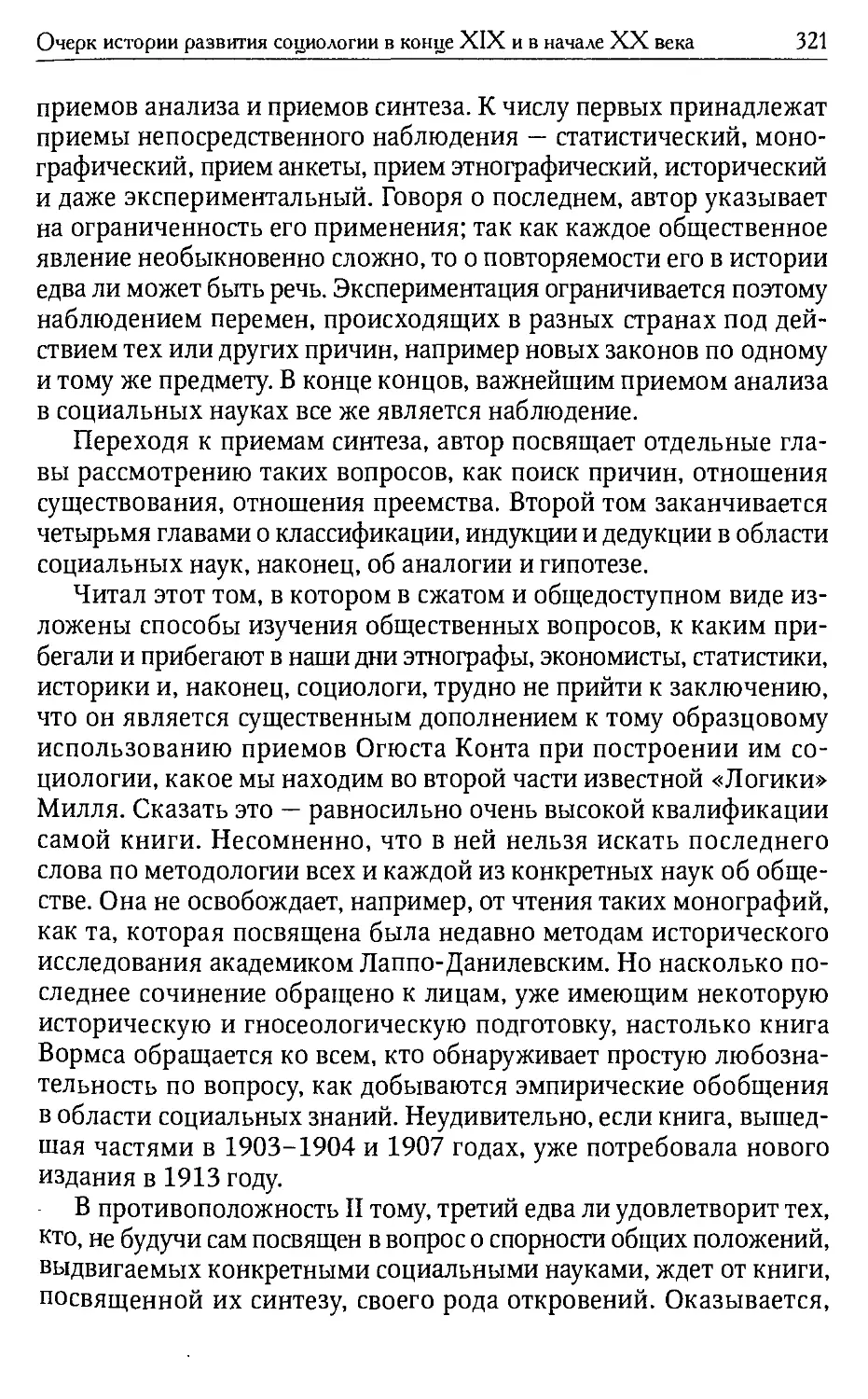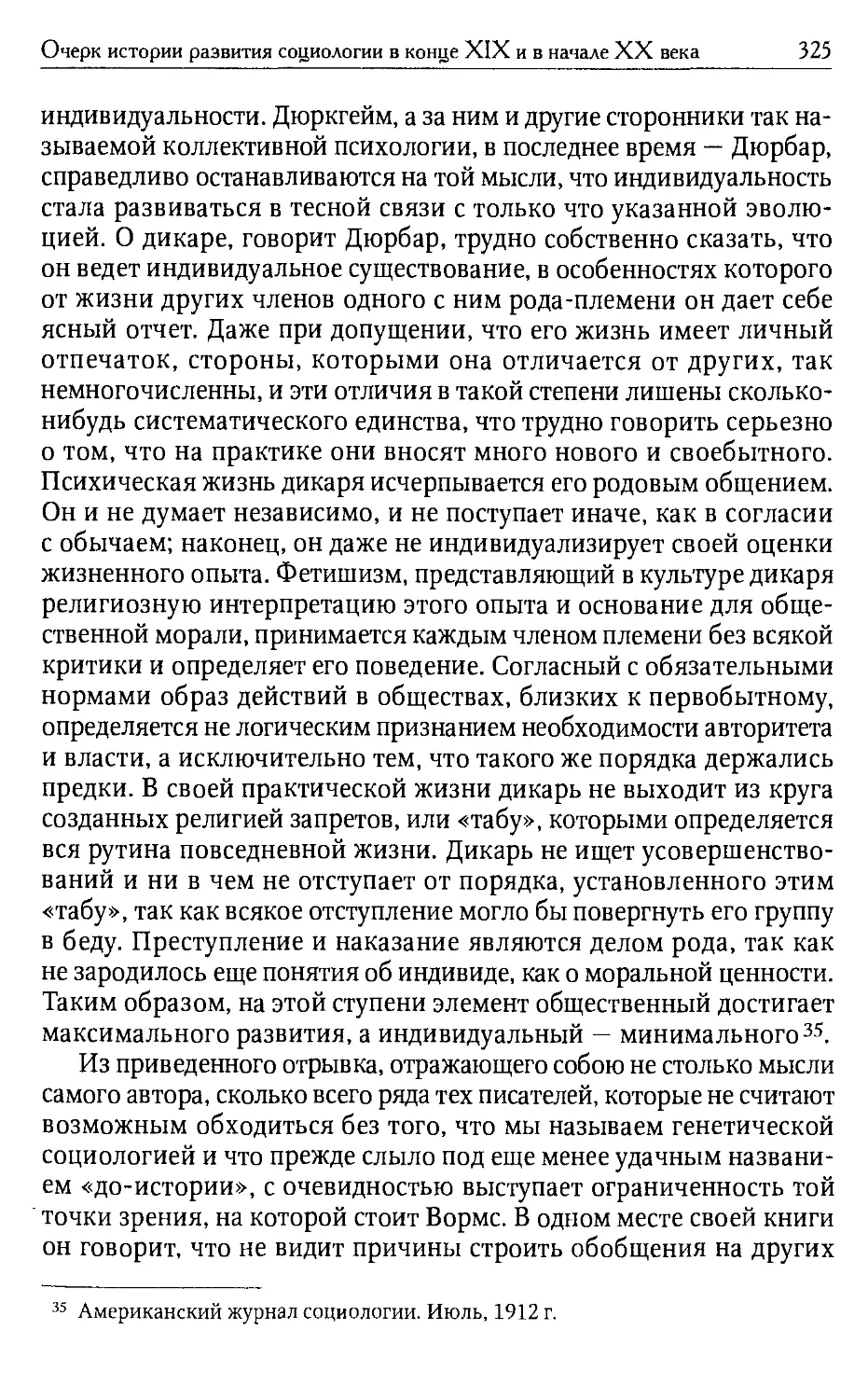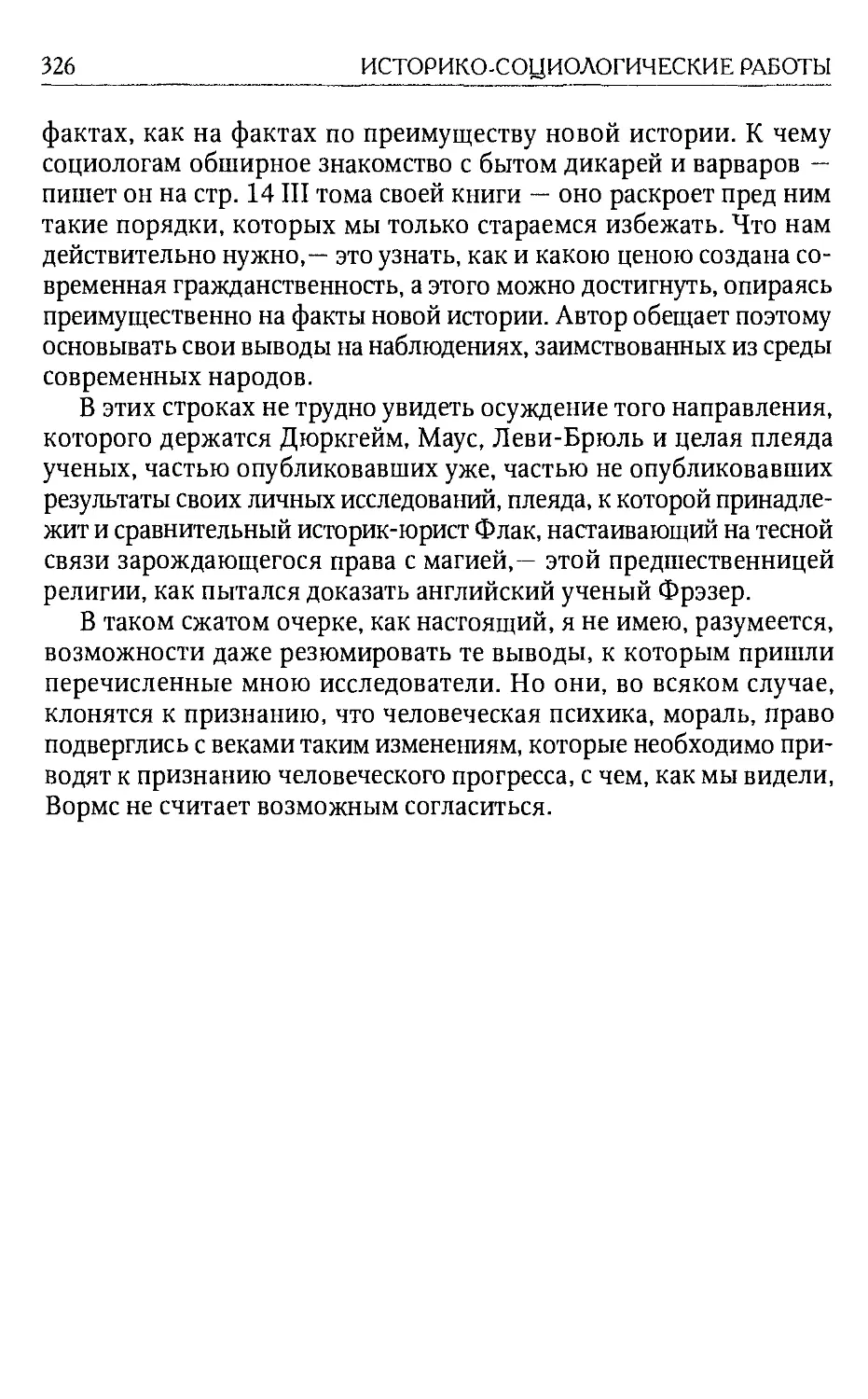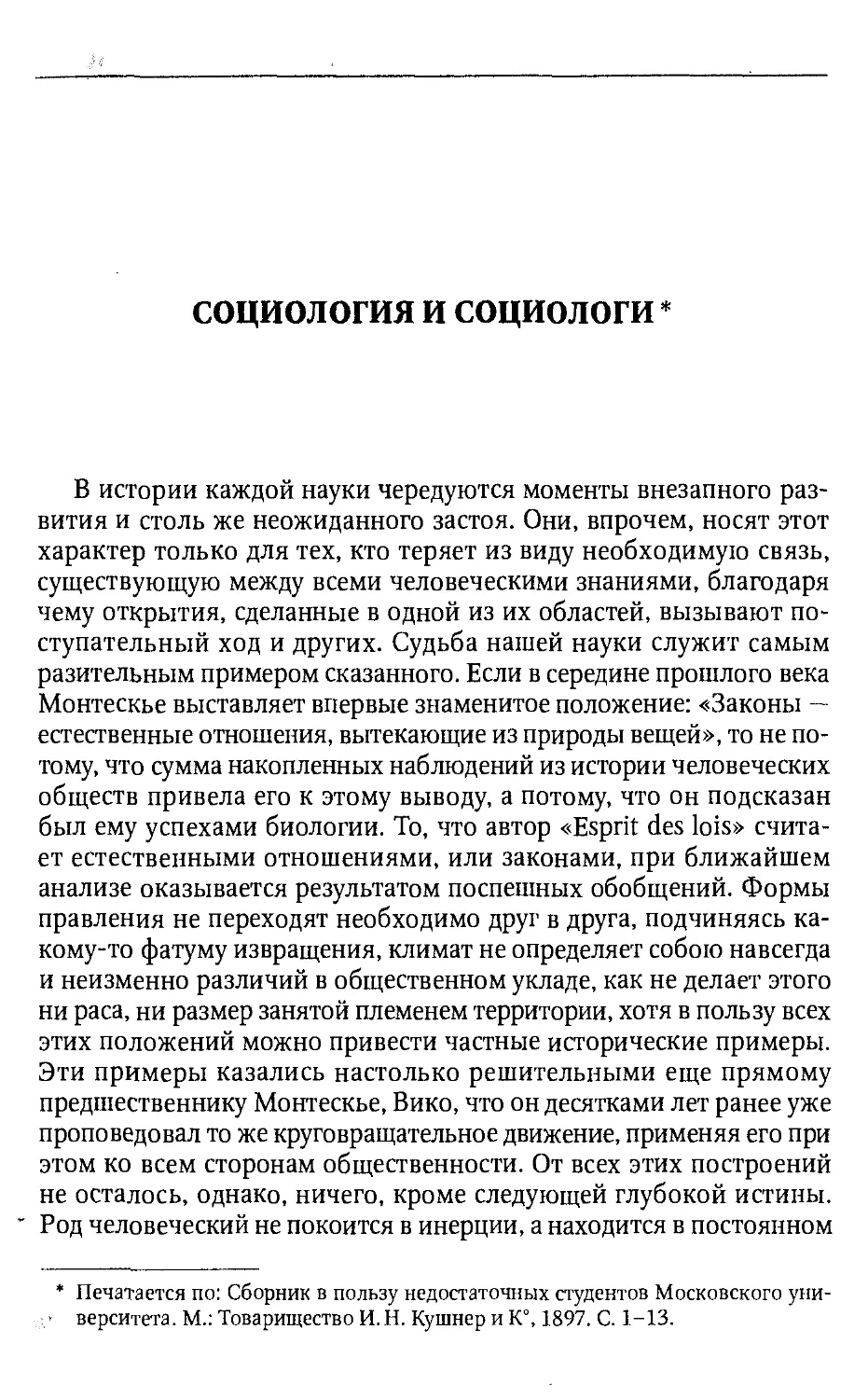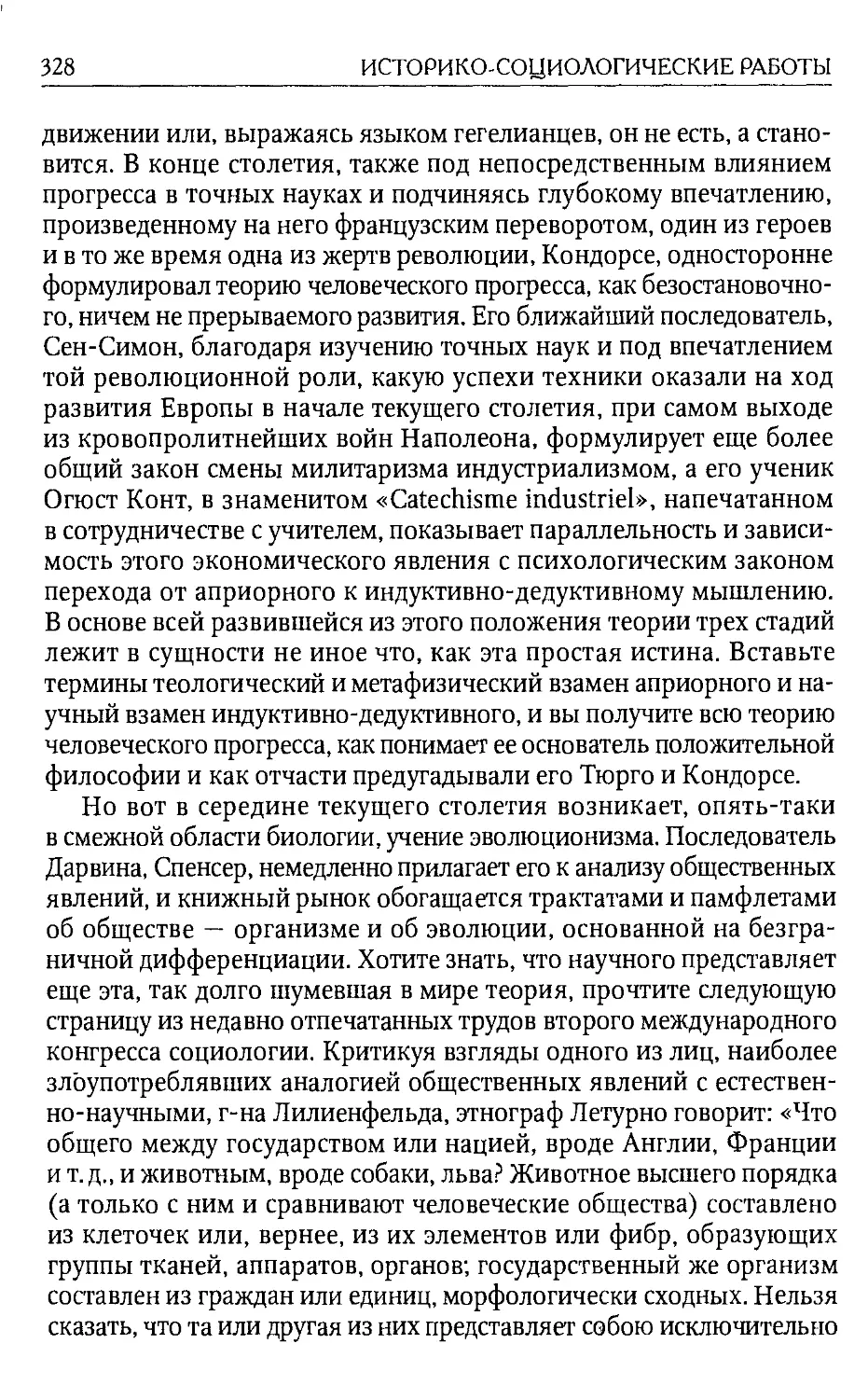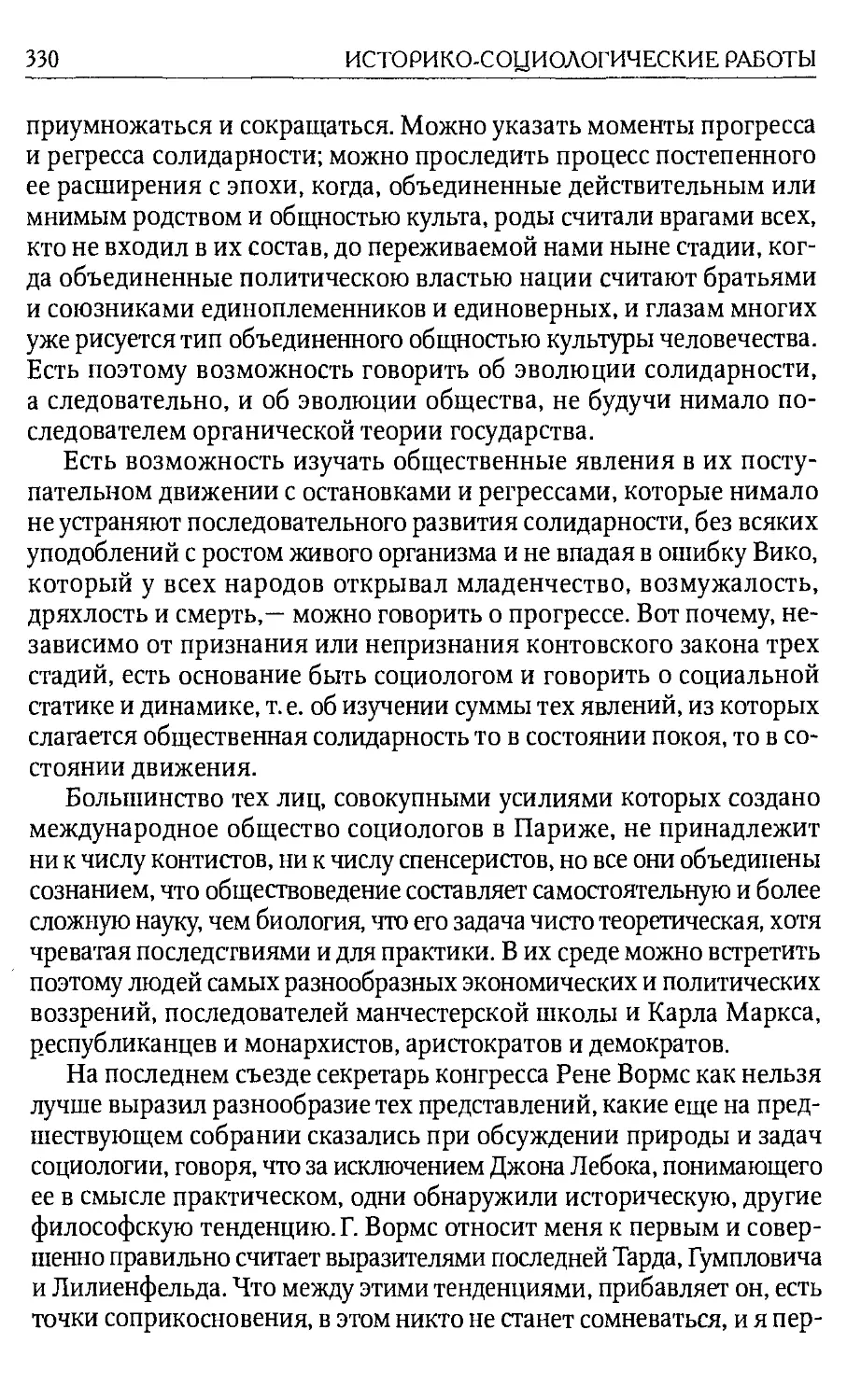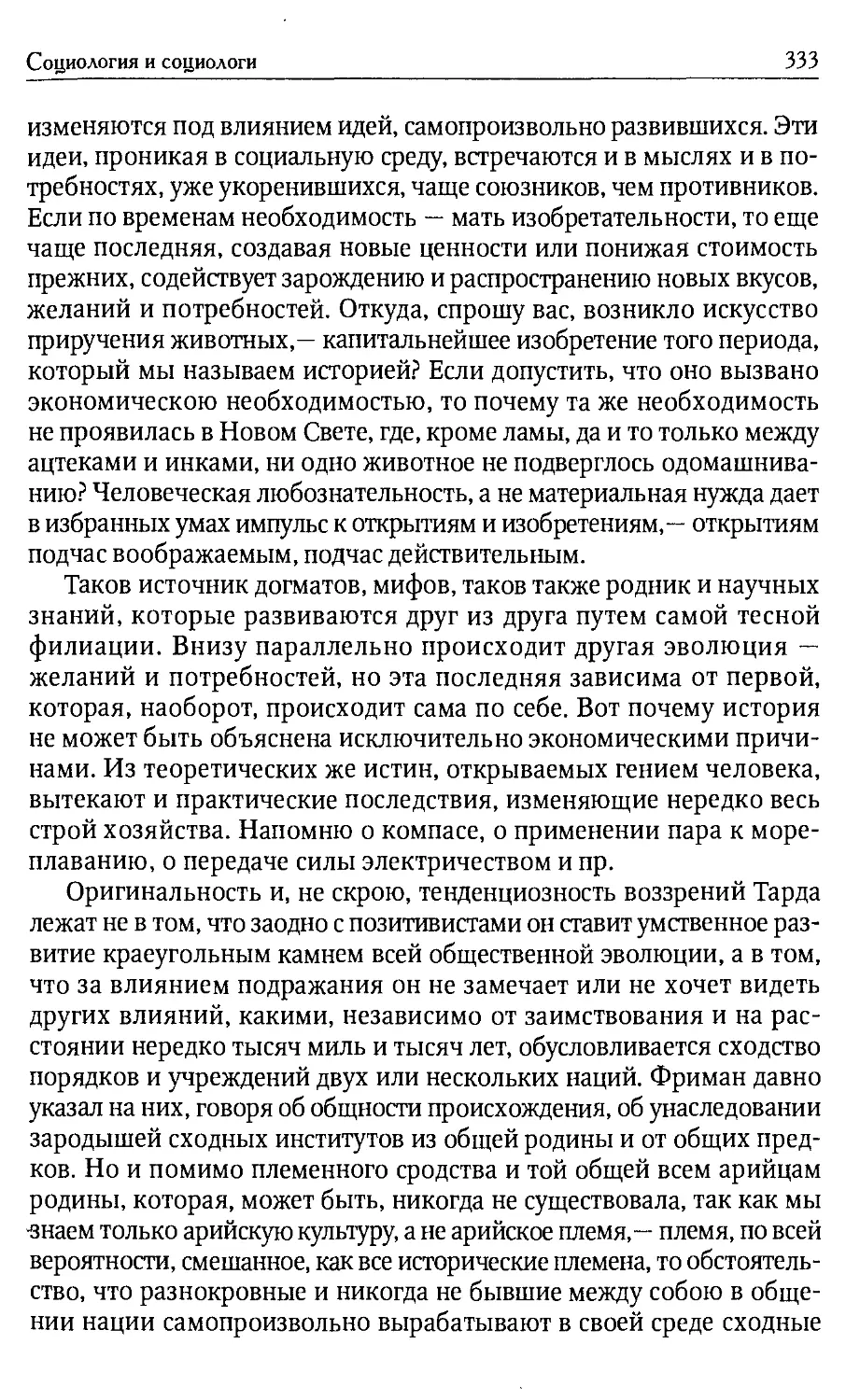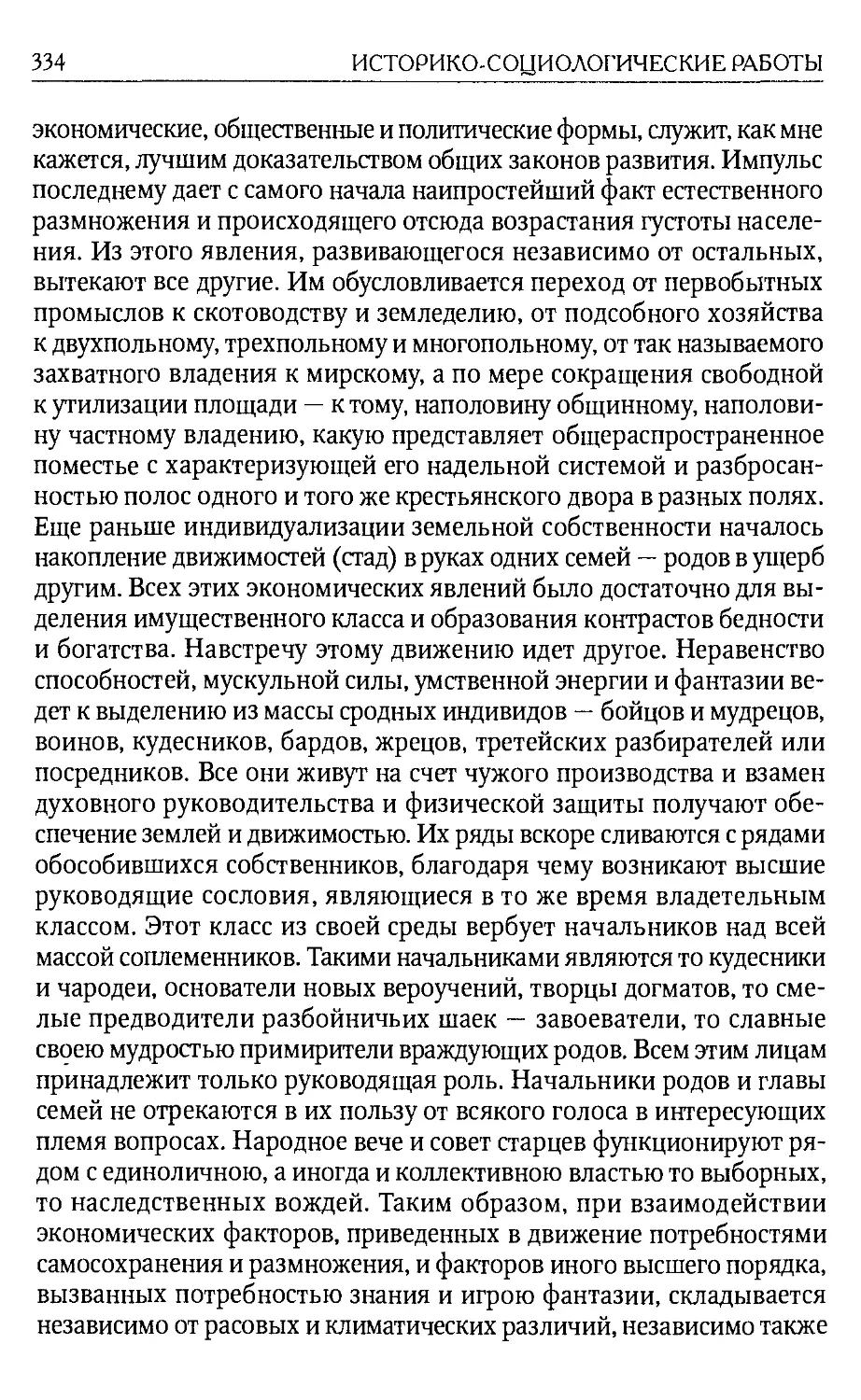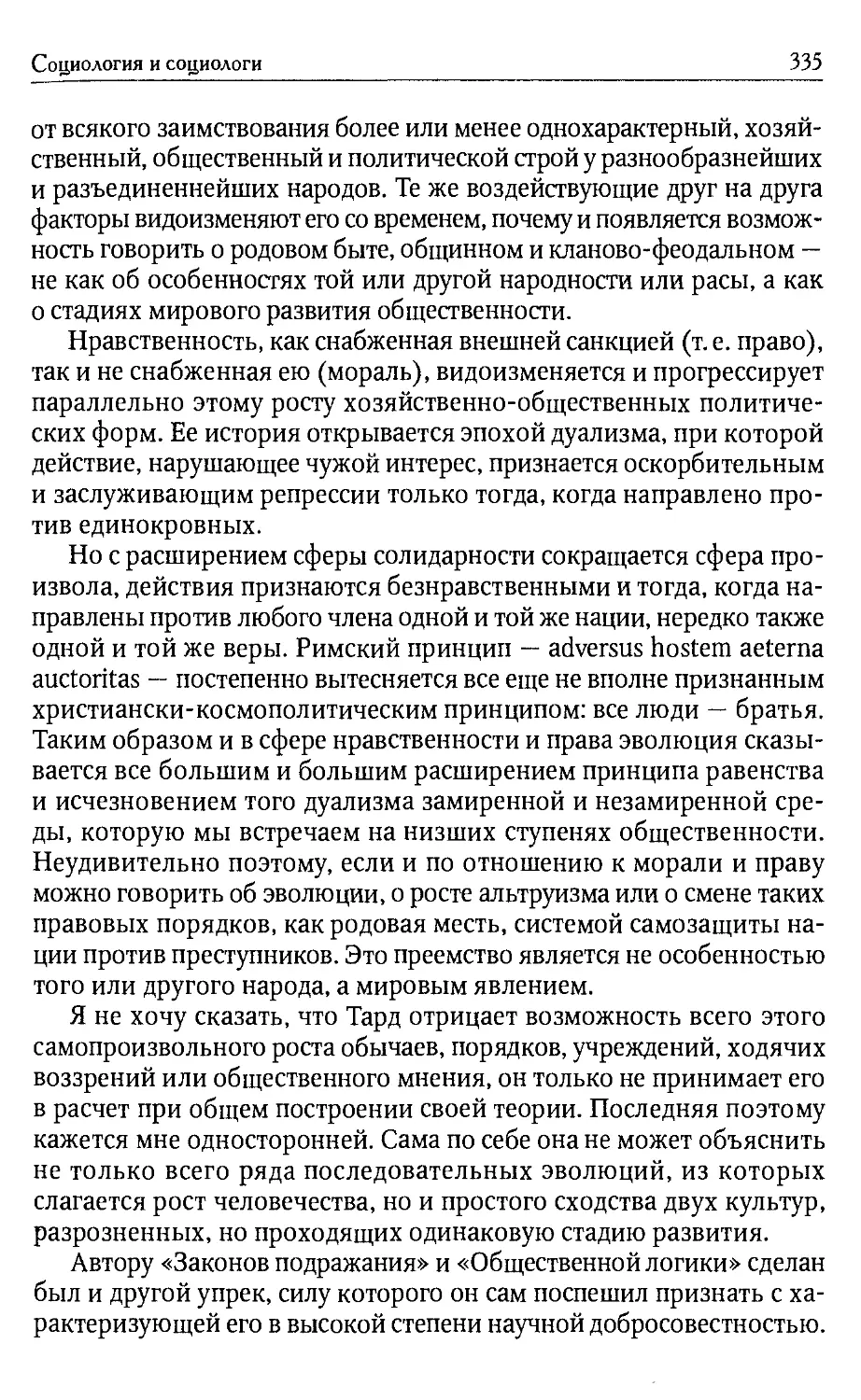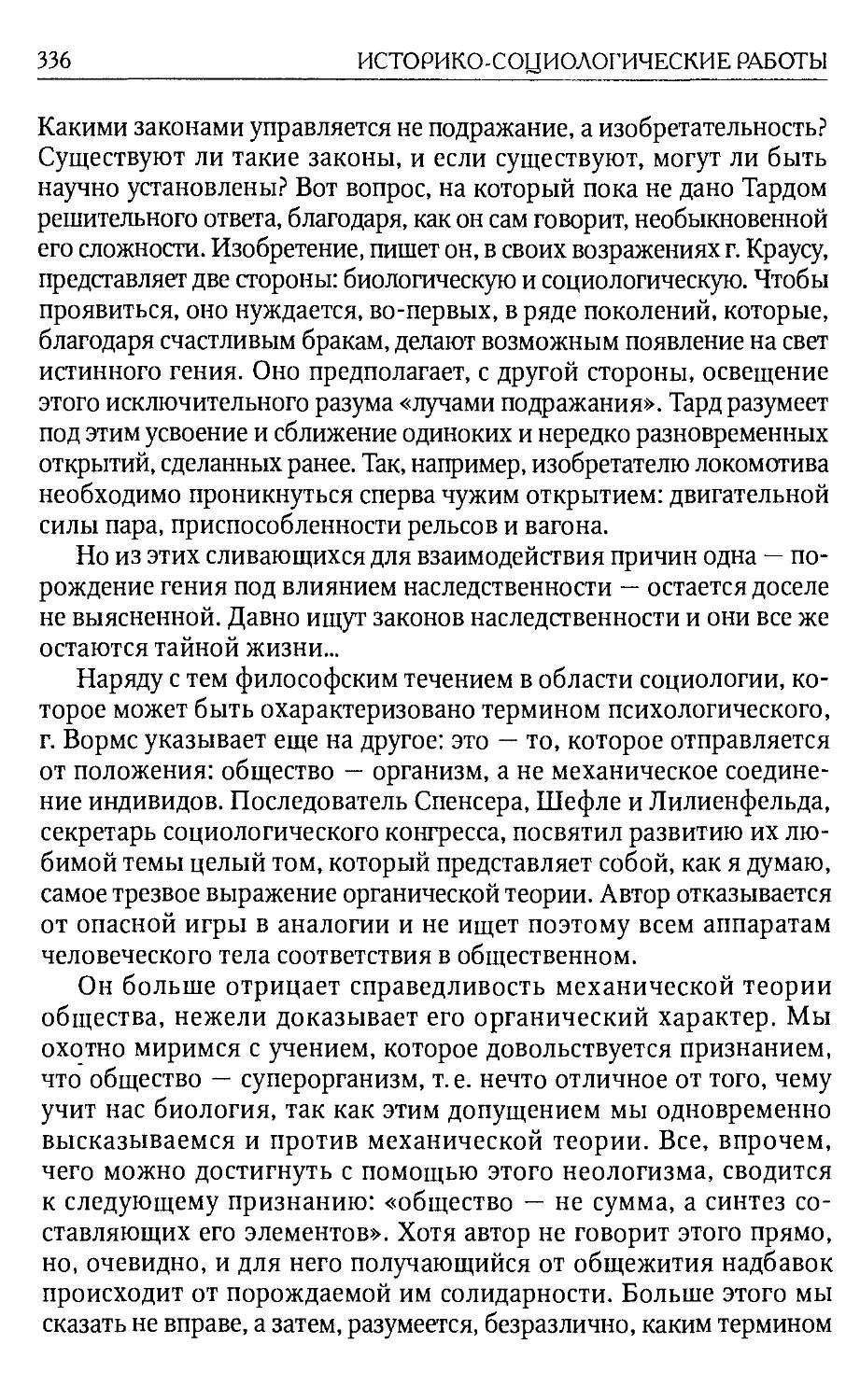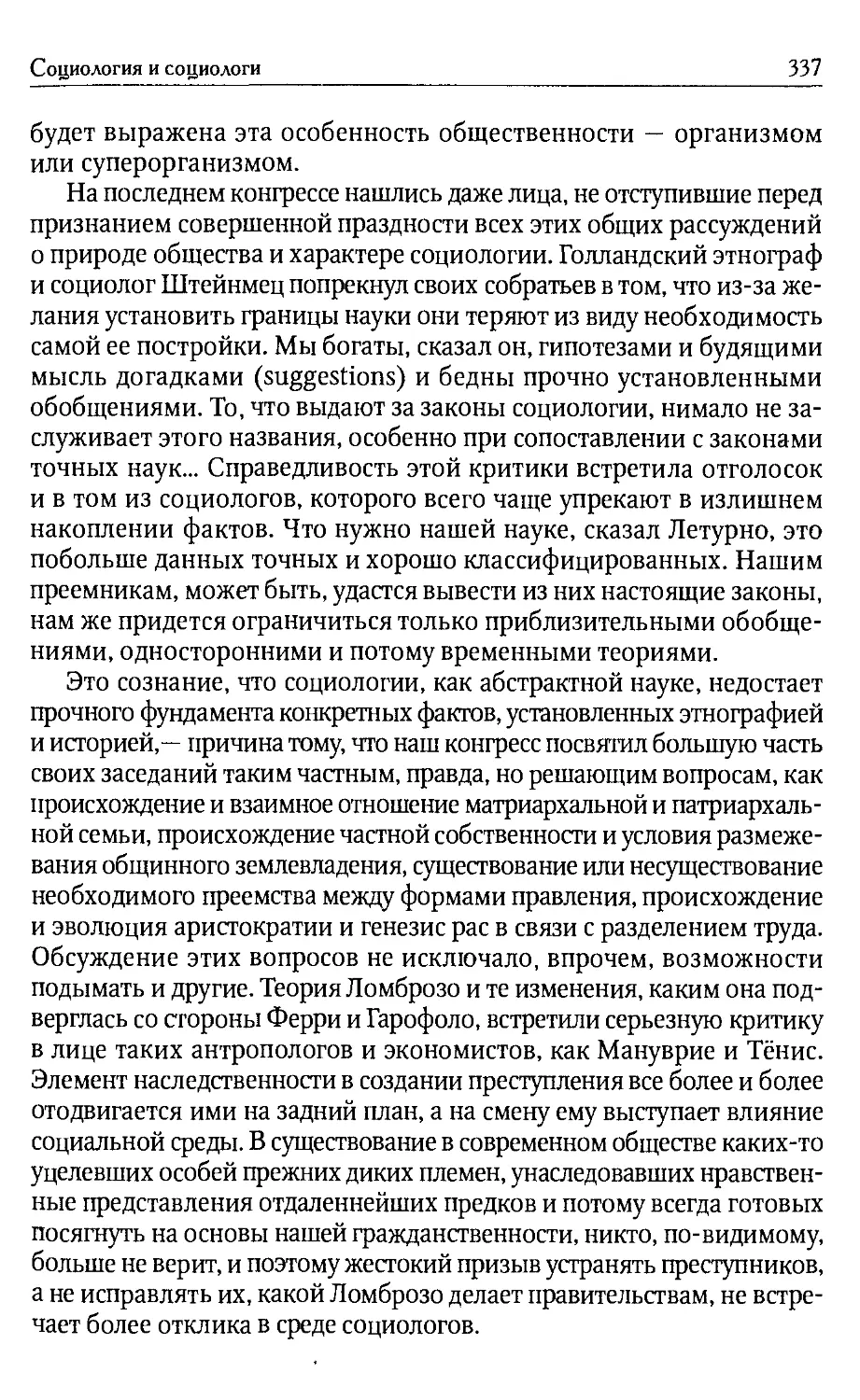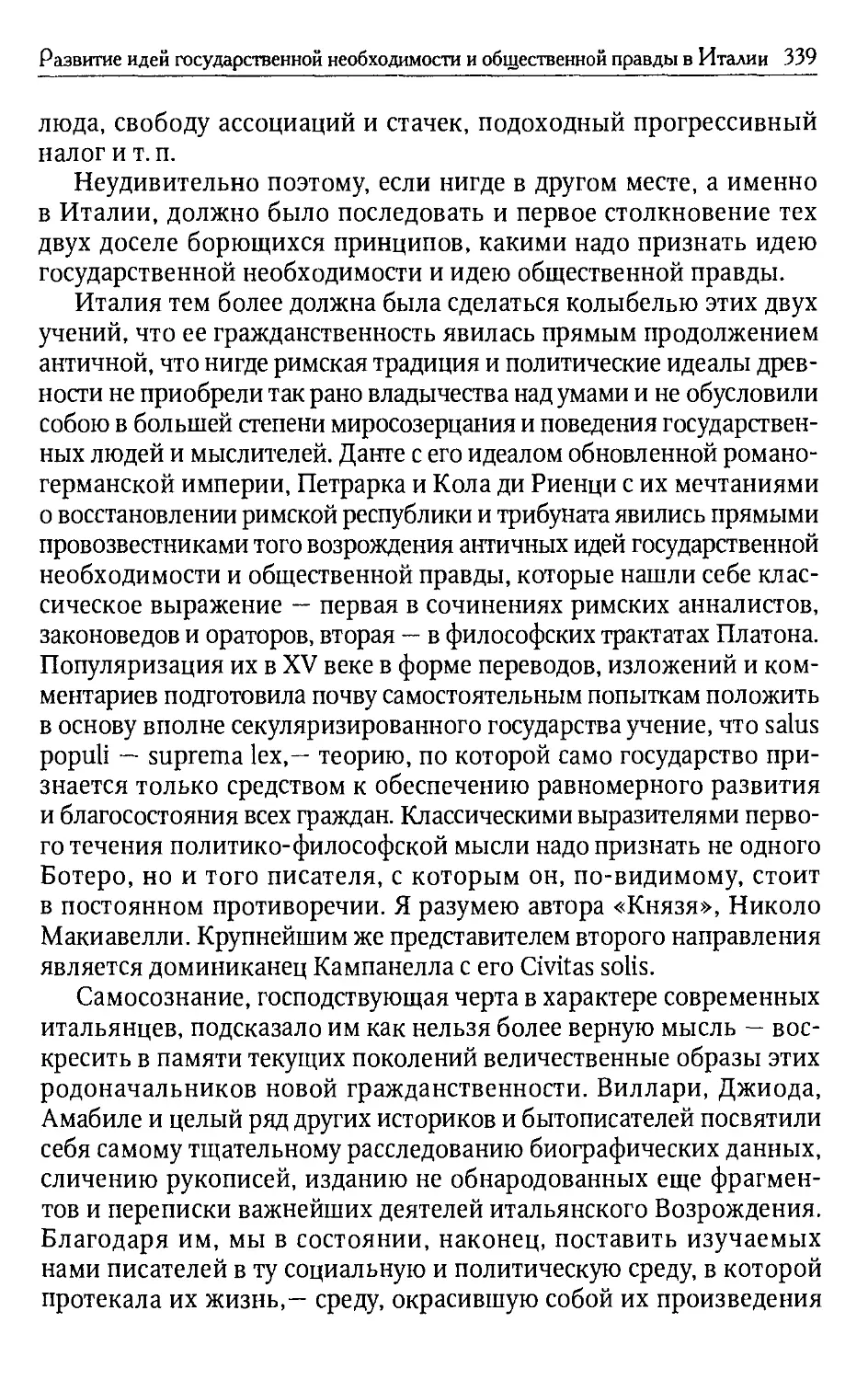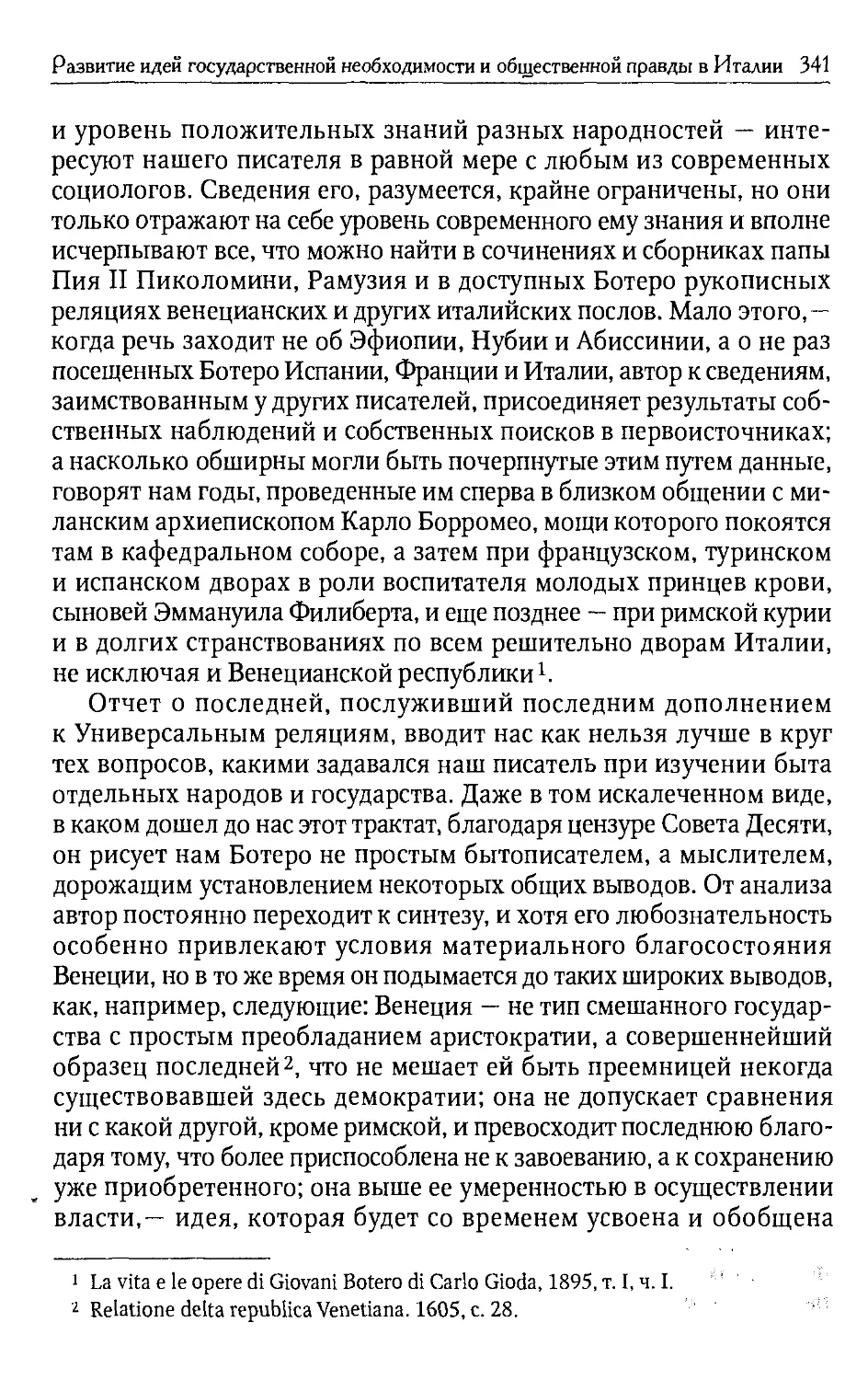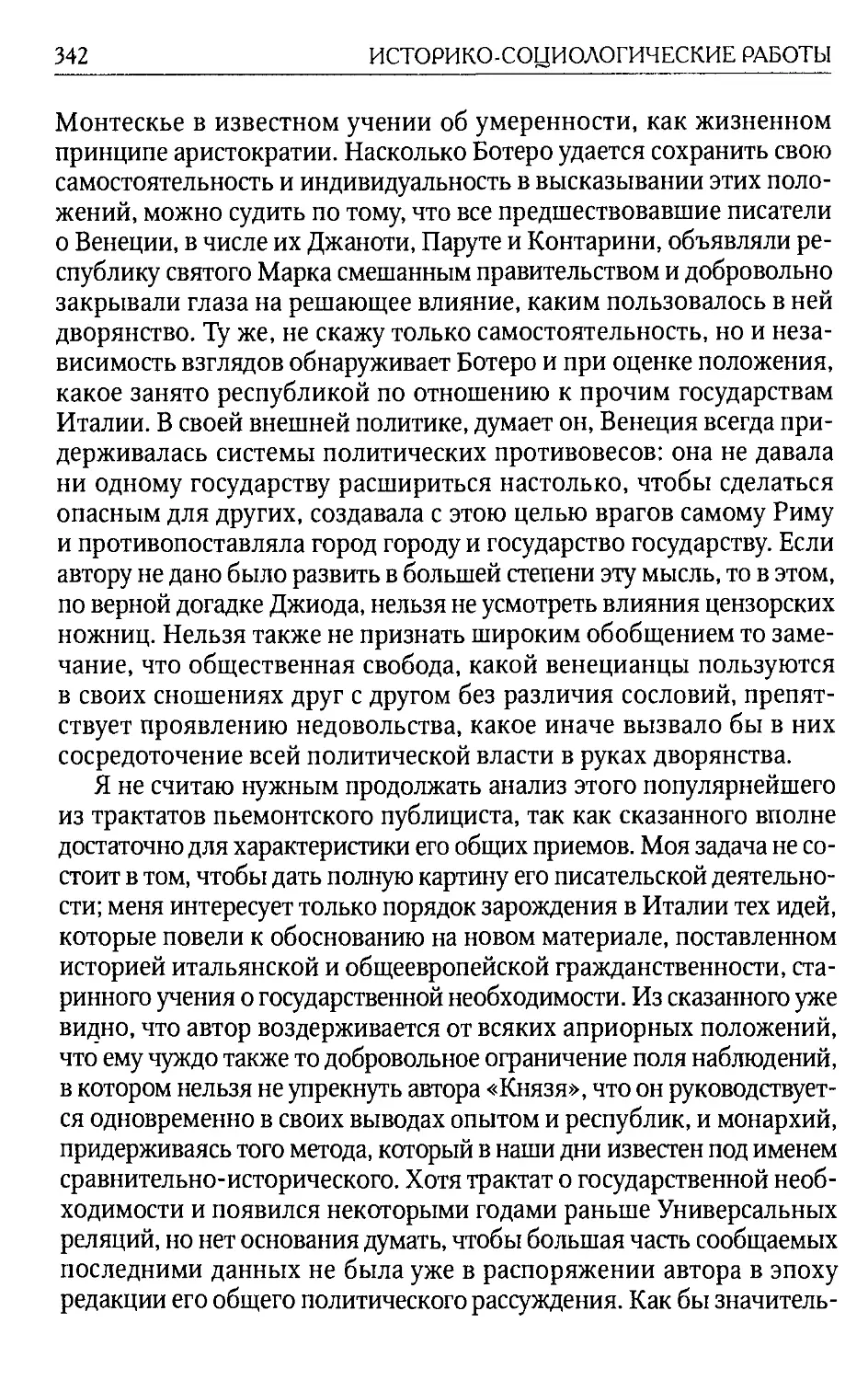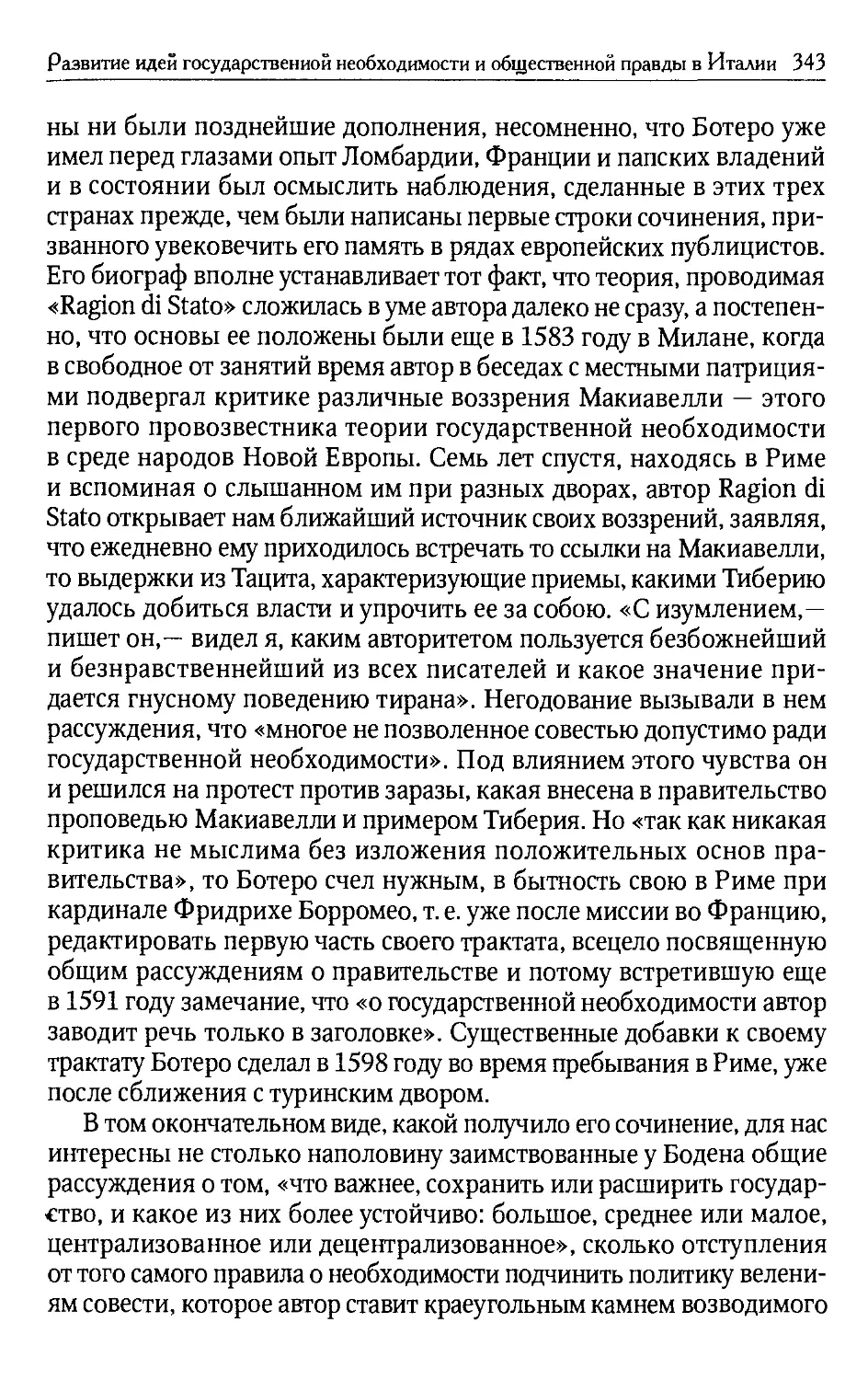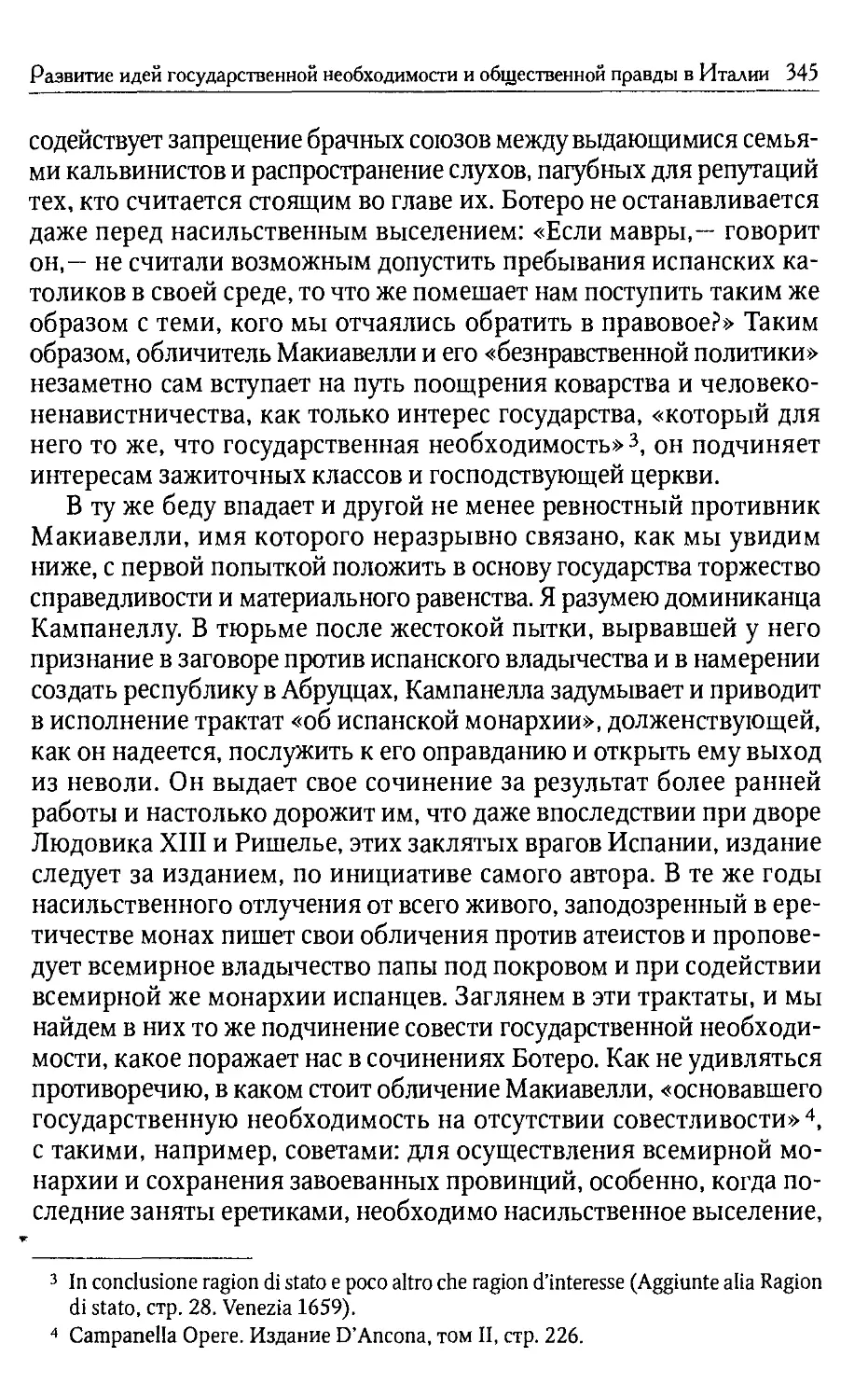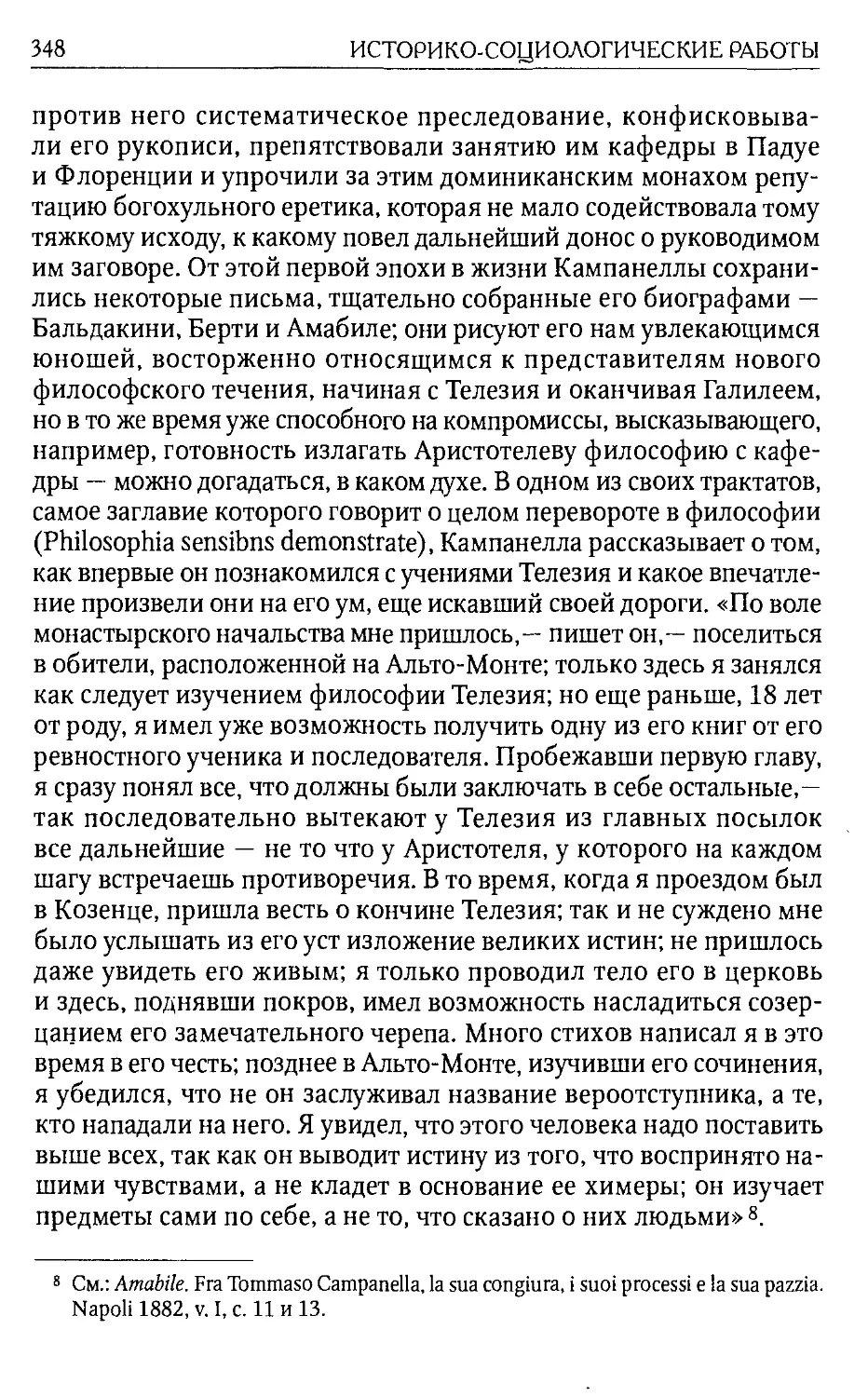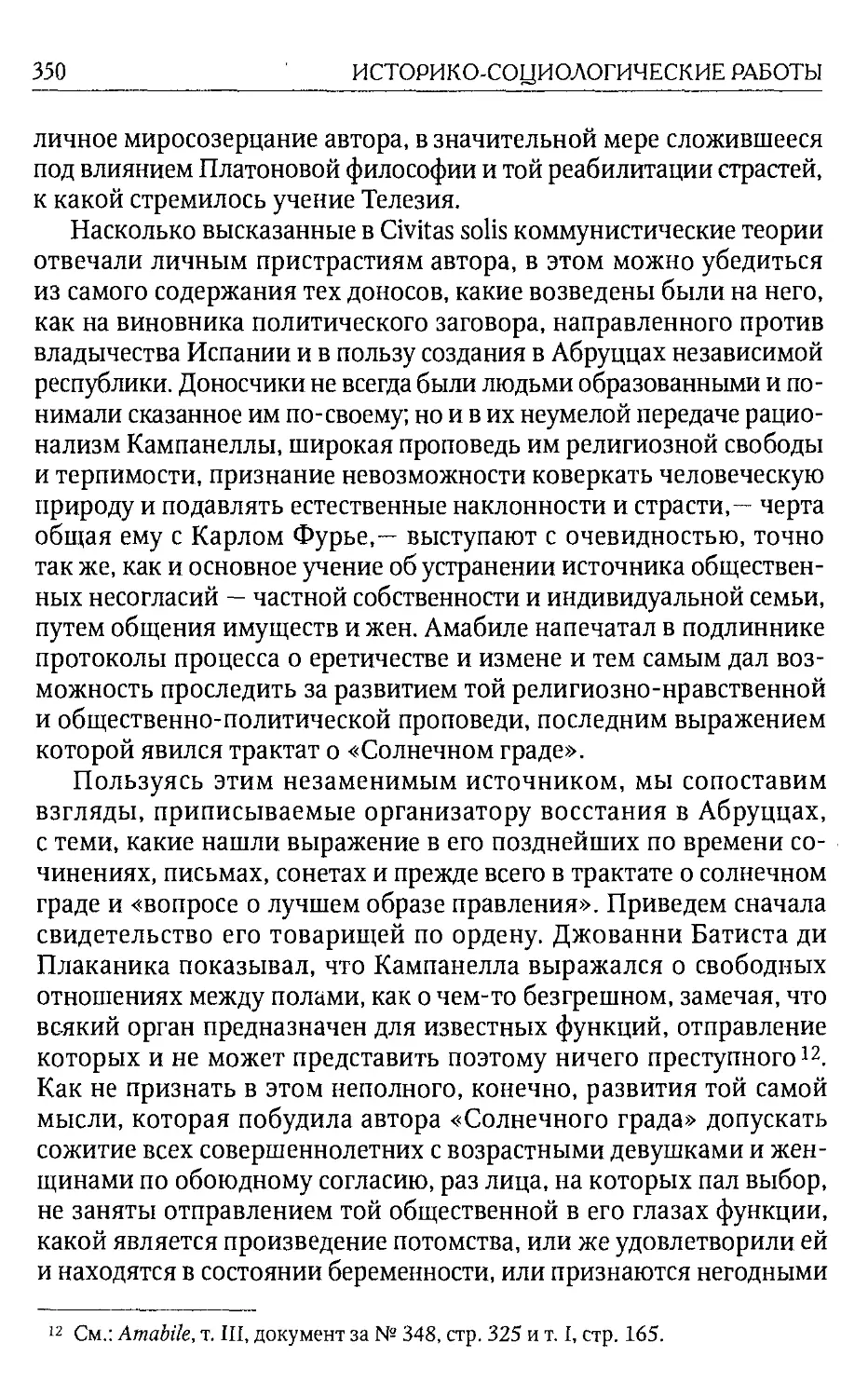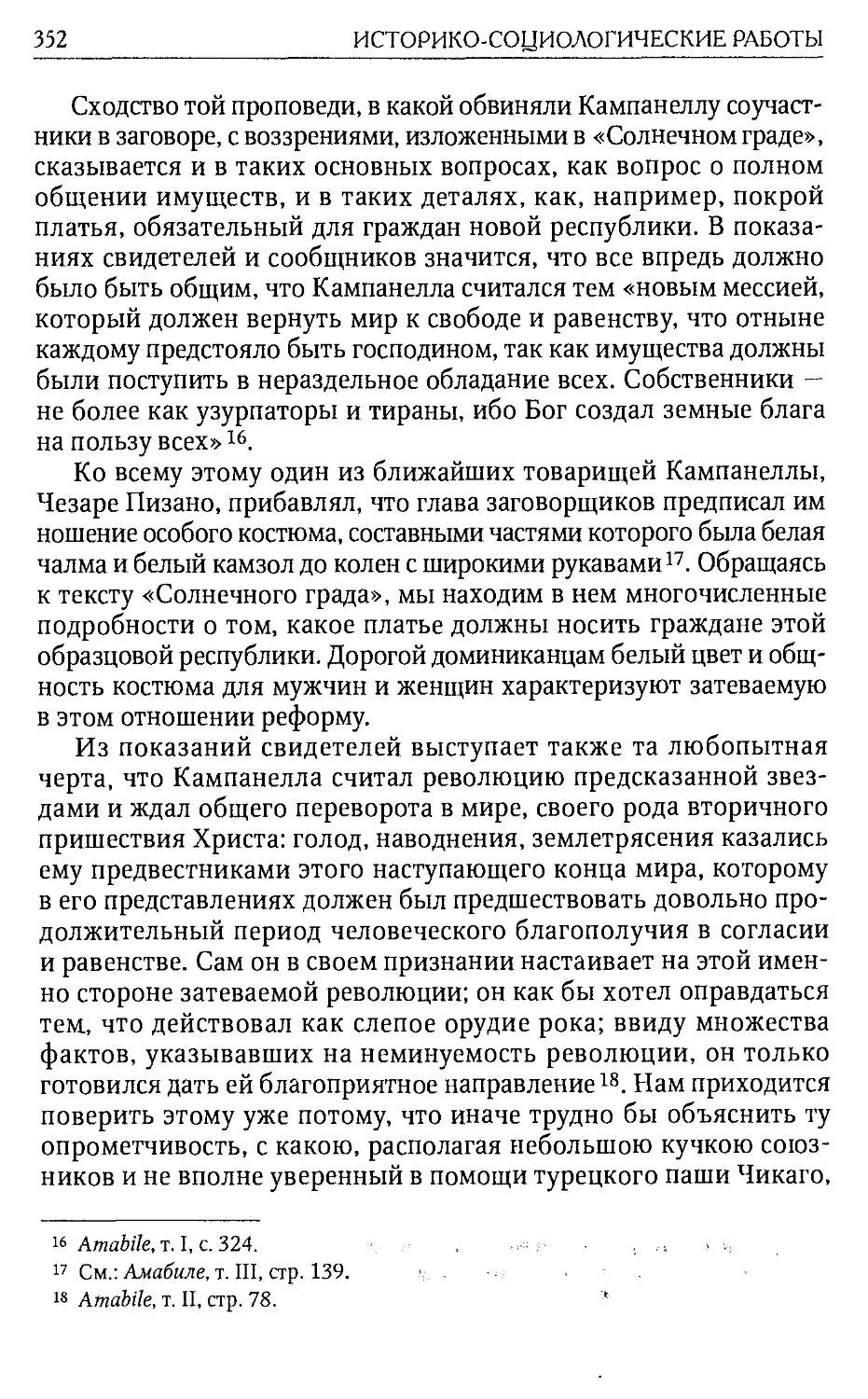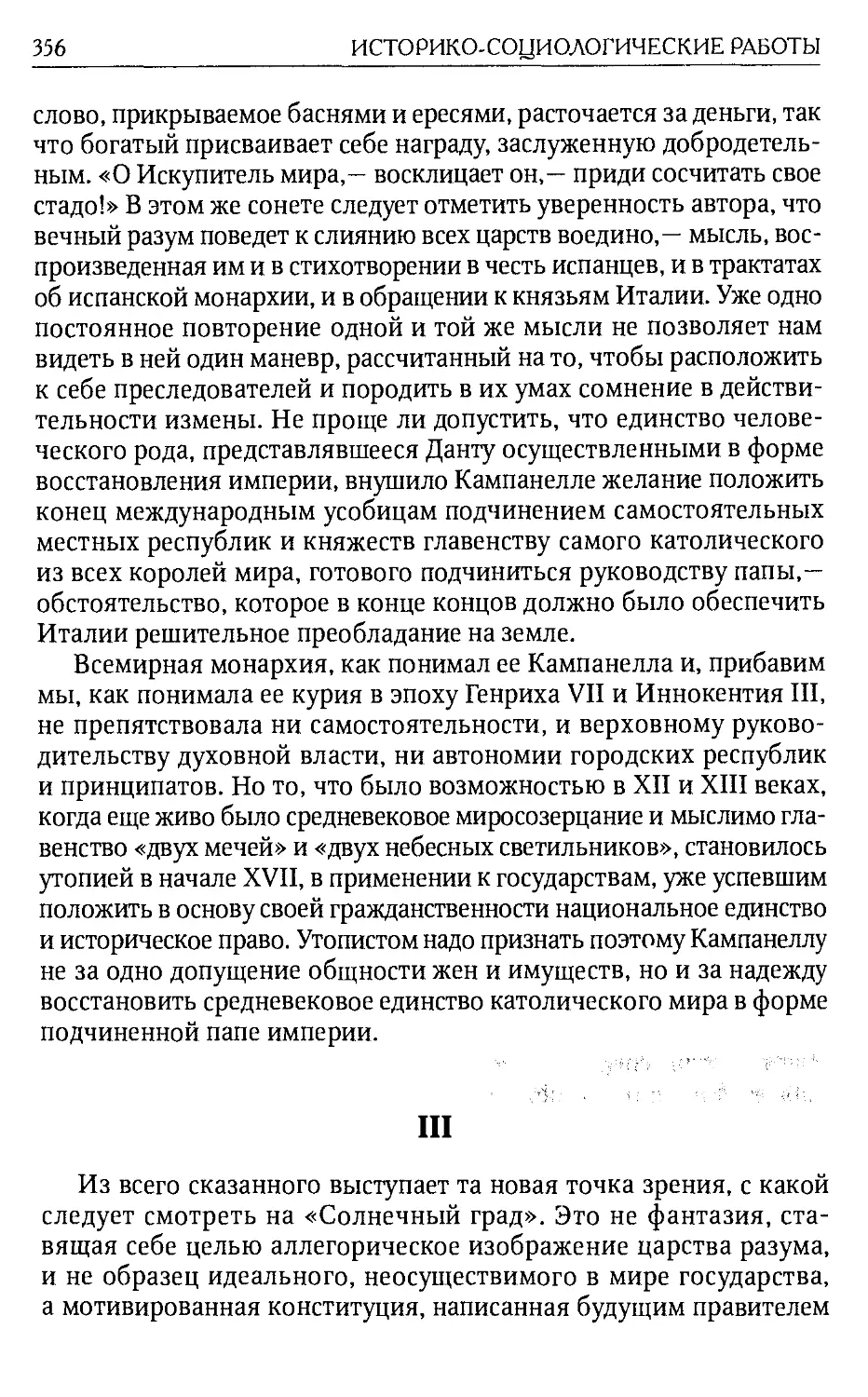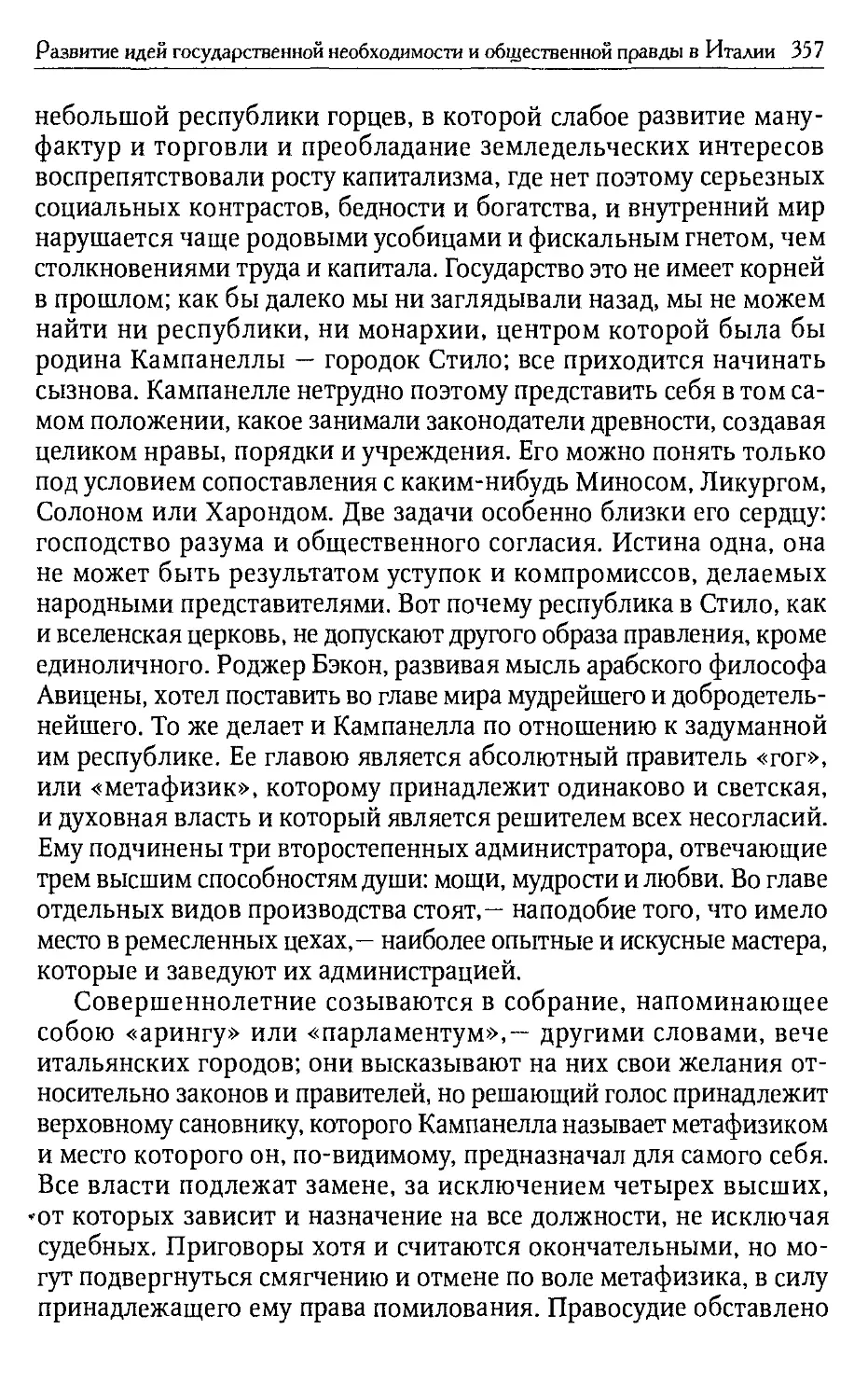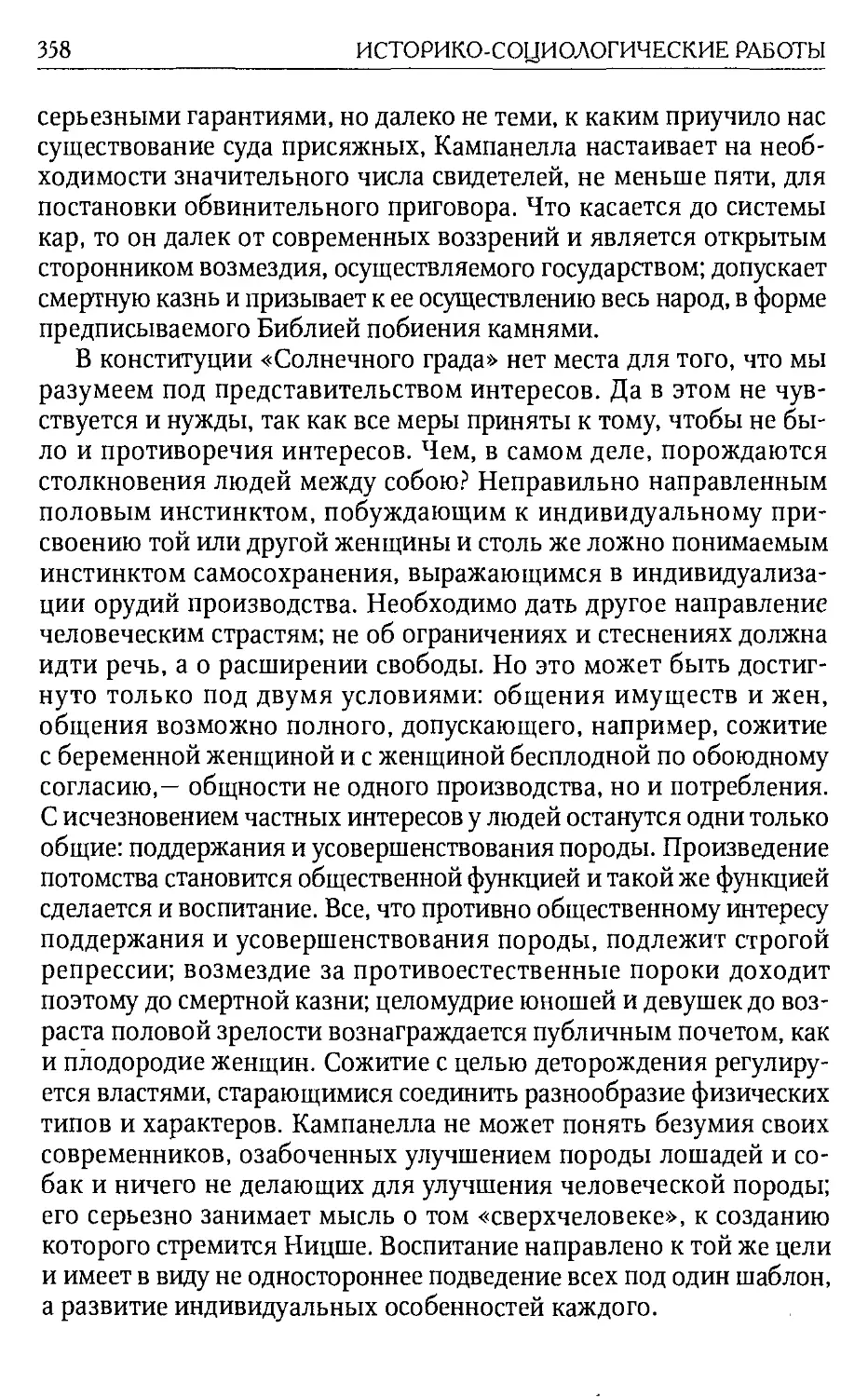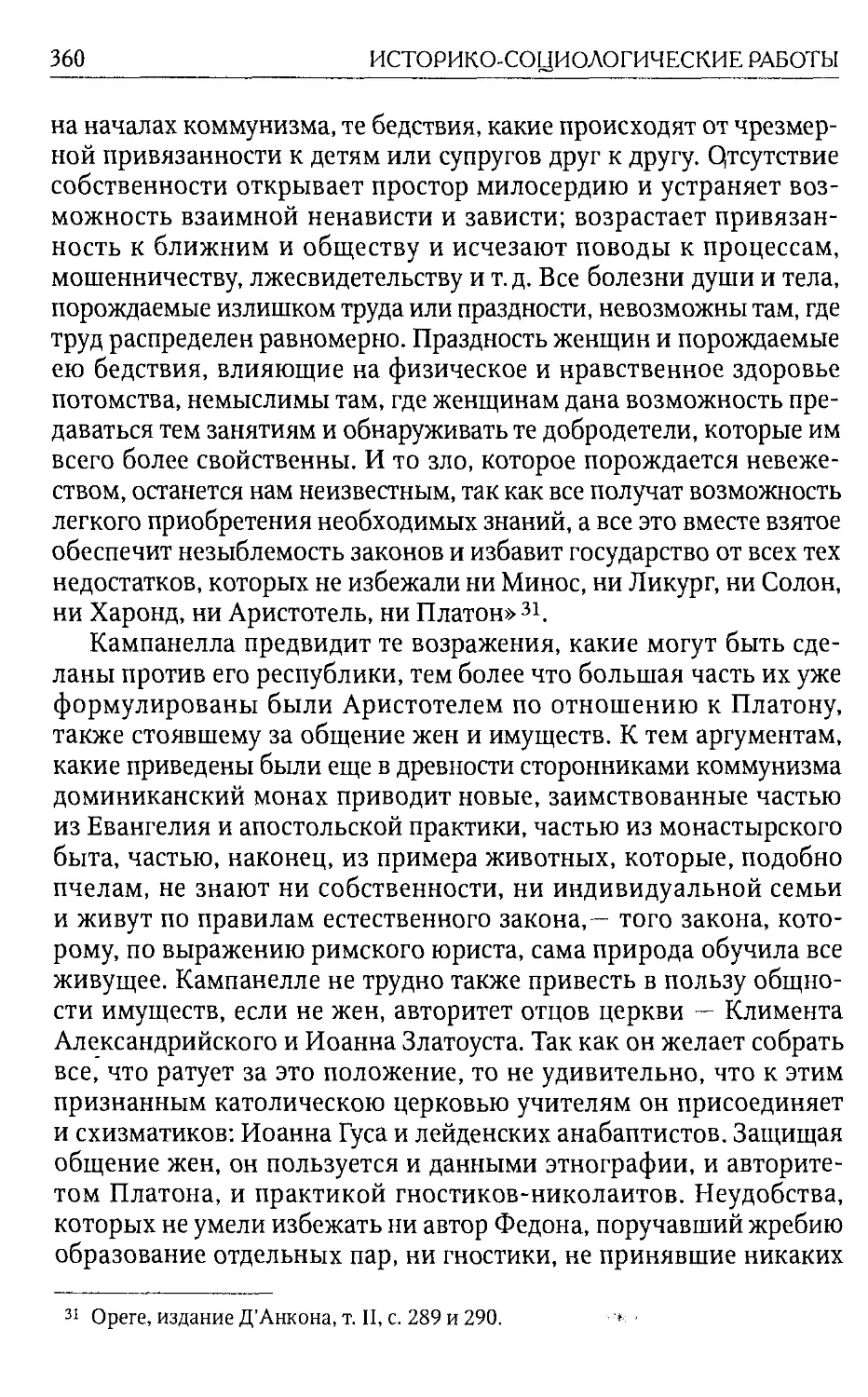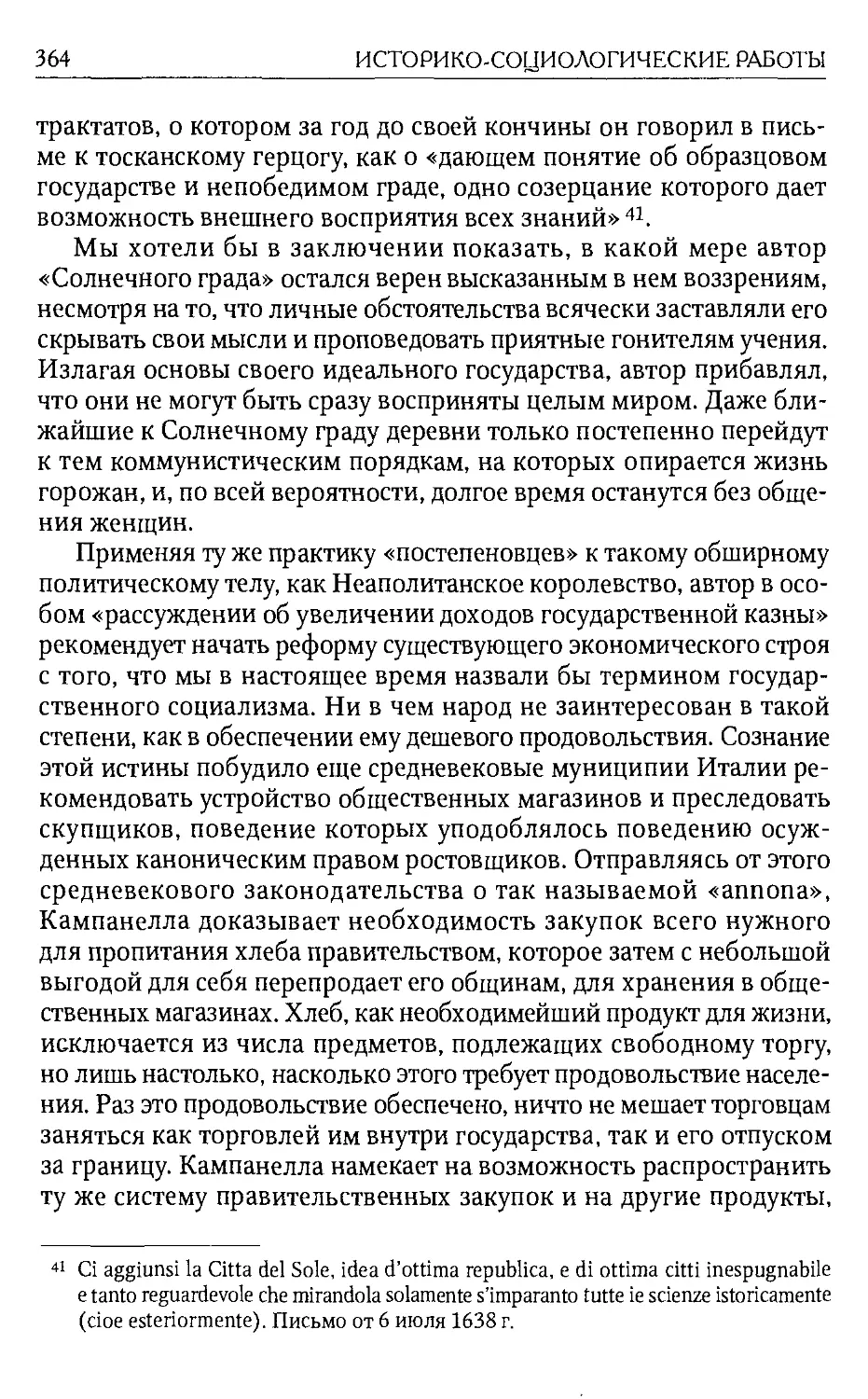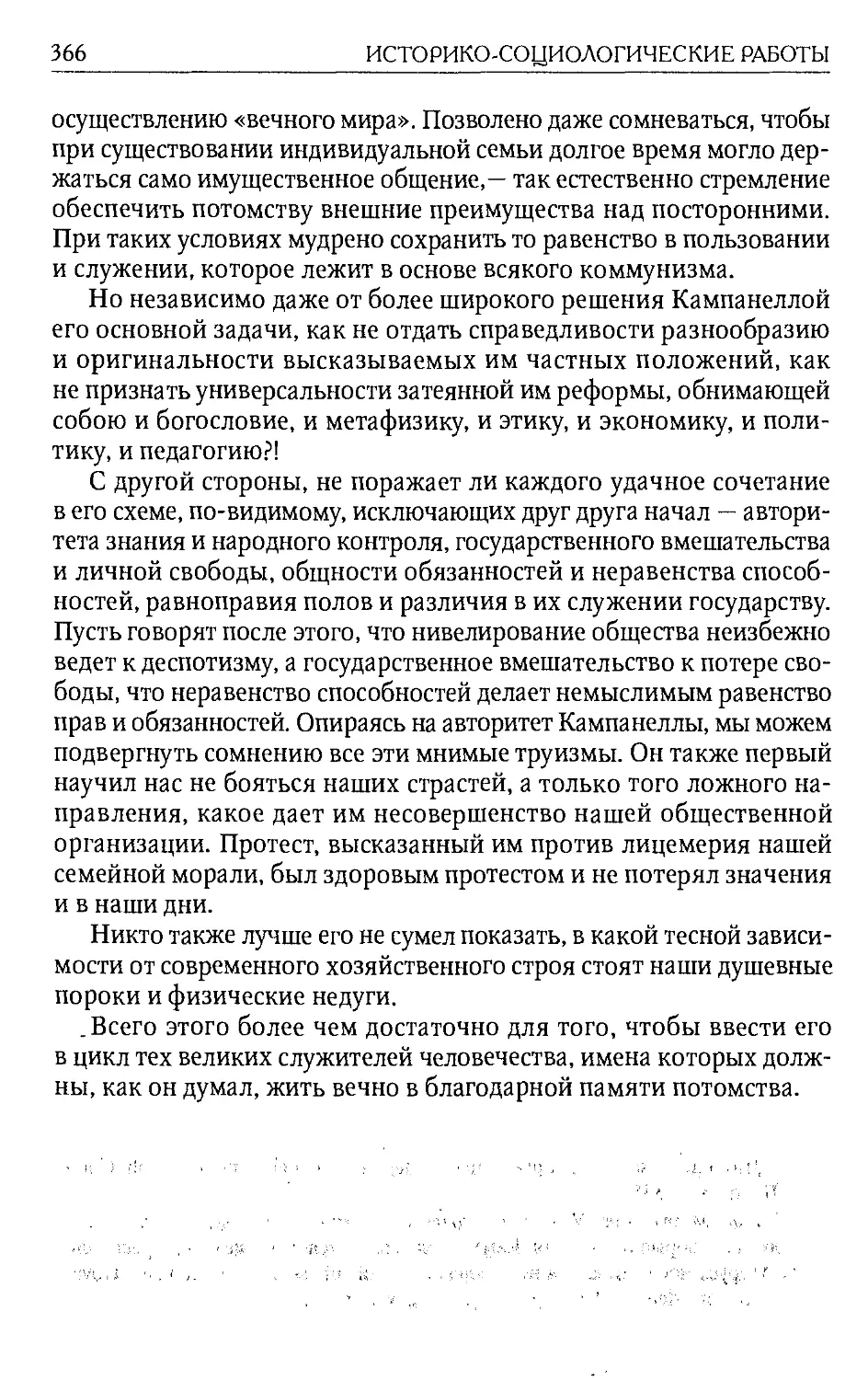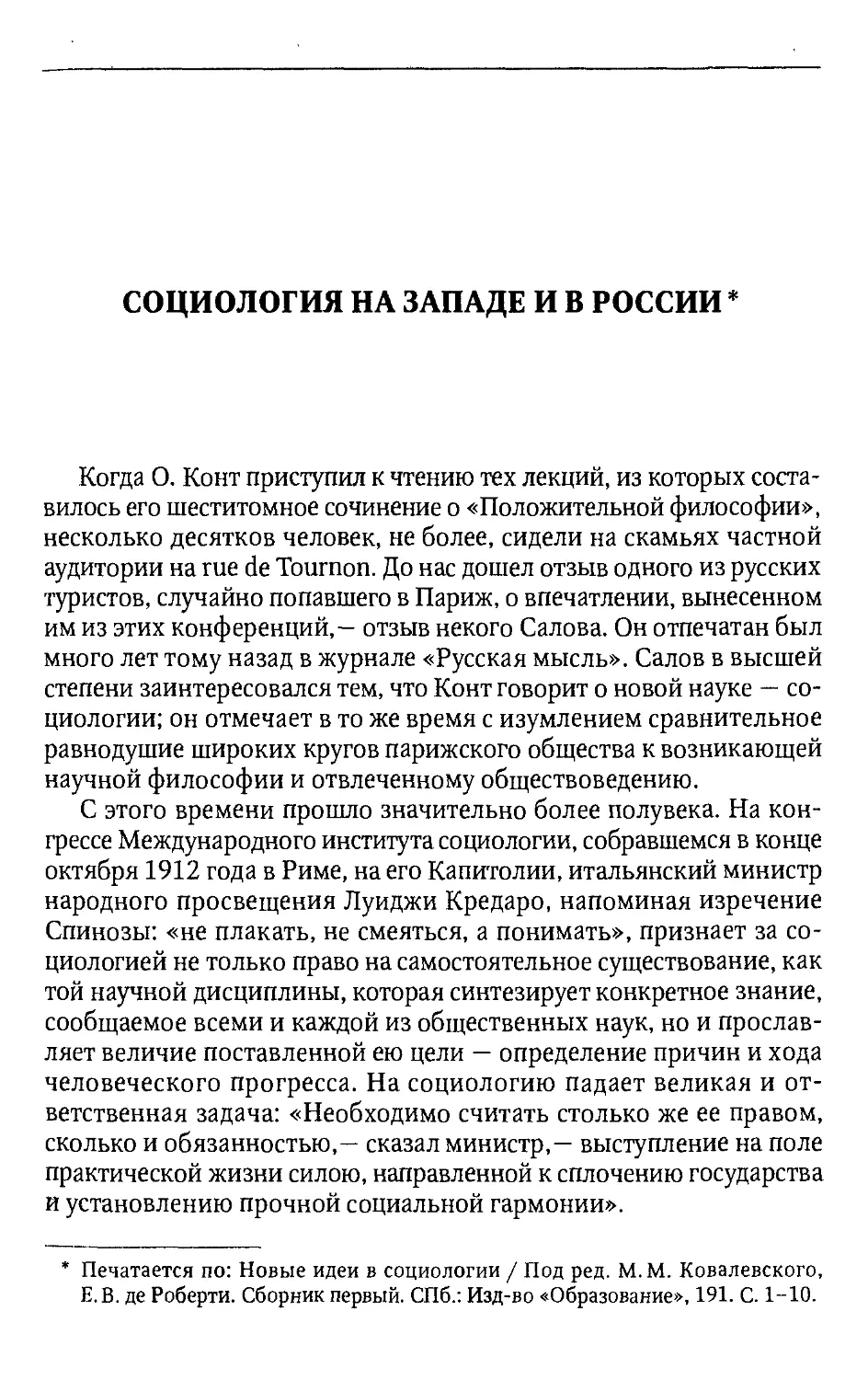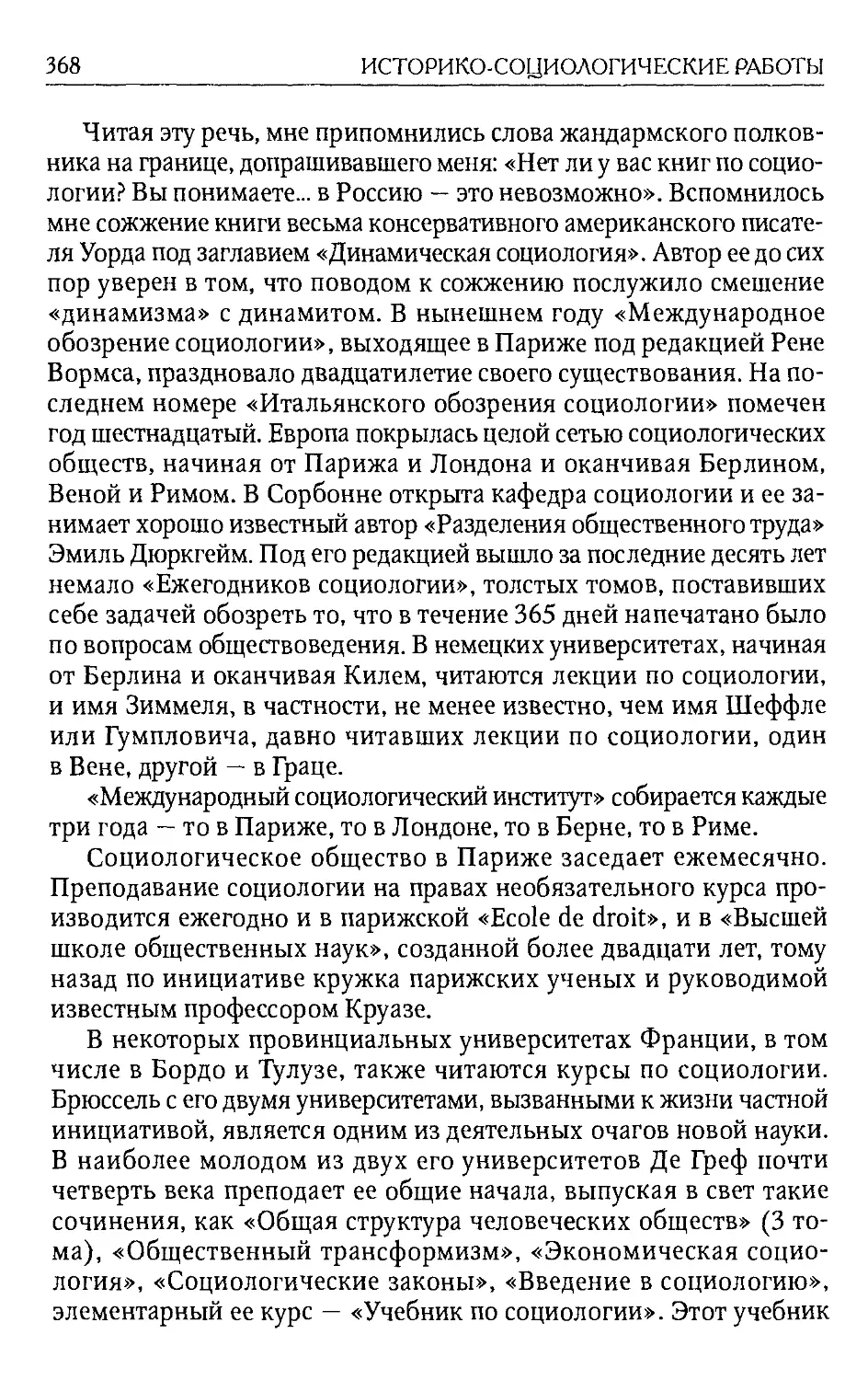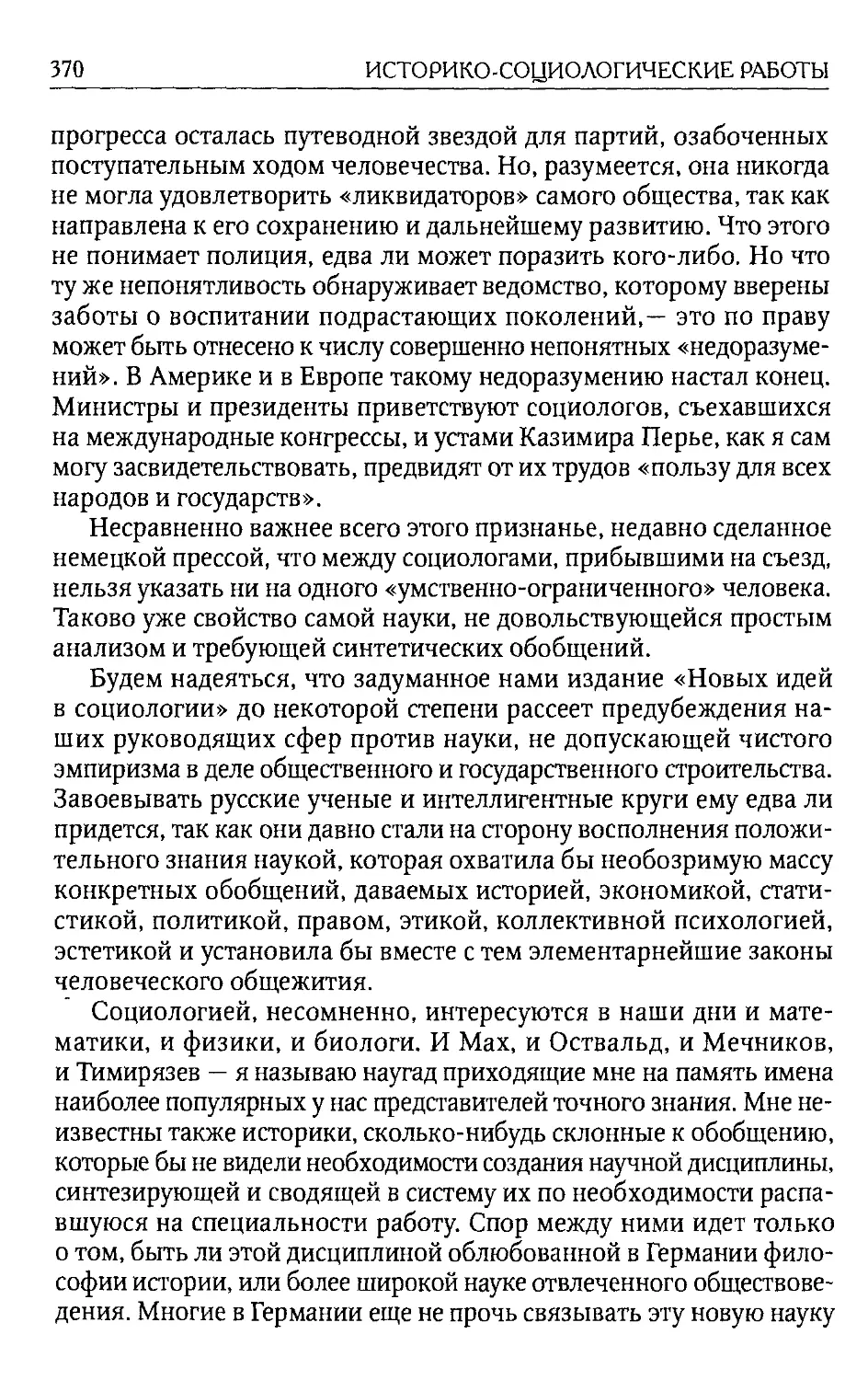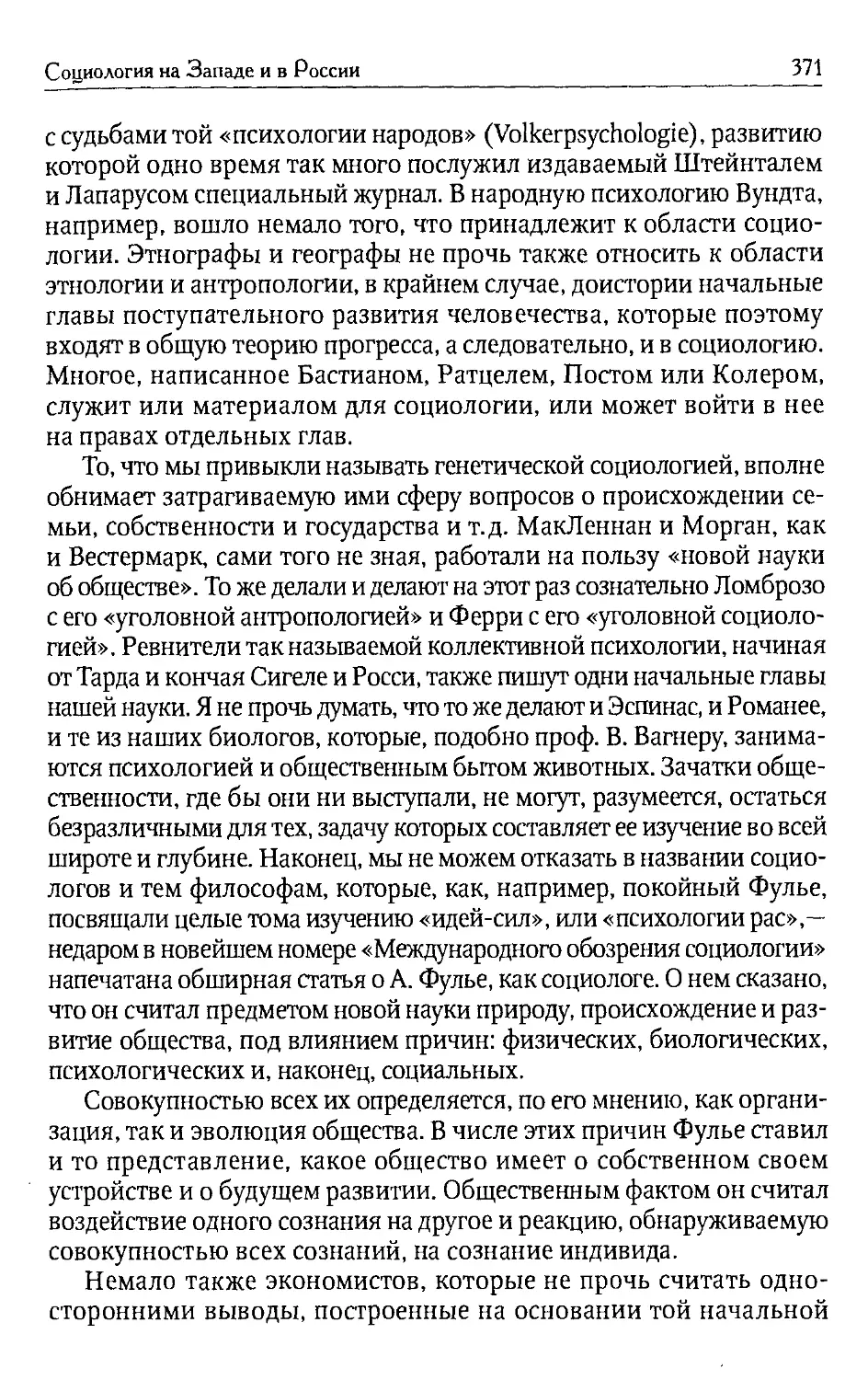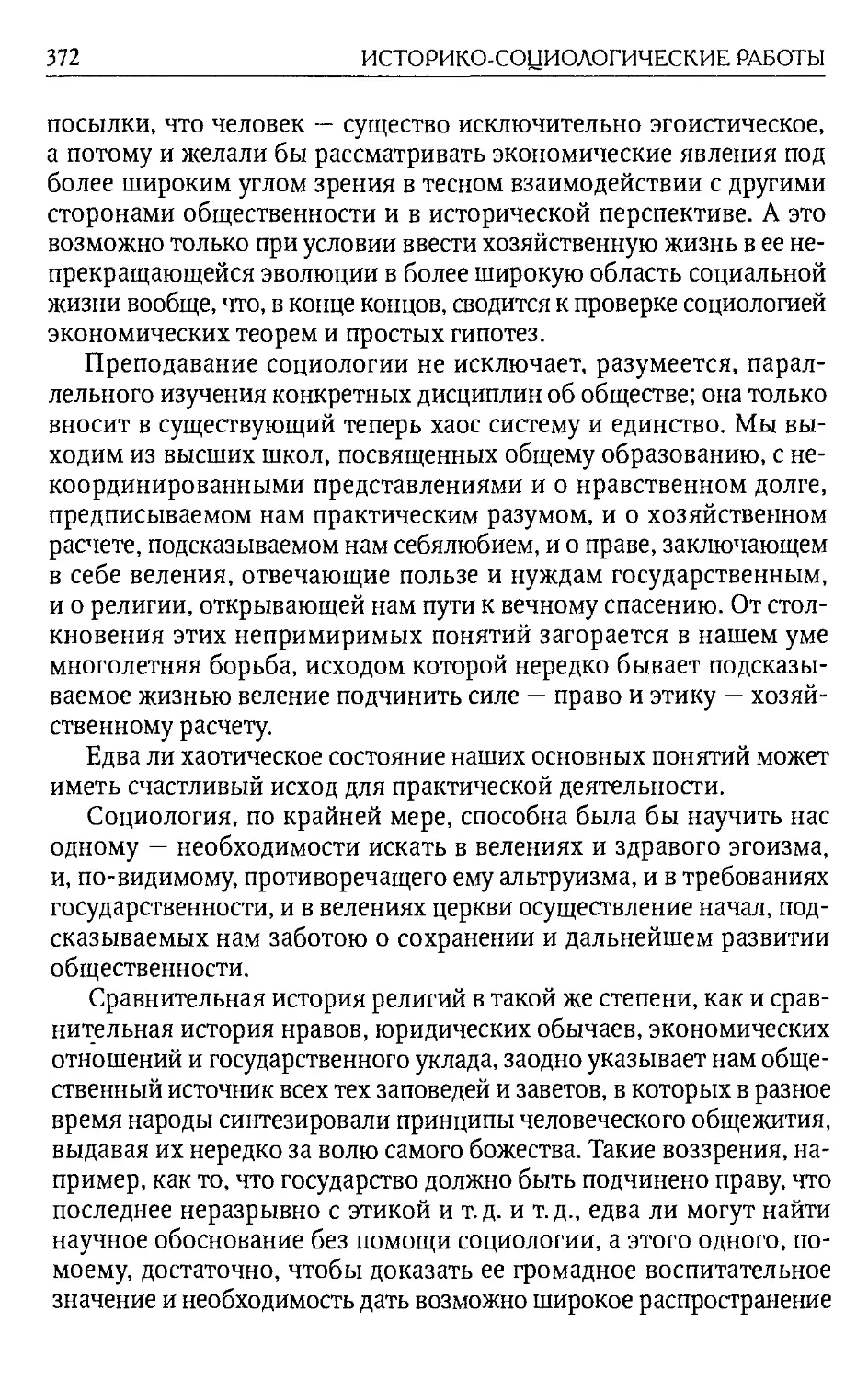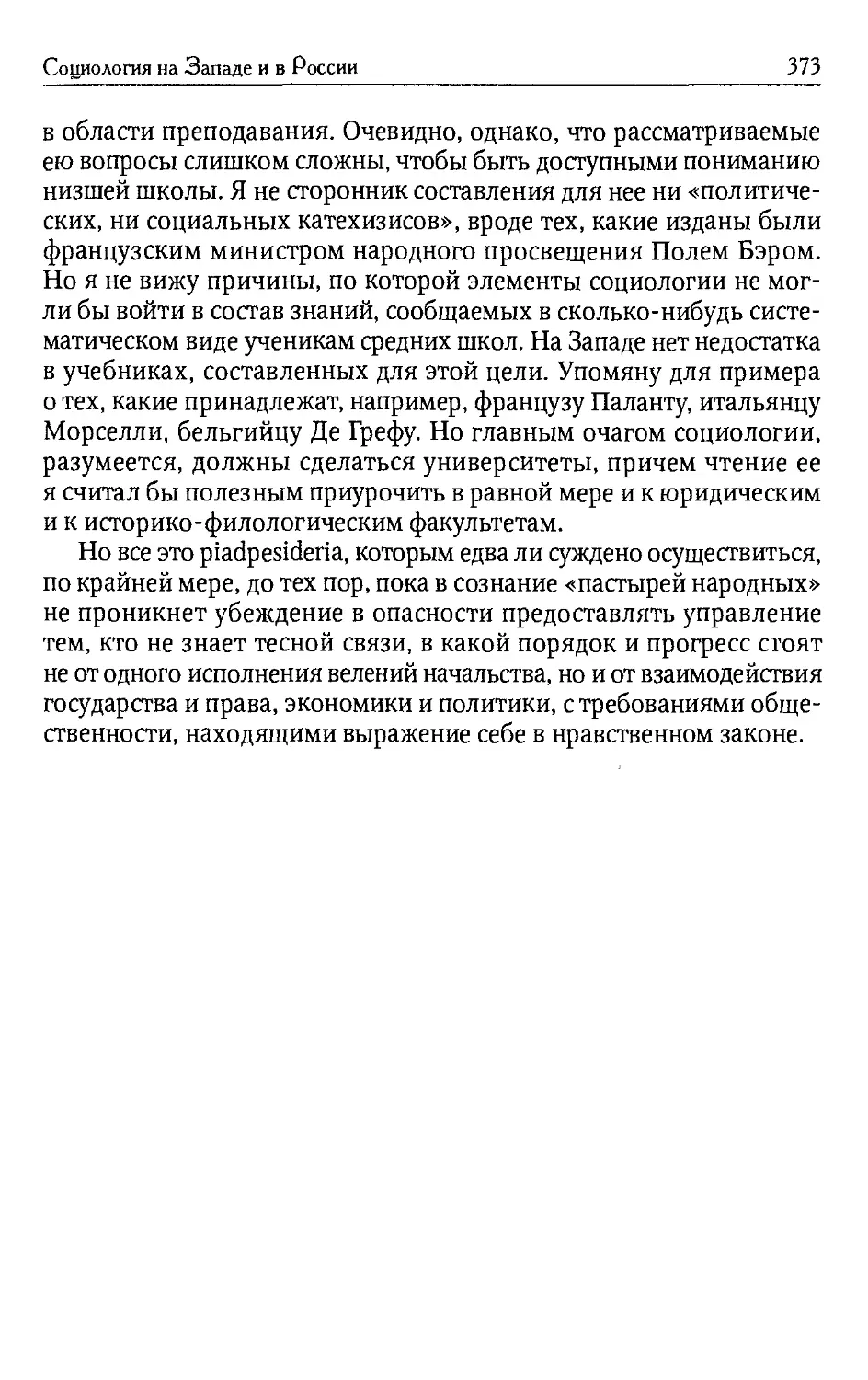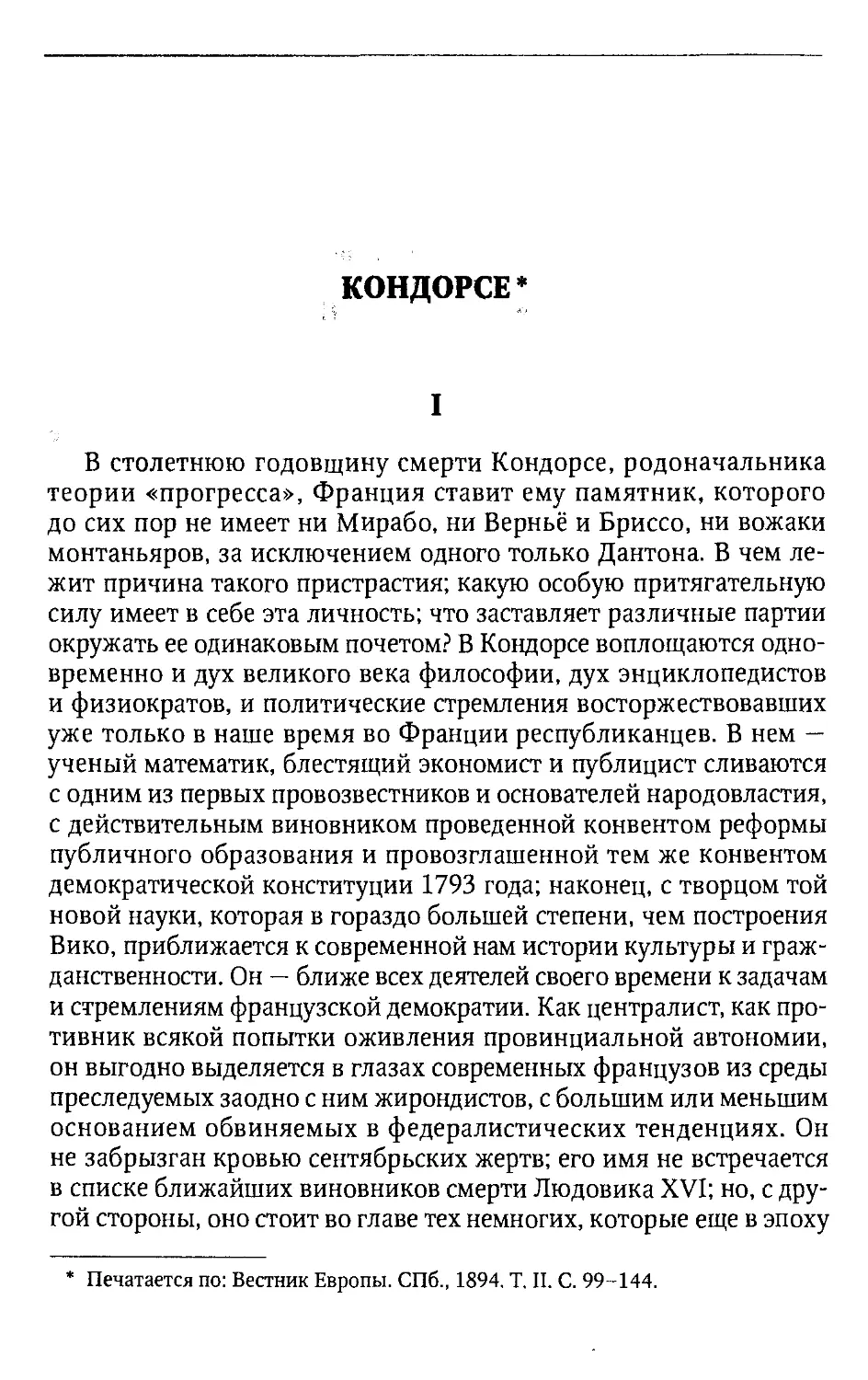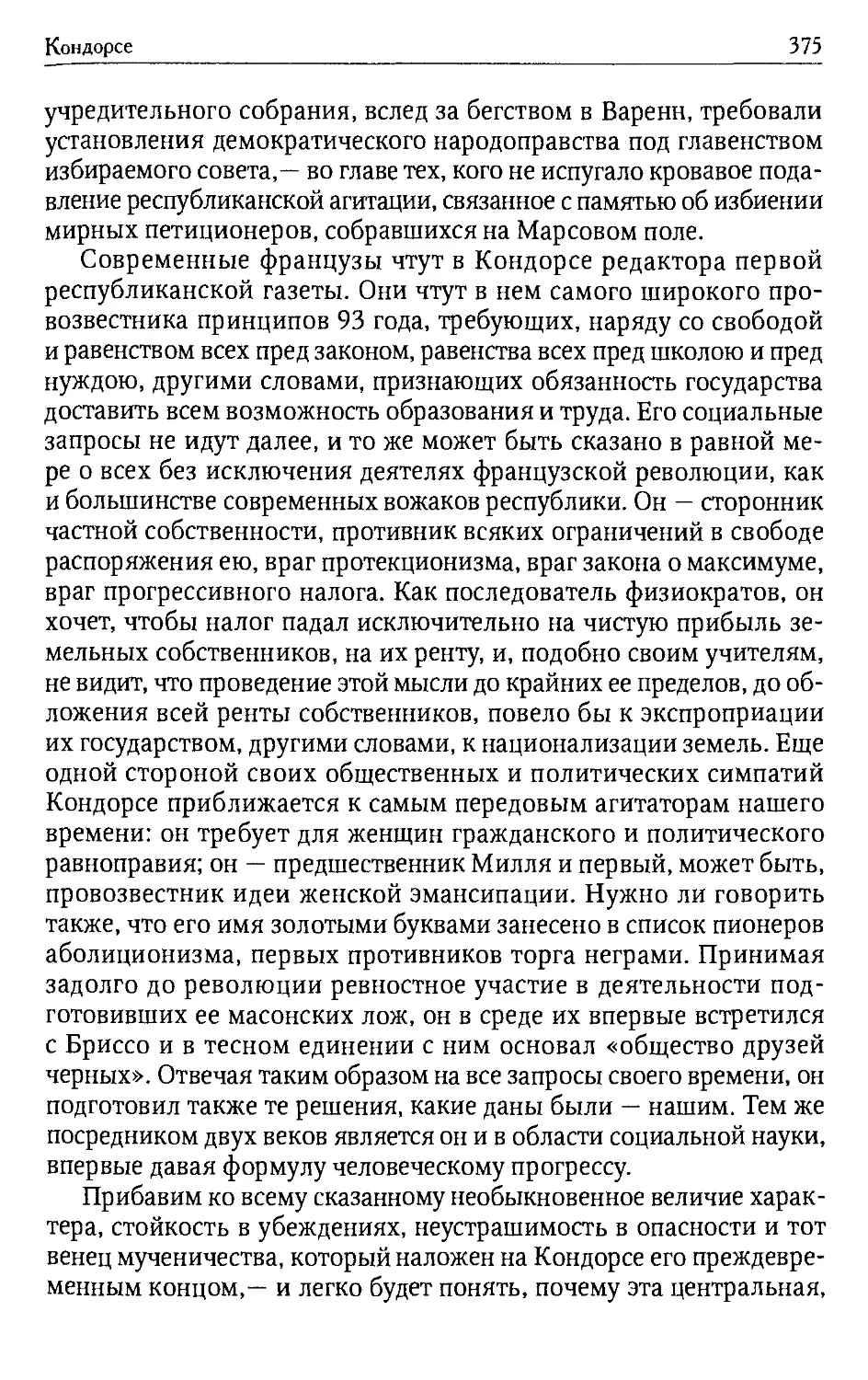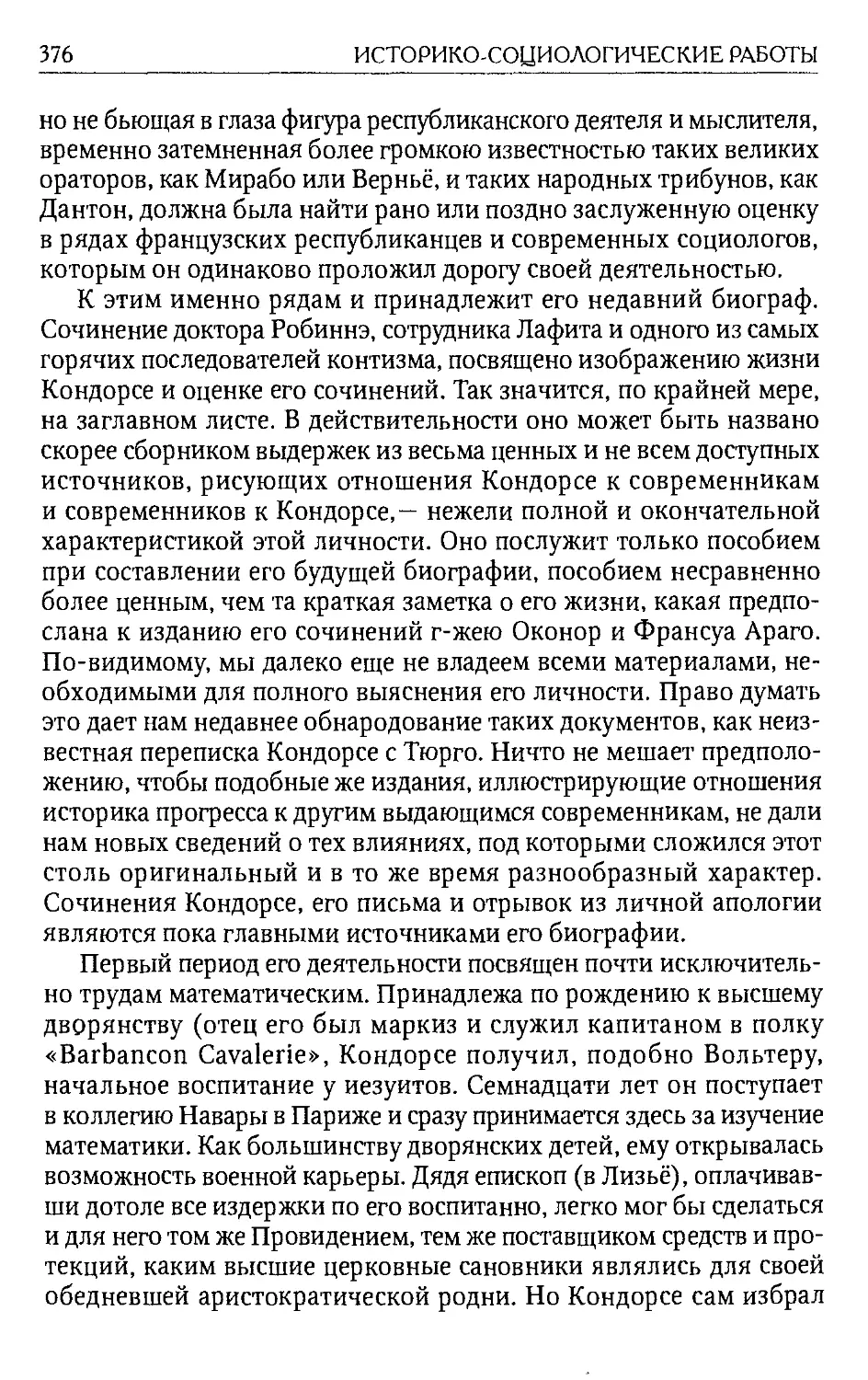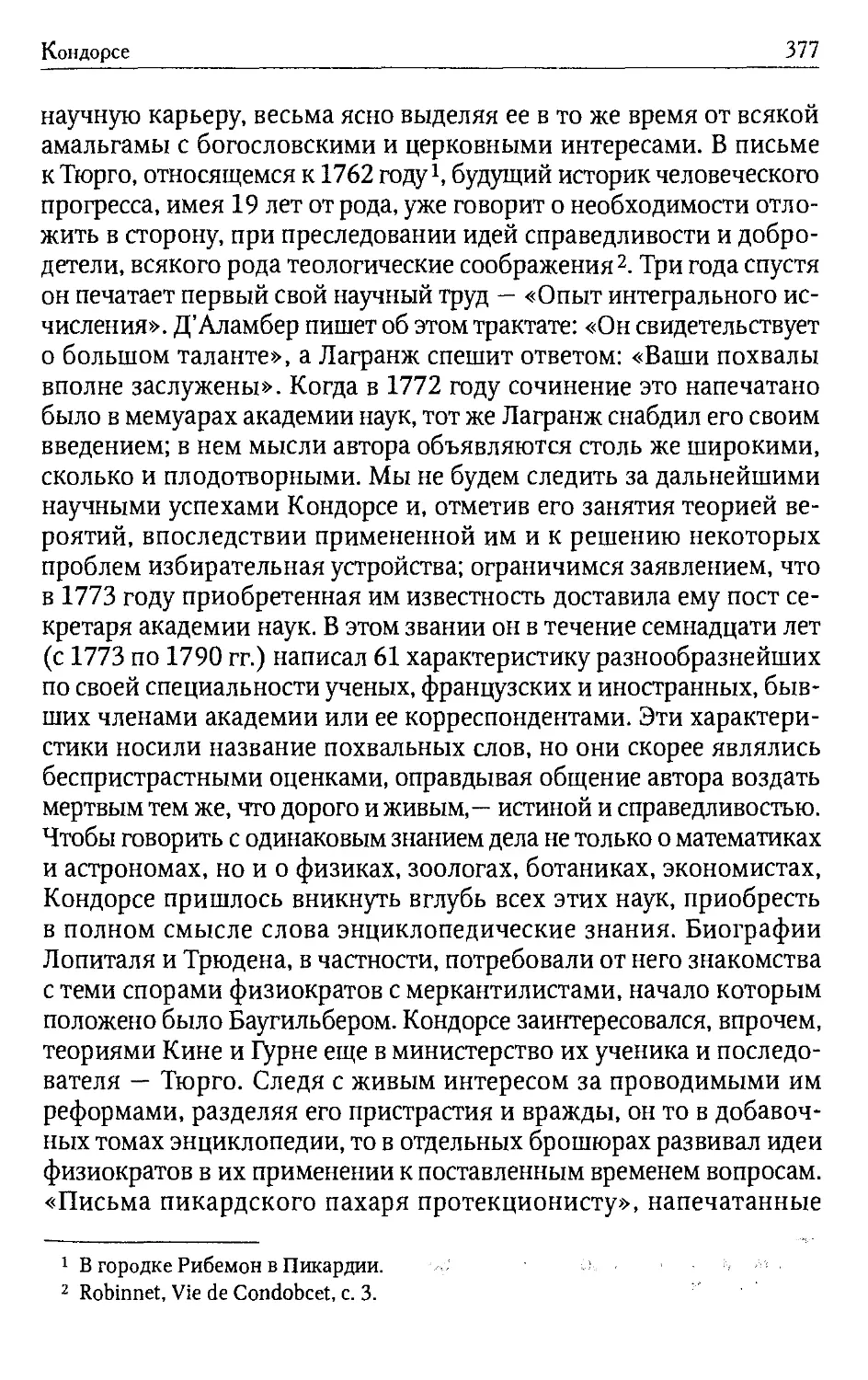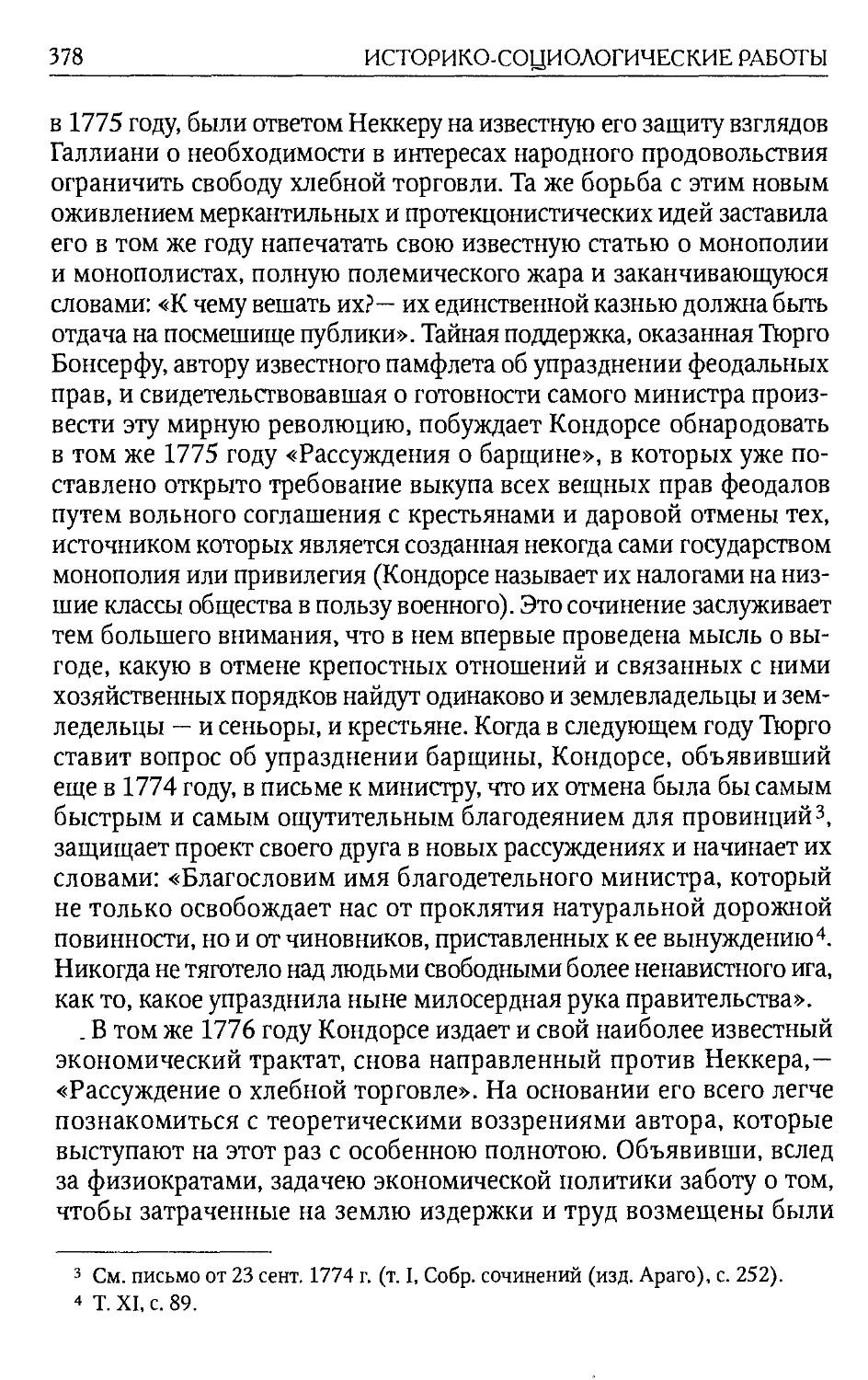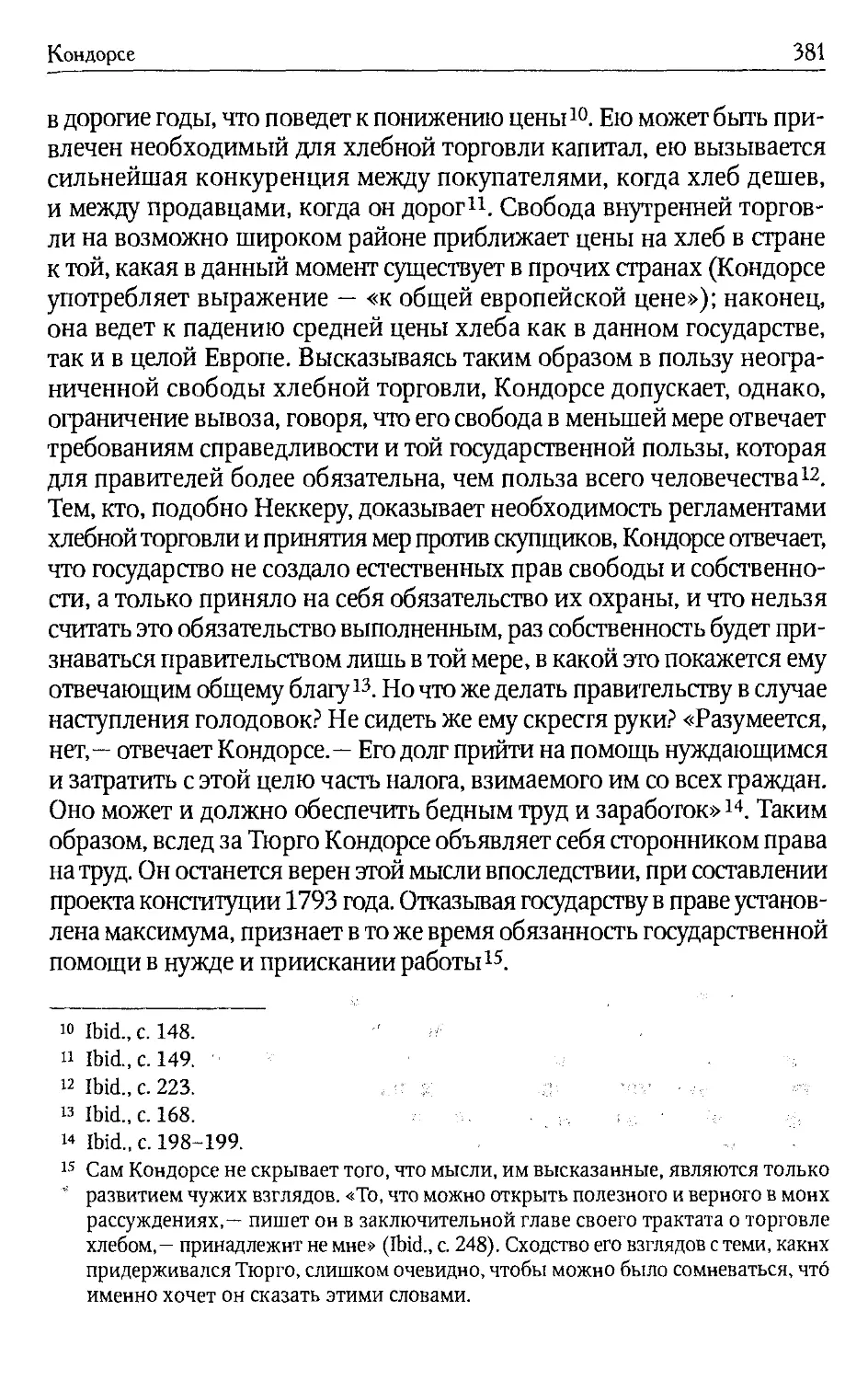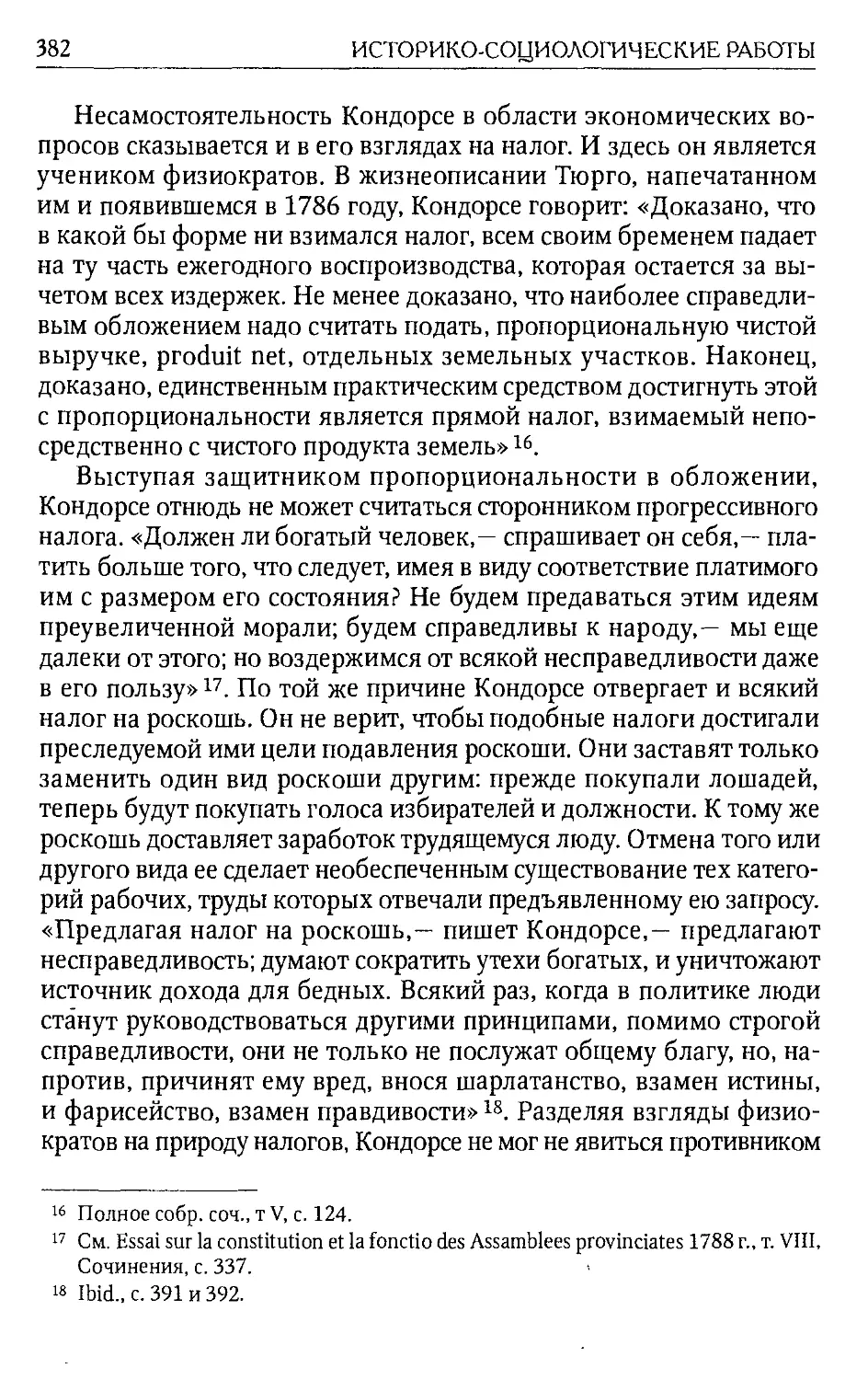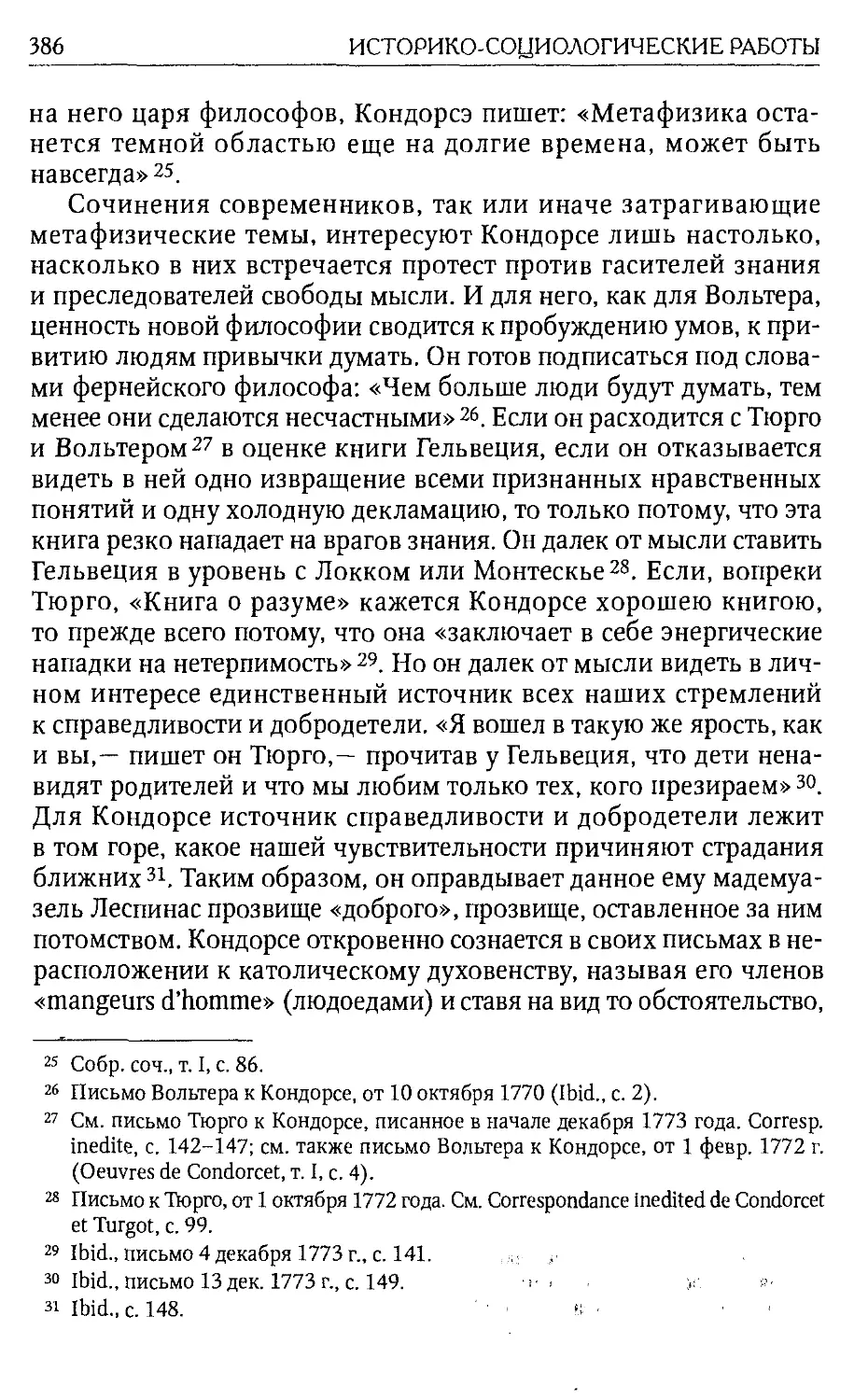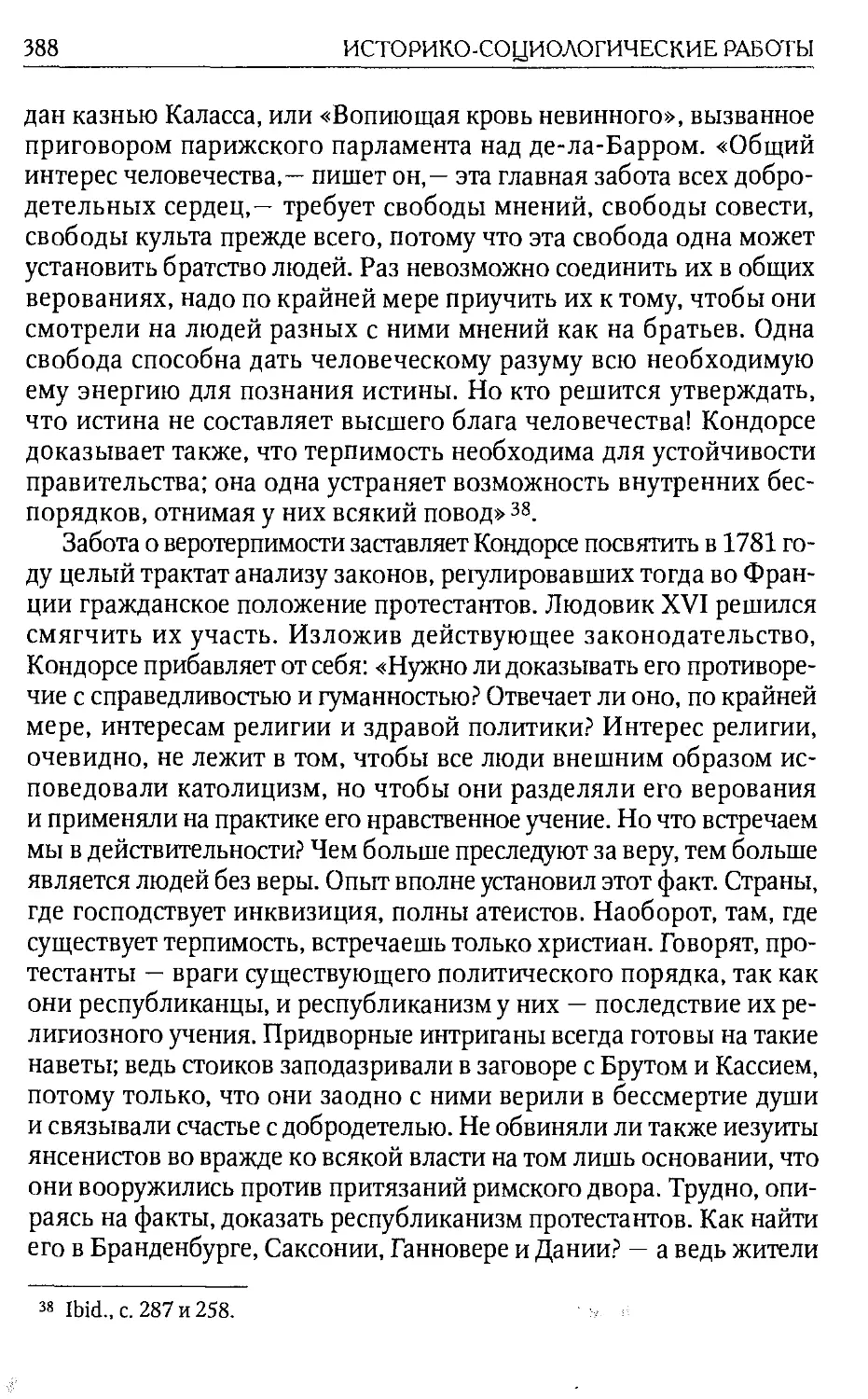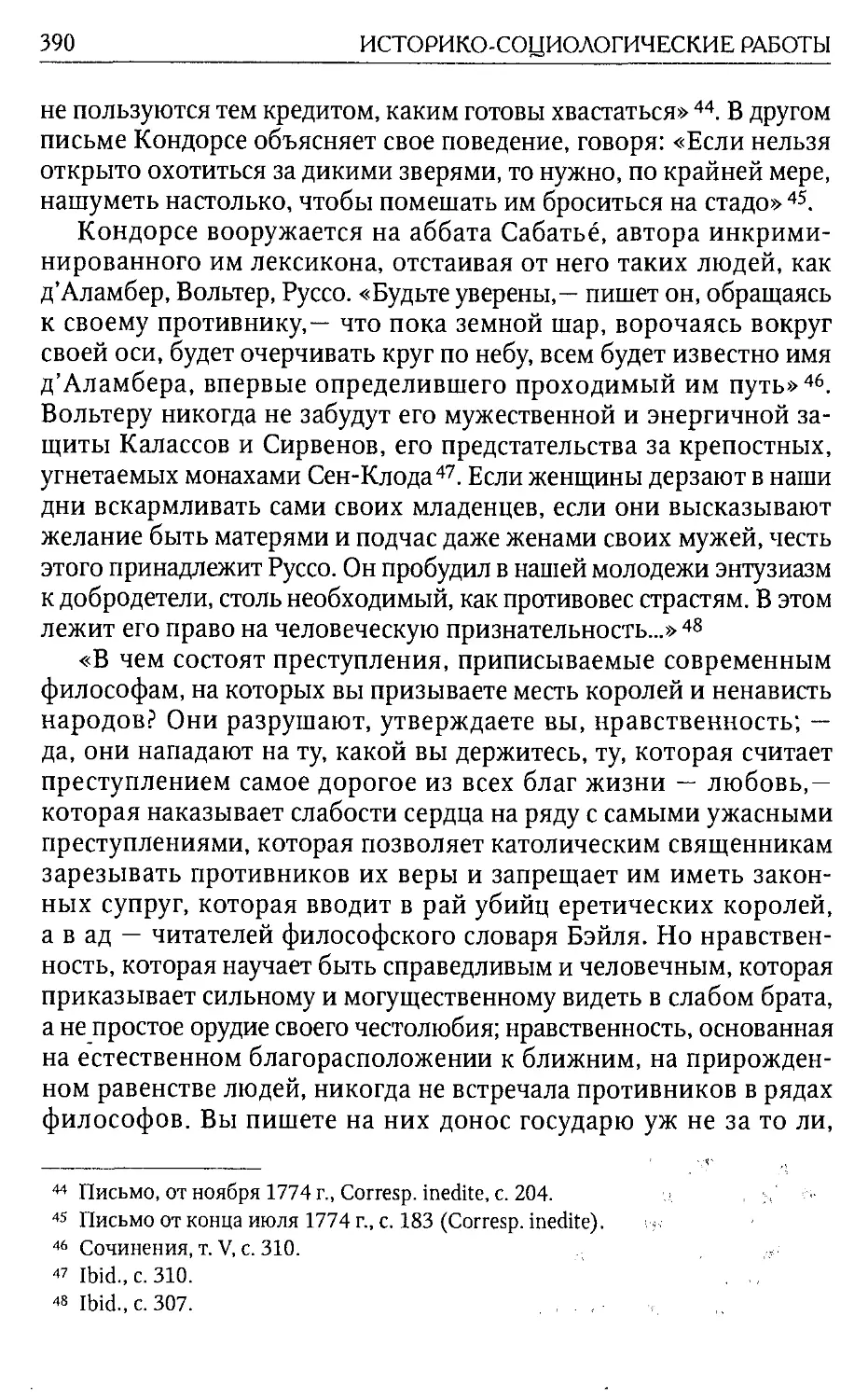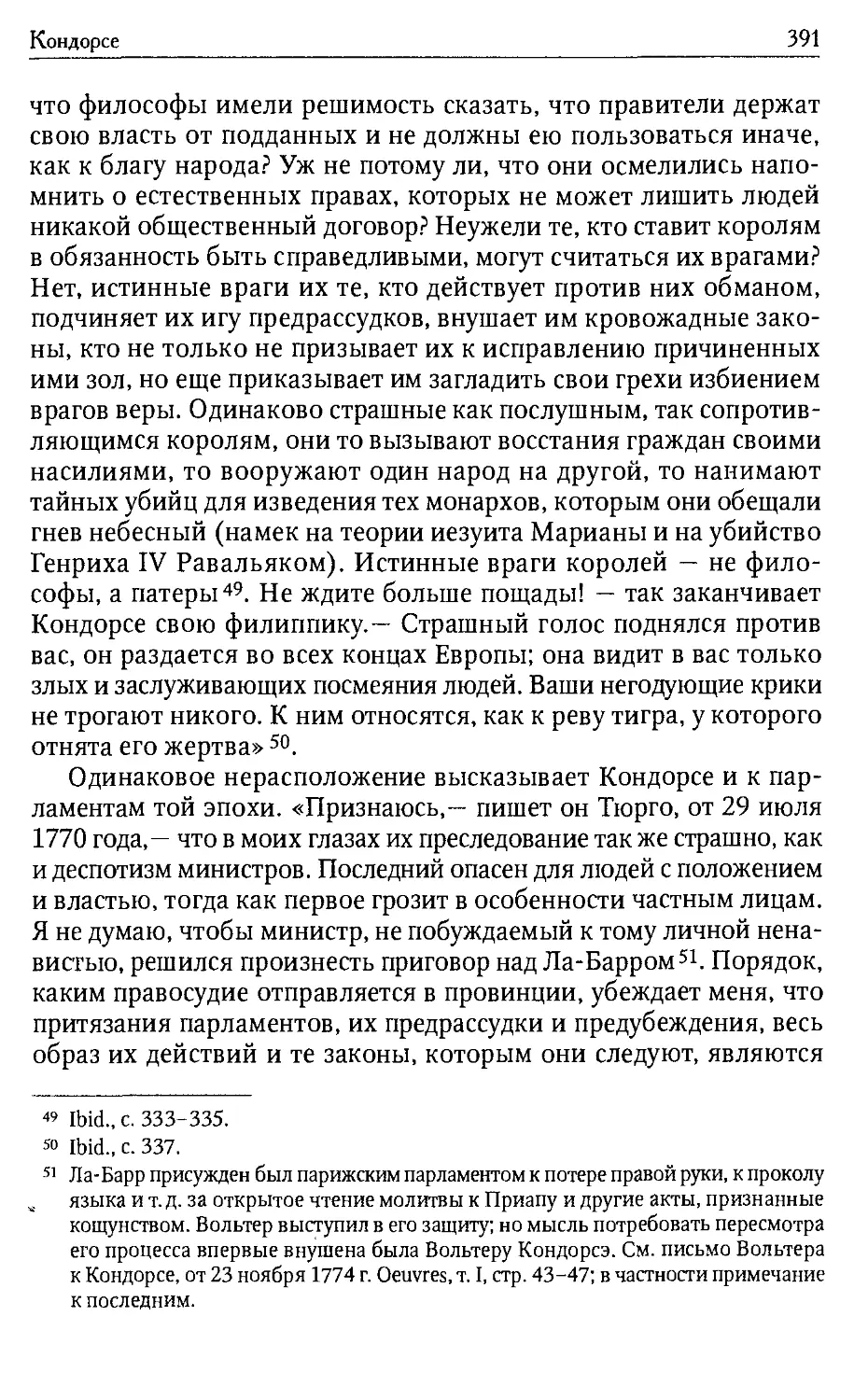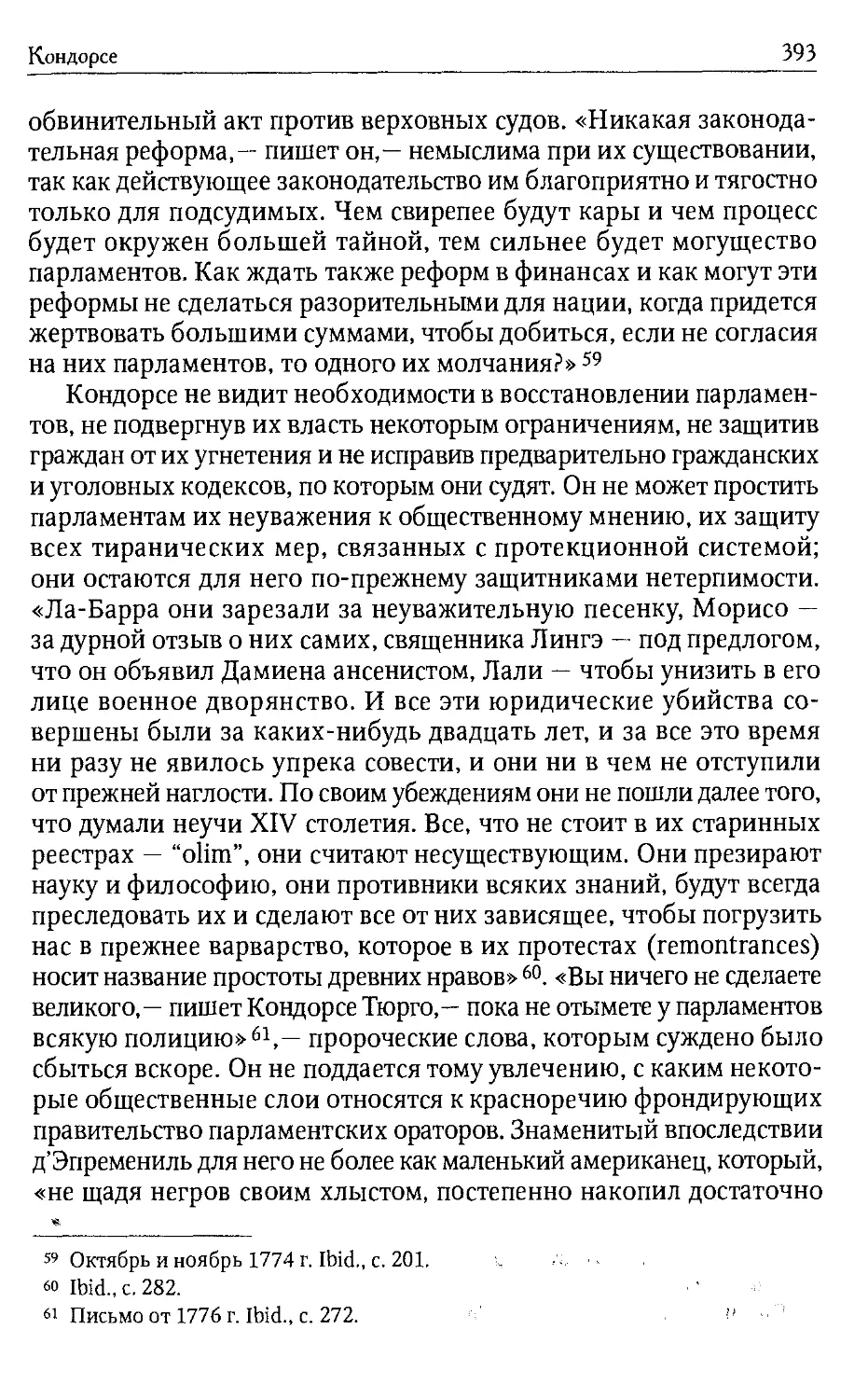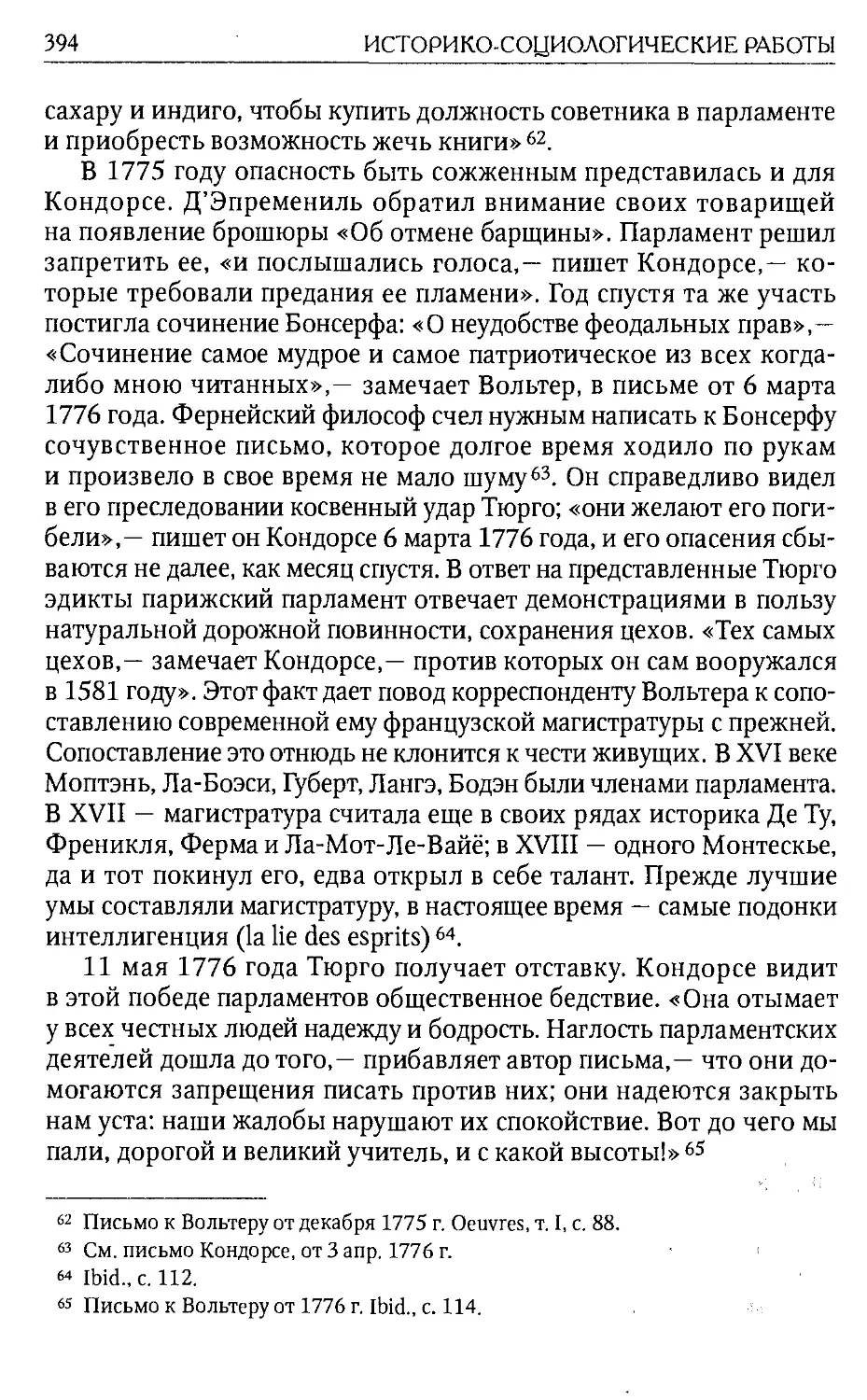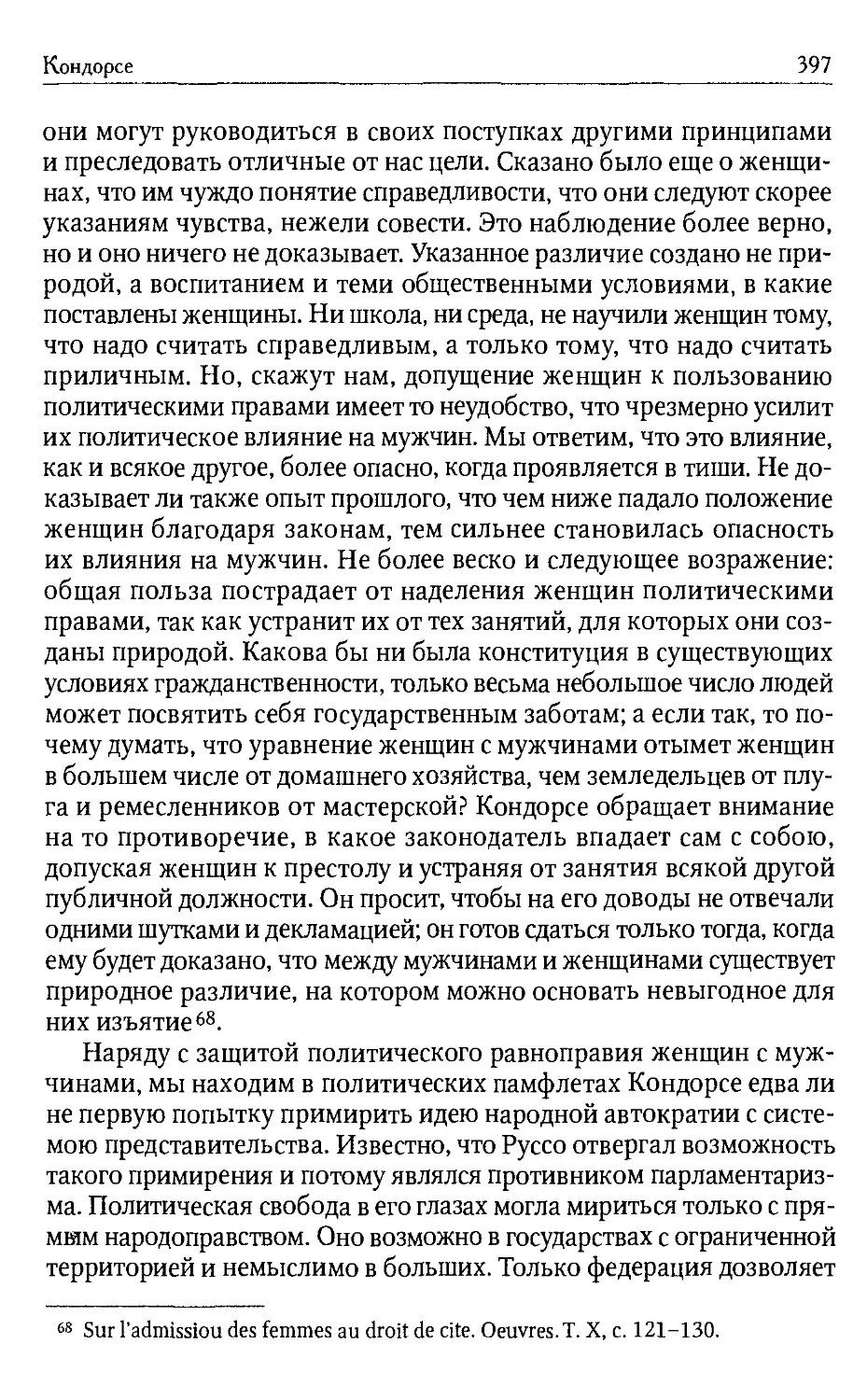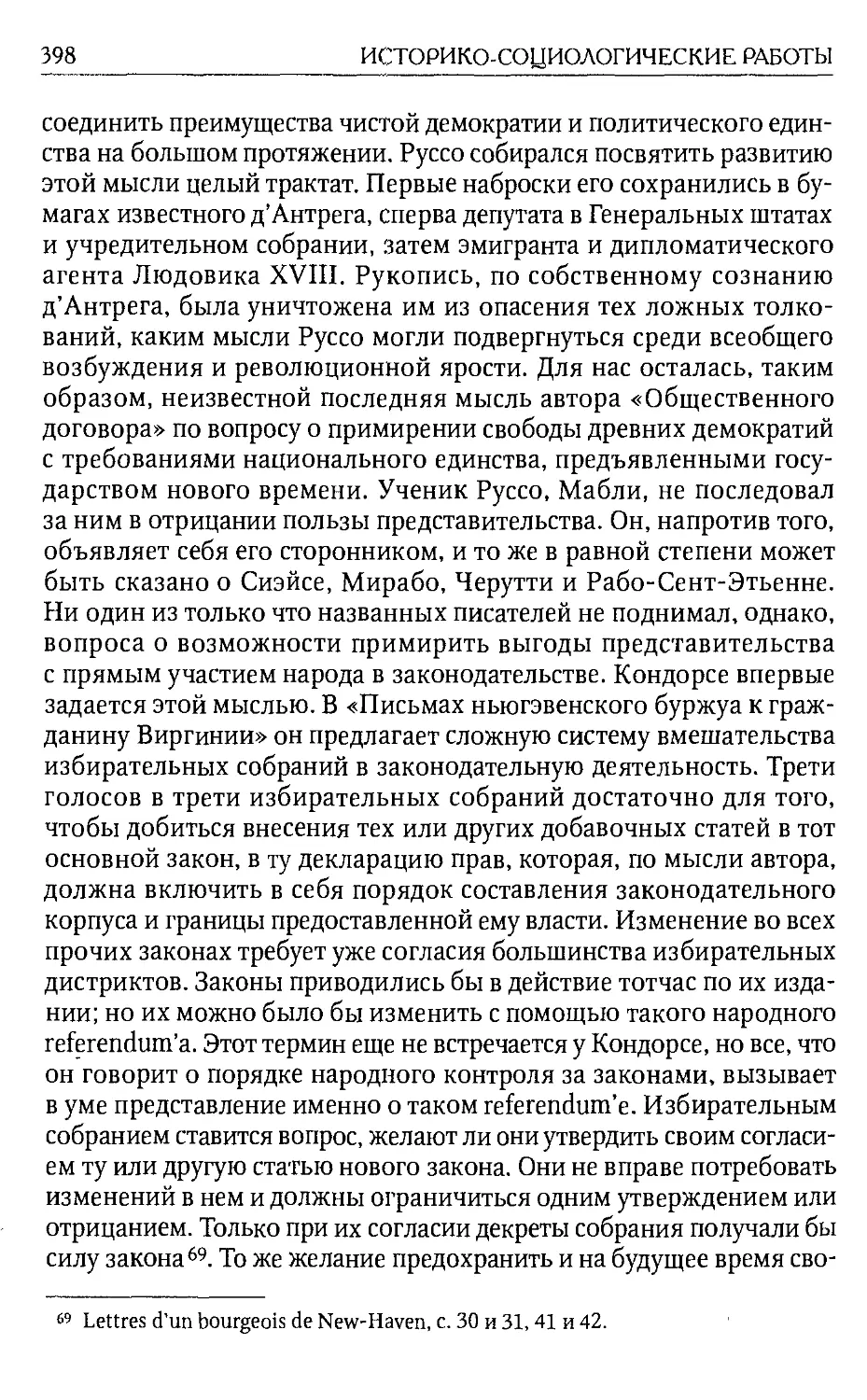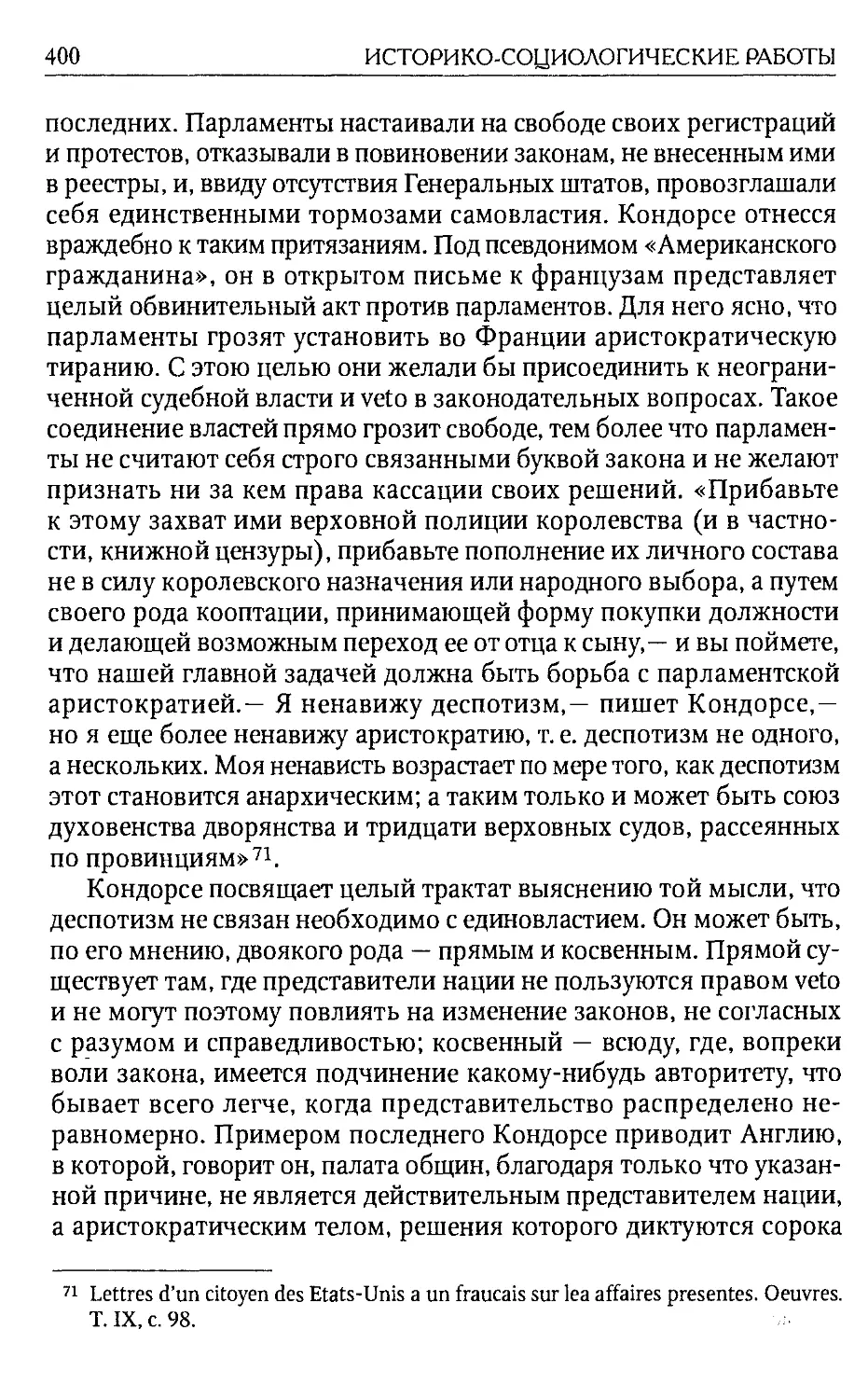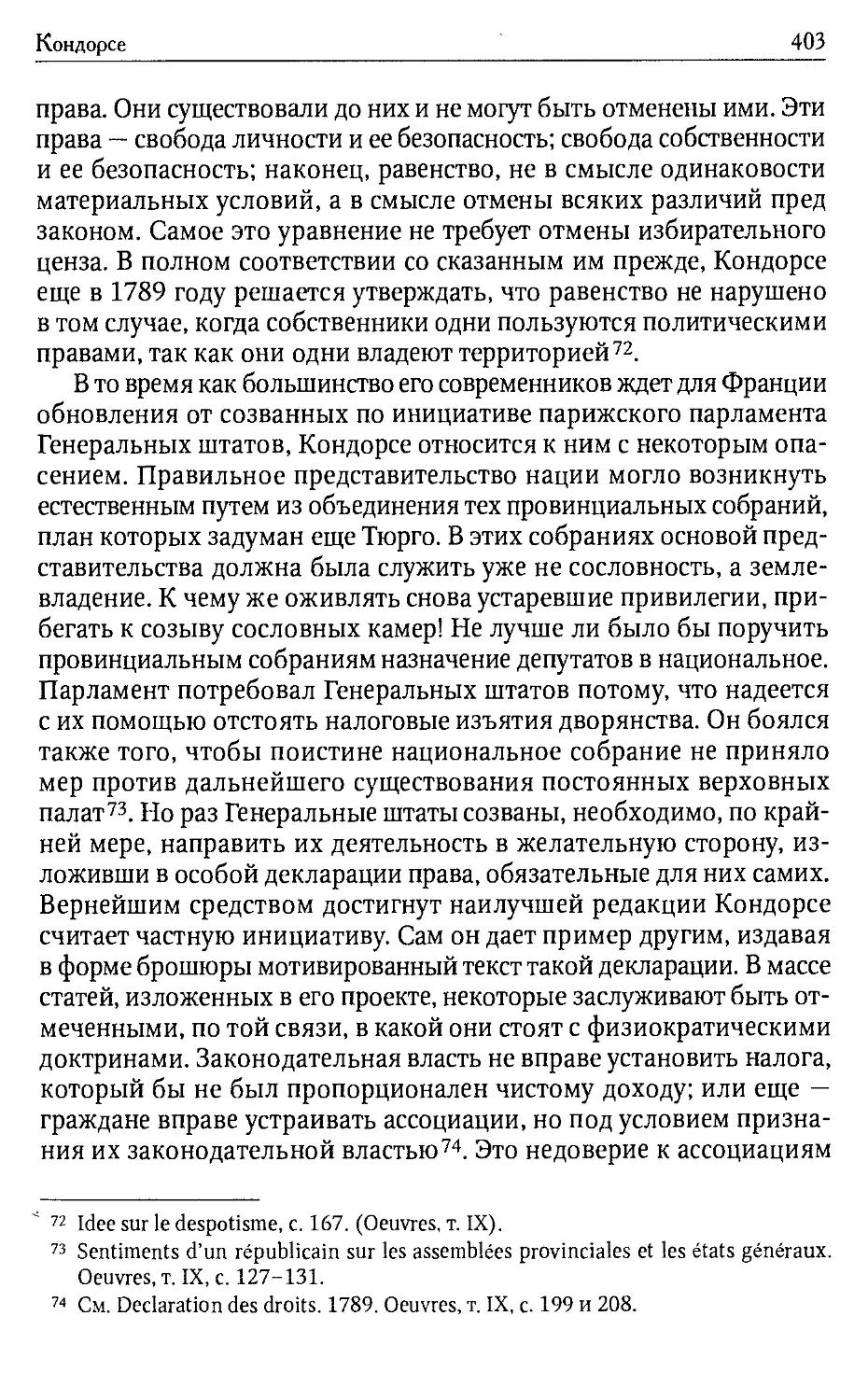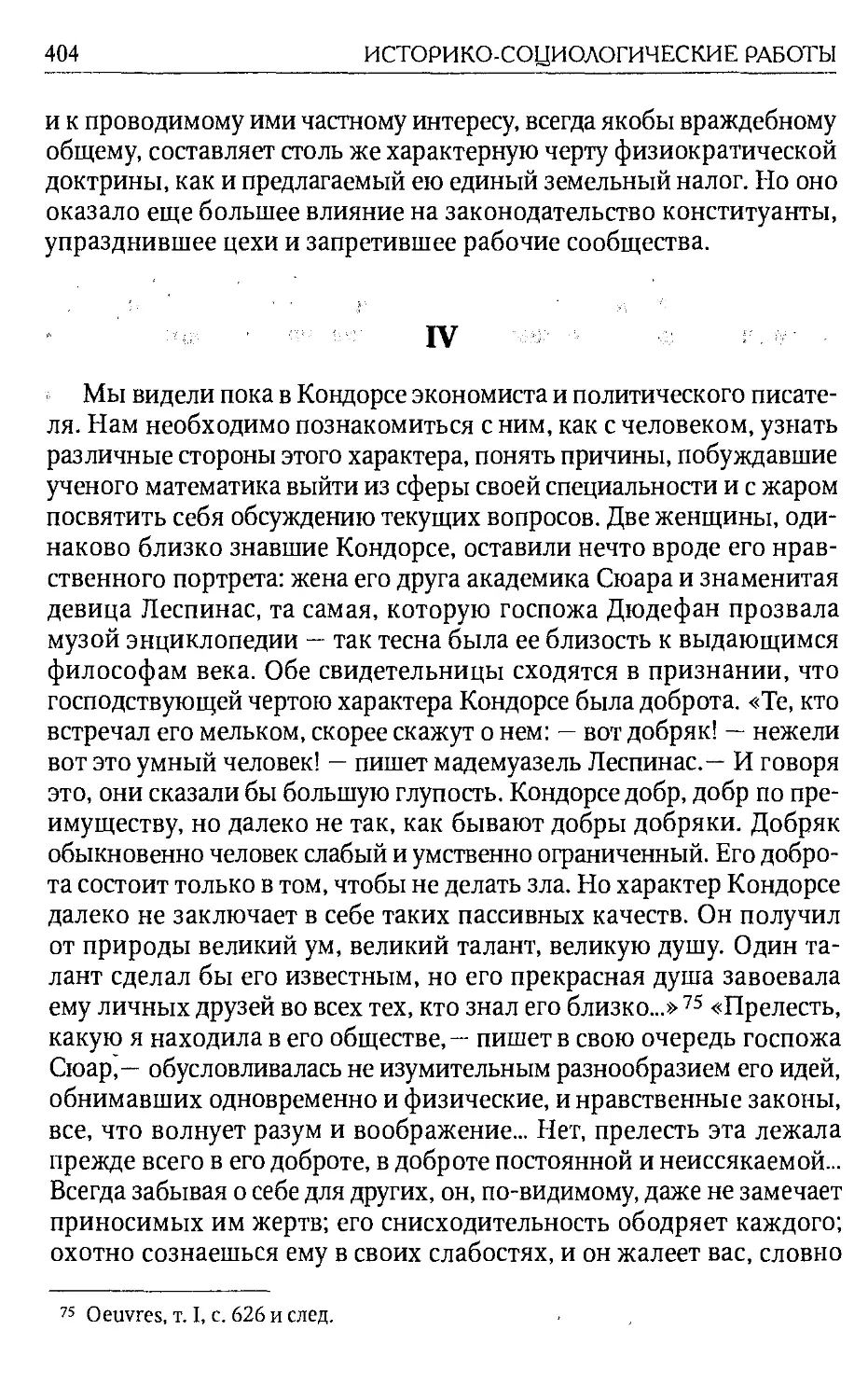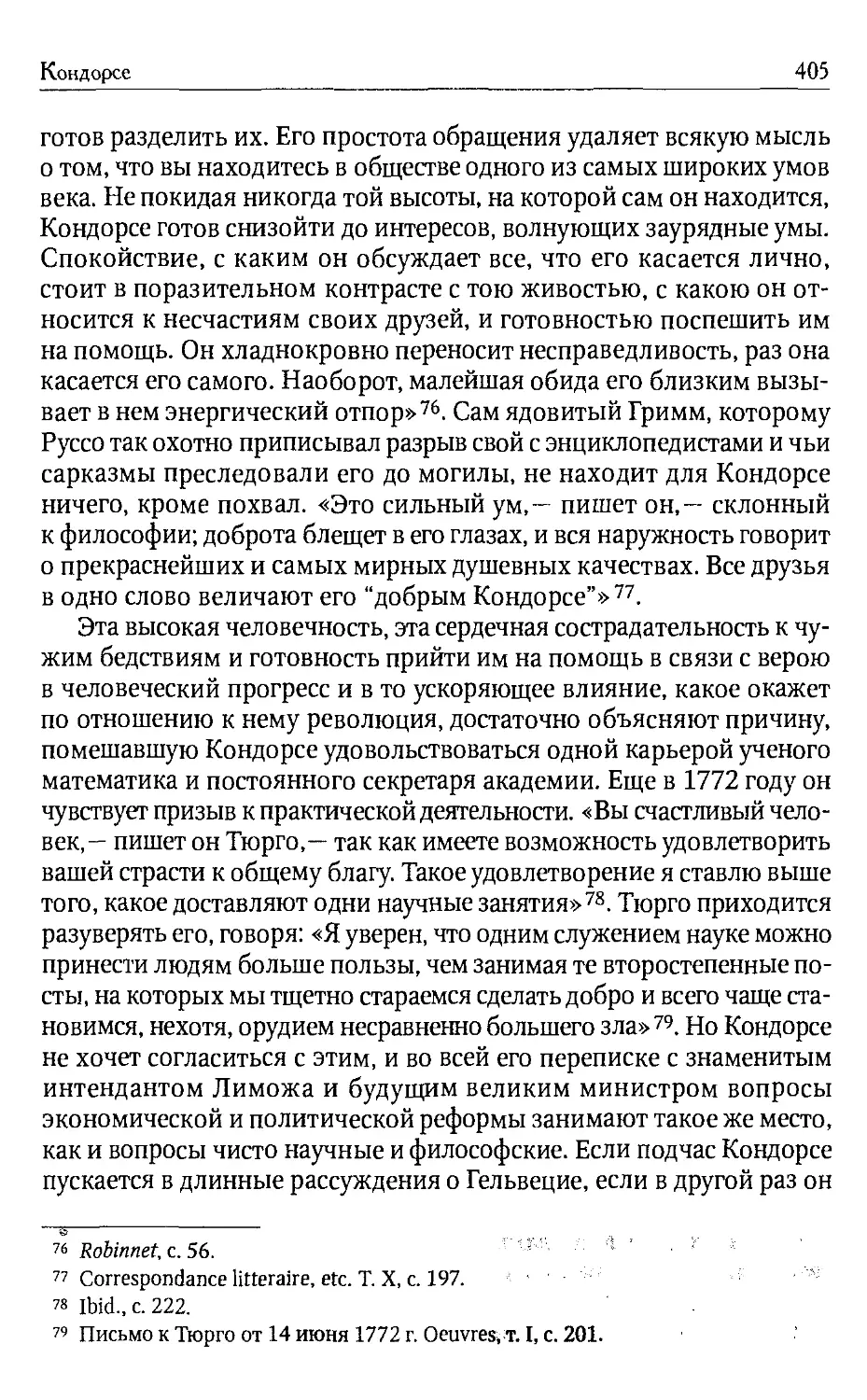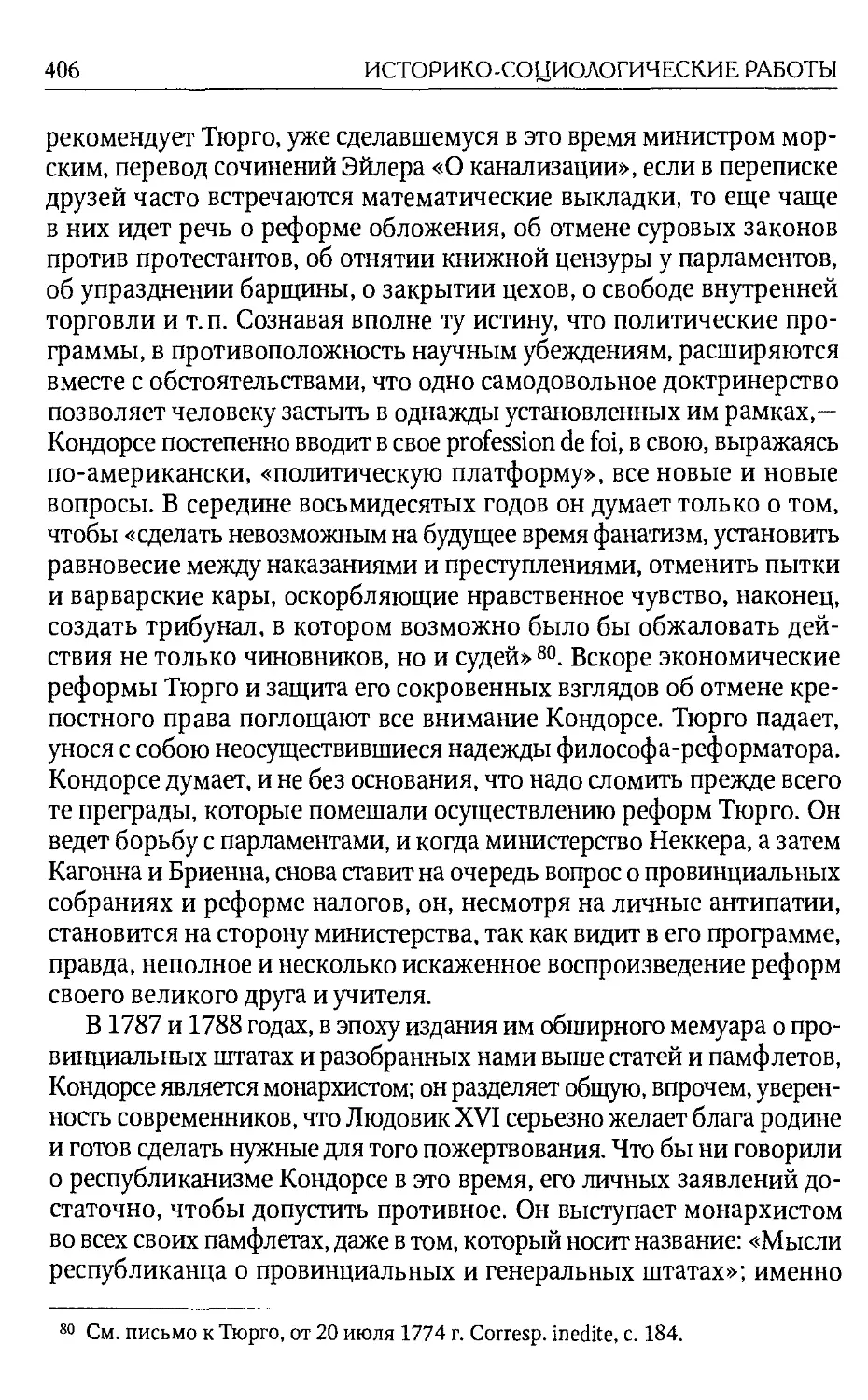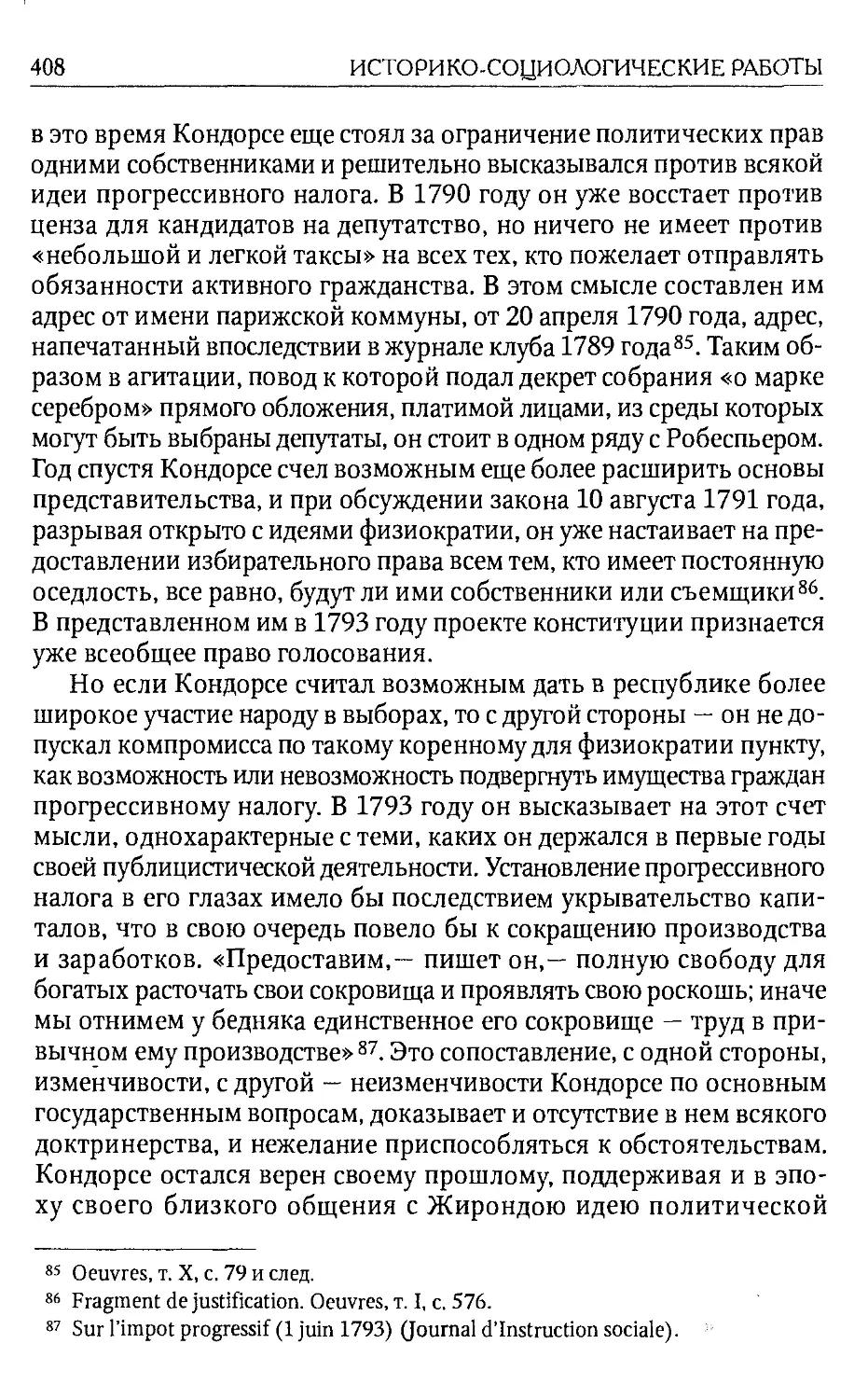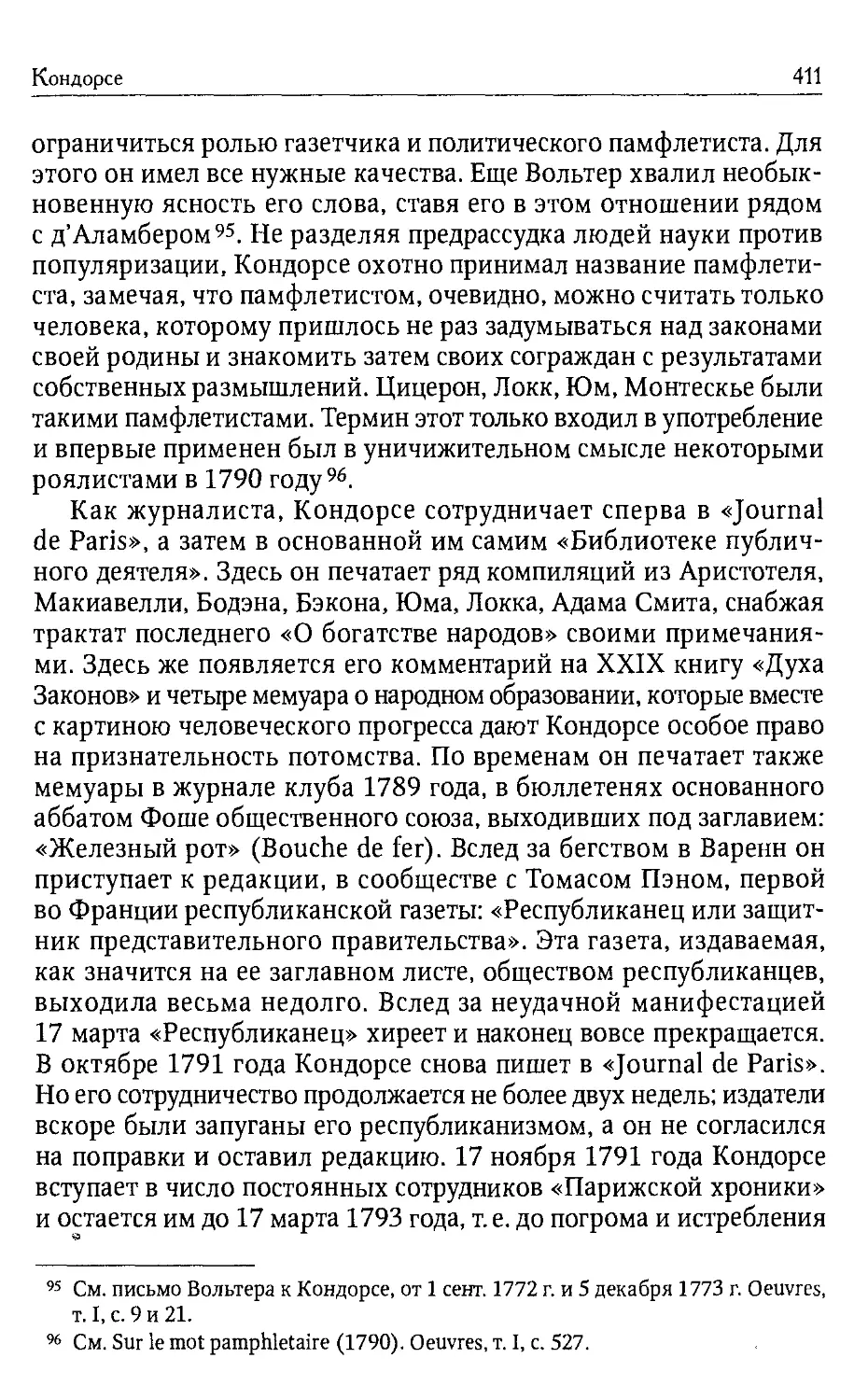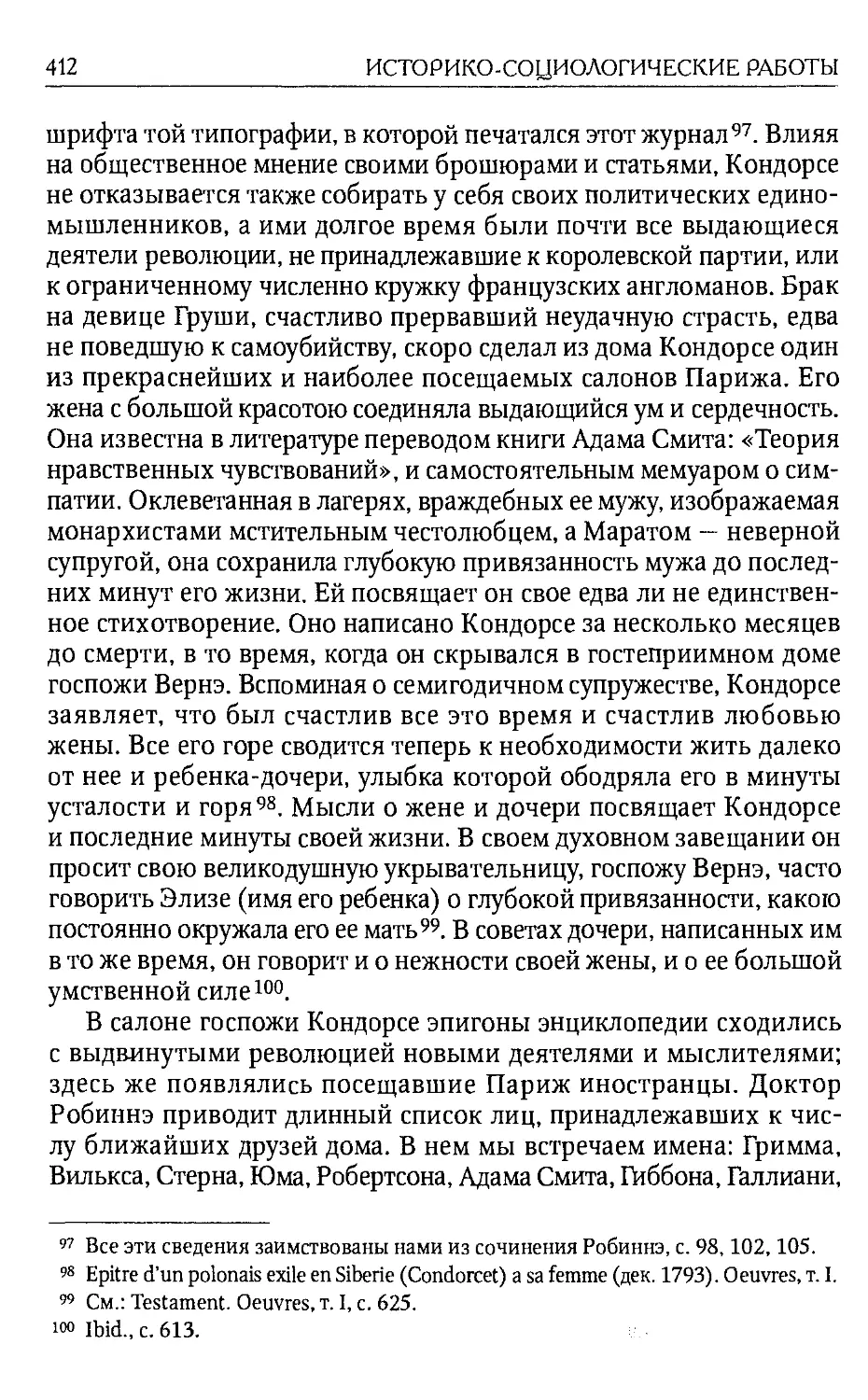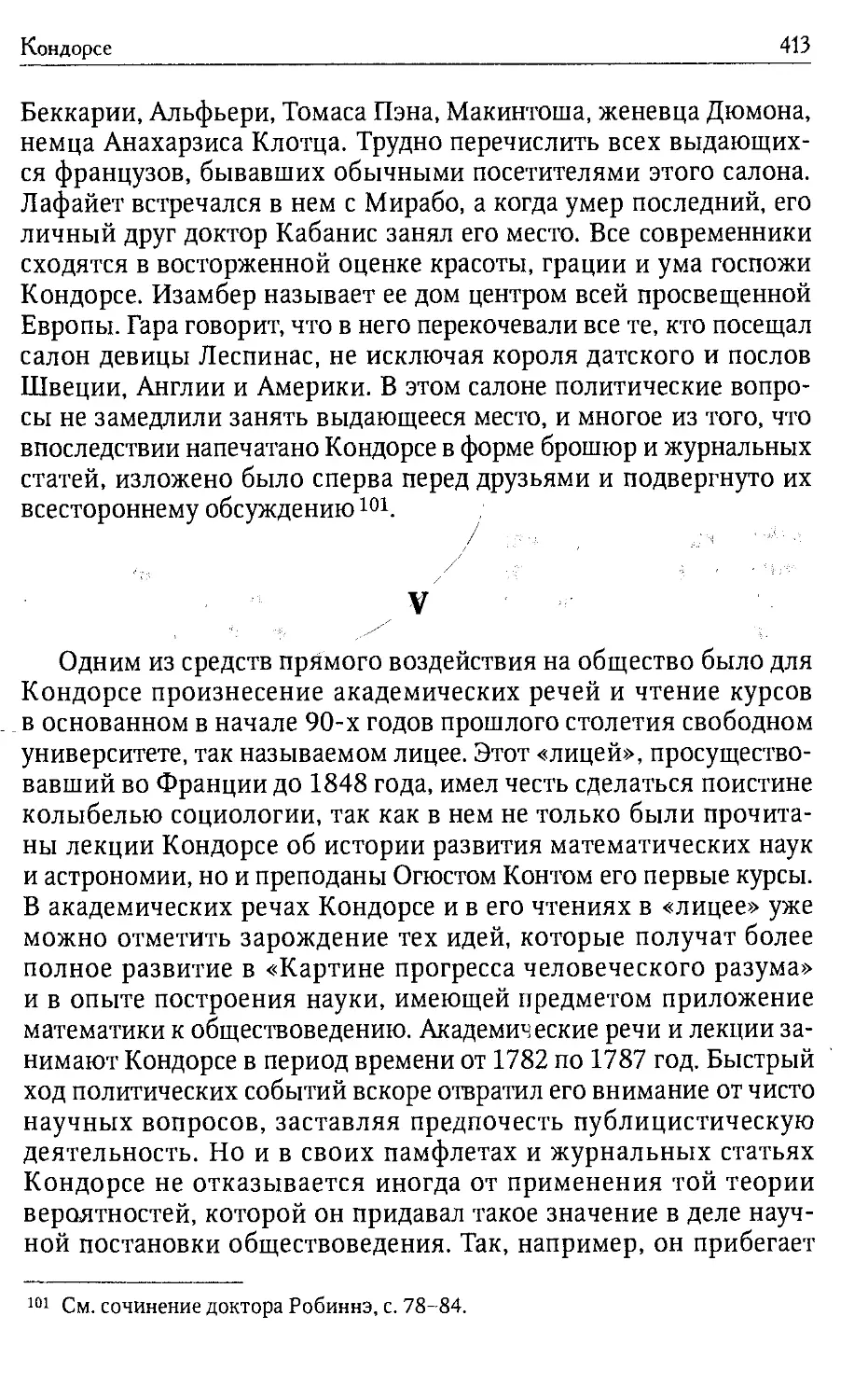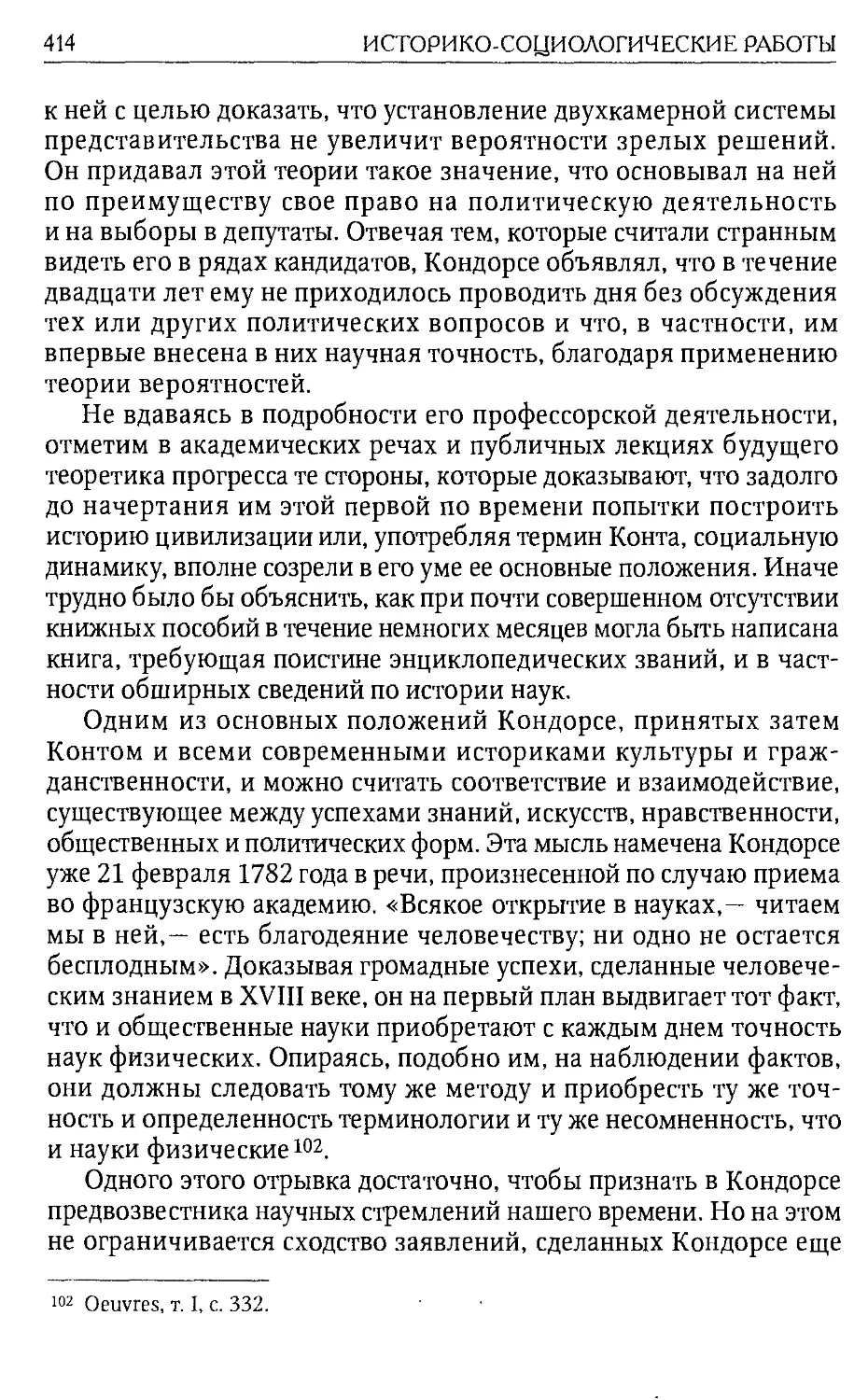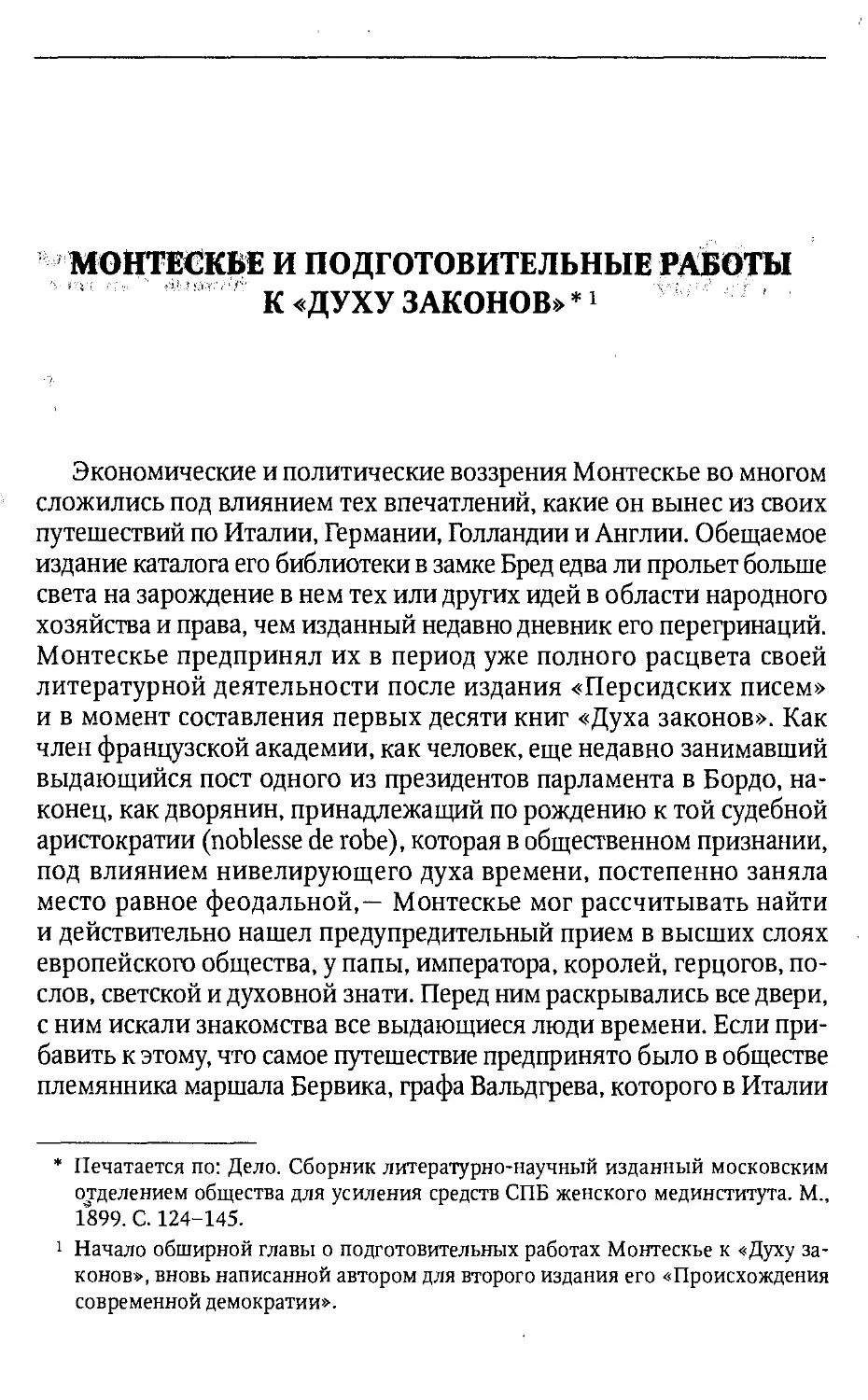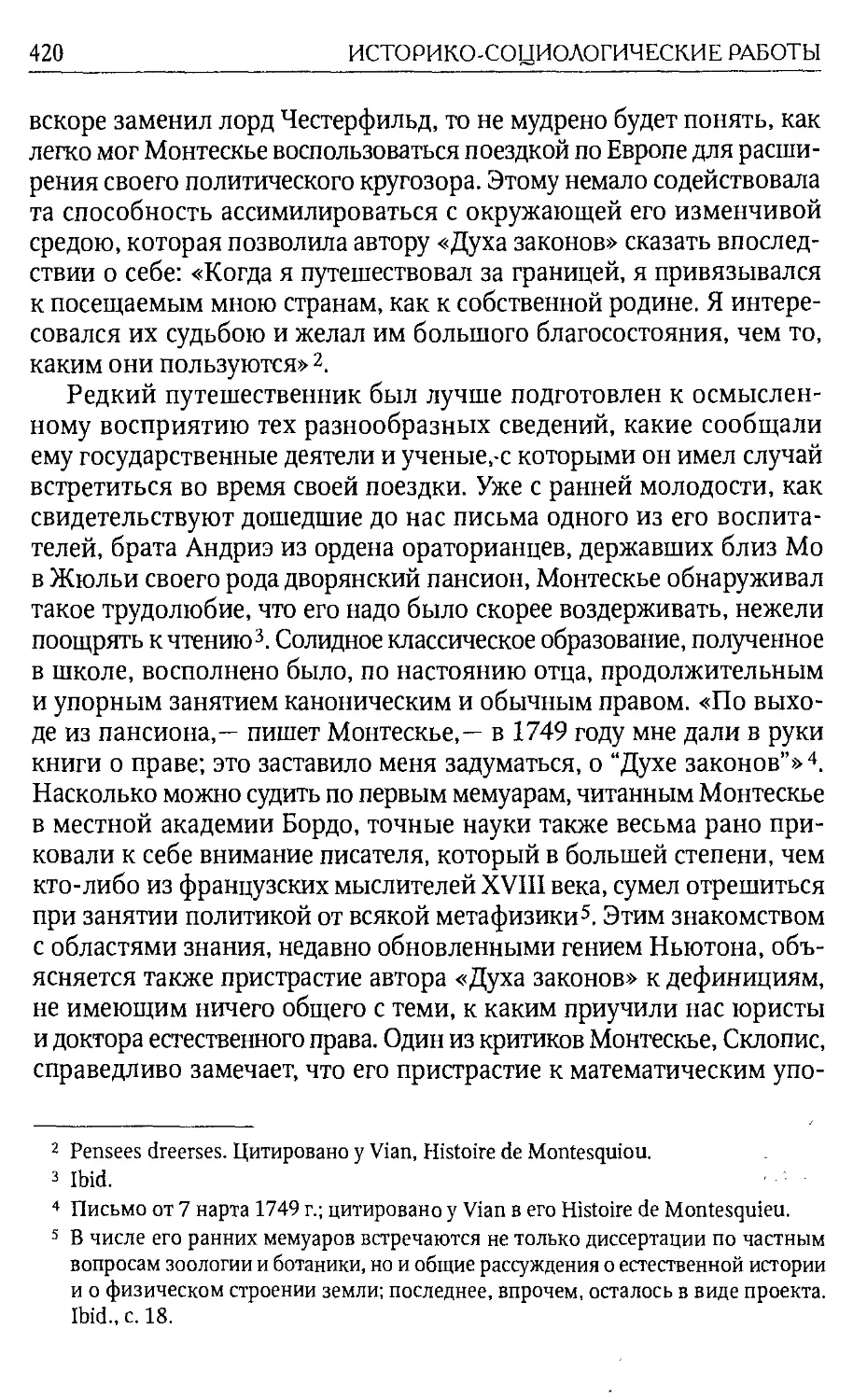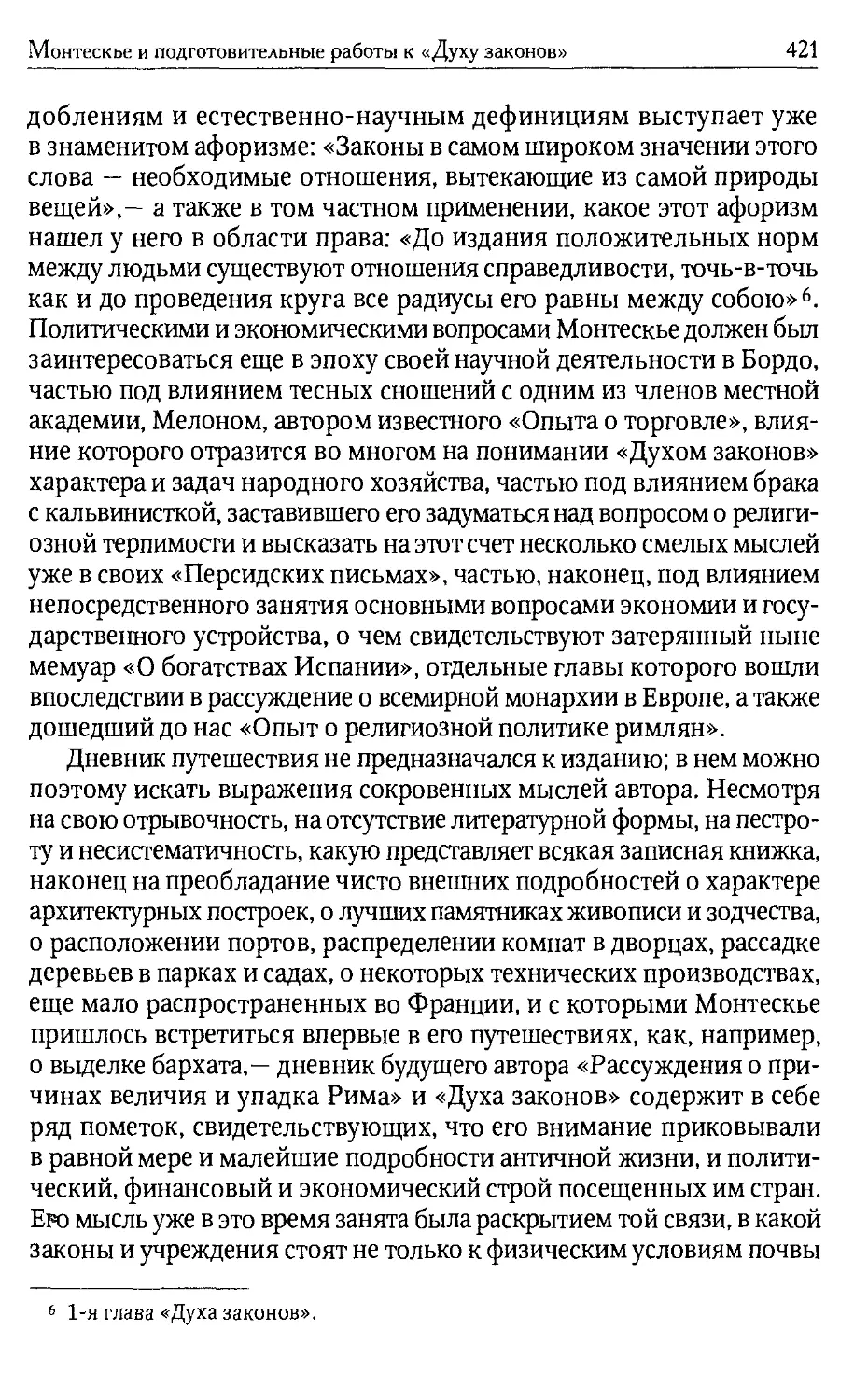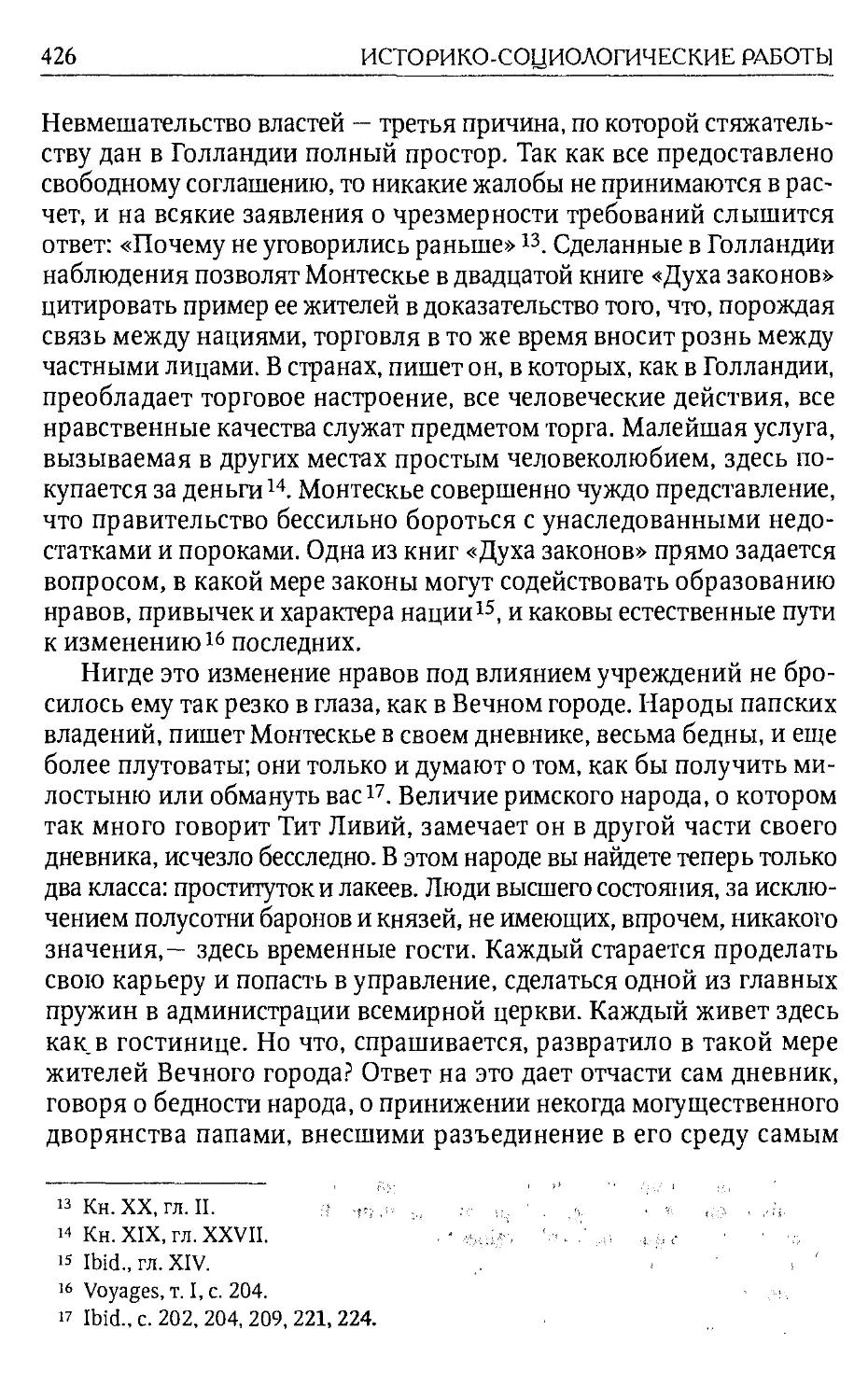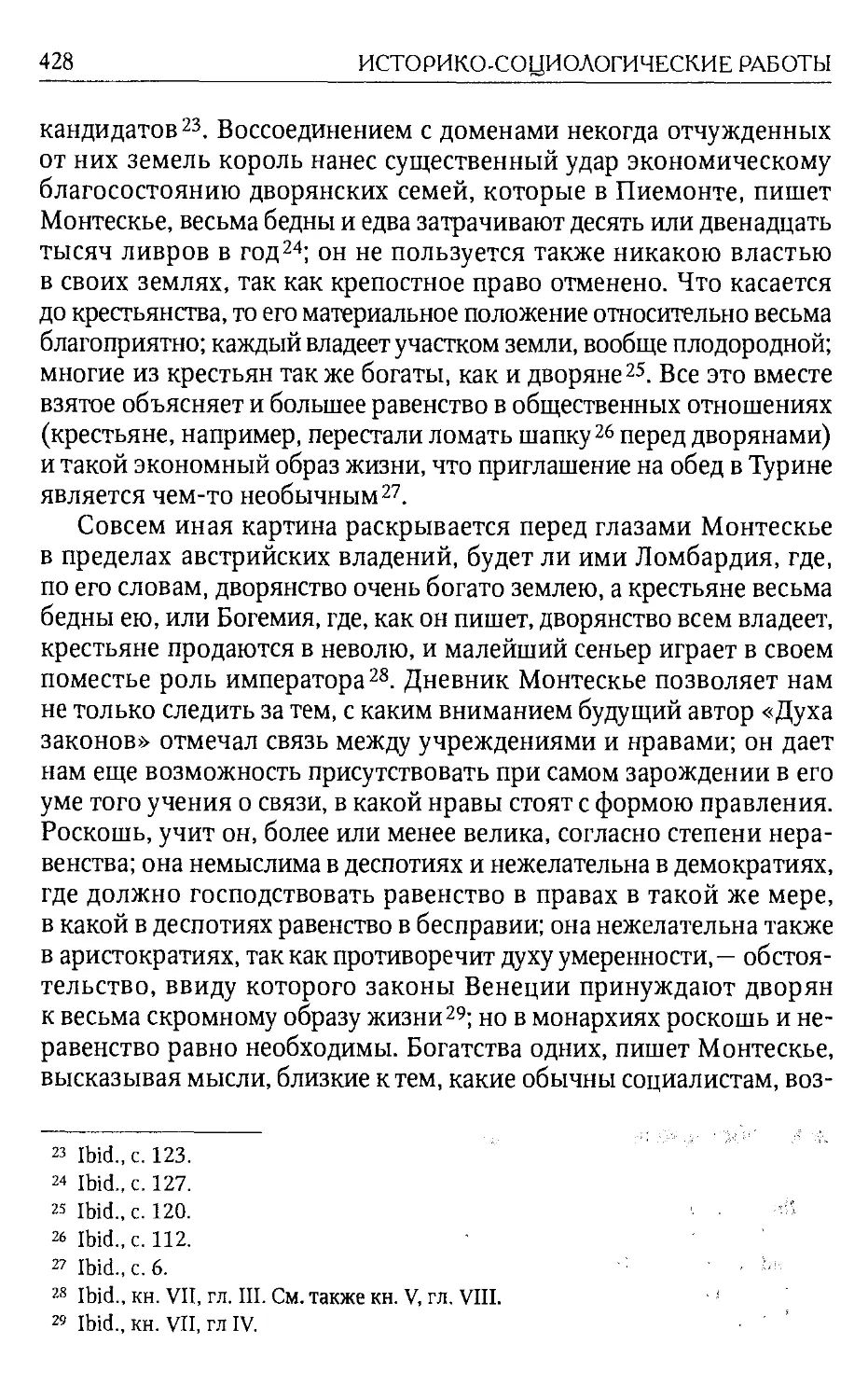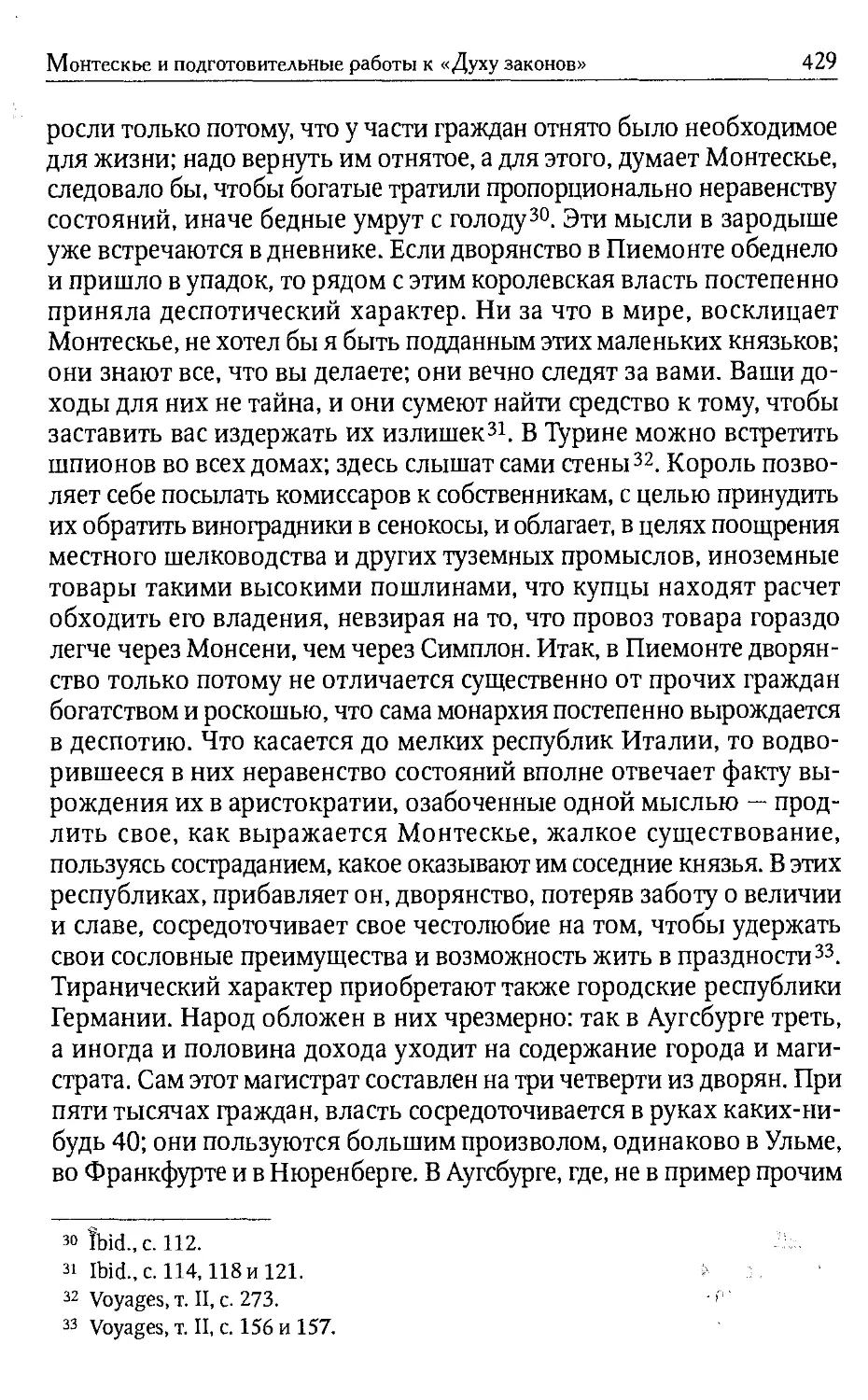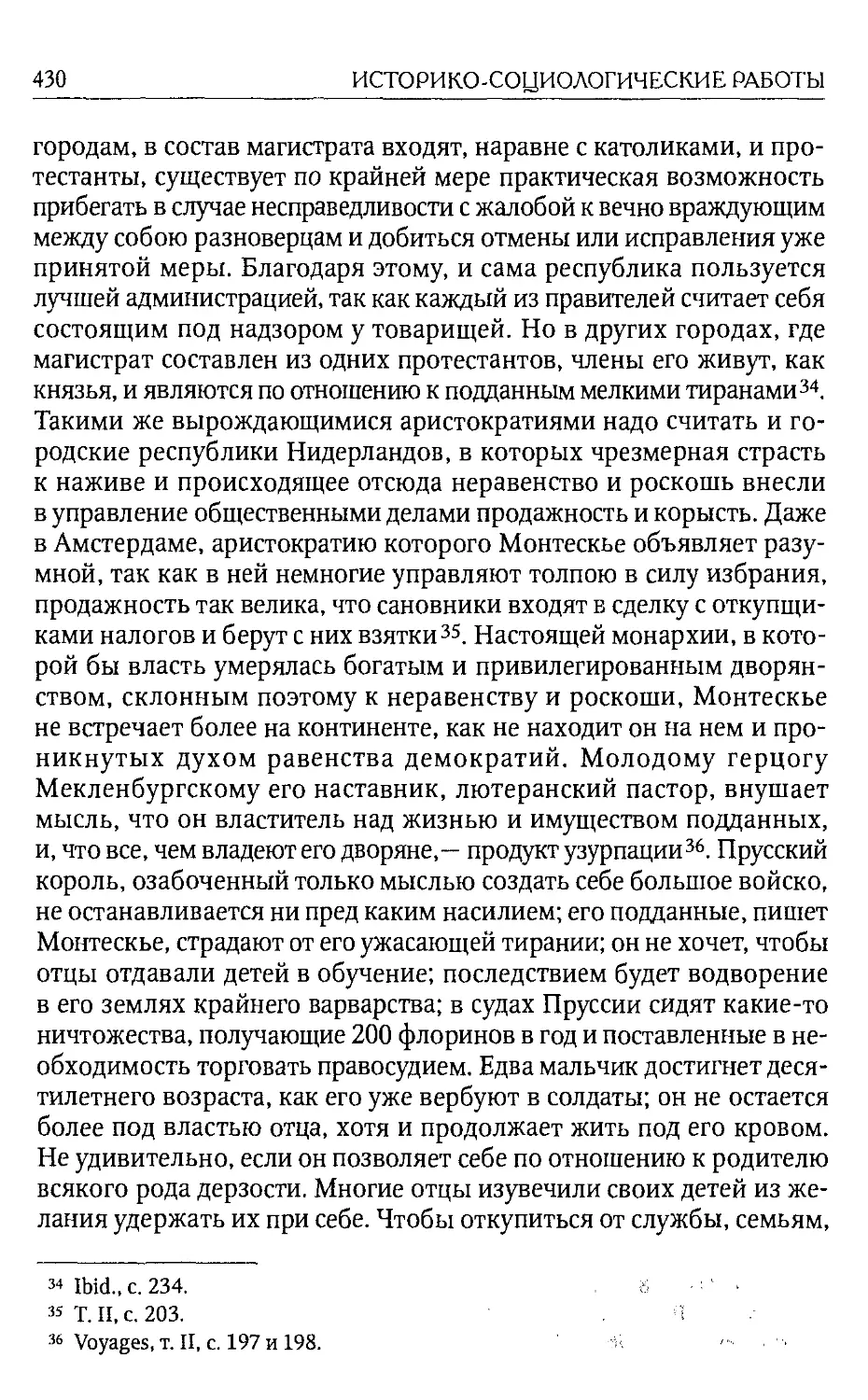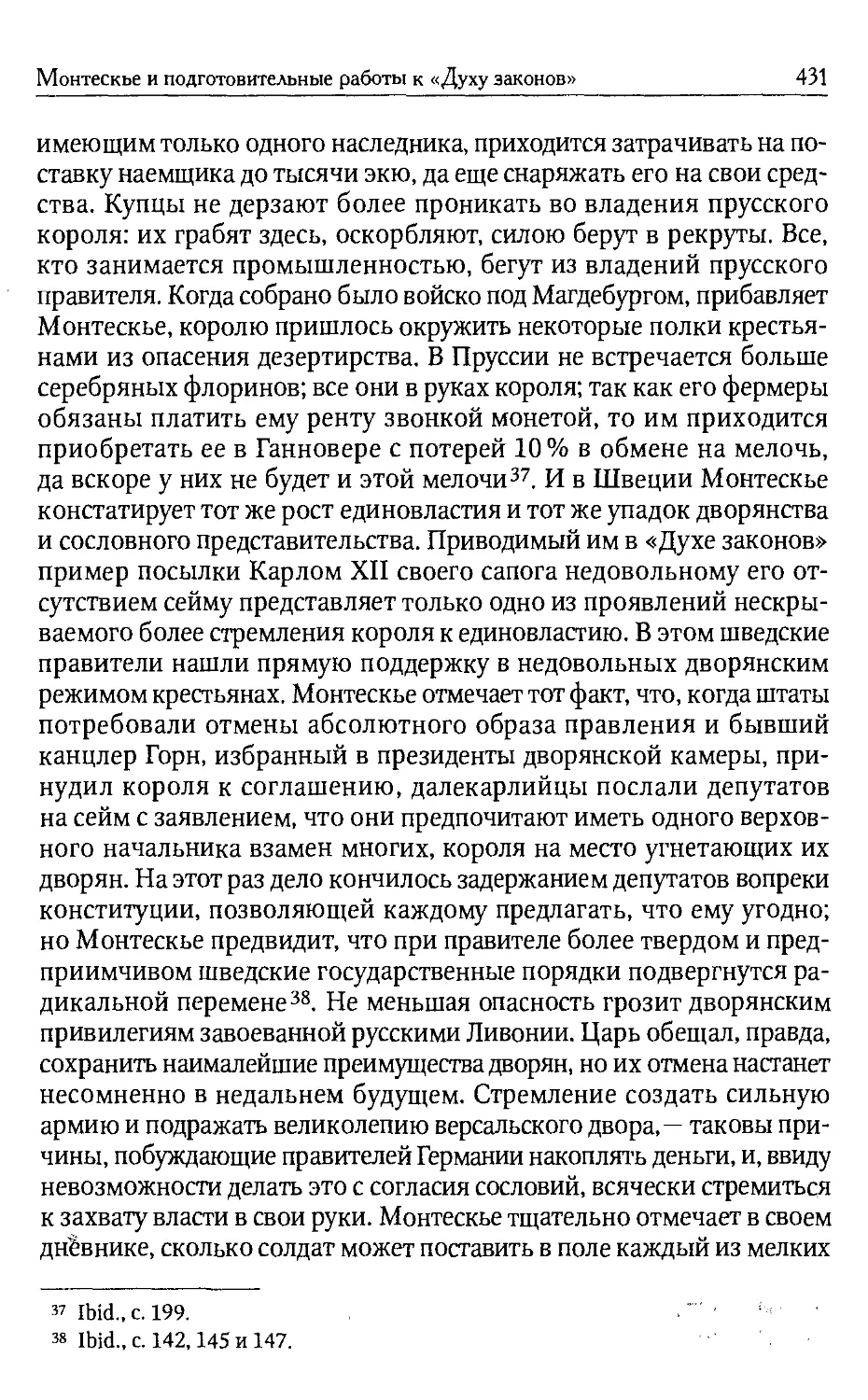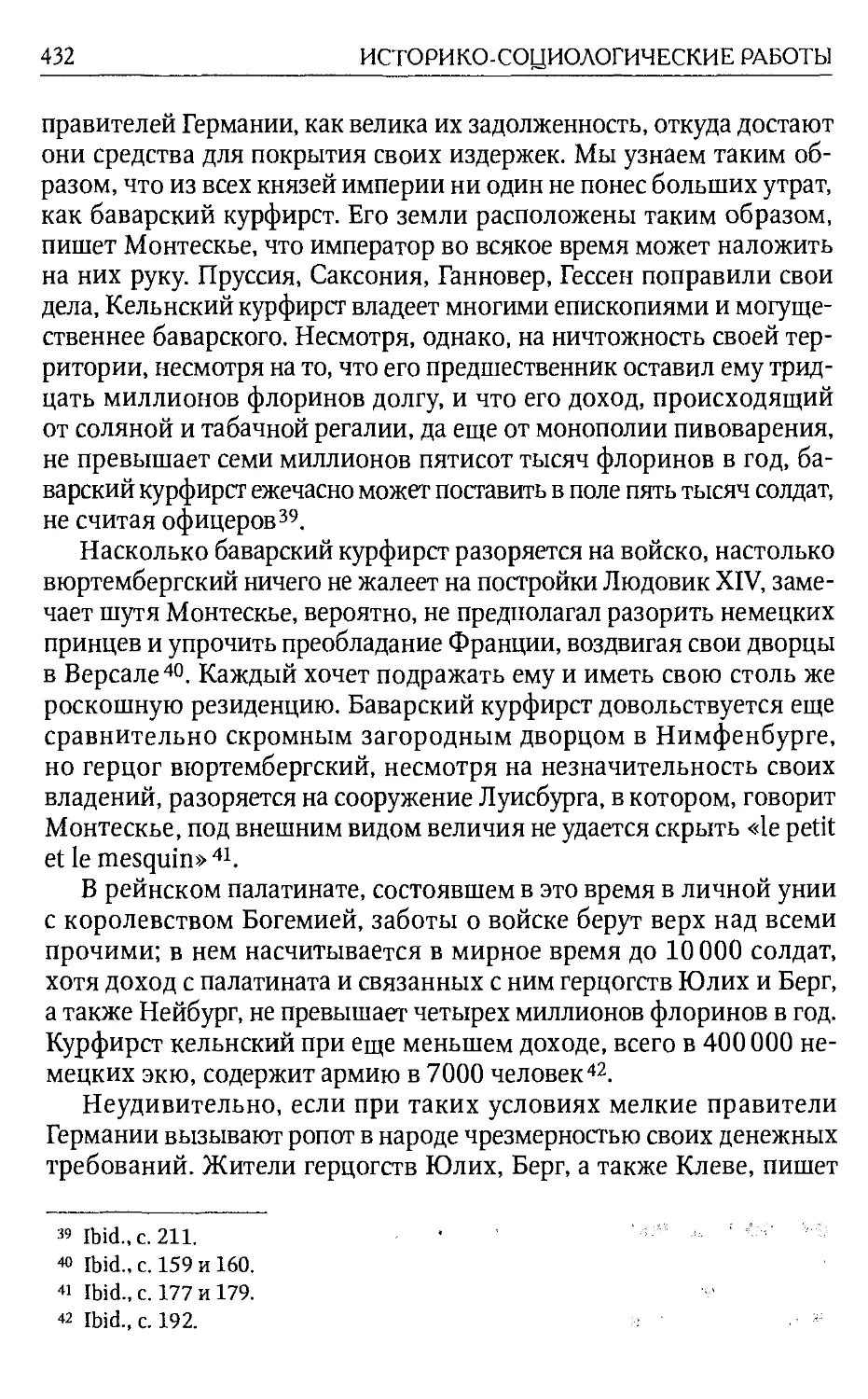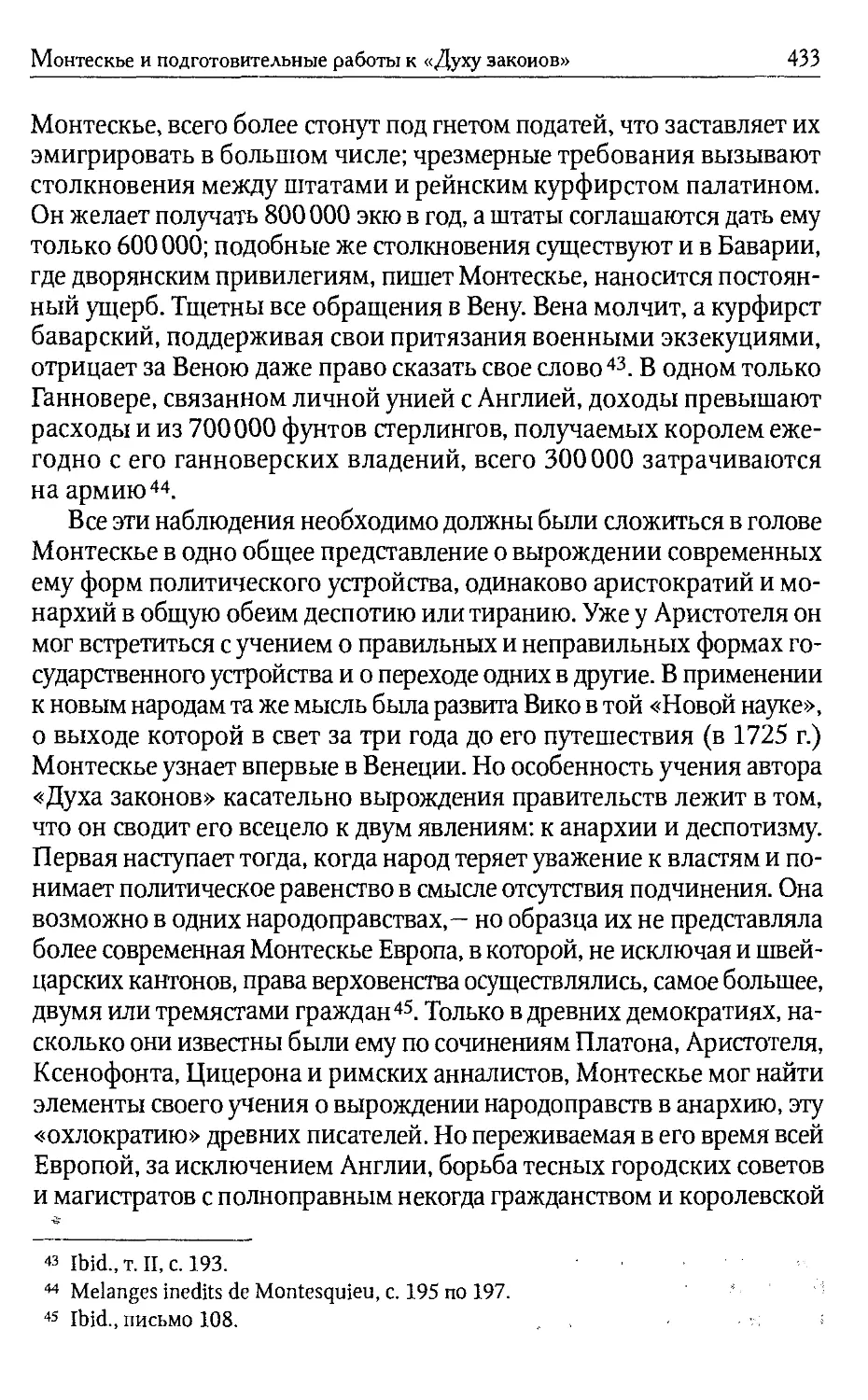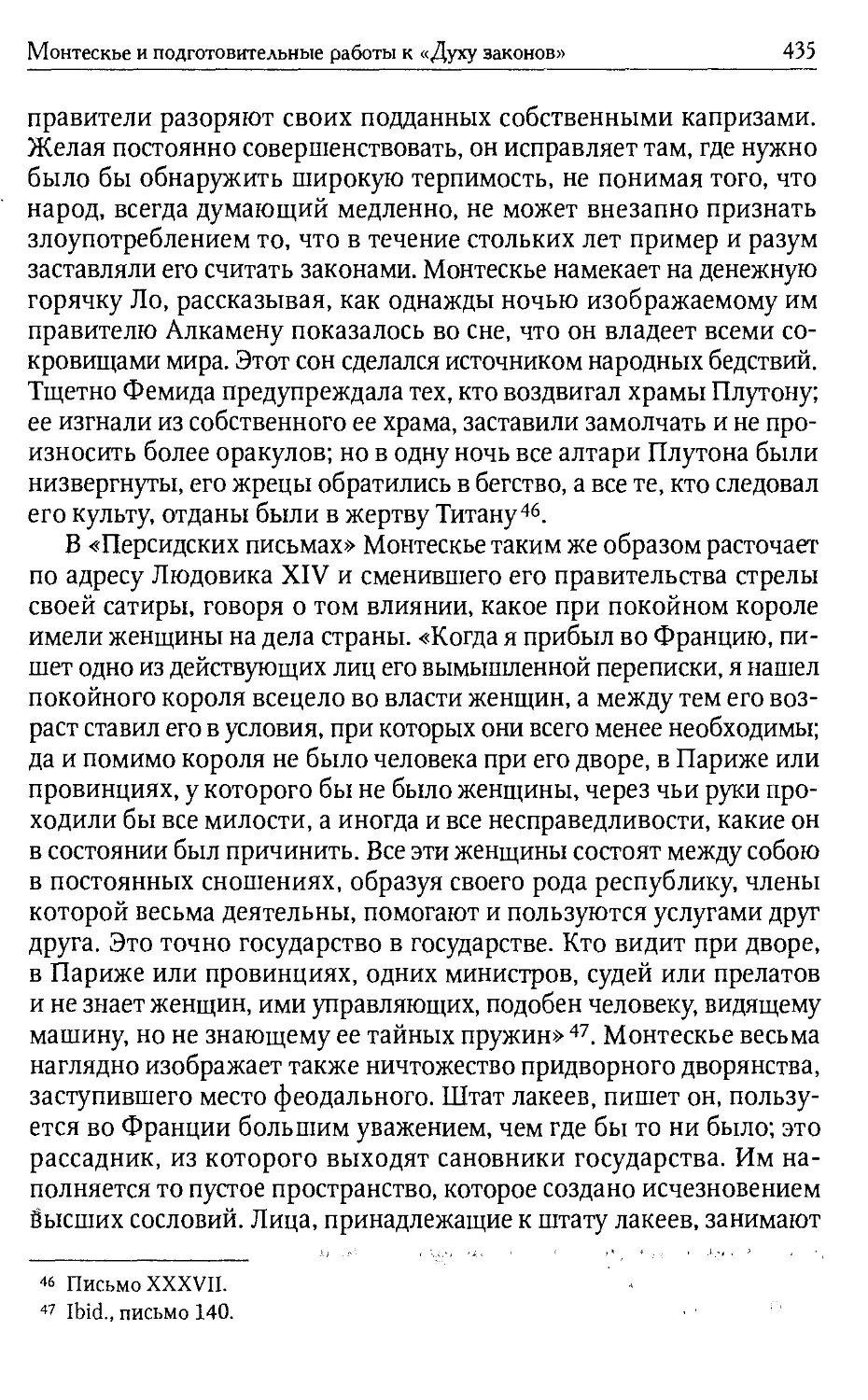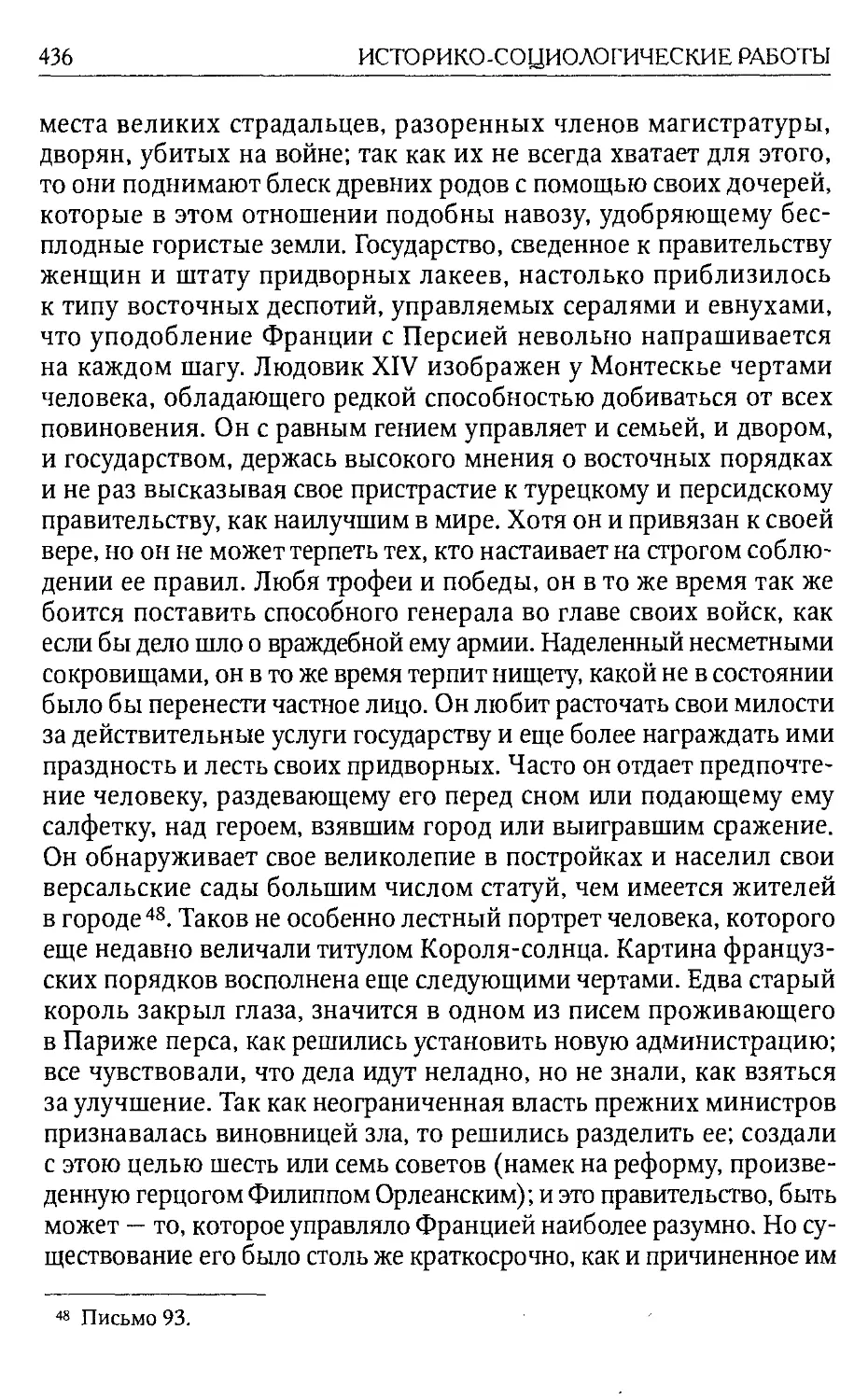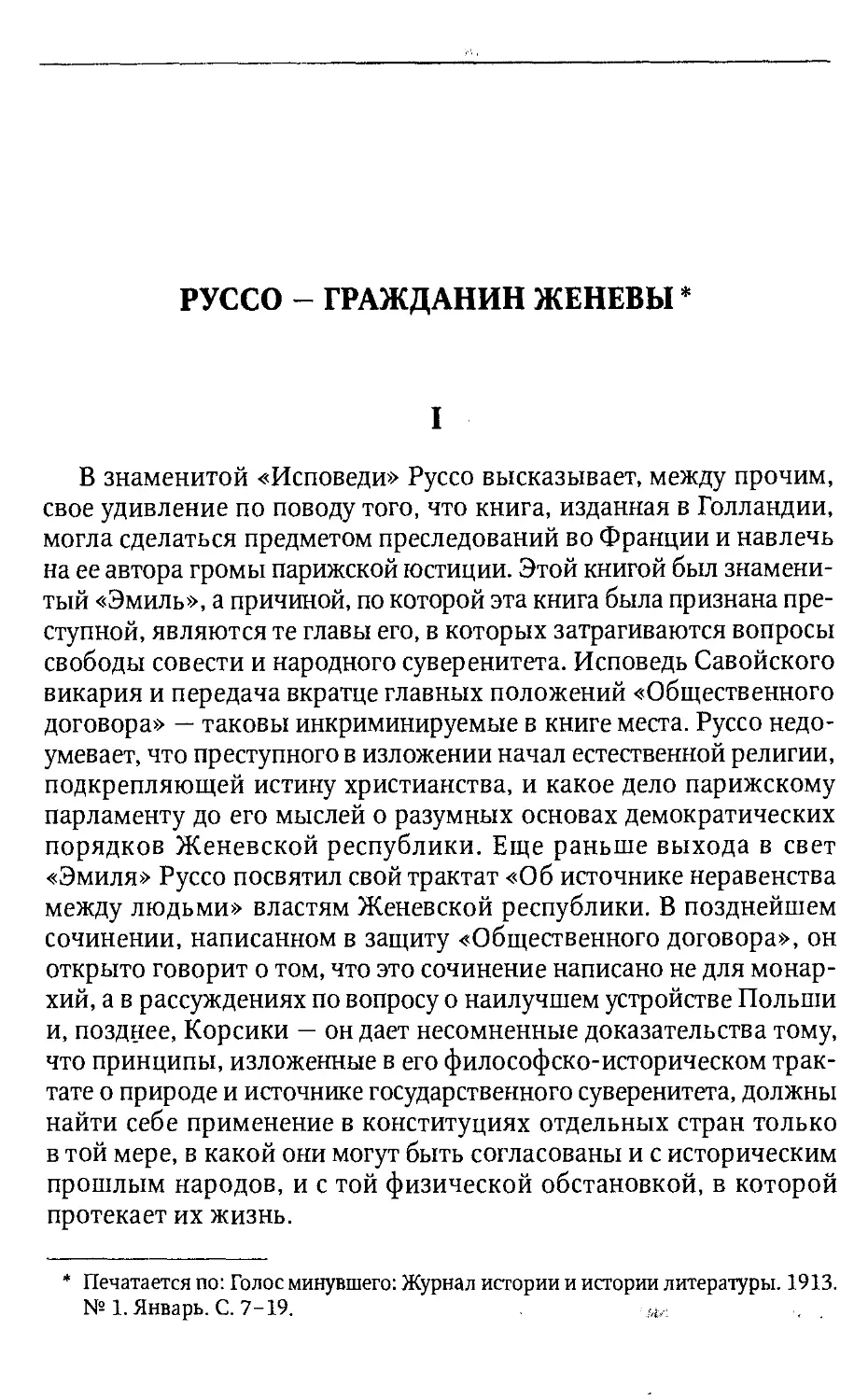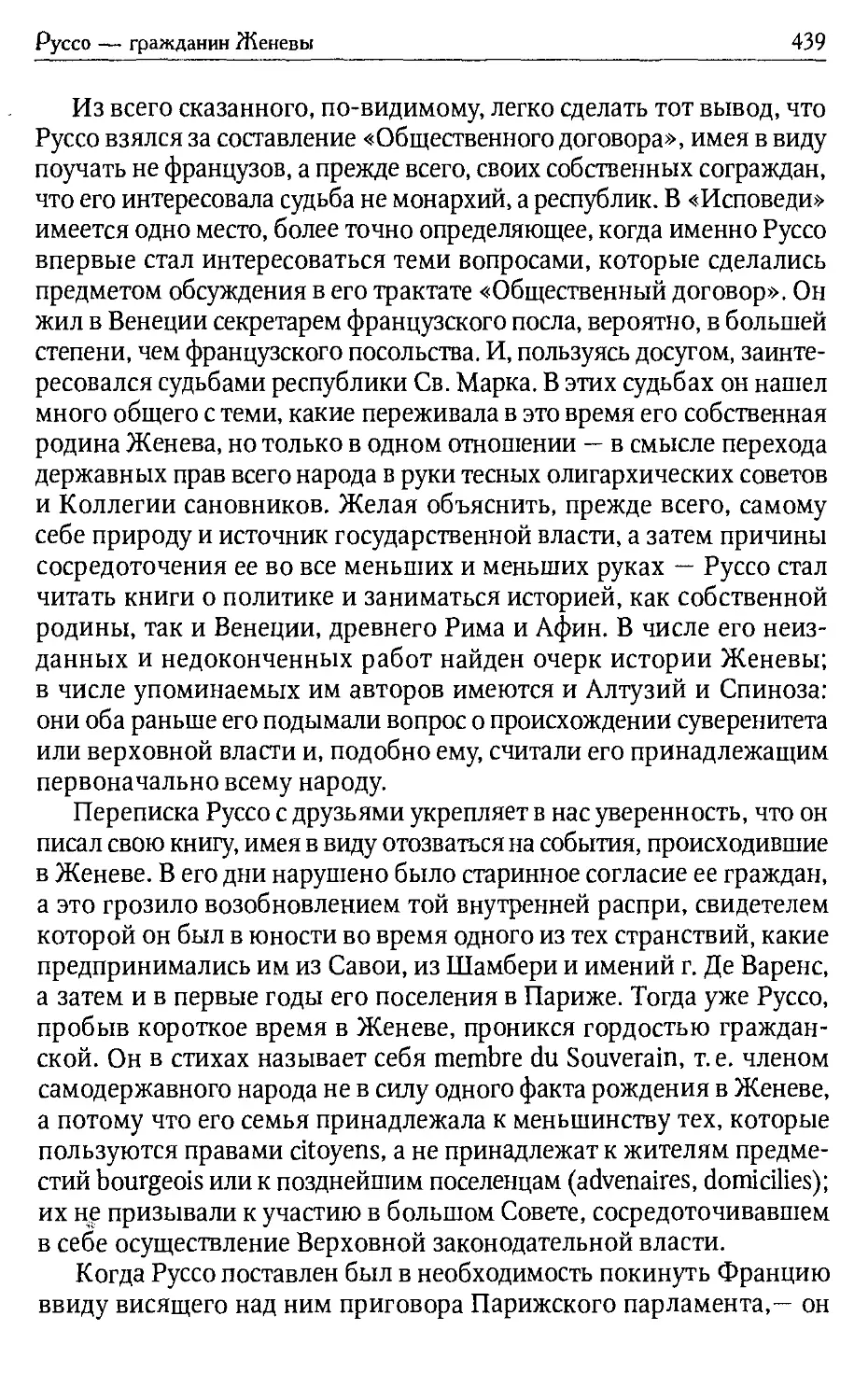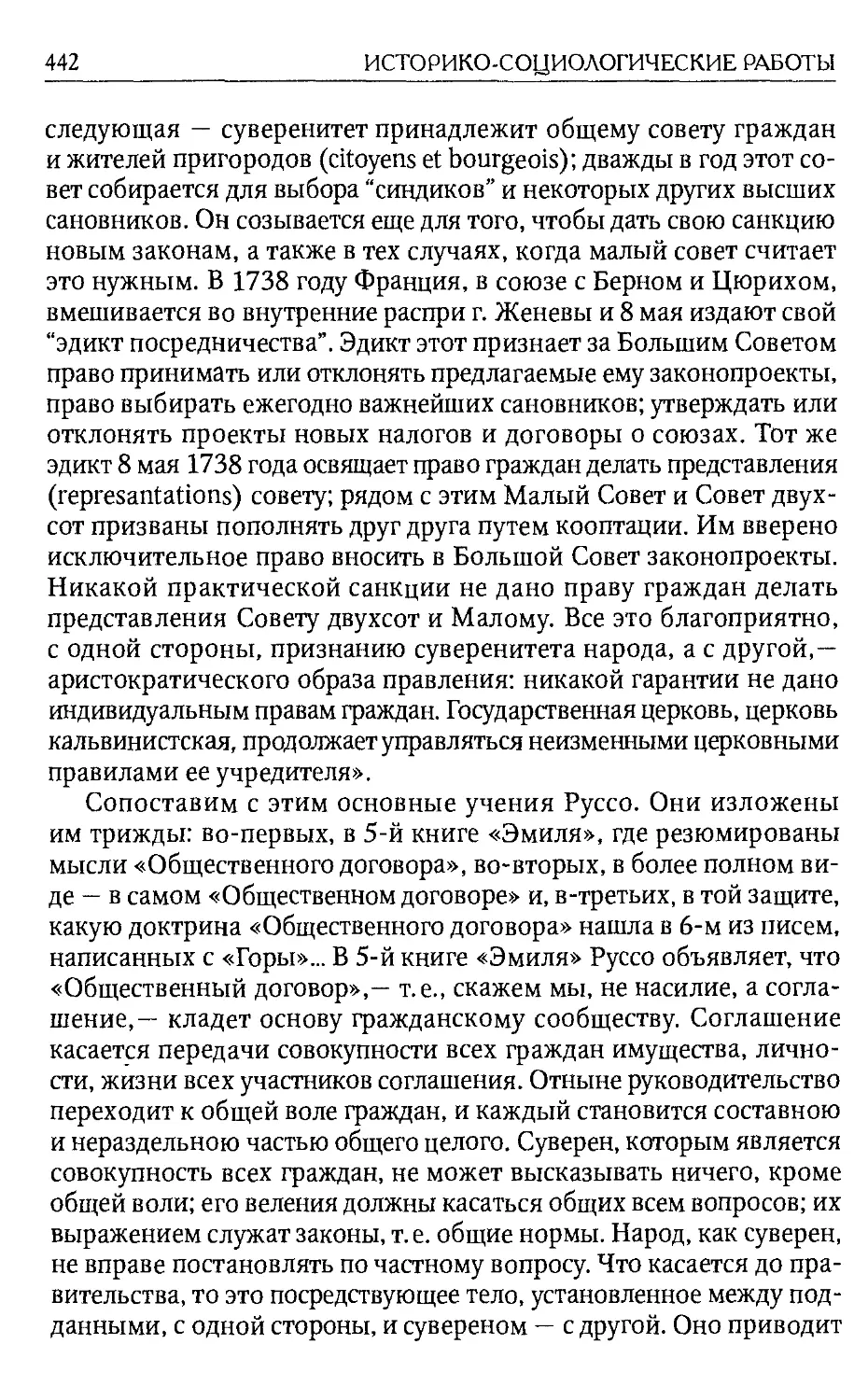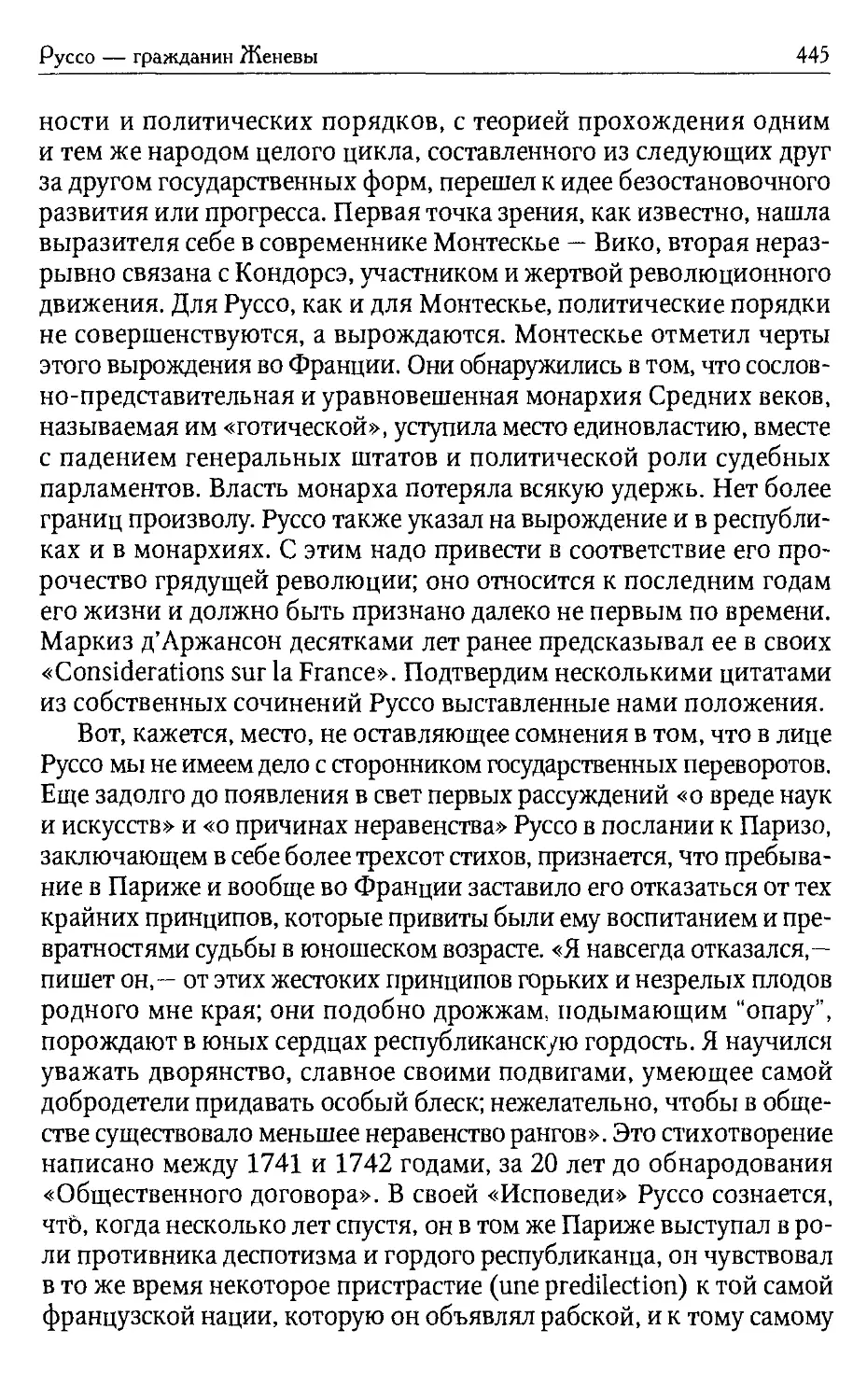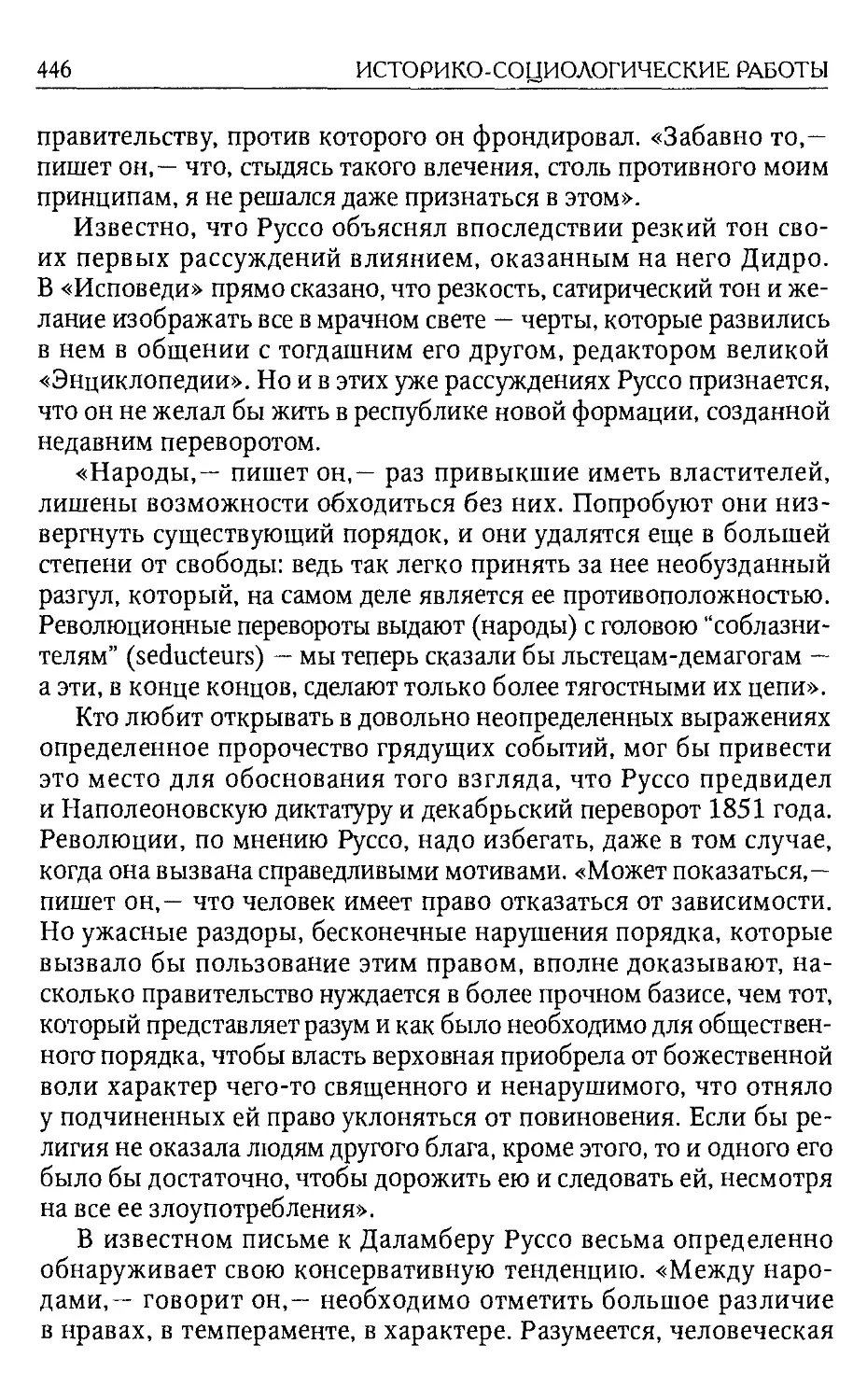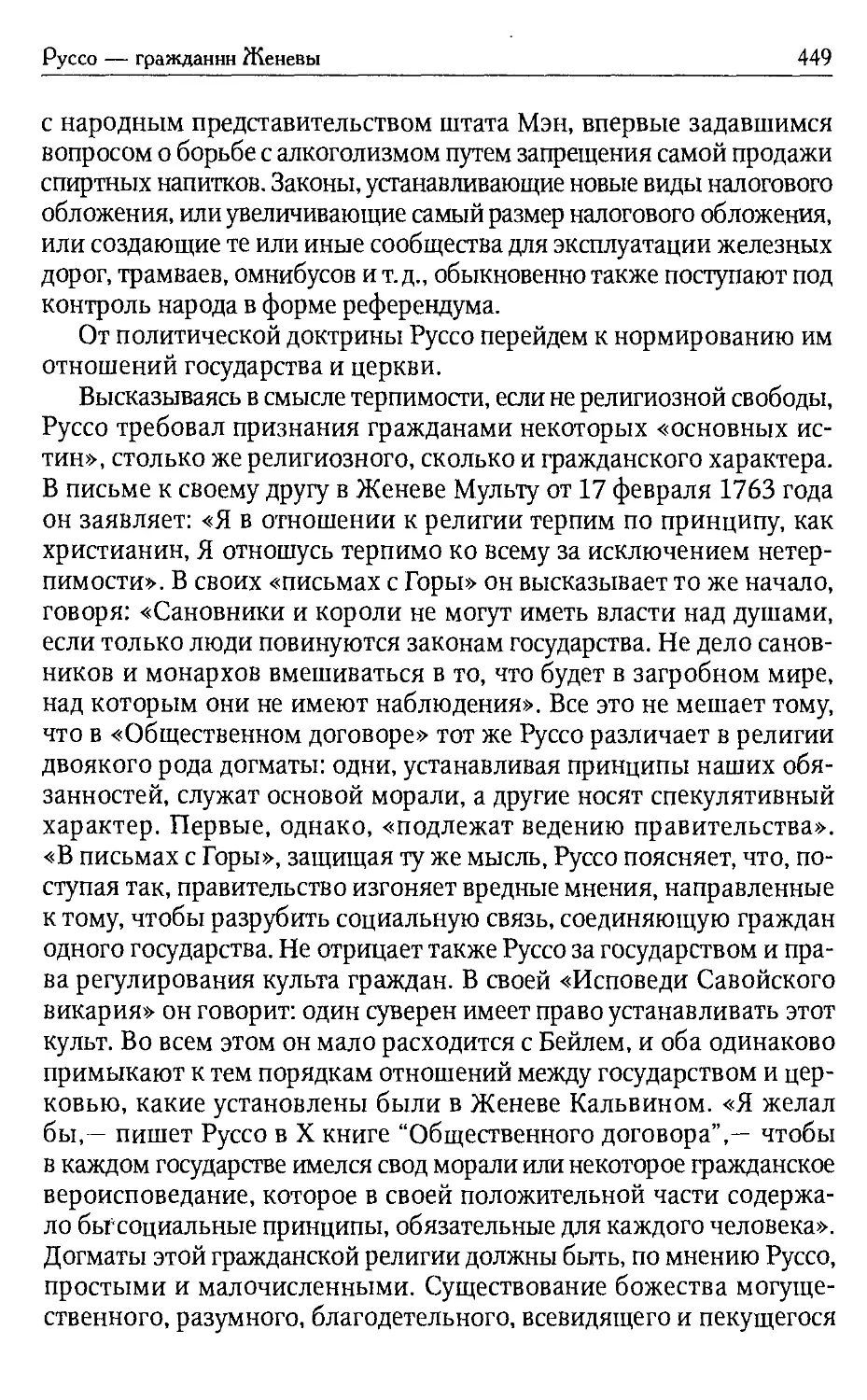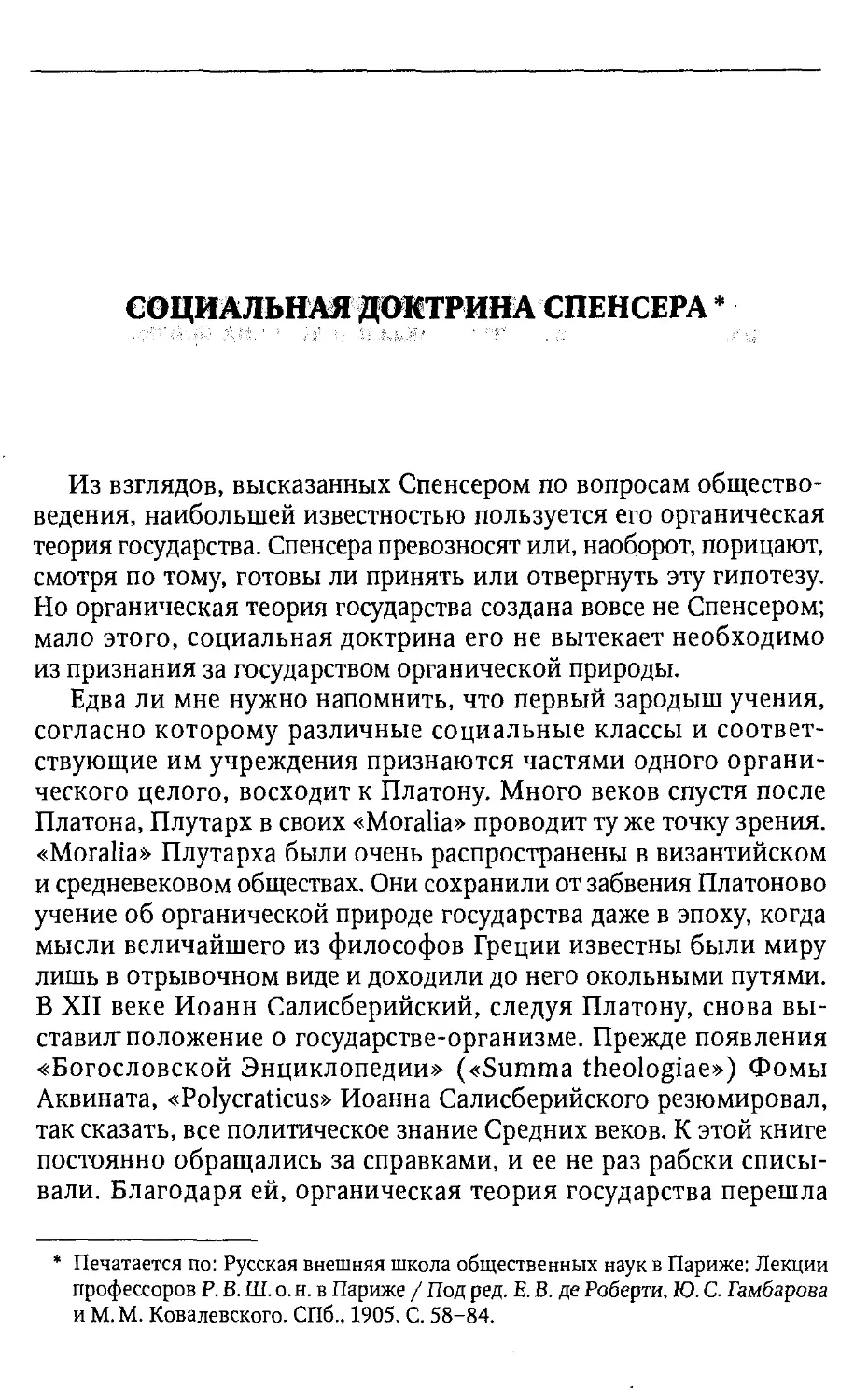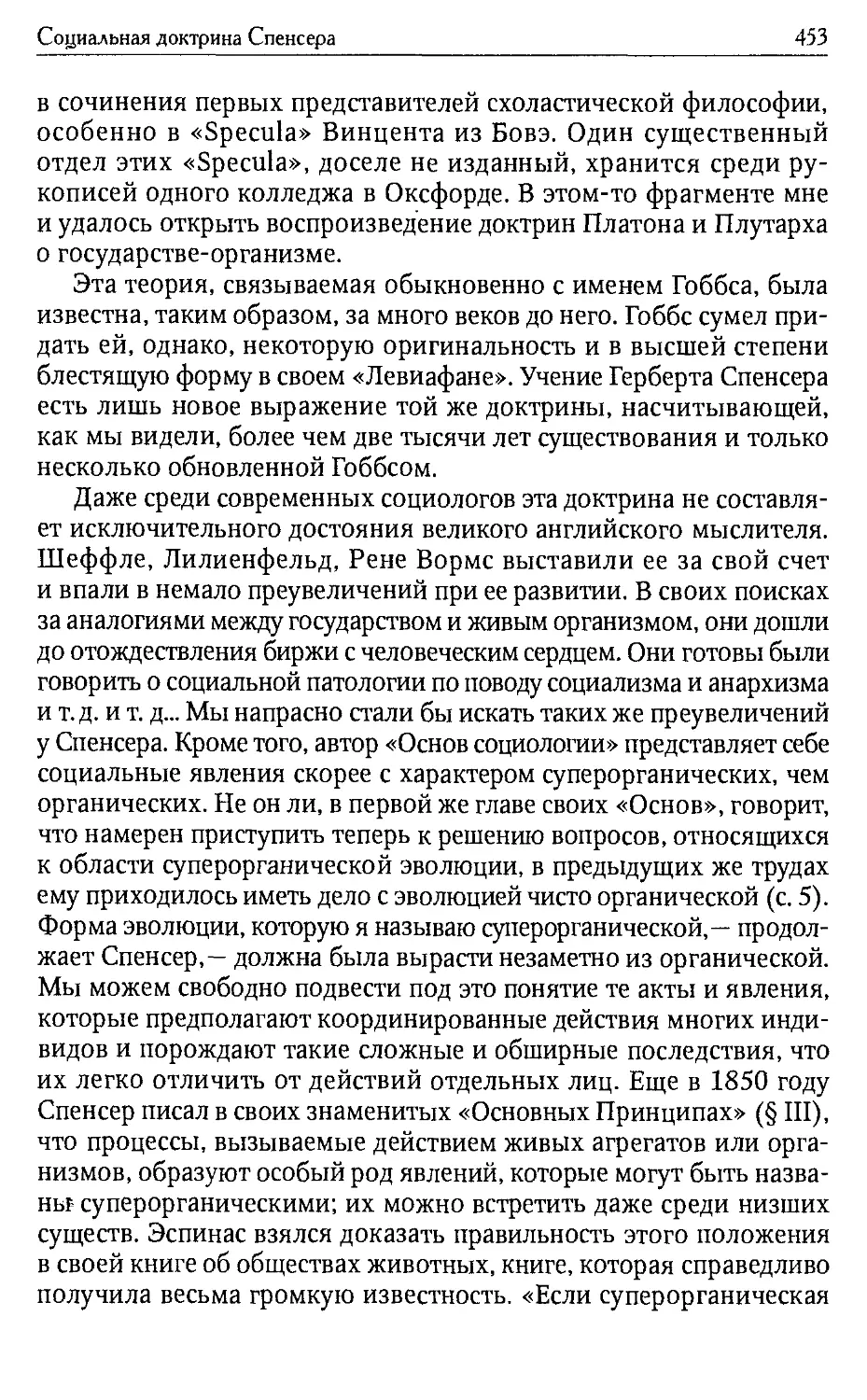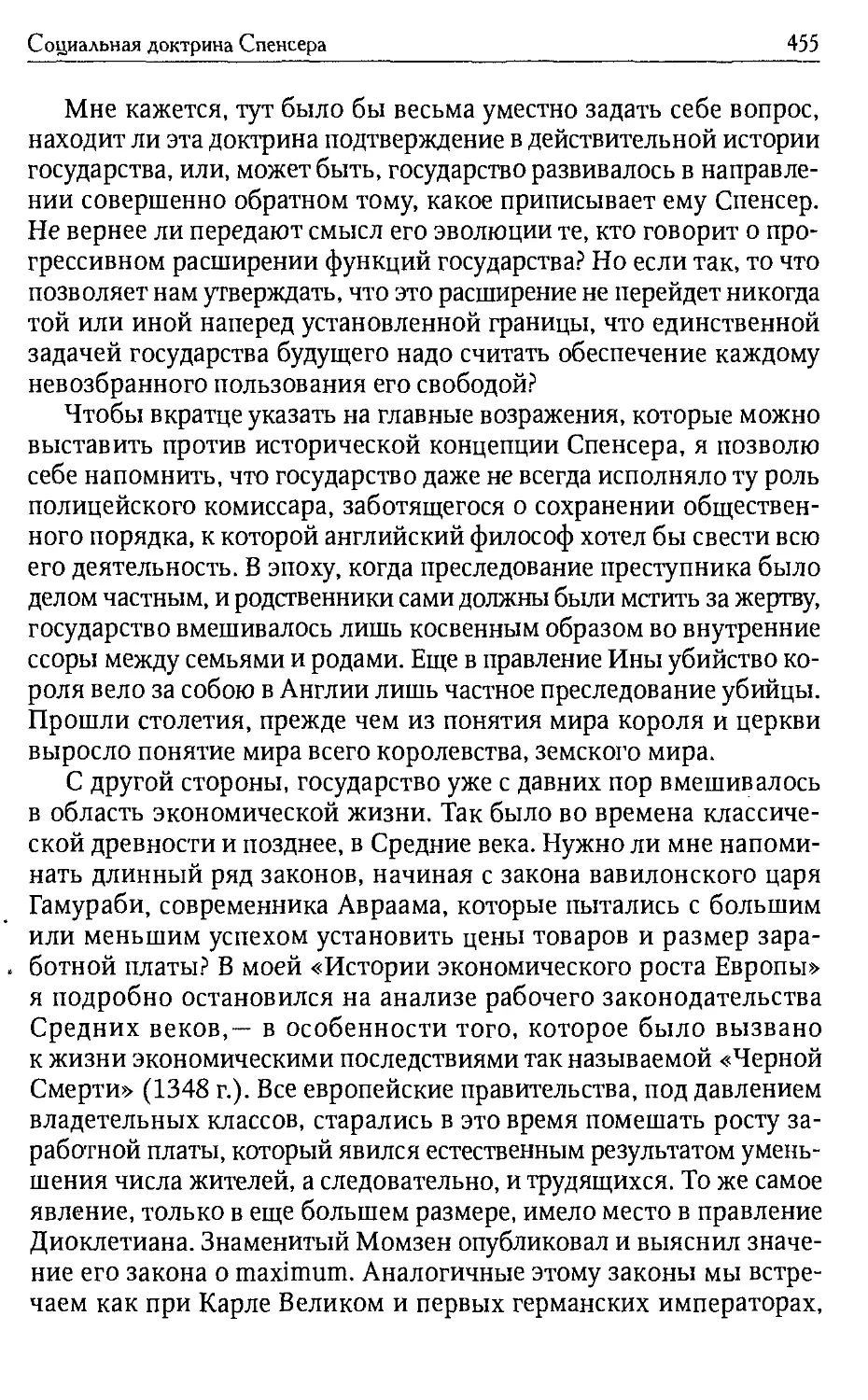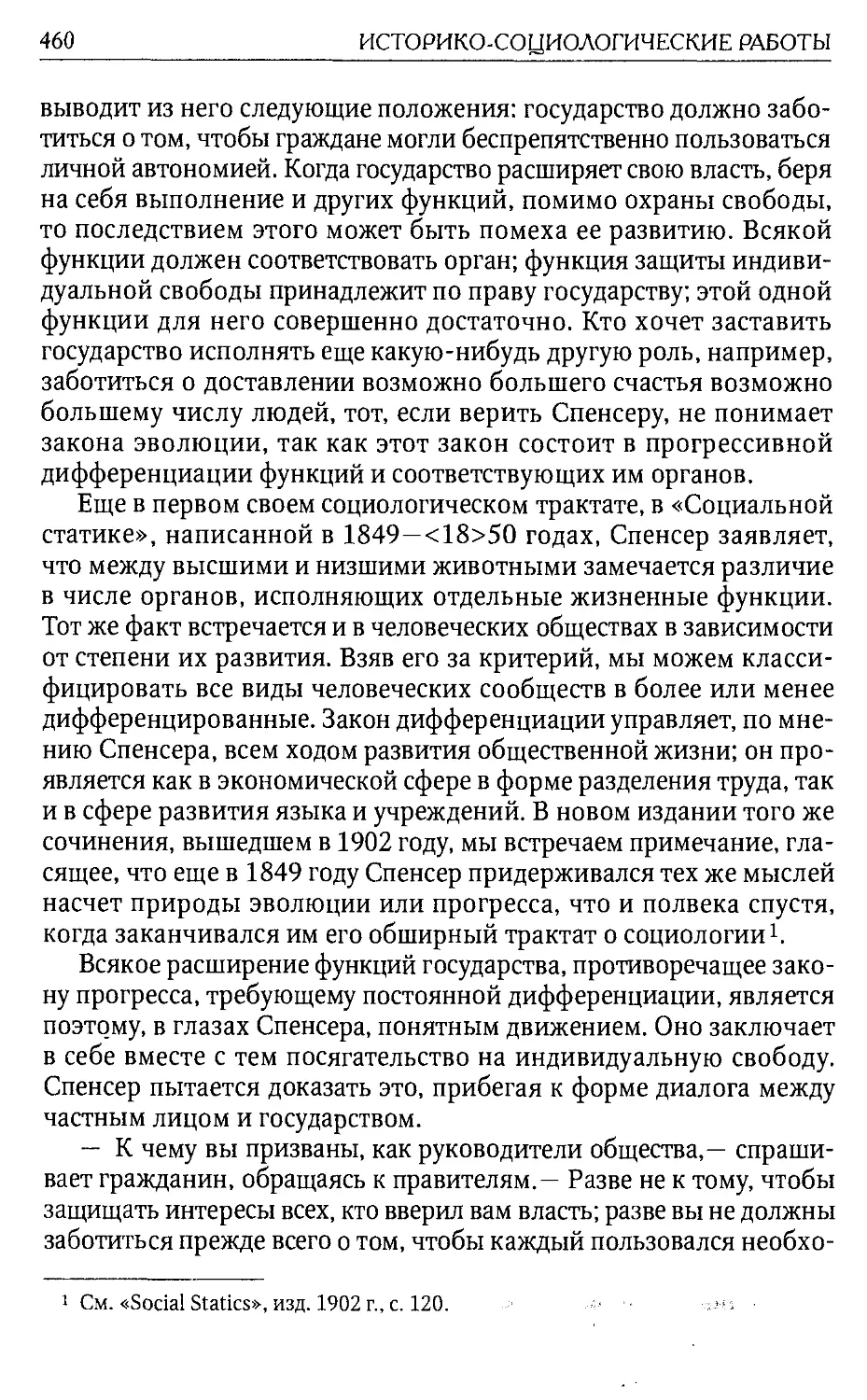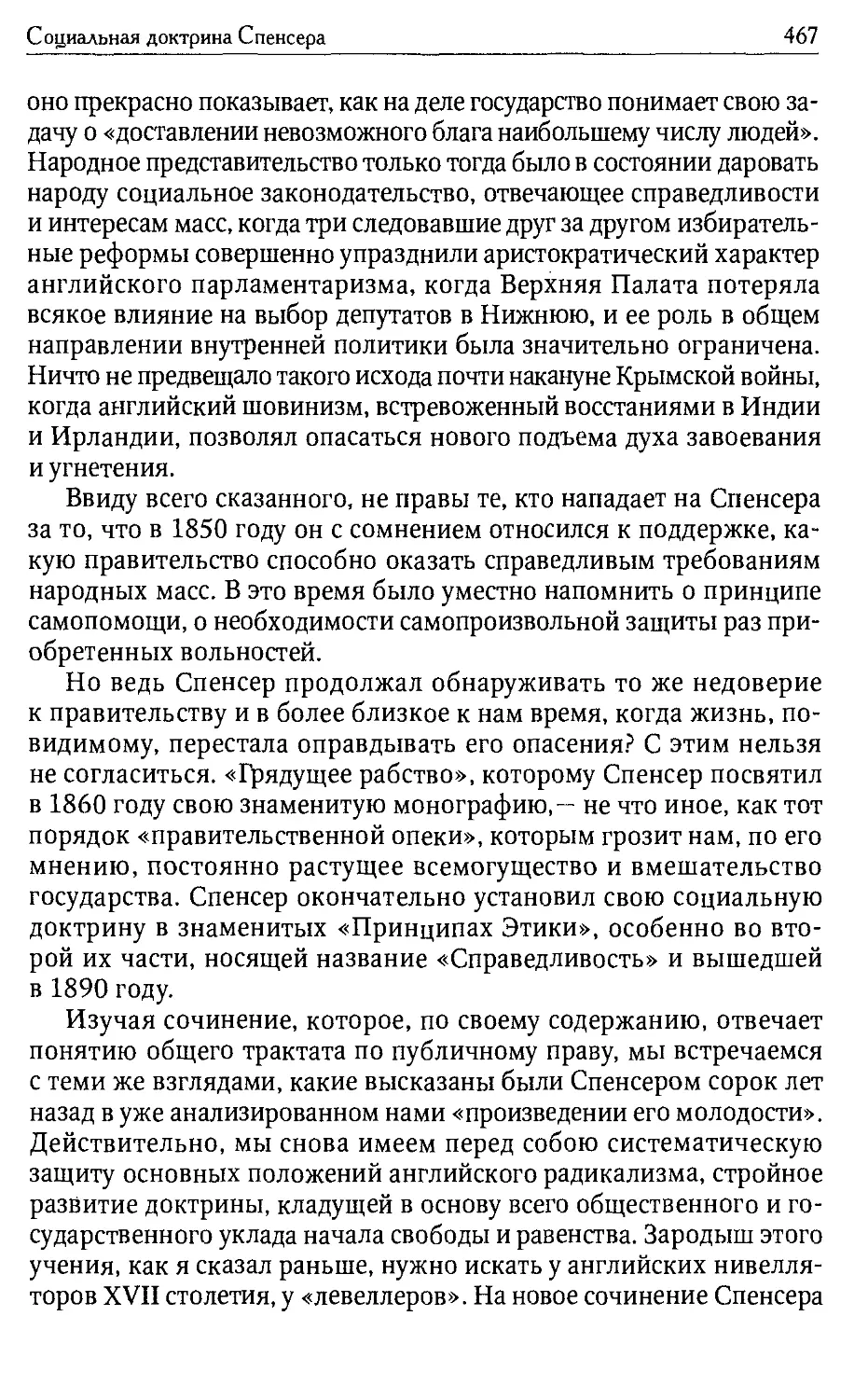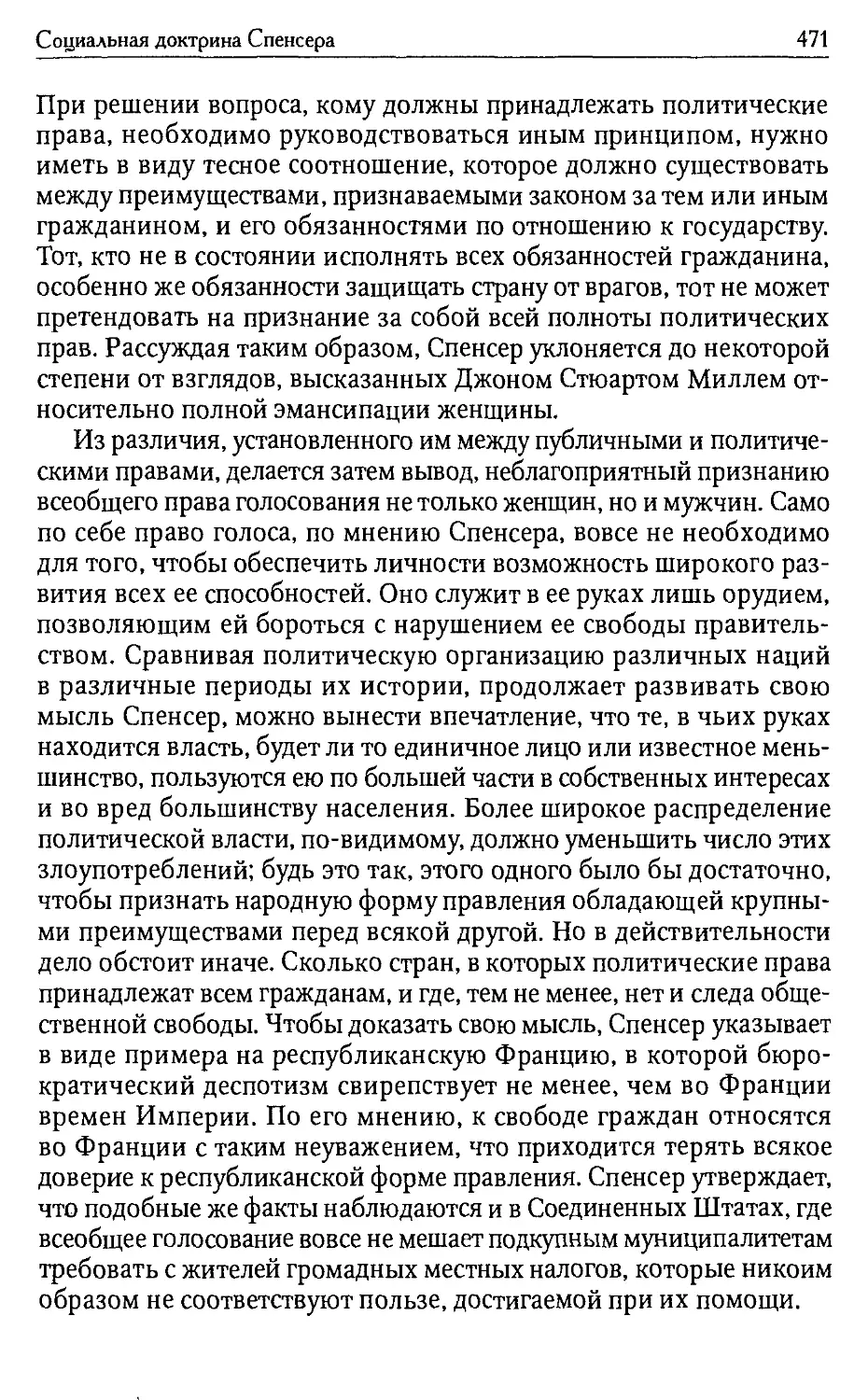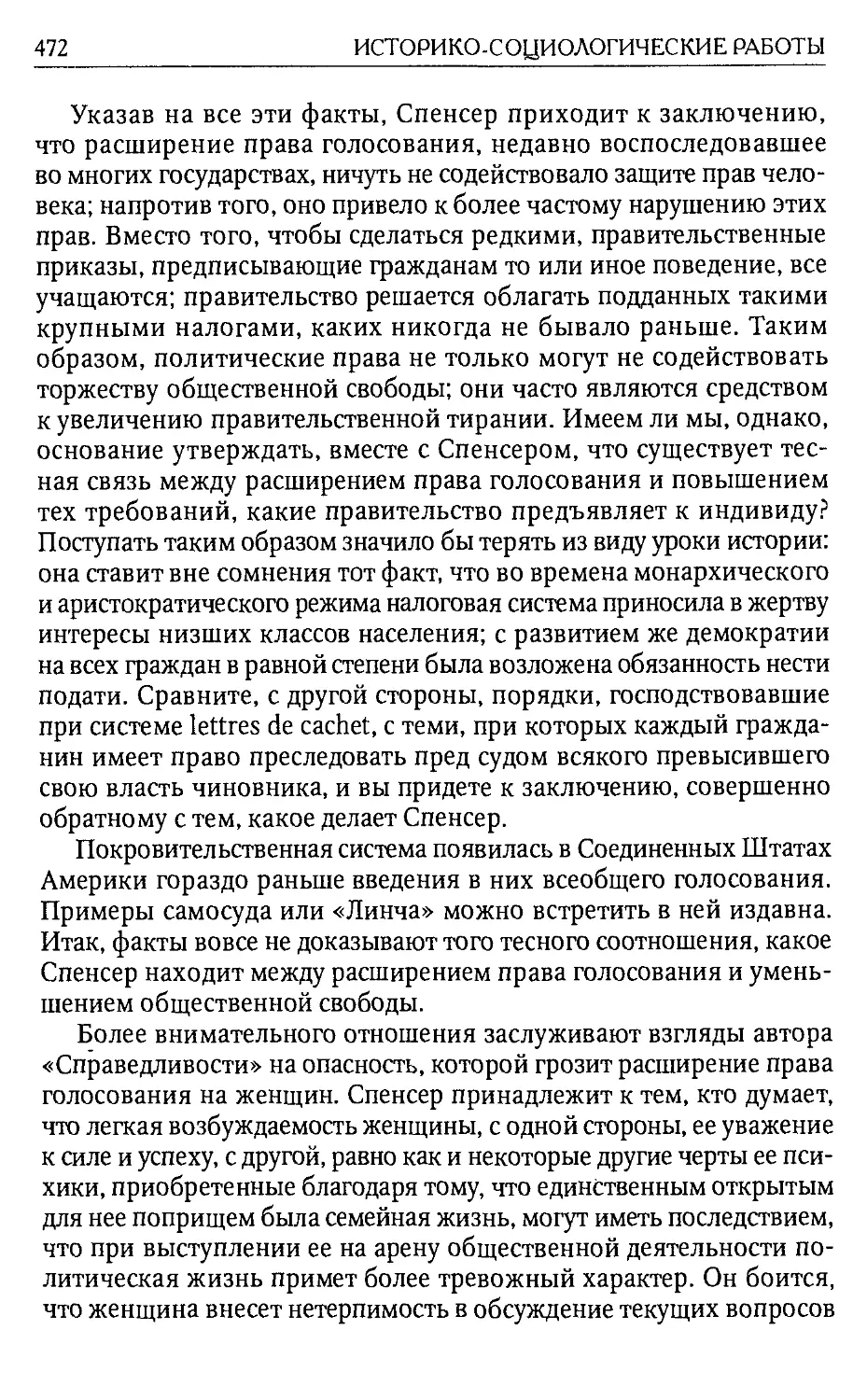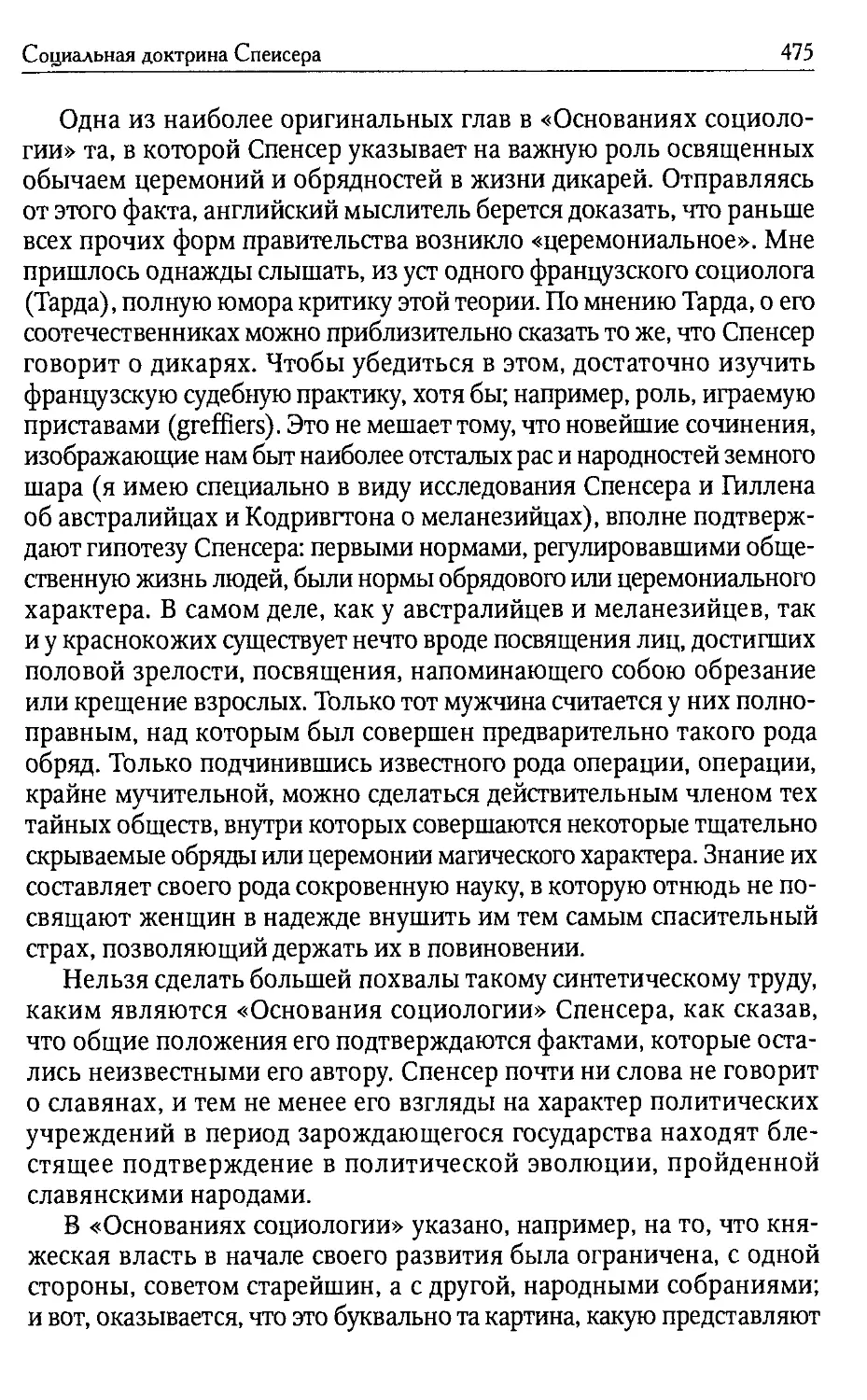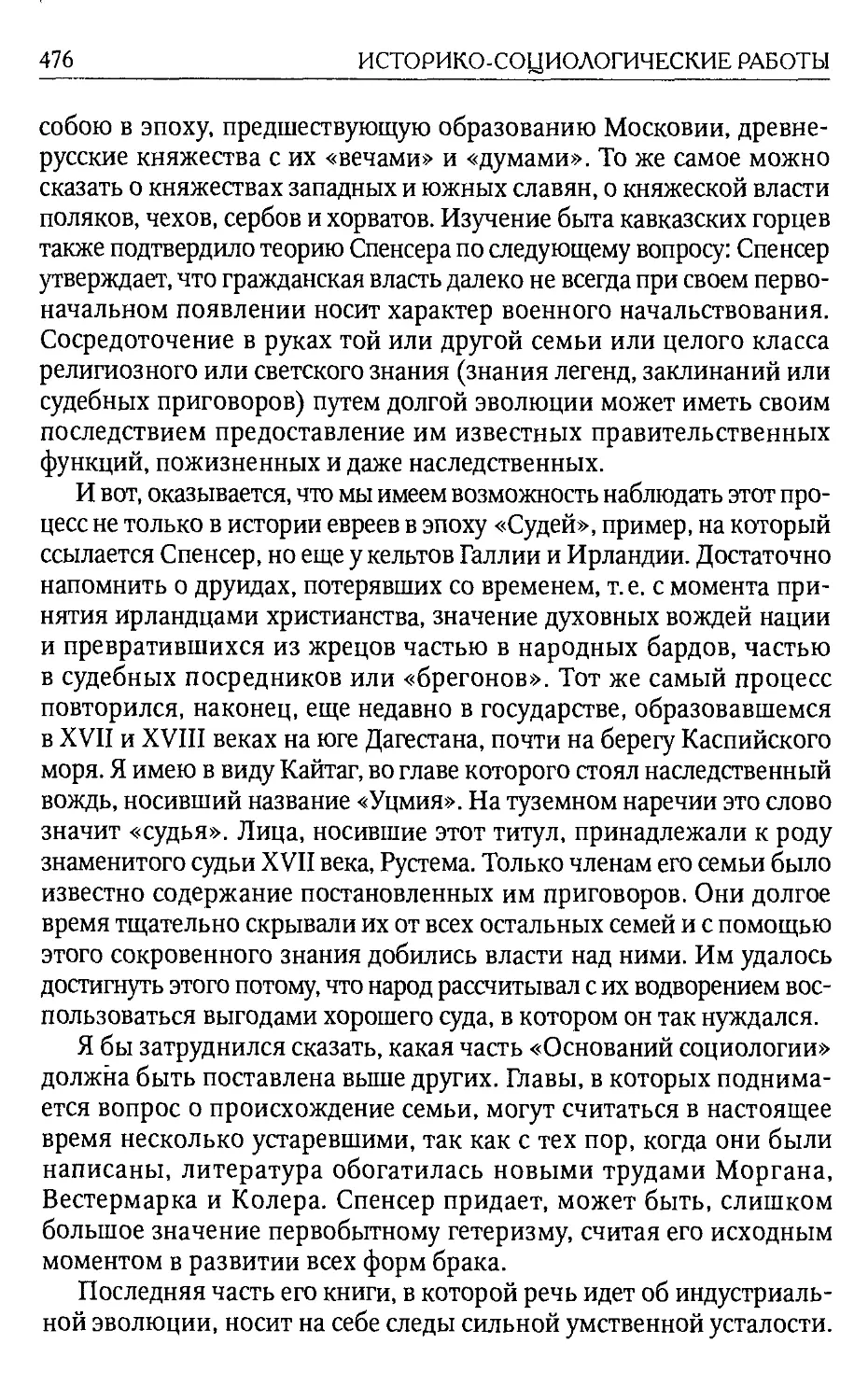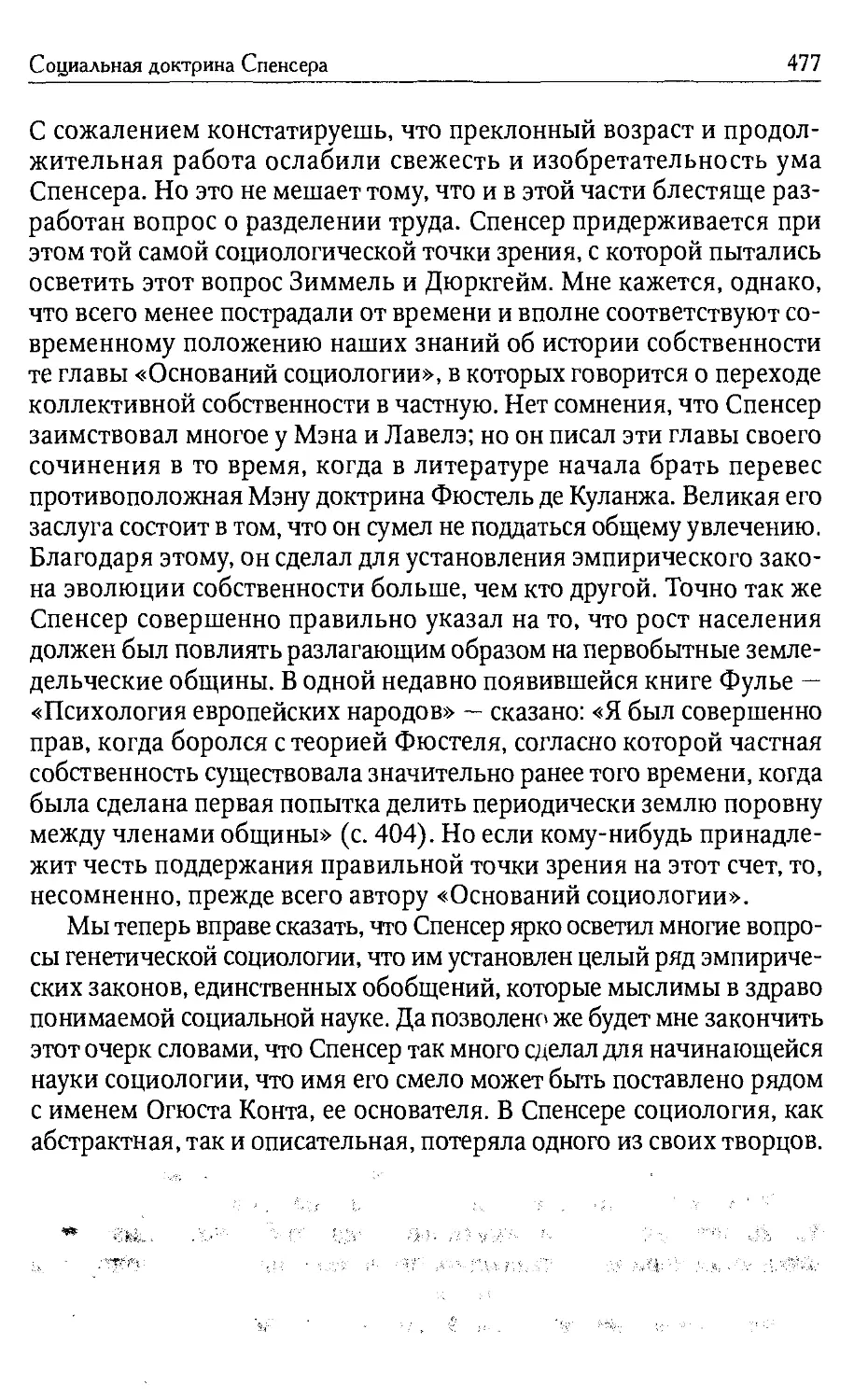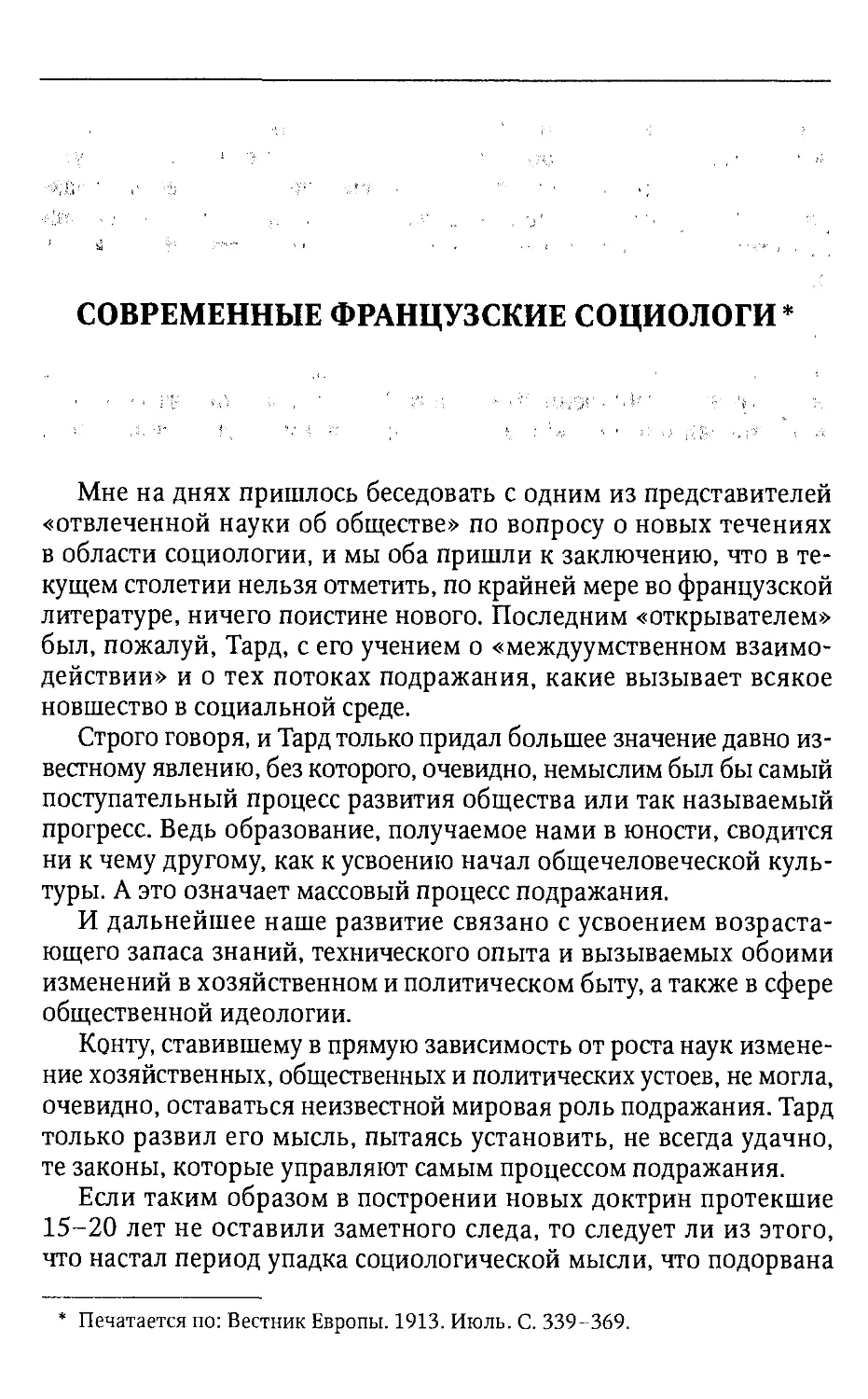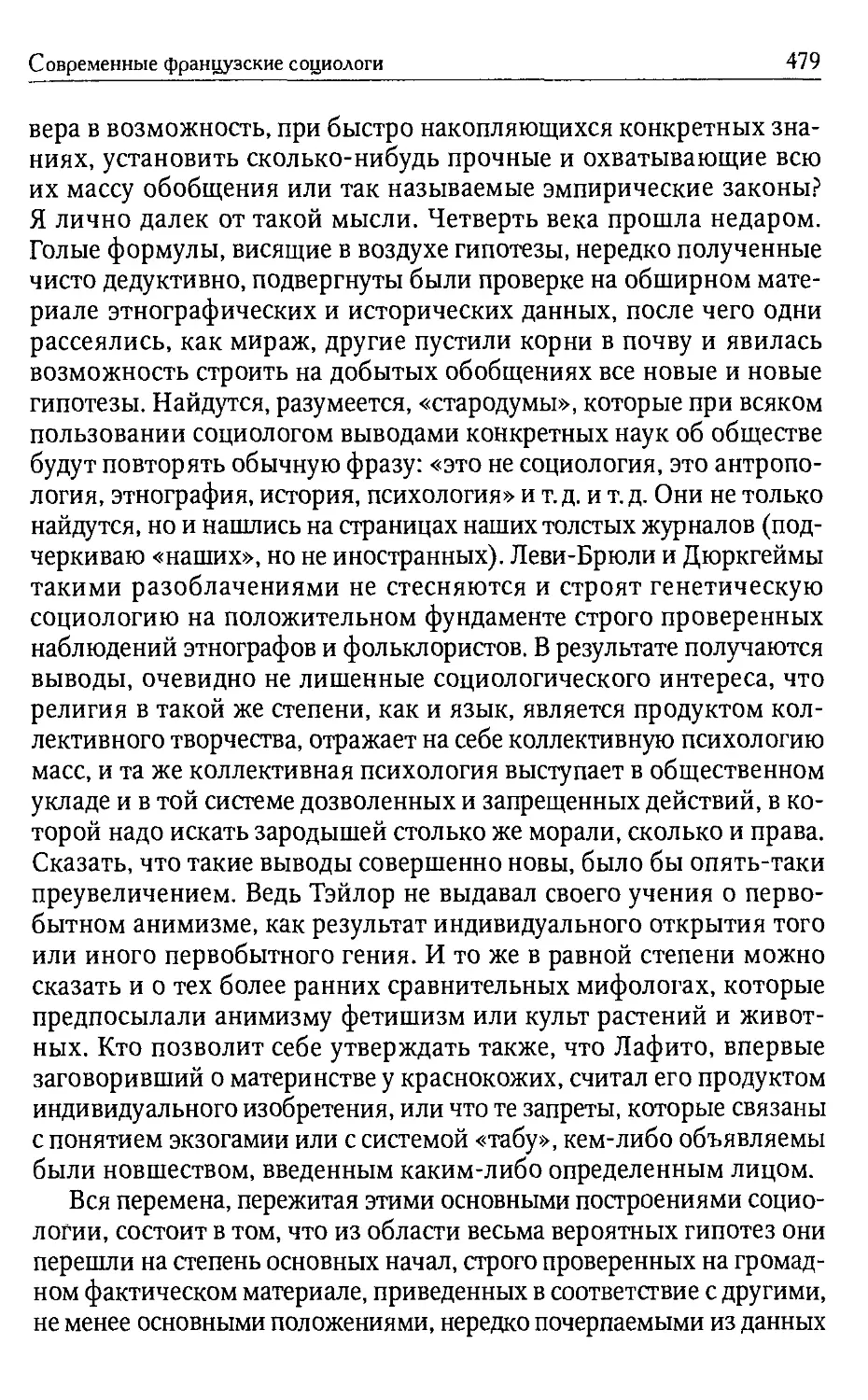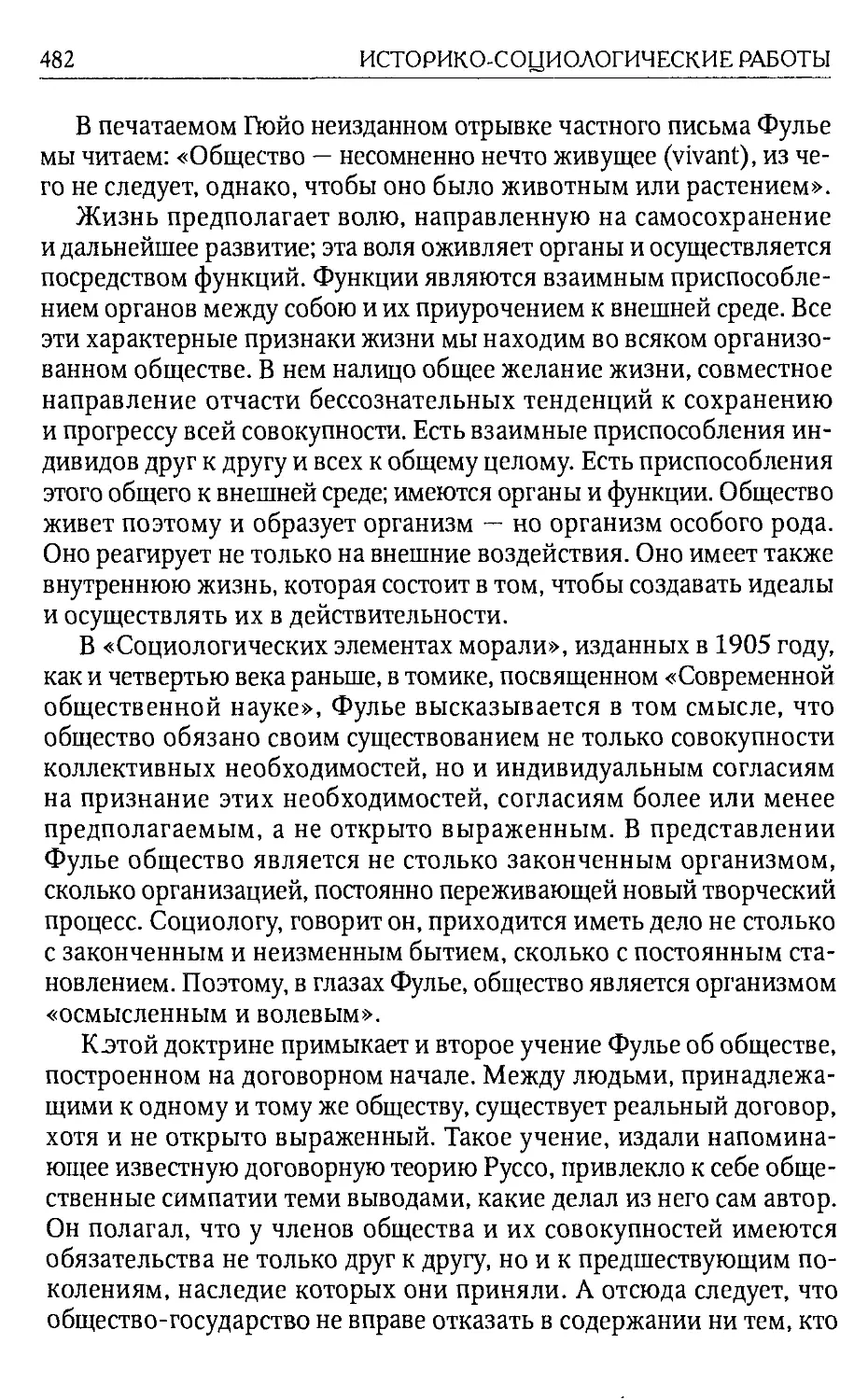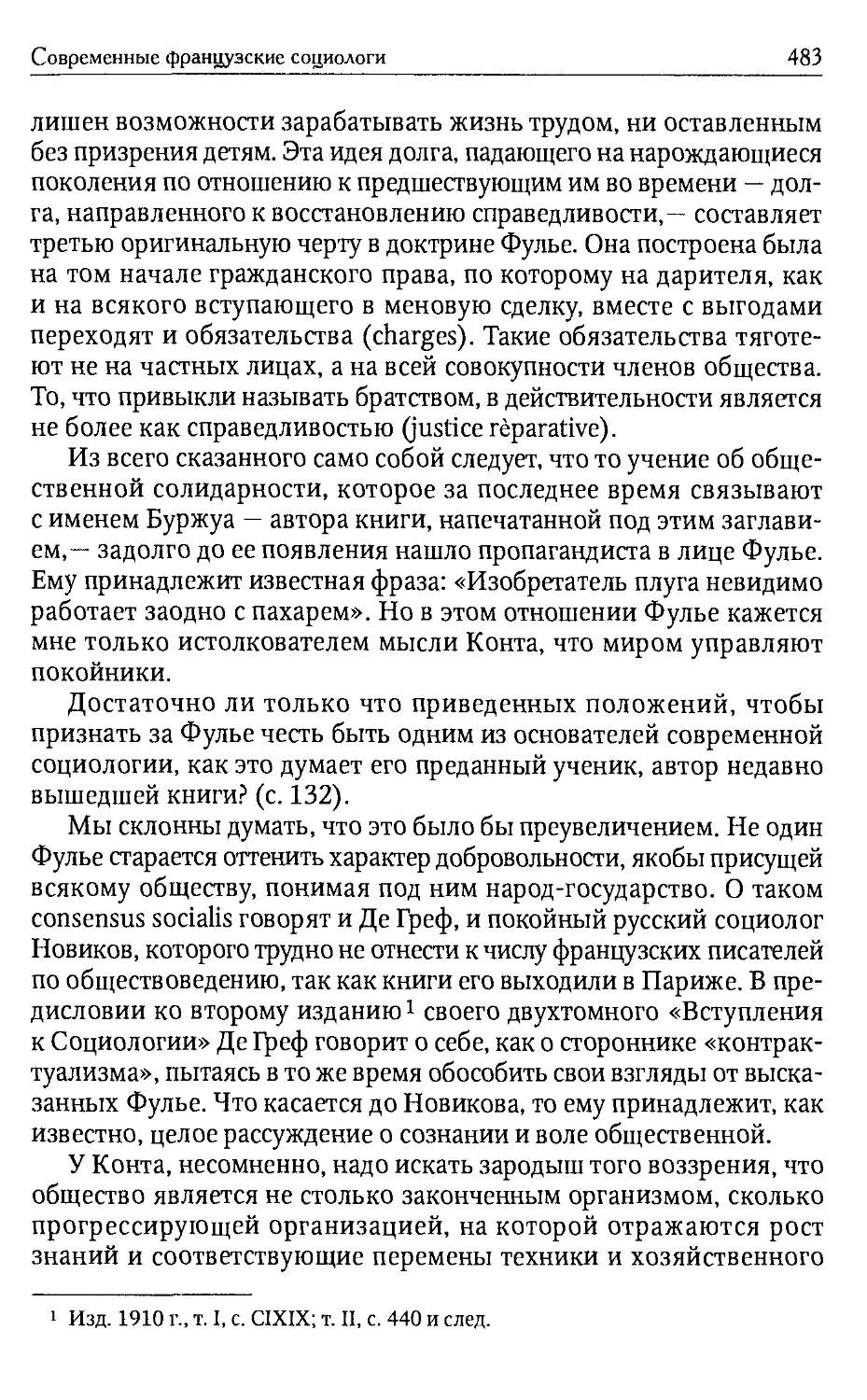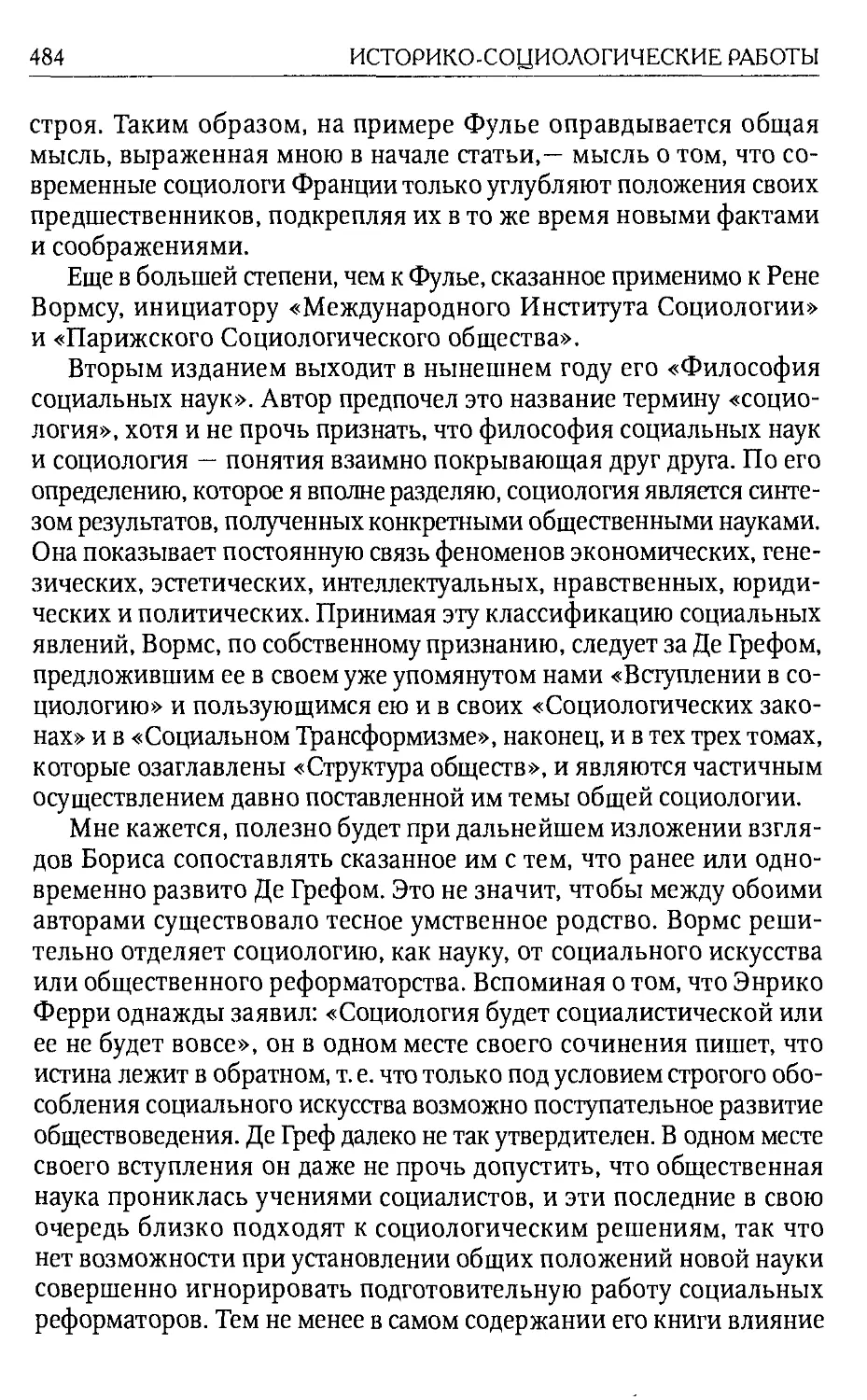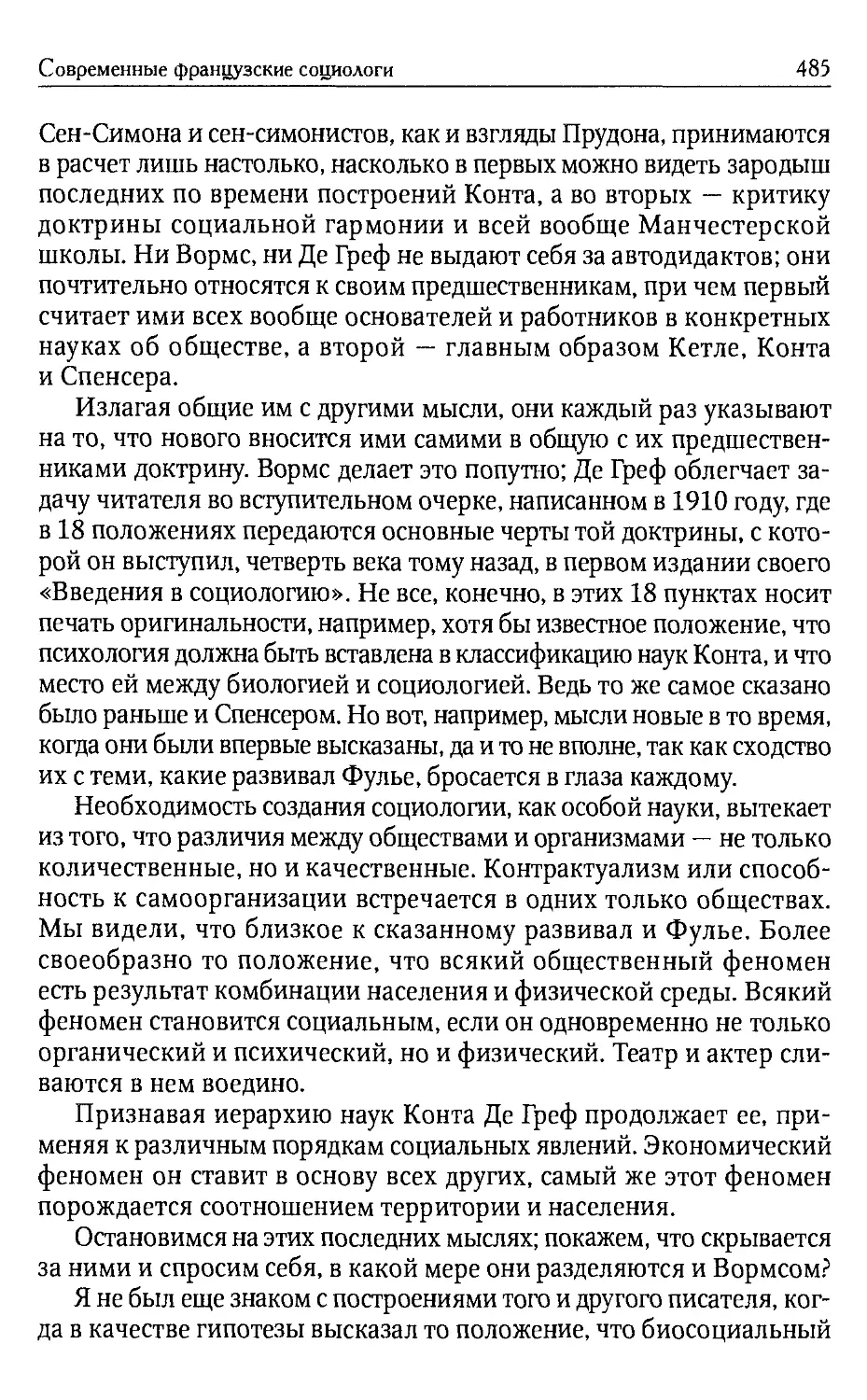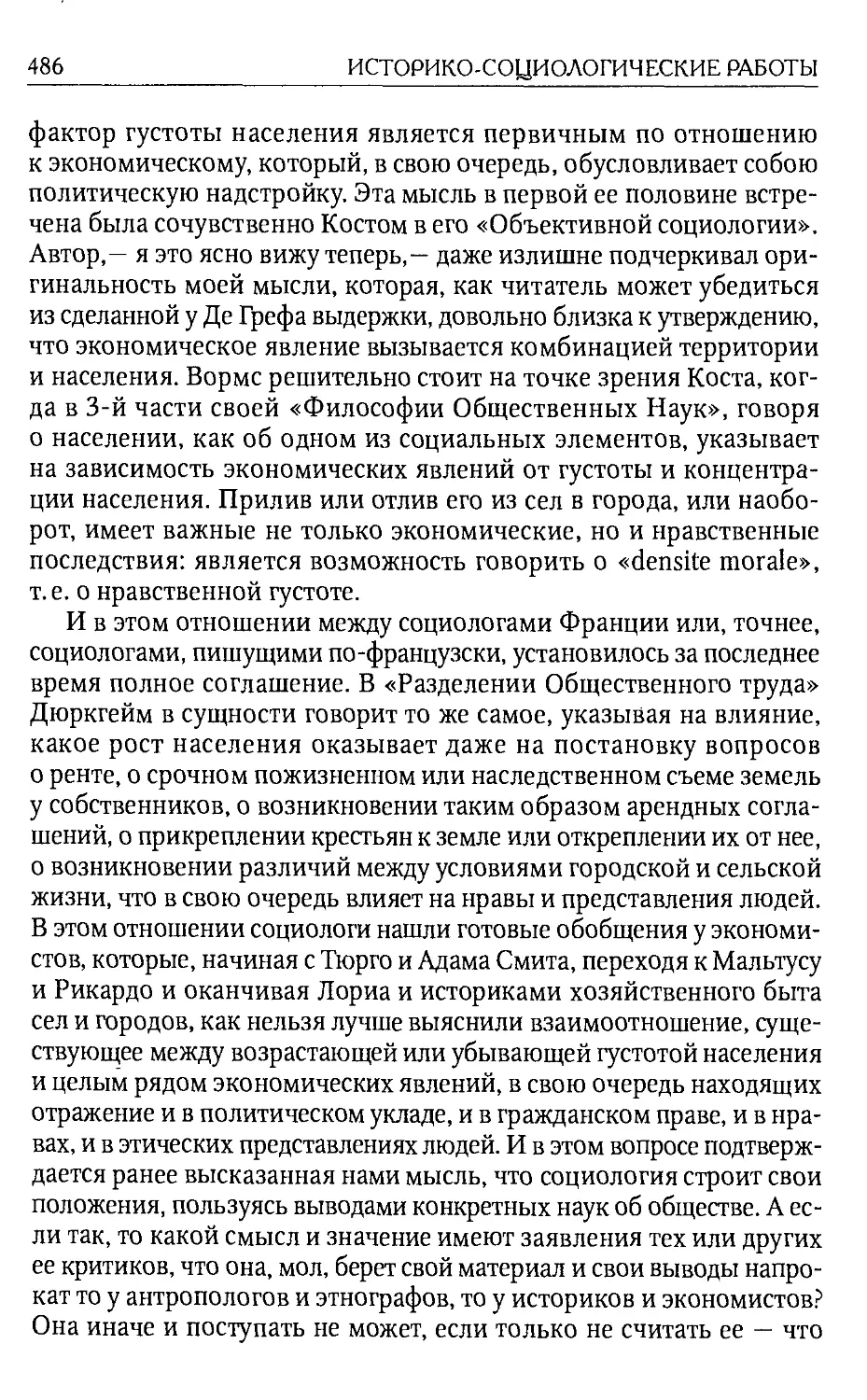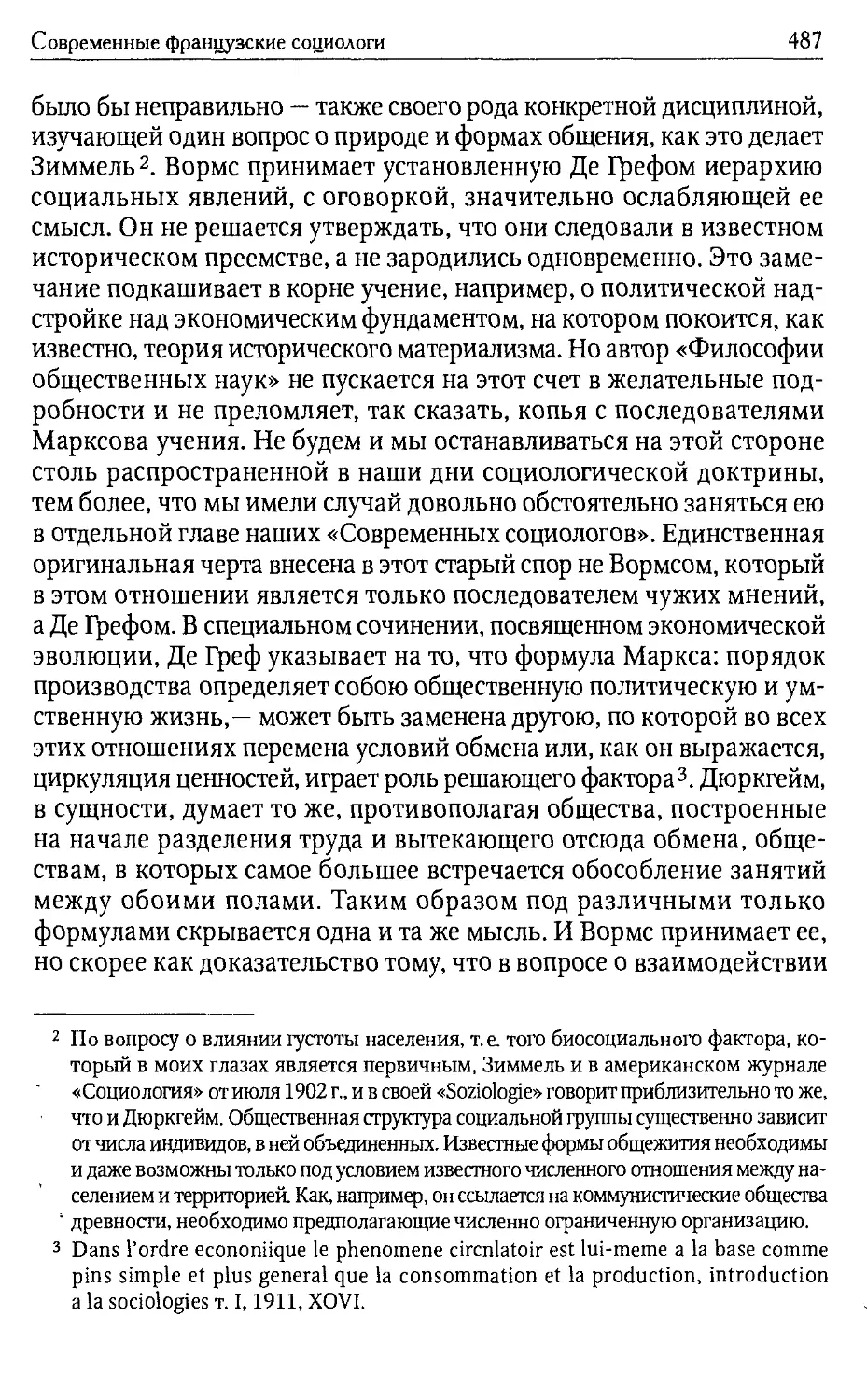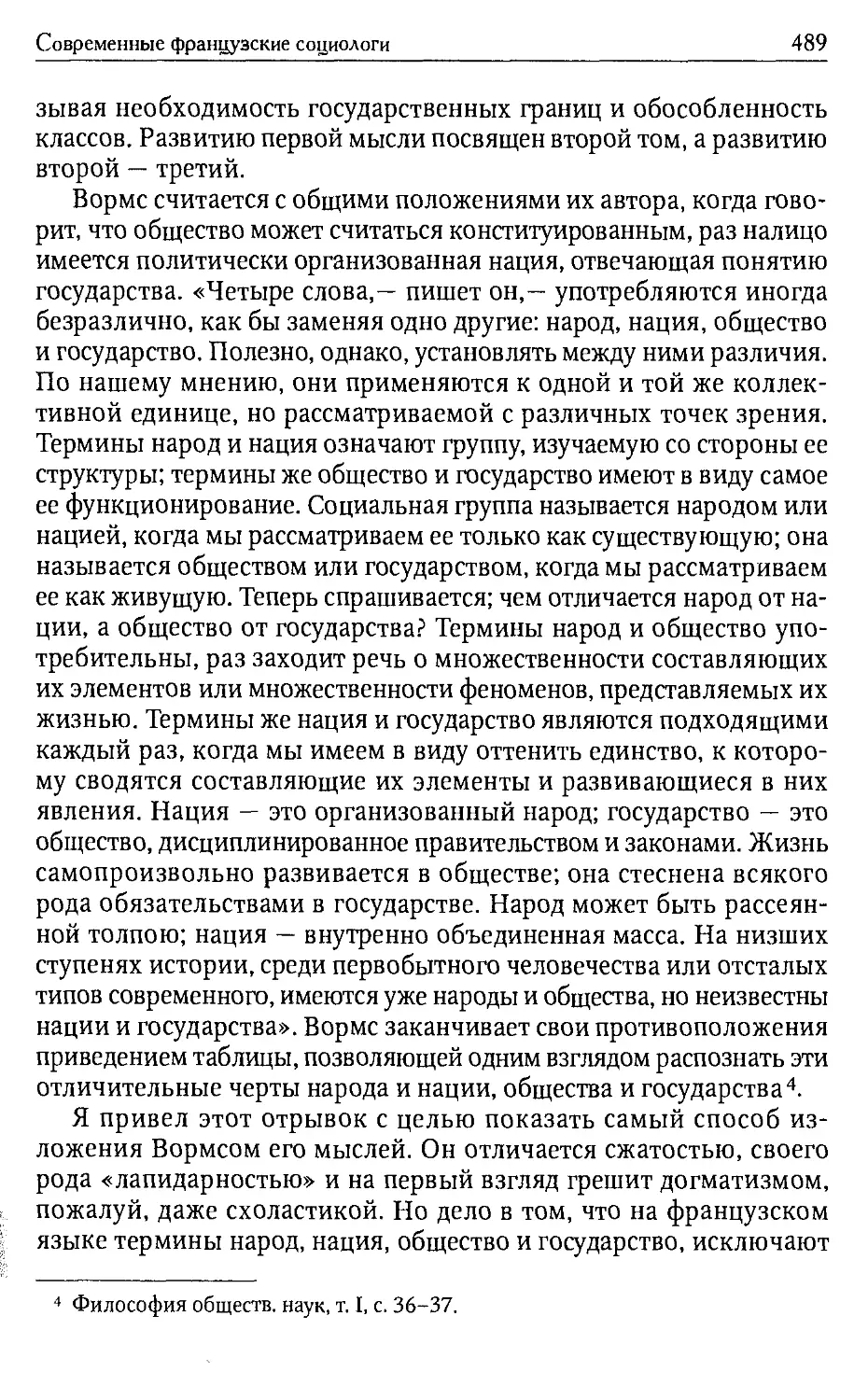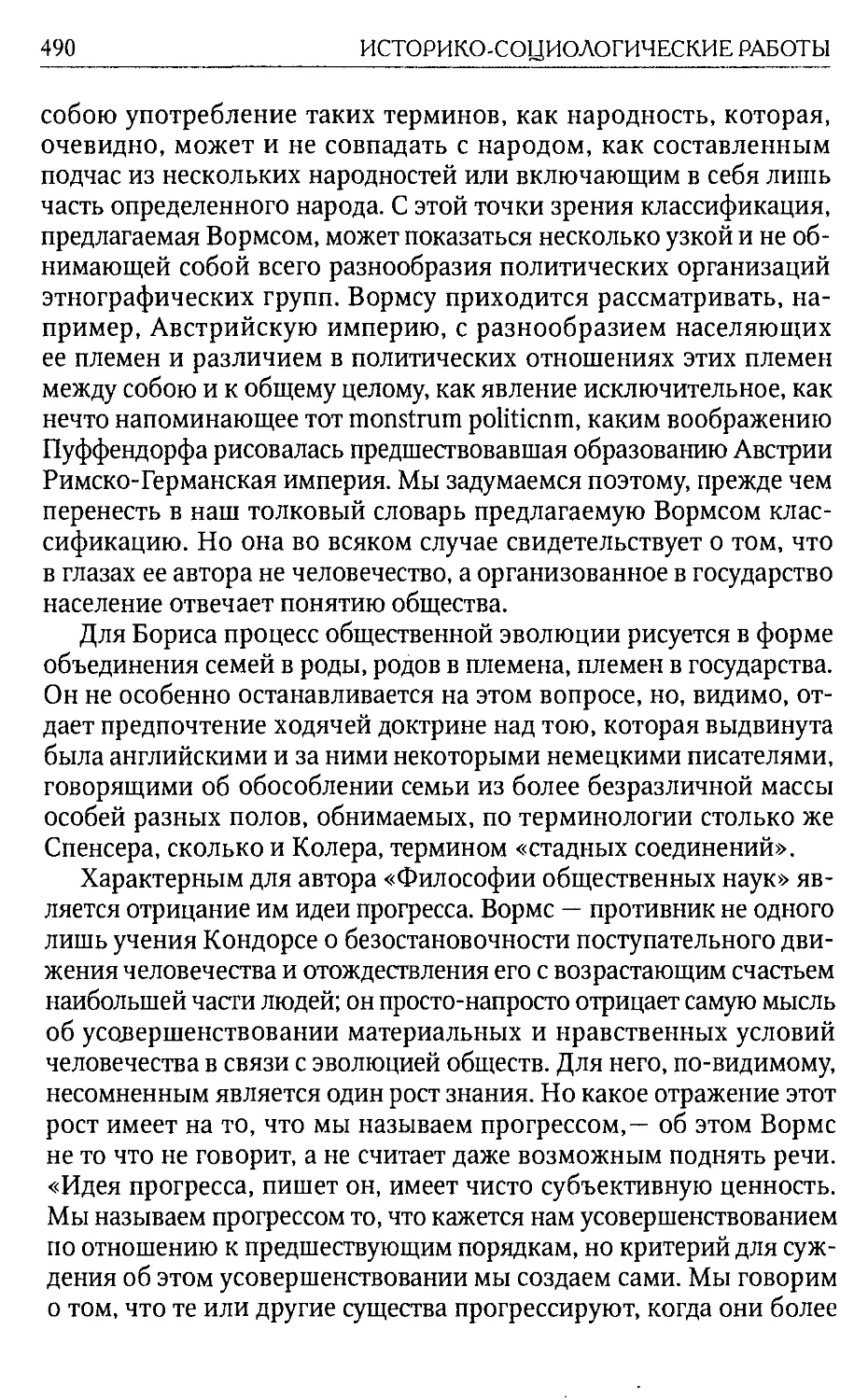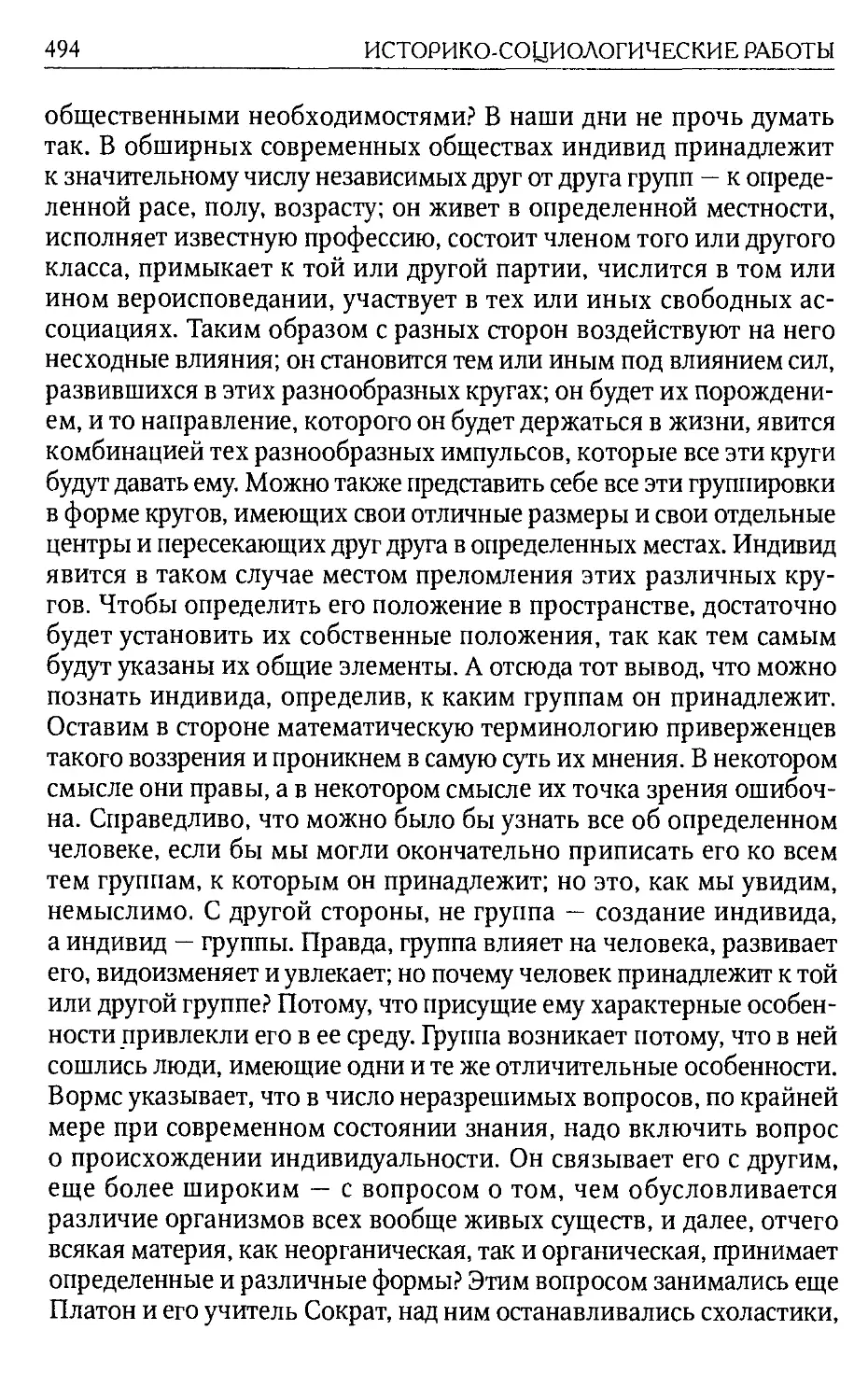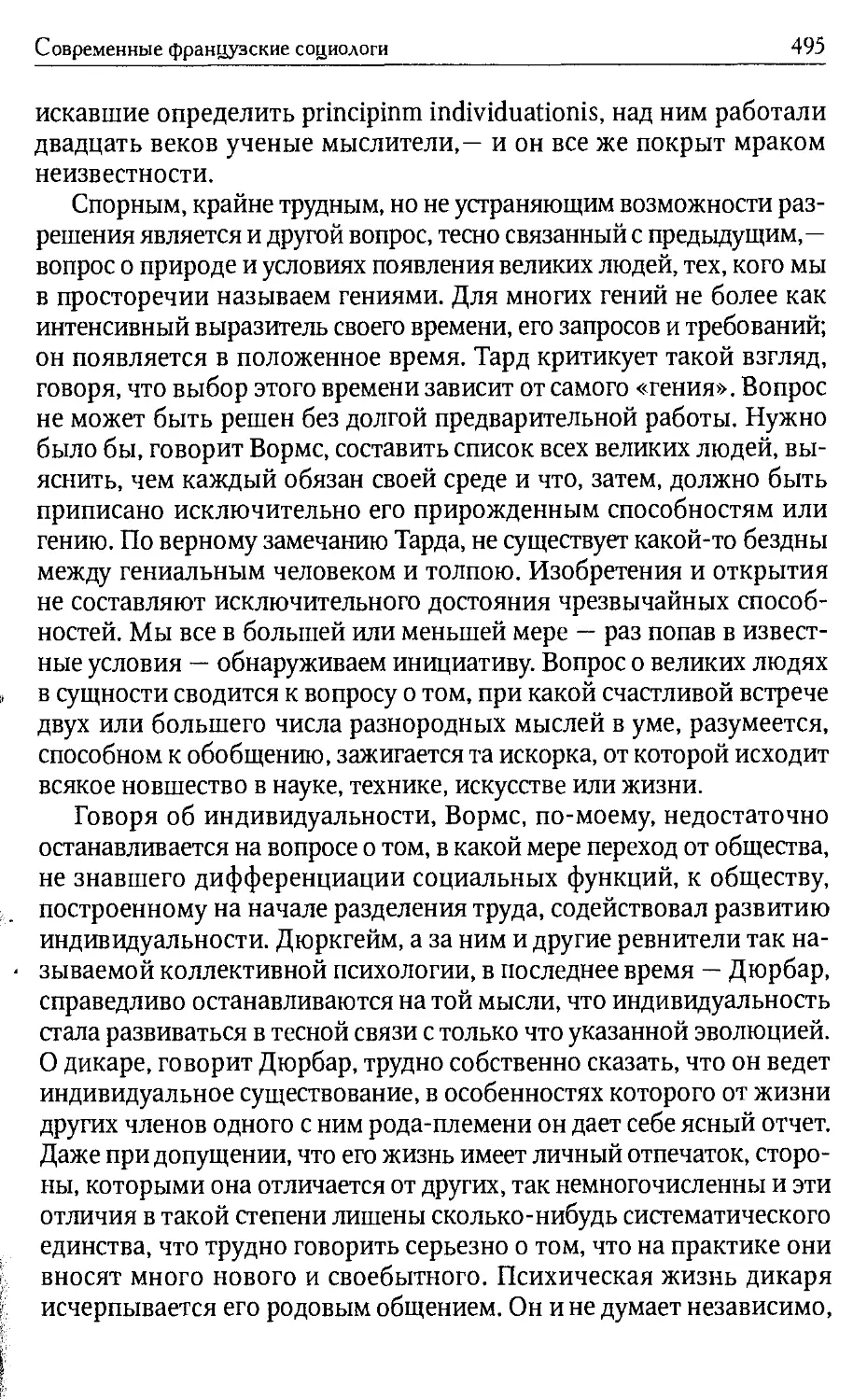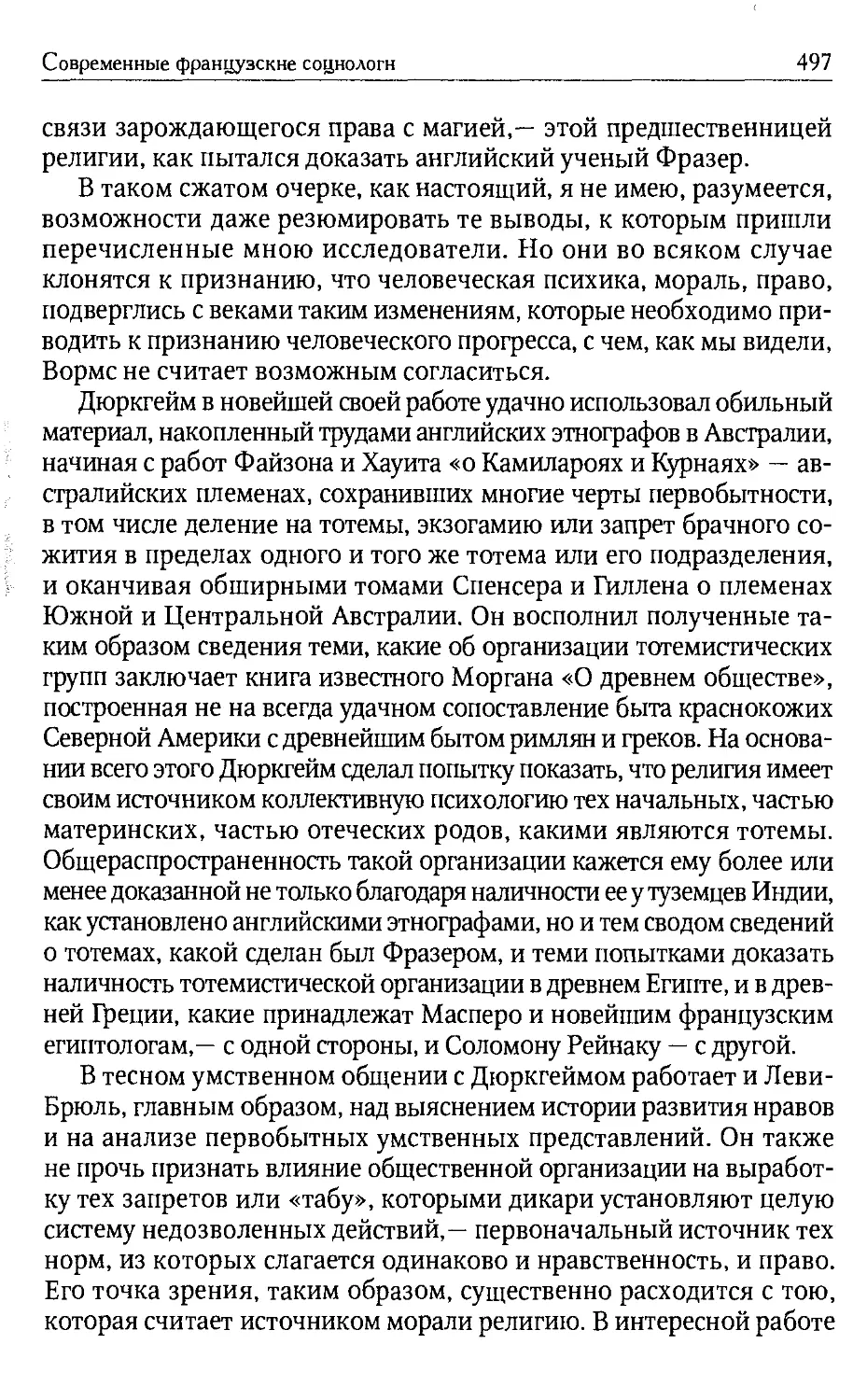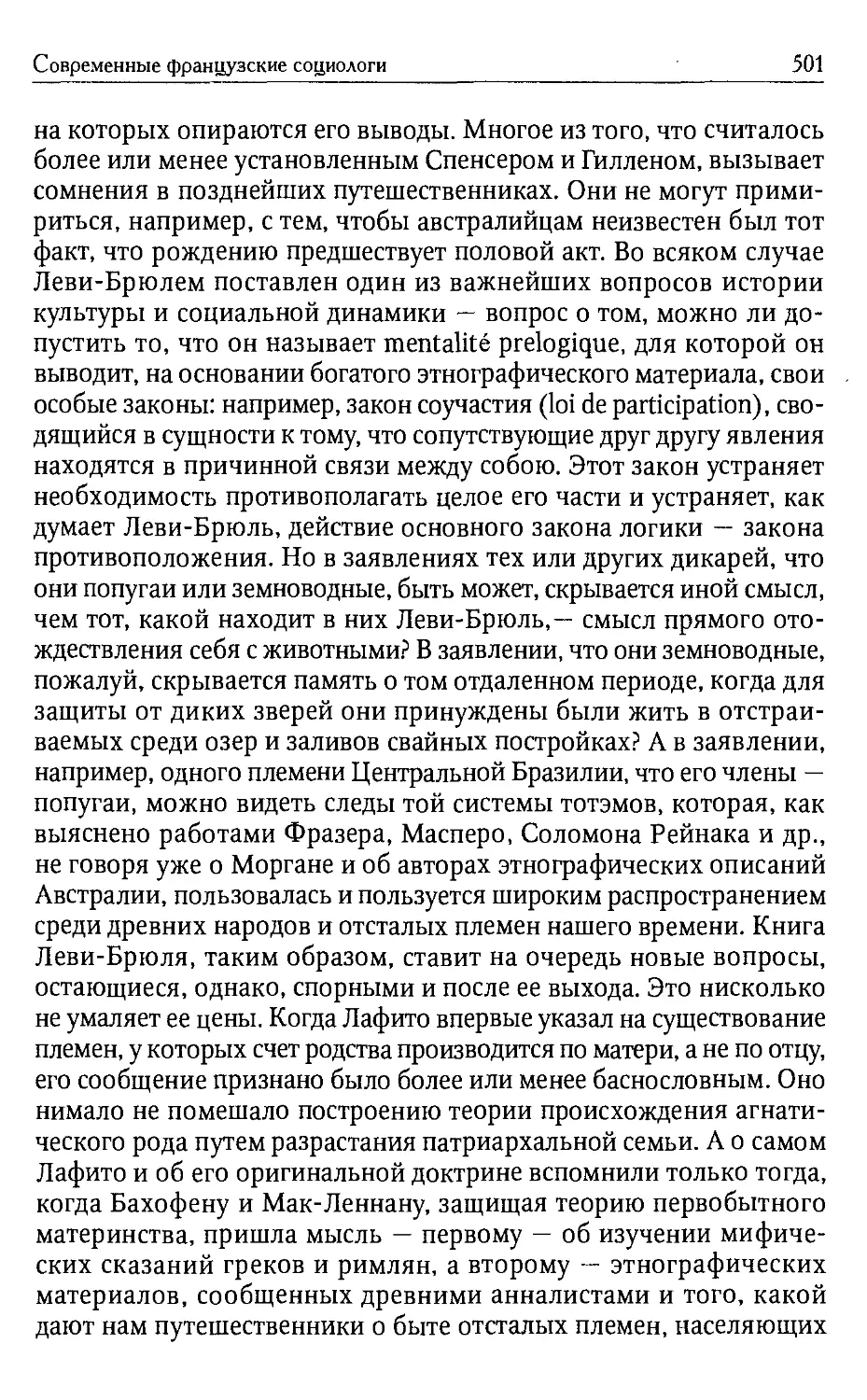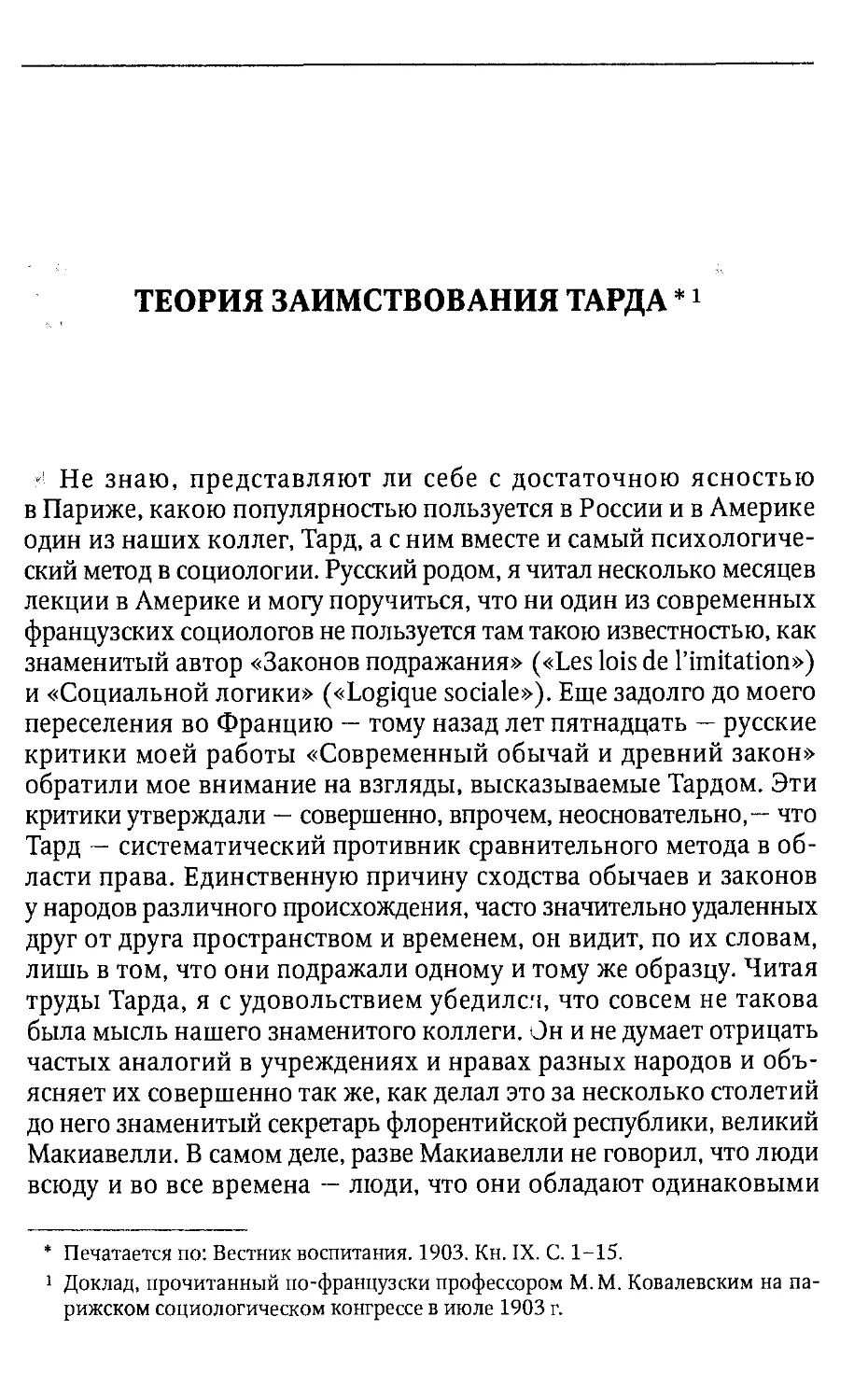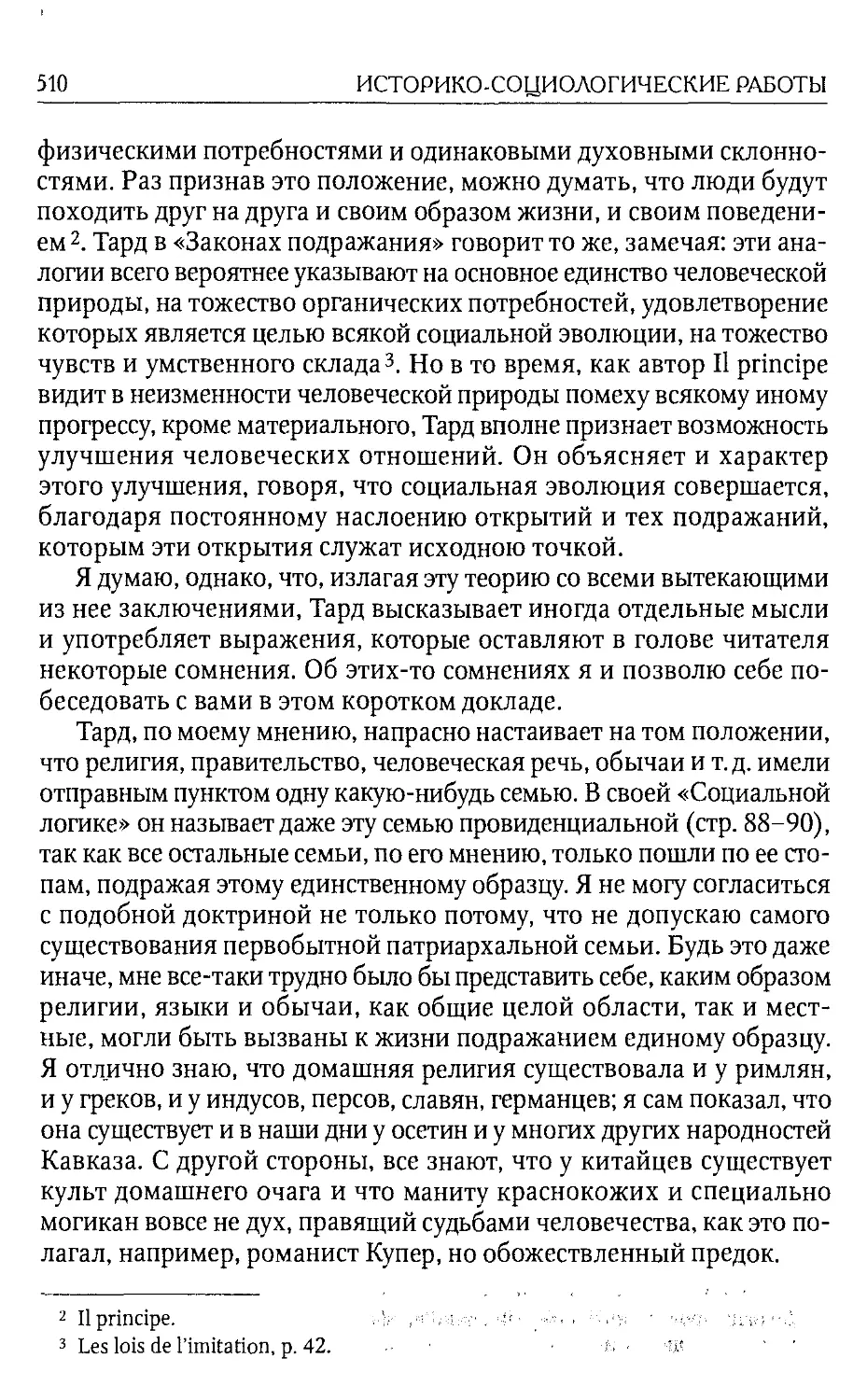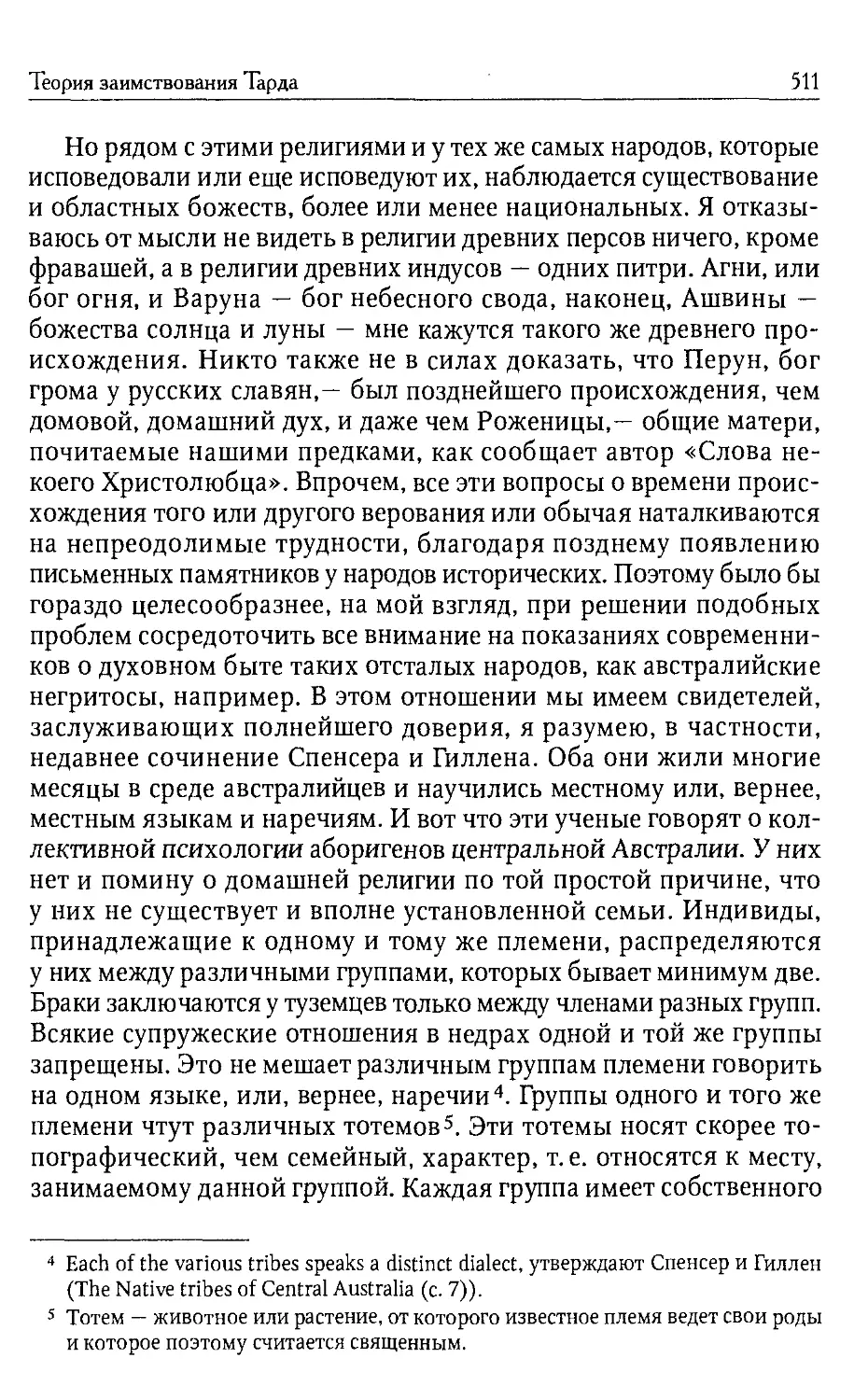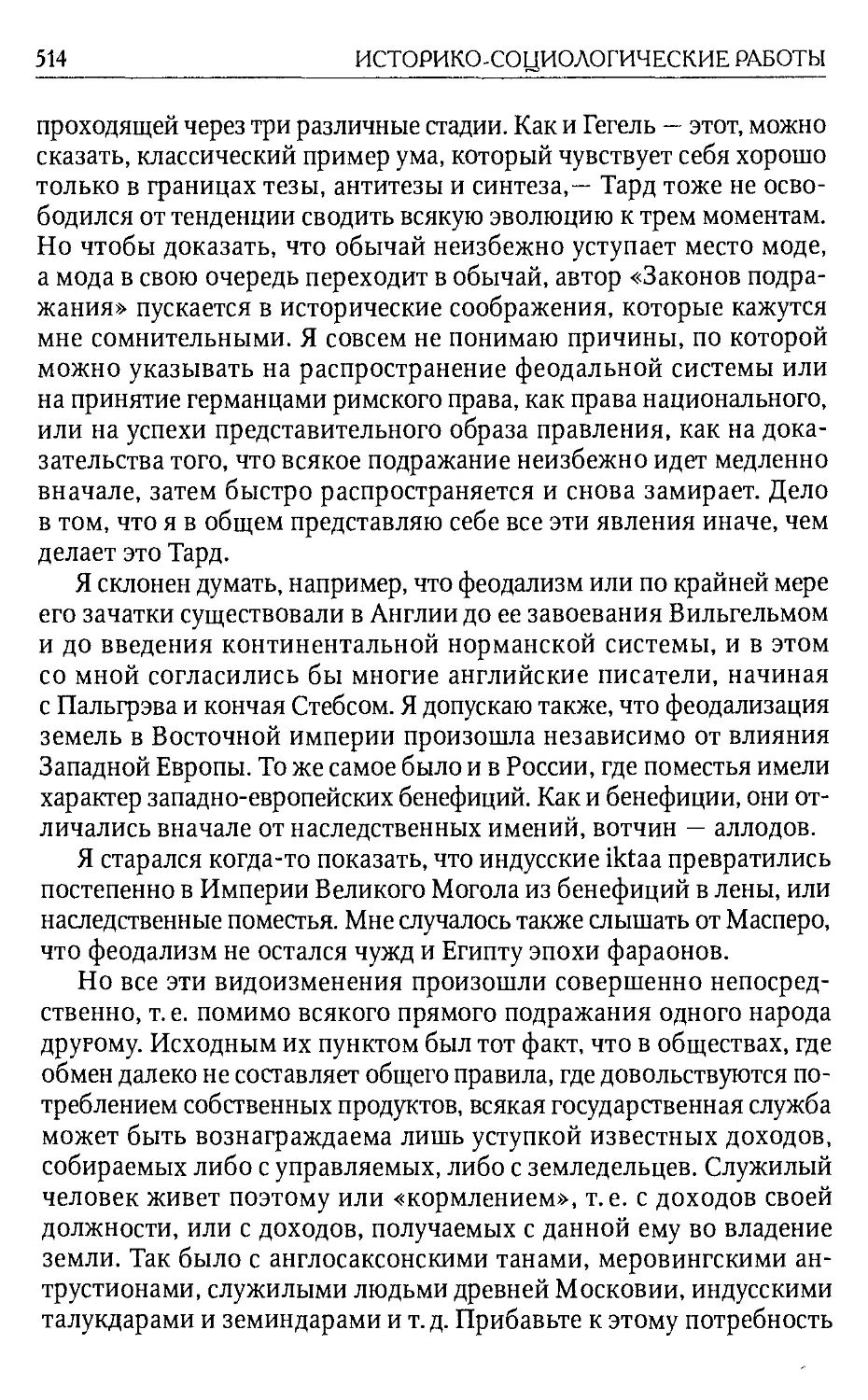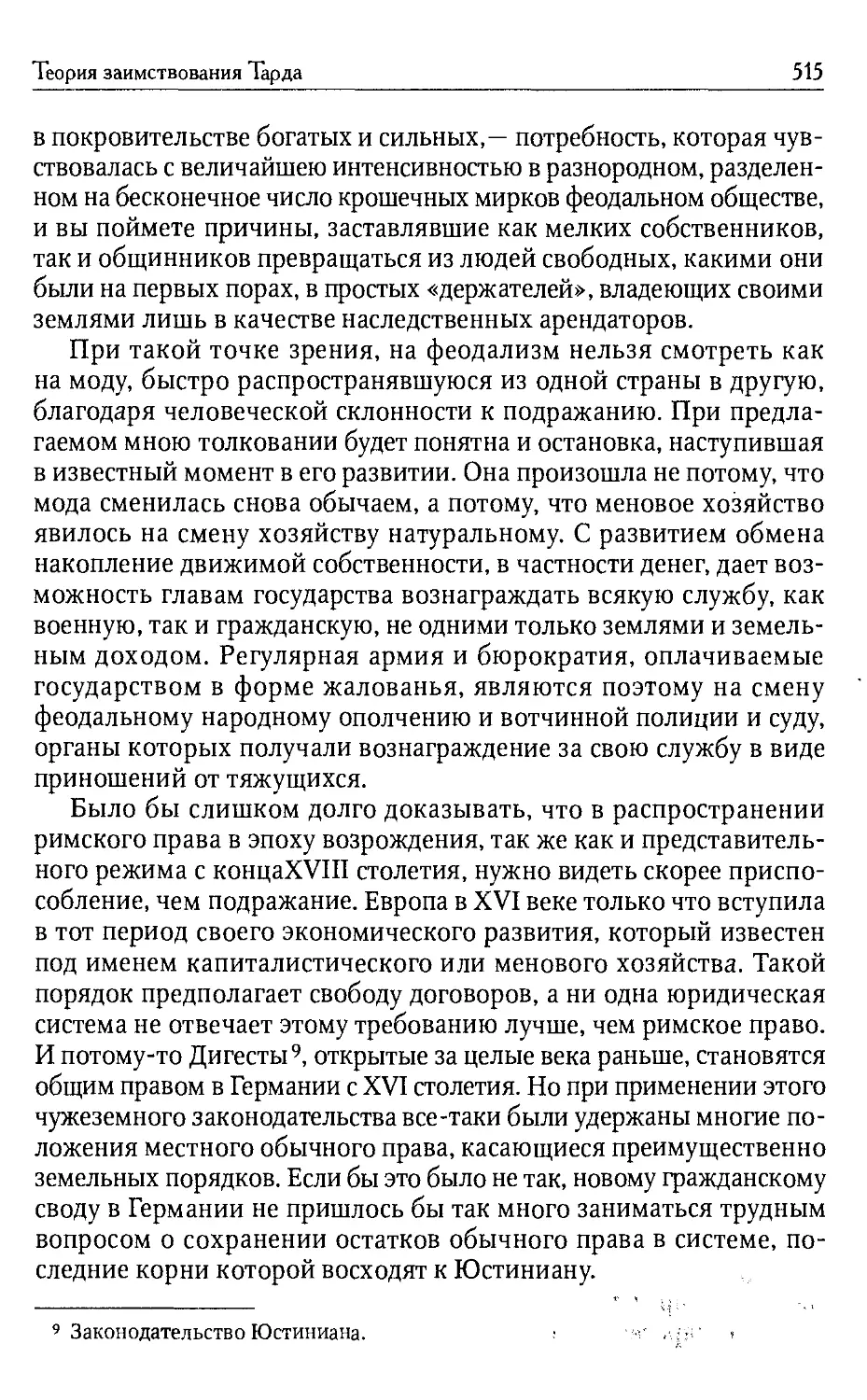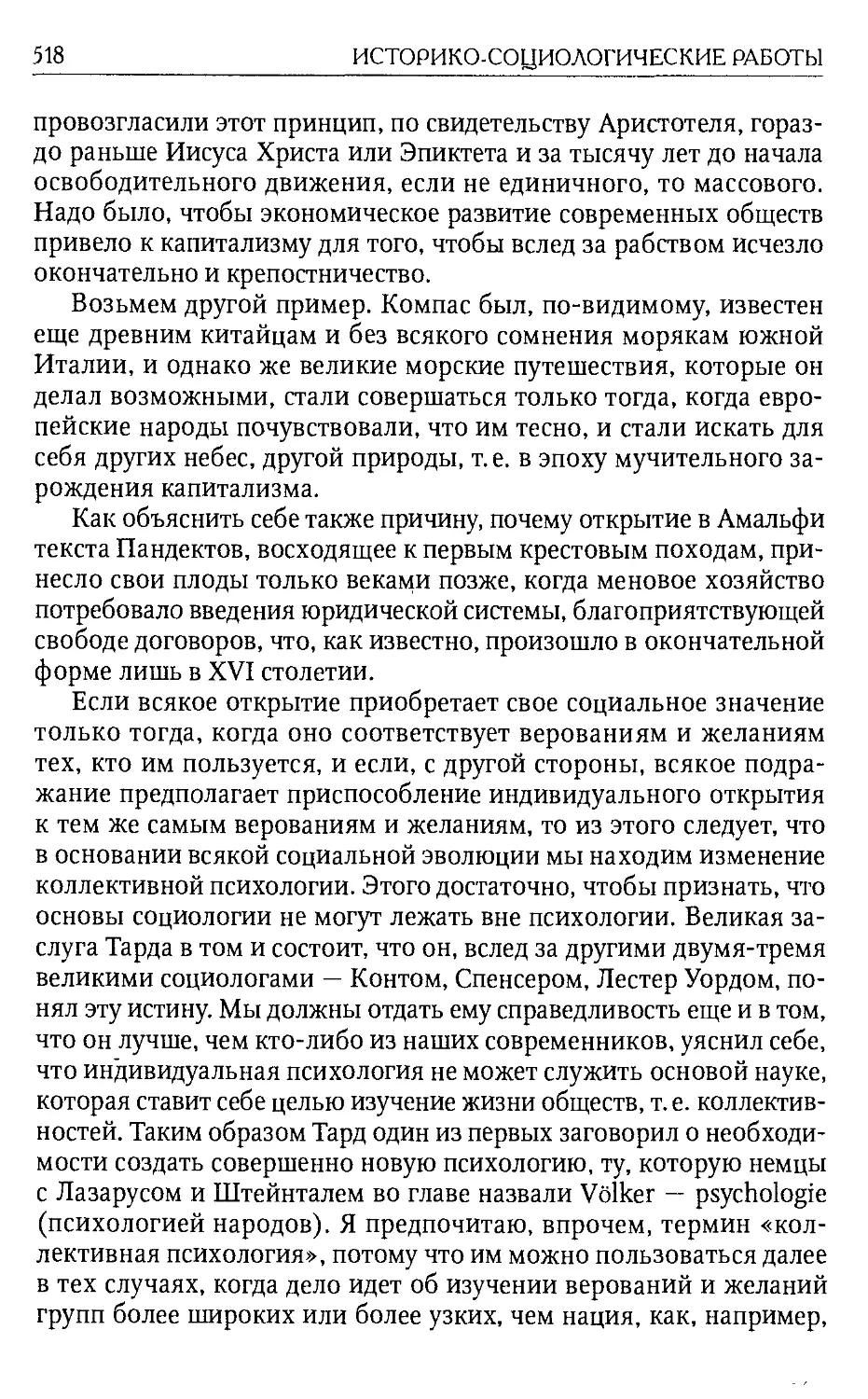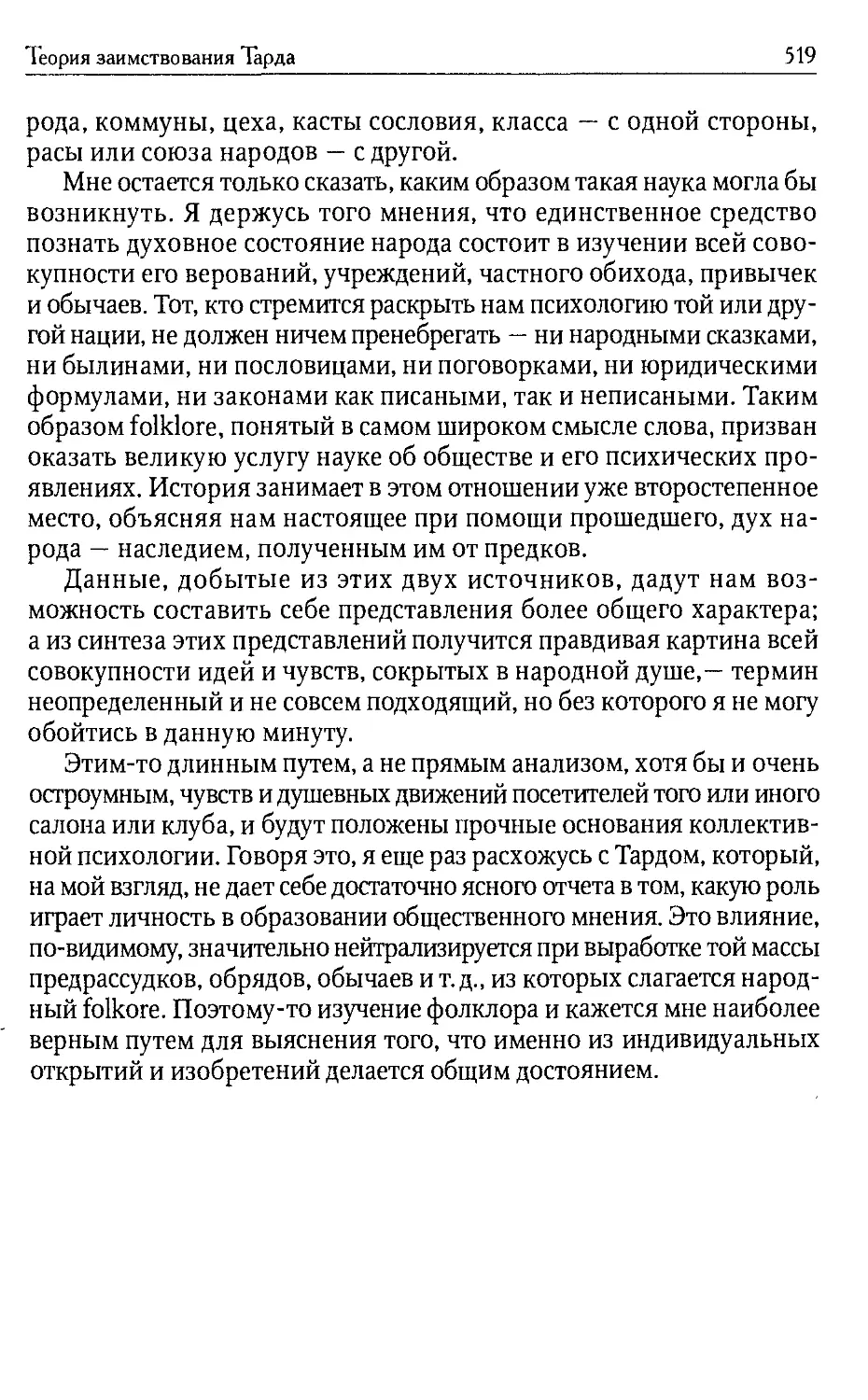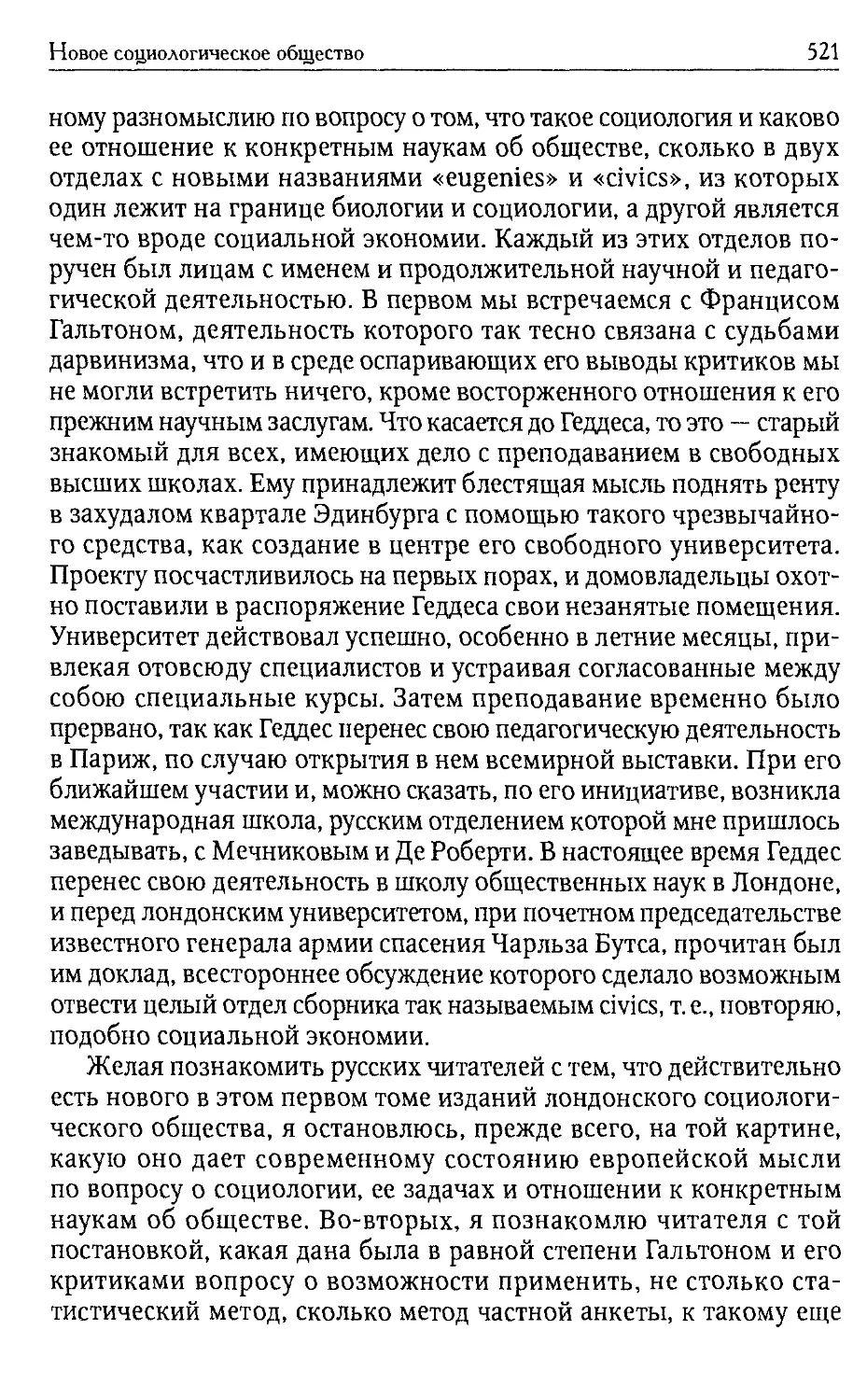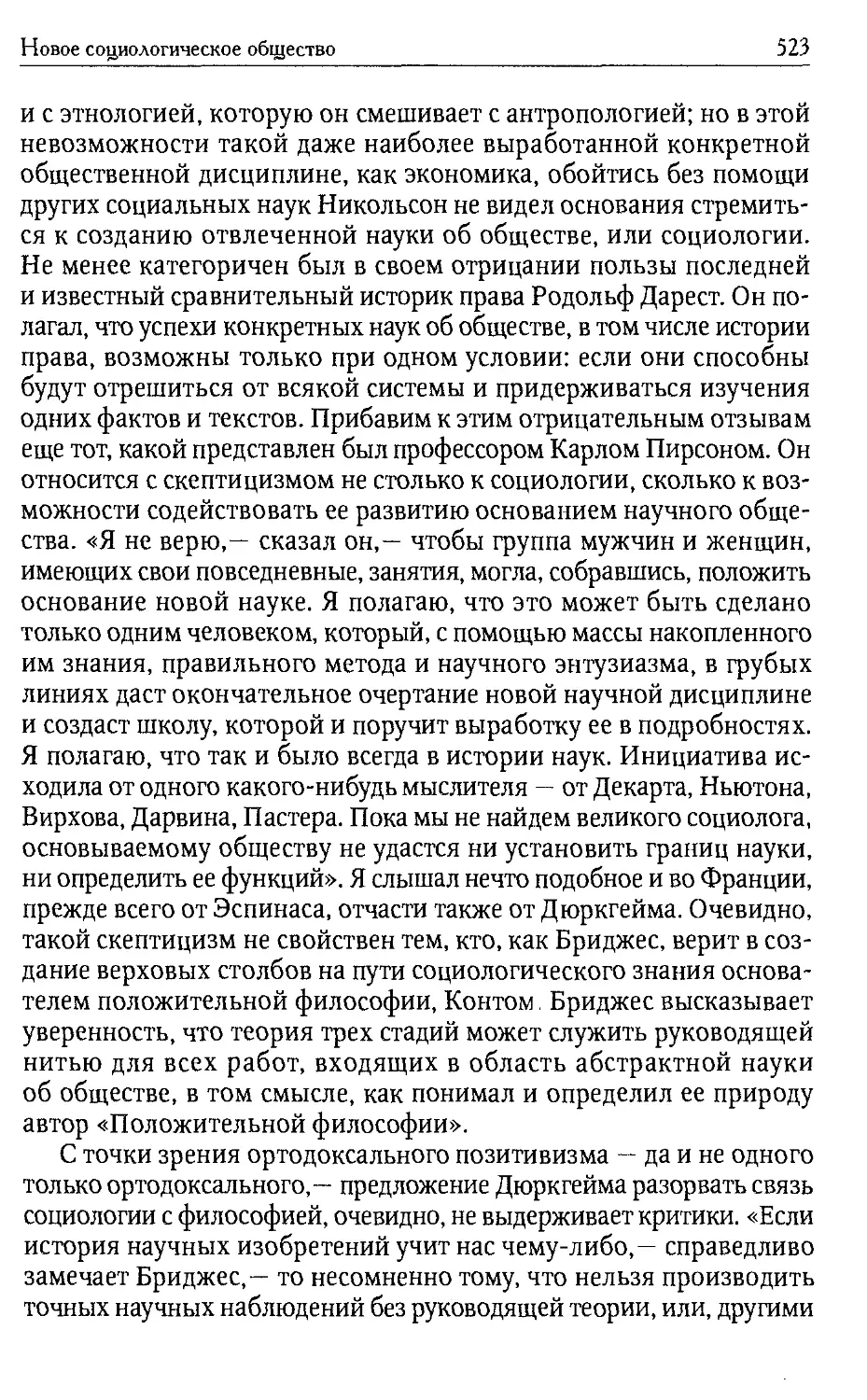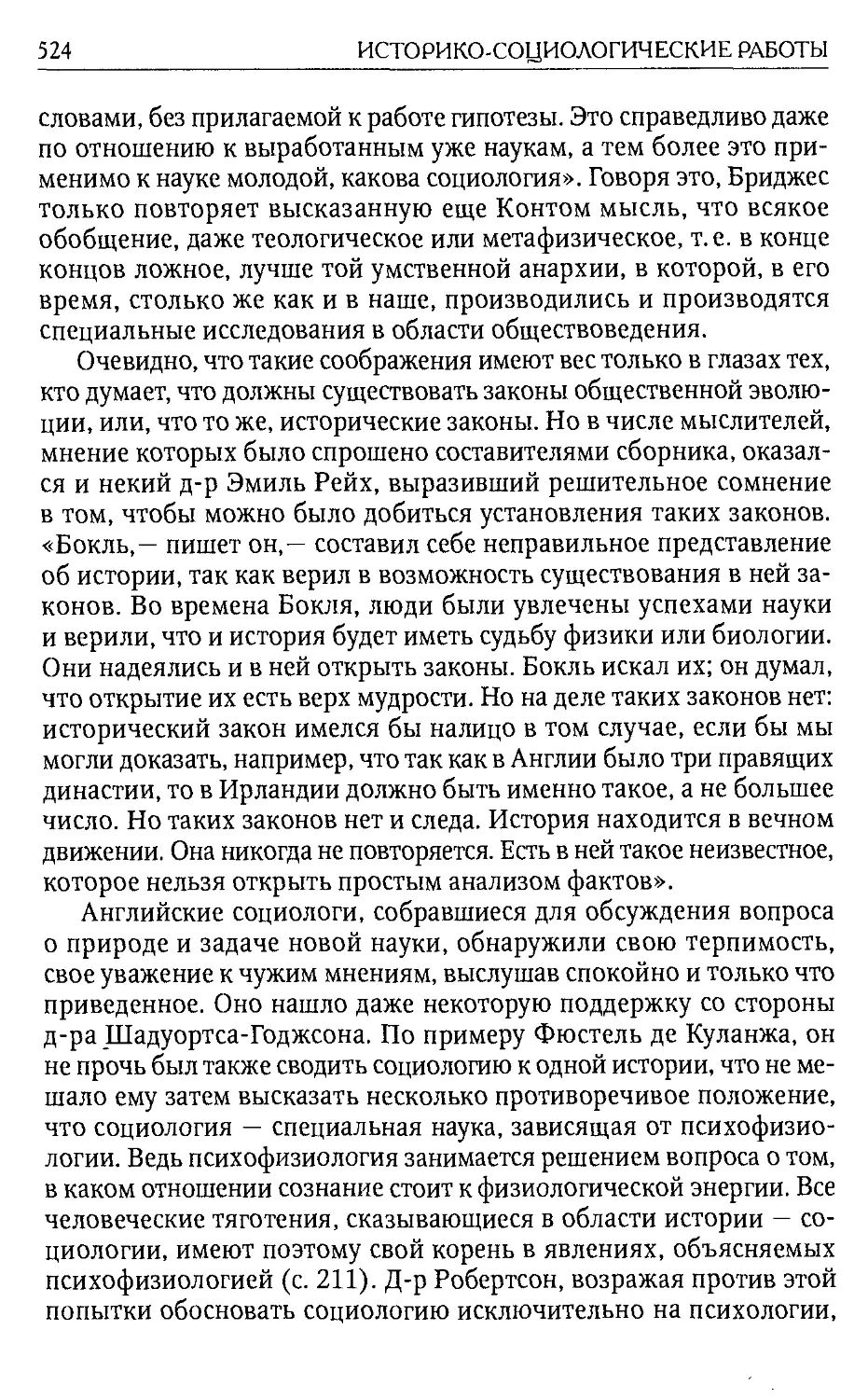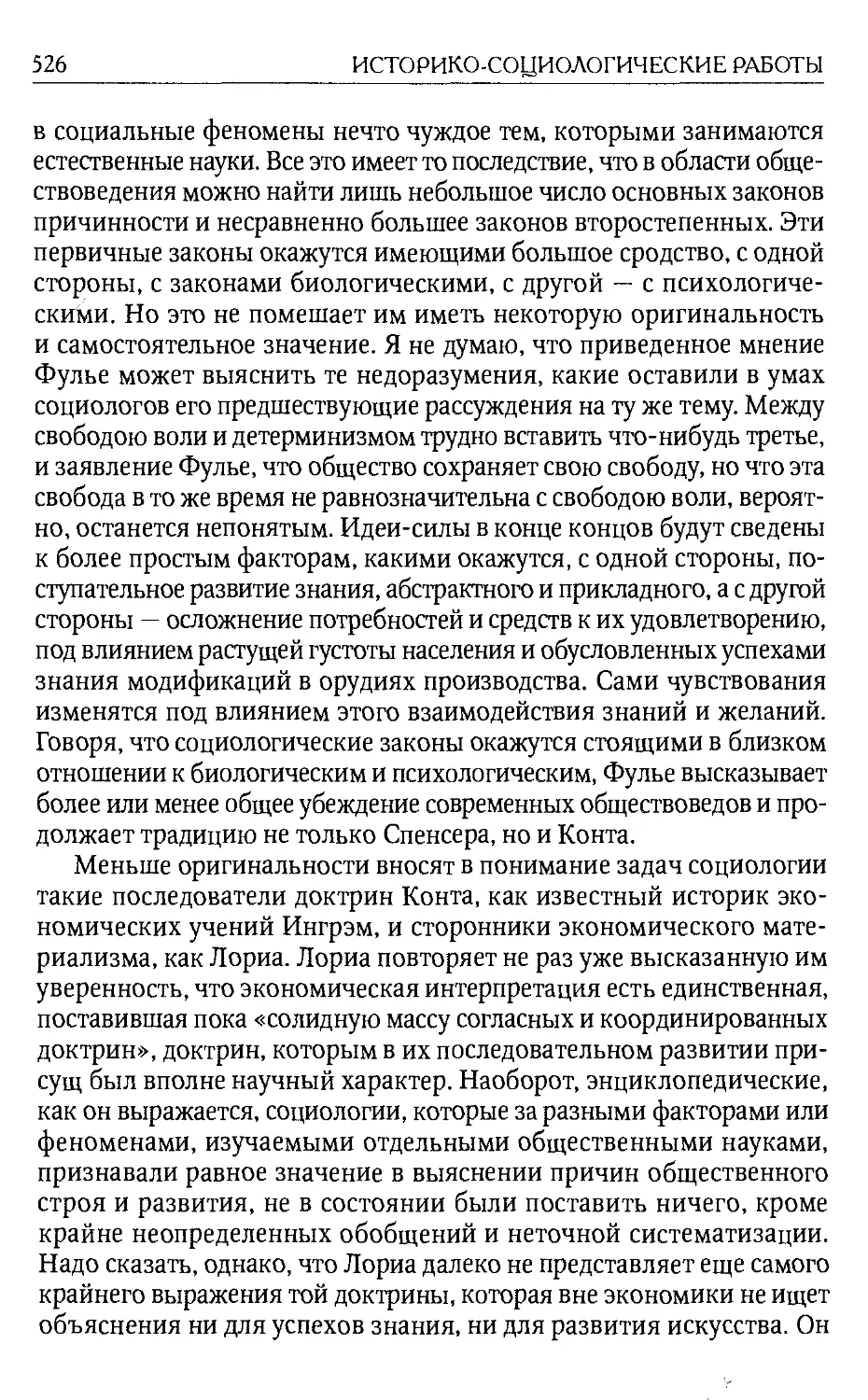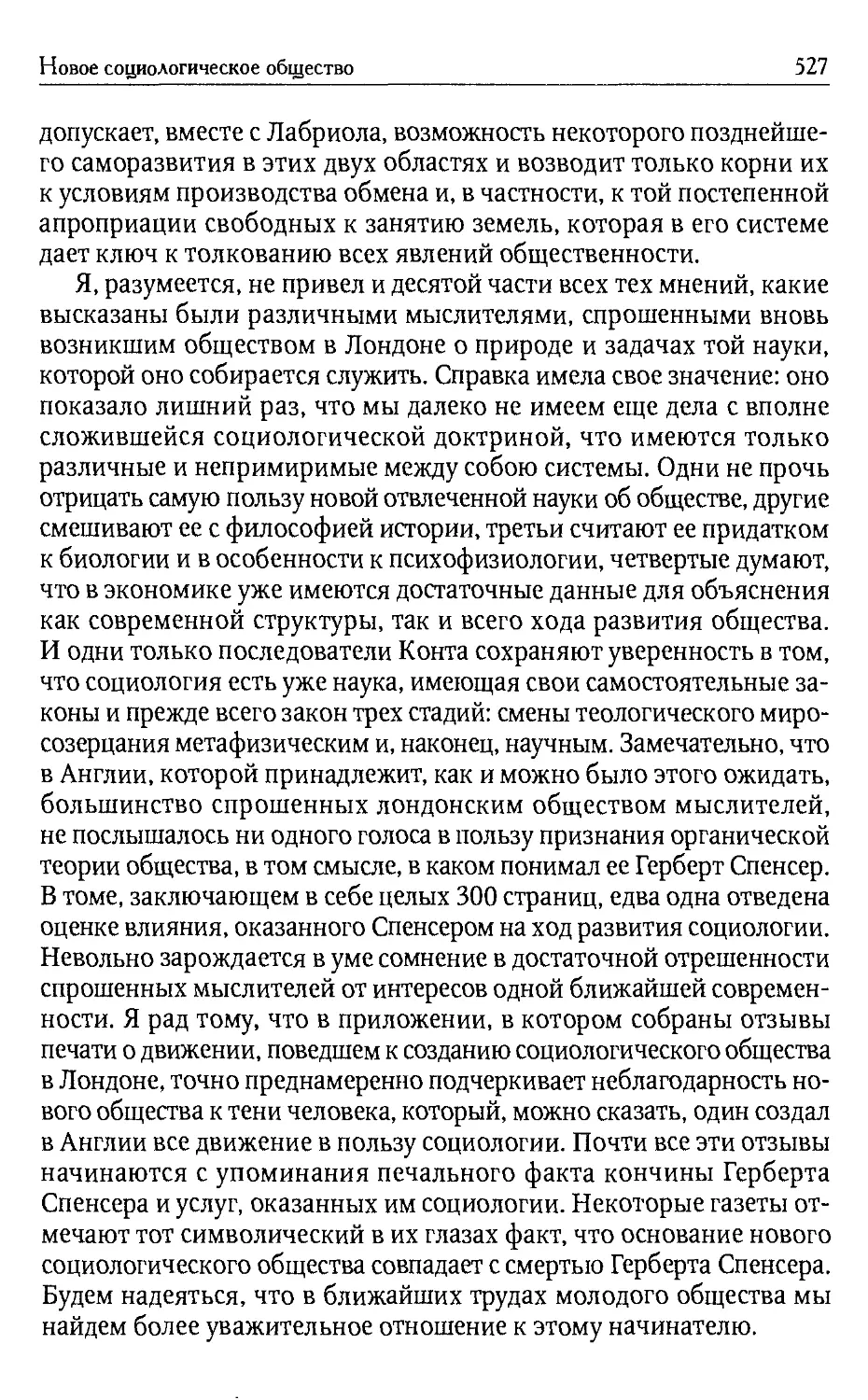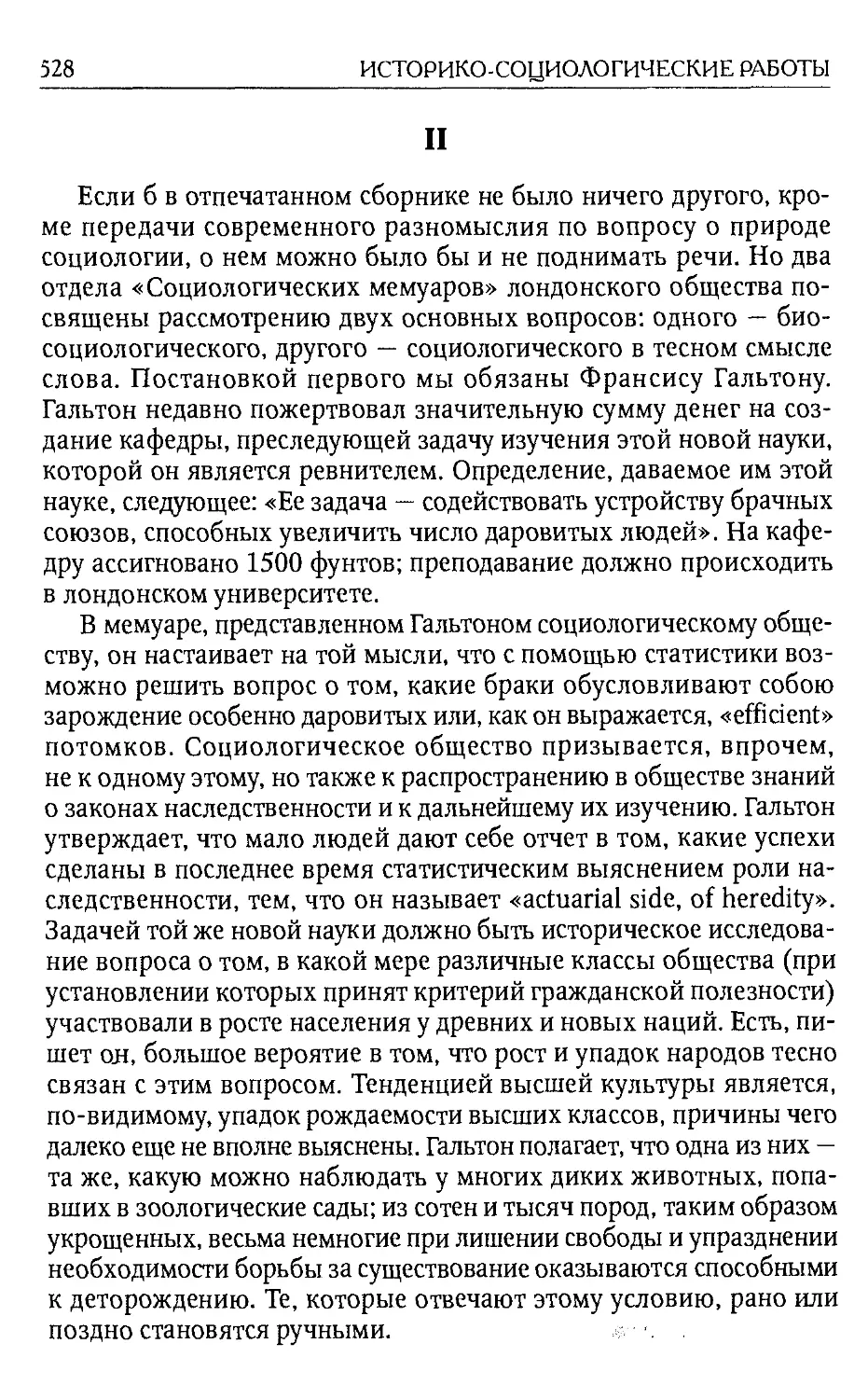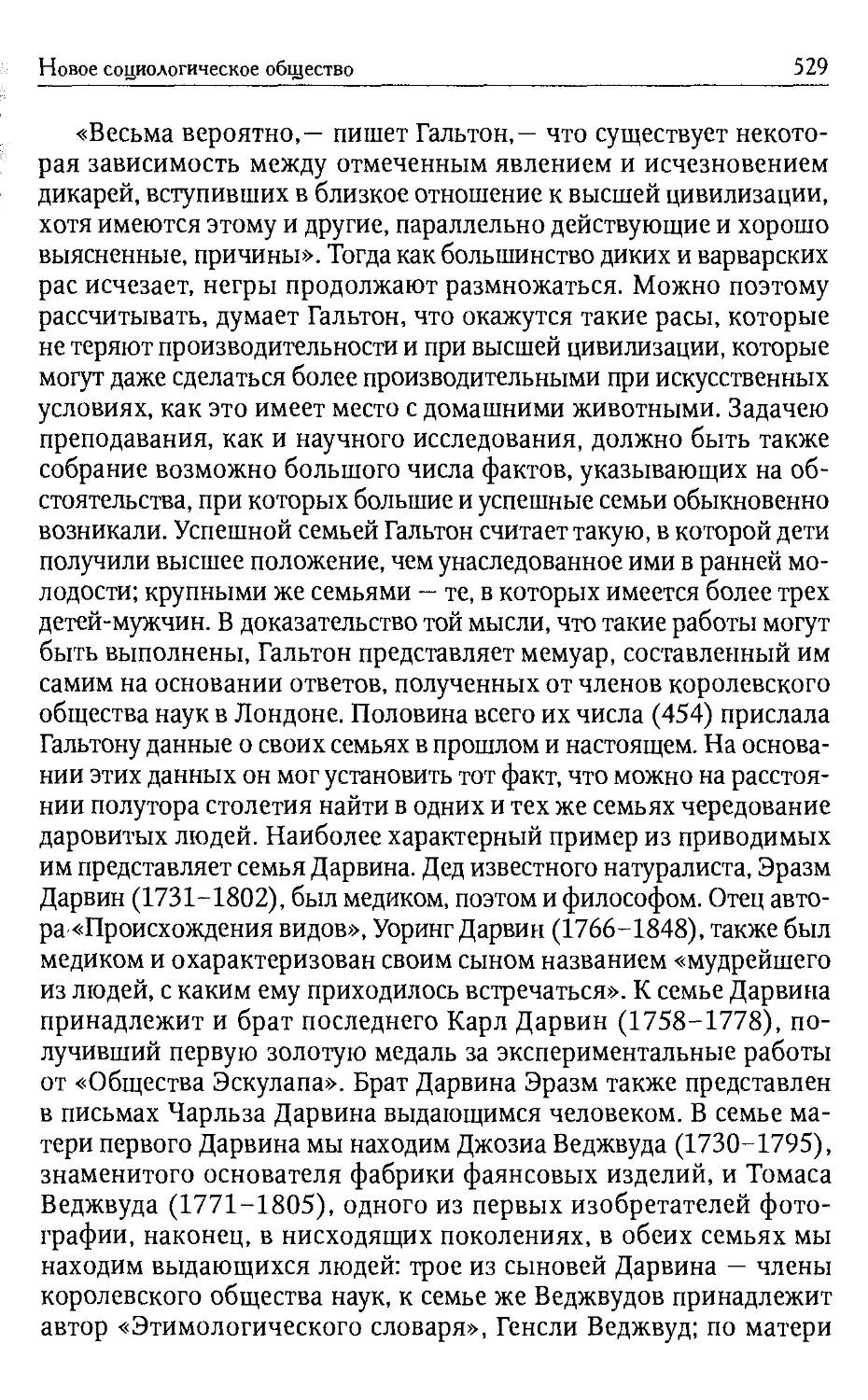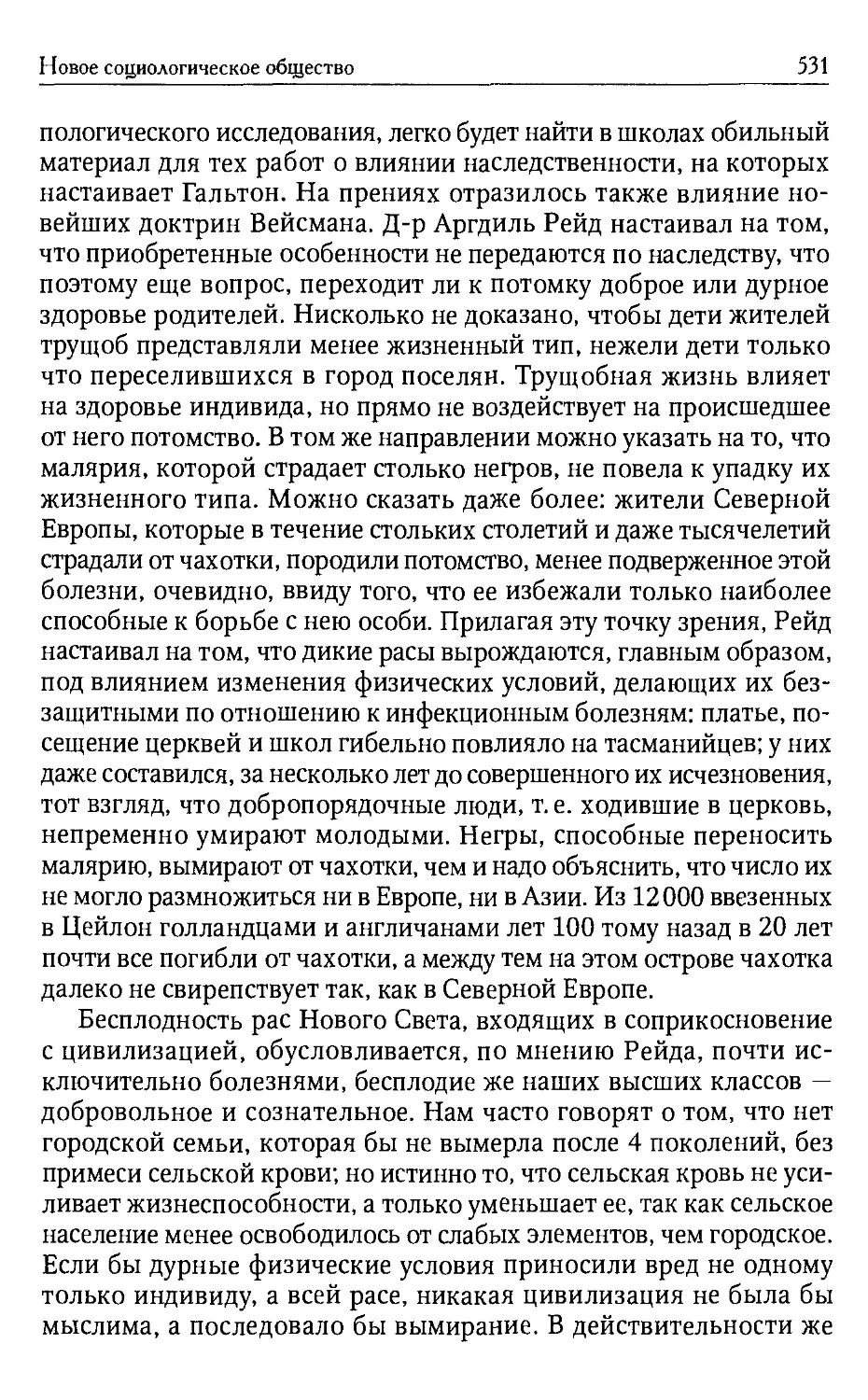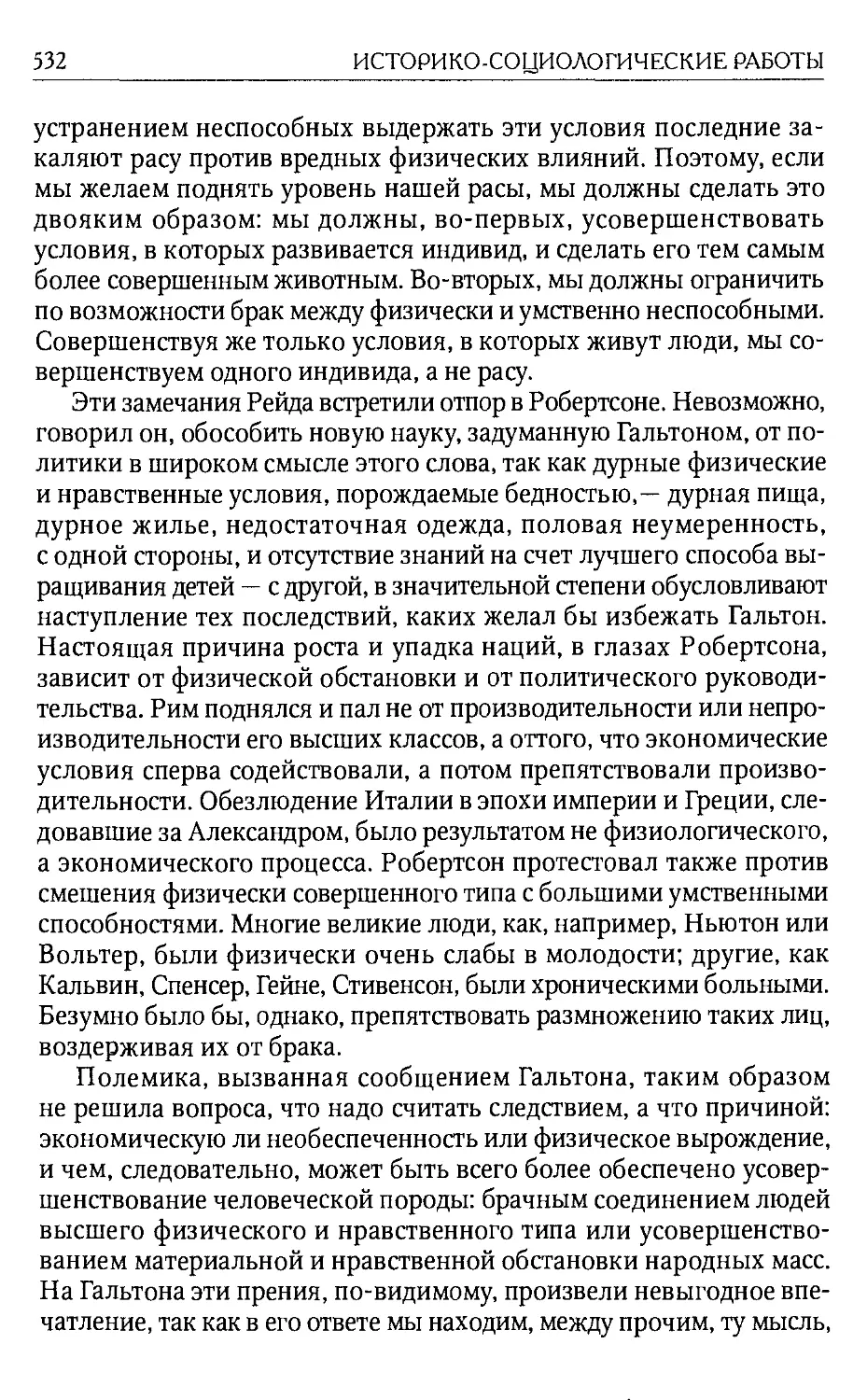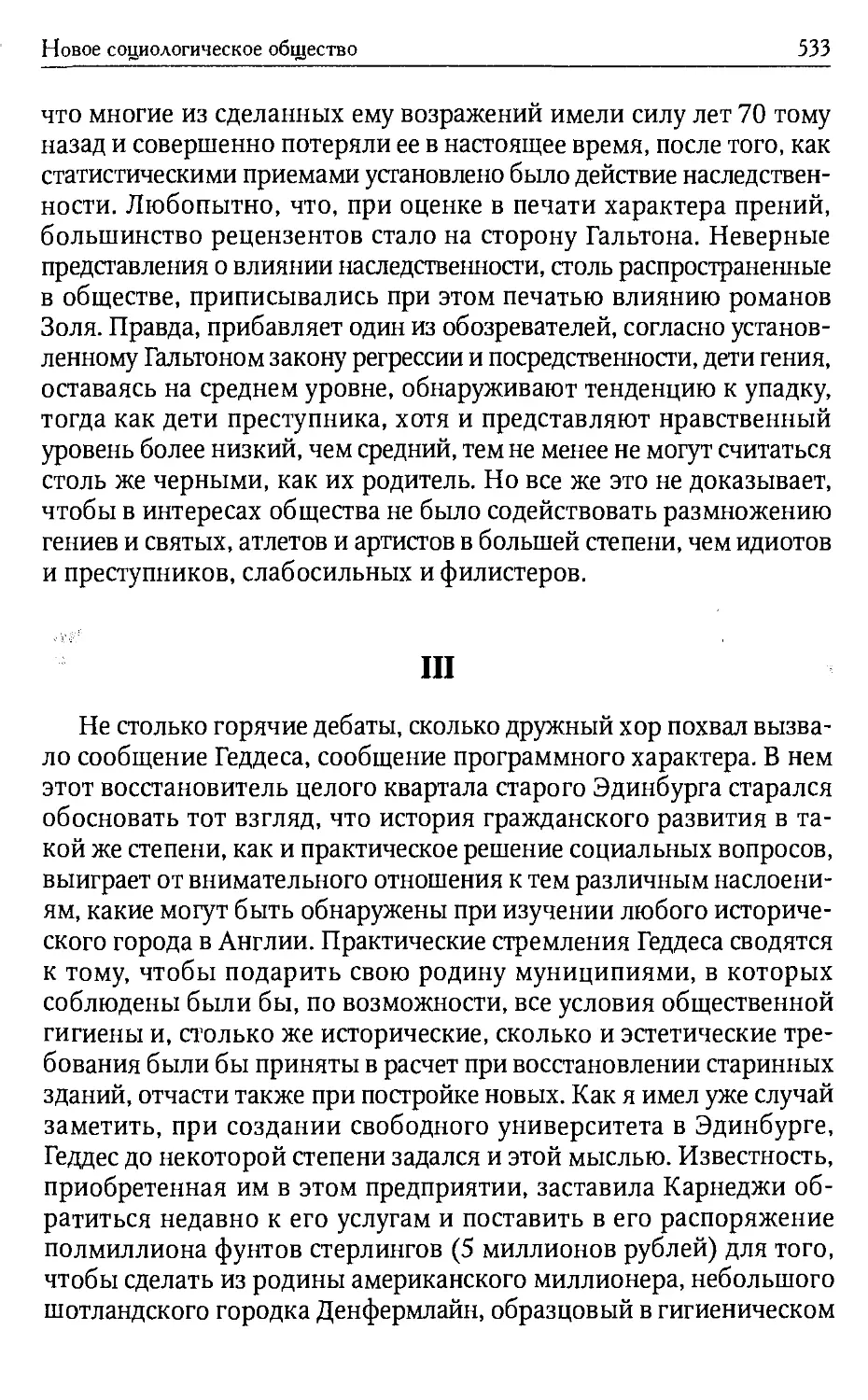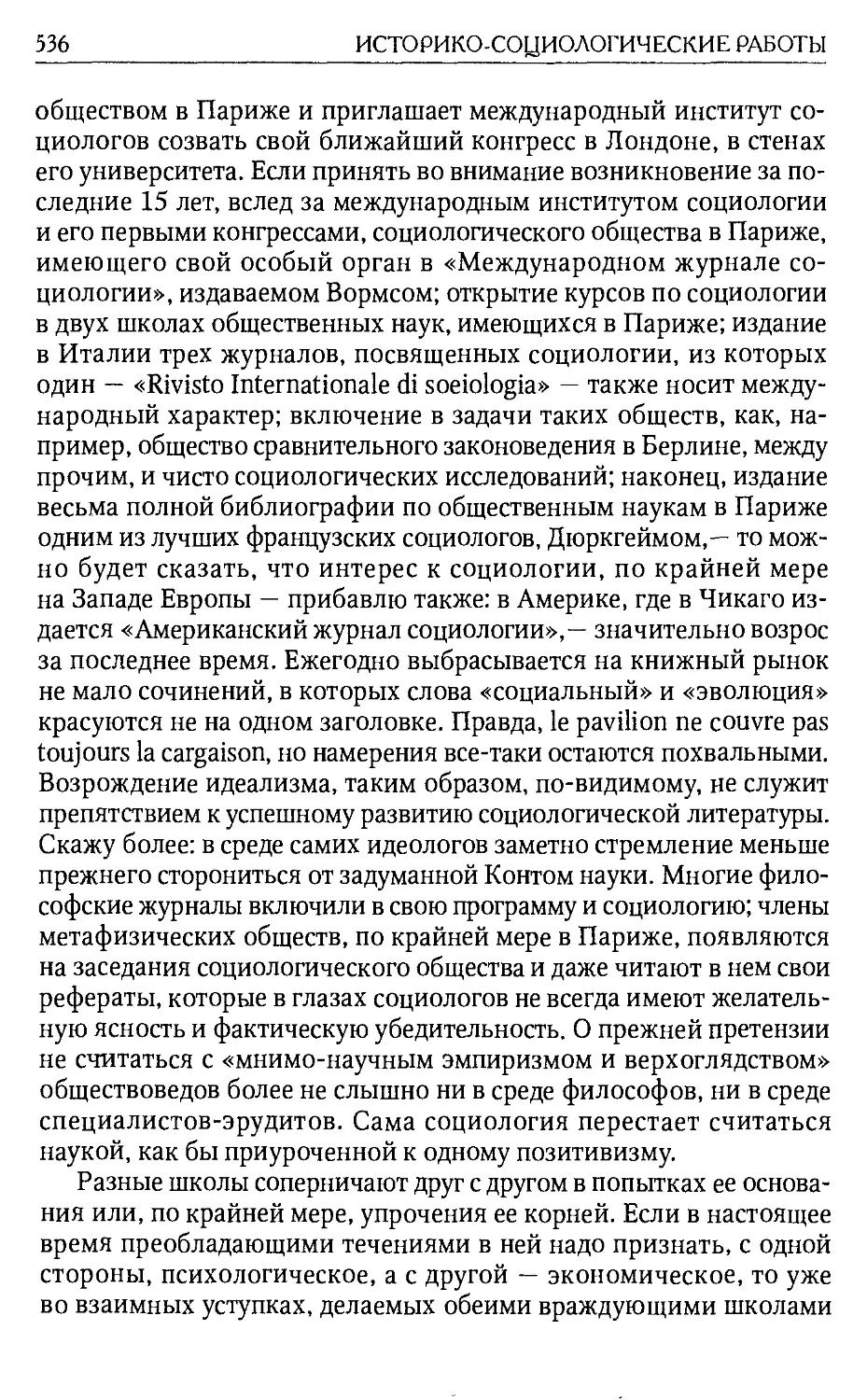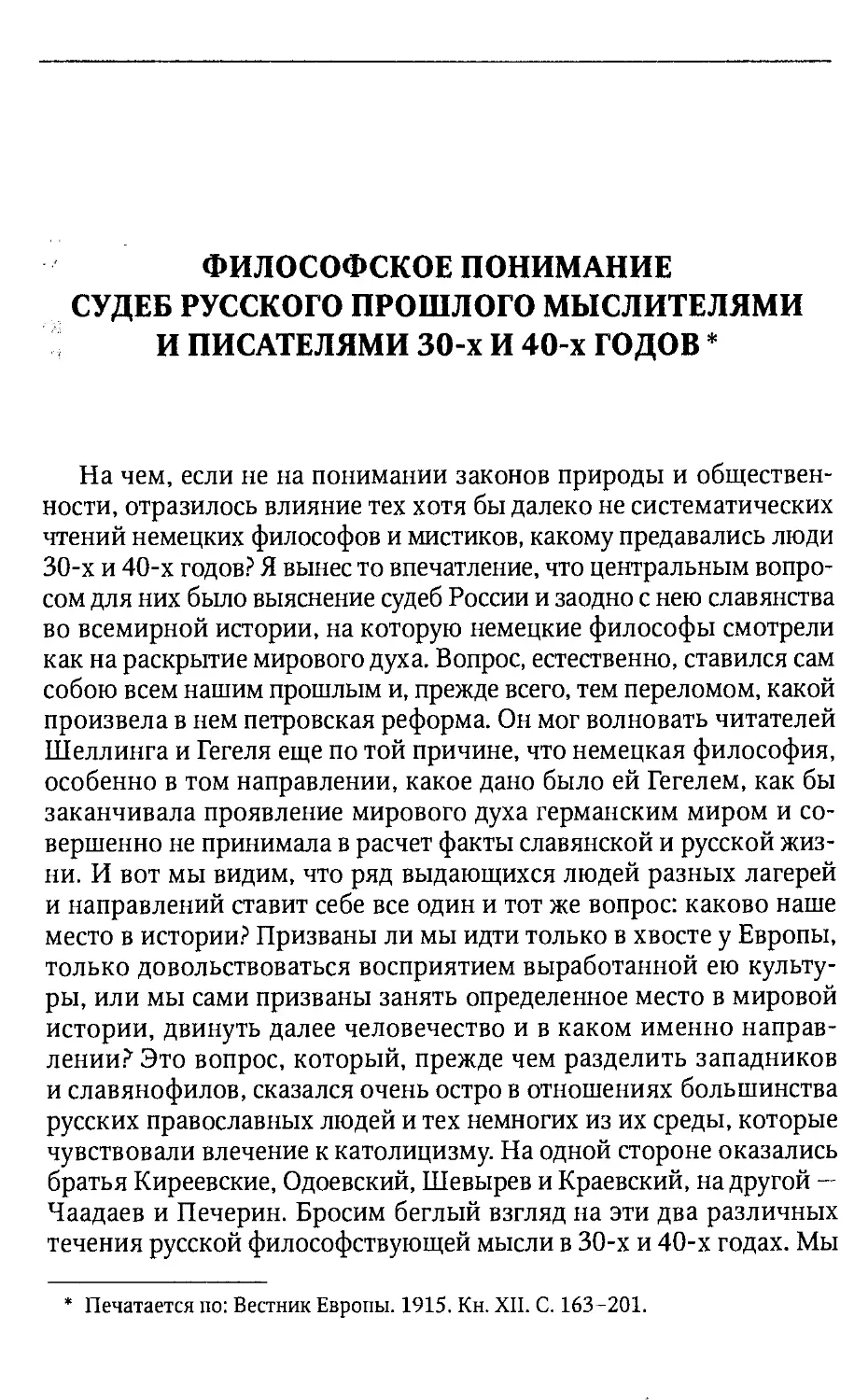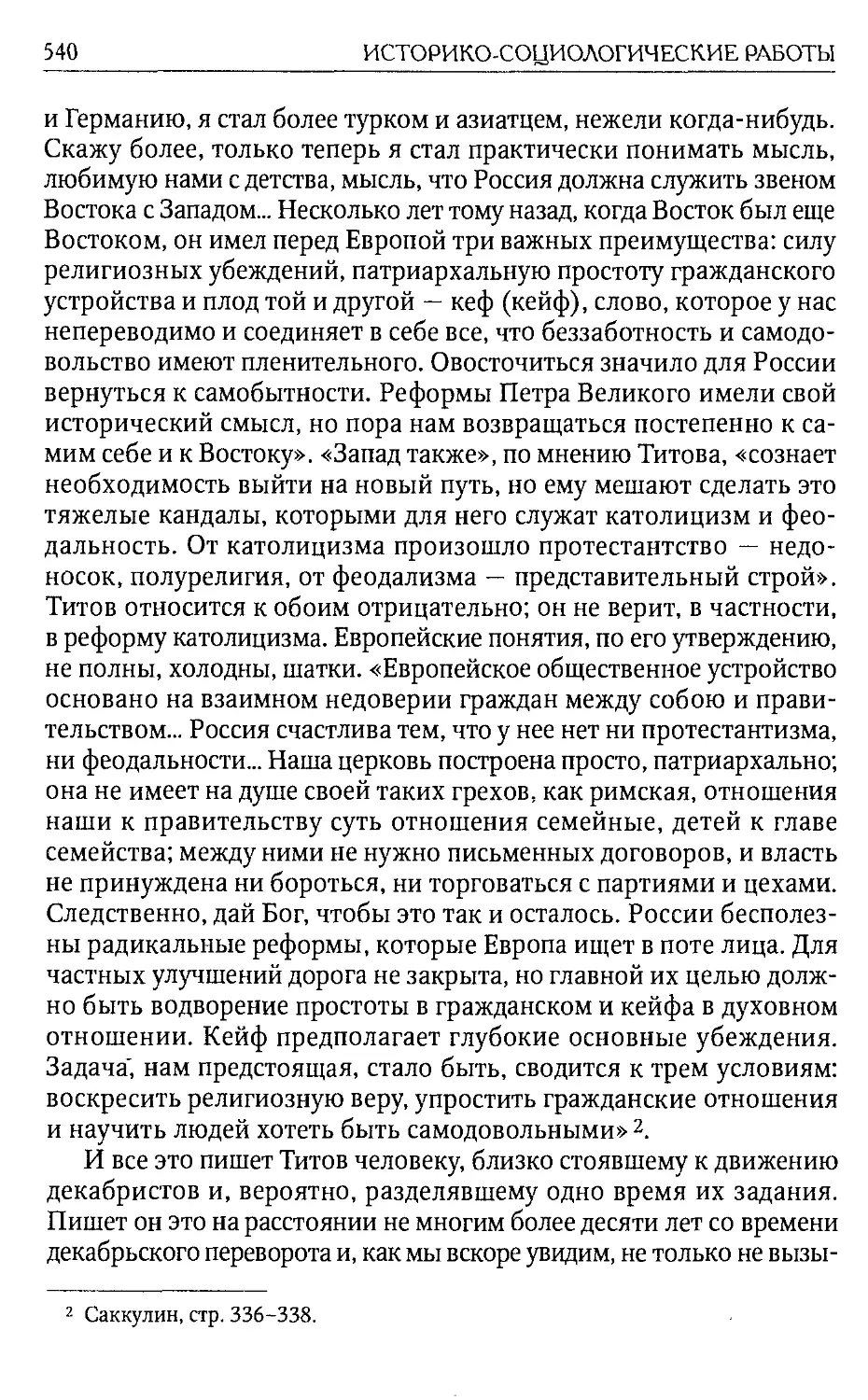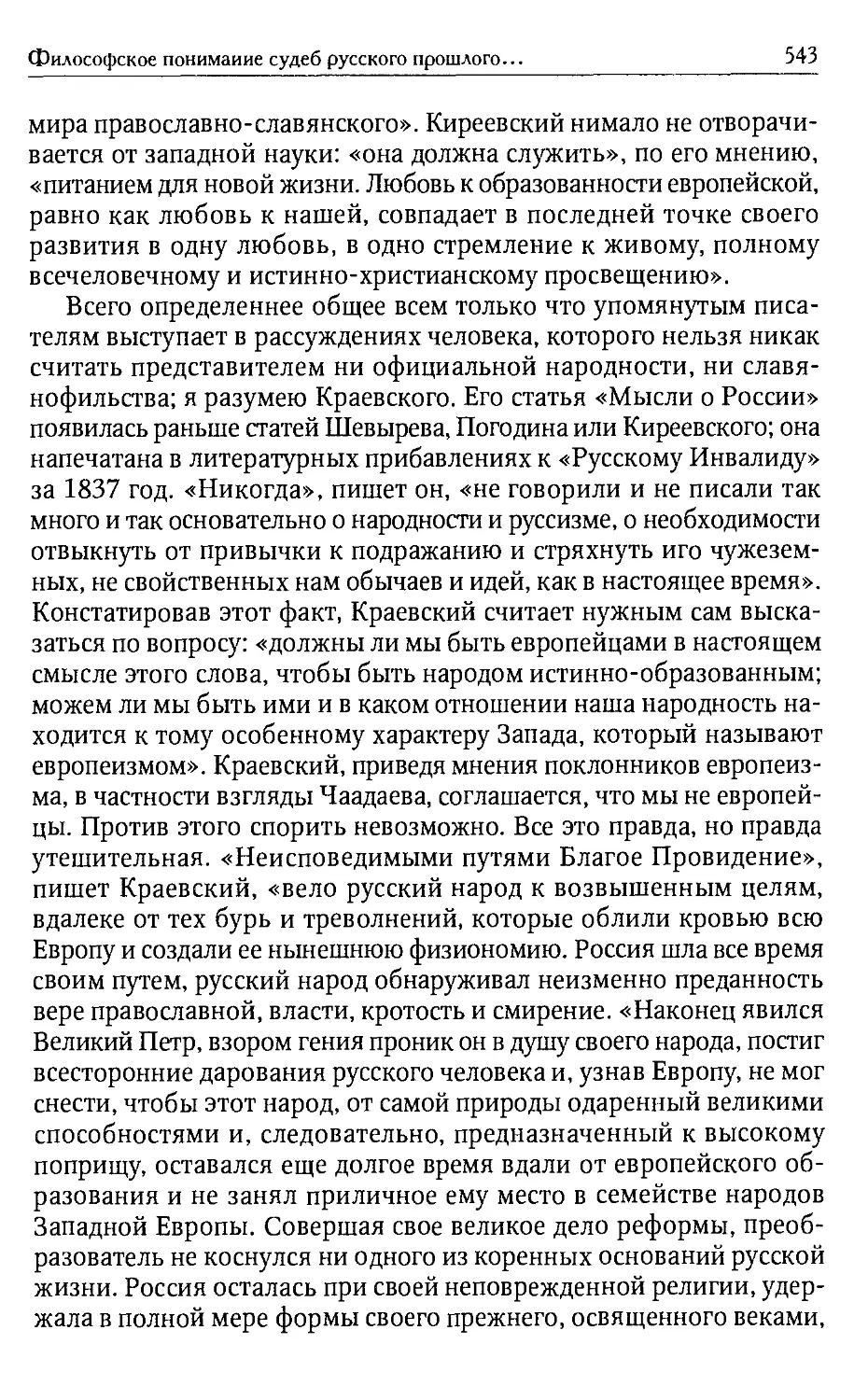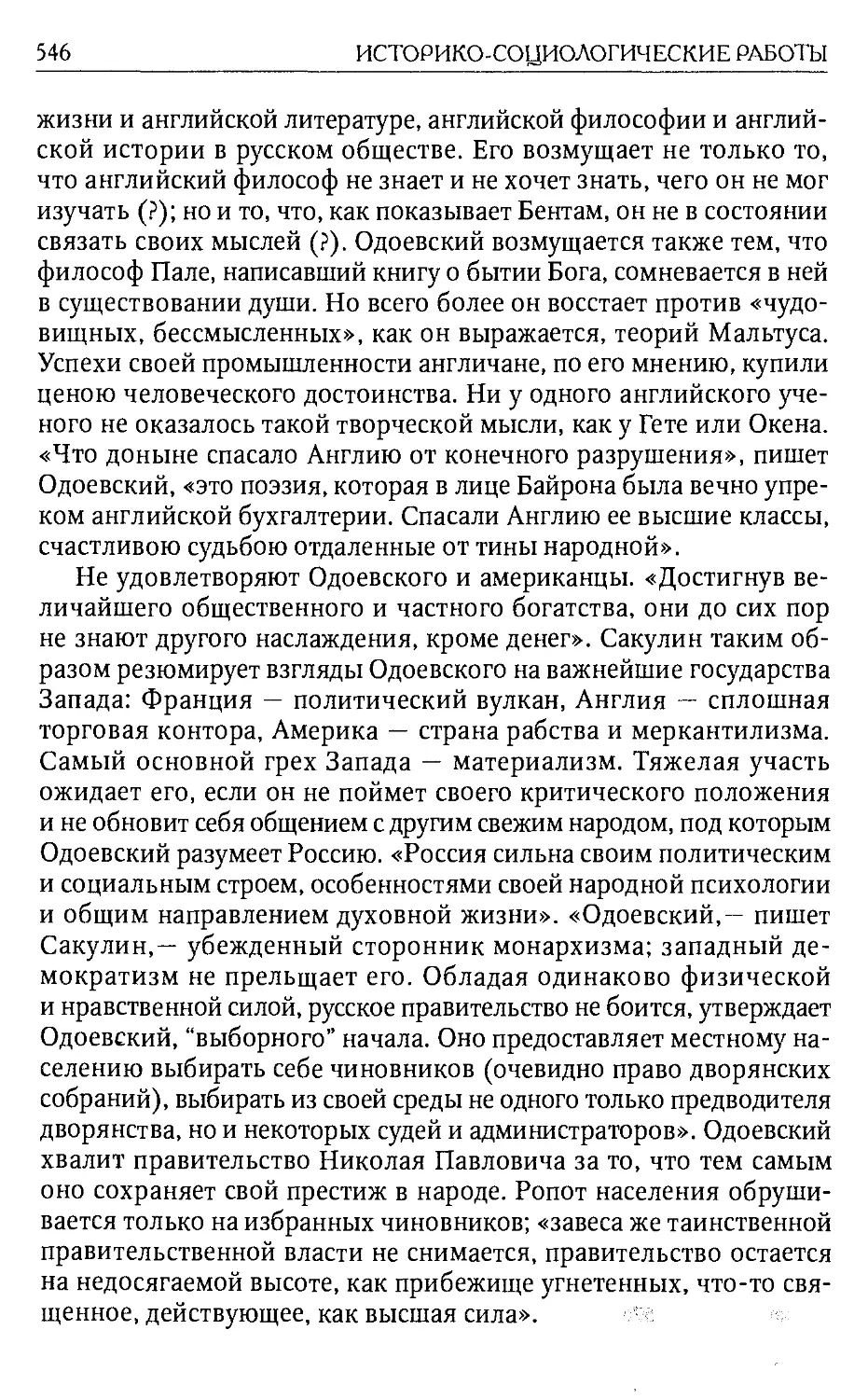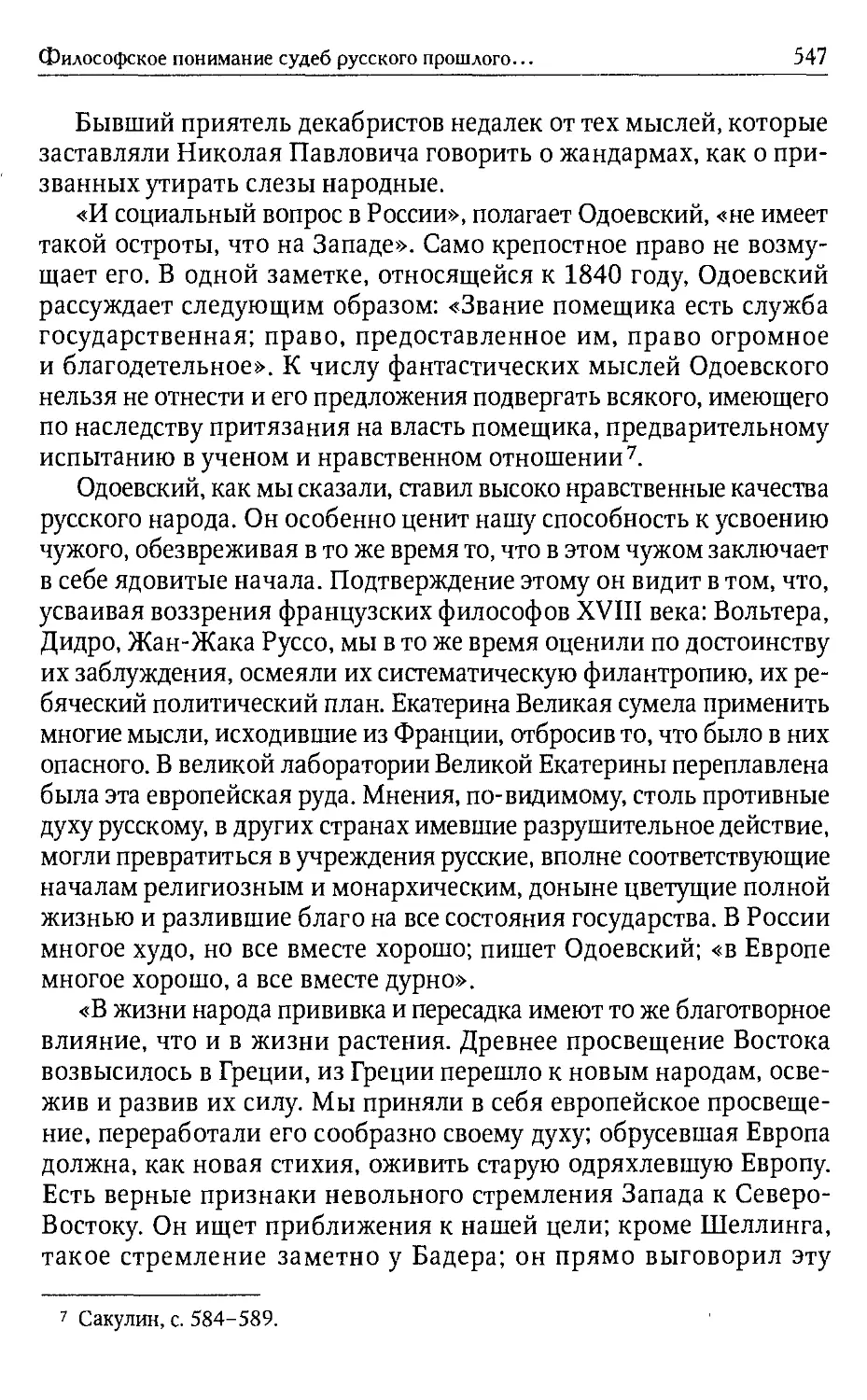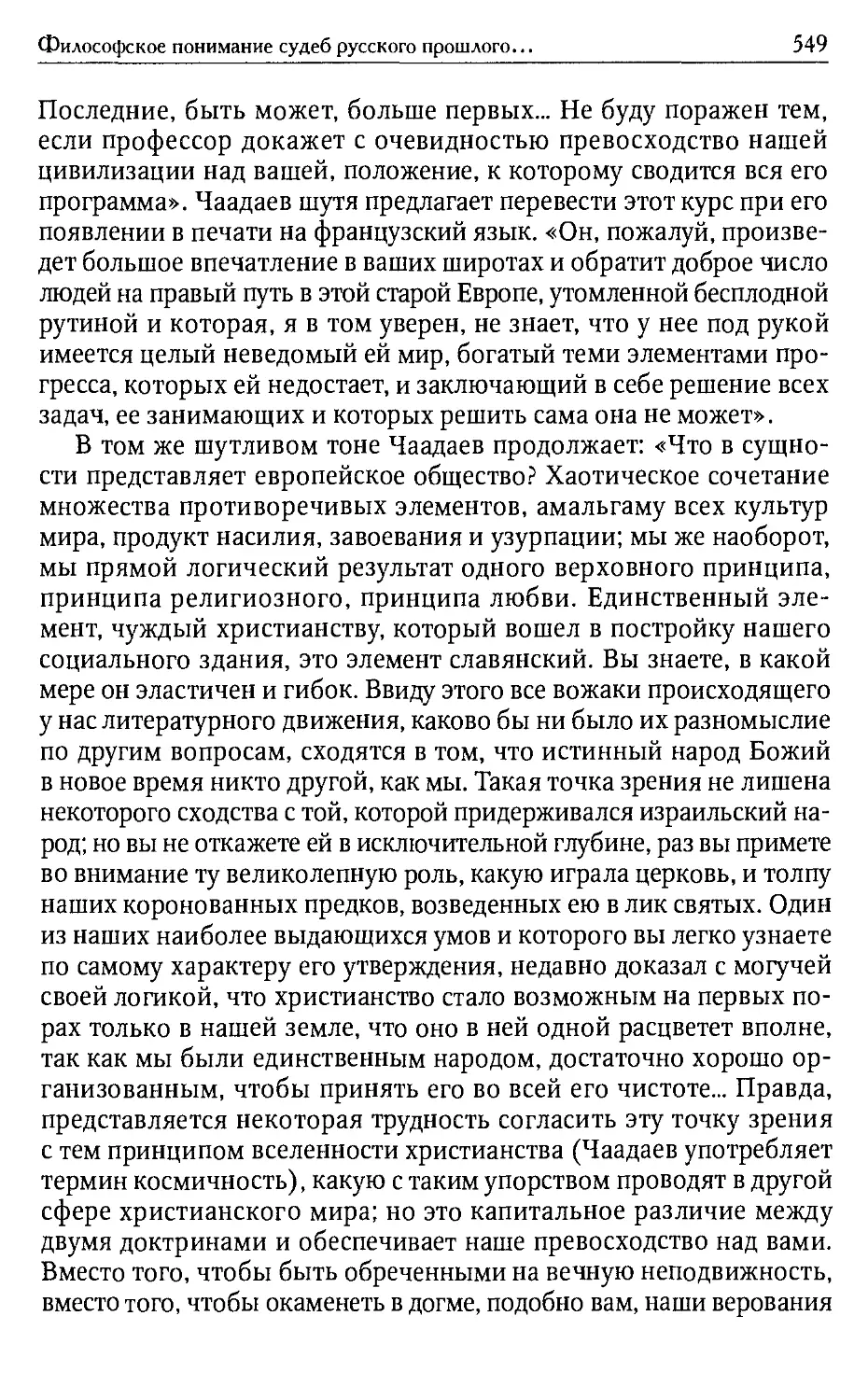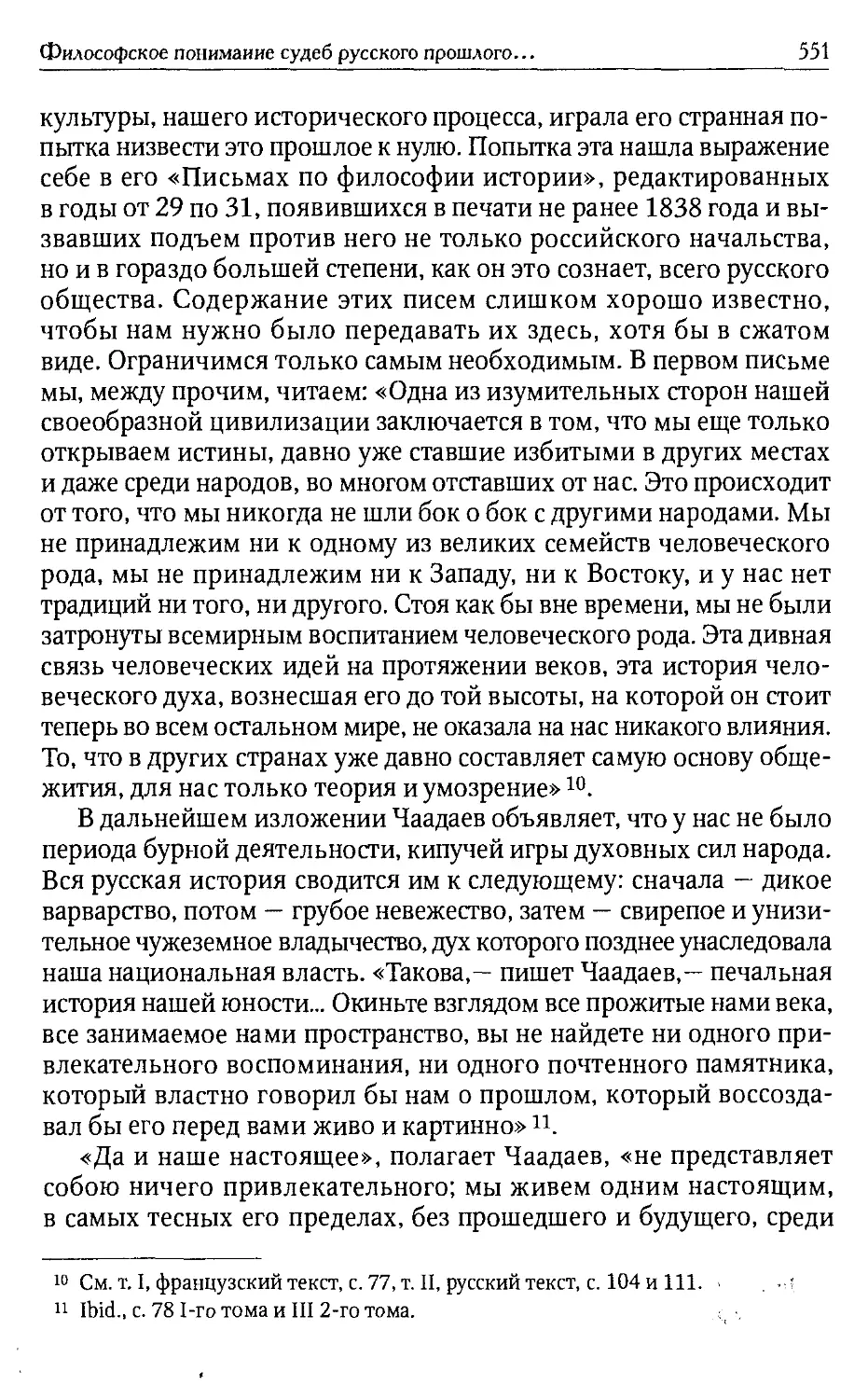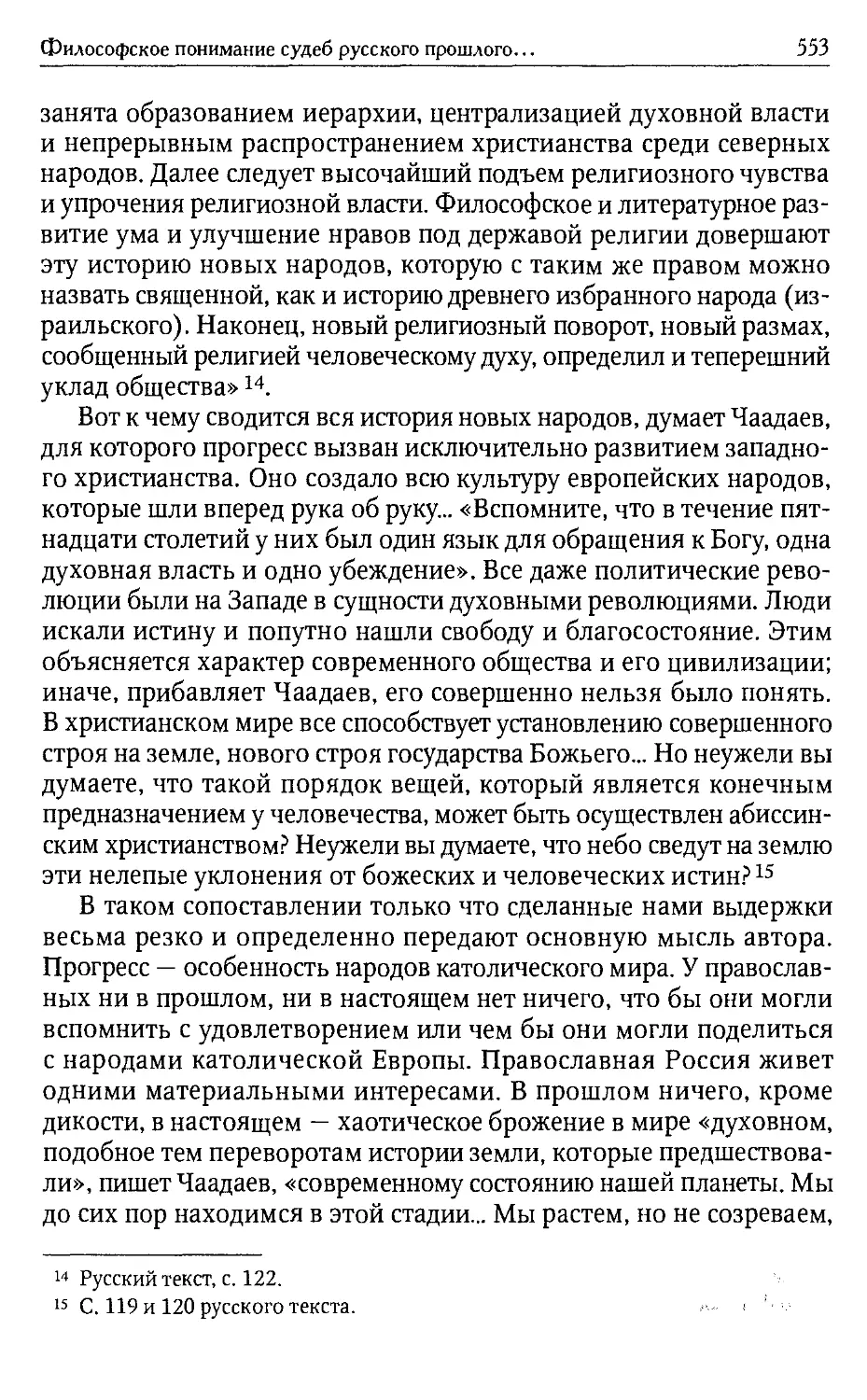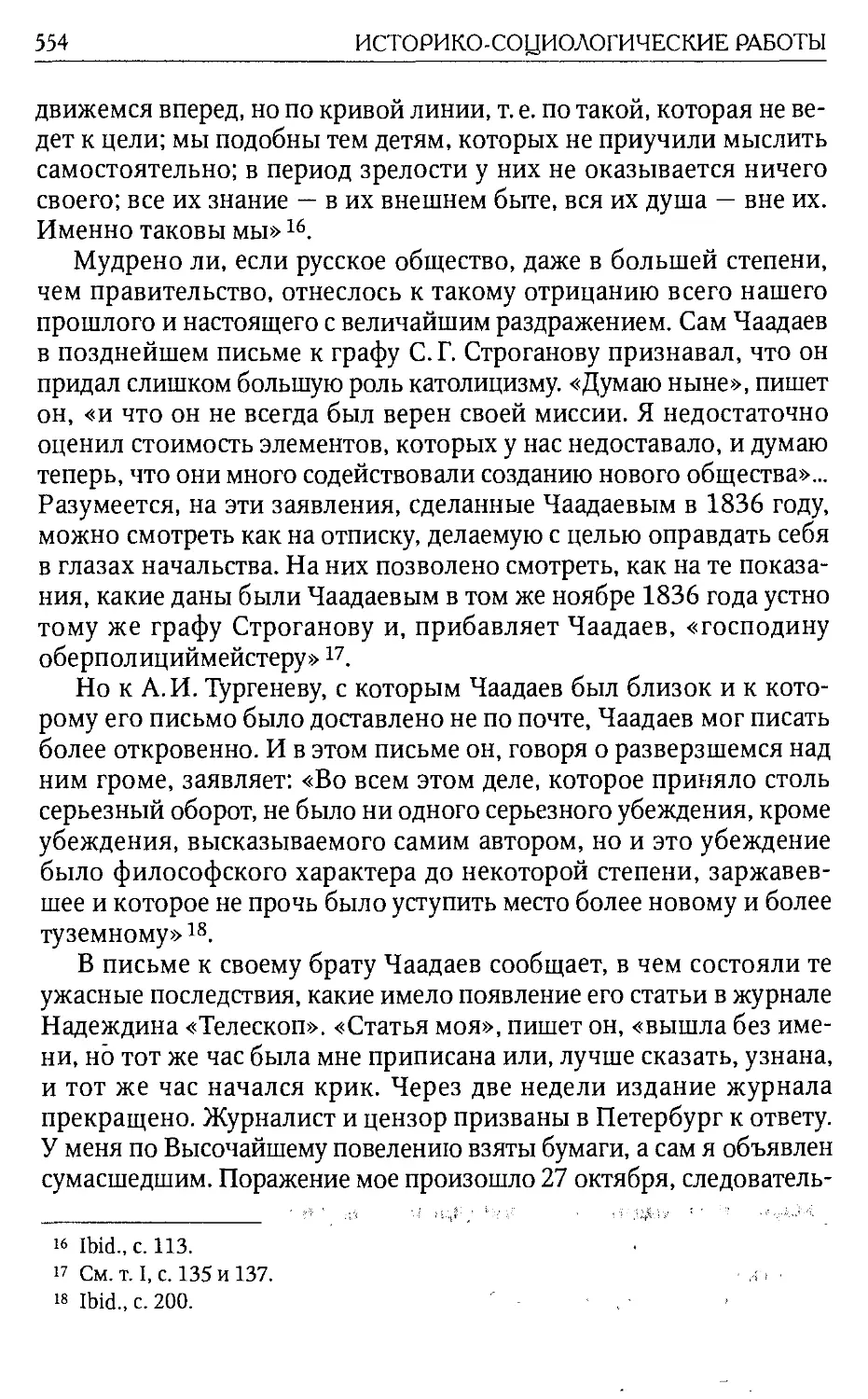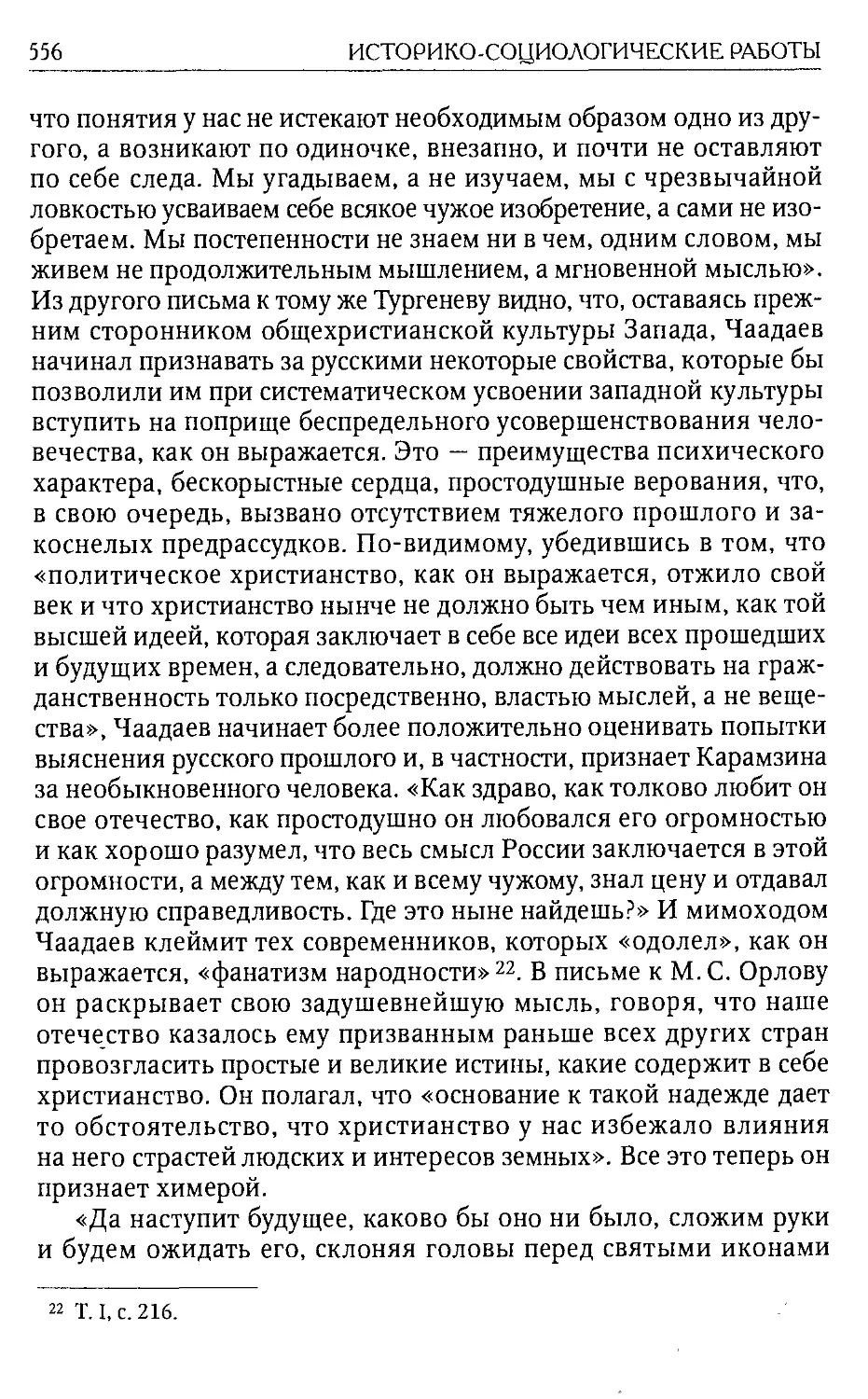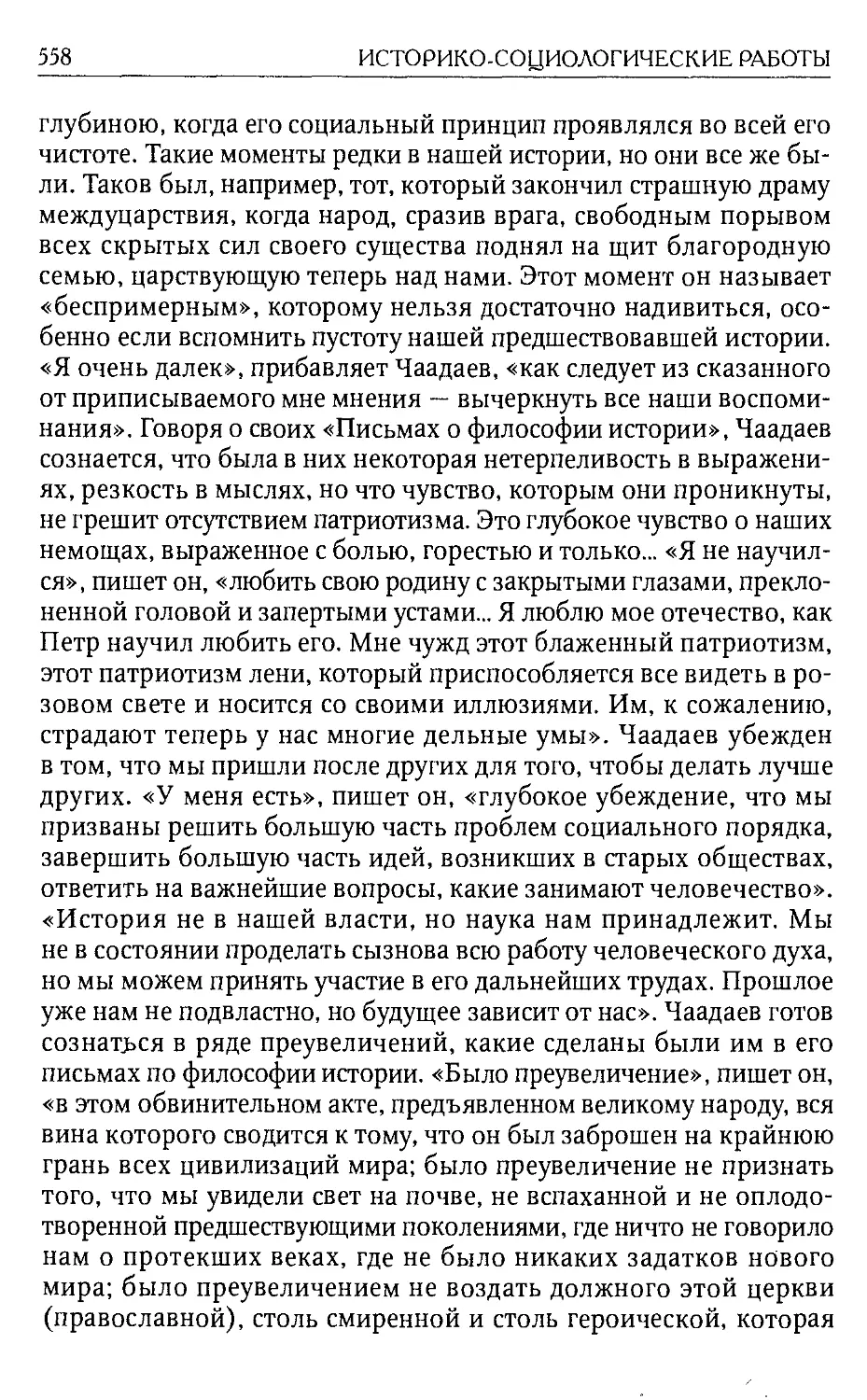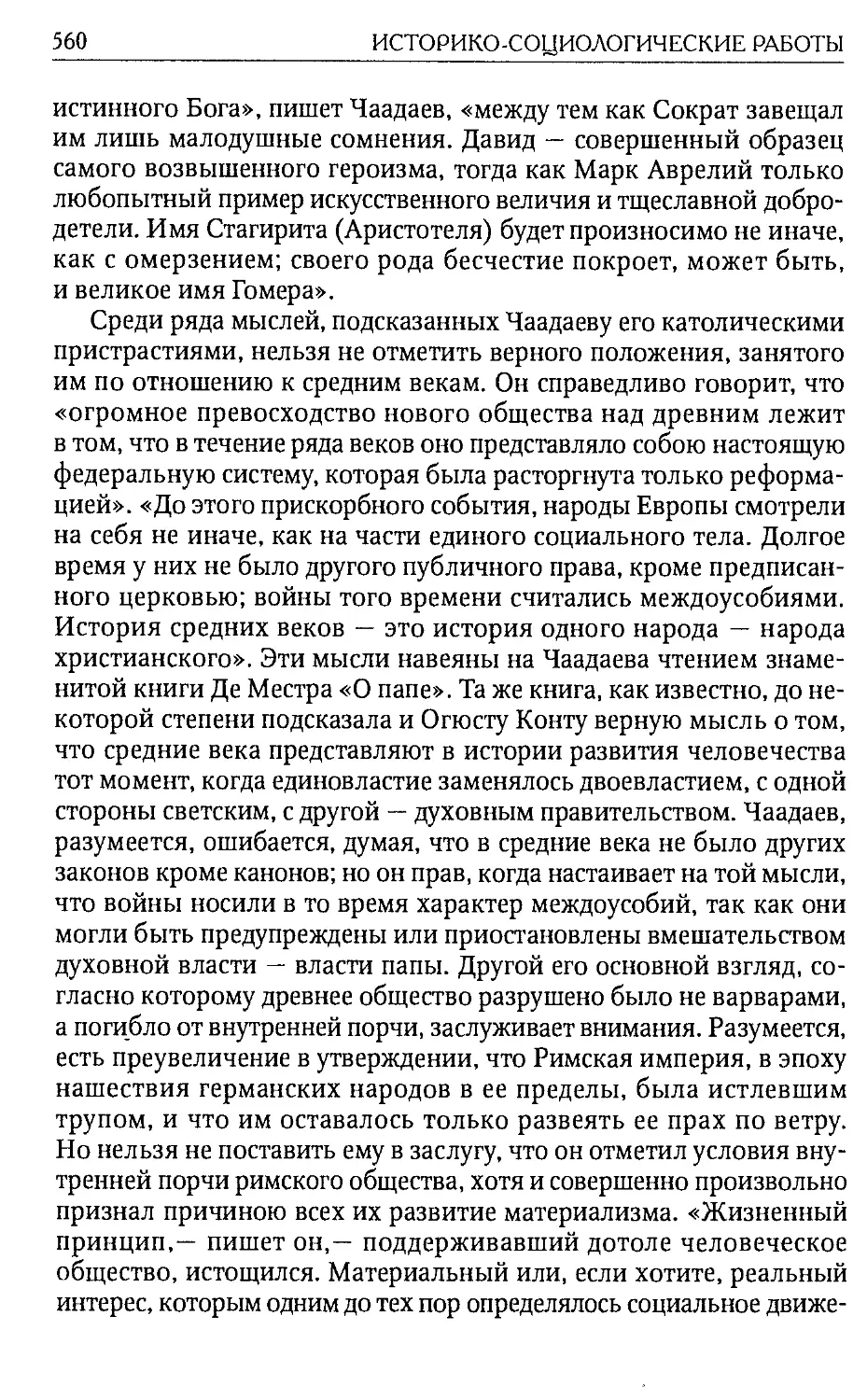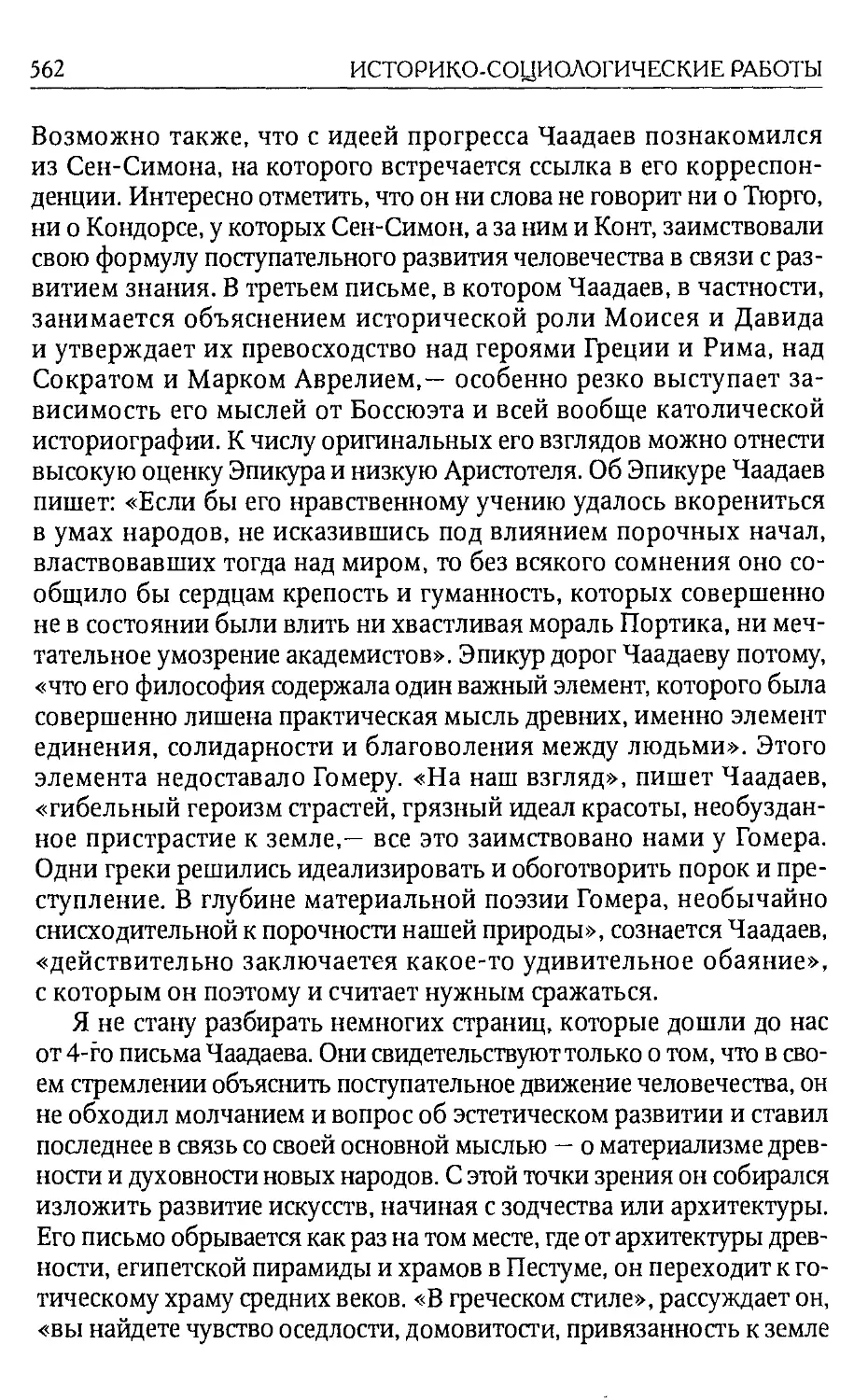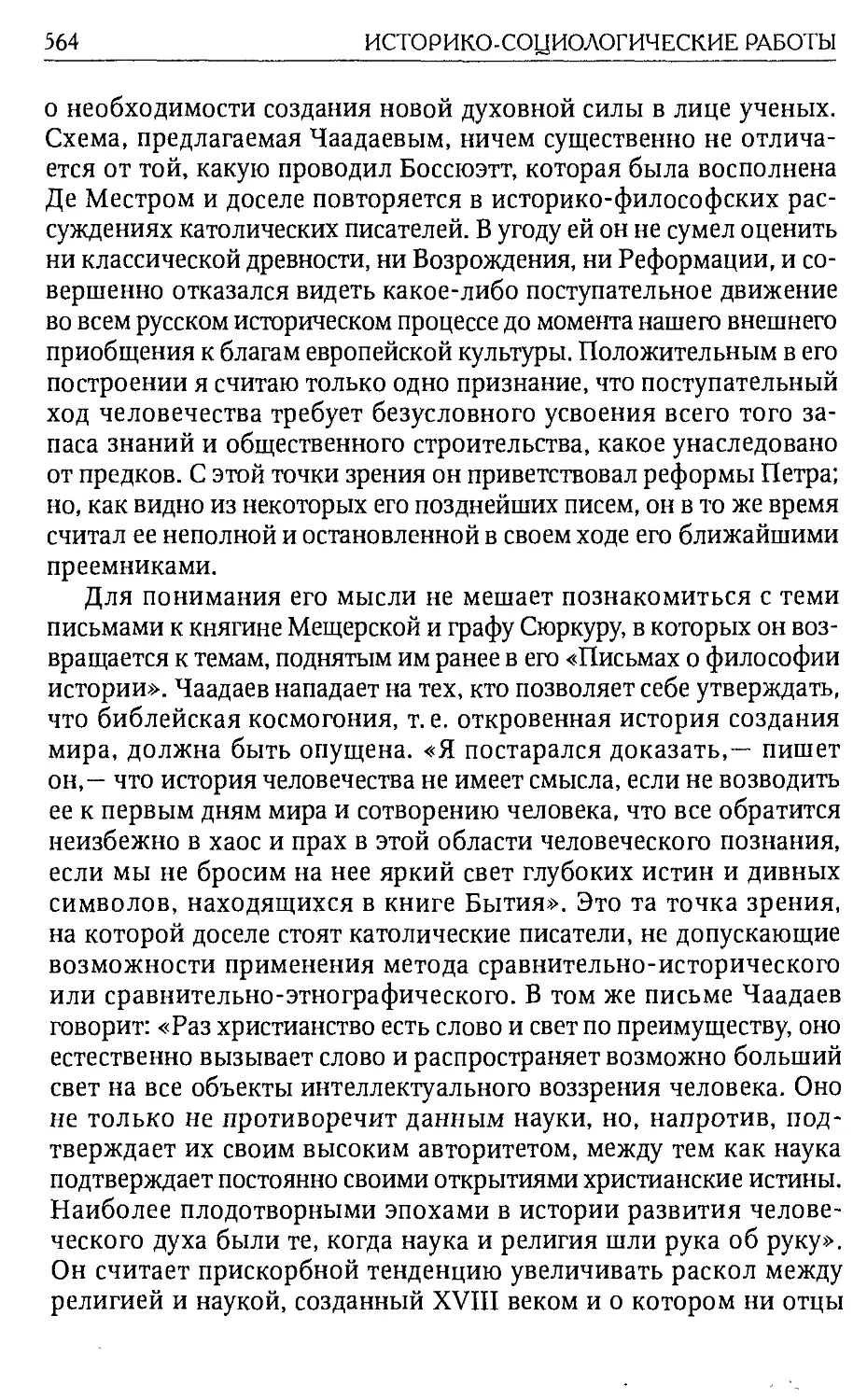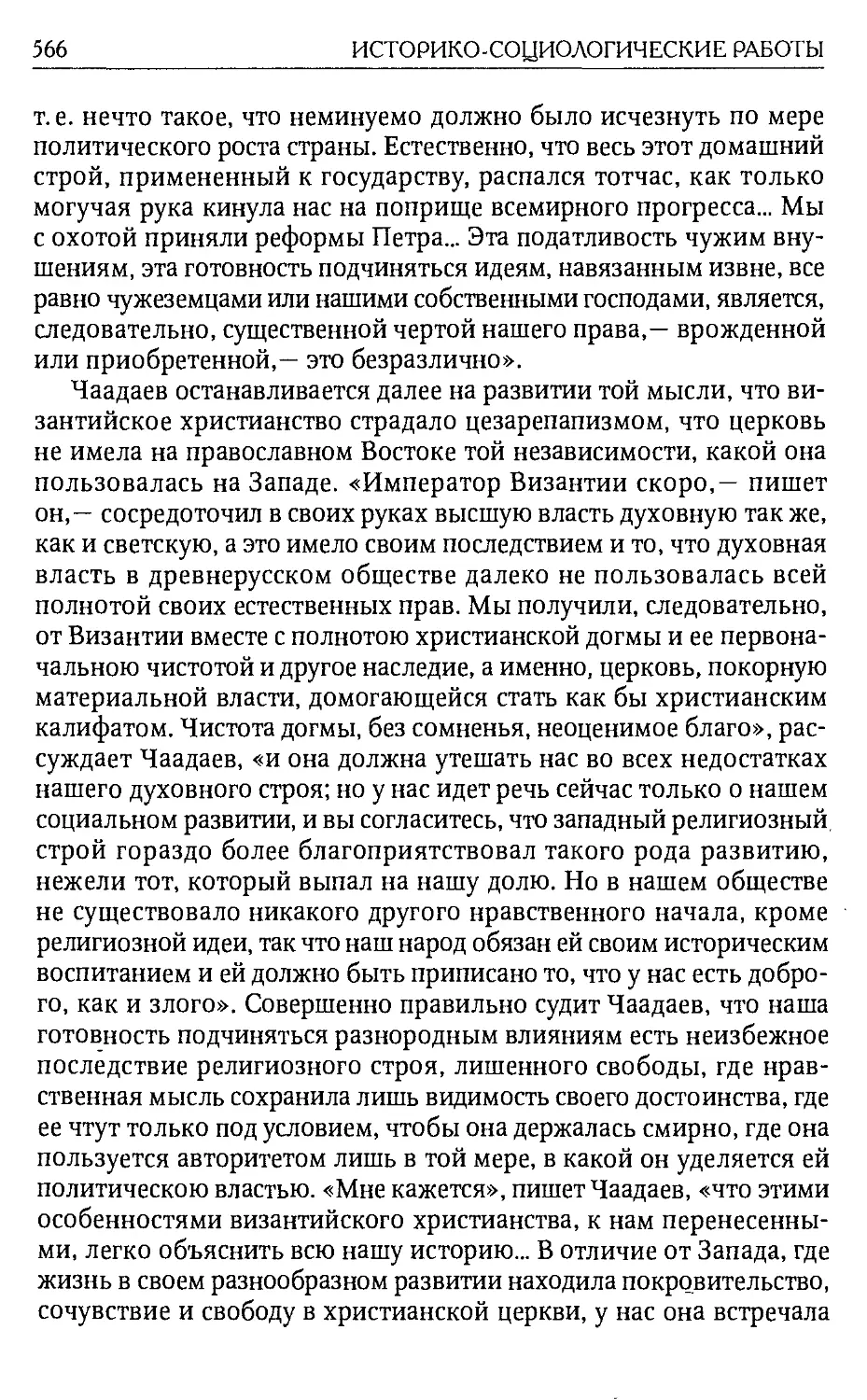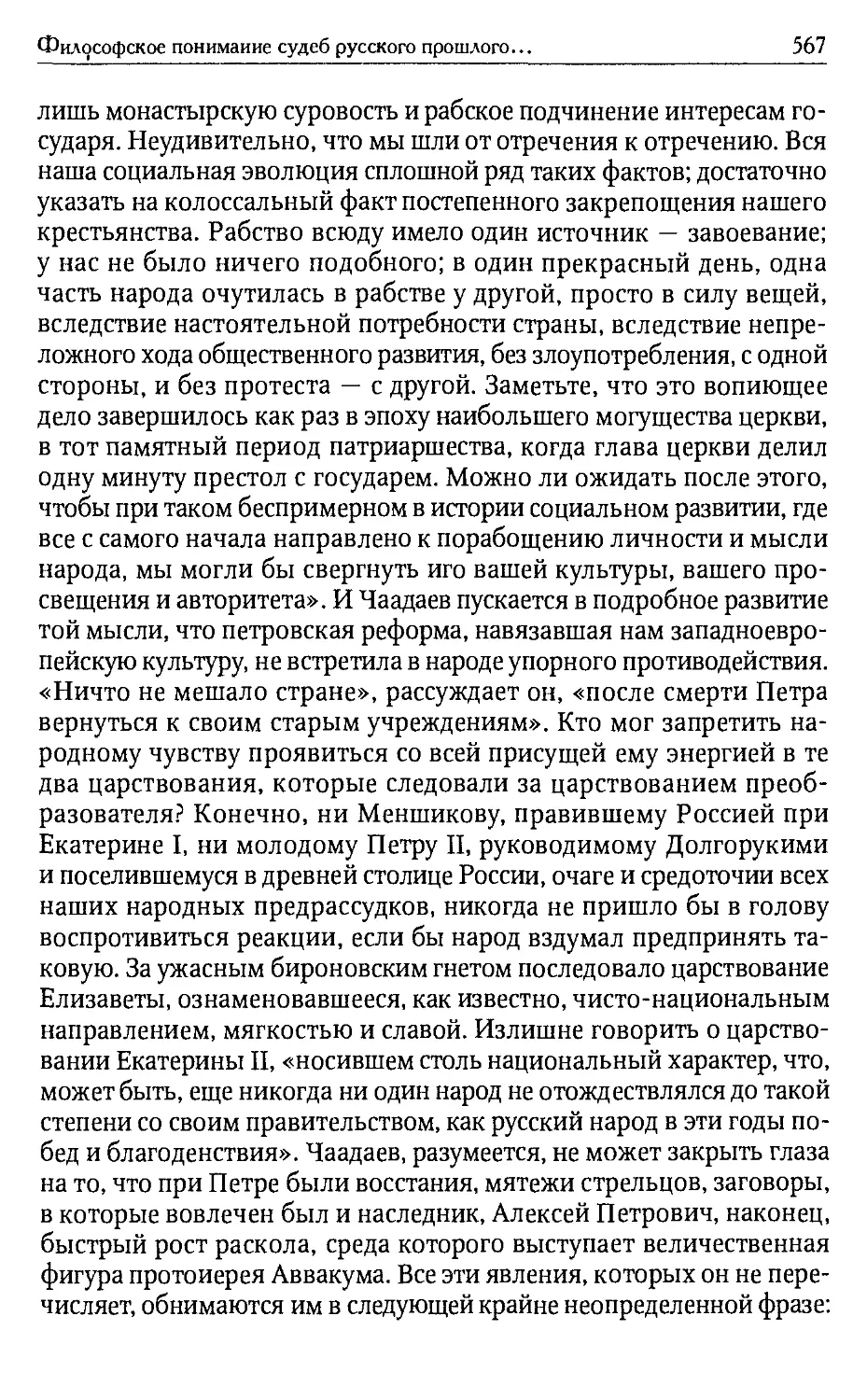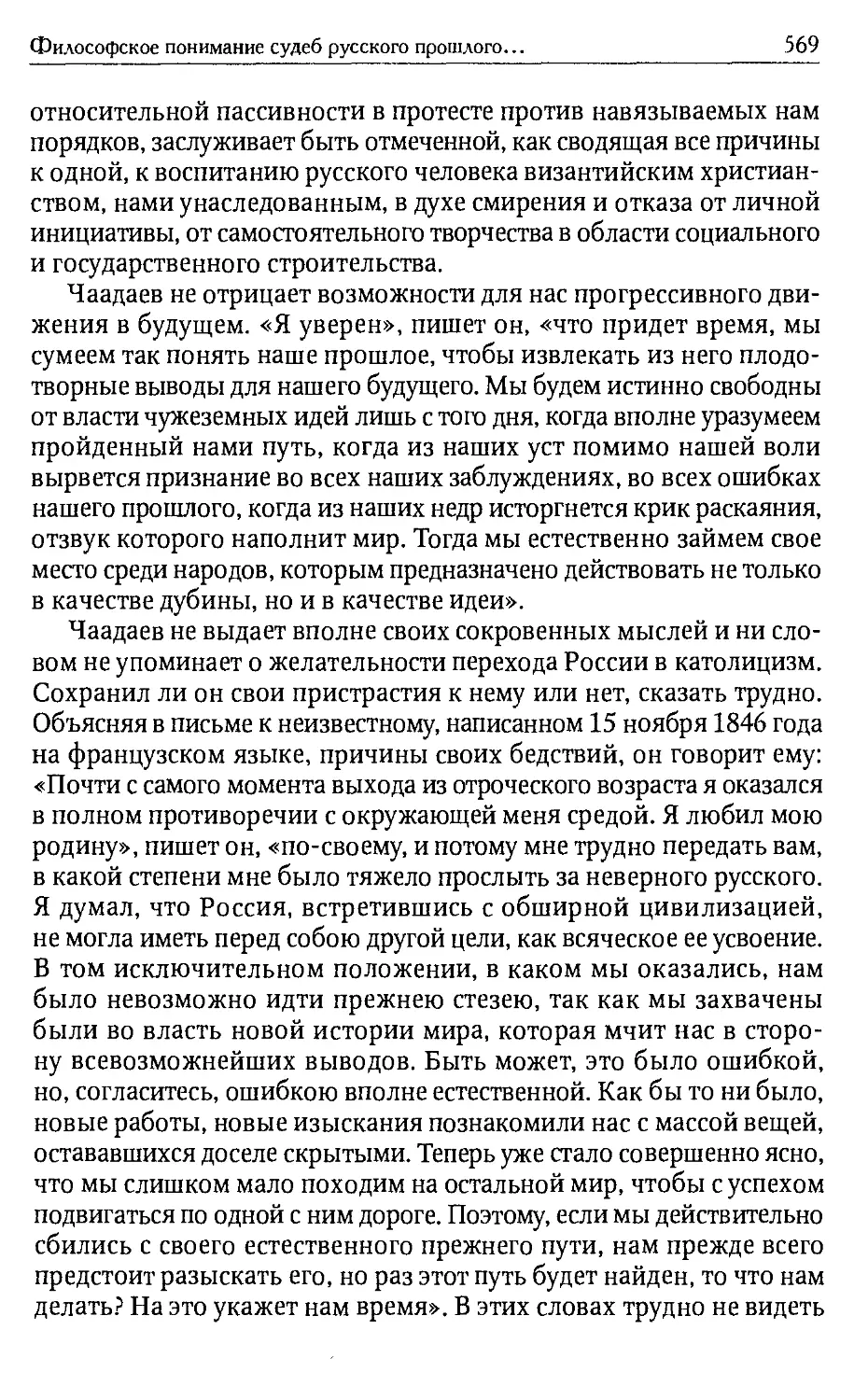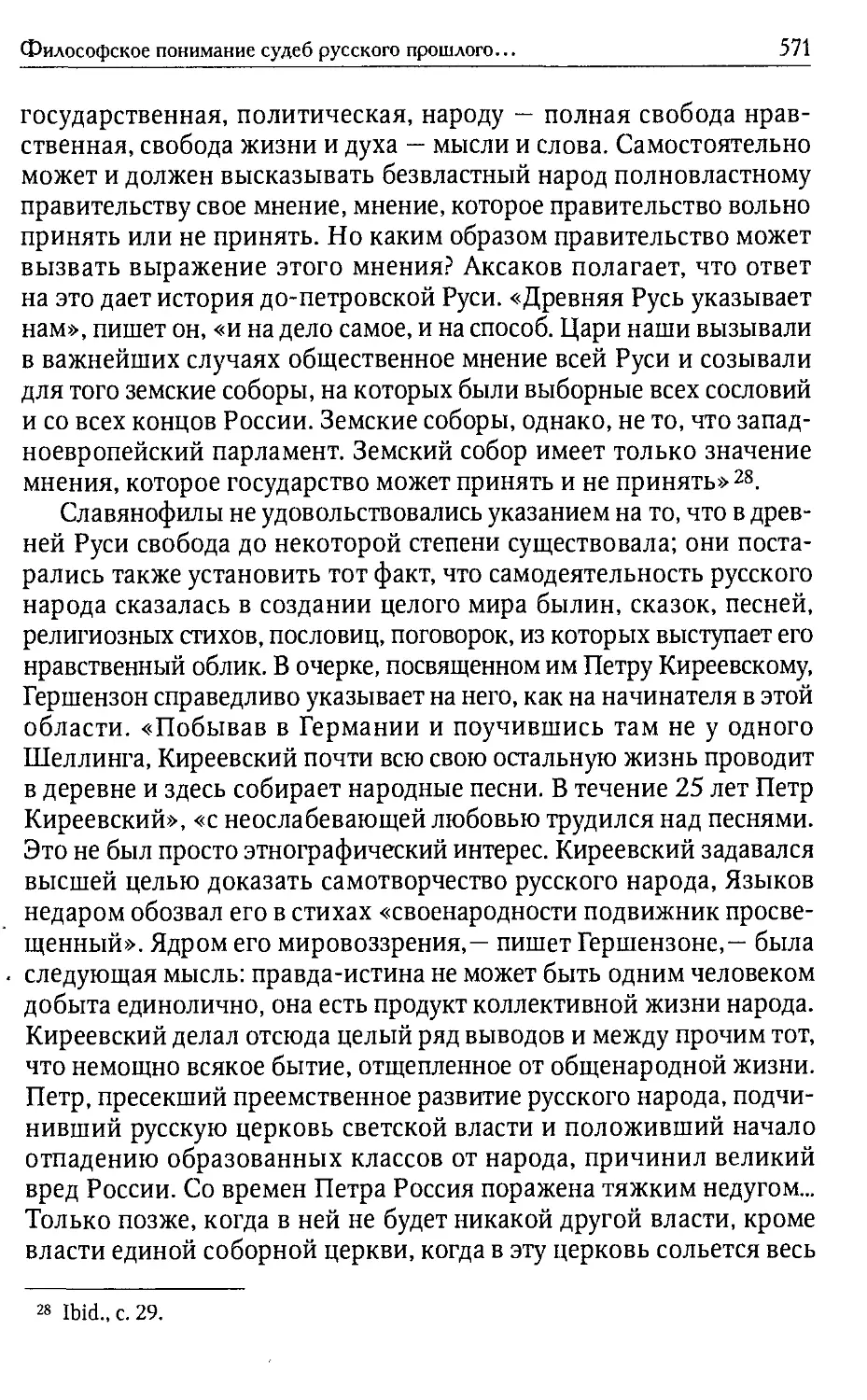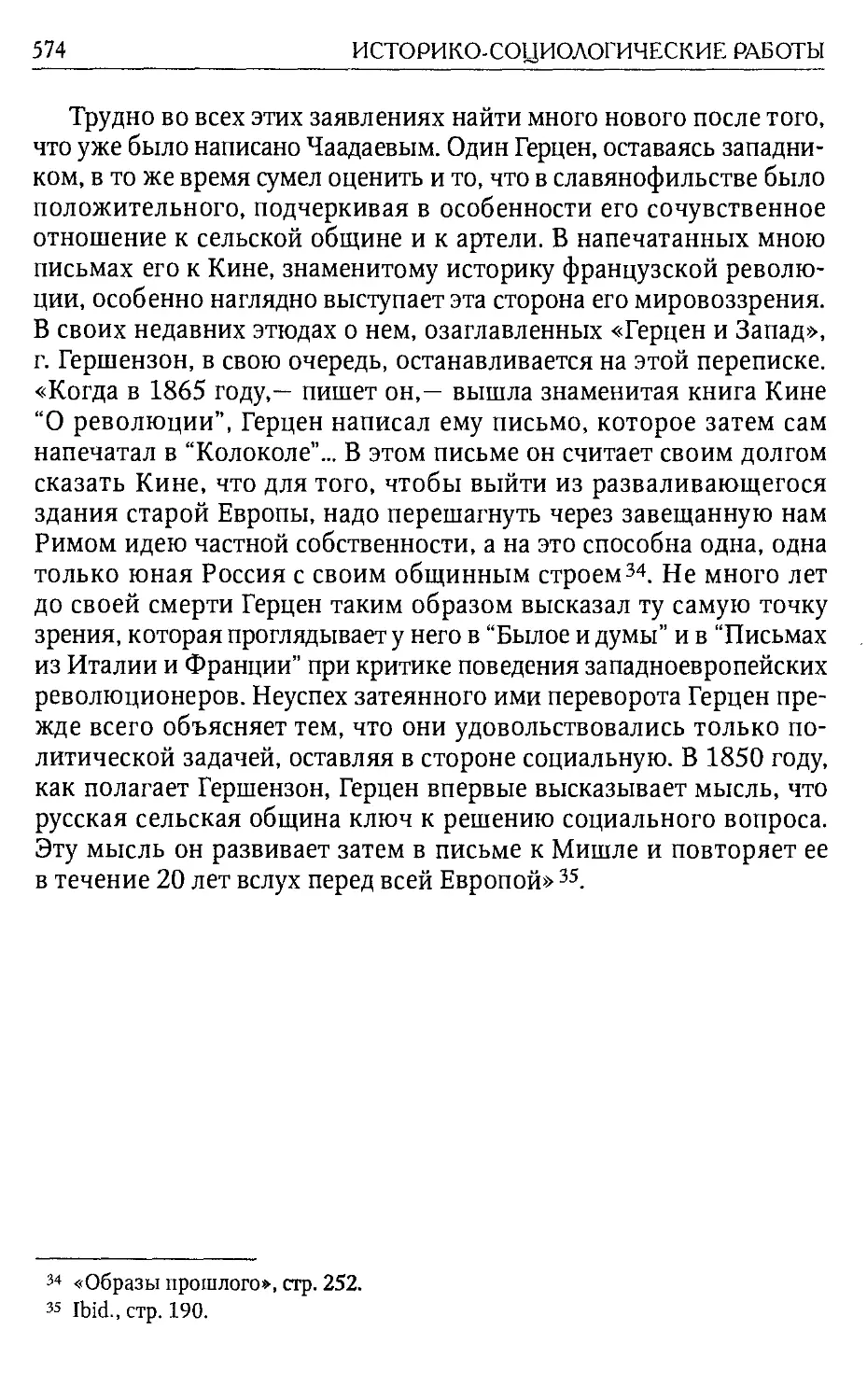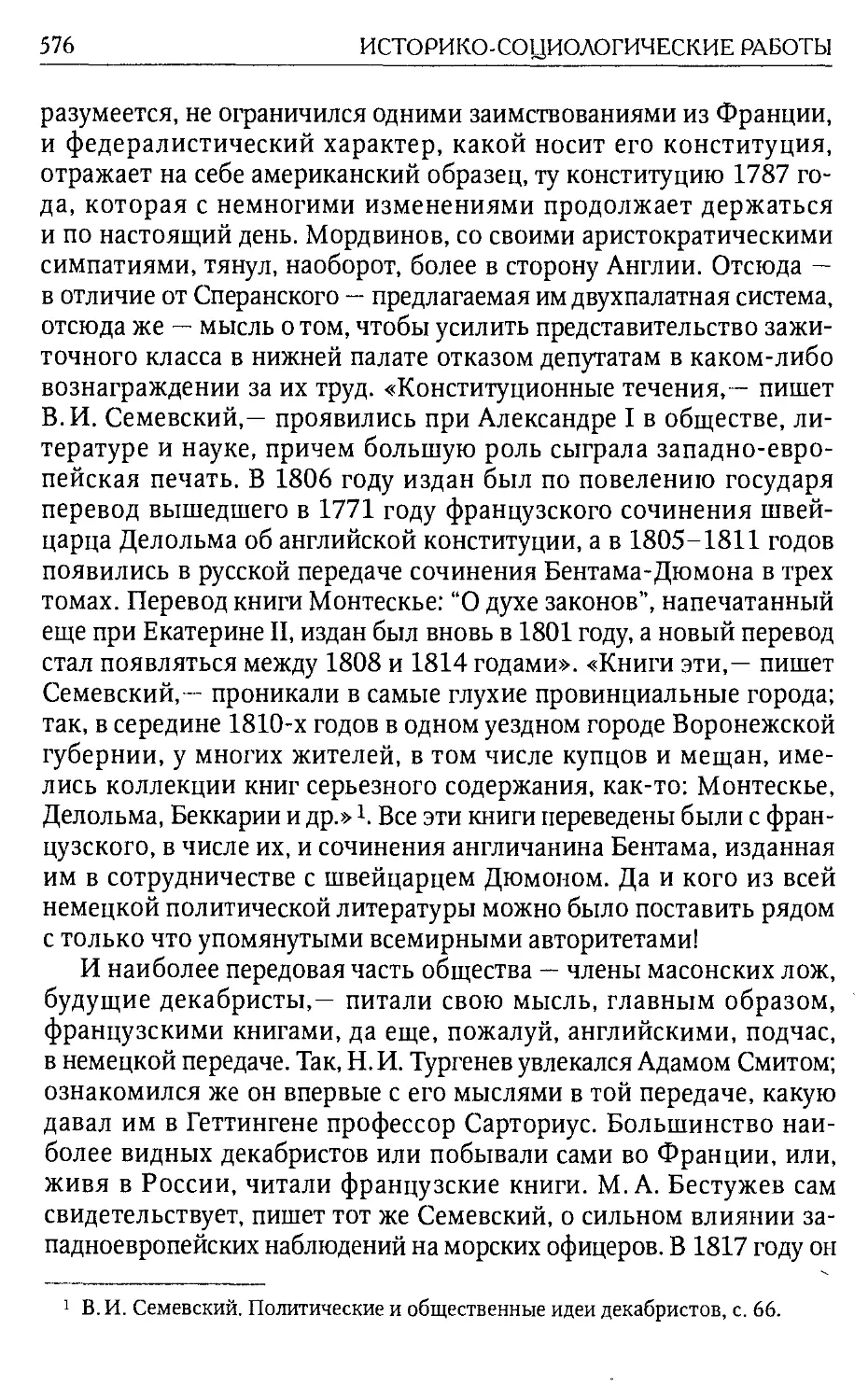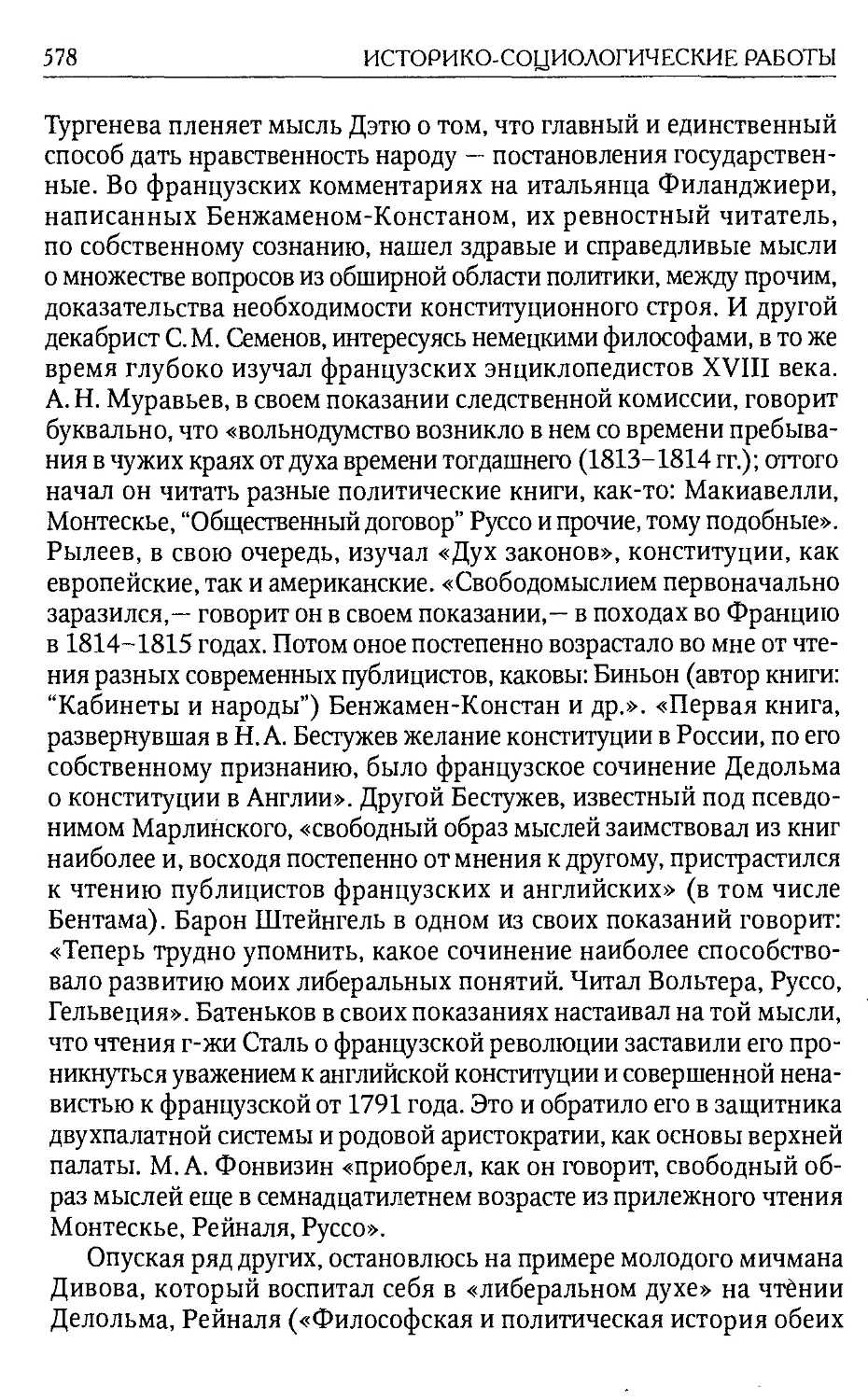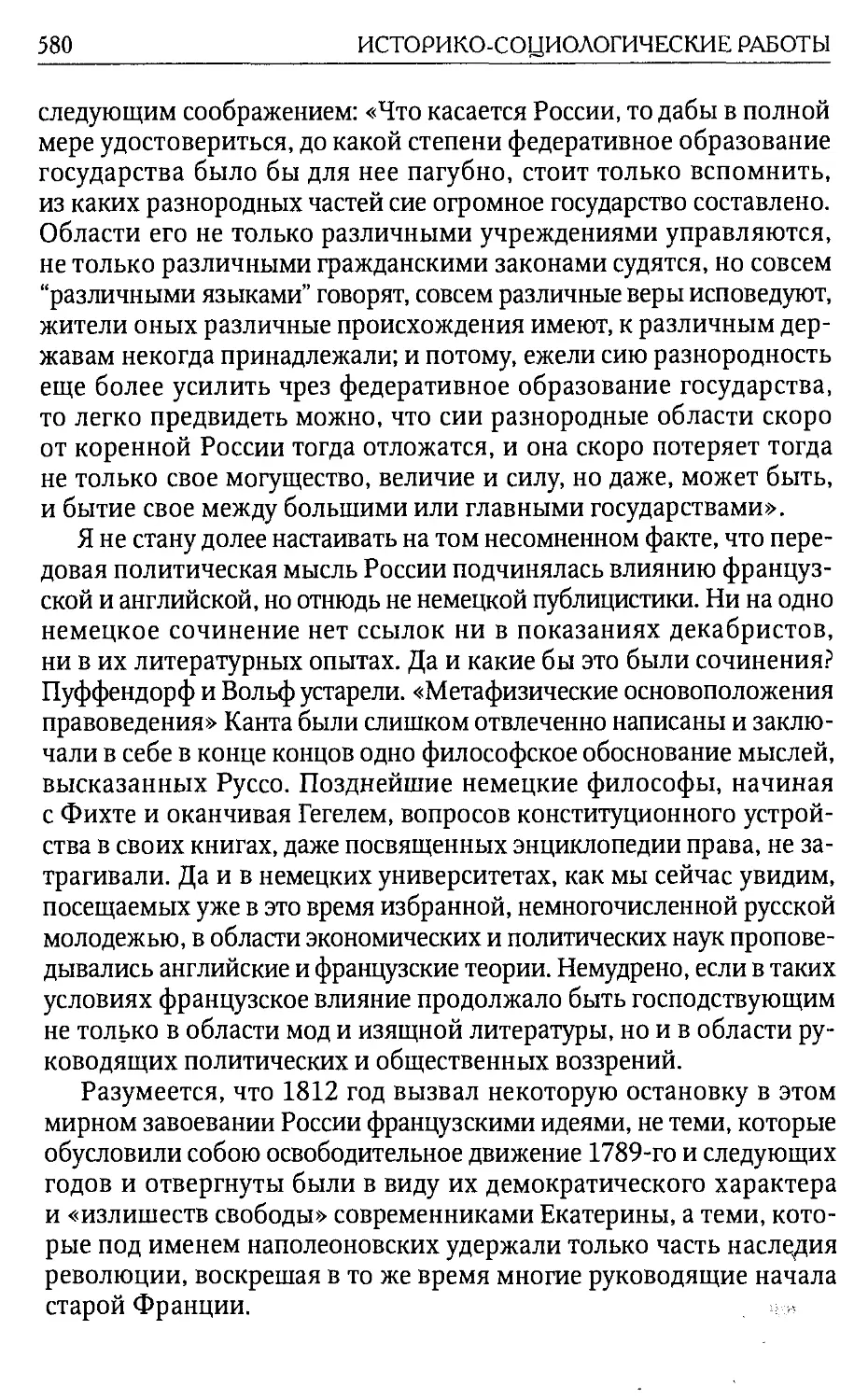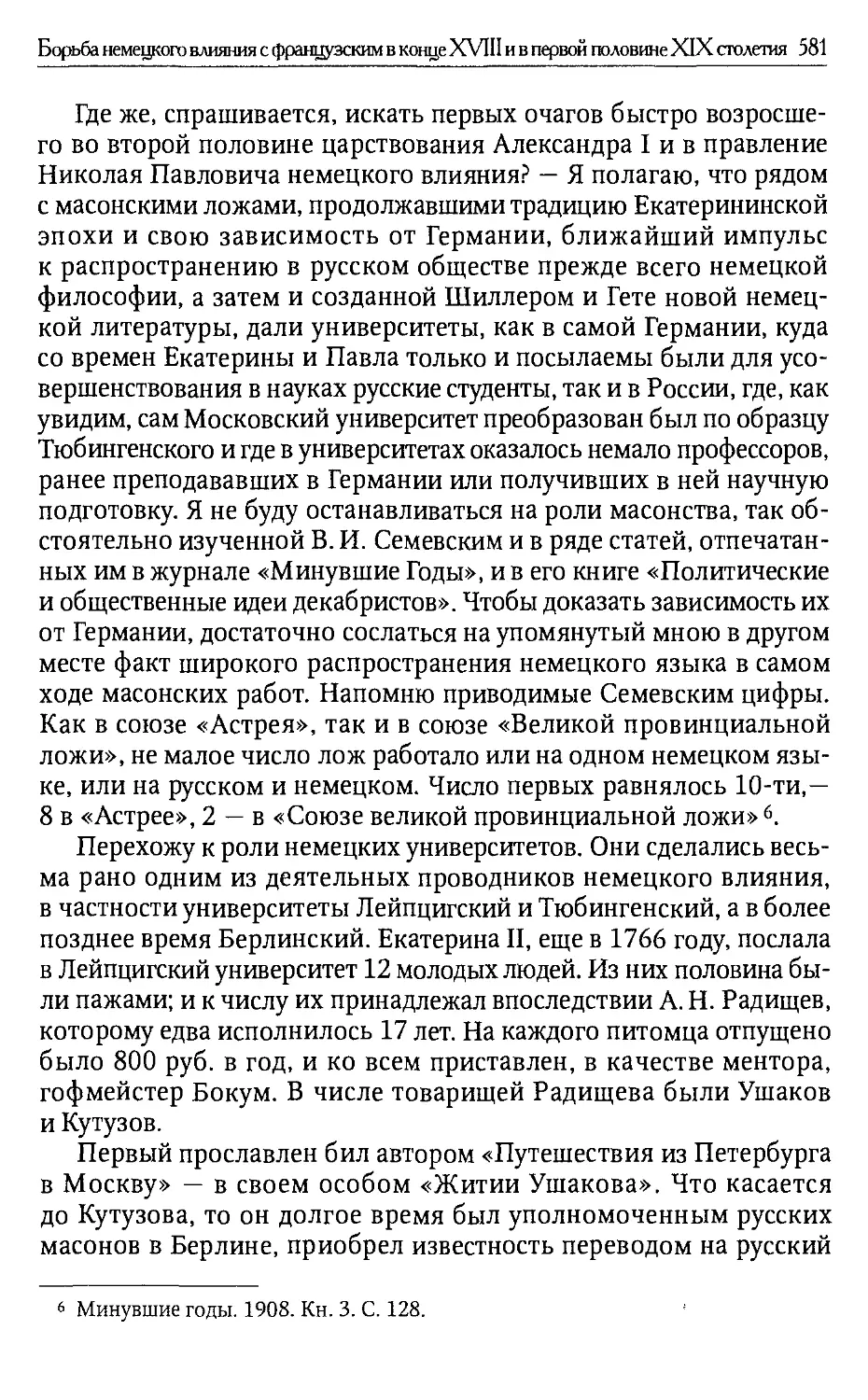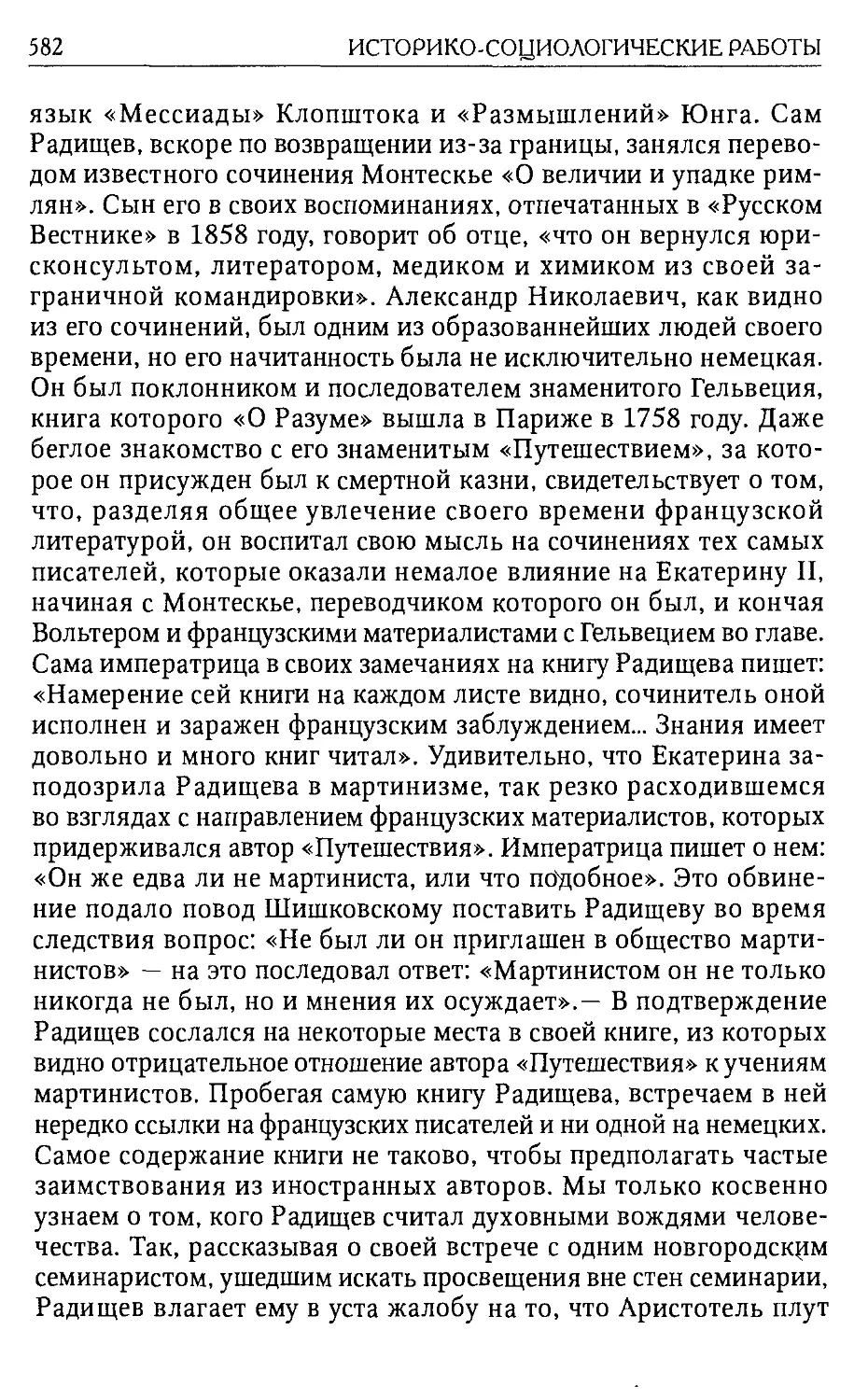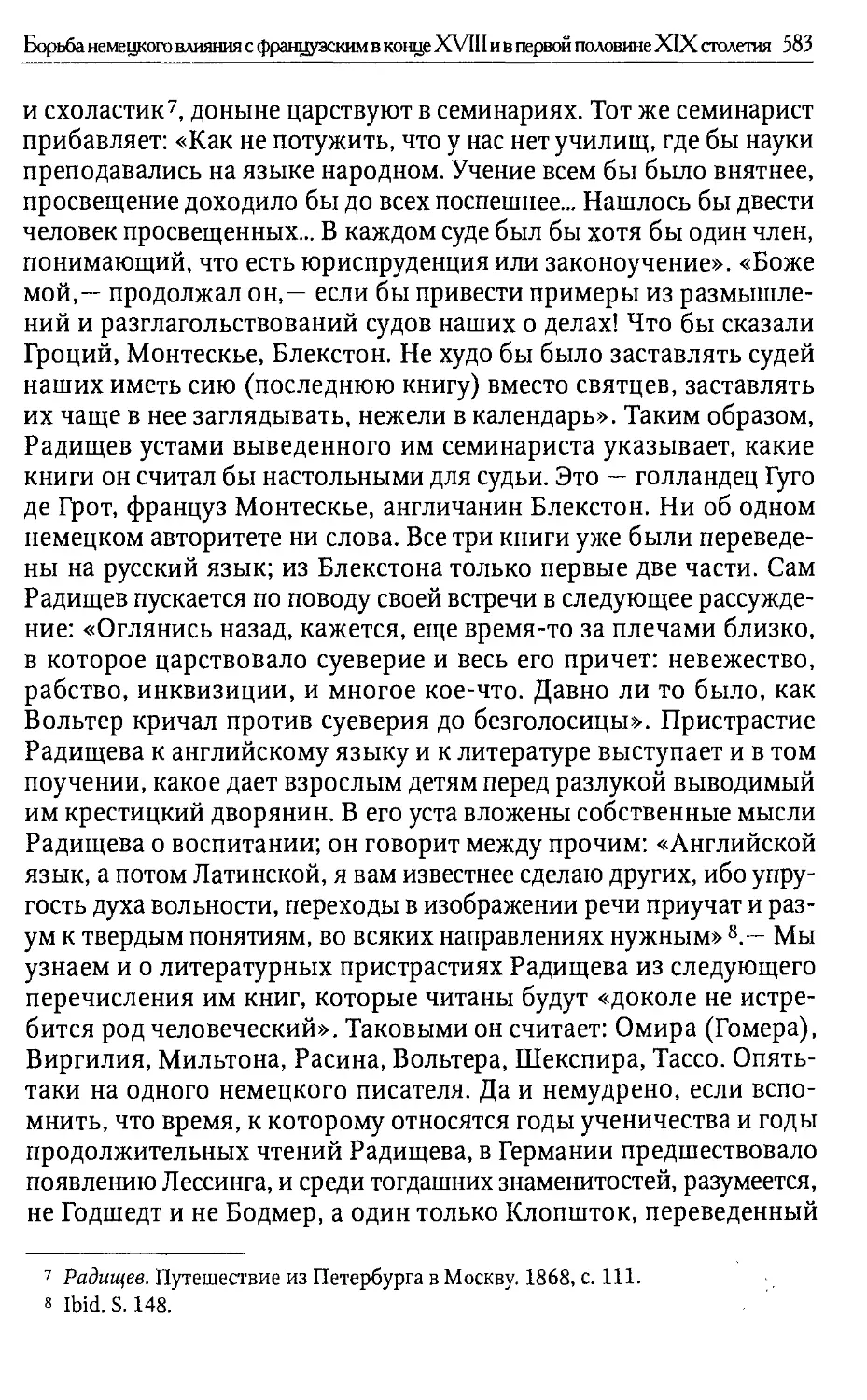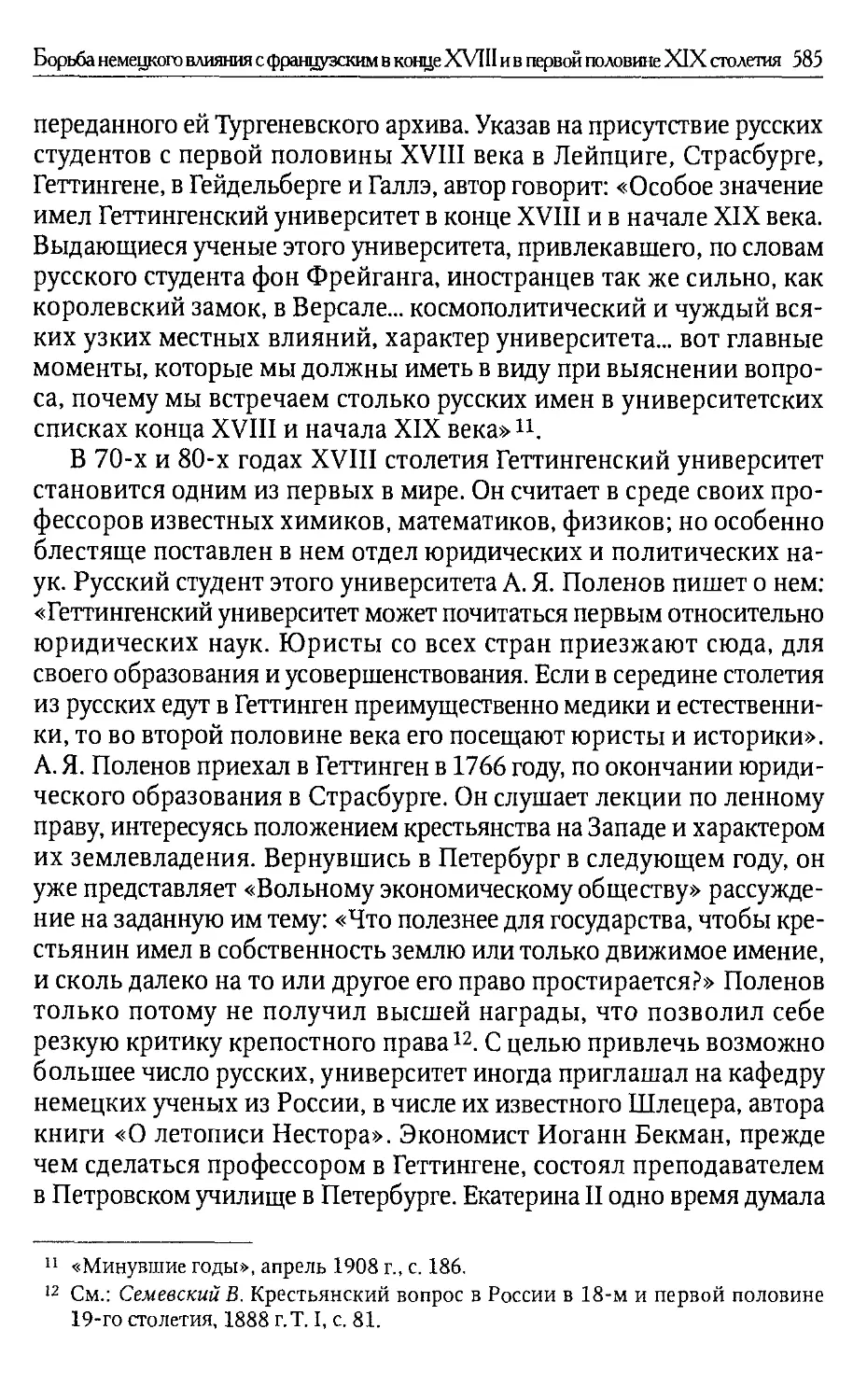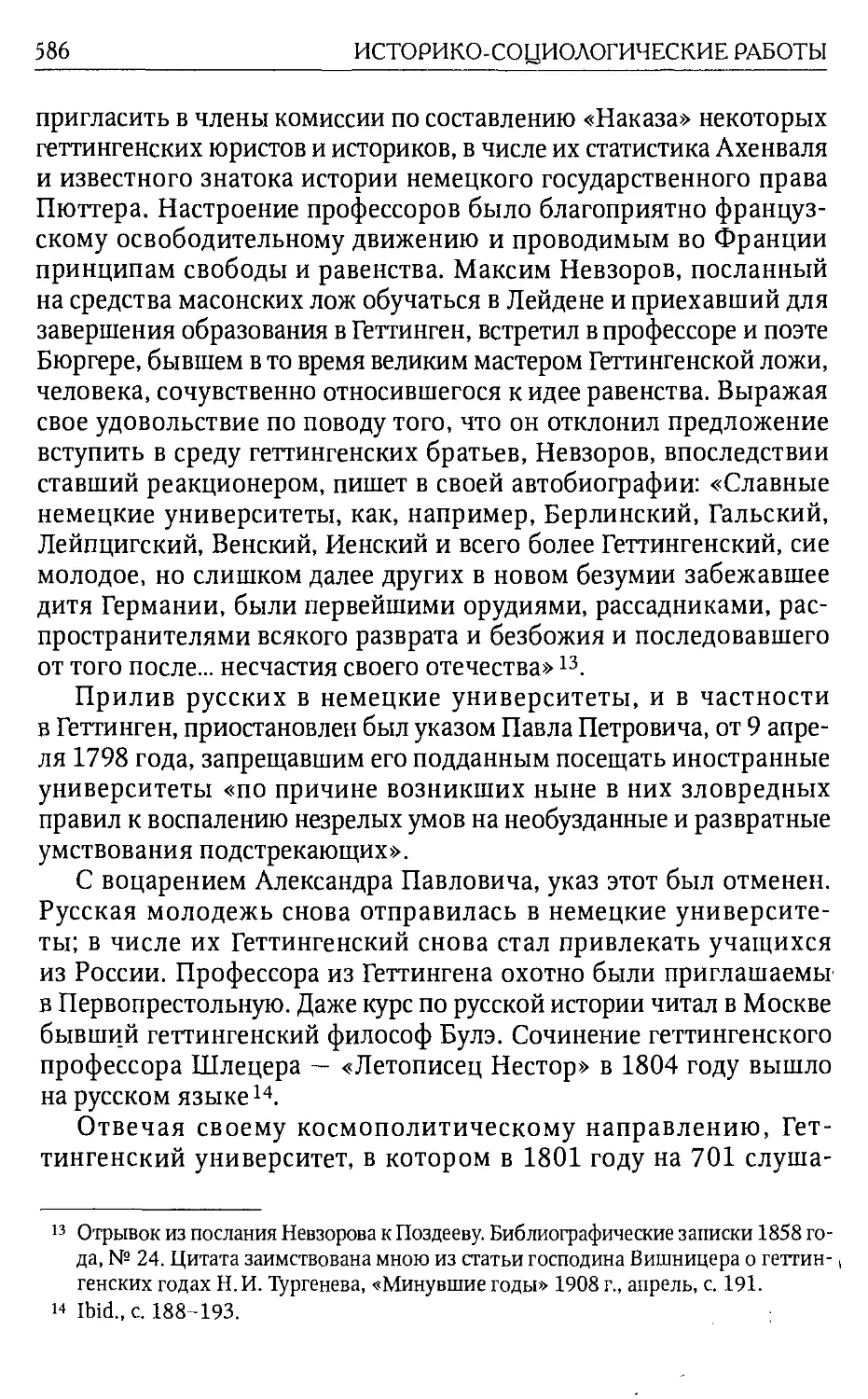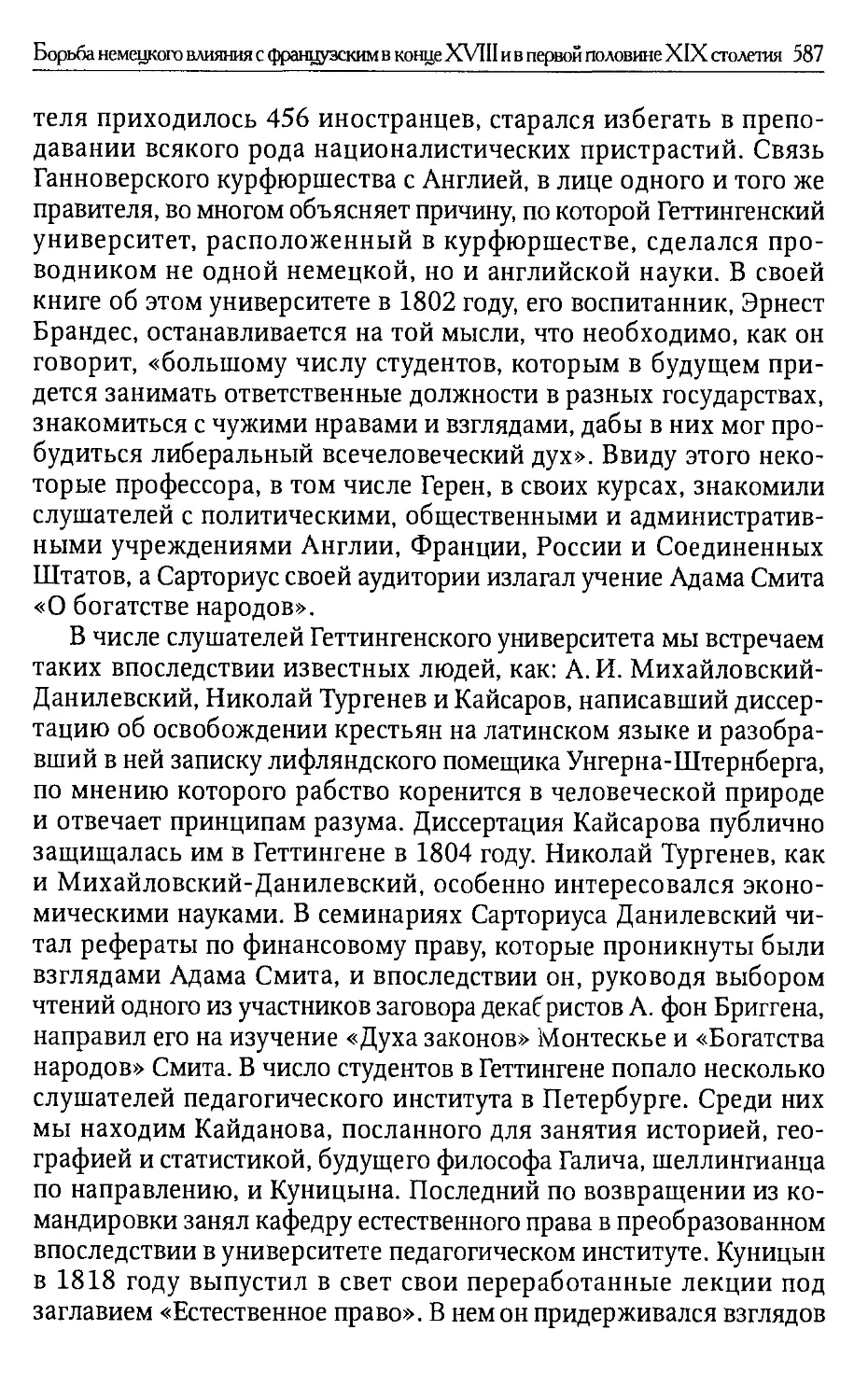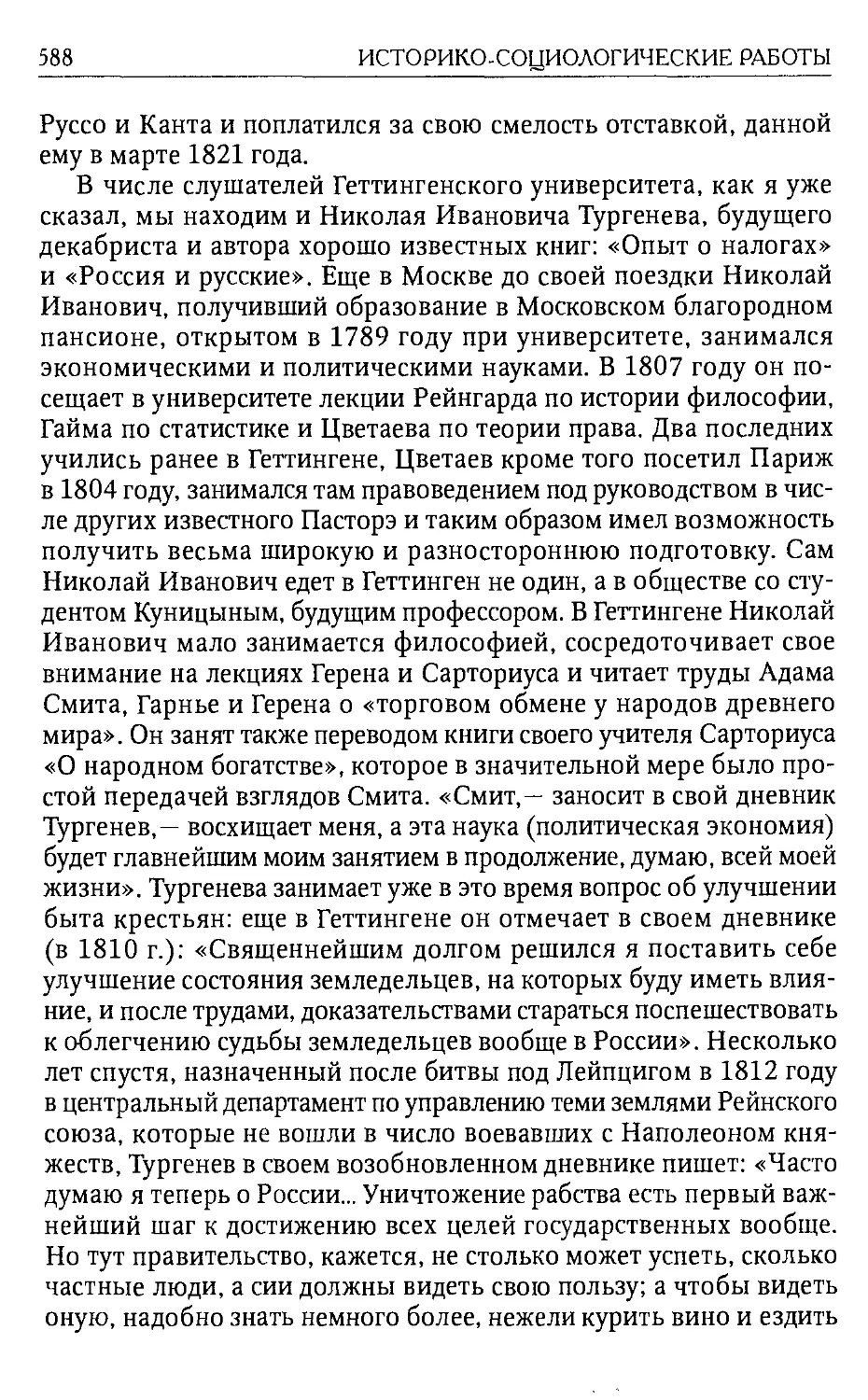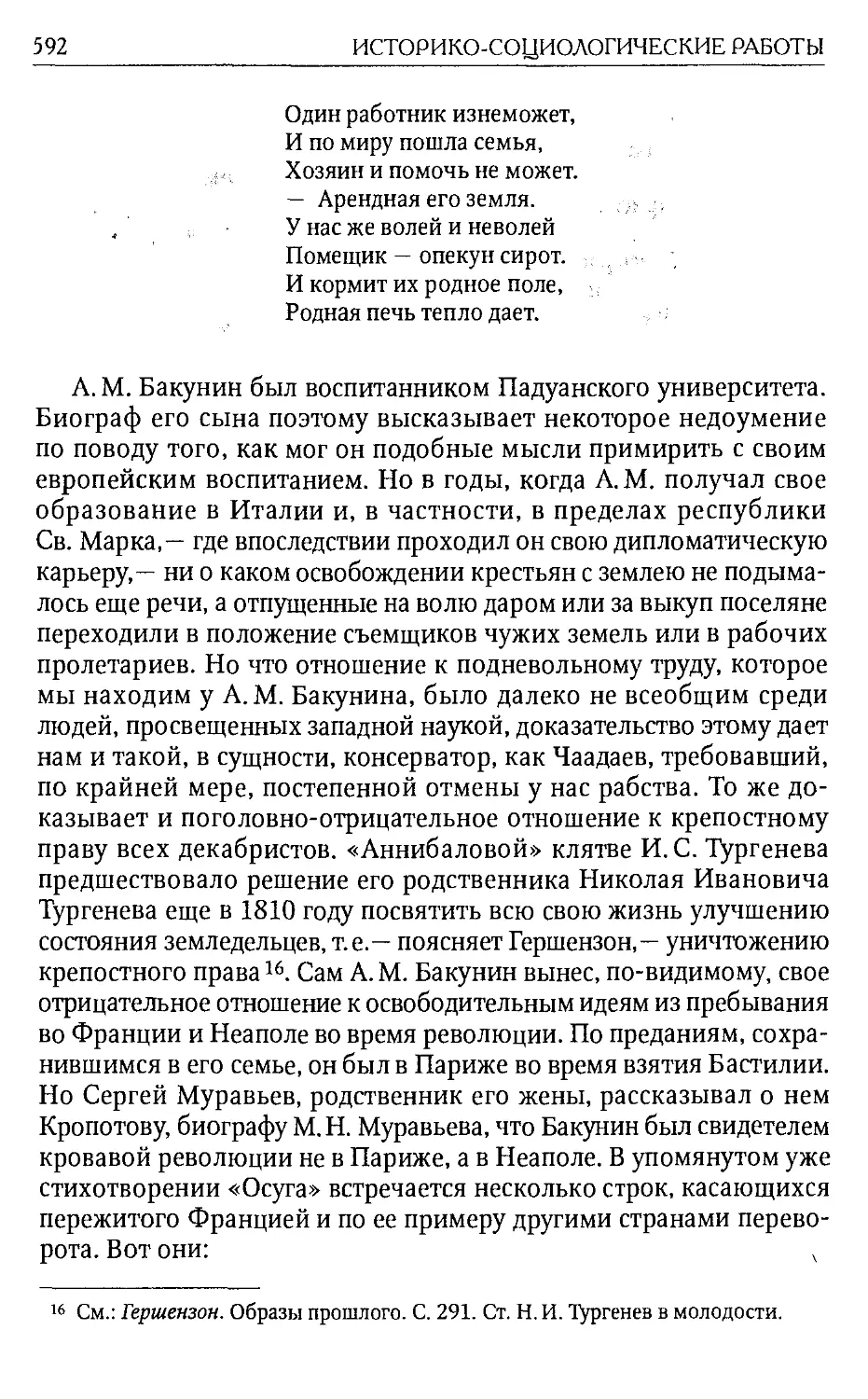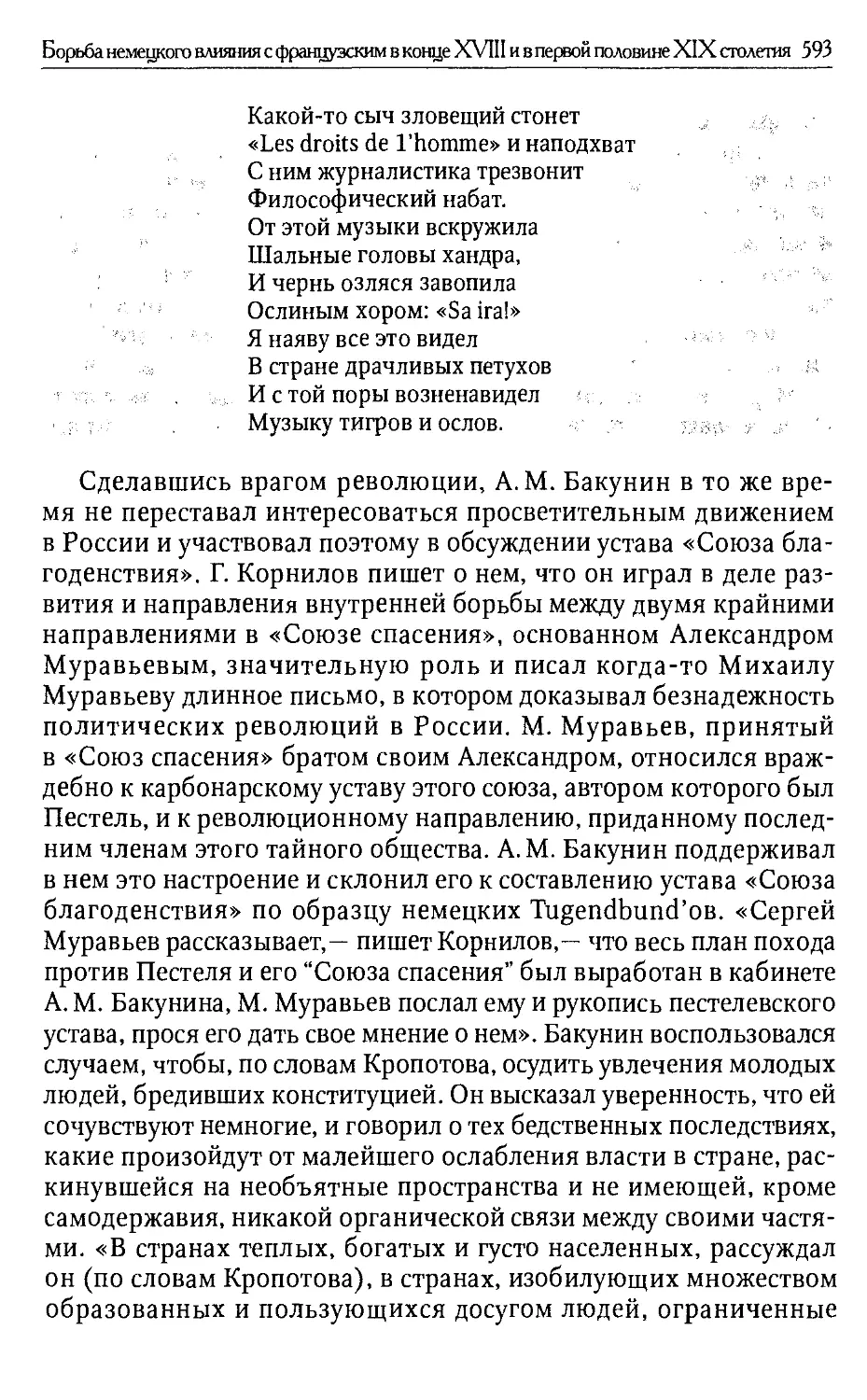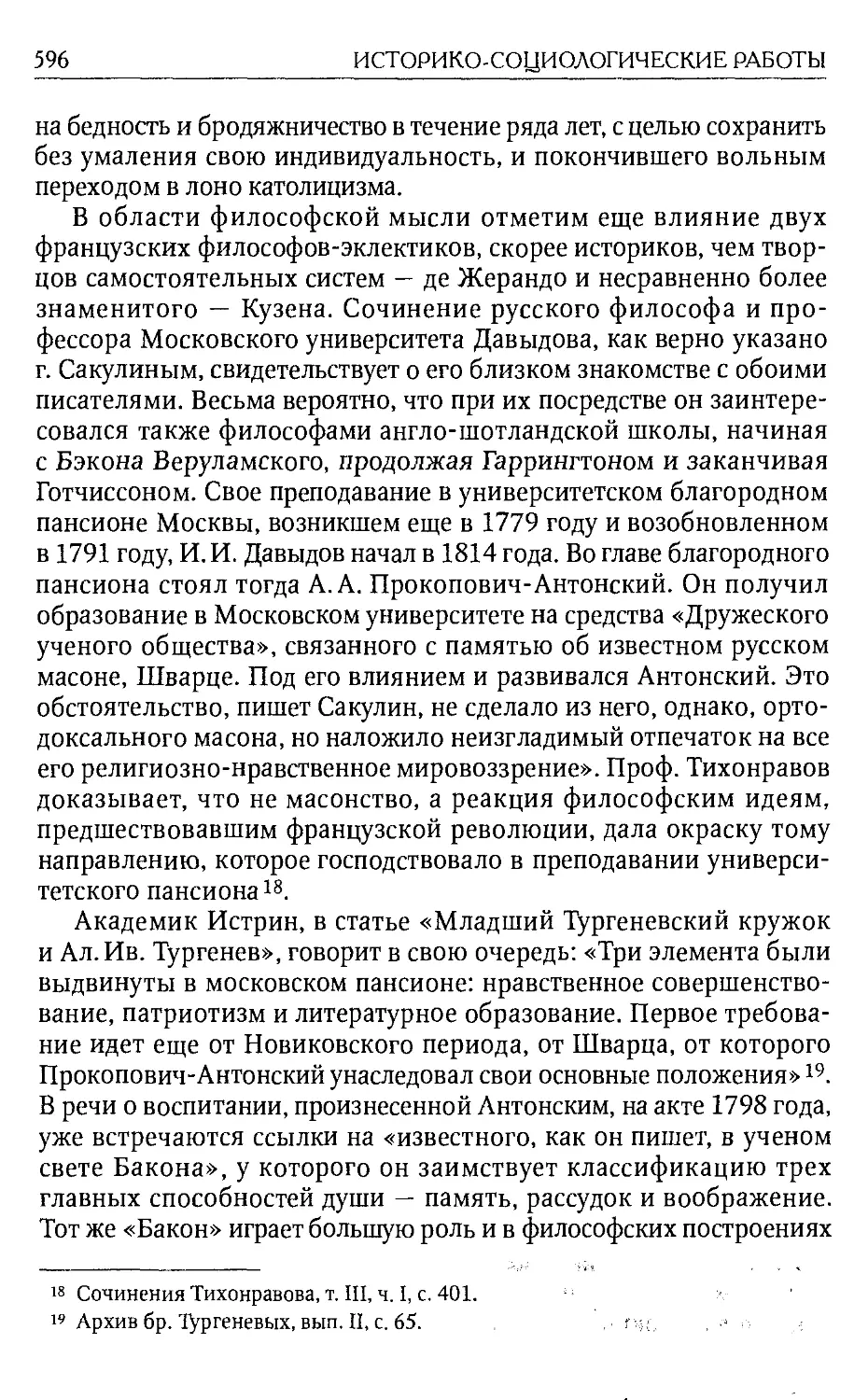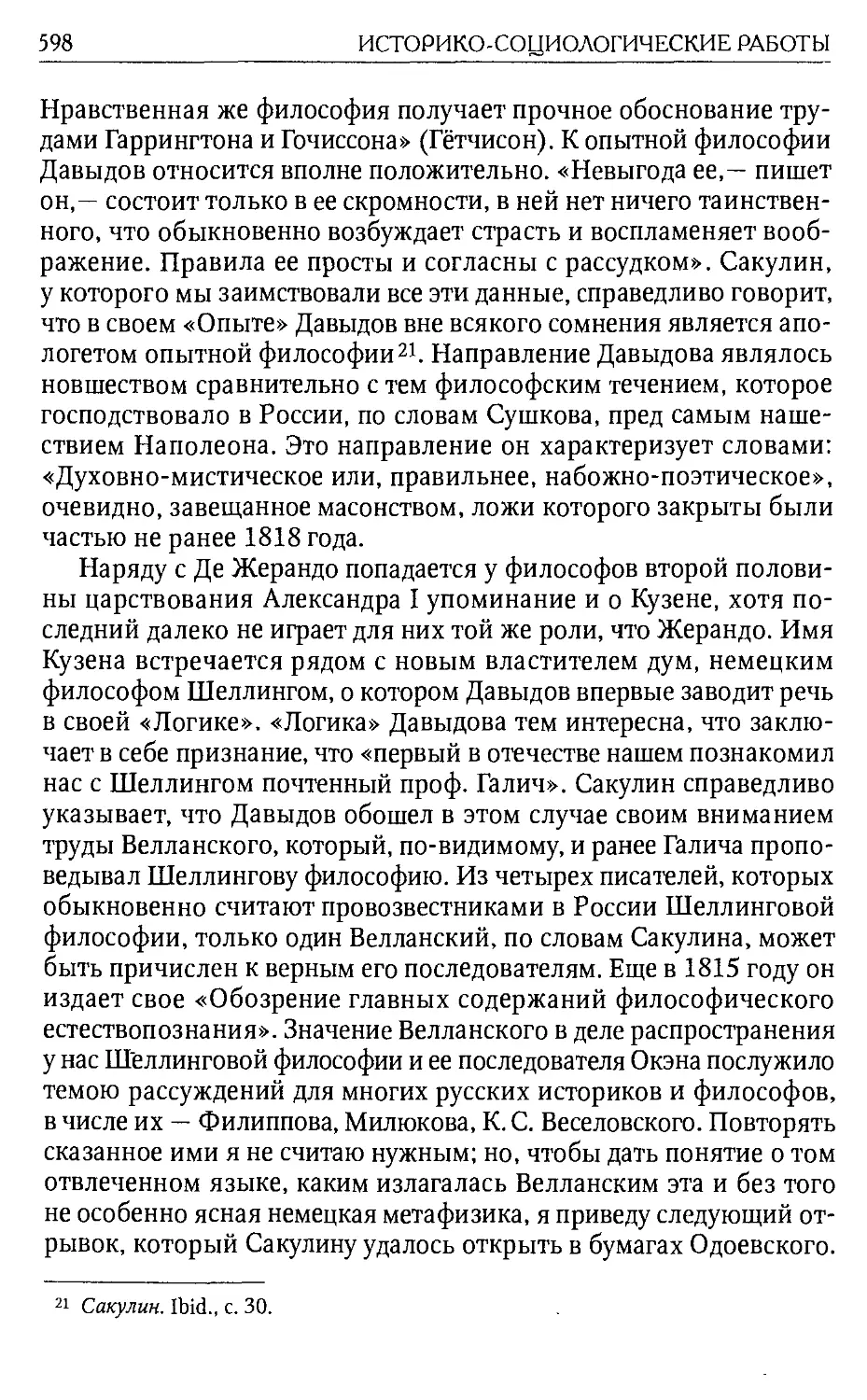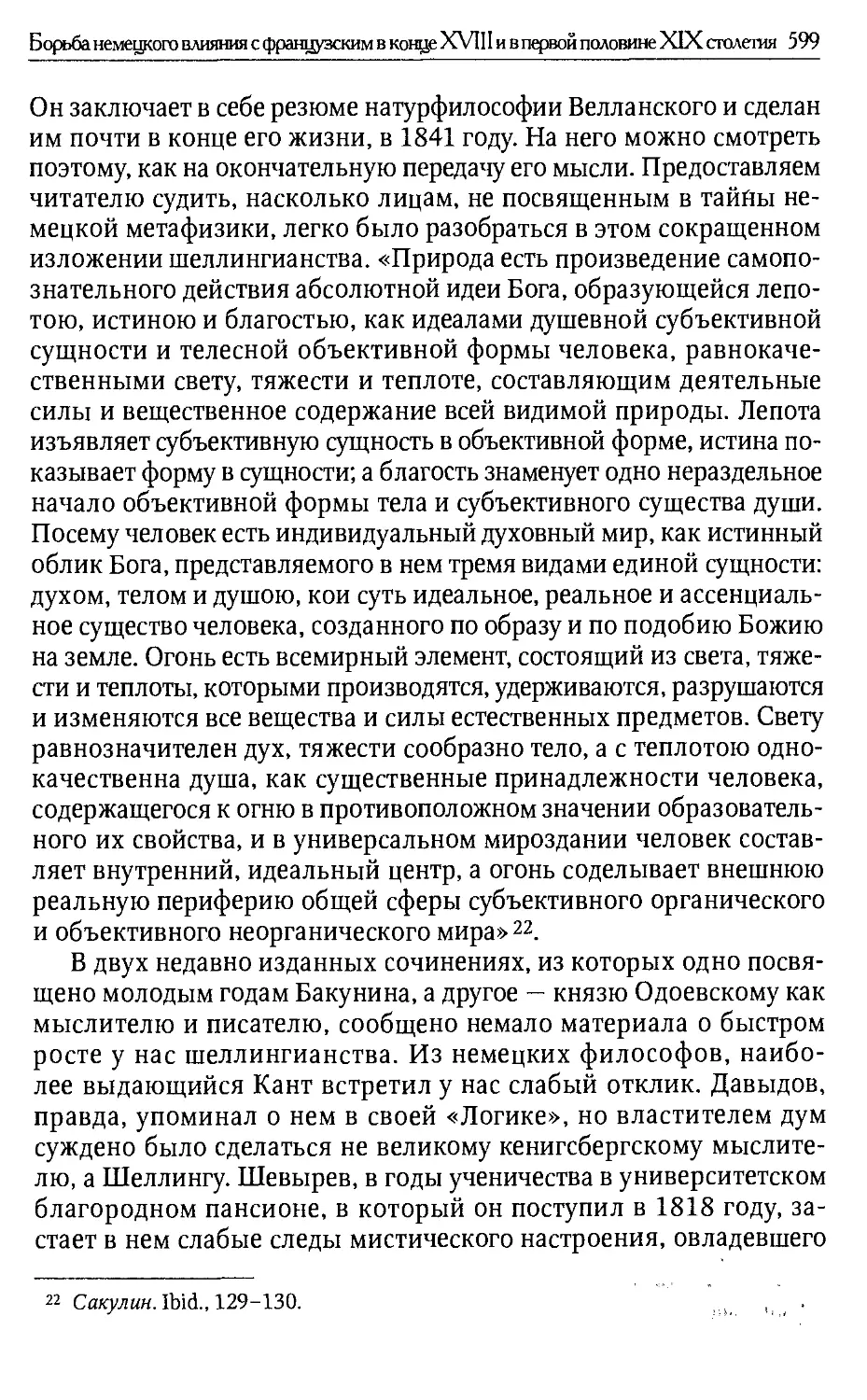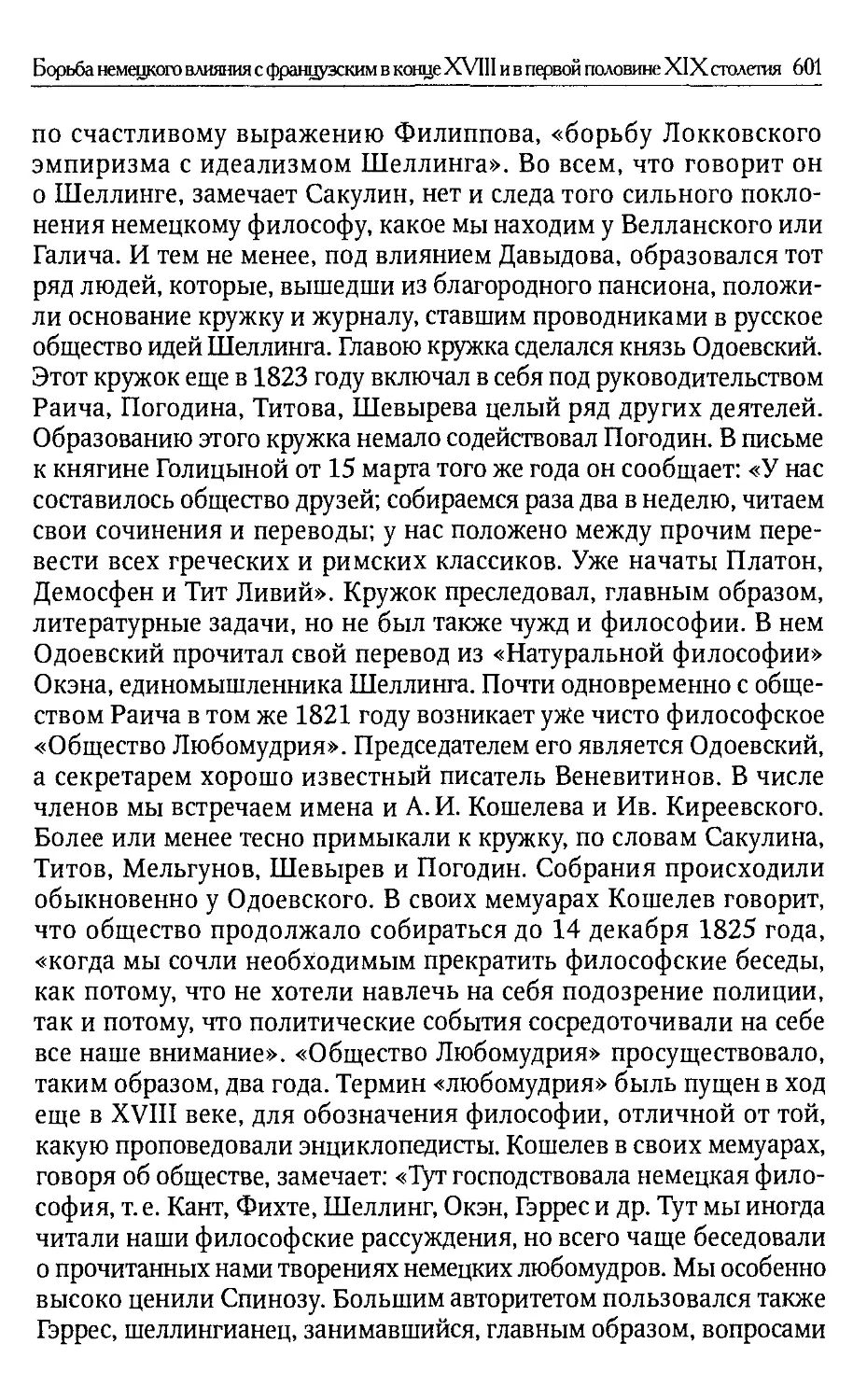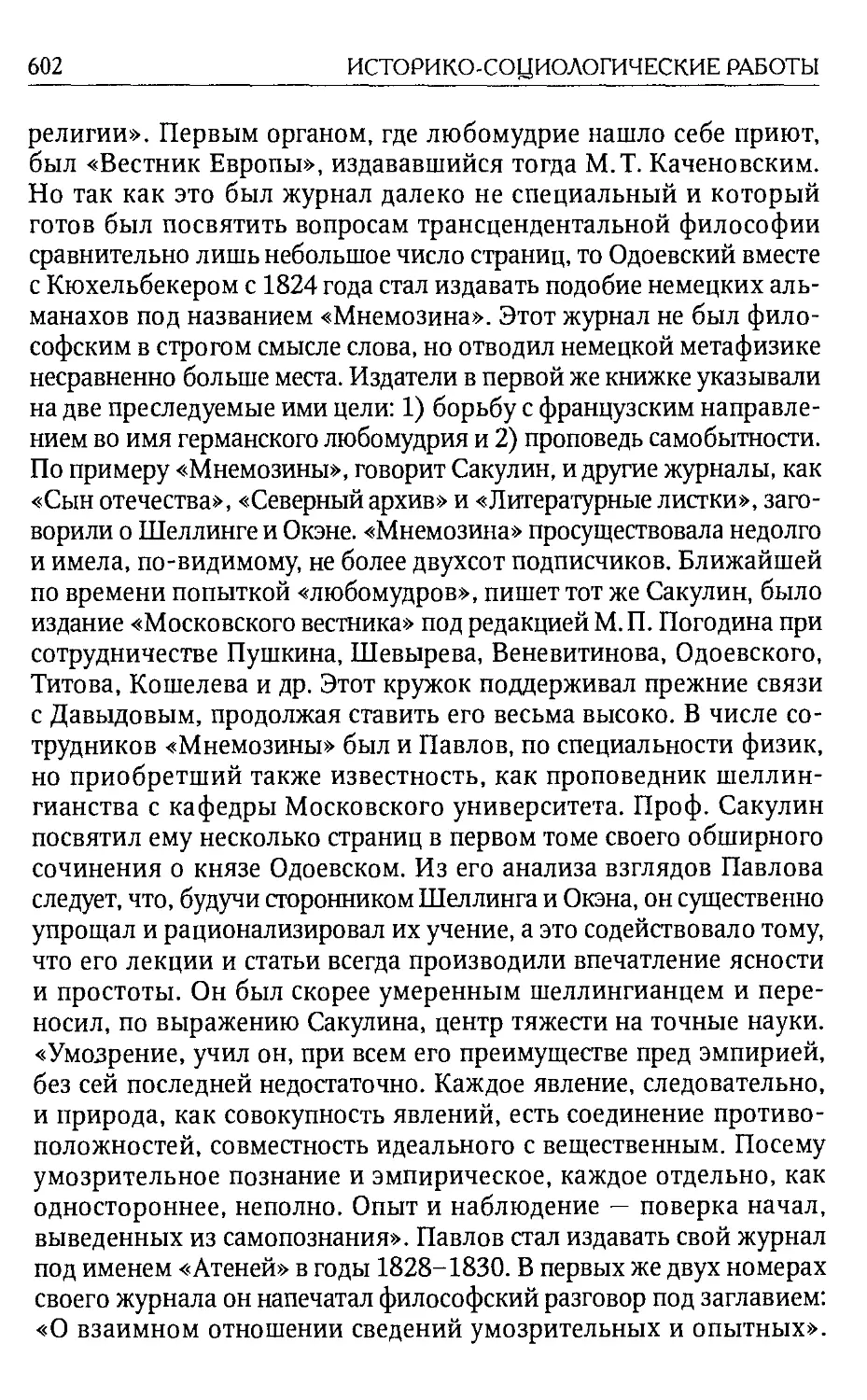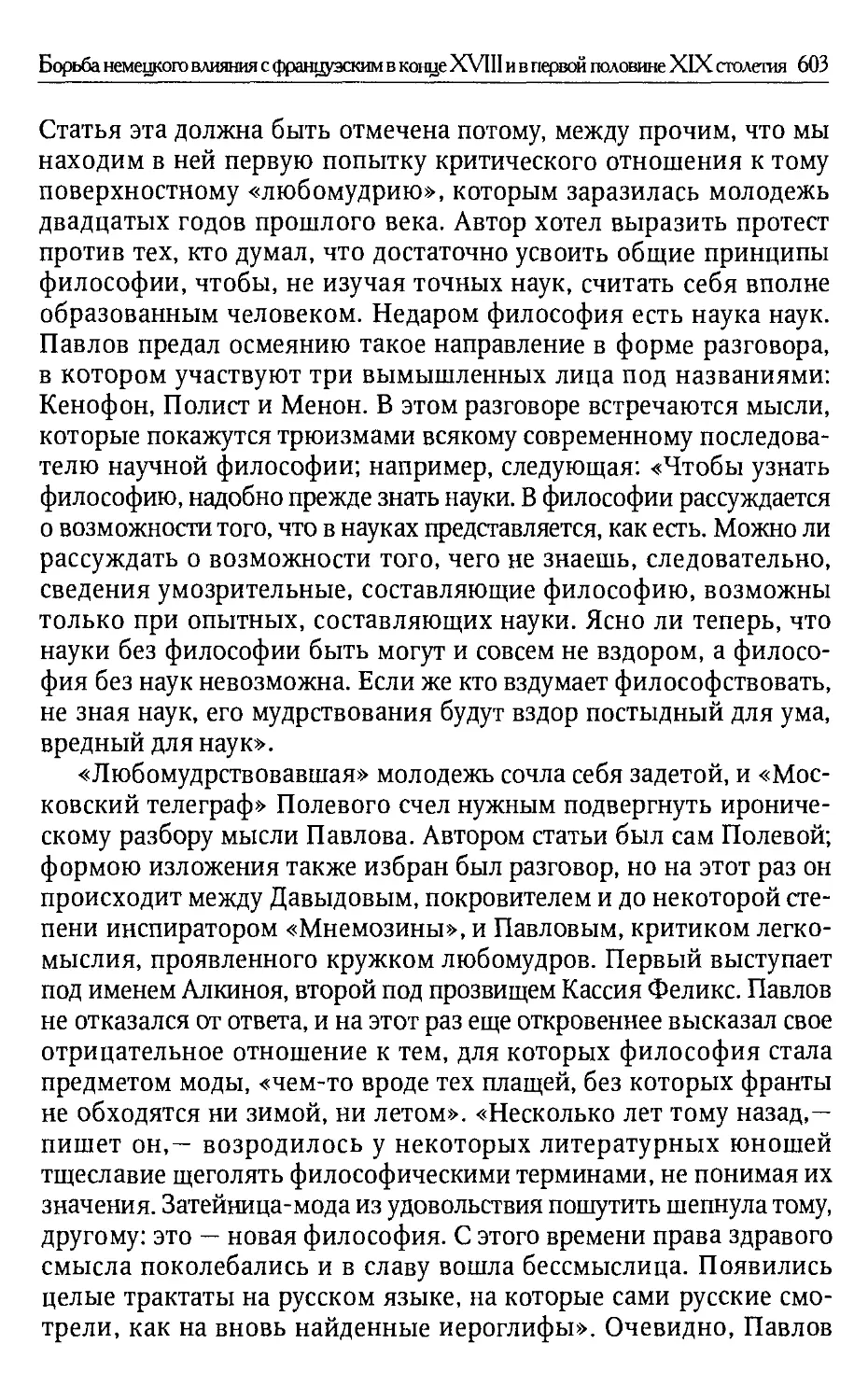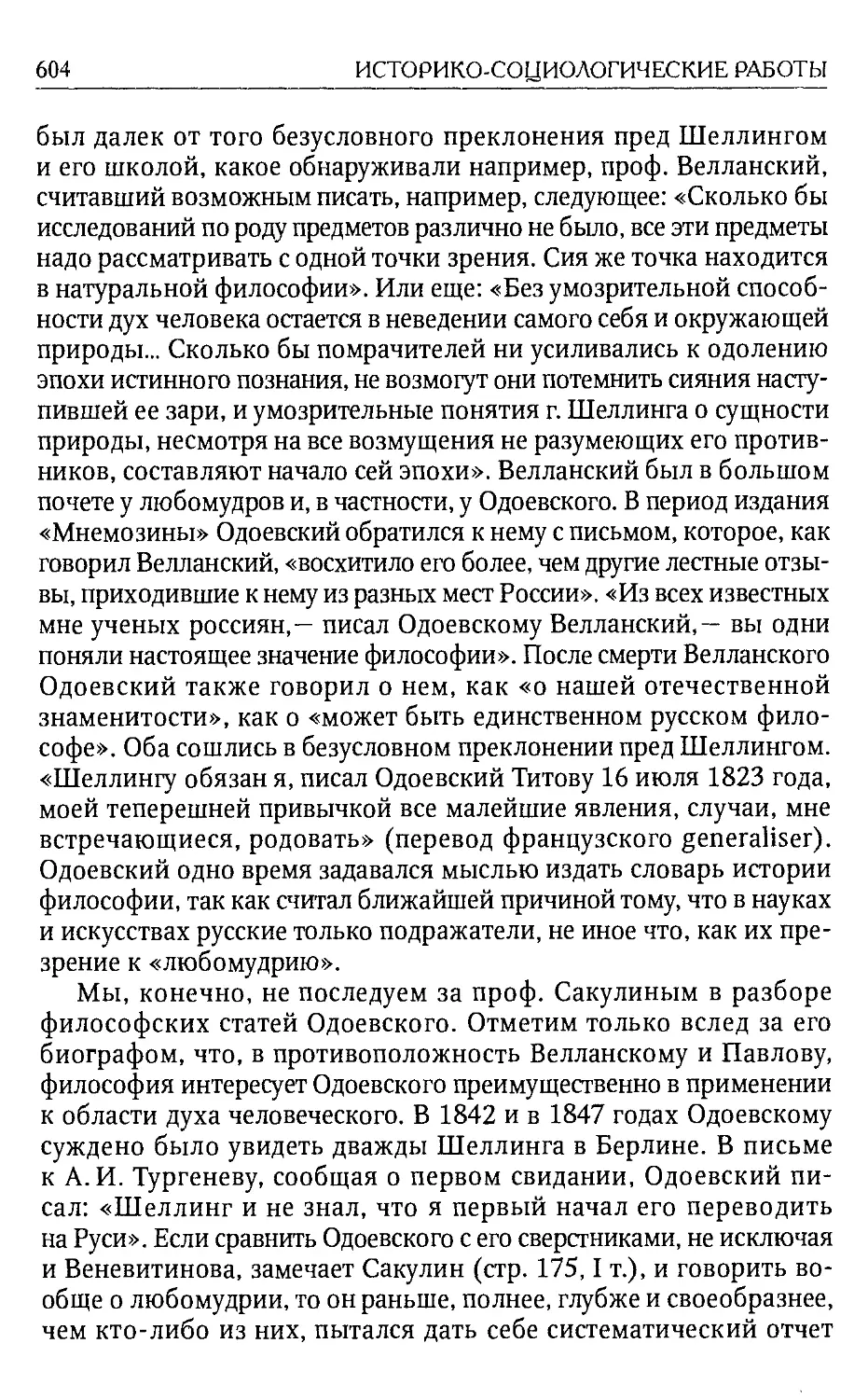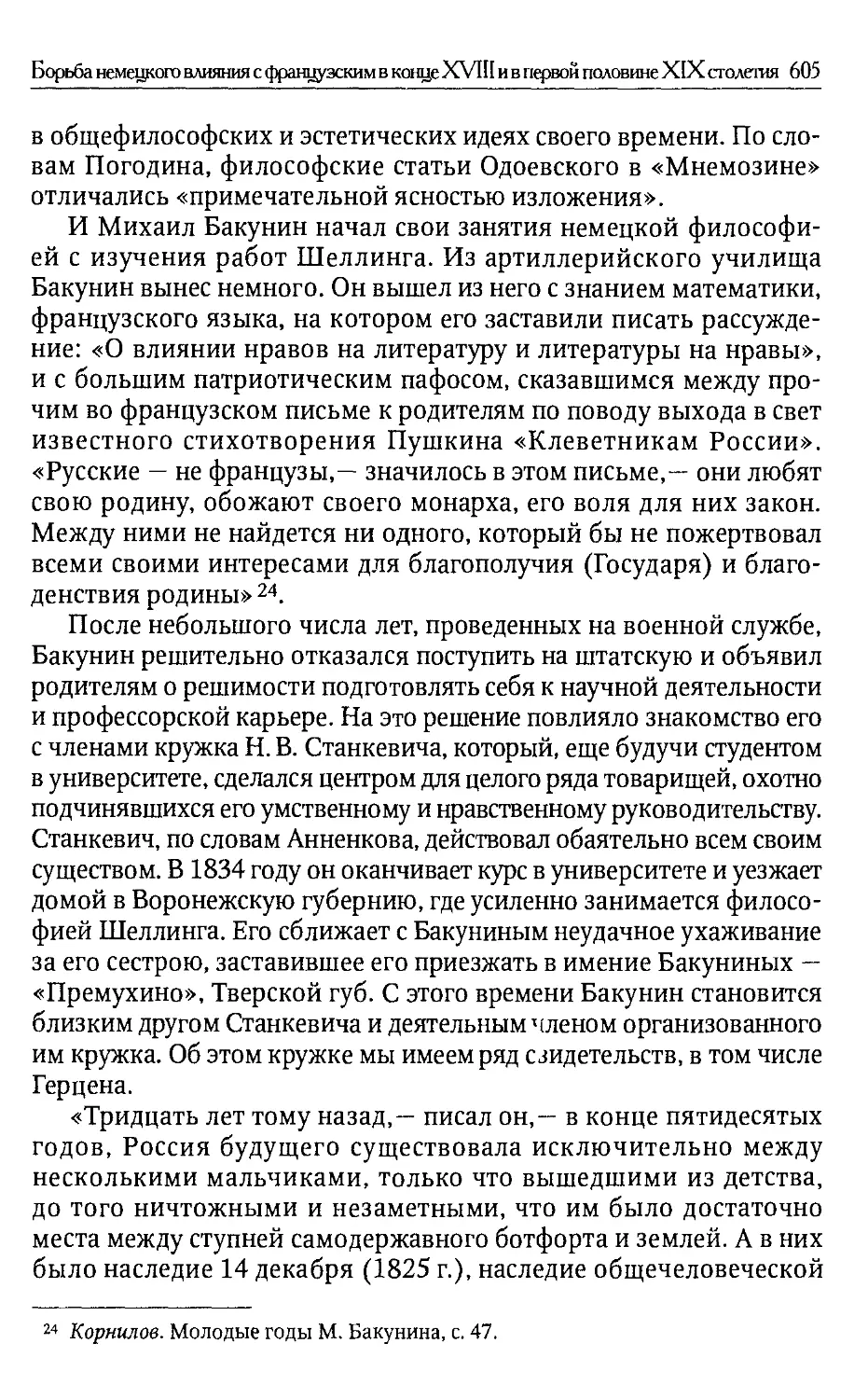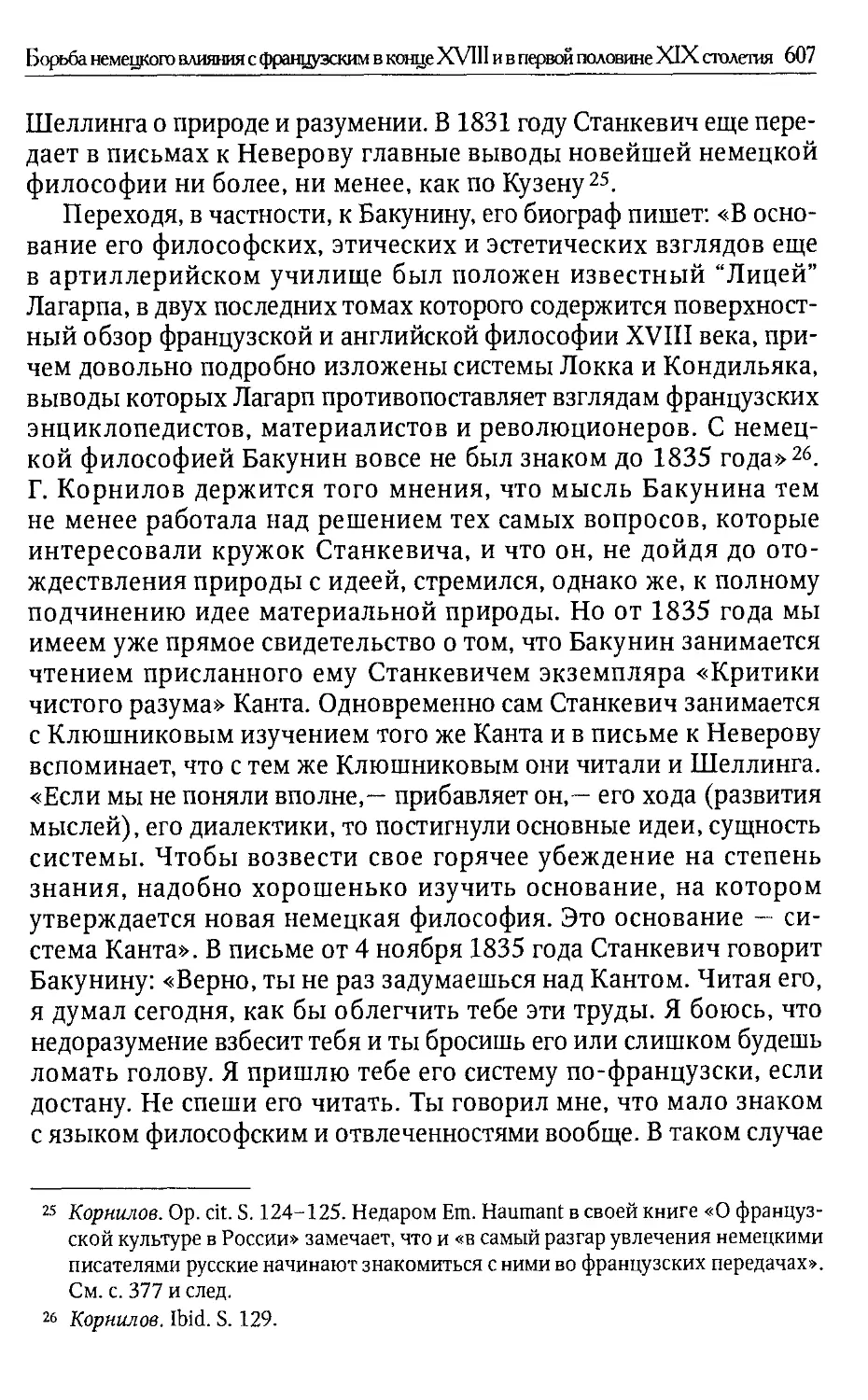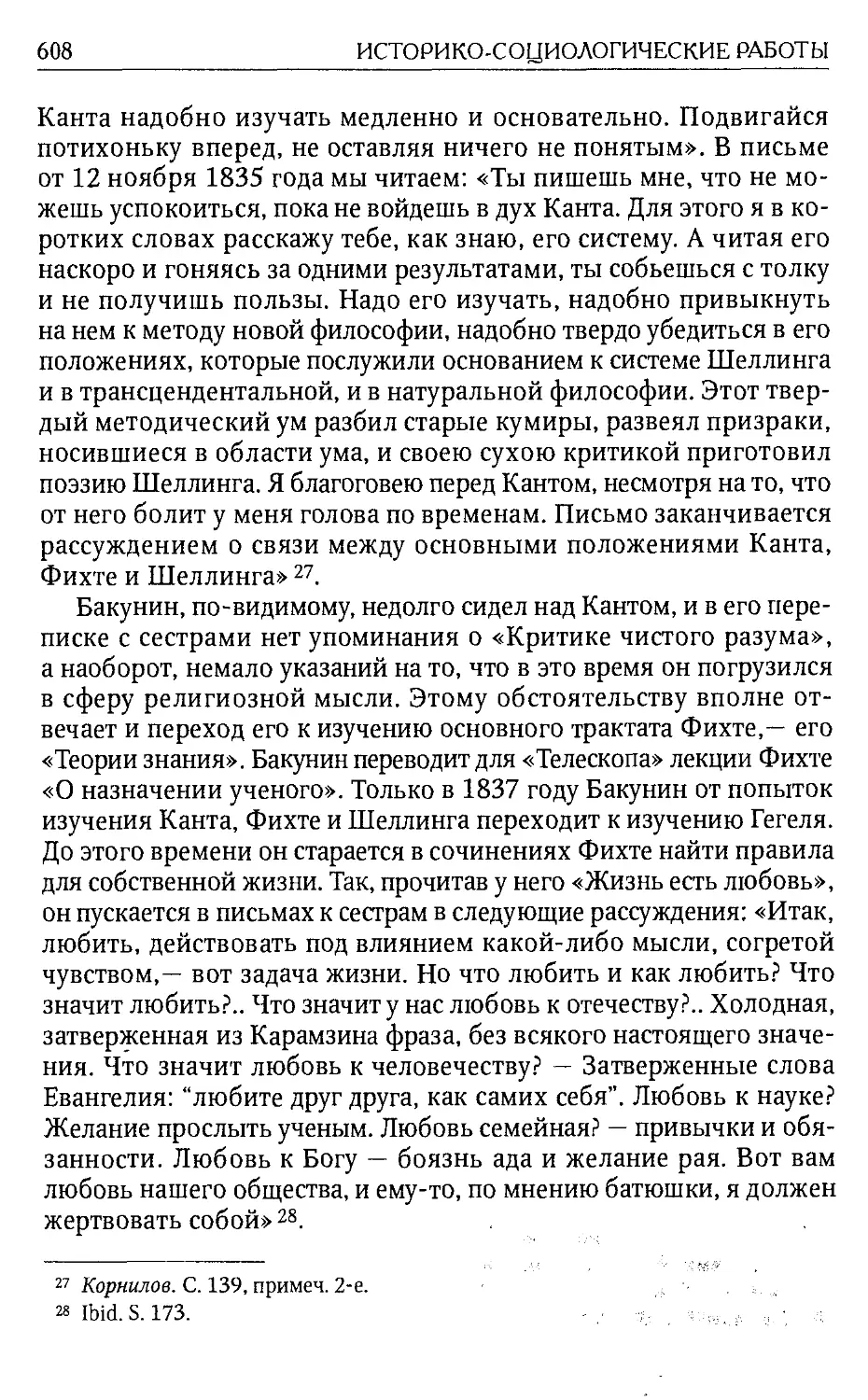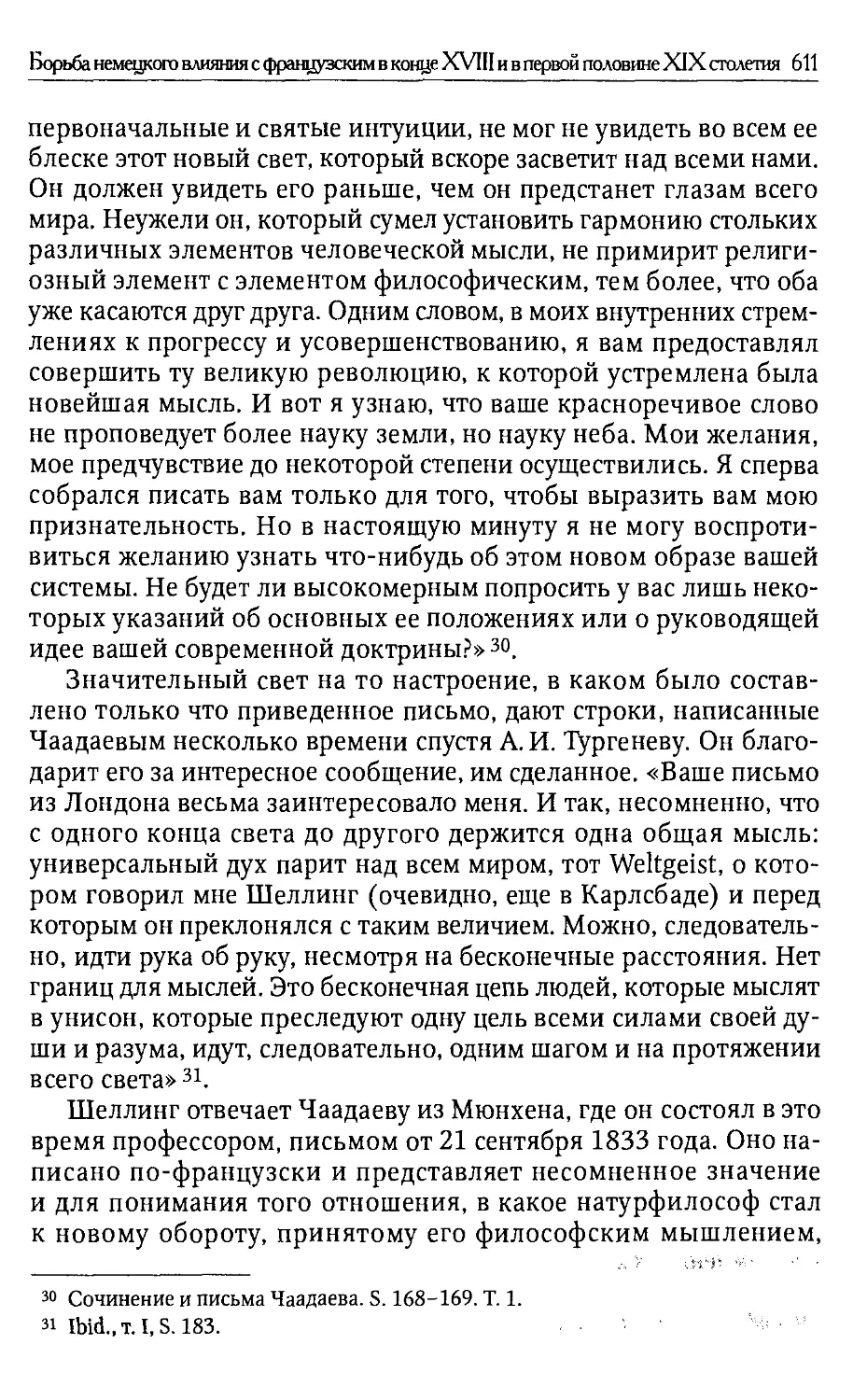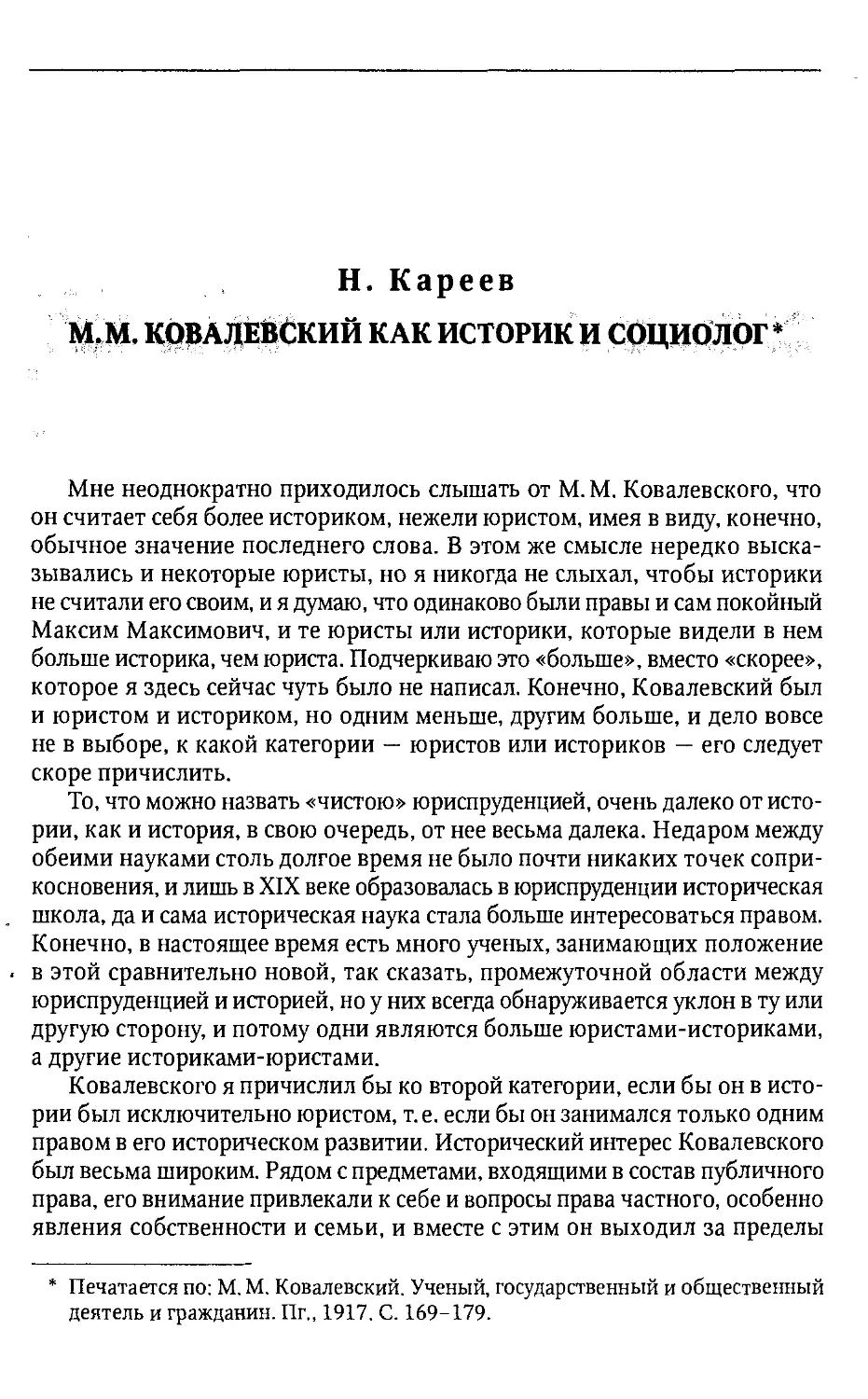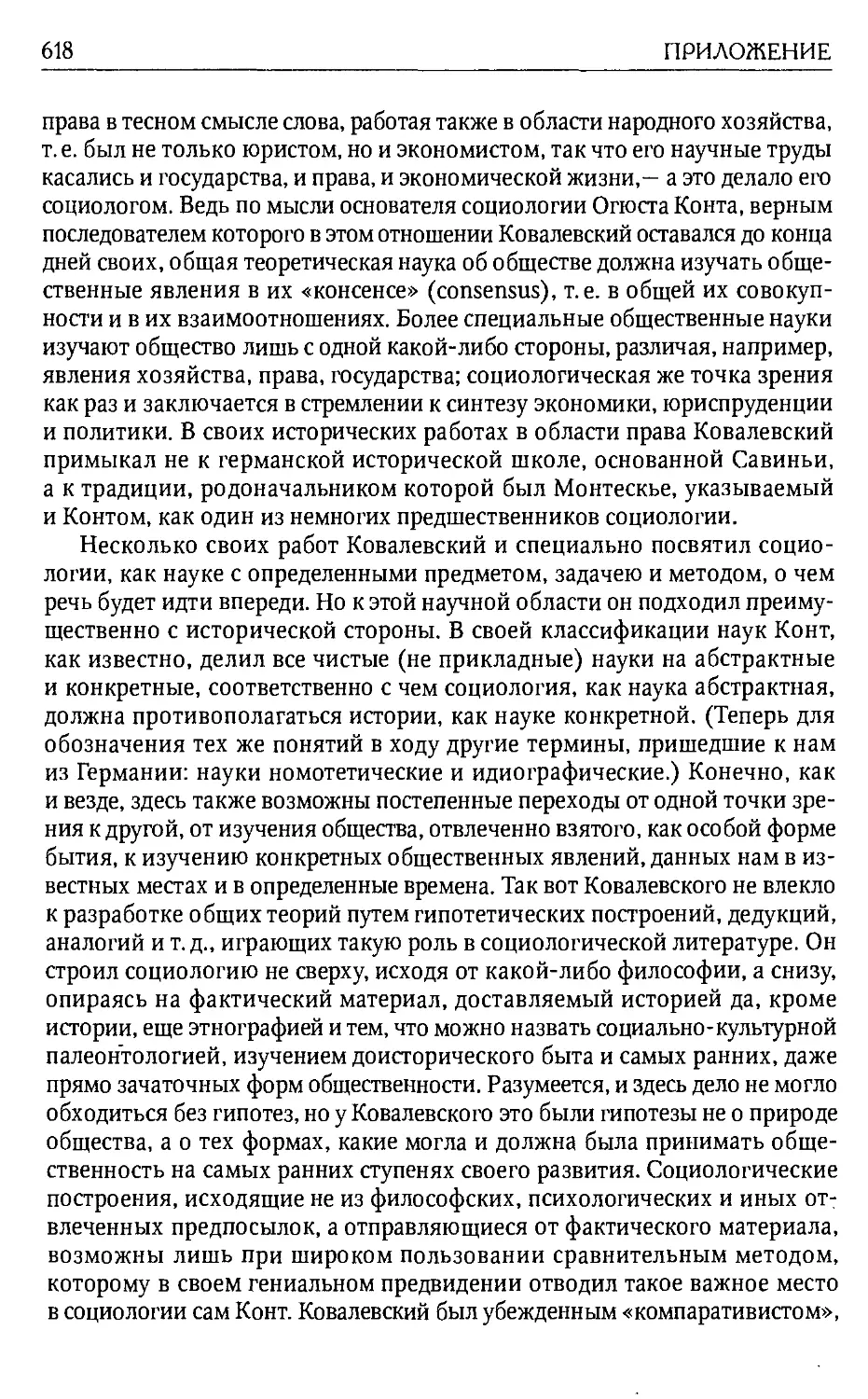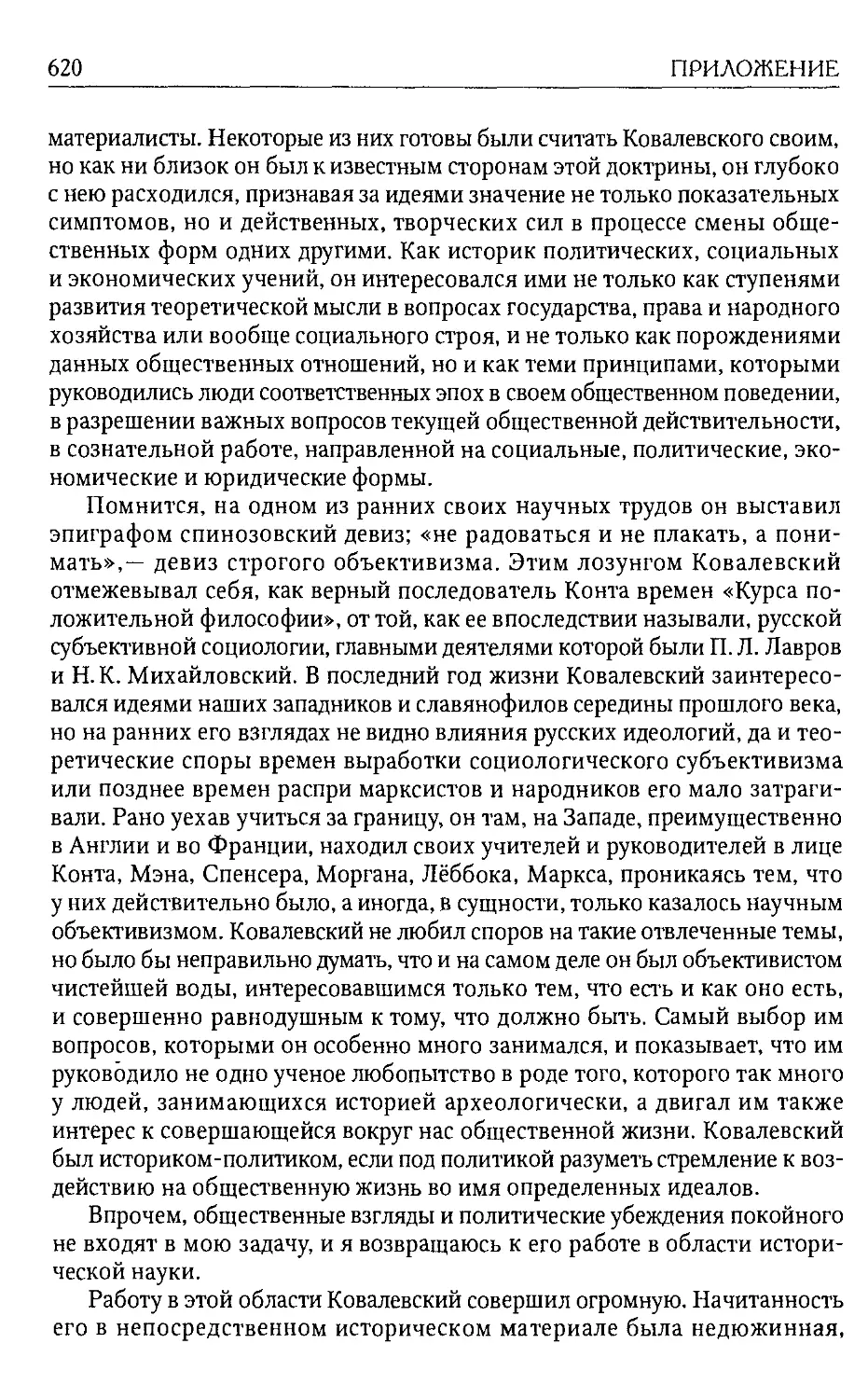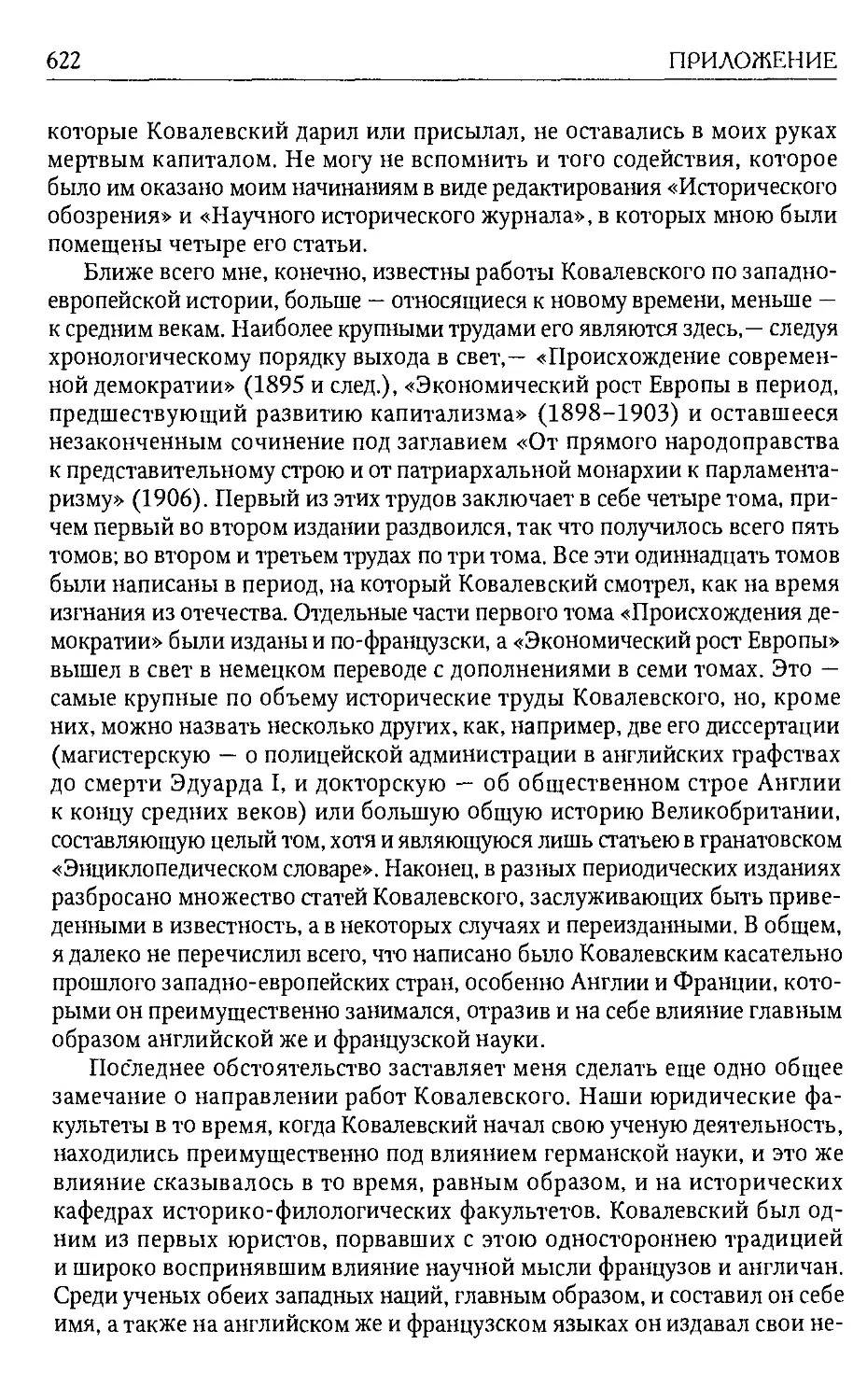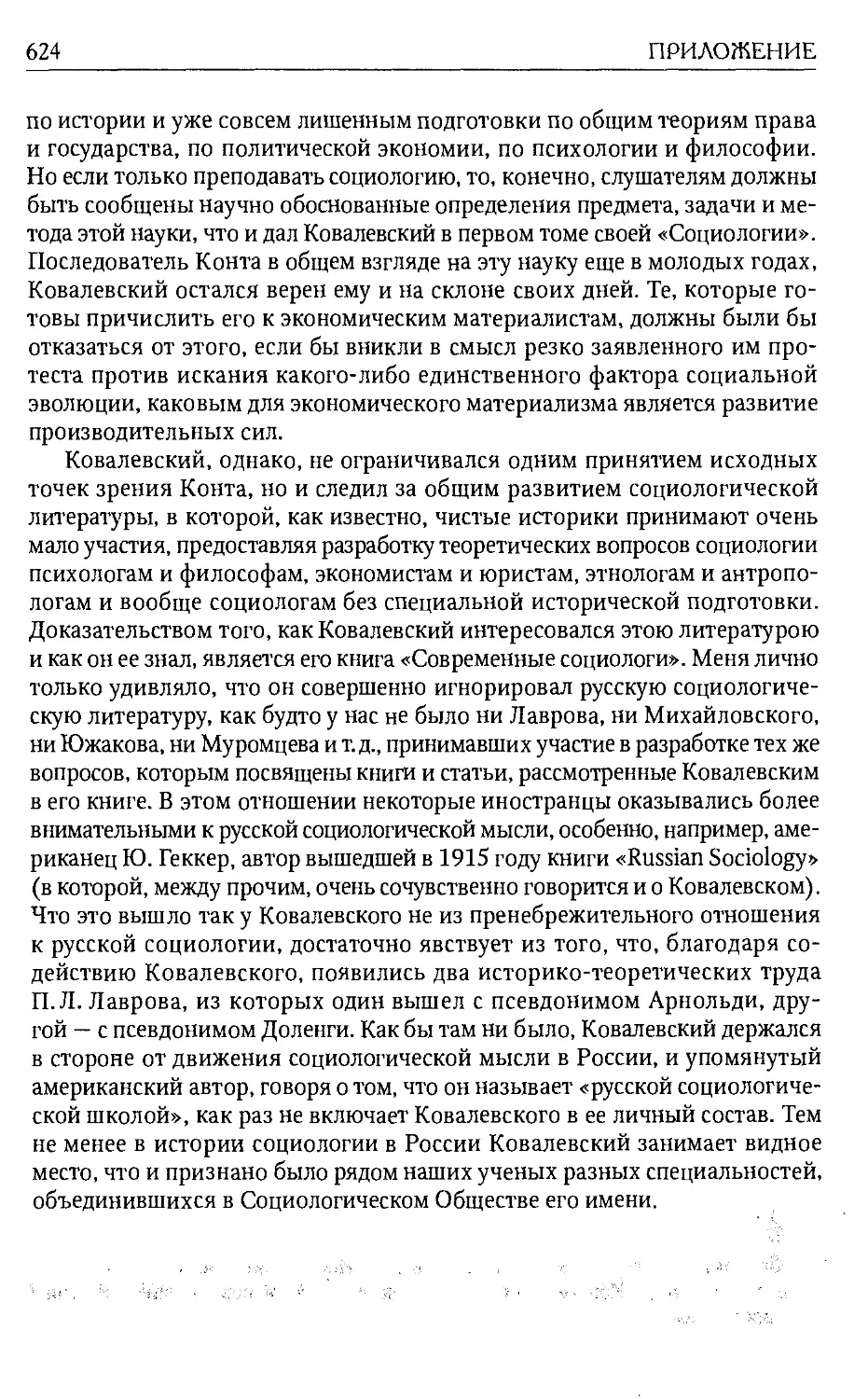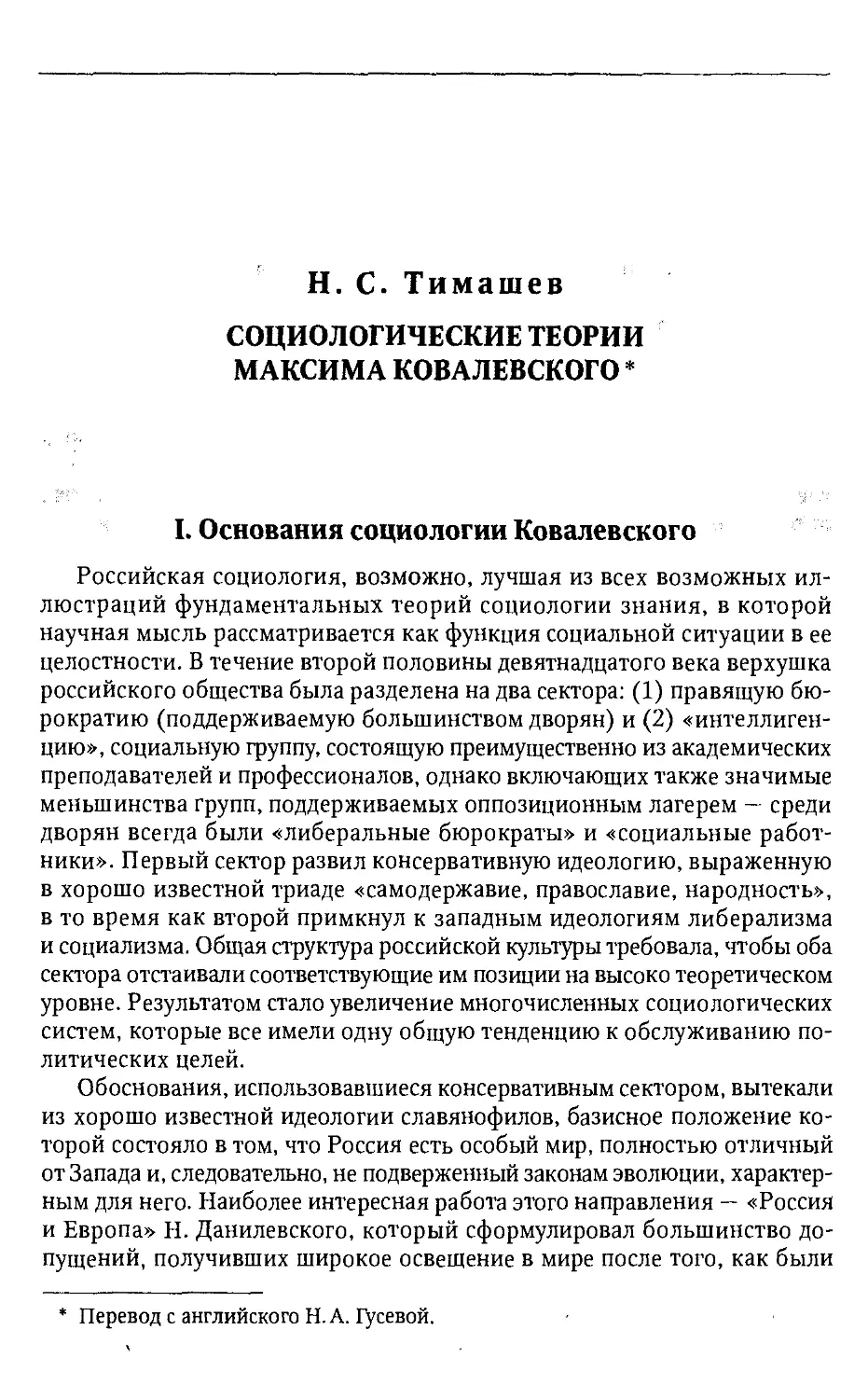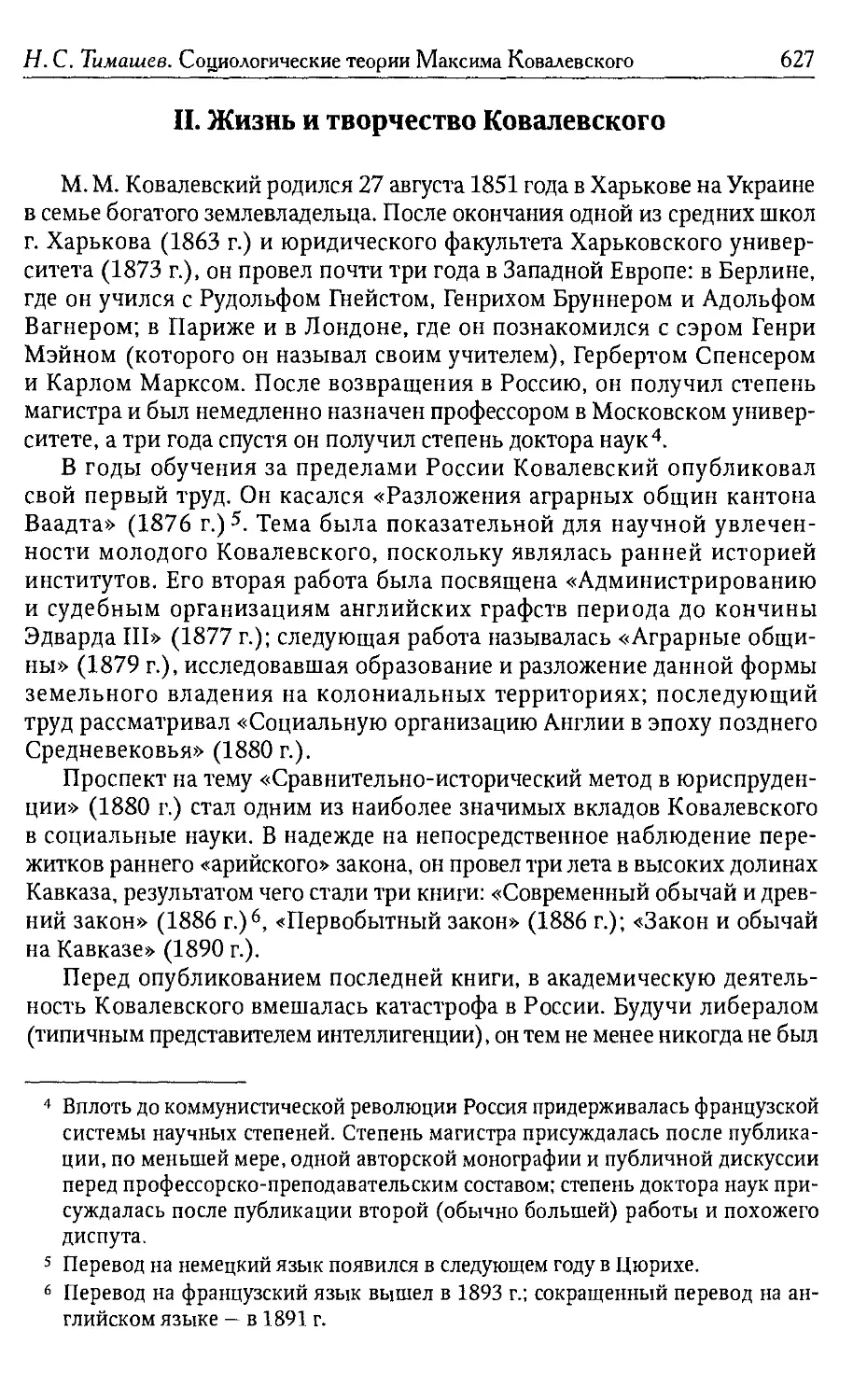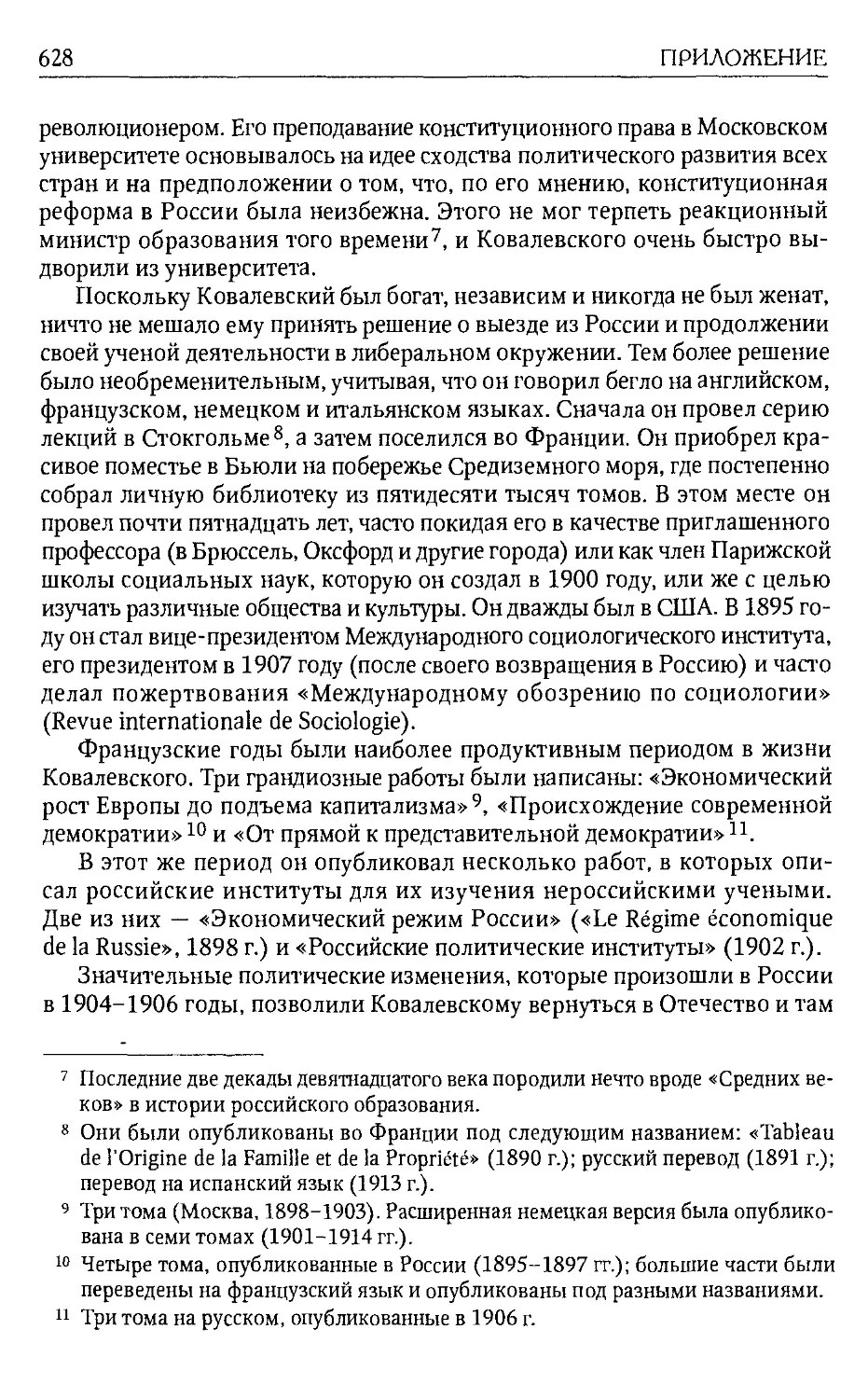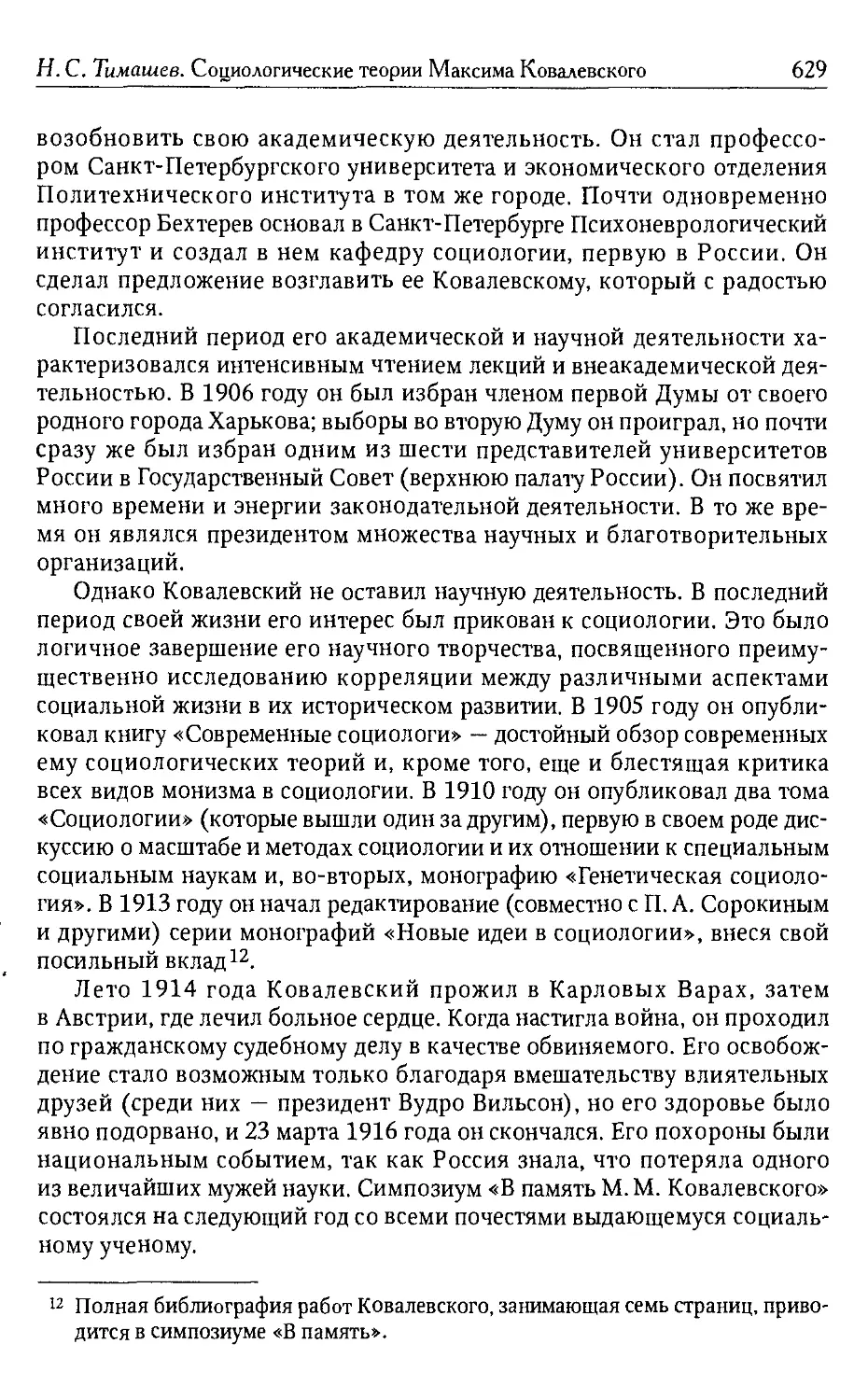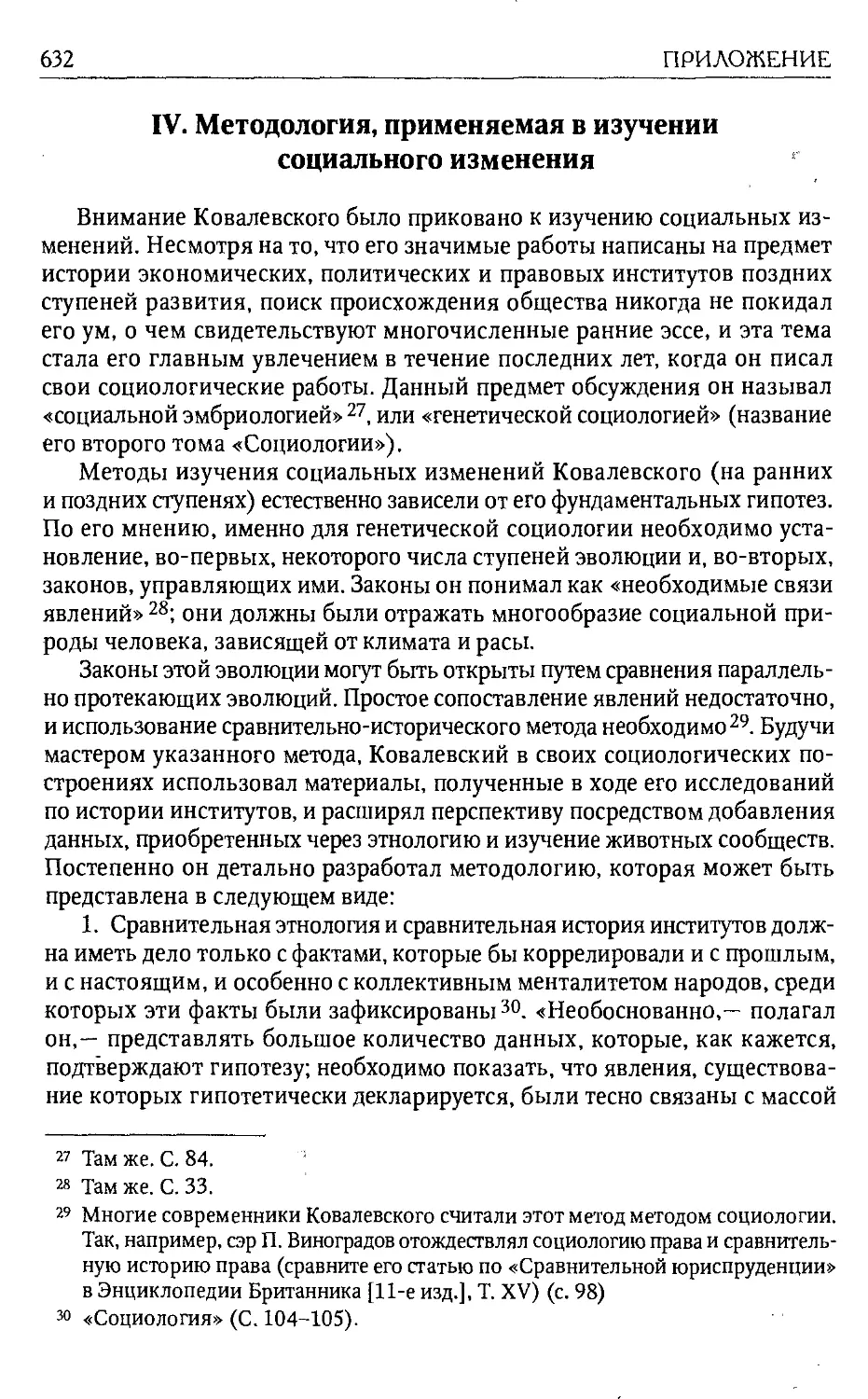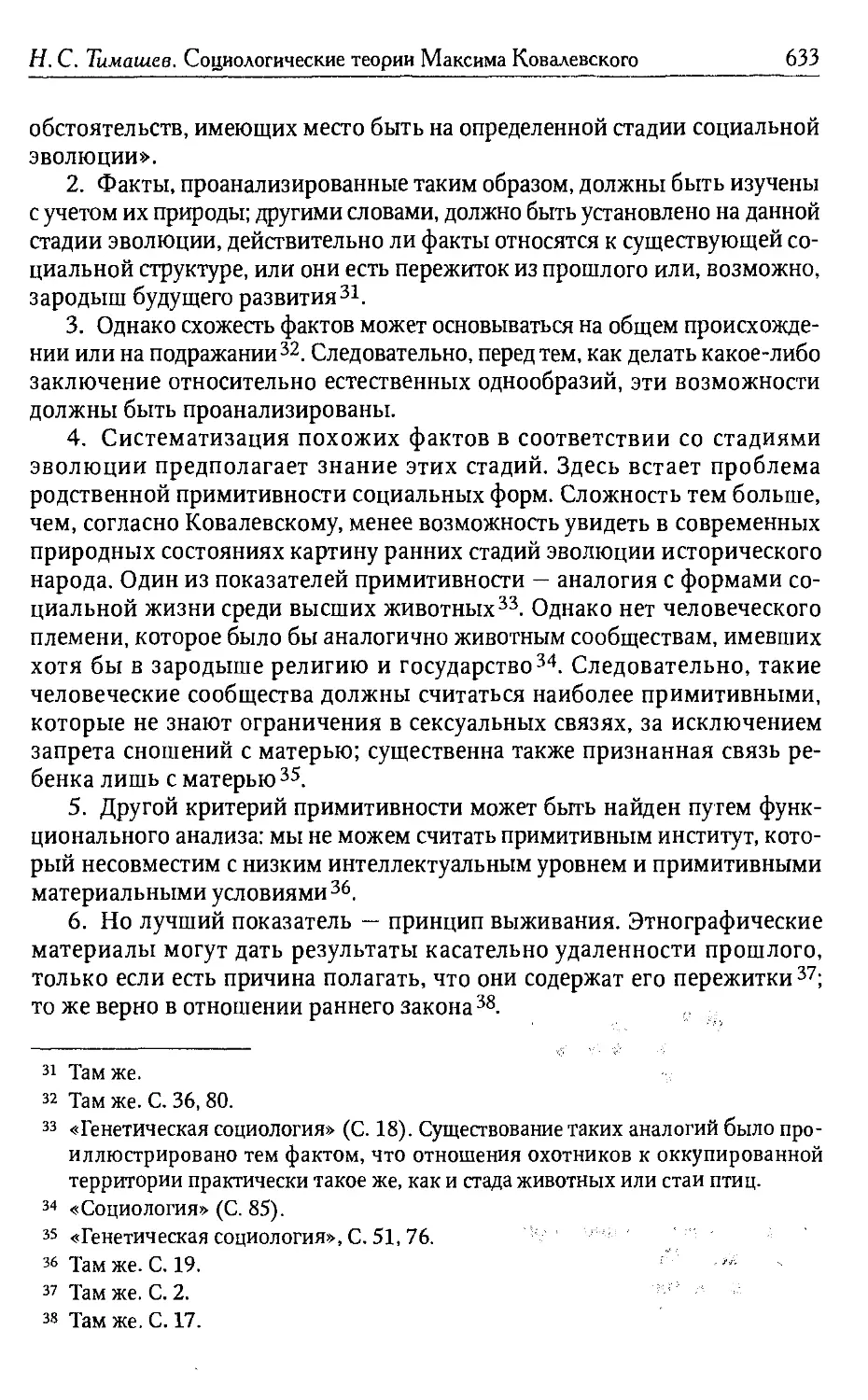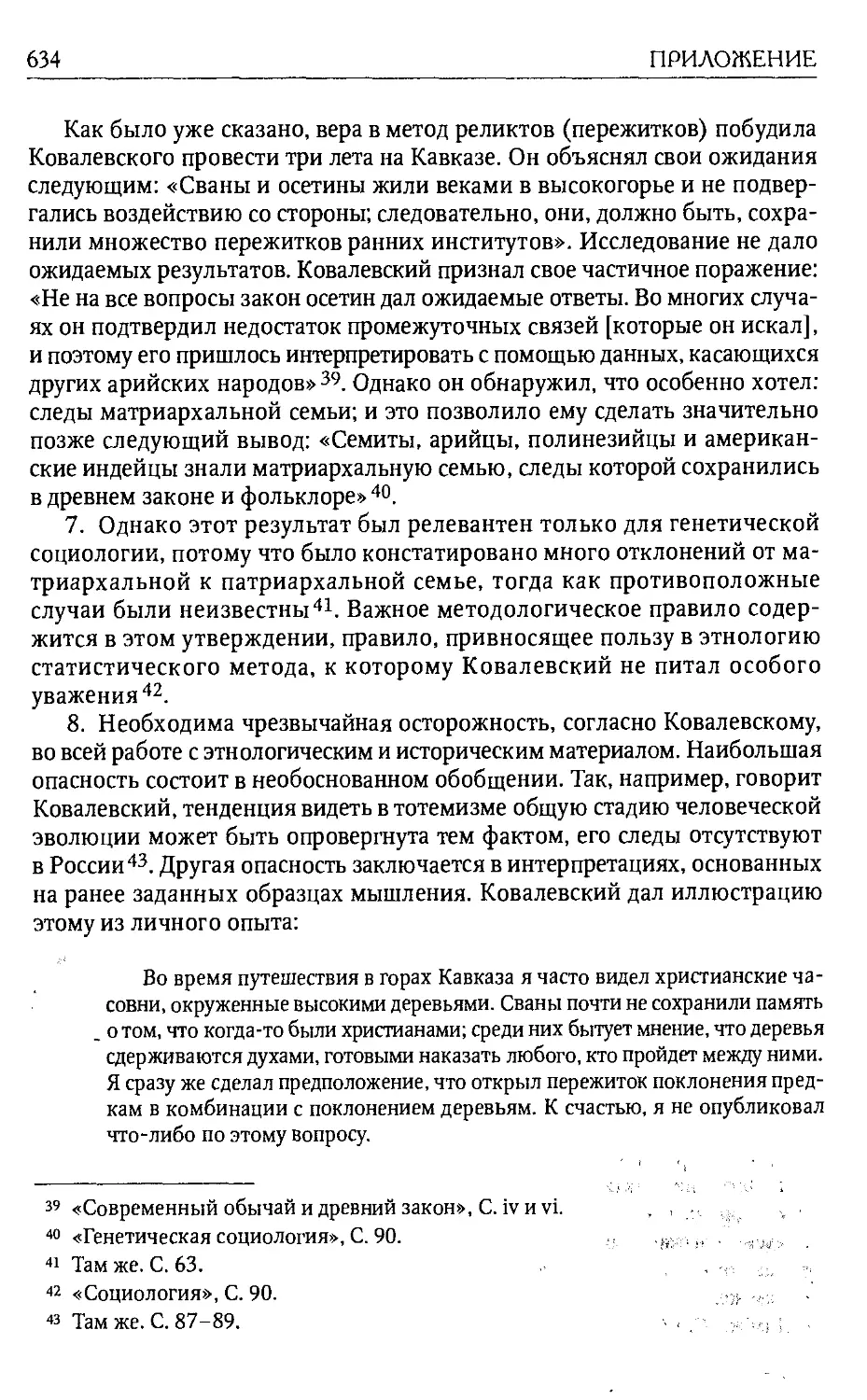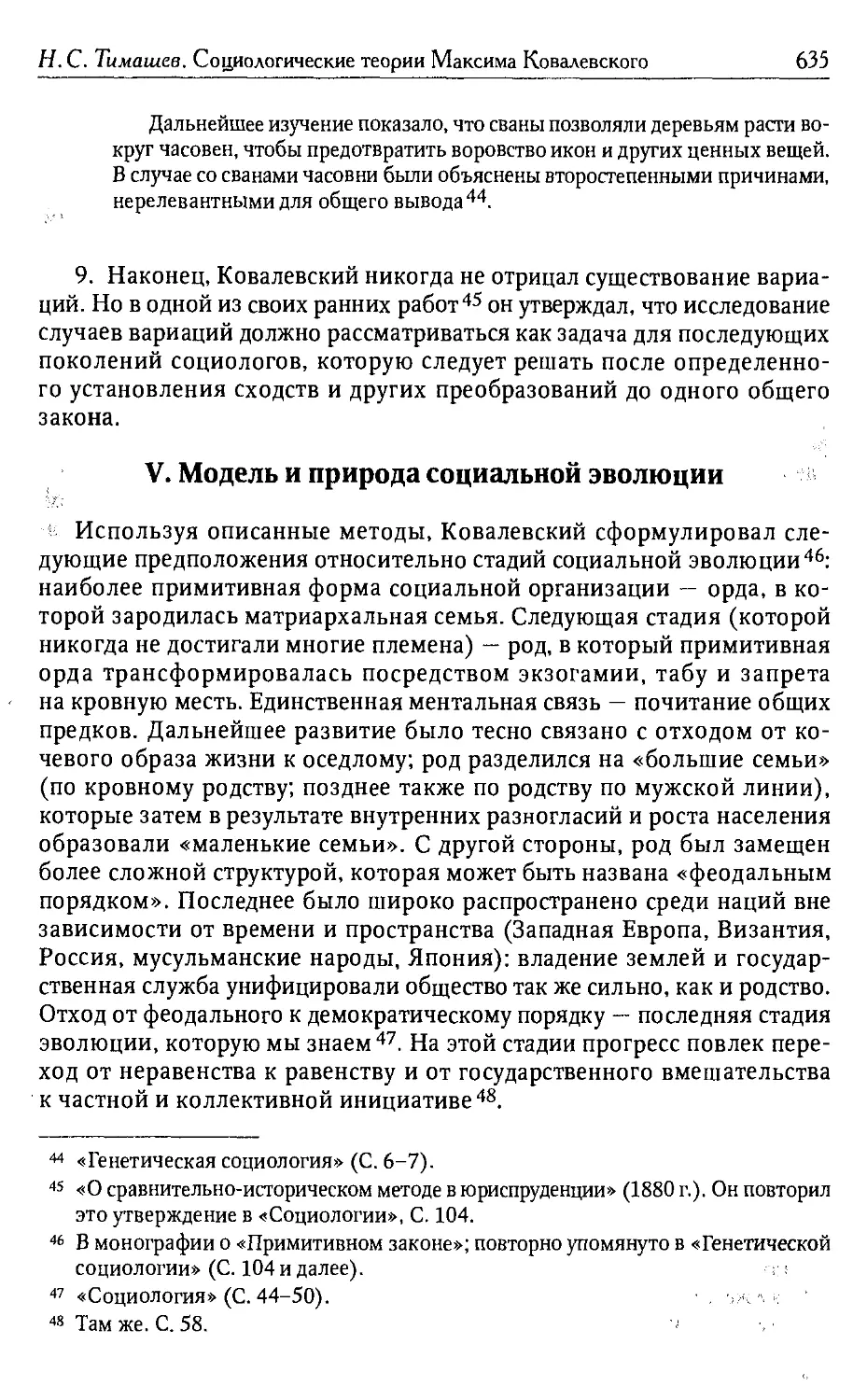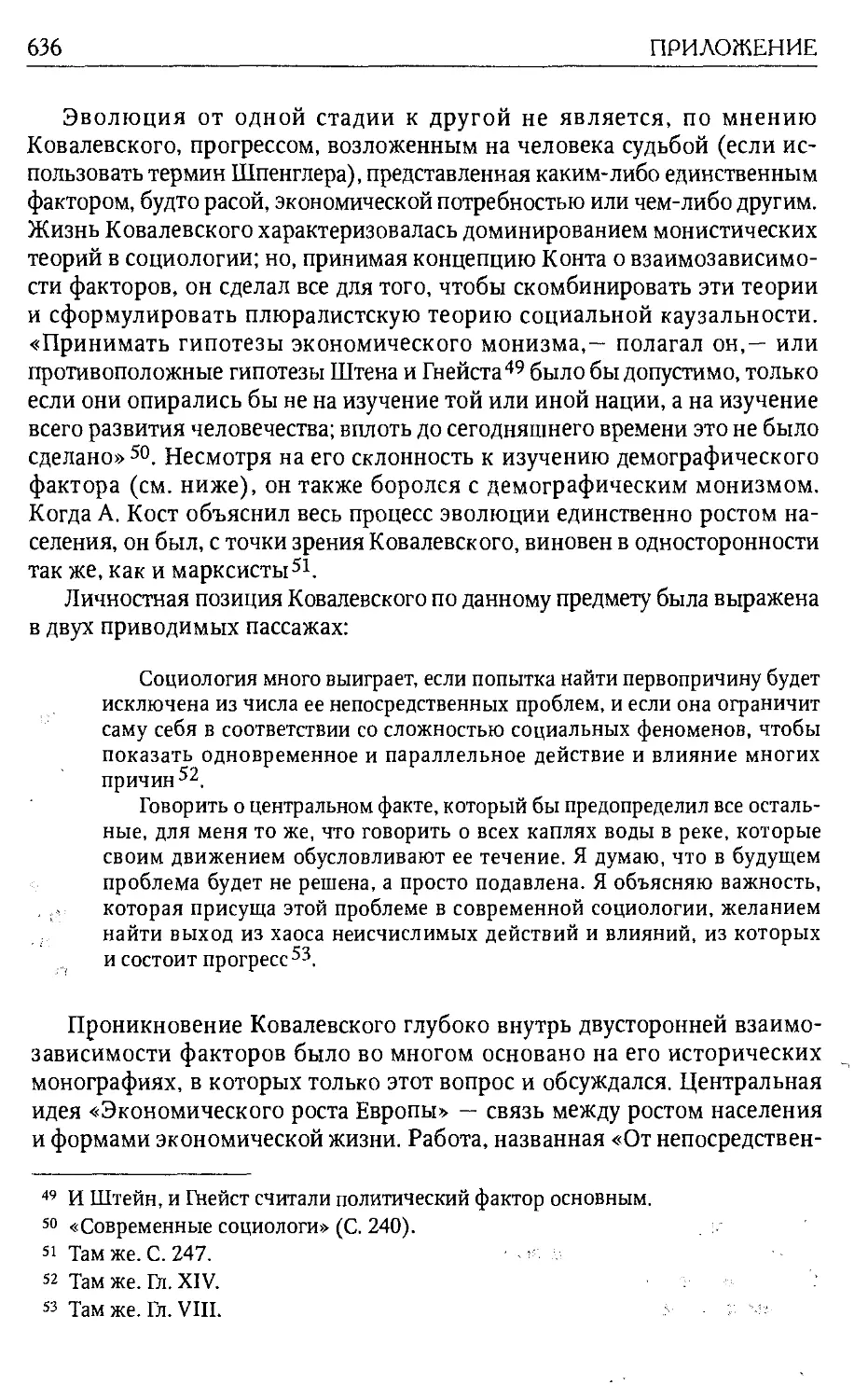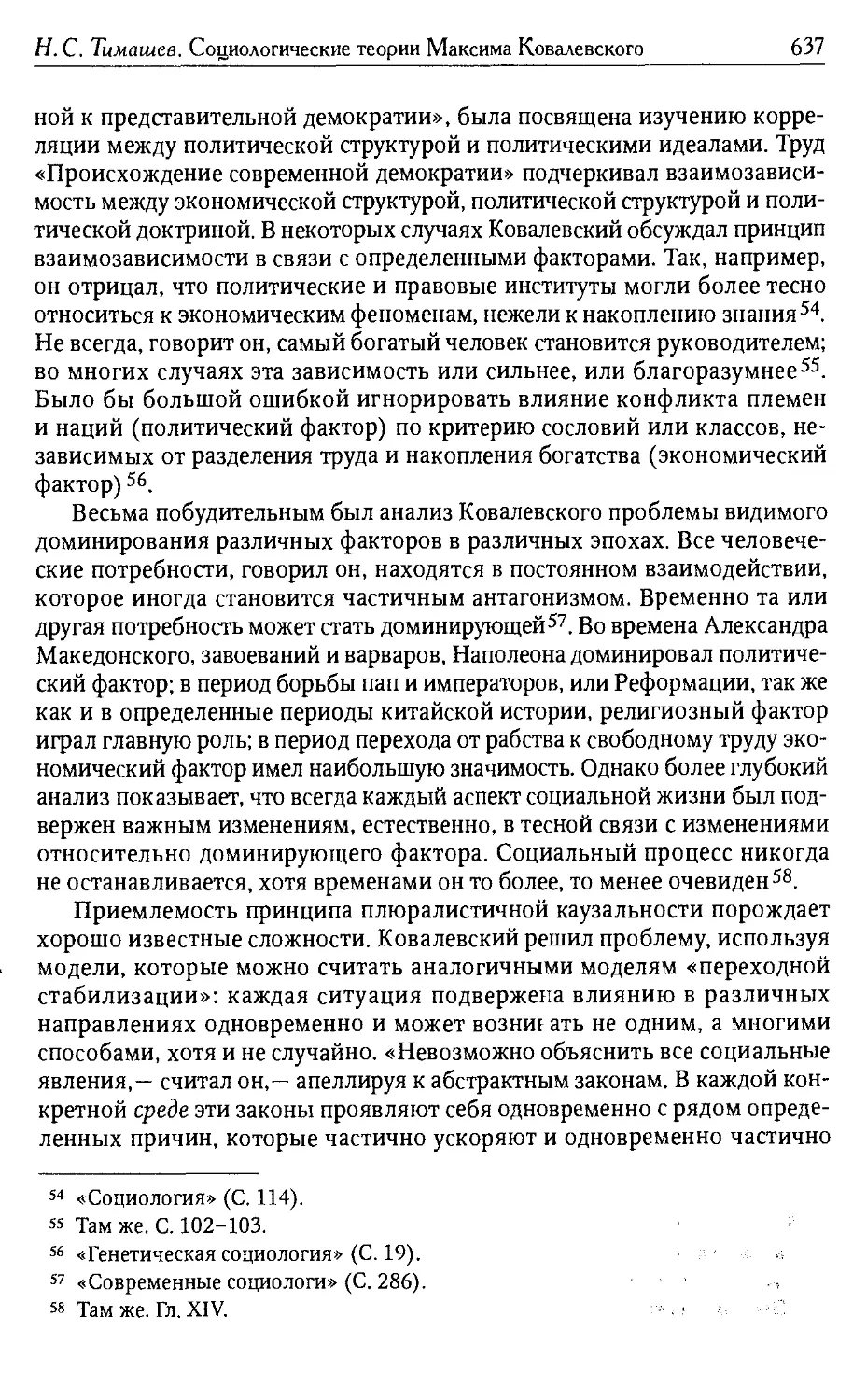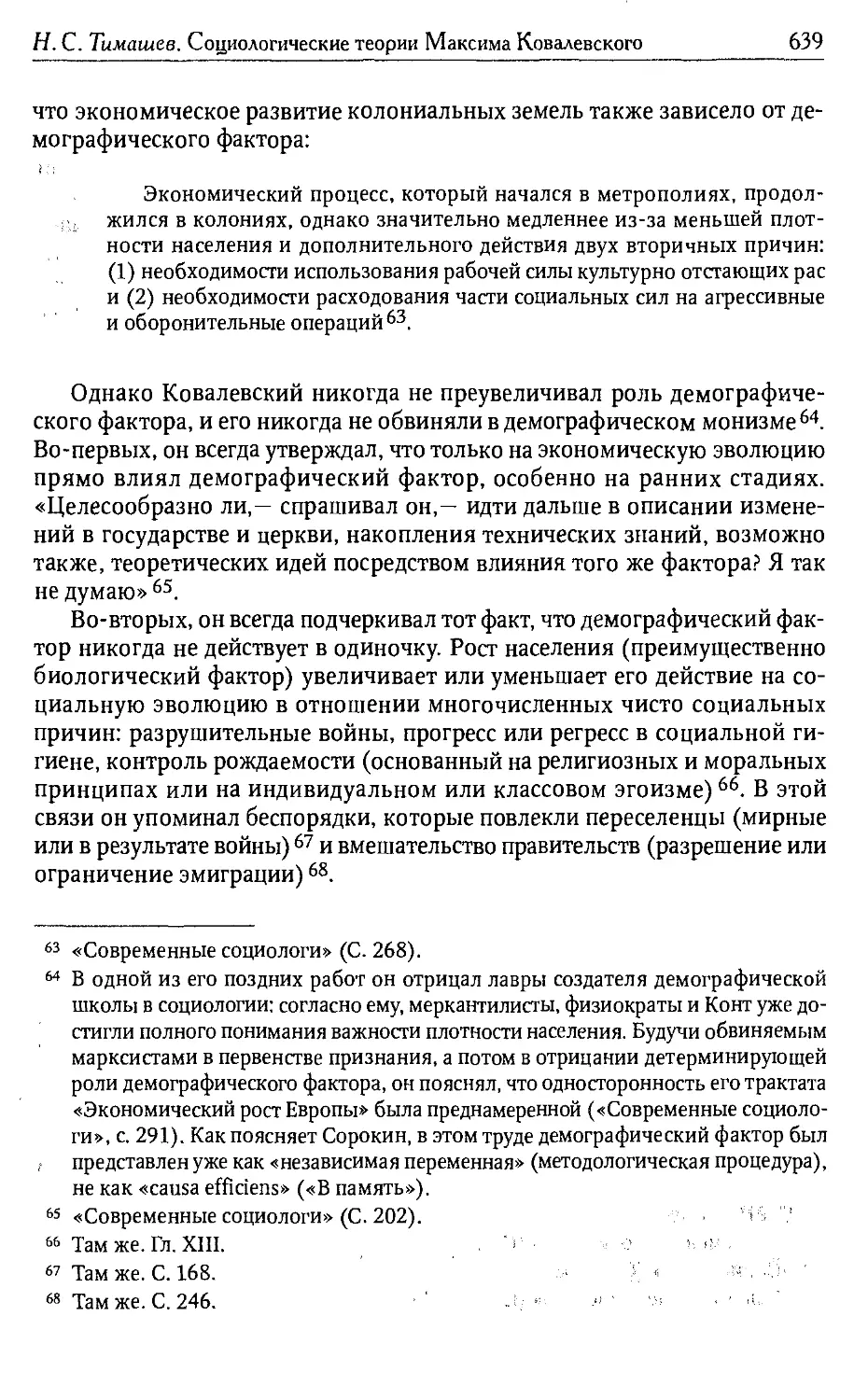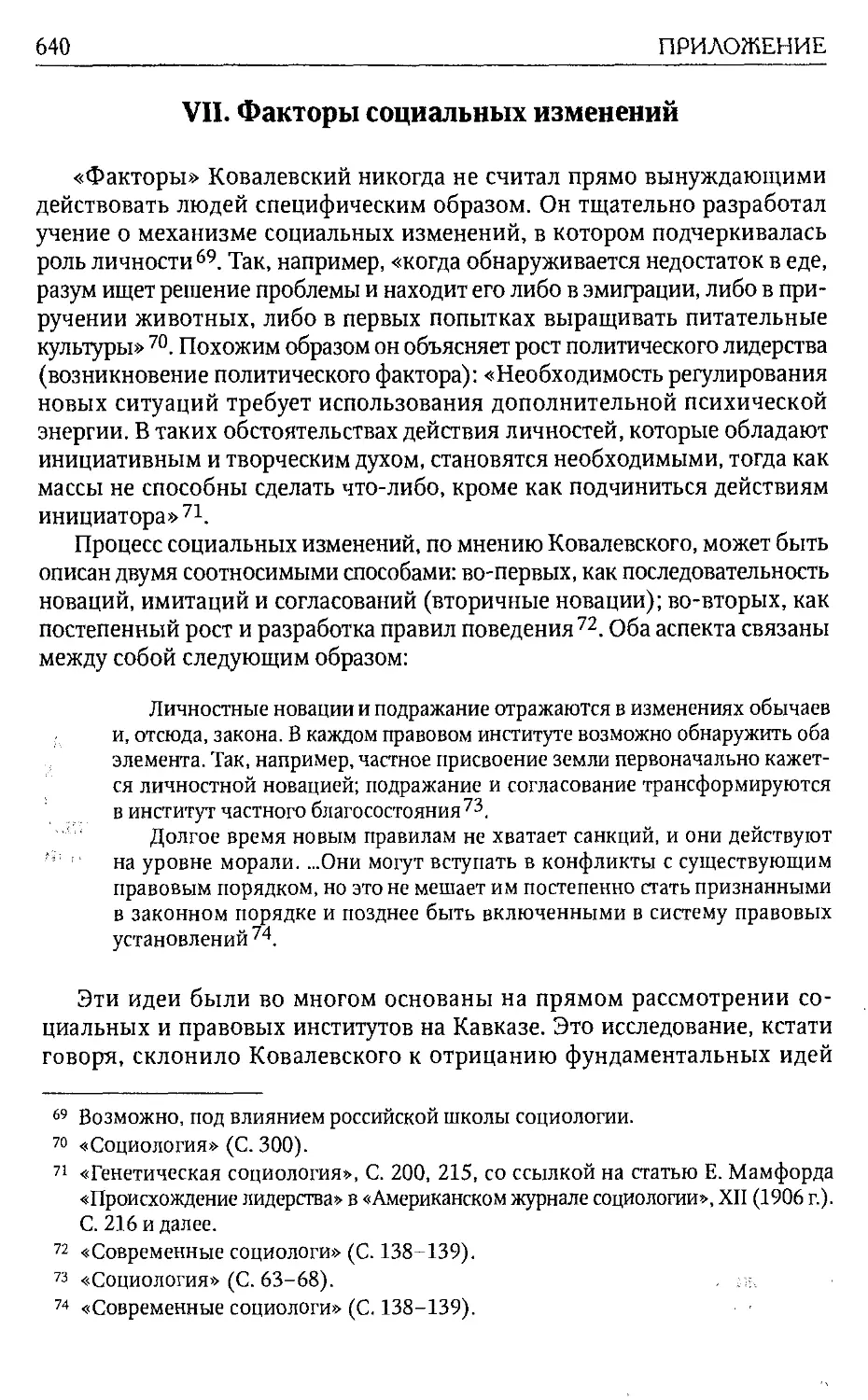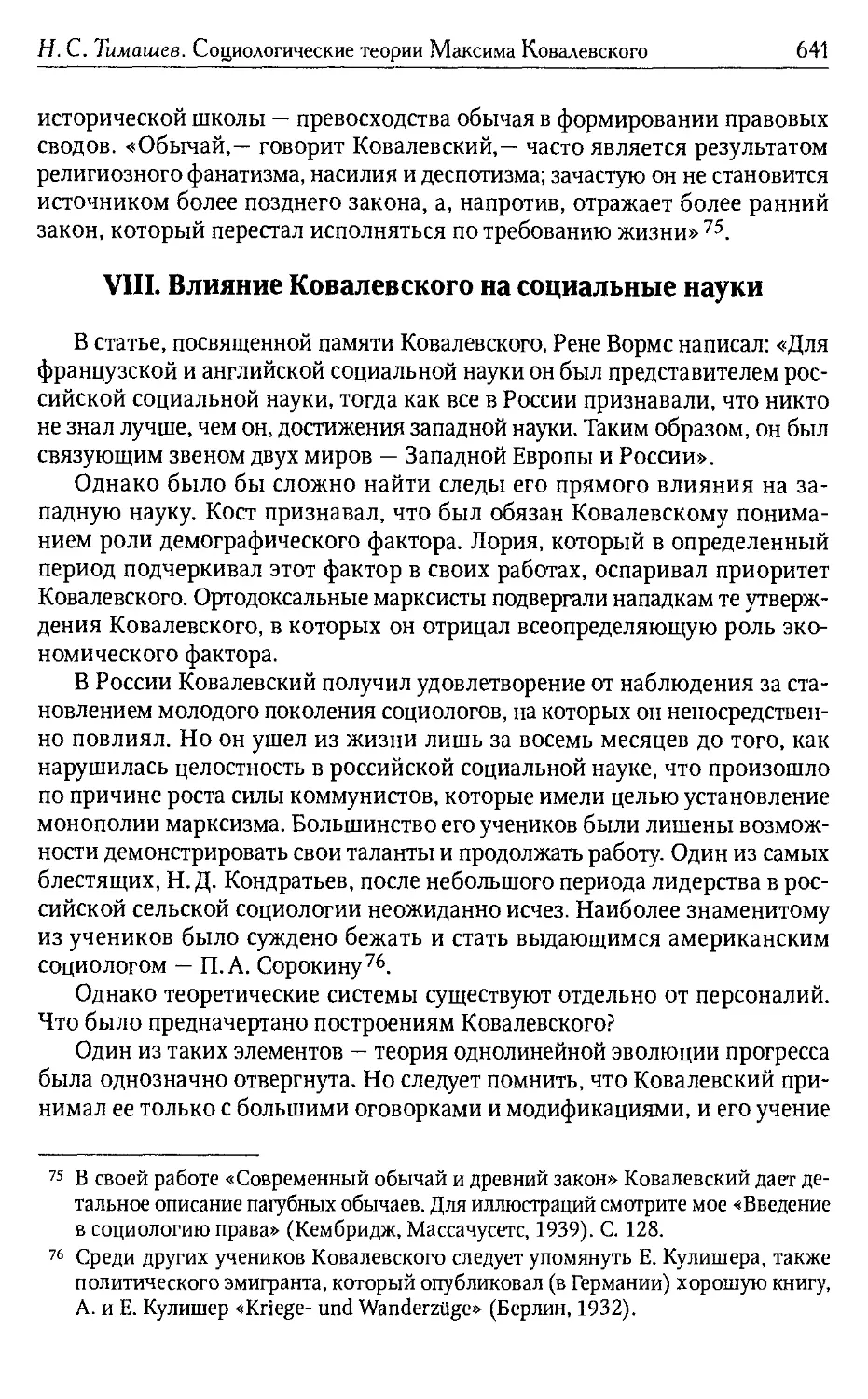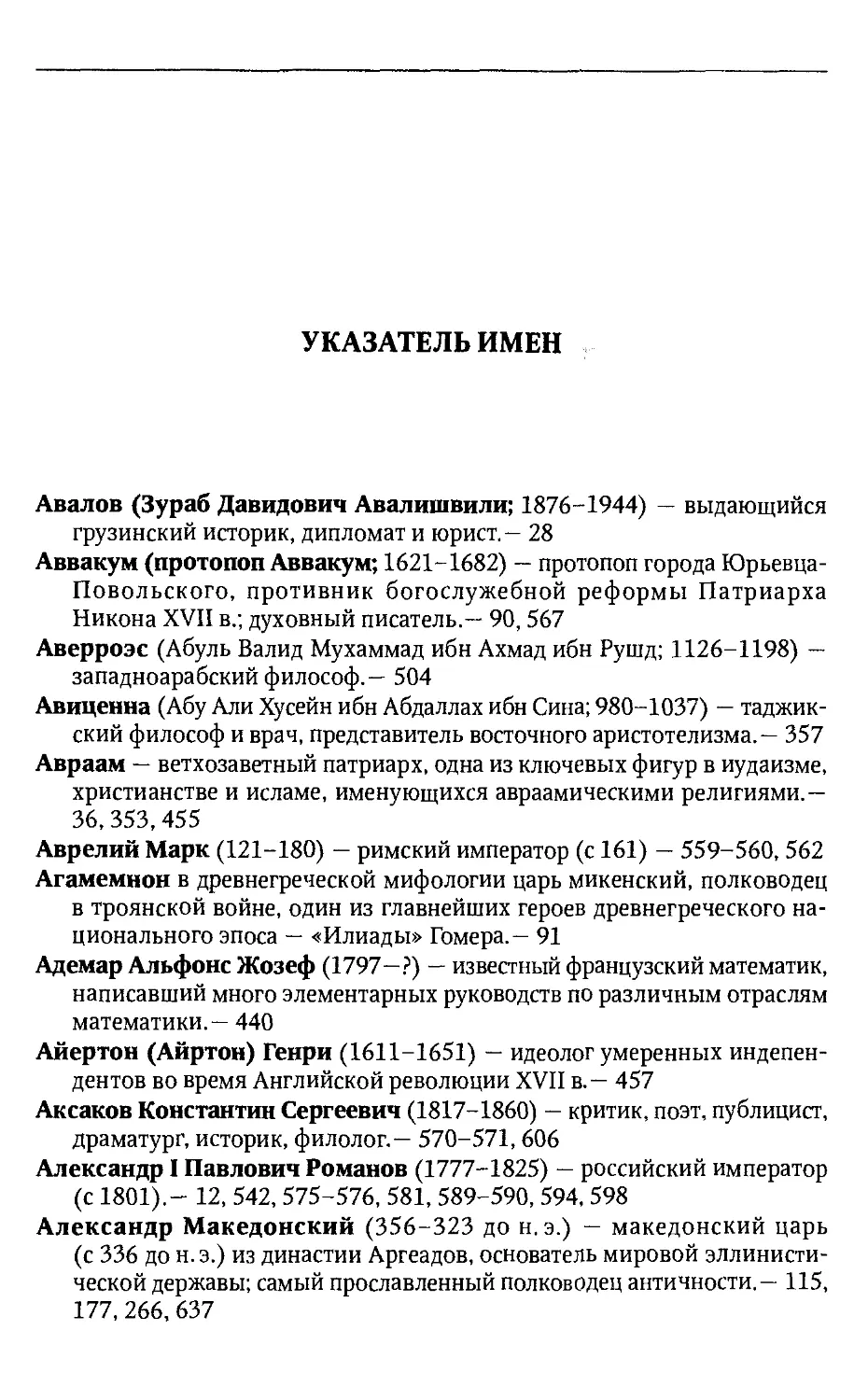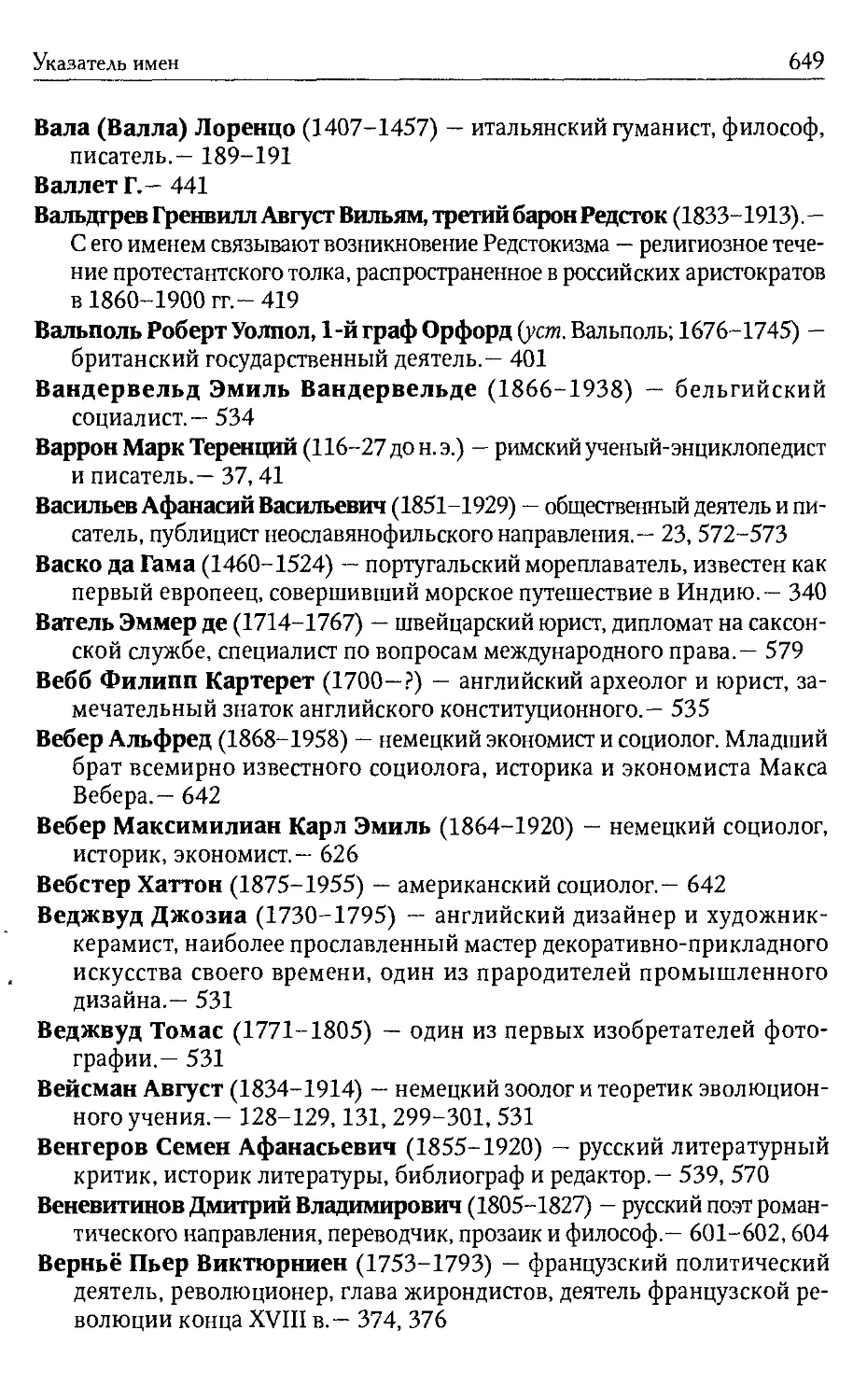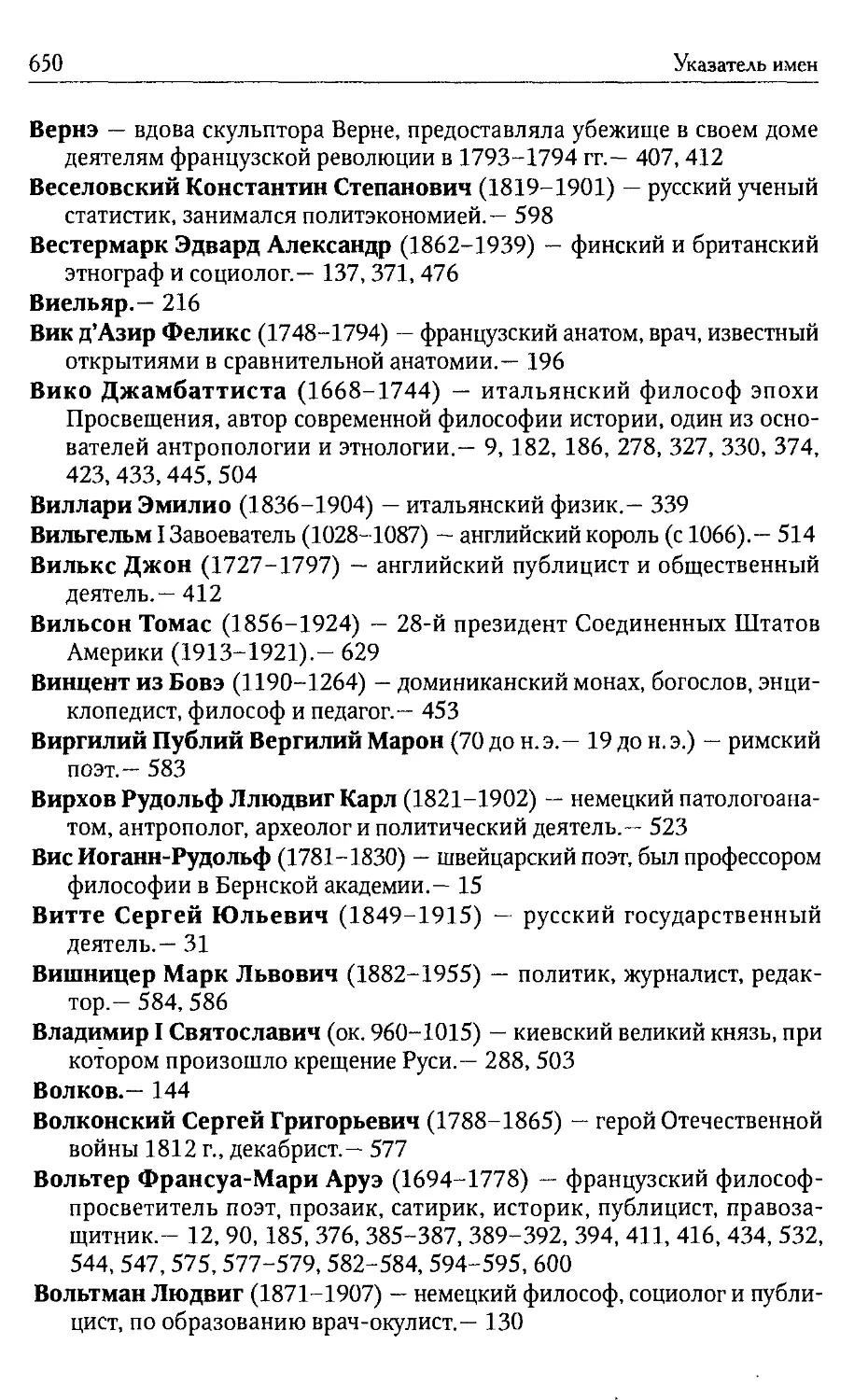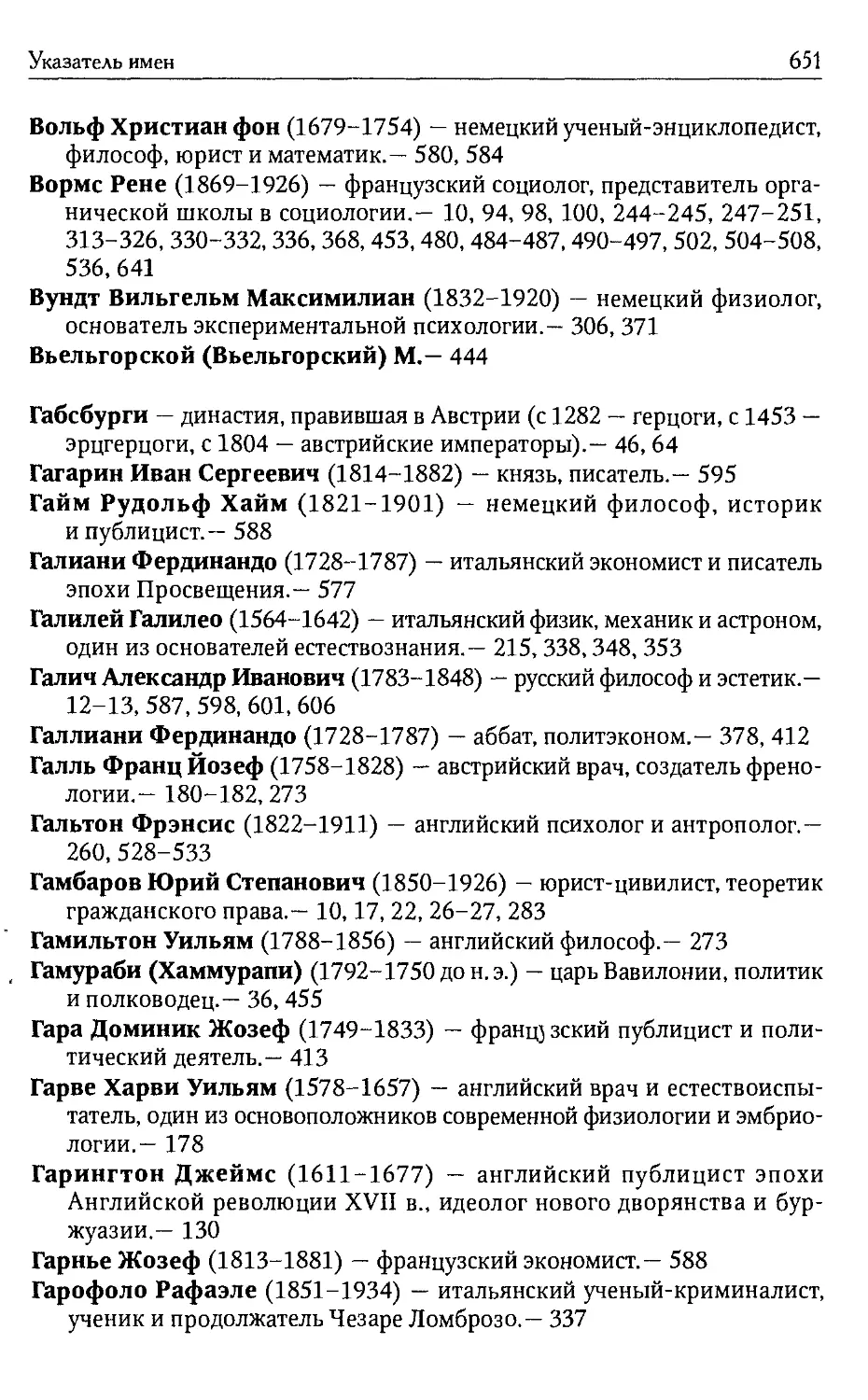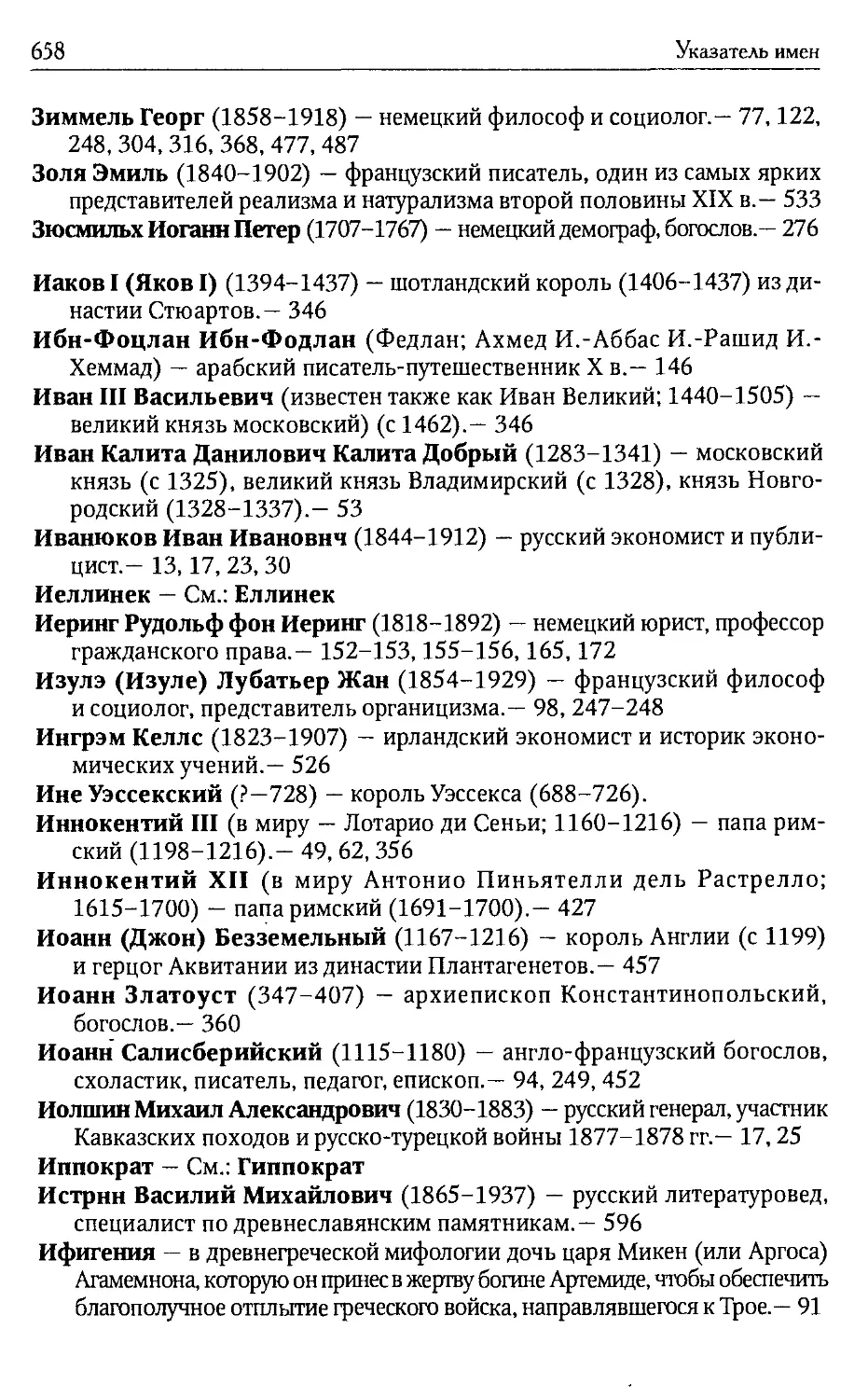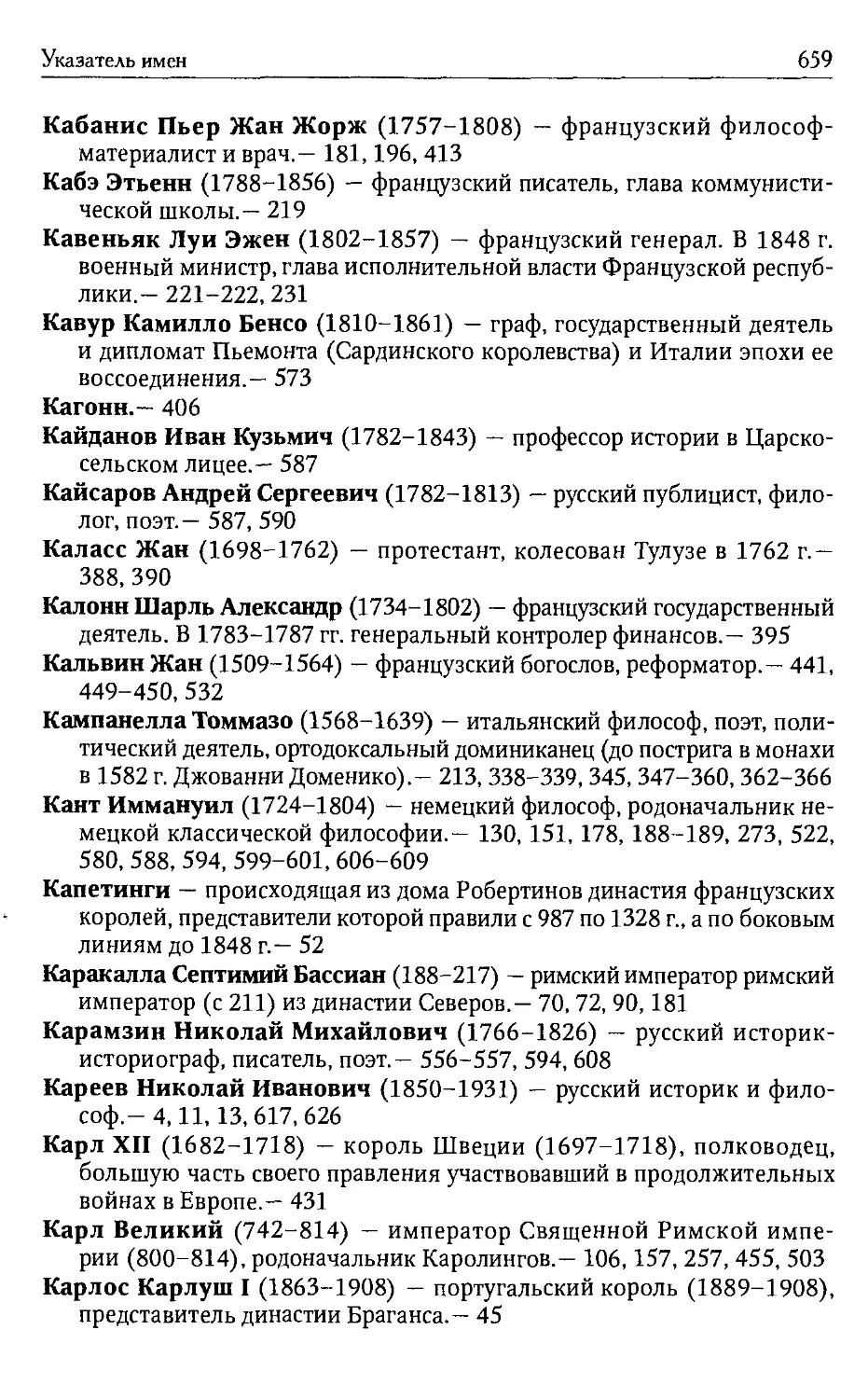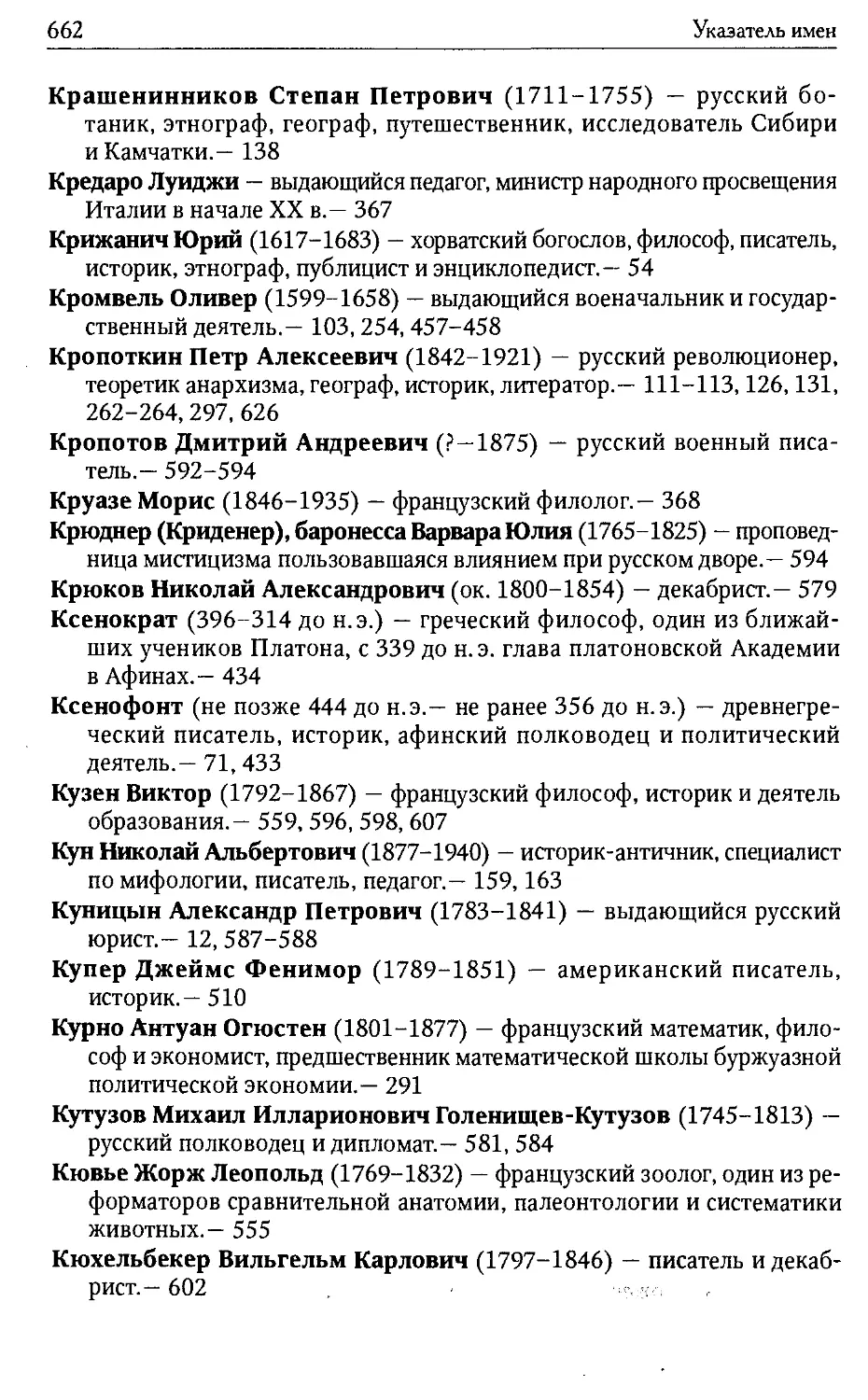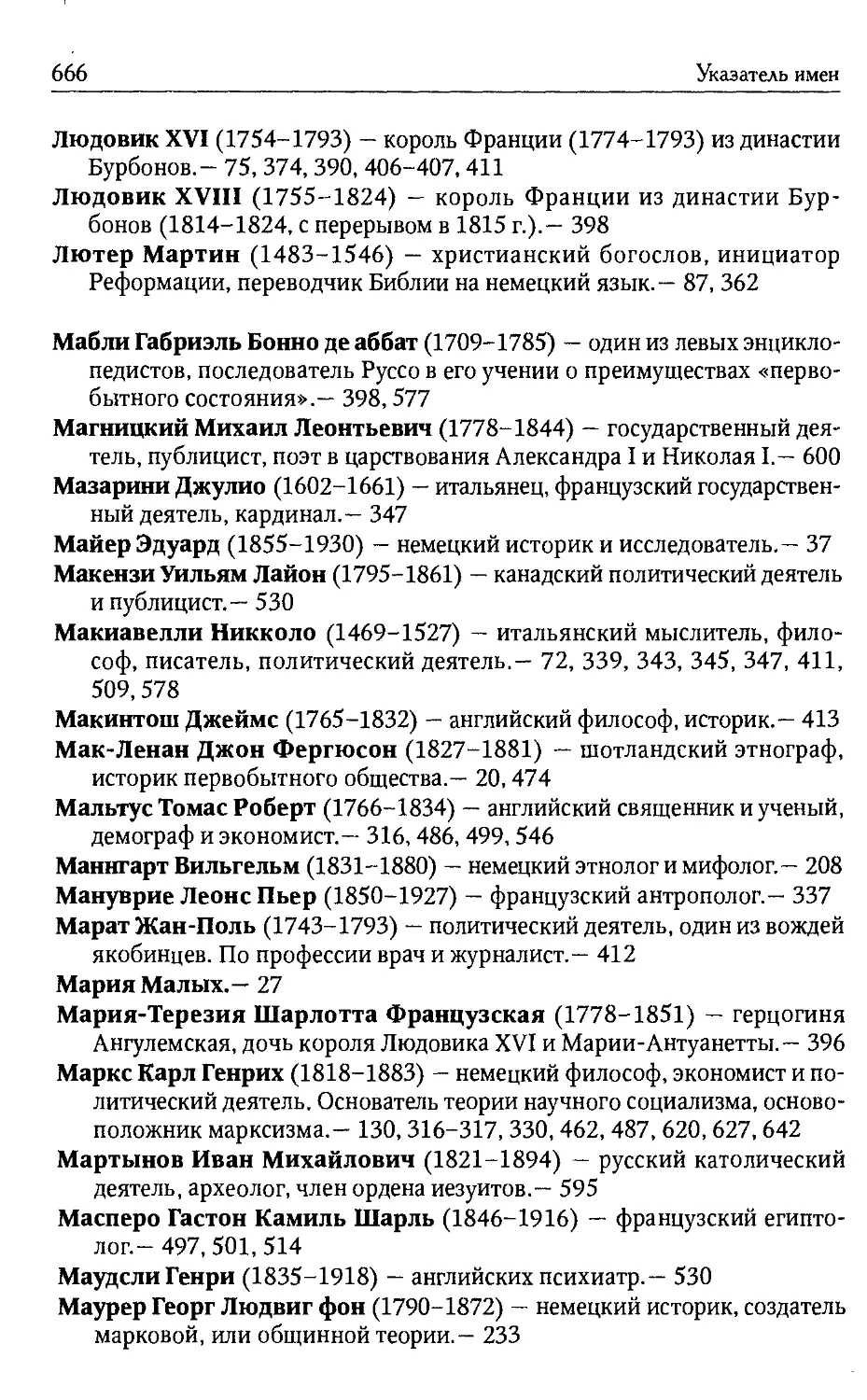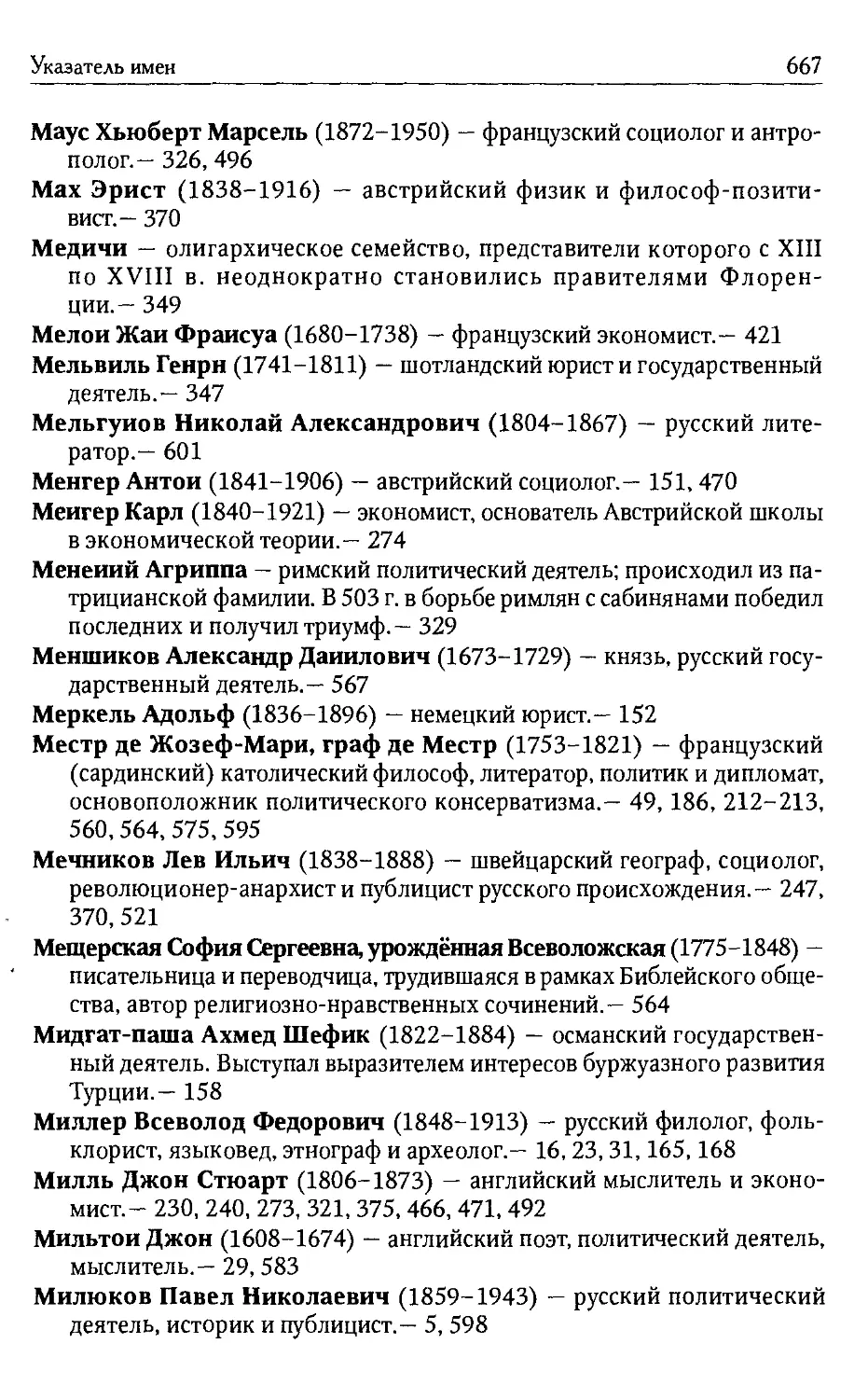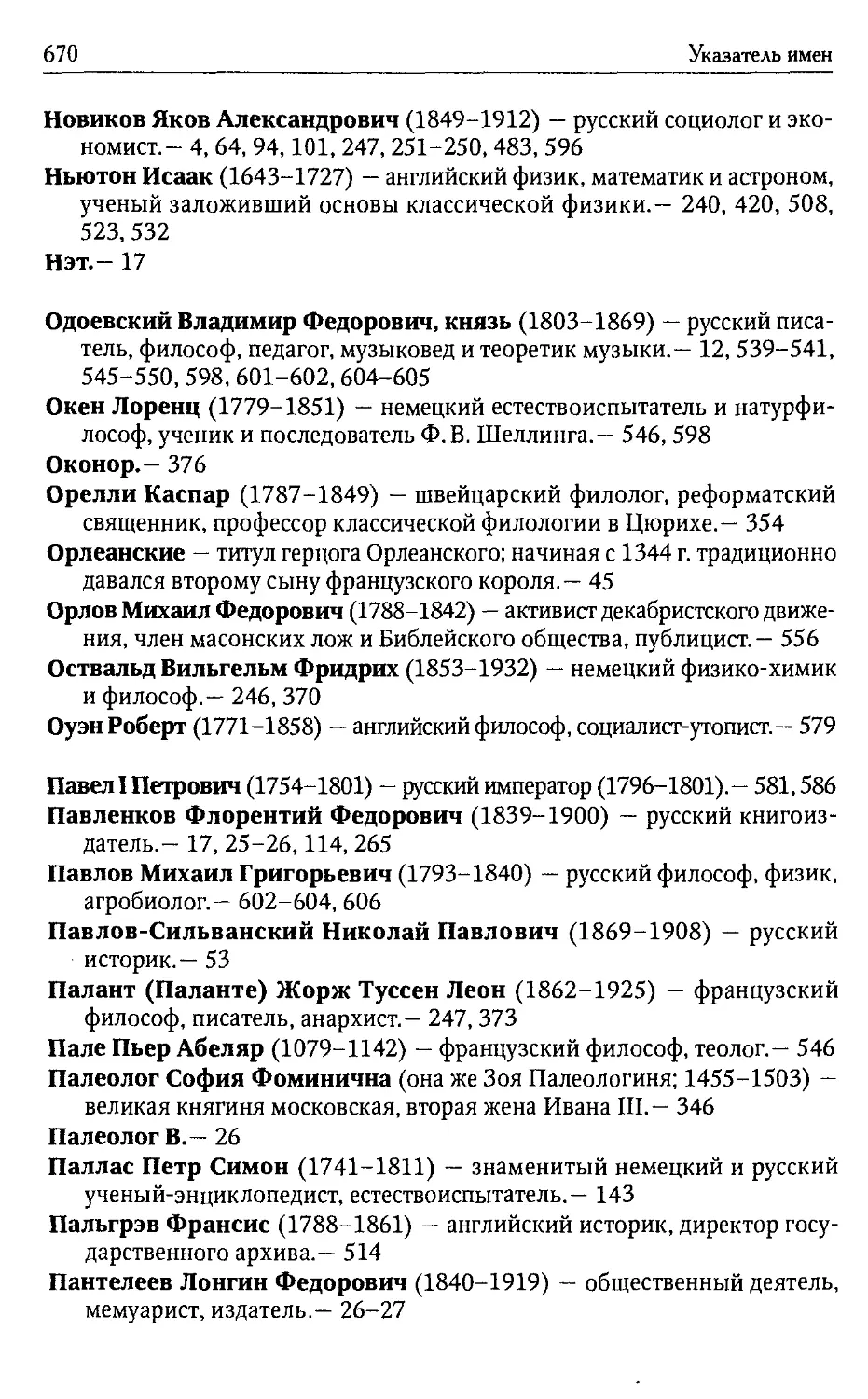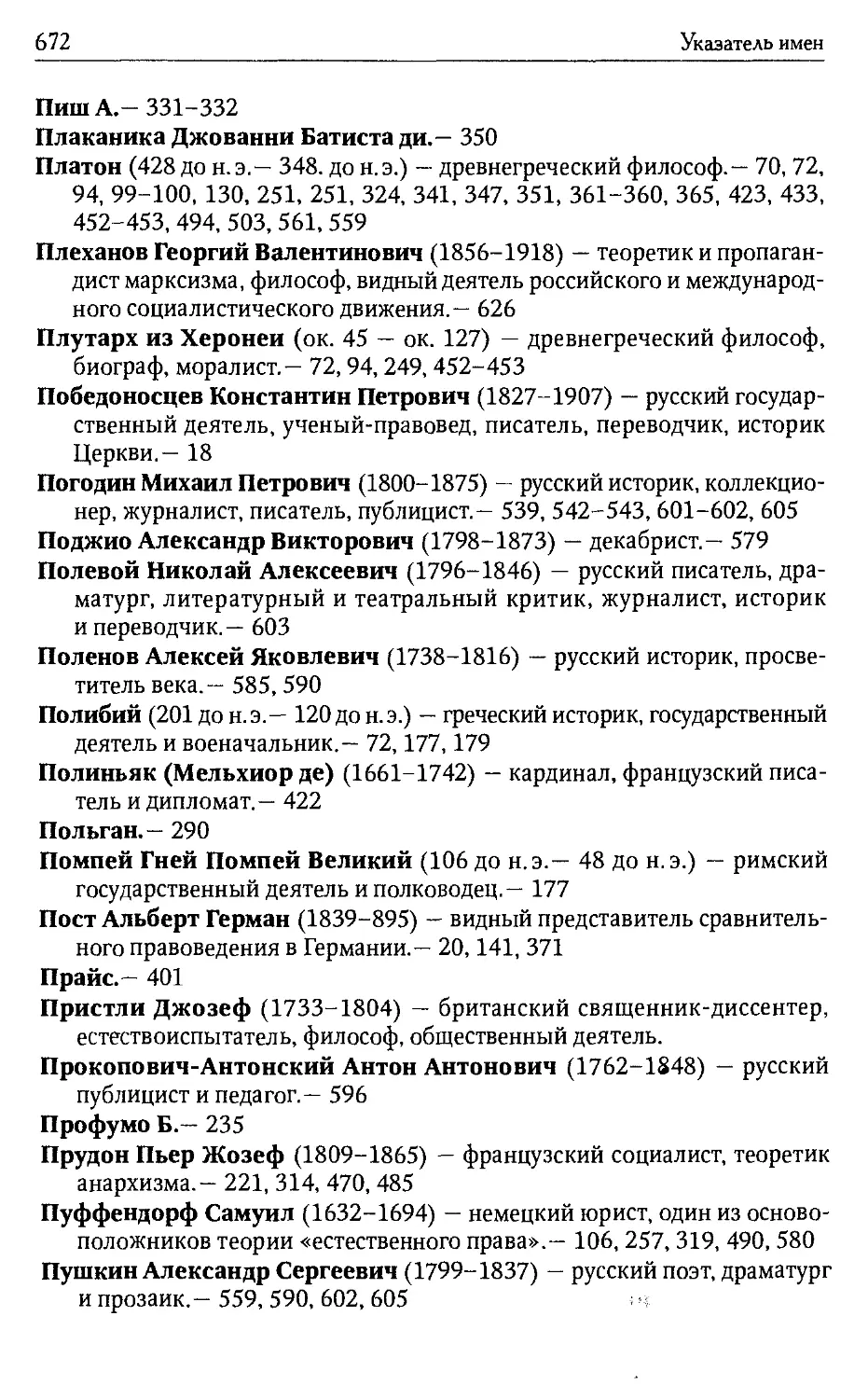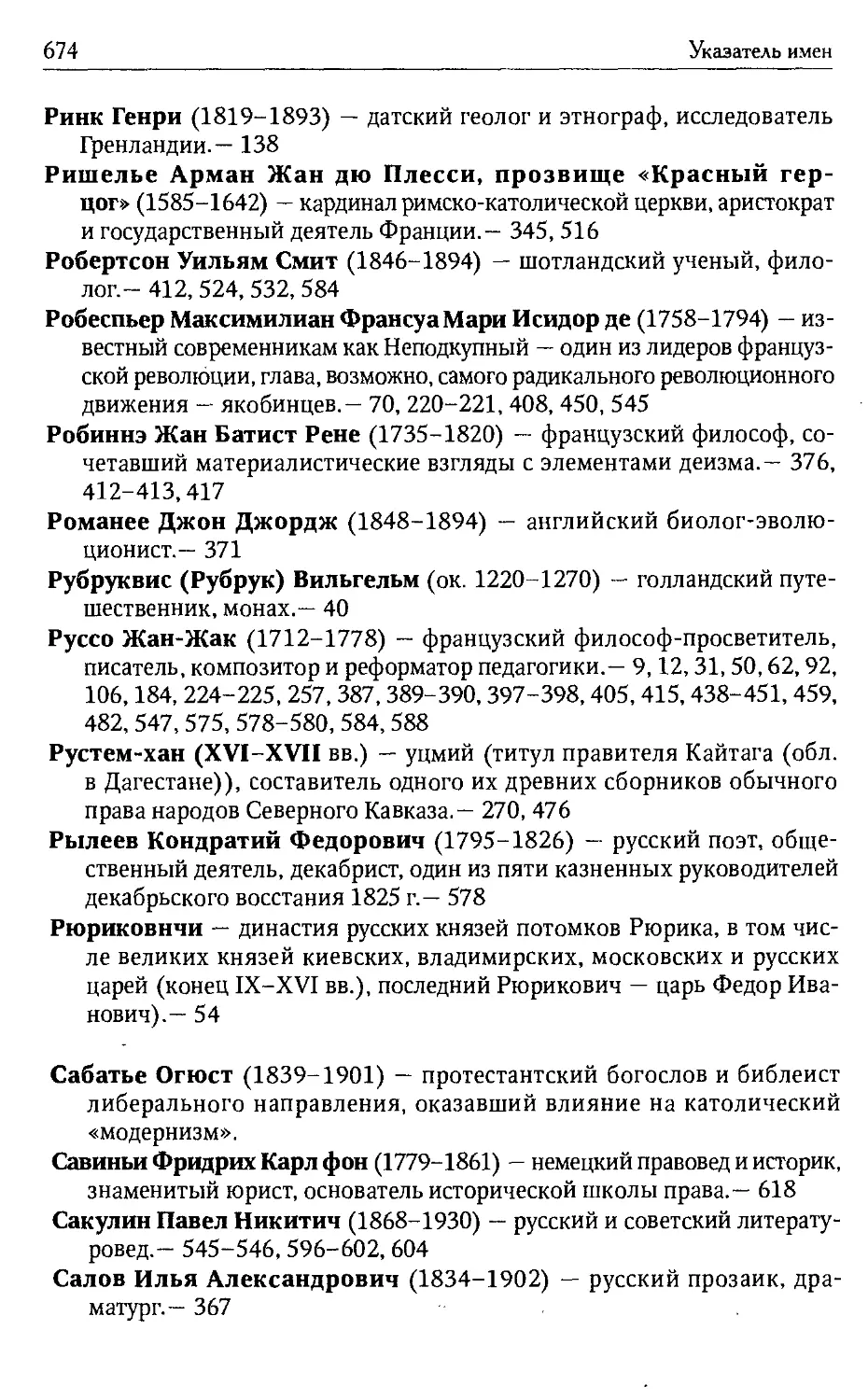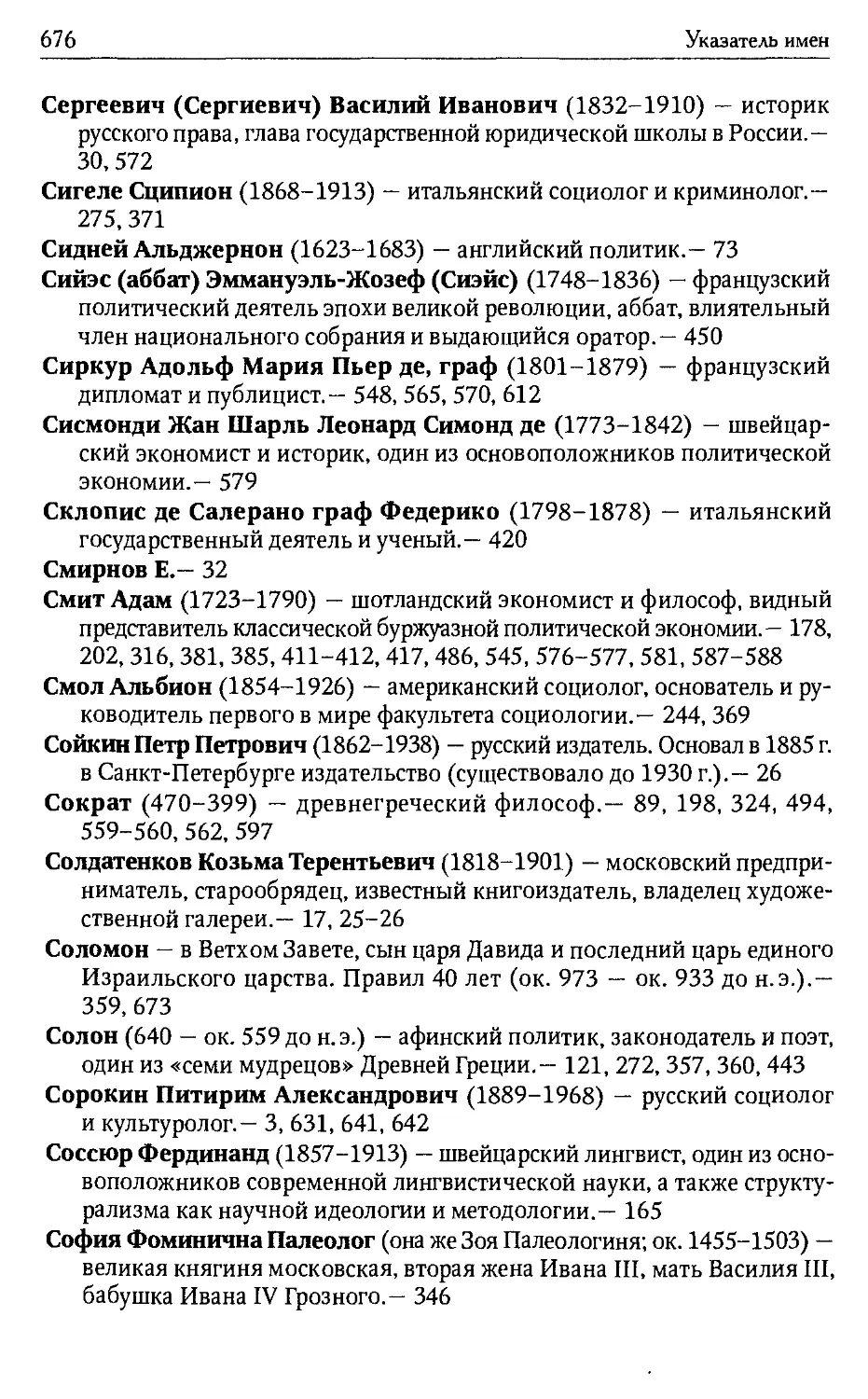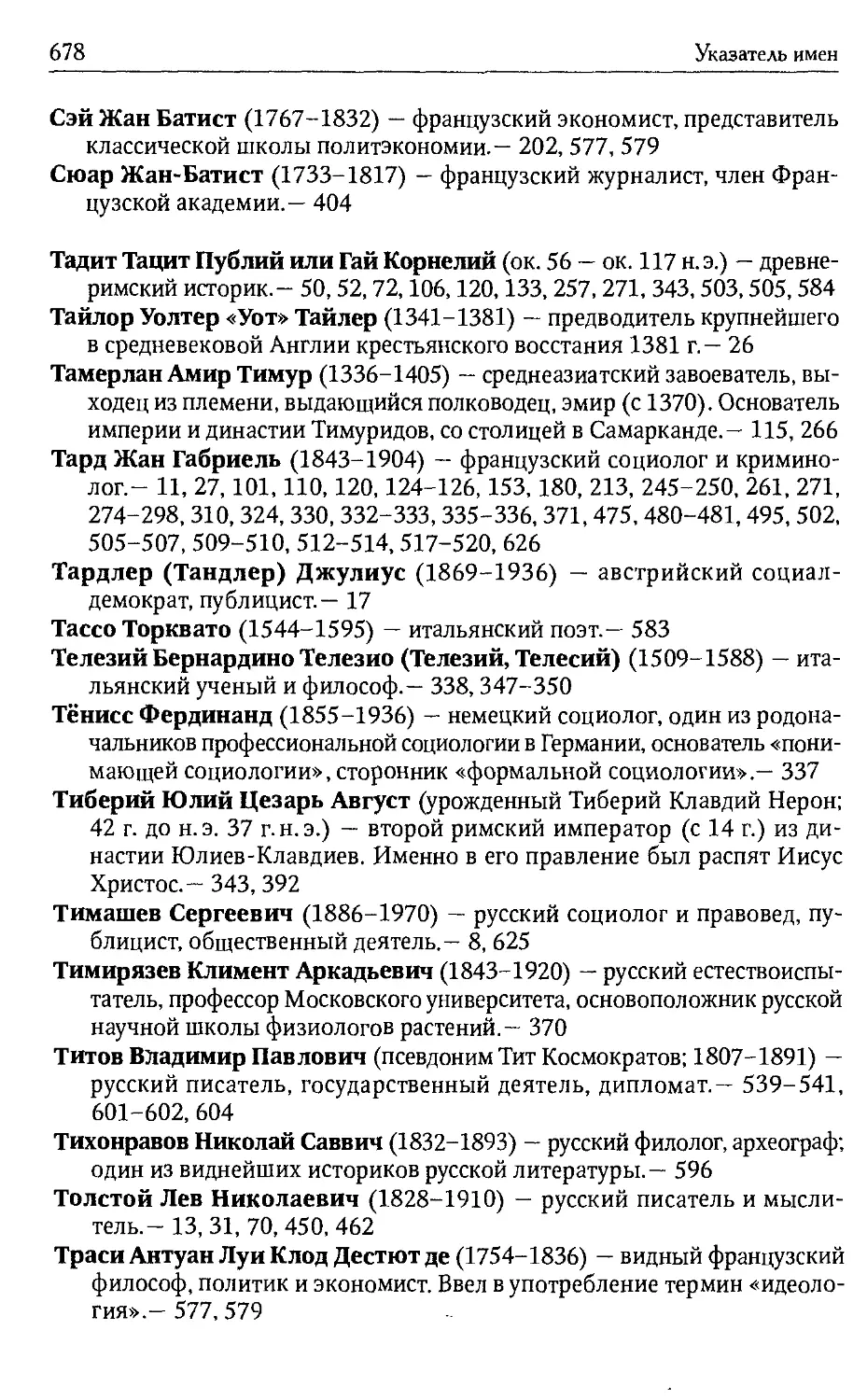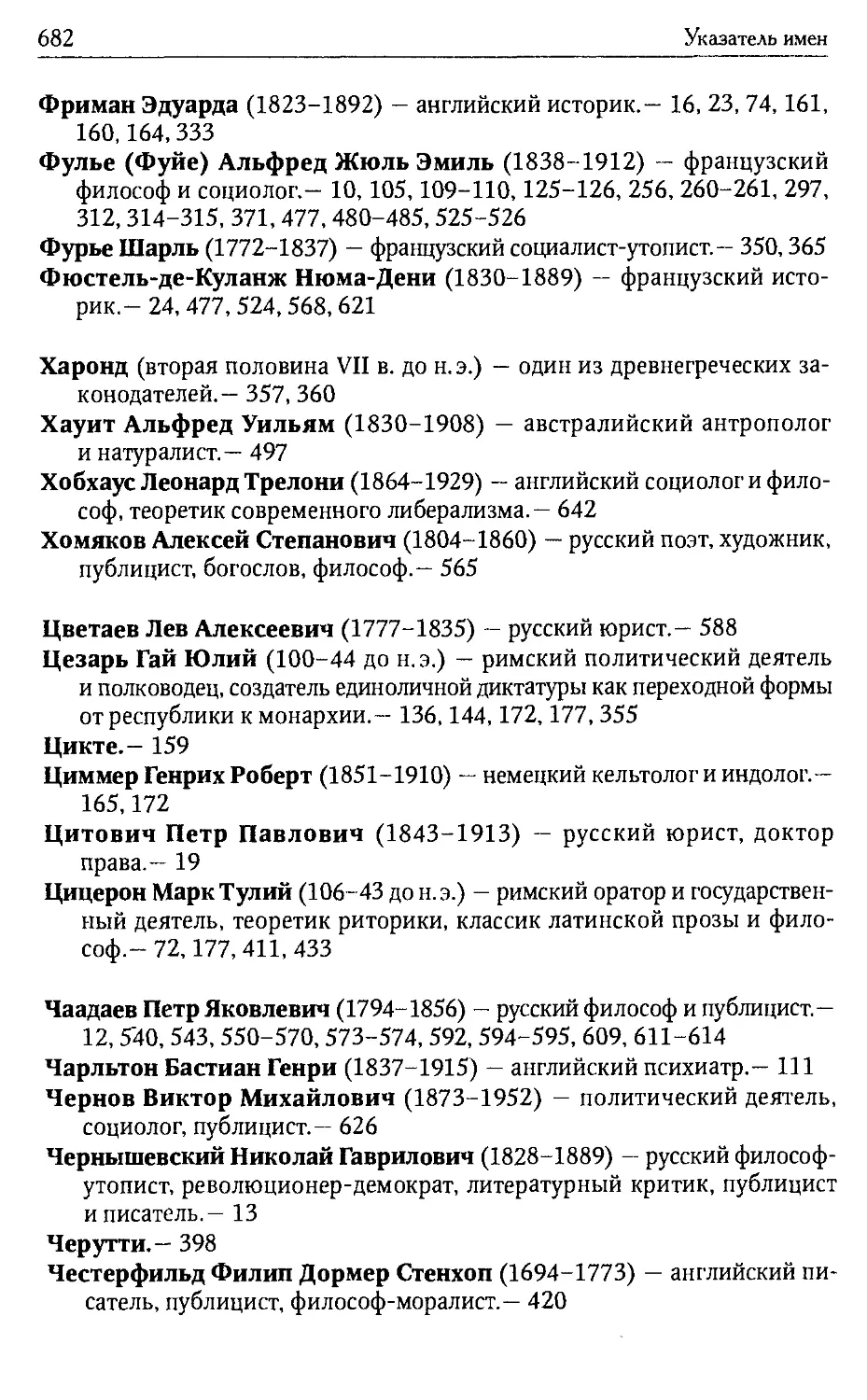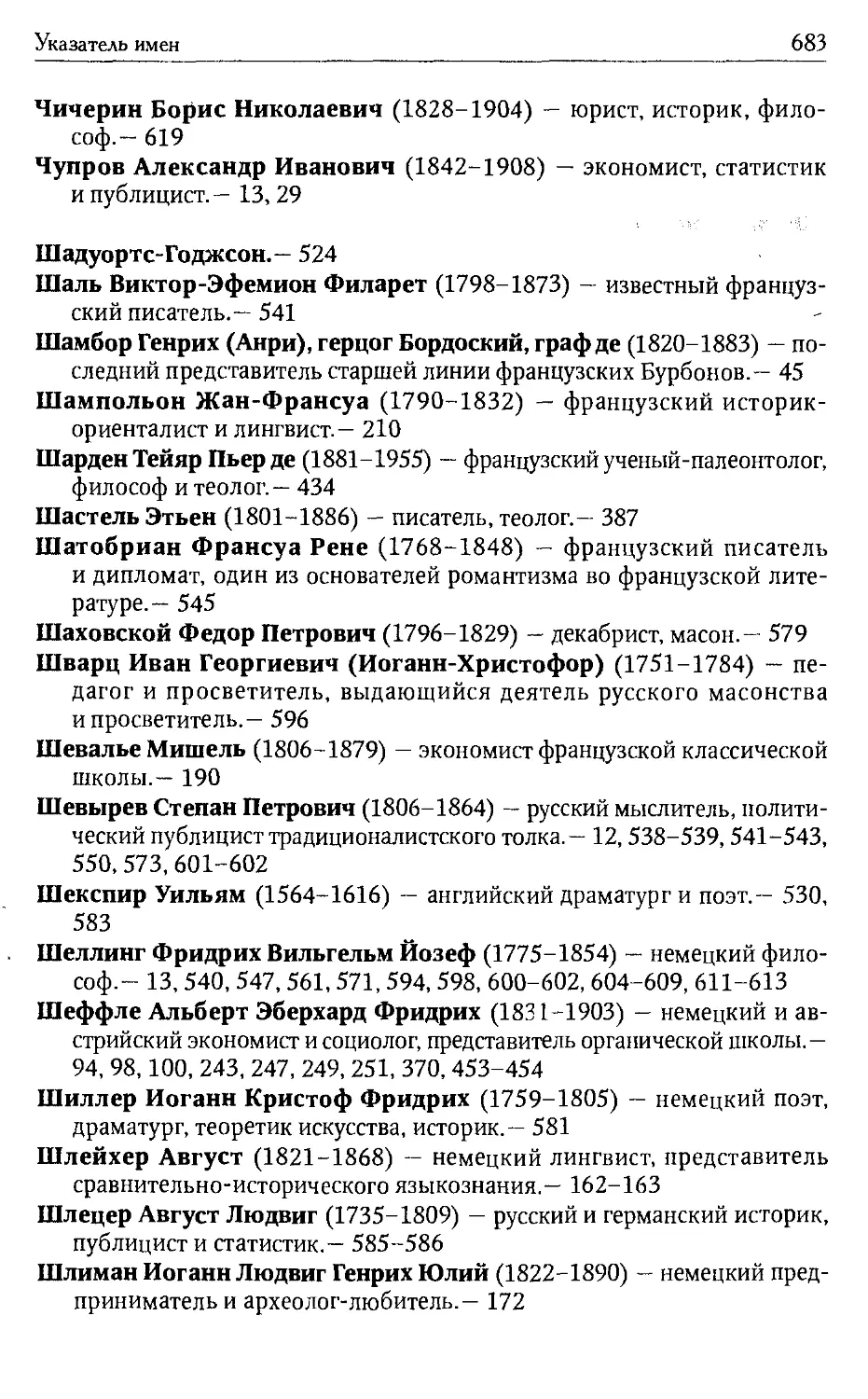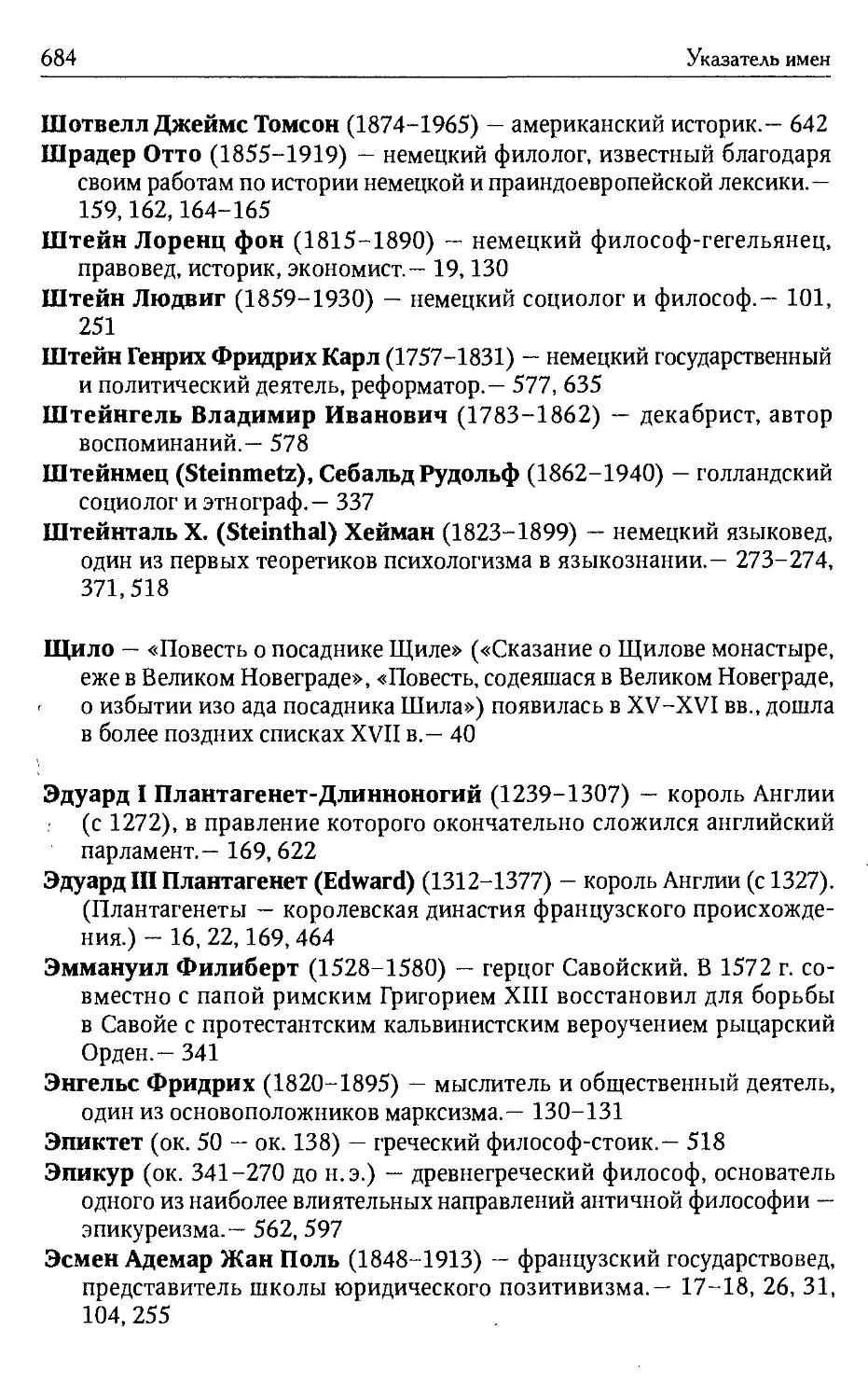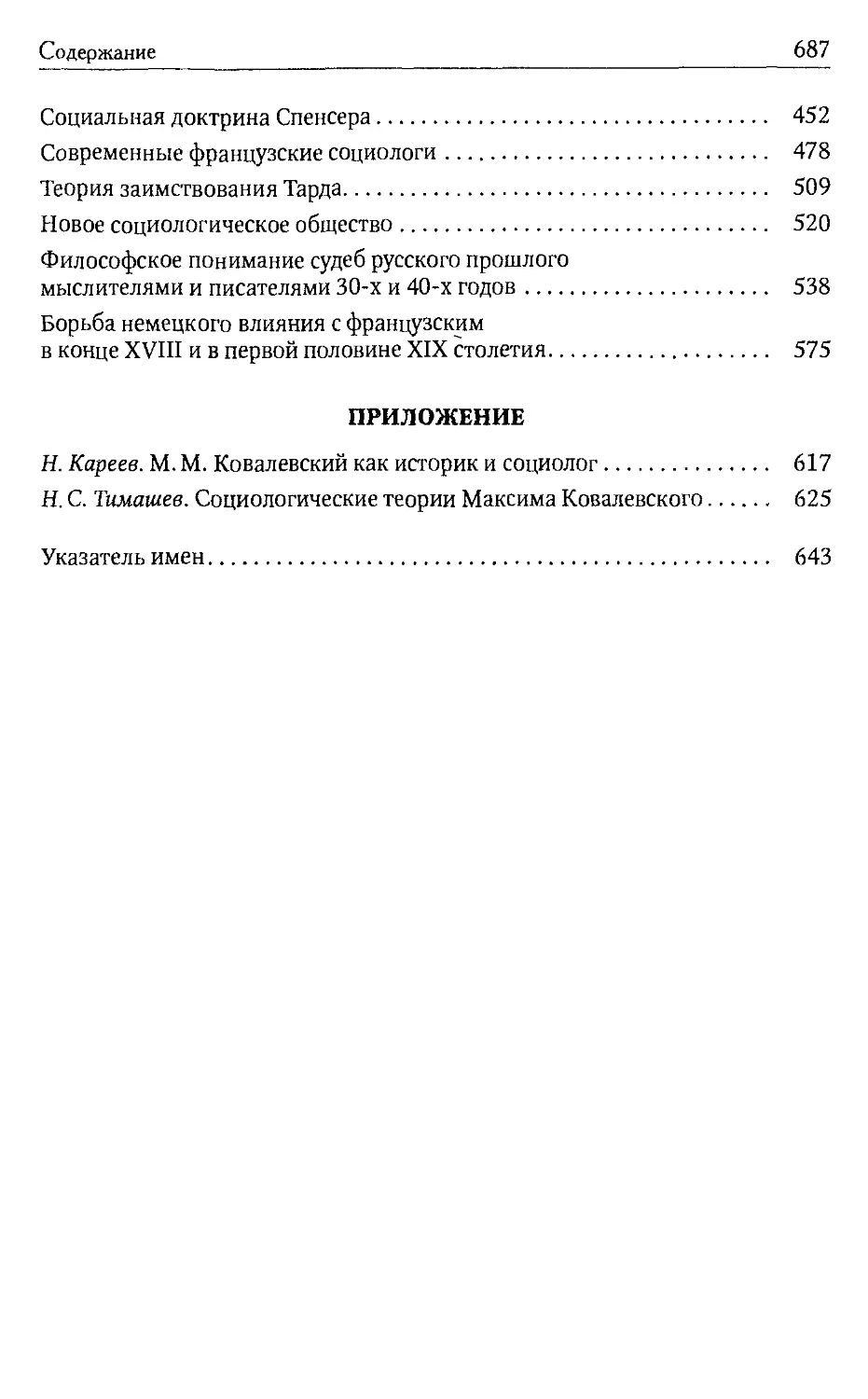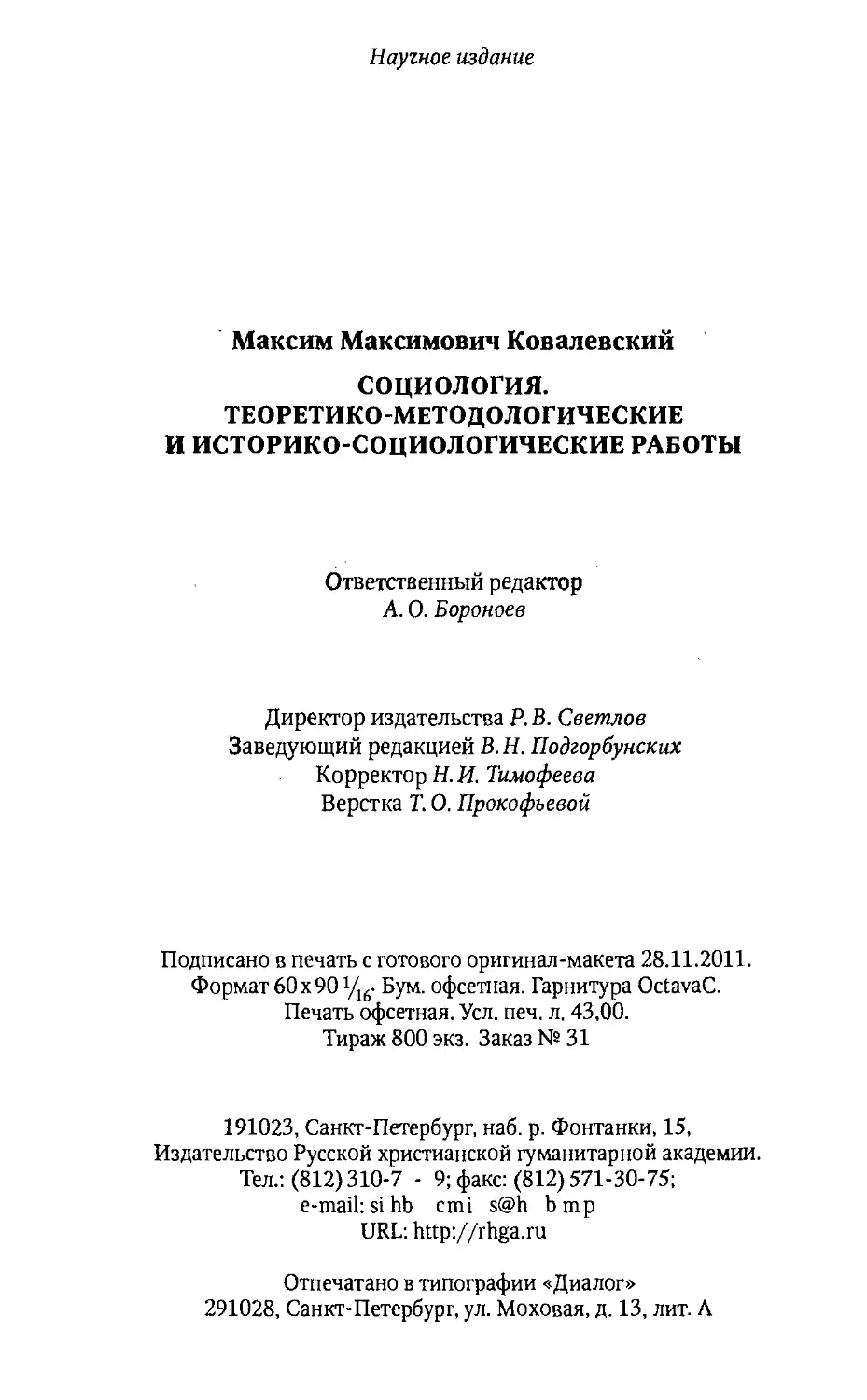Текст
М.М. Ковалевский
СОЦИОЛОГИ^
-♦---------------------«►
ТЕО РЕТИ 1<О-М ЕТОДОЛ О ГИ Ч ЕС КИ Е
И ИСТОРИ1<О-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Петербургский государственный университет готическое общество им. М.М. Ковалевского
М.М. Ковалевский
СОЦИОЛОГИЯ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ответственный редактор А. О. Бороноев
Издательство
Русской христианской гуманитарной академии
Санкт-Петербург
2011
ББК 60.5
К 56
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного наугного фонда (РГНФ), проект № 11-03-16090д
Ковалевский М. М.
К 56 Социология. Теоретико-методологические и историко-социологические работы / Отв. ред., предисл. и сост. А. О. Бороноев,— СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2011.— 688 с.
ISBN 978-5-88812-430-7
Книга представляет собой избранное собрание работ одного из созидателей исторической социологии, русского историка, юриста, общественного деятеля Максима Максимовича Ковалевского (1851-1916). Первый раздел содержит теоретические работы Ковалевского, в которых рассматривается самый широкий круг проблем, связанных с социальным строительством, прогрессом, динамикой развития государства, политико-экономической стороной общественной жизни. Второй раздел книги составляют труды по истории социально-философских идей, где дается анализ различных традиций, школ, а также раскрывается опыт творчества Руссо, Кондорсе, Монтескье. Спенсера, Тарда и др.; рассматривается история европейской мысли периода становления социологии как науки. В приложении читатель найдет аналитические статьи Н. Кареева и Н. Тимашева, освещающие научное творчество М. М. Ковалевского.
ББК 60.5
© А.О. Бороноев. составление, предисловие, 2011
© И. Г. Шакирова, указатель имен, 2011
© Русская христианская гуманитарная академия, 2011
г
М. М. Ковалевский как теоретик > и историк социальной мысли
,. . hr
Известно, что наука без знания своей истории и творческого восприятия идей прошлого теряет свои возможности, скрепы и теоретико-методологические основания.
В начале XX века великий ученый В. Вернадский, размышляя о значении истории науки, истории идей, писал, что «история науки и ее прошлого должна критически составляться каждым новым поколением, и не только потому, что меняются запасы наших знаний о прошлом, открываются новые документы или находятся новые приемы восстановления былого. Нет! Необходимо вновь научно перерабатывать историю науки, вновь исторически уходить в прошлое. Каждое поколение научных исследователей ищет и находит в истории науки отражение научных течений своего времени» к Незнание истории в современный период становится модой, и это не способствует развитию теоретико-методологических изысканий и многообразию сравнительных эмпирических материалов. Это обстоятельство снижает уровень общей культуры исследований, научного творчества. Такую ситуацию в свое время П. Сорокин назвал подготовкой «новых колумбов». Открывание собственных «Америк» не дает должного приращения знаний, так как при этом теряются сложившийся опыт, традиции, идеи, составляющие основу любого научного направления. При отсутствии должного внимания к научной памяти формируются легковесные концепции и «ложные» научные авторитеты, что ведет к падению уровня и авторитета научных достижений. Современную социологию постмодернистские методы мышления часто превращают в простой набор фактов, соединенных индивидуально-словесными
1 Вернадский В. И. Из истории идей // Вернадский В. И. «Избранные труды по истории науки». М„ Наука, 1981.
размышлениями, имеющими чрезвычайно субъективный характер вследствие игнорирования сложившегося опыта и традиции. Использование в некоторых исследованиях «разговорного» стиля делает их содержание более популярным, но одновременно и упрощает функции социологического исследования, превращая его результаты в неактуальные.
Один из выходов из сложившейся ситуации — активное изучение научного наследия, традиций исследований и индивидуального опыта творчества.
Это особенно важно для отечественной социологии, изначально воспринимавшейся правящими кругами как атрибут оппозиционного сознания. Отрицательное отношение царских чиновников к социологии, к ее преподаванию в университетах было связано с тем, что социология была близка к реформаторству, так как она изучает социальные отношения, их субъекты, причины бедности, несправедливости, неравенства и т.д. Кроме того, становление социологии в европейских странах, в том числе и в России, пришлось, как писал известный французский социолог Де Греф, на период развития социалистического движения. Тенденции недоверия к социологии в той или иной мере проявлялись и в некоторых странах Европы. Но несмотря ни на что, отечественная социология развивалась, формируя свои школы, представители которых имели тесные контакты с европейскими учеными. Российские социологи активно влияли на институционализацию мировой социологии в начале ее становления. Так, известно, что М. М. Ковалевский, Е. В. Де Роберти, Н. И. Кареев, П. Лилиенфельд, Я. Новиков и другие активно участвовали в создании Международного института социологии (1894), в организации и работе первых социологических конгрессов.
Хотя социология не была включена в университетское образование, в России читались социологические курсы, издавалась учебная литература. Так, работа «Введение в изучение социологии» Н. И. Кареева стала третьим изданием подобного рода в мировой практике2.
С. Н. Южаков — один из первых российских социологов, в конце XIX века писал, что социология, несмотря на запрет, «читается под именем философии истории или под именем общих отделов некоторых прав, весьма часто бывает курсом того или иного отдела социологии»3.
2 Кареев Н. И. Введение в изучение социологии. СПб.: РХГА, 2008.
3 Южаков С.Н. Вопросы просвещения. Публицистические опыты. СПб., 1897. С. 72.
Особенно результативной в становлении и развитии мировой и отечественной социологии была деятельность М.М. Ковалевского, правоведа, историка, антрополога и социолога, основателя российской академической (университетской) школы социологии. Благодаря творчеству ученого, его коллег и учеников социология стала преподаваться в университетах, появились программы курсов, учебники, кафедры. Несмотря на энциклопедичность своих научных интересов, Ковалевский особое внимание уделял социологии, ее преподаванию и развитию. П. Милюков, подчеркивая это, писал: «Имя той науки, которая содержала в себе полный ответ на духовную потребность Ковалевского, которая была, так сказать, его систематическим мировоззрением, есть социология»4. Об этом говорят его фундаментальные труды «Социология», «Современные социологи», десятки статей по теории и истории социологии и политической социологии. Кроме того, нужно иметь в виду, что все его другие работы, связанные с экономикой, историей, антропологией, весьма социологичны, так как он считал, что предметом социологии является организация и динамика человеческого общества. Во многих работах М. Ковалевским был реализован эволюционно-социологический подход. Вместе с тем он заложил основы сравнительно-исторического метода, который актуализируется сегодня в логике современной компаративистики в различных науках, в том числе и в социологии. М. Ковалевский, используя названный метод, развил и обосновал понимание того, как в обществе менялись формы устройства — от прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. В этом проявлялось его понимание общественного прогресса, которое заключалось в расширении замиренной среды и роста солидарности. Так, М. Ковалевский в своих трудах «Происхождение современной демократии» (Т. I—IV. М., 1845-1897), «От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражения в истории политических учений» (Т. I—III. М„ 1906) и многих других основательно проследил условия роста человеческой солидарности на основе демократических форм устройства жизни. Он полагал, что главной задачей социологии является изучение условий и роста
4 Милюков П. М. М. Ковалевский как социолог и как гражданин // М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин. Пг„ 1917. С. 137.
солидарности как проявления прогресса5. Ковалевский полемизировал с Дюркгеймом, который, опираясь на Спенсера, связывал динамику солидарности с развитием разделения труда. Условиями солидарности представляются, писал М. Ковалевский, расширение связей между людьми через разные формы общественности, которые ведут к замиренности в общественной системе. Развитие общественных форм на основе развития связей, дифференциация общества — главные условия роста солидарности, следовательно, прогресса. По Ковалевскому, «все народы участвуют в мировом прогрессе», который должен привести к их объединению в единое «мировое солидарное общество». Через эту логику он прослеживал динамику развития общества от первобытного рода до современности. Состояние солидарности проходит три последовательные стадии: сознание родового единства, национальной солидарности и космополитизма. Они характеризуют основные этапы развития общества — от первобытного общества к формированию национальных государств и образований более широких форм связи — международных объединений и союзов. О развитых обществах он писал: «...зависимость наиболее передовых стран, хотя бы в отношении пропитания собственного населения, от мирового обмена — сама уже способствует солидарности, выходящей за пределы не только отдельных государств, но и целых материков»6. М. Ковалевский, полагал, что в современных обществах, где противоречия между трудом и капиталом создают разобщенность общества, солидарность граждан приобретает осмысленный характер, что позволяет ввести противоречия в более рациональные рамки, формируя негативное отношение к локаутам, стачкам и определяя развитие социального законодательства7. Идея солидарности объединяет гражданские связи населения и служит основой социального государства, строительство которого так актуально в наши дни. С точки зрения ученого, солидарность как общественный феномен, характеризующий сознание человека, группы, этноса, пронизывает все социально-политические и экономические действия, сглаживая противоречия, конфликты. Условиями развития солидарности могут быть религия, экономические и политические интересы, языки, на
5 См.: КовалевскийМ.М. Н.К. Михайловский как социолог // Вестник Европы. 1913. С. 207.
6 Там же. С. 208.
7 Там же.
циональная принадлежность, которые в разных регионах проявляются по-своему8. М. Ковалевский предполагал, что национальные и федеральные солидарности (союзы) могут объединиться в единый международный союз. Последний, писал он, опирается «на существование автономных государств, объединяемых каждое в одно политическое целое своим историческим прошлым и общностью интересов в настоящем в большей степени, чем единством языка или единством веры»9.
Исходя из своей концепции прогресса, он рассматривал проблему взаимоотношения человека и общества. В статье «Взаимоотношения свободы и общественной солидарности»10 11 Ковалевский выступает против утверждения авторов «Вех» о том, что тирания общественности и неуспех освободительного движения искалечила личность, сломила «в русском человеке мораль альтруизма и общественности». Он считал, что развитие общественности, общественных движений, государственный контроль являются «положительным требованием современной гражданственности, если автономия личности признается не препятствием, а условием развития общественной солидарности»11. Поэтому реформаторы, не учитывающие цели общественной солидарности — справедливости и автономии личности, в своих программах, не будут иметь успеха. Ковалевский утверждал, что «прочным порядком политического устройства могут быть только те образы правления, при которых народ обладает свободой самоопределения в такой же степени, как и входящие в состав его члены, т. е. под условием соблюдения норм права, в свою очередь являющихся вынуждаемыми властью требованиями общественной солидарности»12. В развитии личности он выделял роль организационной функции государства, которое направлено на укрепление солидарности.
Круг теоретических интересов М. Ковалевского чрезвычайно широк. В основе его поисков, как было сказано выше, лежала идея прогресса как роста солидарности и расширения замиренной
8 См.: КовалевскийМ.М. Прогресс// Вестник Европы. Февраль. СПб., 1912. М. С. 259- 260.
9 Там же.
10 См.: Ковалевский М. М. Взаимоотношение свободы и общественной солидарности // Интеллигенция в России. Сборник статей. «Земля». 1910. С. 62.
11 Там же. С. 88.
12 Там же.
среды. Солидарность, которая является важным фактором «обще-жительства», имеет условия развития, они различны в разные периоды. В период капиталистического хозяйства особое значение приобретают экономические и политические интересы. Важную роль Ковалевский отводил государству, развитию общественных институтов, от которых зависит формирование социального законодательства, закрепляющего нормы и соглашения. Он надеялся, что «так называемое социальное законодательство в недалеком будущем введет экономическую конкуренцию в те пределы, при которых свобода соглашений и охраняемая ею автономия личности не будет препятствовать проявлению взаимной заботливости экономических классов о сохранении и упрочении начала общественной солидарности»13. В работах Ковалевского в конкретной форме представлены основы социального государства. С идеей солидарности связаны нравственные нормы жизни как личности, так и общности и общества. Он утверждал, что рост чувства солидарности внушает нормы поведения, противостоящие инстинктам, которые характерны для животного мира. Это показано в его статье «Происхождение идеи долга» на примере того, как происходила эволюция понятия долга.
Эти и многие другие идеи представлены в статьях первого раздела настоящего издания14.
Вторую часть книги составляют труды по истории социальнофилософских идей, где дается анализ различных традиций, школ, а также раскрывается опыт творчества конкретных ученых. Этот раздел чрезвычайно интересен, так как он представляет статьи, написанные человеком с очень широким кругозором, и глубоким пониманием сути различных концепций и творчества конкретных ученых. Кроме того, как подчеркивали исследователи его творчества, Ковалевский умел как никто понимать смысл и изгибы чужой мысли и лично «был знаком с видными представителями социологии самых различных направлений, всегда оставаясь самим собой» 15. Все его историко-социологические статьи характеризуются
13 Ковалевский М. М. Дарвинизм в социологии. М., 1910. С. 158.
14 Подробно социологические взгляды М. Ковалевского изложены в статье Н. С. Тимашева «Социологические теории Максима Ковалевского», представленной в наст, издании в переводе Н. Гусевой.
15 Вагнер В. А. М. М. Ковалевский в вопросах просвещения //М.М. Ковалевский. Ученый, государственный деятель и гражданин. С. 98.
чрезвычайным уважением к рассматриваемым концепциям, идеям и их авторам. Даже критикуя оппонента, Ковалевский отмечает положительные моменты в современных ему работах и в историческом аспекте, при этом каждая его работа пронизана активным представлением понимания проблем самим Ковалевским, и его авторской концепцией.
Некоторые биографы Ковалевского писали, что его огромное историко-социологическое, в целом гуманитарное наследие определялось его «просветительским духом» (С. Гогель). Необходимо отметить также его огромный интерес к научным поискам и творчеству в целом. М. Ковалевским написано несколько десятков статей о творчестве европейских и российских ученых — социологов, философов, историков. В них проявляется глубокое знание источников, реализация сравнительной методологии в основательном историческом срезе, а также энциклопедические знания автора, на что обращали внимание многие исследователи его творчества.
Статьи второго раздела — это работы, затрагивающие историю европейской мысли, периода формирования социологии как науки. В них представлен основательный анализ взглядов авторов, с чьими именами связано становление социологии. Так, анализируя идеи Кондорсе, Ковалевский называет его «творцом той новой науки, которая в гораздо большей степени, чем построения Вико, приближается к современной нам истории культуры и гражданственности», предложившего «формулу человеческому прогрессу»16, которая, по его мнению, стала основой построения истории цивилизации, или контовской социальной динамики. Ковалевский подчеркивает, что идеи позитивизма были определены Кондорсе, который утверждал, что общественные науки приобретают точность наук физических и используют их методы17.
Содержательно представлены взгляды других зачинателей социологии — Монтескье, Руссо, Спенсера и др. Говоря о Монтескье и Руссо, Ковалевский представляет их общие взгляды, определившие социологические идеи новейшего времени. При этом он особое внимание уделяет и политическим взглядам, считая их важной частью социологического воображения.
’ Интересна и актуальна статья о Спенсере, с которым автор тесно общался, будучи в Лондоне. Эта работа не повторяет раздел
16 Ковалевский М. М. Кондорсе // Вестник Европы. 1894. Февраль.
17 Там же.
о нем в его книге «Социология». В представленной статье излагается суть социальной доктрины Спенсера, которая определена его органистическими взглядами и принципами эволюции. Ковалевский утверждает, что социальная доктрина Спенсера — это английский радикализм, «кладущий в основу всего общественного и государственного уклада начала свободы и равенства». В статье дается подробный анализ основных моментов социальных взглядов великого ученого. Особое внимание уделяется вопросам свободы, равенства, собственности, справедливости и роли государства в их реализации. В конце статьи М. Ковалевский восклицает: «Да позволено же будет мне закончить этот очерк словами, что Спенсер так много сделал для начинающейся науки социологии, что имя его смело может быть поставлено рядом с именем Огюста Конта, ее основателя»18.
В его исследованиях истории общественной мысли особое место занимают традиции французской социологии. Это связано, по крайней мере, двумя моментами: во-первых, французские ученые, наряду с английскими, в конце XIX — начале XX века были лидерами в развитии социологии и антропологии, что не раз подчеркивал Ковалевский в своих работах. Во-вторых, Ковалевский почти 18 лет жил во Франции, где непосредственно общался со многими учеными страны и этот период связан с его активной социологической деятельностью. Французские социологи подробно представлены в работах «Современные французские социологи» и «Очерк истории развития социологии в конце XIX и в начале XX века».
В статье дается подробный обзор развития социологических исследований во Франции конца XIX и начала XX века. Упоминаются работы Дюркгейма, Леви-Брюля, Сенара, Бугле, Рене Вормса, основателя «Международного института социологии», Фулье (отца и сына), Гюйо и др., которые стояли у истоков французской школы социологии. Рассматривая содержание их работ, Ковалевский подчеркивает, что многие исследования идут в русле генетической социологии, которую он активно развивал.
Ковалевский считает, что, если за последние четверть века не возникло новых доктрин, это не значит, что не велась социологическая работа. «Я лично далек от такой мысли. Четверть века прошли не
18 Ковалевский М. М. Социальная доктрина Спенсера. Русская военная школа общественных наук в Париже // Лекции профессоров РВШ / Под ред. Е. В. де Роберти, Ю.С. Гамбарова. СПб., 1905.
даром»,— пишет Ковалевский19. За этот период многие гипотезы и факты, особенно этнографические и исторические, обобщены социологическим образом, «явилась возможность строить на добытых обобщениях все новые и новые гипотезы». Но при этом, пишет Ковалевский, некоторые «стародумы» при использовании социологами фактов конкретных наук будут повторять обычную фразу. «Это не социология, это антропология, этнография, история, психология». Подобные утверждения не останавливают ученых, и Леви-Брюли и Дюркгеймы «строят генетическую социологию на положительном фундаменте строго проверенных наблюдений этнографов и фольклористов». В результате научной интеграции выводы и обобщения этого направления не лишены социологического интереса.
Особенно интересными сегодня являются анализ работ Тарда. Последнему посвящена отдельная статья, которая включена в настоящее издание. Ковалевским высказывается суждение, что, «современные социологии Франции только углубляют положения своих предшественников, подкрепляя их в то же время новыми фактами и соображениями» 20.
Знакомство с работами Ковалевского по истории французской социологии убеждает нас в том, что историю социологических идей невозможно изучать без этого опыта. Автор, как мы говорили, имеет двойную информацию. Он лично знал и общался со многими из тех, о которых пишет, и был прекрасно знаком с их работами. Содержательность текстов, кроме сказанного, определяется и позицией автора. Он воспринимает концепции той или иной школы, того или иного автора через свое понимание, свою концепцию. В конце анализа развития социологии во Франции делается вывод: «Социология действительно является наукой не только зарождающейся, но и зародившейся, и современным ее ревнителям остается только продолжать и укреплять давно начатое дело»21.
Историко-социологические очерки М. Ковалевского — это один из первых опытов обобщения идей развивающейся науки как в мире, так и в России. Из отечественных социологов ранее М. М. Ковалевского только Н. И. Кареев представил картину развития
19 Ковалевский М.М. Современные французские социологи // Вестник Европы.
1913. Июль.
20 Там же.
21 Там же.
социологии, особенно российской. Интерес к российским традициям развития общественных идей у Ковалевского связан в первую очередь с тем, что он был патриотом отечественной науки и России. Весьма содержателен, например, очерк о социально-философских дискуссиях славянофилов и западников о путях исторического развития России, где рассматриваются взгляды братьев Киреевских, Краевского, Одоевского, Шевырева и их оппонентов Чаадаева, Печерина, Герцена. Анализируя суждения этих двух течений, зародившихся в 30-40 гг. XIX века, Ковалевский писал: «Если Чаадаев в 1845 году... осмеивал то новое течение, которое, независимо от партий, приводило русских людей к невероятному бахвальству и к совершенному извращению всего исторического процесса, то он (Чаадаев,— А. Б.), быть может, недооценивал той роли, какую в утрировке здравых в конце концов мыслей о самобытности нашей культуры, нашего исторического процесса, играла его странная попытка низвести это прошлое к нулю»22. Это суждение Ковалевского показывает, что он не поддерживает ни одно из этих движений, но не отвергает их, т. е. в каждом из них по-своему трактуется будущее России, ее связи с остальным миром, с Европой. В любом случае эти опыты показывают пробуждение общественного сознания россиян и формы поиска исторического пути, утверждал он.
Проблема взаимодействия умственных течений и их влияние на русскую культуру освещается в нескольких статьях Ковалевского. Так, интересна статья о борьбе немецкого и французского влияния на русскую общественную мысль в конце XVIII и в первой половине XX столетия, которое при царствовании Александра I было определяющим, французской литературой зачитывались и русские реформаторы,— пишет он. Издавались книги Монтескье, Делольма, Руссо, Вольтера и др. Французское влияние, привнося принципы либерализма, было эффективным для российского общества. С 1812 года оно замедляется. В переориентации на немецкие традиции большую роль играли, по мнению Ковалевского, немецкие университеты, особенно Геттингенский, который отличался хорошей организацией обучения, демократичностью профессоров и космополитичностью. Образование в Геттингенском университете получили Николай Тургенев, Михайловский-Данилевский, Куницын, Галич и многие
22 Ковалевский М.М. Философское понимание судеб русскдго прошлого мыслителями и писателями 30-х и 40-х годов // Вестник Европы. 1915. Кн. 12. Декабрь.
другие. Традиции немецкой культуры и социально-философские идеи начали овладевать прогрессивными умами российского общества. Например, Галич был первым, кто познакомил русских читателей с Шеллингом, что послужило быстрому распространению шеллингианства. Ковалевский дает подробный анализ этого процесса на российской почве, что должно заинтересовать философов, которые, к сожалению, мало используют в своих исследованиях труды Ковалевского. Кстати, с давних пор почему-то существует мнение, что он не любил метафизику по опыту своего учителя О. Конта и всячески избегал философской схоластики. Включенные в этот сборник работы свидетельствуют о том, что Ковалевский не пренебрегал философскими изысканиями, активно исследовал опыт становления философских традиций в России и их своеобразие. В целом Ковалевский в своих статьях показал линии взаимодействия российских духовных традиций с европейской и выступал против однобокого влияния одной традиции на нашу культуру. Эта проблема актуальна и сейчас, когда российская современная гуманитарная мысль в своих направлениях разделилась на те же движения, которые существовали в России с начала 30-х годов XIX века. Работы Ковалевского чрезвычайно актуальны сегодня и с той точки зрения, что открытие «новых Америк» в обсуждении специфики российских духовных исканий и взаимодействий не привнесет должного научного прогресса.
Представленные работы говорят о том, что Ковалевский активно интересовался историей общественной мысли Европы и своего отечества — России, в частности социологии. Российским социологам Ковалевский посвятил ряд работ, написанных в основном в последние годы его жизни. Замечание Н.И. Кареева в том, что он не включил русских социологов, принимавших участие в обсуждении тех же проблем, что и западные, в свою книгу «Современные социологи» можно считать необоснованным. Ковалевским созданы очерки о жизни и творчестве многих отечественных социологов и других гуманитариев, творчество которых высоко оцениваются с точки зрения вклада их в социологию и в целом в социальную мысль. Это статьи о Н. А. Чернышевском, Л. Н. Толстом, И. С. Тургеневе, . А. И. Чупрове, И. И. Иванюкове, Е.В. Де Роберти, С. А. Муромцеве, А. И. Герцене, Н. К. Михайловском, В. О. Ключевском, которые не вошли в данное издание.
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что анализируя научные воззрения западных ученых, Ковалевский соотносит их
взгляды с взглядами и трудами соотечественников, что весьма справедливо.
К сожалению, объем данного издания не позволяет включить работы по политической социологии и политологии. Подобные исследования занимали в творчестве Ковалевского большое место, и его можно считать одним из зачинателей отечественной научной традиции по этим направлениям. Опыт его чрезвычайно интересен и актуален. Сегодня, с развитием этих научных направлений, необходимо переиздание и этих работ, которые, к сожалению, недостаточно включены в научный и учебный процесс.
В книгу не вошли также те работы, которые в разных вариантах переизданы в последние годы в качестве учебных пособий.
Надеюсь, что настоящее издание будет способствовать расширению кругозора заинтересованного читателя и познанию творчества выдающегося ученого, зачинателя отечественной академической социологии.
В работах Ковалевского, как писал С. Котляревский, историк и его современник, обнаруживается «неустанное стремление к знанию, стремление охватить широкие его перспективы, вера в развитие человечества, соединенные с благожелательной и мудрой терпимостью к людям». Труды Ковалевского важны не только как носители определенной информации, но и как проявление души, духовных исканий автора.
Выражаю благодарность за активную помощь в подготовке издания зам. директора библиотеки им. А. М. Горького М. Э. Карповой, сотрудникам факультета социологии СПбГУ В. М. Павловой и Т.Н. Бариновой.
Погетный председатель Социологигеского общества им. М. М. Ковалевского
. профессор А. О. Воронове
Материалы для биографического словаря действительных членов
Императорской Академии наук * ;
‘ '« । . ’ ’>' '1 V;
il • ' ' цУ'" Г < V. )
’9. 444. 4 4 '
Ковалевский Максим Максимович родился в 1851 году 27 августа, в Харькове. До 14 лет получал домашнее образование, затем поступил в 3-ю Харьковскую Гимназию, в 5 класс; по окончании ее с золотой медалью прошел курс юридических наук в Харьковском Университете, где, под влиянием Д.И. Каченовского, с 3-го курса стал заниматься государственными науками. Выйдя кандидатом прав 21 года от роду, оставлен был при Университете для приготовления к профессорскому званию по государственному праву. За смертью Д. И. Каченовского уехал заниматься своим предметом сперва в Берлин, где слушал лекции Гнейста, Нича, Бруннера, а затем в Париж, где, кроме лекций, занялся работами в Архиве и Библиотеке по истории административной юстиции во Франции. Эта работа потребовала посещения им Монпелье, Экса в Провансе, Люна и Руана, где он работал в департаментских архивах и городских библиотеках. После двухгодового пребывания в Париже пробыл год в Лондоне, не посещая лекций, но занимаясь работою в библиотеке Британского Музея и в Центральном Архиве. Летом ездил по Швейцарии, где и собрал материал для первой своей печатной работы, озаглавленной: «Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт». Работа эта вышла в Лондоне на русском языке в 1876 году и была переведена на немецкий язык по почину Цюрихского профессора и редактора «Журнала истории швейцарского права» Виса. В следующем, 1877 году Ковалевский печатает одновременно результаты своих работ в Англии и Франции, ^первые — в Праге, вторые — в Москве. Первая озаглавлена: «История полицейской администрации в английских графствах с древнейших
* Печатается по: Материалы для биографического словаря действительных членов Императорской Академии наук. Пг., 1907. С. 311—322.
времен до Эдуарда III», вторая — «Опыты по истории юрисдикции налогов во Франции с XIV в. до смерти Людовика XIV». В том же 1877 году Ковалевский выдерживает в Москве магистерский экзамен, после чего приглашен преподавателем государственного права Европейских держав на Юридическом Факультете. В следующем, 1878 году он защищает публично диссертацию на степень магистра, для чего представлена им его «История полицейской администрации» с приложением особых материалов, собранных им в Архиве и вышедших отдельным томом в Лондоне. Два года спустя выходит его докторская работа: «Общественный строй Англии в конце Средних веков» (Москва, 1880 г.).
Во время своего пребывания в Москве, между 1878 и 1880 годами, выходит под его редакцией и редакцией профессора (впоследствии академика) В.Ф. Миллера: «Критическое Обозрение». Некоторые статьи, помещенные в нем Ковалевским, выходят затем отдельными изданиями под заглавием: «Историко-сравнительный метод в юриспруденции», «Английская конституция и ее историк Стеббс». Под его же редакцией выходят в русском переводе Фриман и Стеббс: «Очерки по истории английской конституции» и Мэн: «Древний закон и обычай» (в переводе В. Дерюжинского).
В 1879 году Ковалевский печатает также отдельным томом сочинение под заглавием: «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения».
После защиты докторской диссертации Ковалевский на два года уезжает в заграничную командировку. Он проводит часть времени в Италии и Испании и уезжает затем в Соединенные Штаты Америки. В Италии он работает в городских архивах Флоренции, Перуджии, Ассизии, Болоньи, Фаэнцы, Форли, Сиены и в библиотеках Флоренции и Рима; в Испании — в архиве Арагонского королевства в Барселоне, в Толедо, Эскуриале и в рукописном отделении Исторической Академии в Мадриде. Этим материалом Ковалевский пользуется в главах своего главного сочинения: «Экономический рост Европы»,— в главах, посвященных истории землевладения, истории цеховой организации и труда в Средневековой Италии и Испании. По возвращении в Россию он из года в год читает разные курсы: один год по государственному праву Европейских держав, другой — по сравнительной истории права и учреждений. Часть этих курсов появляется в печати под заглавиями: «История семьи» «История рода».
В. Ф. Миллером он увлечен в поездку с этнографическими целями на Кавказе, посещает с ним осетинские и татарские села на северном
склоне главного хребта и собирает материал для сочинения, вышедшего затем в Москве, в 1886 году, под названием: «Современный обычай и древний закон». Это сочинение выходит в 1893 году на французском языке в Париже, у книгоиздателя Лароза.
Свои поездки на Кавказ он возобновляет затем еще два раза, посещая в обществе проф. Иванюкова — горную и княжескую Сванетию, а в обществе проф. Гамбарова — Хевсуретию, Тушетию, Пшавию. Эти поездки составляют материал для нового двухтомного сочинения: «Закон и обычай на Кавказе», который выходит уже после получения Ковалевским его отставки, в год оставления им России для преподавания — сперва в Стокгольме, а затем — в Оксфорде.
Курс, читанный им в Стокгольме, появляется под заглавием: «Tableau des origines et de 1’evolution de la famille et de la propriete» Лекции эти переведены и на русский язык Иолшиным (СПб., 1895 г.), и на испанский — в 1913 году. Лекции, читанные в Оксфорде, появляются на английском языке под заглавием: «Modem Custom and Ancient law in Russia» («Современный обычай и древний закон в России»).
Ковалевский привлечен Р. Дарестом к сотрудничеству в издаваемой им, совместно с профессорами Эсменом и Тардлером, «Nouvelle Revue historiquede droit», где он печатает «Etudes sur le droit coutumier russe». Ковалевский участвует также в Лондоне в «Archaeological Review» («Археологическом Обозрении»), издаваемом Томом и Нэтом, и читает рефераты на Съезде Британской Ассоциации наук в Оксфорде, на Конгрессе религий в Лондоне (об Иранской культуре на Кавказе), на Конгрессе сравнительной истории права в Париже в 1900 году и на повторяющихся каждые три года Съездах Международного Института социологии. Новый Брюссельский Университет приглашает его в число своих преподавателей. В числе других курсов он читает здесь «Очерк истории экономического развития Европы», который выходит затем в форме отчетов в Брюссельской периодической печати и в полном виде, на русском языке, в издании Павленкова под названием: «Развитие народного хозяйства на Западе» и выдерживает два издания.
За свое восемнадцатилетнее пребывание на Западе Европы Ковалевский печатает в изданиях Одесского Археологического Съезда мемуар «О Венецианской колонии Тана близ теперешнего Азова», написанный им на основании рукописных данных . Венецианского архива, и издает на русском языке два сочинения: «Происхождение современной демократии» (в изд. К. Солдатенкова;
оно начинает выходить томами с 1895 г.) и «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства» (три тома, вышли в 1898, 1900 и 1903 гг.). В переработанном и восполненном виде это сочинение вышло на немецком языке в семи томах, в издании Prager’a. Некоторые томы «Происхождения современной демократии» выходят на французском языке, в числе их том, посвященный падению Венеции. На том же языке появляются лекции, читанные Ковалевским во Французской Высшей Школе общественных наук, под заглавием: «Tableau du regime economique de la Russie» в «Международной Социологической Библиотеке» (переведены затем и на русский язык). В той же «Библиотеке» вышло два тома его труда «Об экономическом и социальном положении Франции накануне Революции». К этим томам Ковалевский прибавил еще том, изданный им на русском языке и не пущенный в продажу: «Происхождение мелкой крестьянской собственности во Франции» (1912 г.).
В 1901 году Ковалевский уезжает вторично в Америку, по приглашению Чикагского Университета. Лекции, им читанные, появляются затем под заглавием: «Russian political Institutions». Это сочинение выходит затем в Париже, в «Политической Библиотеке», издаваемый проф. Жэзом.
Со времени возвращения в Россию Ковалевским издано три тома сочинения под заглавием: «От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму». В 1905 году выходит в России книга Ковалевского, озаглавленная: «Современные социологи», а в 1908-1909 годах — два тома «Социологии». В 1914 и 1915 годах Ковалевский печатает в издании Бр. Гранат «История нашего времени» — отдельным выпуском работу под заглавием: «Социология в XX веке», а в «Итогах Науки» (изд. «Мир») — два выпуска, под заглавием: «Происхождение семьи, рода, племени, собственности, государства и религии». Наконец, в предпринятом им вместе с Е. В. Де Роберти издании: «Новые идеи в социологии» появляется статья Ковалевского (Сборник 4-й, 1914 г.) под заглавием: «Обособление дозволенных и недозволенных действий».
М. М. Ковалевский избран был членом корреспондентом Французского Института (Академия нравственных и политических наук) по предложению Эсмена на место, оставшееся свободным за смертью К.П. Победоносцева; членом Академии Законодательства в Тулузе, по предложению проф. Бриссо; членом Итальянской Societa d’historia patria — за книгу «О падении Венецианской независимо
сти»; членом-корреспондентом (1899), а затем (29 марта 1914 г.) — действительным членом Императорской Академии Наук.
Ковалевский приступил к своим работам по сравнительной истории учреждений в тот момент, когда на Западе Европы стало все яснее сказываться сознание тесной зависимости, в какой стоят между собою экономические, социальные и политические явления. В немецкую литературу эта точка зрения в значительной степени проникла благодаря Лоренцу Штейну, автору «Социальной истории Французской революции», и Гнейсту, считавшему себя его учеником. Ковалевский был слушателем обоих: одного в Вене, другого — в Берлине. Но прежде, чем попасть в заграничные Университеты, он, еще будучи студентом в Харькове, по совету покойного П. П. Цитовича, прочел «Курс положительной философии» О. Конта, останавливаясь с особенным вниманием на последних трех томах этого сочинения. С сравнительной историей права он впервые ознакомился еще в Харькове из двухгодового курса проф. Стоянова. Лекции Бруннера в Берлине по истории германского права и Нича — по сравнительной истории политических учреждений только укоренили в нем мысль о значении, какое представляет изучение истории землевладения для понимания в разные эпохи и социальной группировки общества, и его политического уклада. Когда появились книги Мэна о «Сельской общине на Востоке и Западе» и «О ранней истории учреждений» и книга Лавеле — «О первобытной собственности», то у Ковалевского сложилось определенное желание, во-первых, углубить вопрос о коллективных формах земельного пользования и доказать на основании положительного материала, что они не связаны необходимо с народной психологией славян и германцев. С этой целью предприняты были им работы об общинном землевладении во Французской Швейцарии и о господстве тех же коллективных форм пользования у столь разноплеменных народностей, как краснокожие Мексики и Перу, арабы Алжира и арийские племена, населяющие Индостан. Позднее,— желание дать еще более широкое обоснование той же мысли заставило его читать лекции по сравнительной истории землевладения, напечатать первые два тома «Экономического роста Европы», по-' священные истории землевладения на Западе, и подымать в своих лекциях,— как в Оксфорде, так и в Париже,— вопросы, связанные с прошлым и настоящим русской сельской общины, а в Англии им поднят был вопрос о том, в какой мере родовая община вызвала к жизни систему круговых порук, еще державшуюся в Норманнский
период ее истории. Ковалевский в своей магистерской диссертации пожелал выяснить, существует ли какая-либо связь между этими видами коллективной ответственности жителей «сотни» и «десят-ни» и родовой общиной англосаксов. Он пришел к отрицательному заключению, объяснил происхождение круговой ответственности теми отношениями, какие после завоевания установились между меньшинством Норманнских выходцев и побежденными саксами Англии, связал с полицейскими союзами круговой ответственности происхождение института обвинительных присяжных, периодических смотров, производимых этим союзом, высшим администратором графства — шерифом, и самое происхождение мирового института сперва в форме полицейской должности охранителей мира (conservatores pads), ставших затем мировыми судьями.
В 1870-х годах стала складываться бок о бок с сравнительной историей права и сравнительная этнология. В трудах Тэйлора, Мак-Ленана и Бахофена, Моргана и Поста она выставляла требование пересмотра ходячих теорий о происхождении семьи, рода, собственности, государства, основанных историческою школой правоведения на разборе одних древних юридических памятников и архаизмов, уцелевших в обычном праве. Ковалевский пошел в этом направлении; отсюда — его работы по первобытному праву, его книги; «Современный обычай и древний закон» и «Закон и обычай на Кавказе», его лекции в Стокгольме по истории семьи и, наконец, его попытка построения по генетической социологии, как во втором томе его курса «Социологии», так и работы, напечатанные в «Итогах Науки».
История политических учений излагалось до последнего времени в тесной зависимости от истории философии вообще и от истории нравственных доктрин в частности. Ковалевский пожелал связать ее с историей учреждений. Этим объясняется появление его четырехтомного сочинения; «От прямого народоправства к представительному и от неограниченной монархии — к парламентаризму». 4-й том этого сочинения был сожжен в рукописи вместе с типографией Сытина, где она хранилась, в момент подавления вооруженного восстания в Москве в 1915 году,— поэтому сочинение осталось недоконченным. Ковалевский возобновил занятия вопросами, изложенными в этом томе, в своих лекциях по истории политических учений на экономическом отделении Петроградского Политехникума.
В своих пяти томах, озаглавленных: «Происхождение современной демократии», Ковалевский выделил определенный период
сравнительной истории учреждений,— период перехода неограниченных монархий и олигархических республик к более широкому народоправству. Преследуя цель раскрытия, на основании положительного материала, связи экономического, социального и политического уклада, он в этих томах останавливается весьма подробно на эволюции собственности — движимой и недвижимой, на строе промышленности и созданном эволюцией промышленности положении рабочих, на классовой и опирающейся на ней сословной организации и на той обусловленности социальным строем строя политического, какая выступает и в пережитом Францией перевороте 1789 года, и в падении аристократических республик, типом которых является Венецианская. Обширные статьи, написанные им о росте Американской демократии и только частью напечатанные в сборнике Петрункевича, должны войти в состав особого тома «Происхождения современной демократии». И для других, более ранних эпох, в частности для XIV и XV веков в Англии, Ковалевский сделал попытку подставить под картину политического строя, нарисованную Стеббсом в его «Конституционной истории Англии в Средние века», фундамент экономических и социальных явлений.
Занимающий большую часть 3-го тома «Экономического роста Европы» очерк рабочего законодательства второй половины XIV века всех важнейших стран Европы также преследует цель показать связь социального и политического факторов, в свою очередь обусловленных таким био-социальным явлением, как внезапное уменьшение густоты населения под влиянием обошедшей весь мир моровой язвы 1848 года. Ту же мысль о тесной зависимости био-социального фактора — роста населения и его уплотнения — с экономическим укладом проводит Ковалевский и в своем сочинении: «Развитие народного хозяйства на Западе». Наконец, зависимость экономических доктрин от самых перемен в экономическом строе проводится им в неизданных еще лекциях по истории политической экономии в связи с историей народного хозяйства, читанных им в Русской Высшей Школе общественных наук в Париже в течение трех лет, а также в отдельных главах «Происхождения современной демократии».
Таким образом, внешняя разбросанность научных работ ' Ковалевского вызвана его желанием проверить на материале, взятом у разноплеменных народов Европы, несколько основных положений, весьма немногих по своему числу и тесно связанных с выяснением поступательного и более или менее параллельного хода экономических, социальных и политических явлений. В этом
отношении работы Ковалевского примыкают к тому направлению, которое с 70-х годов прошлого столетия сказалось в сочинениях историков, юристов и этнографов, придерживавшихся сравнительно-исторического метода. Основы этого метода и связанных с ним приемов Ковалевский излагал дважды: сперва в монографии, посвященной этому вопросу, а затем в сборнике, изданном проф. Гамбаровым по методологии правоведения.
М. М. Ковалевский скончался в Петрограде 23 марта 1916 года.
1. Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт, Лондон. 1876, 8°, 38 стр. Немецкий перевод — Zurich. 1877.1876.
2. Опыты по истории юрисдикции налогов во Франции с XIV века до смерти Людовика XIV. Т. I. Юрисдикция налогов в провинциях, удержавших сословное представительство. Вып. I. Происхождение юрисдикции налогов во Франции,— Юрисдикция налогов в Лангедоке, М. 1876, 8°, X-XXIV-186-VII стр.
3. Полиция рабочих в Англии в XIV веке и Мировые судьи, как судебные разбиратели споров между предпринимателями и рабочими, Лондон. 1876,8°, 36 стр.
4. История полицейской администрации полицейского суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III. К вопросу о возникновении местного самоуправления в Англии, Прага. 1877, 8,2-219 стр. (магист. диссертация). 1877.
5. Собрание неизданных актов и документов, служащих к характеристике английской полицейской администрации в XII, XIII и XIV веках, предшествуемое монографией о полиции рабочих в Англии в XIV веке. Приложение к Истории полицейской администрации в Англии, Лондон. 1876,8°.
6. О методологических приемах при изучении раннего периода в истории учреждений. (Вступительная лекция к курсу сравнительной истории права) — Юрид. Вести. 1878 [отд. отт., М. 1878, 8°]. 1878.
7. Критическая заметка. Материалы для изучения Болгарии — BE. 1878, № 3.
8. Общинное землевладение. Причины, ход и последствия его разложения. Ч. I. Общинное землевладение в колониях и влияние по земельной политики на его разложение, М. 1879, 8°. 1879.
9. Иностранные влияния на политическую мысль Англии в XII и XIII столетиях — Юрид. Вести. 1879, кн. I, II й VII.
10. Критическое Обозрение. Журнал научной критики и библиографии в области наук историко-филологических, юридических, экономических и государственных. Редакторы-издатели Вс. Миллер и М. Ковалевский, М. 1879 и 1880 г.
11. Э. Фриман и В. Стеббс. Очерки по истории английской конституции. Перевод с английского студентов Московского Университета под редакцией М. Ковалевского. М. 1880,8°. 1880.
12. Английская конституция и ее историк Стеббс. Издание А. Л. Васильева, М. 1880.
13. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права, М. 1880.
14. Общественный строй Англии в конце Средних веков, М. 1880, 8°, 396 стр.
15. Поземельная политика северо-американцев — РМ. 1883, кн. 4.1883.
16. Поземельные и сословные отношения у горцев Северного Кавказа — РМ. 1883, кн. 12.
17. Г. С. Мэн. Древний закон и обычай. Исследования по истории древнего права. Перевод с английского А. Амона и В. Дерюжинского, под редакцией М. Ковалевского. Издание редакции Юридического Вестника, М. 1884.1884.
18. В городских обществах Кабарды — BE. 1884, № 4.
19. О труде г. Иванюкова по истории крепостного права в России — Юрид. Вести. 1884, кн. 5.
20. Шестой Археологический Съезд в Одессе — BE. 1884, № 12.
21. Местное самоуправление в Америке — BE. 1885, № 2.1885.
22. Памяти графа А. С. Уварова — BE, 1885, № 2, стр. 883.
23. Национальный вопрос В Старом и Новом свете — BE. 1885, №6.
24. Некоторые архаические черты семейного и наследственного права осетин — Юрид. Вести. 1885, кн. 6-7.
25. Общинное землевладение в Малороссии в XVIII веке — Юрид. Вести. 1885, т. XVIII.
26. Некоторые архаические черты семейного и наследственного права - Юрид. Вести. 1885, т. XIX.
27. Первобытное право. Вып. I. Род. Вып. II. Семья, М. 1886, '8°. 1886.
28. Современный обычай и древний закон. Т. I—И. Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении, М. 1886. Есть перевод на французский язык, изданный в 1893 г., в Париже, у Лароза.
29. У подошвы Эльбруса — BE. 1886, № 1 и 2.
30. О русских и других православных рабах в Испании — Юрид. Вести. 1886, т. XXI, № 2.
31. Древнегерманская марка. (Ответ Фюстель-де-Куланжу) — Юрид. Вести. 1886, кн. 4 [отд. отт.].
32. Кризис в западных конституциях — BE. 1886, № 5.
33. Взгляд на историю и современное состояние местного самоуправления в Англии — Юрид. Вести. 1836, кн. VI—VII.
34. В Сванетии — BE. 1886, № 8 и 9.
35. Происхождение частного землевладения у аллеманов — Юрид. Вести. 1887, кн. I и II. 1887.
36. Взгляд на историю русской дипломатии в Швеции. (На основании данных Королевского Архива в Стокгольме) — Юрид. Вести. 1887, кн. V.
37. Секуляризация монастырской собственности в Англии — РМ. 1888, кн. 1 и 2.1888.
38. Пшавы. (Этнографический очерк) — Юрид. Вести. 1888, кн. И.
39. Родовое устройство Дагестана — Юрид. Вести. 1888, кн. XII.
40. Early English Land Tenures, I. Mr. P. Vinogradoff s work — Law Quarterly Review, vol. IV, London. 1888, p. 266.
41. Сельская община в Закавказье — Юрид. Вести. 1889, кн. VI. 1889.
42. Декларация прав человека и гражданина — Юрид. Вести. 1889 г., кн. VIII.
43. Закон и обычай на Кавказе, т. I и И, М. 1890.1890.
44. Взгляд на происхождение и развитие семейства и собственности, С.-Пб. 1890.
45. Tableau des origines et de revolution de la famille et de la propriete, Stockholm. 1890. Есть испанский перевод, изд. 1913 г.
46. Общественный строй Англии в эпоху республики. С.-Пб. 1891.1891.
47. Modern Custom and Ancient Law in Russia, 1891 (лекции, читанные в Оксфорде).
48. Родоначальники английского радикализма — РМ. 1892, кн. 1, 2 и 3.1892.
49. Труд, как источник права собственности на земле в Малороссии и на Украине. (Перевод с франц. Н. В-ч) — Юрид. Вести. 1892, кн. V-VI.
50. Политическая доктрина Франции прошлого столетия — Юрид. Вести. 1892, кн. XI.
51. Англомания и американофильство во Франции XVIII в. Очерки — BE. 1892, кн. 11 и 12.
52. Социальное законодательство Конституанты — Сборник правоведения и общественных знаний. Труды Юрид. Общ., сост. при Имп. Моск. Унив., т. I, М. 1893.1893.
53. Первая постановка вопроса о всеобщем голосовании — Сборник правоведения и общественных знаний. Труды Юрид. Общ., сост. при Имп. Моск. Унив., т. II, 1893 (?).
54. Coutume conteinporaine et loi ancienne Droit coutumier ossetien, eclaire par 1’histoire comparee, Paris. 1893. См. выше, № 28.
55. Крестьянское хозяйство во Франции сто лет назад. 1893, кн. 2,3 и 4.
56. Рабочий вопрос во Франции накануне Революции — РМ. 1893, кн. 11.
57. Два парламента. Отрывок из истории пуританских движений в Англии — РБог. 1894, кн. 2 и 3.1894.
58. Кондорсэ (1743-1794). Характеристика — BE. 1894, кн. 3 и 4.
59. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. Лекции, читанные в Стокгольмском Университете. Перевод с французского М. Иолшина. (Популярно-научная библиотека Ф. Павленкова), С.-Пб. 1895,8°; изд. 2-е, С.-Пб. 1896, 8°. 1895.
60. Происхождение современной демократии, т. I, И, III, М. 1895, т. IV, М. 1897, 8°. Издание К. Т. Солдатенкова.
61. I dispacci degli ambasciatori Veneti alia corte di Francia, Torino. 1895.
62. Молодость Бежамена Констана. Очерки — BE. 1895, кн. 4 и 5.
64. Английская Пугачевщина — РМ. 1895.
64. Новое издание книги Маурера. (“Einleitung zur Geschichte der Mark-Hof-Dorf- und Stadt-Verfassung und der offentlichen Gewalt”) - PM. 1896, кн. 7.1896.
65. Вопрос о размерах крестьянской собственности до Революции и о том, в чьи руки перешла масса конфискованных у церкви ' земель — РМ. 1896, кн. 8.
66. Месяц в Сицилии. (Очерки) — BE. 1896, кн. 10.
66 а. Le passage historique de la propriete collective a la propriete individuelle. (Extrait du tome II des Annales de 1’Institut International de sociologie), Paris. 1896.
67. Новое сочинение о восстании Уота Тайлора в Англии — РМ. 1897, кн. 5. 1897.
68. Le regime economique de la Russie, Paris. 1898,8 (Bibliotheque sociologique internationale, tome XIV). 1898.
69. Эволюция экономического строя и ее деление на периоды — Образование 1898, кн. 7-8.
70. А. Эсмен, Основные начала государственного права. Перевод с французского Н. Кончевской под редакцией и с предисловием М.М. Ковалевского. Издание К.Т. Солдатенкова, т. I—II, М. 1898-1899,8°.
71. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства, т. I, М. 1898, 730 стр., 8°; т. II, М. 1900, 8°, 998 стр.; т. Ill, М. 1903, 8°. Изд. К.Т. Солдатенкова.
72. Краткий обзор экономической эволюции и ее подразделения на периоды. Перевод с французского В. Палеолог; С.-Пб. 1899,12°. 1899.
73. Развитие народного хозяйства в Западной Европе. Публичные лекции, читанные в Брюссельском Университете, С.-Пб. 1899, 8°, изд. Ф. Павленкова; 2 издания.
74. Происхождение современной демократии. Изд. 2-е, т. I, ч. 3 и 4, М. 1899; т. I, ч. 1 и 2, М. 1901,8°.
75. Morale sociale. Lecons, professees au College libre des sciences sociales par G. Belot, Marcel, Bernes, Brunschwieg, F. Buisson, Dauriac, Delbet, Ch. Gide, M. Kovalevsky... Preface d’Emil Boutroux, Paris. 1899, 8°.
76. Сравнительно-историческое правоведение и его отношение к социологии. Методы сравнительного изучения права — Сборник по общественно-юридическим наукам. Под ред. проф. Ю.С. Гамбарова, вып. I, С.-Пб. 1899.
77. Экономический строй России. (Перевод с французского), С.-Пб. Издание П. Сойкина (Библиотека Научного Обозрения), 1899, 8°.
78. Экономический строй России. Перевод с французского, С.-Пб. 1900. (Приложение к Научному Обозрению 1899 г., № 5). Издание А. Ермолаевой, 8°.
79. Монтескье. О духе законов, или об отношениях, в которых законы должны находиться к устройству каждого правления... Перевод с французского А. П. Горнфельда, со вступительной статьей М.М. Ковалевского, С.-Пб. 1900, 8\ Изд. Л.Ф. Пантелеева. 1900.
80. Международная Школа Парижской Выставки. (Лекция, читанная 13 октября н.с. в Париже) — РВед. 1900 г., № 295 и 300 [отд. отт., М. 1900,8°].
81. Die okonomische Entwickelung Europas bis zum Beginn der kapi-talistischen Wirthschaftsfonn, Berlin, В. 1,1901; В. II, 1902; B. Ill, 1905; В. IV, 1909; В. V, 1911; В. VI, 1913; В. VII, 1914. Изд. Prager’a. 1901.
82. Russian political institutions. The growth and development of these institutions from the beginnings of Russian history to the present time Chicago. 1902,8°. 1902.
83. Rozwoj stosunkow ekonomicznych w Zachodney Europie, Warszawa. 1902,12°. (Biblioteka samoksztalcenia, 1902, № 9-11).
84. Теория заимствования Тарда, M. 1903,8°. 1903.
85. Institutions politiques de la Russie. Naissance et developpement de ces institutions desle commencement de 1’histoire de Russie jusqu’a nos jours. Traduit de 1’anglais par M-me Derocquigny, Paris. 1903,8°.
86. Zarys poczatkow i rozwoju rodziny i wlasnosci. (Wykladyw Uniwersytecie Stockholmskim). Przeklad z francuskiego Marji Gomo-linskiej, Warszawa. 1903,8°.
87. Ю.С. Гамбаров M. M. Ковалевский, Русская Высшая Школа общественных наук в Париже. Изд. Тов. «Науки и Жизнь» Ростов н. Д., 1903, 8°.
88. О задачах Школы общественных Наук — Вести. Воспит. 1903 [отд. отт., М. 1903, 8°].
89. Early Slavonic Law — Law Quarterly Review, vol. XIX, London. 1903, p. 76-83.
90. Этнография и социология — Вести. Воспит. 1904 [отд. отт., М. 1904,8°]. 1904.
91. Происхождение мелкой крестьянской собственности во Франции, С.-Пб. 1905.1905.
92. Современные социологи, С.-Пб. 1905. Издание Л. Ф. Пантелеева, 8°.
93. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом. Опыт в области сравнительной этнографии и истории права. Вып. I—II. Прилож. к жури. «Вестник и Библиотека самообразования» за февр. и март 1905 г. (Брокгауз и Ефрон, Библиотека самообразования), С.-Пб. 1905, 8°.
94. Рабочий вопрос во Франции накануне Революции. (Библиотека Марии Малых, № 53), С.-Пб. 1905,160, 56 стр.
95. Общий ход развития политической мысли во второй половине XIX века. (Всеобщая библиотека Т.Ф. Львовича), С.-Пб. 1905.8°.
96. Русская Высшая Школа общественных наук в Париже. Лекции профессоров. Издание Т. Ф. Львовича, С.-Пб. 1905. Редакция М. М. Ковалевского, его же предисловие статьи: «Социальная доктрина Спенсера», «Исходные моменты в развитии капиталистического хозяйства» и «Взгляд на общий ход развития политической мысли во второй половине XIX века».
97. Действительная природа Государственной Думы. Доклад, прочтенный на заседании Харьковского Юридического Общества 11 сент. 1905 г. — Тр. Юрид. Общ. при Имп. Харьк. Унив. 1905 [отд. отт., Харьк. 1905,8°[.
98. Учение о личных правах — РМ. 1905, кн. 4.
99. Политические доктрины протестантизма во Франции — РМ. 1905, кн. 10.
100. Представительство имуществ не есть представительство населения — Право 1905, стр. 2835-2842.
101. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражение в истории политических учений. Т. I, И, III, М. 1906,8°. Изд. И. Д. Сытина. 1906.
102. Политическая программа нового Союза народного благоденствия. Очерк, С.-Пб. 1906, 8°.
103. Национальный вопрос и равенство подданных перед законом. Книгоиздательство Правда, № 6, Варшава. 1906,16°, 13 стр.
104. Kwestya robotnicza we Francyi w przededniu Rewolucyi, Warszawa. 1906,8°.
105. La crise Russe, 1906.
106. Учение о личных правах, М. 1906.
107. Русская конституция. (Политическая библиотека «Биржевых Ведомостей». Бесплатное приложение к «Биржевым Ведомостям» второго издания, вып. 5-6-й). I. Свободы, С.-Пб. 1906,16°.
108. Что такое Парламент? (Библиотека самообразования, 1906, вып. 2). Издание Брокгауза-Ефрона, С.-Пб. 1906, 8°, 41 стр.
109. Рец. на соч.: 3. Авалов, Присоединение Грузии к России. С.-Пб. 1906 и его же, Децентрализация и самоуправление во Франции, С.-П6. 1905- BE. 1907, № 3.1907.
110. Общее конституционное право. Лекции, читанные в С.-Петербургском Политехникуме 1907-1908. Изд. студ. Н. П-ма (на правах рукописи), С.-Пб. 1908,8°. 1908.
110 а. «Русская Правда» Пестеля - Мин. 1908, № 1, стр. 1-19.
111. Предисловие к книге И. И. Янжула: Как англичане критикуют свои государственные расходы. Ливерпульская ассоциация финансовых реформ. Изд. 2-е, С.-Пб. 1908.
112. Александр Иванович Чупров (По личным воспоминаниям) — BE. 1908, кн. 4.
113. Портсмут — BE. 1908, кн. 6.
114. Портофранко во Владивостоке — BE. 1909, № 1.1909.
115. Общинное землевладение на Западе — ibid., № 3.
116. Устарел ли Гоголь — ibid., № 4.
117. Причины обезземеления крестьян в Англии — ibid., № 4.
118. Две жизни — ibid., № 6 и 7.
119. К оценке недавних событий в Турции — ibid., № 6.
120. Сравнительная история религий, как предмета преподавания - ibid., № 8.
121. Как решен был на Западе еврейский вопрос — ibid., № 9.
122. Мильтон, как поборник народного самодержавия и автономии личности — ibid., № 11 и 12.
123. Обзор русской литературы по государствоведению — ibid., № 12.
124. La France economique et sociale a la veille de la Revolution, 2 тома, Paris. 1909-1911.
125. Социология. T. I: Социология и конкретные науки об обществе. Т. II: Генетическая социология, С.-Пб. 1910, 8°. 1910.
126. Как решен был на Западе еврейский вопрос, М. 1910,16°.
127. Спор о сельской общине в Комиссии Государственного Совета — BE. 1910, кн. 1 и 3.
128. Московский Университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века. Личные воспоминания — ibid., кн. 5.
129. Судьбы общинного землевладения в нашей Верхней Палате — ibid., кн. 6.
130. Финляндский вопрос — ibid., кн. 7.
131. С Выставки — ibid., кн. 10.
132. Сергей Андреевич Муромцев. Опыт его характеристики — ibid., кн. 11.
133. Дмитрий Андреевич Дриль — ibid., кн. 12.
. 134. Баденский период жизни Тургенева — Юбилейный Сборник Литературного Фонда. 1859-1909, С-Пб. 1910.
135. Необходимость общеобразовательных Высших Курсов... (К открытию Высших Курсов в здании Биологической Лаборатории П.Ф. Лесгафта), С.-Пб. 1911,8°. 1911.
136. Значение работ В. И. Сергеевича для сравнительной истории государства — BE. 1911, кн. 1.
137. Земство в шести губерниях Западного края — ibid., кн. 3.
138. Прошлое и настоящее 87-й статьи — ibid., кн. 4.
139. Прошлое и настоящее крестьянского землеустройства — ibid., кн. 5.
140. Знаменитый французский юрист — Дарест — ibid., кн. 5.
141. Очерки социального быта Франции — ibid., кн. 6, 7, 8,10, 11 и 12.
142. В. О. Ключевский (некр.) — ibid., кн. 7.
143. Высшее женское образование — ibid., кн. 6.
144. История Великобритании — Энциклопедический Словарь бр. Гранат и К0, т. VIII и IX [отд. отт., С.-Пб. 1912, 739 стр.]. 1912.
145. Происхождение современной демократии. Изд. 3-е, Книгоизд-ва «Просвещение», т. 1,1912,8°.
146. Происхождение мелкой крестьянской собственности во Франции, С.-Пб. 1912, 8°, 191 стр. (в продажу не выпущено).
147. Социальное законодательство Государственной Думы третьего созыва — BE. 1912, кн. 1.
148. Прогресс — ibid., кн. 2.
149. Равноправие в Финляндии — ibid., кн. 2.
150. Начало Русско-Английского сближения — ibid., кн. 3.
151. Наивный цинизм — ibid., кн. 4.
152. Законодательные заимствования и приспособления — ibid., кн. 5.
153. Иван Петрович Иванюков. Опыт характеристики — ibid., кн. 5.
154. Герцен и освободительное движение на Западе — ibid., кн. 6.
155. 1812-й год — ibid., кн. 7.
-156. Две смерти. Фредерик Пасси. Анатоль Леруа-Болье — ibid., кн. 7.
157. Освободительное движение на Балканах — ibid., кн. 11.
158. Как возникла конституция Французской республики — ibid., кн. 12.
159. Судьба Балкан — BE. 1913, кн. 1.1913.
160. Первое собрание сочинений Лопе-де-Вега на русском языке — ibid., кн. 3.
161. Н.К. Михайловский, как социолог — ibid., кн. 4.
162. Поход Верхней Палаты против суда-присяжных — ibid., кн. 5.
163. Можно ли считать Толстого продолжателем Руссо? — ibid., кн. 6.
164. Две смерти — ibid., кн. 6.
165. Современные французские социологи — ibid., кн. 7.
166. П.А. Столыпин и объединенное дворянство — ibid., кн. 10.
167. Объединенное дворянство и свобода печати — ibid., кн. 11.
168. Эсмен — ibid., кн. 11.
169. Армянский вопрос — ibid., кн. 12.
170. Памяти В. Ф. Миллера — ibid., кн. 12, стр. 360-367.
171. La Russie Sociale, 1914.1914.
172. Чем Россия обязана Союзу объединенного дворянства, С.-Пб. 1914, 8°, 74 стр.
173. Обособление дозволенных и недозволенных действий,— в издании «Новые идеи в социологии», сборн. 4-й, 1914 г.
174. Е. В. Де Роберти. Понятия разума и законы Вселенной. Перевод с французского С. Златковского, под редакцией автора, с предисловием проф. М. Ковалевского, Пгр. 1914, 97 стр.
175. Тени прошлого — BE. 1914, кн. 1.
176. За рубежом. Из переписки русских деятелей за границей; Герцена, Лаврова и Тургенева — ibid., кн. 3.
177. Спасительный тормоз или гибельная запруда? — ibid., кн. 4.
178. Памяти Петра Петровича Семенова — ibid., кн. 4.
179. Прав ли Государственный Совет, отклоняя постатейное рассмотрение проекта о волостном земском управлении — ibid., кн. 6.
180. Франция эпохи Возрождения — ibid., кн. 7.
181. Конфликт Палат из-за закона о государственной росписи — ibid., кн. 7.
182. К вопросу и реформе городского самоуправления — ibid., кн. 8.
183. Судьбы социологии в первые 15 лет XIX века — в издании «История нашего времени». Изд. бр. Гранат, вып. 27 и 28, - 1914-1915.
184. Происхождение семьи, рода, племени, собственности, государства и религии — в книге «Итоги Науки». Изд. «Мир», вып. XXIX, XXX и XXXI, М. 1914-1915,8°.
185. Граф С. Ю. Витте - BE. 1915, кн. 4.1915.
186. Германцы против англичан — ibid., кн. 5.
187. Е.В. Де-Роберти (некр.) - ibid., кн. 5.
188. Армянский вопрос — ibid., кн. 6.
189. Масонство во времена Екатерины — ibid., кн. 9.
190. Борьба немецкого влияния с французским в конце XVIII и в первой половине XIX столетия — ibid., кн. 10.
191. Шеллингианство и гегельянцы в России — ibid., кн. 11.
192. Философское понимание судеб русского прошлого мыслителями и писателями 30-х и 40-х годов — ibid., кн. 12.
193. К стопятидесятилетнему юбилею Вольного Экономического Общества — ibid., кн. 12.
194. Очерки по истории политических учреждений России. Перевод А. Баумштейна, под ред.Е. Смирнова. Издание Глаголева, С.-Пб., s.a.
195. La fin d’une aristocratie, Turin, Восса, s.a.
196. Д.И. Каченовский, Характеристика Д.И. Каченовского в связи с личными о нем воспоминаниями. Сообщение в торжественном заседании Харьковского Юридического Общества Харьков, s.a., 8°.
197. Etudes sur le droit coutumier russe — Nouv. Revue historique de droit.
198. О Венецианской колонии Тана близ теперешнего Азова — Тр. Археол. Съезда в Одессе в 1884 г.
Кроме того, М.М. Ковалевский сотрудничал в Лондонском Archaeological Review, изд. Гома и Нота; основал газету «Страна» в феврале 1909 г., издавал, с 1909 г., «Вестник Европы»; сотрудничал в «Биржевых ведомостях»; был одним из редакторов 7-го издания «Энциклопедического словаря» Товарищества братьев Гранат.
ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ПРОГРЕСС*
Текущею осенью должен был собраться в Риме съезд Международного Института Социологии. Темой, поставленной на обсуждение предполагавшегося съезда, было понятие прогресса и его проявления в сфере научной мысли и художественного творчества, в экономическом и политическом укладе обществ. Съезд не мог собраться ввиду эпидемии. Начавшаяся война Италии с Турцией отсрочила его на неопределенное время; но подготовительный комитет съезда тем не менее озабочен тем, чтобы членами Института выработаны были доклады по отдельным вопросам, входящим в программу съезда,. Один из таких вопросов поручен был и мне. Он гласит: в какой мере можно говорить о поступательном ходе в развитии политических учреждений?
Приступив к выполнению возложенной на меня задачи, я, разумеется, прежде всего остановился на мысли, выраженной еще Контом и внушенной ему его отдаленными и ближайшими предшественниками Тюрго, Кондорсе и Сен-Симоном,— мысли о тесной зависимости между прогрессом и переходом от теологического мышления к метафизическому и научному. Новейшей социологической критикой, как мне кажется, справедливо указано, что основатель положительной философии дал слишком широкое распространение так называемому закону трех стадий. Смена только что указанных способов мышления несомненно определила собою процесс развития положительного знания; но в какой мере экономический и политический строй испытали на себе его всеопределяющее влияние — это еще является вопросом. Рост знания, несомненно, сделался источником развития техники,
* Печатается по: Вестник Европы. СПб., 1912. № 2. Февраль. С. 225-260.
которая в свою очередь не могла не отразиться на изменении экономических порядков; но для того, чтобы явилась необходимость в технических усовершенствованиях и раз сделанные открытия и изобретения нашли себе практическое применение, требуется еще целая сумма условий, независимых от все большего и большего проникновения в тайны природы и в законы человеческого общежития.
Техника вызывается желанием ускорить и потому усилить производство, а нужда в этом чувствуется только при сгущении населения. Таким образом возрастающая плотность его является необходимым фактором в развитии экономики, тесно связанной с ходом техники, т. е. приспособлением знаний к практическим потребностям людей.
Говорить, что те или другие открытия только тогда находят себе широкое применение, когда в них чувствуется потребность в обществе,— то же, что повторять давно установленные истины. Приложение движущей силы пара к водяным и сухопутным сообщениям, как и к ткацкому станку, вызвано было не одними открытиями законов теплоты, но и тем увеличением плотности населения на западе Европы, которое привело к необходимости усилить производство и расширить обмен. На наших глазах происходит не менее грандиозное применение электрической силы, а между тем столетие отделяет нас от эпохи открытия Вольтова столба. После сказанного мудрено будет считать баснословными известия о том, что ряд открытий и изобретений, которыми справедливо гордится европейская культура, имели своей первоначальной родиной страны, занятые желтой расой, народами древнего мира или арабского Востока. Укажу для примера, что кредитные сделки и банки известны были еще за 3000 лет до Р. X., как явствует из самого текста законов знаменитого Вавилонского правителя Гамураби, современника Авраама, что система искусственного орошения полей практиковалась в древности столько же на берегах Тигра и Ефрата, сколько и на берегах Нила, что китайцы претендуют на открытие компаса, что землемерием одинаково занимались и в Греции, и в Риме. Всюду, где рост населения вызывал потребность в применении знаний к технике, следовали открытия и изобретения, отвечавшие современному им уровню науки. Изменялись условия, редело население под влиянием ли нашествий, эпидемий, изменения прежних торговых путей или других причин,— и исчезала подчас самая память о прежнем сравнительно высоком уровне техники.
В связи с сказанным, сомнительной кажется мне всякая попытка приурочить исключительно к новому времени появление тех или других экономических порядков и политических учреждений. Всюду, где сумма знаний и наличность известной скученности населения делали возможным усиление производства и обменов путем техники, там необходимо происходило и накопление капиталов, и образование кредита, т.е. являлись по крайней мере зародыши того менового хозяйства, среди которого мы живем. Знатоку древней Греции Э. Майеру удалось показать, что не только в Афинах, но и на Пелопонесе, сельское хозяйство не было сосредоточено исключительно в руках рабов, что здесь одно время существовал в древности класс мелких крестьян-собственников и возделывателей почвы. И в Риме порядки самодовлеющего хозяйства, выступающие в известном свидетельстве Баррона о бесполезности купли ввиду возможности производить все у себя на дому (omnia domi nascuntur), далеко не передают разнообразие экономических порядков в пределах Республики и Империи и их одно время явное тяготение к мировому хозяйству. Все то движение, какое связано с именами Гракхов и Лициния Столона, имело своей задачей наделение землею свободных по рождению плебеев. Точно так же денежному, а не «натуральному хозяйству», отвечает по своей природе широкий обмен товарами в границах Средиземного моря и прилегающих к нему стран южной Европы, Передней Азии и Северной Африки еще задолго до Рождества Христова. Страны, входившие в состав orbis romanas, не довольствовались в своей экономической жизни узкими рамками домашнего хозяйства, производимого рабами для удовлетворения исключительно потребностей самих хозяев.
И в Средние века при раннем падении крепостного права в городских республиках Италии, в самый разгар борьбы в них буржуазии с владельцами феодальных замков, свободный труд берет верх над несвободным, овладевает не одной промышленностью, но и сельским производством в форме половничества и мелкой крестьянской собственности, не исключающей совместного пользования сельскими угодьями. Мануфактурная деятельность одновременно направлена на удовлетворение потребностей отдаленных рынков и не обходится без закупки сырья за границей. Так, цех 'Калимала занимается во Флоренции обработкой шерсти, вывозимой из Испании и из Англии. В Генте и в Ипре со всей их округой десятки тысяч ткачей готовят далеко не из одной фландрской шерсти сукна, вывозимые Брюгге и его морским портом во все города и страны,
которые обслуживаются торговым флотом Ганзейского союза. Этот союз имеет свои склады и фактории и в нашем Новгороде, и в Риге, и на норвежском берегу в Беркгене, и в самой английской столице, Лондоне. Прирейнские города входят в состав Ганзейского союза и участвуют в его мировых оборотах. На ярмарках в Шампани и Фландрии сходятся торговцы всего запада и кредитные операции, ранее появления чеков, производятся при помощи так называемых lettres de foire, удостоверяющих расплату товаром на одной ярмарке за товар, купленный на другой. Операции сиенских, римских и флорентийских банкиров, совпадая во времени с деятельностью сицилийских менял, получают такое широкое распространение, что должниками известных домов Перуцци и Барди во Флоренции в XIV веке являются и английские короли из династии Плантагенетов; в связи с этим стоит возникновение итальянских банкирских контор в столице английского государства. Одна из улиц лондонской сити доселе сохранила наименование улицы Ломбардцев, как намек о той отдаленной эпохе, когда кредитные операции руководимы были в Англии домами менял и банкиров северной и средней Италии.
Но если, таким образом, нельзя указать такой эпохи, когда бы в древности или в Средние века не существовало стран и народов с достаточной густотою населения и одновременно с техникой, позволяющими им ускорить производство и развить обмены, если нельзя сказать, что накопление капитала и развитие кредита стало известным только в Новое время, то отсюда невозможно еще делать того вывода, что достаточно появления в той или другой местности, у тех или других племен, торговых агентов, посылаемых заграничными фирмами, или открытия отделения того или другого иностранного банка, чтобы мы вправе были отнести эти страны и народы к числу перешедших от условий самодовлеющего хозяйства к меновому. Краснокожие племена Америки в противном случае должны были бы считаться участниками мирового обмена с того самого момента, когда испанцы и португальцы, голландцы и англичане вместе с завоеванием принесли к ним и все зачатки европейской гражданственности. Нельзя также говорить о местном населении Центральной Африки и даже о тех негритянских племенах, которые занимают Конго или Судан, как о вышедших из условий самодовлеющего хозяйства, только потому, что бельгийцам, французам и англичанам, временно пребывающим в их среде, удалось завязать с некоторыми из них торговые и кредитные операции. Утверждаемое настолько очевидно, что не было бы основания останавливаться
на развитии этой мысли, если бы в нашей литературе недавно не высказана была довольно странная претензия. Г. Довнар-Запольский в своей «Истории русского народного хозяйства» утверждает, что выставленные до настоящего времени теории экономического развития не отличаются достаточной общностью потому только, что при их создании не приняты были во внимание экономические судьбы восточных славян, «Когда надо,— пишет автор “Истории русского народного хозяйства”,— применить эти теории к народу, не входящему в состав романо-германского мира, то получается нечто напоминающее отношение схемы Гегеля к тем же народам: новый народ не находит в ней места» (с. 35). Оказывается, однако, что все эти заявления вызываются одним лишь тем обстоятельством, что арабские, нормандские, а впоследствии ганзейские купцы, т. е. в конце концов иностранцы, внесли в среду восточных славян зародыши как внешнего, так и внутреннего обмена. Но этот обмен, как показывает сам г. Довнар-Запольский, представлял собою так называемую немую торговлю. Арабские писатели сообщают, что болгарские купцы приезжали в определенное место или урочище, оставляли там товары, пометив их какими-либо знаками, и потом удалялись; в это время туземцы раскладывали рядом свои произведения, которые считали равноценными, и также удалялись. Если болгарские купцы по возвращении находили мену выгодной, то они брали туземные товары и оставляли свои; в противном случае они опять удалялись на время, и это значило, что они требовали прибавки. Жители прибавляли свои произведения до тех пор, пока не состоится торг. Продавцы и покупатели уезжали тогда восвояси с выманенными товарами, не видав друг друга в глаза; поэтому арабы и называли эту торговлю немою (см. с. 185). И в Приднепровской Руси торговля, как и на Волге, носила по преимуществу спорадический характер. Константин Багрянородный говорит: в Киев ранней весной сплавлялись соседними племенами ладьи для продажи их. Тогда же свозились к Киеву меха и другие товары, которые затем направляемы были в Византию. И в Новгороде ганзейское купечество выезжало на определенные, хотя и продолжительные сроки. Таким образом, торговля с самого начала носила ярмарочный характер. В малонаселенной Новгородской области мы встречаем погосты и рядки. Погосты были местами, куда сходились для продажи мехов, меду, воску; сюда же съезжались и торговцы со своими товарами. Многочисленные новгородские рядки, о которых упоминают писцовые книги конца XV века, являются
такими же местами временного обмена. Из временных торжищ образовались со временем и города, как, например, Торжок и Новый Торжок. Рядом с ярмарочной торговлей мы встречаем и базарный торг. Оба различаются и по своим названиям: торг внутренний передается термином купли, торг, производимый прибывшими иноземными купцами,— гостьбы. Отсюда обособление понятий купца и гостя (с. 188). По описанию Рубруквиса, русские в Херсонесе еще расплачивались за соль бумажными тканями, но весьма распространен был платеж и деньгами (с. 189, 190). Господин Довнар-Запольский настаивает на том, что в древней Руси широкое применение находили и кредитные операции. В Новгороде, пишет он, существовали банкирские конторы. Банкирскими домами были монастыри и церкви. В Риге можно было найти торговые дома, ведшие по преимуществу кредитные операции с русскими купцами. Новгородский посадник Шило отдавал деньги в кредит исключительно для торговых операций. Но уже одна высота процента, о которой говорит Русская Правда, запрещая брать более 50% на отданный в рост капитал, дает основание думать, что эти кредитные сделки были весьма ограниченны в своем распространении. Правда, г. Довнар-Запольский старается доказать, что размер процента был не особенно велик, не больше 20 на сто. Но как нападки Феодосия Печерского, Серапиона и авторов других поучений на резоимцев, приравниваемых ими к разбойникам и блудникам, так и то обстоятельство, что в одном из текстов Русской Правды, как указано было мною еще в 1886 году, расчет процентов производился по аналогии с приростом скота, это приводит к тому заключению, что процент был значителен. «Русская Правда — сказал я в моем “Современном обычае и древнем законе”,— не упоминает о том, какой процент идет кредитору за ссуженный им скот, а в ближайших статьях переходит к вычислению приплода, какой можно получить в 12 и 20 лет. Не доказывает ли это, что процентом за ссужаемый скот являлся его приплод? Весьма вероятно, что те высокие проценты, о каких упоминает Правда, объясняются переводом на деньги того их размера, какой был установлен ссудою скота и получением за него приплода. В других законодательствах, например, в индусском (свод Виаза), ссуда скота также оплачивается его приплодом. Тот же обычай держится у осетин, которые за двухгодовую ссуду требуют увеличения капитала, представляемого скотом, вдвое» Т Но неза-
1 См. «Современн. обычай и древний закон» (с. 211).
висимо от высоты процента в древней Руси, существование ограниченных в своем районе кредитных сделок, производимых, как говорит г. Довнар-Запольский, главным образом для торговых операций, также мало доказывает то положение, что господствующая масса населения продолжала жить условиями самодовлеющего хозяйства, как и упоминаемые источниками временные съезды иноземных купцов и местных производителей или существование торжищ, рядков и базаров в отдаленных подобиях современных городов. Скажу более: наличность в Новгороде в половине XII века особой купеческой компании для заморских поездок, как и компании Иванковского купечества (от имени прихода), еще не свидетельствует о том, что население Новгородской волости не продолжало, как общее правило, обходиться без потребления продуктов, получаемых путем обмена. Не опровергает этого и незначительное число сделок, какие по рижской долговой книге заключаемы были русскими у ганзейских купцов. В конце XIII века они повторяются чаще: 28,33 и 43 в год. Но все эти займы редко когда превышали 20 марок серебра. Некоторые торговые дома: Брунова из Кельна и Гельспи-ция (с. 162), имели денежные дела почти исключительно с русскими купцами. Что касается до кредитных сделок, то по описанию, какое дают им русские историки Новгорода, в частности — Никитский, они более отвечали понятию тех lettres de foires, которые одновременно были в ходу на фламандских ярмарках, нежели чековым операциям. В них указывалось, что расчет будет произведен в другом городе товарами или деньгами. Если бы в Новгороде и в Пскове существовали не только товарищества купцов-складчиков, но подобие западно-европейских гильдий и даже современных синдикатов (?) (с. 212), то все же это не говорило бы о том, что масса русского населения вышла из того состояния, какое, как мы сказали, Варрон охарактеризовал словами: omnia domi nascuntur. Картина же, какую русскому сельскому производству дают древнейшие письменные свидетельства о быте славян, по признанию самого г. Довнар-Запольского, говорит об одном лишь зарождающемся земледелии на общем фоне охотничьего звероловного быта. «Такой тип земле-’ делия,— прибавляет автор,— еще долго держался у нас. Для цен-
тральной Руси процесс перехода к земледельческому строю от первобытных промыслов завершился лишь в XVI веке; на севере России и Сибири — только к XIX-му. Господство подсечного хозяйства, хуторской характер древнерусских поселков, наличность в каждом из них разного рода угодий: звероловных, рыбных, часто разбросанных
чрезполосно с другими владениями, характер подспорья, какой носят находящиеся под озимью или ярью поля,— не говорит ли все это за то, что сельское хозяйство поставлено было необыкновенно экстензивно, так как слабая густота населения и обилие земли не вызывали необходимости усиления производства». Основной вывод, к которому приходит автор «Истории русского народного хозяйства», состоит в том, что земледелие не играло первенствующей роли и что только к концу удельно-вечевого периода оно в южных областях и Суздали получает более самостоятельное значение; в других же местах преобладает занятие рыболовным и охотничьим промыслами. Внутри самих областей земледелие распространяется от центральных городов к менее значительным пунктам. Неужели такие порядки не входят в понятие самодовлеющего хозяйства? Но если так, то какое основание имеем мы думать, что ближайшее знакомство с экономикой древней Руси необходимо должно поколебать установившийся взгляд на эволюцию хозяйственных форм?
Сама эта эволюция рисуется мне в форме постепенного перехода от хозяйства, рассчитанного на непосредственное удовлетворение спроса, предъявляемого самими производителями, к меновому хозяйству, озабоченному накоплением запасов, орудующему капиталом и кредитом. Зародыши такого хозяйства можно найти еще в глубокой древности; но район его распространения на первых порах ограничен. Торговые и промышленные центры расположены по близости к морю, к большим, судоходным рекам или в центре водоразделов (как, например, Москва). Чем дальше от них, тем более и более выступают характерные черты самодовлеющего хозяйства. Проведение новых путей сообщения может вовлечь и эти глухие углы в мировой обмен, как это было не раз и в западноевропейской, и в русской истории.
Весь ход развития новгородских пригородов, Пскова, деятельность древних греков и финикийцев на Средиземноморском побережье, в отличие современного экономического строя от древнего и средневекового сводится к тому, что исключение сделалось общим правилом; промышленная, торговая и кредитная деятельность захватили и второстепенные городские центры, и самую деревню, так что о хозяйствах, озабоченных удовлетворением одних потребностей производителей редко, где заходит теперь речь, по крайней мере на протяжении Западной Европы, восточных штатов С. Америки и тех частей западных, которые пересекаются железнодорожным полотном. Сказанное о Соединенных Штатах
разумеется, применимо и к Канадским владениям Англии, и к тем южноамериканским землям, которые лежат на протяжении таких больших рек, как Амазонка или Ла-Плата с их притоками. Если иметь в виду все материки, то еще вопрос, не имеет ли самодовлеющее хозяйство и в настоящее время наиболее широкий район распространения.
Мы не считаем нужным остановиться на этот раз более подробно на характеристике тех промежуточных стадий, какие лежат между первичными, наиболее отсталыми типами самодовлеющего хозяйства, и тем совершенным типом менового, каким надо считать хозяйство, работающее на мировой рынок. Мы коснулись этого вопроса годами ранее, в наших лекциях о развитии народного хозяйства в Западной Европе, читанных и частью отпечатанных на французском языке.
С точки зрения, нами защищаемой, легко понять, что и по отношению к политическим порядкам нельзя провести того различия между древностью, Средними веками и Новым временем, которое состояло бы в признании, что ранее известной эпохи совершенно немыслимо появление таких порядков, при которых народ является в большей или меньшей степени хозяином собственных судеб. Говорить, поэтому, об эволюции политических форм в смысле перехода от монархии к республике значило бы идти вразрез с историческими данными. Древность ставит нас лицом к лицу к аристократии и демократии, выросшими в границах торгового промышленного города, постепенно подчинившего себе близкую, а затем и отдаленную округу. Средиземноморские берега усеяны такими городами-республиками, начиная с эпохи финикийских и греческих колоний. Они нередко силою вовлекаются в необходимость разделить хотя бы временно свою судьбу с судьбами соседних деспотий; но при первой возможности они сбрасывают с себя это ино: емное иго, пока всем им не суждено попасть под владычество такой же, как и они, городской по характеру республики — Вечному городу. Такова участь и Тира, и Сидона, и Карфагена, и Сиракуз. Средиземноморский мир — мир республик. Что лежит за его пределами, то управляется более или менее неограниченной властью, умеряемой разве религией и ее служителями, образующими в Египте, Передней Азии и Галлии, особые касты жрецов, магов и друидов.
Нельзя сказать, чтобы средневековая Европа также не знала городских республик. Мы находим их в полном расцвете в Италии в конце ХП-го и в следующем столетии. Республики входят также
в состав Священной Римской империи. Их уполномоченные занимают в рейхстаге целых две скамьи — скамью рейнских и скамью швабских городов, из которых каждая имеет свой «коллективный голос». В ближайшие столетия к городским республикам присоединяются и сельские, попадающие в большую или меньшую зависимость от первых; таковы судьбы старой швейцарской Eidgenossenschaft и завоевавшей свою независимость от Испании республики Соединенных Нидерландов. Одновременно одному из городов-республик Италии, Венеции, суждено повторить до некоторой степени, разумеется, в уменьшенных размерах, историю республиканского Рима. Она распространяет свои владения на часть Ломбардии и восточный берег Адриатики; она рассеивает свои колонии по Средиземному, Черному и Азовскому морям, встречая соперника в своих завоеваниях и торговых оборотах в другой такой же городской республике — Генуе, владелице Корсики, Сардинии и той Кафы, которая известна нам ныне под более старинным прозвищем Феодосии. Еще вопрос, не является ли республика в Средние века более распространенным типом государственного устройства, чем в эпоху Возрождения, когда большое число городов Италии подпали под власть туземных «тиранов» или иноземных завоевателей, когда Венеция начинает падать в своем величии и кладутся только зародыши того торгового преобладания и владычества на морях, какое в XVII веке выпало в удел Голландии. Недаром современник Франциска I, Сейссель, в своем трактате «О великой монархии во Франции», предваряя то, что вслед за ним более подробно развито будет при Людовике XIV юристом Дома, говорит, что республиканские порядки встречаются только по исключению в городах и странах с ограниченной территорией, образовавшихся путем отпадения от более обширных королевств и империй. После неуспеха попыток создать республику в Англии и перехода Генуи под власть Гримальди, а Нидерландов — к монархическим порядкам под главенством бывших штатгальтеров Голландии, Европа, за немногими исключениями (Венеции, Речи Посполитой), становится сетью монархических держав, притом с тяготением к неограниченности власти или абсолютизму. Только со времени провозглашения американской независимости снова ставится на очередь вопрос о дальнейшей судьбе республиканского режима.
Когда на расстоянии нескольких недель после революции 10 августа 1792 года во Франции была установлена республика и под ее влиянием возникли, правда, более или менее эфемерные
народоправства: Батавское, Транспаданское, или Циспаданское, Гельветское, можно было думать, что XVIII столетие закончится благоприятно для той формы политического уклада, на которой построена была культура Афин и Рима. Но раздел Польши между Австрией, Пруссией и Россией, а Венецианской республики — между Австрией и Ломбардией, как и скорая замена консульства империей во Франции, устранили мысль о том, что Европа последует примеру Америки и превратится в сеть самостоятельных, связанных одними федеральными узами республик.
XIX столетие представляет нам скорее рост и распространение в Европе конституционной монархии, чем торжество республиканского устройства. Необходимо стечение крайне неблагоприятных условий, чтобы заставить народ, привыкший жить под кровом исторической династии, свято сохраняющей свои конституционные обязанности по отношению к призвавшей его нации, произвести республиканский переворот. Если третья республика, не в пример двум первым, пустила, по-видимому, корни во Франции, то объясняется это тем, что все три династии, предъявлявшие право на престол, одинаково потеряли в ней свою популярность. Последний представитель Бурбонов, граф Шамбор, обнаружил решительное непонимание требований современной гражданственности. Вместо того чтобы порвать с ним открыто, Орлеанские принцы, скрепя сердце, высказали готовность признать его руководительство. Вторая Империя, начавшаяся декабрьскими убийствами, кончилась поражением под Седаном. Если на расстоянии десятков лет Португалия последовала примеру Франции, то потому, что Браганцская династия потеряла в ней всякий кредит, после попыток короля Карлоса повернуть ход истории и, в союзе с клерикалами, вернуться к порядкам фактически неограниченного самовластия. Нужен полный разрыв между правительственной политикой и народными запросами, нужна та давнишняя непопулярность, какой пользуется в Китайской монархии иноземная маньчжурская династия, чтобы вызвать в южных провинциях Небесной Империи успешное, по-видимому, движение в пользу установления республики. Такими же чрезвычайными причинами объясняется отпадение, приблизительно сто лет назад, от Испании и Португалии их владений на южном материке Америки. Бразилия, как имевшая возможность вручить руководительство своей автономией принцу из той же династии, какая продолжала править Португалией, обратилась в империю. Прочие страны Южно-Американского материка, за неимением
ни туземных, ни иноземных династий, достаточно популярных, чтобы поставить им королей, провозгласили себя республиками. Неудачная попытка Наполеона III в союзе с Австрией навязать Мексике правителя из Габсбургской династии и пример, а может быть и прямое влияние соседних с нею Соединенных Штатов, имели последствием укрепление республиканских порядков и к северу от Панамского перешейка. Долгое время Бразилия оставалась единственной монархической страною в Южной Америке, но и она перешла к республиканским порядкам и к федеративному устройству, под влиянием примера могучего и свободного государства, построенного на началах союзного.
Но что республиканские порядки не составляют необходимого достояния нового материка, в этом убеждает нас испытанная преданность английской монархии, какую до последнего дня обнаруживает Канадская федерация, еще недавно отказавшаяся от тех существенных экономических выгод, какие могло обеспечить ей сепаратное торговое соглашение с Соединенными Штатами. С тех пор как наученная примером отпадения от нее тринадцати приат-лантических колоний, Англия отказалась подчинять интересам собственных граждан экономические и политические судьбы своих же сынов, живущих по ту сторону океана, автономные государственные организации, нередко вступающие между собою в федеративную связь, объединили под своею сенью членов англо-саксонской расы не только в Северной Америке, но также и в Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. Независимость этих колоний не идет, однако, до разрыва их политических судеб с метрополией. Они по-прежнему получают от нее своих губернаторов и по крайней мере часть членов, заседающих в их верхних палатах. В критические моменты, как те, какие были пережиты Англией во время ее последней войны с бурами, заокеанические владения не прочь были поспешить на помощь метрополии посылкой своих военных судов.
На основании всего сказанного трудно прийти к тому заключению, чтобы политическая эволюция сказалась в замене монархии республикою. Из дальнейшего изложения читатель может увидеть, что вопрос надо поставить более широко. Не все то, что носит наименование республики, отвечает понятию самоопределения народом его политических судеб. Американские республики с их подчинением военной диктатуре и часто повторяющимися переворотами или conps d’etat, известными под названием «пронун-циаментов», в меньшей степени обеспечивают фактическое руко
водительство делами народным ставленникам, нежели английский парламентаризм с его монархическим главою. Широкое развитие системы местного самоуправления, за последнюю четверть века получившего вполне демократический характер, вместе с готовностью мириться с автономией заморских владений, раз они населены европейцами и английскими выходцами, объясняет нам причину, по которой Британская империя не в меньшей мере обеспечивает народу возможность заведовать чрез посредство избранных им представителей своей внутренней и внешней политикой, чем делает это республика Соединенных Северо-Американских Штатов, при строгом обособлении в ней и независимости исполнительной власти от законодательной. Общность парламентарной системы, при солидарной ответственности министерства перед палатами, сближает политический строй английской монархии с французскими республиканскими порядками в большей степени, чем делает эта наличность народоправства одинаково во Франции и Соединенных Штатах. Чем может быть китайская республика, нам пока сказать трудно; но едва ли она в скором времени уподобится по широте прав, признаваемых за гражданами, не только французской республики, но и английской монархии. То, что мы знаем о порядках Мексики, едва ли позволяет нам поставить свободу ее граждан на один уровень со свободою британских подданных.
А все это необходимо приводит нас к тому выводу, что не в наличности или отсутствии правящей династии надо видеть ближайшее различие политической организации народа, а в большей или меньшей автономии личности, с одной стороны, и большем или меньшем участии всего гражданства в руководительстве политической жизнью страны — с другой. Нам придется поэтому при решении вопроса о природе политического прогресса отрешиться от довольно распространенного предубеждения, что поступательный ход государства сводится к постепенному торжеству республиканских порядков над монархическими.
’ > < ; 1. . -
; '' - ‘ U -
* * * . • , . . • ч
Но существует ли вообще политический прогресс? Можно ли отметить поступательное движение в отношении политических порядков? Некоторые социологи, в числе их покойный Лилиенфельд, полагают, что нет. Такое мнение можно поддерживать при произвольном,
на мой взгляд, допущении, что психология рас и национальностей, как и психология церковных сообществ, есть нечто раз навсегда определившееся. Но история, в связи с этнографией, нимало не оправдывает такого предположения. Никакое государство немыслимо при отсутствии в подданных добровольного подчинения власти. Это сознавал еще Ла-Боесси, французский писатель XVI века, настолько близкий по мысли к Монтеню, что за последнее время возникло даже предположение, не прикрылся ли последний именем своего покойного друга. Соглашаясь с автором «Добровольного рабства», что основой всякого государственного общежития является психологический мотив — готовность подчинения, мы необходимо должны признать, что мотивы этой готовности изменялись параллельно с ростом знания и соответствующим упадком суеверий; а так как в тесной связи с ними, в такой же степени, как и с размножением населения, его усиливающейся густотой, стоит и переход от одних экономических порядков к другим, от самодовлеющего хозяйства к хозяйству меновому, то невольно зарождается мысль привести в причинную зависимость прогресс государственности с прогрессом знания и экономики.
Остановимся прежде всего на первой половине вопроса; поищем тех нитей, какие связывают накопление знаний с изменением государственных порядков. Готовность подчинения общей власти, как мы уже отметили, является необходимым условием существования государства; но эта готовность, в связи с научным развитием, вызывается далеко не одинаковыми причинами. Дикари Старого и Нового материка, как вполне установлено Фрезером, ставят над собою властителя потому, что признают за ним не только мужество и мудрость, но и способность вызывать обилие дождя, размножение той или другой породы животного и растительного царства. Германцы времен Тацита выбирали вождей за их воинскую доблесть; евреи эпохи судей и, независимо от их примера, целый ряд стран, начиная с древней Ирландии и оканчивая некоторыми частями нашего Закавказья, вверяли руководительство своими судьбами знаменитым своей мудростью посредникам или третейским разбирателям; восточные славяне, чтобы положить конец внутренним распрям, призывали князей из чужбины. Тем же мотивом руководствовались городские республики Италии, ставя над собой нанятого на срок иногороднего «подэсту». Еще в XVII веке англичане ценили в своем монархе способность исцелять их от известных недугов наложением руки на их головы, а современники Людовика XIII и Людовика XIV признавалй в монархе не только
божественного ставленника, но и Бога земного. Людовик-Филипп, как ранее его Наполеон I, уже правил французами волею народной. Нужно ли говорить, что тот же светский и отрешенный от всякого ближайшего общения с той или другой религией мотив лежит в признании американцами власти губернаторов отдельных штатов и президентов всей федерации; что идея государственности является вполне секуляризированной в современной Франции, в Швейцарии, в Бельгии, Италии и, в меньшей степени, в Пруссии и Австрии. Представление о помазаннике на царство, правителе Божьей милостью, не составляет особенности одних христианских народов средневековья. Мы находим его и у древних евреев, и у инков Перу, владыка которых всегда почитался сыном Солнца. В тесном общении с религией и ее служителями стояли не одни индусские раджи или египетские фараоны, но и продолжавшие совершать публичные жертвоприношения от имени всего государства афинские архонты-базилевсы, преемники прежних царей. Арабские калифы, персидские шахи, турецкие султаны — все в равной степени признавали себя наследниками Пророка. Тесная связь, в какой светская власть стояла с папским двором во времена Григория VII и Иннокентия III, рисовалась воображению де-Местра заслуживающим подражания идеалом. В праве пап отрешать подданных от присяги их законному правителю он видел единственное средство найти необходимый эквивалент для оживленного революцией права сопротивления монарху, нарушающему не один Божеский закон, но и основы государственного порядка или конституции.
Секуляризацией политики называем мы этот отказ светской власти от тесного общения с духовной,— общения, доходящего до участия в ее осуществлении, как это и было в действительности не только в империи фараонов или инков, не только в арабских калифатах, но и всюду, где христианские правители сохранили за собою главенство в делах церкви, где существует так называемый цезарепапизм. И римский император считался верховным жрецом, pontifex maximus. Присяга в признании супрематства английского короля в делах церкви в течение веков являлась препятствием к уравнению диссидентов и католиков в гражданских и политиче-
’ ских правах с англиканцами.
По мере того, как отступала на задний план связь политической власти с магией и религией, все более и более упрочивалась идея служения государя народу. Она высказывается еще королем-философом
Фридрихом Великим в известной фразе: «Я первый служитель государства». Она находит себе теоретическое признание и в доктрине Руссо о верховных правителях, как о народных уполномоченных, и в основных законах демократических империй, республик и тех монархий, которые признают основанием для своей власти волю народную, что нередко выражается в самом титуле правителя (король французов, король бельгийцев).
Мы бегло указали на одну тенденцию к секуляризации власти, к разрыву всякой непосредственной связи с магией и религией, что очевидно связано с ростом положительного знания. Обратим в настоящее время наше внимание на то влияние, какое перемены в экономических порядках вызывают в общественном и тесно связанном с ним государственном строе.
Самодовлеющее хозяйство, ограничено ли оно пределами рода-племени, общиной или другим более широким земским союзом, каким бы именем он ни назывался, предполагает существование замкнутого в себе целого, враждующего с соседями и в мирное время, отказывающего им в доступе к своим рынкам и, следовательно, в снабжении их предметами необходимости. Отсюда многочисленные запреты вывоза не одного хлеба, но и питающего местное производство сырья; отсюда же сперва запретительные, а затем протекционные тарифы по отношению к продуктам чужих мануфактур. Изолированность, необходимо вытекающая из всех этих запретов, делает неизбежной строгую регламентацию производства, а следовательно, и занятий отдельных лиц и семей, с целью установить по возможности неизменный порядок хозяйственной жизни. Отсюда то разделение труда в связи с его наследственностью, наиболее разительный пример которого представляет нам кастовое устройство Индии, в более слабом виде выступающее и в древнем Египте и до некоторой степени в начальный период жизни народов Классической древности. Крепостное право и цеховое устройство, в связи с теми средостениями, какие в Средние века связаны были с существованием резко обособленных сословий,— дворянства, духовенства и буржуазии, являются естественным продолжением, в умаляющейся прогрессии, той исключительно строгой регламентации всей гражданской жизни, какою было кастовое устройство. Между обоими порядками можно проводить только количественное, а не качественное различие. Средневековый город-республика, как и феодальная барония или графство, приурочивает владение недвижимой собственностью к факту принадлежности к определенному
сословию. Будет ли им, как общее правило, служилое дворянство, или, как во Флоренции конца XIII века, городское гражданство, при полном исключении феодальной знати,— воинская служба одинаково возлагается на класс землевладельцев, тогда как промышленная и торговая деятельность всецело сосредоточивается в руках цехов и гильдий, а сельскохозяйственный труд составляет наследственное занятие крепостного, позднее оброчного крестьянства.
Исходящие от начальства приказы определяют порядок продажи на рынке съестных припасов и необходимого для промышленности сырья и цены на товары и труд. Вывоз и ввоз одинаково регулируются постановлениями, идущими от городских советов или собраний вассалов, созываемых феодальным сюзереном. Раз навсегда установившийся обычай обеспечивает членам служилого сословия и постоянство состава поступающих под их начальствование отрядов, и количество следующих им от поместного населения натуральных служб и платежей. Всякая закупка товаров с целью перепродажи их по высшей цене строго запрещена, наравне с отдачей денег в рост. Таким образом предусмотрена возможность удовлетворения изолированным государством всех потребностей тех различных социальных пластов, которые входят в состав его населения. Каждая из этих сословных групп призвана удовлетворять своей насущной нужде в неравной степени, применительно к тому положению, какое она занимает на общественной лестнице. Учение о справедливой цене, так называемом justum preci urn, в Средние века, как показывает пример Фомы Аквината, было все направлено к тому, чтобы дать каждому возможность жить безбедно, согласно его общественному состоянию. Такой порядок предполагает в начальствующих своего рода родительскую заботливость о подвластных. Не мудрено поэтому, что самодовлеющему или так называемому натуральному хозяйству отвечает патриархальная форма одинаково монархии и аристократии, при большем или меньшем участии в делах всего свободного люда, следовательно, всех, за исключением рабов и крепостных. Образцом таких политических порядков одинаково являются и Афины в эпоху владычества эвпатридов, и первые века римской республики, при господстве patres conseripti, и итальянские народоправства с их выбираемыми консулами, позднее подэстою, и тесными советами людей более родовитых и зажиточных, в свою очередь являющихся подобием римских patres conseripti. Венецианский Большой Совет в эпоху, предшествующую его «закрытию» для семей, удалившихся из Венецию по случаю моровой язвы 1297 года, также являлся своего
рода представительством всех родов первых поселенцев. Разделяя власть с выборным дожем и окружающим его советом старейших, анциани, он в праве был считать себя тем собранием начальников над родами, каким в свое время были афинский ареопаг и римский сенат.
Если от городских республик мы перейдем к монархиям, то королевство первых Капетингов в том изображении, какое дают ему французские историки Флак и Функ Брентано, еще носит все черты единоличной власти, построенной по типу семейному. Рядом с монархом, живущим в тесном общении с начальниками родов, лишь постепенно переходящими в положение феодальных сеньоров и образующими при нем тесный совет, свободный люд, призванный к ношению оружия, продолжает собираться на вымирающее вече, на те мартовские и майские поля и placita generalia, прототип которых мы встречаем у древних германцев. О них упоминает Тацит: de minoribus principes consultant,— говорит он,— de maioribus omnes. А насколько эти вечевые порядки составляли общую черту одинаково древнейших княжеств и городов-республик, об этом можно судить и по наличности их как в гомерической Греции, так и в древних Афинах, в Риме, в форме центуриатных комиций, рядом с трибутными, в славянских землях в форме веч, в итальянских городах X, XI и XII столетий под различными наименованиями: парламентов, аринг или говорилен, общих советов или общих разбирательств, commune consilium и commune placitum.
Ближайшей ступенью в развитии государственных порядков была замена патриархального строя вотчинным. На всем западе распространяется феодализм, видоизменяющий прежний порядок монархии и городской республики. Последняя также подпадает под власть феодальных родов; на смену им являются со временем вышедшие из среды городского демоса новые властители, popolani grassi, своего рода олигархические семьи; в ряду их одной нередко удается сосредоточить в своих руках синьорию или политическое господство.
Что такое, с другой стороны, феодальная монархия, как не обширное поместье с зависящими от него более мелкими земельными комплексами? Во главе их стоят служилые люди — землевладельцы, с подчиненными им вассалами и подвассалами; каждый помещик держит в зависимости от себя свободных и крепостных людей, одинаково сидящих на земле и несущих определенные обычаем повинности и службы.
Если бы новейшими работами Павлова-Сильванского и не был установлен факт существования в России, как в удельно-вечевой, так и в московский период, по крайней мере в сфере экономических отношений, порядков весьма близких к феодальным, то все же пришлось бы повторить, вслед за большинством наших историков, что родовые отношения, политическое владычество Рюрикова дома над отдельными княжествами восточных славян и переход великого княжения к старейшему представителю династии с течением времени сменились порядками отношения князя ко всем сидящим на его земле свободным и крепостным людям, как вотчинника к своим подвластным. Вся история Московского княжества представляет собою не прекращающееся округление Иваном Калитой и его потомством скромного удела, доставшегося впервые Юрию Долгорукому. Служилое землевладение и крепостное право, составляющие материальную основу тех поместий, которыми туземные и пришлые князья и бояре, а также более мелкий люд, вплоть до дворян включительно, вознаграждались за службу, представляют собою разительное сходство с западно-европейскими бенефициями, со временем становящимися наследственными, подобно тому, как наши поместья переходят в вотчины.
Экономическая сторона феодальных порядков выступает и за пределами Европы всюду, где земля, как наиболее распространенная ценность, служит вознаграждением за воинскую службу. В империи Великого Могола, например, пожизненные земельные пожалования начальникам местных отрядов, известные под именем «икта», напоминают по своему характеру средневековый бенефиций и русское поместье в начальный период их истории. Эти «икта» со временем становятся наследственными. Свободное землевладение, известное на Западе под именем «алода», в России под именем «отчины» и «дедины», на всем мусульманском Востоке под именем «мульк», постепенно переходит в зависимое держание не только как следствие захвата сверху, но и в силу добровольной передачи себя снизу свободным человеком вместе с имуществом в зависимость и под покровительство людей сильных. Средневековая «коммендация» близка по характеру к нашему «закупничеству» и к распространенной в Империи Великого Могола «икбалдаве».
Прикрепление же сельского люда к земле, как показал в числе других итальянский экономист Лориа, потому уже распространено на протяжении всего мира, что, при слабой густоте населения
и обилии свободных к занятию земель, оно может считаться лучшим средством обеспечить хозяйственную эксплуатацию почвы.
Не мудрено поэтому, если крепостное право известно было на первых порах и в среде городских республик Запада. Одно желание их ослабить власть пограничных с ними феодальных владельцев объясняет нам причину, по которой города в числе первых обратились к производству той выкупной операции, последствием которой явилось создание свободного крестьянства.
На общем экономическом фундаменте выросла, таким образом, и феодальная монархия, и городская республика XIII и XIV столетий, и Московское княжество и царство. Но договорный характер, какой носят отношения сюзерена к вассалам и подвассалам, дал определенные политические последствия, наложил свою печать на организацию государства далеко не всюду, где существовало феодальное поместье и земельная крепость крестьян. Порожденная им сословная монархия, с участием уполномоченных от дворянства, духовенства и буржуазии в вотировании налогов и в даче советов по вопросам государственного строительства или по реформе в администрации, далеко не может считаться общим явлением на протяжении всей Европы. Мы находим ее в англо-саксонском, романском и германском мире; но в славянских странах одни поляки, чехи и хорваты развели у себя сходные порядки, восточные же славяне перешли непосредственно от патриархальной монархии к «самовладству», как выражается Крижанич, современник Алексея Михайловича, т. е. к абсолютизму.
Замечательно, однако, что еще в XVII веке в титуле московского царя сохранилось прозвище от более ранней эпохи: он все еще слывет «отчичем». И это прозвище напоминает о временах патриархальной монархии, того семейно-родового порядка, какого придерживался дом Рюриковичей на протяжении всей России.
Много внешних причин объясняют нам отклонение от общего хода развития тех или других народов и государств: завоевание, как в Англии, борьба с маврами, как в Испании, или с татарами, как в России, необходимость усиления центральной власти, создание постоянной армии и постоянного налога на ее содержание там, где, как во Франции в XV веке, речь заходит об обеспечении национальной независимости от иностранцев-англичан, или там, где, как в Северной Италии, городской автономии постоянно грозят, рядом с нашествием французов и испанцев, интриги папского двора, притязания германских императоров на политическое владычество
и захват власти со стороны успешных честолюбцев, становящихся во главе наемных дружин и принадлежащих по рождению то к феодальной знати, то к зажиточной буржуазии, то к поддерживаемым плебсом демагогам. Ни Ломбардия, ни Тоскана не знали при Сфорцах и Медичисах сословно-представительных порядков.
Франция, одно время имевшая их в лице генеральных штатов, с XV столетия обращается к созыву сословий лишь в редких случаях. Испания, со времени поражения городских ополчений в битве под Вильяларом во второй четверти XVI века, переходит к порядкам абсолютной монархии.
Религиозные усобицы и развитие протестантизма, освобождающего многих правителей Германии от контроля папской власти и создающего в некоторых государствах, например в Англии, цезаре-папизм, также немало содействуют росту королевской прерогативы в ущерб сословному представительству.
Все эти причины, вместе взятые, объясняют нам, почему в середине XVIII века Монтескье уже мог смотреть на сословную монархию, как на редкое исключение, и говорить о том, что «народы Европы устремляются в объятия абсолютизма столь же бесповоротно, как реки теряются в море».
Обозначая сословную монархию термином готической, он находил во Франции одни обломки ее, по преимуществу в праве верховных палат, как судебных, так и судебно-административных, отказывать в повиновении указам, несогласным с законами (право регистрации и право представлять протесты). В немногих только государствах, в том числе в не прямо названных им Венгрии и Швеции, да еще в упоминаемой им Англии, сословная монархия не только уцелела, но и подверглась дальнейшему развитию. Оно вызвано было тем постепенным упразднением прежних средостений между служилым сословием, буржуазией и крестьянством, которое было вызвано ростом денежного и кредитного хозяйства в ущерб натуральному или самодовлеющему. Мировая торговля сделала немыслимым дальнейшее сохранение не только цеховых порядков в сфере промышленности, но и того искусственного удержания земель в руках служилого люда и прикрепленных к почве крестьян, на которые опирался строй средневекового хозяйства.
Решающим мотивом явилось возможное увеличение доходов, получаемых столько же от обрабатывающей промышленности, сколько и от сельского хозяйства. А этот мотив подсказывал необходимость свободного обращения на рынке не только мануфактуратов
и полумануфактуратов, но как самого сырья, так и производящих его земель.
При мировом хозяйстве сословное неравенство уступает место сложившимся на почве экономических отношений, без прямого вмешательства закона, классовым различиям. На смену крепостным и служилым людям пришли упоминаемые уже Тюрго свободные землевладельцы, промышленники и торговцы, съемщики и фермеры, сельские и городские рабочие-пролетарии. На этой почве могло возникнуть представительство населения и капитала, редко где с удержанием тех пережитков сословного строя, каким является, например, в Англии палата, составленная по преимуществу из глав исконных аристократических родов,— пэров королевства.
Перемены в хозяйственном строе дают себя знать в сфере государственных порядков в двояком отношении: в замене привилегий, какими пользовались члены отдельных общественных групп, вольностями всего гражданства. Сословная свобода сменяется публичными вольностями, осуществляемыми всеми подданными государства и даже принятыми под его сень иностранцами. С другой стороны, принцип сословности изгоняется из представительства. Оно основывается отныне на начале или равного участия всех граждан в политических правах (всеобщее голосование), или на идее преимущественного пользования этими правами лиц, имущественно обеспеченных и потому легче приобретающих то образование, с которым связывается сознательное пользование голосом на выборах и в народных советах (отсюда различные системы цензовых ограничений права выбирать и быть выбранным). На каком бы решении ни останавливалось законодательство отдельных государств, конституционных ли монархий или республик, представительство повсюду изменяет свой характер в двояком отношении: депутаты перестают быть уполномоченными отдельных корпораций — в Англии графств и городов, во Франции — департаментов, округов и муниципий; они становятся представителями всего населения государства, хотя и избираются местными мирами, сельскими и городскими. Прежде знали представительство от одной только недвижимой собственности и потому в сословных камерах допускались уполномоченные только от земли: служилое сословие, духовенство и горожане, как владельцы поместий и городских участков. Избирательный ценз также приурочен был всецело и исключительно к факту обладания одной недвижимой собственностью. Теперь представительство
строится на обратном начале: установляется одинаковый или разный ценз для владельцев недвижимой и движимой собственности; представленными на выборах являются лица, наиболее обложенные; в основу избирательного права кладется не одно население, но и сумма платимых округом налогов. Соответственно этим двум началам, населению и обложению, распределяется число представителей между отдельными провинциями и городами. Сословные различия если где и уцелели, то не оказывают более никакого влияния на деление народного представительства на замкнутые палаты: дворянства, духовенства и среднего сословия. Самое большее, если при двухпалатной системе дворянство, и притом высшее, лично призывается к участию в законодательной деятельности в лице глав отдельных аристократических родов, предки которых также получали от королей «призывные письма».
Некоторое время аристократическая по своему составу камера продолжает играть первенствующую роль. Но по мере того, как среднее сословие, под влиянием роста промышленности и обмена, сосредоточивает в своих руках руководительство производительными силами страны, питаемыми его капиталом и кредитом, нижняя палата приобретает решительный перевес над верхней, и прежде всего — в сфере налогового обложения и финансового хозяйства. Отсюда возникшее впервые в Англии и принятое многими государствами, как старого, так и нового материка, правило о том, что так называемые денежные билли поступают на рассмотрение по частям в одну нижнюю палату; верхняя же только вправе принять их без всяких изменений, или отвергнуть целиком.
В ближайшем соответствии с эмансипацией крестьянского люда от крепостной неволи и с ростом общественного сознания городских и сельских тружеников, съемщики земли, будут ли ими половники или фермеры и городские рабочие, живущие собственным очагом, призываются к участию в политических выборах. Рост избирательного права в Англии представляет именно такое расширение круга лиц, допускаемых к урнам. Наследственные и срочные арендаторы (копигольдеры и фермеры) на разных условиях с 1832 года попадают в число избирателей от графства; городские рабочие, а за ними и сельские, голосуют на выборах начиная с 1867 года, но только тогда, если снимаемое ими жилище оплачивается ежегодно суммою не ниже 10 ф. стерлингов, т. е. приблизительно 100 руб.
На континенте Европы доступ к урнам в первой половине XIX столетия дает, как общее правило, платеж прямой подати
в известном размере; но начиная с <18>48 года избирательное право все более и более приближается к началу равного участия всего взрослого мужского населения. Так называемое всеобщее голосование из Франции распространяется на Германскую Империю, на немецко-славянские земли Австрии, на Бельгию, Швейцарию и Италию, в которой оно ограничено еще требованием грамотности. В некоторых странах, например в Финляндии и в западных штатах Сев. Америки, к выборам допущены и женщины. Всеобщее голосование во второй половине XIX века завоевывает собою постепенно и американский материк. Законодательные палаты все более и более становятся представителями если не всего населения, то его большинства. Постановка же на очередь вопроса о пропорциональном представительстве и отдельные попытки успешного проведения его в жизнь дают основание надеяться, что состав народных палат отразит на себе в близком будущем наличность в том или другом государстве если не всех, то господствующих течений общественной мысли.
Параллельно с заменой сословного представительства классовым и народным, происходит и замена привилегий отдельных сословий общей гражданской правоспособностью. Она в большей или меньшей степени открывает собою в разных странах одни и те же возможности для отдельной личности проявлять свою автономию физическими действиями, а также словом, письмом и печатью. Свобода от задержания иначе, как по суду, и свобода выбора религии и культа должны считаться древнейшими проявлениями этой общегражданской правоспособности; к ним со временем присоединились другие виды свободы, как-то: свобода слова, письма и печати, свобода союзов и собраний, неразрывно связанная с свободой петиций. Совокупность всех этих свобод образует то, что немецкие публицисты называют субъективными правами, а французские — необходимыми вольностями.
Можно было бы думать, и такой вывод делаем был писателями так называемой либеральной школы, что последствием расширения личной автономии явится сокращение сферы вмешательства государства. Прогресс рисовался их воображению в форме ограничения функций правительственной власти одними заботами о безопасности и правосудии. Такая точка зрения была бы правильной, если бы ход развития гражданственности не обогатил государства переносом на него многих функций, ранее всецело осуществлявшихся семейными союзами, церковью и сословными организациями: забот
об общественном призрении и воспитании. Борьба с нищенством и безработицей в такой же степени, как и с народной темнотой, перешла от семьи и церкви не к одним лишь свободным ассоциациям, устраиваемым с этой целью, но и к государству, все более и более проникающемуся той мыслью, что ему необходимо обеспечить своим гражданам как право на труд, так и возможность начинать борьбу за существование в одинаково благоприятных условиях, т. е. при ознакомлении, хотя бы элементарном, с тою суммою знаний, которая обнимается современной культурой. Англичане передают эту точку зрения словами «equal start». Общедоступная народная школа одна в состоянии удовлетворить этому требованию. Современное государство, таким образом, включает в число своих задач и заботы о благосостоянии, в смысле обеспечения каждому возможности зарабатывать жизнь трудом и приобретать общее образование.
Сказавши, что тип нового государства построен на начале представительства населения и автономии личности, мы оставили пока в стороне вопрос и о формах правления, и о том различии, какое представляют государства только конституционные и государства парламентарные, наконец те, которые восполняют порядки представительного устройства возможными в современных условиях формами прямого народоправства. В этом отношении последние два столетия более предшествовавших им во времени содействовали приближению государственных порядков к тому началу самоуправления или заведывания народом его собственными судьбами, какое мы находим в начальный период государственной жизни при существовании системы так называемого прямого народоправства. Начало самоуправления выходит из узкой сферы села, города и высшего административного подразделения, будет ли то графство или провинция под тем или иным наименованием. Оно распространяется на все государство. Средством к тому является передача в руки комитета от большинства палаты или палат, смотря по тому, имеется ли единое народное представительство, или оно разделено на две камеры, не только контроля за администрацией, но и самого руководительства, как внутренней, так и внешней политикой. Такой комитет объединен общей программой, совпадающей, в главных чертах, с направлением, которого придерживается большинство в палате или палатах. Отвечая каждый в отдельности за действия, совершенные его агентами в пределах вверенного ему ведомства,
член кабинета — министр или главноуправляющий, часто также начальник административной коллегии,— связан круговою порукою с другими членами кабинета во всем, что касается ответственности за его общую политику. Не отказом в скрепе исходящих от кабинета приказов, а одним только выходом в отставку может министр в странах, придерживающихся парламентаризма, освободить себя от ответственности за действия, исходящие от всего кабинета. Политическая ответственность имеет своим последствием для всех его членов выход в отставку каждый раз, когда большинство палаты или палат выскажет свое неодобрительное отношение к нему непринятием исходящих от кабинета законодательных предложений или же специально принятым по отношению к нему вотумом недоверия. При наличности солидарного правительства, члены которого взяты из состава палат и связаны круговой ответственностью, самоуправление народа достигается одинаково как при республиканской, так и при монархической форме правления. Между парламентарной монархией Англии и парламентарной республикой Франции, как мы уже сказали, больше сходства, чем между тою же республикой и конституционными порядками Соединенных Северо-Американских Штатов, в которых министры являются ставленниками президента или, соответственно, губернатора и не связаны солидарной ответственностью ни перед палатами, ни перед президентом или губернатором, почему во всякое время могут лишиться своих должностей по воле назначившего их главы исполнительной власти. Тогда как парламентским режимом достигается передача в руки если не самого народа, то его представителей, политического руководительства страною, так называемым референдумом и прямым законодательным почином представительный строй приближается к вечевому. Ни один прошедший через палаты законопроект не становится общеобязательной нормой ранее принятия его большинством избирательных собратий по округам (референдум), и сами представительные собрания призываются к рассмотрению только тех проектов закона, желательность которых признана большинством тех же избирательных собраний по округам (прямой государственный почин). Различие монархии и республики сказывается лишь в слабой степени на вопросе о приближении представительного строя к прямому народоправству. Референдум не только существует в отдельных штатах Сев. Америки, кантонах всей Швейцарской федерации, но о введении его поднят был
вопрос и в монархических Бельгии и Англии. В первой король Леопольд II высказался за желательность обращения к нему каждый раз, когда между законодательными палатами и главой исполнительной власти возникнет разномыслие насчет пользы вотированного камерами закона. Королевское вето, согласно мысли короля Леопольда, должно являться тормозом для палат, но только под условием, если избиратели, собранные по округам, выскажутся также в смысле, неблагоприятном закону. В Англии во время недавних препирательств между палатами, верхней палатой высказано было желание предоставить народному референдуму решение спора о том, в какой мере вето палаты лордов может препятствовать обращению в закон проекта, прошедшего через нижнюю палату и получившего королевскую санкцию. В отношении к одному лишь почину самих избирателей в выборе предметов законодательного творчества, монархии и по настоящий день резко расходятся с республиками; они отрицают за народом возможность такого почина, предоставляя его, как общее правило, правительству и палатам; в последнем случае инициатива исходит или от определенного законом числа депутатов, или от любого представителя, под условием, чтобы его предложение встретило поддержку по меньшей мере в одном его товарище.
Парламентаризм, референдум и прямой законодательный почин нашли осуществление лишь за последние два столетия; но тяготение к ним сказывается и в более раннюю эпоху. В XIII и XIV столетиях английский парламент и генеральные штаты иногда высказывались в пользу деятельного управления страною лицами, выбранными палатами. Созванный в Оксфорде парламент 1258 года получил название сумасшедшего ввиду своей готовности навязывать королю его ближайших советников. Генеральные штаты 1355 года в свою очередь озаботились мыслью о передаче в )уки избранных каждою из сословных палат главноуправляющих налогами не только финансового управления, но и общего руководительства внутренней политикой.
Что касается до референдума и прямого законодательного почина, то отдаленным приближением к ним является и французская конституция 1793 года, признававшая за избирательными собраниями округов право вето по отношению к вотированным представителями законам, и те апелляции к народу в форме плебисцита, начало которым было положено в эпоху первой Империи и которые снова ожили во Франции в царствование Наполеона III.
Рост государственных порядков наглядно выступает и в ускорившемся за последнее столетие развитии федераций или союзных государств. Этот порядок политического устройства, по верному замечанию одинаково Монтескье и Руссо, дает возможность примирить выгоды автономии с преимуществами, обеспечиваемыми обширностью территории и многочисленным населением, с которыми неразрывно связана оборонительная сила государства. В древности центральные силы сдерживаемы были ничем не ограниченной властью восточного деспота или сената главного города, будет ли то Карфаген или Рим. В меньшей степени то же единство скорее внешней, чем внутренней политики достигалось гегемонией, осуществляемой Афинами по отношению к городам Аттики и островам Архипелага, а Спартой — по отношению к Пелопоннесу. В позднейшее время той же цели служили союзы Ахейский и Этолийский. В Средние века Священная Римская империя также обнаруживала стремление к объединению всех западных народов в борьбе их с мусульманским Востоком и ту же задачу не раз принимало на себя соперничавшее с императорами папство, особенно в эпоху Григория VII и Иннокентия III. О более или менее продолжительных союзах между городскими республиками или отдельными княжествами заходит речь в XII и XIII столетиях, в самый разгар борьбы пап с императорами и первого проявления национальной обособленности Италии. Папы становятся во главе Ломбардской лиги, ведущей борьбу с Фридрихом Барбароссою, и принуждают его к заключению Констанцского мира, обеспечившего итальянским городским республикам возможность автономного развития их учреждений. Вторая лига, участие в которой принимают и города Тосканы, направлена против Фридриха II и также пользуется покровительством пап. В борьбе с империей возникает и тот союз лесных кантонов, вскоре попадающей в зависимость от городских республик Берна, Цюриха и Базеля, в котором надо видеть зародыш современной швейцарской федерации. Опять-таки в тесной связи с национальной и религиозной обособленностью протестантских земель Австрийского дома возникает, в борьбе с католической Испанией, и конфедерация свободных Нидерландов, этот прототип первого союзного устройства отпавших от Англии американских колоний. Не ранее 1787 года возникает в среде федеративных государств новый тип, каким долгое время остаются одни отделившиеся от Англии провозгласившие свою независимость Северо-Американские Штаты. Вместо того чтобы довольствоваться одним
взаимным обязательством содействовать общей защите денежными взносами и военными контрибуциями, Штаты, не отказываясь от своей автономии, создают общее для них правительство в лице президента и двухпалатного конгресса. Последний является одновременно представительством населения (нижняя палата) и представительством правительств отдельных штатов (верхняя палата, или сенат). Созданием верховного федерального суда восполняется число властей, между которыми соглашением Штатов распределены функции общего для них правительства.
Американский политический строй в течение XIX века служит прототипом при организации английских колоний в более или менее автономные союзы — канадский, австралийский и южноафриканский. Идея федерации переносится и на Европейский континент. Она позволяет Германии и Австрии примирить унаследованную от Средних веков тенденцию к местной обособленности с пробудившимся в XIX веке стремлением к национальному единству. В какой мере федерации удастся побороть те препятствия, какие представляет различие рас и религий, покажет ближайшая судьба Балканского полуострова. Что федерация мыслима и при различии языков и христианских толков, это доказывается существованием швейцарского союза, в состав которого вошли как немецкие кантоны, так и французские и итальянские. Католицизм уживается в ней с кальвинизмом, цвинглианством и лютеранством. Возможно ли будет такое же мирное сожитие магометанства и христианства, тюркской, славянской, эллинской и румынской рас, под условием сохранения каждой ее национальной обособленности, мне лично представляется сомнительным, по крайней мере до тех пор, пока еще жива память о недавних усобицах и вековечной вражде. Если Китаю суждено также стать федерацией, то мы вправе будем сказать, что этой форме политического устройства предстоит сделаться посредствующей ступенью между изолированным суверенным государством и лишенным пока всякой санкции для своих решений международным союзом.
Идея этого международного союза, как не раз указываемо было писателями по международному праву, в том числе Лораном и Каченовским, стала складываться еще в Средние века, по крайней * мере в пределах христианского католического мира. Она связана была с существованием папства и Священной Римской Империи. С Реформацией и сопровождавшим ее на расстоянии столетий падением Империи забота о поддержании международного согласия
и мира пала на союзы великих держав. Первым из них по времени является Священный Союз, начало которому было положено на Венском конгрессе. Одно время он объединил собою восточную и среднюю Европу в стремлении препятствовать не только дальнейшим попыткам установления всемирной монархии, но также конституционным и национальным движениям отдельных народов и государств.
Торжеством этого двоякого течения был положен конец и самому существованию Священного Союза. Сорок восьмой год в этом отношении является инициатором новых политических комбинаций, в которых на двух разных концах оказались с одной стороны Россия, с другой — сгруппировавшиеся около Англии и Франции государства средней Европы. Успешный для союзников исход Крымской войны, сопровождавшейся объединением Италии при содействии Франции, пророчил большую или меньшую продолжительность французской гегемонии. Открывшаяся вскоре за тем борьба Пруссии и Австрии из-за раздела оторванных от Дании княжеств могла бы только служить интересам второй Французской империи, если бы главный руководитель прусской политики не удовольствовался одним устранением империи Габсбургов из состава Германского Союза. Это позволило Пруссии принять на себя всецело миссию национального объединения немецких народностей. Когда же препятствием на этом пути явилась политика французского двора, последовало столкновение 1870 года, вызвавшее к жизни новые союзы государств и народов. Тройственному союзу Германии, Австрии и Италии противопоставлено ныне тройственное соглашение России, Франции и Англии. Новая система противовесов послужила к обеспечению мира, но под тяжким условием напряжения всех финансовых сил государств для создания небывалых еще армий и флотов. Раздел Африканского материка и сфер влияния в Азии осложнил задачи обоих союзов великих держав и сделал их равновесие далеко неустойчивым; Италия обнаруживает несомненное тяготение к Франции и Англии, Россия не прочь приблизиться к Германии, а Франция, по-видимому, не желает углубить бездну, отделяющую ее от Пруссии.
Скоро ли существующей дуализм европейских держав сменится предсказываемым некоторыми писателями, в том числе Новиковым, европейской федерацией,— в настоящих обстоятельствах сказать трудно, но образование ее, разумеется, в смысле простого соглашения между самостоятельными государствами Европы, а не устройства
ими какого-то общего центрального правительства, во всяком случае, не представляется более невероятным, чем последовавшее в недавнее время сближение таких вековых соперников, как Англия и Франция, с одной стороны, Англия и Россия — с другой. Надо прибавить, что европейский союз будет одновременно и мировым, так как своими колониями и протекторатами великие державы распространили сферу своего влияния и на Азию, и на Африку, и на Австралию. Обособленную от них политику вели одни Соединенные Северо-Американские Штаты. Принцип, впервые высказанный президентом Монро, заставлял их ограничивать свою заботливость одними судьбами нового континента, но так как Испания сохраняла на нем еще часть своих исконных владений и заодно с Португалией продолжала обнаруживать влияние на политику южноамериканских государств, то Соединенным Штатам волей-неволей пришлось войти в столкновение с этими державами, не выходя даже из рамок, поставленных для них политикой Монро. С каждым годом североамериканская федерация обнаруживает все более и более желание наложить руку не на одни судьбы Вест-Индии, всецело вошедшей в сферу их влияния со времени успешной войны с Испанией, но и на Бразилию, которая с момента провозглашения республики потеряла прежнюю династическую связь с Португалией. С открытием Панамского перешейка Соединенным Штатам необходимо будет расширить сферу своего влияния и на Центральную Америку. Этого мало: американскому флоту, и в настоящее время плавающему по Тихому океану, сообщение с ним сделается еще легче. Тогда в судьбах Японии, как и вновь возникающей южнокитайской республики, ему суждено будет играть, вероятно, не меньшую, а значительно большую роль, чем французскому или немецкому, по всей вероятности — равную роли английского флота.
И в настоящее время китайская революция происходит под влиянием Соединенных Штатов. Это влияние пока идейное и, вероятно, финансовое; но оно может сделаться и политическим. Тогда великим державам Европы придется в своей китайской политике считаться не с одной Японией, но и с Китаем и с Соединенными Штатами. Из всего этого, по-видимому, можно вывести только , то заключение, что союзам отдельных государств Европы предстоит в будущем перейти в международный союз, так как только при его существовании мыслимо сохранение мира и упорядочение мировой промышленности и торговли. Поэтому, сколько бы ни нарушалось временными войнами и внутренними усобицами, вызываемыми
центробежными стремлениями, то тяготение к замене международных столкновений посредничеством, проведению которого в жизнь должны содействовать трактаты, недавно заключенные Америкой с Францией и Англией, и вся деятельность как гаагской конференции, так и междупарламентских групп и обществ мира, мы все же, не впадая в оптимизм, вправе сказать, что политическая эволюция народов и государств сказывается не в одном только смягчении ужасов войны, но и во все более и более частой замене ее соглашением заинтересованных сторон, при прямом или косвенном участии всех, некоторых или одного какого-либо члена международного союза. Если в начале политической эволюции народов жизненным принципом является тот, который гласит adversns hostem eterna auctoritas, то в наши дни понятие врага не только сведено к одним фактическим участникам в военных действиях, но и в сознание народов проникла необходимость в мирное время распространять на иноземцев, проживающих в пределах государства, многие из тех прав, какими пользуются граждане, и в то же время жертвовать благами мира лишь в интересах сохранения своей самостоятельности, целости территориального и личного состава государства.
Если в сфере внутренней политики забота об обеспечении для народа свободы самоопределения является решающим мотивом, то в сфере внешней тот же принцип порождает желание обеспечить прежде всего свободу участия во всех тех выгодах, какие представляет обмен продуктами собственного производства с продуктами иноземными. Отсюда понятное стремление, предъявляемое государствами, не пользующимися протекторатом над тем или другим вассальным или полувассальным княжеством, обеспечить себе свободу рынка. Отсюда же неизбежное падение рано или поздно всякой протекционной политики, как несогласной с этим руководящим принципом и потому скрывающей в себе семя международных раздоров и войн. По мере того как народное хозяйство из замкнутого и самодовлеющего переходит в мировое, государства становятся все более и более заинтересованными в возможности свободного обмена, а потому одинаково враждебно настроены и к открытым нарушениям мира, и к той прикрытой войне, какую представляет собою искусственное удаление с рынков их товаров с помощью защитительного, а тем более запретительного тарифа. Судьбы мира таким образом тесно сплетены с судьбами торговли.
Если в наши дни войны вызываются погоней за новыми рынками, то немудрено, что конец им настанет только с момента, когда как
завоевательная, так и колониальная политика государств не будет служить препятствием для принятия ими системы открытых дверей по отношению ко всякому иноземному товару.
Подводя итог всему сказанному, мы полагаем, что политически прогресс ведет в конечном исходе к созданию не объединяющего человечество игрового государства, а автономных политических тел, вступающих между собою в постоянные союзы или федерации и побуждаемых к сохранению мира хозяйственным расчетом, заботою о возможном развитии своего производства путем расширения обменов,— а это мыслимо только под условием свободы рынков. Международный союз опирается поэтому на существование автономных государств, объединяемых каждое в одно политическое целое своим историческим прошлым и общностью интересов в настоящем в большей степени, чем единством языка или единством веры. Каждое из этих автономных тел, будет ли им политически централизованное или федеративное государство, в равной мере построено на начале самоуправления народа и самоопределения личности, с чем неразрывно связаны парламентские порядки и признание властью публичных или, что то же, субъективных прав граждан. Стремление поставить в обоих отношениях всех жителей государства в равные условия сказывается как в заботливости государства о начальном даровом обучении и фактическом обеспечении каждому гражданину, попавшему в нужду, права на труд, так и в возможном расширении круга лиц, участвующих в политических выборах. Ко всем этим видам самоопределения присоединяется, в форме референдума или прямого законодательного почина, возможность личного воздействия на законодательную деятельность народных представителей, а в форме всякого рода ассоциаций и временных или постоянных союзов для достижения определенных целей — средство сделать возможным самоопределение не только для частных лиц или для всего народа, но и для посредствующих коллективных групп, профессиональных, образовательных, религиозных, благотворительных, научных, художественных и т. д. и т. д.
Будущее рисуется мне поэтому в форме прочной гармонии не только частных лиц и отдельных групп, входящих в состав единого национального и государственного целого, но и как постоянное согласие и взаимное содействие в мировом хозяйстве самостоятельных государств и их союзов. С точки зрения этой конечной солидарности всех участников международного общения, вся прошлая
эволюция человечества рисуется мне постепенным расширением той тесной замиренной среды, которою на первых порах был род, основанный на материнстве и сменившем его со временем «отечестве». Родовая солидарность уступает в истории место племенной и народной; к последней же прибавляется и тот вид общения, какой существовал, положим, в Риме по отношению к латинским и италийским союзникам, а в древней Греции — по отношению к членам амфиктионий, к городам, островам и землям, признававшим гегемонию Афин и Спарты, позднее же всего к участникам Ахейского и Этолийского союзов.
Все эти виды общения народов и государств встречают подобие себе и в Средние века; но солидарность христианских народов сказывается в это время еще с большей силой в представлении о двух главах мира — папе и императоре. С распадением средневекового строя и церковного единства рост солидарности сказывается в создании политических тел из разрозненных княжеств и городских республик, объединяемых общностью языка и национальности, экономическими интересами и готовностью к общей политической жизни. Образование особых Французской, Испанской и Английской наций является первым по времени выражением успехов, достигнутых этим новым проявлением солидарности. Возникновение же федеральных союзов бок о бок с национальными может быть рассматриваемо как дальнейшая ее стадия. Объединение, наконец, всех этих национальных и федеральных союзов в единый международный будет завершением всего процесса развития и конечным упрочением идеи единства человеческого рода. Оно ограничено было пределами рода, нации и религиозного сообщества (церкви). Расширению круга солидарности не раз препятствовали те предубеждения, которые наглядно сказывались в запрете брачного и всякого другого общения. Такие запреты появляются еще ранее образования каст в экзогамии «тотемистических групп» ив тех «табу», которыми создаются всякого рода средостения между дикарями.
По мере того как касты сменяются менее замкнутыми сословиями, а последние уступают место изменчивым по своему составу классам, падает главное препятствие к росту солидарности в среде отдельных народов и одно только противопоставление бедности и богатства поддерживает рознь и является препятствием для гражданского общения.
Солидарность растет, таким образом, одновременно и в среде государств, и в их отношениях между собою. Все, что в состоянии
будет ослабить рознь между имущими и неимущими, в такой же степени обеспечит торжество солидарности внутри государства, в какой упразднение монополий, созданных в среде международного обмена завоеванием, колониальной политикой, протекторатами и разграничением сфер влияния, доставить победу той же солидарности в международных отношениях.
Мы наметили только общие контуры той картины, какую представляет собою, в тесной связи с экономическим развитием и порождаемым им ростом солидарности, эволюция государства и международного союза. Начертанный нами план легко может быть проведен в подробностях, как при изложении истории отдельных народов, так и тогда, когда речь зайдет о росте всего человечества.
Детальная разработка вопроса очевидно не входит в нашу задачу. Социолог устанавливает одни верховые столбы, указывает общую тенденцию, приводя каждый раз свои выводы в соответствие с другими, столь же общими. Заканчивая эту статью, мы вправе будем сказать, что политическая эволюция стоит в тесной связи с экономической и, подобно ей, отражает на себе рост человеческой солидарности.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СВОБОДЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ СОЛИДАРНОСТИ (Глава из истории прогресса) *
Если бы люди понимали, что они живут не одной своей жизнью, а жизнью всех, то они знали бы, что, делая добро другим, они делают его себе.
Лев Толстой. О жизни и смерти. Друкаръ. Москва. 1910 г., стр. 3
I
Мы все еще живем традициями. Утверждение тех историков, которые полагают, что человеческое развитие представляет собою непрерывную цепь, не отвечая в строгом смысле слова фактам, отражает на себе наше сознание. Прислушайтесь к тому, что говорится с публичной трибуны и что на все лады повторяют журналы и газеты, брошюры и толстые книги. Свобода и равноправие и, в противовес им, опека и неравенство в обязанностях, а соответственно и в правах, владычество закона или правовой порядок, с одной стороны, спасение народа — высший закон, с другой,— да разве все это не понятия и нередко формулы, одинаково хорошо известные и древней Греции и древнему Риму? Ведь справедливость для Платона была немыслима без равенства и не только формального, но и материального; его «ди-киа» отвечает многим из тех требований, которые ставят современные общественные реформаторы, О том, что афинская гражданственность стремилась к изополитии, известно любому школьнику, а что то же тяготение существовало в Риме и нашло позднее удовлетворение себе в реформе Каракаллы, уничтожившего всякие средостения между людьми свободными, признается всяким, кто сколько-нибудь занимался историей. Когда с трибуны Государственной Думы г. Столыпин говорит, что законы должны молчать, раз того требует интерес государства, он сознательно или бессознательно, подобно Робеспьеру, повторяет сложившуюся еще в древнем Риме поговорку.
* Печатается по: Интеллигенция в России: Сб. статей. СПб.: Кн-во «Земля», 1910.
С. 59-88.
Не все дошедшее до нас от древности по тому самому должно считаться кладезем народной мудрости; наряду с истинами уцелели и предрассудки или, точнее, предубеждения. К числу таких необходимо отнести представление о том, что свобода и равенство находятся между собою в необходимом, органическом противоречии. Я не берусь сказать, как возникло впервые такое представление. Мне легче ответить на вопрос, какими данными оно поддерживалось и поддерживается до наших дней. Деспотии Востока могли первые породить мысль о том, что равенство возможно в бесправии, а следовательно, и при отсутствии свобод. Несомненно, однако, что и на Востоке были и продолжают держаться не только сословные, но и кастовые средостения. Не более спорен и тот факт, что покоренные племена обращались здесь в рабство и что те из них, которым дозволено было сохранить некоторую автономию, все же не уравниваемы были в правах с членами господствующей национальности. Но все это, по-видимому, забывают те, чье внимание приковано к одному бесправию подданного перед властителем. Восточный деспот располагал жизнью и смертью всех ему подвластных; неограниченность его произвола, говорящая только об отсутствии свободы, истолковываема была в смысле равенства в бесправии; таким образом возникло ложное представление о том, что свобода в деспотиях уживается с отсутствием каких бы то ни было наследственных привилегий и преимуществ. В действительности же мы встречаем в деспотиях очень резкие сословные и даже кастовые неравенства при полном отсутствие свободы.
Более убедительным могло показаться противоположение друг другу государств эллинского мира, из которых одни с аристократическим устройством сохранили республиканские порядки, а другие, с демократическими — подпали под владычество тиранов и олигархов. Особенно резко разошлись в этом отношении судьбы Спарты и Афин. Афинская демократия, как известно, продержалась недолго, каких-нибудь сто лет, если считать начальным ее периодом реформу Клисфена, а концом — установление правительства тридцати тиранов. Наоборот, аристократическая Спарта, с ее смешанным образом правления, оказалась жизнеспособной в течение ряда столетий. Немудрено, если и до Ксенофонта, и после него считали возможным ставить спартанские порядки в образец всем тем, кто желал придать республике устойчивый характер; немудрено, если этим сознанием не раз проникались политические реформаторы, и если оно лежит в основе учения древних о смешанных формах
политического устройства, как наилучших, учения, одинаково присущего Аристотелю, Цицерону и Полибию. Последние два писателя подкрепляли его примером не одной Спарты, но и республиканского Рима, в котором, при неравенстве в правах патрициев и плебеев, граждан и союзников, свободных и рабов, в течение столетий сохранилась смешанная форма политии. Современник ее падения, благодаря росту власти императора, Тацит, признавая эти исчезавшие порядки наилучшими из всех существующих, в то же время сомневался в их прочности и продолжительности. Наступали времена единовластия, при котором прирожденные неравенства не спасали народа от произвола, а следовательно, и отсутствия свободы. Наступали времена, когда дальнейшее развитие всесословности, при неограниченности императорской власти, стало поддерживать в свою очередь фальшивое представление о том, что равенство непримиримо со свободой. На самом деле факты, на которых опирались эти чересчур поспешные обобщения, нимало не оправдывали того предположения, что с ростом равенства гибнет свобода, и наоборот. Римляне, разумеется, были не менее свободны к концу Пунических войн, чем в эпоху отхода плебеев на Священную гору, а между тем какая бездна отделяет эти две эпохи, если иметь в виду политическое бесправие плебеев в эпоху, предшествовавшую Гракхам. Не все средостения пали и с империей; когда провинциалы впервые при Каракалле уравнены были в правах с квиритами, не этот факт вызвал упразднение свободы, так как она была потеряна значительно ранее.
Средневековая политическая мысль питалась мудростью древних. Плутарх, Цицерон и Полибий в первый период схоластики были такими же авторитетами, какими с ХШ века стала вновь открытая «Политика» Аристотеля, а с эпохи Возрождения — трактаты Платона «о республике» и «законах». Немудрено поэтому, если и учение о том, что основанная на неравенстве в правах смешанная форма политического устройства всего более благоприятная сохранению свободы, одинаково встречается и у тех писателей, для которых высшим учителем политической мудрости был Цицерон и Полибий, и у тех, которые, подобно Фоме Аквинскому, заменяли обоих Аристотелем и пытались распространить его учение о преимуществах смешанного устройства на сословные представительные монархии, в частности на Священную Римскую империю. У Фортескью и Коммина в XV веке, как и у Макиавелли и Бодэна в следующее за тем столетие, мы равно находим отголосок тех взглядов, какие в древности высказывались по поводу Спарты и Рима, как типов
смешанного политического устройства. Английские и французские писатели одинаково опирались при защите, один — парламента, другой — генеральных и провинциальных штатов, на уподоблении отстаиваемого ими строя сословной представительной монархии с аристократическими республиками древности, несравненно более жизнеспособными, утверждали они, чем едва продержавшееся одно столетие «владычество черни» или охлократия в Афинах. Стремление к равенству казалось поэтому исключающим возможность свободы.
И когда к прежним фактам присоединился новый — падение Флорентийской республики благодаря тирании Медичей и, наоборот, упрочение свободных порядков в аристократической Венеции, или республике Св. Марка, доктрина, приписывавшая уравнительным стремлениям разлагающий характер по отношению к свободному государству, приобрела для себя новую пищу. Политические реформаторы Флоренции, как показывает пример Джанотти, стали проникаться желанием содействовать возрождению свободы копированием венецианских порядков. Одновременно сами венецианцы, начиная с Контарини и Парутта и оканчивая Сарпи, на все лады распространяли тот взгляд, что республика Св. Марка со своим смешанным устройством, напоминающим одинаково Спарту и республиканский Рим, может служить новым доказательством тому, что свобода легче уживается с неравенством, чем наоборот.
Столетие спустя, когда, по свидетельству Гоббса, впервые зародилась в среде английских политиков ненавистная ему мысль о разделении властей и политических противовесах, как условиях, благоприятных свободе, к числу фактов, долженствовавших содействовать упрочению доктрины об антагонизме последней с равенством, присоединен был еще один — исчезновение сословных представительных учреждений на континенте Европы и в частности во Франции, благодаря уравнительной политике континентальных самодержцев, и сохранение свободных учреждений в Англии бок о бок с господством аристократии и сословного неравенства. Один из родоначальников этого нового учения, Альджернон Сидней, прямо говорит об Англии, как о смешанной форме политического устройства, во многом сходной с порядками ' римской республики, а Джон Локк, ранее Монтескье построивший доктрину разделения властей с оговоркой, что законодательная имеет перевес над исполнительной, ранее же Монтескье пишет рассуждение о судьбах Рима и ставит их в связь сперва с наличностью,
а затем с потерею свойственной ему системы распределения государственных функций между сановниками, сенатом и народными комициями. Зародившееся еще в Англии учение о связи свободы с сохранением сословных средостений и политических привилегий дворянства получает мировое признание, благодаря включению его Монтескье в число тех законов или «необходимых отношений, вытекающих из самой природы вещей», раскрытию которых должна была служить его книга. Автор «Духа законов», поставившего впервые в образец всем народам, ищущим свободы, политические порядки Англии, в то же время издает трактат «О величии и падении Рима», в котором красною нитью проходит его любимая мысль о связи свободы с разделением властей и смешанным порядком политического устройства. Эти смешанные порядки, по его мнению, общи были одно время всем тем народам, которые призваны были к жизни германскими нашествиями. Свобода зародилась в лесах Германии, говорит он, и на расстоянии более ста лет ту же мысль повторяет за ним английский историк Фриман, связывающий существование этой свободы с наличностью у германцев в первые периоды их жизни смешанной формы политического устройства — короля, совета и народного собрания. Они кажутся ему зародышами трех составных частей английского парламента — короля, лордов и общин. Признавая за сто с лишним лет до Фримана готическую «монархию» порождением первобытной свободы германцев, Монтескье полагал, что всюду на континенте она упала под ударами уравнительной политики абсолютных правителей. Сохранилась же она и процвела только в Англии, да еще в немногих странах им прямо не названных, но в которых легко признать Швецию, Венгрию и Польшу с их уцелевшими сеймами, составленными из сословных представительных палат. Для Монтескье Англия — одновременно и смешанная монархия, постигшая ту истину, что дворянство, как представляющее меньшинство народа, необходимо бы исчезло под ударами уравнительной политики, если бы ему не обеспечена была привилегия служить тормозом по отношению к мерам, принимаемым народными представителями. Отсюда необходимость разделить законодательные функции между палатою общин и палатою лордов; иначе нивелирующая политика монархов, образец которой представили короли Франции, упразднившие штаты и грозящие дальнейшему существованию политических прав высших судебных палат, сотрет с лица земли существование в Англии и сословного неравенства, и тесно связанной с ним политической свободы.
Французская революция воспринимает далеко не в чистом виде доктрину Монтескье. Она отбрасывает все сказанное им о связи разделения властей с политическими привилегиями сословий и строит здание нового государства на почве народного суверенитета. Демократическая монархия, созданная конституцией 1791 года, вскоре оказывается неустойчивой. Она уступает место уравнительной республике, которая, при главенстве «комитета общественного спасения», в свою очередь руководимого якобинским клубом, постепенно вырождается в тиранию. Таким образом, людям, пережившим тот ряд событий, который открылся переворотом 10 августа, положившим конец монархии, и далеко не закончился 9-м термидора и наступившим затем белым террором, вполне обоснованным могло показаться утверждение, что оба начала — свободы и равенства — противоречат друг другу.
Одним из первых истолкователей такого учения надо считать Бежамэна Констана, а наиболее полным выразителем его в применении к судьбам французской революции явился не кто иной, как Редерер, одно время выдающийся ее деятель, а впоследствии сотрудник Наполеона Бонапарта при создании им консульства и империи.
Вот приблизительно тот путь, каким шло развитие доктрины, слабый отголосок которой можно найти и у авторов «Вех». Они не задаются мыслью об ее обосновании, считая излишним всякую аргументацию, когда дело идет о таком труизме. Но труизм ли это? Мы старались показать, что нет. Из всего нами сказанного с очевидностью вытекает то положение, что отсутствие свободы совпадало с неравенством, и что исчезновение последнего не только не умалило ее, а, наоборот, пошло с нею рядом. Восточные деспотии построены были на неравенстве, как на неравенстве держалось владычество эвпатридов и патрициев. Нивелирующая пс литика, императоров ли древности, или средневековых королей, имела в виду упразднение не гражданского неравенства, а только политических прав высших сословий. Неравенство исчезло одновременно с упрочением свободы: в 1789 году — благодаря декретам Учредительного Собрания, предшествуемым освободительными указами Людовика XVI, в числе других эдиктом о веротерпимости, в Наполеоновскую эру — под влиянием насильственного распространения в большей половине Западной Европы, под именем наполеоновских идей, начал гражданского кодекса, подготовленного деятелями революции и «декларации прав человека и гражданина», восходящей к той же
эпохе. Революции 1830 и 1848 годов, с их отражением и на островах Великобритании, содействовали упрочению, в одинаковой степени, начал свободы и равенства. Так называемые французами необходимые вольности, т. е. публичные права граждан, не подверглись, следовательно, ограничению по мере умаления избирательного ценза и увеличения как функций представительных палат, так и их независимости по отношению к власти.
Я сказал, что тот же процесс параллельного развития свободы и равенства известен и Англии. В подтверждение этой мысли мне остается сослаться на то, что акт эмансипации католиков в 1829 году только тремя годами предшествовал избирательной реформе 1832 года и демократизации местного управления законом 1835 года. Весь последующий ход развития и избирательного права, я разумею реформы 1867 и 1884 годов, и местного управления в графствах и городах, в смысле все большего и большего расширения круга лиц, призываемых к участию, как в общем управлении государства, так и в местном, нимало не сопровождался в Англии ограничением свободы личного самоопределения, а, наоборот, совпал с отменой последних законодательных ограничений, связывавших эту свободу.
Если во второй половине прошлого столетия изредка еще слышался перезвон старинного напева об антагонизме равенства со свободой, то, по-видимому, главным образом в связи с тем фактом, что всеобщее голосование не помешало упрочению во Франции Второй Империи, неблагоприятно относившейся к автономии личности, свободе ее физических, а тем более нравственных, проявлений. Но всеобщее голосование, восстановленное Наполеоном III, само же подготовило сперва реформу империи на либеральных началах, а, со времени франко-прусской войны, и замену ее республикой. Таким образом, уравнительное движение на некотором расстоянии оказалось естественным союзником свободы.
Новейшая русская действительность не идет наперекор этой истине: стоит только напомнить, что сокращение размера недавно дарованных нам вольностей следует за контрреформой нашего представительства на началах указа 3 июня 1907 года.
Итак, ни в древней, ни в новой истории, нельзя найти оснований для утверждения, что развитие свободы шло в ущерб равенству, а равенства — в ущерб свободе. Этому предубеждению пора положить конец. Вот почему меня немало поразили в «Вехах» фразы в роде следующей: «тирания общественности искалечила личность».
Не менее приведен я был в смущение высказанной авторами «Вех» надеждой, что «тирания гражданственности сломлена ныне, после неуспеха освободительного движения, надолго», и что «в русском человеке мораль альтруизма и общественности растает». Целый ряд других столь же туманных фраз прикрывают собою в «Вехах» какое-то смутное представление о том, что за служением обществу теряется из виду неоцененное благо, каким несомненно является свобода личного самоопределения.
II
В противность еще, по-видимому, модному у нас учению о противоречии равенства и свободы, западноевропейская мысль, идет ли она по руслу развития индивидуализма, или примыкает ко все более и более развивающемуся потоку социалистического движения, признает почти аксиомой, что прогресс личности немыслим без прогресса общественности, и что, в частности, эмансипация индивида связана с развитием опирающейся на равенство солидарности. Эта солидарность, как показали одновременно — в Германии Зиммель, а во Франции — Дюркгейм, подчеркивая более резко мысли, давно проникшие в сознание социологов положительной школы, сводится к тому, что в обществах первобытных, не знающих разделения труда, группы людей составлены из единиц, однородных и связанных между собою весьма тесно, тогда как самые группы чужды и враждебны друг другу. Прогресс общественности сказывается в том, что тесный круг переходит в более широкий, включающий в себя несколько прежде обособленных общественных единиц. Этот процесс происходит параллельно и в зависимости от другого. Первоначальная однохарактерная по своему составу группа все более и более дифференцируется благодаря разделению труда. Общественная солидарность начинает опираться на новом начале — распределения функций, создающем большую зависимость между лицами, отправляющими каждый только одну из этих функций. Эти мысли, еще крайне отвлеченно изложенные Зиммелем в его небольшой монографии «Soziale Differenzierung», несравненно выпуклее выступают в сочинении Дюркгейма «О разделении труда». Отправляясь от той мысли, что солидарность — феномен нравственного порядка, не допускающий поэтому ни прямого наблюдения, ни тем более арифметического
подсчета, Дюркгейм полагает, что при решении вопроса о том, в какой степени отдельные человеческие общества проводят это начало, необходимо поставить, вместо внутреннего факта солидарности, ускользающего от нашего наблюдения, внешний его символ — право. В эпоху разобщенных и обыкновенно враждебных между собою мелких групп, связанных представлением о действительном или мнимом родстве их членов, сила общественного сознания, говорит Дюркгейм, сказывается одинаково и в умственном единении, и в имущественном, а также в строго репрессивном характере тех карательных норм, которые рассчитаны на удержание от действий, противных солидарности. По мере того как общественное сознание становится менее интенсивным, исчезают указанные особенности архаических обществ. Что же в этом случае служит им заменой? Что продолжает связывать между собою членов все растущей в своем объеме общественной среды, которой ранее был род, теперь племя и союз племен,— народ государства? Дюркгейм отвечает: разделение труда. Так как, пишет он, механическая солидарность слабеет со временем, то произойдет одно из двух: или последует упадок общественной жизни, или новая солидарность займет место прежней. Этот последний исход в действительности и имеет место, благодаря тому что разделение труда становится той связью, какая объединяет собою членов социального агрегата высшего типа. Историческим законом надо считать, по мнению Дюркгейма, тот, в силу которого механическая солидарность первоначальных, разобщенных групп заменяется органической.
С переменой в характере солидарности изменяется и сама общественная структура. Двум различным типам солидарности отвечают и два различных социальных уклада. При отсутствии или слабом развитии разделения труда численно небольшая группа представляет собою однородную массу. Дюркгейм выбирает для нее название орды. Группа, которую он имеет в виду, отвечает, однако, несравненно более понятию «стада», чем тому историческому явлению, каким были татарские орды. В доказательство существования таких недифференцированных сообществ Дюркгейм ссылается на быт американских краснокожих и негритосов Новой Голландии. Помимо различий, порождаемых возрастом и полом, индивиды, входящие в состав названных народностей, не знают между собой никаких иных. Руководительство их группами принадлежит старейшинам или советам старейшин, при чем решающим обстоятельством при выборе тех и других лиц является один возраСт. Ни переход от ма
теринства к отечеству, ни обособление правительственных функций не изменяют характера связывающей членов группы солидарности: она остается по-прежнему механической; она остается ею даже тогда, когда власть начальников становится неограниченной. Ее отличительный признак тот, что отношения как власти к подданным, так и подданных между собою не основаны на принципе взаимности, предполагающем существование договора или соглашения.
Не в личных, а в общественных условиях, лежит, по мнению Дюркгейма, ключ к пониманию причин, по которым разделение труда прогрессирует с течением времени. Этот прогресс идет рука об руку с упадком общественных структур, построенных на начале механической солидарности, а отсюда естественное основание искать причинной связи между обоими явлениями. Исчезновение групп, построенных на механической солидарности, ведет к разделению труда, потому что между членами, составляющими их, происходит более интимное сближение. Разделение труда, пишет Дюркгейм, прогрессирует по мере того, как растет численный состав самой группы. Решающим обстоятельством является в данном случае сгущение населения, сделавшее возможным активный обмен услуг между членами группы, и происходящее отсюда сближение их. Свою мысль автор доказывает ссылкой на общеизвестный факт, что первобытные общества живут рассеянно, тогда как в культурных происходит концентрация жителей. Та же концентрация, как последствие большего разделения труда, выступает при сравнении города с селом. Но если общество, сгущаясь, тем самым вызывает разделение труда, то в свою очередь — это разделение увеличивает сплочение общества. Причина, по которой разделение труда в более численных обществах развивается быстрее, лежит в том, что борьба за существование в них более интенсивна. Но если индивиды, живущие бок о бок, принадлежат к различным родам и видам, они менее стесняют друг друга, так как находят различный источник для поддержания своей жизни. Этот закон установлен был Дарвином по отношению к животному царству; люди, говорит Дюркгейм, одинаково подчиняются его действию. В одном и том же городе разные профессии могут существовать рядом, не причиняя вреда друг другу, но чем ближе сходятся функции двух профессий, чем более между ними общего, тем вероятнее становится их столкновение и соперничество. Понятно, что при таких условиях рост населения, сопровождающийся большей его густотою, необходимо вызывает дальнейшее разделение труда. Но не одной густотой
населения обусловливается все большая и большая специализация общественных функций. Дюркгейм указывает и на другие причины. С упадком общественного сознания, поддерживавшего единство в обществе, построенном на механической солидарности, разделение труда становится источником новой. Можно поэтому видеть в упадке общественного сознания причину, благоприятную разделению труда.
В тесной связи с только что намеченной, разумеется, в самых общих чертах доктриной стоит недавняя попытка Дюги показать, что нет коллективного интереса противоположного индивидуальному. Социализация, рассуждает он, возрастает в прямом отношении к разделению труда. Разделение же труда развивается в полном соответствии с его индивидуализацией. Отсюда следует, по мнению Дюги, что социализация и индивидуализация не исключают друг друга. Противуположение индивидуального коллективному не отвечает действительности, пишет он на странице 81 своей книги «Государство, объективное право и положительный закон». Человек не может сохранить своего существования вне солидарности с себе подобными: только при ней он способен уменьшить сумму своих страданий. Всякий акт индивидуальной воли, клонящийся к реализации общественной солидарности, должен необходимо вызвать к себе уважение, т. е. признание. Первое правило поведения — это уважать всякий акт индивидуальной воли, преследующий реализацию общественной солидарности. Смутно это правило уже проводится на низших ступенях общественности. Но из этого первого правила вытекает и второе; оно гласит, что никто не должен совершать действий, преследующих цели, не отвечающие общественной солидарности или противные ей. Остановилось ли на этом развитие человеческого сознания, спрашивает себя Дюги, или в это сознание проникло и третье правило — обязательности для каждого таких действий, которые бы отвечали общественной солидарности? Дюги дает утвердительный ответ. Рано или поздно, пишет он, люди приходят к убеждению, что обязаны содействовать реализации общественной солидарности. К этому и сводится требование права. Такой запрос обращен ко всем людям. Но так как их способности различны, то это третье правило поведения предъявляет требование разумных действий, направленных к упрочению солидарности, сообразно способностям каждого. Содействовать разделению труда, как необходимому элементу общественной солидарности, равнозначительно на деле затрате личных дарований так, чтобы сделался возможным
обмен услугами. Ведь от такого обмена и происходит солидарность. Каждый служит обществу, кооперируя с другими по мере своих личных возможностей. Правило поведения, вытекающее из сознания солидарности и которое для Дюги составляет норму права, одинаково обязательно и для властвующих, и для подвластных; им подчиняются как правительство, так и подданные. Отсюда следует, что правительство может пользоваться силой, поставленной в его распоряжение, только в интересах общественной солидарности. Нормы поведения, обязательные в равной мере для властных и подвластных, не отличаются косностью: они и постоянны, и изменчивы, постоянны в том смысле, что их содержанием всегда является требование кооперировать с другими в интересах общественной солидарности; изменчивы же потому, что сама эта солидарность проявляется в разных формах. В прошлом она вылилась сперва в форму орды, позднее — рода, еще позднее — города-государства, а в наши дни она выступает в форме народа-государства. Будущее может поставить нас лицом к лицу с новыми типами общежития. Но всем им одинаково было и будет присуще требование солидарности и отвечающего ей поведения, а следовательно, и права, как обнимающего собою нормы этого поведения. Дюги относится отрицательно к учению естественного права, будто нормы поведения установлены с самого начала и навсегда. Правило поведения, обусловленное интересами общественной солидарности, должно считаться нормою права, по его мнению, а не морали. Различия по существу между тем и другим провести нельзя; но следует признать, что нормы, еще не успевшие настолько проникнуть в общее сознание, чтобы в соблюдении их все видели необходимое условие общественной солидарности, должны считаться нормами нравственности, все же остальные — нормами права. Мораль имеет в виду оценку действий со стороны их внутреннего достоинства, но когда мы говорим о правилах поведения, вызываемых требованиями общественной солидарности, мы имеем в виду ту или другую их оценку с точки зрения общей пользы. А из этого следует, что мы имеем в данном случае дело с нормами права, а не с нормами нравственности. Всякий индивидуальный акт воли, преследующий цели, согласные с нормами права, может считаться актом юридическим. Если акт индивидуальной воли не вызывается общественной солидарностью, он лишен юридического значения. Организованная и сознательная воля общества не становится в его распоряжение: наоборот, она должна обнаружить свое вмешательство или с целью
воспротивиться вытекающим из него последствиям, или с тем, чтобы подавить его и сделать невозможным повторение в будущем.
Такова в общих чертах новейшая доктрина о тесном отношении между правом и требованиями общественной солидарности. Ее конечный вывод не расходится с тем, к какому приводит нас сравнительное изучение права на различнейших ступенях общественности. Он гласит, что гораздо ранее возникновения государства, в эпоху существования сперва материнских, а затем патриархальных родов, уже имелись нормы права. Все они имели в виду упрочение и укрепление того, что мы обнимаем понятием общественной солидарности, в частности сохранение и развитие существующих групп. Отсюда заботливость этих норм о том, чтобы изъять эти группы от действия того обычая кровной мести, который являлся проявлением в междуродовых отношениях начала борьбы за существование. Только этим можно объяснить, почему убийство человека не принадлежащего к одному роду с убийцей, считалось похвальным, тогда как убийство родовича недозволенным и сильно осуждаемым действием, почему та же мера применялась к охранению чужого имущества, смотря по тому, принадлежит ли оно постороннему роду или члену одного сообщества с похитителем. Если враждебный акт, совершенный чужеродцем, требует отмщения, то однохарактерный поступок, раз он исходит от родовича, отнюдь не вызывает собою кровной мести; он сопровождается одним лишь, удалением виновного из той замиренной среды, какую образует род.
Таким образом задолго до возникновения государства в интересах устойчивости общежительных союзов, т. е. из-за заботы о сохранении солидарности, возникают уже общеобязательные нормы, которыми индивидуальные поступки признаются дозволенными или недозволенными действиями, сообразно тому, отвечают ли они требованиям общественной солидарности, или не отвечают. Те действия, которые не согласны с устойчивостью родового союза, его дальнейшим существованием, осуждаются, другие же наоборот. Поэтому присвоение чужого, будет ли им женщина, или имущество, признается похвальным, раз дело идет о лицах, стоящих вне родового общения, но считается, наоборот, предосудительным, когда сторонами являются родовичи. Причина очевидно та, что в первом случае нет опасности для целости союза, а в последнем такая опасность существует. Из всего этого следует, что уже на низших ступенях общественности право совпадает с понятием нормы, приводящей
свободу индивидуальных лиц в соответствие с требованиями общественной солидарности.
Итак, сравнительно исторический метод в применении к занимающему нас вопросу вполне подтверждает то основное положение, по которому первоначально не было и не могло быть противоположения коллективного индивидуальному. Ведь индивид заинтересован в существовании той общественной группы, которой он является членом; без нее он оставлен был бы на произвол судьбы в борьбе с более сильными, чем он, врагами. Чтобы обезопасить себя от окружающих их опасностей, людям необходимо войти в состав той замиренной среды, какой является материнский или отеческий род. На этой стадии развития закон сохранения энергии требует от каждого члена родового сообщества того сокращения сферы проявления своей мощи, при котором возможно поддержание мира в родственной среде. Отсюда запрет частного присвоения и жен, и имуществ, отсюда первобытный родовой коммунизм и возникновение одного из распространеннейших в мире правил поведения — обычая экзогамии, при котором постоянное брачное сожитие возможно только с чужеродкой. Все эти нормы, с которыми тесно связана и организация начальствования в границах родовых сообществ, положение старейшины, как первого между равными, и отсутствие всяких различий между лицами, ему подчиненными, вызваны также к жизни частным проявлением общего закона сохранения энергии. В условиях охотничьего и рыболовного хозяйства кровные или родовые сообщества, очевидно, могут иметь лишь весьма ограниченный личный состав. Для защиты от врагов, членам их надо тесно сплотиться между собой, стать едиными телом и духом. Но это предполагает между ними отсутствие всяких средостений, всяких различий во влиянии и власти, помимо тех, каких требует подчинение общему руководительству. Отсюда равенство в правах и обязанностях, отсюда тесное общение живых поколений с усопшими, построенное на начале взаимного обмена услуг. Совершение поминок и отмщение обид, нанесенных чужеродцами, входит в состав вынуждаемых обычаем норм, в такой же степени, как и правила, руководящие выбором невесты или размером имущественного пользования отдельных семей. Равенство прав и обязанностей существует бок о бок с равенством в хозяйственной деятельности. Все входящие в род семьи одинаково участвуют в охоте и улове, нередко производимом большими партиями, причем добыча поступает в большей или меньшей степени в общее пользование. Если
разделение труда и сказывается, то только в распределении занятий между полами. Военные походы и охота на дикого зверя — более обычное занятие мужчин.
При увеличении числа членов путем естественного роста, добровольного или насильственного сближения отдельных родов и образования тем самым племенных союзов, первобытные промыслы оказываются неспособными поддержать существование возросшего в своей плотности населения. Удачные опыты приручения некоторых животных ведут к развитию скотоводства. Для ухода за стадами оказывается возможным приставить к ним ранее истребляемых пленных. Обладание движимым имуществом и рабами вносит начало неравенства и ведет к дальнейшему росту разделения труда. Когда к другим видам наживы присоединяется утилизация почвы под посев злаков, садоводство и огородничество, рабы приобретают особую ценность, и насильственное применение их труда дает возможность отдельным семьям расширить пределы своего земельного пользования и не приспособлять его к удовлетворению одних неотложных потребностей. Таким образом, возникает обособление профессий; оно присоединяется к начальному разделению труда между полами.
Рост духовного и светского руководительства, обособляющегося в особые касты и сословия, только усиливает и ускоряет процесс дифференциации занятий. С переходом от родовых порядков к государственным, хотя бы в тех скромных размерах, какие представляла греческая ПоЛ.1^ и латинская civitas, недифференцированные группы людей сменяются такими, в которых общественная солидарность построена на обмене услуг между лицами разных профессий, разного экономического положения. В них закон сохранения энергии требует связанного с разделением труда неравенства, но только в тех размерах, при которых оно не препятствует общественному единству или солидарности всех граждан. Отсюда запрет обращать в рабство единородцев и присваивать себе превышающую семейную нужду долю в общих полях. Еще в XVII веке, строя трудовую теорию возникновения собственности, английский мыслитель Локк указывал, что апроприация, производимая этим путем, находит свой предел в требовании, чтобы «для присвоения другими членами гражданского сообщества или государства оставалось достаточное число равнокачественных предметов». Говоря это, Локк высказывает отвлеченное начало, но сравнительная этнография и сравнительная история права вполне подтвердили его теорию.
Захватное пользование в пределах неразделенных земель — этот древнейший тип мирского владения — оканчивается там, где новое присвоение сделало бы невозможным утилизацию общей собственности всеми прочими членами civitas, т.е. городской или сельской общины, в границах их действительной нужды. Поддержание в этом отношении требований общественной солидарности ведет к замене захватного пользования уравнительными переделами. Убедиться в этом можно на примере, представляемом историей землевладения в Южной России среди казаков донских, черноморских, кубанских и уральских, и в равной мере в северо-западных провинциях Индии и Пенджабе. Новейшая эволюция сибирского землевладения, так обстоятельно изученная А. Кауфманом, служит новым подтверждением сказанного.
Только что описанный процесс находит необходимое отражение себе и в праве. Общий обычай регулирует порядок подчинения женщин мужчинам, рабов — хозяевам, съемщиков скота — его владельцам, съемщиков земли — ее собственникам. Но проводимое правом неравенство еще относительное. Оно не исключает возможности равной защиты общих всем названным группам интересов,— интересов сохранения жизни их членов. Отсюда сравнительно поздно возникающее различие в выкупах за убийства и ранения, смотря по месту, занимаемому обиженным на общественной лестнице. Так, например, по «Русской Правде», повышенное «головничество» взимается только в случае, когда обиженным является огнищанин, т. е. человек, принадлежащий ко двору князя; все же остальные свободные пользуются равной защитой по отношению к нарушителям мира. Сказанному не противоречит и то, что выкуп за раба всегда ниже, чем за свободного. Ведь раб по своему происхождению чужеродец. На него, следовательно, не распространяются нормы защиты, которыми пользуются граждане civitas. Первоначальное отношение обычая к убийству раба — как к пропаже имущества, возмещаемого хозяину равноценным предметом.
Мы не продолжим этого по необходимости краткого очерка развития общественной солидарности и его отражения в праве по мере дальнейшей дифференциации и интеграции общественных функций. Оно совершается неизменно и далее в направлении, указанном законом сохранения энергии. Удовольствуемся также простым замечанием, что проводимая здесь точка зрения применима одинаково к организации и входящих в состав государства союзов: общины и поместья, а равно и общежительных братств, торговых
гильдий, ремесленных цехов, каст, сословий и классов. Но когда речь заходит о только что перечисленных группах, задача исследователя осложняется от того, что в них не легко выделить сторону самостоятельного развития и то, что привносится в него извне параллельной эволюцией государства из городского и феодального в национальное. Я полагаю, однако, что и без дальнейшего настаивания на связи, какую разделение труда при кастовом, сословном и классовом строе, сохраняет с необходимостью правовой защиты требований общественной солидарности, каждому будет ясно, что с сравнительно-этнографической и сравнительно-исторической точки зрения переход от самодовлеющих хозяйственных групп, какими является расширенная семья и род, к группам, нуждающимся в обмене, каковы касты, сословия и классы народа-государства, предполагает в интересах сохранения столько же хозяйственного, сколько политического союза, сочетание автономии личности с общественною солидарностью.
I
'I Ш
Защищаемая нами точка зрения еще недавно принуждена была считаться с тем возражением, будто самое понимание свободы, как относительной автономии личности, совершенно недоступно было ни древности, ни Средним векам. Ходячим было утверждение, что античное государство поглощало собою личность. Чтобы доказать это, не считали нужным ссылаться на одни деспотии Востока, но также, на пример, греческий ПоЛлС, и латинской civitas. Бенжамен Констан и Эдуард Лабуле, на расстоянии немногих десятилетий, сумели одинаково заинтересовать широкие круги читателей рассуждениями о причинах, по которым древнее государство, в отличие от современного, обеспечивало личной самодеятельности меньший простор. Один настаивал на той мысли, что самое понятие о свободе у древних народов было иное, чем у новых. Они разумели под ней участие в политической власти, а не автономию личности. Другой полагал, что источник различия лежит прежде всего в религии. Христианство провозгласило независимость внутреннего человека; оно впервые ввело в мир понятие о свободе совести, свободе религиозной. По образцу же последней сложилось представление и о всех других видах индивидуальной свободы. Недавно одним немецким профессором сделана была даже Попытка приурочить
к одной реформации почин этой перемены в отношениях личности и государства. Еллинек старался доказать, что учение о естественных правах человека восходит самое большое к эпохе разрыва народов Западной Европы с римской или католической церковью. Говоря это, он разумеет время появления Лютеровой ереси и зарождения кальвинизма, у английских представителей которого — пресвитериан, впервые возникла мысль о составлении и своего рода декларации прав, если не человека вообще, то свободно рожденного англичанина в частности. В противность всем этим учениям я полагаю заодно с большинством социологов и политиков нашего времени, что причина, мешавшая широкому развитию индивидуализма в древних обществах, лежит не во всемогуществе государства, а в той тесной зависимости, в какую личность была поставлена от семьи, рода и племени, или той «филе» и «трибы», о которой заходит речь в греческих или римских источниках. Сказанное применимо в равной мере и к Средним векам, к быту кельтов, германцев и славян, как до, так и после, обращения их в христианство. Нет, следовательно, основания противополагать в этом отношении античную и языческую культуру культуре новых народов, культуре христианской. Упадок того влияния, какое кровные союзы оказывали на руководство индивидом не только в детстве и отрочестве, но и в периоде его возмужалости, достаточно объясняет нам причину, по которой сфера самодеятельности личности несравненно шире в государствах нового времени, нежели в первые столетия Спарты, Афин и Рима, а также в раннем средневековье. Но одного сказанного недостаточно, чтобы понять причину расширения сферы личной самодеятельности в наше время. Нужно принять еще во внимание следующее. Не одно древнее общество, но и средневековое приближалось по своему типу к военному лагерю. Интересы завоевания и защиты имели в нем решительный перевес над интересами мирной культуры, торгового, умственного и художественного обмена. Но военный строй общества необходимо предполагает строгую дисциплину, подчинение индивида чужому руководительству снизу доверху, на всех ступенях общественной лестницы, вплоть до верховного сюзерена-государя, вождя народа и войска. Таким повелителем мог быть одинаково и царь гомерической Греции, и афинский архонт-базилевс, и римские консулы, и средневековый король и герцог в любом феодальном обществе.
С упадком милитаризма и постепенной заменой его индустриализмом сфера самодеятельности человека расширяется обратно
пропорциально правительственной опеке. Те политические тела, в которых военные интересы остаются преобладающими и в новое время, представляют доселе наибольшее подавление личности государством. Это можно было сказать, например, о Пруссии еще в эпоху прямых предшественников Фридриха Великого, когда, по словам посетившего эту страну Монтескье, никто не был уверен, что его насильно не забреют в солдаты, и жизнь каждого протекала под бдительным и докучливым надзором явных и тайных агентов правительства. Так было не только в Московском царстве, но и в Российской Империи, где вплоть до Петра III каждый дворянин прикреплен был к службе, как крестьянин — к земле и тяглу.
Военный строй общества необходимо вызывает к жизни группировку людей не по одному характеру занятий и роли их в производстве, но и соответственно тому, какое участие кто принимает в наступательной и оборонительной деятельности государства по отношению к соседям. Отсюда расходящаяся во многом с классовой сословная организация. Первая отличается относительной подвижностью, вторая — несравненно большею косностью. Чем совершеннее сословный строй, тем он более приближается по своей инертности и постоянству к кастовому. Замкнутость служилого сословия, разумеется, менее значительна, чем военной касты в Индии или Египте; но она все же существует, и ею объясняется относительная непроницаемость и русского дворянства — этого наследника служилых людей Московской Руси. Упадок замкнутости сказывается по мере того, как все новые и новые элементы вводятся в состав сословия. Укажем для примера хотя бы на следующее. Французское дворянство в то время, когда о нем писал Мирабо Старший, уже перестало быть тем чистокровным рыцарством, каким оно было в эпоху крестовых походов. Включение в него так называемых «облагороженных» и лиц, приобревших его за деньги или покупкою судебной должности, сделали его столь же открытым, как и современное «благородное сословие в России», доступ к которому дает государственная служба в связи с государственным экзаменом или награждением определенными знаками отличия.
Поддерживаемая милитаризмом сословная организация необходимо ограничивает свободу личности. Ведь каждое сословие наделено по отношению к входящим в его состав лицам известными правами, стесняющими их самодеятельность. Чтобы не ходить далеко за примерами, укажу на те уродливые проявления, какие еще в наши дни принимает опека сословия в отношениях дво
рянских губернских обществ к лицам, неполитичное поведение которых, вопреки истине, подводится ими под понятие бесчестного поступка. Сопровождающее такое признание постановление «исключить из своей среды» провинившегося сочлена влечет за собой сокращение его прав гражданина, как-то: права выбирать и быть выбранным, права исполнять обязанности опекуна и присяжного поверенного; другими словами, оно сокращает сферу его самодеятельности. Если в наши дни при включении в основные законы основного принципа всякого правового государства — равенства всех перед законом — еще держатся такие порядки, то можно судить, каким бременем падала на подданных сословная организация в древности и в Средние века, в то время, когда военные интересы имели решительный перевес над гражданскими. Вся жизнь человека регулировалась кастовыми запретами и представлениями о сословной чести. Индивид в такой же, если в не большей, степени был связан нравами и предрассудками, сколько законодательством. И в семейном быту, и при выборе профессии над ним тяготело понятие о сословном долге. Еще в 1789 году, когда депутаты, посланные в Париж, снабжались наказами со стороны избирателей, среднее сословие напоминало дворянству о необходимости жить благородно — vivre noblement — и выводило отсюда то правило, что дворяне не должны сами хозяйничать в своих имениях, а сдавать их в аренду членам буржуазии и крестьянства. Французская поговорка «noblesse oblige» была не пустой фразой в то время, когда вступление в неравный брак,— так называемая mesalliance,— приравнивалось маркизом Мирабо к желанию «удобрить свои поля» — firmer ses terres — и с точки зрения дворянской чести считалось действием крайне предосудительным.
Говоря о причинах, какие в прошлом стесняли свободу индивидуальной жизни, мы не сказали пока ни слова о религии. Тесная связь ее с государством открывала последнему возможность карать людей, отступивших от ее догматов и культа, как повинных в государственном преступлении. Сократ в такой же мере пал жертвою этого представления, как и христианские мученики, не желавшие участвовать в культе императоров. Пока христианство оставалось государственной религией и там, где оно еще остается таковой, оно ’ отнюдь не устраняло и не устраняет возможности такого же стеснения государством свободы личного самоопределения. И чтобы доказать это, нет необходимости восходить ко временам герцога Альбы или еще выше к эпохе альбигойских войн, а тем более к эпохе
искоренения последователей Ариева учения. Не нужно также останавливаться на драгонадах, с помощью которых Людовик XIV пробовал вернуть в лоно вселенской католической церкви не успевших бежать из Франции гугенотов. Достаточно вспомнить казнь де-Ла-Бара за мальчишеский акт кощунства и красноречивое разоблачение этого законного убийства Вольтером. Достаточно вспомнить несчастную участь попа Аввакума и ряд преследований, которым еще недавно подвергались, наряду с старообрядцами, и наиболее передовые секты протестантизма, известные в России под именем штундистов, молокан и духоборцев.
Причины, по которым самодеятельность личности была более или менее парализована внешними вмешательствами, не могут быть сведены поэтому к одному ошибочному представлению о том, что в Греции и Риме понимали под свободой одно участие в государственной власти. Вечевой строй древней гражданственности держался на более или менее полном устранении от всякой политической жизни трудового населения, рабов, вольноотпущенников и покоренных туземцев, все равно, были ли ими сельские обыватели — илоты, или городские мещане, ремесленники и торговцы — периэки. Прибавьте к этому сведение до минимальных размеров политических прав жителей покоренных городов. В Римской империи до времен императора Каракаллы они самое большее признаваемы были только союзниками, а не гражданами — «cives». Все это вместе взятое позволяло в Афинах двум десяткам тысяч граждан и не большему их числу в римской республике владычествовать, одним — над Аттикой и Архипелагом, другим — не только над Италией, но и над доброй частью цивилизованного мира (orbis romamis). Тем самым до минимума сведена была свобода самоопределения тех, кто слыл под названием провинциалов. Но что такие порядки известны были не одной классической древности, но и тому продолжению античной городской культуры, каким является средневековая итальянская гражданственность, доказательство этому может дать нам одинаково и флорентийская республика с массою завоеванных ею городов и селений, и республика венецианская, известная под наименованием «республики св. Марка».— Вплоть до 1797 года — эпохи подписания Наполеоном I договора в Кампо-Формио, которым Венеция и ее владения на далматинском побережьи уступлены были Австрии — несколько сотен дворянских семей, из которых большинство было уроженцами Венеции, одни призываемы были к заведыванию интересами многомиллионного населения, занимавшего и значитель
ную часть современной Ломбардии, и Адриатическое побережье, и Морею, т. е. древний Пелопоннес, и острова Архипелага, наконец, отдаленные колонии, расположенные на Черном море, в том числе теперешний Азов,— средневековую Тану.
Заявление нашего начального летописца — «на чем старшие (города) положат, на том пригороды станут» — в применении ко всем городским республикам верно не только в смысле первенства главных городов, но и поглощения нередко их гражданством политических прав жителей подчиненных им общин и местечек.
Государство, развившееся благодаря соединению воедино кровных союзов и перенесшее на своих наследственных или избираемых вождей те смешанные функции светского и духовного руководительства, которые дотоле принадлежали племенным и родовым старейшинам и членам зарождающегося жречества, а таким государством, как мы знаем, были одинаково в начальный период их истории и афинское, и римское,— очевидно, должно было смотреть на индивида несколько иными глазами, чем те, какими смотрит на него современное государство, вполне секуляризированное и ставящее себе поэтому чисто мирские задачи, задачи стража независимости и правосудия, а также проводника культуры. При том союзе круговой поруки, который связывает между собою членов рода и образующего государство соединения родов, пожертвование индивидом в интересах целого неспособно было встретить того отпора, какой бы выпал ему в удел в наши дни. Агамемнон, приносящий в жертву свою дочь Ифигению в интересах всего вверенного ему народа, действует под влиянием того же представления, какое в позднейшие годы и на расстоянии столетий побуждало афинский демос изгонять из своей среды даже честнейшего из своих граждан, Аристида, ради общего мира и спокойствия, а следовательно, и общего спасения. Римское «sacer esto» — да будет предан богам, т. е. казнен, нарушитель государственного правопорядка, в корне своем имеет ни более, ни менее как обычай насильственного удаления из родственной среды нарушителя мира, этого древненемецкого «vargus», которого народный эпос сравнивал с блуждающим, нигде не находящим себе приюта волком и которому в этом отношении вполне отвечает кавказский абрек. В обществе, еще живущем идеалами родственной солидарности, сливающейся с тою, которая связывает членов одного войска, понятно зарождение учения о государственной необходимости, перед которой на задний план отступают всякие соображения об уважении к личности, к праву и справедливости, так как забота
о спасении всего народа,— «salus populi» — первенствует над всеми прочими задачами. Немудрено, если то, что мы называем «raison d’etat»,— понятие, завещанное политикам XVI и XVII веков классической древностью. Высказывающие его писатели возрождения, Маккиавели, а за ним Ботеро, одинаково орудуют примерами Рима. Классический образец рисуется еще воображению французских якобинцев 1793 года в момент устройства ими «комитета общественного спасения» и революционных трибуналов. Но чистым анахронизмом, смешной и в то же время возмущающей душу карикатурой надо было бы считать ссылку на ту же государственную необходимость и заботу об общественном спасении в устах министра любой конституционной державы нашего времени, для которой всякая репрессия находит себе предел в законе и в страхе ответственности перед судом за его нарушение.
Из всего сказанного нами до сих пор надо прийти к тому заключению, что противоречие, в каком современный государственный порядок стоит с прошлым, не может быть сведено к одной какой-либо частной причине, а вызывается той глубокой бездной, какая отделяет индустриальную и потому самому сильно индивидуализированную гражданственность наших дней от не порвавшего еще своей связи с кровными союзами военно-сословного государства.
Представленный нами очерк, как мы полагаем, лишний раз доказывает, что ограничение свободы столько же личной или гражданской, сколько и политической, стояло в прошлом в тесной связи с неравенством, порождаемыми разнообразнейшими видами опеки, какие тяготели над личностью,— опеки религиозной, сословной и родовой. Происходившее отсюда неравенство подданных, сказывавшееся, между прочим, в устранении от политической жизни главного класса производителей, пребывавшего в узах рабства или крепостной неволи, сводило к скромным рамкам ту изополитию, какой кичились наиболее демократические республики древности и о которой снова заходит речь у учителей естественного права XVII и XVIII веков с Альтузием, Спинозою и Жан-Жаком Руссо во главе. Таким образом, подходя к вопросу с другой стороны, чем та, какая имелась нами в виду в начале этой статьи, спрашивая себя о том, по какой причине древнее и средневековое государства слабо обеспечивали свободу личности, мы снова приходим к тому же заключению о тесной связи ее с равенством и о возможности утверждать, что там, где отсутствует последнее, нет благоприятных условий для развития личной автономии. Немудрено поэтому, если и англичане
середины XVII века, и французы 1789 и следующих годов, одинаково толковали об уравнительной свободе, сливая оба понятия — равенства и автономии личности — в одно. В таком смысле высказывались предшественники современного радикализма в Англии, так называемые «левеллеры» или уравнители, и то же на все лады повторяли одинаково и Камил Демулэн, и Кондорсе, другими словами, столько же якобинцы, сколько и жирондисты. Уравнительная свобода потому не является химерой, а положительным требованием современной гражданственности, что ею автономия личности признается не препятствием, а условием развития общественной солидарности. Все будущее человечества зависит от согласования этих двух, как мы показали, далеко не противоречащих друг другу, начал. Как бы широко ни понимали своей задачи общественные и политические реформаторы, ни один из них не может рассчитывать на проведение в жизнь своей схемы, если в ней требование общественной солидарности — справедливость, не будет признано в равной степени с требованием автономии личности — свободой ее физических и нравственных проявлений. Вот почему демократический цезаризм может быть только временной и преходящей формой, вот почему и так называемая диктатура пролетариата не заключает в себе постоянного решения, и прочным порядком политического устройства могут быть только те образы правления, при которых народ обладает свободой самоопределения в такой же степени, как и входящие в состав его члены, т. е. под условием соблюдения норм права, в свою очередь являющихся вынуждаемыми властью требованиями общественной солидарности.
ДАРВИНИЗМ В СОЦИОЛОГИИ *
§1
Влияние Дарвина на социологическую мысль второй половины XIX столетия сказалось в самых различных направлениях. Учение о том, что общество — живой организм, постоянно развивающийся, которому известны детство, молодость, возмужалость и престарелость, отдельные части которого осуществляют физиологические функции питания и размножения, у которого имеется свой особый мозг, или центральный сензорий, свое сердце, своя нервная система и т. д., потому только не может считаться порождением одного дарвинизма, что органическая теория государства, если не общества, имела своих поборников и в древности, и в Средние века, и в самом начале Нового времени. Платон сравнивал уже государство с человеком-гигантом. В своих «Moralia» Плутарх дает дальнейшее развитие той же доктрины. В Средние века она высказывается автором «Polycraticus» — Иоанном Салисберийским, в XVII веке знаменитый Томас Гоббс в своем «Левиафане» дает ей наиболее стройное и до некоторой степени оригинальное выражение. Всех этих писателей можно отнести к числу предшественников Спенсера, Лилиенфельда, Шеффле, Рене Вормса и Я. Новикова, но с той оговоркой, что под влиянием частью Ламарка, частью самого Дарвина они особенно подчеркивают в своих теориях элемент развития или эволюции общества. Спенсер сводит его, как известно, к двухстороннему прогрессу дифференциации и интеграции, т. е. к постепенному обособлению отдельных органов для отдельных функций того живого организма, каким в его глазах является общество, и исключительного сосредоточения затем в таких обособившихся органах тех функций, которые первоначально
* Печатается по: Дарвинизм в социологии. М., 1910. С. 117-158.
осуществлялись всем общественным телом или по меньшей мере многими его составными частями.
Идея всемирной эволюции проводится Спенсером еще в статье, озаглавленной «Гйпотеза развития», помещенной 20 марта 1852 года в журнале «Leader», издаваемом Джорджем Льюисом. В этой статье ставится вопрос о том, мог ли десяток миллионов различных видов живых существ появиться на земле благодаря созданию каждого из них в отдельности или путем развития одних из других. Отвечая на эту задачу, автор говорит: «Мы можем доказать, что несомненные изменения в организмах происходили и происходят и по настоящий день, что поставленное в условия, отличные от прежних, животное или растение немедленно претерпевает известные изменения, приспособляющие его к новой обстановке. Эти изменения удерживаются последующими поколениями. На примере разводимых растений, доместицированных животных и отдельных человеческих рас можно убедиться, что такие изменения на самом деле имели место».
Таким образом, ранее Дарвина и под вероятным влиянием Ламарка1 Спенсер уже высказывает теорию мировой эволюции. В примечании, сделанном им в новом издании своих «Опытов» в 1901 году, к статье «Прогресс, его закон и причина», Спенсер настаивает на том, что при изложении мировой эволюции он, в отличие от Дарвина, книга которого появилась лишь в 1859-1860 годах, объяснил процесс этой эволюции исключительно одной причиной — изменением условий, а не половым подбором, т. е. сохранением и развитием наиболее жизнеспособных особей. В названной статье, появившейся опять-таки ранее книги Дарвина, Спенсер останавливается на развитии той мысли, что мировой процесс эволюции, совпадающей в его глазах с понятием прогресса, состоит в переходе от однообразия к многообразию, от гомогенного к гетерогенному. Он пытается обосновать этот взгляд, объясняя появление космических тел, в том числе солнца и планет, из первоначальной туманности (nebular system) под влиянием действия закона притяжения. 1
1 Во втором томе «Автобиографии» Спенсер пишет: «Доктрина, утверждающая, что все в мире объяснимо законом причинности, находит себе необходимое дополнение в учении, что вселенная и все предметы в ней достигли современных своих форм после прохождения преемственного ряда физически-необходимых состояний... Впервые у меня стали складываться определенные убеждения на этот счет благодаря чтению “Принципов” геологии Лайэля. Мне было тогда двадцать лет. Аргументы, приведенные Лайэлем против Ламарка, склонили меня к частичному принятию взглядов последнего» (с. 6-7).
Ему же приписывает он происхождение геологического строения земли. Переходя затем к сфере живых существ, Спенсер показывает развитие организмов из однообразной массы, соответствующей современному понятию протоплазмы. К человеческим сообществам он прилагает ту же точку зрения, указывая, что у первобытных племен нет других отличий, кроме тех, какие обусловливаются полом и возрастом, нет поэтому разделения труда; само руководительство и начальствование сменяются в деятельности одного и того же лица отправлением других профессий, необходимых для обеспечения жизни. На истории искусств, которые для Спенсера слагаются в две группы: архитектуру, живопись и ваяние, с одной стороны, поэзию, музыку и хореографию — с другой,— он также старается показать, что процесс перехода от однообразия к разнообразию есть закон эволюции или прогресса. С тою же целью он останавливается и на истории языка, настаивая на той мысли, что на первых ступенях общественности речь сводится к употреблению существительных и глаголов, а все другие части ее привходят только со временем.
Спенсер проводит ту же идею перехода от однообразия к разнообразию и при изучении роста учреждений, указывая на смешение на первых порах светского и духовного правительства в лице царей как древнего Востока — Египта, Ассирии и Вавилона, так и греческих басилевсов. Наконец, в сфере экономической тот же процесс дифференциации выступает, по его мнению, в разделении труда, в разветвлении одного и того же производства и в топографическом распределении его сообразно большей приспособленности той или другой местности к данному виду работы.
В статье «О социальном организме», напечатанной в «Вестминстерском обозрении» за 1860 год, Спенсер впервые отмечает четыре существенные черты сходства между обществом и организмом: во-первых, увеличение обоих в массе по мере их роста; во-вторых и третьих, постепенный переход от простоты структуры к большей или меньшей сложности ее и от большей или меньшей независимости частей к их взаимному подчинению и зависимости, наконец, в-четвертых, общества, подобно индивидуальным организмам и даже в большей степени, чем последние, сохраняют, говорит он, свою жизненность, несмотря на потерю и смерть отдельных частей (напр., потерю листьев, ветвей и т.д.). Спенсер отличает и четыре существенных отличия общества от организма: во-первых, общества не имеют специфических внешних форм (которые даются им только извне); во-вторых, они состоят из-частей, не связанных
между собою непрерывной цепью, рассеянных в пространстве, чего нельзя сказать о живом организме,— Спенсер старается показать, что связующую цепь между живыми организмами составляют формы растительной и животной жизни, необходимые для их пропитания; в-третьих, отличие сказывается также в свободной подвижности общественных ячеек, какими являются люди, и отсутствии ее в частях живого организма. Автор настаивает на том, что эта подвижность общественных ячеек (людей) — относительная, так как отправление профессии прикрепляет к известной местности. Наконец, четвертой особенностью надо считать, по Спенсеру, то, что в обществе сознание принадлежит составным его частям, независимо от целого, тогда как такого сознания в отдельных частях живого организма не имеется.
Сопоставляя по преимуществу низшие организмы растительного и животного царства с низшими формами общественности, Спенсер находит сходство в безразличии состава тех и других. Так, у протозоа и протофита, низших форм животного и растительного мира, почти отсутствует всякая структура или является только в зародышном виде. То же можно, думает Спенсер, сказать о бушменах, у которых мы встречаем ту форму общественной организации, какую представляют собою две-три бродячие семьи, связанные между собою одними временными союзами,— семьи, не знающие другого разделения труда, кроме того, какое существует между полами, и иной взаимной помощи, помимо той, какая наступает в случаях нападения на них со стороны. От низших пород растительного и животного царства Спенсер переходит к тем, у которых размножение происходит путем раздваивания, т. е. у которых в двух местах студенистой массы обнаруживается некоторое накопление материи, после чего вся масса делится пополам. Таким же образом в его глазах первобытные племена выделяют из себя группу эмигрантов, кладущих основание новому общественному союзу. В росте разделения труда и связанного с ним обособления общественных функций сказывается в такой же степени, по Спенсеру, развитие общественной структуры, как в появлении в студенистой массе особых органов для питания и удаления переработанных остатков пищи, нервных узлов и кровеносных сосудов. Последние сопоставляются с путями сообщения, до которых имелись только временные проходы и прогоны, сравниваемые Спенсером с теми течениями пищевых продуктов (fluids), которые замечаются в теле животных, не имеющих определенных органов кровообращения. Развитие нервной системы в организмах
противополагается далее у Спенсера росту правительственной власти в обществе. Таким образом еще в 1860 году намечаются им в общих чертах те самые точки зрения, с каких он будет рассматривать общество в своем «Трактате об изучении социологии», а затем и в «Принципах» последней.
В общем очерке того воздействия, какое дарвинизм оказал в области социологии, я не имею возможности останавливаться на писателях, подвергших одному дальнейшему развитию основные начала органической теории общества; иначе мне пришлось бы говорить о Шеффле, Лилиенфельде, Рене Вормсе и проф. Изулэ, из которых каждый внес свою оригинальную точку зрения в развитие общей ему с Спенсером теории. Самое название их сочинений, как, например, «Социальный организм», «Строение и жизнь общественного тела», «Патология общества», «Борьба обществ» и т. д., свидетельствуют о том, что основу их социологических доктрин составляют законы и научные гипотезы, принадлежащие к области биологии. Правда, в посмертном издании «Очерков социологии», написанных Шеффле, сделана попытка показать, что параллели с жизнью животного организма понадобились автору только для более наглядной передачи доктрины, возникшей в его уме независимо от биологии и ее основных законов и гипотез, но кто знаком с четырьмя томами «Строя и жизни общественного тела», сведенных впоследствии самим Шеффле всего-навсего к двум, тот согласится с нами, что постоянное сопоставление им отдельных органов и функций с различными проявлениями общественности, приуроченными к тем или другим учреждениям и ведомствам, направлено к доказательству того основного взгляда, что общество — живой организм, отдельные части которого отправляют самостоятельные функции, отвечающие тем, какие в человеческом теле принадлежат коже, нервам, мозгу, Желудку, сердцу и т. д. и т. д.
Что касается до Лилиенфельда, то до конца своих дней он остался верен основным началам органической теории и восполнил свои ранние труды трактатом «О патологии» общества. Он позволил ему отнести все разрушительные по отношению к современному строю теории к числу болезненных явлений и тем разделаться, как он полагал, окончательно с доктринами общественных новаторов. Другой поборник органической теории общества, Рене Вормс, пошедший далее всех своих предшественников по пути смелых аналогий, отождествивший, например, с человеческим сердцем биржу, в новейших своих трудах более или менее отступает от мысли,— подво
дить отдельные общественные функции и институты под понятие физиологических отправлений и предназначенных для них органов. Но наш соотечественник Я. Новиков остается по-прежнему одним из эпигонов доктрины, одно время охватившей собою широкие круги столько же ученых, сколько и журналистов.
Недостатки органической теории общества не раз были указываемы. Еще недавно в 1-м томе моей «Социологии» мне пришлось резюмировать те возражения, какие были представлены против нее на одном из конгрессов Международного Института.
В прениях принял участие Тард.
«Я не вижу,— сказал он,— какую пользу принесла нам эта теория, и в то же время ясно сознаю порожденные ею вредные последствия. Ею я объясняю появившуюся между социологами тенденцию принимать за нечто действительно существующее простые отвлечения, довольствоваться голыми фразами, как, например, социальный принцип, душа толпы, социальная среда и т.д.». Влиянием той же аналогической методы, постоянным сопоставлением общества с лживыми организмами, объясняет Тард и то пристрастие к учению о прямолинейном прогрессе, об однообразно совершающейся у всех народов эволюции, которая признается за обществами по образцу той эмбриональной серии различных состояний живого организма, в которой сказывается его рост. Тард поспешил прибавить, однако, что допускает существование действительных аналогий между организмами и обществами. Но такие аналогии имеются со всякого рода агрегатами, какова бы ни была их природа, астрономическими (солярная система), химическими (молекулы), физическими (кристаллы), наконец биологическими. Эти аналогии объясняются тем, что все эти агрегаты руководимы в своей деятельности одной механикой или одной логикой. Сходства между биологическими агрегатами и агрегатами социальными потому уже более значительны, что обоим присуща идея конечности. Только в той мере, в какой живые организмы и общества преследуют сходные цели: роста, защиты против нападения и т.д., общественные структуры и функции представляют сходства с биологическими2.
К систематическому осуждению органической теории Людвиг ’ Штейн, автор компилятивной работы «О различных вопросах обществоведения», так или иначе решаемых современными социологами, прибавил короткий, но весьма верный очерк того порядка, каким
2 См. «Анналы международного института социологии», с. 240.
эти старинные уподобления общества и организма постепенно перешли в утверждения их полного сходства. Уже Платон называет государство громадным человеком. У Аристотеля эта метафора Платона не носит более характера поэтической фикции, а действительной аналогии. Государство сделалось организмом, т. е. громадным человеком, а сам человек был признан существом общественным. Аристотеля поэтому необходимо считать действительным отцом теории социологического макрокосма. Но Аристотель все же признавал это сопоставление только сопоставлением; у Спенсера же речь заходит уже о параллелизме. Экзодерма, эндодерма, мезодерма признаются существующими одинаково и в структуре организмов, и в структуре общества. На самом же деле речь может идти только о соответствиях, встречах и параллелизмах. Лилиенфельд доводит последствия таких поисков за уподоблениями до конца, говоря, что общество не только похоже на живой организм, но что оно есть живой организм. Итак, в целом историческое развитие органической теории может быть представлено в следующем виде. У Платона оно является метафорой, у Аристотеля — аналогией, у Спенсера — параллелизмом, у Лилиенфельда — абсолютным тождеством3.
Учение о государстве-организме встретило отрицательное отношение к себе и со стороны юристов.
Возражая против органической теории, Зейдлер справедливо пишет: «При развитии того положения, что государственное общество — организм, Спенсер, а за ним Лилиенфельд, Шеффле, Вормс поставлены в необходимость сойти с реальной, естественно-научной точки зрения. Чтобы получить совершенное подобие живому организму, они вводят в понятие его, когда речь заходит об обществе, не только людей, его составляющих, но и созданные ими вещественные продукты, “междуклеточную субстанцию” — по выражению Лилиенфельда. С естественно-научной точки зрения кажется странным отождествлять с физиологическим актом кровообращения, происходящим внутри человека, денежное обращение, совершающееся между людьми, сближать нервную систему с телеграфами, артерии и вены — со средствами сообщения, сердце — с биржей, волосы и ногти — с крепостными стенами и т. д.4 Так как без включения этих вещественных продуктов человеческой деятельности в число составных частей общественного организма нельзя получить и са
3 Ibid., с. 89.
4 Gustav Seidler. Das Juristische Kriterium des Staates. Tubingen, c. 33-34.
мого представления о нем, то приходится прийти к заключению, что его на самом деле и нет налицо».
Ряд основательных возражений против этой теории приводит Иеллинек. Органическая или органологическая гипотеза, говорит он, переносит определенные отношения и признаки естественных организмов на государство и народ, полагая, что она делает их этим более понятными и в то же время создает высшую форму синтеза естественных и политических явлений. Такими признаками являются единство во многообразии, в силу которого государство и его народ остаются неизменными, несмотря на смену их членов; далее, медленное преобразование того и другого на историческом пути; затем такого рода взаимодействие членов целого и отдельных его функций друг на друга и всех вместе на целое, что целое всегда кажется существующим для отдельных членов, а последние в свою очередь в интересах целого; наконец, бессознательный, так называемый естественный рост и развитие государственных учреждений, которые как бы не дают возможности выводить их из сознательной разумной воли индивидов, а превращают их, напротив, в непреодолимые силы, в которые человеческое усмотрение может внести лишь самые незначительные изменения, поскольку эти изменения являются устойчивыми5.
Определив таким образом то, что может считаться существенными признаками государственного организма, Иеллинек приступает к проверке правильности подчеркиваемых им аналогий. Он справедливо указывает на то, что, рядом с бессознательным образованием государственных учреждений, мы постоянно имеем дело и с сознательным их установлением.
В подтверждение этого положения можно привести целый ряд исторических фактов. Так, немцы в эпоху Возрождения переходят от своего местного права к реципированному римскому. Здесь мы имеем дело с сознательным выбором. Немецкое общественное развитие этого времени сказалось в переходе от натурального хозяйства к меновому или денежному. Римское право являлось правом, отвечающим условиям менового хозяйства. Поэтому, вместо того, чтобы вырабатывать новое право на смену праву более приуроченному к условиям самодовлеющего хозяйства, существовавшего в Германии в Средние века, немцы предпочли заимствовать чужое право и произвели рецепцию римского, соответствующего новым условиям хозяйственной жизни.
5 Иеллинек. Общее учение о государстве. Изд. 1903 г., с. 97 и дальнейшие.
Приверженцы органической теории говорят, что государство растет как ребенок. Подобно тому, как рост ребенка не обусловливается его доброй волей, точно так же и развитие государства происходит совершенно независимо от воли лиц, в состав его входящих. Между тем в действительности государства развиваются и совершенствуются не естественным путем, а при самом деятельном участии людей, их составляющих.
Строй государств может испытывать коренные преобразования под влиянием деятельности людей. Хотя, разумеется, петровская реформа и была результатом военной и финансовой необходимости, но если бы царский престол занимал не Петр Великий, а, скажем, царь Федор, то, по всей вероятности, великой реформы не последовало бы. Нельзя говорить исключительно о естественном росте и самопроизвольном развитии государственных учреждений, устраняя тем самым всякую возможность сознательного их изменения.
Под влиянием органической теории государства у историков учреждений сложились некоторые предрассудки. Так, одни утверждают, что все государства пройдут стадию конституционного устройства, что, следовательно, рано или поздно и в Тибете водворится конституционный режим, а китайский богдыхан станет конституционным монархом. Так будет потому, что конституционные порядки утвердились в Англии, Франции и в других европейских государствах. Эта точка зрения, несомненно, складывается под влиянием неправильного положения, что учреждения развиваются сами собой, что человеческая деятельность тут ни при чем, что — хотят того люди или не хотят,— а известные учреждения все-таки появятся. Но ничто в государственной жизни само собой не происходит; для всякого изменения нужен волевой акт.
Мысль эта настолько проста, что нет надобности долго останавливаться на ней. Французское общество в 1789 году несомненно созрело для политического переворота. Но если бы не было таких людей, как Мирабо, Сийес и многих других замечательных деятелей великой революции, если бы не было сознательных актов с их стороны, то завоевания ее не были бы так обширны и успех ее был бы, несомненно, не столь быстр, верен и значителен. История народов не представляет всегда удачных переворотов, к которым общество было подготовлено предшествующим развитием; неудачи имеют место именно тогда, когда оказывается недостаточно элементов для проведения в жизнь необходимых решений. Сравните английское
общество эпохи двух революций XVII века и французское в эпоху Фронды. В Англии происходит радикальный переворот, сопровождаемый созданием кратковременной республики и протектората Кромвеля, а затем реставрацией, которая сохраняет тем не менее многие решения, намеченные или проведенные ранее революцией. Когда же новое правительство Иакова II отказывается идти тем же путем, происходит новая революция, после которой обеспечено торжество обновленного строя. Одновременно с английской революцией во Франции происходит движение, слывущее под названием Фронды (fronde — детская игрушка), и последствием является усиление абсолютизма и возможность правительства короля-солнца.
Имея перед глазами конкретные исторические факты, необходимо прийти к заключению, что одного естественного роста не достаточно для развития государства, нужны еще люди, нужна человеческая воля. И вот эту мысль высказывают, когда говорят, что органическая теория с ее самопроизвольным развитием не выдерживает критики.
Опять-таки совершенно правильно Иеллинек замечает, что органическая теория заблуждается, когда думает, что человечество в своем развитии неизбежно подчинено законам прогресса и законам регресса. Очевидно, что если сопоставлять в этом отношении государство с индивидом, то пришлось бы признать, что жизнь государства распадается на несколько периодов: период детства, период отрочества, зрелости и, наконец, старости. О стариках говорят, что они впадают в детство. Очень возможно, что некоторые государства возвращаются к уже пройденным стадиям развития, но сказать, что все государства должны перейти к возрасту старости, нельзя. Еще недавно французы говорили нам, что у нас удивительно детские учреждения. Лет пять тому назад мы не могли бы сказать, к чему нам предстоит перейти от возраста детства,— к возрасту юности или возрасту зрелости, точно так же мы не можем решить и теперь, переживаем ли мы в данный момент состояние старческой дряхлости или какое иное. Что представляет собою Персия в настоящее время? Залог роста или начало одряхления? Сказать трудно, но во всяком случае, нет необходимости наступления этого последнего периода.
Изображать возникновение новых государств, как результат воспроизведения себе подобных, невозможно. А между тем, когда мы говорим, что государство есть живой организм, то мы должны
признать и такой путь возникновения государства. Представители органической теории хотели найти аналогию между организмом и государством и в этом отношении говорили, что подобно тому, как человек является отцом, точно так же и государство является отцом,— но чего? Есть государства-метрополии и есть государства-колонии. Вот эти последние якобы и возникают путем воспроизведения первыми себе подобных. Но такое рассуждение не может быть признано правильным, во-первых, не все государства имеют колонии, а во-вторых, со временем, когда весь земной шар будет заселен, должна будет прекратиться, очевидно, и колонизационная деятельность. А для прошедшего времени возникает вопрос: занимались ли воспроизведением себе подобных Рим, постепенно обнявший собою весь мир, и Россия, населившая Сибирь и завоевавшая Туркестан, или же они только расширяли свое собственное тело? Думаю, что последнее ближе отвечает действительности.
Разумеется, еще менее научно проведение аналогии между различными функциями государства с соответствующими им учреждениями и жизненными функциями, приуроченными к различным органам тела. Говорить о путях сообщения, как о нервах, о бирже, как о сердце, и т. д. и т. д., очевидно прием, который не может быть оправдан и не заслуживает термина «научный».
Меньшей критике подлежит определение государства, к которому прибегает Спенсер: государство есть суперорганизм. Но так как другого суперорганизма мы не знаем, то государство может быть и суперорганизм, а что такое оно из себя представляет, этого из такого определения мы вывести не можем.
Критиковать органическую теорию государства, как можно увидеть из сказанного, не трудно. Критикуют ее социологи, а за ними и юристы. В настоящее время можно сказать, что от органической теории отказываются даже те, кто особенно ею увлекался, например, известный государствовед Блюнчли, имя которого тридцать лет тому назад было несомненно более популярно, чем имя Иеллинека или Эсмена в наше время. Блюнчли не только считал, что государство есть организм, но он находил в нем черты, которые позволяли ему считать государство мужской особью, а не женскою. Но так как мужчина не может существовать без женщины, то была найдена и женская особь; таковой оказалась церковь. Блюнчли написал целое сочинение, посвященное вопросу об-отношениях между этой мужской особью — государством, и женскою — церковью,— «Психологическое отношение государства и церкви». В нем можно
встретить часто вышучиваемую фразу: «Die Kirche hat in sich etwas weibliches». Но это уподобление государства мужчине и церкви женщине должно быть признано совершенно детским. Есть и другие попытки наполовину признать, наполовину отвергнуть, утверждать и отрицать в одно и то же время сходство государства с организмом. Современный французский философ Фулье написал ряд статей, в которых он признает государство каким-то контрактуальным, т. е. договорным, организмом. Стоит только представить себе то противоречие, какое существует между организмом естественным и организмом, созданным путем какого-то соглашения (?), чтобы признать эту попытку неудачной. Назвать государство договорным организмом, это значит сказать, что оно, с одной стороны, не организм, а с другой — и не договор. С представлением об организме с трудом связывается мысль о соглашении, необходимо лежащем в основе всякого договора.
Что же остается от органической теории, что в ней ценного? Заслугой этой доктрины является то, что она доказала неправильность представления о государстве, как о чем-то возникающем путем договора, путем свободного соглашения людей.
Действительно, во всей истории мы знаем только один случай возникновения государства путем договора. Когда последовали со стороны церкви жестокие преследования людей, не разделявших ее учения, то многим подданным различных государств пришлось покинуть свое отечество и искать более благоприятной жизненной обстановки. К этому способу защиты вынуждены были прибегнуть и некоторые англичане, и голландцы. Они снарядили корабль «Майский цветок» и отплыли от берегов своего отечества по направлению к Америке. Во время этого плавания они договорным порядком положили основание североамериканской гражданственности. Плывшие условились, что когда их корабль достигнет берега, то они постараются приобрести землю покупкою у индейцев или присвоить ее захватным способом и заложат на ней основы нового государства. Задумано и сделано. Новое государство долгое время слыло под именем колонии - Массачусетской бухты, а затем сделалось штатом Массачусетс и приняло самое деятельное участие в организации Северо-Американской федерации.
Это — единственный пример прямого возникновения государства путем договора; но что соглашение предшествовало соединению родов и племен, это, разумеется, вне спора. Различные этрусские
и латинские племена, поселившиеся бок о бок, раз у них оказались общие интересы, очевидно, не могли обойтись без соглашения в момент создания Рима; в этих ограниченных пределах можно говорить о договорном происхождении государства. Но утверждать, как это делалось в XVII и XVIII веках Гуго Гроцием, Гоббсом, Пуффендорфом, Руссо и др., что государства возникают путем договора, помимо всякого насилия и принуждения извне, очевидно, невозможно. От всей органической теории, несомненно, уцелеет в будущем представление о государстве как о чем-то возникающем независимо от договора людей, разлагающемся и исчезающем также помимо их соглашения. Но, с другой стороны, вопреки Иеллинеку, который настаивает на мысли о бессмертности государства, иллюстрируя ее тем, что Германия, несмотря на гибель Священной Римской империи и исчезновение многих составлявших ее княжеств, независимо также от смены союзов Рейнского — Германским, а последнего сперва союзом Северо-Германским и Южно-Германским, а затем империей, продолжает оставаться все той же Германией, я склонен думать, что она не раз умирала как государство и возрождалась снова. Германское государство времен Тацита не имеет ничего общего с Германским государством позднейших веков. Нет ни малейшего сомнения, что Священная Римская империя отошла в область истории в 1806 году, когда Наполеон I приказал императору Францу не величать себя германским императором и не вмешиваться в дела империи, а удовольствоваться титулом австрийского императора и правлением своими наследственными землями. С этого года Священная Римская империя исчезла настолько, что Рейнский союз, образованный из значительной части ее, поступил под протекторат французского императора. Рейнский союз умирает в 1815 году, когда возникает новое государство — Германский союз, которое гибнет в свою очередь после битвы под Садовой, когда под протекторатом Пруссии организуется союз сперва Северо-Германский, а затем и Южно-Германский. И теперешняя Германская империя есть новое государство; нет никакой связи между современными ее учреждениями и средневековыми. В организации Германской империи наших дней имеется гораздо больше сходства с Северо-Американскими Соединенными Штатами, нежели с той империей, которая была основана Карлом Великим и снова вызвана к жизни Генрихом Птицеловом, а позднее Гогенштауфенами. Таким образом в истории Германии приходится отметить не только ряд фактов
возникновения и развития, но и случаев разложения тех или иных политических тел, начиная со всей империи и кончая ее составными частями. Государства растут и умирают, и Монтескье был прав более, нежели Иеллинек, когда говорил, что если Карфаген и Рим погибли, то нет никаких оснований думать, что современные государства будут вечны, И его пророчество исполнилось, потому что многие государства, существовавшие в его время, теперь уже исчезли; целый ряд государств перешел в зависимость от других — на положение провинций — и, наоборот, возникли новые государства. Во время Монтескье не было Болгарского царства и в современной Болгарии нельзя видеть продолжение существовавшего некогда Болгарского государства. Точно так же было бы совершенным заблуждением отождествлять современную Российскую империю с продолжающимся Киевским или Владимирским великокняжениями.
Сказать поэтому вслед за Иеллинеком, что органическая теория потому уже не имеет смысла, что государства не подчинены законам развития и регресса, едва ли может считаться убедительным.
- , Л- ; §2 .
Дарвинизм так властно проник в обществоведение, и в частности в область социологии, что до эпохи зарождения психологической школы мне трудно указать сколько-нибудь выдающегося писателя, который бы в своих рассуждениях о поступательном ходе развития общества счел возможным не говорить о борьбе за существование или по меньшей мере о борьбе интересов, о приспособлении, отвечающем в биологии половому подбору и переживанию наиболее способных. Откроем, например, социологию Летурно. «Главным двигателем,— говорит он,— толкнувшил человеческие группы более или менее быстро на путь прогресса, была без сомнения неустанная и ожесточенная жизненная конкуренция»6. Таким образом борьба за существование возводится Летурно на степень первенствующего фактора общественного развития. А вот что тот же писатель говорит о роли приспособления в роковом вопросе о том, какой из участников борьбы уцелеет и переживет других: «Чем более члены какой-нибудь группы поддерживали друг друга,
6 См. русский пер. «Социологии» Летурно, изд. Поповой, вып. III, гл. IV, «Политическая и социальная эволюция человечества».
являясь на выручку в момент опасности, тем более шансов было у нее на продолжительное существование и тем вернее могла она пересилить своих менее осторожных соперников» 7
Уже с значительными оговорками учение Дарвина принимается при объяснении социологических явлений Гастоном Ришаром в сочинении «Идея эволюции в природе и истории» 8. Полемизируя с теми, кто делает дарвинизму то возражение, что мы не можем указать ни одного случая прямой трансформации или перехода одного вида в другой, Ришар ссылается на общеизвестный факт появления новых разновидностей, если не новых видов, в среде приручаемых животных и разводимых растений. Но где поставить границу между разновидностью и видом? — справедливо спрашивает он9. Сходясь с Дарвином в исходном моменте его доктрины, Ришар примыкает в то же время к неодарвинистам, прежде всего, в том смысле, что ограничивает действие элемента борьбы со времени перехода того или другого вида живых существ к общежитию. С этого момента слабые находят, по его мнению, все большую и большую защиту, прямую или косвенную, особенно в том случае, когда при проведении системы разделения труда и для них оказывается возможным осуществление каких-нибудь, хотя бы скромных, общественных функций. Закон устранения менее способных более способными с этого времени прекращает свое действие. Тип размножается, и таким образом прогресс в силу естественного подбора задержан10 *. Общественная жизнь, следовательно, идет наперекор действию естественного подбора, а между тем виды, наиболее общежительные,— те, которые всего легче могут приспособиться к условиям существования. Не видеть ли в этом явное доказательство того, что приспособление вызвано другими причинами, а не борьбою за жизнь. В дальнейшем изложении Ришар настаивает на той мысли, что в борьбе за существование победа обеспечена не тому виду, который может затратить наибольшее количество мускульной энергии, а тому, кто, благодаря силе перцепции, может наилучшим образом экономизировать эту энергию п.
Животные, обладающие наиболее дифференцированным мозгом, обнаруживают и наибольшую склонность к общественной жизни.
Ibid.
8 Париж, 1903 г.
9 С. 41.
>0 Ibid., с. 72.
п Ibid., с. 79.
У беспозвоночных ассоциация — редкое исключение, тогда как у позвоночных она может считаться общим явлением. Начиная от рыб и оканчивая млекопитающими, мы можем проследить ее безостановочный рост. Что этот рост мозга стоит в свою очередь в причинной связи с общежительностью, а не с борьбою за существование, видно из того, что хищники, питающиеся мясом, добываемым борьбою, не общежительны, тогда как животные, довольствующиеся растительной пищей, живут стадами. А между тем мозг хищников представляет несравненно меньше извилин, чем мозг травоядного слона, в свою очередь уступающего в этом отношении мозгу обезьяны. Необходимо признать, таким образом, что жизнь в обществе сама по себе является стимулом к развитию умственной деятельности, в частности памяти и способности комбинировать, перцепции. Но большее развитие мозга и умственной деятельности не совпадает с ростом мускульной энергии и в то же время делает вид более приспособленным к борьбе за существование. Истории и социальной психологии, говорит Ришар, предстоит решить, в какой мере война содействовала развитию человеческого интеллекта. Мы имеем основание думать, что и в настоящее время данные антропологии говорят в пользу защищаемого нами взгляда. Большой объем мозга и лучшая его организация далеко не встречается у воинственных племен. Нам неизвестна раса, более склонная к пролитию крови, чем папуасы Новой Гвинеи. С другой стороны, ни одна раса не обнаружила меньше воинственности, чем китайцы. Но если положиться на исчисления Чарльтона Бастиана, то по своему весу мозг китайца не только не меньше, но, наоборот, больше того, какой представляет средний мозг европейца. Что же касается до мозга папуасов, то по незначительности своего веса он вызывал в Гексли сомнение в возможности остановиться на мысли о единстве происхождения человеческого рода12.
На близкой к Ришару точке зрения стоит и Фулье в своих «Социологических элементах морали». «Биологические теории нашего времени,— говорит он,— нашли в применении к социологии самое ложное истолкование. Честью французских писателей по обществоведению надо считать то, что они всегда протестовали против доктрины, признававшей кровь и железо орудиями человеческого прогресса. Еще Эспинас доказывал, что мораль животных построена не на борьбе за существование, а на соглашении для
12 Ibid., с. 89-92.
совместной жизни». Гюйо в свою очередь настаивал на том, что социальным законом и далее законом жизни, или «биологическим», надо считать не насильственное, а мирное распространение вида. Позднее Дюркгейм и Тард оттенили роль, какую, в полной антитезе с борьбой и войнами, играли в социальной эволюции разделение труда, изобретение и подражание. Идя тою же дорогою, что и его предшественники, Фулье противополагает четырем, как он говорит, положениям Дарвина ряд возражений13. Эти четыре закона, по его словам, сводятся к борьбе за существование, к естественному подбору, к приспособление к среде, наконец, к вариации, или к постепенному развитию новых видов. Борьба за существование, по мнению Фулье, не может считаться, как утверждал Ницше, самой сущностью бытия, а является последствием ограниченности пространства, годного для поселения, и количества пищевых продуктов. При безграниченном размножении живых существ жизнь в обществе, начало которой может быть констатировано и у животных, вносит новый элемент в условия существования — солидарность. Борьба и солидарность с научной точки зрения должны быть признаны одинаково естественными законами14. Приспособление заключает в себе не одну отрицательную сторону борьбы со средою, но и положительную,— кооперацию с нею, установление гармонии.
Полемизируя с теми, кто полагает, что сама общественная солидарность есть порождение борьбы за существование, так как люди образуют союзы с одною целью более удачного соперничества, Фулье говорит, что общение с другими индивидами дает человеку возможность избежать действия закона, устраняющего слабых от соперничества, избежать его как самому, так и в лице потомства. В жизни общественной индивид приобретает новые качества, передаваемые им наследниками Приобретенные свойства могут быть полезны или вредны для вида. Отсюда необходимость нового подбора. Интеллигентной средою он может быть сделан сознательно с помощью законов и правительственных санкций. Репрессия одних сделается условием прогресса для других и для всех. Фулье отрицает, чтобы отношения людей, собранных в орды, классы и народы, всегда представляли собою те столкновения, какие рисуются, например, воображению Гумпловича. Возникновение общежития ставит нас, наоборот, лицом к лицу с явлениями симпатии и синергии.
13 Les elements sociologigues de la morale. Paris, 1905, c. 177.
1“ Ibid., c. 182.
§ 3
: Едва ли есть основание упрекать Дарвина в тех преувеличениях, какие позволили себе дарвинисты в социологии, сводя все причины поступательного хода развития человечества к одной борьбе за существование. Дарвин далеко не понимал этой борьбы в том узком смысле войны всех против всех из-за желания каждого удовлетворить чувству голода и невозможности сделать это иначе, как под условием лишения других необходимых средств к жизни, как это делал ранее его известный автор «Левиафана» Джон Гоббс. Ведь рядом с пищей человек стремится еще к удовлетворению других потребностей и, прежде всего, полового инстинкта; из-за него могут возникать столкновения, но они рано или поздно разрешаются спариванием, сопровождающимся у высших особей животного царства, а тем более у людей, заботой о подрастающем поколении и прежде всего заботой о защите его от внешних врагов и о сохранении внутреннего мира. Забота о поддержании породы, о продлении своего рода, заключает в себе уже зародыш альтруизма; всякая семья является, прежде всего, замиренной средою, в которой немыслима борьба за существование; ведь серьезно нельзя отнестись к утверждению одного русского социолога, что сама любовь, связанная с половою страстью и ею обусловленная, есть только разновидность борьбы.
Но в числе потребностей, ищущих удовлетворения себе, наряду с голодом, жаждой, половым запросом, есть еще одна, существование которой подозревали уже древние, и во главе всех их Аристотель. Недаром человек назван им животным общежительным и политическим (^cbov poXmKov). В этом отношении человеком продолжается длинная серия общежительных пород животного царства. Кропоткиным справедливо указано, что общественность является таким же законом природы, как и борьба. «Если спросить природу,— говорит он,— кто оказывается более приспособленным: те, кто постоянно ведет войну друг с другом, или те, кто поддерживает друг друга, то невозможно было бы дать другого ответа, кроме следующего: те животные, которые приобрели привычки взаимной помощи, оказываются и наиболее приспособленными»15. Из многочисленных данных, приводимых этим писателем с целью
15 Кропоткин. Взаимная помощь как фактор эволюции / Пер. Батуринского. СПб., 1907, с. 18.
иллюстрировать свою мысль примерами, ни один не произвел на меня большего впечатления, как упоминаемый Северцевым факт, что соколы, одаренные почти идеальной организацией в целях нападения, тем не менее вымирают, тогда как другие виды их, менее совершенные в этом отношении, но практикующие взаимопомощь, множатся и процветают16. Я полагаю, что польза взаимопомощи, подсказываемая нам и наравне с нами несравненно ниже стоящим, чем человек, представителям животного царства, и есть действительный источник того запроса на общежитие, который, очевидно, должен был сказаться с большою силою у различнейших племен земного шара, так как им вызваны были к жизни и большие нераздельные семьи, и те родовые общества, сперва матриархального, затем патриархального типа, которые мы встречаем на низших степенях общественности. Этнография указывает нам, что племена наименее общежительные, племена, в которых отдельные пары живут обособленно, самое большее — совместно с подрастающим поколением, принадлежат к числу вымирающих; достаточно сослаться на примеры вэдда (Цейлон), быт которых так обстоятельно описан был братьями Саразен, чтобы вынести убеждение о тесной зависимости, в которой, с вырождением и гибелью отдельных народностей, стоит отсутствие общежительных инстинктов и стремление к изолированности. Новейшие психологи не прочь связать с проявлением общежительности и рост самого разума; у общежительных животных, как отмечает это и Кропоткин, мы встречаемся с наивысшим развитием ума; в подтверждение этого можно сослаться, например, на муравьев и термитов; высокое умственное развитие их, говорит Кропоткин,— естественный результат взаимопомощи, практикуемой ими на каждом шагу; у них заметно огромное развитие личного почина, а он-то и ведет к развитию высоких и разнообразных умственных способностей. Мозг муравья и термита, говоря словами Дарвина, представляет один из самых чудесных атомов материи, быть может, даже более удивительный, чем мозг человека. Сказанное о муравьях и термитах может быть повторено и о пчелах; работая сообща, они тем самым умножают в невероятных размерах свои индивидуальные силы, а прибегая к временному разделению труда, они за каждой пчелой сохраняют возможность исполнять, когда это понадобится, любую работу, специализируя в то же время способности каждой в известном направлении; их ум
'6 Ibid., с. 20.
настолько изощрен, что они с успехом борются даже с непредвиденными и необычными обстоятельствами, для них неблагоприятными. Это показывает пример пчел на парижской выставке; так как их беспокоил свет, то они залепили оконце смолистым веществом, известным под именем пчелиного клея или узы. Один из современных социологов, более других останавливающийся на той мысли, что общежительность влияет на развитие умственных способностей и что психическая жизнь зависит в своей интенсивности от жизни в обществе — я разумею Де Роберти,— справедливо говорит: «наши мысли и чувства в значительной мере продукт социальной среды; социальная среда выступает в роли деятельной причины уже в том раннем фазисе развития, когда органические силы одни вырабатывают в индивидуальных умах явления идейного и эмоционального характера, переживаемых этими умами»17.
Повторяю, Дарвин неповинен в том злоупотреблении, какое сделано было из верной в общем теории борьбы за существование в применении к социологии. Я применяю это выражение, писал он, «в широком и метафорическом смысле, включая сюда зависимость одного существа от другого, а также подразумевая, что еще важнее, не только жизнь одной особи, но и успех ее в обеспечении себя потомством» 18. Как справедливо указывает Кропоткин, «такое широкое понимание не противоречит возможности, оставаясь дарвинистом, последовать примеру петербургского профессора Кеслера и признать, что чем теснее дружатся между собою индивиды известного рода, чем больше оказывают они помощи друг другу, тем больше упрочивают существование вида и тем больше имеется шансов, что данный вид пойдет дальше и усовершенствуется между прочим в интеллектуальном отношении»19. Образование таких ассоциаций, из которых каждая является замиренной средою, нимало не препятствует, однако, дальнейшему действию борьбы за существование, в которую эти ассоциации вступают отныне на правах отдельных единиц. Ланессан верно выразил эту мысль в самом названии своего сочинения «Борьба за существование и ассоциация для борьбы». Образование муравейников, пчелиных ульев, птичьих стай, стад животных останавливает
17 Новая постановка основных вопросов социологии Де Роберти, пер. с франц., с. 76-77.
18 См. собр. соч. Дарвина на русск. яз., т. I, изд. 2. «Происхождение видов», с. 45.
19 Речь о законе взаимной помощи, в «Труд. СПб. Об-ва естествоиспытателей», т. XI, изд. 1880, с. 100,131.
борьбу только внутри сообщества, но сами сообщества с момента их образования, несомненно, принимают участие в этом мировом соперничестве, в этой охватывающей всю органическую природу конкуренции из-за поддержания жизни и воспроизведении породы. Силы отдельных особей, несомненно, приумножаются от такого обобществления их, и они пользуются этим обстоятельством для того, чтобы с новой энергией возобновить борьбу все в тех же интересах поддержания жизни и ее воспроизведения в будущем. «Некоторые животные,— говорит Эспинас,— сходятся в группы для определенной цели, как взаимной защиты, так и совместного нападения; весьма большое число птиц соединяется в стаи подобно тому, как это делают между насекомыми могильщики и священные жуки; и те, и другие — для удаления посторонних пришельцев, борьбы с врагами и завладения добычи; вороны сообща атакуют зайцев, ягнят и молодых газелей, с которыми не могут справиться в одиночку; волки точно так же соединяются вместе для трудных предприятий» 20. Таким образом, борьба за существование только осложняется образованием ассоциации для временных или постоянных целей. Это может быть сказано в равной степени и об общежительных союзах людей. Роды, племена и нации, являясь каждый или каждая в отдельности замиренною средою, участвуют в кровавом и бескровном соперничестве с целью обеспечить себе наибольшие выгоды.
Один австрийский социолог — Гумплович — счел возможным построить на этом факте всю свою доктрину происхождения государств и народов. Понимая расу не в смысле антропологов, а в том широком и фигуральном значении, какое придается ей в разговорной речи, он выставил смелую гипотезу, по которой ни одно политическое тело не возникает иначе, как под условием столкновения разноплеменных народностей и подчинения сильнейшим слабейших. Его собственное отечество — Австрия — с разнообразием населяющих его народностей и насильственным покорением их немцами и венгерцами, легко могло навести его на мысль, что нет других народов, кроме смешанных, и других государств, кроме таких, основу которых положило завоевание одной племенною группою разнокровных с нею. Еще в первом своем сочинении, озаглавленном «Раса и государство», Гумплович объясняет возникновение последнего, как организации властвования, создаваемой племенем обыкновенно пришлым и си
20 ЭспинасЛ. Социальная жизнь животных / Перев. со 2-го франц, изд. Ф. Павленкова, с. 390. •
лою меча покоряющим себе туземных насельников, насильственно обращаемых в неволю. Недостатка в исторических примерах он, разумеется, не чувствует. Империи Востока, начиная с Вавилоноассирийской, переходя затем к Мидо-персидской и заканчивая теми, более или менее эфемерными созданиями, возникновение которых связано с именами Александра Македонского и отдельных генералов его армии, наконец с Сассонидами, Тамерланом, владычеством монголов и татар над покоренными племенами Индии, Западного Китая, Туркестана и обширных степей юго-востока и юга России, представляют нам в течение нескольких тысячелетий не-прекращающийся ряд насилием устанавливаемых господств, при которых не ставится и вопроса о желании покоренных народностей подчиняться навязанной им власти или о готовности их признать равенство гражданских и политических прав за побежденными. Но, может быть, политические организации Востока составляют исключение из общего правила; может быть, отсутствие всякой органической связи между входящими в их состав этическими группами и сдерживание их воедино исключительно войском и полицейской стражей, с чем в свою очередь связана легкая смена властителей, позволяет нам не принимать их в расчет при решении вопроса о нормальном, так сказать, ходе политического развития. Но разве история Спарты и Рима не ставит нас лицом к лицу с теми же явлениями, разве метеки и гелоты, латинские и итальянские союзники, не говоря уже о массе рабов инородцев, не поддерживают представления о том, что неравенство правящих и подвластных тесно связано с различием племенного состава и что политическое владычество сохраняет за собою только покорившая других этническая группа далеко не первых насельников, а пришлых завоевателей. А в новой Европе не видим ли мы образование крупных политических тел благодаря насильственному захвату отдельных провинций Римской империи франками, лангобардами, саксами, вестготами и т. д., к чему присоединяется со временем завоевание финских и славянских племен, начиная с юга, турками, венграми и немцами, наконец, норманнами в восточной Европе, в землях, омываемых Ледовитым океаном, Немецким и Балтийским морями. Не встречаем ли мы тех же норманнов завоевателей на островах Великобритании столько же, сколько и в Сицилии? Все говорит поэтому, по крайней мере с первого взгляда, в пользу выставляемой Гумпловичем теории. Если заглянуть в Новый Свет и спросить себя о возникновении царства инков, например, то придется удостоверить тот же факт покорения
туземных племен пришлым и установление неравенства состояний на началах не одного разделения труда, но и племенного различия властвующих и подвластных. С другой стороны, чем ближе мы знакомимся с действительным характером кастового устройства, тем более бросается в глаза значение, какое имело в его образовании противоположение завоевателям арийцам покоренных ими туземных дравидийских племен Индии. История новейших народов и их колониальной политики также может быть привлекаема для доказательства той мысли, что государственная жизнь возникает не без решающего влияния военного занятия и покорения туземцев пришлым завоевателем. Вспомним хотя бы об условиях возникновения современной англо-американской гражданственности и тех многочисленных республик, начало которым положило испанское владычество. По-видимому, на основании этих примеров можно прийти только к тому заключению, которое Гумплович считает себя вправе возвесть на степень социологического закона. В силу его люди, объединенные сродством физическим и нравственным, не только чувствуют между собою большую солидарность, но и противополагают себя, как целое, всем, кто стоит вне их союза. Притягательную силу, какую они обнаруживают друг к другу, Гумплович обозначает термином сингенизма. Этому чувству солидарности между членами одного и того же сообщества соответствует ненависть к чужеродцам; она, по мнению Гумпловича, настолько сильна, что не позволяет первобытным племенам и народностям иметь друг с другом иные сношения, кроме военных. Война, по его мнению, является единственным средством к сближению разноплеменных групп и должна считаться важнейшим социологическим фактором; одна война ведет к слиянию первобытных групп в более обширные союзы. Люди иного племени, люди, отрицающие унаследованную от предков веру, говорящие другим языком, имеющие особые нравы и обычаи и прежде всего принадлежащие к другой крови, даже не кажутся данной группе одной породы с нею. По мнению Гумпловича, борьба рас, одна ведет к агальмагации одним народом других, к слиянию племен между собою. Только с того времени, когда последует это слияние, борьба рас принимает характер более мирный, как выражается наш автор, юридический (?). Эта перемена сказывается созданием государства и власти в интересах более сильной расы, расы победителя21.
21 См.: Гумпловиг. La lutte des races, с. 258. Ср.: Ковалевский. Современные социологи, с. 109. •
Остановимся на этом положении и спросим себя: в какой мере процесс расширения замиренной среды действительно отвечает той характеристике, какая дана ему Гумпловичем? Нет ни малейшего сомнения в том, что отношения родов и племен носят всего чаще враждебный характер. Это можно сказать и о тех отсталых народностях, с которыми знакомит нас этнография, и о тех отдаленных предшественниках современных нам наций, о которых, как, например, о восточных славянах, летописцы не раз повествуют: «восста род на род». Но воинственное отношение, будучи фактом ежедневным, в то же время, за исключением специальных и преходящих периодов открытого междоусобия, далеко не отвечает картине «войны всех против всех», какую рисовал себе Гоббс еще в середине XVII века и которая, по-видимому, не раз встает перед воображением австрийского мыслителя. В противном случае неизбежным последствием было бы взаимное истребление и совершенное исчезновение отдельных родов и племен. Такие случаи, конечно, могут быть отмечены в быте не одних краснокожих, где, как известно, целые племена — например, племя могикан,— были стерты с лица земли; но все же при нормальном течении жизни междуродовые отношения рисуются нам скорее в форме отмщения родом роду частных обид, нежели в форме воинственных походов и повальных истреблений. Самые отмщения только потому не ведут к этому исходу, что заканчиваются нередко уступкой потерпевшему роду того или другого члена родом обидчика. Это по всей вероятности древнейшая форма усыновления, к которой не замедлили присоединиться и другие, как-то: включение в собственный род «изгоев», отщепенцев от других родов, т.е. лиц, покидающих свою собственную среду в силу принуждения или по собственному выбору, наконец, «зятьев», т. е. лиц, принятых родом в свою среду на правах мужей, принадлежащих роду девушек и вдов. Обычай экзогамии, т.е. обязательного брака с чужеродцем, необходимо должен был содействовать учащению случаев таких усыновлений жениха родом невесты. К единоличным усыновлениям присоединяются со временем и коллективные, в силу которых менее многочисленные роды, остатки вымерших или истребленных принимаются в состав более численных и могущественных. Кто знаком с русским обычным правом, тому небезызвестно, что у наших крестьян и по настоящее время усыновление зятя может считаться общераспространенным явлением. Теперь несколько подробностей насчет включения в состав рода чужеродцев и помимо брака. Помилованный убийца, как
и у американских краснокожих, нередко принимаем был на Кавказе в роде помиловавшего, так что оба становились с этого момента кровными братьями. В расширении замиренной среды участвует не одна война, но и мирное соглашение, принимающее обыкновенно религиозно-символическую форму приобщения чужеродца к культу родовых и племенных божеств, после чего он вступает в права и несет обязанности, общие всем членам рода и племени. Разумеется, такие порядки не оправдывают гипотезы Тарда о том, что человечество с самого начала могло прогрессировать независимо от войны. Оно показывает только, что война настолько содействовала сближению отдельных племен, насколько последствием ее являлось соглашение, сперва вынуждаемое и поддерживаемое силой, а затем переходящее в привычку и принимающее характер чего-то добровольного.
Если в начальный период развития соглашению уже суждено играть такую значительную роль в расширении замиренной среды, то нет никакого основания отказывать ему в той же роли в позднейшую эпоху. Не раз в истории повторялись явления, однохарактерные с теми соединениями племен, какие положили основание Афинам, Риму, русскому государству, согласно свидетельству нашего начального летописца, союзу лесных кантонов — этому эмбриону современной Швейцарской федерации, лиге ирокезцев столько же, сколько современным Соединенным Штатам Америки и Австралии. Из сказанного видно, что точка зрения Гумпловича на процесс развития человеческих обществ и государств, в частности, неверна настолько, насколько она страдает односторонностью, насколько сводит все источники общения к враждебным столкновениям отдельных групп и поглощению слабых сильными. В уме австрийского социолога эта воинственная и завоевательная тенденция принимает характер чего-то фатального. Не желая того сами, люди и нации вовлекаются в какую-то истребительную войну для общего блага человечества. «Подчиняясь необходимости,— пишет он,— первобытные народы принуждены предпринимать разбойничьи походы, в которых противники меряются силами. Когда эти не раз повторенные предприятия, сопровождающиеся грабительствами и истреблениями, оказываются недостаточно выгодными для более сильных, тогда последние переходят к постоянному закрепощению как соседних к ним, так и отдаленных заморских племен и принуждают их к хозяйственной эксплуатации завоеванных территорий. Так возникают государства (ainsi est inauguree la formation des Etats), и в этом же лежит объяснение позднейшего территориального их
расширения и возникновения обширных империй»22. Подобный ход событий, пишет Гумплович, может быть признан типическим. Мы находим его во все времена и во всех частях света, гумплович более подробно развивает тот же взгляд в сочинении «Борьба рас». Он старается доказать, что государства всегда основывались меньшинством воинствующих пришельцев, подчинявших себе туземные племена силою оружия. Осевшись между ними вооруженным лагерем, они постепенно ассимилировали их себе. Эта ассимиляция совершалась в форме то усвоения их языка и религии, то распространения собственного языка и собственной религии в среде побежденных. В обоих случаях одинаково покоренные туземцы прикрепляемы были к земле и начинали возделывать почву в пользу меньшинства победителей. Из одних последних вербовался высший класс собственников. Посредствующее среднее сословие, по утверждению Гумпловича, всегда образуется на первых порах из иностранцев; только со временем присоединяются к ним некоторые эмансипировавшиеся пласты простонародья. Таким образом война в конце концов ведет не только к созданию государств и правительств, всегда находящихся в руках меньшинства, но и вызывает различие собственности и зависимого владения, свободы и несвободы, наконец целый ряд общественных наслоений, принимающих, где характер каст, а где — сословий и классов.
Такова в самых, разумеется, общих чертах теория общественной эволюции Гумпловича,— теория, в которой, как должно броситься в глаза каждому, сказались все последствия допущенной им односторонности. В самом деле, если история нигде не ставит нас лицом к лицу с возникновением государства и власти путем общественного договора, о котором не прочь были говорить политические писатели XVII и XVIII веков с Гротом и Альтузием во главе, то, с другой стороны, мы не вправе обойти молчанием те случаи, в которых удачный посредник, составитель мудрых третейских решений, становится родоначальником правящей династии или по меньшей мере избранным вождем народа. Эти случаи, иллюстрацией которых может служить история Судей Израиля, повторяются и в новое время, как показывает, между прочим, сообщенный мною пример Кайтагского Уцмйства, начало которому положено было в XVII веке благодаря популярности, приобретенной судебным посредником, хранившим в тайне постановленные им решения
22 Sociologie et politique, с. 158.
и передавшим их запись своему ближайшему потомству. Точь-в-точь поступали веками ранее ирландские третейские разбиратели, так называемые брегоны, также хранившие в тайне содержание своих приговоров. Очевидно, с другой стороны, что только древностью человеческого рода, а следовательно, продолжительной сменой народностей и рас, заселивших собой старый и новый материки, объясняется видимая общность того явления, в силу которого государства всего чаще основываются завоевателями-пришельцами. Было ли так на первых порах и вправе ли мы утверждать это даже по отношению ко всем историческим народностями — это другой вопрос. Я не знаю, в какой мере древнейшие правители Ирландии и Уэльса или немецкие герцоги и короли, упоминаемые Тацитом, должны считаться представителями завоевательного меньшинства. Очевидно поэтому, что только с большими ограничениями можно признать наличность утверждаемого Гумпловичем общего положения; ведь германцы и кельты принадлежат к арийской культуре, если не расе,— культуре, первоначальной родиной которой считается Азия. Таким, образом вопрос осложняется нередкою сменою рас и невозможностью заглянуть в то отдаленное прошлое, когда о жителях Европы можно было говорить, как об автохтонах. Но раз отрешившись от той мысли, что где нет туземного правительства, там необходимо предположить установление власти и государства завоеванием, нам трудно будет говорить о славянских князьях, упоминаемых византийскими писателями, как о правителях, отличных по расе от своих подданных. Говоря о призвании в Россию князей, наш начальный летописец также указывает на возможность установления государства и власти помимо завоевания. Во всяком случае совершенно невозможно в применении к русскому высшему сословию, как и к англо-саксонскому или франкскому, поддерживать тот взгляд, что оно целиком составилось из меньшинства завоевателей. Ведь в нем одним из составных элементов было служилое сословие, которому в Англии отвечают таны, а во Франции — ан-трустионы. В число этих служилых людей попадали и туземцы, и иностранцы, и люди высшего общественного положения, и их холопы. Профессору Ключевскому, в частности, как и всем новейшим исследователям по истории русского дворянства, удалось как нельзя лучше показать, что в состав его вошли и несвободные элементы княжеской дворни. Что и в Англии звание «тана» не принадлежало исключительно членам аристократических династий, следует уже из того, что купцу, три раза переплывшему Ламанш,
по законам англо-саксонских королей, открывалась возможность сделаться таном.
Желание во что бы то ни стало провести тот взгляд, что в делении общества на горизонтальные пласты надо видеть последствие «завоевания и эксплуатации» большинства туземцев меньшинством завоевателей, создающих исключительно себе на пользу государство и правительство, делает Гумпловича совершенно слепым в той роли, какую разделение труда играло в создании одинаково, хотя и не в равной степени, каст, сословий и классов.
Новейшие исследования английских и французских писателей как нельзя лучше доказали, однако, что в кастах, известных не одной Индии, но также Египту и Элладе, по крайней мере в древнейший период (в частности, Афинам до Солона), надо видеть продукт взаимодействия как расовых причин,— противоположения арийцев-завоевателей покоренному населению,— так и причин экономических, сделавших из касты своего рода гильдию или цех с чертами искусственного рода, или нераздельной семьи, чертами, общими ремесленной корпорации, одинаково на Востоке и Западе!23 Не видя или, вернее, не желая видеть влияния, какое разделение труда имеет на создание каст, Гумплович, разумеется, игнорирует роль экономического фактора и в образовании сословий. В действительности, ни на Западе, ни на Востоке Европы мы не находим прямого подтверждения теории Гумпловича о роли, какую борьба рас имеет на выработку сословного строя.
Положениям Гумпловича недостает, таким образом, разносторонности и той историко-сравнительной проверки, при которой индукции его могли бы считаться эмпирическими обобщениями, если не законами социологии. Заслуга его состоит в том, что он поставил ребром вопрос, доселе недостаточно изученный,— вопрос о роли, какую насильственные сближения отдельных рас и племен оказали на внутреннюю структуру государства. Роль эта им несомненно преувеличена, но столь же ошибочным было бы и совершенное ее игнорирование. Нельзя также упрекнуть его в понимании расы в одном антропологическом смысле. Он как нельзя лучше сознает, что особенности каждой — по преимуществу культурные и могут быть сведены к языку, религии, нравам, обы-’ чаям и обрядам. Всего более я готов поставить Гумпловичу в вину
23 См. об этом, в частности, статью Буглэ «Remarques sur le regime des castes» в IV т. «Annee Sociologique», 1901 г.
почти совершенное игнорирование той роли, какую разделение общественных функций играет в образовании тех горизонтальных пластов, каст, сословий, классов, на какие распадается население любого государства.
§4
Влияние Дарвина выступает менее резко, когда речь заходит о новейших системах социологии, связанных с именами Дюркгейма, Гидингса, Лестера Уорда; но оно столь же несомненно, хотя и проявляется в скрытой форме. Дюркгейм придает решающее значение в истории человеческой солидарности отсутствию или наличности разделения труда или, вернее, разделения общественных функций. Признавая вслед за Зиммелем важность этого факта, как внешнего выражения тех трансформаций, каким подвергается начало солидарности, Дюркгейм различает два главных периода в истории человечества. Под механической солидарностью, отличающей собою первый период, он разумеет такую, при которой отдельные индивиды исполняют одни и те же общественные функции, подобно тому, как в колонии животных каждое функционирует однохарактерно со всеми прочими. При такой солидарности отсутствует понятие разделения труда, точь-в-точь как в колонии животных отсутствует различие координированных между собою органов, имеющих каждый свою определенную функцию. Чем же вызывается при такой механической солидарности тесное единение особей, совокупность которых образует собою общественное тело? Дюркгейм отвечает: интенсивностью общественного сознания. Оно сказывается, по его мнению, в репрессивном характере законодательства, в подчинении личности обществу, в имущественном коммунизме, в интенсивности религиозных чувств и представлений, в однообразии мышления, сказывающемся широким распространением пословиц и поговорок, что в свою очередь свидетельствует о том, что люди мыслят в унисон. По мере того как общественное сознание становится менее интенсивным, исчезают все только что указанные особенности. Место репрессивных норм занимают нормы декларативные; к восстановлению права или к возмещению вреда и убытков — вот к чему сводится отныне забота судьи и законодателя. Отношения полов между собою, прежде регулируемые строгими карательными мерами, как общее правило, регулируются отныне свободным
соглашением. Личность становится священной, пишет Дюркгейм, и возникает, можно сказать, предрассудок в ее пользу. Но что приходит на смену умаляющегося в своей силе и энергии общественного сознания? Дюркгейм отвечает: разделение труда. Так как, говорит он, механическая солидарность слабеет со временем, то должно последовать одно из двух: или наступит упадок общественной жизни, или новая солидарность заступит место прежней. Этот последний исход и имеет место в действительности по мере того, как разделение труда начинает оказывать то же влияние и играть ту же роль, какая прежде принадлежала силе общественного сознания. Законом надо считать, по мнению Дюркгейма, постепенную замену механической солидарности солидарностью органической, построенной на разделении не одного физического труда, но и всех общественных функций. С переменой в характере солидарности должна последовать перемена и в общественной структуре. Двум различным типам солидарности должны отвечать и два различных уклада общества. Идеальным типом общества, построенного на начале механической солидарности, надо считать однородную массу, в которой отдельные особи не отличаются существенно друг от друга, в которой нет, следовательно, внутренней организации. Эта масса является той социальной протоплазмой, из которой развились со временем все разнообразные типы общежития.
В условиях социальной среды лежит причина прогрессирующего развития разделения труда. Его успехи идут рука об руку с исчезновением общественных структур, построенных на начале механической солидарности. В ряду условий, подготовляющих этот исход, большую роль играет биосоциальный факт увеличения плотности населения. Разделение труда прогрессирует, пишет Дюркгейм, по мере того, как большое число индивидов вступает в сношения друг с другом и приобретает тем самым возможность взаимного воздействия. Автор доказывает свою мысль соображениями двоякого рода: во-первых, ссылкой на общеизвестный факт, что тогда как первобытные общества живут рассеянно, в обществах цивилизованных заметна концентрация населения, а во-вторых, указанием на то, что города, с их более интенсивными культурой и разделением труда, получают большую часть своего возрастающего населения из сел. Но если, говорит он, общество, сгущаясь, тем самым вызывает разделение труда, то в свою очередь это последнее увеличивает сплочение общества. Причина, по которой разделение труда в более численных обществах развивается быстрее, по мнению Дюркгейма, лежит в том, что
борьба за существование более интенсивна. Преследуя одинаковые цели, люди постоянно вступают в соперничество между собою. Пока у них имеется больше средств, чем нужно для их существования, они еще могут жить спокойно один возле другого; в противном же случае между ними загорается борьба, тем более жестокая, чем более чувствуется нужда. Иное дело, если бы индивиды, живущие совместно, принадлежали к разным родам и видам живых существ. Питаясь различно и ведя неодинаковый образ жизни, они не стесняли бы друг друга. Развивая свою мысль, Дюркгейм ссылается в подтверждение на Дарвина, указавшего, что в любой области, открытой для иммигранта, а следовательно, для борьбы особи с особью, всегда можно заметить наличность большого числа видов. Люди, говорит Дюркгейм, подчиняются тому же закону: в одном и том же городе разные профессии могут существовать рядом, не причиняя вреда друг другу, так как ими преследуются разные цели. Чем ближе сходятся их функции, чем более между ними общего, тем вероятнее становится столкновение и соперничество. Понятно, что при таких условиях большая плотность населения вызывает собою и большее разделение труда, так как в противном случае при однообразной деятельности нужда стала бы еще интенсивнее и конкуренция повела бы к устранению слабейших, менее приспособленных к борьбе. При разделении же труда и образовании новых видов производства происходит то же, что при размножении видов животного и растительного царства, по справедливому замечанию Дарвина.
Помимо этих частных ссылок на Дарвина, Дюркгейм и своей основной доктриной указывает готовность подчиниться теории трансформизма, как порядка эволюции живых существ. Но он может считаться учеником Дарвина не по одной этой причине, а и потому, что выдвигаемый им фактор развития — специализация общественных функций, как последствие все более и более интенсивной конкуренции, в конце концов только внешнее проявление той дифференциации, сопровождающейся интеграцией, которая отвечает установленному Дарвином биологическому закону образования новых видов под влиянием борьбы за существование и необходимости приспособиться к создаваемым ею условиям.
Если от Дюркгейма мы перейдем к родоначальникам господствующего ныне направления социологической мысли, направления психологического, то одинаково у Тарда, Гйдингса и Лестера Уорда мы отметим влияние Дарвинова учения о роли столько же борьбы за существование, сколько приспособления к создаваемым ею условиям
на образование новых видов. Ведь что в конце концов представляет собою учение Тарда о так называемой adaptation, как не воспроизведение мысли Дарвина? Особенно в позднейших по времени трудах, как, например, в «Общественной логике» и еще в большей степени в «Мировом противоречии», Тард переходит на ту точку зрения, что утверждаемый им ранее закон подражания на самом деле является законом приспособления продуктов творческой мысли, другими словами, открытий и изобретений, к общественной среде. Во всех общественных изменениях, писал он в первом из своих психосоциологических трудов, необходимо признать отправным пунктом творческую мысль; она приносит собою удовлетворение назревшим потребностям; созданные ею новшества распространяются в обществе путем подражания принудительного или добровольного, сознательного или бессознательного. Самое распространение его происходит с большей или меньшей скоростью, наподобие световой волны («Законы подражания», с. 3). Всякое живое существо, насколько по своей природе оно является существом общежительным, склонно к подражанию. Оно, продолжает Тард, играет в обществах ту же роль, какая принадлежит наследственности способностей в живых организмах. Открытие же или изобретение имеет такое же значение, какое образование новых видов животного и растительного царства. Таким образом, с самого начала Тард готов признать, что законы, открытые Дарвином, и построенные им гипотезы имели решающее влияние на ход развития его мысли в области социологии.
В позднейшем своем труде «Мировое или вселенское противоречие» Тард в главе о социальных противодействиях занимается тем самым вопросом о борьбе за существование в форме войны и конкуренции, который играет такую роль в построениях Дарвина. Его основная точка зрения та, что оба вида борьбы имеют лишь привходящее значение и сменяются согласием, миром, кооперацией 11 умственным единением. Включение Тардом противоречий в число обсуждаемых им факторов психической и социальной жизни привлекло его внимание и к тому, что само открытие или изобретение, которым нередко разрешается противоречие, на самом деле является приспособлением к имеющимся налицо условиям. Поэтому в своем последнем труде он объявляет приспособление социальной основою всякого открытия — L’invention еп - somme c’est le nom social de 1’adaptation («Opposition Universelle», c. 428). Фулье, следовательно, прав, когда говорит, что Тард более настаивал на роли открытия и подражания, чем на борьбе и конкуренции. Он несомненно присоединился бы к следующему заявлению, делаемому
самим Фулье: мнимые дарвинисты, говорит последний, напрасно славословят войну, война войне в пределах той замиренной среды, какой является род и развившееся из него племя, и создали их силу. Таким образом творческая роль выпала не на сторону борьбы, а на сторону кооперации24. Фулье не ошибается, когда обзывает псевдодарвинистами тех, кто не считается с ролью солидарности в поступательном ходе человеческих обществ. У самого Дарвина нельзя найти ничего подобного, и мы имели случай указать, ссылаясь на Кропоткина, что автор «Истории происхождения видов» нисколько не отрицал значения кооперации и в животном царстве.
Спросим себя теперь, в какой мере Гидингс также подчинился влиянию Дарвина в своих социологических построениях. В моей книге о «Современных социологах» я старался свести к довольно скромным границам оригинальность американского писателя. Гидингс, сказал я, заимствует у Тарда свое учение о первичном социальном факторе; признавая им сознание породы, он, как справедливо указал сам Тард, в сущности дает только другое название тому, что и до Тарда, и самим Тардом понималось под названием социальной симпатии; последняя же не более как субъективная сторона того психического взаимодействия, какое люди оказывают друг на друга. И в этом лежит источник одинаково открытия и подражания. Подобно Тарду, Гидингс признает за социологией психологические основы; немудрено поэтому, если и в интересующем нас в настоящее время вопросе он стоит приблизительно на той же точке зрения, что и Тард. Социальная эволюция рисуется ему во образе психического процесса возникновения в людях сознания единства их породы; рост симпатий и эволюция разума — второстепенные феномены позднее развивающегося сознания единства породы; ограниченное на первых порах тесной сферой рода, это сознание распространяется затем на племя, а потом и на весь народ. В наши дни оно стремится к тому, чтобы обнять собою все человечество. Эта последняя точка зрения, очевидно, совпадает с той, которую мне не раз приходилось высказывать при изображении прогресса, как ряда концентрических кругов, выражающих собою все большее и большее расширение человеческой солидарности25.
Не отрицает значения борьбы за существование в области общественной жизни и тот из современных американских социологов,
24 Социологические элементы морали, с. 198.
25 Ср. мои «Совр. социол.», с. 82.
которого имя прозвучало всего громче в Новом и Старом Свете, я разумею Лестера Уорда. Подчеркивая в самом заглавии своих книг, как, например, в сочинении «Психические факторы цивилизации», что первенствующее значение, заодно с Тардом и Гидингсом, он придает междуумственным процессам в поступательном ходе человечества, Лестер Уорд в то же время открыто признает, что у людей добывание пищи рано осложнилось несвойственной животным заботой о запасах. Под влиянием этого развилось в людях психическое свойство предвидения; непосредственным последствием такой интуитивной способности было то, что необходимыми спутниками социального существования явилось накопление запасов, а также удовлетворение и других потребностей, помимо голода, потребностей в одежде и жилище. Объекты желаний стали постепенно умножаться, и к обладанию ими направились человеческие усилия. Под влиянием всего этого явилось мало-помалу представление о собственности. История показывает, что значительная часть человеческой энергии была направлена на ее приобретение; еще задолго до появления письменной записи стремление к собственности стало господствующей страстью. Параллельно с ее развитием росло в людях то свойство, при котором всего легче можно рассчитывать на ее удовлетворение, т.е. способность борьбы. Когда человеку пришлось помериться силами с человеком, пишет Лестер Уорд, возникла борьба, подобная той, которая идет в животном мире. В этой великой борьбе роль грубой силы все уменьшалась и возрастало значение элемента духовного. Грубые животные приемы борьбы стали невозможны. С помощью естественного подбора, если не иным способом, общество отделалось от них. По мере того, как усиливалась общественная регламентация, росли также человеческая покорность и подчинение. В «Дивалической социологии», прибавляет Уорд, я подробно рассмотрел этот вопрос; теперь же я намерен только указать на основное положение, мною высказанное. Борьба за существование сделалась в человеческих обществах борьбою не за одни средства к нему, но и за удовольствия вообще. К простому столкновению из-за сохранения жизни присоединилась теперь борьба из-за присвоения значительного числа разнообразных вещей, необходимых для жизни. Всякий знает, какой ’ широкий смысл придается слову «необходимый» и как различно он применяется к лицам, стоящим на разных ступенях социальной лестницы; цивилизация породила значительное число новых желаний, неизвестных на ранних ступенях гражданственности. Наряду
с возрастающими и усиливающимися проявлениями страсти к обладанию вещами внешней природы, к собственности, развивающимися бок о бок и под влиянием борьбы за сохранение жизни, появляются и высшие запросы. Они возникают на почве воспроизводительных инстинктов; таков запрос на личную привязанность и на эмоции, порождаемые семейными отношениями. Прибавьте к этому эстетические, моральные, интеллектуальные запросы, неотложно требующие удовлетворения26. Я обрываю на этом месте мою выписку, полагая, что и приведенного достаточно, чтобы показать тесную зависимость, в какой психологический метод Лестера Уорда стоит с основными биологическими предпосылками, целиком заимствованными им у Дарвина. Этот обзор важнейших социологических доктрин нашего времени, с точки зрения большего или меньшего восприятия ими теории борьбы за существование, был бы не полон, если бы мы не сказали еще двух слов о весьма популярном одно время сочинении Кидда. Кидд целиком принимает, правда, те возражения против дарвиновской теории, которые были сделаны Вейсманом. И для него как для немецкого биолога не существует наследственной передачи накопленных предками физических, а тем более психических особенностей. Весь процесс эволюции живых организмов сводится для Кидда к выработке высших типов под влиянием одной борьбы за существование. Перенося целиком эту теорию в область социологии, Кидд полагает, что и процесс общественного развития происходит под влиянием той же борьбы и при устранении менее приспособленных к ней рас и племен более приспособленными. В среде последних также продолжает действовать закон борьбы за существование в форме конкуренции, благодаря которой совершается своего рода естественный подбор наиболее способных и выносливых. Победа всегда остается за ними. Этим обстоятельством только и поддерживается возможность безостановочного развития. Как существо разумное, человек необходимо должен стремиться к успешному исходу неизбежной для него борьбы и жертвовать чужими интересами в пользу своих собственных. Его умственное развитие, накопление им знаний усиливают его шансы на успех и укрепляют в нем вместе с тем желание обеспечить себе выгоды в ущерб остальным людям, а тем более грядущим поколениям. Прогресс разума идет таким образом вразрез с развитием
26 См.: Уорд Л. Психические факторы цивилизации / Пер. Давыдовой. СПб., 1897, с. 142-145.
общественности и обеспечивает рост себялюбивых чувств и наклонностей. Что же, спрашивается, заставляло и заставляет людей приносить свои выгоды в жертву интересам человеческой породы, ограничивать свои себялюбивые стремления и заботиться о благополучии всего общества? Кидд отвечает: религия и всегда подчиненная и зависимая от нее нравственность. Все успехи гражданственности на пути освобождения низших классов Кидд приписывает запасу альтруистических чувств, накопленных под влиянием христианской проповеди, сперва в эпоху образования и торжества средневековой теократии, а затем со времени реформации. Кидд поэтому решительно высказывается против тех, кто думает, что общество прогрессирует по мере того, как, под влиянием накопления положительных знаний, постепенно сокращается сфера вмешательства верований. Религии, по его мнению, были решительным фактором прогресса, их роль не умаляется со временем, но растет.
Насколько Кидд ставит свое учение в зависимость от того или иного решения спора между Вейсманом и Дарвином, показывает следующая выписка: если, пишет он в конце 7-й главы своего сочинения «О социальной эволюции», завязавшееся между биологами препирательство о передаче или непередаче ребенку приобретенных его родителями качеств, решено будет в последнем смысле, вся область социальной и политической философии будет перевернута вверх дном; если прежняя теория, т. е. теория Дарвина, справедлива, если нажитые привычки и приобретенные воспитанием свойства могут быть переданными по наследству, тогда и только тогда окажутся осуществимыми мечты и утопии господствующей ныне общественной науки. В самом деле, раз будет признано, что приобретения, сделанные предшествующими поколениями благодаря полученному ими умственному и нравственному воспитанию, нами наследуются, мы вправе будем рассчитывать, что общество вечно будет прогрессировать, даже при устранении борьбы за существование, но при том предположении, однако, что численность населения будет искусственно приводиться в соответствие со средствами, необходимыми для жизни. В противном же случае, если правда окажется на стороне Вейсмана, то необходимо будет признать прогрессирование человеческой породы под влиянием дальнейшей борьбы за существование и естественного подбора, а рядом с этим развитие общественности под влиянием все расширяющейся роли религии и той сверхумственной санкции, какая дается ею такому поведению, при котором интересы индивида приносятся в жертву
интересам общества ради обеспечения поступательного хода человеческой породы27.
Карла Маркса нельзя назвать в строгом смысле слова социологом; но им оживлена была доктрина, зародыши которой, как я старался показать в моем сочинении о «Современных социологах», можно найти еще у Аристотеля, Маккиавели, Гарингтона, а тем более у первых провозвестников учения современного социализма и их истолкователя Лоренца Штейна,— я разумею теорию исторического материализма, согласно которой поступательный ход развития человечества обусловлен прежде всего изменениями, происходящими в области техники производства и обмена, и экономическое развитие, ими обусловленное, определяет собою все другие. В числе недавних истолкователей этой доктрины и тех разнообразных влияний, под которыми она возникла, Вольтман28 заслуживает быть отмеченным, как писатель, лучше других показавший связь ее не только с учениями Канта, Гегеля и Фейербаха, но и с биологической теорией Дарвина. С Дарвином Маркса сближает, по мнению Вольтмана, признание той роли, какую элемент борьбы и соперничества играет в выработке более сложных типов. Классовая борьба, значение которой для установления более справедливых общественных порядков так подчеркнуто Марксом,— не иное что, как проявление той самой борьбы за существование, последствием которой, согласно Дарвину, является образование более сложных и совершенных видов. Но, в отличие от Дарвина, Маркс предвидит конец борьбы и соперничества с исчезновением классов в недопускающем их существовании уравненном коммунистическом обществе. В этом отношении так называемый научный социализм возобновляет традицию утопий, из которых республика Платона является не только древнейшим, но, быть может, и совершеннейшим образцом. Указывая на то, что Маркс, вслед за Франклином, признает особенностью человека от животных его способность создавать орудия для овладения природой, Вольтман между прочим с одобрением говорит о не доведенной до конца попытке ближайшего последователя Маркса, Энгельса — доказать, что и эта особенность продукт вековых усилий, векового приспособления к окружающим условиям29. Общее положение, что функция создает
27 Ср. мою книгу «Совр. социологи», с. 210-213.
28 См.: Wultman. Der historische Materialismus. Dusseldorf, 1900 г., ч. 1 и 2, в особен, с. 139-251 ч. II.
29 См.: Энгельс. Antheil der Arbeit an der Menschwerdtfrig des Affen.
свой орган, объясняет нам причину, по которой продолжительное применение труда повело, в конце концов, думает Энгельс, и к большей изощренности человеческого разума сравнительно с инстинктом животных, и к большей гибкости человеческой руки, позволяющей ей пользоваться внешними орудиями с такою же свободой, с какой животное — связанными с его телом органами.
Г' ' '!
:’*• - Л-ч
! § 5 ь.
Подводя итог всему сказанному, мы не ошибемся, утверждая, что ни один из крупных представителей социологической мысли нашего времени не избежал влияния Дарвина, его предшественников и последователей, начиная с известного Спенсеру Ламарка и оканчивая полемизирующим с Дарвином Вейсманом. Теории борьбы за существование и роли приспособления к физической среде в естественном подборе суждено было отодвинуть на второй план учение о трех стадиях — теологической, метафизической и научной — в поступательном развитии человеческих обществ. Эта доктрина, складывающаяся, как я показал это в I томе моей «Социологии», еще со времен Тюрго и получившая окончательное выражение в «Курсе положительной философии» Конта, уступает место новой формуле прогресса, отождествляемого то с процессом дифференциации и интеграции общественных функций, то со все большим и большим разделением труда, то с борьбою рас и классов, благодаря перенесению в сферу общественных отношений биологических законов, установленных Дарвином. Со времени выхода в свет первых социологических трудов Спенсера и до новейшего времени, когда представители по преимуществу французской школы социологов стали все более и более выдвигать роль не столько борьбы, сколько соглашения, роста общественной солидарности, социология являлась прямым придатком к биологии, а социологические законы — одним видоизменением тех, которыми Дарвин объяснял развитие видов животного и растительного царства.
Из новейших писателей князю П. Кропоткину принадлежит честь проведения того взгляда, что в биологии борьба за существование не устраняет одновременного с нею проявления противного ей начала солидарности или, как он выражается, взаимной помощи; тот же принцип присущ и начальным стадиям общественной жизни: материнским родам и родам агнатическим. Круговая порука
в отстаивании интересов группы против всех и каждого, кто стоит вне ее, ведет к тому, что борьба за существование не сказывается во внутренних отношениях родов, определяя собою в то же время характер междуродового уклада. Каждый род есть замиренная среда; кровомщение немыслимо между его членами: самое большее, если обидчика заставляют обособиться, выйти из повседневного общения с прочими членами группы. Древнегерманские «варги», как и кавказские «абреки»,— лица, извергнутые из среды рода; они не всегда выселяются к чужеродцам, но живут изолированно, не поддерживая дальнейшего общения с теми, кто ранее слыл их кровными или фиктивными родственниками. Совместное пользование родом продуктами общего труда, будет ли им охота на крупного зверя или рыбный улов или, наконец, утилизация почвы для сельскохозяйственной деятельности, порождает между его членами экономическую солидарность, не менее тесную, чем та, какую создает представление о единстве происхождения. Первобытный коммунизм — явление хорошо известное сравнительным этнографам. Наличность его устраняет важнейший повод к внутренним несогласиям в той замиренной среде, какой является род. Другим обстоятельством, также направленным к поддержанию внутреннего спокойствия, надо считать запрет брать жен иначе, как на стороне; это то, что известно сравнительным этнографам под названием экзогамии. Господство этого правила поддерживало бы междуродо-вые распри, если б не обычай обмена невест и отработка их у старших членов материнской родни, заступающих место отца и деда. Если материнский тотем, или агнатический род, признать первой по времени общественной ячейкой, то весь последующий процесс развития более обширных территориально-политических союзов представится нам, с одной стороны, постепенным расширением замиренной среды, а с другой — столь же постепенным ограничением арены ничем не сдерживаемой борьбы за существование.
Род и развивающиеся из него союзы — не только замиренная среда, но и сфера широкой кооперации входящих в состав их членов; эта кооперация сказывается раньше всего, как между прочим указывает Дюркгейм, в производстве всеми лицами, входящими в состав группы, однохарактерных работ, направленных к обеспечению возможности физического поддержания жизни. Первобытные общества или вовсе не знают разделения труда, или только то, какое обусловлено различием полов. Домашние заботы, уход за подрастающим поколением, доставка воды и топлива для домашнего
очага, снабжение его употребляемыми в пищу кореньями и червями, падают всем своим бременем на женскую половину общества; набеги же на соседей или, наоборот, отражение тех, какие направляются из соседства, охота, улов рыбы и доместикация животных, сопровождающаяся уходом за стадами, составляют достояние мужской половины. Когда, в восполнение первобытных промыслов, появляются первые зародыши земледелия, долгое время носящего бродячий характер, к нему приурочивается труд и мужчин, и женщин, причем весы склоняются обыкновенно в пользу последних. С того момента, когда междуродовые, а за ними и междуплеменные распри начинают сопровождаться установлением рабства, на несвободных людей падает производство наиболее тяжких трудов, в частности сельскохозяйственного; отсюда упоминаемое Тацитом приурочение рабов к земледелию у древних германцев и оставление за свободными преимущественного занятия войной и охотой. С появлением рабства начинается и разделение труда. Создание собственности на рабочий скот, а затем уже на землю, содействует дальнейшему росту той же специализации занятий. Она во многих обществах приобретает характер наследственный. Так как рабство вносит в общество чужеродный элемент, то немудрено, что кастовая организация труда отличается разнообразием этнографического состава, гетерогенностью. Победители и побежденные призываются отныне к вынуждаемой силою кооперации в производстве, причем далеко не все несут одинаковый труд, и работа каждого определяется не одной только специализацией занятий, но и принадлежностью к господствующим или покоренным национальностям и расам. С этого момента борьба за существование, с самого начала определявшая отношения междуродовые и междуплеменные, проникает до некоторой степени и в пределы той замиренной среды, какой является каждая, как мы видели, обособившаяся общественная группа с ее зародышем: тотимистическим или родовым союзом. Но эта борьба сдерживается внутренней организацией группы в известных границах, благодаря принципу наследственности занятий. Наступает, однако, время, когда эта наследственность более или менее исчезает, и труд каждого определяется таким фактом, как принадлежность его к числу лиц и семейств, владеющих или не владеющих стадами и недвижимой собственностью. Вместе с большей свободой выбора занятий появляется и большая конкуренция, все еще сдерживаемая в известных пределах сословной организацией общества, не допускающей свободного обращенья земель на рынке,
а потому и владения земельной собственностью кем-либо, помимо служилого сословия и духовенства. Та же сословность закрывает доступ к ремесленной и торговой деятельности всем, помимо лиц, организованных сперва в свободные, а затем во все более и более замкнутые корпорации (гильдии, цехи). Завершительным моментом в этой эволюции является замена принципа наследственности занятий свободным их выбором; она равнозначительна и совпадает во времени с отменой всяких производительных монополий и в частности монополий владения и занятия. Свободная конкуренция выступает с характером более открытой борьбы за существование, и междуплеменная распря, перешедшая по мере замены племен народами в междугосударственную, восполняется отныне борьбою экономических классов в пределах сменивших племенные союзы народов и государств.
Следует ли из сказанного, что процесс развития равнозначителен с устранением всяких сдерживающих центров по отношению к враждующим между собою народам и классам? История дает на этот счет следующее решение. Междуродовая, племенная и народная распря из постоянной и обыденной становится временной и случайной, благодаря постепенному расширению начала свободного соглашения между родами, племенами и народами. Эти соглашения двоякого характера. Одни ведут к постепенному слитию воедино прежде враждовавших между собою групп, другие к установлению определенного обмена услугами между группами, сохраняющими свою самостоятельность, но одинаково заинтересованными в расширении сферы обменов столько же материальными, сколько и духовными продуктами гражданственности. Если первый процесс ведет к сокращению числа участников международного соперничества и борьбы, то второй равнозначителен росту так называемого международного права, ставящего себе задачей упорядочить отношения самостоятельных политических тел путем договорных соглашений.
Если рост солидарности, сказывающийся в постепенном ослаблении начал милитаризма, проявляется и в отношениях народов между собою, то нет основания допускать невозможность его в том случае, когда соперничающими сторонами являются экономические классы одного и того же народа. И здесь соглашение, свободный договор, имеет своей задачей смягчить борьбу сталкивающихся в своих интересах групп одного и того же народа. Путем соглашений проводятся в жизнь такие начала, как обеспечение каждому возможности продолжать свое существование
трудом; эта цель достигнута уже английским законодательством времен Елизаветы и синтезирующим его основы принципом права на труд. Острота междуклассовых столкновений опять-таки путем соглашения сдерживается в известных рамках защитой женского и детского труда, введением начала ответственности предпринимателей за нерадение или отсутствие необходимой предосторожности, наконец, обязательным страхованием рабочих от несчастных случаев и т.д. и т.д. Из этих отдельных мер, возникающих разновременно, складывается затем социальное законодательство, в котором далеко не последнюю роль играет коллективный контракт, т. е. заключаемый предпринимателями не с каждым тружеником в отдельности, а со всей их совокупностью. В этом договоре определяются неизменные в течение всего выговоренного срока условия найма; надзор за их соблюдением вверяется где правительственным чиновникам, а где третейским посредникам, выбранным сторонами. Борьба за существование, переходящая нередко в борьбу за простое преобладание, разумеется, может быть введена в известные границы с большим трудом, когда речь идет о самостоятельных политических телах, т. е. государствах, но и для них имеются признаваемые всем международным союзом третейские суды, приговоры которых нередко приводятся в исполнение нейтральными державами.
Несомненно сильнейшую санкцию получают те нормы и те соглашения, которые направлены к упорядочению отношений борющихся между собою классов; вот почему есть полное основание надеяться, что так называемое социальное законодательство в недалеком будущем введет экономическую конкуренцию в те пределы, при которых свобода соглашений и охраняемая ею автономия личности не будет препятствовать проявлению взаимной заботливости экономических классов о сохранении и упрочении начала общественной солидарности.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИДЕИ ДОЛГА*
Высказались ли определенным образом по вопросу о происхождении идеи долга этнография и история, призванные в наши дни к решению стольких проблем? Я этого не думаю. Я полагаю, напротив, что ни одна теория не является столь замысловато-искусственной и столь близко соприкасающейся с парадоксом, как та, по которой альтруизм обязан своим происхождением эгоизму, долг — личному интересу. Гипотеза, утверждающая, что идея полезности есть истинный двигатель в жизни первоначального человека и его прототипа — дикаря, является крайним анахронизмом. Наши самые отдаленные предки наделяются такими качествами и стремлениями, каких не могла создать окружавшая их среда. Ничто в меньшей мере не соответствует современному индивидуализму и исключительным стремлениям к материальному благу, как жизнь племенами, обширными родственными обществами, иногда единоутробными, иногда единокровными, владеющими почти всем сообща и ставящими честь общества даже выше жизни каждого отдельного члена его. И чем больше углубляемся мы в потемки нашего происхождения, чем тщательнее знакомимся с жизнью современных дикарей, тем более приходим к тому заключению, что «собратство», «род», нераздельная семья (cognatio hominum qui una coierunt), употребляя выражение Цезаря, были тою единственной средой, в которой протекало существование первобытного человека.
Гипотезу архаического утилитаризма и химерическую мысль о происхождении общего блага из исключительного преследования
Печатается по: Памяти В. Г. Белинского. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов: с 3-мя фототипиями. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова: Изд. Пензенской обществ, б-ки им. М.Ю. ЛермонтоЗа, 1899. С. 401-412.
личного интереса приходится, следовательно, оставить. Для происхождения идеи долга нужно искать объяснение более правдоподобное, более соответствующее характеру и социальным условиям жизни самых отдаленных наших предков.
Попытаемся установить иную гипотезу. Но зачем прибегать к гипотезам, скажут нам; не лучше ли было бы просто констатировать генезис идеи долга у того или другого из диких племен, только еще выходящих из состояния нравственной бессознательности, свойственной людоедам и народам, живущим в полном смешении полов?
Единственный ответ, который можно дать на этот вопрос, заключается в том, что нравственная бессознательность дикарей, полное отсутствие в их среде правил, определяющих поведение, и отсутствие обычаев, разрешающих одни поступки и запрещающих другие, столь же мало установлена как и приписываемое им отсутствие религии. Нам известно теперь, как надо относиться к этому животному смешению полов, о котором столько говорится в «Социологии» Г. Спенсера. Один молодой финляндский этнограф г. Вестермарк в своем известном исследовании оценил по справедливости эту теорию, далеко не подтверждаемую положительными фактами. Правда, отрицая самое существование родства исключительно по матери, отрицая преобладающую роль, занимаемую в матриархальном обществе единоутробным дядей, а также и групповой брак, занимающий место брака индивидуального,— автор заходит слишком далеко; но он безусловно прав, когда приходит, после тщательных изысканий, к тому заключению, что безграничного смешения полов нигде не существует. Что касается людоедства, оно, как мы это покажем ниже, нисколько не исключает идеи правила и обязанности, что оно даже может предписываться обычаем, как долг, или, по крайней мере, может рекомендоваться обычаем, как похвальный поступок.
Следует ли отсюда заключать, что этнография и история столько же бессильны решить вопрос о происхождении идеи долга, как и психология? Нисколько... Я хочу только доказать, что изучение генезиса идеи долга является возможным лишь при посредстве гипотезы, бывшей, впрочем, всегда первым источником всех наших общих идей.
Признавая такой путь неизбежным, я постараюсь обосновать мою гипотезу на фактах известных, многочисленных и легко поддающихся контролю. Я отправляюсь от того, подтверждаемого примером дикарей, предположения, что первобытный человек,
бесконечно более слабый и менее подготовленный к борьбе, чем человек современный, не стремился к одиночеству и жил стадной жизнью, в обществе себе подобных. Озерные постройки и гроты троглодитов далеко не внушают нам представления о дикарях, как о людях, живущих отшельниками, отдельными самодовлеющими парами. Рыбная ловля и охота нисколько не исключают, как это пытались утверждать, идеи ассоциации, идеи труда сообща.
Нас учит этому пример эскимосов Г жителей Камчатки и других бесчисленных народцев, названия которых было бы бесполезно перечислять. Охота на китов и ловля крупной рыбы производится на Ледовитом океане группами в десять человек; подобными же группами иногда в сорок человек (а в былые времена даже в 50 и в 60) охотятся за соболями на северо-востоке Сибири, как это видно из описания Камчатки, сделанного профессором Крашенинниковым сто лет тому назад1 2.
Этот род коммунизма между охотниками и рыболовами был очень пространно изучен профессором Зибером в его образцовом исследовании о первобытной культуре3. Его исследования показывают, что и в наши дни трудности охоты на крупного зверя и ловли морской и озерной рыбы превосходят силы отдельной семейной группы дикарей; в этих предприятиях принимают участие целые роды, причем добыча делится полюбовно или следуя предписаниям обычая. Эти группы охотников и рыболовов, состоящие большею частью из родственников по матери и предводительствуемые старшим из них, а еще чаще ими самими выбранным вожаком, не имеют, конечно, ничего общего с теми изолированными бродячими парами, которых Дарвин нашел в Новой Голландии и которые, по его мнению, наиболее приближаются к типу первобытного человечества. Основательные исследования миссионеров, проведших целые годы среди племен Новой Голландии, вовсе не подтверждают того мнения, которое составил об этих племенах знаменитый ученый на основании недостаточных данных, гг. Файзон и Гауит встретили среди этих племен целую систему матриархальных и эксогамных групп,
1 Сравни изобилующее хорошо проверенными фактами исследование, которое г. Ринк предпослал в качестве введения к своему сборнику эскимосских басен (Rink., Folk-tals of the Eskimo).
2 См.: Histoire et description du Kamtchatka par M. Krascheninnikow, professeur de 1'Academie des Sciences de Saint-Petersbourg, t. II, p. 129.
3 Эта книга знакома только очень ограниченному числу иностранных ученых, между прочим г-ну Лориа (см. его «Genesi della prdprieta capitalista»).
подобных тем, которые, как констатировал Морган, существуют у дикарей Северной Америки.
Нельзя отрицать того, что в Австралии и в Америке, лучше исследованных, чем Центральная Африка, и менее, чем Азия, подверженных влиянию старых цивилизаций, имеет еще смысл искать черты организации первобытных обществ. Впрочем, матриархальные и эксогамные группы встречаются и на Малайском архипелаге, и в горах Кавказа. Те, которые отрицают существование всяких организаций, кроме патриархальных, хорошо сделали бы, прочитав предварительно все то, что гг. Колер, Пост, Даргун и многие другие написали в опровержение их взглядов4.
Этот вопрос об относительной древности матриархальной и патриархальной семьи имеет для нас в данный момент второстепенное значение. Нам не приходится разбирать ни первоначальные формы этих групп, ни их последовательную трансформацию5. Для нас все сводится к отрицанию первобытного Робинзона.
Остается установленным, что отсутствие всякой группировки на заре человечества есть бессмыслица. Аристотель был прав, когда говорил, что человек по натуре своей есть животное общественное. Его мнение подтверждается не тем, что семья существовала во всякие времена (в чем я первый сомневаюсь), но тем, что вне ее с самых незапамятных времен существовали группы лиц, сообща преследовавшие общую цель — производство и защиту от диких животных и внешних врагов.
Лишь только эта истина была признана, она совершила переворот в общей истории права. Она начинает делать то же по отношению к экономической истории. Достаточно бросить взгляд на труды Гёслера, на столь интересную работу г. Бюхера («Происхождение народного хозяйства»6), чтобы увидеть, что как для эмбриологии права, так и для истории экономической эволюцш наступила новая эра.
Почему же то же самое не могло бы быть с историей нравов, почему бы не попытаться связать происхождение их, и в частности происхождение идеи долга, с необходимостью поддерживать эти
4 Это относится, в частности, к г. Брентано (из Мюнхена), который с удивительной развязностью заявляет, что теория матриархата окончательно погребена (см. «Zeitsdvrift fur Social-undWirtscliaffts-Geschichte», издаваемый Бауэром в Вене).
5 Я исследовал эти вопросы в «Tableau des origines de la famille». Stockholm, 1890.
6 Die Ensthehung der Wolkswirtschafft, 1893.
первичные человеческие группировки, подчиняя членов их правилам, прилагаемым исключительно к существующим внутри этих группировок отношениям? Все это, повторяю, только гипотеза, потому что первобытный человек и первобытное общество известны мне не больше, чем кому-нибудь другому.
Но эта гипотеза строго соответствует всему тому, что мы знаем о жизни самых диких племен, не имеющих никакого понятия о Государстве. Нет ничего более ложного, чем то предположение, что племена эти, не щадя никого, вполне отдаются своим диким инстинктам. Напротив, нас поражает исключение, которое они делают в пользу своих собственных членов, поражает то постоянное и очень заметное различие, которое существует между их отношением к чужеродцам и отношением к так называемым братьям или «сородичам» («gentiles»), употребляя термин, освященный римским правом. То, что позволено по отношению к одним, запрещается по отношению к другим. Таким образом, один и тот же поступок может быть в одном случае похвальным и позволительным, в другом — позорным и недозволенным. Ключ к этому странному дуализму может быть найден не иначе, как отправляясь от того принципа, что все, способствующее материальному или моральному благу группы, является хорошим само по себе, желательным, сообразным с обычаем, одним словом, является долгом. Напротив, все, что так или иначе наносит ущерб групп ее безопасности, ее имуществу или ее чести,— рассматривается, как дурное, низкое, гнусное и непозволительное. Воздержание от всего такового есть долг; каждый выполняющий этот долг поступает сообразно обычаю, является полезным членом, к судьбе которого группа никогда не относится безучастно; тот, кто нарушает обычай, выказывает этим самым свою злую волю по отношению ко всем «сородичам» и должен быть изгнан из их среды.
Те же поступки, совершенные по отношению к чужеродцам, к лицам, стоящим вне группы, теряют всякую нравственную квалификацию. Они не позволены и не запрещены; вернее говоря, они оцениваются сточки зрения интересов группы. Поступок хорош, если можно извлечь из него какую-нибудь выгоду, и дурен — в противном случае.
В любом труде, посвященном изучению нравственности у различных народов, можно найти немало подтверждений этому. Достаточно заглянуть в сочинения Узка, Летурно, Спенсера.
Вместо того чтобы останавливаться на отдельных примерах, я предпочитаю сделать обзор различных категорий поступков, в которых проявляется вышеуказанный мною дуализм.
Начнем с тех, которые имеют характер преступления; не будем забывать, что в первобытных обществах, как и в древнейших законодательствах, предел между уголовной и гражданской сферами далеко не является установленным, и что всякое нарушение интересов, как индивидуальных, так и коллективных, может иметь последствием один и тот же род репрессии, одну и ту же месть.
Рассмотрим же различные виды преступлений. Убийство родственника сопровождается обыкновенно исключением виновного из группы, к которой он принадлежит. Таково происхождение тех «абреков», о которых часто упоминается в черкесских сказаниях. Абрек не имеет родственников. Он не имеет никого, кто мог бы его защитить, он более других подвержен оскорблениям. Его можно безнаказанно убить, никто не обязан мстить за него7.
Черкесский абрек имеет много сходства с «wargus»’M древнегерманского права; его, как вечно преследуемого врагами, источники сравнивают с волком. «Изгой», о котором заходит часто речь в древнейшей истории России, есть также падший человек, лишенный родства, помощи и поддержки.
Эту относительную безнаказанность преступлений, совершенных над родственниками, находили странной. Но необъяснимым было бы именно обратное: ибо какой интерес мог бы толкать группу — уменьшать свои собственные силы, мстя провинившемуся члену своему за совершенное им преступление? В результате было бы только одним убитым более.
Перейдем к тому случаю, когда убийство имеет жертвой чужеродца.
Так как племена живут в состоянии непрерывной войны, то здесь дело сводится к уничтожению врага. Такое уничтожение выгодно, конечно, для группы; все, что ведет к нему, достойно, следовательно, похвалы и является обязанностью, ибо речь идет обыкновенно о какой-нибудь мести; месть же священна; попытка освободиться от нее посредством уплаты головничества, whergeld или выкупа признавалась многими народами заслуживающей осуждения. Оценивать кровь убитого родственника большим или меньшим количеством
7 Подобные же обычаи, хотя и несколько смягченные, на практике наблюдаются у большинства туземных кавказских племен; так, сванеты разрешают отцеубийце или братоубийце продолжать жить вместе с племенем, но с тем условием, что он не будет входить ни в какие сношения с своими ближними. Он должен носить на шее, в качестве отличительного знака, цепь из маленьких круглых камешков.
волов, коров или овец казалось некогда постыдным среди дагестанских горцев. «Кровь может быть смыта только кровью»,— гласит одна старая осетинская поговорка. В исландских сагах и в особенности в саге Ниала сын, который не мстит за убийство своего отца, является настолько виновным и гнусным, что собственная мать его отказывает ему в пище, давая камни вместо хлеба8.
Даже в том случае, когда убийца неизвестен, обычай предписывает выполнить акт мести. Как же исполнить этот долг? — Направляя выстрел в первого встречного, лишь бы он не принадлежал к тому же роду, что и жертва.
Burton, говоря о племени Сиу Северной Америки, замечает: «Если автор оскорбления ускользает от них, то они, подобно древним шотландским горцам, обращают свою ярость против невинных, вся преступность которых заключается в принадлежности к враждебному племени, или в том, что они одного цвета с последним». Отмечу мимоходом, что тот же обычай существовал некогда у шотландских родов: некоторые племена Дагестана следовали ему почти до настоящего времени. И здесь употребление выкупа было предписано интересами племен.
Это вытекает не только из того факта, что выкуп за жертву поступал целиком или частью всему обществу, но еще и из того, что виновный занимал место убитого, становился приемным членом группы последнего.
Среди некоторых туземных народцев Кавказа кровавая месть еще недавно завершалась следующего рода процедурой. Покрытый белой буркой, с растрепанными волосами, с топором, привешенным к поясу, приходит в Осетии и в Дагестане виновный к самому близкому родственнику своей жертвы. Он заявляет, что посвящает себя отныне душе усопшего, обещает приносить ей все жертвы, требуемые законом, служить тем, кому служила его жертва при жизни. Над ним проделывают известную церемонию, напоминающую своими подробностями акт усыновления. Так, в некоторых местностях провинившийся целует грудь матери убитого; после этого ему прощается вина его, и он становится членом группы.
8 Точно так жену австралийцев, тот, кто не отмстит за убийство близкого родственника, становится предметом издевательств со стороны старух; жены покидают его; если же он холост, то ни одна молодая женщина не согласится разговаривать с ним и т.д. См.: Gray G. Journal de deux expeditions dans le nord et 1’occident de 1’Australie, 1841, цитированный Спенсером — «Мораль у различных народов», с. 90.
Нетрудно понять смысл подобного обычая.
Род потерял члена. Этот член возвращается ему в лице убийцы. Интересы общества таким образом сохранены. Месть может быть для него отныне только пагубна; для нее поэтому нет места. Она перестает, следовательно, существовать. Буркгардт вполне прав, говоря, что «спасительный институт выкупа помешал больше какого-либо иного обстоятельства взаимоуничтожению племен», потому что мстили не только за убийство, но и за всякого рода нарушения интересов индивидуума или всей группы; беспощадная война становилась нормальным состоянием первобытных народов. Закон возмездия сделался, таким образом, первой гарантией правосудия. Между нанесенным и возвращенным вредом устанавливается точное соотношение. Вред, наносимый личности, и покушение на собственность влекут за собою различного рода последствия. Захват движимого имущества становится обычной процедурой в случаях воровства, пролитие же крови терпится только в отместку за убийство и за поранения.
Я не стану более подробно останавливаться на всех этих фактах, тщательно изученных мною в моем исследовании о «Современном обычае и древнем законе». Мне достаточно только указать, что они подтверждают мою общую мысль, доказывая с очевидностью, что идея долга всегда предписывалась интересами общественности и внутреннего благосостояния группы.— Как для воровства, так и для убийства устанавливается различие, соответственно тому, является ли жертвой член группы или чужеродец9.
И то, и другое похвально, если направлено против иностранца, но является преступлением, если имеет жертвой своей члена родственной группы. В последнем случае с виновным обращаются, как с отцеубийцей. Его не убивают, но он изгоняется из общества, мир и покой которого он нарушил. Чтобы заставить его удалиться, разрушают его жилище и конфискуют его имущество.
Доказательства можно найти и в обычаях калмыков и киргизов. Последние, как свидетельствуют Паллас и Аткинсон, наказывают
9 Воровство должно было существовать во все времена, так как всегда существовали зародыши частной собственности — на отточенные камни, служившие оружием, на листья и перья, служившие одеждой, или на различные плоды, рыбу и дичь, употреблявшиеся в пищу. Чем менее развит индивидуализм, тем более сохраняются остатки архаической общинной собственности и тем менее сурово наказание за кражу даже у члена своей же группы. Сравнительная этнография вполне подтверждает это правило.
за воровство лишь в том случае, когда оно совершается внутри рода.
Цезарь устанавливает то же различие, говоря о древних германцах. «Воровство, совершенное за пределами народца,— читаем мы в шестой книге Комментариев к Галльской войне,— не влечет за собою позора». Нетрудно понять происхождение этих различий: тот, кто обворовывает своего родственника, члена своей группы, нарушает внутренний мир последней, являющийся основой ее. Ничего подобного не происходит, если жертвой воровства является лицо, постороннее роду. Обычай не противится подобным действиям и иногда даже поощряет их.
Перейдем теперь к преступлениям и проступкам, направленным против общественной нравственности10 11.
Ничто не наказывается более строго, чем половые сношения между членами одной и той же группы11; ничто не поощряется, с другой стороны, так, как похищение девушек и женщин, принадлежащих к чужому племени. Такого рода похищение рекомендуется, предписывается обычаем, потому что среди экзогамных племен оно является единственным средством для вступления в брак. Даже покупая девушку у своего родственника, делают вид, что отнимают ее силой. Когда брак по договору становится общим правилом, воспоминание о похищении сохраняется в свадебных обрядах. Между свитой жениха и свитой невесты происходит схватка, носящая чисто обрядовый характер. Молодой муж схватывает свою нареченную на руки и выбегает за порог двери, ведущей к выходу. Народные песни в России и в других славянских странах богаты свидетельствами этого рода12.
Факты похищения и насильственного увоза происходят и в наши дни на Кавказе. Часто этот акт только симулирован, так как между обеими семьями сбглашение состоялось ранее. Мы не будем останавливаться ни на том, что увоз был обычным явлением у древних индусов, и в частности у военных, вступавших в брак, ни на похищении римлянами сабинянок. Факты эти слишком хорошо известны, и дальнейшие доказательства являются бесполезными.
10 См.: Spencer. Нравственность у различных народов, с. 50.
11 См.: Fison и Howitt Kamilarvi and Kurnai.
12 Г. Волков поместил в Antropologie целый ряд интересных статей о свадебных обрядах у славян. Роль похищения в эволюции брака трактуется с большим богатством подробностей.
Чтобы уловить в организации первобытного общества внутреннюю связь между интересами рода и понятием должного и недозволенного, необходимо вдуматься в обычаи, которыми руководствуются по отношению к женщине, виновной в прелюбодеянии.
Муж в подобных случаях не только имеет право убить свою жену, но он лишен права оставить ее при себе; он должен прогнать ее; если у него не хватит на это решимости, то за него действуют родственники. Почему все это? Потому что не хотят допустить, чтобы ребенок чужеродца мог войти в племя благодаря прелюбодеянию.
В большинстве случаев такой ребенок приносится в жертву. У кавказских туземцев незаконнорожденный редко оставляется в живых; так же поступали многие народы в древности и в Средние века.
Обычай, предписывающий убийство как женщины, совершившей прелюбодеяние, так и плода любви ее, допускает, впрочем, одно исключение.
Забота об интересах группы толкает мужа, если союз его бесплоден, уступит свою жену родственнику с целью прижить ему ребенка. Таково происхождение той «ниога», о которой заходит речь в индусских сводах.
Бесчестие прелюбодеяния не падает в этом случае ни на жену, ни на ребенка, ибо от такого желаемого нарушения супружеской верности род только выигрывает.
Другие, весьма странные и столь же сильно противоречащие нашему нравственному чувству факты, вроде принесения в жертву военнопленных и убийства стариков, находят себе объяснение в заботах об интересах рода. Что делать, например, с военнопленными, многочисленность которых способна внушать опасения? Их приносят в жертву усопшим, мясо же их поступает в пищу. Такая практика, как впервые показал Монтень, продолжает держаться до тех пор, пока человечество не сделает того поступательного шага, каким, как это ни может показаться странным, является рабство, т. е. приурочение военнопленных чужеродцев к работам на пользу рода.
Принесение в жертву стариков точно так же освящается интересами родственников и племени. Оно покажется нам таковым, если мы проникнемся предрассудками этих первобытных народов, наивный материализм которых допускал возможность усваивать себе физические и нравственные качества умершего, напившись его крови.
Мы рассматривали до сих пор матриархальный и патриархальный род только как общество самозащиты и взаимной помощи.
Но не нужно упускать из виду, что он является вместе с тем очагом известного культа, самого распространенного и, вероятно, самого древнего из всех нам известных.
Я говорю о культе предков, первичным источником которого является вера в недействительность смерти.
Как современный дикарь, так и варвар, знакомый летописцам древности и Средних веков, убеждены, что умершие ведут такую же жизнь, как и живые: продолжают разделять интересы своего рода; борются с врагами его; побеждают или падают вместе с ним; являются для родственников своих помощниками во всех предприятиях в пользу рода. Им нельзя поэтому отказывать в известных услугах, им предлагается ежедневно пища и питье, в память их иногда устраиваются особые поминальные пиршества. Нельзя пренебречь этими обязанностями: покойники мстительны; покинутые своим потомством, они заставляют его дорого искупать свою вину.
Ко всем обязанностям, налагаемым интересами группы, присоединяются, таким образом, еще те, которые предписываются культом предков. Эти обязанности иногда совершенно противоречат материальному благосостоянию сообщества. Так, например, туземные племена Австралии и Кавказа разоряются, устраивая родственнику достойные похороны. У древних скандинавов (нордменов) и «Руссов», упоминаемых Ибн-Фоцланом, женщины, рабы и скот сжигались на костре около умершего, память которого почитается и которому желают услужить как можно лучше даже за гробом13.
Заключение, к которому мы приходим, состоит в том, что идея долга была внушена первобытным племенам интересами самосохранения. Эти интересы заставляли их мстить за смерть родственника, похищать у иностранцев возможно больше скота и женщин, убивать за прелюбодеяние и женщину, и плод любви ее, приносить в жертву военнопленных и стариков, разоряться на приношения в пользу умерших и на устройство поминок. Как ни несообразны эти обычаи, они имеют то общее, что требуют от личности самоотречения в пользу группы. Так, сын отказывается от выкупа за убийство отца и рискует жизнью, преследуя свою месть; обманутый муж отказывается принять обратно свою жену и сохранить жизнь
13 Спенсер приводит пример жителей Св. Августина (Австралия), которые называют добродетельным человеком того, кому друзья его устроили пышные похороны, и злым того, для кого друзья поскупились устроить какую-нибудь церемонию (см.: Нравственность у различных народов, с. 120).
незаконнорожденному; он жертвует и ту и другого желанию племени остаться незапятнанным; ближайший родственник умершего разоряется, чтобы устроить похороны.
Все эти акты внушаются чувством солидарности, являющимся противовесом личному инстинкту. Чем более развито это чувство, тем сильнее расширяется круг обязанностей.
Благодаря приему гостей во временные члены семьи14 и приобщению рабов к домашнему культу, идея долга выходит из своего узкого круга: обязанности, предписываемые ею, получают более широкое основание. С религиозным объединением в единую семью всех сынов одной и той же страны создается подразделение на правоверных и язычников или, что то же, на туземцев и чужеземцев. Первые связаны между собою взаимными обязательствами, оставаясь свободными от всякого долга по отношению ко вторым, т.е. по отношению ко всем, кто признает другого Бога и другую родину. Так было с евреями и со всеми народами, исповедующими национальную религию. Ссуда денег на проценты, запрещаемая правоверным Иеговы, когда речь идет о единоверце, разрешается по отношению к иноверцам.
Создаются, наконец, религии более или менее универсальные — буддизм, христианство, магометанство — и гуманитарная философия, еще менее расположенная останавливаться перед границами, разделяющими народы и верования. Идея долга становится общей идеей, потому что внушающее ее чувство солидарности охватывает постепенно все человечество.
Таковы в немногих словах происхождение и эволюция идеи долга.
/-. ' , "Ч;
‘ . .Г' - , ' ‘ ' • ‘ ‘ W
. - .. ।. , • .
yi >.; .и . - ' 'ЧГ
14 Приведем один пример из тысячи ему подобных. На островах Фиджи «тот же самый туземец, который может без колебания убить в нескольких шагах от себя только что вышедшего от него гостя, чтобы украсть у него нож и топор, - будет защищать его с опасностью собственной жизни, раз он переступит порог его хижины» (Burton). То же самое имеет место среди туземцев Кавказа.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К СОЦИОЛОГИИ.
МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРАВА *
В германской юридической литературе не раз высказываемо было за последнее время недовольство современной постановкой вопроса о научных задачах правоведения. Одни жалуются на подчинение истории догме, другие — на равнодушие, с каким юристы уклоняются от важнейшей их миссии — содействовать своими трудами дальнейшему развитию права к Ближайшим поводом к проявлению такого недовольства было издание в 1888 году проекта нового гражданского кодекса для Германии с сопровождающими его мотивами. Оно как нельзя лучше показало, что служебное положение, в какое история законодательства стала по отношению к догме, обратившей ее в своего рода архивный склад для справок о времени происхождения и последовательных видоизменениях отдельных институтов, принесло свои печальные плоды. Немецкие юристы утратили сознание той связи, в какой право стоит с ростом культуры и гражданственности. Идея внутреннего развития и тесной зависимости, существующей в каждый данный момент между правом и экономическим, общественным, политическим и религиозно-нравственным укладом, по-видимому, осталась чуждой составителям кодекса, важнейшую основу которого составили Юстиниановские пандекты с теми расширительными толкованиями и подчас искажениями, каким они подверглись со стороны немецких догматиков. Пренебрежение историей повело к опущению зако
‘ Печатается по: Сборник по общественно-юридическим наукам / Под ред. проф. Ю.С. Гамбарова. СПб., 1899. Вып. 1. С. 1-29.
1 См., напр.: Adolf Merkel. Ueber das Verhaltniss der Rectsphilosophie zur positiven Rechtswissenschaft в Zeitschrift fur Privat- und offentliches Recht. Wien, 1874. В особенности еще цитируемая ниже речь Менгера.
нодателем всякого рода социальных задач, к отказу от малейшей попытки дать юридическое выражение общественным тенденциям современности. Никто живее Антона Менгера не передал той мысли, что предложенный Германии Свод отразил на себе все недостатки современной германской юриспруденции.
«Если,— говорит он, — иные юристы ставят проекту упрек в том, что он лишен социального характера, то составители его вправе им ответить: да, это — недостаток, но общий всей немецкой юриспруденции, и не одной немецкой» 2. Почтенный ученый почему-то не задался вопросом, в какой мере отмеченная им черта обусловлена недостатком исторической подготовки современных законоведов. Справедливо замечая, что «наука права должна преследовать три цели: догматическую, историческую и социальную» (в смысле предложения реформ в действующем законодательстве, с целью согласовать его с гражданским бытом), Менгер неправильно обособляет затем эти задачи в отдельные дисциплины — юриспруденции догматической, исторической и законодательно-политической (legislator-politische Jurisprudenz), тогда как на самом деле все три — не более как ветви одного целого. Что такое догма, как не возможно-логическая передача действующего права, не заключающего в себе самом никакого критерия для своей пригодности в настоящем и путей дальнейшего развития? Только при помощи истории можно ответить на вопрос, в какой мере данное право является продуктом всего предшествующего наслоения юридических норм, и что в нем продолжает стоять в согласии или противоречии с намеченными жизнью решениями. Это значит, что без истории нельзя указать ни органического характера законодательства, ни скрывающихся в нем несовершенств, источник которых всецело лежит в том, что жизнь обогнала юридическое творчество.
Непонимание этой истины ведет к тому, что многие думают найти критерий для оценки действующего законодательства в каком-то метафизическом представлении об абсолютной справедливости и прирожденных человеку правах, слывущих под названием «прав естественных». Забывая историческое происхождение их первообраза, римского jus gentium,— вызванного необходимостью нормировать юридические отношения отличных от квиритов — этих
2 Речь о социальных задачах юриспруденции, произнесенная А. Менгером в звании ректора Венского университета 24 окт. 1895 г. (русский перевод в записках Харьковского университета за 1896 г.).
исконных уроженцев вечного города — чужеродцев-перегринов, постепенно входивших в состав римского подданства,— некоторые из современных юристов не прочь оживить учение «о праве, которому сама природа обучила всех живущих» (jus quod natura omnia animalia docuit). Но если природа обучила чему всех живущих, то отнюдь не праву, а бесправию, состоящему в том, чтобы жертвовать ближними в интересах самосохранения. Если борьба за существование, в конце концов, не воспрепятствовала, а, может быть, даже косвенно содействовала образованию права, то только потому, что инстинкт самосохранения подсказал участникам этой борьбы необходимость организоваться в группы для более успешного ее ведения. Всякая группа,— будет ли то муравейник, пчелиный улей, птичья стая, оленье стадо или орда кочевников, с необходимыми подразделениями на более тесные союзы, хотя бы временно сожительствующих мужчин и женщин,— является прежде всего замиренной средой, из которой устранены элементы борьбы; место борьбы занимает в ней солидарность или сознание общности преследуемых целей и взаимной зависимости членов группы друг от друга. На почве такой солидарности интересов человеческих групп, предшествующих по времени образованию государства, и возникает право, еще ничем не отличающееся от нравственности и, подобно ей, характеризующееся религиозной окраской,— что, при всеобщем господстве анимизма, заставляет смотреть на право, как на священный завет предков, тогда как на самом деле те или другие его нормы имеют источником третейское решение, вызвавший подражание приговор стариков-родственников или обособившихся в самостоятельную касту волхвов-кудесников, все равно, будут ли этими последними сибирские шаманы, индусские брамины или кельтические брегоны и друиды.
Всего этого не следует терять из виду при критике тех притязаний, какие в разное время выставлялись как школой «естественного права», говорившей о прирожденном человеку и неизменном чувстве справедливости, так и исторической школой, выводившей право из обычая, а последний — непосредственно из народного юридического сознания (nationals Rechtsbewustsein). Если право зарождается вместе с первыми общественными союзами и отвечает одному с ними запросу на солидарность сперва тесных, а затем — все более и более широких групп, то о прирожденное™ известных юридических идей и представлений можно говорить только в том смысле, что они унаследованы от предков, но отнюдь не в том,
что они насаждены в нас природой или являются, говоря языком Канта, категорическим императивом нашего разума. Делая такие предположения, нельзя было бы объяснить, почему эти идеи постоянно изменяются вместе с ростом человеческой солидарности, по мере того, как численно ограниченные союзы бродячих орд или заменяющих их с течением времени родов и нераздельных семей уступают место федерациям, обнимающим собою целые племена, объединенные завоеванием и образующие впоследствии одно политическое целое — государство. И много позднее, когда, под влиянием универсалистических религий и международного торгового обмена, сфера солидарности начинает распространяться на ряд народов и государств, мнимо прирожденные нам понятия о праве и справедливости меняются так радикально, что взамен прежнего воззрения на чужеземца, как на врага, против которого все дозволено, постепенно развивается представление о поставленном под защиту собственного очага и потому неприкосновенном госте, брате-единоверце, тронуть которого не позволяет никому воля Божья и голос совести. Наконец, всего позднее вырабатывается в нашем сознании, под влиянием той же причины — расширяющейся солидарности — и отвлеченное представление о человеке вообще и его неотъемлемых правах (Vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist, leider, niedie Frage. Gothe. Faust). Представление это большинство людей еще долгое время связывает с принадлежностью к одной расе и религии. Крайне медленно вырабатывается понятие о всечелове-ке, брате не по Христу и Магомету, а по принадлежности к числу мыслящих и чувствующих существ. Сознание родового единства, патриотизм, космополитизм — таковы последовательные стадии в развитии того чувства солидарности, окончательное упрочение которого в такой же мере обусловит собою в будущем радикальную перемну в наших современных представлениях о справедливости и неотъемлемых правах личности, в какой самое появление этого чувства вызвало зарождение идеи права вообще.
Я далеко не перечислил всех союзов, в которых последовательно развивалось и зрело сознание общественной солидарности, вызывая соответствующие изменения в тех нравственных и правовых идеалах, совокупность которых и составляла в разное время столь различное по содержанию «естественное право». Мне пришлось бы еще назвать сельские общины и муниципалитеты, гильдии, касты, сословия, наконец — основанные не на одном разделении труда, но также на монополии землевладения и капитала — классы
собственников (движимых и недвижимых) и пролетариев, в этом числе — и представителей умственного труда. По мере того как все эти союзы, за исключением одних последних, отходили в область прошедшего, становились анахронизмами и такие положения, как, например, устранение чужеземца от общения с членами общины или цеха, запрещение браков и вообще тесного гражданского обмена между лицами разных каст и сословий. Странно звучит ныне то положение, что благородный должен жить благородно, воздерживаясь от наживы торговлей и промыслами, а между тем не далее как сто лет назад, в эпоху редактирования знаменитых наказов 1789 года, оно еще было отголоском некогда широко распространенных представлений о правде и неправде,— таким же отголоском или переживанием, каким в эпоху наступившей уже свободной конкуренции явилось и учение о справедливой цене и нормируемом правительством заработке торговцев, промышленников и рабочих. Все эти положения, заодно с каноническим запретом роста, вошли в общественное сознание и в свое время могли считаться таким же «естественным правом», каким в английских, американских и французских декларациях двух последних столетий провозглашались личная свобода и неприкосновенность собственности.
Нашей точки зрения отнюдь не разделяют те из германских юристов, которые, как, например, Адольф Меркель или Эрнст Нейкамп, не верят, подобно нам, в возможность оживления некогда наделавшей так много шуму и оставившей такой глубокий след в законодательстве — школы естественного права. Мне, признаюсь, не вполне понятно, как может существующее право, согласно утверждению Меркеля, само дать критерий для своей оценки и образцы дальнейших реформ3. Я не думаю, чтобы достаточно было выделить в особый отдел отвлеченные начала действующего права,— для того, чтобы этим указаны были уже его пробелы и путь к исправлению. Я-не думаю этого потому, что, заодно с Иерингом, полагаю, что угол зрения, которого требует рассмотрение действующего права, дается совершающимся вне его тесной области развитием всей
3 Vielen erscheint es freiiich ais unbegreiflich, wie das Bestehende den Massstab fur seine eigene Beurtheilung und die Musterbilder fur seine Umbildung soil an die Hand geben koimen, und doch handelt es sich dabei am einen Vorgang zu dem sick Analogies in alien Wissensgebieten Torbringen lassen (Merkel. Ueber das Verchaltniss der Rechtsphilosophie zur positiven Rechtswissenschaft und zura allgemeineu Theil derselben. Cm.: Zeitschrift fur das Privat- und offentliche Recht der Gegenwart. 1874, c. 418). . -»
гражданственности. То, что этот глубокий мыслитель обозначает довольно неопределенным термином «внешнего по отношению к праву мира» (Aussenwelt)4, есть все то, из чего, заодно с правом, слагается в каждый данный момент социальный уклад народа, его экономика и политика, религия и нравственность, наука и искусство. Все эти стороны быта, опять-таки заодно с правом, участвуют так или иначе в росте солидарности, и только взаимодействием их друг с другом объясняется самый этот рост.
Независимо и раньше последнего труда Иеринга моим собратом по социологии, Тардом, намечены были, так сказать, психологические законы поступательного развития обществ, сведенные им к открытию и подражанию5. Но открытие есть не более как счастливый вывод из массы накопленного уже опыта и наблюдения; оно носит поэтому характер скорее приспособления, нежели творчества. Счастливо одаренному от природы человеку приходит, например, на ум рекомендовать членам одной с ним орды или рода, в интересах расширения гражданского оборота и установления мирных отношений с соседями, заключать браки с чужеродками; поданный в том или другом месте, пример экзогамии находит подражателей в близких, а затем — во все более и более дальних кругах, ввиду того, что наблюдение приводит постепенно к убеждению в удобстве нового порядка и в его целесообразности. И вот, под влиянием подобного открытия,— которое на самом деле было не более как приспособлением к обстоятельствам, указывавшим именно на такой выход из состояния постоянной войны с соседями,— путем последовательных подражаний слагается нередко среди целых племен и народностей убеждение, радикально противоположное тому, какое господствовало прежде. Постыдно искать жену вне своей родни — гласила мораль-право эндогамических обществ. Постыдно заключать союзы с родственницами — таково новое начало экзогамических народностей. Личная проповедь повела, в конце концов, к изменению обычая, т. е. к реформе существующего права. И сколько элементов гражданственности прямо или косвенно задето было этим переворотом! Как говорить после этого о самопроизвольном развитии права или о зависимости его исключительно от поступательного хода знаний или народной экономии!
Возьмем еще пример. Где-то, под влиянием недостачи в пушном .звере, рыбе или пастбищах для прирученных животных, толпа
4 Entwicklungsgeschichte des romischen Rechts. с. 36 и 37.
5 См.: Les lois de 1’imitation и Logique sociale.
бродячих охотников или пастухов, послушная голосу выбранного ими и предприимчивого вождя, спускается с гор и овладевает силою угодьями чужой орды, принуждая членов последней стать в зависимые от себя отношения. Образующаяся таким образом государственная ячейка растет по мере того, как наведенный завоевателем страх порождает в соседях желание предупредить враждебные действия с его стороны своевременным подчинением,— что ведет как к насильственному, так и к добровольному, но только по виду, присоединению разрозненных и, поэтому уже, слабых орд, племен и родов. Выгоды, обеспечиваемые за гражданским оборотом всяким расширением замиренной среды, вызывают в предводителях других подобных же банд вполне понятное подражание, и государство возникает за государством, где — в силу покорения одним родом-племенем другого, где — благодаря добровольному союзу дотоле разрозненных общественных ячеек или группировке самостоятельных орд, родов и семей вокруг одного общего вождя, которым является не всегда воин, а подчас приобретший в округе славу третейский вершитель частных тяжб6.
На любом институте права можно проследить одновременное влияние открытия и подражания, нередко принимающего также форму приспособления к местным условиям. Захватное пользование, выражаемое поговоркой: «Владеть всем, куда топор и соха ходит», ввиду усиливающейся густоты населения, заменяется в той или другой общине то подворным владением, то периодическим переделом,— всякий раз, по той или другой частной инициативе, мало-помалу, в силу подражания и при видоизменениях, вызываемых местными условиями, в соседних областях развивается где (обыкновенно в тесных долинах) — дворовое и, позднее, долевое владение, а где (на протяжении обширных степей) — царское пользование. Это последнее, в свою очередь, видоизменяется здесь раньше, там — позднее, выделяя в частную собственность сперва усадебную землю, а затем и различные сельскохозяйственные культуры,— так что в нераздельном пользовании остаются всего более пустошь и лес. Начало положено и тут личным открытием и приспособлением; остальное сделано подражанием.
Приведенные примеры показывают, как мне кажется, довольно наглядно, что обусловливает поступательный ход положительного
6 Можно указать на так называемые уцмийства в Дагестане: уцмии на первых порах были не более как избранными сторонами судьями.
права. Он зависит не от проникновения его догматами метафизики естественного права, которое при косности общества делается элементом регресса, а при подвижности его только отражает на себе рост гражданственности. Развитие положительного права обусловлено всецело ростом гражданственности, знание которого может дать нам только социология и, в частности, социальная динамика, а не одна история права, если под последнею разуметь даже ту — опирающуюся на сравнительно-историческое изучение эволюцию, обещанную нам высокопревозносимой Нейкампом Entwicklungs-Geschichte des Rechts7. Говоря об истории, как о критерии действующего законодательства, я разумел именно эту — не конкретную, а абстрактную науку. Отрешаясь от временных и местных воздействий, задерживающих или ускоряющих процесс развития, социальная динамика дает нам только общую формулу прогресса, т. е. законы, управляющие ростом человеческой солидарности. Выводами этой абстрактной, хотя и описательной, науки, имеющей поэтому тот же метод, что и биология, должны руководствоваться те конкретные науки, которые, под наименованиями истории религии, искусства и науки, истории морали и права, экономической и политической истории, разделяют между собою область общественных явлений, изучаемых в порядке их исторического преемства и последовательного наслоения.
Сказанным определяется действительное отношение сравнительной юриспруденции к социологии. От последней первая вправе ждать руководящей нити при установлении различных стадий развития права. Тщетно бы стали мы искать эту руководящую нить как в нравственной метафизике, окрещенной пышным названием «естественного закона» (loi naturelle), так и в той общей теории права, которая ставит себе задачей философское обоснование действующего законодательства. Еще менее способно правоведение найти этот критерий в себе самом. Совершенно произвольным считаю я то допущение, что право развивается вне посторонних влияний, так сказать — самопроизвольно. Справедливо в этом отношении замечание Иеринга: сравнительное правоведение, говорит он, должно отрешиться от химеры самопроизвольного развития в той же степени, в какой уже освободились от нее естествознание и медицина, ищущие ныне источника происходящих в организмах изменений во внешних воздействиях. В смене учения
7 Neukamp. Einleitung in eineBntwickelungs-Geschichte des Rechts.
о самопроизвольном развитии теорий посторонних импульсов, другими словами — в признании связи, объединяющей явления с действующими на них извне причинами,— вот в чем, по весьма верному замечанию Иеринга, следует видеть важнейшее приобретение, сделанное в наше время точным знанием и, в частности, науками естественными8.
Я склонен поэтому поставить Иерингу в заслугу то самое, в чем упрекает его новейший теоретик задач и методов сравнительно-исторической юриспруденции, Нейкамп. Право не развивается само из себя. Как отражение стадии достигнутой обществом солидарности, оно изменяется вместе с расширением ее основ, вызывая прежде всего в отдельных, выдающихся личностях состояние неудовлетворенности и новые запросы, которые переходят силой подражания сперва в общественное мнение, в юридическое сознание масс, а затем — в обычай и закон.
Но завися, подобно другим конкретным общественным наукам, например, экономической истории, от социологии, историкосравнительная юриспруденция имеет и самостоятельное поле для исследований; она владеет методами и приемами, общими всем описательным наукам и, в частности, всем конкретным наукам об обществе. Социология дает историку права знание только тех последовательных стадий общественности, в которых слагается и совершенствуется система юридических норм, составляющих предмет его изучения. От сравнительной же истории права надо ждать ответа на вопрос, какие юридические порядки соответствуют родовой, какие — государственной или мировой стадии общественности, в какой внутренней связи стоят между собой отдельные юридические нормы в каждый из указанных периодов, что в том или другом законодательстве может считаться переживанием прошлого, что — задатком будущего, что вымирает и что зарождается, что поэтому должно быть устранено со временем и что восполнено и усовершенствовано.
Но, чтобы удовлетворить законной любознательности не только теоретика, но и практика, сравнительная история права не может, разумеется, довольствоваться простым сопоставлением двух или нескольких систем права, если такое сопоставление предпринимается на том только основании, что взятые системы выступают одновременно, существуют бок о бок одна с другой.
8 Entwickehmgs-Gesclnchte (с. 37).
Сравнение только тогда может быть плодотворно, если взяты будут законодательства двух или более народов, стадия развития которых тождественна. Можно, поэтому, сопоставлять родовые порядки кельтов, германцев или славян с римскими и греческими, хотя по хронологии эти народности и отстоят друг от друга на целые столетия и даже тысячелетия; можно привлекать к сравнению кастовое устройство Индии, Египта и народов передней Азии, общинный и цеховой строй немцев, французов, англичан и итальянцев, представительные учреждения народов, живущих феодальными монархиями,— но бесполезно сопоставлять Русскую Империю с Империей Карла Великого или Священной Римской империей и классовые деления современных народностей Европы со средневековыми сословиями и религиозными кастами древности. Во всяком случае, сопоставления последнего рода могут привести только к заключению о радикальном несходстве сопоставляемых учреждений, но они отнюдь не позволят построить общую картину орудующей чиновниками неограниченной монархии или выяснить действительную природу современного государства, опирающегося на разделение труда и монополию собственности. Это ясно само собою, так как цель всякого научного сопоставления состоит в том, чтобы выделить общие черты явления, ввиду установления его действительной природы. Достижение же этой цели возможно лишь в том случае, если будут сравнивать однородное. Вот почему мы можем вывести, например, из сопоставления западной сельской общины с восточной, что мирское владение и переделы не составляют неотъемлемой черты таких порядков, при которых субъектом собственности является не отдельное лицо, а совокупность сожительствующих в одном месте семей, тогда как, наоборот, то же сопоставление дает нам право считать подобной чертой недопущение чужеродце к выгодам, связанным с землевладением. Точно так же, сопоставляя обычное право народностей, живущих родовым строем, — обычное право, известное нам, за отсутствием сколько-нибудь совершенной письменной записи, только отрывочно и односторонне,— мы получаем возможность свести в общую картину и указать на внутреннюю связь, в эту отдаленную эпоху развития, таких, например, институтов, как обычаи родового возмездия, соприсяги родственников, родовой преэмпции и родового выкупа.
Уже из сказанного следует, что сходство в учреждениях обусловливается или тем, что сравниваемые народы стоят на одинаковой
ступени общественности, или тем, что, находясь в близких, если не тождественных условиях, они заимствуют друг у друга те или другие юридические нормы и порядки. Чтобы быть органическим, чтобы войти в кровь и плоть нации, заимствование подобного рода должно быть подготовлено всем предшествующим ходом развития. Иначе, рано или поздно, оно окажется мертвым и бесполезным, подобно введенной в Турции Мидгатом-пашою конституции или майорату, временно установленному у нас Петром Великим.
Это не значит, однако, чтобы подобные неорганические заимствования не встречались в истории. Они — наоборот — явление очень частое и заслуживающее тем большего внимания, что в результате его получается нечто, далеко отличное от того, что имелось в виду при пересаждении чужих институтов на новую почву. Кому не известно, например, что не только американские, но и большинство европейских конституций имели своим образцом английскую,— а какая бездна отделяет те и другие от их прототипа!
То же можно сказать и о суде присяжных, который из нормано-французских повальных обысков переродился в английское обвинительное и судебное жюри9 и, благодаря новому заимствованию, положил начало далеко не однородным с великобританскими — вердиктам французских или русских присяжных.
Объяснение — просто: самое заимствование не обходится без того второстепенного творчества, которое мы называем приспособлением, т. е. привитием чуждых порядков ко всему общественному укладу данной страны, насколько этот уклад определяется, наличными расовыми, почвенными, климатическими условиями и всем предшествующим процессом развития.
Наряду с одинаковым уровнем гражданственности,— способным вызывать у разных народов, на расстоянии нередко нескольких столетий и тысячелетий, однохарактерные юридические порядки,— и заимствованием,— объясняющим возможность пересаждения, всего чаще в несколько-измененном виде, чуждых народу норм и учреждений,— еще недавно объясняли общие многим народам черты юридического быта фактом унаследования известных правовых традиций от общего этим народам предка. Индогерманские племена вправе были считать таким предком древних ариев, как вавилоняне, финикияне и евреи — каких-то архаических семитов, а западно-финские народности — не менее отдаленных праотцев-финнов.
9 См.: Brunner. Die Entstehung der Scliwurgerichte.
Высказанные по отношению к двум последним группам народов гипотезы ограничиваются пока сопоставлением всего нескольких однокоренных слов в языке разных по времени и родине народностей. Из таких сопоставлений некоторые ученые, и, в их числе — Алквист, выводят, между прочим, заключение о полузем-ледельческом или исключительно сельском быте западно-финских племен, живших будто бы общинами, под начальством выборных старейшин и военных вождей, отнюдь, однако, не наследственных правителей10 11.
Что сделано Алквистом для финских народностей, того же старались достигнуть для семитов труды Кремера и Гоммеля, которые не выходили, однако, из области специального исследования о том, каковы были известные издревле этой семье народов культурные растения и домашние животные п.
Но для арийских народностей та же работа предпринята была в несравненно более широком масштабе Куном, Цикте, Максом Мюллером и Фиком.
Этой работой воспользовался для определения древнейшего социального и политического строя греков, римлян и германцев известный автор «Сравнительной политики» — Фриман, думавший найти, между прочим, в данных индо-германского словаря доказательства, того, что древнейший быт этих родственных между собою племен построен был, по причине их общего происхождения от древних ариев, на началах патриархальной монархии, уравновешенной советом старейшин и народным вечем12. Это положение Фриман считает себя вправе вывести из данных сравнительного языкознания: последнее одно может в его глазах дать нам материал для положительного решения вопроса, объясняется ли сходство в учреждениях сближаемых народов перенесением этих учреждений из общей им родины или однородностью условий быта и простым заимствованием. Если, полагает он, в языках двух или более народов термины, обозначающие сходные учреждения, происходят из общего корня, мы имеем верный признак того, что самые эти учреждения возникли впервые в общей родине и разнесены были впоследствии в разные концы мира народностями, постепенно отделявшимися от общего ствола. Но, высказывая это мнение, Фриман
10 Ahlqvist. Die Culturworter der westfinischen Sprachen. 1875. C. 254-267.
11 См.: Шрадер. Сравнительное языковедение и первобытная история. 1886, с. 61.
12 См.: Фриман. Сравнительная политика, в переводе Коркунова.
сам его ограничивает следующим образом: то обстоятельство, говорит он, что в языке одного из сравниваемых народов термин для обозначения общего всем им учреждения по корню своему отличается от терминов, обозначающих то же учреждение в других языках, еще не доказывает, чтобы учреждение, о котором идет речь, не возникло впервые на месте общей родины, так как утрата однокоренного слова тем или другим арийским языком — явление вполне возможное. Возвращаясь к приводимому им самим примеру смешанной формы политического устройства, как особенности арийской расы, Фриман показывает, как, при означении верховного правителя, разнокоренными терминами «реке» и «кунинг» (rex, cuning), римляне и германцы имели в то же время однокоренные слова для выражения самого действия правления, как-то: в латинском языке мы имеем regere, в старо-английском — rice, в голландском — reich и т. д.
С самого начала я отнесся скептически к этим смелым построениям и к тому методу, который положен был в их основу13.
1. Сравнительная грамматика, говорил я, несомненно в состоянии открыть нам картину материального быта арийцев в эпоху их совместной жизни; но сделать то же в равной мере и по отношению в их общественному быту — она положительно не может, и вот по какой причине. Когда в арийских языках мы находим однокоренные выражения для обозначения, положим, пород домашних животных, нам не представляется труда вывести заключение, что приручение их человеком имело место еще в эпоху совместного сожительства арийцев; того же далеко нельзя сказать о терминах, служащих для обозначения каких-либо не материальных, а нравственных понятий. Из того обстоятельства, что regere и rice — слова однокоренные, еще не следует, чтобы конкретные представления, связанные с каждым из этих слов, были тождественны; сравнительная грамматика бессильна сказать нам, что разумели под правлением римляне, — то ли, что и германцы, или нет?
2. Даже при поверхностном знакомстве с историей народов, призванных к государственной жизни, приходишь к заключению, что ни один из них не развил своей гражданственности сам по себе, помимо этнографического смешения с другими,— смешения, вызванного нашестями и завоеваниями. Возьмем ли мы Индию, Персию, Грецию, Рим, славянские и кельтические государства, мы
13 Мой: «Историко-сравнительный метод в юриспруденции».
одинаково принуждены будем сказать, что все эти страны стали деятельными факторами исторического прогресса уже после того, как в их среде произошло слияние разноплеменных и долгое время враждебных друг другу народностей. Кто, в самом деле, решится утверждать, что в Индии мы встречаем лишь чистую арийскую кровь без всякой посторонней примеси, которую представляют, например, народы дравидийского происхождения? Кому не известно, что историческая роль персов начинается с момента слияния их с мидянами-акадийцами — народом туранской расы? Развитие римской гражданственности также связано с фактом воздействия на нее этрусков — народа далеко не арийской крови. Что кельты застали Европу заселенной туранцами14, иберами и лигурами, это известно каждому, кто мало-мальски знаком с антропологией. Точно так же основание русского государства одновременно славянскими и финскими племенами засвидетельствовано не кем иным, как нашим начальным летописцем. Если же арийские народы выступают на арене истории не в этнографической чистоте, а после смешения с инородными племенами, то какая возможность относить те или другие явления их общественной жизни исключительно на счет их общеарийского происхождения?
3. К этим двум возражениям я присоединял еще следующие. Допуская даже, что те или другие учреждения существовали у той или другой ветви арийского племени еще на первоначальном месте ее родины, какое, спрашивается, ручательство имеем мы за то, что эти учреждения не исчезли с течением времени, не вымерли мало-помалу, под влиянием изменившейся среды? Случаи такого поворота в истории нередки. Кому не известен классический в этом отношении пример Рэтии (нынешнего Граубюндена), этрусское население которой, достигнув в эпоху римлян довольно высокой степени культуры, было постепенно вытеснено из долин в горы кельтическими и германскими завоевателями и развило здесь дотоле чуждые ему, но вполне отвечавшие изменившимся условиям его быта — пастушески-общинные формы жизни? Как не припомнить также примера берберов и постепенного перехода их от индивидуальных форм имущественных отношений, развившихся под влиянием римлян и римского права, к общинным формам, по мере того, как берегов вытесняли в пустыню арабы?
14 Не имея в виду лингвистической точности, я понимаю под туранскими племенами то же, что Макс Мюллер, т.е. не-семитов и не-арийцев.
4. Тогда как унаследование известных учреждений от общих арийцам предков редко может быть вполне доказано, а невозможность утраты общего арийского достояния под влиянием изменяющихся условий является более чем сомнительной,— возникновение однохарактерных с арийскими учреждений у совершенно разноплеменных с ними народностей, под влиянием прохождения ими одинаковых стадий развития, в настоящее время стоит вне спора. Возьмем ли мы родовой быт или общинное устройство, клановые или феодальные порядки, мы одинаково в состоянии констатировать все эти учреждения, в большей или меньшей степени развития, как у арийских народов, так и у семитов, туранцев, негров и краснокожих. Попытки фактического обоснования этого, на первый взгляд, странного и потому для многих спорного положения — сделаны были в разное время этнографами, историками и юристами. Благодаря их совокупным трудам, мы располагаем теперь богатым материалом, дающим право утверждать, что постепенный переход, положим, родового быта в общинный и общинного в феодальный одинаково встречается и в Мексике, и в Алжире, и в Империи Великого Могола, и в Византии, и в Карловингской монархии. Я положительно затрудняюсь указать, хотя бы на один институт, если не современного нам высоко развитого права Европы, то, во всяком случае, ее средневекового права, который бы в зародышном состоянии или в более или менее уже определившемся виде не мог быть найден не только у разноплеменных с арийцами народов Востока,— в этом числе и евреев,— но далее у жителей других частей света, Африки и Америки.
К этим соображениям, ратующим против одностороннего применения рассматриваемого нами метода исследования, филологи прибавляют в наши дни еще более решительные: скудость дошедших до нас остатков индо-германского словаря, раннее обособление от первоначального языка арийцев славяно-литовско-немецкого и позднейшее распадение одноязычного народа на две половины — ирано-индийскую и греко-итало-кельтическую. Все это заставляет, например, Шлейхера15 относиться весьма критически к выводам о первобытной культуре и праве, делаемым на основании сравнительного языковедения. «Шлейхер,— справедливо замечает Шрадер,— придает значение только тем словам, которые встречаются во всех трех группах, или, по крайней мере, в двух: славяно-
15 Schleicher. Die deutsche Sprache, с. 71 и след.
литово-немецкой и ирано-индийской». Сходство слов, не выходящих за пределы европейских языков, не имеет для него решающего значения по вопросам, касающимся первоначальных условий быта арийцев, так как он считает возможным обильное заимствование культурных слов одним народом у другого. Отсутствие сходных слов не дает, в свою очередь, права делать тот вывод, что передаваемые этими словами понятия были неизвестны первобытным арийцам. Многие слова могли с течением времени затеряться, иные — уцелели только в одном каком-либо языке; и тем самым потеряли признаки своей первобытности.
Еще ранее Шлейхера, Кун в «Журнале сравнительной филологии» указал в 1851 году на трудности и часто — непреодолимые преграды, лежащие на пути чисто-лингвистического расследования первобытной арийской культуры. Задача бывает сравнительно проста, говорит он, когда слово, выражающее то или другое понятие, тождественно по корню и суффиксу во всех индогерманских языках. Но случаи такого полного сходства крайне редки, так как «в странствиях по горным долинам, пустынным степям и плодородным землям, при частых сношениях с другими, как более варварскими, так и более культурными нациями, круг понятий отдельных арийских народностей то суживался, то расширялся, одни обычаи утрачивались, другие впервые складывались и развивались»16.
Ко всем этим элементам критики сравнительно-лингвистического приема исследования Ген присоединяет еще один. Филологи не заботятся, да иногда и не в силах определить точно первоначальное значение, связываемое с этимологически-родственными словами. Обыкновенно они приписывают древним арийцам то самое понимание смысла отдельных слов, какое мы встречаем в памятниках индогерманских народностей в исторические времена. Так, из того, что санскритское puri и греческое polis одинаково значат город, делают вывод, что первобытные арийцы имели уже города (на самом деле у них могли быть только городища, т. е. временные защиты для людей и скота). Ген17 критикует справедливо такой прием. «Тот, кто соединяет со старыми словами новые культурные понятия, легко найдет, замечает он не без иронии, и в первобытную эпоху все черты современной жизни» — упрек,
16 Die Sprachvergleichung und die Urgeschichte der indogermanischen Volker, статья 1.
17 Culturpflanzen und Haustiere, 3-е изд., c. 488.
который легко было бы обратить, в частности, и против Фримана по поводу его теории уравновешенной монархии у древних арийцев. Другое отличие Гена от прежних лингвистов-палеонтологов, говорит Шрадер, лежит в том, что он придает большое значение факту заимствования слов одним народом у другого. Одинаковость слов в одних европейских языках, объяснявшаяся прежде тем, что некогда все европейские ветви арийской семьи составляли один народ, находит у него иное толкование. Она могла, думает он, возникнуть и после расселения этих народов по разным местам. У одной ветви тот или другой словесный корень, имевший первоначально широкий смысл, приобретал более узкое, а потому и более определенное значение; с этим ограниченным смыслом он переходил и к другим ветвям.
Ко всем этим соображениям присоединяется и новейший авторитет в области сравнительного языкознания и начальной истории индогерманских племен, Шрадер. И он указывает на скудость дошедших до нас остатков индогерманского словаря. Если дело идет, говорит он, об одинаковости слов, охватывающей не все языки индогерманской семьи народов, а лишь некоторые, то у нас нет возможности решить, объясняется ли эта одинаковость особой родственной близостью данных языков, или и все другие арийские языки имели такие же слова, затерявшиеся со временем. На этом основании нельзя утверждать, чтобы те или другие понятия были первобытны, так как эти понятия могли впервые найти выражение себе у одного народа на расстоянии сотен и тысяч лет после другого. Мы не знаем законов словообразования, действовавших в доисторическую эпоху возникновения языков; поэтому-то нам часто и нельзя сказать, действительно ли восходят к одному прототипу слова, тождественные по корню и по суффиксу. Возможно, что совпадение произведено одинаковостью процессов развития, происходивших в каждом из названных языков отдельно и независимо от других. Так же возможно, что слова, между которыми сходство не идет далее одинаковости корня, произошли от одной первоначальной формы и уже после разъединения языков потеряли одинаковость суффикса. Но если сходство и таково, что мы вправе предположить существование слова и в праязыке, то является еще вопрос, какое значение имело данное слово в это первобытное время; и на этот счет филология особенно часто оказывается неспособной дать удовлетворительный ответ. Наконец, далеко не редко приходится отказываться от окончательного суждения о том, на первобытном ли
родстве или на раннем заимствовании основано этимологическое совпадение данных слов18.
Кто прочтет эту длинную выдержку — вынесет, по всей вероятности, то впечатление, что сравнительно-лингвистический прием в применении к истории древнейшей арийской культуры, а тем более к истории древнейшего права, осужден как раз теми, которых специальная подготовка допускала бы скорее всего сознательное орудование этим приемом.
То обстоятельство, что нарисованные с помощью его картины древнеарийского быта радикально расходятся друг от друга, и что на основание этого приема нельзя прийти к окончательному заключению даже о том, были ли арийцы пастушеским или земледельческим племенем19, выработали ли они агнатическое или одно материнское родство20, известны ли были им зачатки государственной власти (об уравновешенной монархии в их среде давно перестали думать) или они жили одними племенными союзами, — все это не оставляет, кажется, сомнения в том, что, при настоящем, по крайней мере, состоянии сравнительного языкознания, юрист-историк не вправе освобождать себя от поверки его результатов на данных доисторической археологии, сравнительной этнографии и этнологии, не говоря уже о ближайшей ему области изучения древнейших памятников законодательства и судебной практики. Только при таком одновременном пользовании всеми имеющимися в распоряжении исследователя данными, каким бы научным приемом они ни были добыты, такие писатели, как Иеринг и Лейст, могли положить основы менее подверженной сомнениям, хотя еще и крайне гипотетической — истории первобытной жизни ариев, их миграции и начальных основ их права.
Последний из названных писателей открыто признает невозможность основывать свои выводы исключительно на данных сравнительной лингвистики. «История учреждений,— говорит он,— должна разрабатываться независимо от того, какие результаты добыты филологией. Встречаются учреждения, которые у отдельных арийских народностей носят разные имена и имеют равную
18 Шрадер, гл. VIII. Выводы.
19 Первое допускают Ген и Иеринг, второе — Пикте, Макс Жюллер, Бенерей и Фик.
20 Ср. что говорит на этот счет Шрадер и Циммер, например, с тем, что утверждают Всеволод Миллер, Даргун и Сосюр.
природу, тогда как другие носят одинаковые имена и не имеют между собою ничего общего».
По мнению Лейста, историк-юрист обязан, прежде всего, выделить из массы исследуемых им учреждений разных народов те, которые общи всем им (например, грекам и римлянам, иногда, сверх того, индусам и германцам). Если выводы сравнительной лингвистики подтверждают результаты его самостоятельного исследования, последние получают еще большую силу и значение; но, и независимо от этого, его гипотезы имеют право на существование, так как они выведены не априорно, а путем наблюдения над сравниваемым материалом положительных законодательств. Если этот материал укажет на существование норм, общих всем или большинству народностей арийской семьи, т. е. как восточным ее ветвям, так и западным, то мы вправе будем считать эти нормы наследием общих предков («племенное право» — Stammrecht); если же, наоборот, сходство ограничится членами одной из тех ветвей, на которые при расселении разделилось арийское племя — например, греками и римлянами, — тогда мы вправе говорить лишь о «сродном праве» (Stammverwandtesrecht), не делая при этом никакого вывода относительно того, жили ли обе обособившиеся народности некогда совместно, или нет, а допуская только факт их более тесного проникновения друг другом 21.
Подведем итоги сказанному.
Сходство учреждений двух или нескольких народностей имеет источником всего чаще общность их культурных условий, прохождение ими одинаковых стадий развития; но оно может быть и результатом унаследования этих учреждений от общего предка, и плодом прямого заимствования. В обоих случаях факт сходства должен быть формально констатирован путем не одного сравнительно-лингвистического приема, указывающего то на существование в разных языках сходных по корню и суффиксу слов для выражения сходных понятий, то на наличность того же слова и в том же употреблении у двух народов, которых судьбы были временно сближены (например, арийцев и семитов передней Азии и Месопотамии). Исследователь должен каждый раз идти самостоятельным путем к раскрытию этого сходства на основании сопоставления всего дошедшего до него культурно-юридического материала. Он должен пользоваться при этом в равной мере и данными археологии, и вы
21 Leist. Alt-ariaches jus civile, с. 13-16.
водами сравнительной этнографии и этнологии, и историческими свидетельствами памятников литературы и письменности.
Все это, вместе взятое, приводит нас к заключению о необходимости ознакомления с теми приемами, к каким прибегает историк не одного права, а историк вообще — для восстановления тех весьма часто «скрытых фактов», с которыми ему приходится орудовать, в особенности — при изучении древнейшего периода истории гражданственности и, в частности, истории права.
Во главе этих приемов, по их плодотворности, должно быть поставлено изучение фактов «переживания». Этот прием, широкому применению которого английский ученый Тейлор обязан большинством своих интересных выводов, столь же плодотворен в применении к истории учреждений, как и к истории религиозных верований, домашних нравов, привычек и поверий. Обоснование себе он находит в том, что позднейшие по времени появления формы общежития не вытесняют собою сразу всех следов предшествующих им порядков; последние продолжают держаться в течение целых столетий, в форме обычаев и обрядов, действительный смысл которых легко может быть не сознаваем лицами, их практикующими, но которые, тем не менее, строго соблюдаются, и, преимущественно — простонародьем, как дорогое наследие предков. Чем уединеннее проходит при этом жизнь той или другой народности, чем далее отстоит занимаемая ею местность от центров обще-гражданского оборота, чем более физические условия страны благоприятствуют удержанию примитивных форм производства и обмена,— тем сильнее будет консерватизм права, обычного или писаного, тем больше в народном быту окажется обломков юридического прошлого, тем легче будет, поэтому, для исследователя восстановление этого прошлого,— другими словами, тем плодотворнее следует признать изучение фактов переживания.
После Индии Россия представляет, по всей вероятности, ту страну, в которой мы находим наибольшее число обычаев, обрядов, юридических поговорок, пословиц и т. п., отражающих на себе, как в зеркале, по крайней мере, некоторые черты ранних форм общежития и древних, если не древнейших, норм гражданского и публичного права. Вот почему ни в одной, быть может, стране изучение действующего обычая и обряда не может быть в такой степени плодотворным, не должно приковывать к себе такого внимания и занимать большее число научных сил, как у нас. Сознание этой истины,— вместе с практической потребностью
исправить наше писаное право путем приведения его в большее соответствие с тем, которое одно, по справедливости, может быть названо выражением юридического сознания народа,— является причиной того, что ни в одной стране нельзя встретить столько попыток к ознакомлению с юридическим бытом простонародья, с действующими в его среде обычаями и обрядами, как именно в России. Ряд ученых обществ, географическое и вольно-экономическое в Петербурге, этнографическое и юридическое — в Москве, открыли на полях своих изданий доступ к печатанию целого ряда в высшей степени ценных данных, представляющих точную характеристику народного права, брачного, вещного, договорного, уголовного и процессуального. Из Малороссии и Поволжья, Пермской, Вологодской и Архангельской губерний, Сибири и Кавказа, Земли Войска Донского, Туркестанского и Закаспийского края — идет к нам целая груда сырого материала, который ждет только обработки, для того, чтобы явиться пред читателем не в форме юридических курьезов, как он представляется до сих пор большинству публики, а в форме культурноисторических этюдов, бросающих яркий свет на юридическое прошлое не одного русского народа. Прибавим к этому издания сводов обычного права наших инородцев, — издания, редактированием которых профессор Леонтович и другие заслужили вполне благодарность ученых юристов,— затем, более чем десятилетнюю деятельность ученых фольклористов, группирующихся около таких знатоков дела, как Всеволод Миллер, г. Янчук, профессор Ламанский, г-да Загурский, Яновский и др.,— и сразу станет ясным, что, рядом с кодификацией не всегда точно переданных волостных приговоров,— пример такой кодификации мы имеем в труде г. Пахмана,— есть место для работ совершенно иного характера, в которых практические интересы реформы нашего законодательства или желание дать пособие в руки волостных судей и мировых учреждений отступят на задний план, и внимание исследователя обратится всецело на то, чтобы восстановить юридический быт прошлого по его уцелевшим обломкам.
Останавливая внимание читателя на возможности широкого пользования методом переживаний, и нигде — в такой мере, как в России, я спешу, в то же время, предостеречь его от чересчур поспешного отнесения всякого рода анормальностей в праве, — разумеется, с точки зрения современности,— на счет чуть ли не доисторического прошлого.
В самом деле, какое мы имеем основание думать, что тот или другой способ заключения брака или иной юридической сделки, тот или другой порядок приобретения прав по имуществу, не вытекающий непосредственно из современного юридического быта, и т. п.— является непременно обломком пережитых стадий правового развития? Чем доказать, например, что запрещение завещательных распоряжений относительно родовых имуществ, право родового выкупа и т. п. нормы, нимало не отвечающие потребностям развитого гражданского оборота, имеют своим источником не что иное, как господство некогда в России родового быта? Почему не видеть в этих нормах продукта законодательной деятельности правительства в позднейший период нашего правового развития,— мер, принятых в интересах обшей пользы, ради ограничения чересчур поспешных отчуждений и охранения семейных родов от чрезмерной расточительности? Разве, положим, римское право в позднейший период его истории не представляет нам целого ряда ограничений свободы завещаний? Разве заповедность некоторых имуществ не установлена в Англии законодательством Эдуардов, и не она ли еще недавно предлагалась в России ради поддержания дворянства? Очевидно, юрист, ограничивающий свою аргументацию одним указанием на то, что запрещение отчуждать родовое имущество, право родового выкупа и т. п., будучи противны интересам гражданского оборота, должны быть отнесены к фактам прошлого, окажется решительно неспособным ответить на поставленные выше вопросы. Только при условии поверки гипотетических выводов, полученных путем изучения переживаний, на данных истории права — является возможность категорического ответа на вопрос: принадлежат или нет открываемые исследователем анормальности в действующем праве к обломкам юридического прошлого. Так, в данном случае мы потому лишь отнесем запрещение отчуждать родовые имущества и право родового выкупа к обломкам родового у нас быта, что существование последнего засвидетельствовано как нашей начальной летописью, так и древнейшим памятником русского права — Ярославовой «Правдой».
Итак, соответствие выводов, получаемых изучением переживаний, с данными истории права есть условие, без которого эти выводы не могут иметь никакой обязательной силы для исследователя. Но, скажут нам, метод изучения переживаний не в состоянии обогатить нас ни одним новым фактом, раз результаты этого метода могут быть признаны действительными лишь под условием
соответствия их с иным путем установленными данными. Это замечание едва ли будет основательно, так как изучение переживаний способно открыть нам такие стороны юридического быта нашего прошлого, которые вовсе не засвидетельствованы историческими памятниками, но выступают, тем не менее, естественными логическими последствиями изображаемых ими порядков. Так, о праве родового выкупа, запрещении отчуждать родовые владения, как принадлежности родового быта и т. д„ мы узнаем из переживаний, а не из тех исторических свидетельств, которые дают нам возможность утверждать только то, что восточные славяне жили некогда в родовом быту.
Изучение фактов переживания является не более как одним из приемов, к которым вправе прибегать историк-юрист для пополнения отрывочного материала, представляемого памятниками древнего законодательства и древней юридической практики. Рядом с этим приемом можно рекомендовать еще другой. Он состоит в изучении всей суммы юридических отношений данного народа за известный период его истории — с тем, чтобы на основании этого заключить, в частности, и к однородному характеру не упоминаемого в памятниках института. Такой прием находит оправдание себе в том соображении, что все явления народного юридического быта тесно связаны между собою, что ни один институт ни гражданского, ни публичного права не стоит одиноко, но обусловлен в своем существовании всею совокупностью правовых норм изучаемого народа. Поясним сказанное примером. В большинстве древнейших сводов мы напрасно стали бы искать точного описания обыденных сторон народного быта. Являясь скорее сводами решений, принятых племенным старейшиной, с согласия ближайших советников или всего народа, нежели кодификацией всех действующих обычаев, древнейшие своды упоминают нередко о существеннейших сторонах юридического быта лишь по поводу внесения в них тех или других изменений законодательной деятельностью органов высшего управления. Неудивительно поэтому, что ни в одном из этих сводов мы не находим прямого ответа, например, на такой вопрос: какие формы собственности, коллективные или индивидуальные, признаются правом данного народа,— хотя, в то же время, из целого ряда рассеянных в этих сводах постановлений мы можем составить себе вполне определенное представление на этот счет. В самом деле, какое иное заключение, кроме признания коллективного характера землевладения, в праве мы сделать на основании изучения зако
нодательства и юридической практики, представляющих нам род или общину обыкновенным субъектом всех юридических сделок, и признающих, вместе с тем, или неотчуждаемость недвижимой собственности или отчуждаемость ее лишь под условием согласия родственников и соседей, имеющих право предпочтительной покупки, право родового и соседского выкупа и даже право на некоторое вознаграждение за разрешение акта продажи? Это заключение будет особенно решительно, если мы можем указать на то, что рядом не существует вовсе залога на недвижимость, нет права дарственного или завещательного распоряжения ею, и что не земля, а одна движимость пользуется исковой охраной.
Как ни плодотворен может быть вышеуказанный прием, как ни важно, а подчас и ни неизбежно обращение к нему,— тем не менее большинство известных в литературе попыток его применения должно быть признано неудачным. Дело в том, что бесспорными — основанные на нем выводы могут считаться лишь в том случае, если исследователем принимается в расчет вся совокупность юридических норм известного народа в тот или другой период его жизни, и если ни в одной из этих норм не оказывается противоречия с выставляемой им гипотезой. Так, во взятом уже нами примере один какой-нибудь единичный факт признания законодательством права свободного залога, дарения или продажи частными лицами земельных участков, а также — признания института земской давности — делает немыслимым приведенное выше заключение о существовании у данного народа не индивидуальной, а коллективной собственности. Достаточно даже одной из вышеназванных норм для опровержения предложенной гипотезы.
Несоблюдение указываемого требования и соображение исследователями лишь единичных фактов законодательства и юридической практики являлось сплошь и рядом и являет ся до сих пор причиной совершенно ложных заключений, способных только дискредитировать в глазах читателей тот прием, применением которого они добыты. Так, еще в наши дни германские, по преимуществу, историки права позволяют себе утверждать, факт существования в Германии древнейших времен частной собственности на землю — на том лишь основании, что в законодательстве или юридической практике древнейшего прошлого можно открыть указания на споры о границах, случаи восстановления нарушенного владения или проведения меж народным, окружным или общинным старейшиной. Следуя такой аргументации, историки, о которых идет речь, упускают, очевидно,
из виду то, что споры о границах возможны и при общинном владении — точно так же, как при нем мыслимо и нарушение или восстановление владельческих прав отдельного общинника на принадлежащий ему по обычаю надел, и что, поэтому, факты, на которые они опирают свои выводы, мирятся в одинаковой мере с существованием как общинного, так и частного землевладения.
Изучение памятников материальной культуры и народной мифологии, а равно и разбор топографических названий древнейших населенных местностей,— разбор, так наглядно выдвигающий вперед обстановку, в которой возникли первые поселки,— нередко обогащают историка-юриста фактами, бросающими яркий свет на характер тех или других, не вполне выступающих в других источниках, правовых понятий и отношений. Так, в споре, о том, чем могли быть древнейшие городские поселения у отдельных представителей арийской семьи, далеко не безразличны были, наряду с открытиями Шлимана, и описания наших древних городищ. Они позволили Циммеру22, а за ним и Иерингу, окончательно установить тот взгляд, что санскритский риг, греческий acropolis, римский агх, германский burg и славянское городище — явления однохарактерные, заодно свидетельствующие о том, что, живя сельскими и хуторскими поселениями, полупастушеские и полуземледельческие племена, отделившиеся от первоначального древне-арийского ствола, нуждались во временных убежищах от набегов,— убежищах, которые были настолько обширны, чтобы дать приют одинаково людям и домашним животным23. Это — те самые castra и oppida, о которых говорит Цезарь в применении к гельветам, и которые, подобно нашим городищам, отнюдь не дают права утверждать, как это делает, например, г. Самоквасов, приоритет городов над селами.
Что касается данных мифологии, то давно сделалось труизмом, что народ рисует быт своих богов чертами собственной жизни, почему в древних легендах,— особенно в тех, которые не принадлежат к числу мигрирующих сказаний, т. е. передаваемых одним народом другому,— можно найти драгоценнейшие подробности о древнейших юридических понятиях и отношениях. Кому не известно, что религиозные мифы принадлежат к числу древнейших продуктов народного творчества? Насколько богат доставляемый ими материал, можно судить, например, по тому, что на анализе
22 Alt-indisches Leben, с. 142 и след.
23 Ihering. Vorgeschichte der Indoeuropaer, с. 20.
гимнов Ригведы и Атарва-Веды, как и на разборе Илады и Одиссеи, скандинавских саг и германского народного эпоса, санскритологи, эллинисты и германисты сумели построить ряд в высшей степени интересных, хотя все еще спорных гипотез, в роде гипотезы о первобытной материнской семье и ее вековой борьбе с патриархальной и агнатической. То обстоятельство, что большинство легенд принадлежит к числу странствующих сказаний, которых отдаленным источником являются Индия и семитический Восток, заставляет пользоваться этим материалом с большой осторожностью. Да послужит историкам права предохранительным уроком поражение, какое в последнее время потерпела Бах офенская теория первобытного женовластия, построенная, главным образом, на интерпретации эллинских мифов.
Насколько плодотворно пользование топографическими названиями древнейших местностей для историко-культурных целей, это показывает нам пример Арнольда. Едва ли что может поспорить в архаичности с этим материалом. Ведь многие местные названия носят еще печать финского происхождения, т. е. появления в эпоху, предшествующую поселениям германцев. И вот, исследуя топографические названия в области древнейших поселений немецких племен в Гессене, Арнольд24 пришел к заключению, что оседание как кельтов, так и германцев началось не в низменностях, занятых лесами, болотами и поэтому уже представлявших большие затруднения как для расчистки, так и для защиты, а на свободных от поросли и стоячих вод, недоступных для набегов — горных покатостях. Корчевание — явление позднейшего времени, предполагающее уже известную густоту населения и, следовательно, нимало не доказывающее знаменитой гипотезы Рикардо о занятии первоначально наиболее плодородных земель (какими, очевидно, были земли под лесом и водой) и последовательном переходе от них к менее плодородным.
Если на чем можно настаивать в заключение, так это на необходимости тщательного сопоставления результатов, добытых с помощью разнохарактерного материала и различных приемов исследования. Их совпадение служит ручательством за правильность вывода, за возможность считать его не одной научной гипотезой, еще ожидающей подтверждения в будущем, а и прочно установленным научным фактом.
24 Arnold. Ansiedlungen mid Wanderungen deutscher Stamme.
Резюмируя в немногих словах основные положения настоящего этюда, мы скажем, что старались, с одной стороны, выяснить действительную задачу сравнительно-исторического правоведения, вместе с теми научными приемами, которыми оно пользуется для достижения своих целей, а с другой — определить отношение сравнительного правоведения к социологии. В результате оказалось, что, озабоченное раскрытием процесса поступательного развития права, сравнительное правоведение является такой же конкретной и описательной наукой и пользуется теми же приемами исследования, как и другие конкретные и описательные науки об обществе. Как наука конкретная, сравнительное правоведение не может обойтись без содействия той абстрактной науки, какой по отношению к нему — как и к истории верований, знаний, морали, экономии, политики, искусства — является социология. Задача последней — изучить законы, управляющие развитием человеческой солидарности и ее проявлений в формах общежития, независимо от всех местных и временных причин, то ускоряющих, то тормозящих наступление высших порядков общественности. Так как еще Огюстом Контом установлена та истина, что обособленное изучение одной какой-либо стороны народного быта немыслимо — вследствие того, что все его стороны связаны между собой и воздействуют друг на друга, то отсюда следует, что нельзя изучать без социологии и права в его последовательном развитии. Социология имеет, следовательно, задачей объяснить причины и указать на ход и последствия взаимного воздействия различных элементов культуры на рост общественной солидарности.
ИСТОРИКОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ОЧЕРК ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ *
§1
Указать точный момент возникновения науки, которая еще ищет своих путей и наместо законов может выставить только ряд эмпирических обобщений, дело, разумеется, нелегкое. Еще греки задавались вопросом о том, не существует ли известного неизменного порядка в чередовании форм правления, указывая на преемство монархии, или правительства одного, олигархии, или правительства немногих, и охлократии, или правительства толпы. Действительные условия жизни городских республик Эллады не могли не навесть на такую мысль тех из греческих писателей, которые, как Аристотель, подобно Монтескье, уже видели задачу науки в раскрытии необходимых отношений между предметами, необходимых в силу самой природы последних. Замена народоправств единовластием, свидетелем которого был уже учитель Александра Македонского Аристотель и еще в большей степени живший в эпоху упразднения римлянами греческой независимости Полибий и современник Цезаря и Помпее Цицерон, одинаково наводит всех названных писателей на мысль о том, что чередованием единовластия, владычества немногих и владычества толпы, не исчерпывается процесс исторического развития политических форм, что множество в отправлении верховной власти сменяется снова единством, после чего открывается новое чередование монархии, аристократии и демократии. Таким образом, допуская идею не столько развития, сколько замены одних политических порядков другими, древние не могут считаться родоначальниками идеи поступательного движения общества, хотя бы в этой ограниченной сфере — изменения
Печатается по: История XIX века (Западная Европа и внеевропейские государства) / Под ред. проф. Лависса и Рамбо, пер. с фр., с доп. статьями П. Г. Виноградова, М.М. Ковалевского и К. А. Тимирязева. 1906. Т. V. С. 292-339.
его политического строя. Идея прогресса не уживается с необходимым возрождением уже отживших порядков и возвращением человечества к уже пройденному им пути.
Упадок наук и искусства, замена культурной империи варварскими королевствами не способны были породить в лицах, живших даже на расстоянии нескольких веков от этих событий, представление о том, что в истории человечества может быть отмечено неуклонное стремление к совершенствованию как материальных, так и духовных условий быта. Немудрено поэтому, если идея прогресса отсутствует у писателей не только Средних веков, но и эпохи Возрождения. Ее нет ни у Маккиавели, ни у Гвичардини. Известное изречение первого — «необходимо меняться вместе с временем» — не заключает в себе ни малейшего намека на то, чтобы с изменчивостью судеб человеческих Маккиавели связывал идею развития или роста.
Эта идея зарождается поэтому впервые не в области политической философии, а из наблюдений над эволюцией точного знания. В XVII столетии, когда уже не могло возникать сомнения в том, что поступательный ход знания, остановленный на время Средними веками, не сводится к одному возрождению научной мысли древних, но и выступает в целом ряде новых открытий и изобретений, Паскаль уже высказывает мысль о возможности видеть в преемстве человеческих поколений подобие «единого человека, вечно живущего и постоянно приобретающего все новые и новые сведения»; эта мысль воспринята будет и Кондорсе, и Сен-Симоном, и Контом, она ляжет в основу их теории, что развитие человечества стоит в прямой зависимости от роста знания.
Идея прогресса — только одно из проявлений более общего учения о закономерности общественных явлений,— учения, без которого немыслимо было бы возникновение самой науки об обществе. Эта идея закономерности впервые возникла в сфере тех конкретных гуманитарных наук, которые всего ближе стоят по природе к наукам естественным, в статистике и экономике. Немудрено поэтому, если выставленная уже Петти и его современниками гипотеза о закономерности в числе рождений и смертей произвела сильное впечатление на Имануила Канта, а медик Кене, вслед за открытием Гарве системы кровеобращения, счел возможным повесть речь о естественных законах, управляющих циркуляцией добываемых, как он думал, одним сельским производством ценностей. Это учение физиократов, а за ними и Адама Смита, о естественном порядке экономических явлений, в свою очередь вызвало уверенность в их
закономерном чередовании и позволила уже Кондорсе говорить о прогрессе в экономическом укладе обществ параллельно и в связи с ростом знания, или успехами наук.
Обусловленность политических порядков, а в связи с ними и законов, климатом, почвой, густотой населения и связанным с нею экономическим ростом, развитием промышленности и обмена, привлекла к себе внимание Гиппократа и Бодэна в древности и в эпоху Возрождения. Она упрочила в уме Монтескье, еще чуждом идеи общественного прогресса, уверенность в том, что между всеми названными явлениями существуют постоянные отношения, которые для него равнозначительны с законами. Таким образом в сфере конкретных наук об обществе, столько же в статистике, сколько в экономике, политике и правоведении, постепенно, начиная с древности, зарождалась мысль о закономерности явлений и смене одних другими.
Параллельно с этим выяснялись и те приемы, какими можно добиться раскрытия этой закономерности и этой смены: прием наблюдения и сравнения разных стран и народов, а равно и разных эпох. Мы встречаем этот прием еще у Аристотеля, который в основу своей «Политики» кладет изучение государственных порядков всех греческих республик и многих деспотий варваров. Его придерживается впоследствии и Полибий, для которого не проходит бесследно политический опыт Греции, Рима и Карфагена. Тот же метод оживает снова в сочинениях Маккиавели, Гвичардини и Бодэна за несколько столетий до того момента, когда в «Духе законов» Монтескье не только предложит его, как лучшее средство к определению тех отношений, какие должны существовать между отдельными общественными явлениями в силу самой их природы, но и представит образцы более или менее удачного пользования им. Но метод Монтескье, как и метод его предшественников, начиная с Аристотеля,— метод скорее сопоставительный, чем сравнительно-исторический. Не имея еще представления о закономерном росте общества и о преемстве отдельных стадий его развития, автор «Духа законов» не считает нужным рассортировать свой материал по этим стадиям и сближать между собою только сравнимое, т. е. явления, входящие в состав одной и той же стадии; он сплошь и рядом сопоставляет с порядками «готической монархии», т. е. монархии сословной, республиканские порядки древнего Рима и, что важнее, империю Кира и китайского богдыхана. Дикари Луизианны служат ему таким же средством к иллюстрации своей мысли, как и современные ему голландцы
и венецианцы. В «Курсе положительной философии» Конт справедливо заметит по его адресу, что, не понимая идеи прогресса, он отнес на счет климата и других физических факторов не одни отклонения от нормального хода развития обществ, но самые явления, из которых складывается это развитие. В ту же ошибку впадет впоследствии и Бокль и, по его примеру, все те, кто старается свести к одному влиянию физических факторов и обусловленного ими различия рас всю эволюцию тех или других народов.
Чтобы сделаться наукой о закономерном развитии человечества, социологии долгое время недоставало и того знакомства с психофизической природой человека, которая одна способна объяснить нам и естественный импульс к самоусовершенствованию, и границы этого последнего.
Самонаблюдение долгое время считалось единственным средством к познанию психических свойств человека, причем не обращалось внимания на невыгодные последствия, какие может иметь соединение в одном и том же лице, лице наблюдателя, субъекта и объекта. Психофизики не существовало; только со времени Галля, вместе с неудачной попыткой локализировать способности в отдельных частях мозга, установлена была и та правильная точка зрения, что умственные и нравственные явления порождаются биологическими причинами, являются последствием движений в области мозга. Такая материалистическая точка зрения не устраняет необходимости следить за тем воздействием, какое на психические явления имеет общественная среда,— обстоятельство, благодаря которому многие современные мыслители, в том числе Тард и Де Роберти, не прочь ставить психологию и этику в зависимость от социологии и говорить об изучаемых ими явлениях, как о биосоциальных. Новое направление, данное психологии и этике отнесением явлений духа к области физиологии, позволило установить в то же время и двойственность нравственной природы человека, как существа одновременно эгоистического и альтруистического, и преобладание инстинкта самосохранения над благожелательностью, что одно уже кладет непреодолимую границу человеческому самоусовершенствованию, а потому и поступательному ходу истории. Если в структуре мозга можно найти объяснения нашего запроса на самоусовершенствование, как индивидуальное, так и массовое, если в нем надо видеть ближайший источник прогресса, то тою же причиной, а именно преобладанием чувств над разумом, легко объяснить и медленность самого хода поступательного развития, и невозможность того бесконечного
и безостановочного совершенствования, о котором говорил Кондорсе. В сочинениях Кабаниса и Спурцгейма сделана была дальнейшая попытка положить начало той психофизике, успехи которой в наше время позволяют высказывать надежду на ближайший переход психологии в число точных наук. Но если первый ограничился одной только попыткой установить соотношение нравственных свойств человека с его физическими способностями Ч то Галль и Спурцгейм сделали попытку самой локализации в мозгу отдельных способностей, соглашаясь с тем, что передний мозг является средоточием нашей способности разумения, а задний — обусловливает собою наши чувствительные восприятия.
Несмотря на быстрые успехи точного знания и возможность включить в него изучение духовной природы человека, как тесно связанной с его физической структурой, идея поступательного движения общества встречала непреодолимые препятствия в сознании, что в сфере политической жизни настоящее едва ли стоит выше прошлого; развившийся с эпохи Возрождения вкус к древности и знакомство с ее бытовыми условиями, в связи с традицией сословной представительной монархии, невольно вызывали в уме представление, что окончательное торжество абсолютизма в XVI, XVII и XVIII веках не может считаться доказательством поступательного хода человечества. И в сфере общественных отношений — замена греческой и, позднее, римской1 2 изополитии феодальной иерархией казалась не отвечающей идее прогресса, разумеется, под условием совершенного упущения того факта, что производительные классы общества в древнем мире в своей массе состояли из рабов и что положение крепостного человека, как связанного с землею, а не с личностью хозяина, является уже шагом вперед на пути развития гражданской свободы. Не случайным совпадением надо считать поэтому тот факт, что теория безостановочного усовершенствования общества впервые высказывается не только современником, но и участником революции, т. е. того переворота, которым был положен конец одновременно самодержавию и сословному неравенству; до этого времени могла идти речь — самое большее — о том круговращательном движении, в силу которого человечество развивается, так сказать, спирально, возвращаясь по временам к порядкам,
1 Кабанис — автор трактата «Rapport du physique et du morale de I’homme».
2 Я разумею дарование императором Каракаллою прав римского гражданства всему свободному населению империи.
если не вполне тождественным, то близким к пережитым раньше. К этому сводилась известная доктрина итальянца Вико — доктрина так называемых ricorsi; современной критикой вполне установлено, что Вико не отрицал возможности для человечества медленно подвигаться вперед, проделывая в то же время тот круговорот, при котором на расстоянии известного времени возрождаются явления прошлого, но уже с некоторыми изменениями, отвечающими представлению об усовершенствовании.
Современник и жертва революции Кондорсе излагает свою доктрину о поступательном ходе человечества в условиях крайне неблагоприятных систематической передаче своих мыслей. Скрываясь от преследующих его якобинцев, он не имеет под руками ни книг, ни заметок; он пишет по памяти и не более как очерк, или программу того, что должно было сделаться темою целого сочинения. Его рассуждение о прогрессе действительно является тем эскизом3, название которого оно носит в самом тексте. Для Кондорсе прогресс является безостановочным и необходимым поступательным ходом; его нельзя задержать, как невозможно также повернуть обратно развитие человечества; мыслимо только одно — замедлить его ход. Это поступательное движение присуще всем народам, но в известные моменты оно с особенною выпуклостью выступает у одного из них в частности; это — своего рода избранный народ, идущий во главе всех остальных. В каком же направлении происходит это поступательное движение? Прогресс, отвечает Кондорсе, есть неудержимая тенденция, увлекающая отдельных индивидов и целые народы в сторону истины и счастья. Кондорсе полагает, что нельзя предвидеть и предела такого развития. Природа, говорит он в противность тому, что было отмечено еще Галлем и вполне развито Контом, не поставила никаких пределов усовершенствованию человеческих способностей; это усовершенствование не ограничено ничем, кроме существования той планеты, на которую бросила нас природа. Закон прогресса одинаково управляет, по мнению Кондорсе, животными, людьми и человеческими обществами: золотой век не за нами, а впереди нас (см. Esquisse, с. 13 и 272).
Кондорсе — ученик Тюрго и не прочь повторить высказанную последним мысль о том, что прогресс в области мышления сказывается в замене богословских толкований научными. Но он не оста
3 Точное его заглавие следующее: «Esquisse d’un tableau historique du progres de 1’esprit humain». *
навливается на развитии того положения, что в промежуток между богословскими и научными толкованиями человечество останавливалось на предположении, что «причины явлений лежат в каких-то сущностях и свойствах, передаваемых абстрактными терминами, терминами, как выражается Тюрго, ничего не выяснявшими»4. В этом учении о замене теологического мышления метафизическим, а затем уже научным, можно найти зародыш Контовского закона трех стадий развития. Кондорсе, как впоследствии Сен-Симон, не подчеркивает достаточно существования промежуточной стадии; для него прогресс сказывается в умственной сфере в замене богословского мышления научным, а в нравственной — в переходе от правил поведения, предписанных религией, к таким, которые свободны от всякой зависимости по отношению к существующим вероисповеданиям. Прогресс рисуется воображению Кондорсе подобием цепи, нигде не прерываемой и позволяющей смотреть на каждый переживаемый момент, как на зависящий от всех предшествующих и как влияющий на все последующие. Чтобы установить эту цепь, необходимо, думает Кондорсе, обратиться к историческому методу, т.е., поясняет он, к последовательному наблюдению человеческих обществ в различные эпохи, ими пройденные5. Таким образом мы познакомимся с порядком, в каком происходят перемены, и с влиянием, какое каждый данный момент оказывает на следующий за ним во времени; мы в состоянии будем указать в тех изменениях, какие произошли в человечестве в течение веков, тот путь, по которому оно идет в своем развитии, преследуя две цели: истину и счастье. Наблюдения над прошлым и настоящим человеком вызывают мысль и о средствах, какими можно обеспечить и ускорить наступление новых усовершенствований, согласных с его природой. Итак, для Кондорсе, как впоследствии для Конта, является истиной известное утверждение Лейбница — «настоящее несет на себе бремя прошлого и чревато будущим»; другими словами, всем им ясно, что ответ на вопрос о том направлении, в каком будет развиваться человечество, способно дать лишь знание как пройденных им стадий, так и переживаемой ныне. Но тогда как для Конта, как мы увидим впоследствии, все предсказания будущего на основании прошлого и настоящего должны подвергнуться еще дедуктивной проверке, отправляющейся от изучения психофизической природы человека, Кондорсе ни слова
4 См.: Discours sur 1’histoire universelie. Oeuvres, изд. Пгльомена, т. II, с. 656.
5 Ibid., р. 9.
не говорит о такой проверке, а это имеет последствием то, что для него прогресс не останавливается перед созданной самой природой границей господства страстей над разумом.
Кондорсе — современник Руссо и не вполне избавился от влияния, какое на всех «людей революции» имело учение «Общественного договора» и «Эмиля». Он такой же оптимист, как и Руссо; он верит в совершенство человеческой природы, раз она не испорчена дурным воспитанием; подобно Руссо, он также не видит другого средства разгадать, каковы были начальные стадии в истории человечества, как отправляясь от теоретических наблюдений над развитием наших умственных и нравственных способностей. Таким априорным путем он приходит к построению системы первобытных порядков. Все то, что в наши дни обнимается понятием доистории, или первобытной социологии, для него не существует. Ему чужда всякая попытка восстановить древнейшее прошлое на основании его переживаний в настоящем и аналогии с бытом дикарей. Он рассуждает по этим вопросам точь-в-точь так, как это делает Руссо в своем трактате «О причинах, породивших неравенство между людьми». По примеру Паскаля, предлагавшего рассматривать человечество, как единого индивида, вечно приобретающего новые познания, Кондорсе в своем историческом очерке орудует не столько методом сравнительно-историческим, сколько историческим в строгом смысле слова. Два народа — один в древности, другой в новое время,— ставятся им во главе поступательного движения человечества: греки и французы; он следит за их развитием, отмечает сходные, но менее выпукло выступающие явления в жизни других народов и стран; таким образом он строит свои выводы на довольно ограниченном и одностороннем материале. Одна революция, думает он, позволила французскому народу лелеет надежду сыграть в будущем ту же роль — руководителя человечества, какая в прошлом выпала в удел древним грекам. «Природа страны и стечение обстоятельств позволяют надеяться на выполнение им такой славной миссии, но не будем заглядывать в то, что скрывает от нас еще неверное будущее». Эти строки, набросанные Кондорсе в самый разгар направленных на него якобинцами преследований, в ожидании неминуемой казни и за несколько недель до смерти, говорят о том настроении, в каком написан был весь «Эскиз». Они доказывают как нельзя лучше способность Кондорсе освобождаться от всяких временных и личных настроений. Все его рассуждение проникнуто мыслью о необходимости в «науках нравственных», как и в физических, строить выводы на наблюде
ниях. Эта же мысль нашла выражение себе еще ранее, в 1782 году, в речи, произнесенной им по случаю приема его во французскую академию. Для Кондорсе история, предлагаемая как метод для построения науки о прогрессе человечества, не является одним перечнем важнейших политических событий, рассказом о жизни правителей, о войнах и союзах; издатель Вольтера, подобно своему другу и учителю, интересуется в прошлом народов массовыми явлениями, развитием нравов, правовых представлений, политических порядков, научных и художественных теорий. И в этом отношении Кондорсе является прямым предшественником Конта. Но он расходится с ним радикально в оценке прошлого. Конт, как мы увидим, подобно Гегелю, склонен был думать, что все существующее имело и имеет достаточное основание, а потому разумно; Кондорсе же, испытавший на себе влияние революционной доктрины, не мог отнестись иначе как отрицательно, к отмененным революцией средневековым порядкам с их двоевластием папы и императора, с их расчленением общества на сословные пласты, с их обращением массы населения в подневольных тружеников, плохо вознаграждаемых землею. Читая его, легко усумниться в том, чтобы прогресс, действительно, являлся безостановочным ростом человечества; он не оценивает должным образом великого значения христианства в развитии идеи равенства людей, прежде всего перед Богом, а затем и перед поставленными им властями, частными и публичными. Слова апостола Павла: «Нет более ни раб, ни господ, ни мужеский пол, ни женский, вси бо едины во Христе Иисусе», выражают лишь первую половину евангельского завета, вторая же его половина — равенство гражданское — осуществлена была многие столетия спустя передовыми сектами протестантизма, перенесшими идею равенства во Христе и на земные отношения. Не понимает Кондорсе и всего общественного и экономического уклада Средних веков, в частности их феодальной системы. Он не видит того, что эта система построена на договорном начале, что она впервые заменяет насилие соглашением, обращая покоренных не в бесправных рабов, а в совладельцев с покорителями, обеспечивая таким образом всем классам общества определенное отношение к земле и возмещая их за труд и службу имущественными выгодами, правом пользования поместной землею. Для Кондорсе, как и для энциклопедистов, Средние века — эпоха варварства, насилия и суеверия, в которой путеводной звездой является одна лишь арабская наука, продолжавшая дело греков. Но если Средние века заключают в себе только
отрицательные стороны, то не вернее ли держаться той философии истории, какую проповедовал Вико, утверждавший необходимость попятных движений. Конт отметит эту отрицательную сторону в историко-философских построениях того, кто, по его словам, был для него «духовным отцом». В сочинениях Де Местра, в его понимании великого значения папства и средневековой системы двоевластия светского и духовного меча, он найдет руководящую нить и необходимый материал для исправления сделанной Кондорсе ошибки. Средние века впервые представлены будут им в том свете, какой ранее был доступен пониманию одних католических писателей. Он покажет, что в эти столетия поступательный ход человечества не прекратился, что в это именно время совершилось то обособление светской и духовной власти в лице папы и императора, какого мы не находим ни в теократиях древнего Востока, ни в Афинах, ни в Риме, где, как известно, государственные сановники призываемы были к отправлению функций, тесно связанных с религией6.
Но если Кондорсе не всегда справедлив по отношению к прошлому, то, с другой стороны, его надежды на будущее носят в значительной степени характер утопии, так как он не обращает внимания на те пределы, какие ставит усовершенствованию нашей жизни самая ограниченность человеческой природы; он допускает, например, возможность исчезновения в людях самого представления о том, что частный интерес расходится с общим, и предсказывает наступление таких порядков, при которых любовь к ближнему будет столь же интенсивна, как и к самому себе. «Весьма вероятно,— пишет он,— что настанет время, когда страсти и личные влечения не будут оказывать на руководящие нашею волею суждения большего влияния, чем то, какое они имеют ныне на образование наших научных мнений. Действия, противоречащие чужому праву, станут столь же физически невозможными, как хладнокровно совершаемое насилие невозможно уже в наше время для большинства людей; все народы будут жить в полном согласии, и война исчезнет из нравов. Забота о ближних и любовь к человечеству заступят место религии».
Подобно Конту, Кондорсе придает руководящую роль в этом перевороте успехам научного мышления и деятельности ученых. Благодаря им, предсказывает он, последует объединение всех наук и создана будет их общая философия, философия научная в точном
6 Стоит вспомнить только роль, какую афинское право признает за архонтом-базилевсом, а римское — за ponttfex maximus в делах церковных.
смысле слова. Совет ученых будет заведывать поступательным ходом знания, а так как с ним тесно связано усовершенствование нравов и рост общего счастья, то от них же будет зависеть его осуществление в действительности. Кондорсе полагает в своем оптимизме, что не только все отсталые нации подымутся до той же ступени развития, на какой стоят Франция или Соединенные Штаты Америки, но что и сам человеческий род будет значительно усовершенствован. Это произойдет, во-первых, благодаря научным открытиям и применениям техники, во-вторых — ввиду успехов нравственности и, наконец, в-третьих, как последствие действительного улучшения наших умственных, нравственных и даже физических способностей. Но это может быть достигнуто только под условием упрочения равенства народов и частных лиц между собою, а для этого необходимо отменить, во-первых, неравенство богатств, во-вторых, неравенство, порождаемое законами наследования, в-третьих, неравенство знаний, открыв с этой целью всем равный доступ к образованию. Если, с одной стороны, эти меры должны быть признаны практически осуществимыми и сводятся в конце концов к упразднению частной собственности и наследства и к созданию дарового и обязательного обучения, то, с другой, нельзя не признать преувеличенной надежду Кондорсе, что от усовершенствования общественных условий последует изменение и самой природы человека.
\ ' Л-.
< - } >' ‘ '1 • 1 ' ’ ' 1
. Ч §2
Кондорсе7 открывается ряд прямых предшественников Конта и созданной им социологии. Вторым после Кондорсе в порядке исторического преемства надо считать Сен-Симона. О нем один из недавних его биографов, Жорж Дюма, выразился следующим образом: «Когда читаешь все написанное Контом, чувствуешь на каждом шагу необходимость вспоминать о Сен-Симоне; в глаза бросается тот факт, что общий план, без которого не могло бы быть построено великое здание, дан был Сен-Симоном и что, несмотря на свои недостатки, мысль Сен-Симона, благодаря счастливой интуиции, была тем ферментом, который вызвал все дальнейшее
7 Смотри о Кондорсе сочинение Франка Аленгри, резюмированное его же автором в другом трактате «Исторический и критический очерк социологии по Огюсту Конту», Париж. 1900 г., с. 210, 405-422.
движение в области положительной философии и социологии» 8. Тот же писатель решается утверждать, что Сен-Симон, несмотря на беспорядочность своего творчества, несмотря на то, что книги его остались незаконченными, а учение не получило достаточного развития, все же дал черновик того, что написано будет Контом. Его абрис подчас страдает неопределенностью, спешно сделан, не вполне очерчен, но в то же время носит на себе печать силы и гениальности. Без него Конту, думает Дюма, не суждено было бы сделаться основателем ни положительной философии, ни религии человечества.
Посмотрим, в какой мере справедливо подобное заявление и что именно сделано было Сен-Симоном в смысле подготовления того пути, по которому пошел Конт. Но ранее всего отметим тот факт, что Конт далеко не принадлежит к числу тех писателей, которые избегают всякого указания на своих предшественников. Он, наоборот, очень охотно признает в сочинениях мыслителей XVIII века, как и у своих современников, сходные с ним черты. Так Кондорсе не раз признается им «духовным отцом»; о Канте по прочтении перевода его рассуждения «О всемирной истории с точки зрения человечества»9, Конт пишет своему другу д’Эйхталю в Берлин 10 декабря 1824 года: «Я всегда смотрел на Канта, как на очень сильный ум, как на метафизика, всего ближе подошедшего к положительной философии; но чтение сделанного вами перевода не только усилило, но и точнее определило мое высокое представление о нем. Если бы Кондорсе знаком был с его рассуждением, чего я не думаю, то за ним трудно было бы признать большую заслугу в установлении идеи прогресса, хотя его концепция проведена почти столь же решительно и в некотором отношении с большей определенностью, чем Кантом. Что же касается до меня самого, то, прочитав трактат Канта, я не признаю за собой другой заслуги, кроме приведения в систему мыслей, высказанных Кантом и оставшихся мне неизвестными. Возможностью сделать это я обязан моему научному образованию. Единственный шаг вперед, сделанный мною в смысле положительном, состоит, как мне кажется, в открытии закона о прохождении человеческим мышлением трех стадий: теологической, метафизической и научной. Мне кажется, что эта мысль могла бы сделаться базисом для труда, выполнение которого
8 См.: «Psychologie de deux Messies positivistes, Saint-Simon et Auguste Comte», par George Dumas, Paris, 1905, c. 9.
9 Сочинение это появилось на немецком языке в 1784 г.
рекомендовано Кантом. Я благословляю в настоящую минуту мой недостаток эрудиции, так как, будь я ранее знаком с рассуждением Канта, моя работа потеряла бы весьма много в моих собственных глазах. Я ясно понимаю также причину, по которой первая часть моего сочинения не должна иметь для немецких философов, как вы и пишете, большого значения (очевидно, потому, что для Конта она близка по замыслу к сочинению Канта)»10 *.
И у других немецких философов Конт ищет сходных с ним взглядов; так, в том же письме, благодаря д’Эйхталя за присылку ему выдержек из сочинений и лекций Гегеля, он пишет: «Я очень рад, что познакомился с ним, и жалею, что ваши выдержки не длиннее. Гегель несравненно ниже Канта; он кажется мне еще чересчур метафизичным; не нравится мне его “дух”, за которым он признает такую странную роль, но, подобно вам, я считаю его умом положительным, если не в конструкции основной мысли всей его доктрины, то в ее подробностях. Мне кажется, что между Гегелем и мною много сходного, но я в то же время не допускаю пока, подобно вам, общности наших принципов; я думаю, что нам полезно будет приблизиться к Гегелю»11.
И о самом Сен-Симоне Конт выражается почти одновременно, или вернее, за два года до этого, следующим образом: «Я ученик его; я вполне усвоил себе философскую мысль Сен-Симона, что переустройство современного общества должно породить двоякого рода труды в области мышления...» Конт разумеет, с одной стороны, построение общей философии наук, а с другой — того, что Сен-Симон обнимал понятием политической системы, т. е. на самом деле общественной философии. «Давно уже,— продолжает он,— я обдумываю в моем уме основные идеи Сен-Симона (les idees meres) и занимаюсь исключительно систематизацией, развитием и усовершенствованием той части общих очерков этого философа, которая касается нового направления наук». Сен-Симона Конт называет основателем той философской школы, к которой он считает за честь принадлежать12. В письмах к Вала, которые имеют такое значение
10 Auguste Comte et la philosophie positive par E. Littre. 2-me ed. 1864 r. c. 156; у того же Littre можно найти и перевод в сокращении трактата Канта: «Идея всемирной истории с точки зрения человечества», с. 54-68.
» Ibid., с. 157.
12 См. третью тетрадь Catechisme des industries, озаглавленную Plan des travaux и вышедшую в 1822 г.
для определения хода развития философской концепции Конта, о Сен-Симоне говорится, как о превосходном человеке, имеющем несомненные заслуги. Конт вскоре после своего знакомства с Сен-Симоном становится его секретарем, сперва на жалованье, а затем, ввиду хронического безденежья своего друга, и даровым. Конт пишет, что в шесть месяцев, благодаря тесному общению с таким мыслителем, как Сен-Симон, он подвинулся больше, чем мог бы сделать это трехлетней одинокой работой; совместная деятельность расширила его способность суждения в вопросах политических, увеличила сумму его представлений о всех других науках, раскрыла ему в нем самом способность философского мышления, которой он не подозревал. «Сам Сен-Симон и некоторые другие публицисты,— прибавляет он,— приходят в восторг от моих обобщений в сфере философии и обществоведения».
Только после двухлетнего сотрудничества Конт в письме к Вала от 6 сентября 1820 года пишет: «Я укажу тебе в точности то, что из появившихся в журнале “Организатор” писем принадлежит мне, а что — Сен-Симону», из чего следует, что в это еще время он продолжал не подписывать своих статей. Два года спустя, в 1822 году, в предисловии к написанной им части «Катехизиса промышленников» Конт объявляет себя по-прежнему учеником Сен-Симона.
Эта близость не устраняла, однако, между обоими существенных различий. Намек на них можно встретить в письме, с которым Конт на 19-м году жизни обратился к Сен-Симону, ища его знакомства. Они еще нагляднее выступят впоследствии и в том же направлении. Сен-Симон придает большее значение переменам в экономических порядках и отводит большую роль промышленникам в предстоящем обновлении общества, чем его ученик. Последний думает, что прежде всего надо положить конец умственной анархии созданием научной философии, построенной в свою очередь на иерархии наук, и что руководящая роль в дальнейшем прогрессе общества должна принадлежать никому другому, как ученым, разумеется, не специалистам, а, наоборот, тем, кто обладают универсальным знанием. Позднее, когда Сен-Симон вдастся в религиозность и положит основание неохристианству, Конт открыто разорвет всякие сношения с ним, а затем и с его школой, принявшей еще более религиозную окраску после смерти учителя и под руководством Базара и Анфантена. До нас дошли прямые заявления Конта на этот счет. Весьма большое значение имеет в этом смысле его письмо к Мишелю Шевалье. «У меня были,— пишет ему Конт,— очень
тесные отношения к Сен-Симону, предшествующие во времени всем тем, какие могли возникнуть между ним и членами вашего общества. Конт разумеет секту Сен-Симонистов, имевшую своим органом газету “Globe”. Мое знакомство с Сен-Симоном прекратилось, читаем мы далее в этом письме,— за два года до кончины этого философа, а следовательно, в такое время, когда не заходило и речи о Сен-Симонистах. Я должен поставить вам на вид, что Сен-Симон тогда еще не принял “богословской окраски (couleur theologique) и что наш разрыв должен быть приписан отчасти тому, что я стал замечать в нем религиозную тенденцию, совершенно несогласную с моим философским направлением”. В другом месте своего письма Конт говорит: “Никогда, в течение всей моей литературно-научной карьеры, я не отступал перед открытым заявлением, что религиозное мышление, даже доведенное до самых скромных размеров, является главным препятствием к прогрессу разума и к усовершенствованию общественной организации”. Тот научный путь, которым я пошел с тех пор, как стал мыслить, делаемые мною усилия к тому, чтобы обратить общественные теории в политические науки, радикально и абсолютно расходятся,— прибавляет Конт,— со всякой религиозной или метафизической тенденцией»13.
Эти заявления со стороны человека, который на расстоянии немногих лет сделает попытку стать основателем новой религии, религии человечества, и даже сделается ее верховным жрецом, как нельзя лучше показывают, что в годы, посвященные созданию положительной философии и построению социологии, Конту еще чужда была всякая религиозность.
За несколько месяцев до разрыва он начинает тяготиться опекою Сен-Симона: он не желает быть более «литературным батраком» (manoeuvre litteraire). Сен-Симона он подозревает в намерении отсрочить появление в свет его труда из страха быть превзойденным; но он еще признает за ним ту заслугу, что он содействовал выбору им в своих трудах философского направления, которого, пишет он, я намерен держаться и впредь14.
Из всего сказанного нетрудно, кажется, сделать тот вывод, что Сен-Симон, по собственному сознанию Конта, играл некоторую роль в выработке его доктрины. Это заявление находит
13 См. неизданную переписку Конта, изд. 1903 г., первая серия, с. 65,66 и 69. Письма от 5 янв. 1832 г.
14 См. письма к Вала, с. 119.
себе решительное подтверждение в самом анализе тех мыслей, какие брошены были в обращение творцом социализма до момента знакомства его с Контом и в период их совместной работы. Правда, не все в этих мыслях может считаться оригинальным. Сам Сен-Симон говорит о том влиянии, какое оказала на выработку его взглядов одна беседа с доктором Бюрден. С другой стороны, нетрудно усмотреть большую близость Сен-Симона к Кондорсе — обстоятельство, которое позволит Конту впоследствии объявлять себя прямым учеником одного последнего.
В 1842 году Конт уже будет обвинять Сен-Симона в том, что он хотел направить его в сторону бесплодных попыток политической деятельности, тогда как современное состояние общества требует прежде всего теоретических работ15, а в 1853 году, печатая III том своей «Положительной политики»16, он заявит, что обязан своими мыслями не Сен-Симону, обвиняемому им «в шарлатанстве и жонглерстве», а Кондорсе — своему «духовному отцу».
В чем же, спрашивается, сходятся взгляды Конта с учением Сен-Симона и какими, в частности, успехами обязана зарождающаяся социология родоначальнику современного социализма. Алангри и Жорж Дюма сделали за последнее время попытку показать, чем Конт обязан Сен-Симону. Их выводы существенно расходятся между собою в том смысле, что первый признает большую самостоятельность в выработке Контом его доктрины, а второй видит всецело источник ее в мыслях, высказанных Сен-Симоном; но оба в одинаковой степени указывают на связь между учениями последнего и доктриною энциклопедистов вообще, Тюрго и Кондорсе — в частности. Из их разбора оказывается, что и закон трех стадий, и классификация наук в порядке их умаляющейся общности и возрастающей сложности, и попытка построения науки об обществе с помощью методов точного знания, науки, обозначаемой термином социальной физики, встречается уже у Сен-Симона. Но из этих трех основных взглядов — первый в зародыше высказан был и ранее Тюрго; вторым Сен-Симон, по собственному признанию, обязан разговорам своим с доктором Бюрден; третий может быть намечен, в самых, разумеется, общих чертах, еще в произведениях школы физиократов, в частности Кене, уже говорившего о социальной физике. Всякая наука движется путем постепенного выяснения
15 См. предисловие к VI т. «Курса положительной философии».
16 См.: Systeme de politique positive, III v. preface с. XVII.
смутно сознаваемых на первых порах истин, и нет поэтому ничего удивительного в том, если в применении к трем доктринам, на которых в значительной степени держится контовская концепция философии наук и социологии, можно указать на целую филиацию идей, восходящих по меньшей мере ко второй половине XVIII века: эти идеи сошлись как в общем фокусе в голове Сен-Симона, беспорядочно разбросаны им в его многочисленных брошюрах и не раз развиваемы были в длинных беседах с учениками, в числе которых был и молодой Конт. Последний, хотя и не сходился во всем со своим учителем, захвачен был научной стороной его взглядов. Он готов был поэтому называть себя учеником Сен-Симона даже тогда, когда ему приходилось искать, если не новых путей к раскрытию истины, то, по крайней мере, новой демонстрации для доктрины, полного обоснования которой Сен-Симон не мог дать по недостатку научной подготовки.
Укажем бегло на то, что заключают в себе брошюры Сен-Симона, написанные до или во время его сближения с Контом, по вопросу о классификации наук и о тех трех стадиях, какие они проходят, как и все вообще человеческое мышление; мы остановимся затем более подробно на анализе социологических воззрений Сен-Симона, насколько в них можно найти зародыш будущего построения Контом абстрактной науки об обществе.
Еще в первом своем сочинении, написанном им в 1803 году, под заглавием «Письма жителя Женевы», Сен-Симон ставит себе задачей создать, взамен средневековой духовной власти, новую и вручить ее ученым и художникам. Сен-Симон предлагает, чтобы по всей Европе открыты были выборы и каждому поручено было назначить 3-х математиков, 3-х физиков, 3-х химиков, 3-х физиологов, 3-х литераторов, 3-х живописцев и 3-х музыкантов. Пусть такие выборы возобновляются из года в год. Последствием будет образование своего рода совета из людей гениальных, пользующихся громадным признанием. Их руководительство умами, как людей совершенно независимых от всякого светского начальства, сделает возможным поступательное движение наук, искусств и цивилизации. Мы находим здесь в зародыше одно из основных учений позитивизма об отделении духовного руководительства ют светского, а в том чередовании наук от математики до физиологии включительно, о котором упоминается по поводу выбора ученых в верховный совет,— пять первых звеньев той цепи, из которой слагается классификация абстрактного знания по Конту. «Все
явления природы, известные нам,— пишет Сен-Симон17,— могут быть разделены на явления астрономические, физические, химические и физиологические». Для него физиология обнимает собою физиологию индивидуальную, как физическую, так и психическую, и физиологию общественную, или социальную физику, в которую входит изучение поступательного хода человеческого разума и указание его дальнейших путей. Таким образом физиология в глазах Сен-Симона еще в 1803 году заключает в себе элементы, из которых Контом построены будут, с одной стороны, наука о жизни тела и духа, обнимаемая общим понятием биологии, с другой, наука об обществе, понятие, для выражения которого Конт придумает довольно неудобный, но вошедший уже повсюду в употребление термин социологии,— термин, в состав которого, рядом с латинским, входит, и греческое слово. Замечательно также то, что Сен-Симон уже останавливается на той мысли, что и в историческом порядке науки развивались сообразно их меньшей или большей сложности. Сперва даны были научные объяснения менее сложным явлениям, каковы астрономические, затем более сложным, как химические. В порядке, в каком отдельные категории знания получили характер положительных наук (sciences positives — Сен-Симон уже употребляет этот термин), можно видеть также все более и более близкое отношение их к человеку. Сперва образуются науки, дающие объяснение явлениям более или менее отдаленным от него, затем — прямо его касающимся. Математика и астрономия развиваются поэтому ранее физиологии18.
Другая мысль, также близко стоящая к самым основам положительной философии и которую в зародыше можно встретить уже в «Письмах писателя Женевы»,— это та, что объяснение тех или других явлений: астрономических, физических, химических и физиологических, становится научным только с того момента, когда перестает быть гадательным (conjectural), что возможно лишь при разрыве с богословскими и метафизическими толкованиями. «Физиология,— пишет Сен-Симон, понимая под ней, как мы видели, и биологию с психологией и социологию,— находится еще в наши дни в том же состоянии, в каком была астрономия в эпоху астрологов и химия в эпоху алхимиков. Необходимо, чтобы физиологи изгнали из своей среды
17 См.: Lettres d’un habitant de Geneve, т. I, c. 36.
18 Ibid., I, c. 38-39.
философов-моралистов и метафизиков, как астрономы прогнали астрологов, а химики — алхимиков»19.
Все эти мысли найдут со временем более полное развитие в других брошюрах и статьях Сен-Симона. Так, в своем «Организаторе» (IV, 137) он будет пророчествовать обращение философии, морали и права в положительную науку, по мере освобождения их от доктрин богословских и метафизических и перехода к методу наблюдения. В трактате, озаглавленном «Мемуары о науках, занимающихся человеком» (Мemoires sur les sciences de 1’homme, c. 9) Сен-Симон более обстоятельно развивает ту мысль, что политическая наука не более как общественная физиология и потому часть той общей физиологии, которая является у него последним звеном в построенной им цепи наук. Еще позднее, в отрывках из «Социальной физиологии», Сен-Симон показывает, что эта последняя наука изучает индивидов, как отдельные органы общественного тела. Подобно тому, как физиология человека знакомит нас с функциями его организма, физиология общества раскрывает нам функции последнего. «Общество,— прибавляет он,— не есть простое накопление живых существ, действия которых независимы от конечной цели (de tout but final) и не определяются не чем иным, как личной волей каждого; оно, наоборот, является настоящей машиной, организованной таким образом, чтобы все части ее равно содействовали ходу целого; соединение людей воедино образует самостоятельное существо, развивающееся подобно индивиду»20.
Можно сказать, таким образом, что и уподобление общества организму, а общественных явлений — его функциям,— уподобление, к которому ранее Спенсера и в менее буквальном смысле, чем последний, не раз прибегнет и Конт, встречается еще у Сен-Симона, что вполне отвечает и его представлению об обществоведении, как о социальной физиологии. Сен-Симон подготовляет дорогу Конту и тогда, когда говорит о необходимости восполнить систему точных наук включением в число их и только что указанной новой науки. «Немыслимо,— пишет он,— дальнейшее противоположение двух миров — духовного и физического; существует только один мир явлений; общественное развитие — продолжение животного развития. Применяя тот же метод наблюдения в обществоведении, какому точные науки обязаны своим созданием, мы необходимо
I’ Ibid., I, с. 39-40.
20 la reunion des homines constitue un veritable etre, Physiologie sociale, т. X, c. 179.
придем к установлению законов и в их среде. Для индивидуальной физиологии сделаны были уже серьезные попытки открыть эти законы Вик д’Азиром, Кабанисом и Биша; для общественной — Кондорсе. Сен-Симон, очевидно, знаком с “Картиной прогресса человеческого разума”, но он желал бы пойти дальше ее в том же направлении, придерживаясь при этом того же метода наблюдения, какому следуют и другие отрасли физики. Когда этим путем создана будет положительная наука о человеке, завершится энциклопедия знания и удовлетворены будут естественные запросы человеческого ума на единство. На смену древних религий и старинных метафизик явится общая философия и обучение будет заканчиваться курсом положительной философии. Этот термин встречается под пером Сен-Симона еще в 1812 году, таким образом задолго до его знакомства с Контом»21.
Если таким образом у Сен-Симона мы встречаем зародыш кон-товой классификации наук, то у него же можно открыть, в тесной связи с мыслями, ранее выраженными Кондорсе, в эмбриональном виде и учение о трех стадиях, чрез которые необходимо проходит человеческое мышление. Сам Сен-Симон не скрывает того, что его натолкнула на эти мысли беседа с доктором Бюрден еще в 1798 году. «Все науки,— сказал ему Бюрден,— вначале были гадательны (conjecturales) и в конце концов сделались положительными. Астрономия была на первых порах астрологией, химия — алхимией, физиология — долгое время достояние шарлатанства — опирается в настоящее время на фактах, хорошо наблюденных и подлежащих контролю. Психология начинает искать базиса в физиологии и освобождается от религиозных предрассудков, на которых первоначально опиралась. Науки были сперва гадательными (conjecturales) потому, что мало было наблюдений, что те, которые имелись, не были достаточно анализированы и не находили оправдания себе в продолжительном опыте. Большинство наблюдений было не столько действительными, сколько предполагаемыми фактами (конъектурами); науки должны сделаться положительными, так как опыт, ежедневно приобретаемый человеческим разумом, доставил ему возможность дойти до познания новых фактов и более правильно постичь природу тех, которые не были наблюдаемы ранее, в те времена, когда люди еще не в состоянии были их анализировать. Так как астрономия — та из наук, которая рассматривает факты в их
21 Ср.: Allengry. Essai historlque et critique sur la sociologie chez Auguste Comte, c. 443.
наиболее простых и наименее численных отношениях, то она должна была раньше других приобресть характер положительной; химии предстояло последовать за нею во времени и предшествовать физиологии, так как она рассматривает более сложные отношения, чем первая наука, и менее разнообразные, чем вторая. Этих немногих слов достаточно,— прибавлял Бюрден,— чтобы показать, что то, что должно было случиться, в действительности и имело место. Важно знать причину, которая вызвала предшествовавшие нам во времени порядки, так как тем самым мы приобретаем средство открыть то, что последует в будущем... Философия станет положительной наукой; она сделается ею тогда, когда физиология во всем своем объеме будет построена на фактах, подлежащих наблюдению. Не существует явления, которое бы не могло быть включено в физику простых тел, или тел организованных; эта же последняя и есть физиология»22. В этих мыслях, высказанных Бюрденом еще в 1798 году, можно найти отклик того, что всего ранее развито было Тюрго в его «Истории прогресса человеческого разума». Литтре первый указал на то, что Тюрго уже доступно представление, что религиозное мышление сменяется, сперва метафизическим, а затем научным. И действительно, не мудрено найти в словах, которые мы сейчас приведем, достаточное обоснование той мысли, которая и доселе является наименее спорным законом социологии,— мысли о том, что умственное развитие, и только умственное, управляется чередованием откровенных, конъектуральных и основанных на наблюдении толкований. «Прежде чем познать связь, существующую между физическими явлениями, естественно было предположить,— пишет Тюрго,— что они производятся разумными существами, невидимыми и подобными нам; на кого другого могли бы они походить? Все, что совершалось без прямого участия людей, относимо было насчет божества. Страх или ожидание выгод побудили к отправлению культа в его честь; культ же этот построен был по образцу тех почестей, какие отдаваемы были людям сильным... Когда философы признали абсурдными все эти сказки, не приобретши в то же время правильных знаний насчет природы и естественной истории, они вздумали объяснять причину явлений такими отвлеченными понятиями, как сущность или свойство. Понятия эти ничего не выражали, но их принимали за своего рода живые существа, за новые божества, сменившие прежних. Число свойств постепенно было
22 См. мемуар Сен-Симона «Sur les sciences de 1’homme», c. 21-24.
размножено, так как пожелали дать объяснение каждому явлению. Только много времени спустя и благодаря наблюдению над механическим воздействием, какое одни тела оказывают на другие, стало возможным установить гипотезы иного порядка, которые развиты были затем математически (т. е. дедуктивно) и подверглись23 экспериментальной проверке». Сопоставление двух только что приведенных отрывков: одного, передающего мысли Бюрдена, другого — взятого из сочинения Тюрго, не оставляет сомнения в том, что закон трех стадий, в установлении которого некоторая роль, как мы сейчас укажем, должна быть признана и за Сен-Симоном, восходит еще к XVIII столетию. Что же нового прибавил Сен-Симон ранее Конта к только что изложенным мыслям? В общем немного, а именно указание на то, что до Сократа продолжался период господства теократического миросозерцания, что по существу неверно, так как уже у «греческих мудрецов» мы находим замену божественного источника явлений действием отдельных элементов природы: воды, огня и т.д. К тому же надо прибавить, что употребляемая Сен-Симоном терминология для обозначения различных стадий в развитии мышления несколько отлична от той, какую мы встретим у Конта, и менее определенно передает мысль, общую ему с философами конца XVIII века. Сен-Симон различает период гадательный (conjectural), наполовину гадательный, наполовину положительный и, наконец, позитивный, указывая тем, что уже в эпоху метафизики часть явлений получала научное объяснение. Вслед за Кондорсе, Сен-Симон пытается дать в самых общих, разумеется, чертах очерк поступательного хода истории. Он показывает, каким образом человек, мало чем превосходящий высшие породы животных своей физической организацией, постепенно приобретает то существенное отличие от них, каким надо считать язык. Его появление свидетельствует о возникновении в уме человека общих понятий, в частности,— понятия причины и следствия, а также о его способности передавать эти понятия различными знаками. С этого момента и открывается религиозный или, как говорит Сен-Симон, гадательный период в развитии мышления. Первой формой религии надо считать по Сен-Симону идолопоклонство (idolatrie), которое у Конта заменено будет понятием фетишизма, т. е. одухотворения предметов видимой природы, признание общей с человеком жизни и только большей мощи столько же за растениями и животными, сколько
23 Histoire du progres de I'esprit humain, p. 294.
за горами, реками и т.д. Сен-Симон определяет природу этого периода в развитии верований, говоря, что человек приписывает в это время видимые причины всем явлениям и поклоняется им. Вторую ступень представляет переход от бесконечного числа видимых причин к признанию небольшого числа невидимых причин, духовного характера. К этому и сводится сущность многобожия, или политеизма; наконец, третью ступень в развитии религиозного мышления составляет сведение всех причин к одной невидимой и живой. Этот период Сен-Симон называет деизмом; в построении же Конта место деизма займет монотеизм или единобожие. Таким образом и у Сен-Симона, как впоследствии у Конта, теологический период распадается на три подразделения. За ним в порядке исторического преемства следует метафизический, по классификации Сен-Симона — наполовину гадательный, наполовину положительный. От одной высшей причины, представляемой во образе живого существа (Бога), человек возвышается до признания, что известные явления, но далеко не все, управляются законами. В таком понимании метафизического периода Сен-Симоном нельзя не отметить существенного отличия от точки зрения Конта. Для него этот период наполовину богословский, для Конта — теократические объяснения сменяются указанием на какие-то неподлежащие дальнейшему анализу силы и сущности, возводимые на степень первопричин. Отметим то совпадение в точке зрения обоих писателей, что и тот и другой признают за метафизикой значение разлагающего элемента по отношению к теократическим системам. В этом лежит заслуга, оказанная ею положительному знанию, которое не могло бы развиться без такого натиска на богословие. В этом промежуточном, метафизическом периоде Сен-Симон, подобно Конту и ранее его, признает выдающееся значение за юристами, влияние которых сказывается в переходе от непроизводительных войн к производительному миру. Таким образом Сен-Симон уже связывает с развитием метафизического мышления упадок первоначальной воинственности и переход к индустриализму. То же сделает, как мы увидим впоследствии, и Конт. Французская революция является по Сен-Симону последним звеном в этой цепи событий, которая ведет от милитаризма к индустриализму. Вместо того, чтобы сделаться первой ступенью в развитии третьего, или положительного, периода в истории человечества, она сохранила связь с метафизикой; она не сумела перенесть из рук духовенства в руки ученых власть духовную, а из рук дворянства
и военных — в руки среднего сословия власть светскую; ей помешало сделать это преобладание, какое удержали при ней метафизики и юристы. Сен-Симон в своей «Индустриальной системе», появившейся уже в эпоху его сотрудничества с Контом, проводит по отношению к юристам ту самую точку зрения, с какой мы встретимся и в «Курсе положительной философии». Он старается показать антииндустриальный характер их точки зрения, развившейся на изучении римского права и законодательных порядков Франции старого порядка. Неудивительно поэтому, если взгляды юристов не отвечают потребностям современных обществ, хотя, по необходимости привязанные к прошлому, они в то же время проникнуты духом критики и разрушения, что не мешает им выдавать себя за строителей. В действительности они способны только делать пристройки к старому зданию, а не организовать общество на индустриальном фундаменте. Они довольствуются одним установлением преград для защиты управляемых против управителей, толкуют о возможно лучшем правительстве, понимая этот вопрос в духе юриспруденции и метафизики. «Ведь теория прав человека, лежащая в основе всех их трудов в области политики, не более, как приложение высшей метафизики к высшей юриспруденции». Сен-Симон упрекает юристов в том, что они не поняли второстепенного значения этого вопроса, который имеет гораздо меньшую важность, чем административная и индустриальная организация общества. Во всем этом, как мы увидим, Сен-Симон является прямым предшественником Конта. Но где он расходится с ним, это в понимании высших задач положительного периода в развитии мышления, который, по его мнению, должен свестись к монизму, т. е. объяснению всех явлений одним законом — законом притяжения24. Литтре показал всю недостаточность научной подготовки Сен-Симона и всю метафизичность некоторых его основных доктрин. «Сен-Симон придерживался, пишет он, несчастной мысли, что закон тяготения может служить основанием для концепции мира, для объяснения явлений физических и химических столько же, сколько биологических и социальных»25. Он отказался от такой мысли только после сближения с Контом, который таким образом оказал существенное влияние на исправление некоторых его основных точек зрения. Но если в понимании задач научного периода мыш
24 См.: Апангри, с. 453-459.
25 См.: Auguste Comte et la philosophic positive, c. 75.
ления Конт расходится с Сен-Симоном, то в суждении о периодах теократическом и метафизическом он часто воспроизводит его основную схему, наполняя каждый раз установленные им рамки богатым содержанием, плодом собственных чтений, более непосредственного знакомства с историей наук и развитием общества.
§3
Познакомившись таким образом в общих чертах с длинным рядом прямых предшественников Конта, мы в состоянии перейти в настоящее время к изучению его социологической схемы в процессе ее постепенного сложения. О Конте можно сказать, что его последующие труды, и в частности «Курс положительной философии», на котором опирается его слава, были не более как выполнением задач, возникших в ранней молодости в его уме и отчасти нашедших ответ себе еще в статьях, написанных им в то время, когда он работал в тесном общении с Сен-Симоном26 и встречался с выдающимися учениками, между прочим, с известным историком Огюстеном Тьерри.
Так, закон трех стадий уже формулирован Контом в сочинении, появившемся в 1822 году и озаглавленном «План научных работ, необходимых для переустройства общества». «В силу самой природы нашего разума,— пишет Конт,— любая ветвь наших познаний необходимо проходит в своем развитии три различных периода: период теологический, или период фикции, период метафизический или период абстракции, и период научный, или период положительный». Ту же мысль он положит в основу всего своего «Курса положительной философии», приурочивая к смене периодов развития наук, или абстрактного мышления, соответственные перемены в экономическом, общественном и политическом укладе и даже в эстетических запросах человечества.
Новейшие историки его социологической схемы подробно остановились на изучении поступательного хода его мысли в этом отношении. Никто не сделал этого полнее Алангри. Из его очерка видно, что занятие политической экономией, после выхода из школы
26 Сам Конт любил применять к себе следующий афоризм: «Что составляет выдающееся существование, как не осуществление в зрелом возрасте мысли, задуманной в юности».
политехников, впервые привлекло мысль Конта к решению задач обществоведения. В этом отношении нельзя не отметить того любопытного факта, что однохарактерные занятия дали то же направление и мысли Спенсера, воспитанной первоначально, как и мысль Конта, на занятии математикой (в частности, механикой).
Конт знаком с Адамом Смитом, с физиократами, с Жан-Батистом-Сэем. Он отнесется впоследствии с большою строгостью к их попытке изолировать экономические явления от прочих общественных и рассматривать проблематические последствия, какие вызывает господство в человеке эгоистических запросов, без всякого отношения к тому, в какой степени последние умеряются альтруизмом. Но, критикуя экономистов, он в то же время постоянно будет иметь в виду выдающееся значение, оказанное на развитие человеческих обществ экономическими причинами. Ни в одной части его «Курса» не выступит так выпукло влияние этого фактора, как при изучении причин и хода упадка феодального общества, построенного на началах милитаризма и уступающего место постепенно зарождающемуся индустриальному строю. Значительная часть V т. «Курса положительной философии» посвящена изображению отдельных стадий этого развития, которое, несомненно, осталось бы непонятным для Конта без серьезного знакомства по крайней мере с некоторыми из экономистов-классиков. Что мысль о раскрытии законов, управляющих жизнью общественного организма и его поступательным ходом, зародилась одинаково у Конта и Спенсера под влиянием непосредственного занятия политической экономией, в этом нет ничего удивительного, так как из всех конкретных дисциплин, посвящающих себя исследованию так неудачно названных «нравственных и политических наук», одна экономика может указать пока, если не на законы, то на эмпирические обобщения в роде тех, какими являются закон разделения труда или закон спроса и предложения. Первый, как показал уже Конт, не более как частичное применение физического закона сбережения энергии, сбереженья, достигаемого на этот раз распределением общественных функций между различными органами, второй же может быть сведен к более общему, механическому по природе, а именно закону направления движения в сторону наименьшего сопротивления. Занимаясь экономикой, Конт пишет Сен-Симону: единственной разумной политикой может быть та, которая опирается на политическую экономию. Последняя еще не может считаться наукой; ей недостает для этого твердого базиса. Она владеет, правда, значительным числом положитель
ных истин, но эти истины пока не более как результат отрывочных наблюдений, способных войти в состав скорее сборника, нежели системы. Дать политической экономии более научный и общий базис,— лучшее, что может быть сделано для прогресса науки. Эта цель только кажется достигнутой предлагаемым нами основным положением, что общество должно быть построено таким образом, чтобы обеспечить возможно большую успешность производства. Все накопленные истины в области политической экономии, как мне кажется, могут быть приведены в соответствие с этой прекрасной мыслью, благодаря чему открывается возможность найти настоящую почву для этой науки, строя ее на наблюдениях над хозяйственными явлениями27.
Мы не будем следить за тем, как в эпоху сотрудничества с Сен-Симоном Конт постепенно устанавливает и ту классификацию наук, какую мы находим впоследствии в «Курсе положительной философии», и ту общую схему в развитии обществ, которая ляжет в основу его социальной динамики. Достаточно сказать, что в «Плане научных работ, необходимых для переустройства общества», уже установлены верховые столбы его общей схемы разделения прошлой жизни человечества на несколько эпох, располагаемых в порядке умаляющейся роли фантазии и возрастающей роли науки; каждая из этих эпох содержит в себе несколько периодов, чередующихся в том же направлении. Так, теократический период распадается на период фетишизма, или признания жизни за различнейшими предметами внешней природы и их обоготворения, политеизма, или сведения первопричин всего сущего к известной сумме невидимых существ, обоготворяемых и вступающих друг с другом в иерархические отношения, наконец, монотеизма, или единобожия, при котором все первопричины сводятся к одной, признаваемой жизненной силой и обоготворяемой. Понятно, что чем мень не число первопричин, вера в которые обязательна, тем больший простор открывается человеческому мышлению для раскрытия тех отношений, в каких состоят между собою отдельные явления мира и духа.
Неудивительно поэтому, если рост положительного знания идет у Конта рука об руку с переходом от фетишизма к много и единобожию и если он считает возможным отметить два параллельных течения: разложение теократического миросозерцания и постепенное образование
27 Это письмо приведено в сочинении Робине «Notices sur 1’oeuvre et sur la vie d’Auguste Comte», Paris, 1864.
научного. Леви Брюль в своем недавнем очерке «Философии Огюста Конта» справедливо замечает, что Конт понимает термин метафизика далеко не в обычном смысле, т. е. не в смысле науки, ставящей себе задачей изучение существа всего сущего, науки, стремящейся ответить на вопрос о первых принципах. Он разумеет под нею особый метод объяснения явлений, метод широких гипотез: так, допущение эфира, как первопричины в явлениях физических, в частности в вопросах оптики и электричества, принятие в физиологии гипотезы витализма, а в психологии — представления о существовании души, как отличной от тела28.
Метафическое объяснение явлений таким образом одной природы с теологическим. Вся разница сводится к замене Божественного начала первопричиной, не носящей в себе характера сверхчувственного, но столь же мало подлежащей определению опытом и наблюдением. В метафизический период открывается еще больший простор для раскрытия той связи между явлениями, к раскрытию которой сводится в глазах Конта и, гораздо ранее его, в глазах Монтескье, действительная задача науки. Немудрено поэтому, если рост знания идет возрастающей прогрессией в течение всего метафизического периода, отвоевывая у гипотетических толкований природы вещей и отношений все большую и большую площадь. К ней принадлежат прежде всего явления наиболее общего характера и всего далее стоящие от человека, его духовной и общественной жизни. Таковы явления, изучаемые математикой и астрономией. Немудрено поэтому, что основы им были положены еще в эпоху теократического миросозерцания, и самые эти науки более или менее сложились в период метафизический. Более позднего происхождения — научные объяснения той внутренней трансформации, какую необходимо предполагает всякий химический процесс.
Этим надо объяснить сравнительно недавнее появление химии на место алхимии. Еще позже биология, необходимо предполагающая более раннее развитие химии, вступает в число положительных наук, а в ней наименее выработанной ветвью остается та, которая призвана объяснить связь психических явлений с структурой нашего мозга и всей нервной системы.
В наше время положительному знанию недостает еще одной науки, которая, в отличие от биологии или науки о жизни, обозначается Контом сперва термином социальной физики, а затем социологии. Это
28 «La Philosophic d'Auguste Comte» par Levy Bruhl, c. 42.
наука об обществе и его росте. До момента ее установления не может быть речи об окончательной замене периода специализации периодом универсального знания. Конт допускает поэтому два подразделения положительной стадии в развитии общества, период специализации и период универсализма; из них последний, в его глазах, только начинается. В1820 году, когда Конт приступает к обнародованию этих мыслей в серии статей, напечатанных в издаваемом Сен-Симоном сборнике «Организатор», закон трех стадий уже прилагается им к толкованию не одного процесса умственного развития человечества, но и к смене в общественной жизни народов двух противуположных течений: милитаризма и индустриализма, т. е. тех самых, на которые указывал Сен-Симон, настаивая на постепенном вытеснении первого последним. Конт пойдет гораздо дальше этого в своем «Курсе положительной философии» и сделает попытку связать с неизбежной потерей почвы теократическими и метафизическими толкованиями и заменой их научными, трансформацию не только экономического и политического уклада, но и эстетических вкусов и представлений. Чтобы иллюстрировать сказанное примером, я остановлюсь на развитии им, положим, мысли о той связи, в какой в древнейший период религиозного миросозерцания, период фетишизма, верования стоят с экономикой, политикой и эстетикой. Конт указывает, что фетишизм в меньшей степени, чем политеизм, допускает организацию жреческого класса. Все божества этого периода носят характер индивидуальный, и каждому божеству отводится местопребывание в особом предмете, чего нет при политеизме. Фетишизм поэтому поддерживает первобытную разрозненность людей и заключает в себе меньшее число благоприятных условий к их объединению под общим руководительством, под общей властью, духовной или светской. Правда, некоторые фетиши приурочены к отдельным племенам и нациям, но большинство — семейного и индивидуального характера, а это обстоятельство мало содействует возникновению общности идей и представлений. Так как фетишизм не заключает в себе условий благоприятных образованию жреческого сословия или касты, то тем самым он должен считаться препятствием к появлению класса, посвящающего себя спекулятивному мышлению. Соответственно культ играет в фетишизме большую роль, нежели верование. Культ носит еще домашний характер, отправляется отцом семейства, помимо чьего-либо вмешательства со стороны.
Но и в эпоху фетишизма уже зарождаются элементы будущего жреческого класса в лице всяких гадальщиков, кудесников, фокусников.
Но для этого необходимо, чтобы фетишизм уже принял характер поклонения созвездиям — достиг высшей формы своего развития, с которой начинается переход его к политеизму.
Небесные светила носят тот универсальный характер, который делает возможным обращение их в общих фетишей целых племен и народов. Меньшая их доступность вызвала необходимость создания общих посредников между ними и людьми, которыми и являются жрецы. Конт указывает связь фетишизма с зарождением искусства, говоря, что философия, оживотворявшая всю природу, должна была содействовать развитию фантазии. Ограничившись этим общим замечанием, он переходит затем к развитию той мысли, что периоду фетишизма человечество обязано и зарождением хозяйственной деятельности. Ближайшим шагом к ней было установление порождаемого фетишизмом тесного общения людей с животными, открытие способа добывать огонь, позволившее сохранение пищи, и утилизация механических сил природы. К периоду фетишизма Конт относит и изобретение монет, сделавшее возможным развитие обмена или торговли. Истребительный характер, какой носит в это время охота, доставляющая главные средства к пропитанию, с одной стороны, объясняет нам причину исчезновения целых пород животных, особенно крупных, а с другой — тот импульс к соединению, который вызывается необходимостью борьбы с ними и содействует первоначальному образованию племен. Развитию производительной деятельности в эпоху фетишизма должно было содействовать немало преувеличенное представление человека о своих силах ввиду самого незнакомства его с неизменными законами природы. Обыкновенно признают, что периоду фетишизма неизвестно существование собственности, но Конт указывает на обычай «табу», т. е. наложения запретов на известные предметы по религиозным мотивам, как на одно из средств возникновения индивидуальной апроприации, и объясняет этим появление права собственности на одежду. Он развивает далее тот взгляд, что в общей концепции фетишизма не было ничего препятствовавшего возникновению земледелия, которое, в свою очередь, принесло с собою первые ограничения милитаризма и содействовало замене бродячего состояния первых людей оседлым.
В противность тем, кто, как Кондорсе, указывал на возросшую густоту населения, как на причину перехода к земледелию, Конт пытается обосновать тот взгляд, что человечество предпочло бы обратиться к насильственным средствам, например к детоубийству,
с целью уменьшения населения, чем отказаться от преимуществ номадного состояния, если бы в самом обоготворении им земли, как фетиша, и предметов постоянного обихода не заключалось условий, благоприятных развитию привязанности к родной почве. В тех же религиозных представлениях фетишизма Конт видит и причину перехода от первоначального истребления животных к их сохранению и к тесному общению с ними людей, по крайней мере в тех случаях, когда они не приносили вреда человеку, что можно сказать о всех животных, способных к доместикации.
Этот факт в свою очередь должен был отразиться на смягчении нравов, встречающем долгое время препятствие в том обстоятельстве, что человек принадлежит к числу плотоядных животных. С развитием земледелия и оседлости охота становится специальным занятием, только известного числа лиц, в которых могло удержаться то кровожадное отношение, которое на первых порах было свойственно всем людям, живущим в состоянии фетишизма29.
Вышесказанное иллюстрирует метод Конта, указывая на преимущественное значение, придаваемое им при толковании генезиса общественных явлений фактам психическим и, в частности, умственным способностям. Их развитие влияет смягчающим образом на нравы и создает новые потребности, так скотоводство и земледелие вызываются не ростом населения, не истреблением зверей в охотничьих районах, а порождаемой фетишизмом связью людей с животным и растительным царством, что и сказывается в замене прежнего истребления доместикацией, предполагающей постоянную заботливость о вскармливании и размножении тех, кого человек прежде изводил, а это в свою очередь отражается и на изменении прежнего характера дикаря, на подавлении в нем кровожадных инстинктов. Одухотворение всего сущего и в том числе предметов, с которыми человек входит в постоянное общение, порождает ту привязанность к родной почве, которой будто вызывается и желание найти в ее обработке средство не разлучаться с нею никогда, избрать ее местожительством, что, по Конту, и вызывает переход к оседлости. В том же умственном складе ищет он объяснения и факту зарождения эстетических потребностей. Одухотворяя все предметы, фетишизм тем самым открывает широкий полет
29 См. в «Курсе положительной философии», т. V, гл. VII и передачу ее содержания Риголажем в том конспекте сочинения Конта, какой он дает в двух томах, из которых последний посвящен передаче социологии с. 137-156.
фантазии, что в свою очередь вызывает первоначальное сложение сказок и былин с зооморфическим характером, т.е. в которых звери являются героями, возникновение первых зародышей живописи в пещерных изображениях тех или других животных и, прибавим от себя, тех подражательных и ритмических движений, в которых можно видеть первые проблески хореографического искусства, наконец, тех ритмических заклинаний, с которыми связано мистическое представление о возможности воздействовать на размножение известных животных и в которых, как показал недавно Комбарье, всего вероятнее искать зародыш музыкального искусства.
Уже из одной необходимости восполнять сделанные Контом выводы новейшими обобщениями фольклористов, сравнительных мифологов и писателей по древнейшей истории культуры, можно сделать двоякого рода заключение: во-первых, то, что его понимание древнейшего периода религиозной мысли в значительной степени является неполным и, во-вторых, что тем не менее на высказанные им общие мысли является возможность нанизывать новые факты и обобщения. Идея фетишизма, как древнейшего религиозного состояния людей, принадлежит не Конту и не его прямым предшественникам, а Де Броссу. Она передает только отчасти ту сумму религиозных представлений, которыми орудовал человек на низших ступенях общественности; культ предков, по-видимому, не принимается в расчет Контом; его универсальность установлена, однако, работою Тейлора, показавшего что в сновидениях и в самом факте отбрасывания телом человека тени надо видеть источник зарождения того представления о раздвоенности человеческой природы и о возможности обособления двух ее половин: физической и духовной, на котором опирается вера в загробную жизнь и культ предков. И этот последний, подобно фетишизму, держится на начале оживотворения всего видимого и невидимого, почему для обоих верований Тейлором предложено более родовое понятие анимизма. Каковы были древнейшие формы его, еще остается открытым вопросом, как открытым надо считать и вопрос о первоначальном его источнике, которым Лэнг, например, не прочь считать явления, довольно близко отвечающие нашим понятиям о гипнозе и экстатическом состоянии. В каком порядке чередовались те или другие формы анимизма, также остается предметом гадания. Весьма правдоподобными кажутся предположения Маннгарта, а за ним Фрезера, что человек обратился к культу растений и, в частности, лесов, и деревьев, и к культу диких зверей ранее, чем к культу
предметов, связанных с земледелием и скотоводством, и что таким образом материальные условия его быта повлияли и на эволюцию его верований.
Весьма вероятно также, что культ предков развился сравнительно позже, с момента перехода к оседлому состоянию, что в нем мужские родственники только постепенно вытеснили женских, так называемых рожениц наших древних литературных памятников, и что и на этот раз оказалось обратное воздействие уже не материальных условий, а общественного уклада на модификацию религиозных воззрений. Современные исследователи все более и более выдвигают посредствующую роль, какую в период начальных верований пришлось сыграть так называемому «тотемизму» между культом предметов видимой природы и первыми соединениями людей в более или менее обширные группы, из которых со временем развились материнские, а затем отеческие роды. Тотемизм — термин, заимствованный у краснокожих,— передает собою их представление о происхождении той или другой группы людей от того или другого растения или животного, доставлявшего им на первых порах важнейшие средства пропитания, но затем сделавшегося в видах его дальнейшего сохранения запретным для них. Из этого правила допускается, впрочем, исключение для известных дней в году, когда в материальном общении с тотемом, в его восприятии в форме пищи, дикари считают возможным возобновлять свою связь с почитаемым ими животным или растительным патроном. Так как с принадлежностью к одному и тому же тотему связано представление о родстве и брачные запреты, то немудрено понять то значение, какое тотемизм играет в переходе от религиозного к социальному строю. Некоторые новейшие мифологи связывают с ним и самый факт доместикации животных и искусственного размножения полезных растений, являющегося в свою очередь источником земледелия. Заботливое отношение к увеличению числа особей того растительного или животного вида, с которым связано понятие о тотеме, необходимо вызывает мысль о его сохранении и разведении, а в этой мысли уже скрывается источник доместикации животных и возникновения сельскохозяйственной культуры.
По поводу всех этих недавних и все еще гипотетических теорий йе может не броситься в глаза верность общей точки зрения Конта, который, настаивая на взаимодействии таких причин, как рост идей и плотность населения, например, дает первенствующее значение первому. Писатели XVIII века, озабоченные прежде всего торжеством
освободительного движения, не прочь были все сводить к политике, как к первопричине. Так, Монтескье утверждал, что производительность почвы зависит не столько от ее плодородия, сколько от свободы возделывателей. Писатели второй половины XIX столетия, захваченные социальным движением, также односторонне сводят нередко все общественные факторы к одному экономическому. Концепция Конта несравненно шире. Он следит постоянно за взаимодействием умственного развития с экономическим, общественным, политическим и эстетическим, признавая в то же время, что ближайший импульс к трансформации обществ, во всех этих отношениях дает накопление опыта и наблюдений, т. е. в конце концов знаний. Если тотемизму действительно суждено было сыграть ту выдающуюся роль в развитии ранних форм общественности, о которой говорят современные мифологи и фольклористы, то она представится нам вполне отвечающей основной точке зрения Конта на воздействие теоретической мысли на житейскую практику и общественную структуру.
Соглашаясь с этим руководящим положением Конта, мы в то же время не можем не отметить недостаточности того материала, на котором он строит свои обобщения. Ему, по-видимому, осталось неизвестным сочинение Лафито «О нравах американских дикарей», так как в противном случае он отметил бы факт существования, рядом с патриархальными обществами, и матриархальных.
Эта неполнота фактического материала, положенного Контом в основу его обобщений, невыгодно выступает и при характеристике им дальнейших периодов в развитии человечества. Можно сказать, что эпоха политеизма характеризуется Контом почти исключительно чертами, отчасти египетской и в особенности греческой и римской культуры. Объясняется это, разумеется, весьма несовершенной еще постановкой в его время истории Передней Азии; о разборе клинообразных надписей тогда не было и помину. Конт не мог также извлечь полезных для него данных в том постепенном напластовании на туранской культуре Аккадийцев семитических культур Ассирии и Вавилона, воздействие которых не только на евреев, но и на египтян и персов, в настоящее время стоит вне спора. Важность открытий, сделанных обоими Шампольонами в области среднего и нижнего течения Нила, начатый ими разбор иероглифов, внезапно обогатили наши сведения о стране фараонов и вызвали вполне понятную попытку представить ее колыбелью всей культуры, не исключая греческой. Начатая Кольбруком анкета по древне-индусской гражданственности мало обратила на себя внимание творца
социологии; его представление о кастах более отвечает тому, какое можно составить себе скорее на основании близкого знакомства с египетским строем, нежели с индусским; в последнем влияние расовых различий сказывается с большей силой и устраняет возможность приурочения каст к одному разделению труда.
Преимущественное значение, какое Конт придает фактам из греческой и римской жизни для иллюстрации всего поступательного хода человечества, объясняется представлением, общим ему с Кондорсе, о том, что в каждой эпохе тот или другой народ несет впереди всех знамя культуры, опережает другие, служа для них предметом подражания. Таким народом в древности для Конта были греки, и такими в новое время он считает народы латинской расы и, в особенности, французов. Такое упрощение задачи не позволяет нам говорить об употреблении Контом в строгом смысле слова сравнительно-исторического метода, при котором отдельные народы призываются своими сходными чертами в разные периоды развития доставить материал к выяснению существенных особенностей каждой его стадии — особенностей, выступающих поэтому в истории любого из них. Метод Конта главным образом метод исторический; он следит за эволюцией народов, идущих во главе цивилизации, и только изредка останавливается на тех из них, которые представляются ему отсталыми, чтобы констатировать самый факт их отсталости. В новой истории его интересуют поэтому только народы запада Европы, мир западный, как он его называет, обстоятельство, благодаря которому и предпринятый им журнал носит название «Западного обозрения» — «Revue Occidentale».
На выполнении Контом различных сторон поставленной им задачи одинаково сказалась и его специальная подготовка в области точных наук, и влияние сравнительно недавней еще реформы, внесенной в сферу естествознания Биша, впервые заговорившим о биологии, или науке о жизни, и зародышное еще состояние той истории поступательного развития общества, общие контуры ко-’торой, однако, были уже начертаны Кондорсе. Из всех сторон, принимаемых Контом в расчет при изучении прогресса культуры, всего обстоятельнее представлен в «Курсе положительной философии» поступательный рост абстрактных наук: математики, астрономии,
физики, химии, биологии и тех зачатков обществоведения, какие Конт отмечает еще у Аристотеля, Гоббса, Монтескье, Кондорсе и Жозефа де Местра. При этом Конту удается провести в деталях общее ему с Тюрго, Бюрденом и Сен-Симоном положение, что науки, имеющие дело с явлениями наиболее общего характера и всего дальше стоящими от человека, формируются и развиваются всего ранее и что рост положительного знания становится тем медленнее, чем сложнее изучаемые явления и чем ближе стоят они к человеку. Другими словами, классификация наук, предложенная Контом в начальных главах его «Курса», находит себе историческое оправдание в его социологии.
Политическая история в том понимании ее общего хода развития, какое дает нам Конт, отражает на себе влияние тех новых задач, какие поставила себе историография со времен Юма в Англии, Нибура в Германии и той зарождающейся школы великих французских историографов первой половины XIX столетия, в числе которых едва ли не наиболее выдающимся был такой же, как и Конт, ученик Сен-Симона,— Огюстен Тьерри, автор «Истории среднего сословия во Франции». Указанное мною направление уже отодвинуло на задний план историю династий, войн и международных договоров, оно сосредоточило свое внимание на внутренних трансформациях обществ, на росте их национального и политического уклада. Это — та сторона, которая всего более интересует и Конта; он следит за тем, в какой мере проводится отдельными народами древности и нового мира слияние или обособление обеих властей — светской и духовной. В этом вопросе решающее влияние оказывает на него Де Местр своей книгой о Папе. Ему Конт обязан одной из основных сторон своего, столько же исторического миросозерцания, сколько и политического credo, признанием двоевластия и независимости светского и духовного начала необходимым условием прочного политического уклада, одинаково благоприятного порядку и свободе, сохранению добытых уже благ культуры и ее поступательному ходу. Этот идеал достигнут был в Средние века, в период монотеизма, последнего из тех, на которые распадается эпоха господства теологического миросозерцания. Папство стояло в это время на высоте современного ему теократического мышления и воплощало в себе духовное руководительство христианским обществом, тогда как светское сосредоточивалось в руках императора и подчиненных ему в иерархическом порядке королей, герцогов, князей и других второстепенных глав феодальной системы. Жозефом де Местром
вполне оценено мировое значение, какое в создании политического строя не той или другой нации или расы, но всего передового человечества, имело духовное господство папы над всем христианским миром и его независимость от светских владык. Конт настолько проникся уважением к известному трактату де Местра о «Папе», что в его переписке не раз заходит речь о том, как при оценке тех или других современных ему воззрений он охотно выбирал критерием отношение их авторов к политической схеме де Местра. О Конте не раз было высказываемо то мнение, что созданная им в старости религия человечества, с ее обнимающей весь западный мир церковной организацией и даже с зародышами культа, есть не более как лишенный догматов католицизм. Такое заявление справедливо только в том смысле, что и в период господства научной философии Конт не представляет себе возможности прочного политического порядка без того, чтобы руководительство не было разделено между светской и духовной властью. Последняя должна давать такое же направление умам и сердцам людей, какое их поступкам дает светское правительство. Руководительство духовное вверяется не специалистам в науке, а людям, стоящим на высоте научного понимания, людям, способным обнять цепь тех законов, к которым сводится вся сумма положительного знания, способным в то же время преследовать осуществление нравственных идеалов, возникших на почве этого знания и отвечающих задачам порядка и поступательного хода обществ. Во главе всех этих лиц стоит один человек, воплощающий в себе всю сумму этих научных и нравственных запросов и соответствующих им решений, из которых и слагается позитивная доктрина. Это место Конт сохранял за собою, как веками ранее автор «Солнечного града» Кампанелла в своих руках думал сосредоточить все духовное управление если не миром, то создаваемой им республикой в Абруццах. Можно не соглашаться с необходимостью такого светского папства и в то же время признавать правильность исходной мысли, на которой оно построено.
Мысль эта сводится к тому, что научное знание в своем поступательном ходе следует известному порядку. Новые открытия и изобретения примыкают к прежним и обусловливаются ими. Выражаясь словами Тарда, следует сказать, что для каждого из них необходима встреча в уме, способном к обобщениям двух или нескольких уже установленных истин, а если так, то можно судить, какая потеря времени происходит оттого, что каждый ученый специалист ищет сам своей дороги и, не познакомившись с теми выводами, на которых
остановился рост смежных с его специальностью наук, пускается в те или другие исследования, подсказываемые ему его фантазией.
Последствием такого порядка является то, что Конт разумел под названием «умственной анархии»; чтобы положить конец ей, он желал бы общего руководительства во имя той научной философии, которой он выступил последним по времени и наиболее полным систематизатором. Но анархия, овладевшая умами, сказывается в области не одних так называемых точных наук; она выступает еще с большей силой в неорганизованном до Конта обществоведении. Здесь несдерживаемый полет индивидуальной фантазии грозит не одной теоретической ошибкой, но и общественными бедствиями, временной простановкой поступательного движения.
Такой исход неизбежен в том случае, когда индивидуальная доктрина, построенная на недостаточных наблюдениях и страдающая отсутствием дедуктивной проверки, отправляющейся от анализа человеческой природы, теми или другими своими сторонами настолько овладевает массами, что становится для них знаменем борьбы. Ввиду возможности ежечасного наступления такой опасности, руководительство в области обществоведения казалось Конту еще более существенным, чем в сфере наук, занимающихся изучением природы и жизни. Прошло три четверти столетия с того времени, когда впервые высказаны были эти мысли, и они доселе не потеряли своего значения. Каждый из нас на собственном опыте мог убедиться в том, как часто несовершенны и бесплодны являются научные исследования, предпринимаемые врассыпную. Успех всех тех работ, которые производятся во всякого рода профессорских семинариях, лабораториях, клиниках и т. д., несомненно зависит главным образом от общего руководительства ими со стороны человека с более или менее широким умственным кругозором, обусловленным в свою очередь энциклопедизмом его знаний. Эти свойства не позволяют ему ставить своим ученикам задачи, которые в данный момент являются еще неразрешимыми, а только те, которые поставлены на очередь всем предшествующим ходом наук. Задачи цепляются за задачи, разъясняя все более и более всесторонне различные второстепенные законы, необходимо вытекающие из суммы ранее установленных. Кому неизвестно, что раз сделанное открытие в той или другой области знания привлекает к ней ряд работников, очевидно руководствующихся той мыслью, что в тесной связи с недавно открытым законом должны стоять многие, еще невыясненные истины. Как устроить то руководительство, о котором
мечтал Конт,— это другой вопрос. Жизнь указывает на решение, несколько отличное от предложенного им, выдвигая роль ученых обществ и академий, а рядом с ними журналов и газет, в создании научных течений и так называемого общественного мнения; несомненным остается только одно, что такое руководительство умами представляет своего рода власть, и что эта власть отлична от той, какую принимает на себя правительство. Те или другие вопросы текущей политики решаются в одних странах компромиссом интересов, в других — волею правителя, но и там, и здесь их нельзя признать выражением истины, а только средством, придуманным для того, чтобы удовлетворить запросу возможно большего числа жителей, их чувствам и желаниям. Самые же эти чувства и желания воспитываются под влиянием той проповеди научных истин и их практических приложений, которая выпадает в удел духовному руководительству людей. В обособлении светской и духовной власти, как необходимом условии поступательного хода обществ, лежит таким образом глубокая истина; она может быть доказываема и a contrario ссылкой на те порядки, какие существуют всюду, где мы встречаемся с цезаризмом в церкви, или с теократией. Стоит вспомнить судьбу Галилея, принужденного отречься в интересах самосохранения от открытого им закона вращения Земли вокруг Солнца и то систематическое преследование демократических доктрин в области церковного и политического устройства, которое составляет печальную сторону возникшего вместе с абсолютизмом Тюдоров англиканства. Но нужно ли настаивать на этой мысли нам, русским, испытавшим на себе самих все невыгодные последствия слияния православия с самодержавием.
При построении социологии Конт только намечает то направление, в каком должно совершиться в его глазах дальнейшее развитие политической власти. Оно сказывается прежде всего в уже упомянутом обособлении духовного и светского правительства, в организации первого по образцу, близкому к средневековой церкви, а второго по типу республиканской диктатуры. Конт — противник конституционной монархии, которая кажется ему поворотом к прошлому. Монархии, говорит он, настоящей у нас, французов, не было со времен революции. Английский образец, которому следовала в большей или меньшей степени в его время вся Европа, ненавистен ему, как попытка привлечь к власти два отживающих элемента — монархию и феодальную аристократию, т.е. дворянство. Он настолько является последователем Сен-Симона, что не считает
возможным вверить интересы народа в другие руки, помимо народного же избранника — диктатора, но он в то же время слишком склонен видеть в политике применение законов социологии, чтобы признать за большинством самой даже народной камеры в мире право установлять нормы, регулирующие общественный и политический строй государства.
Очень многое для характеристики политического идеала Конта дает, наряду с его позднейшими трудами, и частная переписка с некоторыми последователями доктрины позитивизма. Насколько позволяет это общая задача настоящего очерка, я позволю себе использовать эту переписку с целью более точно определить то применение, какое Конт имел в виду сделать из своей доктрины к решению современных ему вопросов политики. Перед нами лежат письма Конта к разным лицам, более или менее готовым признать его духовное руководительство. 22 ноября 1849 года он пишет депутату Виельяру: «Мы — два старых республиканца, одинаково чуждые личному честолюбию и озабоченные тем, чтобы направить революцию к тому возрождению общества, которое является единственно желательным для нее исходом. Вы не менее меня понимаете, какое значение имеет серьезная формация народного рассудка, которая одна может предохранить массы от влияния фокусников и утопистов. Еще в январе 1831 года вы присутствовали при открытии мною свободного курса научной философии. Вы знаете, что еще тогда я приглашал руководящие классы общества воспользоваться тем временным перерывом, какой после революции 30 августа обнаружился в быстром чередовании пароксизмов революционной горячки. Я говорил им, что, поощряя здравое воспитание пролетариев и содействуя распространению духа положительной философии в области политики, они могут умерить и сократить продолжительность этих пароксизмов. Если бы моими советами пренебрегли в меньшей степени, современное положение не было бы столь трудным. В настоящую минуту мы находимся в тех же условиях, что и в <18>31 году, но положение значительно серьезнее. Благодаря бесповоротному упрочению республики, народ наш получил легальное признание принципа, к которому в то время он только стремился. Этот принцип заставляет служить все общественные силы общей пользе и прежде всего пользе массы пролетариев. Современное противоречие между этим нравственным началом и политическим поведением не может быть продолжительным. В противном случае установленный принцип уступил бы
место попятному движению в пользу монархии, что мне кажется практически неосуществимым и неспособным повести за собою других последствий, кроме новых и еще более сильных пертурбаций. Необходимо поэтому вывести ближайшим образом все последствия из раз установленного начала, вывести их по крайней мере настолько, насколько дозволяет это нынешняя умственная и нравственная анархия. Вы не можете отрицать, что современные республиканские порядки обнаруживают сильную тенденцию в сторону социальной революции. Она может протечь бурно или спокойно, в зависимости от того, каким образом будет подготовлена и направлена. Всякий истинно государственный человек, руководимый здравой исторической теорией,— теорией, указывающей ему, в каком порядке должны чередоваться события, необходимо станет стремиться к тому, чтобы умерить по возможности предстоящее столкновение, а для этого ему надо препятствовать успеху разрушительных утопий и опровергнуть их. С этой точки зрения я громко выставляю требование не только терпимости, но и должного уважения, а также полезного поощрения моему философскому жречеству, польза которого уже доказана опытом,— жречеству, которое я один могу нести. Посвящая себя трудной задаче поддержания материального порядка, светская власть поставлена в необходимость оставлять без внимания умственную и нравственную неурядицу, против которой она бессильна, тем более, что многие основные принципы, лежащие в основе этой неурядицы, возведены на степень революционных догматов и, как таковые, открыто признаются правительствами. В этом фальшивом положении власть должна бы радоваться тому, что испытанный философ готов открыто сделать попытку дисциплинировать наиболее мятежные умы и сердца, не делая им никакой анархической уступки. Вам известно, что таков был всегда смысл и таковы результаты моих продолжительных усилий. Представители официальной науки не могут напасть на революционное течение, не обнаружив своего собственного бессилия, так как они готовы остановить его с помощью тех богословских основ, упадок которых и сделался первоисточником современного кризиса. Наоборот, позитивизм обращается только к умам, совершенно освободившимся от всякой веры в сверхчувственное, к умам, эмансипация которых вызывает представление об их неспособности подчиняться какой бы то ни было дисциплине. Этим-то умам “социологическая” религия, т. е. религия человечества, одна способна доставить здравые общественные представления о порядке, собственности и семье, дать
им по всем этим вопросам более прочные решения, чем те, какие установлены были откровенными религиями. Против знамени уравнителей или нивелляторов мы одни в состоянии выставить знамя строителей. Ни один из мнимых консерваторов не может логически и с успехом опровергнуть разрушительных утопий, не прибегая к содействию материальной репрессии, которая может только усилить нравственное расстройство»30.
Еще ранее, 18 дек. 1848 года, Конт пишет г. Де Тулуз, судье в Либурне: «Я убежден, что позитивизм не замедлит быть призван на помощь порядку, как единственная доктрина, способная выдержать грозный натиск всемирной анархии, которая все более и более сказывается в нашей среде»31.
В другом письме к тому же Тулузу от 31 марта 1899 года Конт более определенно излагает основные положения своей политической доктрины. «Правительственная деятельность,— говорит он,— слагается из двух комбинированных усилий: одно толкает вперед, другое задерживает. Буржуазия, думающая управлять, в действительности только задерживает; толкает вперед и руководит движением, хотя беспорядочно, один народ; когда он действительно чего-нибудь хочет, ему уступают охотно, раз он берется обеспечить порядок. Мы не получим настоящего правительства до тех пор, пока этот натиск народа не станет явлением преобладающим и систематичным. До тех пор мы принуждены будем довольствоваться бесплодною и некрасивою борьбою партий.
Монархия как неограниченная, так и конституционная навсегда погибли. Последняя — этот иноземный придаток к нашим старым порядкам, после трех неудачных попыток, может считаться навсегда осужденной. Это не значит, однако, чтобы центральная власть не могла быть монократической и пожизненной. Такую форму ее я считаю возможной под условием, чтобы она придерживалась действительно народного направления и чтобы дух ее был прогрессивен. Всякое же реакционное единовластие немыслимо и способно только вызвать страшные беспорядки, оправдывая всякие анархические движения. Вместо того, чтобы удивляться наступлению республики в прошлом году, мы должны были бы с исторической точки зрения недоумевать, как она не установилась раньше. Ведь она была в сфере возможностей еще в 1830 году, как я имел случай говорить об этом
30 См.: Correspondence inedite d’Auguste Comte, Ш-me serie. 1904, page 171 et. suiv.
3> Ibid., p. 62.
в то время; но тогда она была эксплуатирована вожаками буржуазии ввиду тех анархических опасений, какие вызывали в обществе ее сторонники». Прежде народ, по словам Конта, только помогал буржуазии в ниспровержении издавна установившейся власти; теперь, и особенно с июльских дней, он весьма определенно высказывает решимость взять на себя руководительство творческой, Конт говорит, положительной стороной революции и вести ее в собственных интересах. Буржуазии предстоит дать свою санкцию такой политике, раз она в состоянии будет примирить порядок с прогрессом; ведь все предположенные буржуазией решения окончательно признаны несостоятельными. Конт считает анахронизмом восстановление Империи и думает о создании в ближайшем будущем республиканской диктатуры в форме триумвирата32. Позднее, 17 сентября 1849 года, Конт, отвечая на письмо Тулуза, не скрывает того, что обе революции, <18>30 и <18>48 годов, «не отвечавшие,— пишет он,— его запросам, ни умственным, ни сердечным, нашли в нем, старом республиканце, только готовность признать их, но не содействовать прямо их успеху; но приближается, пишет он, новая революция, которая примет положительный характер и позволит установить окончательный порядок устройства человечества. Коммунизм,— пишет он, продолжая развивать ту же мысль,— подавлен в центре западного мира; его лучшие представители перебрались в Америку и там кристаллизировались (намек на Кабэ с его “Икарией”); но незаметная реакция, произведенная коммунизмом на старинную республиканскую доктрину, обратила ее в социализм, который у пролетариев, его истинных представителей, является положительной интерпретацией республиканского принципа, — принципа, требующего, чтобы наши силы шли на служение человечеству. Этой тенденции, доселе не имеющей настоящего направления и потому пертурбационной, необходима определенная доктрина; при этом условии она возродит все человечество; но такой именно доктриной и является позитивизм. Он в настоящее время может быть назван систематизированным социализмом. Если б не эмпиризм и себялюбие правящих классов, предстоящая революция во Франции по крайней мере могла бы быть мирной; но при их наличности дело не обойдется без новых и тяжких потрясений33. Конт все яснее и яснее сознает бездну, отделяющую его понимание задач будущей революции
32 Ibid., р. 73 et suiv.
33 Ibid, р. 83-85.
от того, какому следуют крайние партии, эти, как он говорит, презренные анархисты (miserables anarchistes). Под именем “красных” они являются важнейшим препятствием к поступательному ходу Запада, и одни дают некоторое оправдание ретроградам»34.
В «Курсе положительной политики», прочитанном Контом в течение зимы 1850-1851 годов, особое место отведено развитию той мысли, что порядок останется реакционным, пока прогресс не порвет с анархией. «Аудитория,— пишет Конт,— прониклась убеждением, что не настанет прочного порядка, пока его создание не будет поручено позитивистам, которые одни решаются высказываться открыто против анархических догматов во имя самой революции». Я, пишет Конт, охарактеризовал народное самодержавие словами «восстание живых против мертвых», равенство признано мною безнравственной ложью, а всеобщее голосование — общественной болезнью. Все эти слова встречены были дружными аплодисментами 200 или 300 революционеров, которые ни от кого бы не потерпели подобных выражений, кроме меня. 10 лет я предсказываю, что позитивизм будет призван к защите порядка, и мое пророчество начинает сбываться35. Как рисует себе Конт условия, при которых революционная диктатура могла бы послужить к упрочению порядка, выступает из его письма к Тулузу от 9 авг. 1851 года.
В длинном ряде эмпирических попыток упрочить революционное правительство он находит только одну, отвечающую его идеалам. Это — революционное правительство Конвента, созданное Дантоном и выродившееся под влиянием Робеспьера и его попытки вернуть человечество к культу верховного существа. «Еще в 1830 году,— говорит Конт,— я заявлял, что порядок не будет установлен прочно во Франции, пока правительство не перейдет в руки пролетариев»36.
Под анархическими теориями, с которыми Конт считает необходимым сразиться, он разумеет прежде всего прудоновский индивидуализм, как это ясно следует из одного места его письма к Тулузу от 26 авг. 1852 года: «Человечество,— пишет он,— это всемирная родина, призванная объединить по крайней мере в будущем всех обитателей нашей планеты. Это — совокупность всех способных к ассимиляции, всех, как живущих поколений, так и сошедших
з4 Письмо от 22 апреля 1851 г., с. 100.
35 Ibid., с. 101, письмо от 22 апр. 1851 г.
зб Ibid., с. 107-108.
со сцены, так наконец и грядущих; к нему не принадлежат разве Нероны, Робеспьеры и Бонапарты, — одним словом, все те, кто нарушает своими действиями человеческую гармонию; индивид сам по себе не существует, представляя только абстракцию, правда, необходимую. Если бы вы имели случай заняться размышлениями биологического характера, вам немудрено было бы убедиться, что то же выступает во всем животном царстве, особенно же на высших его ступенях, где биологическую единицу составляет порода, а не индивид; последний же только часть, реально неразлучная с породой и непонятная без нее. Да и среди людей существование семьи, как социальной ячейки, свидетельствует о том же. Во всех аристократических родах, в которых более, чем в других, удержалось почитание предков, всякий привыкает сердцем и умом относиться к домашней среде в ее прошлом и будущем, как к единице, очевидно лишенной всякой искусственности. Человечество является такой всемирной семьею; оно стало бы ею, если бы люди были в достаточной степени братьями, но этого нет еще в действительности; вот почему отечество пока наполняет собой тот громадный интервал, который иначе остался бы незанятым между этими двумя крайними группами к немалому ущербу для нашего сердца и ума. Основу современной анархии составляет отрицание этих социальных кругов, как реальных организмов. Ни у кого этот индивидуализм не выступает с большей силой, как у Прудона, “которого и надо считать воплощением современной анархии’’»37.
В «Субъективном катехизисе» Конт, прилагая свою доктрину к оценке современных ему событий и направляя ее как против парламентского порядка, как не только антифранцузского, но и антиев-ропейского, так и против всяких попыток восстановления империи в лице Бонапарта (или будущего императора Наполеона III), желал бы видеть снова республиканскую диктатуру в руках такого республиканца, как Кавеньяк. При ней избирательная камера не имела бы даже законодательных функций, а одно лишь право вотирования бюджета. «Ведь это единственная служба, которая действительно подобает ей в нашей.республике)»,— восклицает он38. Можно судить, насколько установление второй империи с ее явно ретроградным направлением обмануло ожидания Конта. Для него это — непоправимая ошибка, так как империя стремится приблизиться к монархии, сделавшейся
37 Ibid., письмо от 26 авг. 1852 г., с. 115.
38 Ibid., с. 119.
символом попятного движения. «За последние 60 лет,— говорит Конт,— мы в действительности всегда были республикой, какое бы имя ни носил правитель, и какие бы официальные галлюцинации его имя ни вызывало. Сделав опыт республиканской диктатуры, Наполеон III не должен был повернуть в сторону монархии». Для его императорской власти Конт не знает другого имени, как «ма-мамушизм»; слово это заимствовано им из известной комедии Мольера. Он объясняет себе, однако, успех нового, как он выражается, 18 Брюмера, т.е. декабрьского переворота, тем страхом, какой напустили красные, убедив всех своим поведением, что республика, обеспечивая прогресс, колеблет порядок. Только тогда, когда у пролетариев явится определенная и отвечающая требованиям порядка программа, а вместе с тем и люди, способные достойным образом взять на себя руководительство ими,— только тогда можно будет думать о действительном упрочении республики во Франции. Пока же это не воспоследует, Конт считает преждевременными всякие попытки создать ее за пределами Франции, между прочим в Италии; всякое несвоевременное ее провозглашение было бы рутинным и детским подражанием, способным только воспрепятствовать возрождению европейского Запада39.
Уверенность в том, что, вопреки упрочению империи, торжество руководимой позитивистами органической революции не за горами, заставляет Конта в обращении к другому из своих корреспондентов, Де Лин, банкиру в Эперне, писать в 1853 году, что раньше конца этого года он предвидит новый насильственный кризис, который перенесет диктатуру в руки Кавеньяка и позволит позитивистам принять руководительство республикой; «красные,— пишет он по этому случаю,— та из современных партий, которая всего более заслуживает презрения и ненависти; они ничего не выиграют от этого нового кризиса, а, наоборот, будут им дискредитированы, благодаря дурному употреблению, какое они сделают из дарованной им амнистии; спустя несколько месяцев новый диктатор отошлет этих неизлечимо больных в Лондон и Брюссель, и тогда-то для позитивизма явится возможность дать генеральное сражение коммунизму. Ему нечего опасаться представителей этих доктрин в городах, так как лучшие из их руководителей (Конт имеет в виду Барбеса) не прочь подчиниться влиянию проповеди позитивизма. Более опасны коммунисты сельские, которые не думают ни о чем
39 См. письмо к Benedetto Profumo от 8 авг. 1851 г.
другом, как о все новых и новых переделах, тогда как рабочие, наоборот, видят необходимость концентрации капитала. Сельские коммунисты несомненно подпадут под руководительство худших из всех интеллигентов, сельских учителей, более враждебных позитивизму, чем приходские священники. Но противодействие сел только доставит позитивизму новую возможность подчеркнуть свою роль защитника порядка, семьи и собственности, которых никто, кроме его, не в состоянии охранить от тех разрушительных софизмов, против которых бессильна сама католическая проповедь»40. Еще позднее, когда, по-видимому, не оставалось никакого сомнения в том, что империя пустит корни во Франции, Конт продолжает лелеять уверенность в наступающем торжестве позитивной политики. «Мы скоро будем,— пишет он,— единственными истинными республиканцами, готовыми ниспровергнуть, не противореча нашим принципам, то позорное исчадие народного верховенства, каким является Империя» 41.
Но по мере того, как осуществление его надежд все более и более отодвигаемо было в отдаленное будущее, Конт пристращался к полемике с партиями, враждебными сохранению общественного порядка. Отсюда несомненный консерватизм, какой стала приобретать его доктрина, отсюда частые его призывы ко всем истинным консерваторам, принявшие в 1855 году, форму особого воззвания к ним42, отсюда же посылка им его «Положительной политики» тому, кого он считал главою охраняющей порядок светской власти, императору Николаю I. Из переписки Конта следует, что он ждал и не дождался его ответа. Надо сказать, однако, что с этим последним актом в биографии Конта, совпадает и посылка им письма Барбесу — одному из глав французского коммунизма, готовому, как казалось автору «Положительной философии», принять основные догматы его доктрины. Конт таким образом продолжал служить по-прежнему своей излюбленной мысли примирения порядка с прогрессом, проповедуя консерваторам необходимость стать во главе поступательного хода общества, а революционерам — порвать с односторонним преследованием задач разрушения всего существующего строя и приступить к положительной работе в духе позитивизма. Мы не будем останавливаться на дальнейшей характеристике политических взглядов
40 Correspondance inedite d’Anguste Comte, premiere serie, p. 241-243.
« Ibid., p. 246-247.
42 Cm.: Appel aux conservateurs par le fondateur du Positivisme. Paris, aout, 1855.
Конта в последний период его жизни. Нам необходимо было только указать на ту тенденцию, в какой продолжала развиваться его мысль, чтобы для читателя стало ясно, к каким последствиям должно было повесть на практике то учение о примирении порядка с прогрессом, от которого Конт отправляется в своем «Курсе положительной философии» при определении самой природы явлений, подлежащих изучению социологии.
Критикуя в 40-й лекции своего «Курса» метафизические учения в области политики и считая их систематическим препятствием ко всякой действительной реорганизации общества43, Конт останавливается между прочим на разборе основных положений той доктрины, которая со времен Руссо пользуется почти безграничным признанием,— доктрины народного самодержавия. Это учение, как я старался показать в другом месте, еще задолго до революции было приведено в искусственное соотношение с учением о естественных, т. е. прирожденных, правах человека на свободу самоопределения — учение, источник которого можно возвесть к английским уравнителям XVII века и которое нашло в философии Локка своего представителя задолго до появления «Декларации прав человека и гражданина». Конт старается провесть тот взгляд, что общественный порядок немыслим в том случае, если каждому будет предоставлено право возбуждать ежедневно вопрос о самых основах общежития, и что поэтому безграничная терпимость, или, иначе, безграничная свобода совести, недопустима. Такое положение стоит в прямой связи с той мыслью, на которой построено все здание социологии, как науки о законах, управляющих общежитием. Если такие законы существуют, то по отношению к ним так же мало мыслима свобода выбора, как и по отношению к законам физики, химии или биологии, Конт поэтому относится сочувственно к тому принципу католической церкви, который гласит: в существенных вопросах — единство взглядов, в несущественных и спорных — свобода44. Другой политический догмат, подвергаемый им сомнению, это вера в прирожденное равенство людей. Конт доказывает, что люди вправе только требовать равного уважения к их человеческому достоинству, но что равенства физических и психических свойств не существует в действительности. Нельзя поэтому признать за всеми людьми равных прав, за исключением
43 Philosophic positive, v. IV, р. 53.
44 In necessariis — unitas in dubiis — libertas.
одного — свободного развития личной деятельности, но под чужим руководительством. Общественный прогресс вместо того, чтобы приближать нас к этому химерическому равенству, только развивает те основные различия45, какие представляют наши умственные и нравственные способности.
Отрицанию Конт подвергает и догмат народного суверенитета, который для него является последствием перенесения принципа свободы совести из сферы интеллектуальной в сферу политическую. Как критерий несостоятельности старого порядка, опирающегося на признании божеского источника власти, учение о народном суверенитете, несомненно, оказало существенную услугу. Содействуя падению старого порядка, оно в то же время сделало возможными ряд политических опытов, которые в противном случае были бы немыслимы. Но никакой прочный общественный порядок не может установиться при допущении, что народная воля всегда права, тогда как существуют в действительности незыблемые законы общественности.
Не допускает Конт и учения о естественном состоянии, не только как о предшествующем во времени государственному, но и как о таком, которое должно считаться заключающим в себе нормальные условия всякого общественного порядка; в противность Руссо он думает, что поворот к естественному состоянию был бы равносилен попятному движению, и верно указывает самый источник учения о первоначальном счастье людей в естественном состоянии в богословском учении о рае и первоначальном грехе.
И естественная религия не находит защиты в глазах Конта, хотя бы уже потому, что кладет в основу общественного порядка богословский принцип. Таким образом Конт постепенно приходит к тому общему выводу, что революционная доктрина не отвечает научному пониманию природы человека и общества и враждебна соглашению порядка с прогрессом. Последствием ее торжества было бы продолжение той умственной анархии, от которой страдает современное человечество46.
Мы не будем долее останавливаться на политических воззрениях Конта и на критике им господствовавшей в его время революционной доктрины. Сказанного на этот счет вполне достаточно для нашей цели. Оно позволяет читателю понять причину, по которой при изображении будущего человечества Конт рисует себе порядки, резко
45 Cours de philosophic positive, v. IV, p. 55-64.
46 Ibid.,дос. 116.
отличные от тех, при которых народы более или менее свободны от всякого руководительства и роль государства сведена к одному обеспечению безопасности и правосудия, а церковь является добровольным и легко расторгаемым союзом последователей того или другого вероисповедания. Наоборот, Конт желает усиления правительственной власти, одинаково духовной и светской, как той, которая дает направление научному мышлению и заботится о согласии частного поведения с требованиями общественного благополучия, к чему в конце концов и сводится положительная нравственность, так и той, которая заведует материальными интересами общества. Воздерживаясь еще от тех построений, к каким он обратится в своем трактате «О Позитивной Политике», довольствуясь поэтому указанием одной лишь общей тенденции, в которой должна происходить ближайшая эволюция человечества, Конт в одной из последних глав своего «Курса положительной философии» следующим образом резюмирует свою общую точку зрения: «Ход событий за последние полвека показывает, что требования порядка и свободы не могут найти осуществления себе иначе, как под условием истинного переустройства общества, а между тем общий ход политики по-прежнему сбивается то в сторону революции, то в сторону реакции. С одной стороны, не представляют себе порядка иначе, как по старому правительственному типу, а с другой — анархическая тенденция довольствуется чисто отрицательною стороною прогресса; факты же убеждают в бессилии обеих тенденций. Светская диктатура старого порядка, пришедшая в упадок благодаря разложению центральной власти, признает себя неспособной руководить переустройством духовного правительства и довольствуется одним охранением материального порядка; что же касается до руководительства умственного и нравственного, то оно вверено конкурирующим между собою философским течениям. Новые общественные силы, развиваясь разрозненно друг от друга, указывают на необходимость общей координации. Положение промышленности делает со дня на день более необходимым установление гармонии интересов между предпринимателями и рабочими, а между тем свободная конкуренция оказалась бессильной обеспечить подобную гармонию». Так передает последователь Конта — Риголаж — то, что в «Курсе положительной философии», и в частности в лекции 57, текст которой восходит к 1842 году, Конт счел нужным сказать об общем направлении, какое примет в ближайшем будущем реорганизация правительственной власти. В «Положительной политике» и осо
бенно во второй ее части те же вопросы подвергнуты будут Контом новому рассмотрению. Опека над умами и над частными хотениями, которая уже наглядно сказывается в «Курсе положительной философии», на этот раз выступит еще более резко и решительно. В «Курсе положительной философии» Конт говорил только о том, что предстоит создать две власти: духовную и светскую, дабы снова подчинить политику нравственности. Духовная власть должна принадлежать философам-социологам, а светская - - тем, кто руководит промышленностью; первые призваны давать советы, освещать, регулировать, классифицировать, судить; вторые должны заботиться о материальных интересах общества и осуществляют власть политическую в тесном смысле слова; им должна принадлежать инициатива и начальствование. В «Положительной политике» Конт идет несравненно далее: философы-социологи становятся у него священниками нового культа; они наблюдают за частным поведением людей, устанавливают контроль за чтениями и даже за проводимыми в разговорах мыслями; что касается до светской власти, то во главе ее Конт ставит предпринимателей; они сосредоточивают в своих руках богатство, они — современные патриции; но положительная политика, руководствуясь законами социологии, смотрит на богатство, не как на личное достояние, а как на достояние общественное столько же в его источнике, сколько и по назначению. Ведь капитал — результат коллективных усилий, как живущих, так и умерших; соответственно этому и обладание им, т. е. собственность, является общественной функцией; из этого следует, что собственник не может присваивать себе абсолютного права на вещи; он не более как приставленный к их управлению агент,— агент, уполномоченный всем человечеством заведовать частью общего достояния. Его обязанность — дать этой части назначение, наиболее выгодное для всех; но это обстоятельство не лишает его права завещать имущество, назначать себе наследника по усмотрению, как в собственной семье, так и вне ее. Выбор начальствующих не может быть предоставлен подчиненным. Из тех элементов, которые входят в состав светской организации,— из земледельцев, рабочих, торговцев, промышленников, банкиров — последние преимущественно пред всеми прочими призываются к отправлению светской власти. Что касается до рабочих, то и они призваны смотреть впредь на себя, как на несущих общественную функцию и получающих в форме заработной платы вознаграждение за свои усилия. Человечество в схеме Конта должно распасться на ряд мелких государств, не превышающих своими
размерами Швейцарии или Бельгии. Одна только мужская половина его работает вне домашнего очага; что же касается до женщин, то они призваны посвящать себя всецело семейным заботам. Политическая организация, предлагаемая Контом, призывает каждого к исполнению роли полезной для всего общества.
Девизом всех должна быть «жизнь для других». Свою схему наилучшего устройства человечества Конт называет социократией47.
В переписке Конта более выпукло выступает его точка зрения на нормальные условия труда. Ввиду этого я считаю нужным сделать из нее несколько выдержек. Отвечая на запросы лиц, примкнувших к церкви позитивистов, Конт не раз высказывает ту точку зрения, что рабочие не должны стремиться перейти в ряды предпринимателей; им необходимо иметь в виду, что они сами отправляют полезную общественную функцию. В переписке с Пьером Лафитом, профессором математики и впоследствии прямым продолжателем его доктрины, переписке, которая открывается <18>49 годом и заканчивается <18>57 годом, Конт прямо говорит: «Надо весьма настаивать на том, чтобы пролетарии сознательно стремились остаться таковыми, но им должен быть обеспечен известный достаток; за ними надо признать право собственности на жилице и домашнюю утварь, без чего невозможен переход их от бродячего состояния к состоянию прочной оседлости (очевидно, при фабрике или заводе). В настоящее время такое материальное обеспечение имеют только сельские труженики; но к нему вправе стремиться и городское; их желание может найти удовлетворение при дроблении городской собственности. Как с материальной, так и с нравственной точки зрения одинаково важно, чтобы рабочие могли иметь постоянное жилище, а не зависели от каприза домовладельцев! В наше же время наиболее почтенная и наиболее многочисленная часть городского населения живет точно в лагерях; достаточно уговора между домовладельцами, чтобы, не. нарушая даже закона, поставить ее в необходимость покинуть свое местопребывание» 48.
Конт разделяет далее ту точку зрения, что убытки, вытекающие от всякой остановки в производстве, должны падать не на пролетариев, а на предпринимателей. С этою целью он различает в заработной плате две части: одна служит к обеспечению самого существования
47 См. передачу основных положений Контовой политики у Alengry «Essai historique et critique sur la sociologie chez Auguste Comte», c. 296-299.
48 T. II «Переписки», c. 31-40. •
рабочего, другая является вознаграждением за осуществленную им работу; первую следует платить и в случае приостановки занятий, раз она не воспоследовала по вине самого рабочего, а также и в случае его болезни; обязательство продолжается по срок рабочего договора49.
Таким образом Конт, можно сказать, сторонник того же принципа, на котором построено обязательное страхование рабочих насчет предпринимателей; он высказывается также в пользу более позднего, чем ныне, вступления рабочих в брак, что позволило бы им накопить необходимый достаток для устройства будущих семей. «Жрецы религии человечества,— пишет он,— не согласятся заключать браков между людьми, не достигшими 28-летнего возраста. При таком условии рабочий будет иметь в своем распоряжении по крайней мере 10 лет производительного труда для приобретения не только необходимой технической сноровки, но и усадьбы с утварью» 50. «Самый размер вознаграждения, получаемого им, должен быть таков, чтобы обеспечить существование не ему одному, но и его семье»51. Конт возлагает надежду на то, что духовное и светское начальство своими советами и назиданиями сумеет воздержать рабочего от всякой попытки выйти из своего состояния и сделаться в свою очередь предпринимателем, жертвуя для этого возможностью основать собственный очаг и откладывая на неопределенное время момент заключения брака. Для Конта главное — обеспечить рабочему счастье семейной жизни, а это возможно только под двумя условиями: во-первых, уже указанного нами приобретения им постоянного жилища, а во-вторых, при освобождении его жены и детей от необходимости зарабатывать пропитание трудом на фабриках и заводах. Можно сказать, что в системе Конта уже лежит корень того законодательства о защите женского и детского труда, развитие которого совпадает со второй половиной протекшего столетия. Обеспечив таким образом труженику домашнее довольство, Конт рассчитывает вместе с тем содействовать и подъему половой нравственности, подвергающейся стольким опасностям, пока на фабриках и заводах будут работать молодые девушки и женщины. В письме к одному сельскому хозяину в департаменте Алье, Адери, сделавшемуся членом общества позитивистов, Конт указывает на то, что одним из способов разрешения так называемого ныне
49 Ibid., с. 44.
so С. 46.
si С. 50.
социального вопроса является подъем нравственности в среде как пролетариев, так и предпринимателей. «Необходимо,— говорит он,— облагородить труд и морализировать богатство. До тех пор пока пролетарии будут стремиться к праздности и наслаждениям, какие обеспечивает богатство и в которых они справедливо обвиняют предпринимателей, не может быть и речи об устранении всякого дальнейшего конфликта труда с капиталом. Точно так же не возможно соглашение между обоими, пока предприниматели не будут считать себя призванными к пользованию богатством в интересах всего общества и не станут смотреть на себя, как на исполнителей общественной функции»52. Возвращение женщины в семью настолько входит в общий план той реформы общественных отношений, о которой мечтает Конт, что ею в значительной степени объясняется и отрицательное отношение его к эмансипационному движению, к тому уравнению обоих полов, к которому одновременно стремился Джон Стюарт Милль, т. е. тот из английских мыслителей, который отнесся к позитивизму с наибольшим сочувствием и в своей «Логике» представил систему его методологических приемов в области общественных наук. В переписке Милля с Контом, впервые отпечатанной в полном объеме Леви-Брюлем т. е. вместе с ответами Милля, весьма определенно высказаны те мотивы, по которым Конт отказывал женщинам в одинаковой с мужчинами роли в общественной жизни. Они лежат не в одном лишь факте меньшего объема головного мозга женщин, но прежде всего в нежелании вводить их в ту борьбу интересов, к которой сводится система экономической и общественной конкуренции. Я не имею возможности останавливаться подробно на этой стороне воззрений Конта, как не стоящей в ближайшем отношении с преследуемой мною задачей — дать историю возникновения социологии, но мне необходимо было указать на нее мельком ввиду ее тесной связи с самой постановкой вопроса о средствах, какими Конт считал возможным достигнуть общественной реформы и восстановить гармонию между трудом и капиталом, между бедными и богатыми.
На основании всего сказанного мне кажется возможно заключить, что в своем понимании условий политического и тесно связанного с ним социального развития человечества Конт стоял на высоте современного ему исторического знания и политического опыта ближайших десятилетий. В его письмах, как и в сочинениях, отво
52 Письмо от 9 мая 1851 г. к Надери, т. II, с. 205-206.
дится не мало места истолкованию как действительного характера французской революции, так и дальнейшего ее хода в первой половине XIX столетия,— хода, который он считает незавершенным и который, в его глазах, необходимо должен привесть к торжеству позитивизма. Особенного внимания заслуживает в этом отношении следующее место из его писем к Папо, члену общества позитивистов. Ввиду декабрьского переворота, поведшего к провозглашению империи, этой непростительной в его глазах ошибки, Конт признает нужным напомнить, что законы, управляющие поступательным ходом человечества, не подлежат отмене благодаря капризам судьбы53.
Он верит поэтому, что то республиканское движение, начало которого было положено 10 августа 1792 года, необходимо будет продолжено и приведет в ближайшем будущем к упрочению величайшего из завоеваний революции — республики. «Я предвижу,— пишет он в обращении к другому из своих корреспондентов, к де Лину, банкиру в Эпернэ,— что ранее конца 1853 года настанет новый и последний насильственный кризис, который отнимет власть у Наполеона и передаст республиканскую диктатуру Кавеньяку. Произойдет это после столкновения между республиканской частью войска и империалистской, причем на сторону первой станет парижский пролетариат». Конт надеется, что Франция обойдется без необходимости создать промежуточную стадию парламентаризма и прямо перейдет к республиканской диктатуре. При этом он не скрывает своей готовности и в настоящее время ограничить функцию избираемой палаты одним составлением бюджета. Такое предложение сделано было им еще в 1847 году, и он жалеет о том, что империя не нанесла этого решительного удара порядкам конституционной монархии, отнявши у палаты законодательные функции. Республиканская диктатура может держаться под одним условием признания ею свободы; непонимание этой истины и есть причина неустойчивости Наполеоновского правительства, которое выродилось в какую-то театральную полувосточную монархию, для которой Конт, как я уже сказал, употребляет термин, заимствованный им из комедии Мольера, «мамамушизм»54. Рассматривая те условия, при которых позитивизм может взять на себя руководительство последней стадией революционного периода, Конт говорит о необходимости положить
53 См. письмо от 25 января 1852 г. I. т. корреспонд., с. 151.
34 Ibid., с. 247.
в основу общественного устройства одну свободу и братство. Он отвергает таким образом третье требование республиканской формулы: равенство. Он отказывается в то же время от парламентских порядков в пользу республиканской диктатуры55. В своем «Курсе» Конт подробно останавливается на оценке французской революции и того дальнейшего хода развития западного общества, который, так сказать, намечен ею. Для него значение революции сводится к разрыву с религиозным миросозерцанием и милитаризмом и к обеспечению конечного торжества науки и промышленности. Революция подготовлена была веками и должна быть рассматриваема как явление, общее всей белой расе. Конт указывает, как на предшественников революции в области мысли, на всех тех, кто содействовал падению католицизма и феодальной монархии, будут ли то философы Сорбонны, протестанты, юристы и члены судебных парламентов во Франции. Он подчеркивает параллельный ход развития науки и промышленности, который представляет таким образом органическую сторону процесса, приводящего западные общества к революции. При этом он развивает тот взгляд, что революция не закончена, так как переход власти в руки ученых и промышленников еще не совершился. Для этого необходимо, чтобы духовная власть не была поглощаема светской, чтобы вызванные революцией тексты органических законов, или конституции, заняты были устройством не одного светского правительства; необходимо также, чтобы разлагающие начала революционных доктрин сменились созидательными, чтобы догмат неограниченной свободы не препятствовал установлению прочной и всеми разделяемой общественной и политической доктрины, а равенство и народное самодержавие — не служило препятствием естественной иерархии классов, добровольному подчинению пролетариев руководительству лиц зажиточных и прежде всего банкиров56.
' §5
Не останавливаясь долее на характеристике взглядов Конта на ход политического развития человечества, отметим факт менее полного понимания им его экономической эволюции. Ближайшая причина тому лежит, разумеется, не в чем ином, как в недостаточной
55 Ibid., с. 251.
56 См. т. V. «Курса положительной философии», с. 394-622; и т. VI, с. 276.
разработке хозяйственной истории в первой четверти XIX столетия, когда Конт впервые приступил к накоплению тех конкретных данных, на которых опираются его исторические обобщения; в самом деле, за исключением «Торговли древних и новых народов» Герена, сочинение которого ему было известно, как изданное первоначально на французском языке, я затруднюсь указать на какой-либо трактат того времени, который способен был бы изменить его понимание римских и средневековых порядков хозяйственной деятельности и, в частности, сельской, за исключением того монументального вступления, какое Герар написал к впервые обнародованному им тексту древнейших хозяйственных записей, производимых монастырями57. Конт, несомненно, не был знаком с этим сочинением, и это упущение, невыгодно отразившееся на понимании им источника и природы поместного хозяйства, справедливо отмечено было ближайшим последователем Конта — Пьером Лафитом58. Изо всей современной и столь богатой литературы по экономическому росту Европы в первой четверти протекшего столетия едва ли можно отметить что другое, кроме классической «Истории среднего сословия» Огюстена Тьерри, которую Конт использовал вполне. Труды Георга Маурера, проложившего путь к новейшему пониманию судеб сельской общины, поместья, города, появились не ранее середины столетия и не могли, следовательно, быть приняты в расчет Контом. Поэтому можно только удивляться, как при слабой сравнительно начитанности в экономической истории, объясняемой тем, что последняя только что зарождалась, Конт сумел верно определить и характер средневекового хозяйства, и то, влияние, какое крестовые походы и проложенные ими пути на Восток оказали на развитие мировой торговли и соответственно на довольно быструю замену первоначального самодовлеющего натурального хозяйства меновым. Конт дает себе верный отчет и о характере преследовавшего одни цели непосредственного потребления поместного хозяйства, и о построенной на нем феодальной системе, при которой все классы общества стояли в определенном отношении к земле, — отношении, определяемом путем договора сюзерена с вассалами и вассалов с подвассалами вплоть до крепостных крестьян, являвшихся таким образом не безземельными батраками и пролетариями, какими
57 Я разумею «Prolegomenes au politique de 1’abbe Irminon» par Guerard.
58 В лекции, прочитанной им в моем присутствии в College des sciences sociales в Париже.
сделал их последующей ход развития экономических отношений, а совладельцами с помещиками. От внимания Конта не ускользает и тот факт, что основанная на таком совладении всех классов общества землею и на постоянном обмене услуг, военного покровительства и защиты, с одной стороны, а с другой — службы, столько же сельской, сколько и военной, феодальная система как нельзя лучше отвечала нуждам впервые прочно осевшихся германских племен. Ее установлением они заменили свое прежнее военно-наступательное состояние военно-оборонительным и разбились с этой целью на множество осевшихся лагерей, которым в концепции Конта отвечают феоды, или лены. Феодальная система своим экономическим фундаментом, т. е. договорным отношением к земле и службе, и своей политической надстройкой и иерархией подчиненных императору и папе правителей является для Конта промежуточной стадией между системой милитаризма и индустриализма. К первой он относит всю древность, т.е. весь период господства фетишизма и политеизма. Начало индустриализма совпадает в историко-философской схеме Конта с переходом от монотеизма к революционной метафизике. В этом периоде экономический фактор — рост обмена, промышленности и связанный с ним упадок феодализма и зарождение свободных городских общин,— приобретают в изложении Конта такое решающее влияние на весь дальнейший ход развития государства и церкви, что, по справедливому замечанию Лориа, с XIII века экономический фактор выдвигается им вперед, как тот, который, заодно с общим ходом положительного знания и в тесной связи с ним, подготовил наступление позитивизма. Этот последний равнозначителен торжеству научного миросозерцания и индустриализма. Он ждет от французской революции своего окончательного признания; но для этого нужно, чтобы конечным звеном ее была передача верховного руководительства человечества, с одной стороны, духовной власти энциклопедистов-философов, а с другой — светской,— глав промышленно-торговых и кредитных предприятий.
Наименее удачную сторону всей историко-философской схемы Конта составляет его попытка показать в каждую из трех главных эпох, пройденных человечеством, и в любое из их подразделений тесное соотношение между умственным кругозором и экономиче-ско-политическим строем, с одной стороны, и уровнем эстетического развития — с другой. Сам Конт имел, несомненно, большое пристрастие к двум искусствам — к поэзии и музыке. Его любимым
отдохновением было чтение великих стихотворцев древности и некоторых итальянских поэтов Средних веков и эпохи Возрождения, в частности Данте. В его переписке с одним итальянским последователем положительной философии, Бенедетто Профумо, не раз заходит речь об этом пристрастии и о том наслаждении, какое он выносил от частого общения с мыслью поэтов эпохи католического расцвета. «Итальянец,— пишет он,— вероятно, не нуждается в том, чтобы ему советовали обратить внимание и на его эстетическое развитие, но поэтическая сторона позитивизма не могла не поразить вас, конечно, наравне с высоким значением, какое он признает за изящными искусствами» 59. Но, любя поэтов и итальянскую музыку, посещая с этой целью итальянскую оперу, насколько это позволяло ему время и скромные средства, способный понять вместе с тем не только красоту гармонии в произведениях греческого зодчества и скульптуры, но и величавый полет фантазии, какой представляет собою готический храм и столь проникнутая религиозным настроением живопись раннего возрождения с его Фра-Анжелико и творцами древнейшей Фламандской школы, Конт в то же время не имел достаточной начитанности в истории изящных искусств. Последняя к тому же далеко не отличалась тем богатством материала и тем резким обособлением отдельных периодов развития, какое мы можем констатировать в наши дни. Весьма недостаточны рассуждения Конта о связи начальных верований с искусством, так как совершенно не принята в расчет роль магии в зарождении музыки, живописи, хореографического искусства и даже скульптуры. Ведь дикарь, грубо изображающий на внутренних стенах пещеры оленя или медведя, думает, что тем самым он содействует приумножению зверя, служащего ему тотемом. Он руководствуется тем же представлением о физическом сродстве тотема с самим собою, когда в танцах пытается уподобит! ся его телодвижениям, а в форме ритмических заклинаний найти средство расположить его в свою пользу. Новейшие направления в области первобытной культуры объясняют такими именно соображениями зарождение танцев, живописи, музыки и лирики у самых отсталых дикарей, а потому, по всей вероятности, и у первых обитателей пещер и свайных построек. Я не буду следить за дальнейшим развитием Контом его основного положения о связи эстетического развития с умственным и политическим, хотя более подробный анализ его мыслей способен
59 Т. III «Переписки», изд. 1904, с. 202, письмо от 7 марта 1851 г.
был бы показать и верность общего положения, в котором убедила нас вся позднейшая литература по истории искусств, и удачное выполнение им некоторых частей общей схемы. Отмечу, однако, мимоходом умение Конта оценить влияние, какое греческий политеизм оказал на широкий полет фантазии поэтов и художников эпохи, следовавшей за Троянской войной и завершившейся соперничеством из-за господства над Пелопоннесом, когда стало сказываться уже разъедающее влияние критической мысли и соответственно проявился уже упадок того искреннего и наивного отношения к религиозным мифам, какое выступает столько же в Гомеровой «Илиаде», сколько в стихотворениях Гесиода и произведениях первых греческих трагиков. Каждому читателю бросится также в глаза удачное выполнение Контом задачи сближения готического искусства с христианской мистикой и объяснение им наступившего одновременно с христианством застоя в ваянии препятствиями, какие изучение анатомии встречало в церковном запрете каких бы то ни было экспериментов над человеческим трупом.
Мы проследили, насколько это было возможно при общности поставленной нами задачи, за самым способом выполнения Контом его основной проблемы, которая, как мы сказали, сводится к изображению постепенного роста человеческого общежития. Можно сказать, что Конт выполнил намеченную Паскалем схему и отнесся к человечеству, как к индивиду, вечно преумножающему свои познания и соответственно совершенствующемуся. Успешное доведение до конца такого широкого плана было возможно только для человека, стоявшего на уровне современного ему знания и обладавшего редкой способностью к обобщениям; но и этих качеств не хватило бы Конту, если бы он добровольно не сузил своей задачи. Он изучает поэтому в своем «Курсе» лишь ход развития абстрактного знания, в связи с которым совершается и поступательное движение конкретных наук. По той же причине он следит за метаморфозами в области хозяйственного общественного и политического уклада только у тех народов, которые в разные эпохи представляют собою верхи человечества. Такими народностями в его глазах, как раньше у Сен-Симона, являются в древнем мире египтяне, греки и римляне, а в новом — народы латинской расы; германский мир занимает лишь слабое место в его схеме, а славянский совершенно отсутствует наравне с народами Туранской культуры. Конту, конечно, трудно было бы осилить и сведенную к таким рамкам задачу, если бы он опять-таки добровольно не отвлекся от видоизменяющего влияния, какое климат, почва, гео
графическое положение, длина береговой линии, распределение гор и рек и вообще физические факторы, оказывают на ускорение или замедление хода развития. Нельзя не признать его заслугой верного понимания того, что в климате, почве и т.д. мы имеем не первопричину, как думал, вслед за Монтескье, Бокль, а только косвенный фактор развития. В отличие от тех, кто, подобно Гобино, Тэну, а в новейшее время Гумпловичу, считают расу — этот сложный продукт взаимодействия физических факторов, всеопределяющей причиной исключительного роста тех или других наций, Конт показывает, что ближайшим виновником быстрого или, наоборот, медленного хода общественной эволюции является то накопление положительных знаний, то временная задержка в этом накоплены. Трезвенность его точки зрения, мне кажется, особенно оттеняется неуспехом тех односторонних объяснений, какие в новейшее время представлены были, как я показал в моей монографии «О современных социологах», людьми, сводившими весь поступательный ход человечества к односторонним влияниям климата, расы, увеличивающейся густоты населения, перемене в технике производства и т.д. и т.д. В противность современному стремлению к монизму, Конт останавливается на мысли о взаимодействии психических, экономических, политических и эстетических факторов, или, точнее, самое понятие фактора отсутствует в его толковании истории и сменяется цепью воздействующих друг на друга или противодействующих фактов.
'1 ' ' t V 1
’ §6 -
Конта продолжают называть философом истории более, чем социологом; так, например, Барт, а в новейшее время Алангри, но только потому, что вслед за Кондорсе и Сен-Симоном и ранее Спенсера, он заинтересовался в своей социологии по преимуществу эволюцией общества, обнимаемой им понятием социальной динамики,— термин, заимствованный, как показывает и самое название, из науки, посвященной изучению мира неорганического. Ошибочно было бы переводить его словами физиология общества, которой противополагалась бы социальная статика, как его анатомия. Еще недавно Лестер Уордом справедливо было указано на одном из конгрессов «международного института социологии», что слова статика и динамика вернее передают мысль об изучении общества, первое — в его структуре и функционировании, второе —
в его поступательном ходе, чем слова общественная анатомия и физиология, предполагающие: первое — изучения одного остова, а второе — жизненного функционирования организма. Очевидно, что в любую эпоху своего поступательного хода общество может быть изучаемо как с динамической, так и с статической точки зрения, что эпоха теологическая с ее последовательными периодами имеет свою общественную статику в такой же степени, как и эпоха метафизическая, или позитивная. Конт посвящает поэтому в своем «Курсе положительной философии» мало места тому отделу социологии, который носит у него название статики, очевидно, потому что при изучении различных стадий развития человечества он имеет возможность рассмотреть каждую с той же статической точки зрения. Можно критиковать выбор им терминов для обозначения как всей науки об обществе, так и отдельных ее частей; можно предпочесть им такие слова, как обществоведение, изучение общества в его строении и функциях, с одной стороны, и изучение его в поступательном ходе, но, не говоря уже о меньшей конкретности первого слова и об описательном характере двух последних наименований, нельзя не сказать, что название, заимствованное Контом из науки о явлениях неорганических, и, в частности, из физики, весьма выпукло выражает те два представления покоя и движения, какие в действительности и различают собою обе части его социологии.
Еще два слова о методе Конта, прежде чем окончит этот, по необходимости затянувшийся очерк не столько истории, сколько зарождения социологии. Метод Конта обстоятельно описан Миллем в его Логике. Сам автор ее сознается, что, когда от наук математических, физико-химических и биологических, он переходит к обществоведению, в основу при изучении их методологии, он кладет единственную в его время цельную попытку осветить судьбы общества не только в его структуре и функциях, но и в его развитии, какая сделана была Контом. В самых общих чертах метод последнего может быть передан словами индуктивно-дедуктивного; это значит, что те эмпирические обобщения, на которые наводит Конта изучение общества в покое и движении, он проверяет затем дедукцией, отправляющейся от данных о физической и психической природе человека и, в частности, от таких представлений, как ограниченность его мускульной энергии, продолжительное преобладание в нем чувств над разумом и двойственность психической природы человека с несомненным перевесом эгоизма над альтруизмом. Говоря о том методе, какому Конт следует в своем «Курсе положительной
философии», и противополагая его новому приему, избранному им в позднейших сочинениях, сторонник научной философии и противник религии человечества, Литтре, справедливо отмечает в нем следующие характерные черты. «Необходимо,— пишет он, — чтобы человеческое поведение, поведение столько же индивида, сколько и общества, отвечало реальным условиям мира и человеческого существования; отличать возможное от невозможного есть драгоценнейшее из всех свойств, какие могут быть приобретены нами. Оно одно позволяет не терять бесплодно наших сил и содействовать усовершенствованию нашей природы»60. Но все это — те самые понятия, которые мы приобретаем при проверке исторических индукций выводами, сделанными из изучения человеческой физиологии и психики. Заслуга Конта и состоит в том, что он не остановился, подобно Кондорсе, на мысли о безостановочном развитии человечества и открыл пределы этому развитию в самой природе человека. Можно сказать, употребляя термин, пущенный в ход Ницше, что в глазах Конта, как бы ни совершенствовалось общество и индивид в нем, это явление все же не поведет к созданию того сверхчеловека, той новой породы живых существ, которой несвойственны были бы наши страсти и их господство над разумом и для которых, следовательно, можно было бы придумать совершенно иные условия существования, новую мораль и новое право. Отличие того метода, какому Конт следует в «Курсе положительной философии» и который может быть назван объективным, выступает из беглого знакомства с тем, какого он придерживается в позднейшем своем труде: «Позитивная политика». Мы видели, что задача Конта при создании им социологии лежала в распространении на область общественных явлений того самого метода индукции, метода опыта и наблюдения, какому следуют науки, занимающиеся, как неорганической, так и органической природой. Этой находке Конт придает большее значение, чем собственной попытке использовать научный метод в обществоведении. «Критикуя меня, говорит он, надо отличать мою основную мысль о необходимости применять научный анализ к общественным явлениям от самого способа выполнения мною этой задачи. Как бы несовершен ни был последний, он ничего не говорит против самого метода. Во всех науках, в частности в обществоведении, метод еще важнее конструкции»61.
60 Littre, с. 520.
61 Курс положительной философии, т. IV, с. 176-177. Politique positive, v. I, p. 455.
В «Положительной политике» Конт отступает от метода точных наук и дает перевес дедукции; рекомендуемый им субъективный метод отказывается от той задачи, какая преследуема была Контом в его важнейшем трактате,— задачи раскрыть цепь причин и следствий; отныне он признает ее тщетной62. Другими словами, Конт дает с этого времени решительный перевес дедукции. А между тем, как справедливо замечает Литтре, сам он в своем «Курсе положительной философии» установил, что чем наука сложнее, тем ограниченнее возможность пользования ею дедукцией. Дедукция всесильна в математике и, со времен Ньютона, в небесной механике; она имеет меньшее применение в физике, еще меньшее в химии и биологии и достигает минимального значения в социологии. Дедукция мыслима только как средство для проверки индукции, а без нее она становится тем субъективным методом, свойственным всяким богословским и метафизическим концепциям, с которыми Конт преломляет оружие в своем «Курсе положительной философии». Вот почему субъективный метод, которому Конт следует в своей «Положительной политике», осуждается его же собственным пониманием условий научного мышления в наиболее сложной из всех наук — обществоведении63.
Различные приемы, какие предполагает применение научного метода к общественным явлениям и к которым обращается Конт, представлены в весьма сжатом виде в новейшей книге Леви-Брюля о его философии. За невозможностью обратиться «к чисто дедуктивному методу, каким орудуют математики», говорит Леви-Брюль, социология пускает в ход те приемы, каких придерживаются науки о неорганической и органической природе.
Первым из них надо считать наблюдение. С первого взгляда может показаться, что общественные феномены легко могут быть наблюдаемы, во-первых, потому, что они многочисленны, и, во-вторых, потому, что участником в них является сам наблюдатель. Но эти два обстоятельства делают особенно неудобным пользование этими методами. Хорошо наблюдать можно только, стоя вне области
62 “Il suffit,— пишет он,— que la methode subjective renoncant a la vaine recherche des causes, tente directement comme la methode objective vers la seule decouverte des lois, afin d’amellorer notre condition et notre nature”.
63 См.: Литтре, c. 527-537. В последнее время Леви-Брюль сделал попытку защитить Конта и его субъективный метод от упреков, направленных против него Литтре, но я не считаю убедительными его доводы.,
наблюдаемого64. Необходимо было бы поэтому, чтобы факты социологические представились нашему наблюдению, как явления объективного характера, и независимые от различных состояний нашей индивидуальной психики. Но этого можно достигнуть только под условием, чтобы ум наблюдающего уже создал себе известную концепцию о том, что именно он желает видеть; без такой предварительной схемы или теории наблюдатель не может знать, на что он должен обратить внимание при изучении представшего пред его глазами факта. Такая схема приобретается изучением в связи с наблюдаемым целой цепи предшествующих ему явлений. В этом обстоятельстве и лежит чрезвычайная трудность социологии, и одно общественное явление не может иметь научного значения без сближения его с другими. Только под этим условием человек, хорошо подготовленный к производству обобщений всем ходом своего научного воспитания, может определить природу происходящих на его глазах общественных явлений, смотря по тому, в каком прямом отношении они стоят с основными и высшими истинами обществоведения. Ни о каком опыте в социологии не может быть и речи65. Не то чтобы мы не способны были влиять на общественные феномены; наоборот, они всего более терпят видоизменение, но дело в том, что всякая научная экспериментация предполагает сопоставление двух случаев, отличных между собою только в одном каком-либо определенном отношении. А между тем среди тех явлений, какие подлежат изучению социологии, мы не можем отметить двух вполне подобных друг другу случаев. Ввиду этого социология поставлена в необходимость отказаться от прямой экспериментации и удовольствоваться косвенной. Возможность к ней открывается патологическими явлениями, какие в обществах вызываются кратковременными или длящимися причинами. Такими патологическими состояниями Конт, в частности, считает революции, которые он приравнивает к болезням. Если согласиться с Брусе, что болезни вызываются теми же законами, какие определяют собою здоровое состояние организма, и применить это обобщение к фактам социальным, то можно будет, думает Конт, сказать, что в таких патологических явлениях, как революции, нам открывается возможность опыта.
Один из последователей Конта, наш соотечественник Лилиенфельд, ношел очень далеко этой опасной дорогой и признал патологическими
64 См. «Курс положительной философии», т. IV, с. 337.
65 Курс положительной философии, т. IV, с. 342-344.
явлениями все то, что в жизни современных обществ вызывало его отрицательное отношение.
Сравнительный метод, столь полезный биологам, оказывает, по мнению Конта, большие услуги и в области социологии. Он сближает различные состояния человеческого общежития, одновременно встречающиеся в разных частях земной поверхности и у различных народов независимо от заимствования их друг у друга. Не мало народностей, которые еще не достигли тех высших ступеней, на которых стоят передовые нации. Это обстоятельство позволяет нам одновременно наблюдать целый ряд последовательных стадий развития человечества, начиная от той, на которой стоят жители Огненной Земли, и оканчивая наиболее цивилизованными народами. Нам нетрудно также отметить ряд общественных состояний, уже повторявшихся в истории, и не выходя из границ одной и той же нации. Ведь общественные условия отдельных классов необыкновенно разнятся друг от друга, так как эти классы могут стоять на различных стадиях развития. «Один Париж,— говорит Конт,— заключает в своей среде образцы почти всех стадий общественного роста, предшествующих положительной, особенно, если иметь в виду сторону интеллектуального развития» 66.
Сравнительным методом можно пользоваться как в социальной статике, так и в социальной динамике, причем в первой возможно сопоставление общественной жизни людей и животных,— метод, которым в широкой степени орудует Эспинас и который нашел талантливого представителя в среде русских биологов в лице Вагнера. Но и сравнительный метод в социологии играет у Конта лишь второстепенную роль; первенствующее же место принадлежит методу историческому, который следит за постоянным наслоением общежительных форм по мере роста знаний и научного мышления и ведет, по мнению Конта, к установлению того закона трех стадий, который один делает возможным, думает он, исследование общественных явлений столько же с статической, сколько с динамической точки зрения67. " ' .
и
66 См. «Курс положительной философии», т. IV, стр. 354 и след.
67 Ср.: Леви-Брюль, 2-е изд. 1905 г., стр. 275 по 286. *
ОЧЕРК ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ социологии В КОНЦЕ XIX И В НАЧАЛЕ XX ВЕКА *
I
1
Сколько-нибудь крупные, оригинальные и детально обоснованные социологические системы возникли за несколько десятилетий до той эпохи, которой должно коснуться наше изложение. Огюст Конт сложил свою доктрину еще в первой половине XIX столетия; Г. Спенсер закончил свою собственную в третей четверти того же века; Шеффле издал свое четырехтомное сочинение приблизительно в то же время и только популяризировал свои мысли несколько позже в двух томах. «Динамическая социология» Л. Уорда, наиболее значительная из работ американского ученого, вышла в 1883 году. Еще ранее появились два тома «Введения в социологию» бельгийского писателя Де Грефа и «Социология, основанная на этнографии» Летурно. Отличительная черта протекшего двадцатипятилетия по отношению к изучению социологии — это попытка организовать работу на началах сотрудничества в обществах, специально посвященных социологии, в обществах национальных и международных. В будущем году «Международное социологическое обозрение», издаваемое Вормсом, будет праздновать двадцатипятилетие со времени своего основания. Почти четверть века тому назад возник и Международный Институт социологии, с тех пор собиравшийся уже не раз в Париже, Лондоне, Берне и Риме. Более позднего происхождения социологические общества Парижа, Лондона, Брюсселя, Вены, Пешта, Берлина, Рима, съезды и конгрессы итальянских и немецких социологов.
Печатается по: История нашего времени (Современная культура и ее проблемы) / Под ред. проф. М. М. Ковалевского и К. А. Тимирязева. Издание Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°. Вып. 27. С. 1-77.
В настоящее время Европа и Америка покрылись целою сетью обществ, ставящих себе целью изучение то социологии, то социальной науки вообще, то общественной философии; в них читаются рефераты, происходят прения, печатаются бюллетени, нередко включаемые в социологические журналы или социологические ежегодники или, наконец, в специальные издания, вызванные к жизни съездом людей, интересующихся социологией. Такие журналы и ежегодники издаются в Париже, Риме, Лондоне, Чикаго, а в последнее время сделаны были попытки, не вполне удачные, основать такой же орган в Швейцарии. В Германии вышло два тома отчетов о двух социологических конгрессах и начал издаваться особый журнал, посвященный социологии. Лондонское общество социологов издавало сперва сборники прочитанных в нем рефератов под названием Sociological Papers, а затем взамен их выходит ежемесячник Sociological Review. Вскоре после создания Рене Вормсом «Обозрения социологии» в Париже возник и «Социологический Ежегодник» Дюркгейма. Он одно время печатал самостоятельные работы самого Дюркгейма и лиц, примыкавших к нему по направлению. За последние годы он довольствуется одним критико-библиографическим разбором сочинений, могущих интересовать социолога. Такими сочинениями считаются не одни только трактаты по социологии абстрактной, но и сочинения по конкретным социальным наукам: по этнографии, праву, политической экономии, морали, религии. Вскоре после выхода в свет первого журнала по социологии, во главе которого стал Рене Вормс, группой итальянских философов, экономистов, юристов и этнографов основан был международный журнал по социологии: «Rivista intemazionale di sociologia». Издатели поняли свою задачу весьма широко: они печатают статьи и по общей социологии, и по конкретным наукам об обществе: статистике, этнографии, морали, праву, экономике и политике, истории вообще и истории культуры в частности, раз эти работы дают материал для социологических обобщений. Издавна печатается также в Чикаго «Американский журнал социологии», во главе которого стоит Смолл, также с широкой программой, не исключающей возможности появления в нем статей по конкретным наукам об обществе. И помимо социологических журналов, «Философское обозрение» Рибо и «Журнал исторического синтеза» Бэра помещают не мало статей социологического содержания.
2
Другую особенность разработки социологии за рассматриваемый нами период представляет то, что социология вошла в круг предметов, преподавание которых происходит в высшей школе. Почин и в этом отношении положен был в Париже. Г. Тард в последние годы своей жизни читал курсы по вопросам коллективной психологии и социологии, занимая в College de France кафедру новой философии. Дюркгейм одно время заступал в Сорбонне Бюиссона на кафедре педагогики и читал лекции социологического содержания, а затем для него создана была специальная кафедра социологии, или социальной философии. Свободный курс по социологии читает в Ecole de Droit в Париже Р. Вормс. Одно время он заменял Бергсона в College de France и прочел в нем курс социологии. В «Школе политических наук» в Париже также читались Тардом лекции по социологии, и серия лекций по социологии была прочитана в «Школе социальных наук» различными социологами, в том числе и мною. Лекторы чередовались в таком порядке, чтобы по одному и тому же или смежному вопросу могли быть изложены расходящиеся между собою доктрины: за Тардом читал Дюркгейм или Бело. Каждая лекция сопровождалась обменом мыслей лектора с аудиторией, в которой сидели нередко представители различных социологических школ и направлений.
В Брюсселе преподавание социологии Де Грефом возникло одновременно с основанием «Нового университета». Оно ведется в широких размерах, что дает возможность лектору уделять немало времени и описательной социологии. С этой стороной его преподавания русские читатели могут познакомиться по «Итогам Науки», в одном из выпусков которых появилось сделанное самим Де Грефом краткое изложение его курса. В Берлинском университете проф. Зиммель уделял часть своего преподавания и социологии. В Киле проф. Тонниес также преподает социологию. В южно-немецких университетах, как и в Цюрихском политехникуме, читались и читаются курсы и по общей социологии, и особенно по вопросам социологии генетической, Гроссе, Фиркандтом и др. В Риме Ферри преподает уголовную социологию, а в Турине и Милане, в университете и высшем коммерческом институте читают лекции по социологии экономической. В России существует пока одна только кафедра по социологии при Психоневрологическом институте. Она в течение двух лет была занята мною, а в настоящее время проф. Е.В. де Роберти.
Социологического направления придерживаются в своих чтениях также некоторые профессора высших коммерческих институтов и женских курсов при лаборатории имени П. Ф. Лесгафта.
3
Социологических доктрин, обнимающих все стороны абстрактного обществоведения, мы за протекшую четверть века находим сравнительно немного. Во главе всех их по своей оригинальности и разработанности стоит доктрина Габриэля Тарда. Ее обыкновенно обозначают, совершенно неправильно, на мой взгляд, термином «теория подражания», тогда как в действительности она стремится показать, что жизнь обществ развивается на почве коллективной психологии, факторами которой одинаково являются личное изобретение и массовое приспособление, причем второстепенную и промежуточную стадии между обоими занимает столкновение двух или большего числа противоположных течений, созданных опять-таки индивидуальными изобретениями. Это по природе своей психологическое обоснование социологии стоит в резком противоположении с двумя направлениями, одно из которых строит социологию на началах биологии, а другое ищет для социологии самостоятельных законов. Каждое из этих направлений имеет нескольких, во многом расходящихся между собою, представителей. Наконец, за пределами этих двух школ можно отметить еще такие, которые строят социологию на законах, общих органической и неорганической природе. Таково, например, учение Оствальда с его энергетикой.
В среде социологов, ищущих для нее отличных от биологии и психологии законов, некоторые, как, например, Е.В. де Роберти и Дюркгейм, считают возможным избрать отправным пунктом не индивидуальную, а коллективную психологию. При этом сам собою встает вопрос: эта коллективная психология,— не видоизменяется ли она параллельно переменам, происходящим в обществе? С этим вопросом связан обратный — вопрос о том, в какой мере сама общественная психология, видоизменяясь, определяет тем самым и дальнейшую эволюцию общества, в частности возникновение отдельных общественных институтов? Я понимаю этот термин в самом широком смысле, позволяющем считать «институтами» и язык, и религию, и нравы, и юридические обычаи и порядки, начиная от семейных, переходя к кланово-родовым, общинно-поместным
и государственным, в свою очередь распадающимся на порядки города-государства и политического союза, объединяющего ряд городов и сел, наконец, союза государств, в конце концов сливающегося с понятием объединенного человечества.
Имея то общее, что свои социологические обобщения они строят на почве коллективной психологии, писатели названной группы различаются между собою тем, что одни особенно выделяют значение умственного прогресса, и в частности накопление знаний (Де Роберти), другие устанавливают непосредственную связь между поступательным развитием общества и обособлением занятий (Дюркгейм); третьи считают важнейшим фактором социологических изменений изменение техники производства (школа экономического, или исторического, материализма); четвертые особенно подчеркивают всеопределяющую роль появления обмена и постепенного его расширения (Де Греф).
На одной почве с Тардом стоит ряд писателей: во Франции Палант, в Америке Уорд, выработавший свою основную доктрину еще до появления книг Тарда, и в большей степени Гиддингс и Балдвин.
К биологической, и в частности антрополого-этнографической школе можно отнести одинаково и Лапужа, и баденского статистика Аммона, и даже Гумпловича с его теорией расовой борьбы, как важнейшего фактора социальной жизни вообще и государственной — в частности.
Есть, наконец, социологи, которые подчеркивают влияние, какое оказывают на развитие особого общественного и государственного типа те самые физические условия, о которых говорили еще Иппократ, Бодэн, Монтескье, а в более близкое к нам время Бокль. Это школа, которую можно обозначить термином географической, каковой она сама не прочь именовать себя. При этом одни из социологов приписывают особое значение климату и почве, другие — длине береговой линии, рекам и вообще путям сообщения, в частности Демоленс, Л. Мечников и Ратцель.
Встречаются между социологами и умеренные последователи той самой органической теории, которая нашла выразителей себе в Спенсере, Шеффле, Лилиенфельде. Такими писателями можно считать из русских Новикова, из французов Р. Вормса.
Разновидность представляет в этой группе социологов, примыкающей к биологической школе, проф. College de France Изулэ, в том смысле, что он ищет аналогий с государством не в организмах высших животных, а у беспозвоночных. Государство является у него своего
рода несовершенным организмом и тем не менее играет всеопреде-ляющую роль в выработке нашей индивидуальности. Одна из глав написанного Изулэ сочинения «Le cite modeme» обозначена словами: «Если у нас есть душа, то мы обязаны ею государству». Последователь органической школы является таким образом одновременно и ревнителем коллективной психологии.
4
Обозначив таким образом в общих чертах различие отправных точек зрения у большинства современных социологов, я считаю нужным обратить внимание читателей еще на то обстоятельство, что самые задачи социологии понимаются современными ревнителями этой науки неодинаково. Одни смотрят на социологию, обозначаемую ими подчас термином социальной философии, как на синтез обобщений, к каким приводит параллельное изучение конкретных наук об обществе; таковы Вормс, Дюркгейм, Тард, Гиддингс и т.д. Другие, и во главе их Зиммель и Тённиес, полагают, что ближайшей задачей социологии является изучение факторов и форм общественности. Социология таким образом как бы сама является конкретной наукой об обществе, имеет свою определенную сферу и не исключает возможности существования бок о бок с нею и народной психологии и философии истории. То, что для других социологов, как, например, для Уорда, вслед за Контом и Спенсером, является не более как социальной динамикой, т. е. частью социологии,— я разумею область эволюции и прогресса,— то самое выделяется в особую научную дисциплину — философию истории, или «исторический синтез». Не случайным надо считать то обстоятельство, что именно немецкие социологи ограничивают область абстрактной науки об обществе изучением природы общественности, факторов, вызывающих ее к жизни, и форм, ею принимаемых. Ведь философия истории имеет в Германии отдаленное прошлое. Гегель посвятил, например, целый том раскрытию в истории «всемирного духа»; если этот «дух» в настоящее время и обозначается другими терминами, например, Логос, то это, разумеется, нисколько не меняет дела.
Заканчивая сказанным наш общий перечень социологических систем, мы намерены в ближайших главах обозреть: 1) биологическое направление в социологии, 2) психологическое, 3) то, которое устанавливает самостоятельные законы дЛя социологии и само
распадается на школы: а) коллективно-психологическую и Ь) экономическую, с ее различными разновидностями. Я остановлю затем внимание читателя на современных учениях о социальной динамике. В них можно отметить два направления: а) одно, вслед за Контом и его отдаленными предшественниками: Тюрго, Кондорсе и Сен-Симоном, признает поступательный ход общества, его прогресс; Ь) другое допускает, самое большее, эволюцию обществ в смысле их дифференциации и интеграции. И то, и другое направление одинаково отводят место вопросам о происхождении общественных институтов: религии, морали, права, языка и искусства, знания и техники. Сумма вопросов, связанных с генезисом всех перечисленных учреждений, обнимается иногда термином древнейшей истории культуры, иногда термином генетической социологии. Я вслед за Козентини отдаю предпочтение этому последнему термину.
Биологическое направление в социологии
••• §1 <•
Учение о том, что общество — живой организм, постоянно развивающийся, которому известны детство, молодость, возмужалость и престарелость, отдельный части которого осуществляют физиологические функции питания и размножения, у которого имеется свой особый мозг, или центральный сензорий, свое сердце, своя нервная система, имело своих поборников и в древности, и в средние века, и в самом начале нового времени. Платон сравнивал уже государство с человеком-гигантом. В своих «МотаВа» Плутарх дает дальнейшее развитие той же доктрины. В Средние века она высказывается автором «Polycraticus» Иоанном Салисберийским, в XVII веке знаменитый Томас Гоббс в своем «Левиафане» дает ей наиболее стройное и, до некоторой степени, оригинальное выражение. Всех этих писателей можно отнести к числу предшественников Спенсера, Лилиенфельда, Шеффле, Рене Вормса и Я. Новикова, но с той оговоркой, что под влиянием Дарвина они особенно подчеркивают в своих теориях элемент развития, или эволюция, общества. Спенсер сводит его, как известно, к двустороннему процессу дифференциации
и интеграции, т. е. к постепенному обособлению отдельных органов для отдельных функций того живого организма, каким в его глазах является общество, и исключительного сосредоточения затем в таких обособившихся органах тех функций, которые первоначально осуществлялись всем общественным телом или, по меньшей мере, многими его составными частями.
Современный поборник органической теории общества, Рене Вормс, пошедший далее всех своих предшественников по пути смелых аналогий, отождествивший, например, с человеческим сердцем биржу, в новейших своих трудах более или менее отступает от мысли — подводит отдельные общественные функции и институты под понятие физиологических отправлений и предназначенных для них органов. Но наш соотечественник Я. Новиков остается по-прежнему одним из эпигонов доктрины, одно время охватившей собою широкие круги столько же ученых, сколько и журналистов.
Недостатки органической теории общества не раз были указываемы. Еще недавно, в 1-м томе моей «Социологии», мне пришлось резюмировать те возражения, какие были представлены против нее на одном из конгрессов Международного Института.
В прениях принял участие Тард.
«Я не вижу,— сказал он,— какую пользу принесла нам эта теория, и в то же время ясно сознаю порожденные ею вредные последствия. Ею я объясняю появившуюся между социологами тенденцию принимать за нечто действительно существующее простые отвлечения, довольствоваться голыми фразами, как, например, социальный принцип, душа толпы, социальная среда и т.д.». Влиянием той же аналогической методы, постоянным сопоставлением общества с живыми организмами, объясняет Тард и то пристрастие к учению о прямолинейном прогрессе, об однообразно совершающейся у всех народов эволюции, которая признается за обществами по образцу той эмбриональной серии различных состояний живого организма, в которой сказывается его рост. Тард поспешил прибавить, однако, что допускает существование действительных аналогий между организмами и обществами. Но такие аналогии имеются со всякого рода агрегатами, какова бы ни была их природа: астрономическими (солярная система), химическими (молекулы), физическими (кристаллы), наконец, биологическими. Эти аналогии объясняются тем, что все эти агрегаты руководимы в своей деятельности одной механикой или одной логикой. Сходства между биологическими агрегатами и агрегатами социальными потому уже более значи
тельны, что обоим присуща идея конечности. Только в той мере, в какой живые организмы и общества преследуют сходные цели: роста, защиты против нападения и т.д., общественные структуры и функции представляют сходства с биологическими к
К систематическому осуждению органической теории Людвиг Штейн, автор компилятивной работы: «О различных вопросах обществоведения», так или иначе решаемых современными социологами, прибавил короткий, но весьма верный очерк того порядка, каким эти старинные уподобления общества и организма постепенно перешли в утверждения их полного сходства. «Уже Платон называет государство громадным человеком. У Аристотеля эта метафора Платона не носит более характера поэтической фикции, а действительной аналогии. Государство сделалось организмом, т. е. громадным человеком, а сам человек был признан существом общественным. Аристотеля надо поэтому считать действительным отцом теории социологического макрокосма. Но Аристотель все же признавал это сопоставление только сопоставлением; у Спенсера же речь заходит уже о параллелизме. Экзодерма, энтодерма, мезодерма признаются существующими одинаково и в структуре организмов, и в структуре общества. На самом же деле речь может идти только о соответствиях и параллелизмах. Лилиенфельд доводит последствия таких поисков за уподоблениями до конца, говоря, что общество не только похоже на живой организм, но что оно есть живой организм. Итак, в целом историческое развитие органической теории может быть представлено в следующем виде. У Платона оно является метафорой, у Аристотеля — аналогией, у Спенсера — параллелизмом, у Лилиенфельда — абсолютным тождеством» 1 2.
Учение о государстве-организме встретило отрицательное отношение к себе и со стороны юристов.
Возражая против органической теории, Зейдлер справедливо пишет: «При развитии того положения, что государственное общество — организм, Спенсер, а за ним Лилиенфельд, Шеффле, Вормс поставлены в необходимость сойти с реальной, естественно-научной точки зрения. Чтобы получить совершенное подобие живому организму, они вводят в понятие его, когда речь заходит об обществе, не только людей, его составляющих, но и созданные ими вещественные продукты, “междуклеточную субстанцию” — по выражению
1 См.: Анналы международного института социологии, т. I, с. 240.
2 Ibid., с. 89.
Лилиенфельда. С естественно-научной точки зрения кажется странным отождествлять с физиологическим актом кровообращения, происходящим внутри человека, денежное обращение, совершающееся между людьми, сближать нервную систему с телеграфами, артерии и вены — с путями сообщения, сердце — с биржей, волосы и ногти — с крепостными стенами и т. д. Так как без включения этих вещественных продуктов человеческой деятельности в число составных частей общественного организма нельзя получить и самого представления о нем, то приходится прийти к заключению, что его на самом деле и нет налицо»3.
Ряд основательных возражений против органической теории приводит Иеллинек. «Органическая или органологическая гипотеза, говорит он, переносит определенные отношения и признаки естественных организмов на государство и народ, полагая, что она делает их этим более понятными и в то же время создает высшую форму синтеза естественных и политических явлений. Такими признаками являются единство во многообразии, в силу которого государство и его народ остаются неизменными, несмотря на смену их членов; далее, медленное преобразование того и другого на историческом пути; затем такого рода взаимодействие членов целого и отдельных его функций друг на друга и всех вместе на целое, что целое всегда кажется существующим для отдельных членов, а последние в свою очередь — в интересах целого; наконец, бессознательный, так называемый естественный, рост и развитие государственных учреждений, которые как бы не дают возможности выводить их из сознательной разумной воли индивидов, а превращают их, напротив, в непреодолимые силы, в которые человеческое усмотрение может внести лишь самые незначительные изменения, поскольку эти изменения являются устойчивыми»4.
Определив таким образом то, что может считаться существенными признаками государственного организма, Иеллинек приступает к проверке правильности подчеркиваемых им аналогий. Он справедливо указывает на то, что рядом с бессознательным образованием государственных учреждений мы постоянно имеем дело и с сознательным их установлением.
В подтверждение этого положения можно привести целый ряд исторических фактов. Так, немцы в эпоху Возрождения переходят
3 Gustav Seidler. Das Juristische Kriterium des Staates. Tubingen, c. 33-34.
4 Иеллинек. Общее учение о государстве. Изд. 1903 г., с. 97 и дальнейшие.
от своего местного права к рецепированному римскому. Здесь мы имеем дело с сознательным выбором. Немецкое общественное развитие этого времени сказалось в переходе от натурального хозяйства к меновому или денежному. Римское право являлось правом, отвечающим условиям менового хозяйства. Поэтому, вместо того, чтобы вырабатывать новое право в смену праву, более приуроченному к условиям самодовлеющего хозяйства, существовавшего в Германии в Средние века, немцы предпочли заимствовать чужое право и произвели рецепцию римского соответствующего новым условиям хозяйственной жизни.
Приверженцы органической теории говорят, что государство растет, как ребенок. Подобно тому как рост ребенка не обусловливается его доброй волей, точно так же и развитие государства происходит совершенно независимо от воли лиц, в состав его входящих. Между тем в действительности государства развиваются и совершенствуются не естественным путем, а при самом деятельном участии людей, их ее составляющих.
Строй государств может испытывать коренные преобразования под влиянием деятельности людей. Хотя, разумеется, петровская реформа и была результатом военной и финансовой необходимости, но если бы царский престол занимал не Петр Великий, а, скажем, царь Федор, то, по всей вероятности, великой реформы не последовало бы. Нельзя говорить исключительно о естественном росте в самопроизвольном развитии государственных учреждений, устраняя тем самым всякую возможность сознательного их изменения.
Под влиянием органической теории государства у историков учреждений сложились некоторые предрассудки. Так, одни утверждают, что все государства пройдут стадию конституционного устройства, что, следовательно, рано или поздно, и в Тибете водворится конституционный режим. Так будет потому что конституционные порядки утвердились в Англии, Франции л в других европейских государствах. Эта точка зрения, несомненно, складывается под влиянием неправильного положения, что учреждения развиваются сами собой, что человеческая деятельность тут ни при чем, что — хотят того люди или не хотят,— а известные учреждения все-таки появятся. Но ничто в государственной жизни само собой не происходит; для всякого изменения нужен волевой акт.
Мысль эта настолько проста, что нет надобности долго останавливаться на ней. Французское общество в 1789 году несомненно созрело для политического переворота. Но если бы не было таких
людей, как Мирабо, Сийес и многие другие замечательные деятели великой революции, если бы не было сознательных актов с их стороны, то завоевания ее не были бы так обширны и успех ее был бы, несомненно, не столь быстр, верен и значителен. История народов не представляет всегда удачных переворотов, к которым общество было подготовлено предшествующим развитием; неудачи имеют место именно тогда, когда оказывается недостаточно элементов для проведения в жизнь необходимых решений. Сравните английское общество эпохи двух революций XVII века и французское в эпоху Фронды. В Англии происходит радикальный переворот, сопровождаемый созданием кратковременной республики и протектората Кромвеля, а затем реставрацией, которая сохраняет, тем не менее, многие решения, намеченные или проведенные ранее революцией. Когда же новое правительство Иакова II отказывается идти тем же путем, происходит новая революция, после которой обеспечено торжество обновленного строя. Одновременно с английской революцией во Франции происходит движение, слывущее под названием Фронды (fronde — детская игрушка), и последствием является усиление абсолютизма.
Имея перед глазами конкретные исторические факты, необходимо прийти к заключению, что одного естественного роста недостаточно для развития государства; нужны еще люди, нужна человеческая воля. И вот эту мысль высказывают, когда говорят, что органическая теория с ее самопроизвольным развитием не выдерживает критики.
Опять-таки совершенно правильно Иеллинек замечает, что органическая теория заблуждается, когда думает, что человечество в своем развитии неизбежно подчинено законам прогресса и законам регресса. Очевидно, что если сопоставлять в этом отношении государство с индивидом, то пришлось бы признать, что жизнь государства распадается на несколько периодов: период детства, период отрочества, зрелости и, наконец, старости. О стариках говорят, что они впадают в детство. Очень возможно, что некоторые государства возвращаются к уже пройденным стадиям развития, но сказать, что все государства должны перейти к возрасту старости, нельзя. Еще недавно французы говорили нам, что у нас удивительно детские учреждения. Лет десять тому назад мы не могли бы сказать, к чему нам предстоит перейти от возраста детства,— к возрасту юности или возрасту зрелости; точно так же мы не можем решить и теперь, переживаем ли мы в данный момент состояние старческой дряхлости
или какое иное. Что представляет собою Персия в настоящее время? Залог роста или начало одряхления? Сказать трудно, но, во всяком случае, нет необходимости наступления этого последнего периода.
Изображать возникновение новых государств, как результат воспроизведения себе подобных, невозможно. А между тем когда мы говорим, что государство есть живой организм, то мы должны признать и такой путь возникновения государства. Представители органической теории хотели найти аналогию между организмом и государством и в этом отношении. Они говорили, что подобно тому, как человек является отцом, точно так же и государство может быть отцом. Есть государства-метрополии и есть государства-колонии. Эти последние возникают путем воспроизведения первыми себе подобных. Но такое рассуждение может быть признано правомерным: во-первых, не все государства имеют колонии, а во-вторых, со временем, когда земной шар будет заселен, до на будет прекратиться, очевидно, и колонизационная деятельность. А для прошедшего времени возникает вопрос: занимались воспроизведением себе подобных Рим, постепенно обнявший собой весь мир, и Россия, населившая Сибирь и завоевавшая Туркестан или же они только расширяли свое собственное тело? Думаю, что последнее ближе отвечает действительности.
Разумеется, еще менее проведение аналогии между различными функциями государства соответствующими им учреждениями и жизненными функциями приуроченными к различным органам тела. Говорить о путях сообщения, как о нервах, о бирже как о сердце, и т.д. и т.д., очевидно, прием, который не может быть оправдан и не заслуживает термина «научный».
Меньшей критике подлежит определение государства, к которому прибегает Спенсер: государство есть суперорганизм. Но так как другого суперорганизма мы не знаем, то государство может быть и суперорганизм, а что такое оно из себя представляет, этого из такого определения мы вывести не можем.
Критиковать органическую теорию государства, как можно увидев из сказанного, не трудно. Критикуют ее социологи, а за ними юристы. Известный государствовед Блюнчли, имя которого сорок лет тому назад было, несомненно, более популярно, чем имя Иеллинека или Эсмена в наше время, не только полагал, что государство есть организм, но он находил в нем черты, которые позволяли ему считать государство мужской особью, а не женскою. Но так как мужчина не может существовать без женщины, то была найдена и женская
особь; таковой оказалась церковь. Блюнчли написал целое сочинение, посвященное вопросу об отношениях между этой мужской особью — государством, и женскою — церковью,— «Психологическое отношение государства и церкви». В нем можно встретить часто вышучиваемую фразу: «Die Kirche hat in sich etwas weibliches». Но это уподобление государства мужчине и церкви женщине признается теперь совершенно произвольным. Есть и другие попытки наполовину признать, наполовину отвергнуть, утверждать и отрицать в одно и то же время сходство государства с организмом. Французский философ Фулье написал ряд статей, в которых он признает государство каким-то контрактуальным, т.е. договорным, организмом. Стоит только представить себе то противоречие, какое существует между организмом естественным и организмом, созданным путем какого-то соглашения, чтобы признать эту попытку неудачной. Назвать государство договорным организмом, это сказать, что оно, с одной стороны, не организм, а с другой — и не договор. С представлением об организме с трудом связывается мысль о соглашении, необходимо лежащем в основе всякого договора.
Что же остается от органической теории, что в ней ценного? Заслугой этой доктрины является то, что она доказала неправильность представления о государстве, как о чем-то возникающем путем договора, путем свободного соглашения людей.
Действительно, во всей истории мы знаем только один случай возникновения государства путем договора. Когда последовали со стороны государственных церквей жестокие преследования людей, не разделявших их учений, то многим подданным различных государств пришлось покинуть свое отечество и искать более благоприятной жизненной обстановки. К этому способу защиты вынуждены были прибегнуть некоторые англичане и голландцы. Они снарядили корабль «Майский Цветок» и отплыли от берегов своего отечества по направлению к Америке. Во время этого плавания они договорным порядком положили основание североамериканской гражданственности. Плывшие условились, что, когда корабль их достигнет берега, то они постараются приобрести землю покупкою у индейцев и заложат на ней основы нового государства. Задумано и сделано. Новое государство слыло сперва под именем колонии Массачусетской бухты, а затем сделалось штатом Массачусетс и приняло деятельное участие в организации Североамериканской федерации.
Это — единственный пример прямого возникновения государства путем договора; но что соглашение предшествовало соединению
родов и племен, это, разумеется, также вне спора. Различные этрусские и сабинские племена, поселившиеся бок о бок в Лациуме, раз у них оказались общие интересы, очевидно, не могли обойтись без соглашения в момент создания Рима. В этих ограниченных пределах можно говорить о договорном происхождении государства. Но утверждать, как это делалось в XVII и XVIII веках Гуго Гроцием, Гоббсом, Пуффендорфом, Руссо и др., что государства возникают путем договора, помимо всякого насилия и принуждения извне, очевидно, невозможно.
От всей органической теории, несомненно, уцелеет в будущем представление о государстве, как о чем-то, возникающем независимо от договора людей, разлагающемся и исчезающем также помимо их соглашения. Но, с другой стороны, вопреки Иеллинеку, который настаивает на мысли о бессмертии государства, иллюстрируя ее тем, что Германия, несмотря на гибель Священной Римской империи и исчезновение многих составляющих ее княжеств, независимо также от смены союзов Рейнского — Германским, а последнего — сперва Союзом Северогерманским, а затем Империей, продолжает оставаться все той же Германией; я склонен думать, что она не раз умирала, как государство, и возрождалась снова. Германское государство времен Тацита не имеет ничего общего с Германским государством позднейших веков. Нет ни малейшего сомнения, что Священная Римская империя отошла в область истории в 1806 году, когда Наполеон I приказал императору Францу не величать себя более германским императором и не вмешиваться в дела империи, а удовольствоваться титулом австрийского императора и правлением своими наследственными землями. С этого года Священная Римская империя исчезла настолько, что Рейнский союз, образованный из значительной ее части, поступил под протекторат французского императора. Рейнский союз умирает в 1815 году, когда возникает новое государство — Германский Союз, которое гибнет, в свою очередь, после битвы под Садовой, когда под протекторатом Пруссии организуется союз Северогерманский. И теперешняя Германская империя есть новое государство; нет никакой связи между современными ее учреждениями и средневековыми. В организации Германской Империи наших дней имеется гораздо больше сходства с Североамериканскими Соединенными Штатами, нежели с той империей, которая была основана Карлом Великим и снова вызвана к жизни Генрихом Птицеловом, а позднее Гогенштауфенами. Таким образом, в истории Германии приходится отметить не только ряд
фактов возникновения и развития, но и случаев разложения тех или иных политических тел, начиная со всей империи и кончая ее составными частями. Государства растут и умирают, и Монтескье был прав более, нежели Иеллинек, когда говорил, что если Карфаген и Рим погибли, то нет никаких оснований думать, что современные государства будут вечны. И его пророчество исполнилось, потому что многие государства, существовавшие в его время, теперь уже исчезли; целый ряд государств перешел в зависимость от других — на положение провинций — и, наоборот, возникли новые государства. Во время Монтескье не было Болгарского царства, и в современной Болгарии нельзя видеть продолжение существовавшего некогда Болгарского государства. Точно так же было бы совершенным заблуждением отождествлять современную Российскую империю с продолжающимся Киевским и Владимирским великокняжениями.
Сказать поэтому вслед за Иеллинеком, что органическая теория потому уже не имеет смысла, что государства не подчинены законам развития и регресса, едва ли может считаться убедительным.
; § 2 ’
П 1 > 1 ц- » • . ,-ц ,
Дарвинизм так властно проник в обществоведений, и в частности в область социологии, что до эпохи зарождения психологической школы мне трудно указать сколько-нибудь выдающегося писателя, который бы в своих рассуждениях о поступательном ходе развития общества счел возможным не говорить о борьбе за существование или, по меньшей мере, о борьбе интересов, о приспособлении, отвечающем в биологии половому подбору и переживанию наиболее способных. Откроем, например, социологию Летурно. «Главным двигателем,— говорит он, — толкавшим человеческие группы более или менее быстро на путь прогресса, была, без сомнения, неустанная и ожесточенная жизненная конкуренция»5. Таким образом борьба за существование возводится Летурно на степень первенствующего фактора общественного развития. А вот что тот же писатель говорит о роли приспособления в роковом вопросе о том, какой из участников борьбы уцелеет и переживет других: «Чем более члены какой-нибудь группы поддерживали друг друга, являясь
5 См. русский пер. «Социология» Летурно, изд. Поповой, вып. III, гл.: «Политическая и социальная эволюция человечества».
на выручку в момент опасности, тем более шансов было у нее на продолжительное существование и тем вернее могла она пересилить своих менее осторожных соперников»6.
С значительными оговорками учение Дарвина принимается при объяснении социологических явлений Гастоном Ришаром в сочинения «Идея эволюции в природе и истории»7. Полемизируя с теми, кто делает дарвинизму то возражение, что мы не можем указать ни одного случая прямой трансформации или перехода одного вида в другой, Ришар ссылается на общеизвестный факт появления новых разновидностей, если не новых видов, в среде приручаемых животных и разводимых растений. Но где поставить границу между разновидностью и видом? — справедливо опрашивает он8. Сходясь с Дарвином в исходном моменте его доктрины, Ришар примыкает в то же время к неодарвинистам, прежде всего в том смысле, что ограничивает действие элемента борьбы со времени перехода того или другого вида живых существ к общежитию. С этого момента слабые находят, по его мнению, все большую и большую защиту, прямую или косвенную, особенно в том случае, когда при проведении системы разделения труда и для них оказывается возможным осуществление каких-нибудь, хотя бы скромных, общественных функций. Закон устранения менее способных более способными с этого времени прекращает свое действие. Тип размножается, и таким образом прогресс в силу естественного подбора задержан9. Общественная жизнь, следовательно, идет наперекор действию естественного подбора, а между тем виды наиболее общежительные — те, которые всего легче могут приспособиться к условиям существования. Не видеть ли в этом явное доказательство того, что приспособление вызвано другими причинами, а не борьбою за жизнь? В дальнейшем изложении Ришар настаивает на той мысли, что в борьбе за существование победа обеспечена не тому виду, который может затратить наибольшее количество мускульной энергии, а тому, кто, благодаря силе перцепции, может наилучшим образом экономизировать эту энергию10.
Животные, обладающие наиболее дифференцированным мозгом, обнаруживают и наибольшую склонность к общественной
6 Ibid.
7 Париж, 1903 г.
8 Ibid., с. 41.
9 Ibid., с. 72.
10 Ibid., с. 79.
жизни. У беспозвоночных ассоциация — редкое исключение, тогда как у позвоночных она может считаться общим явлением. Начиная с рыбы и оканчивая млекопитающими, мы можем проследить ее безостановочный рост. Что рост мозга стоит в свою очередь в причинной связи с общежительностью, а не с борьбою за существование видно из того, что хищники, питающиеся мясом, добываемым борьбой, не общежительны, тогда как животные, довольствующиеся растительной пищей, живут стадами. А между тем мозг хищников представляет, несомненно, меньше извилин, чем мозг травоядного слона, в свою очередь уступающего в этом отношении мозгу обезьяны. Необходимо признать, таким образом, что жизнь в обществе сама по себе является стимулом к развитию умственной деятельности, в частности памяти и способности комбинировать, перцепции. Но большее развитие мозг и умственной деятельности не совпадает с ростом мускульной энергии и в то же время делает вид более приспособленным к борьбе за существование. Истории и социальной психологии, говорит Ришар, предстоит решить, в какой мере война содействовала развитию человеческого интеллекта. Мы имеем основание думать, что и в настоящее время данные антропологии говорят в пользу защищаемого нами взгляда. Большой объем мозга и лучшая его организация далеко не встречается у воинственных племен. Нам неизвестна раса, более склонная к пролитию крови, чем папуасы Новой Гвинеи. С другой стороны, ни одна раса не обнаружила меньше воинственности, чем китайцы. Но если положиться на исчисления Гальтона и Бастиана, то по своему весу мозг китайца не только не меньше, но, наоборот, больше того, какой представляет средний мозг европейца. Что же касается до мозга папуасов, то по незначительности своего веса он вызывал в Гексли сомнение возможности остановиться на мысли о единстве происхождения человеческого рода11.
- Еще дальше от дарвинизма в социологии стоит Фулье в своих «Социологических элементах морали». «Биологические теории нашего времени,— говорит он,— нашли в применении к социологии самое ложное истолкование. Честью французских писателей по обществоведению надо считать то, что они всегда протестовали против доктрины, признававшей кровь и железо орудиями человеческого прогресса. Еще Эспинас доказывал, что мораль животных построена не на начале борьбы за существование, а на соглашении *
и Ibid., с. 89-92.
о совместной жизни». Пойо в свою очередь настаивал на том, что социальным законом и даже законом жизни, или биологическим, надо считать не насильственное, а мирное распространение вида. Позднее Дюркгейм и Тард оттенили роль, какую, в полной антитезе с борьбой и войнами, играли в социальной эволюции разделение труда, изобретение и подражание. Идя тою же дорогою, что и его предшественники, Фулье противополагает четырем, как он говорит, положениям Дарвина ряд возражений12. Эти четыре закона, по его словам, сводятся к борьбе за существование, к естественному подбору, к приспособлению к среде, наконец, к вариации, или постепенному развитию новых видов. Борьба за существование, по мнению Фулье, не может считаться, как утверждает Ницше, самой сущностью бытия, а является последствием ограниченности пространства, годного для поселения, и недостаточного количества пищевых продуктов. При безграничном размножении живых существ, жизнь в обществе, начало которой может быть констатировано и у животных, вносит новый элемент в условия существования — солидарность. Борьба и солидарность, с научной точки зрения, должны быть признаны одинаково естественными законами13. Приспособление заключает в себе не одну отрицательную сторону борьбы со средою, но и положительную,— кооперацию с нею, установление гармонии.
Полемизируя с теми, кто полагает, что сама общественная солидарность есть порождение борьбы за существование, так как люди образуют союзы с одной целью более удачного соперничества, Фулье говорит, что общение с другими индивидами дает человеку возможность избежать действия закона, устраняющего слабых от соперничества, избежать его как самому, так и в лице потомства. В жизни общественной индивид приобретает новые качества, передаваемые им наследникам. Приобретенные свойства могут быть полезны или вредны для вида. Отсюда необходимость нового подбора. Интеллигентной средою он может быть сделан сознательно — с помощью законов и правительственных санкций. Репрессия одних сделается условием прогресса для других. Фулье отрицает, чтобы отношения людей, собранных в орды, классы и народы, всегда представляли собою те столкновения, какие рисуются, например, воображению Гумпловича. Возникновение общежития ставит нас, наоборот, лицом к лицу с явленьями симпатии и синергии.
12 Les elements sociologiques de la morale. Paris, 1905, c. 177.
» Ibid., c. 182.
§3
Едва ли есть основание упрекать Дарвина в тех преувеличениях, какие позволили себе дарвинисты в социологии, сводя все причины поступательного хода развития человечества к одной борьбе за существование. Дарвин далеко не понимал этой борьбы в том узком смысле войны всех против всех из-за желания каждого удовлетворить чувству голода и невозможности сделать это иначе, как под условием лишения других необходимых средств к жизни, как это делал ранее его известный автор «Левиафана» Джон Гоббс. Ведь рядом с пищей человек стремится еще к удовлетворению других потребностей и, прежде всего, полового инстинкта; из-за него могут возникать столкновения, но они рано или поздно разрешаются спариванием, сопровождающимся у высших особей животного царства, а тем более у людей, заботой о подрастающем поколении и, прежде всего, заботой о защите его от внешних врагов и о сохранении внутреннего мира. Забота о поддержании породы, о продлении своего рода, заключает в себе уже зародыш альтруизма; всякая семья является, прежде всего, замиренной средою, в которой немыслима борьба за существование; ведь серьезно нельзя отнестись к утверждению одного русского социолога, что сама любовь, связанная с половою страстью и ею обусловленная, есть только разновидность борьбы.
Но в числе потребностей, ищущих удовлетворения себе, наряду с голодом, жаждой, половым запросом, есть еще одна, существование которой подозревали уже древние, и во главе всех их Аристотель. Не даром человек назван им животным общежительным и политическим (^(bov poXvriKov). В этом отношении человеком продолжается длинная серия общежительных пород животного царства. Кропоткиным справедливо указано, что общественность является таким же законом природы, как и борьба. «Если спросить природу,— говорит он,— кто оказывается более приспособленным: те, кто постоянно ведет войну друг с другом, или те, кто поддерживает друг друга, то невозможно было бы дать другого ответа, кроме следующего: те животные, которые приобрели привычки взаимной помощи, оказываются и наиболее приспособленными»14. Из многочисленных данных, приводимых этим писателем с целью иллюстрировать
14 Кропоткин. Взаимная помощь, как фактор эволюции / Пер. Батуринского. СПб., 1907, с. 18.
свою мысль примерами, ни один не произвел на меня большего впечатления, как упоминаемый Северцевым факт, что соколы, одаренные почти идеальной организацией в целях нападения, тем не менее вымирают, тогда как другие виды их, менее совершенные в этом отношении, но практикующие взаимопомощь, множатся и процветают15. Я полагаю, что взаимопомощь, подсказываемая нам и наравне с нами несравненно ниже стоящим, чем человек, представителям животного царства, и есть действительный источник того запроса на общежитие, который, очевидно, должен был сказаться с большею, чем у животных, силою у различнейших племен земного шара, так как им вызваны были к жизни и большие нераздельные семьи, и те родовые общества, сперва матриархального, затем патриархального типа, которые мы встречаем на низших ступенях общественности. Этнография указывает нам, что племена наименее общежительные, племена, в которых отдельные пары живут обособленно, самое большее — совместно с подрастающим поколением, принадлежат к числу вымирающих. Достаточно сослаться на примеры вэдда (Цейлон), быт которых так обстоятельно описан был братьями Саразен, чтобы вынести убеждение о тесной зависимости, в какой с вырождением и гибелью отдельных народностей, стоит отсутствие общежительных инстинктов и стремление к изолированности. Новейшие психологи не прочь связать с появлением общежительности и рост самого разума; у общежительных животных, как отмечает это и Кропоткин, мы встречаемся с наивысшим развитием ума; в подтверждение этого можно сослаться, например, на муравьев и термитов; высокое умственное развитие их, говорит Кропоткин,— естественный результат взаимопомощи, практикуемый ими на каждом шагу; у них заметно огромное влияние личного почина, а он-то и ведет к развитию высоких и разнообразных умственных способностей. Мозг муравья и термита, говоря словами Дарвина, представляет один из самых чудесных атомов материи, быть может, даже более удивительный, чем мозг человека. Сказанное о муравьях и термитах может быть повторено и о пчелах; работая сообща, они тем самым умножают в невероятных размерах свои индивидуальные силы, а прибегая к временному разделению труда, они за каждой пчелой сохраняют возможность исполнить, когда это понадобится, любую работу, специализируя в то же время способности каждой в известном направлении. Ум пчел настолько
изощрен, что они с успехом борются далее с непредвиденными и необычными обстоятельствами, для них неблагоприятными. Это показывает пример пчел на парижской выставке; так как их беспокоил свет, то они залепили оконце смолистым веществом, известным под именем пчелиного клея или узы. Один из современных социологов, более других останавливающихся на той мысли, что общежительность влияет на развитие умственных способностей и что психическая жизнь зависит в своей интенсивности от жизни в обществе — я разумею Де Роберти,— справедливо говорит: «Наши мысли и чувства в значительной мере продукт социальной среды; социальная среда выступает в роли деятельной причины уже в том раннем фазисе развития, когда органические силы одни вырабатывают в индивидуальных умах явления идейного и эмоционального характера, переживаемые этими умами»16.
Повторяю. Дарвин неповинен в том злоупотреблении, какое сделано было из верной в общем теории борьбы за существование в применении к социологии. «Я употребляю это выражение,— писал он,— в широком и метафорическом смысле, включая сюда зависимость одного существа от другого, а также подразумевая, что еще важнее, не только жизнь одной особи, но и успех ее в обеспечении себя потомством» 17. Как справедливо указывает Кропоткин, «такое широкое понимание не противоречит возможности, оставаясь дарвинистом следовать примеру петербургского профессора Кеслера и признать, что чем теснее дружатся между собою индивиды известного рода, чем больше оказывают они помощи друг другу, тем больше упрочивают существование вида и тем больше имеется шансов, что данный вид пойдет дальше и усовершенствуется, между прочим, в интеллектуальном отношении»18. Образование таких ассоциаций, из которых каждая является замиренной средою, нимало не препятствует, однако, дальнейшему действию борьбы за существование, в которую эти ассоциации вступают отныне на правах отдельных единиц. Ланессан верно выразил эту мысль в самом названии своего сочинения: «Борьба за существование и ассоциация для борьбы». Образование муравейников, пчелиных ульев, птичьих стай, стад животных останавливает
W Де Роберти. Новая постановка основных вопросов социологии / Пер. с франц., с. 76-77.
См. собр. соч. Дарвина на русск. яз., т. I, изд. 2. «Происхождение видов», с. 45.
18 Речь о законе взаимной помощи, в «Труд. Спб. Об-ва естествоиспытателей», т. XI, изд. 1880, с. 100,131.
борьбу только внутри сообщества, но сами сообщества с момента их образования, несомненно, принимают участие в этом мировом соперничестве, в этой охватывающей всю органическую природу конкуренции из-за поддержания жизни и воспроизведения породы. Силы отдельных особей, несомненно, приумножаются от такого обобществления их, и они пользуются этим обстоятельством для того, чтобы с новой энергией возобновить борьбу все в тех же интересах поддержания жизни и ее воспроизведения в будущем. «Некоторые животные,— говорит Эспинас,— сходятся в группы для определенной цели, как взаимной защиты, так и совместного нападения; весьма большое число птиц соединяется в стаи подобно тому, как это делают между насекомыми могильщики и священные жуки; и те, и другие — для удаления посторонних пришельцев, борьбы с врагами и завладения добычей; вороны сообща атакуют зайцев, ягнят и молодых газелей, с которыми не могут справиться в одиночку; волки точно так же соединяются вместе для трудных предприятий»19. Таким образом, борьба за существование только осложняется образованием ассоциаций для временных или постоянных целей. Это может быть сказано в равной степени и об общежительных союзах людей. Роды, племена и нации, являясь каждый или каждая в отдельности замиренною средою, участвуют в кровавом и бескровном соперничестве с целью обеспечить себе наибольшие выгоды.
Один австрийский социолог — Гумплович — счел возможным построить на этом факте всю свою доктрину происхождения государств и народов. Понимая расу не в смысле антропологов, а в том широком и фигуральном значении, какое придается ей в разговорной речи, он выставил смелую гипотезу, по которой ни одно политическое тело не возникает иначе, как под условием столкновения разноплеменных народностей и подчинения сильнейшим слабейших. Его собственное отечество — Австрия — с разнообразием населяющих его народностей и насильственным покорением их немцами и венгерцами легко могло навести его на мысль, что нет других народов, кроме смешанных, и других государств, кроме таких, основу которых положило завоевание одной племенной группою разнокровных с нею. Еще в первом своем сочинении, озаглавленном «Раса и государство», Гумплович объясняет возникновение последнего, как организацию властвования, создаваемую племенем, обыкновенно пришлым и силою меча
19 Эспинас Л. Социальная жизнь животных / Перев. с 2-го франц, изд. Ф. Павленкова, с. 397.
покоряющим себе туземных насельников, насильственно обращаемых в неволю. Недостатка в исторических примерах он, разумеется, не чувствует. Империи Востока, начиная с Вавилоно-ассирийской, переходя затем к Мидо-персидской и заканчивая теми, более или менее эфемерными, созданиями, возникновение которых связано с именами Александра Македонского и отдельных генералов его армии, наконец с Сассанидами, Тамерланом, владычеством монголов и татар над покоренными племенами Индии, Западного Китая, Туркестана и обширных степей юго-востока и юга России, представляют нам в течение нескольких тысячелетий непрекращающийся ряд насилием установляемых господств, при которых не ставится и вопроса о желании покоренных народностей подчиняться навязанной им власти или о готовности их признать равенство гражданских и политических прав за побежденными. Но, может быть, политические организации Востока составляют исключение из общего правила; может быть, отсутствие всякой органической связи между входящими в их состав этническими группами и сдерживание их воедино исключительно войском и полицейской стражей, с чем в свою очередь связана легкая смена властителей, позволяет нам не принимать их в расчет при решении вопроса о нормальном, так сказать, ходе политического развития. Но разве история Спарты и Рима не ставит нас лицом к лицу с теми же явлениями; разве метеки и гелоты, латинские и итальянские союзники, не говоря уже о массе рабов-инородцев, не поддерживают представления о том, что неравенство правящих и подвластных тесно связано с различием племенного состава и что политическое владычество сохраняет за собою только покорившая других этническая группа далеко не первых насельников, а пришлых завоевателей? А в новой Европе не видим ли мы образование крупных политических тел, благодаря насильственному захвату отдельных провинций Римской империи франками, лангобардами, саксами, вестготами и т.д., к чему присоединяется со временем завоевание финских и славянских племен, начиная с юга, турками, венграми и немцами, наконец, норманнами в Восточной Европе, в землях, омываемых Ледовитым океаном, Немецким и Балтийским морями? Не встречаем ли мы тех же норманнов завоевателей на островах Великобритании столько же, сколько и в Сицилии? Все говорит поэтому, по крайней мере с первого взгляда в пользу выставляемой Гумпловичем теории. Если взглянуть в Новый Свет и спросить себя о возникновении, например, царства инков, то придется удостоверить тот же факт покорения туземных племен пришлым и установление
неравенства состояний на началах не одного разделения труда, но и племенного различия властвующих и подвластных. С другой стороны, чем ближе мы знакомимся с действительным характером кастового устройства, тем более бросается в глаза значение, какое имело в его образовании противоположение завоевателям-арийцам покоренных ими туземных дравидийских племен Индии. История новейших народов и их колониальной политики также может быть привлекаема для доказательства той мысли, что государственная жизнь возникает не без решающего влияния военного занятия и покорения туземцев пришлым завоевателем. Вспомним хотя бы об условиях возникновения современной англо-американской гражданственности и тех многочисленных республик, начало которым положило испанское владычество. По-видимому, на основании этих примеров можно прийти только к тому заключению, которое Гумплович считает себя вправе возвесть на степень социологического закона. В силу его люди, объединенные сродством физическим и нравственным, не только чувствуют между собою большую солидарность, но и противополагают себя, как целое, всем, кто стоит вне их союза. Притягательную силу, какую они обнаруживают друг к другу, Гумплович обозначает термином сингенизма. Этому чувству солидарности между членами одного и того же сообщества соответствует ненависть к чужеродцам; она, по мнению гумпловича, настолько сильна, что не позволяет первобытным племенам и народностям иметь друг с другом иные сношения, кроме военных. Война, по его мнению, является единственным средством к сближению разноплеменных групп и должна считаться важнейшим социологическим фактором; одна война ведет к слиянию первобытных групп в более обширные союзы. Люди одного племени, люди, отрицающие унаследованную от предков веру, говорящие другим языком, имеющие особые нравы и обычаи и, прежд< всего, принадлежащие к другой крови, даже, не кажутся данной группе одной породы с нею. По мнению Гумпловича, борьба рас одна ведет к амальгамации одним народом других, к слиянию племен между собою. Только с того времени, когда последует это слияние, борьба рас принимает характер более мирный, как выражается наш автор,— юридический (?). Эта перемена сказывается созданием государства и власти в интересах более сильной расы, расы победителя20.
20 См.: Гумпловиг. La lutte des races, с. 258. Ср.: Ковалевский. Современные социологи, с. 109.
Остановимся на этом положении и спросим себя: в какой мере процесс расширения замиренной среды действительно отвечает той характеристике, какая дана ему Гумпловичем? Нет ни малейшего сомнения в том, что отношения родов и племен носят всего чаще враждебный характер. Это можно сказать и о тех остальных народностях, с которыми знакомит нас этнография, и о тех отдаленных предшественниках современных нам наций, о которых, как, например, о восточных славянах, летописцы не раз повествуют: «восста род на род». Но воинственное отношение, будучи фактом ежедневным, в то же время, за исключением специальных и преходящих периодов открытого междоусобия, далеко не отвечает картине «войны всех против всех», какую рисовал себе Гоббс еще в середине XVII века и которая, по-видимому, не раз встает перед воображением австрийского мыслителя. В противном случае неизбежным последствием было бы взаимное истребление и совершенное исчезновение отдельных родов и племен. Такие случаи, конечно, могут быть отмечены в быте не одних краснокожих, где, как известно, целые племена — например, племя могикан — были стерты с лица земли; но все же при нормальном течении жизни междуродовые отношения рисуются нам скорее в форме отмщения родом роду частных обид, нежели в форме воинственных походов и повальных истреблений. Самые отмщения только потому не ведут к этому исходу, что заканчиваются нередко уступкой потерпевшему роду того или другого члена родом обидчика. Это, по всей вероятности, древнейшая форма усыновления, к которой не замедлили присоединиться и другие, как-то: включение в собственный род «изгоев», отщепенцев от других родов, т. е. лиц, покидающих свою собственную среду в силу принуждения или по собственному выбору, наконец, «зятьев», т. е. лиц, принятых родом в свою среду на правах мужей принадлежащих роду девушек и вдов. Обычай экзогамии, т. е. обязательного брака с чужеродцем, необходимо должен был содействовать учащению случаев таких усыновлений жениха родом невесты. К единоличным усыновлениям присоединяются со временем и коллективные, в силу которых менее многочисленные роды, остатки вымерших или истребленных принимаются в состав более численных и могущественных. Кто знаком с русским обычным правом, тому не безызвестно, что у наших крестьян и по настоящее время усыновление зятя может считаться общераспространенным явлением. Теперь несколько подробностей насчет включения в состав рода чужеродцев и помимо брака.
Помилованный убийца, как и у американцев краснокожих, нередко принимаем был на Кавказе в род помиловавшего, так что оба становились с этого момента кровными братьями. В расширении замиренной среды участвует не одна война, но и мирное соглашение, принимающее обыкновенно религиозно-символическую форму приобщения чужеродца к культу родовых и племенных божеств, после чего он вступает в права и несет обязанности общие всем членам рода. Разумеется, такие порядки не оправдывают гипотезы Тарда о том, что человечество с самого начала могло прогрессировать независимо от войны. Оно показывает только, что война настолько содействовала сближению отдельных племен, насколько последствием ее являлось; соглашение, сперва вынуждаемое и поддерживаемое силой, а затем переходящее в принимающее характер чего-то добровольного.
Если в начальный период развития соглашению уже суждено играть такую значительную роль в расширении замиренной среды, то нет никакого основания отказывать ему в той же роли в позднейшую эпоху. Не раз в истории повторялись явления, однохарактерные с теми соединениями племен, какие положили основание Афинам, Риму, русскому государству, согласно свидетельству нашего начального летописца, союзу лесных кантонов — этому эмбриону современной Швейцарской федерации, лиге ирокезцев и Австралии. Из сказанного видно, что точка зрения Гумпловича на процесс развития человеческих обществ и государств, в частности, неверна настолько, насколько она страдает односторонностью, насколько сводит все источники общения к враждебным столкновениям отдельных групп и поглощению слабых сильными. В уме австрийского социолога эта воинственная и завоевательная тенденция принимает характер чего-то фатального. Не желая того сами, люди и нации вовлекаются в какую-то истребительную войну для общего блага человечества. «Подчиняясь необходимости,— пишет он,— первобытные народы принуждены предпринимать разбойничьи походы, в которых противники меряются силами. Когда эти не раз повторенные предприятия, сопровождающиеся грабительствами и истреблениями, оказываются недостаточно выгодными для более сильных, тогда последние переходят к постоянному закрепощению как соседних к ним, так и отдаленных заморских племен и принуждают их к хозяйственной эксплуатации завоеванных территорий. Так возникают государства (ainsi est inauguree la formation des Etats), и в этом же лежит объяснение позднейшего территориального их расширения и возникновения
обширных империй»21. Подобный ход событий, пишет Гумплович, может быть признан типическим. Мы находим его во все времена и во всех частях света. Гумплович более подробно развивает тот же взгляд в сочинении «Борьба рас». Он старается доказать, что государства всегда основывались меньшинством воинствующих пришельцев, подчинявших себе туземные племена силою оружия. Осевшись между ними вооруженным лагерем, они постепенно ассимилировали их себе. Эта ассимиляция совершалась в форме то усвоения их языка и религии, то распространения собственного языка и собственной религии в среде побежденных. В обоих случаях одинаково покоренные туземцы прикрепляемы были к земле и начинали возделывать почву в пользу меньшинства победителей. Из одних последних вербовался высший класс собственников. Посредствующее среднее сословье, по утверждению Гумпловича, всегда образуется на первых порах из иностранцев; только со временем присоединяются к ним некоторые эмансипировавшиеся пласты простонародья. Таким образом, война в конце концов ведет не только к созданию государств и правительств, всегда находящихся в руках меньшинства, но и вызывает различие собственности и зависимого владения, свободы и несвободы, наконец, целый ряд общественных наслоений, принимающих, где характер каст, а где — сословий и классов.
Такова в самых, разумеется, общих чертах теория общественной эволюции Гумпловича,— теория, в которой, как должно бросаться в глаза каждому, сказались все последствия допущенной им односторонности. В самом деле, если история нигде не ставит нас лицом к лицу с возникновением государства и власти путем общественного договора, о котором не прочь были говорить политические писатели XVII и XVIII веков с Гротом и Альтузием во главе, то, с другой стороны, мы не вправе обойти молчанием те случаи, в которых удачный посредник, составитель мудрых третейских решений, становится родоначальником правящей династии или, по меньшей мере, избранным вождем народа. Эти случаи, иллюстрацией которых может служить история судей Израиля, повторяются и в новое время, как показывает, между прочим, сообщенный мною пример Кайтагского Уцмийства, начало которому положено было в XVII веке, благодаря популярности, приобретенной судебным посредником, неким Рустемом, хранившим в тайне постановленные им решения и передавшим их запись своему ближайшему потомству. Точь-в-точь
21 Sociologie et politique, с. 158.
поступали веками ранее ирландские третейские разбиратели так называемые брегоны, также хранившие в тайне содержание своих приговоров. Очевидно, с другой стороны, что только древностью человеческого рода, а следовательно, продолжительной сменой народностей и рас, заселивших собой старый и новый материки, объясняется видимая общность того явления, в силу которого государства всего чаще основываются завоевателями-пришельцами. Было ли так на первых порах и вправе ли мы утверждать это даже по отношению ко всем историческим народностям,— это другой вопрос. Я не знаю, в какой мере древнейшие правители Ирландии и Уэльса или немецкие герцоги и короли упоминаемые Тацитом, должны считаться представителями завоевательного меньшинства. Очевидно поэтому, что только с большими ограничениями можно признать наличность утверждаемого Гумпловичем общего положения; ведь германцы и кельты принадлежат к арийской культуре, если не расе,— культуре, первоначальной родиной которой считается Азия. Таким образом, вопрос осложняется нередкою сменою рас и невозможностью заглянуть в то отдаленное прошлое, когда о жителях Европы можно было говорить, как об автохтонах. Но раз отрешившись от той мысли, что где нет туземного правительства, там необходимо предположить установление власти и государства завоеванием, нам трудно будет говорить о славянских князьях, упоминаемых византийскими писателями, как о правителях, отличных по расе от своих подданных. Говоря о призвании в Россию князей, наш начальный летописец также указывает на возможность установления государства и власти помимо завоевания. Во всяком случае, совершенно немыслимо в применении к русскому высшему сословию, как и к англосаксонскому или франкскому, поддерживать тот взгляд, что оно целиком составилось из меньшинства завоевателей. Ведь в нем одним из составных элементов были служилые люди, которым в Англии отвечают таны, а во Франции — антрустионы. В число этих служилых людей попадали и туземцы, и иностранцы, и люди высшего общественного положения, и их холопы. Профессору Ключевскому, в частности, как и всем новейшим исследователям по истории русского дворянства, удалось как нельзя лучше показать, что в состав его вошли и несвободные элементы княжеской дворни. Что и в Англии звание «тана» не принадлежало исключительно членам аристократических династий, следует уже из того, что купцу, три раза переплывшему Ламанш, по законам англо-саксонских королей, открывалась возможность сделаться таном.
Желание во что бы то ни стало провести тот взгляд, что в делении общества на горизонтальные пласты надо видеть последствие «завоевания и эксплуатации» большинства туземцев меньшинством завоевателей, создающих исключительно себе на пользу государство и правительство, делает Гумпловича совершенно слепым к той роли, какую разделение труда играло в создании одинаково, хотя и не в равной степени, каст, сословий и классов.
Новейшие исследования английских и французских писателей как нельзя лучше доказали, однако, что в кастах, известных не одной Индии, но также и Египту и Элладе, по крайней мере в древнейший период (в частности, Афинам до Солона), надо видеть продукт взаимодействия как расовых причин, — противоположения арийцев-завоевателей покоренному населению,— так и причин экономических, сделавших из касты своего рода гильдию или цех с чертами искусственного рода, или нераздельной семьи, чертами, общими ремесленной корпорации, одинаково на Востоке и Западе!22 Не видя или, вернее, не желая видеть влияния, какое разделение труда имеет на создание каст, Гумплович, разумеется, игнорирует роль экономического фактора и в образовании сословий. В действительности, ни на Западе, ни на Востоке Европы мы не находим прямого подтверждения теории Гумпловича о роли, какую борьба рас имеет на выработку сословного строя.
Положениям Гумпловича недостает, таким образом, разносторонности и той историко-сравнительной проверки, при которой индукции его могли бы считаться эмпирическими обобщениями, если не законами социологии. Заслуга его состоит в том, что он поставил ребром вопрос, доселе недостаточно изученный,— вопрос о роли, которую насильственные сближения отдельных рас и племен оказали на внутреннюю структуру государства. Роль эта им несомненно преувеличена, но столь же ошибочным было бы и совершенное ее игнорирование. Нельзя также упрекнуть его в понимании расы в одном антропологическом смысле. Он как нельзя лучше сознает, что особенности каждой — по преимуществу культурные и могут быть сведены к языку, религии, нравам, обычаям и обрядам. Всего более я готов поставить Гумпловичу в вину почти совершенное игнорирование той роли, какую разделение общественных функций играет в образовании тех горизонтальных пластов, каст, сословий, классов, на какие распадается население любого государства.
22 См. об этом, в частности, статью Буглэ «Remarque sur le regime des castes» в VI т. «Annee Sociologique» 1901 г. •
III
Психологическая школа в социологии
§1
Основатель социологии Конт, высказываясь в пользу близкой ее зависимости от биологии, особенно настаивал на необходимости более детального изучения функций мозга и видел в нем ближайший шаг к построению науки об обществе. В его время Галль уже сделал попытку локализации в мозгу отдельных центров психической деятельности человека. Этой только стороной основанная им «френология» заинтересовала собой родоначальника «положительной философии». Психология в его время орудовала еще исключительно методом самонаблюдения, психофизики не существовало. При таких условиях немудрено, если Конт принужден был ограничить свою попытку найти социологии психологические основы скромной главой, заключавшей в себе одну передачу основных положений Галля, в частности его попытки приурочить к переднему и заднему мозгу умственные и аффективные явления человеческой психики. Милль, как и можно было ожидать от последователя философии Гамильтона, поставил в особую вину французскому мыслителю его систематическое игнорирование результатов, достигнутых шотландскими психологами и в значительной степени воспринятых Кантом. Можно было бы ожидать, что в Англии, где формулирован был впервые этот протест, и зародится психологическая школа социологии. Было основание думать, что Герберт Спенсер, посвятивший в своей «Системе синтетической философии» целых два тома изучению основ психологии, на ней и построит здание обновляемой им абстрактной науки об обществе. На самом деле не последовало, однако, ничего подобного, и в обобщениях Спенсера, в его учении об общественном организме, биология была призвана играть неподобающую ей роль ближайшего фундамента обществоведения. Между тем, в области конкретных наук об обществе, прежде всего в науке об языке, стала чувствоваться все более и более потребность в восхождении к данным психологии. Одному из берлинских филологов — Штейнталю — пришло на мысль основать даже целый журнал, посвященный изучению тех особых явлений, которые в наше время обозначаются термином междуумственных (intermentaux), и для которых в Германии придумано было название, как я полагаю,
не вполне удачное,— «народной психологии» (Volkerpsychologie). Ближайший сотрудник Штейнталя, Лацарус, стал читать одновременно лекции о народной психологии в Берлинском университете и старался, между прочим, применить в них статистический метод к подсчету явлений психического порядка.
В возможности такого распространения статистического метода с мира материальных явлений на область психических, впрочем, сразу высказано было сомнение в среде даже тех экономистов, которые, как, например, Адольф Вагнер, не прочь считаться с психическими факторами при установлении законов экономики.
За наукою о языке наука о народном хозяйстве первая испытала на себе влияние этого нового психологического направления. Австрийская школа, с К. Менгером и Бем Баверком во главе, представила в своих сочинениях довольно убедительные доказательства пользы такого расширения основ политической экономии. Но на этом пока остановилось в Германии движение в пользу обновления общественных наук с помощью психологии. Нельзя сказать того же о Франции и Соединенных Штатах Северной Америки. Более или менее независимо от движения, начало которому было положено в Германии, Тард еще в 1881 году в статье, появившейся в «Философском Обозрении» Рибо, заговорил о необходимости психологического метода в политической экономии23. Тому же Тарду, при критике итальянской школы криминальной антропологии, не раз приходилось останавливаться на мысли о необходимости принять при построении науки уголовного права в расчет те междуумственные влияния, которыми обусловливаются преступные действия толпы, получающие, смотря по успеху или неуспеху, характер то революции, то мятежа.
Основное сочинение Тарда, излагающее его точку зрения на природу всех социальных явлений вообще, цепь повторений или подражаний, появилось всего-навсего в 1890 году, достаточно давно, однако, чтобы оказать воздействие и на того из американских психологов, взгляды которого на характер междуумственных явлений всего более приближаются к учениям французского мыслителя. Говоря это, я имею в виду Марка Бальдвина, профессора в университете Принстон и автора двух весьма выдающихся сочинений: «Умственное развитие в ребенке и в расе» и «История человеческого разума». Последняя вышла и на французском языке под заглавием: «О социальной и нравственной интерпретации
23 La Psichologie en economie politique. «Revue philosophique», septem. et octobre 1881.
принципов умственного развития». Если прибавить к двум названным писателям американского социолога Гиддингса и несколько молодых криминалистов-антропологов, в частности итальянцев Сигеле и Росси, то мы почти исчерпаем список лиц, оставивших сколько-нибудь серьезный след в сфере обновления абстрактного обществоведения на психологической основе.
Из названных нами писателей ни один, разумеется, не заслуживает большего внимания со стороны социологов, чем Габриель Тард. Ему принадлежит и честь почина, и широкое применение самостоятельно выработанной доктрины к разнообразнейшим сферам общественности, как то: к праву, к политике и к экономике.
Взгляды Тарда нашли впервые систематическое выражение себе в известном трактате Тарда, озаглавленном «Законы подражания». «Надо объяснять ход истории,— пишет Тард,— не какими то высшими причинами, а человеческими действиями (с. 2 “Законов подражания”). Нам одинаково чужд,— продолжает он,— и мистический идеализм, сказывающийся в толковании исторических событий высшими причинами, и банальный индивидуализм, состоящий в объяснение социальных явлений капризами великих людей. На наш взгляд, эти изменения объясняются появлением, пожалуй, до некоторой степени случайным, но только по отношению к месту и времени, великих идей и более или менее значительного числа и мелких и крупных, и простых и сложных, нередко проходящих незамеченными при их появлении и весьма часто остающихся анонимными; общее всем им то, что они всегда по существу содержат в себе новизну. Я зову их потому,— пишет Тард,— открытиями или изобретениями». Говоря это, наш философ имеет в виду всякое изменение, всякое усовершенствование, как бы ничтожно оно ни было, и притом во всякого рода общественных феноменах — в языке, религии, политике, праве, промышленности, искусстве... Преемственная связь, обыкновенно допускаемая между историческими изменениями, сводится в глазах Тарда в своем источнике к ряду новых идей, ряду длинному, но прерывному, в котором соединительной связью являются акты подражания. Во всех общественных изменениях необходимо поэтому признать отправным пунктом обновляющую мысль; она приносит с собою удовлетворение назревшим потребностям. Это новшество распространяется в обществе путем обязательного или добровольного подражания, сознательного или бессознательного, и с большей или меньшей скоростью, наподобие световой волны (ibid., стр. 3). Все общественные явления обязаны своим возникновением взаимодействию
открытий и подражаний. Последние своего рода реки, стекающие с гор, представляемых открытиями. Такая точка зрения может показаться своего рода идеализмом, пишет Тард, но такой идеализм тем отличается от того, какого придерживаются философы истории, что состоит в объяснении событий идеями их виновников, а не идеями самого историка.
Сводя источник социальных явлений к взаимодействию открытий и подражаний, Тард правильно указывает на необходимость положить в основу общественной науки не столько учение о живом организме, т. е. биологию, сколько учение о природе междуумственных процессов, т.е. общественную психологию.
Подобно тому как для биологии основной посылкой является закон неуничтожаемости материи и сохранения энергии, закон, взятый на прокат у наук физико-химических, так точно для социологии имеется ныне возможность заимствования основных ее посылок из ближайшей к ней в иерархическом порядке психологии. Объяснение всего порядка социальных явлений взаимодействием открытия и подражания дает ключ к пониманию и так называемой роли личности в истории, и самого генезиса общественных структур, как переходящего в привычку ряда подражаний. Но заканчивается ли раскрытием в области общественной жизни роли открытия и подражания вся задача социолога? Тард и его единомышленники, по-видимому, готовы были одно время ответить на этот вопрос утвердительно. Полемизируя с Дюркгеймом, Тард ставит ему в вину желание приискать для социальной науки какие-то особые законы, ей исключительно свойственные. Для самого Тарда социология не более как коллективная психология24.
Если бы это было так, если бы социальная наука имела дело только с повторениями в форме подражаний, то ею, очевидно, нельзя было бы считать нечто иное, как статистику, разумеется, под условием применения метода подсчета и к нравственным явлениям. Найдутся, разумеется, и в прошлом писатели, утверждавшие, что «история не более как продолжающаяся статистика, а статистика — остановившаяся история» (фраза Зюсмильха). Но понимаемая в смысле статистики — социология, как я полагаю, едва ли в состоянии дать нам какое либо определенное представление о прогрессе.
24 В сборнике Тарда, озаглавленном “Psychologie Collective”, мы встречаем следующее признание: “Ceux qui comme 1'auteur de cet article entendent par la sociologie la psychologie collective tout simplementy” (с. I) etc.
Писатели, как Тард, поэтому, мне кажется, совершенно логично, во-первых, не признают прогресса непременным условием жизни обществ, а во-вторых, отрицают необходимость того, чтобы различные русла, по которым протекает жизнь отдельных народов, направили свое течение в одном и том же смысле. Конечно, самый прогресс накопления открытий и их усвоение обществом, благодаря подражаниям, уже говорит в пользу поступательного движения, но в каком направлении последует это движение и какова конечная его цель, на это можно ответить, пишет Тард, только такими общими положениями, как все большее и большее господство человека над природой, все большая и большая утилизация ее сил взамен сил человеческих. Мы вправе также признать вытекающими отсюда последствиями, например, численное увеличение класса лиц, располагающих досугом и, следовательно, способных посвятить свои силы другим задачам, помимо простого обеспечения личного существования и продолжения породы. Дальше таких общих заключений едва ли можно дойти, сосредоточивая всю работу социолога на одной классификации явлений в группы изобретений и подражаний.
Я полагаю далее, что психологический метод бессилен объяснить причину, по которой две или несколько гражданственностей, никогда не входивших между собой в культурный обмен и не имеющих общего источника происхождения, проходят одинаковые стадии развития. Такой факт прямо и отрицается сторонниками психологической школы.
Метода, состоящая в классификации всех общественных явлений в две группы — открытий и подражаний, не останавливается ни перед какими трудностями. Она не видит даже противоречия себе в том факте, что инициатором движения иногда является не индивид, а толпа. Тард прямо допускает возможность такой перемены ролей: гипнотизируемые сомнамбулы могут гипнотизировать других в свою очередь. Миллионы людей в таком случае производят коллективное внушение своим медиумам и ведут их за собой (Les lois de 1’imitation, стр. 94). В этом лежит, по мнению Тарда, объяснение революции.
Но, взявшись все истолковать, теория подражания поставлена в необходимость не раз делать совершенно произвольные допущения. Так, на вопрос, почему в разных местностях, помимо прямого воздействия их друг на друга, возникли те же общественные структуры, Тард отвечает указанием на то, что в каждом данном случае произведен был цикл открытий, самых разнообразных и несходных; но из этих открытий привились, в силу подражательного процесса,
только те, которые отвечали действительной нужде, т. е условиям физической среды и психическому уровню населения (ibid., с. 51). Но мы видим, что здесь место объяснений занимают произвольные допущения.
Благодаря такому ряду не допускающих проверки гипотез, теория взаимодействия открытия и подражания становится совершенно неуязвимой. Стоит только допустить, во-первых, сходство людей с автоматами или с сомнамбулами, во-вторых, беспредельность их общения в доисторический период, в-третьих, возможность обратного гипнотического воздействия толпы на медиума, и в истории человечества не окажется ни одного необъясненного факта, если только считать объяснением простое указание на инициатора и на подражателей.
Единство истории, допущение факта поступательного движения человечества и при отсталости тех или других народов, так как последние рано или поздно принуждаются к восприятию высшей культуры,— мысли, которые резко расходятся с решительным скептицизмом Тарда насчет возможности установить общие стадии человеческого прогресса. В одном из своих сочинений, в «Этюдах по социальной психологии», он даже сравнивает общие формулы подобного рода с какими-то круговыми билетами, выдаваемыми железнодорожными обществами. Я не вижу особой силы в таком уподоблении и не могу даже открыть ближайшего повода к нему. Ведь о круговращательном движении не заходит более речи со времени известных «ricorsi» Вико: если Конт и его последователи говорили о смене теократической эры сперва метафизической, а затем эрою положительного знания, то им, разумеется, и в голову не приходит возможность возвращений, когда бы то ни было, к отправным пунктам развития. Едва ли также провозвестники закона общественной дифференциации, со Спенсером во главе, предвидят в будущем поворот к прежнему безразличию общественных органов.
В отрицании единства истории, т.е. общности культурного раз-вйтия, и в допущении безграничного действия подражания лежит, как мне кажется, источник всех особенностей разбираемой нами теории. Для нас небезынтересно задаться вопросом о том, чем вызвана была в ее провозвестнике Тарде эта не скажу — односторонность, а близорукость. Сложность общественных явлений и зависимость поступательного хода социологии от успехов конкретных наук объясняет нам причину, по которой любой из современных деятелей в этой области неизбежно ищет в той или другой из этих частных дисциплин указаний на метод, какого должна придерживаться и аб
страктная наука об обществе. Многие из современных нам социологов оперируют по преимуществу или этнографическим материалом, или данными экономической истории. В отличие от всех их, Тард всего более заинтересован недавними успехами, сделанными совокупностью тех научных дисциплин, которые в остатках материальной культуры и в данных языка думают найти ключ к пониманию нашего доисторического прошлого. Его внимание привлекла также статистика, которой ему долгое время пришлось заниматься в качестве руководителя статистических работ при министерстве юстиции. Такими личными пристрастиями, до некоторой степени обусловленными избранной им специальностью, я только и могу объяснить, что в главе, отведенной вопросу: «что такое история», Тард говорит нам исключительно об археологии и статистике, в частности, о пользе, какую может оказать для истории и социологии усвоение ими метода, присущего названным наукам. Говоря об археологии, Тард, по-видимому, не прочь обнять этим именем все науки, изучающие доисторию с помощью переживаний, будут ли этими переживаниями учреждения, обычаи, поверья и т.д. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что его точка зрения на археологический метод определилась всецело работами тех до-историков, которые ограничивают свою задачу изучением материальных остатков исчезнувших обществ. По непонятной для меня странности, автор «Законов подражания» считает таких археологов работающими в наиболее научных условиях, благодаря самой невозможности поставить себе известные задачи, как то: определить время и народность тех могил, в которых найдены изучаемые ими предметы.
Если спросить самих археологов, то они едва ли признают это преимуществом; в противном случае они не направляли бы своих усилий на решение вышеуказанных вопросов. И в самом деле, какое превосходство признать за таким методом, сравнительно с методом историческим, при котором число неизвестных доведено до минимума, и исследователь имеет дело с рядом воздействующих друг на друга фактов и отношений?
Только благодаря несовершенству своих приемов, могли некоторые археологи, и то в начальный период развития самой науки, строить гипотезу насчет широкого общения, якобы существовавшего между доисторическими народностями. Оно допускалось на том слабом основании, что у длинного ряда племен, не входивших между собою в культурный обмен, открыты были однохарактерные орудия, сперва из неполированного, затем из полированного камня. Тард,
к моему немалому изумлению, считает такие догадки научными. Он склонен видеть в них подтверждение дорогой для него теории. «Археологи,— пишет он — занимаются чистой социологией, потому что разрытые ими мертвецы остаются для них тайной, и одни творения этих мертвецов, продукты архаических идей и потребностей, подлежат их анализу. Они, согласно идеалу Рихарда Вагнера, слушают музыку, не видя оркестра. Я знаю, что это для них тяжкое лишение; но время, уничтожившее трупы живописцев-писателей, надписи которых они разбирают, фрески, торсы, вазы и палимпсесты, которых они истолковывают, оказало им существенную услугу: оно позволило им выделить, что есть истинно-социального в человеческих фактах, и устранить все, что есть в них только жизненного... Для археологов история, упрощенная и преобразованная, вся сводится к явлениям и развитию, к соперничеству и конфликту оригинальных идей, потребностей и открытий, которые, таким образом, становятся для них истинными агентами человеческого прогресса» («Les lois de 1’imitation», с. 113-114).
Итак, для Тарда имеет особую цену археологический метод, позволяющий построить, как он справедливо замечает, общественную палеонтологию. Наука эта, во всяком случае, оперирует фактами, менее прочно установленными, чем «сравнительная история обществ». Но для Тарда эти соображения не имеют силы. Данные этнографии, этнологии, истории права и построенное на основании их сравнительное изучение древних обществ ни на минуту не останавливают на себе его внимания. Для него, очевидно, имеют большее значение догадки археологов и мифологов о доисторическом общении всех народов, якобы раскрываемом сходством орудий каменного века, а также существованием странствующих сказаний, обошедших собою весь мир, но имевших некогда свою родину,— где именно, все еще остается неизвестным или, по крайней мере, спорным.
К счастью, в среде мифологов, как и в среде сравнительных историков народной словесности, резче и резче сказывается стремление найти, взамен одного, ряд первичных очагов и отправных пунктов развития мифов и легенд. Едва ли кто станет говорить в наши дни,— особенно с тех пор, как Тейлор доказал чуть не повсеместное господство анимизма,— о том, что этот анимизм — продукт мирового процесса подражания. Едва ли также кому-либо придет в голову объяснять заимствованиями, положим, из рыцарской поэзии те многочисленные намеки на феодальные порядки, какие рассеяны в японских сказках, обнародованных Митфордом; Я полагаю поэто
му, что сравнительным мифологам и фольклористам необходимо признать, наряду с подражанием, возможность не раз повторяемого открытия одних и тех же поэтических образов и сюжетов, другими словами, сходных по существу сказаний. Их странствия будут локализированы, и близость отдельных циклов легенд и мифов друг к другу найдет объяснение себе в общности физической и нравственной среды, по крайней мере, на низших ступенях культуры.
Не на одном, впрочем, археологическом методе выработал Тард свою точку зрения на общество, как на «совокупность существ, участвующих в процессе подражания» или «унаследовавших те черты, которые у них являются общими, благодаря копированию одного и того же старого оригинала». Тому же, невидимому, научила его и статистика. Если, говорит он, история все более и более становится наукой, то она обязана этим прежде всего археологу, затем статистику. Как археолог, так и статистик бросают на человеческие факты абстрактный и безличный взгляд. Они интересуются не индивидами, а их созданиями или, вернее, поступками, в которых раскрываются нужды и идеи, им присущие (с. 114). Чем на самом деле занимается статистика, продолжает Тард, как не подражательным воспроизведением раз сделанных открытий? (с. 115). Увлекаясь статистическим методом и забывая о сложности социальных явлений, Тард утверждает даже, что с помощью статистических таблиц можно обнаружить обособленное действие одной какой-либо социальной причины. Ничто, пишет он, так не поучительно, как хронологические таблицы статистиков. Они раскрывают перед нами возрастание или падение той или другой потребности, а также того или другого верования или желания. Вот почему статистический метод — метод социологический по преимуществу. Но только создание нравственной или, точнее, психологической статистики, отмечающей возрастание и убыль в индивидах специальных верований и желаний, способно открыть, по мнению Тарда, действительный и глубокий источник того, что скрывается за цифрами, доставляемыми нам обыкновенной статистикой (с. 118). Впрочем, наш автор, по-видимому, не вполне уверен в возможности такой «психологической статистики»; отсюда добавочное предложение: «Если бы она была возможна». Тард обращает также внимание на то, что весьма часто действия, выражаемые одной и той же цифрой, имеют различный удельный вес. Намеченная особенность не есть, однако, как думает Тард, последствие несовершенства употребляемых приемов, а вытекает из самой сложности социальных явлений. При ней неудивительно,
если одной цифрой выражается нередко и сумма, и разность многих воздействующих друг на друга фактов.
Являясь сторонником статистического метода, Тард в то же время решительно расходится с той оценкой, какую давал ему Кетле. Последнего интересовало постоянство раскрываемых с помощью статистики социальных явлений: постоянство в числе браков, рождений и т. д., Тарда, наоборот, рост или убыль известных верований и желаний. Он думает, например, что по числу продаваемых книжными магазинами изданий легко составит себе определенное представление об умственном и нравственном подъеме или, наоборот, застое отдельных наций.
Но цифры прироста или убыли числа продаваемых книг служат показателем не для одних верований и желаний данного общества, но для всей суммы экономических, политических, умственных, художественных и религиозных интересов, притом не того или другого народа в частности, а всей совокупности культурных наций. Цифра, означающая собою так много, не способна дать никакого определенного указания. И нам остается поэтому настаивать на мысли, что статистический прием может только укрепить уверенность или, наоборот, породить сомнение в правильности выводов, независимо от него установленных.
Познакомив читателей со своим методом, Тард переходит к формулированию самих «законов подражания». Первым из них он считает тот, в силу которого «всякий поток заимствования, вызванный счастливым открытием, необходимо проходит три стадии: во-первых, медленного распространения, благодаря затрате сил на борьбу с существующим, затем быстрого роста в геометрической прогрессии, наконец, постепенного перехода к норме».
В 1897 году выдвинута Тардом между изобретением и подражанием средняя промежуточная стадия — «всемирного противоположения», а с переходом в новое столетие явилось у нашего автора жёлание построить по системе трех стадий и свою историю человечества, в которой первый период представлялся бы, как он говорит, эпохой хаоса, случайных открытий и начинающегося подражательного процесса, а последний — неопределенным будущим, в котором и социалистические теории, пожалуй, найдут свое осуществление 25. Даже не хочется верить в серьезность Тарда при установлении этих периодов. В самом деле, между доисторией и туманным будущим
25 Psychologie economique, Т. I, с. 30 и 31, 46 и 47.
что поставить, как не историю? Тард получил, таким образом, возможность отнести в отдаленнейшее прошлое самое происхождение утверждаемого им процесса вселенского подражания и в столь же неопределенное будущее — реализацию всех систем перестройки общества на началах, которым он, очевидно, сочувствует только в теории, не веря их торжеству на практике.
§2
Можно было бы думать, что, поставив во главе всех других методов метод статистический и признавши его социологическим по преимуществу, Тард в ближайших главах своей книги о законе подражания сделает попытку применить его к рассматриваемым им вопросам. На самом деле он орудует совершенно другим приемом, исконным методом всех социологов, методом сравнительным. Я, разумеется, нимало не призван поставить ему в вину такую практику, но спешу отметить эту резкую и в данном случае счастливую непоследовательность. Сравнительный метод Тарда, впрочем, ближе к методу сопоставительному, чем к историко-сравнительному, преимущества которого мне едва ли нужно доказывать снова, так как я не раз уже возвращался к этому вопросу26.
Тард прогуливается по всей истории человечества, перескакивая непосредственно от Египта и Греции к современной Франции и к Соедин. Штатам. Он также весьма склонен заключать от последующего к предыдущему, например, от порядков, какими произошло объединение провинциальных кутюмов во Франции XVI века, к возникновению в отдаленной древности местных обычаев из семейных. Вообще его фантазия не останавливается перед недоступной стеной, отделяющей нас от эпохи происхождения древнейшего языка, древнейшей религии, древнейшей власти и древнейшего права. Вместо научного ignoramus, он смело пишет: древнейший язык был языком семьи, или все религии были на первых порах религиями семейными, или древнейшая власть была власть семейного старейшины, или еще — древнейшим обычаем был семейный обычай. Все
26 Смотри мой «Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права» (Москва, 1880), мою статью о том же предмете в Сборнике юридич. знаний, изданном проф. Гамбаровым, и доклад, сделанный на конгрессе сравнительного законоведения в Париже в 1900 г.
эти допущения необходимы для его теории; без них она лишается своего исторического фундамента. В самом деле, чтобы обратить весь процесс развития в поток подражания, необходимо допустить, что открытие произошло однажды в тесно ограниченной среде и затем разлилось по всему свету.
При всех несовершенствах методологических приемов Тарда, которым недостает той историке-сравнительной проверки, к какой приучили нас лингвисты, мифологи и новейшие историки нравственности, права и экономики, эти приемы по существу остаются научными. Они общи ему со Спенсером и всеми теми, кто пошел по следам великого английского мыслителя. В своих позднейших сочинениях Тард подчас так близко следует за Спенсером, что есть повод говорить о подражании им методу автора «Системы социологии». Так, в книге «Об общественном мнении и толпе» Тард старается провести тот взгляд, что доселе удержавшийся обычай взаимных визитов — не более как переживание того, в силу которого вассалы приносили сюзерену в определенные дни подарки курицами, яйцами и т.д. К сожалению, против такого объяснения говорит, во-первых, то, что от старинного обычая уцелела только одна его половина, а во-вторых, то, что из одностороннего он сделался двухсторонним. Но, увлекаемый своей фантазией, Тард пренебрегает этими деталями. Он с уверенностью говорит о такой трансформации и о таком переживании, как об одном из доказательств значения, какое беседа и светские отношения играли в выработке общественного мнения.
С помощью сопоставительного метода, одинаково далекого и от исторических параллелей, делаемых историками культуры, и от подсчета статистиков, Тард пытается обосновать целый ряд весьма интересных обобщений, называемых им «законами подражания». Некоторые из его мыслей настолько очевидны, что проникли в общественное сознание гораздо ранее его трудов. Положим, хотя бы то наблюдение, что низшие подражают высшим и младшие — старшим. Заслуга Тарда состоит в том, что он свел эти наблюдения в систему, подкрепил их некоторыми примерами, указал возможность исключений и объяснил источник последних. Таким образом, в главах, отведенных им рассмотрению как логических, так и нелогических подражаний, мы встречаемся с целым рядом более или менее доказанных положений касательно того, как совершается тот подражательный процесс, которому общество обязано и своей теперешней структурой, и начинающейся трансформацией последней. Автор различает прежде всего причины физические и причины
социального порядка. Поток подражания зарождается при участии тех и других, но Тард сознательно оставляет без освещения первые и занимается только последними. Он разделяет их на две группы — логических и нелогических. Первые имеют место в том случае, когда люди начинают подражать известному новшеству, так как оно признается ими более полезным и верным, чем доселе державшаяся практика. Вторые не требуют такого условия. Обыкновенно оба порядка причин встречаются одновременно, и преимущество не всегда остается на стороне логических. Заимствуется всегда идея или хотение, порождаемые верованиями и желаниями (с. 159,163). Заимствование происходит или таким образом, что новое вытесняет старое, или так, что оно только присоединяется к старому. Отсюда возникновение как «логических поединков, так и логических союзов» (термины, придуманные самим автором, с. 167). Тард рассматривает отдельно и те, и другие. История обществ с психологической точки зрения и изучаемая не в ее общем, а в частностях, говорит он, представляется не более цепью логических поединков и логических союзов. В этом можно убедиться и на истории языка, в котором не сразу приняты были те или другие окончания, или дано предпочтение тому или другому слову для выражения того или другого понятия. Автор ссылается при этом на пример романских языков, из которых итальянский принял для множественного числа окончание i, а испанский — s. Те же логические дуэли, несомненно, предшествовали в глазах Тарда выбору между различными породами допускающих приручение животных, или еще переходу от одного способа передвижения к другому. Мысль эта, впрочем, настолько очевидна, что едва ли стоит на ней настаивать. Так же несомненно и то, что люди дают предпочтение при такой логической дуэли тем мыслям, которые всего более отвечают их желаниям, их надеждам, или более успокаивают их опасения. Принятие одной мысли весьма часто равнозначительно отрицанию другой, даже тогда, когда обе отвечают двум разным потребностям. Тард приводит пример открытия пороха, распространение которого сделало бесполезным укрепленные замки и тяжелые воинские доспехи. Весь этот анализ представляет, может быть, известный интерес для психолога, но он едва ли много привносит с собою нового в область социологии. Более Интересно то, что Тард говорит о переходе индивидуального, как он выражается, поединка тез и антитез, в социальный. Последний, говорит он, начинается только по окончании первого. Всякому акту подражания предшествует колебание насчет выбора в уме
индивида. Подражание начинается только тогда, когда человек принял известное решение. Раз индивидуальные сомнения исчезли, еще не значит, что с ними сделались невозможными колебания со стороны общества; наоборот, общественная нерешительность тут только и начинается. Все, что в настоящее время пользуется признанием, вошло в нравы и верования, было некогда предметом оживленных прений. Любое правило грамматики, любая статья кодекса, любой конституционный принцип являются продуктом мирного соглашения, кладущего конец жаркой полемике. Социальный поединок, пишет Тард, разрешается трояким порядком. Первый лежит в устранении одного из противников. Оно достигается не чем иным, как успехами другого. Так, едва финикийское письмо стало распространяться в широких сферах, как вместе с тем началась замена им клинообразного. Таким же образом фотогеновой лампе стоило только сделаться известной, чтобы вывести из употребления масляную лампаду. Но наступает момент, когда успехи наиболее счастливого соперника останавливаются перед увеличивающейся трудностью сразить врага; тогда,— и в этом надо видеть второй исход логической дуэли,— вмешательство авторитетного посредника решает победу в том или другом смысле. Так, выбор Константина решил в пользу христианства соперничество боровшихся в империи религий. Наконец, третий исход — это примирение противников или вежливое устранение одного из них, благодаря появлению на свет нового открытия или нового изобретения. Так, открытие Гарвэ системы кровообращения положило конец долгим спорам анатомов XVI столетия, а астрономические открытия, вызванные телескопом, решили в пользу пифагоровой гипотезы и вопреки последователям Аристотеля вопрос о вращении Земли вокруг Солнца. И всегда успокоение умов наступало как бы чудом с момента, когда новое открытие делало праздным логическое столкновение боровшихся ранее точек зрения. Так, постоянный антагонизм стремлений и интересов в отношениях, существовавших между хозяевами и рабами, уступил место соглашению между ними только с момента и по мере того, как новые открытия сделали возможным утилизацию сил природы: ветра, воды, пара — к большой выгоде обеих сторон.
Логическая дуэль является скорее исключением, нежели общим правилом. Процесс развития совершается не столько в форме замены одних идей другими, сколько присоединением новых идей к старым. Языки составились путем приобщения к старым новых слов, новых форм глагола, выражавших не передаваемые ранее
оттенки мысли. При своем появлении на свет они не встретили отпора со стороны прежних слов и форм глагола. То же можно сказать о постепенном накоплении мифов и легенд, из которых сложились верования или обряды, отвечавшие на новые запросы жизни, регулировавшие отношения, еще не подчинявшиеся никакому правилу. Тард предлагает различать двоякого рода накопление идей, смотря по тому, предшествует ли оно или следует во времени за логическим поединком. В первом случае достаточно, чтобы накопляемые идеи не противоречили друг другу, во втором необходимо, чтобы они служили подтверждением одна другой. Он проводит также известную грань между открытиями, которые могут накопляться беспредельно, и такими, которые не допускают такого безостановочного численного роста. Так, в религиях, которые заключают в себе две части: повествовательную, или легендарную, и догматически-об-рядовую, первая допускает безграничное накопление, тогда как вторая необходимо ограничена в своей сфере ввиду того, что новые догматы не могут быть введены без того, чтобы не вступить в коллизию с прежними, раз эти прежние получили обрядовое выражение. Невозможно поэтому неограниченное удлинение Символа веры, но ничто не препятствует безграничному обогащению агиографии и церковной истории27.
В главе о нелогических воздействиях Тард старается обосновать ту мысль, что подражание всегда идет от внутреннего к внешнему и от низшего к высшему, от низших классов к высшим, от провинций к столицам. Наш автор довольно подробно останавливается
27 Я не буду останавливаться на подробной передаче тех довольно отрывочных замечаний, какими Тард ограничился в этой главе, так как логическим законам подражания им отведена позднее, в 1895 г., обширная глава в монографии, озаглавленной: «Социальная логика». При ее разборе легче будет изложить в систематическом порядке ту часть учения Тарда, которой в «Законах подражания» отведено, на наш взгляд, чересчур скромное место. Укажу тем не менее мимоходом на несколько любопытных замечаний, например, на встречающееся на стр. 209 предложение заменить термин «теория всемирной эволюции», ввиду важности, какую в этой эволюции играет подражание, термином «теория всемирного восприятия». Понятие эволюции не допускает совершенного устранения одних порядков другими, тогда как при восприятии — «insertion», мыслим случай, когда новое открытие и созданный им поток подражания отнесут в область прошедшего прежде усвоенные открытия. Не менее оригинально, хотя едва ли оно заслуживает равного внимания, следующее произвольное допущение, — что для сохранения общественного мира и согласия всегда необходима будет известная сумма лжи и заблуждения, обмана и самопожертвования (с. 211).
на доказательстве этого положения. Он показывает, например, что обряды заимствуются после догматов, процессуальные порядки — после юридических принципов, и говор народа — после выражаемых на нем мыслей. Как я сказал уже, метод Тарда исключает необходимость историко-сравнительной проверки. Немудрено поэтому, если против его положения можно привести ряд фактов, столь же убедительных, как и те, какие выставляются им в его пользу. Кому не известно, например, что в России в эпоху Петра европейские заимствования начались с бритья бороды и устройства ассамблей, да еще с ношения немецкого платья, т. е. с чисто внешних форм быта, к которым чуть не век спустя присоединились и некоторые руководящие идеи европейской гражданственности. Столь же несомненен факт изменения религиозной реформой Генриха VIII и Елизаветы скорее внешней стороны католицизма, нежели внутренней. Опять-таки ' проходит около столетия, прежде чем в лице нонконформистов, пресвитериан, браунистов и баровистов, баптистов и других передовых сект протестантизма английская религиозная мысль окончательно разрывает связь с догматами католической церкви. Только поверхностному наблюдателю придет на ум считать принципы английского парламентаризма вполне усвоенными европейским континентом уже с начала XIX столетия; ведь усваивали охотно один его внешний облик — систему представительства, верхнюю и нижнюю палачу и т. д., отнюдь, однако, не его сущность. Чтобы убедиться в этом, стоит только вспомнить, что основу английского парламентаризма составляет принцип самоуправления общества, самоуправления, столько же местного, сколько общего, тогда как в большинстве так называемых конституционных монархий и республик все еще держится административная централизация, бюрократическая система.
Если бы кто пожелал доказать как раз обратное тому, что утверждает Тард, то ему всего легче было бы сделать это на почве изучения истории религий. Что такое в самом деле римский синкретизм,— это перенесение в пантеон Вечного города богов всего мира,— как не доказательство тому, что в деле распространения религиозных верований обрядовая сторона далеко не является предметом позднейшего усвоения. История распространения христианства в России, начиная с послов Владимира, которые отдают предпочтение православию ввиду благолепия его культа, и кончая современными инородческими племенами, усвоившими почти исключительно одну обрядовую сторону христианства, также не говорит в пользу того положения, что заимствование идей является первым по времени.
Мы могли бы привести не мало данных в доказательство того, что порядок, в котором совершаются заимствования, крайне изменчив и едва ли может улечься в те тесные рамки, какие ставит ему Тард.
Тард старается объяснить все явления, связанные с поступательным движением общества, опять-таки мнимым законом замены периода господства обычая периодом господства моды и позднейшим переходом самой моды в обычай. Автор «Законов подражания» тратит не мало усилий на раскрытие,— одинаково, и в развитии языка и религии, и в преемстве политических учреждений, законов, обрядов, экономических порядков, нравов, искусств — подтверждения построенной им гипотезы. Троичность и на этот раз берет в его уме перевес над пристрастием к парным классификациям. Пример Гегеля, очевидно, оказался для него столь же заразительным, как и для большинства прежних последователей немецкого мыслителя.
Для Тарда подражание равнозначительно повторению, для меня оно является своего рода модификацией. Французская пословица, говорящая «n’imite pas qui vent», т.е. подражает не всякий желающий, только передает один из оттенков моей мысли. В подряжаемом обыкновенно видят не его действительную природу, а торжество известных принципов, дорогих подражателю. Вошедший в России в употребление термин «органические заимствования» довольно верно передает мою мысль, но только под одним условием: если допустить, что продукт такого органического заимствования нередко расходится по самой природе с своим образцом. При таком понимании заимствование является не более как одной из форм органического развития. Оно не мешает французам оставаться французами и после видимого переноса в их среду английского парламентаризма.
Заимствование, в конце концов, по крайней мере в том случае, когда заимствующим является не отдельный человек, а целый народ, заключает в себе элементы самостоятельного творчества. Вернее было бы употреблять поэтому взамен его термин «приспособление»,— приспособление не общества к заимствуемым порядкам, а этих порядков к потребностям заимствующего их общества. Чтобы передать мою мысль во всей ее необусловленное™, я скажу, что развитие произошло бы в том же направлении и без заимствования, но только с меньшею быстротою и систематичностью. А если так, то в истории поступательного хода обществ центр тяжести лежит не в подражании, а в открытии или изобретении.
§3
Эта мысль, по-видимому, стала приходить в голову и Тарду, чем я и объясняю то, что во втором из своих социологических трудов («Logique sociale», 1895 г.) он главным образом занимается вопросом о роли того первичного фактора в поступательном движении обществ, каким является открытие или изобретение. Тард не только отводит обширную главу законам, «управляющим появлением открытий», но и делает весьма удачные попытки раскрыть его действие в развитии языка, религии, нравственности, экономики и искусства. Не то чтоб он отказался от тех мыслей, какие о роли подражания были высказаны им пятью годами ранее. Наоборот, он смотрит на свой новый труд, как на прямое восполнение прежнего. Ранее его занимал вопрос о том, «из чего сплетаются общественные ткани, а не о том, как возникают общественные тела». В настоящее же время он обещает заняться вопросом, «как выкроена и сшита одежда, в которую облекается нация». Тем самым он думает завершить процесс зарождения социологии. Эти ожидания, по-видимому, не вполне оправдались, и потребовалось на расстоянии немногих лет издание нового трактата о «противодействии», о его хотя проходящей, но все же весьма существенной роли в развитии общественных отношений.
В «Социальной логике» нас будет интересовать преимущественно- глава, посвященная законам открытия или изобретения. Хотя по этому вопросу вышли выдающиеся сочинения Рибо и Польгана, но они нисколько не умаляют значения положений, установленных Тардом. К тому же Рибо и Польган изучают вопрос более с психологической точки зрения, чем с социологической. Не игнорируя первой, Тард, как и можно было ожидать от трактата, завершающего, по его мнению, обоснования социологии, занимается по преимуществу общественной стороной открытий и смотрит на них, как на исходный момент социального процесса подражания.
Ошибочно было бы думать, говорит Тард, расходясь со сторонниками гипотезы о прямолинейном развитии обществ, что эволюции, лингвистическая, религиозная, политическая, экономическая, нравственная, эволюции, из которых слагается рост обществ, следуют неизменному порядку. Но столь же ошибочно было бы полагать, что они не подчиняются никакому порядку. Раз мы желаем дать себе отчет в законах, управляющих открытиями, мы отнюдь не должны терять из виду безграничного поля их возможностей. Это поле в начальный период развития обществ, разумеется, более ограничено,
благодаря тирании потребностей, требующих немедленного удовлетворения, потребностей, всюду одинаковых и заставляющих человеческий гений проявлять себя приблизительно в одинаковом направлении. Этим объясняется необходимость некоторых открытий, как, например, горшечного производства, добывания огня, постройки жилищ, прядения, ткачества и т. п. В этом же надо искать одновременно причину полной невозможности направить мысль на изобретение предметов роскоши. Тем не менее и в эту отдаленную эпоху развития имелся известный простор для проявления оригинальных особенностей, как индивидуальных, так и коллективных. И этот простор все более и более расширялся по мере того, как первичные потребности, нашедшие уже удовлетворение себе, сменялись более искусственными и потому самому и более социальными, порождаемыми, в свою очередь, предшествующими открытиями в такой же, если не в большей, степени, чем внешними условиями и свойствами расы.
Всякое открытие чревато другими, новыми. Есть поэтому основание говорить об определенном порядке в чередовании открытий. На него указано было Контом, а за ним Курно. Ставя вопрос о том, что нужно для зарождения открытия, Тард указывает на два фактора: на умственную работу гения и на внешние благоприятные условия. Каждая новая идея, справедливо замечает он, не более как комбинация старых, появившихся разноместно и разновременно, нередко на большом расстоянии друг от друга. Для открытия первым условием является, таким образом, встреча этих мыслей в мозгу, способном их комбинировать.
Внутренними причинами открытия Тард считает верования и желания, знания и волевые импульсы, полученные открывателем от окружающей его среды и в совокупности встречающиеся между собою впервые в его мозгу. Таинственная работа зарождения новых идей состоит — по Тарду — в конфликте мнений, не одинаково разделяемых мыслящим субъектом, или видов деятельности, не одинаково им желаемых. Место конфликта может занять и соглашение отдельных мнений или отдельных порядков поведения. Уму открывателя они впервые представляются подкрепляющими друг друга, оказывающими друг другу поддержку. Те же элементы, напоминает Тард, порождают своей встречей подражания, но их взаимное отношение выступает в этом случае менее выпукло. Справедливо это особенно тогда, когда речь идет о согласиях, а не о противоречиях,— замечание вполне верное и объясняющее
нам причину, по которой законы, управляющие внутренней стороной открытия, законы, общие с законами подражания, раскрываются Тардом в этом втором его сочинении с несравненно большею определенностью и ясностью. Тард делит все виды открытия на две группы: на такие, во-первых, которые, не противореча, а подкрепляя друг друга, могут сосуществовать и размножаться беспредельно в одной и той же стране, и, во-вторых, на такие, которые, ввиду своего противоречия, могут заступить только место друг друга. По отношению к первым нельзя доказывать, чтобы они не могли появиться в ином порядке, чем тот, который в действительности имел место (исключение представляют только те, которые стоят друг к другу в отношении части к целому). Так, в одной стране человек мог начать с доместикации военнопленных, т. е. с рабства, а в другой — с доместикации животных. В Америке краснокожие, практикуя рабство, в то же время не имели ни одного прирученного животного, кроме собаки. С другой стороны, попадаются некоторые племена, не знающие рабства.
Что же касается до открытий, которые являются на смену одно другого, то их ряд кажется Тарду неизменным. Он основывает это положение на той мысли, что, имея выбор, люди всегда направляют свою деятельность в сторону наименьшего сопротивления. Тард подробно останавливается на развитии этого положения, которое, как мне кажется, принадлежит к числу основных для всякой теории прогресса.
С вопросом о бесповоротности прогресса и в тесной связи с ним стоит вопрос о порядке, в каком теряются раз сделанные психические приобретения с того момента, когда начинается обратный ход развития, регресс. У Рибо указано на то, что при старческом упадке памяти человек прежде всего теряет ее по отношению к недавно накопленным впечатлениям. Это положение, подтверждаемое наблюдениями каждого над стариками, вызывает в Тарде мысль о том, в какой мере тот же обратный ход может быть наблюдаем при потере народом отдельных приобретений культуры. На наш взгляд, Тард справедливо указывает на то, что нельзя утверждать существование какого-нибудь обязательного ряда для процесса коллективного вырождения. История падения Римской империи способна скорее породить уверенность, что вырождение сказывается в исчезновении не поздних, а ранних приобретений. Мы не встречаем вымирания довольно поздно заимствованной греческой культуры и связанного с ней вкуса к роскоши, и в то же время нами должен быть отмечен
упадок как земледелия, так и воинственности в Римской империи IV и V веках (с. 191-192).
Тард возвращается к тем вопросам и в позднейшем своем трактате о «Всемирном противоположении». Но я не могу сказать, чтобы в этом сочинении им прибавлено было много нового к решению этой в высшей степени сложной проблемы, интересовавшей его с самого начала, как показывают некоторые мысли, высказанная им еще в «Законах подражания». Его учение на этот счет обогатилось, однако, одним, как мне кажется, верным положением. Оно состоит в признании, что регресс не всегда неизбежен и что, когда он имеет место, в его ходе заметно менее правильности, чем в ходе прогресса (с. 351-352). Но разве такое заявление не равнозначительно признанию невозможности дать определенную формулу регресса?
Совсем неудачной кажется мне попытка Тарда открыть три периода в процессе установления гармонии между отдельными открытиями. «Гармония открытий,— говорит он,— в свою очередь весьма сложное открытие, в котором кооперируют многие умы, пока одному из них не посчастливится установить ее прочно. Система, подобно отдельному открытию, достигается благодаря ряду логических дуэлей и логических союзов. Для своего установления она требует соединения в одном лице ума критического с гением синтетическим. Последствием процесса гармонизации отдельных открытий являются такие создания, как грамматика, религия, система законов, нравственность, правительство, искусство». Пристрастие к троичности заставляет Тарда утверждать, что рассматриваемый им процесс сложения отдельных открытий в систему необходимо распадается на три периода. В первом мы имеем дело только с бессвязными открытиями, т. е. с разрозненными идеями, которые потому самому не помогают, но и не вредят друг другу. Это объясняется уже тем, что они не входят между собою будто бы ни в какое общение. В доказательство утверждаемого Тард ссылается на дикие племена, религия которых состоит, по его мнению, из бессвязных мифов, а право — из бессвязных обычаев (de coutumes sans lien et sans regie, c. 194).
Все, что известно мне о древнейших верованиях и о древнейшем праве, противоречит такому утверждению. Мыслимо ли было бы существование таких представлений, обязанность отомщать кровь убитого родственника или избегать брака сперва с единоутробными, а затем с единокровными (экзогамия) и т. п., если бы в религиозных и юридических доктринах наиболее отсталых народностей
не существовало уже известных определенных принципов,— и прежде всего принципа общения умерших с живущими,— разумеется, в пределах одной замиренной среды среди родичей,— общения, налагающего обязанность взаимных услуг и взаимных пожертвований. На всех ступенях развития человечества сказывается стремление к согласованию идей. Только эти идеи и представления могут быть цепью нелепостей и предрассудков или цепью научных истин. И вот в этом-то преемстве, в этой замене первой цепи второй и есть нечто бесповоротное; но, говоря это, мы, очевидно, становимся на ту точку зрения, по которой умственное развитие определяет собою ход остальных, т. е. на точке зрения самого основателя социологии Конта. Все эти соображения, очевидно, не удовлетворяют человека, который думает, что отмеченные им три стадии непременно следуют друг за другом в указанном порядке, и что тот же порядок может быть обнаружен и в развитии той высшей общности, в которой комбинируются все отдельные системы идей и учреждений. Из эмбрионов наций, какими являются укрепленные городища и прочие селения, будто бы не имевшие на первых порах между собою никакой связи (Тард говорит, что они были столь же разобщены, как и Франция и Япония в Средние века), слагаются, по его мнению, после продолжительных кровопролитий, характеризующих собою вторую фазу развития — эпоху насильственного сближения наций, обширные и замиренные империи. Таков, восклицает Тард, закон нормального развития.
В особом параграфе Тард рассматривает возможные последствия, так называемой им логической дуэли. Страница, на которой они изложены, принадлежит к числу лучших в его сочинении, потому что изложенные здесь положения действительно имеют тот характер общности, который позволяет смотреть на них, как на эмпирические законы. Тард различает пять возможных исходов: одна идея устраняет или, как он говорит, убивает другую. Она делает это в том смысле, что раз устраненная идея перестает быть предметом подражания. Обыкновенно это происходит таким образом: старой идее ставятся преграды, останавливающие порожденный ею поток подражания. Эти преграды могут заключать в себе элемент насилия, но они могут также и не иметь его; так, например, когда новая мода, скажем, символизм, декадентство и т.д., завоевывает молодые поколения, не изменяя в то же время старых вкусов. Второй исход имеет место тогда, когда старая идея,— скажем, старый юридиче-
ский обычай,— оказывает достаточное противодействие, чтобы поставить новую идею в необходимость допустить сохранение если не содержания, то формы старого. В эту категорию входят, очевидно, всякого рода переживания. Третий исход: старинные идеи и их воплощения — религия, политический строй и т. д.— попадают в подчиненное, зависимое, вассальное положение к новым идеям и порядкам. Боги покоренных Римом городов нередко ставились в такое положение к богам города-завоевателя. Наконец, последний исход предполагает появление нового открытия, которое утилизирует для своих целей борющиеся идеи и, примиряя их, тем самым кладет конец их поединку. , ; ,
§4
В своей совокупности «Законы подражания» и «Социальная логика» содержат в себе довольно полное и разностороннее изложение основных социологических взглядов Тарда. В позднейших своих трудах, как, например, в «Трансформациях права», в «Трансформации власти» и в «Экономической психологии», Тард только применяет свои общие положения к праву, политике и экономии. Он сделал также попытку резюмировать в сжатой форме, доступной для большой публики, свои основные мысли, для чего и издан был им небольшой томик, озаглавленный «Социальные законы». Наконец, в отдельном трактате он взялся доказать невозможность других психологических факторов общественности, по крайней мере постоянных, помимо открытия и подражания. Это сочинение, под заглавием «Всемирное противоположение», появилось в 1897 году. В нем Тард мастерски развивает ту мысль, что со времен Аристотеля сплошь и рядом указывались не действительные, а мнимые противоречия. Так, противополагали землю и небо, восток и запад (Гегель). Это не значит, однако, чтобы не существовало и действительных противоречий. Источник их надо искать в возможности для одного явления остановить или нейтрализовать деятельность другого (с. 219). Тард классифицирует противоречия в категории статических и динамических, квалитативных и квантитативных. Он знакомит читателя с теми, которые встречаются в области астрономии, физики, биологии. Переходя затем к социальным, он проводит тот общий взгляд, что эти противоречия, так наглядно проявляющиеся в войне и конкуренции, имеют
только преходящее значение и сменяются согласиями, миром, кооперацией и умственным единением. Мы не имеем возможности остановиться подробно на анализе этих мыслей. Но мы бы желали привлечь внимание к тому факту, что включение Тардом противоречий в число обсуждаемых им философских проблем привело его к новой формулировке того, чем именно является открытие или изобретение. Противоречие разрешается у него приспособлением, и это-то приспособление он и объявляет в своем новом сочинении «сущностью всякого открытия»28. Учение Тарда о так называемом приспособлении до некоторой степени является воспроизведением мысли Дарвина в позднейших по времени трудах. Тард переходит на ту точку зрения, что утверждаемый им ранее закон подражания на самом деле является законом приспособления продуктов творческой мысли, другими словами, открытий и изобретений, совершаемых в общественной среде. Во всех общественных изменениях, писал он в первом из своих психо-социологических трудов, необходимо признать отправным пунктом творческую мысль; она приносит с собою удовлетворение назревшим потребностям; созданные ею новшества распространяются в обществе путем подражания, принудительного или добровольного, сознательного или бессознательного. Самое распространение его происходит с большей или меньшей скоростью. Всякое живое существо, насколько по своей природе оно является существом общежительным, склонно к подражанию. Оно, продолжает Тард, играет в обществах ту же роль, какая принадлежит наследственности способностей в живых организмах. Открытие же или изобретение имеет такое же значение, какое образование новых видов животного и растительного царства. Таким образом, с самого начала Тард готов признать, что законы, открытые Дарвином, и построенные им гипотезы имели решающее влияние на ход развития его мысли в области социологии.
В названном труде «Всемирное противоположение» Тард в главе о социальных противодействиях занимается тем самым вопросом о борьбе за существование в форме войны и конкуренции, который играет такую роль в построениях Дарвина. Его основная точка зрения, как было уже отмечено, та, что оба вида борьбы имеют лишь преходящее значение и сменяются согласием, миром, кооперацией и умственным единением. Включение Тардом противоречий в число
28 L’invention en somme c’est le nom social de 1’adaptation (Opposition Universelle, c. 428).
обсуждаемых им факторов психической и социальной жизни привлекло его внимание и к тому, что само открытие или изобретение, которым нередко разрешается противоречие, на самом деле является приспособлением к имеющимся налицо условиям. Поэтому в своем последнем труде он объявляет приспособление социальной основою всякого открытия. Фулье прав, когда говорит, что Тард более настаивал на роли открытия и подражания, чем на борьбе и конкуренции. Он, несомненно, присоединился бы к следующему заявлению, делаемому самим Фулье: мнимые дарвинисты, говорит последний, напрасно славословят войну: война войне в пределах той замиренной среды, какой является род и развившееся из него племя, и создали силу отдельных наций. Таким образом, творческая роль выпала не на сторону борьбы, а на сторону кооперации29. Фулье не ошибается, когда обзывает псевдодарвинистами тех, кто не считается с ролью солидарности в поступательном ходе человеческих обществ. У самого Дарвина нельзя найти ничего подобного, и Кропоткин прав, говоря, что автор «Истории происхождения видов» нисколько не отрицал значения кооперации и в животном царстве.
К психологической школе принадлежит и американец Гиддингс. В моей книге о «Современных социологах» я старался свести к довольно скромным границам оригинальность американского писателя. Гиддингс, сказал я, заимствует у Тарда свое учение о первичном социальном факторе; признавая им сознание породы, он, как справедливо указал сам Тард, в сущности дает только другое название тому, что и до Тарда, и самим Тардом понималось под названием социальной симпатии; последняя же не более как субъективная сторона того психического взаимодействия, какое люди оказывают друг на друга. И в этом лежит источник одинаково открытия и подражания. Подобно Тарду, Гиддингс признает за социологией психологические основы. Социальная эволюция рисуется ему в образе психического процесса возникновения в людях сознания единства их породы; рост симпатий и эволюция разума — второстепенные феномены позднее развивающегося сознания единства породы; ограниченное на первых порах тесной сферой рода, это сознание распространяется затем на племя, а потом и на весь народ. В наши дни оно стремится к тому, чтобы обнять собою все человечество. Эта последняя точка зрения, очевидно, совпадает с той, которую
29 Социологические элементы морали, с. 198.
мне не раз приходилось высказывать при изображении прогресса, как ряда концентрических кругов, выражающих собою все большее и большее расширение человеческой солидарности30.
К психологической школе принадлежит и тот из современных американских социологов, которого имя прозвучало всего громче в Новом и Старом Свете; я разумею Лестера Уорда. Подчеркивая в самом заглавии своих книг, как, например, в сочинении «Психические факторы цивилизации», что первенствующее значение, заодно с Тардом и Гиддингсом, он придает междуум-ственным процессам в поступательном ходе человечества, Лестер Уорд в то же время открыто признает, что у людей добывание пищи рано осложнилось несвойственной животным заботой о запасах. Под влиянием этого развилось в людях психическое свойство предвидения; непосредственным последствием такой интуитивной способности было то, что необходимыми спутниками социального существования явилось накопление запасов, а также удовлетворение и других потребностей, помимо голода, потребностей в одежде и жилище. Объекты желаний стали постепенно умножаться, и к обладанию ими направились человеческие усилия. Под влиянием всего этого явилось мало-помалу представление о собственности. История показывает, что значительная часть человеческой энергии была направлена на ее приобретение; еще задолго до появления письменной записи стремление к собственности стало господствующей страстью. Параллельно с ее развитием росло в людях то свойство, при котором всего легче можно рассчитывать на ее удовлетворение, т. е. способность борьбы. Когда человеку пришлось помериться силами с человеком, пишет Лестер Уорд, возникла борьба, подобная той, которая идет в животном мире. В этой великой борьбе роль грубой силы все уменьшалась и возрастало значение элемента духовного. Грубые животные приемы борьбы стали невозможными. С помощью естественного подбора, если не иным способом, общество отделалось от них. По мере того как усиливалась общественная регламентация, росли также человеческая покорность и подчинение. В «Динамической социологии», прибавляет Уорд, я подробно рассмотрел этот вопрос; теперь же я намерен только указать на основное положение, мною высказанное. Борьба за существование сделалась в человеческих обществах борьбою не за одни средства к нему, но и за удовольствия вообще.
з° Сравн. мои «Совр. социол.», с. 82.
К простому столкновению из-за сохранения жизни присоединилась теперь борьба из-за присвоения значительного числа разнообразных вещей, необходимых для жизни. Всякий знает, какой широкий смысл придается слову «необходимый» и как различно он применяется к лицам, стоящим на разных ступенях социальной лестницы; цивилизация породила значительное число новых желаний, неизвестных на ранних ступенях гражданственности. Наряду с возрастающими и усиливающимися проявлениями страсти к обладанию вещами внешней природы, к собственности, развивающимися бок о бок и под влиянием борьбы за сохранение жизни, появляются и высшие запросы. Они возникают на почве воспроизводительных инстинктов; таков запрос на личную привязанность и на эмоции, порождаемые семейными отношениями. Прибавьте к этому эстетические, моральные, интеллектуальные запросы, неотложно требующие удовлетворения31. Я обрываю на этом месте свою выписку, полагая, что и приведенного достаточно, чтобы показать тесную зависимость, в какой психологический метод Лестера Уорда стоит с основными биологическими предпосылками, целиком заимствованными им у Дарвина.
Этот обзор важнейших социально-психологических доктрин нашего времени был бы не полон, если бы мы не сказали еще двух слов о весьма популярном одно время сочинении Кидда. Кидд целиком принимает те возражения против дарвиновской теории, которые были сделаны Вейсманом. И для него, как для немецкого биолога, не существует наследственной передачи накопленных предками физических, а тем более психических, особенностей. Весь процесс эволюции живых организмов сводится для Кидда к выработке высших типов под влиянием одной борьбы за существование. Перенося целиком эту теорию в область социологии, Кидд полагает, что и процесс общественного развития пре исходит под влиянием той же борьбы и при устранении менее приспособленных к ней рас и племен более приспособленными. В среде последних также продолжает действовать закон борьбы за существование в форме конкуренции, благодаря которой совершается своего рода естественный отбор наиболее способных и выносливых. Победа всегда остается за ними. Этим обстоятельством только и поддерживается возможность безостановочного развития. Как существо разумное,
31 См.: Уорд Л. Психические факторы цивилизации / Пер. Давыдовой. 1897, с. 142 145.
человек необходимо должен стремиться к успешному исходу неизбежной для него борьбы и жертвовать чужими интересами в пользу своих собственных. Его умственное развитие, накопление им знаний усиливают его шансы на успех и укрепляют в нем вместе с тем желание обеспечить себе выгоды в ущерб остальным людям, а тем более грядущим поколениям. Прогресс разума идет, таким образом, вразрез с развитием общественности и обеспечивает рост себялюбивых чувств и наклонностей. Что же, спрашивается, заставляло и заставляет людей приносить свои выгоды в жертву интересам человеческой породы, ограничивать свои себялюбивые стремления и заботиться о благополучии всего общества? Кидд отвечает: религия и всегда подчиненная и зависимая от нее нравственность. Все успехи гражданственности на пути освобождения низших классов Кидд приписывает запасу альтруистических чувств, накопленных под влиянием христианской проповеди, сперва в эпоху образования и торжества средневековой теократии, а затем со времени реформации. Кидд поэтому решительно высказывается против тех, кто думает, что общество прогрессирует по мере того, как, под влиянием накопления положительных знаний, постепенно сокращается сфера вмешательства верований. Религии, по его мнению, были решительным фактором прогресса, их роль не умаляется со временем, но растет.
Насколько Кидд ставит свое учение в зависимость от того или иного решения спора между Вейсманом и Дарвином, показывает следующая выписка: «Если,— пишет он в конце 7-й главы своего сочинения “О социальной эволюции”,— завязавшееся между биологами препирательство о передаче или непередаче ребенку приобретенных его родителями качеств решено будет в последнем смысле, вся область социальной и политической философии будет перевернута вверх дном; если прежняя теория, т. е. теория Дарвина, справедлива, если нажитые привычки и приобретенные воспитанием свойства могут быть переданы по наследству, тогда и только тогда окажутся осуществимыми мечты и утопии господствующей ныне общественной науки». В самом деле, раз будет признано, что приобретения, сделанные предшествующими поколениями, благодаря полученному ими умственному и нравственному воспитанию, нами наследуются, мы вправе будем рассчитывать, что общество вечно будет прогрессировать, даже при устранении борьбы за существование, но при том предположении, однако, что численность населения будет искусственно приводиться в соответствие со сред
ствами, необходимыми для жизни. В противном же случае, если правда окажется на стороне Вейсмана, то необходимо будет признать прогрессирование человеческой породы под влиянием дальнейшей борьбы за существование и естественного отбора, а рядом с этим развитие общественности под влиянием все расширяющейся роли религии и той сверхумственной санкции, какая дается ею такому поведению, при котором интересы индивида приносятся в жертву интересам общества ради обеспечения поступательного хода человеческой породы32.
IV Собственно социологическое направление
§1
Наряду с попытками распространить действие биологических или психологических законов на социальные явления, все более и более начинает преобладать та точка зрения, согласно которой социология должна иметь собственные законы, независимые от наук, непосредственно предшествующих ей в порядке уменьшающейся общности и увеличивающейся сложности. Это не равнозначительно с признанием, что законы, управляющее не только органической природой, но и природой неорганической, не имеют никакого влияния на ход общественной жизни. Закон сохранения энергии, например, очевидно, может проявляться хотя бы в том измененном виде, какой представляет достижение известной цели с наименьшими затратами. Те, которые утверждают, что социология должна иметь самостоятельные законы, только указывают на то обстоятельство, что у нее есть особый предмет изучения, чем тот, каким задается биология или наука о неорганической природе: не жизнь живых организмов и не физические или химические явления в неорганической природе, а веками созданная общежительность. Предметом социологии является человечество и его составные части не в том виде, в каком оно представляет одну разновидность с царством приматов, а в том, в какое привели его созданные искусством людей
32 Сравни мою книгу «Совр. социологи», с. 210 -213.
общественные институты, понимая этот термин в самом широком смысле: языка, верований, морали и права, гражданских, общественных и политических учреждений, художественного творчества, литературы и науки. Так все указанные институты находятся в процессе трансформации, то и человеческая общежительность не есть нечто неизменное, а подлежит развитию; отсюда необходимость для социолога изучить ее не только в состоянии покоя, но и в состоянии движения. То, что Конт обозначил термином социальной динамики, отвечает этому понятию в такой же мере, как слово социальная статика — первому.
Из современных социологов Де Роберти, Де Греф, Дюркгейм, Драгическо особенно настаивают в своих сочинениях на необходимости восполнить недостаточную, в их глазах, мотивировку самостоятельной природы социологии, сделанную Контом и Спенсером. Де Греф в своем «Вступлении в социологию» справедливо указывает, что обоими мыслителями более выдвигаются квантитативные, чем квалитативные, различия общественных явлений от явлений психических и биологических. Говоря о Спенсере, нельзя не сказать, что выдвинутые им два основных процесса — дифференциации и интеграции — столько же действуют в мире биологическом, сколько и в социальном. Конт же более настаивал на необходимости создания особой науки об обществе, чем доказывал наличность особых законов, им управляющих, если не считать таковым закон скорее психологический, чем социальный, закон перехода от теологического и метафизического мышления к научному. Настаивая на меньшей общности и на большей сложности социальных явлений, он недостаточно останавливался на особенности их природы, хотя некоторые указания на этот счет, по справедливому замечанию Де Роберти, и содержатся в его «Курсе положительной философии». В своем первом трактате о социологии Де Роберти, развивая мысль Конта, справедливо указывает, что то, что обособляет социальные явления от биологических и придает им особый характер, лежит в последовательном и безостановочном влиянии человеческих поколений друг на друга. Конт менее ясно выразил ту же мысль, говоря о том, что в подлежащих изучению социолога явлениях добрая часть создана покойниками. Все это в действительности обозначает только то, что предметом социологии, как мы сказали, является созданная вековым развитием человеческая культура. Драгическо в сочинении, появившемся впервые в 1908 году и озаглавленном «Роль индивида в социальном детерминизе», собрал
в одно целое заявления, делаемые новейшими социологами, начиная от Де Роберти, переходя к Де Грефу, Гиддингсу и Дюркгейму, насчет наличности особых социологических законов, отличных от физико-химических, биологических и психических. Для меня важнейшим из них является рост человеческой солидарности. Я не раз высказывался по этому вопросу и, передавая мои мысли вкратце, ограничусь только следующим. На низших ступенях общественности мы встречаем тесно ограниченные круги людей, связанных сознанием общности преследуемых ими задач: сохранения жизни и продолжения породы. Входящие в состав этих кругов лица обоего пола представляют замиренную среду, для которой весь внешний мир, им чужеродный, составлен из врагов. Процесс развития состоит в постепенном расширении этой замиренной среды путем ли основанных на договоре союзов, или вызванных нередко насилием слияний нескольких кругов в один. Увеличение плотности населения вызывает необходимость интенсификации труда, а эта интенсификация достигается специализацией общественных функций. Таким образом, одним из проявлений солидарности является то, что в самом широком смысле должно быть понимаемо под разделением труда. Оно, в свою очередь, упрочивает зависимость отдельных групп друг от друга и является, таким образом, фактором дальнейшего развития солидарности и расширения круга объединенных ею союзов. Дюркгейм выбирает специальным предметом своего изучения одно из проявлений этой солидарности — разделение труда.
Автор пока не издал систематического изложения своей доктрины. Мы можем поэтому судить о ней лишь по отдельным его монографиям. Дюркгейм впервые обратил на себя внимание своей книгой «О разделении труда» («De la division du travail social»). Оно интересует его не по причине обусловленной им экономии сил, а ввиду той солидарности, какую оно порождает между людьми. Он задается вопросом: не содействовало ли разделение труда интеграции общественного тела? Вопрос не нов: он ставился еще Контом. «Если,— говорил последний,— понимать разделение труда во всей его широте, не ограничивая одной сферой материальных услуг, им оказываемых, то мы приобретем возможность смотреть не только на индивида, но и на различные классы и народы, как на участников в одном громадном общем деле, развитие которого связывает современных сотрудников в нем с отдаленными предшественниками и длинной серией преемников. Постоянное распределение труда,— писал Конт (Курс положит, философии, т. IV, с. 425) — порождает
общественную солидарность и является первою причиной возрастающего объема и сложности общественного организма». Отправляясь от того же общего положения, два выдающихся социолога наших дней, проф. Зиммель в Берлине и Дюркгейм в Париже, сделали удачную попытку указать на два преемственных периода в истории человечества, грань между которыми образует появление начала не столько разделения труда, сколько обособления общественных функций. «Кто бы желал,— говорит Зиммель,— выразить в одном положение природу общественного развития, тот принужден сказать, что на низших ступенях человечества мы встречаем общественные группы, члены которых более или менее однохарактерны между собою и тесно связаны друг с другом. Самые же группы чуждаются друг друга и враждуют между собой. Общественное развитие ослабляет эти характерные особенности. Тесный круг переходит в более широкий, заключающий в себе несколько ранее обособленных групп. На первых порах строгое равенство было душою сообщества. Производительная деятельность каждого ничем существенно не отличалась от производительной деятельности остальных. С течением времени произошла дифференциация в среде отдельных групп, последовало обособление предпринимателей и простых производителей труда. Производитель и купец, первоначально объединенные в одном лице, обособились. Торговец приобрел большую свободу передвижения, что позволило ему расширить сферу своих обменов. Итак, развитие первоначальной, тесной и однохарактерной среды совершилось в двояком направлении: с одной стороны — последовала индивидуализация общественных функций, с другой — увеличился объем обществ». Монография Зиммеля озаглавлена: «Социальная дифференциация». Сочинение это появилось ранее книги Дюркгейма, и за Зиммелем следует поэтому признать приоритет в развитии одного из наиболее обоснованных положений социологии: признания тесной связи, существующей между обособлением общественных функций и ростом человеческой солидарности.
Признавая вслед за Зиммелем значение разделения труда, как внешнего выражения тех трансформаций, каким подвергается начало солидарности, Дюркгейм различает два главных периода в истории человечества. Под механической солидарностью, отличающей собою первый период, он разумеет такую, при которой отдельные индивиды выполняют одни и те же общественные функции, подобно тому, как в колонии животных каждое функционирует однохарактерно со всеми прочими. При такой солидарности отсутствует понятие
разделения труда, точь-в-точь как в колонии животных отсутствует различие координированных между собою органов, имеющих каждый свою определенную функцию. Чем же вызывается при такой механической солидарности тесное единение особей, совокупность которых образует собою общественное тело? Дюркгейм отвечает: интенсивностью общественного сознания. Оно сказывается, по его мнению, в репрессивном характере законодательства, в подчинении личности обществу, в имущественном коммунизме, в интенсивности религиозных чувств и представлений, в однообразии мышления, демонстрируемого широким распространением пословиц и поговорок, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что люди думают в унисон. По мере того как общественное сознание становится менее интенсивным, исчезают все только что указанные особенности. Место репрессивных норм занимают нормы декларативные; к восстановлению права или к возмещению вреда и убытков — вот к чему сводится отныне забота судьи и законодателя. Отношения полов между собою, прежде регулируемые строгими карательными мерами, общее правило, регулируются отныне свободным соглашением. Личность становится священной, пишет Дюркгейм, и возникает, можно сказать, предрассудок в ее пользу. Но что приходит на смену умаляющегося в своей силе и энергии общественного сознания? Дюркгейм отвечает; разделение труда. Так как, говорит он, механическая солидарность слабеет со временем, то должно последовать одно из двух: или наступит упадок общественной жизни, или новая солидарность заступит место прежней. Этот последний исход и имеет место в действительности, по мере того, как разделение труда начинает оказывать то же влияние и играть ту же роль, какая прежде принадлежала силе общественного сознания. Законом надо считать, по мнению Дюркгейма, постепенную замену механической солидарности солидарностью органической, построенной на разделении не одного физического труда, но и всех общественных функций. С переменой в характере солидарности должна последовать перемена и в общественной структуре. Двум различным типам солидарности должны отвечать и два различных уклада общества. Идеальным типом общества, построенного на начале механической солидарности, надо считать однородную массу, в которой отдельные особи не отличаются существенно друг от друга, в которой нет, следовательно, внутренней организации. Эта масса является той социальной протоплазмой, из которой развились со временем все разнообразные типы общежития.
В главах, посвященных рассмотрению причин и условий, в каких развивается разделение труда, Дюркгейм делает попытку опровергнуть то мнение, будто стремление к личному счастью обусловливает собою поступательный ход указанного явления. Он справедливо замечает, ссылаясь на Спенсера и Вундта, что как недостаток, так и всякое излишество функциональной деятельности имеет болезненные последствия, а если так, то и чрезмерность в разделении труда отнюдь не ведет к счастью. Эти соображения постепенно приводят к тому заключению, что счастье связано с правильным отправлением всех наших органических и психических способностей. Оно выражает собою не временное настроение (что можно, например, сказать об удовольствии), а состояние продолжительное, состояние, которое можно назвать здоровым, одновременно, физически и нравственно. Сказать, что счастье возросло с разделением труда, значило бы идти наперекор всему тому, что нам известно из быта дикарей, которые живут довольные собой и судьбой, в то время, как человек высшей культуры весьма часто находит жизнь тягостной. Если редкость самоубийств говорит о том, что большинство людей готово мириться с существованием, то возрастающий процент случаев насильственного лишения себя жизни наводит на мысль, что такое отношение изменяется. Но самоубийство мы встречаем только в обществах цивилизованных; оно крайне редко у народов низкой культуры, и если встречается у них, то с характером самопожертвования. Дюркгейм вспоминает про стариков, которые у древних датчан, кельтов и фракийцев, кладя конец жизни, тем самым избавляли детей и потомков от непроизводительных затрат на свое содержание. Только нравственными и религиозными предписаниями можно объяснить, почему индусская вдова не желает пережить своего мужа, а древний галл — главу своего клана, почему буддист бросается под колесницу провозимого по улицам идола. Во всех этих случаях человек убивает себя не потому, что считает жизнь нежелательной, а потому, что его идеал требует такого самопожертвования. Совершенно иной характер носит самоубийство в современных обществах, в границах между 47° и 57° северной широты, 20° и 40° восточной долготы. В этой области, которую итальянец Морселли считает специфической ареной для самоубийств, лежат страны с наиболее интенсивной артистической, научной и экономической деятельностью. Да и внутри отдельных государств самоубийство особенно распространено в центрах культуры,— более в городах,
чем в селах. За последние сто лет во всей Европе, за исключением Норвегии, как установлено тем же Морселли, число самоубийств растет безостановочно. С 21-го по 80-й год истекшего столетия оно, по исследованиям Эттингена, утроилось. Повсюду либеральные профессии поставляют наибольший контингент самоубийц. Все это, очевидно, не может служить доказательством тому, что человеческое счастье растет вместе с прогрессом и, в частности, с разделением труда. А отсюда тот дальнейший вывод, что при объяснении тех трансформаций, каким подверглись общества в процессе их развития, бесцельно искать ответа на вопрос, в какой мере эти трансформации обусловлены стремлением к счастью, так как не этим обусловливается их ход.
Не в личных, а в общественных условиях, справедливо думает Дюркгейм, лежит ключ к пониманию причин, по которым разделение труда прогрессирует все более и более. Его успехи идут рука об руку с исчезновением общественной структуры, построенной на начале механической солидарности, а это совпадение наводит на мысль о причинной связи между обоими явлениями. Исчезновение общественных структур, построенных на механической солидарности, потому ведет к разделению труда, что последствием его является более интимное сближение дотоле разрозненных индивидов.
Для Дюркгейма не осталось тайной, что обстоятельством, всего более содействовавшим ускорению процесса разделения труда, было размножение населения и увеличение его густоты. «Разделение труда прогрессирует,— говорит он,— по мере того, как большее число индивидов вступают в сношения друг с другом и приобретают тем самым возможность действовать и воздействовать друг на друга». Раз мы условимся с автором называть «динамической или нравственной густотой» это сближение и вытекающий из него активный обмен, мы вправе будем сказать, что разделение труда, в его поступательном ходе, стоит в прямом отношении к нравственной или динамической густоте общества. Но сближение может вызвать указанные последствия только тогда, когда расстояние между индивидами сократится тем или другим порядком. Нравственная густота не может поэтому возрастать иначе, как рядом и одновременно с густотой физической: последняя может служить мерилом для первой. В то же время Дюркгейм думает, что бесполезно задаваться вопросом, какая из двух является причиной, а какая следствием. Достаточно сказать, что они неразлучны. Дюркгейм доказывает справедливость своего общего положения о влиянии фактора населения на разделение труда
двоякого рода данными. Во-первых, ссылкой на известный факт, что, тогда как первобытные общества живут рассеянно, в обществах цивилизованных происходит концентрация населения, а во-вторых, ссылкой на то, что города с их более интенсивной культурой и более интенсивным разделением труда получают большую часть своего возрастающего населения из сел. Но если, говорит он, общество, сгущаясь, тем самым вызывает разделение труда, то, в свою очередь, это разделение увеличивает сплочение общества. Это не значит все-таки, чтобы разделение труда было для Дюркгейма первичным фактором. Он, напротив того, считает его фактором производным и тем самым косвенно дает признание той точки зрения, на которую становятся некоторые современные социологи, в том числе Кост; они, впрочем, в этом отношении только примыкают, утрируя его, к учению, высказанному еще Контом. В самом деле, в «Курсе положительной философии» (т. IV, с. 55) мы читаем: «одним из менее известных и более существенных последствий сплочения населения надо признать то, что оно прямо содействует более быстрому ходу общественной эволюции». Очевидно, Дюркгейм высказывает, только в других словах, ту же мысль, когда говорит: «Степень разделения труда стоит в прямом отношении к массе и густоте отдельных обществ. Если оно прогрессирует безостановочно, то потому, что общества, в которых происходит это явление, становятся более густыми и, как общее правило, более численными». Причина, по которой разделение труда в более численных обществах развивается с большей быстротою, по мнению Дюркгейма, лежит в том, что борьба за существование в них более интенсивна. Преследуя одинаковые цели, ввиду удовлетворения одинаковых потребностей, люди постоянно вступают в соперничество между собою. Пока у них имеется больше средств, чем нужно для их существования, они еще могут жить друг возле друга. В противном же случае между ними загорается война, тем более жестокая, чем больше чувствуемая ими нужда. Иное дело, если индивиды, живущие совместно, принадлежат к разным родам и видам. Питаясь различно и ведя не одинаковый образ жизни, они не стесняют друг друга. Отсюда, как справедливо указывает Дарвин, в любой области, открытой для иммиграции, а следовательно, для борьбы особи с особью, всегда можно отметить присутствие большого числа видов. Люди, говорит Дюркгейм, подчиняются тому же закону. В одном и том же городе разные профессии могут существовать рядом, не причиняя вреда друг другу, и это потому, что ими преследуются разные цели. Чем
ближе их функции сходятся между собой, чем более между ними общего, тем вероятнее становятся столкновение и соперничество профессий между собою. Понятно, что при таких условиях рост населения, сопровождавшийся большею его густотою, необходимо вызывает собою прогресс в разделении труда. Развитие производства в каждой области неизбежно ограничено, во-первых, потребностями или, как говорят, рынком, а во-вторых, теми средствами, какими располагает самое производство. Понятно, что при расширении его сферы, благодаря, положим, проведению нового пути, рынок растет, и оказывается больше требующих удовлетворения потребностей. Какое получится от этого последствие? Существующим уже производствам предстоит трансформироваться в смысле большей специализации. Каждый шаг в этом направлении имеет своим последствием увеличение и усовершенствование производства. Не воспоследуй такой специализации, слабейшим производствам пришлось бы сойти со сцены, уступая место конкурирующим с ними. Интенсивность борьбы или конкуренции, в свою очередь, предполагает большую потерю сил, что, в свою очередь, вызывает и больше затрат на их восстановление. Отсюда следует необходимость большей и лучшей пищи. С другой стороны, вызываемая конкуренцией трата сил отражается всего более в области центральной нервной системы, так как приходится направить все усилия к приисканию средств для поддержания борьбы путем создания или привития новых специальностей. Умственная жизнь развивается по мере того, как конкуренция становится более резкой, и в пропорциональном к ней отношении. Дюркгейм противополагает свою точку зрения той, какой придерживаются экономисты, говоря: «Для них все значение, какое имеет разделение труда, сводится к большему производству. Для нас же это большее производство не более как необходимое последствие этого феномена. Если мы специализируемся, то не для того, чтобы производить больше, а чтобы иметь возможность жить в новых условиях (вызванных все большим и большим развитием конкуренции)».
Ошибочно было бы думать, что общественная жизнь возникает благодаря разделению труда. Она несомненно существовала раньше его, в противном случае трудно было бы объяснить, почему, столкнувшись между собой в своих интересах, конкуренты не разбежались бы в разные стороны, так свободных пространств было на первых порах не мало. Необходимо поэтому предположить, что отношения вражды успели уже смениться отношениями
сожития в момент, когда разделение труда начало уже развиваться; и факторами, содействовавшими этому явлению, были, по словам автора, верования и чувствования, общие всем лицам одного и того же общественного союза. Не разделение труда, а единство крови, привязанность к известной территории, культ предков, одинаковость привычек создали общество, т. е.— как говорит Дюркгейм — объединили индивидов, состоящих в постоянных сношениях между собою (с. 306). Все эти соображения клонятся к доказательству той мысли, что ассоциация и кооперация — два различных явления. Ассоциацией создается общество, кооперацией оно трансформируется. Эта элементарная истина игнорируется теми, кто, подобно Спенсеру, говорит Дюркгейм, допускают самопроизвольное зарождение общества, благодаря простому соединению индивидов. В противность им, Дюркгейм думает, что люди никогда не отказались бы от личной независимости ради создания общества; не коллективная жизнь развилась из индивидуальной, а, наоборот, последняя из первой. Очевидно, что, раз мы станем на ту точку зрения, на которую наводит нас этнология, нам не мудрено будет согласиться с этим положением. Стадные группы людей и развивающиеся в их среде роды и нераздельные семьи предшествуют всякому индивидуализму. Но чем, спрашивается, вызваны были сами эти стадные соединения? Дюркгейм этого не говорит. Для нас же источником их происхождения было желание предотвратить общими усилиями общую опасность и обеспечить себе теми же средствами продолжение самого существования и сохранение породы. Но если так, то мы снова приходим к заключению, что в корне всякого общежития лежит молчаливое согласие отдельных индивидов. И нам приходится, в конце концов, присоединиться к тому возражению, которое делает против Дюркгейма Тард, говоря, что, раз вы устраните индивидуальное, не останется налицо и социального (L’individu ecarte, le social n’est rien, c. 75).
Наряду с главным фактором разделения труда, возрастающей густотой населения, Дюркгейм указывает и на второстепенные. С упадком общественного сознания, поддерживавшего единство в обществе, не знающем другой солидарности, кроме механической, разделение труда становится источником новой солидарности. Поэтому есть основание задаться вопросом: не стоит ли первое явление в причинной связи со вторым? Можно, говорит Дюркгейм, привести немало примеров тому, как порядки, свойственные обществам, не знающим индивидуализации, мешаюгзарождению факта
разделения труда. Стоит вспомнить, что, где недвижимая собственность неотчуждаема и неделима, а такое явление встречается всюду, где господствует родовая или дворовая собственность, все члены одного очага предаются одинаковым занятиям. Отсюда тот вывод, что только при упадке того сильного общественного сознания, какое сдерживало воедино эти не знающие индивидуализации общества, складываются условия, благоприятные разделению труда.
Следя за постепенным вымиранием этого общего сознания и параллельной ему дифференциацией занятий, Дюркгейм указывает на замену в области верований фетишизма (обозначаемого им термином «натуризма»), т.е. признания предметов природы божествами, сперва верою в духов, живущих в этих предметах, т. е. так называемым анимизмом, а затем верою в богов, обособивших свою жизнь от жизни людской; эта последняя черта выступает в политеизме,— например, в греческом представлении о жизни богов на Олимпе и об их только случайном вмешательстве в человеческие дела. Наконец, с христианством царство Божие объявляется стоящим вне мира, и отделение природы и божественного проведено с такою полнотою, что между обоими возникает даже антагонизм. Вместе с тем понятие о божестве становится более общим и абстрактным. Но, рука об руку с этими изменениями в области верований, правовые и нравственные нормы также принимают большую универсальность. Это выступает, в частности, в упадке так называемого формализма. Тогда как в первобытных обществах в малейших деталях нормируется даже внешний образ поведения, в новейших эта регламентация производится лишь в самых общих чертах; предписывают, что должно быть сделано, а не как. Нередко утверждают, что с цивилизацией проникает в общество больше рационализма, больше логики, но это справедливо лишь в том смысле, в каком рациональное является вместе с тем и универсальным, а эта универсальность, как мы видели, имеет свои корни в падении того сильного общественного сознания, которое необходимо присуще обществам, не знающим индивидуализации. Но чем более универсальным является общественное сознание, тем больший простор оно оставляет для вариаций, а это значит, что создается условие благоприятное разделению труда.
Наряду с этой второстепенной причиной, содействующей его развитию, надо поставить упадок традиций, что опять связано с ослаблением общественного сознания. Ведь сила всех только что рассмотренных нами проявлений коллективного сознания —
будут ли ими верования, или нормы права и морали,— лежит в их наследственности, в передаче их от вымерших поколений к живущим. Господством традиций объясняется наличность в общественной структуре обширных, компактных масс, представляемых отдельными недробящимися семьями. Но с упадком таких порядков прекращается и обязательная жизнь сообща. Члены, входившие в состав семейных конгломератов, приобретают несвойственную им дотоле подвижность. Является возможность искусственного скучивания населения в известных центрах. Благодаря такой внутренней эмиграции, города начинают расти. Но подвижности населения вполне достаточно, чтобы вызвать упадок традиции. Ведь молодые поколения освобождаются от воздействия стариков, этих живых выразителей традиции, и переносятся в новую для них среду. В этой же среде, если судить о ней по тому, что представляют собой города, все является подвижным, и достояние прошлого, наследие предков, как таковое, пользуется слабым признанием. Умы всех скорее направлены на будущее. А при таких условиях опять-таки создаются порядки, благоприятные специализации и разделению труда.
К тому же исходу ведет меньший контроль общества над индивидом, по мере упадка коллективного сознания. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить жизнь в городе и селе. В последнем всякое нарушение установившихся обычаев считается скандалом, о чем, разумеется, нет и помину в городах, по крайней мере, больших и густо населенных. В них не является даже физической возможности постоянного контроля людей друг над другом, так как личные отношения редки, и люди теряют один другого из виду.
§2 '
'Наряду с Дюркгеймом целый ряд других мыслителей — Фулье, Де Греф, Де Роберти и вся та школа, которая известна под именем школы исторического или экономического материализма, не разрывающая связи с учением Дарвина о борьбе за существование и видящая в конкуренции и порождаемой ею классовой борьбе как бы применение к социальным отношениям открытого английским ученым биологического закона, настаивают в то же время на том, что социология имеет свои собственные законы. Де Роберти, в частности, полагает, что сама психология, не индивидуальная, а коллективная,
является отражением общественного уклада, и что поэтому она состоит в зависимости от социологии. Что касается до Де Грефа, то еще в мемуаре об историческом материализме, напечатанном в «Анналах международного института социологии» (т. 8), он объявил себя сторонником того воззрения, по которому экономический уклад является важнейшим фактором общественных изменений. Он не прочь думать, что не перемена в технике производства, а изменение в условиях обмена, или, как он выражается, в циркуляции ценности, играет роль решающего фактора. Эту мысль он развил не только в своем «Вступлении к социологии» и в сочинении о «Социальном трансформизме», но и в более позднем трактате «Экономическая эволюция» («revolution economique»), появившемся уже в начале текущего столетия. За последние годы социологическая литература обогатилась новыми его трудами, о которых приходится сказать здесь лишь несколько слов. Так как эти труды появились почти одновременно с другой попыткой свести воедино главные результаты социологической работы за вторую половину XIX столетия, попыткой, сделанной Рене Вормсом, и так как оба писателя нередко расходятся между собою, то я считаю возможным изложить воззрения обоих писателей параллельно.
Вторым изданием вышла в 1913 году «Философия социальных наук» Ренэ Вормса. Автор предпочел это название термину «социология», хотя и не прочь признать, что философия социальных наук и социология — понятия, взаимно покрывающие друг друга. По его определению, которое я вполне разделяю, социология является синтезом результатов, полученных конкретными общественными науками. Она показывает постоянную связь феноменов экономических, генезических, эстетических, интеллектуальных, нравственных, юридических и политических. Принимая эту классификацию социальных явлений, Вормс, по собственному признанию, следует за Де Грефом, предложившим ее в своем «Введении в социологию» и пользующимся ею и в своих «Социологических законах», и в «Социальном трансформизме», наконец, и в тех трех томах, которые озаглавлены «Структура обществ» и являются частичным осуществлением давно поставленного им задания общей социологии.
Мне кажется, полезно будет при дальнейшем изложении взглядов Вормса сопоставлять сказанное им с тем, что ранее или одновременно развито Де Грефом. Это не значит, чтобы между обоими авторами существовало тесное умственное сродство. Вормс решительно
отделяет социологию, как науку, от социального искусства, или общественного реформаторства. Вспоминая о том, что Энрико Ферри однажды заявил: «Социология будет социалистической или ее не будет вовсе», он в одном месте своего сочинения пишет, что истина лежит в обратном, т.е. что только под условием строгого обособления социального искусства возможно поступательное развитие обществоведения. Де Греф далеко не так утвердителен. В одном месте своего вступления он даже не прочь допустить, что общественная наука прониклась учениями социалистов, и эти последние в свою очередь близко подходят к социологическим решениям, так что нет возможности, при установлении общих положений новой науки, совершенно игнорировать подготовительную работу социальных реформаторов. Тем не менее в самом содержании его книги влияние, Сен-Симона и сен-симонистов, как и взгляды Прудона, принимаются в расчет лишь настолько, насколько в первых можно видеть зародыш последних по времени построений Конта, а во вторых — критику доктрины социальной гармонии и всей вообще манчестерской школы. Ни Вормс, ни Де Греф не выдают себя за пионеров науки; они почтительно относятся к своим предшественникам, причем первый считает ими всех вообще основателей и работников в области конкретных наук об обществе, а второй — главным образом Кетле, Конта и Спенсера.
Излагая общие им с другими мысли, они каждый раз указывают на то, что нового вносится ими самими в построенную их предшественниками доктрину. Вормс делает это попутно; Де Греф облегчает задачу читателя во вступительном очерке, написанном в 1910 году, где в 18 положениях передаются основные черты той доктрины, с которой он выступил четверть века тому назад в первом издании своего «Введения в социологию». Не все, конечно, в этих 18 пунктах носит печать оригинальности, например, хотя бы известное положение, что психология должна быть вставлена в классификацию наук Конта, и что место ей между биологией и социологией. Ведь то же самое сказано было раньше и Спенсером. Но вот, например, мысли новые в то время, когда они были впервые высказаны, да и то не вполне, так как сходство их с теми, какие развивал Фулье, бросается в глаза каждому.
Необходимость создания социологии, как особой науки, вытекает из того, что различия между обществами и организмами — не только количественные, но и качественные. Контрактуализм, или способность к самоорганизации, встречается в одних только
обществах. Близкое к сказанному развивал и Фулье. Более своеобразно то положение, что всякий общественный феномен есть результат комбинации населения и физической среды. Всякий феномен становится социальным, если он одновременно не только органический и психический, но и физический. Театр и актер сливаются в нем воедино.
Признавая иерархию наук Конта, Де Греф продолжает ее в применении к различным порядкам социальных явлений. Экономический феномен, как я сказал выше, он ставит в основу всех других; самый же этот феномен порождается соотношением территории и населения.
Остановимся на этих последних мыслях; покажем, что скрывается за ними, и спросим себя, в какой мере они разделяются и Вормсом?
Я не был еще знаком с построениями того и другого писателя, когда в качестве гипотезы высказал то положение, что биосоциальный фактор густоты населения является первичным по отношению к экономическому, который, в свою очередь, обусловливает собою политическую надстройку. Эта мысль в первой ее половине встречена была сочувственно Костом в его «Объективной социологии». Автор,— я это ясно вижу теперь,— даже излишне подчеркивал оригинальность моей мысли, которая, как читатель может убедиться из сделанной у Де Грефа выдержки, довольно близка к утверждению, что экономическое явление вызывается комбинацией территории и населения. Вормс решительно стоит на точке зрения Коста, когда в 3-й части своей «Философии общественных наук», говоря о населении, как об одном из социальных элементов, указывает на зависимость экономических явлений от густоты и концентрации населения. Прилив или отлив его из сел в города, или наоборот, имеет важные не только экономические, но и нравственные последствия: является возможность говорить о так называемой нравственной густоте.
И в этом отношении между социологами Франции или, точнее, социологами, пишущими по-французски, установилось за последнее время полное соглашение. В «Разделении общественного труда» Дюркгейм в сущности говорит то же самое, настаивая на влиянии, какое рост населения оказывает даже на постановку вопросов о ренте, о срочном, пожизненном или наследственном съеме земель у собственников, о возникновении таким образом арендных соглашений, о прикреплении крестьян к земле или откреплении их от нее, о возникновении различий между условиями городской и сельской жизни, что, в свою очередь, влияет на нравы и представления людей. В этом отношении социологи нашли готовые обобщения у экономистов,
которые, начиная с Тюрго и Адама Смита, переходя к Мальтусу и Рикардо и оканчивая Лориа и историками хозяйственного быта сел и городов, как нельзя лучше выяснили взаимоотношение, существующее между возрастающей или убывающей густотой населения и целым рядом экономических явлений, в свою очередь, находящих отражение и в политическом укладе, и в гражданском праве, и в нравах, и в этических представлениях людей. И в этом вопросе подтверждается мысль, что социология строит свои положения, пользуясь выводами конкретных наук об обществе. А если так, то какой смысл и значение имеют заявления тех или других ее критиков, что она, мол, берет свой материал и свои выводы напрокат то у антропологов и этнографов, то у историков и экономистов? Она иначе и поступать не может, если только не считать ее — что было бы неправильно — также своего рода конкретной дисциплиной, изучающей один вопрос о природе и формах общения, как это делает Зиммель33. Вормс принимает установленную Де Грефом иерархию социальных явлений с оговоркой, значительно ослабляющей ее смысл. Он не решается утверждать, что они следовали в известном историческом преемстве, а не зародились одновременно. Это замечание подкашивает в корне учение, например, о политической надстройке над экономическим фундаментом, на котором покоится, как известно, теория исторического материализма. Но автор «Философии общественных наук» не пускается на этот счет в желательные подробности и не преломляет, так сказать, копья с последователями Марксова учения. Не будем и мы останавливаться на этой стороне столь распространенной в наши дни социологической доктрины, тем более что мы имели случай довольно обстоятельно заняться ею в отдельной главе наших «Современных социологов». Единственная оригинальная черта внесена в этот старый спор не Вормсом, который в этом отношении является только последователем чужих мнений, а Де Грефом. В специальном сочинении, посвященном экономической
33 По вопросу о влиянии густоты населения, т. е. того биосоциального фактора, который, в моих глазах, является первичным, Зиммель и в «Американском журнале социологии» от июля 1902 г., и в своей Soziologie говорит приблизительно то же, что и Дюркгейм. Общественная структура социальной группы существенно зависит от числа индивидов в ней объединенных. Известные формы общежития необходимы и даже возможны только под условием известного численного отношения между населением и территорией. Как, например, он ссылается на коммунистические общества древности, необходимо предполагающие численно ограниченную организацию.
эволюции, Де Греф указывает на то, что формула Маркса — порядок производства определяет собою общественную, политическую и умственную жизнь,— может быть заменена другою, по которой во всех этих отношениях перемена условий обмена или, как он выражается, циркуляция ценностей, играет роль решающего фактора. Дюркгейм, в сущности, думает то же, противополагая общества, построенные на начале разделения труда и вытекающего отсюда обмена, обществам, в которых, самое большее, встречается обособление занятий между обоими полами. Таким образом, под различными только формулами скрывается одна и та же мысль. И Вормс принимает ее, но скорее как доказательство того, что в вопросе о взаимодействии экономических и политических факторов далеко не сказано последнее слово и не установилось полного соглашения даже между последователями исторического материализма.
Другой весьма существенный предмет, затронутый Де Грефом и вносящий оригинальность в его доктрину,— это не столько построение им нового закона, «закона ограничения» (loi de limitation), сколько протест против мысли Конта, что человечество в своем целом рано или поздно составит ту общественную организацию, которая лежит в основе его социологических синтезов. В просторечии это означает ни больше ни меньше как следующее: государства, как политические организации исторически сложившихся народностей, не призваны к исчезновению даже в отдаленном будущем, что не мешает, разумеется, возникновению не только европейского, но и мирового федерализма. Эта мысль и составляет ближайшую задачу первого тома того обширного сочинения, которое едва ли будет доведено до конца неутомимым бельгийским социологом. Я разумею его «Структуру обществ» (La structure generale des societes).
В таком беглом очерке, каков настоящий, я не могу дать даже приблизительного понятия об этом наиболее обстоятельном и оригинальном из сочинений Де Грефа. Я могу привести из него только отрывок, указывающий, каково задание автора. Всякий общественный агрегат, получаемый путем комбинации населения и территории, является одновременно не только комбинацией биологической и психической, но еще чем-то более сложным и конкретным. В этом агрегате имеется равновесие как внутрен-гнее, так и внешнее. Всякий агрегат, подобно любой органической материи, имеет форму или структуру: ни один не является аморфным; его равновесие никогда не бывает устойчивым. Увеличение массы служит ближайшим и простейшим условием общественной
дифференциации. Квантитативная вариация лежит в основе всех вариаций квалитативных. Всякий социальный агрегат, какова бы ни была его масса, раз он имеет определенную форму, необходимо ограничен, как ограничены все силы природы, механические, астрономические, физические, как ограничена и всякая организованная материя. Ограничены также физические и умственные силы человека. Этот наипростейший и наиболее общий закон, в силу которого всякая материя, как и всякий организм, имеет свои границы, свою форму, структуру, применим и к человеческим обществам: и они подлежат, так называемому Де Грефом, закону ограничения. Де Греф старается приложить этот общий закон к человеческим обществам, доказывая необходимость государственных границ и обособленности классов. Развитию первой мысли посвящается второй том, а развитию второй — третий.
Вормс считается с общими положениями их автора, когда говорит, что общество может считаться конституированным, раз налицо имеется политически организованная нация, отвечающая понятию государства. «Четыре слова,— пишет он,— употребляются иногда безразлично, как бы заменяя одно другие: народ, нация, общество и государство. Полезно, однако, установить между ними различия. По нашему мнению, они применяются к одной и той же коллективной единице, но рассматриваемой с различных точек зрения. Термины народ и нация означают группу, изучаемую со стороны ее структуры; термины же общество и государство имеют в виду самое ее функционирование. Социальная группа называется народом или нацией, когда мы рассматриваем ее только, как существующую; она называется обществом или государством, когда мы рассматриваем ее, как живущую. Теперь спрашивается: чем отличается народ от нации, а общество от государства? Термины народ и общество употребительны, раз заходит речь о множественности составляющих их элементов или множественности феноменов, представляемых их жизнью. Термины же нация и государство являются подходящими каждый раз, когда мы имеем в виду оттенить единство, к которому сводятся составляющие их элементы и развивающие в них явления. Нация, это — организованный народ; государство, это — общество, дисциплинированное правительством и законами. Жизнь самопроизвольно развивается в обществе; она стеснена всякого рода обязательствами в государстве. Народ может быть рассеянной толпой; нация — внутренно объединенная масса. На низших ступенях истории, среди первобытного человечества'или отсталых типов
современного, имеются уже народы и общества, но неизвестны нации и государства». Вормс заканчивает свои противоположения приведением таблицы, позволяющей одним взглядом распознать эти отличительные черты народа и нации, общества и государства34.
Я привел этот отрывок с целью показать самый способ изложения Вормсом его мыслей. Он отличается сжатостью, своего рода «лапидарностью» и на первый взгляд грешит догматизмом, пожалуй, даже схоластикой. Но дело в том, что на французском языке термины «народ», «нация», «общество» и «государство» исключают собою употребление таких терминов, как народность, которая, очевидно, может и не совпадать с народом, как составленным подчас из нескольких народностей или включающим в себя лишь часть определенного народа. С этой точки зрения классификация, предлагаемая Вормсом, может показаться несколько узкой и не обнимающей собой всего разнообразия политических организаций этнографических групп. Вормсу приходится рассматривать, например, Австрийскую империю с разнообразием населяющих ее племен и различием в политических отношениях этих племен между собою и к общему целому, как явление исключительное, как нечто напоминающее тот monstrum politicum, каким воображению Пуффендорфа рисовалась предшествовавшая образованию Австрии Римско-Германская империя. Мы задумаемся поэтому, прежде чем перенести в наш толковый словарь предлагаемую Вормсом классификацию. Но она, во всяком случае, свидетельствует о том, что в глазах ее автора не человечество, а организованное в государство население отвечает понятию общества.
Для Вормса процесс общественной эволюции рисуется в форме объединения семей в роды, родов в племена, племен в государства. Он не особенно останавливается на этом вопросе, но, видимо, отдает предпочтение ходячей доктрине над тою, которая выдвинута была английскими и за ними некоторыми немецкими писателями, говорящими об обособлении семьи из более безразличной массы особей разных полов, обнимаемых, по терминологии столько же Спенсера, сколько и Колера, термином «стадных соединений».
Характерным для автора «Философии общественных наук» является отрицание им идеи прогресса. Вормс — противник не одного лишь учения Кондорсэ о безостановочное™ поступательного движения человечества и отождествления его с возрастающим счастьем
34 Философия обществ, наук, т. I, с. 36-37.
наибольшей части людей; он просто-напросто отрицает самую мысль об усовершенствовании материальных и нравственных условий человечества в связи с эволюцией обществ. Для него, по-видимому, несомненным является один рост знания. Но какое влияние этот рост имеет на то, что мы называем прогрессом,— об этом Вормс не то что не говорит, а не считает даже возможным поднять речи. «Идея прогресса,— пишет он,— имеет чисто субъективную ценность. Мы называем прогрессом то, что кажется нам усовершенствованием по отношению к предшествующим порядкам, но критерий для суждения об этом усовершенствовании мы создаем сами. Мы говорим о том, что те или другие существа прогрессируют, когда они более или менее осуществляют наш идеал. А между тем нужно было бы знать как раз обратное,— знать, насколько они приблизились к их собственному идеалу. А это — именно то, что нередко всего труднее определить».
Наша точка зрения в этом отношении радикально противоположна точке зрения Вормса. Заодно с Контом мы полагаем, что без идеи прогресса не может быть и социологии, самый же прогресс, как мы не раз доказывали, сводится к расширению сферы солидарности как внутри политически обособившихся национальных групп, так и между этими группами, обнимаемыми общим понятием человечества.
Только что вышедший во втором издании 1-й том «Философии общественных наук» Вормса отразил на себе то влияние, какое оказали на автора прения как в социологическом обществе в Париже, так и на конгрессах Международного института социологии. В своем введении он говорит о том, что коллективная работа во многом выяснила его взгляды на спорные вопросы, разделяющие социологов, и, в частности, заставила несколько отступить от слишком ортодоксального отношения к теории государства общественного организма. Второй и третий томы во втором издании, насколько можно судить по первому, посвящены будут вопросу о методах социальных наук и об основных положениях, вытекающих из изучения этих наук.
Начинающим свои занятия ими нельзя не рекомендовать в особенности II том сочинения Вормса. Он введет их в самую лабораторию исследований, посвященных раскрытию отдельных сторон общественного быта, указывая в то же время на связь, существующую между методами общественных наук и методами наук о материи неорганической и органической. Особенно полезной кажется мне попытка Вормса свести в систему те приемы, какими орудует социолог и вообще ревнитель общественного знания, под две группы:
приемов анализа и приемов синтеза. К числу первых принадлежат приемы непосредственного наблюдения — статистический, монографический, прием анкеты, прием этнографический, исторический и даже экспериментальный. Говоря о последнем, автор указывает на ограниченность его применения; так как каждое общественное явление необыкновенно сложно, то о повторяемости его в истории едва ли может быть речь. Экспериментация ограничивается поэтому наблюдением перемен, происходящих в разных странах под действием тех или других причин, например новых законов по одному и тому же предмету. В конце концов, важнейшим приемом анализа в социальных науках все же является наблюдение.
Переходя к приемам синтеза, автор посвящает отдельные главы рассмотрению таких вопросов, как поиск причин, отношения существования, отношения преемства. Второй том заканчивается четырьмя главами о классификации, индукции и дедукции в области социальных наук, наконец, об аналогии и гипотезе.
Читал этот том, в котором в сжатом и общедоступном виде изложены способы изучения общественных вопросов, к каким прибегали и прибегают в наши дни этнографы, экономисты, статистики, историки и, наконец, социологи, трудно не прийти к заключению, что он является существенным дополнением к тому образцовому использованию приемов Огюста Конта при построении им социологии, какое мы находим во второй части известной «Логики» Милля. Сказать это — равносильно очень высокой квалификации самой книги. Несомненно, что в ней нельзя искать последнего слова по методологии всех и каждой из конкретных наук об обществе. Она не освобождает, например, от чтения таких монографий, как та, которая посвящена была недавно методам исторического исследования академиком Лаппо-Данилевским. Но насколько последнее сочинение обращено к лицам, уже имеющим некоторую историческую и гносеологическую подготовку, настолько книга Вормса обращается ко всем, кто обнаруживает простую любознательность по вопросу, как добываются эмпирические обобщения в области социальных знаний. Неудивительно, если книга, вышедшая частями в 1903-1904 и 1907 годах, уже потребовала нового издания в 1913 году.
В противоположность II тому, третий едва ли удовлетворит тех, кто, не будучи сам посвящен в вопрос о спорности общих положений, выдвигаемых конкретными социальными науками, ждет от книги, посвященной их синтезу, своего рода откровений. Оказывается,
что более или менее бесспорными можно считать только некоторые труизмы, с которыми давно познакомила широкую публику европейская журналистика. Но это, так сказать, самоограничение автора, избегающего всякого спора о гипотезах и ставящего себе, по-видимому, задачу ознакомить читателя не столько с собственными взглядами, сколько с теми, по отношению к которым существует большее или меньшее единомыслие, имеет и свои выгодные стороны. Она очерчивает контуры той terra ferma, той незыблемой почвы, на которой приходится строить дальнейшие обобщения. Да и самая банальность развиваемых в книге взглядов на самом деле является только мнимой. Она существует исключительно для тех, кто привык считать бесспорными известные положения, не раз повторенные популяризаторами современного общественного знания. В доказательство нашей мысли остановимся на некоторых примерах. Вторая глава посвящена вопросу о расе. Мы столько раз слышали за последнее время о расовой вражде, что у нас не зарождается даже сомнения в том, что понятие рас вполне выяснено, и что есть возможность не только признать их постоянство, но и установить определенную иерархию их. А между тем оказывается, что чистых рас почти не существует, что их свойства меняются со временем, что он постоянно делают заимствования друг у друга, и что в ходе истории культурное руководительство не раз переходило от одной расы к другой. Иерархия рас, пишет Вормс, не представляет собою ничего абсолютного и неизменного. В течение веков превосходства, которыми отличалась та или другая раса, подвергались изменению, и руководящая роль переходила от одного народа к другому. Черные расы, быть может, предшествовали белым столько же в долине Нила, сколько и на берегах Инда. Желтая раса достигла значительного экономического и общественного развития в пределах Китая задолго до Европы; краснокожие Мексики и Перу обладали довольно развитой культурой. Среди народов белой расы умственное господство переходило от Египта к халдеям, евреям, финикиянам, персам, грекам и римлянам. А в новое время ряд наций — итальянцы, испанцы, французы, голландцы, англичане, немцы, американцы — вправе гордиться тем, что в известные эпохи они были главными инициаторами в поступательном ходе человечества (т. III, 42-43). Так как автор ставит себе задачей не столько передачу собственных взглядов, сколько более или менее установившихся и всеми признанных, то он скорее может считаться консерватором, нежели новатором в научной доктрине. Это резко выступает, например, в таких вопросах,
как вопрос об индивиде. Ревнители так называемой коллективной психологии сходятся в развитии того взгляда, что индивидуальность также является продуктом истории. Эта мысль красной нитью проходит, например, в сочинениях Дюркгейма, не исключая и его последнего по времени трактата: «Об элементарных формах религиозной жизни». В том же направлении написана появившаяся недавно в «Американском журнале социологии» статья Дюрбара, озаглавленная «Социальный базис индивидуальности». Вормс смотрит на вопрос с ранее установившейся точки зрения, или, точнее, он старается выделить в новом учении то, что кажется ему прочно установленным, от того, что носит еще характер гипотетически. Не следует ли, пишет он, объяснять самого индивида общественными необходимостями? В наши дни не прочь думать так. В обширных современных обществах индивид принадлежит к значительному числу независимых друг от друга групп — к определенной расе, полу, возрасту; он живет в определенной местности, исполняет известную профессию, состоит членом того или другого класса, примыкает к той или другой партии, числится в том или ином вероисповедании, участвует в тех или иных свободных ассоциациях. Таким образом, с разных сторон воздействуют на него несходные влияния; он становится тем или иным под влиянием сил, развившихся в этих разнообразных кругах; он будет их порождением, и то направление, которого он станет держаться в жизни, явится комбинацией тех разнообразных импульсов, которые все эти круги будут давать ему. Можно также представить себе все эти группировки в форме кругов, имеющих свои различные размеры и свои отдельные центры и пересекающих друг друга в определенных местах. Индивид явится в таком случае местом пересечения этих различных кругов. Чтобы определить его положение в пространстве, достаточно будет установить их собственные положения, так как тем самым будут указаны их общие элементы. А отсюда тот вывод, что можно познать индивида, определив, к каким группам он принадлежит. Оставим в стороне математическую терминологию приверженцев такого воззрения и проникнем в самую суть их мнения. В некотором смысле они правы, а в некотором смысле их точка зрения ошибочна. Справедливо, что можно было бы узнать все об определенном человеке, если бы мы могли окончательно приписать его ко всем тем группам, к которым он принадлежит; но это, как мы увидим, немыслимо. С другой стороны, не индивид — создание группы, а группа — индивида. Правда, группа влияет на человека, развивает
его, видоизменяет и увлекает; но почему человек принадлежит к той или другой группе? Потому, что присущие ему характерные особенности привлекли его в ее среду. Группа возникает потому, что в ней сошлись люди, имеющие одни и те же отличительные особенности. Вормс указывает, что в число неразрешимых вопросов, по крайней мере, при современном состоянии знания, надо включить вопрос о происхождении индивидуальности. Он связывает его с другим, еще более широким вопросом о том, чем обусловливается различие организмов всех вообще живых существ, и далее, отчего всякая материя, как неорганическая, так и органическая, принимает определенные и различные формы? Этим вопросом занимались еще Платон и его учитель Сократ, над ним останавливались схоластики, искавшие определения principium individuationis, над ним работали двадцать веков ученые мыслители, и он все же покрыть мраком неизвестности.
Спорным, крайне трудным, но не устраняющим возможности разрешения является и другой вопрос, тесно связанный с предыдущим,— вопрос о природе и условиях появления великих людей, тех, кого мы в просторечии называем гениями. Для многих гений не более как интенсивный выразитель своего времени, его запросов и требований; он появляется в положенное время. Тард критикует такой взгляд, говоря, что выбор этого времени зависит от самого «гения». Вопрос не может быть решен без долгой предварительной работы. Нужно было бы, говорит Вормс, составить список всех великих людей, выяснить, чем каждый обязан своей среде, и что, затем должно быть приписано исключительно его прирожденным способностям или гению. По верному замечанию Тарда, не существует какой-то бездны между гениальным человеком и толпою. Изобретения и открытия не составляют исключительного достояния чрезвычайных способностей. Мы все в большей или меньшей мере, раз попав в известные условия, обнаруживаем инициативу. Вопрос о великих людях, в сущности, сводится к вопросу о том, при какой счастливой встрече двух или большего числа разнородных мыслей в уме, разумеется, способном к обобщению, зажигается та искорка, от которой исходит всякое новшество в науке, технике, искусстве или жизни.
Говоря об индивидуальности, Вормс, по-моему, недостаточно останавливается на вопросе о том, в какой мере переход от общества, не знавшего дифференциации социальных функций, к обществу, построенному на начале разделения труда, содействовал развитию
индивидуальности. Дюркгейм, а за ним и другие сторонники так называемой коллективной психологии, в последнее время — Дюрбар, справедливо останавливаются на той мысли, что индивидуальность стала развиваться в тесной связи с только что указанной эволюцией. О дикаре, говорит Дюрбар, трудно собственно сказать, что он ведет индивидуальное существование, в особенностях которого от жизни других членов одного с ним рода-племени он дает себе ясный отчет. Даже при допущении, что его жизнь имеет личный отпечаток, стороны, которыми она отличается от других, так немногочисленны, и эти отличия в такой степени лишены сколько-нибудь систематического единства, что трудно говорить серьезно о том, что на практике они вносят много нового и своебытного. Психическая жизнь дикаря исчерпывается его родовым общением. Он и не думает независимо, и не поступает иначе, как в согласии с обычаем; наконец, он даже не индивидуализирует своей оценки жизненного опыта. Фетишизм, представляющий в культуре дикаря религиозную интерпретацию этого опыта и основание для общественной морали, принимается каждым членом племени без всякой критики и определяет его поведение. Согласный с обязательными нормами образ действий в обществах, близких к первобытному, определяется не логическим признанием необходимости авторитета и власти, а исключительно тем, что такого же порядка держались предки. В своей практической жизни дикарь не выходит из круга созданных религией запретов, или «табу», которыми определяется вся рутина повседневной жизни. Дикарь не ищет усовершенствований и ни в чем не отступает от порядка, установленного этим «табу», так как всякое отступление могло бы повергнуть его группу в беду. Преступление и наказание являются делом рода, так как не зародилось еще понятия об индивиде, как о моральной ценности. Таким образом, на этой ступени элемент общественный достигает максимального развития, а индивидуальный — минимального35.
Из приведенного отрывка, отражающего собою не столько мысли самого автора, сколько всего ряда тех писателей, которые не считают возможным обходиться без того, что мы называем генетической социологией и что прежде слыло под еще менее удачным названием «до-истории», с очевидностью выступает ограниченность той точки зрения, на которой стоит Вормс. В одном месте своей книги он говорит, что не видит причины строить обобщения на других
35 Американский журнал социологии. Июль, 1912 г.
фактах, как на фактах по преимуществу новой истории. К чему социологам обширное знакомство с бытом дикарей и варваров — пишет он на стр. 14III тома своей книги — оно раскроет пред ним такие порядки, которых мы только стараемся избежать. Что нам действительно нужно,— это узнать, как и какою ценою создана современная гражданственность, а этого можно достигнуть, опираясь преимущественно на факты новой истории. Автор обещает поэтому основывать свои выводы на наблюдениях, заимствованных из среды современных народов.
В этих строках не трудно увидеть осуждение того направления, которого держатся Дюркгейм, Маус, Леви-Брюль и целая плеяда ученых, частью опубликовавших уже, частью не опубликовавших результаты своих личных исследований, плеяда, к которой принадлежит и сравнительный историк-юрист Флак, настаивающий на тесной связи зарождающегося права с магией,— этой предшественницей религии, как пытался доказать английский ученый Фрэзер.
В таком сжатом очерке, как настоящий, я не имею, разумеется, возможности даже резюмировать те выводы, к которым пришли перечисленные мною исследователи. Но они, во всяком случае, клонятся к признанию, что человеческая психика, мораль, право подверглись с веками таким изменениям, которые необходимо приводят к признанию человеческого прогресса, с чем, как мы видели, Вормс не считает возможным согласиться.
социология и социологи *
В истории каждой науки чередуются моменты внезапного развития и столь же неожиданного застоя. Они, впрочем, носят этот характер только для тех, кто теряет из виду необходимую связь, существующую между всеми человеческими знаниями, благодаря чему открытия, сделанные в одной из их областей, вызывают поступательный ход и других. Судьба нашей науки служит самым разительным примером сказанного. Если в середине прошлого века Монтескье выставляет впервые знаменитое положение: «Законы — естественные отношения, вытекающие из природы вещей», то не потому, что сумма накопленных наблюдений из истории человеческих обществ привела его к этому выводу, а потому, что он подсказан был ему успехами биологии. То, что автор «Esprit des lois» считает естественными отношениями, или законами, при ближайшем анализе оказывается результатом поспешных обобщений. Формы правления не переходят необходимо друг в друга, подчиняясь какому-то фатуму извращения, климат не определяет собою навсегда и неизменно различий в общественном укладе, как не делает этого ни раса, ни размер занятой племенем территории, хотя в пользу всех этих положений можно привести частные исторические примеры. Эти примеры казались настолько решительными еще прямому предшественнику Монтескье, Вико, что он десятками лет ранее уже проповедовал то же круговращательное движение, применяя его при этом ко всем сторонам общественности. От всех этих построений не осталось, однако, ничего, кроме следующей глубокой истины. Род человеческий не покоится в инерции, а находится в постоянном
* Печатается по: Сборник в пользу недостаточных студентов Московского уни-> верситета. М.: Товарищество И.Н. Кушнер и К°, 1897. С. 1-13.
движении или, выражаясь языком гегелианцев, он не есть, а становится. В конце столетия, также под непосредственным влиянием прогресса в точных науках и подчиняясь глубокому впечатлению, произведенному на него французским переворотом, один из героев и в то же время одна из жертв революции, Кондорсе, односторонне формулировал теорию человеческого прогресса, как безостановочного, ничем не прерываемого развития. Его ближайший последователь, Сен-Симон, благодаря изучению точных наук и под впечатлением той революционной роли, какую успехи техники оказали на ход развития Европы в начале текущего столетия, при самом выходе из кровопролитнейших войн Наполеона, формулирует еще более общий закон смены милитаризма индустриализмом, а его ученик Огюст Конт, в знаменитом «Catechisme industriel», напечатанном в сотрудничестве с учителем, показывает параллельность и зависимость этого экономического явления с психологическим законом перехода от априорного к индуктивно-дедуктивному мышлению. В основе всей развившейся из этого положения теории трех стадий лежит в сущности не иное что, как эта простая истина. Вставьте термины теологический и метафизический взамен априорного и научный взамен индуктивно-дедуктивного, и вы получите всю теорию человеческого прогресса, как понимает ее основатель положительной философии и как отчасти предугадывали его Тюрго и Кондорсе.
Но вот в середине текущего столетия возникает, опять-таки в смежной области биологии, учение эволюционизма. Последователь Дарвина, Спенсер, немедленно прилагает его к анализу общественных явлений, и книжный рынок обогащается трактатами и памфлетами об обществе — организме и об эволюции, основанной на безграничной дифференциации. Хотите знать, что научного представляет еще эта, так долго шумевшая в мире теория, прочтите следующую страницу из недавно отпечатанных трудов второго международного конгресса социологии. Критикуя взгляды одного из лиц, наиболее злоупотреблявших аналогией общественных явлений с естественно-научными, г-на Лилиенфельда, этнограф Летурно говорит: «Что общего между государством или нацией, вроде Англии, Франции и т. д„ и животным, вроде собаки, льва? Животное высшего порядка (а только с ним и сравнивают человеческие общества) составлено из клеточек или, вернее, из их элементов или фибр, образующих группы тканей, аппаратов, органов; государственный же организм составлен из граждан или единиц, морфологически сходных. Нельзя сказать, что та или другая из них представляет собою исключительно
нервную клеточку, а другая — клеточку костяную или мускульную. Продолжим аналогию далее и наткнемся на еще большие противоречия. Где в Англии, во Франции или Германии те классы, деятельность которых можно исключительно уподобить функционированию костей или нервов? Где гражданский желудок нации? Заметьте, что общественные клеточки в противоречие тем, какие встречаются в естественном организме, могут по выбору прервать свою взаимную связь и не только переместиться, но еще проникнуть в чужой организм; гражданин — клеточка переселяется, например, из Франции в Англию и обратно, а кто видел, чтобы что-либо подобное происходило с клеточками мозговыми или мускульными, притом сознательно и самопроизвольно? Пойдем далее: как открыть в обществе аппараты вроде слухового, нервного и т.д.? Дошли до того, что утверждали, будто нервную систему представляет сеть телеграфов. Изумительные организмы, которые взамен нервов довольствуются металлическою проводкой! В том же направлении объявляли, что органами движения в обществе является сеть его путей сообщения и т. п... но стоит ли продолжать! Уподобление человеческих обществ организмам — чистый продукт фантазии, результат поверхностного мышленья, он может только вредить успехам нашей науки...».
Приговор строг, но заслужен. Оказывается, что данные биологии не могут быть целиком переносимы в сферу обществоведения, и выступает, как нельзя лучше, научное значение того, чему учил Конт, выделяя ее в особую науку, которая должна поэтому иметь собственные законы. Тем не менее и то крайне одностороннее положение, которое состоит в уподоблении общества организму, заключает в себе зародыш истины, но истины, известной уже Менению Агриппе и которую в научной форме можно передать таким образом: общество не есть сумма разрозненных особей; его психология, как и его экономика, представляет нечто более сложное, чем сумма психических состояний частных лиц или сумма частных хозяйств. Сожитие с другими вызывает одновременно изменения и в них, и в нас самих, создавая то, что мы называем солидарностью. Эта солидарность представляет собою связь во всяком случай не меньшую, а превышающую ту, какая существует между отдельными клеточками организма. Не будь ее, не было бы и постоянства сожития, не было бы общества ~и самостоятельной науки об обществе — социологии. Последняя, таким образом, в моих глазах сводится к изучению условий и причин человеческой солидарности. Эти условия и причины представляют собою как неизменные, так и изменяемые величины; они могут
приумножаться и сокращаться. Можно указать моменты прогресса и регресса солидарности; можно проследить процесс постепенного ее расширения с эпохи, когда, объединенные действительным или мнимым родством и общностью культа, роды считали врагами всех, кто не входил в их состав, до переживаемой нами ныне стадии, когда объединенные политическою властью нации считают братьями и союзниками единоплеменников и единоверных, и глазам многих уже рисуется тип объединенного общностью культуры человечества. Есть поэтому возможность говорить об эволюции солидарности, а следовательно, и об эволюции общества, не будучи нимало последователем органической теории государства.
Есть возможность изучать общественные явления в их поступательном движении с остановками и регрессами, которые нимало не устраняют последовательного развития солидарности, без всяких уподоблений с ростом живого организма и не впадая в ошибку Вико, который у всех народов открывал младенчество, возмужалость, дряхлость и смерть,— можно говорить о прогрессе. Вот почему, независимо от признания или непризнания контовского закона трех стадий, есть основание быть социологом и говорить о социальной статике и динамике, т.е. об изучении суммы тех явлений, из которых слагается общественная солидарность то в состоянии покоя, то в состоянии движения.
Большинство тех лиц, совокупными усилиями которых создано международное общество социологов в Париже, не принадлежит ни к числу контистов, ни к числу спенсеристов, но все они объединены сознанием, что обществоведение составляет самостоятельную и более сложную науку, чем биология, что его задача чисто теоретическая, хотя чреватая последствиями и для практики. В их среде можно встретить поэтому людей самых разнообразных экономических и политических воззрений, последователей манчестерской школы и Карла Маркса, республиканцев и монархистов, аристократов и демократов.
На последнем съезде секретарь конгресса Рене Вормс как нельзя лучше выразил разнообразие тех представлений, какие еще на предшествующем собрании сказались при обсуждении природы и задач социологии, говоря, что за исключением Джона Лебока, понимающего ее в смысле практическом, одни обнаружили историческую, другие философскую тенденцию. Г. Вормс относит меня к первым и совершенно правильно считает выразителями последней Тарда, Гумпловича и Лилиенфельда. Что между этими тенденциями, прибавляет он, есть точки соприкосновения, в этом никто не станет сомневаться, и я пер
вый готов утверждать, что они могут слиться в стройный синтез. Но все же они настолько отличны, что сами по себе свидетельствуют о неодинаковом понимании того, что такое социология. Для одних это интегральная история человечества, научно построенная, для других — это философия сверхорганической жизни. Да и в пределах обеих групп немало частных разногласий. Автор следующим образом характеризует историческую тенденцию в среде социологов. Они полагают, говорит он, что изучение человеческих обществ должно следовать той же методе, какая была приложена к изучению природы. Подобно биологу, социолог рассматривает человеческое общество одно за другим, тщательно анализируя их формы и функции. Под формами надо разуметь одновременно и территорию и население данного общества, население, которое надо изучить и со стороны умственной природы, определяя порядок его распределения по возрастам и полам, по городам и селам, по профессиям и видам труда. Под функциями же общества надо понимать, во-первых, его хозяйство, которое Вормс уподобляет питательным функциям. К этой области чисто экономических явлений принадлежат: производство, обмен, распределение и потребление богатства. За питательными функциями следуют функции размножения, которые в обществе представлены семьей, и функции простого общения, которым отвечают явления религиозного, нравственного, эстетического, научного, юридического и политического порядка. Когда отдельные общества подвергнутся, каждое в частности, такому детальному изучению, необходимо будет обратиться к сопоставлениям и сближениям. Такова задача историко-сравнительного изучения общественных институтов; оно стоит к этнографии в том же отношении, в каком сравнительная анатомия и физиология животных и растений стоят к описательной ботанике и зоологии. Снова приходится рассматривать различные элементы, из которых слагается жизнь общества, но уже в границах всего человечества и в порядке его поступательного развития. К социологии конкретной и описательной присоединяется таким образом социология абстрактная и сравнительная. Автор развил те же самые мысли более подробно в докторской диссертации о природе и методе социологии. Существенная поправка к такому пониманию задач историков-социологов сделана молодым ученым Альбертом Пишем в заседании того же конгресса. Он предлагает выделить первую часть задачи, простое описание, в особую науку — естественную историю человеческих обществ. За социологией удержан будет в таком случае тот характер абстрактной науки, какой придан ей ее основателем
Огюстом Контом. Я тем охотнее останавливаюсь на этом сообщении, что сам высказывал те же взгляды в моих лекциях по сравнительной истории учреждений и в монографии об историко-сравнительной методе. Мне не раз приходилось настаивать на той мысли, что как биология не могла обойтись без помощи естественной истории, так и социология не получит научной постановки раньше систематического описания и существующих и существовавших обществ. Я не вижу только необходимости придумывать для этой, своего рода, конкретной социологии новое и притом чудовищное название социоэтологии, на котором останавливается г-н Пиш. Я вообще не склонен к неологизмам и хотя не отрицаю, что научная точность иногда требует их введения, но готов присоединиться к протесту, заявленному одним из наших сочленов, Комб де Лестрадом, против того педантизма, какой представляет облечение всех доступных понятий в непроницаемые для публики термины.
Наряду с исторической тенденцией г. Вормс указывает тенденцию философскую. Философы, говорит он, иначе понимают задачи социологии. Они будто бы одни думают, что недостаточно фактов; необходимо их научное объяснение. При этом для одних источником всего в обществе являются верования и стремления частных лиц (les croyances et les desires des individus). Ум человеческий, как в изобретении нового, так и в подражании,— действительный двигатель жизни общественной; социология — не более как расширенная психология, психология человека в обществе. Нужно ли прибавлять, восклицает г. Вормс, что такое понимание представлено в нашей среде весьма блистательно г. Тардом. Автор старается найти зародыш того же воззрения в среде манчестерской школы, которую он называет ecole economique dite liberale; но насколько учение Тарда считает умственное развитие, которое, очевидно, может сказаться только в двух видах: открытия и усвоения (или, что то же, подражание), определяющим собою все прочие эволюции: экономическую, политическую, нравственную, эстетическую,— оно непосредственно происходит от Конта и разделяется, разумеется, и такими сторонниками исторической тенденции в социологии, каким г. Вормс считает, например, меня. Сам г. Тард имел случай, возражая на критику одного из сторонников экономического материализма, следующим образом формулировать свое социологическое кредо. Справедливо ли, спрашивает он, что изменения в экономических потребностях достаточно, чтобы вызвать из-под земли гения, готового удовлетворить им? Не думаю. Мне кажется, вернее будет сказать, что сами потребности низшего порядка
изменяются под влиянием идей, самопроизвольно развившихся. Эти идеи, проникая в социальную среду, встречаются и в мыслях и в потребностях, уже укоренившихся, чаще союзников, чем противников. Если по временам необходимость — мать изобретательности, то еще чаще последняя, создавая новые ценности или понижая стоимость прежних, содействует зарождению и распространению новых вкусов, желаний и потребностей. Откуда, спрошу вас, возникло искусство приручения животных,— капитальнейшее изобретение того периода, который мы называем историей? Если допустить, что оно вызвано экономическою необходимостью, то почему та же необходимость не проявилась в Новом Свете, где, кроме ламы, да и то только между ацтеками и инками, ни одно животное не подверглось одомашниванию? Человеческая любознательность, а не материальная нужда дает в избранных умах импульс к открытиям и изобретениям,— открытиям подчас воображаемым, подчас действительным.
Таков источник догматов, мифов, таков также родник и научных знаний, которые развиваются друг из друга путем самой тесной филиации. Внизу параллельно происходит другая эволюция — желаний и потребностей, но эта последняя зависима от первой, которая, наоборот, происходит сама по себе. Вот почему история не может быть объяснена исключительно экономическими причинами. Из теоретических же истин, открываемых гением человека, вытекают и практические последствия, изменяющие нередко весь строй хозяйства. Напомню о компасе, о применении пара к мореплаванию, о передаче силы электричеством и пр.
Оригинальность и, не скрою, тенденциозность воззрений Тарда лежат не в том, что заодно с позитивистами он ставит умственное развитие краеугольным камнем всей общественной эволюции, а в том, что за влиянием подражания он не замечает или не хочет видеть других влияний, какими, независимо от заимствования и на расстоянии нередко тысяч миль и тысяч лет, обусловливается сходство порядков и учреждений двух или нескольких наций. Фриман давно указал на них, говоря об общности происхождения, об унаследовании зародышей сходных институтов из общей родины и от общих предков. Но и помимо племенного сродства и той общей всем арийцам родины, которая, может быть, никогда не существовала, так как мы •знаем только арийскую культуру, а не арийское племя,— племя, по всей вероятности, смешанное, как все исторические племена, то обстоятельство, что разнокровные и никогда не бывшие между собою в общении нации самопроизвольно вырабатывают в своей среде сходные
экономические, общественные и политические формы, служит, как мне кажется, лучшим доказательством общих законов развития. Импульс последнему дает с самого начала наипростейший факт естественного размножения и происходящего отсюда возрастания густоты населения. Из этого явления, развивающегося независимо от остальных, вытекают все другие. Им обусловливается переход от первобытных промыслов к скотоводству и земледелию, от подсобного хозяйства к двухпольному, трехпольному и многопольному, от так называемого захватного владения к мирскому, а по мере сокращения свободной к утилизации площади — к тому, наполовину общинному, наполовину частному владению, какую представляет общераспространенное поместье с характеризующей его надельной системой и разбросанностью полос одного и того же крестьянского двора в разных полях. Еще раньше индивидуализации земельной собственности началось накопление движимостей (стад) в руках одних семей — родов в ущерб другим. Всех этих экономических явлений было достаточно для выделения имущественного класса и образования контрастов бедности и богатства. Навстречу этому движению идет другое. Неравенство способностей, мускульной силы, умственной энергии и фантазии ведет к выделению из массы сродных индивидов — бойцов и мудрецов, воинов, кудесников, бардов, жрецов, третейских разбирателей или посредников. Все они живут на счет чужого производства и взамен духовного руководительства и физической защиты получают обеспечение землей и движимостью. Их ряды вскоре сливаются с рядами обособившихся собственников, благодаря чему возникают высшие руководящие сословия, являющиеся в то же время владетельным классом. Этот класс из своей среды вербует начальников над всей массой соплеменников. Такими начальниками являются то кудесники и чародеи, основатели новых вероучений, творцы догматов, то смелые предводители разбойничьих шаек — завоеватели, то славные своею мудростью примирители враждующих родов. Всем этим лицам принадлежит только руководящая роль. Начальники родов и главы семей не отрекаются в их пользу от всякого голоса в интересующих племя вопросах. Народное вече и совет старцев функционируют рядом с единоличною, а иногда и коллективною властью то выборных, то наследственных вождей. Таким образом, при взаимодействии экономических факторов, приведенных в движение потребностями самосохранения и размножения, и факторов иного высшего порядка, вызванных потребностью знания и игрою фантазии, складывается независимо от расовых и климатических различий, независимо также
от всякого заимствования более или менее однохарактерный, хозяйственный, общественный и политической строй у разнообразнейших и разъединеннейших народов. Те же воздействующие друг на друга факторы видоизменяют его со временем, почему и появляется возможность говорить о родовом быте, общинном и кланово-феодальном — не как об особенностях той или другой народности или расы, а как о стадиях мирового развития общественности.
Нравственность, как снабженная внешней санкцией (т. е. право), так и не снабженная ею (мораль), видоизменяется и прогрессирует параллельно этому росту хозяйственно-общественных политических форм. Ее история открывается эпохой дуализма, при которой действие, нарушающее чужой интерес, признается оскорбительным и заслуживающим репрессии только тогда, когда направлено против единокровных.
Но с расширением сферы солидарности сокращается сфера произвола, действия признаются безнравственными и тогда, когда направлены против любого члена одной и той же нации, нередко также одной и той же веры. Римский принцип — adversus hostem aeterna auctoritas — постепенно вытесняется все еще не вполне признанным христиански-космополитическим принципом: все люди — братья. Таким образом и в сфере нравственности и права эволюция сказывается все большим и большим расширением принципа равенства и исчезновением того дуализма замиренной и незамиренной среды, которую мы встречаем на низших ступенях общественности. Неудивительно поэтому, если и по отношению к морали и праву можно говорить об эволюции, о росте альтруизма или о смене таких правовых порядков, как родовая месть, системой самозащиты нации против преступников. Это преемство является не особенностью того или другого народа, а мировым явлением.
Я не хочу сказать, что Тард отрицает возможность всего этого самопроизвольного роста обычаев, порядков, учреждений, ходячих воззрений или общественного мнения, он только не принимает его в расчет при общем построении своей теории. Последняя поэтому кажется мне односторонней. Сама по себе она не может объяснить не только всего ряда последовательных эволюций, из которых слагается рост человечества, но и простого сходства двух культур, разрозненных, но проходящих одинаковую стадию развития.
Автору «Законов подражания» и «Общественной логики» сделан был и другой упрек, силу которого он сам поспешил признать с характеризующей его в высокой степени научной добросовестностью.
Какими законами управляется не подражание, а изобретательность? Существуют ли такие законы, и если существуют, могут ли быть научно установлены? Вот вопрос, на который пока не дано Тардом решительного ответа, благодаря, как он сам говорит, необыкновенной его сложности. Изобретение, пишет он, в своих возражениях г. Краусу, представляет две стороны: биологическую и социологическую. Чтобы проявиться, оно нуждается, во-первых, в ряде поколений, которые, благодаря счастливым бракам, делают возможным появление на свет истинного гения. Оно предполагает, с другой стороны, освещение этого исключительного разума «лучами подражания». Тард разумеет под этим усвоение и сближение одиноких и нередко разновременных открытий, сделанных ранее. Так, например, изобретателю локомотива необходимо проникнуться сперва чужим открытием: двигательной силы пара, приспособленности рельсов и вагона.
Но из этих сливающихся для взаимодействия причин одна — порождение гения под влиянием наследственности — остается доселе не выясненной. Давно ищут законов наследственности и они все же остаются тайной жизни...
Наряду с тем философским течением в области социологии, которое может быть охарактеризовано термином психологического, г. Вормс указывает еще на другое: это — то, которое отправляется от положения: общество — организм, а не механическое соединение индивидов. Последователь Спенсера, Шефле и Лилиенфельда, секретарь социологического конгресса, посвятил развитию их любимой темы целый том, который представляет собой, как я думаю, самое трезвое выражение органической теории. Автор отказывается от опасной игры в аналогии и не ищет поэтому всем аппаратам человеческого тела соответствия в общественном.
Он больше отрицает справедливость механической теории общества, нежели доказывает его органический характер. Мы охотно миримся с учением, которое довольствуется признанием, что общество — суперорганизм, т. е. нечто отличное от того, чему учит нас биология, так как этим допущением мы одновременно высказываемся и против механической теории. Все, впрочем, чего можно достигнуть с помощью этого неологизма, сводится к следующему признанию: «общество — не сумма, а синтез составляющих его элементов». Хотя автор не говорит этого прямо, но, очевидно, и для него получающийся от общежития надбавок происходит от порождаемой им солидарности. Больше этого мы сказать не вправе, а затем, разумеется, безразлично, каким термином
будет выражена эта особенность общественности — организмом или суперорганизмом.
На последнем конгрессе нашлись даже лица, не отступившие перед признанием совершенной праздности всех этих общих рассуждений о природе общества и характере социологии. Голландский этнограф и социолог Штейнмец попрекнул своих собратьев в том, что из-за желания установить границы науки они теряют из виду необходимость самой ее постройки. Мы богаты, сказал он, гипотезами и будящими мысль догадками (suggestions) и бедны прочно установленными обобщениями. То, что выдают за законы социологии, нимало не заслуживает этого названия, особенно при сопоставлении с законами точных наук... Справедливость этой критики встретила отголосок и в том из социологов, которого всего чаще упрекают в излишнем накоплении фактов. Что нужно нашей науке, сказал Летурно, это побольше данных точных и хорошо классифицированных. Нашим преемникам, может быть, удастся вывести из них настоящие законы, нам же придется ограничиться только приблизительными обобщениями, односторонними и потому временными теориями.
Это сознание, что социологии, как абстрактной науке, недостает прочного фундамента конкретных фактов, установленных этнографией и историей,— причина тому, что наш конгресс посвятил большую часть своих заседаний таким частным, правда, но решающим вопросам, как происхождение и взаимное отношение матриархальной и патриархальной семьи, происхождение частной собственности и условия размежевания общинного землевладения, существование или несуществование необходимого преемства между формами правления, происхождение и эволюция аристократии и генезис рас в связи с разделением труда. Обсуждение этих вопросов не исключало, впрочем, возможности подымать и другие. Теория Ломброзо и те изменения, каким она подверглась со стороны Ферри и Гарофоло, встретили серьезную критику в лице таких антропологов и экономистов, как Мануврие и Тёнис. Элемент наследственности в создании преступления все более и более отодвигается ими на задний план, а на смену ему выступает влияние социальной среды. В существование в современном обществе каких-то уцелевших особей прежних диких племен, унаследовавших нравственные представления отдаленнейших предков и потому всегда готовых посягнуть на основы нашей гражданственности, никто, по-видимому, больше не верит, и поэтому жестокий призыв устранять преступников, а не исправлять их, какой Ломброзо делает правительствам, не встречает более отклика в среде социологов.
РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ В ИТАЛИИ. БОТЕРО И КАМПАНЕЛЛА *
I
Историку, озабоченному раскрытием генезиса современных идей и порядков, не покажется преувеличением, если мы скажем, что в Италии эпохи Возрождения скрывается зародыш всего того, что составляет природу европейской гражданственности. Принципы свободы, равенства и народного суверенитета, возводимые обыкновенно к эпохе Французской революции, имеют свои глубокие корни в той муниципальной автономии, какой добились городские общины Италии со времен обоих Фридрихов. Критика теократического миросозерцания, начатая Арнольдом из Бресчии и продолженная Джиордано Бруно, расчищает почву для первых провозвестников новой научной философии, которая торжествует в Италии победу над схоластикой в лице Телезия, Леонардо да Винчи и Галилея десятки лет ранее появления Бэкона Веруламского. Идеал светского государства, ставящего себе целью не подготовление христианских душ к вечной обители, а земное благосостояние народных масс, впервые возникает и складывается также в Италии, и в ней же на все лады обсуждаются те частные вопросы, решение которых открывает путь торжеству народных интересов. В то время, как в остальной Европе государство отожествляется еще с монархом и правящим классом феодальных сеньеров, а чернь является синонимом массы тяглых людей, в Италии ставится на очередь волновавший древних философов вопрос о преимуществах монархии, аристократии и демократии, а постепенно охватывающая умы идея равенства подсказывает такие решения, как эмансипацию крестьянского
* Печатается по: Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 1 (31). Январь.
С. 131-167.
люда, свободу ассоциаций и стачек, подоходный прогрессивный налог и т. п.
Неудивительно поэтому, если нигде в другом месте, а именно в Италии, должно было последовать и первое столкновение тех двух доселе борющихся принципов, какими надо признать идею государственной необходимости и идею общественной правды.
Италия тем более должна была сделаться колыбелью этих двух учений, что ее гражданственность явилась прямым продолжением античной, что нигде римская традиция и политические идеалы древности не приобрели так рано владычества над умами и не обусловили собою в большей степени миросозерцания и поведения государственных людей и мыслителей. Данте с его идеалом обновленной романогерманской империи, Петрарка и Кола ди Риенци с их мечтаниями о восстановлении римской республики и трибуната явились прямыми провозвестниками того возрождения античных идей государственной необходимости и общественной правды, которые нашли себе классическое выражение — первая в сочинениях римских анналистов, законоведов и ораторов, вторая — в философских трактатах Платона. Популяризация их в XV веке в форме переводов, изложений и комментариев подготовила почву самостоятельным попыткам положить в основу вполне секуляризированного государства учение, что salus populi — suprema lex,— теорию, по которой само государство признается только средством к обеспечению равномерного развития и благосостояния всех граждан. Классическими выразителями первого течения политико-философской мысли надо признать не одного Ботеро, но и того писателя, с которым он, по-видимому, стоит в постоянном противоречии. Я разумею автора «Князя», Николо Макиавелли. Крупнейшим же представителем второго направления является доминиканец Кампанелла с его Civitas solis.
Самосознание, господствующая черта в характере современных итальянцев, подсказало им как нельзя более верную мысль — воскресить в памяти текущих поколений величественные образы этих родоначальников новой гражданственности. Виллари, Джиода, Амабиле и целый ряд других историков и бытописателей посвятили себя самому тщательному расследованию биографических данных, сличению рукописей, изданию не обнародованных еще фрагментов и переписки важнейших деятелей итальянского Возрождения. Благодаря им, мы в состоянии, наконец, поставить изучаемых нами писателей в ту социальную и политическую среду, в которой протекала их жизнь,— среду, окрасившую собой их произведения
и потому дающую ключ к их пониманию. Нам не трудно теперь выделить в массе пущенных ими в оборот мыслей отголоски прошлого, уступки духу времени и обстоятельствам личной жизни. Вместо того чтобы сводить в искусственную систему их нередко противоречивые взгляды, мы отделяем зерно от плевел, внося только первое в сокровищницу человеческого прогресса; но сами плевелы от этого не потеряли для нас всякого значения,— значения, впрочем, чисто исторического. Не затемняя более того света, какой проливают сочинения изучаемых нами мыслителей, эти случайно налетевшие облака говорят нам только об опасностях и препятствиях, какие истина встречает на своем пути и которые не раз заграждали и заграждают ей дорогу.
Из политических писателей Италии XVI столетия едва ли кто может поспорить в известности с Джиованни Богеро. Статистики обыкновенно возводят к нему начало своей науки, но это справедливо лишь под условием сохранения за нею чисто описательного характера, от которого она сумела уже отделаться в большей или меньшей степени; к тому же затрагиваемые «Универсальными реляциями» вопросы покрывают несравненно более широкую площадь, чем та, какую статистики считают своим достоянием,— в них есть и география, и история, как светская, так и духовная, и все это в той мере, какая необходима для понимания действительных экономических и политических задач отдельных государств и правителей. По современной классификации общественных знаний главный труд Ботеро всего скорее может быть отнесен к описательной социологии. Для своего времени это сочинение может считаться явлением совершенно исключительным, так как исчерпывает почти всю массу обращавшихся в обществе социологических данных. Возьмем для примера хотя бы Африку; одно присутствие при реляции географической карты с правильным очертанием общего контура этой части света, с обозначением главных рек и озер, заливов и проливов, с указанием двух больших рукавов Нила и истока одного из них из внутреннего моря-озера, свидетельствует как нельзя лучше о внимании, с каким автор отнесся к географическим открытиям Васко де Гамы и следовавших за ним путешественников и к свидетельствам древних. Но заглянем глубже в то, что сообщается им о разных странах черного материка, и мы увидим, что климаты, распределение минеральных и растительных богатств, удобство географического положения, населенность, характер производства и распределения, семейный, общественный быт и образ правления, религиозные верования
и уровень положительных знаний разных народностей — интересуют нашего писателя в равной мере с любым из современных социологов. Сведения его, разумеется, крайне ограничены, но они только отражают на себе уровень современного ему знания и вполне исчерпывают все, что можно найти в сочинениях и сборниках папы Пия II Пиколомини, Рамузия и в доступных Ботеро рукописных реляциях венецианских и других италийских послов. Мало этого,— когда речь заходит не об Эфиопии, Нубии и Абиссинии, а о не раз посещенных Ботеро Испании, Франции и Италии, автор к сведениям, заимствованным у других писателей, присоединяет результаты собственных наблюдений и собственных поисков в первоисточниках; а насколько обширны могли быть почерпнутые этим путем данные, говорят нам годы, проведенные им сперва в близком общении с миланским архиепископом Карло Борромео, мощи которого покоятся там в кафедральном соборе, а затем при французском, туринском и испанском дворах в роли воспитателя молодых принцев крови, сыновей Эммануила Филиберта, и еще позднее — при римской курии и в долгих странствованиях по всем решительно дворам Италии, не исключая и Венецианской республики1.
Отчет о последней, послуживший последним дополнением к Универсальным реляциям, вводит нас как нельзя лучше в круг тех вопросов, какими задавался наш писатель при изучении быта отдельных народов и государства. Даже в том искалеченном виде, в каком дошел до нас этот трактат, благодаря цензуре Совета Десяти, он рисует нам Ботеро не простым бытописателем, а мыслителем, дорожащим установлением некоторых общих выводов. От анализа автор постоянно переходит к синтезу, и хотя его любознательность особенно привлекают условия материального благосостояния Венеции, но в то же время он подымается до таких широких выводов, как, например, следующие: Венеция — не тип смешанного государства с простым преобладанием аристократии, а совершеннейший образец последней1 2, что не мешает ей быть преемницей некогда существовавшей здесь демократии; она не допускает сравнения ни с какой другой, кроме римской, и превосходит последнюю благодаря тому, что более приспособлена не к завоеванию, а к сохранению уже приобретенного; она выше ее умеренностью в осуществлении власти,— идея, которая будет со временем усвоена и обобщена
1 La vita е le opere di Giovani Botero di Carlo Gioda, 1895, т. I, ч. I.
2 Relatione delta republica Venetiana. 1605, c. 28.
Монтескье в известном учении об умеренности, как жизненном принципе аристократии. Насколько Ботеро удается сохранить свою самостоятельность и индивидуальность в высказывании этих положений, можно судить по тому, что все предшествовавшие писатели о Венеции, в числе их Джаноти, Паруте и Контарини, объявляли республику святого Марка смешанным правительством и добровольно закрывали глаза на решающее влияние, каким пользовалось в ней дворянство. Ту же, не скажу только самостоятельность, но и независимость взглядов обнаруживает Ботеро и при оценке положения, какое занято республикой по отношению к прочим государствам Италии. В своей внешней политике, думает он, Венеция всегда придерживалась системы политических противовесов: она не давала ни одному государству расшириться настолько, чтобы сделаться опасным для других, создавала с этою целью врагов самому Риму и противопоставляла город городу и государство государству. Если автору не дано было развить в большей степени эту мысль, то в этом, по верной догадке Джиода, нельзя не усмотреть влияния цензорских ножниц. Нельзя также не признать широким обобщением то замечание, что общественная свобода, какой венецианцы пользуются в своих сношениях друг с другом без различия сословий, препятствует проявлению недовольства, какое иначе вызвало бы в них сосредоточение всей политической власти в руках дворянства.
Я не считаю нужным продолжать анализ этого популярнейшего из трактатов пьемонтского публициста, так как сказанного вполне достаточно для характеристики его общих приемов. Моя задача не состоит в том, чтобы дать полную картину его писательской деятельности; меня интересует только порядок зарождения в Италии тех идей, которые повели к обоснованию на новом материале, поставленном историей итальянской и общеевропейской гражданственности, старинного учения о государственной необходимости. Из сказанного уже видно, что автор воздерживается от всяких априорных положений, что ему чуждо также то добровольное ограничение поля наблюдений, в котором нельзя не упрекнуть автора «Князя», что он руководствуется одновременно в своих выводах опытом и республик, и монархий, придерживаясь того метода, который в наши дни известен под именем сравнительно-исторического. Хотя трактат о государственной необходимости и появился некоторыми годами раньше Универсальных реляций, но нет основания думать, чтобы большая часть сообщаемых последними данных не была уже в распоряжении автора в эпоху редакции его общего политического рассуждения. Как бы значитель
ны ни были позднейшие дополнения, несомненно, что Ботеро уже имел перед глазами опыт Ломбардии, Франции и папских владений и в состоянии был осмыслить наблюдения, сделанные в этих трех странах прежде, чем были написаны первые строки сочинения, призванного увековечить его память в рядах европейских публицистов. Его биограф вполне устанавливает тот факт, что теория, проводимая «Ragion di Stato» сложилась в уме автора далеко не сразу, а постепенно, что основы ее положены были еще в 1583 году в Милане, когда в свободное от занятий время автор в беседах с местными патрициями подвергал критике различные воззрения Макиавелли — этого первого провозвестника теории государственной необходимости в среде народов Новой Европы. Семь лет спустя, находясь в Риме и вспоминая о слышанном им при разных дворах, автор Ragion di Stato открывает нам ближайший источник своих воззрений, заявляя, что ежедневно ему приходилось встречать то ссылки на Макиавелли, то выдержки из Тацита, характеризующие приемы, какими Тиберию удалось добиться власти и упрочить ее за собою. «С изумлением,— пишет он,— видел я, каким авторитетом пользуется безбожнейший и безнравственнейший из всех писателей и какое значение придается гнусному поведению тирана». Негодование вызывали в нем рассуждения, что «многое не позволенное совестью допустимо ради государственной необходимости». Под влиянием этого чувства он и решился на протест против заразы, какая внесена в правительство проповедью Макиавелли и примером Тиберия. Но «так как никакая критика не мыслима без изложения положительных основ правительства», то Ботеро счел нужным, в бытность свою в Риме при кардинале Фридрихе Борромео, т. е. уже после миссии во Францию, редактировать первую часть своего трактата, всецело посвященную общим рассуждениям о правительстве и потому встретившую еще в 1591 году замечание, что «о государственной необходимости автор заводит речь только в заголовке». Существенные добавки к своему трактату Ботеро сделал в 1598 году во время пребывания в Риме, уже после сближения с туринским двором.
В том окончательном виде, какой получило его сочинение, для нас интересны не столько наполовину заимствованные у Бодена общие рассуждения о том, «что важнее, сохранить или расширить государство, и какое из них более устойчиво: большое, среднее или малое, централизованное или децентрализованное», сколько отступления от того самого правила о необходимости подчинить политику велениям совести, которое автор ставит краеугольным камнем возводимого
им здания. Рассуждая об опасностях, какие могут грозить прочности государства и правительства, а также о средствах избежать их, автор замечает, что на первом плане надо поставить вред, причиняемый лицами, ничего не имеющими и потому не рискующими что-либо потерять при переменах и потрясениях. Ботеро советует или удалить их из государства, основывая с этою целью военные колонии, или отправить их в отдаленные предприятия, или, наконец, выгнать их по примеру того, что сделано было Фердинандом Католическим по отношению к цыганам. Всего этого можно избежать только в том случае, если бедным обеспечен будет заработок наделением их небольшими участками земли или приурочением к известному мастерству; но так как, рассуждает наш писатель, не все могут владеть собственностью или обладать техническими знаниями, то на государя падает обязанность доставлять заработок нуждающимся в форме заказов, делаемых им лично или, по его настоянию, знатнейшими. Таков зародыш учения о праве на труд, восторжествовавшего в Англии с реформацией и законодательством Елизаветы об общественном призрении,— учения, которое в XVIII веке найдет сторонников в Монтескье и Тюрго, а ими завещано будет современным социальным реформаторам. Отметим, однако, что в теоретических построениях Ботеро, оно призвано играть роль только одного из средств оградить государство от общественных потрясений и что таким же средством он считает и самое бесчеловечное изгнание нуждающихся.
Еще в большем противоречии с принципом «совестливого» правительства стоит совет приложить к кальвинистам, которые для иезуита Ботеро хуже самих магометан, следующую практику: унизить их души, ослабить их силы, отнять у них возможность всякого совокупного действия. Для достижения первой цели, учит Ботеро, необходимо лишить их всего, что содействует развитию смелости и бодрости. Надо запретить им отправление всякой публичной должности и даже ношение другой одежды, кроме нищенской и презренной. Не мешает также обложить их непосильным трудом, подобным труду фараонову, некогда отправляемому иудеями. Правитель должен лишить их всякой власти, отнять у них оружие, запретить им пребывание в укрепленных местностях и воспрепятствовать накоплению средств путем высокого обложения как обыкновенными, так и чрезвычайными сборами. Чтобы сделать невозможным с их стороны всякую коллективную оппозицию, он советует сеять между ними несогласия и поддерживать взаимные подозрения; а для этого лучшим средством является содержание шпионов. Той же цели
содействует запрещение брачных союзов между выдающимися семьями кальвинистов и распространение слухов, пагубных для репутаций тех, кто считается стоящим во главе их. Ботеро не останавливается даже перед насильственным выселением: «Если мавры,— говорит он,— не считали возможным допустить пребывания испанских католиков в своей среде, то что же помешает нам поступить таким же образом с теми, кого мы отчаялись обратить в правовое?» Таким образом, обличитель Макиавелли и его «безнравственной политики» незаметно сам вступает на путь поощрения коварства и человеконенавистничества, как только интерес государства, «который для него то же, что государственная необходимость» 3, он подчиняет интересам зажиточных классов и господствующей церкви.
В ту же беду впадает и другой не менее ревностный противник Макиавелли, имя которого неразрывно связано, как мы увидим ниже, с первой попыткой положить в основу государства торжество справедливости и материального равенства. Я разумею доминиканца Кампанеллу. В тюрьме после жестокой пытки, вырвавшей у него признание в заговоре против испанского владычества и в намерении создать республику в Абруццах, Кампанелла задумывает и приводит в исполнение трактат «об испанской монархии», долженствующей, как он надеется, послужить к его оправданию и открыть ему выход из неволи. Он выдает свое сочинение за результат более ранней работы и настолько дорожит им, что даже впоследствии при дворе Людовика XIII и Ришелье, этих заклятых врагов Испании, издание следует за изданием, по инициативе самого автора. В те же годы насильственного отлучения от всего живого, заподозренный в еретичестве монах пишет свои обличения против атеистов и проповедует всемирное владычество папы под покровом и при содействии всемирной же монархии испанцев. Заглянем в эти трактаты, и мы найдем в них то же подчинение совести государственной необходимости, какое поражает нас в сочинениях Ботеро. Как не удивляться противоречию, в каком стоит обличение Макиавелли, «основавшего государственную необходимость на отсутствии совестливости» 4, с такими, например, советами: для осуществления всемирной монархии и сохранения завоеванных провинций, особенно, когда последние заняты еретиками, необходимо насильственное выселение,
3 In conclusione ragion di stato e poco altro che ragion d’interesse (Aggiunte alia Ragion di stato, стр. 28. Venezia 1659).
4 Campanella Орете. Издание D’Ancona, том II, стр. 226.
сопровождаемое обращением в неволю, принудительным крещением и отправкой в Новый Свет для основания колоний5. Близость Кампанеллы к Ботеро в данном вопросе настолько бросается в глаза, что невольно приходит на мысль, не воспользовался ли он последним и не развил ли только его взглядов.— Но вот другой совет, который далеко оставляет за собою даже все сказанное пьемонтским иезуитом...
Из всех европейских государств ни одно не оказалось более враждебным всемирному владычеству испанцев, чем еретическая Англия. Чтобы сломить ее дальнейшую оппозицию, надо обещать сыну казненной Марии Стюарт, Иакову, помощь католического короля в деле обращения Англии в правоверие; в то же время необходимо также тайно поднять вожаков парламентской оппозиции против Иакова, пугая их перспективой восстановления католицизма и мести за убийство матери. Нужно также породить в английских епископах подозрение, что Иаков насильственно хочет ввести кальвинизм. Все это породит смуту на острове и поведет в конце концов к тому, что монархический порядок будет восстановлен с помощью и при главенстве Испании, или же в стране водворится раздираемая несогласиями католиков и протестантов республика, легко способная поэтому подпасть иноземному владычеству6.
В этой комбинации обхватывающих целый мир интриг призвана играть выдающуюся роль и Россия; ее надо натолкнуть на турок приманкою Константинополя7. Таким образом, не в уме великого реформатора нашей отчизны, а в голове доминиканского монаха зародилась впервые мысль о соединении Византии с Московией,— мысль, по всей вероятности, навеянная на него хорошо известным ему, благодаря Посевину, фактом бракосочетания Ивана III с Софиею Палеолог.
Мне нет цели настаивать на безнравственном характере других советов, преподаваемых испанскому монарху его мятежным подданным, как, например, совета разрешить солдатам похищать женщин из еретической Англии и иноверной Африки с целью улучшения породы или выкрадывать детей не-католических родителей и подвергать их крещению. Достаточно сказанного для подкрепления того взгляда, что стоит писателям XVI века отрешиться от мысли, что государство не должно служить иным целям, кроме
S Ibid., с. 140.
6 Ibid., с. 185 и 186.
’ Ibid., с. 188.
тех, которые лежат в нем самом, и так называемая — впрочем, совершенно ошибочно — государственная необходимость становится символом ничем не сдерживаемого произвола и коварства.
Иностранцы, знавшие об Италии только то, чему учили трактаты Макиавелли, Ботеро и их подражателей, устами английских и французских публицистов протестовали против безнравственности итальянской политики и считали проникавшие к ним с полуострова идеи причиной порчи и заражения своей родины. Нападки Лиги на Екатерину Медичи и окружавших ее итальянцев-придворных оживают полстолетия спустя в препирательствах парижской фронды с итальянцем Мазарини. Параллельно с этим в конце XVI столетия возникает в Англии систематическое гонение на так называемых «italionates», т. е. лиц, подражавших итальянцам не только в манерах, но и в общественной и политической нравственности, готовых вслед за Мельвилем и англизированным итальянцем Альберико Джентилес признать ничем не сдерживаемую власть деспота совершеннейшею формой правления.
.Я;.: II ' Я .
Странным образом это гонение совпало с зарождением в самой Италии учения, призванного революционировать в будущем весь строй социальной и политической нравственности и выдвинуть вперед новый идеал — совершенного равенства материальных благ и господства общественной правды. Родоначальником этого учения явился тот же еретический монах-заговорщик, который не для одного своего спасения, но и для торжества католицизма готов был оживить человеконенавистнические советы Ботеро.
Томмазо Кампанелла сделался известным задолго до того момента, когда вовремя раскрытый заговор сделал его жертвой наполовину испанской, наполовину римской инквизиции и на десятки лет похоронил его в гнилой яме замка Сант Эльмо вблизи Неаполя.
Но ничто не предвещало в нем социального и политического реформатора, если не говорить о пристрастии к Платону и его грандиозной общественной утопии. Мы встречаем Кампанеллу в числе горячих приверженцев новой философии, проповедуемой Телезием и потому противником Аристотеля и питавшейся его идеями схоластики. Томисты, другими словами — последователи ортодоксальных учений Фомы Аквината, не замедлили открыть
против него систематическое преследование, конфисковывали его рукописи, препятствовали занятию им кафедры в Падуе и Флоренции и упрочили за этим доминиканским монахом репутацию богохульного еретика, которая не мало содействовала тому тяжкому исходу, к какому повел дальнейший донос о руководимом им заговоре. От этой первой эпохи в жизни Кампанеллы сохранились некоторые письма, тщательно собранные его биографами — Бальдакини, Берти и Амабиле; они рисуют его нам увлекающимся юношей, восторженно относящимся к представителям нового философского течения, начиная с Телезия и оканчивая Галилеем, но в то же время уже способного на компромиссы, высказывающего, например, готовность излагать Аристотелеву философию с кафедры — можно догадаться, в каком духе. В одном из своих трактатов, самое заглавие которого говорит о целом перевороте в философии (Philosophia sensibns demonstrate), Кампанелла рассказывает о том, как впервые он познакомился с учениями Телезия и какое впечатление произвели они на его ум, еще искавший своей дороги. «По воле монастырского начальства мне пришлось,— пишет он,— поселиться в обители, расположенной на Альто-Монте; только здесь я занялся как следует изучением философии Телезия; но еще раньше, 18 лет от роду, я имел уже возможность получить одну из его книг от его ревностного ученика и последователя. Пробежавши первую главу, я сразу понял все, что должны были заключать в себе остальные,— так последовательно вытекают у Телезия из главных посылок все дальнейшие — не то что у Аристотеля, у которого на каждом шагу встречаешь противоречия. В то время, когда я проездом был в Козенце, пришла весть о кончине Телезия; так и не суждено мне было услышать из его уст изложение великих истин; не пришлось даже увидеть его живым; я только проводил тело его в церковь и здесь, поднявши покров, имел возможность насладиться созерцанием его замечательного черепа. Много стихов написал я в это время в его честь; позднее в Альто-Монте, изучивши его сочинения, я убедился, что не он заслуживал название вероотступника, а те, кто нападали на него. Я увидел, что этого человека надо поставить выше всех, так как он выводит истину из того, что воспринято нашими чувствами, а не кладет в основание ее химеры; он изучает предметы сами по себе, а не то, что сказано о них людьми» 8.
8 См.: Amabile. Fra Tommaso Campanella, la sua congiura, i suoi process! e la sua pazzia. Napoli 1882, v. I, c. 11 и 13.
Наряду с Телезием, надо поставить в числе наиболее авторитетных для Кампанеллы писателей и Платона; недаром в письме к герцогу тосканскому Фердинанду III, из фамилии Медичи, он ставит в особую заслугу его семье, что она более всех содействовала распространению «в Италии платоновых учений, неизвестных нашим предкам и позволившим нам сбросить иго Аристотелевой философии»9.
Я особенно настаиваю на этом факте, так как он раскрывает нам ближайший источник тех коммунистических воззрений, какие развиты Кампанеллой в его Civitas solis; на этом едва ли нужно было бы останавливаться, если б не недавняя попытка бельгийского социолога Де Грефа связать учение Кампанеллы с порядками древних Инков, сделавшихся известными в Европе после завоевания Пизарро и будто бы привлекших к себе внимание нашего автора, благодаря распространенным в Италии описаниям Нового Света. Ничто не говорит нам в пользу такой догадки, кроме самого названия, данного Кампанеллою его трактату, но упоминания в нем о солнце, поклонниками которого были Инки, едва ли достаточно для того, чтобы признать их пример руководящим для человека, всецело посвященного в вопросы философии и, по-видимому, совершенно чуждого интересам этнографии. Ни единым словом Кампанелла не наводит на мысль о заимствовании им порядков древнего Перу. Правда, передаваемая беседа великого магистра госпиталийского ордена с генуэзским адмиралом вертится вокруг того, что происходит на острове Тапробана; но этот вымышленный край не прикрывает собою ни одной из стран Нового материка; он целиком заимствован автором у Ботеро, который этим именем обозначает Цейлон10 11, полемизируя с теми, кто признает им Суматру п. Из этого видно, что автор Civitas solis помещал свой воображаемый остров далеко от тех стран, порядки которых представляют отдаленное подобие с им превозносимыми. Откажемся поэтому от мысли искать реальную подкладку для сочинения, отпечатлевшего на себе
9 Письмо из Парижа от 6 июля 1638 г. Смотри приложения к сочинению Baldacchini Vita di Tommaso Campanella. Napoli, 1847 г., стр. 195 и 196.
1° Discorso sopra il name dell’isola Taprobana, в Relationi universali di Giovanni Botero. Венеция, 1612 г., стр. 65.
11 To обстоятельство, что Civitas solis говорит о предках граждан, как о бывших последователях браманизма, только укрепляет уверенность в том, что Кампанелла имеет в виду буддийский Цейлон.
личное миросозерцание автора, в значительной мере сложившееся под влиянием Платоновой философии и той реабилитации страстей, к какой стремилось учение Телезия.
Насколько высказанные в Civitas solis коммунистические теории отвечали личным пристрастиям автора, в этом можно убедиться из самого содержания тех доносов, какие возведены были на него, как на виновника политического заговора, направленного против владычества Испании и в пользу создания в Абруццах независимой республики. Доносчики не всегда были людьми образованными и понимали сказанное им по-своему; но и в их неумелой передаче рационализм Кампанеллы, широкая проповедь им религиозной свободы и терпимости, признание невозможности коверкать человеческую природу и подавлять естественные наклонности и страсти,— черта общая ему с Карлом Фурье,— выступают с очевидностью, точно так же, как и основное учение об устранении источника общественных несогласий — частной собственности и индивидуальной семьи, путем общения имуществ и жен. Амабиле напечатал в подлиннике протоколы процесса о еретичестве и измене и тем самым дал возможность проследить за развитием той религиозно-нравственной и общественно-политической проповеди, последним выражением которой явился трактат о «Солнечном граде».
Пользуясь этим незаменимым источником, мы сопоставим взгляды, приписываемые организатору восстания в Абруццах, с теми, какие нашли выражение в его позднейших по времени сочинениях, письмах, сонетах и прежде всего в трактате о солнечном граде и «вопросе о лучшем образе правления». Приведем сначала свидетельство его товарищей по ордену. Джованни Батиста ди Плаканика показывал, что Кампанелла выражался о свободных отношениях между полами, как о чем-то безгрешном, замечая, что всякий орган предназначен для известных функций, отправление которых и не может представить поэтому ничего преступного12. Как не признать в этом неполного, конечно, развития той самой мысли, которая побудила автора «Солнечного града» допускать сожитие всех совершеннолетних с возрастными девушками и женщинами по обоюдному согласию, раз лица, на которых пал выбор, не заняты отправлением той общественной в его глазах функции, какой является произведение потомства, или же удовлетворили ей и находятся в состоянии беременности, или признаются негодными
12 См.: Amabile, т. III, документ за № 348, стр. 325 и т. I, стр. 165.
к оплодотворению13. Биографов монаха-философа неприятно поражает тот факт, что в его сонетах нередко заходит речь о любви, не имеющей в себе ничего платонического, как будто человеку, провозгласившему свободу страстей даром самой природы, возможно держаться практики монастырского аскетизма.
Перейдем к другому обвинению. Тот же свидетель показывает, что в своих беседах Кампанелла высказывал сомнение в существовании ада и в пользе, доставляемой душам усопших загробными молитвами, раз приносящий их находится в смертном грехе; свидетель прибавлял, что обвиняемый в ереси монах не раз высказывался отрицательно о духовных орденах, называя их тенетами, назначение которых — держать народ в повиновении. Сопоставляя законы турок с христианскими, Кампанелла будто бы не прочь был признать положительные стороны за некоторыми обрядами магометан. Маурицио де Ринальдис, светский вождь заговорщиков, перед казнью озабоченный, как он говорит, спасением своей души, счел нужным обвинить своего товарища в целом ряде еретических мыслей. В числе их мы находим как упомянутую уже свободу сожития, причем точнее формулируется взгляд, что произведение потомства должно быть возложено на лучших представителей человеческого рода, «людей добрых, мужественных и крепких»14, так и восхваление турок за многие особенности их религиозного и общественного быта. Но ко всему этому прибавляется еще более тяжкое отступление от догматов не одной католической, но христианской веры, — признание Христа человеком и отрицание таинства Евхаристии, другими словами, присутствия тела и крови Христовой при причастии. Все это вместе взятое рисует нам Кампанеллу рационалистом, готовым видеть в Спасителе такого же основателя новой веры, каким был Магомет, и сравнивать обе религии независимо от их божественного источника. Если прибавить к этому, что, по утверждению другого свидетеля, Джеронимо ди Франческо, Кампанелла не только смеялся над теми, кто верил в существование дьяволов и ада, на что, как мы видели, указывают и другие показания, отобранные во время процесса, но и обещал сам издать законы «лучше христианских» то, нам трудно будет не признать £го еретиком-рационалистом15.
13 См.: Opere di Tommaso Campanella издание D’Ancona, т. II, стр. 252.
14 См.: Амабиле, т. I, стр. 172 и т. III, документ 244 и 307.
is Ibid., с. 169.
Сходство той проповеди, в какой обвиняли Кампанеллу соучастники в заговоре, с воззрениями, изложенными в «Солнечном граде», сказывается и в таких основных вопросах, как вопрос о полном общении имуществ, и в таких деталях, как, например, покрой платья, обязательный для граждан новой республики. В показаниях свидетелей и сообщников значится, что все впредь должно было быть общим, что Кампанелла считался тем «новым мессией, который должен вернуть мир к свободе и равенству, что отныне каждому предстояло быть господином, так как имущества должны были поступить в нераздельное обладание всех. Собственники — не более как узурпаторы и тираны, ибо Бог создал земные блага на пользу всех»16.
Ко всему этому один из ближайших товарищей Кампанеллы, Чезаре Пизано, прибавлял, что глава заговорщиков предписал им ношение особого костюма, составными частями которого была белая чалма и белый камзол до колен с широкими рукавами17. Обращаясь к тексту «Солнечного града», мы находим в нем многочисленные подробности о том, какое платье должны носить граждане этой образцовой республики. Дорогой доминиканцам белый цвет и общность костюма для мужчин и женщин характеризуют затеваемую в этом отношении реформу.
Из показаний свидетелей выступает также та любопытная черта, что Кампанелла считал революцию предсказанной звездами и ждал общего переворота в мире, своего рода вторичного пришествия Христа: голод, наводнения, землетрясения казались ему предвестниками этого наступающего конца мира, которому в его представлениях должен был предшествовать довольно продолжительный период человеческого благополучия в согласии и равенстве. Сам он в своем признании настаивает на этой именно стороне затеваемой революции: он как бы хотел оправдаться тем., что действовал как слепое орудие рока; ввиду множества фактов, указывавших на неминуемость революции, он только готовился дать ей благоприятное направление18. Нам приходится поверить этому уже потому, что иначе трудно бы объяснить ту опрометчивость, с какою, располагая небольшою кучкою союзников и не вполне уверенный в помощи турецкого паши Чикаго,
16 Amabile, т. I, с. 324.
17 См.: Амабиле, т. III, стр. 139.
18 Amabile, т. II, стр. 78.
итальянца родом, доминиканский монах собрался поднять руку против могущественнейшего из правителей Европы, зная при этом, что против него восстанут и папа, и светские князья Италии. Биографы великого доминиканца раскрывают нам источник его увлечения астрологией, говоря о сближении еще в ранней молодости с неким евреем Авраамом, посвятившим его во все тайны арабской науки и, как думали современники, черной магии19. Эта вера в незыблемость открываемых звездами истин не покидает Кампанеллу в течение его двадцатишестилетнего заточения. Он убежден в счастливом исходе затеянного, в том, что его час еще придет; эта вера заставляет его бороться всеми средствами из-за продления своей мученической жизни, напустить на себя сумасшествие, не изменить себе даже в пытках, направить все усилия к тому, чтобы не только выйти из тюрьмы, но и приблизиться к папе и испанским правителям; она — причина того, что на склоне лет он мечтает еще о кардинальской шапке и борется с первыми проявлениями смертельного недуга энергическими средствами, также открытыми ему его мнимым знанием и, по мнению современников, немало ускорившими его кончину. Во всех своих сочинениях Кампанелла выступает астрологом, и если он высказывает несогласие с учениями Галилея и Гассенди, то не потому только, что считает их материалистами, а и потому, что их философия допускает игру случая там, где астролог доминиканец видит осуществление раскрытых ему звездами пророчеств 20.
Но как бы значительно ни было влияние этих научно-философских предубеждений на решимость Кампанеллы вступить в заговор против испанского владычества, ему нельзя отказать также и в чисто патриотических мотивах. Сам он в своих показаниях говорит, что одной из причин, заставивших его верить в близкое наступление переворота, было недовольство народа правителями. Всюду, значится в его признании, народ дурно отзывался о тех, кто поставлен во главе его. В числе причин недовольства не последнюю роль играло установление нового поголовного сбора, о котором Кампанелла, по словам Мауриция де Ринальдис, выражался, говоря: «Души людей считаются — что рогатый скот, точь-в-точь, как было во времена царя Давида, вздумавшего произвести перепись и тем оскорбившего Бога, который, однако, покарал за это
19 Andrea Calenda. Fra Tommaso Campanella. Nocera, 1895, c. 9.
20 См. письма Гассенди от 7 мая и 4 июля 1632 г.: Baldacchini, с. 199 и сл.
не правителя, а народ, подчинившийся такому обложению»21. Этот пример показался самому Маурицию настолько убедительным, что он сразу согласился пойти заодно с Кампанеллой22. В первом доносе, поведшем к раскрытию всего заговора, говорилось также, что мятежники стараются убедить народ, что поставленные во главе его сановники «продают кровь человеческую и правосудие с публичного торга», что они не щадят в поте лица трудящихся бедных и производят над ними страшные вымогательства налогов и сборов, что они не умеют предотвратить убийств и кровомщений, наконец, что заодно с испанским королем они присвоили себе то, что по праву принадлежит церкви, так что восставшие, провозглашая прежнюю свободу и устанавливая республику, нисколько не отвергают законного господства папы его прежним леном (разумеется, Неаполитанское королевство, и в частности Апулия) и готовы платить ему небольшую подать23. Биографы Кампанеллы дают нам возможность открыть источник ближайшего его знакомства с административными и судебными порядками родины, передавая ту роль посредника, какую ему пришлось играть в примирении двух враждующих родов,— примирении, которое так и не состоялось, отчасти по вине местного начальства.
Что же касается до претензии вернуть папскому престолу незаконно отнятый у него лен и поставить вновь создаваемую республику в непосредственную зависимость от римского двора, то она вполне согласна со старинными притязаниями пап и с практикой римской курии, допускавшей почти полную автономию городских республик в пределах Папской области.
Нигде патриотические мотивы восстания не выступают с большею наглядностью, чем в сонетах Кампанеллы, рассчитанных на распространение в среде ближайших товарищей и потому проникнутых несравненно большей искренностью и задушевностью. Эта черта заставила впервые обнародовавшего их Орелли считать эти стихотворения, значительно уступающие по форме Петрарковым сонетам, единственными в своем роде, и действительно, написанные в тюрьме в ожидании пытки и жестокой казни с целью поднять упавший дух товарищей, покарать изменников и найти оправдательные мотивы собственному поведению, эти произведения раскрывают
21 Amabile, т. II, с. 36.
22 Ibid., с. 37.
23 Amabile, т. I, с. Т11.
нам внутренний облик человека, поставленного обстоятельствами в необходимость хитрить и притворяться.
Нигде более, как здесь, надо искать заветную мысль организатора абруцкого восстания и автора «Солнечного града». Попробуем поэтому дать о них некоторое представление переводом тех строф, которые характеризуют отношение автора к политическим вопросам его времени. Вот, например, сонет, посвященный Италии: «Жена великая, представшая Цезарю на Рубиконе в страхе, чтобы приведенные им полчища чужеземцев не вызвали ее гибели, стоит ныне растерзанная и окровавленная... с косами, вплетенными в рабскую повязку. Ни Симеон, ни Левит (другими словами: ни глава светской, ни глава духовной власти) не возмущаются более ее бесчестием...» 24 В другом сонете говорится, что судьба Италии зависит от того, какой исход будет иметь восстание, к которому Карл (король Испании) принудил калабрезцев 25, т.е. Кампанеллу и его единомышленников. В стихотворении, посвященном себе самому, автор выступает союзником угнетенных и говорит, что на челе его можно прочесть любовь к ближним и надежду прибыть в близком будущем в мир, который способен понять его и без слов26. Говоря о мученичестве своих сотоварищей, он изображает их настолько преданными свободе и разуму, что физическая боль кажется им сладкой, а богатства бедствием27. Изображая горестное положение заключенных, у которых отнято слово, общение с ближними и самое право защиты, он напоминает им, что одна доблестная смерть делает людей равными богам. В смерти избранные души находят сладостную свободу, без которой даже рай является презренным28. Кампанелла считает своими врагами врагов Италии, говоря в обращении к папе Клименту, что его задачей было вернуть ее к прежней доблести; он отрицает всякий заговор против Бога и короля, утверждая, согласно данным им прежде показаниям, что нельзя считать изменником того, кто обличает негодяев-правителей и предсказывает их грустную участь 29. Рисуя картину современных нестроений в государстве и церкви, он жалуется на продажность правосудия и на то, что божественное
24 Amabile, т. III, с. 549, № 436.
, и Ibid., № 437. '
“ Ibid., № 439.
27 См.: Amabile, т. III, с. 551, № 441.
28 Ibid., № 447.
2’ Ibid., №455.
слово, прикрываемое баснями и ересями, расточается за деньги, так что богатый присваивает себе награду, заслуженную добродетельным. «О Искупитель мира,— восклицает он,— приди сосчитать свое стадо!» В этом же сонете следует отметить уверенность автора, что вечный разум поведет к слиянию всех царств воедино,— мысль, воспроизведенная им и в стихотворении в честь испанцев, и в трактатах об испанской монархии, и в обращении к князьям Италии. Уже одно постоянное повторение одной и той же мысли не позволяет нам видеть в ней один маневр, рассчитанный на то, чтобы расположить к себе преследователей и породить в их умах сомнение в действительности измены. Не проще ли допустить, что единство человеческого рода, представлявшееся Данту осуществленными в форме восстановления империи, внушило Кампанелле желание положить конец международным усобицам подчинением самостоятельных местных республик и княжеств главенству самого католического из всех королей мира, готового подчиниться руководству папы,— обстоятельство, которое в конце концов должно было обеспечить Италии решительное преобладание на земле.
Всемирная монархия, как понимал ее Кампанелла и, прибавим мы, как понимала ее курия в эпоху Генриха VII и Иннокентия III, не препятствовала ни самостоятельности, и верховному руководительству духовной власти, ни автономии городских республик и принципатов. Но то, что было возможностью в XII и XIII веках, когда еще живо было средневековое миросозерцание и мыслимо главенство «двух мечей» и «двух небесных светильников», становилось утопией в начале XVII, в применении к государствам, уже успевшим положить в основу своей гражданственности национальное единство и историческое право. Утопистом надо признать поэтому Кампанеллу не за одно допущение общности жен и имуществ, но и за надежду восстановить средневековое единство католического мира в форме подчиненной папе империи.
III
Из всего сказанного выступает та новая точка зрения, с какой следует смотреть на «Солнечный град». Это не фантазия, ставящая себе целью аллегорическое изображение царства разума, и не образец идеального, неосуществимого в мире государства, а мотивированная конституция, написанная будущим правителем
небольшой республики горцев, в которой слабое развитие мануфактур и торговли и преобладание земледельческих интересов воспрепятствовали росту капитализма, где нет поэтому серьезных социальных контрастов, бедности и богатства, и внутренний мир нарушается чаще родовыми усобицами и фискальным гнетом, чем столкновениями труда и капитала. Государство это не имеет корней в прошлом; как бы далеко мы ни заглядывали назад, мы не можем найти ни республики, ни монархии, центром которой была бы родина Кампанеллы — городок Стило; все приходится начинать сызнова. Кампанелле нетрудно поэтому представить себя в том самом положении, какое занимали законодатели древности, создавая целиком нравы, порядки и учреждения. Его можно понять только под условием сопоставления с каким-нибудь Миносом, Ликургом, Солоном или Харондом. Две задачи особенно близки его сердцу: господство разума и общественного согласия. Истина одна, она не может быть результатом уступок и компромиссов, делаемых народными представителями. Вот почему республика в Стило, как и вселенская церковь, не допускают другого образа правления, кроме единоличного. Роджер Бэкон, развивая мысль арабского философа Авицены, хотел поставить во главе мира мудрейшего и добродетельнейшего. То же делает и Кампанелла по отношению к задуманной им республике. Ее главою является абсолютный правитель «гог», или «метафизик», которому принадлежит одинаково и светская, и духовная власть и который является решителем всех несогласий. Ему подчинены три второстепенных администратора, отвечающие трем высшим способностям души: мощи, мудрости и любви. Во главе отдельных видов производства стоят,— наподобие того, что имело место в ремесленных цехах,— наиболее опытные и искусные мастера, которые и заведуют их администрацией.
Совершеннолетние созываются в собрание, напоминающее собою «арингу» или «парламентум»,— другими словами, вече итальянских городов; они высказывают на них свои желания относительно законов и правителей, но решающий голос принадлежит верховному сановнику, которого Кампанелла называет метафизиком и место которого он, по-видимому, предназначал для самого себя. Все власти подлежат замене, за исключением четырех высших, •от которых зависит и назначение на все должности, не исключая судебных. Приговоры хотя и считаются окончательными, но могут подвергнуться смягчению и отмене по воле метафизика, в силу принадлежащего ему права помилования. Правосудие обставлено
серьезными гарантиями, но далеко не теми, к каким приучило нас существование суда присяжных, Кампанелла настаивает на необходимости значительного числа свидетелей, не меньше пяти, для постановки обвинительного приговора. Что касается до системы кар, то он далек от современных воззрений и является открытым сторонником возмездия, осуществляемого государством; допускает смертную казнь и призывает к ее осуществлению весь народ, в форме предписываемого Библией побиения камнями.
В конституции «Солнечного града» нет места для того, что мы разумеем под представительством интересов. Да в этом не чувствуется и нужды, так как все меры приняты к тому, чтобы не было и противоречия интересов. Чем, в самом деле, порождаются столкновения людей между собою? Неправильно направленным половым инстинктом, побуждающим к индивидуальному присвоению той или другой женщины и столь же ложно понимаемым инстинктом самосохранения, выражающимся в индивидуализации орудий производства. Необходимо дать другое направление человеческим страстям; не об ограничениях и стеснениях должна идти речь, а о расширении свободы. Но это может быть достигнуто только под двумя условиями: общения имуществ и жен, общения возможно полного, допускающего, например, сожитие с беременной женщиной и с женщиной бесплодной по обоюдному согласию,— общности не одного производства, но и потребления. С исчезновением частных интересов у людей останутся одни только общие: поддержания и усовершенствования породы. Произведение потомства становится общественной функцией и такой же функцией сделается и воспитание. Все, что противно общественному интересу поддержания и усовершенствования породы, подлежит строгой репрессии; возмездие за противоестественные пороки доходит поэтому до смертной казни; целомудрие юношей и девушек до возраста половой зрелости вознаграждается публичным почетом, как и плодородие женщин. Сожитие с целью деторождения регулируется властями, старающимися соединить разнообразие физических типов и характеров. Кампанелла не может понять безумия своих современников, озабоченных улучшением породы лошадей и собак и ничего не делающих для улучшения человеческой породы; его серьезно занимает мысль о том «сверхчеловеке», к созданию которого стремится Ницше. Воспитание направлено к той же цели и имеет в виду не одностороннее подведение всех под один шаблон, а развитие индивидуальных особенностей каждого.
Кампанеллу нельзя зачислить в поборники женского вопроса, но только в том смысле, что он признает различие в физической и умственной силе обоих полов. Женщинам предоставляются поэтому более легкие занятия, мужчинам более тяжелые, но слабый пол не устранен даже от воинской повинности, но только в интересах обороны, а не нападения. В то же время Кампанелла не желает вверить ему ни забот о воспитании, ни участия в упражнении30. Он не отрицает, однако, возможности в будущем такого же умственного развития женщин, как и мужчин, и этим объясняется, почему подростки обоих полов не обособляются им друг от друга, почему их уроки, игры и физические упражнения происходят совместно в одних и тех же зданиях; это, думает автор, имеет, между прочим, и то удобство, что позволяет приставленным к детям знакомиться с их не только умственными, но и физическими качествами и устраивать затем сожития между взаимно восполняющими друг друга индивидами. В трактате, посвященном вопросу о лучшей форме правления и представляющем апологию той, какая предложена в «Солнечном граде», Кампанелла как нельзя лучше проводит тот взгляд, что предложенное им общение жен и имуществ необходимо вызовет целый переворот и в нравах, и в физическом сложении граждан. «При таком образе жизни исчезают пороки: сановники не имеют основания добиваться занимаемого ими поста, и честолюбие становится немыслимым, как немыслимы также все те злоупотребления, какие порождаются наследованием, выбором или занятием должностей по жребию. Нет также повода для восстания подданных, вызываемого надменностью чиновников или их произволом, бедностью, чрезмерным уничижением и угнетением подданных. Платон и Соломон справедливо считают источником всех бедствий государства противоположность бедности и богатства: ею обусловливаются скупость, низкопоклонство, обман, воровство, грабеж, надменность, наглость, рисовка, праздность и т.д.; все это немыслимо при общении имуществ — точно так же как при общении жен нет места для пороков, пораждаемых злоупотреблением половым инстинктом, как-то: прелюбодеянию, блуду, содомии, производству искусственных выкидышей, ревности, семейным несогласиям и т.п. Исчезают также в республике, построенной
30 Sostango la comunanza nelle funzicmi, non perd nei govemo politico; poiche la donna non puo esscre magistrate ue insegnare agli nomine ma solotra It donne e nei ministero ddla generazioue (Questioni sull’ottinu republics. Opere, томе II, стр. 302).
на началах коммунизма, те бедствия, какие происходят от чрезмерной привязанности к детям или супругов друг к другу. Отсутствие собственности открывает простор милосердию и устраняет возможность взаимной ненависти и зависти; возрастает привязанность к ближним и обществу и исчезают поводы к процессам, мошенничеству, лжесвидетельству и т.д. Все болезни души и тела, порождаемые излишком труда или праздности, невозможны там, где труд распределен равномерно. Праздность женщин и порождаемые ею бедствия, влияющие на физическое и нравственное здоровье потомства, немыслимы там, где женщинам дана возможность предаваться тем занятиям и обнаруживать те добродетели, которые им всего более свойственны. И то зло, которое порождается невежеством, останется нам неизвестным, так как все получат возможность легкого приобретения необходимых знаний, а все это вместе взятое обеспечит незыблемость законов и избавит государство от всех тех недостатков, которых не избежали ни Минос, ни Ликург, ни Солон, ни Харонд, ни Аристотель, ни Платон»31.
Кампанелла предвидит те возражения, какие могут быть сделаны против его республики, тем более что большая часть их уже формулированы были Аристотелем по отношению к Платону, также стоявшему за общение жен и имуществ. К тем аргументам, какие приведены были еще в древности сторонниками коммунизма доминиканский монах приводит новые, заимствованные частью из Евангелия и апостольской практики, частью из монастырского быта, частью, наконец, из примера животных, которые, подобно пчелам, не знают ни собственности, ни индивидуальной семьи и живут по правилам естественного закона,— того закона, которому, по выражению римского юриста, сама природа обучила все живущее. Кампанелле не трудно также привесть в пользу общности имуществ, если не жен, авторитет отцов церкви — Климента Александрийского и Иоанна Златоуста. Так как он желает собрать все, что ратует за это положение, то не удивительно, что к этим признанным католическою церковью учителям он присоединяет и схизматиков: Иоанна Гуса и лейденских анабаптистов. Защищая общение жен, он пользуется и данными этнографии, и авторитетом Платона, и практикой гностиков-николаитов. Неудобства, которых не умели избежать ни автор Федона, поручавший жребию образование отдельных пар, ни гностики, не принявшие никаких
31 Орете, издание Д’Анкона, т. II, с. 289 и 290.
мер к обеспечению здорового умственно и физически потомства, устранены, как думает автор, его системой, в которой на сановников возложена забота об устройстве временных браков, в интересах поддержания породы, и деторождение возведено на степень общественной функции.
Мы не имеем возможности исчерпать всего разнообразия вопросов, затрагиваемым автором «Солнечного града», который попеременно выступает перед нами богословом и философом, моралистом и астрологом, педагогом и экономистом, политиком, стратегом, медиком. Мы отметим только мимоходом то значение, какое он придает наглядному обучению, рекомендуя с этою целью начертание на стенах храма основных научных истин, правил поведения и имен высших типов человечества, в том числе и Магомета. Мы не станем также говорить о значении, какое он придает астрологии, как науке, призванной не только открывать будущее, но и давать указания для обыденной жизни, например, указывать время наиболее удобное для производства хозяйственных работ и т. п. Не станем мы также подвергать подробному анализу экономических воззрений нашего автора, который в числе своих единомышленников по заговору и товарищей по заточению мог назвать Антонио Сера, родоначальника экономической науки в Италии. Отметим, однако, то обстоятельство, что предубеждение Кампанеллы против собственности и экономической свободы было вызвано близким знакомством с фактами действительности и что этот утопист находил возможным привесть в оправдание своих взглядов такие, например, данный: Неаполь имеет 70.000 жителей, из которых всего 10 или 15.000 трудятся в поте лица и обыкновенно в течение немногих лет гибнут от непомерной работы, тогда как остальное население проводит жизнь в праздности, обжорстве, разврате, скряжничестве, ростовщичестве и болезнях, порождаемых всякими излишествами. Поля плохо возделаны, промышленность в застое, массы заражены низкопоклонством, холопством и завистью32. Всему этому может быть положен конец общением имуществ, при котором все призваны будут трудиться и никому не придется работать более четырех часов, посвящая остальное время приобретению знаний, литературе, науке, беседе, прогулке,— одним словом, всем упражнениям, полезным телу и разуму 33
32 Ореге, т. II, с. 256.
33 Ibid., с. 257.
Прежде чем завершить этот очерк основных взглядов первого провозвестника коммунистических теорий в Италии, остановимся еще на вопросе о его религиозных воззрениях. Кампанелла — автор трактата, озаглавленного «Atheismus triumphatus» (другими словами, «Побежденный атеизм»), и в то же время на него возведено соучастниками в заговоре следующее обвинение: он говорил, что природа есть то, что мы называем Богом, и что Бог не что иное, как природа; он отрицал Троицу и таинство Эвхаристии, чудеса Христовы, рай, ад и чистилище и обещал дать людям законы выше христианских34. Чему верить: тому ли, что доминиканский монах, озабоченный, торжеством католической церкви, готов был подчинить весь мир самому ревностному из служителей западного христианства и папы, призывая его с этою целью к истреблению схизматиков — лютеран, или тому, что этот видимый ревнитель католического единоверия был на самом деле не более, как рационалистом. В «Солнечном граде», как и в других произведениях обвиненного в ереси доминиканца можно найти, как нам кажется, данные для решения этого вопроса.
Нигде Кампанелла не высказывается с такой искренностью, как в частной корреспонденции; здесь, как мне кажется, и следует искать прежде всего ответа на поставленный вопрос. В числе писем, отпечатанных Бальдакини, особенного внимания заслуживают, на мой взгляд, те, которые обращены им в позднейшие годы его жизни к личному другу Cassiano del Pozzo и к известному ученому Pietro Gassendi. В одном из них подвергаются критике учения Лютера, в другом — воспринятая Гассенди теория эпикурейцев.
Из первого (от 27 июля 1638 г.) мы узнаем, что главная причина враждебности Кампанеллы к реформации лежала в провозглашенном Лютером спасении одною только верой; он возмущается мыслью, что добрые дела бесплодны, и думает, что лютеранство впадает в фатализм, обрекая большинство на погибель и проповедуя, что мы pascimur judicati ex decreto (divino) et non judicandi ex operibus. Такой догмат, говорит он, делает правителей тиранами, а народы — всегда готовыми к восстанию.
Таким образом, лютеранство осуждается им, главным образом, с точки зрения тех нравственных последствий, какие вытекают из его учения35.
34 Amabile, т. I, с. 345 и 347.
35 Baldacchini Vita di Tommaso Campanella. Неаполь. 1847, с. 172.
С другой стороны, Кампанелла — решительный противник эпикурейского воззрения, что «мир управляется случаем, что им не руководит начальный разум или, что тоже, Бог»36. Он возвращается к тому же вопросу и в другом своем послании, говоря, что не может допустить случайного появления чего-либо в мире, без веления его Творца (nullo jubente anctore universitatis); он не допускает, чтобы кометы могли возникнуть сами по себе (ex se, Deo nnllo auctore) и вспоминает слова апостола Павла: одно невежество создает случай (ignorantia facit casum)37.
В «Солнечном граде» автор, желая сохранить за собою полную свободу выражения религиозных мнений, нарочно допускает принадлежность жителей воображаемой республики к числу язычников, не просвещенных христианским откровением. Это обстоятельство позволяет ему говорить о натуральной религии, которая вся сводится к признанию единого Бога, творца солнца и, чрез его посредство,— всего живущего. «Одному Богу обязаны мы благодарностью, как отцу, и он один должен быть признаваем творцом и источником всего существующего. Люди созданы по его сознательной воле и предназначены к великой цели; души бессмертны, но только в том смысле, что после нашей кончины, сообразно нашему поведению в этой жизни, они соединяются с добрыми или злыми духами. Не существует мира вне нашего, в котором бы нас ожидали награды и наказания»38.
Эти выдержки рисуют нам Кампанеллу чистейшим деистом и опровергают мнения тех, кто, подобно Конрингу, говорят о его трактате против атеистов, что он скорее должен быть назван atheismus triumphans, нежели triumphatus39. Напротив того, они вполне согласны с показаниями одного из участников затеянной Кампанеллой революции, утверждавшего, что, отрицая Христа и Троицу, Кампанелла допускал «существование единого Бога или духа всем управляющего и приводящего небеса в движение» 40.
Мы покончили наш очерк общественно-политической теории Кампанеллы, насколько она выразилась в самом знаменитом из его
36 Ergo non cast! regitur mundus; ergo non sine prima sapientia; ergo non si ne Deo (письмо от 7 мая 1632 г.) Ibid., с. 201.
37 Ibid., с. 201 и 203.
38 Differente della nostra e la loro opinione interno ai luoghi delle репе e, dei premi. Dubitano se esistano altri mondi fuori del nostro. Opere, т. II, 276.
39 Cm.: Andrea Calenda. Fra Tommaso Campanella. Nocere. 1895, c. 268.
40 Amabile, т. I, c. 345. ,
трактатов, о котором за год до своей кончины он говорил в письме к тосканскому герцогу, как о «дающем понятие об образцовом государстве и непобедимом граде, одно созерцание которого дает возможность внешнего восприятия всех знаний»41.
Мы хотели бы в заключении показать, в какой мере автор «Солнечного града» остался верен высказанным в нем воззрениям, несмотря на то, что личные обстоятельства всячески заставляли его скрывать свои мысли и проповедовать приятные гонителям учения. Излагая основы своего идеального государства, автор прибавлял, что они не могут быть сразу восприняты целым миром. Даже ближайшие к Солнечному граду деревни только постепенно перейдут к тем коммунистическим порядкам, на которых опирается жизнь горожан, и, по всей вероятности, долгое время останутся без общения женщин.
Применяя ту же практику «постепеновцев» к такому обширному политическому телу, как Неаполитанское королевство, автор в особом «рассуждении об увеличении доходов государственной казны» рекомендует начать реформу существующего экономического строя с того, что мы в настоящее время назвали бы термином государственного социализма. Ни в чем народ не заинтересован в такой степени, как в обеспечении ему дешевого продовольствия. Сознание этой истины побудило еще средневековые муниципии Италии рекомендовать устройство общественных магазинов и преследовать скупщиков, поведение которых уподоблялось поведению осужденных каноническим правом ростовщиков. Отправляясь от этого средневекового законодательства о так называемой «аппопа», Кампанелла доказывает необходимость закупок всего нужного для пропитания хлеба правительством, которое затем с небольшой выгодой для себя перепродает его общинам, для хранения в общественных магазинах. Хлеб, как необходимейший продукт для жизни, исключается из числа предметов, подлежащих свободному торгу, но лишь настолько, насколько этого требует продовольствие населения. Раз это продовольствие обеспечено, ничто не мешает торговцам заняться как торговлей им внутри государства, так и его отпуском за границу. Кампанелла намекает на возможность распространить ту же систему правительственных закупок и на другие продукты,
41 Ci aggiunsi la Citta del Sole, idea d’ottima republica, e di ottima citti inespugnabile e tanto reguardevole che mirandola solamente s’imparanto tutte ie scienze istoricamente (cioe esteriormente). Письмо от 6 июля 1638 г.
именно те, которые представляют собою господствующую статью производства в той или другой местности. Так, в Калабрии, например, правительство могло бы заняться монопольной торговлей шелком 42.
То же неуважение к существующим общественным устоям сказывается и в трактате Кампанеллы об испанской монархии. Не советует ли он, например, королю предписать своим подданным помещение всех своих сбережений в правительственные банки, что открыло бы возможность пользования частными средствами в случае нужды для государственных целей, и не считает ли он вполне дозволенным похищение женщин солдатами исключительно с целью улучшения породы? Таким образом, Кампанелла первый подает пример возможного приближения к тем коммунистическим порядкам, какие изложены им в Солнечном граде. В отличие от Фурье, восстававшего против частичного применения своих идей, он в трактате о наилучшей форме правления сам рекомендует постепенность в применении его принципов и возлагает большие надежды на влияние доброго, хотя бы и частичного примера, чем на решимость перевернуть все сразу вверх дном. В этом отношении утопист обнаруживает достойный подражания политический смысл и, конечно, выдерживает сравнение с тем Томасом Морусом, который первый обратился к подражанию Платону и его идеальной республике и послужил Кампанелле одним из образцов при составлении его «Солнечного града»43.
Хотя Феррари, несмотря на восторженное отношение к автору «Солнечного града», и ставит его произведение ниже Морусовой Утопии, но этот приговор мне кажется несправедливым. Нет сомнения, что цель, преследуемая доминиканским монахом, цель общая ему с канцлером Генриха VIII и состоящая в том, чтобы устранить источник всяких несогласий между людьми, не может быть достигнута при одном общении имуществ. Коллективизм не устраняет ни супружеской ревности, ни родительских пристрастий, а того и другого вполне достаточно, чтобы породить рознь и помешать
42 Arbitrio о discorso primo sopra 1’auuiento delle entrate del regno di Napoli. Opere, . т. II, стр. 325-338.
43 О Томасе Mopyce и его Утопии можно найти упоминания в трактате Кампанеллы о лучшей форме правления. Кампанелла сознается, что идеальная республика Моруса послужила для него образцом (Sul cui esempio noi abbiamo trovate le istituzione della nostra (republica). Opere, т. II, c. 288.
осуществлению «вечного мира». Позволено даже сомневаться, чтобы при существовании индивидуальной семьи долгое время могло держаться само имущественное общение,— так естественно стремление обеспечить потомству внешние преимущества над посторонними. При таких условиях мудрено сохранить то равенство в пользовании и служении, которое лежит в основе всякого коммунизма.
Но независимо даже от более широкого решения Кампанеллой его основной задачи, как не отдать справедливости разнообразию и оригинальности высказываемых им частных положений, как не признать универсальности затеянной им реформы, обнимающей собою и богословие, и метафизику, и этику, и экономику, и политику, и педагогию?!
С другой стороны, не поражает ли каждого удачное сочетание в его схеме, по-видимому, исключающих друг друга начал — авторитета знания и народного контроля, государственного вмешательства и личной свободы, общности обязанностей и неравенства способностей, равноправия полов и различия в их служении государству. Пусть говорят после этого, что нивелирование общества неизбежно ведет к деспотизму, а государственное вмешательство к потере свободы, что неравенство способностей делает немыслимым равенство прав и обязанностей. Опираясь на авторитет Кампанеллы, мы можем подвергнуть сомнению все эти мнимые труизмы. Он также первый научил нас не бояться наших страстей, а только того ложного направления, какое дает им несовершенство нашей общественной организации. Протест, высказанный им против лицемерия нашей семейной морали, был здоровым протестом и не потерял значения и в наши дни.
Никто также лучше его не сумел показать, в какой тесной зависимости от современного хозяйственного строя стоят наши душевные пороки и физические недуги.
.Всего этого более чем достаточно для того, чтобы ввести его в цикл тех великих служителей человечества, имена которых должны, как он думал, жить вечно в благодарной памяти потомства.
СОЦИОЛОГИЯ НА ЗАПАДЕ И В РОССИИ *
Когда О. Конт приступил к чтению тех лекций, из которых составилось его шеститомное сочинение о «Положительной философии», несколько десятков человек, не более, сидели на скамьях частной аудитории на rue de Tournon. До нас дошел отзыв одного из русских туристов, случайно попавшего в Париж, о впечатлении, вынесенном им из этих конференций,— отзыв некого Салова. Он отпечатан был много лет тому назад в журнале «Русская мысль». Салов в высшей степени заинтересовался тем, что Конт говорит о новой науке — социологии; он отмечает в то же время с изумлением сравнительное равнодушие широких кругов парижского общества к возникающей научной философии и отвлеченному обществоведению.
С этого времени прошло значительно более полувека. На конгрессе Международного института социологии, собравшемся в конце октября 1912 года в Риме, на его Капитолии, итальянский министр народного просвещения Луиджи Кредаро, напоминая изречение Спинозы: «не плакать, не смеяться, а понимать», признает за социологией не только право на самостоятельное существование, как той научной дисциплины, которая синтезирует конкретное знание, сообщаемое всеми и каждой из общественных наук, но и прославляет величие поставленной ею цели — определение причин и хода человеческого прогресса. На социологию падает великая и ответственная задача: «Необходимо считать столько же ее правом, сколько и обязанностью,— сказал министр,— выступление на поле практической жизни силою, направленной к сплочению государства и установлению прочной социальной гармонии».
Печатается по: Новые идеи в социологии / Под ред. М. М. Ковалевского, Е.В. де Роберти. Сборник первый. СПб.: Изд-во «Образование», 191. С. 1-10.
Читая эту речь, мне припомнились слова жандармского полковника на границе, допрашивавшего меня: «Нет ли у вас книг по социологии? Вы понимаете... в Россию — это невозможно». Вспомнилось мне сожжение книги весьма консервативного американского писателя Уорда под заглавием «Динамическая социология». Автор ее до сих пор уверен в том, что поводом к сожжению послужило смешение «динамизма» с динамитом. В нынешнем году «Международное обозрение социологии», выходящее в Париже под редакцией Рене Вормса, праздновало двадцатилетие своего существования. На последнем номере «Итальянского обозрения социологии» помечен год шестнадцатый. Европа покрылась целой сетью социологических обществ, начиная от Парижа и Лондона и оканчивая Берлином, Веной и Римом. В Сорбонне открыта кафедра социологии и ее занимает хорошо известный автор «Разделения общественного труда» Эмиль Дюркгейм. Под его редакцией вышло за последние десять лет немало «Ежегодников социологии», толстых томов, поставивших себе задачей обозреть то, что в течение 365 дней напечатано было по вопросам обществоведения. В немецких университетах, начиная от Берлина и оканчивая Килем, читаются лекции по социологии, и имя Зиммеля, в частности, не менее известно, чем имя Шеффле или Гумпловича, давно читавших лекции по социологии, один в Вене, другой — в Граце.
«Международный социологический институт» собирается каждые три года — то в Париже, то в Лондоне, то в Берне, то в Риме.
Социологическое общество в Париже заседает ежемесячно. Преподавание социологии на правах необязательного курса производится ежегодно и в парижской «Ecole de droit», и в «Высшей школе общественных наук», созданной более двадцати лет, тому назад по инициативе кружка парижских ученых и руководимой известным профессором Круазе.
В некоторых провинциальных университетах Франции, в том числе в Бордо и Тулузе, также читаются курсы по социологии. Брюссель с его двумя университетами, вызванными к жизни частной инициативой, является одним из деятельных очагов новой науки. В наиболее молодом из двух его университетов Де Греф почти четверть века преподает ее общие начала, выпуская в свет такие сочинения, как «Общая структура человеческих обществ» (3 тома), «Общественный трансформизм», «Экономическая социология», «Социологические законы», «Введение в социологию», элементарный ее курс — «Учебник по социологии». Этот учебник
принят за руководство во многих американских университетах — от Атлантического океана до Тихого. Социология вошла в число предметов, читаемых в высших школах, как казенных, так и частных. В Чикаго проф. Смоллем издается вот уже много лет ежемесячник под заглавием «Американский журнал социологии».
У нас существует всего-навсего одна кафедра на всю Империю в 160 миллионов жителей и то в частном университете, в Психоневрологическом институте, получившем свой устав непосредственно от Монарха, минуя Министерство народного просвещения. А то бы случилось с ним то же, что и с Педагогической академией, в которой место социологии заняла энциклопедия права, разумеется, против воли инициаторов этой также частной Академии.
Нужно ли говорить, что в казенной ссистеме образования> ничто не напоминает даже о существовании целой иерархии конкретных наук об обществе, завершаемой абстрактной, так называемой чистой социологией. Все они сведены к одной — к финансовому праву. Меня менее бы поразило известие, что в Нанкине или Пекине создана кафедра социологии, чем слух о том, что г. Кассо затевает такую реформу в Москве или в Петербурге. А между тем в Китайской республике, несомненно, имеется препятствие к созданию такого преподавания, которого нет в России. Социалисты, к числу которых принадлежит идейный руководитель желтой расы Сун Ят Сен, относятся к социологии с некоторой подозрительностью: наука, проповедующая общественную солидарность, как бы подкапывается под их credo общественной борьбы. Многим кажется, что не ей задаваться мыслью об организации труда, как одной из частных проблем социального порядка. Ведь такая организация признана была Луи Бланом необходимым выводом его социальной схемы и задуманных им национальных мастерских. Социология тем уже вызывает опасение самых левых течений общественной мысли, что, повторяя завет своего основателя, она не видит возможности обеспечить прогресс или поступательное развитие человечества без прочного общественного порядка, а это, очевидно, идет вразрез с проповедью анархии, даже наименее воинственной, хотя бы приходящей к признанию возможности обходиться без правительства, проводя в жизнь начала экономической взаимности.
Консервативные круги европейского общества, к которым Конт обратился в конце жизни с призывом положить научную философию и социологию в основу их практической деятельности — к счастью, не осуществили его заветов, и социология с ее теорией
прогресса осталась путеводной звездой для партий, озабоченных поступательным ходом человечества. Но, разумеется, она никогда не могла удовлетворить «ликвидаторов» самого общества, так как направлена к его сохранению и дальнейшему развитию. Что этого не понимает полиция, едва ли может поразить кого-либо. Но что ту же непонятливость обнаруживает ведомство, которому вверены заботы о воспитании подрастающих поколений,— это по праву может быть отнесено к числу совершенно непонятных «недоразумений». В Америке и в Европе такому недоразумению настал конец. Министры и президенты приветствуют социологов, съехавшихся на международные конгрессы, и устами Казимира Перье, как я сам могу засвидетельствовать, предвидят от их трудов «пользу для всех народов и государств».
Несравненно важнее всего этого признанье, недавно сделанное немецкой прессой, что между социологами, прибывшими на съезд, нельзя указать ни на одного «умственно-ограниченного» человека. Таково уже свойство самой науки, не довольствующейся простым анализом и требующей синтетических обобщений.
Будем надеяться, что задуманное нами издание «Новых идей в социологии» до некоторой степени рассеет предубеждения наших руководящих сфер против науки, не допускающей чистого эмпиризма в деле общественного и государственного строительства. Завоевывать русские ученые и интеллигентные круги ему едва ли придется, так как они давно стали на сторону восполнения положительного знания наукой, которая охватила бы необозримую массу конкретных обобщений, даваемых историей, экономикой, статистикой, политикой, правом, этикой, коллективной психологией, эстетикой и установила бы вместе с тем элементарнейшие законы человеческого общежития.
Социологией, несомненно, интересуются в наши дни и математики, и физики, и биологи. И Мах, и Оствальд, и Мечников, и Тимирязев — я называю наугад приходящие мне на память имена наиболее популярных у нас представителей точного знания. Мне неизвестны также историки, сколько-нибудь склонные к обобщению, которые бы не видели необходимости создания научной дисциплины, синтезирующей и сводящей в систему их по необходимости распавшуюся на специальности работу. Спор между ними идет только о том, быть ли этой дисциплиной облюбованной в Германии философии истории, или более широкой науке отвлеченного обществоведения. Многие в Германии еще не прочь связывать эту новую науку
с судьбами той «психологии народов» (Volkerpsychologie), развитию которой одно время так много послужил издаваемый Штейнталем и Лапарусом специальный журнал. В народную психологию Вундта, например, вошло немало того, что принадлежит к области социологии. Этнографы и географы не прочь также относить к области этнологии и антропологии, в крайнем случае, доистории начальные главы поступательного развития человечества, которые поэтому входят в общую теорию прогресса, а следовательно, и в социологию. Многое, написанное Бастианом, Ратцелем, Постом или Колером, служит или материалом для социологии, или может войти в нее на правах отдельных глав.
То, что мы привыкли называть генетической социологией, вполне обнимает затрагиваемую ими сферу вопросов о происхождении семьи, собственности и государства и т.д. МакЛеннан и Морган, как и Вестермарк, сами того не зная, работали на пользу «новой науки об обществе». То же делали и делают на этот раз сознательно Ломброзо с его «уголовной антропологией» и Ферри с его «уголовной социологией». Ревнители так называемой коллективной психологии, начиная от Тарда и кончая Сигеле и Росси, также пишут одни начальные главы нашей науки. Я не прочь думать, что то же делают и Эспинас, и Романее, и те из наших биологов, которые, подобно проф. В. Вагнеру, занимаются психологией и общественным бытом животных. Зачатки общественности, где бы они ни выступали, не могут, разумеется, остаться безразличными для тех, задачу которых составляет ее изучение во всей широте и глубине. Наконец, мы не можем отказать в названии социологов и тем философам, которые, как, например, покойный Фулье, посвящали целые тома изучению «идей-сил», или «психологии рас»,— недаром в новейшем номере «Международного обозрения социологии» напечатана обширная статья о А. Фулье, как социологе. О нем сказано, что он считал предметом новой науки природу, происхождение и развитие общества, под влиянием причин: физических, биологических, психологических и, наконец, социальных.
Совокупностью всех их определяется, по его мнению, как организация, так и эволюция общества. В числе этих причин Фулье ставил и то представление, какое общество имеет о собственном своем устройстве и о будущем развитии. Общественным фактом он считал воздействие одного сознания на другое и реакцию, обнаруживаемую совокупностью всех сознаний, на сознание индивида.
Немало также экономистов, которые не прочь считать односторонними выводы, построенные на основании той начальной
посылки, что человек — существо исключительно эгоистическое, а потому и желали бы рассматривать экономические явления под более широким углом зрения в тесном взаимодействии с другими сторонами общественности и в исторической перспективе. А это возможно только при условии ввести хозяйственную жизнь в ее не-прекращающейся эволюции в более широкую область социальной жизни вообще, что, в конце концов, сводится к проверке социологией экономических теорем и простых гипотез.
Преподавание социологии не исключает, разумеется, параллельного изучения конкретных дисциплин об обществе; она только вносит в существующий теперь хаос систему и единство. Мы выходим из высших школ, посвященных общему образованию, с некоординированными представлениями и о нравственном долге, предписываемом нам практическим разумом, и о хозяйственном расчете, подсказываемом нам себялюбием, и о праве, заключающем в себе веления, отвечающие пользе и нуждам государственным, и о религии, открывающей нам пути к вечному спасению. От столкновения этих непримиримых понятий загорается в нашем уме многолетняя борьба, исходом которой нередко бывает подсказываемое жизнью веление подчинить силе — право и этику — хозяйственному расчету.
Едва ли хаотическое состояние наших основных понятий может иметь счастливый исход для практической деятельности.
Социология, по крайней мере, способна была бы научить нас одному — необходимости искать в велениях и здравого эгоизма, и, по-видимому, противоречащего ему альтруизма, и в требованиях государственности, и в велениях церкви осуществление начал, подсказываемых нам заботою о сохранении и дальнейшем развитии общественности.
Сравнительная история религий в такой же степени, как и сравнительная история нравов, юридических обычаев, экономических отношений и государственного уклада, заодно указывает нам общественный источник всех тех заповедей и заветов, в которых в разное время народы синтезировали принципы человеческого общежития, выдавая их нередко за волю самого божества. Такие воззрения, например, как то, что государство должно быть подчинено праву, что последнее неразрывно с этикой и т. д. и т. д., едва ли могут найти научное обоснование без помощи социологии, а этого одного, по-моему, достаточно, чтобы доказать ее громадное воспитательное значение и необходимость дать возможно широкое распространение
в области преподавания. Очевидно, однако, что рассматриваемые ею вопросы слишком сложны, чтобы быть доступными пониманию низшей школы. Я не сторонник составления для нее ни «политических, ни социальных катехизисов», вроде тех, какие изданы были французским министром народного просвещения Полем Бэром. Но я не вижу причины, по которой элементы социологии не могли бы войти в состав знаний, сообщаемых в сколько-нибудь систематическом виде ученикам средних школ. На Западе нет недостатка в учебниках, составленных для этой цели. Упомяну для примера о тех, какие принадлежат, например, французу Паланту, итальянцу Морселли, бельгийцу Де Грефу. Но главным очагом социологии, разумеется, должны сделаться университеты, причем чтение ее я считал бы полезным приурочить в равной мере и к юридическим и к историко-филологическим факультетам.
Но все это piadpesideria, которым едва ли суждено осуществиться, по крайней мере, до тех пор, пока в сознание «пастырей народных» не проникнет убеждение в опасности предоставлять управление тем, кто не знает тесной связи, в какой порядок и прогресс стоят не от одного исполнения велений начальства, но и от взаимодействия государства и права, экономики и политики, с требованиями общественности, находящими выражение себе в нравственном законе.
КОНДОРСЕ*
I
В столетнюю годовщину смерти Кондорсе, родоначальника теории «прогресса», Франция ставит ему памятник, которого до сих пор не имеет ни Мирабо, ни Верньё и Бриссо, ни вожаки монтаньяров, за исключением одного только Дантона. В чем лежит причина такого пристрастия; какую особую притягательную силу имеет в себе эта личность; что заставляет различные партии окружать ее одинаковым почетом? В Кондорсе воплощаются одновременно и дух великого века философии, дух энциклопедистов и физиократов, и политические стремления восторжествовавших уже только в наше время во Франции республиканцев. В нем — ученый математик, блестящий экономист и публицист сливаются с одним из первых провозвестников и основателей народовластия, с действительным виновником проведенной конвентом реформы публичного образования и провозглашенной тем же конвентом демократической конституции 1793 года; наконец, с творцом той новой науки, которая в гораздо большей степени, чем построения Вико, приближается к современной нам истории культуры и гражданственности. Он — ближе всех деятелей своего времени к задачам и стремлениям французской демократии. Как централист, как противник всякой попытки оживления провинциальной автономии, он выгодно выделяется в глазах современных французов из среды преследуемых заодно с ним жирондистов, с большим или меньшим основанием обвиняемых в федералистических тенденциях. Он не забрызган кровью сентябрьских жертв; его имя не встречается в списке ближайших виновников смерти Людовика XVI; но, с другой стороны, оно стоит во главе тех немногих, которые еще в эпоху
* Печатается по: Вестник Европы. СПб., 1894. Т. II. С. 99-144.
учредительного собрания, вслед за бегством в Варенн, требовали установления демократического народоправства под главенством избираемого совета,— во главе тех, кого не испугало кровавое подавление республиканской агитации, связанное с памятью об избиении мирных петиционеров, собравшихся на Марсовом поле.
Современные французы чтут в Кондорсе редактора первой республиканской газеты. Они чтут в нем самого широкого провозвестника принципов 93 года, требующих, наряду со свободой и равенством всех пред законом, равенства всех пред школою и пред нуждою, другими словами, признающих обязанность государства доставить всем возможность образования и труда. Его социальные запросы не идут далее, и то же может быть сказано в равной мере о всех без исключения деятелях французской революции, как и большинстве современных вожаков республики. Он — сторонник частной собственности, противник всяких ограничений в свободе распоряжения ею, враг протекционизма, враг закона о максимуме, враг прогрессивного налога. Как последователь физиократов, он хочет, чтобы налог падал исключительно на чистую прибыль земельных собственников, на их ренту, и, подобно своим учителям, не видит, что проведение этой мысли до крайних ее пределов, до обложения всей ренты собственников, повело бы к экспроприации их государством, другими словами, к национализации земель. Еще одной стороной своих общественных и политических симпатий Кондорсе приближается к самым передовым агитаторам нашего времени: он требует для женщин гражданского и политического равноправия; он — предшественник Милля и первый, может быть, провозвестник идеи женской эмансипации. Нужно ли говорить также, что его имя золотыми буквами занесено в список пионеров аболиционизма, первых противников торга неграми. Принимая задолго до революции ревностное участие в деятельности подготовивших ее масонских лож, он в среде их впервые встретился с Бриссо и в тесном единении с ним основал «общество друзей черных». Отвечая таким образом на все запросы своего времени, он подготовил также те решения, какие даны были — нашим. Тем же посредником двух веков является он и в области социальной науки, впервые давая формулу человеческому прогрессу.
Прибавим ко всему сказанному необыкновенное величие характера, стойкость в убеждениях, неустрашимость в опасности и тот венец мученичества, который наложен на Кондорсе его преждевременным концом,— и легко будет понять, почему эта центральная,
но не бьющая в глаза фигура республиканского деятеля и мыслителя, временно затемненная более громкою известностью таких великих ораторов, как Мирабо или Верньё, и таких народных трибунов, как Дантон, должна была найти рано или поздно заслуженную оценку в рядах французских республиканцев и современных социологов, которым он одинаково проложил дорогу своей деятельностью.
К этим именно рядам и принадлежит его недавний биограф. Сочинение доктора Робиннэ, сотрудника Лафита и одного из самых горячих последователей контизма, посвящено изображению жизни Кондорсе и оценке его сочинений. Так значится, по крайней мере, на заглавном листе. В действительности оно может быть названо скорее сборником выдержек из весьма ценных и не всем доступных источников, рисующих отношения Кондорсе к современникам и современников к Кондорсе,— нежели полной и окончательной характеристикой этой личности. Оно послужит только пособием при составлении его будущей биографии, пособием несравненно более ценным, чем та краткая заметка о его жизни, какая предпослана к изданию его сочинений г-жею Оконор и Франсуа Араго. По-видимому, мы далеко еще не владеем всеми материалами, необходимыми для полного выяснения его личности. Право думать это дает нам недавнее обнародование таких документов, как неизвестная переписка Кондорсе с Тюрго. Ничто не мешает предположению, чтобы подобные же издания, иллюстрирующие отношения историка прогресса к другим выдающимся современникам, не дали нам новых сведений о тех влияниях, под которыми сложился этот столь оригинальный и в то же время разнообразный характер. Сочинения Кондорсе, его письма и отрывок из личной апологии являются пока главными источниками его биографии.
Первый период его деятельности посвящен почти исключительно трудам математическим. Принадлежа по рождению к высшему дворянству (отец его был маркиз и служил капитаном в полку «Barbancon Cavalerie», Кондорсе получил, подобно Вольтеру, начальное воспитание у иезуитов. Семнадцати лет он поступает в коллегию Навары в Париже и сразу принимается здесь за изучение математики. Как большинству дворянских детей, ему открывалась возможность военной карьеры. Дядя епископ (в Лизьё), оплачивавши дотоле все издержки по его воспитанно, легко мог бы сделаться и для него том же Провидением, тем же поставщиком средств и протекций, каким высшие церковные сановники являлись для своей обедневшей аристократической родни. Но Кондорсе сам избрал
научную карьеру, весьма ясно выделяя ее в то же время от всякой амальгамы с богословскими и церковными интересами. В письме к Тюрго, относящемся к 1762 году1, будущий историк человеческого прогресса, имея 19 лет от рода, уже говорит о необходимости отложить в сторону, при преследовании идей справедливости и добродетели, всякого рода теологические соображения 1 2. Три года спустя он печатает первый свой научный труд — «Опыт интегрального исчисления». Д’Аламбер пишет об этом трактате: «Он свидетельствует о большом таланте», а Лагранж спешит ответом: «Ваши похвалы вполне заслужены». Когда в 1772 году сочинение это напечатано было в мемуарах академии наук, тот же Лагранж снабдил его своим введением; в нем мысли автора объявляются столь же широкими, сколько и плодотворными. Мы не будем следить за дальнейшими научными успехами Кондорсе и, отметив его занятия теорией вероятий, впоследствии примененной им и к решению некоторых проблем избирательная устройства; ограничимся заявлением, что в 1773 году приобретенная им известность доставила ему пост секретаря академии наук. В этом звании он в течение семнадцати лет (с 1773 по 1790 гг.) написал 61 характеристику разнообразнейших по своей специальности ученых, французских и иностранных, бывших членами академии или ее корреспондентами. Эти характеристики носили название похвальных слов, но они скорее являлись беспристрастными оценками, оправдывая общение автора воздать мертвым тем же, что дорого и живым,— истиной и справедливостью. Чтобы говорить с одинаковым знанием дела не только о математиках и астрономах, но и о физиках, зоологах, ботаниках, экономистах, Кондорсе пришлось вникнуть вглубь всех этих наук, приобресть в полном смысле слова энциклопедические знания. Биографии Лопиталя и Трюдена, в частности, потребовали от него знакомства с теми спорами физиократов с меркантилистами, начало которым положено было Баугильбером. Кондорсе заинтересовался, впрочем, теориями Кине и гурне еще в министерство их ученика и последователя — Тюрго. Следя с живым интересом за проводимыми им реформами, разделяя его пристрастия и вражды, он то в добавочных томах энциклопедии, то в отдельных брошюрах развивал идеи физиократов в их применении к поставленным временем вопросам. «Письма пикардского пахаря протекционисту», напечатанные
1 В городке Рибемон в Пикардии.
2 Robinnet, Vie de Condobcet, с. 3.
в 1775 году, были ответом Неккеру на известную его защиту взглядов Галлиани о необходимости в интересах народного продовольствия ограничить свободу хлебной торговли. Та же борьба с этим новым оживлением меркантильных и протекцонистических идей заставила его в том же году напечатать свою известную статью о монополии и монополистах, полную полемического жара и заканчивающуюся словами: «К чему вешать их?— их единственной казнью должна быть отдача на посмешище публики». Тайная поддержка, оказанная Тюрго Бонсерфу, автору известного памфлета об упразднении феодальных прав, и свидетельствовавшая о готовности самого министра произвести эту мирную революцию, побуждает Кондорсе обнародовать в том же 1775 году «Рассуждения о барщине», в которых уже поставлено открыто требование выкупа всех вещных прав феодалов путем вольного соглашения с крестьянами и даровой отмены тех, источником которых является созданная некогда сами государством монополия или привилегия (Кондорсе называет их налогами на низшие классы общества в пользу военного). Это сочинение заслуживает тем большего внимания, что в нем впервые проведена мысль о выгоде, какую в отмене крепостных отношений и связанных с ними хозяйственных порядков найдут одинаково и землевладельцы и земледельцы — и сеньоры, и крестьяне. Когда в следующем году Тюрго ставит вопрос об упразднении барщины, Кондорсе, объявивший еще в 1774 году, в письме к министру, что их отмена была бы самым быстрым и самым ощутительным благодеянием для провинций3, защищает проект своего друга в новых рассуждениях и начинает их словами: «Благословим имя благодетельного министра, который не только освобождает нас от проклятия натуральной дорожной повинности, но и от чиновников, приставленных к ее вынуждению4. Никогда не тяготело над людьми свободными более ненавистного ига, как то, какое упразднила ныне милосердная рука правительства».
. В том же 1776 году Кондорсе издает и свой наиболее известный экономический трактат, снова направленный против Неккера,— «Рассуждение о хлебной торговле». На основании его всего легче познакомиться с теоретическими воззрениями автора, которые выступают на этот раз с особенною полнотою. Объявивши, вслед за физиократами, задачею экономической политики заботу о том, чтобы затраченные на землю издержки и труд возмещены были
3 См. письмо от 23 сент. 1774 г. (т. I, Собр. сочинений (изд. Араго), с. 252).
-» Т. XI, с. 89.
с лихвою, и чтобы эта прибыль не только не падала, но, наоборот, возростала с каждым годом, Кондорсе рассматривает затем причины, содействующие и препятствующие такому падению, и влияние, какое оно может оказать на материальное благосостояние собственников, арендаторов, сельских и городских рабочих. По его мнению, земледелец первый терпит от него, а собственник — последний. Все издержки покрываются из того фонда, какой представляет излишек выручки над затратами. Но из этого фонда собственник прежде всего берет все нужное для своего существования. Один остаток питает труд земледельцев и рабочих. Не будь этого остатка, собственнику предстояло бы самому сделаться возделывателем. За собственником земледелец получает из того же фонда необходимое ему для жизни, и только за этим настает очередь прочих потребителей, т. е. всей массы рабочего люда, всего класса лиц, живущих платою за труд. А все это вместе взятое не доказывает ли, что сокращение размеров «вос-производств», т. е. возмещения с прибылью сельскохозяйственных затрат, прежде всего отразится невыгодно на судьбах рабочего класса, обусловливая собою недостаток средств к их пропитанию5.
Но, скажут, эти средства могут быть получены на стороне покупкою хлеба у иностранцев, и заработок, приобретенный занятием промышленностью, пойдет на эту покупку. Современная нам экономическая доктрина так и понимает дело, признавая возможность получения чистого дохода одинаково с земледелия и промышленности, и не видя причины, по которой необходимо было бы приурочивать народный труд преимущественно к хлебопашеству, а не к промышленности и торговле. Но не так думали физиократы и последователь их учения — Кондорсе. Не то чтобы его доктринерство доходило до признания, вместе с Кенэ, что труд ремесленника и фабричного рабочего бесплоден (sterile) 6. Нет, он выдвигает в пользу физиократических пристрастий чисто политические соображения. «Страна, получающая продукты питания со стороны,— пишет он,— слишком
5 Ibid., с. 118.
6 Аббат Бодо объяснил, впрочем, в каком смысле следует понимать эту бесплодность: рабочий получает вознаграждение из чистого дохода, доставляемого земледелием; следовательно, промышленность не создает нового фонда для покрытия государственных и частных издержек, и только в этом смысле должна быть признана sterile. Толкование это, разумеется, падает вместе с вызвавшей его к жизни теорией produit net, и вместе с признанием, что всякий труд производительно ведет к созданию ценностей,— но это установлено вполне только Ад. Смитом.
зависима от иностранцев и содержит в себе поэтому зародыши слабости и внутренних беспорядков. К тому же землевладельцы и земледельцы более всех других заинтересованы в добрых законах и хорошем правительстве, так как они одни не могут покинуть отечества. Наконец, занятие земледелием формулирует более сильных граждан, удаляя их от городских соблазнов, рассеивая с большею равномерностью по селам и хуторам и устраняя возможность того развращающего влияния, какое производит скученность населения в промышленных центрах»7.
Переходя к вопросу о средствах устранить невыгоды временной и местной нужды, Кондорсе указывает на торговлю на протяжении возможно широкого района, торговлю, издавна пользующуюся свободою в накоплении запасов, как на единственный фактор борьбы. Чем больше будет лиц, принимающих в ней участие, тем сильнее будет оказываемая ими друг другу конкуренция, а это поведет к падению той прибыли, какой они вознаграждают себя за свое посредничество, что в свою очередь отразится на понижении хлебных цен. Доказывая вслед за Тюрго, что заработок трудящегося люда никогда не падает ниже минимума средств существования, Кондорсе делает отсюда тот вывод, что он всегда соответствует, более или менее, цене припасов, возростает с ее возростанием и падает с ее падением,— другими словами, заработная плата определяется не средней ценою припасов, а той, какая существует в каждый данный момент8. А если так, то чрезмерное падение цен на хлеб, невыгодное для собственников и земледельцев, не может быть выгодным и для рабочих. Ведь получаемое ими вознаграждение покрывается тем же фондом, что и рента собственника, и труд земледельца. Интерес рабочих лежит, наоборот, в том, чтобы средняя цена хлеба стояла возможно близко к ходячим ценам, другими словами, чтобы колебание хлебных цен было возможно ничтожным9. Рабочий должен одинаково бояться и быстрого вздорожания, при котором его заработок временно может оказаться недостаточным, и низкой цены, при которой он может остаться без работы. Его интерес лежит в возможном уравновешении цен, но ничто в большей сгепени не содействует такому уравновешению, как свобода торговли, практикуемая в широком районе. Она делает возможным накопление запасов в дешевые годы, что удержит цены на хлеб на известной высоте, и продажу этих запасов
’ ibid., с. 119.
s Ibid., с. 134.
9 Ibid., с. 137.
в дорогие годы, что поведет к понижению цены10 *. Ею может быть привлечен необходимый для хлебной торговли капитал, ею вызывается сильнейшая конкуренция между покупателями, когда хлеб дешев, и между продавцами, когда он дорог11. Свобода внутренней торговли на возможно широком районе приближает цены на хлеб в стране к той, какая в данный момент существует в прочих странах (Кондорсе употребляет выражение — «к общей европейской цене»); наконец, она ведет к падению средней цены хлеба как в данном государстве, так и в целой Европе. Высказываясь таким образом в пользу неограниченной свободы хлебной торговли, Кондорсе допускает, однако, ограничение вывоза, говоря, что его свобода в меньшей мере отвечает требованиям справедливости и той государственной пользы, которая для правителей более обязательна, чем польза всего человечества12. Тем, кто, подобно Неккеру, доказывает необходимость регламентами хлебной торговли и принятия мер против скупщиков, Кондорсе отвечает, что государство не создало естественных прав свободы и собственности, а только приняло на себя обязательство их охраны, и что нельзя считать это обязательство выполненным, раз собственность будет признаваться правительством лишь в той мере, в какой это покажется ему отвечающим общему благу13. Но что же делать правительству в случае наступления голодовок? Не сидеть же ему скресгя руки? «Разумеется, нет, — отвечает Кондорсе,— Его долг прийти на помощь нуждающимся и затратить с этой целю часть налога, взимаемого им со всех граждан. Оно может и должно обеспечить бедным труд и заработок»14. Таким образом, вслед за Тюрго Кондорсе объявляет себя сторонником права на труд. Он останется верен этой мысли впоследствии, при составлении проекта конституции 1793 года. Отказывая государству в праве установлена максимума, признает в то же время обязанность государственной помощи в нужде и приискании работы15.
10 Ibid., с. 148.
и Ibid., с. 149.
12 Ibid., с. 223.
и Ibid., с. 168.
и Ibid., с. 198-199.
is Сам Кондорсе не скрывает того, что мысли, им высказанные, являются только ' развитием чужих взглядов. «То, что можно открыть полезного и верного в моих рассуждениях, пишет он в заключительной главе своего трактата о торговле хлебом,- принадлежит не мне» (Ibid., с. 248). Сходство его взглядов с теми, каких придерживался Тюрго, слишком очевидно, чтобы можно было сомневаться, что именно хочет он сказать этими словами.
Несамостоятельность Кондорсе в области экономических вопросов сказывается и в его взглядах на налог. И здесь он является учеником физиократов. В жизнеописании Тюрго, напечатанном им и появившемся в 1786 году, Кондорсе говорит: «Доказано, что в какой бы форме ни взимался налог, всем своим бременем падает на ту часть ежегодного воспроизводства, которая остается за вычетом всех издержек. Не менее доказано, что наиболее справедливым обложением надо считать подать, пропорциональную чистой выручке, produit net, отдельных земельных участков. Наконец, доказано, единственным практическим средством достигнуть этой с пропорциональности является прямой налог, взимаемый непосредственно с чистого продукта земель»16.
Выступая защитником пропорциональности в обложении, Кондорсе отнюдь не может считаться сторонником прогрессивного налога. «Должен ли богатый человек,— спрашивает он себя,— платить больше того, что следует, имея в виду соответствие платимого им с размером его состояния? Не будем предаваться этим идеям преувеличенной морали; будем справедливы к народу,— мы еще далеки от этого; но воздержимся от всякой несправедливости даже в его пользу»17. По той же причине Кондорсе отвергает и всякий налог на роскошь. Он не верит, чтобы подобные налоги достигали преследуемой ими цели подавления роскоши. Они заставят только заменить один вид роскоши другим: прежде покупали лошадей, теперь будут покупать голоса избирателей и должности. К тому же роскошь доставляет заработок трудящемуся люду. Отмена того или другого вида ее сделает необеспеченным существование тех категорий рабочих, труды которых отвечали предъявленному ею запросу. «Предлагая налог на роскошь,— пишет Кондорсе,— предлагают несправедливость; думают сократить утехи богатых, и уничтожают источник дохода для бедных. Всякий раз, когда в политике люди станут руководствоваться другими принципами, помимо строгой справедливости, они не только не послужат общему благу, но, напротив, причинят ему вред, внося шарлатанство, взамен истины, и фарисейство, взамен правдивости»18. Разделяя взгляды физиократов на природу налогов, Кондорсе не мог не явиться противником
16 Полное собр. соя., tV, с. 124.
17 См. Essai sur la constitution et la fonctio des Assamblees provinciates 1788 г., т. VIII, Сочинения, c. 337.
18 Ibid., c. 391 и 392.
косвенных сборов. «Всякий подобный налог,— пишет он,— оплачивается в конце концов чистым доходом земель; но нельзя при установлении его соблюсти пропорции с этим доходом; к тому же все косвенные сборы влекут за собою большие издержки взимания, чем прямые; наконец, они могут обогатить казну только под условием нарушений прав граждан всякого рода запретами и притеснениями. Необходимо поэтому отменить их, ставя на их место единый прямой налог; только при нем можно соблюсти строгое соответствие между размером обложения и нуждами государства, между имуществом и долею плательщика. Один этот налог не задевает естественных прав человека и гражданина»19.
Кондорсе высказывается также против всякого рода личных налогов. «Их неудобства,— пишет он в особом трактате, посвященном этому предмету,— лежат в их произвольности и в той инквизиции, какой они подчиняют частные имущества. Из всех форм личного налога один квартирный кажется ему соединяющим в меньшей степени только что указанные недостатки, да и то под условием изъятия тех квартир, которые по своей скромности отвечают минимуму требований, предъявленных от жилищ, и должны быть включены поэтому в издержки существования, покрываемые трудом и свободные от обложения» 20. Нечего и говорить, что все производительные монополии, отправляемые самим государством, будет ли предметом их соль, табак и.т. д„ встречали в Кондорсе решительного противника. Из всех видов налога на продукты потребления самым отяготительным, и для кошелька граждан, и для их личной свободы, кажется Кондорсе тот, какой представляют собою монополии; он не находит достаточно красок в изображении всех тех бедствий, к каким повлекла во Франции соляная монополия, так называемая gabelle 21.
Мы не сказали пока ни слова об его отношении к таможенным пошлинам. Оно стоит в связи с его воззрениями на задачи промышленной и торговой политики. Разделяя взгляды Гурнэ и Тюрго на преимущества полной экономической свободы, Кондорсе является одним из первых французских фритредеров. В похвальном слове, посвященном им канцлеру Лопиталю, можно найти критику меркантильной системы. «Простим ему,— пишет он,— регламентацию
w Ibid., с. 339 и 340.
20 Sur 1’impot personnel, 1790 г., т. XI, с. 474.
21 Т. VIII, с. 375-387.
ремесел и промышленности, простим ему незнание той истины, что подобная регламентация посягает на самый священный вид собственности — на труд человека. Он хотел поощрить промышленность, а на самом деле только подверг ее лишнему налогу. Думая оказать помощь торговле, Лопиталь обложил иностранные товары пошлинами, но такие пошлины вредны, так как, подавляя конкуренцию, они устраняют единственное справедливое и практическое средство вызвать соревнование в обрабатывающей промышленности. Такие пошлины по природе своей несправедливы, так как увеличивают ценность товаров и издержки потребителей. Они имеют то еще неудобство, что поощряют одни виды сельского производства и мануфактур в ущерб другим. Но какое ручательство имеем мы тому, что министр не ошибся в выборе и не дал предпочтения менее доходной статье над более доходной? Администраторы, предоставьте этот выбор частному интересу и природе вещей, которые никогда не ошибаются» 22.
В похвальном слове Трюдену, сотруднику Тюрго, исполнявшему при нем обязанности интенданта финансов, Кондорсе развивает те же взгляды, прославляя министра за то, что он был сторонником свободы торговли; все ее ограничения казались ему налогами на торговцев, налогами, перелагаемыми на потребителей. Он думал, пишет Кондорсе, что самые мудрые законы не могут произвесть большего блага, чем то, какое доставит одна свобода. В администрацию промышленности Трюден, говорит его биограф, внес те же принципы свободы, считая нужным однако восполнить ее благотворное влияние поощрением новых производств и новых приемов. Но, стараясь узнать секрет тех, которых держались за границей, он не скрывал от иностранцев наших собственных. Те меркантильные воззрения, которые заставляют смотреть на чужеземную промышленность как на естественного врага и противополагать частный интерес нации интересу всего человечества, были ему чужды. Он разделял убеждение, что люди всех стран имеют один и тот же интерес. Этот интерес состоит в том, чтобы все земли производили возможно больше и все виды промышленности находились на высшей ступени совершенства. Ведь истинный интерес безразлично для всех людей лежит в том, чтобы в возможно большем обилии иметь возможно лучшие сырые продукты и мануфактураты23.
22 Т. III, с. 552 и 555.
23 Т. II, с. 217 и 222.
Кондорсе самый авторитетный представитель физиократии в эпоху конвента24. Правда, Дюпон и Морелле еще писали в это время, но обстоятельства уже устранили их от дел, а враждебность их к новым порядкам лишила их голос всякого авторитета. Ошибочно, впрочем, было бы ставить всех трех писателей на одну доску. Дюпон оставался наиболее верным доктрине первого основателя новой экономической школы, и Тюрго не раз приходилось отстаивать независимость своей мысли против попыток сурового редактора «Эфемерид» — подогнать их под ходячую доктрину. Морелле и Кондорсе гораздо менее исключительны; оба они цитируют уже Адама Смита и не считают его тем блудным сыном физиократии, каким являлся он в глазах Дюпона. Но тогда как Морелле в позднейший период своей деятельности, совпадающей с эпохой французской революции, занимается более политическими вопросами, расходясь, между прочим, открыто с основателями физиократии в суждении об английской конституции,— Кондорсе продолжает при всяком удобном случае проводить экономические теории физиократов, уклоняясь от них лишь в тех вопросах, в которых Тюрго предложены были новые решения,— так, например, в вопросе о ренте, которая для него, как и для его ближайшего учителя, является уже неоплаченным даром природы, а не исключительным результатом приложения труда при начальной обработке, какою она остается в глазах Дюпона. Заодно с Тюрго, Кондорсе отдаляется также от сурового применения формулы laissez faire, laissez passer, провозглашая обязанность государства доставлять неимущим работу. Во всем этом он стоит гораздо ближе к нашему времени, нежели первые основатели физиократии и ее последние эпигоны.
• П
Кондорсе ничего не напечатал по вопросам чистой метафизики. Кто хочет узнать его мнение о научной постановке в XVIII веке этой области человеческого знания, тот найдет это в переписке Кондорсе с Вольтером. Говоря о «Системе природы» Гольбаха и возражениях
24 Мерсье де Ларивьер умер, правда, в 1793 или 1794 г., но с начала революции он не издавал более ничего, помимо политических памфлетов, отстаивая в них свой идеал просвещенной деспотии. Аббат Бодо скончался в 1792 г., но задолго до смерти он лишился рассудка и должен был прекратить всякую литературную деятельность. Что же касается до Летрона, автора трактата об общественном интересе, то он скончался еще в 1780 г.
на него царя философов, Кондорсэ пишет: «Метафизика останется темной областью еще на долгие времена, может быть навсегда» 25.
Сочинения современников, так или иначе затрагивающие метафизические темы, интересуют Кондорсе лишь настолько, насколько в них встречается протест против гасителей знания и преследователей свободы мысли. И для него, как для Вольтера, ценность новой философии сводится к пробуждению умов, к привитию людям привычки думать. Он готов подписаться под словами фернейского философа: «Чем больше люди будут думать, тем менее они сделаются несчастными»26. Если он расходится с Тюрго и Вольтером27 в оценке книги Гельвеция, если он отказывается видеть в ней одно извращение всеми признанных нравственных понятий и одну холодную декламацию, то только потому, что эта книга резко нападает на врагов знания. Он далек от мысли ставить Гельвеция в уровень с Локком или Монтескье28. Если, вопреки Тюрго, «Книга о разуме» кажется Кондорсе хорошею книгою, то прежде всего потому, что она «заключает в себе энергические нападки на нетерпимость» 29. Но он далек от мысли видеть в личном интересе единственный источник всех наших стремлений к справедливости и добродетели. «Я вошел в такую же ярость, как и вы,— пишет он Тюрго,— прочитав у Гельвеция, что дети ненавидят родителей и что мы любим только тех, кого презираем»30. Для Кондорсе источник справедливости и добродетели лежит в том горе, какое нашей чувствительности причиняют страдания ближних31. Таким образом, он оправдывает данное ему мадемуазель Леспинас прозвище «доброго», прозвище, оставленное за ним потомством. Кондорсе откровенно сознается в своих письмах в нерасположении к католическому духовенству, называя его членов «mangeurs d’homme» (людоедами) и ставя на вид то обстоятельство,
25 Собр. соч., т. I, с. 86.
26 Письмо Вольтера к Кондорсе, от 10 октября 1770 (Ibid., с. 2).
27 См. письмо Тюрго к Кондорсе, писанное в начале декабря 1773 года. Corresp. inedite, с. 142-147; см. также письмо Вольтера к Кондорсе, от 1 февр. 1772 г. (Oeuvres de Condorcet, т. I, с. 4).
28 Письмо к Тюрго, от 1 октября 1772 года. См. Correspondance inedited de Condorcet et Turgot, c. 99.
29 Ibid., письмо 4 декабря 1773 г., с. 141.
30 Ibid., письмо 13 дек. 1773 г., с. 149. »
31 Ibid., с. 148. 1
что никогда оно не «посылало в рай» короля, который не был бы гонителем и не позорил бы трона добродетелями капуцина32. Если для Кондорсе Вольтер не только знаменитый, но и дорогой учитель, то потому, что, по собственному сознанию, он связан с ним неразрывно любовью к истине и к человечеству, а также и в ненависти к их врагам33. «Если добродетель состоит в том, чтобы делать добро и любить человечество со страстью, то кто больше Вольтера заслуживает названия добродетельного? — говорит Кондорсе в одном из своих писем к Тюрго,— Желание добра и любовь к славе — единственные страсти, никогда его не покидавшие»34 35. Кондорсе не слеп к его недостаткам. Он готов согласиться, что ему иногда не хватает глубины, готов написать самому Вольтеру, что его отзывы о Монтескьё несправедливы и пристрастны, что автора «Духа законов» нельзя ставить рядом с каким-нибудь Шастелю (автором сочинения об общественном благополучии), и советует своему корреспонденту воздержаться от обнародования письма к Лагарпу, в котором имеется неуважительный отзыв о Монтескьё. «Я знаю, что он был неправ по отношению к вам, но ваше достоинство требует, чтобы вы забыли об этом или, по крайней мере, делали вид, что забыли» 35. «Вольтера,— пишет он, шутя, к Тюрго,— можно было бы признать бессмертным, если бы некоторая несправедливость его к Руссо не доказывала, что он человек»36. В «Биографии Вольтера» Кондорсе с особенной любовью останавливается на тех сторонах его деятельности, в которых он является апостолом человечности и врагом всякого угнетения и неправды. Поэмы «Естественный закон» и «Разрушение Лиссабона» дороги ему тем, что доказывают существование морали, независимой от верований,— морали, открываемой разумом всем людям, и санкция которой лежит в их сердце, сказываясь в угрызениях совести. Ему дорог также протест против холодного резонерства оптимистов, и он готов поэтому провозгласить «Кандида» самым замечательным из современных ему романов37. Но всего более хвалит Кондорсе Вольтера за такие его сочинения, как «Трактат о веротерпимости», повод к которому
32 Письмо к Вольтеру, от 10 апр. 1772 года и 16 мая 1773 г., т. I, с. 5 и 14.
33 Ibid., с. 16.
34 Corresp. inedite, с. 189, письмо начала августа 1774 г.
35 Письмо, от 20 июня 1777 г. Соч. т. I, с. 151-154. • ,;
36 Corresp. inedite, с. 20.
37 Oeuvres, т. IV; Vie de Voltaire, 1789, с. 89 и 91. i
дан казнью Каласса, или «Вопиющая кровь невинного», вызванное приговором парижского парламента над де-ла-Барром. «Общий интерес человечества, — пишет он, — эта главная забота всех добродетельных сердец,— требует свободы мнений, свободы совести, свободы культа прежде всего, потому что эта свобода одна может установить братство людей. Раз невозможно соединить их в общих верованиях, надо по крайней мере приучить их к тому, чтобы они смотрели на людей разных с ними мнений как на братьев. Одна свобода способна дать человеческому разуму всю необходимую ему энергию для познания истины. Но кто решится утверждать, что истина не составляет высшего блага человечества! Кондорсе доказывает также, что терпимость необходима для устойчивости правительства: она одна устраняет возможность внутренних беспорядков, отнимая у них всякий повод»38.
Забота о веротерпимости заставляет Кондорсе посвятить в 1781 году целый трактат анализу законов, регулировавших тогда во Франции гражданское положение протестантов. Людовик XVI решился смягчить их участь. Изложив действующее законодательство, Кондорсе прибавляет от себя: «Нужно ли доказывать его противоречие с справедливостью и гуманностью? Отвечает ли оно, по крайней мере, интересам религии и здравой политики? Интерес религии, очевидно, не лежит в том, чтобы все люди внешним образом исповедовали католицизм, но чтобы они разделяли его верования и применяли на практике его нравственное учение. Но что встречаем мы в действительности? Чем больше преследуют за веру, тем больше является людей без веры. Опыт вполне установил этот факт. Страны, где господствует инквизиция, полны атеистов. Наоборот, там, где существует терпимость, встречаешь только христиан. Говорят, протестанты — враги существующего политического порядка, так как они республиканцы, и республиканизм у них — последствие их религиозного учения. Придворные интриганы всегда готовы на такие наветы; ведь стоиков заподазривали в заговоре с Брутом и Кассием, потому только, что они заодно с ними верили в бессмертие души и связывали счастье с добродетелью. Не обвиняли ли также иезуиты янсенистов во вражде ко всякой власти на том лишь основании, что они вооружились против притязаний римского двора. Трудно, опираясь на факты, доказать республиканизм протестантов. Как найти его в Бранденбурге, Саксонии, Ганновере и Дании? — а ведь жители
38 Ibid., с. 287 и 258.
всех этих стран протестанты»39. Интересы свободы так дороги Кондорсе, что его отношения к людям и учреждениям определяются главным образом их приверженностью или враждебностью к ней. Он приветствует назначение Тюрго министром, потому что считает его способным принести себя в жертву свободе, истине и общему благу, соединяющим в себе смелость, самоотверженность, любовь к истине и ревность к ее распространению40. Даже в Руссо, который, по его мнению, всего меньше высказал новых истин, Кондорсе готов чествовать освободителя. «Если дети,— пишет он,— не носят больше корсетов, если их разум не напичкан разными прописями, если их молодые годы избегают рабства и тисков, то кому обязаны мы этим, как не Руссо?» 41 Кондорсе ненавидит католическое духовенство и парламенты только потому, что считает их врагами свободы. Никто из энциклопедистов не позволил себе такого резкого и откровенного тона с противниками просветительной философии, как автор «Писем богослова к редактору биографического лексикона трех последних столетий». При одной мысли, что эта анонимная брошюра может быть приписана ему, Вольтер приходит в ужас. Он ждет преследований для всех философов и, не зная настоящего автора, порицает его за ту неосмотрительность, с какою он готов навлечь беду на своих единомышленников. «К чему давать против себя оружие? — пишет он.— К чему самому поставлять те камни, которыми побиты будут философы?» 42 Только удостоверившись в авторстве своего корреспондента, Вольтер пишет ему: «Вы так же человечны, смелы, мудры, как и сам Тюрго»43. Защищая свой памфлет от упреков в несвоевременности, Кондорсе пишет Тюрго: «Я не могу согласиться, чтобы этих каналий (под ними разумеются клеветники на энциклопедию) можно оставлять долее без нападок. Они рассчитывают на поддержку, становятся наглее с каждым днем, интригуют в пользу возвращения иезуитов, оскорбляют публично в своих речах Вольтера. Пора осадить их, пора принизить их высокомерие, хотя бы для того, чтобы стало известно, что они далеко
39 См. Requeil de pieces stir l’etat des protestatits en France, 1781 г. Собр. сочинений, т. V, с. 436, 442 и 443.
40 Письмо к Вольтеру, от 22 июля 1774 г. Oeuvres, т. I, с. 36.
41 Lettres d’un theologien a 1’auteur du dictionnaire des trois siecles. 1774, t. 5, c. 306.
42 Письмо Вольтера к Кондорсе, от 20 авг. 1774 г. Oeuvres de Condorcet, т. I, с. 40-42.
43 Ibid., письмо от 23 ноября 1774 г.
не пользуются тем кредитом, каким готовы хвастаться» 44. В другом письме Кондорсе объясняет свое поведение, говоря: «Если нельзя открыто охотиться за дикими зверями, то нужно, по крайней мере, нашуметь настолько, чтобы помешать им броситься на стадо» 45.
Кондорсе вооружается на аббата Сабатье, автора инкриминированного им лексикона, отстаивая от него таких людей, как д’Аламбер, Вольтер, Руссо. «Будьте уверены,— пишет он, обращаясь к своему противнику,— что пока земной шар, ворочаясь вокруг своей оси, будет очерчивать круг по небу, всем будет известно имя д’Аламбера, впервые определившего проходимый им путь»46. Вольтеру никогда не забудут его мужественной и энергичной защиты Калассов и Сирвенов, его предстательства за крепостных, угнетаемых монахами Сен-Клода47. Если женщины дерзают в наши дни вскармливать сами своих младенцев, если они высказывают желание быть матерями и подчас даже женами своих мужей, честь этого принадлежит Руссо. Он пробудил в нашей молодежи энтузиазм к добродетели, столь необходимый, как противовес страстям. В этом лежит его право на человеческую признательность...»48
«В чем состоят преступления, приписываемые современным философам, на которых вы призываете месть королей и ненависть народов? Они разрушают, утверждаете вы, нравственность; — да, они нападают на ту, какой вы держитесь, ту, которая считает преступлением самое дорогое из всех благ жизни — любовь,— которая наказывает слабости сердца на ряду с самыми ужасными преступлениями, которая позволяет католическим священникам зарезывать противников их веры и запрещает им иметь законных супруг, которая вводит в рай убийц еретических королей, а в ад — читателей философского словаря Бэйля. Но нравственность, которая научает быть справедливым и человечным, которая приказывает сильному и могущественному видеть в слабом брата, а не простое орудие своего честолюбия; нравственность, основанная на естественном благорасположении к ближним, на прирожденном равенстве людей, никогда не встречала противников в рядах философов. Вы пишете на них донос государю уж не за то ли,
44 Письмо, от ноября 1774 г., Corresp. inedite, с. 204.
45 Письмо от конца июля 1774 г., с. 183 (Corresp. inedite).
46 Сочинения, т. V, с. 310.
47 Ibid., с. 310.
4s Ibid., с. 307. . . .
что философы имели решимость сказать, что правители держат свою власть от подданных и не должны ею пользоваться иначе, как к благу народа? Уж не потому ли, что они осмелились напомнить о естественных правах, которых не может лишить людей никакой общественный договор? Неужели те, кто ставит королям в обязанность быть справедливыми, могут считаться их врагами? Нет, истинные враги их те, кто действует против них обманом, подчиняет их игу предрассудков, внушает им кровожадные законы, кто не только не призывает их к исправлению причиненных ими зол, но еще приказывает им загладить свои грехи избиением врагов веры. Одинаково страшные как послушным, так сопротивляющимся королям, они то вызывают восстания граждан своими насилиями, то вооружают один народ на другой, то нанимают тайных убийц для изведения тех монархов, которым они обещали гнев небесный (намек на теории иезуита Марианы и на убийство Генриха IV Равальяком). Истинные враги королей — не философы, а патеры49. Не ждите больше пощады! — так заканчивает Кондорсе свою филиппику,— Страшный голос поднялся против вас, он раздается во всех концах Европы; она видит в вас только злых и заслуживающих посмеяния людей. Ваши негодующие крики не трогают никого. К ним относятся, как к реву тигра, у которого отнята его жертва» 50.
Одинаковое нерасположение высказывает Кондорсе и к парламентам той эпохи. «Признаюсь,— пишет он Тюрго, от 29 июля 1770 года,— что в моих глазах их преследование так же страшно, как и деспотизм министров. Последний опасен для людей с положением и властью, тогда как первое грозит в особенности частным лицам. Я не думаю, чтобы министр, не побуждаемый к тому личной ненавистью, решился произнесть приговор над Ла-Барром51. Порядок, каким правосудие отправляется в провинции, убеждает меня, что притязания парламентов, их предрассудки и предубеждения, весь образ их действий и те законы, которым они следуют, являются
49 Ibid., с. 333-335.
so Ibid., с. 337.
51 Ла-Барр присужден был парижским парламентом к потере правой руки, к проколу языка и т.д. за открытое чтение молитвы к Приапу и другие акты, признанные кощунством. Вольтер выступил в его защиту; но мысль потребовать пересмотра его процесса впервые внушена была Вольтеру Кондорсэ. См. письмо Вольтера к Кондорсе, от 23 ноября 1774 г. Oeuvres, т. I, стр. 43-47; в частности примечание к последним.
главной причиной бедствий Франции. Они — бич для наших сел, самый прочный оплот фанатизму и главное препятствие ко всякому добру, какое можно было бы сделать»52. Почти все письма к Тюрго и многие к Вольтеру содержат в себе нападки на парламент. «Пока парламент будет иметь в своих руках полицию книгопечатания и цензуру, он останется опасен. Отнимите их у него — сила останется за ним только в тех случаях, когда правда и разум будут на его стороне. Это заставило бы его или разделить мнение людей просвещенных, или хранить молчание. Необходимо искоренить в нем дух фанатизма и политического ханжества»53. Пусть дадут народу хлеба и даровых судей — и можно будет терпеливо ждать неминуемой гибели предрассудков и всего, что находит в них свою защиту,— читаем мы в другом, почти одновременном письме54.
Месяц спустя, Кондорсе спешит поделиться с Тюрго радостным слухом, что уголовная юстиция будет реформирована во Франции по английскому образцу55. Кондорсе не разделяет мнения тех, которые думают, что призванные заменить парламенты судьи (дело шло о введении подобия окружных судов, так называемых presidiaux) будут более подкупны, так как члены их менее зажиточны. Он считает такие опасения нелепыми и высказывает надежду, что новые суды не проникнутся тем духом нетерпимости, невежества, педантизма и варварства, которым отличался парижский парламент56. Он открыто высказывает свои симпатии суду присяжных, получая в ответ от Тюрго следующее признание: «Я предпочитаю их всем другим, но думаю, что они еще долгое время останутся для нас предметом одних теоретических рассуждений». Письмо написано в 1772 году, менее чем за 20 лет до учреждения во Франции суда присяжных57. Когда два года спустя восстановленные во власти парламенты снова высказывают свою вражду к энциклопедистам, приказывая сжечь трактат «О разуме» Гельвеция и сочинение барона Гольбаха «О здравом смысле», Кондорсе сравнивает их поведение с поведением императора Тиберия58. Он шлет своему другу целый
52 Письмо из Рибемон 29 дана 1770 г. Corresp. inedite, с. 16.
53 Письмо от конца августа 1770 г. Corresp. inedite, с. 17 и 18.
S'* От 23 дек. 1770. Ibid., с. 29.
55 Письмо от 22 января 1771 г. Ibid., с. 89. .
56 Ibid., письмо от 17 февр. 1771 г., с. 42.
57 Ibid., с. 80 и 81.
58 Письмо от 16 янв. 1774 г. Ibid., с. 162.
обвинительный акт против верховных судов. «Никакая законодательная реформа, — пишет он,— немыслима при их существовании, так как действующее законодательство им благоприятно и тягостно только для подсудимых. Чем свирепее будут кары и чем процесс будет окружен большей тайной, тем сильнее будет могущество парламентов. Как ждать также реформ в финансах и как могут эти реформы не сделаться разорительными для нации, когда придется жертвовать большими суммами, чтобы добиться, если не согласия на них парламентов, то одного их молчания?»59
Кондорсе не видит необходимости в восстановлении парламентов, не подвергнув их власть некоторым ограничениям, не защитив граждан от их угнетения и не исправив предварительно гражданских и уголовных кодексов, по которым они судят. Он не может простить парламентам их неуважения к общественному мнению, их защиту всех тиранических мер, связанных с протекционной системой; они остаются для него по-прежнему защитниками нетерпимости. «Ла-Барра они зарезали за неуважительную песенку, Морисо — за дурной отзыв о них самих, священника Лингэ — под предлогом, что он объявил Дамиена ансенистом, Лали — чтобы унизить в его лице военное дворянство. И все эти юридические убийства совершены были за каких-нибудь двадцать лет, и за все это время ни разу не явилось упрека совести, и они ни в чем не отступили от прежней наглости. По своим убеждениям они не пошли далее того, что думали неучи XIV столетия. Все, что не стоит в их старинных реестрах — “olim”, они считают несуществующим. Они презирают науку и философию, они противники всяких знаний, будут всегда преследовать их и сделают все от них зависящее, чтобы погрузить нас в прежнее варварство, которое в их протестах (remontrances) носит название простоты древних нравов»60. «Вы ничего не сделаете великого,— пишет Кондорсе Тюрго,— пока не отымете у парламентов всякую полицию»61,— пророческие слова, которым суждено было сбыться вскоре. Он не поддается тому увлечению, с каким некоторые общественные слои относятся к красноречию фрондирующих правительство парламентских ораторов. Знаменитый впоследствии д’Эпремениль для него не более как маленький американец, который, «не щадя негров своим хлыстом, постепенно накопил достаточно
5’ Октябрь и ноябрь 1774 г. Ibid., с. 201.
«> Ibid., с. 282.
61 Письмо от 1776 г. Ibid., с. 272.
сахару и индиго, чтобы купить должность советника в парламенте и приобресть возможность жечь книги» 62.
В 1775 году опасность быть сожженным представилась и для Кондорсе. Д’Эпремениль обратил внимание своих товарищей на появление брошюры «Об отмене барщины». Парламент решил запретить ее, «и послышались голоса,— пишет Кондорсе,— которые требовали предания ее пламени». Год спустя та же участь постигла сочинение Бонсерфа: «О неудобстве феодальных прав»,— «Сочинение самое мудрое и самое патриотическое из всех когда-либо мною читанных»,— замечает Вольтер, в письме от 6 марта 1776 года. Фернейский философ счел нужным написать к Бонсерфу сочувственное письмо, которое долгое время ходило по рукам и произвело в свое время не мало шуму63. Он справедливо видел в его преследовании косвенный удар Тюрго; «они желают его погибели»,— пишет он Кондорсе 6 марта 1776 года, и его опасения сбываются не далее, как месяц спустя. В ответ на представленные Тюрго эдикты парижский парламент отвечает демонстрациями в пользу натуральной дорожной повинности, сохранения цехов. «Тех самых цехов,— замечает Кондорсе,— против которых он сам вооружался в 1581 году». Этот факт дает повод корреспонденту Вольтера к сопоставлению современной ему французской магистратуры с прежней. Сопоставление это отнюдь не клонится к чести живущих. В XVI веке Моптэнь, Ла-Боэси, Губерт, Лангэ, Бодэн были членами парламента. В XVII — магистратура считала еще в своих рядах историка Де Ту, Френикля, Ферма и Ла-Мот-Ле-Вайё; в XVIII — одного Монтескье, да и тот покинул его, едва открыл в себе талант. Прежде лучшие умы составляли магистратуру, в настоящее время — самые подонки интеллигенция (la lie des esprits)64.
11 мая 1776 года Тюрго получает отставку. Кондорсе видит в этой победе парламентов общественное бедствие. «Она отымает у всех честных людей надежду и бодрость. Наглость парламентских деятелей дошла до того,— прибавляет автор письма,— что они домогаются запрещения писать против них; они надеются закрыть нам уста: наши жалобы нарушают их спокойствие. Вот до чего мы пали, дорогой и великий учитель, и с какой высоты!» 65
62 Письмо к Вольтеру от декабря 1775 г. Oeuvres, т. I, с. 88.
63 См. письмо Кондорсе, от 3 апр. 1776 г.
м Ibid., с. 112.
65 Письмо к Вольтеру от 1776 г. Ibid., с. 114.
Надо иметь в виду это отношение Кондорсе к парламентам, чтобы понять первоначальный характер его публицистической деятельности. Во время столкновения верховных судов с Бриенном и Калонном он стоит на стороне министерства, ставя ему в заслугу создание провинциальных собраний, освобождение государственных крестьян, смягчение участи протестантов.
и ' Ш
В первых политических памфлетах Кондорсе ничто не предвещает одного из творцов конституции 1793 года. Будущей сторонник всеобщего права голосования, подчиняя свои суждения авторитету физиократов, высказывается еще за ограничение права голоса на выборах. Им должны располагать только лица, собственность которых достигла известного минимума. Те, кто владеет земельными участками, ценность которых не достигает законного уровня, пользуются совместно столькими голосами, сколько раз общая ценность их имущества превышает легальный минимум. «Скажут, что передача выборов в руки одних собственников,— пишет Кондорсе,— противоречит общему праву людей и естественному равенству. Мне кажется возможным защищать ее следующими соображениями. Она на самом деле не создает никаких изъятий, так как человеку, не впавшему в крайнюю бедность, легко приобресть небольшое имущество и тем получить доступ к выборам. Дайте равный голос всем гражданам, бедным и богатым, и вы усилите тем влияние богатых, тогда как в собрании менее численном и составленном из одних собственников владельцы небольших участков в состоянии оказать противовес богачам». Наряду с этими мотивами, Кондорсе приводит один, целиком заимствованный им у физиократов: «Не-собственники заинтересс ваны в законодательстве наравне с собственниками. Но интерес последних больше, когда дело идет о гражданских законах (охраняющих их имущество) и о законах налоговых (непосредственно затрагивающих их доход); нет поэтому никакой опасности вверить им интересы всего (?) общества». По природе вещей не-собственники только потому и сидят на землях, что собственникам, сдающим им землю в аренду, угодно было допустить их юэтому66. Если они располагают другими правами, помимо права
66 Lettres d’un bourgeois de New-Haven a un citoyen de Virginie. 1787 r. Oeuvres, т. IX, c. 11-13.
на жизнь и на свободу, то только по наделению от собственников. Собственники могут поэтому, не нарушая справедливости, считать себя единственными гражданами государства. Кондорсе еще так далек от мысли, что политическое равенство непримиримо с цензом, что вслед за сказанным заявляет: «Я могу помириться только с конституцией, основанной на признании естественных прав человека и в том числе на равенстве»67. Это равенство требует, по его мнению, того, чтобы женщины пользовались теми же правами, что и мужчины. Он уже в 1789 году высказывает те мысли, которые более подробно развиты им впоследствии в трактате о допущении женщин к отправлению прав граждан. Так как в этом последнем его взгляды изложены более систематично, то мы и остановимся на нем по преимуществу.
Трудно доказать, думает Кондорсе, что женщины неспособны к пользованию политическими правами. Почему беременность может помешать им больше в этом отношения, чем мужчинам подагра или подверженность простуде? Если допустить даже, что умственные преимущества мужчин не зависят исключительно от большого образования,— а это далеко не доказано,— то все же необходимо признать, что эти преимущества проявляются только в двояком направлении. Женщины не заявили себя пока серьезными открытии в науках, не обнаружили гения в искусствах и литературе. Но кто же решится утверждать, что политические права должны принадлежать только людям гениальным! Говорят также, что женщины не имеют тех сведений и той силы рассудка, какой пользуются некоторые мужчины. Но если отнять этих немногих, то как не сказать, что между остальными мужчинами и женщинами незаметно в этом отношении большой разницы. Можно ли утверждать, что женский ум и женское сердце представляют известные особенности, которые стоят на пути к пользованию политическими правами? Но разве Елизавета английская, Мария-Терезия, Екатерина I и Екатерина II не доказали, что сила духа и неустрашимость ума вполне свойственны женщинам? Нашлись люди, решившиеся доказывать, что разум никогда не руководит поступками женщины. В этом заявлении справедливо только одно: женщины следуют велениям не мужского, а своего собственного разума. Так как законы, которым они подчиняются, отличны от тех, каким следуют мужчины, то многое, что для нас имеет особую цену, не имеет ее для них. Их интересы отличны от наших; а если так, то, не нарушая требований разума,
67 Ibid, с. 14.
они могут руководиться в своих поступках другими принципами и преследовать отличные от нас цели. Сказано было еще о женщинах, что им чуждо понятие справедливости, что они следуют скорее указаниям чувства, нежели совести. Это наблюдение более верно, но и оно ничего не доказывает. Указанное различие создано не природой, а воспитанием и теми общественными условиями, в какие поставлены женщины. Ни школа, ни среда, не научили женщин тому, что надо считать справедливым, а только тому, что надо считать приличным. Но, скажут нам, допущение женщин к пользованию политическими правами имеет то неудобство, что чрезмерно усилит их политическое влияние на мужчин. Мы ответим, что это влияние, как и всякое другое, более опасно, когда проявляется в тиши. Не доказывает ли также опыт прошлого, что чем ниже падало положение женщин благодаря законам, тем сильнее становилась опасность их влияния на мужчин. Не более веско и следующее возражение: общая польза пострадает от наделения женщин политическими правами, так как устранит их от тех занятий, для которых они созданы природой. Какова бы ни была конституция в существующих условиях гражданственности, только весьма небольшое число людей может посвятить себя государственным заботам; а если так, то почему думать, что уравнение женщин с мужчинами отымет женщин в большем числе от домашнего хозяйства, чем земледельцев от плуга и ремесленников от мастерской? Кондорсе обращает внимание на то противоречие, в какое законодатель впадает сам с собою, допуская женщин к престолу и устраняя от занятия всякой другой публичной должности. Он просит, чтобы на его доводы не отвечали одними шутками и декламацией; он готов сдаться только тогда, когда ему будет доказано, что между мужчинами и женщинами существует природное различие, на котором можно основать невыгодное для них изъятие68.
Наряду с защитой политического равноправия женщин с мужчинами, мы находим в политических памфлетах Кондорсе едва ли не первую попытку примирить идею народной автократии с системою представительства. Известно, что Руссо отвергал возможность такого примирения и потому являлся противником парламентаризма. Политическая свобода в его глазах могла мириться только с прямым народоправством. Оно возможно в государствах с ограниченной территорией и немыслимо в больших. Только федерация дозволяет
68 Sur 1’admissiou des femmes au droit de cite. Oeuvres. T. X, c. 121-130.
соединить преимущества чистой демократии и политического единства на большом протяжении. Руссо собирался посвятить развитию этой мысли целый трактат. Первые наброски его сохранились в бумагах известного д’Антрега, сперва депутата в Генеральных штатах и учредительном собрании, затем эмигранта и дипломатического агента Людовика XVIII. Рукопись, по собственному сознанию д’Антрега, была уничтожена им из опасения тех ложных толкований, каким мысли Руссо могли подвергнуться среди всеобщего возбуждения и революционной ярости. Для нас осталась, таким образом, неизвестной последняя мысль автора «Общественного договора» по вопросу о примирении свободы древних демократий с требованиями национального единства, предъявленными государством нового времени. Ученик Руссо, Мабли, не последовал за ним в отрицании пользы представительства. Он, напротив того, объявляет себя его сторонником, и то же в равной степени может быть сказано о Сиэйсе, Мирабо, Черутти и Рабо-Сент-Этьенне. Ни один из только что названных писателей не поднимал, однако, вопроса о возможности примирить выгоды представительства с прямым участием народа в законодательстве. Кондорсе впервые задается этой мыслью. В «Письмах ньюгэвенского буржуа к гражданину Виргинии» он предлагает сложную систему вмешательства избирательных собраний в законодательную деятельность. Трети голосов в трети избирательных собраний достаточно для того, чтобы добиться внесения тех или других добавочных статей в тот основной закон, в ту декларацию прав, которая, по мысли автора, должна включить в себя порядок составления законодательного корпуса и границы предоставленной ему власти. Изменение во всех прочих законах требует уже согласия большинства избирательных дистриктов. Законы приводились бы в действие тотчас по их издании; но их можно было бы изменить с помощью такого народного referendum’a. Этот термин еще не встречается у Кондорсе, но все, что он говорит о порядке народного контроля за законами, вызывает в уме представление именно о таком referendum’e. Избирательным собранием ставится вопрос, желают ли они утвердить своим согласием ту или другую статью нового закона. Они не вправе потребовать изменений в нем и должны ограничиться одним утверждением или отрицанием. Только при их согласии декреты собрания получали бы силу закона69. То же желание предохранить и на будущее время сво
69 Lettres d’un bourgeois de New-Haven, c. 30 и 31, 41 и 42.
боду народного самоопределения заставляет Кондорсе высказаться против неизменности конституционных законов и требовать их пересмотра специально созванным для того представительством. Он боится деспотизма собрания в такой же мере, как и деспотизма министров, и не желает, чтобы оно могло связать свободу грядущих поколений, свободу устроиться так, как они вздумают. Его не пугает то обстоятельство, что задуманные им реформы не освящены опытом и не находят себе примера в Англии. Он разделяет мнение тех, которые думают, что только отсутствие цензуры и право ассоциации, habeas corpus, суд присяжных, гласность и публичность — одни содействовали сохранению свободы англичан, вопреки недостаткам их конституции, в числе которых одним из главных можно считать косность 70.
Как мало понимал Кондорсе механизм английского парламентаризма, видно из того, что он говорит о вреде политических партий. Периодическая смена вигов и ториев в управлении страною кажется ему опасной для свободы и благоприятной развитию политических софизмов и политического подкупа. Он не хочет понять того, что одно распадение представительства на две партии, одинаково готовые взять в свои руки заведыванье судьбами нации, делает возможным мирное течение политической жизни. С перемещением голосов в парламенте соответственно изменениям в общественном мнении, изменяется в Англии и правительство. Это происходит без потрясений, без заговоров и революций. Голос нации или, вернее, ее большинства играет при этом решающую роль, и народная автократия является таким образом не пустым звуком, а действительностью. Взгляды Кондорсе и в данном вопросе составились под влиянием физиократических учений. Его, как и физиократов, пугал прежде всего корпоративный дух. С большим или меньшим основанием он видел в вигах и ториях наследственных защитников неизменных политических программ. Этого было достаточно, чтобы осудить их, признать их противниками свободы, такими же противниками, какими в глазах физиократов благодаря своему корпоративному духу, являлись католическое духовенство и магистратура. Эта враждебность к корпорациям, подсказанная Кондорсе ненавистью к нетерпимости и консерватизму верховных судов, сказалась наглядно, в 1787 году, при столкновение короля и министров с парламентами. Общественное мнение, видимо, клонилось в пользу
л> Ibid., с. 75 и 76.
последних. Парламенты настаивали на свободе своих регистраций и протестов, отказывали в повиновении законам, не внесенным ими в реестры, и, ввиду отсутствия Генеральных штатов, провозглашали себя единственными тормозами самовластия. Кондорсе отнесся враждебно к таким притязаниям. Под псевдонимом «Американского гражданина», он в открытом письме к французам представляет целый обвинительный акт против парламентов. Для него ясно, что парламенты грозят установить во Франции аристократическую тиранию. С этою целью они желали бы присоединить к неограниченной судебной власти и veto в законодательных вопросах. Такое соединение властей прямо грозит свободе, тем более что парламенты не считают себя строго связанными буквой закона и не желают признать ни за кем права кассации своих решений. «Прибавьте к этому захват ими верховной полиции королевства (и в частности, книжной цензуры), прибавьте пополнение их личного состава не в силу королевского назначения или народного выбора, а путем своего рода кооптации, принимающей форму покупки должности и делающей возможным переход ее от отца к сыну,— и вы поймете, что нашей главной задачей должна быть борьба с парламентской аристократией,— Я ненавижу деспотизм,— пишет Кондорсе,— но я еще более ненавижу аристократию, т. е. деспотизм не одного, а нескольких. Моя ненависть возрастает по мере того, как деспотизм этот становится анархическим; а таким только и может быть союз духовенства дворянства и тридцати верховных судов, рассеянных по провинциям»71.
Кондорсе посвящает целый трактат выяснению той мысли, что деспотизм не связан необходимо с единовластием. Он может быть, по его мнению, двоякого рода — прямым и косвенным. Прямой существует там, где представители нации не пользуются правом veto и не могут поэтому повлиять на изменение законов, не согласных с разумом и справедливостью; косвенный — всюду, где, вопреки воли закона, имеется подчинение какому-нибудь авторитету, что бывает всего легче, когда представительство распределено неравномерно. Примером последнего Кондорсе приводит Англию, в которой, говорит он, палата общин, благодаря только что указанной причине, не является действительным представителем нации, а аристократическим телом, решения которого диктуются сорока
71 Lettres d’un citoyen des Etats-Unis a un fraucais sur lea affaires presentes. Oeuvres.
T. IX, c. 98.
или пятью-десятью лицами — министрами, пэрами и некоторыми влиятельными членами палаты общин.
Это утверждение далеко не в такой мере противоречит истине, как может показаться с первого взгляда. Кондорсе имеет перед глазами не английский парламент, реформированный тремя последовательными избирательными законами 1832,1863 и 1884 годов, а английский парламент, каким он вышел из рук Вальполя, практиковавшего в широкой степени фаворитизм и систему официальных кандидатур. Он помнит обвинения Болингброка, помнит, как, благодаря правительственному давлению и наделению избирательным правом «гнилых местечек», небольшая кучка аристократов и людей на жалованье замещала скамьи парламента своими креатурами, тщательно устраняя возможность всякого независимого мнения, всякого неподдельного выражения народных нужд и желаний. Английские друзья — Прайс, Пристлэ, Стенгоп, не могли не познакомить его со всеми несовершенствами избирательных законов, над реформою которых задумывался в конце века не один Фокс и его политические союзники, но и тории с Питтом (младшим) во главе.
Больше физиократического доктринерства заключают в себе нападки Кондорсе на английскую систему разделения властей. Для него она равносильна анархии и инерции.
Вечная вражда и бессилие одинаково в добре и зле — ее необходимые последствия. Кондорсе предлагает меры для борьбы с обоими видами деспотизма. Прямой деспотизм сделается невозможным тогда, когда ни один закон не будет издаваться без согласия народных представителей, и ни один налог не будет установлен без того же согласия. Но что это, спросим мы, как не исконные английские вольности? Кондорсе указывает причины, порождающие косвенный деспотизм правительства, законодательных и судебных палат. Когда представительство распределено неравномерно, деспотизм собрания становится неизбежным. Только реформой в избирательном законе можно положить конец такому деспотизму, а чтобы открыть путь к подобным реформам, необходимо допустить периодический пересмотр конституции. Лучшим средством избежать деспотизма правительства являются меры, обеспечивающие свободу представителей вотировать налог, собираться и расходиться по собственному выбору. Чтобы положить конец деспотизму сословий, необходимо устранить всякие различия, всякие привилегии, налоговые, служебные, законодательные. Необходимо установить свободу культа и свободу печати. Деспотизм судебных палат — самый ненавистный из всех
видов деспотизма, так как он пользуется законом, как орудием. Всюду, где судьи являются постоянными и не подлежат народному выбору, где гражданская юстиция не отделена от уголовной, нет настоящей свободы. Соглашение судов с главою армий (королем) достаточно для установления деспотизма. Последний еще более неизбежен в том случае, когда суды имеют участие в законодательстве и образуют из себя корпорацию, так как в этом случае они достаточно сильны, чтобы внушить главе армии (королю) готовность ладить с ними. Кондорсе как нельзя лучше выражает предубеждение своих современников против независимой магистратуры и построенный ими идеал избираемых на срок судей, лишенных права распространительного толкования законов. Ему совершенно недоступно понимание той истины, что борьба интересов и торжество той или другой партии на выборах может придать народной магистратуре тот пристрастный характер, какого не имеют пожизненные органы правосудия, не запугиваемые возможностью будущей забаллотиров-ки. Заодно с современниками он видит только противоположение корпоративного духа общему духу нации. Для него, как и для Сиэйса, виновником всех зол является I’interet particulier des corps. В заслугу Кондорсе надо поставить то предвидение, с каким, в самый год созыва Генеральных штатов, он предсказал возможность и новой формы деспотизма,— деспотизма толпы. Деспотизм этот, по его словам, особенно опасен в государстве с многолюдной столицей и большими торговыми центрами. Предупредить его можно, противясь искусственному скоплению черни в городах, благодаря приуроченью к ним одним права занятия ремеслами. Свобода промышленности и торговли может оказать эту услугу.
Кондорсе настаивает на необходимости отличать деспотизм от тирании. Последняя состоит в нарушении прав человека положительным законом. Чтобы предупредить ее, необходимо издать декларации прав, тех прав человека, против которых законодательная власть ничего не может предпринять. Таким образом, Кондорсе в числе первых подает голос в пользу ограничения самой верховной власти нации и ее выразителя — народного представительства. Английская теория всемогущества парламента не удовлетворяет его. Он предпочитает ей американскую практику. В тесном общении с Джефферсоном, исполнявшим в это время должность посланника от Соединенных Штатов, он проникся американскими идеями политической свободы. И для него, как и для составителя виргинской декларации прав (Джефферсона), над положительными законами стоят естественные
права. Они существовали до них и не могут быть отменены ими. Эти права — свобода личности и ее безопасность; свобода собственности и ее безопасность; наконец, равенство, не в смысле одинаковости материальных условий, а в смысле отмены всяких различий пред законом. Самое это уравнение не требует отмены избирательного ценза. В полном соответствии со сказанным им прежде, Кондорсе еще в 1789 году решается утверждать, что равенство не нарушено в том случае, когда собственники одни пользуются политическими правами, так как они одни владеют территорией72.
В то время как большинство его современников ждет для Франции обновления от созванных по инициативе парижского парламента Генеральных штатов, Кондорсе относится к ним с некоторым опасением. Правильное представительство нации могло возникнуть естественным путем из объединения тех провинциальных собраний, план которых задуман еще Тюрго. В этих собраниях основой представительства должна была служить уже не сословность, а землевладение. К чему же оживлять снова устаревшие привилегии, прибегать к созыву сословных камер! Не лучше ли было бы поручить провинциальным собраниям назначение депутатов в национальное. Парламент потребовал Генеральных штатов потому, что надеется с их помощью отстоять налоговые изъятия дворянства. Он боялся также того, чтобы поистине национальное собрание не приняло мер против дальнейшего существования постоянных верховных палат73. Но раз Генеральные штаты созваны, необходимо, по крайней мере, направить их деятельность в желательную сторону, изложивши в особой декларации права, обязательные для них самих. Вернейшим средством достигнут наилучшей редакции Кондорсе считает частную инициативу. Сам он дает пример другим, издавая в форме брошюры мотивированный текст такой декларации. В массе статей, изложенных в его проекте, некоторые заслуживают быть отмеченными, по той связи, в какой они стоят с физиократическими доктринами. Законодательная власть не вправе установить налога, который бы не был пропорционален чистому доходу; или еще — граждане вправе устраивать ассоциации, но под условием признания их законодательной властью74. Это недоверие к ассоциациям
72 Idee sur le despotisme, с. 167. (Oeuvres, т. IX).
73 Sentiments d’un republicain sur les assembles provinciales et les ctats generaux. Oeuvres, т. IX, c. 127-131.
74 Cm. Declaration des droits. 1789. Oeuvres, т. IX, c. 199 и 208.
и к проводимому ими частному интересу, всегда якобы враждебному общему, составляет столь же характерную черту физиократической доктрины, как и предлагаемый ею единый земельный налог. Но оно оказало еще большее влияние на законодательство конституанты, упразднившее цехи и запретившее рабочие сообщества.
IV - Г.»’ .
Мы видели пока в Кондорсе экономиста и политического писателя. Нам необходимо познакомиться с ним, как с человеком, узнать различные стороны этого характера, понять причины, побуждавшие ученого математика выйти из сферы своей специальности и с жаром посвятить себя обсуждению текущих вопросов. Две женщины, одинаково близко знавшие Кондорсе, оставили нечто вроде его нравственного портрета: жена его друга академика Сюара и знаменитая девица Леспинас, та самая, которую госпожа Дюдефан прозвала музой энциклопедии — так тесна была ее близость к выдающимся философам века. Обе свидетельницы сходятся в признании, что господствующей чертою характера Кондорсе была доброта. «Те, кто встречал его мельком, скорее скажут о нем: — вот добряк! — нежели вот это умный человек! — пишет мадемуазель Леспинас,— И говоря это, они сказали бы большую глупость. Кондорсе добр, добр по преимуществу, но далеко не так, как бывают добры добряки. Добряк обыкновенно человек слабый и умственно ограниченный. Его доброта состоит только в том, чтобы не делать зла. Но характер Кондорсе далеко не заключает в себе таких пассивных качеств. Он получил от природы великий ум, великий талант, великую душу. Один талант сделал бы его известным, но его прекрасная душа завоевала ему личных друзей во всех тех, кто знал его близко...» 75 «Прелесть, какую я находила в его обществе, — пишет в свою очередь госпожа Сюар,— обусловливалась не изумительным разнообразием его идей, обнимавших одновременно и физические, и нравственные законы, все, что волнует разум и воображение... Нет, прелесть эта лежала прежде всего в его доброте, в доброте постоянной и неиссякаемой... Всегда забывая о себе для других, он, по-видимому, даже не замечает приносимых им жертв; его снисходительность ободряет каждого; охотно сознаешься ему в своих слабостях, и он жалеет вас, словно
75 Oeuvres, т. I, с. 626 и след.
готов разделить их. Его простота обращения удаляет всякую мысль о том, что вы находитесь в обществе одного из самых широких умов века. Не покидая никогда той высоты, на которой сам он находится, Кондорсе готов снизойти до интересов, волнующих заурядные умы. Спокойствие, с каким он обсуждает все, что его касается лично, стоит в поразительном контрасте с тою живостью, с какою он относится к несчастиям своих друзей, и готовностью поспешить им на помощь. Он хладнокровно переносит несправедливость, раз она касается его самого. Наоборот, малейшая обида его близким вызывает в нем энергический отпор»76. Сам ядовитый Гримм, которому Руссо так охотно приписывал разрыв свой с энциклопедистами и чьи сарказмы преследовали его до могилы, не находит для Кондорсе ничего, кроме похвал. «Это сильный ум,— пишет он,— склонный к философии; доброта блещет в его глазах, и вся наружность говорит о прекраснейших и самых мирных душевных качествах. Все друзья в одно слово величают его “добрым Кондорсе”»77.
Эта высокая человечность, эта сердечная сострадательность к чужим бедствиям и готовность прийти им на помощь в связи с верою в человеческий прогресс и в то ускоряющее влияние, какое окажет по отношению к нему революция, достаточно объясняют причину, помешавшую Кондорсе удовольствоваться одной карьерой ученого математика и постоянного секретаря академии. Еще в 1772 году он чувствует призыв к практической деятельности. «Вы счастливый человек,— пишет он Тюрго,— так как имеете возможность удовлетворить вашей страсти к общему благу. Такое удовлетворение я ставлю выше того, какое доставляют одни научные занятия»78. Тюрго приходится разуверять его, говоря: «Я уверен, что одним служением науке можно принести людям больше пользы, чем занимая те второстепенные посты, на которых мы тщетно стараемся сделать добро и всего чаще становимся, нехотя, орудием несравненно большего зла»79. Но Кондорсе не хочет согласиться с этим, и во всей его переписке с знаменитым интендантом Лиможа и будущим великим министром вопросы экономической и политической реформы занимают такое же место, как и вопросы чисто научные и философские. Если подчас Кондорсе пускается в длинные рассуждения о Гельвецие, если в другой раз он
76 Robinnet, с. 56. ’ '
77 Correspondence litteraire, etc. Т. X, с. 197.
7« Ibid., с. 222.
79 Письмо к Тюрго от 14 июня 1772 г. Oeuvres, т. I, с. 201.
рекомендует Тюрго, уже сделавшемуся в это время министром морским, перевод сочинений Эйлера «О канализации», если в переписке друзей часто встречаются математические выкладки, то еще чаще в них идет речь о реформе обложения, об отмене суровых законов против протестантов, об отнятии книжной цензуры у парламентов, об упразднении барщины, о закрытии цехов, о свободе внутренней торговли и т.п. Сознавая вполне ту истину, что политические программы, в противоположность научным убеждениям, расширяются вместе с обстоятельствами, что одно самодовольное доктринерство позволяет человеку застыть в однажды установленных им рамках,— Кондорсе постепенно вводит в свое profession de foi, в свою, выражаясь по-американски, «политическую платформу», все новые и новые вопросы. В середине восьмидесятых годов он думает только о том, чтобы «сделать невозможным на будущее время фанатизм, установить равновесие между наказаниями и преступлениями, отменить пытки и варварские кары, оскорбляющие нравственное чувство, наконец, создать трибунал, в котором возможно было бы обжаловать действия не только чиновников, но и судей»80. Вскоре экономические реформы Тюрго и защита его сокровенных взглядов об отмене крепостного права поглощают все внимание Кондорсе. Тюрго падает, унося с собою неосуществившиеся надежды философа-реформатора. Кондорсе думает, и не без основания, что надо сломить прежде всего те преграды, которые помешали осуществлению реформ Тюрго. Он ведет борьбу с парламентами, и когда министерство Неккера, а затем Кагонна и Бриенна, снова ставит на очередь вопрос о провинциальных собраниях и реформе налогов, он, несмотря на личные антипатии, становится на сторону министерства, так как видит в его программе, правда, неполное и несколько искаженное воспроизведение реформ своего великого друга и учителя.
В1787 и 1788 годах, в эпоху издания им обширного мемуара о провинциальных штатах и разобранных нами выше статей и памфлетов, Кондорсе является монархистом; он разделяет общую, впрочем, уверенность современников, что Людовик XVI серьезно желает блага родине и готов сделать нужные для того пожертвования. Что бы ни говорили о республиканизме Кондорсе в это время, его личных заявлений достаточно, чтобы допустить противное. Он выступает монархистом во всех своих памфлетах, даже в том, который носит название: «Мысли республиканца о провинциальных и генеральных штатах»; именно
80 См. письмо к Тюрго, от 20 июля 1774 г. Corresp. inedite, с. 184.
здесь встречаем мы следующие похвалы по адресу короля и министров: «мудрости правительства, его желанию положиться на голос провинциальных собраний и прекратить протесты парламентов в пользу престарелых обычаев, обязана будет нация восстановлением своих вольностей»81. Много лет спустя, вспоминая о своем прошлом в той личной апологии, какая написана была им почти на краю могилы, сам Кондорсе говорит: «Пока измена Людовика XVI не сделалась осязательной, я не считал возможным установление республики»82.
С момента созыва Генеральных штатов политическая программа Кондорсе быстро расширяется. Джефферсон, видевший его часто в это время, сообщает в своей переписке с американскими друзьями, что обнародование особой декларации, в которой выражены были бы неотъемлемые права личности, составляет для близкого к нему кружка,— а в нем Кондорсе играл выдающуюся роль,— первую задачу собрания83. В позднейшие годы, говоря об этом периоде своей деятельности, Кондорсе следующим образом определял свою политическую программу. «Я думал, что конституция, согласно которой законы, изданные небольшим числом представителей, поступали бы затем на утверждение граждан, и исполнительная власть имела бы возможно ограниченные функции, по преимуществу экономического характера, была высшей целью, к которой должны быть направлены все политические реформы. Но это было только высшею целью. Я думал в то же время, что надежнейшее и скорейшее средство к ее достижению не обгонять общественного мнения на большое расстояние, не задевать его открыто, не делать ему ненавистными те учреждения, пользу которых оно само узнало бы со временем по мере своего роста. В начале революции абсолютное равенство граждан, единство законодательного органа, передача конституции на утверждение первичным собраниям и периодический пересмотр ее особым для этой цели собираемым конвентом, наконец возможность требовать его созыва раньше положенного срока — казались мне теми основами, на которых должно опираться новое устройство общества»84. Мы видели, что
81 Oeuvres, т. IX., с. 137.
82 См. Fragment, найденный госпожою Верне и составляющий часть личной апологии; в отличие от других частей это написано в 1794 г.
83 См. переписку Джефферсона с Гаррисоном, Мадисоном, Пэном, Вашингтоном и другими за 1789 г., во II т. полного собрания его сочинений.
84 Fragment de justification (juillet 1793). Oeuvres, т. I, c. 675.
в это время Кондорсе еще стоял за ограничение политических прав одними собственниками и решительно высказывался против всякой идеи прогрессивного налога. В 1790 году он уже восстает против ценза для кандидатов на депутатство, но ничего не имеет против «небольшой и легкой таксы» на всех тех, кто пожелает отправлять обязанности активного гражданства. В этом смысле составлен им адрес от имени парижской коммуны, от 20 апреля 1790 года, адрес, напечатанный впоследствии в журнале клуба 1789 года85. Таким образом в агитации, повод к которой подал декрет собрания «о марке серебром» прямого обложения, платимой лицами, из среды которых могут быть выбраны депутаты, он стоит в одном ряду с Робеспьером. Год спустя Кондорсе счел возможным еще более расширить основы представительства, и при обсуждении закона 10 августа 1791 года, разрывая открыто с идеями физиократии, он уже настаивает на предоставлении избирательного права всем тем, кто имеет постоянную оседлость, все равно, будут ли ими собственники или съемщики86. В представленном им в 1793 году проекте конституции признается уже всеобщее право голосования.
Но если Кондорсе считал возможным дать в республике более широкое участие народу в выборах, то с другой стороны — он не допускал компромисса по такому коренному для физиократии пункту, как возможность или невозможность подвергнуть имущества граждан прогрессивному налогу. В 1793 году он высказывает на этот счет мысли, однохарактерные с теми, каких он держался в первые годы своей публицистической деятельности. Установление прогрессивного налога в его глазах имело бы последствием укрывательство капиталов, что в свою очередь повело бы к сокращению производства и заработков. «Предоставим,— пишет он,— полную свободу для богатых расточать свои сокровища и проявлять свою роскошь; иначе мы отнимем у бедняка единственное его сокровище — труд в привычном ему производстве»87. Это сопоставление, с одной стороны, изменчивости, с другой — неизменчивости Кондорсе по основным государственным вопросам, доказывает и отсутствие в нем всякого доктринерства, и нежелание приспособляться к обстоятельствам. Кондорсе остался верен своему прошлому, поддерживая и в эпоху своего близкого общения с Жирондою идею политической
85 Oeuvres, т. X, с. 79 и след.
86 Fragment de justification. Oeuvres, т. I, с. 576.
87 Sur 1’impot progressif (1 juin 1793) (Journal d’Instruction sociale).
централизации и естественное главенство, какое столь численный город, как Париж, являющейся в то же время умственной столицею мира, должен иметь в делах Франции88. Независимость его отдуха партий и личных пристрастий как нельзя лучше сказалась в его отношениях к Лафайету и в тех отзывах, которые он дает о Дантоне в своей «личной апологии». «Я не мог,— пишет он о первом,— не идти заодно с человеком, который задолго до революции озабочен был свободою и выбором средств для ее упрочения во Франции. Мне вверял он свои проекты, я знал, какой славы он добивается и в чем лежит его честолюбие. Мне невозможно было поэтому жертвовать близостью к нему людям, которые, в то время как он стремился к свободе, довольствовались одним вымаливаньем мест у правительства» (намек на Мирабо)89. Но дружба к одному из ближайших виновников революции не помешала Кондорсе разорвать с ним всякие сношения с того момента, когда Лафайет, по его словам, сделался игрушкою в руках интриганов. Этим моментом была кровавая расправа его с петиционерами Марсова поля, желавшими низложения задержанного на пути в Варенн Людовика XVI. По этому случаю Кондорсе обратился к Лафайету со следующим письмом: «Двенадцать лет вас все считали защитником свободы; если вы не перемените своего поведения, вас вскоре признают одним из ее гонителей». Всякие сношения прекратились с этого момента между бывшими друзьями90. Столь же характерно для Кондорсе его отношение к Дантону. «Меня,— пишет он в 1793 году в своей личной апологии,— обвиняли в том, что я содействовал назначению Дантона министром юстиции. Вот что побудило меня к этому, в министерстве необходим был человек, который располагал бы народным доверием, и по своему превосходству мог бы сдержать те презренные орудия, каких не могла избежать революция 10 августа; надо было выбрать для этого человека, который бы, благодаря своему ораторскому дарованию, своему уму, своему характеру, не унизил бы ни министерства, ни собрания. Дантон один имел все эти качества: я выбрал его и не жалею об этом. Быть может, он слишком утрировал принципы народной конституции; быть может, он слишком подчинялся народным воззрениям и чересчур руководствовался в своих мероприятиях поведением
-
88 См. его статью о мнимом противоречии интересов Парижа с интересами департаментов. ,• ,,
89 Письмо к неизвестному от 1790 г. Oeuvres, т. I, с. 329.
90 Fragment de justification. Oeuvres, т. I, с. 584.
толпы, но только действуя заодно с народом и через посредство народа, направляя его в то же время, можно в эпоху революции сохранить повиновение законам. Всякие политические партии, которые отделятся от народа, неизбежно приготовят погибель, и не только себе, но подчас и ему. Дантон имеет еще одно ценное качество, свойственное только людям необыкновенным: он не питает ненависти и страха к знаниям, талантам и добродетелям»91.
Беспристрастие, с каким Кондорсе относится к людям и событиям, в значительной степени находит объяснение себе в том, что лично он не преследовал никаких честолюбивых замыслов. Когда в 1774 году Тюрго вздумал было назначить его инспектором чекана и присвоить ему значительный оклад, он поспешил отказаться от того и другого в пользу Форбоннэ, человека, экономические теории которого отнюдь не встречали его сочувствия92. Даром исполнял он заодно с д’Аламбером обязанности ученого консультанта при морском министерстве, пока во главе его оставался Тюрго. С переходом же последнего на пост министра финансов, он удовольствовался скромной должностью председателя комитета по уравнению мер и весов. Результатом его работ была принятая учредительным собранием десятичная система, которую сам Кондорсе старался пропагандировать затем в других государствах Европы, обращаясь с этой целью письменно, между прочим, к польскому королю Станиславу-Августу 93. Во все время продолжения учредительного собрания Кондорсе довольствуется постом сперва члена муниципального совета столицы, а затем, по выходе Неккера в отставку, одним из назначаемых собранием казначеев. Выбранный депутатом в законодательный корпус, Кондорсе тотчас же слагает с себя прежние полномочия, и с этого времени обязанности депутата до самой смерти остаются единственным предметом его честолюбия. Как оратор, он не имел, однако, большого успеха: ему недоставало голоса, дикции, жестов. Это обстоятельство заставило его довольно редко всходить на трибуну94,
’1 Ibid., с. 603. '
92 Corresp. inedite. Письмо к Тюрго от 1774 г., с. 199.
93 Письмо от 17 апр. 1791 г. Oeuvres, т. I, с. 330.
94 В том портрете, какой Кондорсе пишет с самого себя, прикрываясь именем Филодема, друга народа, изображен человек, который, редко всходя на трибуну, говорит только то, что сам считает правдою, пренебрегая всяким внешним успехом (Le veritable et le faux ami du peuple. Oeuvres, т. I, c. 529).
ограничиться ролью газетчика и политического памфлетиста. Для этого он имел все нужные качества. Еще Вольтер хвалил необыкновенную ясность его слова, ставя его в этом отношении рядом с д’Аламбером95. Не разделяя предрассудка людей науки против популяризации, Кондорсе охотно принимал название памфлетиста, замечая, что памфлетистом, очевидно, можно считать только человека, которому пришлось не раз задумываться над законами своей родины и знакомить затем своих сограждан с результатами собственных размышлений. Цицерон, Локк, Юм, Монтескье были такими памфлетистами. Термин этот только входил в употребление и впервые применен был в уничижительном смысле некоторыми роялистами в 1790 году96.
Как журналиста, Кондорсе сотрудничает сперва в «Journal de Paris», а затем в основанной им самим «Библиотеке публичного деятеля». Здесь он печатает ряд компиляций из Аристотеля, Макиавелли, Бодэна, Бэкона, Юма, Локка, Адама Смита, снабжая трактат последнего «О богатстве народов» своими примечаниями. Здесь же появляется его комментарий на XXIX книгу «Духа Законов» и четыре мемуара о народном образовании, которые вместе с картиною человеческого прогресса дают Кондорсе особое право на признательность потомства. По временам он печатает также мемуары в журнале клуба 1789 года, в бюллетенях основанного аббатом Фоше общественного союза, выходивших под заглавием: «Железный рот» (Bouche de fer). Вслед за бегством в Варенн он приступает к редакции, в сообществе с Томасом Пэном, первой во Франции республиканской газеты: «Республиканец или защитник представительного правительства». Эта газета, издаваемая, как значится на ее заглавном листе, обществом республиканцев, выходила весьма недолго. Вслед за неудачной манифестацией 17 марта «Республиканец» хиреет и наконец вовсе прекращается. В октябре 1791 года Кондорсе снова пишет в «Journal de Paris». Но его сотрудничество продолжается не более двух недель; издатели вскоре были запуганы его республиканизмом, а он не согласился на поправки и оставил редакцию. 17 ноября 1791 года Кондорсе вступает в число постоянных сотрудников «Парижской хроники» и остается им до 17 марта 1793 года, т. е. до погрома и истребления
95 См. письмо Вольтера к Кондорсе, от 1 сент. 1772 г. и 5 декабря 1773 г. Oeuvres, т. I, с. 9 и 21.
96 См. Sur le mot pamphletaire (1790). Oeuvres, т. I, с. 527.
шрифта той типографии, в которой печатался этот журнал97. Влияя на общественное мнение своими брошюрами и статьями, Кондорсе не отказывается также собирать у себя своих политических единомышленников, а ими долгое время были почти все выдающиеся деятели революции, не принадлежавшие к королевской партии, или к ограниченному численно кружку французских англоманов. Брак на девице Груши, счастливо прервавший неудачную страсть, едва не поведшую к самоубийству, скоро сделал из дома Кондорсе один из прекраснейших и наиболее посещаемых салонов Парижа. Его жена с большой красотою соединяла выдающийся ум и сердечность. Она известна в литературе переводом книги Адама Смита: «Теория нравственных чувствований», и самостоятельным мемуаром о симпатии. Оклеветанная в лагерях, враждебных ее мужу, изображаемая монархистами мстительным честолюбцем, а Маратом — неверной супругой, она сохранила глубокую привязанность мужа до последних минут его жизни. Ей посвящает он свое едва ли не единственное стихотворение. Оно написано Кондорсе за несколько месяцев до смерти, в то время, когда он скрывался в гостеприимном доме госпожи Вернэ. Вспоминая о семигодичном супружестве, Кондорсе заявляет, что был счастлив все это время и счастлив любовью жены. Все его горе сводится теперь к необходимости жить далеко от нее и ребенка-дочери, улыбка которой ободряла его в минуты усталости и горя98. Мысли о жене и дочери посвящает Кондорсе и последние минуты своей жизни. В своем духовном завещании он просит свою великодушную укрывательницу, госпожу Вернэ, часто говорить Элизе (имя его ребенка) о глубокой привязанности, какою постоянно окружала его ее мать99. В советах дочери, написанных им в то же время, он говорит и о нежности своей жены, и о ее большой умственной силе100.
В салоне госпожи Кондорсе эпигоны энциклопедии сходились с выдвинутыми революцией новыми деятелями и мыслителями; здесь же появлялись посещавшие Париж иностранцы. Доктор Робиннэ приводит длинный список лиц, принадлежавших к числу ближайших друзей дома. В нем мы встречаем имена: Гримма, Вилькса, Стерна, Юма, Робертсона, Адама Смита, Гиббона, Галлиани,
97 Все эти сведения заимствованы нами из сочинения Робиннэ, с. 98,102,105.
98 Epitre d’un polonais exile en Siberie (Condorcet) a sa femme (дек. 1793). Oeuvres, т. I.
99 Cm.: Testament. Oeuvres, т. I, c. 625.
к» Ibid., c. 613.
Беккарии, Альфьери, Томаса Пэна, Макинтоша, женевца Дюмона, немца Анахарзиса Клотца. Трудно перечислить всех выдающихся французов, бывавших обычными посетителями этого салона. Лафайет встречался в нем с Мирабо, а когда умер последний, его личный друг доктор Кабанис занял его место. Все современники сходятся в восторженной оценке красоты, грации и ума госпожи Кондорсе. Изамбер называет ее дом центром всей просвещенной Европы. Гара говорит, что в него перекочевали все те, кто посещал салон девицы Леспинас, не исключая короля датского и послов Швеции, Англии и Америки. В этом салоне политические вопросы не замедлили занять выдающееся место, и многое из того, что впоследствии напечатано Кондорсе в форме брошюр и журнальных статей, изложено было сперва перед друзьями и подвергнуто их всестороннему обсуждению101. ,
/ ; : -!>“
v
Одним из средств прямого воздействия на общество было для Кондорсе произнесение академических речей и чтение курсов в основанном в начале 90-х годов прошлого столетия свободном университете, так называемом лицее. Этот «лицей», просуществовавший во Франции до 1848 года, имел честь сделаться поистине колыбелью социологии, так как в нем не только были прочитаны лекции Кондорсе об истории развития математических наук и астрономии, но и преподаны Огюстом Контом его первые курсы. В академических речах Кондорсе и в его чтениях в «лицее» уже можно отметить зарождение тех идей, которые получат более полное развитие в «Картине прогресса человеческого разума» и в опыте построения науки, имеющей предметом приложение математики к обществоведению. Академические речи и лекции занимают Кондорсе в период времени от 1782 по 1787 год. Быстрый ход политических событий вскоре отвратил его внимание от чисто научных вопросов, заставляя предпочесть публицистическую деятельность. Но и в своих памфлетах и журнальных статьях Кондорсе не отказывается иногда от применения той теории вероятностей, которой он придавал такое значение в деле научной постановки обществоведения. Так, например, он прибегает
101 См. сочинение доктора Робиннэ, с. 78- 84.
к ней с целью доказать, что установление двухкамерной системы представительства не увеличит вероятности зрелых решений. Он придавал этой теории такое значение, что основывал на ней по преимуществу свое право на политическую деятельность и на выборы в депутаты. Отвечая тем, которые считали странным видеть его в рядах кандидатов, Кондорсе объявлял, что в течение двадцати лет ему не приходилось проводить дня без обсуждения тех или других политических вопросов и что, в частности, им впервые внесена в них научная точность, благодаря применению теории вероятностей.
Не вдаваясь в подробности его профессорской деятельности, отметим в академических речах и публичных лекциях будущего теоретика прогресса те стороны, которые доказывают, что задолго до начертания им этой первой по времени попытки построить историю цивилизации или, употребляя термин Конта, социальную динамику, вполне созрели в его уме ее основные положения. Иначе трудно было бы объяснить, как при почти совершенном отсутствии книжных пособий в течение немногих месяцев могла быть написана книга, требующая поистине энциклопедических званий, и в частности обширных сведений по истории наук.
Одним из основных положений Кондорсе, принятых затем Контом и всеми современными историками культуры и гражданственности, и можно считать соответствие и взаимодействие, существующее между успехами знаний, искусств, нравственности, общественных и политических форм. Эта мысль намечена Кондорсе уже 21 февраля 1782 года в речи, произнесенной по случаю приема во французскую академию. «Всякое открытие в науках,— читаем мы в ней,— есть благодеяние человечеству; ни одно не остается бесплодным». Доказывая громадные успехи, сделанные человеческим знанием в XVIII веке, он на первый план выдвигает тот факт, что и общественные науки приобретают с каждым днем точность наук физических. Опираясь, подобно им, на наблюдении фактов, они должны следовать тому же методу и приобресть ту же точность и определенность терминологии и ту же несомненность, что и науки физические102.
Одного этого отрывка достаточно, чтобы признать в Кондорсе предвозвестника научных стремлений нашего времени. Но на этом не ограничивается сходство заявлений, сделанных Кондорсе еще
102 Oeuvres, т. I, с. 332.
в 1782 году, с теми, к каким приучили нас современные социологи. Кондорсе верно указывает и причину, по которой рост общественных наук должен быть медленнее того, какому следовали науки физические. Хотя они и имеют в основе наблюдения, но эти наблюдения производятся лицами, пристрастно относящимися к их результатам. Не будь этого, имей мы возможность относиться к общественным фактам с тем же объективизмом, с каким мы изучаем жизнь бобров или пчел, мы бы могли рассчитывать на ту же несомненность выводов, какая присуща наукам физическим. Вот, разумеется, самое серьезное возражение против того метода самонаблюдения, в котором метафизика и долгое время психология искали единственный путь к построениям. Позитивисты XIX века не могли бы сказать на этот счет ничего сильнее. Завершение прогресса физических наук зарождением новых наук общественных, которые для Кондорсе имеют ближайшей целью человеческое благополучие (dont le but direct est le bonheur de I’bomme), позволяет ему говорить о неизбежном воздействии, какое прогресс наук оказывает на прогресс нравственности и добродетели. Протестуя против обратного мнения Руссо, Кондорсе указывает и на большую редкость войны, и на смягчение допускаемых ею жестокостей, и на прекращение тех религиозных преследований, которыми омрачены были предшествовавшие столетия. Все это — наглядные доказательства тому, что и в области нравственности совершился значительный прогресс. «Сравните,— говорит он,— наше столетие с прошлыми, смотря на него глазами историка. Вы найдете, что в тех столетиях, которые кажутся вам столь добродетельными, более грубый разврат соединялся с более необузданной жестокостью и с низкой алчностью. Пороки, почти неизвестные нашему времени, составляли отличительные черты народного характера, а преступления считались обыденными фактами. Посмотрите теперь, что делается в наши дни. С одного конца Европы до другого люди просвещенные напрягают все свои усилия к человеческому благополучию. Варварский обычай пытки почти отменен, и общественное мнение, всемогущее, когда им руководит гуманность, требует новых и новых реформ. Американцы разрывом собственных цепей указали на необходимость разорвать цепи своих рабов (негров). Первые они призвали всех граждан своего государства к равным правам и равной свободе. Решение португальской королевы, что в ее владениях не будет более рождаться рабов, также является счастливым залогом, что свобода черных — ненавистный остаток варварской политики XVI века — перестанет
вскоре бесчестить наше время»103. Кондорсе указывает также, как на доказательство прогресса нравов, на то обстоятельство, что сумасшедших перестали заковывать в цепи, что общественная благотворительность, и в частности призрение недужных, встретили в правительствах Европы небывалую дотоле поддержку; наконец, что преграды, мешавшие мирному развитию народов, и в частности торговые запреты — падают с каждым днем, и монархи Европы все более и более проникаются той мыслью, что истинный интерес их наций неразлучен с интересами человечества.
Имея в виду мнение тех писателей, которые думают, что прогресс знаний невыгодно отразится на прогрессе искусств, Кондорсе особенно настаивает на той мысли, что руководящие ими принципы также являются плодом наблюдения и опыта; а если так, то, очевидно, искусства должны совершенствоваться по мере того, как наблюдения становятся более методичными, точными и тонкими. Язык, который он также относит к области искусства, обогащается и совершенствуется, теряя в то же время в своей образности. Изящная литература выигрывает от распространения знаний, и в доказательство Кондорсе приводит пример Вольтера, талант которого возрос и расширился под влиянием накопленных им сведений. Искусства не только не падают с успехами знаний, но они остановились бы в своем росте, если бы науки не прогрессировали. Ведь искусство состоит в подражании, а следовательно, новые и более обстоятельные наблюдения могут доставить художнику те новые точки зрения и те новые комбинации, которые внесут оригинальность в его творчество104.
Одним из положений контовской философии является единство человеческого знания и связь отдельных наук между собою. Эта истина сознается Кондорсе еще в 1784 году. В похвальном слове,
103 Прекращению торга неграми и их освобождению Кондорсе посвятил особый трактат в 1781 году, появившийся снова в 1788 г. В нем разобраны все возражения противников аболиционизма и доказывается возможность замены насильственного труда черных свободным трудом белого населения. В числе мотивов к уничтожению торга неграми приводятся, между прочим, правильно понятые интересы самих плантаторов, страдающих от непроизводительности несвободного труда и дурного качества обработки. Кондорсе желает, чтобы освобождение негров совершилось безвозмездно. См.т. VII, Reflexions sur 1’esclavage de Negres. Neuchatel, 178, c. 63-140.
104 Discours prononce clans 1'academie francaise (lejeudi 21 fevrier 1782). Oeuvres, т. I, c. 393-404.
посвященном памяти д’Аламбера, мы встречаем, между прочим, следующее заявление: «Науки связаны неразрывной цепью между собою, и в тех своих частях, в которых они стоят всего ближе друг к другу, они оказывают взаимные услуги»105. Правда, Кондорсе далек еще от мысли поставить эту помощь в зависимость от того иерархического порядка, в каком следуют одна за другой эти науки. Самая иерархия их поначалу умаляющейся абстрактности ему неизвестна, и он допускает возможность непосредственной помощи математики при решении задач обществоведения.
Огюст Конт строго осудил попытки, сделанные им в этом направлении, и его последователи, как доказывает пример доктора Робиннэ, по справедливости настаивают на той мысли, что общественные явления слишком сложны, чтобы допустить применение к ним математического метода, имеющего дело только с такими наипростейшими явлениями, как количества и измерения. Нельзя, однако, отрицать того, что приложение простой арифметики к вычислению смертностей и рождений дало возможность Кетлэ построить целую науку, и что применение математического метода к политической экономии, не обогатив ее новыми истинами, позволило формулировать их точнее. Но все, что сделано в наше время в том или другом направлении, уже предвидится Кондорсе, который сперва в лекциях, читанных в лицее, затем в особом трактате, посвященном обоснованию того, что он называет социальной математикой, доказывает возможность и пользу применения арифметики, геометрии, алгебраического анализа и теории вероятностей к решению таких, например, вопросов, как определение причин, увеличивающих или уменьшающих смертность, причин, обусловливающих собою колебание цен и тому подобное. Кондорсе не имеет в виду упразднения политической экономии и замены ее придуманною им новою наукою. Наука, созданная Тюрго и Адамом Смитом, имеет свой особый метод — наблюдение и дедукцию; но в ней чувствуется на каждом шагу потребность в вычислениях, и этой-то потребности и должна удовлетворить заимствующая у нее посылки социальная математика106. Ни Кетле, ни Джевонс ничего
юз Discours de М. de Condorcet en reponse a celui de M. de comte de Choiseul-Gouffier (le jeudi 26 fevrier 1784). Oeuvres, т. I, c. 439.
u*6 Cm.: Discours sur 1’astronomie et le calcul des probalites In an lycee 1787 (Oeuvres, т. I, c. 500-503), а также: Tableau general de la science qui a pour objet [’application du calcul aux sciences politiques et morales (Ibid., c. 539 и след, до 573).
не имеют против такого понимания пользы, какую общественные науки могут извлечь из применения к ним математики.
Мы изучили в Кондорсе экономиста, метафизика, политика, мы представили его борцом за торжество принципов энциклопедии, физиократии, школы естественного права и народного самовластия, наконец, теории прогресса, впервые формулированной Тюрго. Нам остается представить его в новом свете, как одного из ближайших творцов республики и организатора ее системы публичного образования, наконец, как основателя социологии или точнее — социальной динамики.
МОНТЕСКЬЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К«ДУХУ ЗАКОНОВ» ** 1
Экономические и политические воззрения Монтескье во многом сложились под влиянием тех впечатлений, какие он вынес из своих путешествий по Италии, Германии, Голландии и Англии. Обещаемое издание каталога его библиотеки в замке Бред едва ли прольет больше света на зарождение в нем тех или других идей в области народного хозяйства и права, чем изданный недавно дневник его перегринаций. Монтескье предпринял их в период уже полного расцвета своей литературной деятельности после издания «Персидских писем» и в момент составления первых десяти книг «Духа законов». Как член французской академии, как человек, еще недавно занимавший выдающийся пост одного из президентов парламента в Бордо, наконец, как дворянин, принадлежащий по рождению к той судебной аристократии (noblesse de robe), которая в общественном признании, под влиянием нивелирующего духа времени, постепенно заняла место равное феодальной,— Монтескье мог рассчитывать найти и действительно нашел предупредительный прием в высших слоях европейского общества, у папы, императора, королей, герцогов, послов, светской и духовной знати. Перед ним раскрывались все двери, с ним искали знакомства все выдающиеся люди времени. Если прибавить к этому, что самое путешествие предпринято было в обществе племянника маршала Бервика, графа Вальдгрева, которого в Италии
* Печатается по: Дело. Сборник литературно-научный изданный московским отделением общества для усиления средств СПБ женского мединститута. М., 1899. С. 124-145.
1 Начало обширной главы о подготовительных работах Монтескье к «Духу законов», вновь написанной автором для второго издания его «Происхождения современной демократии».
вскоре заменил лорд Честерфильд, то не мудрено будет понять, как легко мог Монтескье воспользоваться поездкой по Европе для расширения своего политического кругозора. Этому немало содействовала та способность ассимилироваться с окружающей его изменчивой средою, которая позволила автору «Духа законов» сказать впоследствии о себе: «Когда я путешествовал за границей, я привязывался к посещаемым мною странам, как к собственной родине. Я интересовался их судьбою и желал им большого благосостояния, чем то, каким они пользуются» 2.
Редкий путешественник был лучше подготовлен к осмысленному восприятию тех разнообразных сведений, какие сообщали ему государственные деятели и ученые,-с которыми он имел случай встретиться во время своей поездки. Уже с ранней молодости, как свидетельствуют дошедшие до нас письма одного из его воспитателей, брата Андриэ из ордена ораторианцев, державших близ Мо в Жюльи своего рода дворянский пансион, Монтескье обнаруживал такое трудолюбие, что его надо было скорее воздерживать, нежели поощрять к чтению3. Солидное классическое образование, полученное в школе, восполнено было, по настоянию отца, продолжительным и упорным занятием каноническим и обычным правом. «По выходе из пансиона,— пишет Монтескье,— в 1749 году мне дали в руки книги о праве; это заставило меня задуматься, о “Духе законов”»4. Насколько можно судить по первым мемуарам, читанным Монтескье в местной академии Бордо, точные науки также весьма рано приковали к себе внимание писателя, который в большей степени, чем кто-либо из французских мыслителей XVIII века, сумел отрешиться при занятии политикой от всякой метафизики5. Этим знакомством с областями знания, недавно обновленными гением Ньютона, объясняется также пристрастие автора «Духа законов» к дефинициям, не имеющим ничего общего с теми, к каким приучили нас юристы и доктора естественного права. Один из критиков Монтескье, Склопис, справедливо замечает, что его пристрастие к математическим упо
2 Pensees dreerses. Цитировано у Vian, Histoire de Montesquiou.
3 Ibid.
4 Письмо от 7 нарта 1749 г.; цитировано у Vian в его Histoire de Montesquieu.
5 В числе его ранних мемуаров встречаются не только диссертации по частным вопросам зоологии и ботаники, но и общие рассуждения о естественной истории и о физическом строении земли; последнее, впрочем, осталось в виде проекта. Ibid., с. 18.
доблениям и естественно-научным дефинициям выступает уже в знаменитом афоризме: «Законы в самом широком значении этого слова — необходимые отношения, вытекающие из самой природы вещей»,— а также в том частном применении, какое этот афоризм нашел у него в области права: «До издания положительных норм между людьми существуют отношения справедливости, точь-в-точь как и до проведения круга все радиусы его равны между собою»6. Политическими и экономическими вопросами Монтескье должен был заинтересоваться еще в эпоху своей научной деятельности в Бордо, частью под влиянием тесных сношений с одним из членов местной академии, Мелоном, автором известного «Опыта о торговле», влияние которого отразится во многом на понимании «Духом законов» характера и задач народного хозяйства, частью под влиянием брака с кальвинисткой, заставившего его задуматься над вопросом о религиозной терпимости и высказать на этот счет несколько смелых мыслей уже в своих «Персидских письмах», частью, наконец, под влиянием непосредственного занятия основными вопросами экономии и государственного устройства, о чем свидетельствуют затерянный ныне мемуар «О богатствах Испании», отдельные главы которого вошли впоследствии в рассуждение о всемирной монархии в Европе, а также дошедший до нас «Опыт о религиозной политике римлян».
Дневник путешествия не предназначался к изданию; в нем можно поэтому искать выражения сокровенных мыслей автора. Несмотря на свою отрывочность, на отсутствие литературной формы, на пестроту и несистематичность, какую представляет всякая записная книжка, наконец на преобладание чисто внешних подробностей о характере архитектурных построек, о лучших памятниках живописи и зодчества, о расположении портов, распределении комнат в дворцах, рассадке деревьев в парках и садах, о некоторых технических производствах, еще мало распространенных во Франции, и с которыми Монтескье пришлось встретиться впервые в его путешествиях, как, например, о выделке бархата,— дневник будущего автора «Рассуждения о причинах величия и упадка Рима» и «Духа законов» содержит в себе ряд пометок, свидетельствующих, что его внимание приковывали в равной мере и малейшие подробности античной жизни, и политический, финансовый и экономический строй посещенных им стран. Его мысль уже в это время занята была раскрытием той связи, в какой законы и учреждения стоят не только к физическим условиям почвы
6 1-я глава «Духа законов».
и к климату, но и к нравственным особенностям отдельных наций. Его любознательность привлекают не одни посещенные им государства; он пользуется еще всякой возможностью разузнать у путешественников, миссионеров и дипломатов подробности о странах Востока, в особенности же о Персии и Турции, призванных со временем служить для него образцами деспотии, этого отрешенного от подчинения законам и не знающего другой удержи, кроме религии и обычая, единовластия. Не раз также его мысль переходит от всего виденного и слышанного им обратно к родине, так что изучение особенностей чужеземцев позволяет ему только сознательнее отнестись к духу учреждений и национальному характеру французов. Когда же случай сталкивает его за границей с людьми, или недавно игравшими выдающуюся роль в судьбах его отечества, например с Джоном Ло, или продолжающими еще руководить его внешними сношениями и участвовать в его умственной жизни, как, например, с французским послом при римском дворе и автором «Анти-Лукреция» Полиньяком,— Монтескье спешит расспросить их о недавнем прошлом или разузнать их сокровенные мысли о современной политике. Религиозные вопросы интересуют его в равной мере с политическими. В том, что он говорит о папском правительстве, нельзя не видеть решительного осуждения теократии; наоборот, посещение Аугсбурга, Мангейма, Франкфурта, Оснабрюка, где католики живут на равных правах с протестантами, пробуждает в нем временно заглохшее пристрастие к вере его отцов, и он серьезно заводит с иезуитами речь о том, какими мирами можно обеспечить окончательное торжество единоверия. То немногое, что ему пришлось разузнать о Пруссии, поставленной в это время под железную руку отца Фридриха Великого, позволит ему восполнить картину восточного произвола некоторыми чертами из жизни Запада. Невозможность открыть во всей Европе других республиканских правительств, кроме аристократических, сделается причиной того, что свою характеристику демократии он составит исключительно по классическим образцам. Магистраты свободных городов Германии, в том числе Гамбурга, голландская плутократия с заметным тяготением к единовластию еще избираемого, но вскоре наследственного «пенсионария», как и венецианский патрициат, поставленный под грозный контроль инквизиторов и совета десяти,— только укрепят в нем уверенность в неминуемом вырождении аристократии и преимуществе наследственных правительств над избирательными. Наконец, Англия, посещением которой завершится ряд его перегринаций, раскроет пред ним картину вполне уравновешенной монархии, которую
он затем поставит в образец своим соотечественникам, призывая их, однако, не к рабскому подражанию, не к целостному перенесению на родину чужих учреждений, что сам он признает немыслимым, а к дальнейшему упрочению и сохранению тех противовесов, какими во Франции по отношению к наследственной монархии являлись независимые от королевского выбора верховные палаты и временно пришедшие в забвение или упадок генеральные и провинциальные штаты. Путешествие доставит также Монтескье возможность расширить круг тех мыслителей, на изучении которых разовьется и созреет его собственное миросозерцание. В дневнике о пребывании в Венеции мы встречаем пометку насчет необходимости приобресть в Неаполе рекомендованное ему сочинение Вико. Речь идет о «Новой науке», в которой автор «Духа законов» найдет выражение той самой мысли о неизбежном вымирании народов и учреждений и неоднократном возобновлении уже раз пройденного процесса политической эволюции, которая в «Духе законов» займет место теории безостановочного прогресса,— теории, впервые провозглашенной Тюрго и Кондорсе.
В той же Венеции Монтескье придется слышать не раз повторение взглядов Контарини, Джаноти и Ботеро о природе ее учреждений и об умеренности в пользовании властью, как о высшей добродетели, содействовавшей стойкости ее аристократического правительства. Эта умеренность, по учению названных публицистов, сказывалась между прочим в факте допущения и недворян к отправлению известных должностей, отчасти в главном городе, отчасти в зависимых от него муниципиях и провинциях. В другой аристократии, в Генуе, Монтескье констатирует существование такого же клапана для честолюбия и предприимчивости буржуазии, благодаря сосредоточению всего заведывания народным кредитом в частном акционерном банке Святого Георгия. Банк этот постепенно приобрел в Генуе то же государственное значение, каким пользуются ныне также два частных товарищества английского и французского банка, Монтескье увидит в этом обстоятельстве новое подтверждение той мысли, что устойчивость аристократии покупается ценою ограничения их собственной сферы деятельности и влияния к выгоде остальных классов общества. Так как в римской истории он найдет беспрепятственный рост плутократии на ряду с сохранением старинных привилегий патрициата, то вполне естественным явится обобщение всех этих частных фактов одним основным положением об умеренности в пользовании своими прирожденными преимуществами, как о необходимом условии для прочного существования аристократии или, выражаясь его языком,
об умеренности, как о ее жизненном принципе. Находя еще у древних политических писателей, и между прочим у Платона, рассуждение о гражданской добродетели, т.е. о способности подчинять личную волю общей и частный интерес благу родины, как о неизбежном условии существования народовластия, Монтескье возведет добродетель на степень такого же жизненного принципа демократий, каким является умеренность в аристократиях. Страсть к антитезам, в связи с наблюдением тех психологических мотивов, какими определяются поступки военной и придворной знати в его собственном отечестве, побудят его признать сословную честь жизненным принципом монархии, после чего вполне естественным покажется ему приписать уравненным в бесправии подданным деспотического государства один руководящий мотив поведения — страх. Таким образом возникнет учение о жизненных принципах отдельных форм правления, как о чем-то отличном от их природы и в то же время обусловленном ею.
Известно, какое значение не один Монтескье, но и все писатели XVIII века придают влиянию нравов на учреждения. Можно сказать, что насколько социальные вопросы рассматриваются в настоящее время сточки зрения возможно большего обеспечения народных масс, настолько же в прошлом столетии они интересовали мыслителей с точки зрения чисто этической. Писатели задавались главным образом мыслью о привитии правящим классам тех нравственных качеств, при которых только и возможно было, в их глазах, прочное существование закономерных правительств. Не мудрено поэтому, если в записной книжке Монтескье большее или меньшее пристрастие тех или других наций к роскоши или к простоте жизни и самая сфера проявления этой роскоши в публичном или частном обиходе отмечаются так же тщательно, как и корысть или нестяжательность, подкупность или неподкупность отдельных сословий и народных масс. Так, например, о флорентинцах он говорит с похвалою, как о живущих относительно скромно7. Подобные в этом венецианцам прошлого века и современным нам англичанам, жители Тосканы воздерживаются от открытого сорения деньгами. Их загородные дворцы одни обставлены роскошно, и если * Il
7 II n’y a pas de ville, ou les hommes vivents aveo moins de luxe qu’a Florence; avec une lanterne sourde pour la nuit, et une ombrelie pour la pluie, on a un equipage complet.
Il est vrai que les femmes font un peu plus de depense; car elles ont un vieux carrosse. On dit qu’ils font plus de depense a la oampagne, comnie aussi aux solennites des baptemes et des manages. (Montesquieu. “Voyages”, v. I, c. 170).
в городе они позволяют себе подчас пышность и блеск, то только по поводу каких-либо домашних торжеств, как, например, браков и рождений, когда надо поддержать честь рода внешним великолепием8. По той же причине венецианцы очень бережливы в своей обыденной жизни и тратят только на женщин, стараясь при этом всячески скрыться от глаз и не пуская поэтому даже иностранцев в свои казино, в которых оргии сменяются игрою и все так шито и крыто, что у народа не имеется верного представления о том, как тратит свои деньги нередко задолженное купцам дворянство9. Что касается до генуэзцев, то их недостаток — расточительность объясняется, по мнению Монтескье, гнусной скаредностью и желанием вложить все свои сбережения в торговлю10 11. В Голландии стяжатель-ность является общею чертою: «Все, что говорили мне,— пишет Монтескье,— о скупости, плутовстве и мошенничестве голландцев, нимало не преувеличено; все это чистая правда. Я полагаю, что со времени Иуды Искариота никогда не существовало жида, более жида, чем голландцы» п. Монтескье ставит и на этот раз, как и всегда, отмеченную им особенность, национального характера в связь с преобладающей формой народного производства и с политикой правительства. Голландцы корыстны, по его мнению, потому, что в странах, живущих почти исключительно торговлею, «сердце людское извращено»; никто не оказывает ближнему даровых услуг; все ждут, что эти услуги будут куплены12. Чрезмерность обложения — другая причина, по которой голландцы желают содрать с каждого возможно больше. Так как, пишет Монтескье, они терпят под бременем податей, то каждый старается добыть денег, не разбирая путей и средств. Самых верных у них два: скупость и грабительство.
8 Ibid., с. 25, 33, 38.
9 Ibid., с. 143 и 144. Les Genois sont entierement insociables; ce caractere vient moins d’une humeur farouche, que de leur avarice supreme: car vous ne sauriez croire a quel point va la parcimonie de ces princes-la. Il n’y a rien dans le monde de si menteur quo leus palais. Yous voyez une maison superbe, et, dedans, une vieille servante, qui file.
v Dans les grandes maisoiis, si vous voyez un page, c’est qu’il n’y a point de laquais. Pour donner a. manger, c’est a Genes une chose inoui’e. Ces beaux palais sont precisement, jusqu’au troisieme etage, des magasins pour leurs marchandises. lis. font ^tous le commerce: le Doge est le premier marchand. Tout cela fait les ames du monde les plus basses quoique les plus vaines.
10 Ibid., t. II, c. 221.
11 Ibid., c. 222.
12 Ibid., c. 221.
Невмешательство властей — третья причина, по которой стяжательству дан в Голландии полный простор. Так как все предоставлено свободному соглашению, то никакие жалобы не принимаются в расчет, и на всякие заявления о чрезмерности требований слышится ответ: «Почему не уговорились раньше»13. Сделанные в Голландии наблюдения позволят Монтескье в двадцатой книге «Духа законов» цитировать пример ее жителей в доказательство того, что, порождая связь между нациями, торговля в то же время вносит рознь между частными лицами. В странах, пишет он, в которых, как в Голландии, преобладает торговое настроение, все человеческие действия, все нравственные качества служат предметом торга. Малейшая услуга, вызываемая в других местах простым человеколюбием, здесь покупается за деньги14. Монтескье совершенно чуждо представление, что правительство бессильно бороться с унаследованными недостатками и пороками. Одна из книг «Духа законов» прямо задается вопросом, в какой мере законы могут содействовать образованию нравов, привычек и характера нации15, и каковы естественные пути к изменению16 последних.
Нигде это изменение нравов под влиянием учреждений не бросилось ему так резко в глаза, как в Вечном городе. Народы папских владений, пишет Монтескье в своем дневнике, весьма бедны, и еще более плутоваты; они только и думают о том, как бы получить милостыню или обмануть вас17. Величие римского народа, о котором так много говорит Тит Ливий, замечает он в другой части своего дневника, исчезло бесследно. В этом народе вы найдете теперь только два класса: проституток и лакеев. Люди высшего состояния, за исключением полусотни баронов и князей, не имеющих, впрочем, никакого значения,— здесь временные гости. Каждый старается проделать свою карьеру и попасть в управление, сделаться одной из главных пружин в администрации всемирной церкви. Каждый живет здесь как в гостинице. Но что, спрашивается, развратило в такой мере жителей Вечного города? Ответ на это дает отчасти сам дневник, говоря о бедности народа, о принижении некогда могущественного дворянства папами, внесшими разъединение в его среду самым
13 Кн. XX, гл. II. >
14 Кн. XIX, гл. XXVII.
is Ibid., гл. XIV.
16 Voyages, т. I, с. 204.
17 Ibid., с. 202, 204, 209, 221, 224.
фактом создания придворной титулованной знати; о неограниченном господстве симонии, позволяющей самым презренным людям попадать на высшие должности, особенно с тех пор, как Иннокентием XII отменена была возможность открытой покупки их лучшими семьями Италии18; о дурном влиянии на нравственность, какую оказывает обязательное безбрачие численно преобладающего здесь духовенства,— духовенства, еще более распущенного, чем во Франции19; наконец, о безнаказанности, какой нередко пользуются преступники, благодаря дарованному церквам праву убежища 20. Иные учреждения создали и иные нравы в тосканском герцогстве и в Пиемонте. Правитель первого, пишет Монтескье, делает все возможное, чтобы избавиться от назойливых притязаний священства и монашества (pretraille et moinerie) на свободу от налогов он уменьшил бремя податей, произвел конверсию прежних займов, понижая процент, платимый государством, с шести на 3 у2. Он и его предшественники украсили Флоренцию великолепными сооружениями, построили порт Ливорно и вообще обогатили государство внесением строгой экономии в издержки двора. Высокие поборы с наследств и приданых в размере 73/4% и установленный предшественником теперешнего правителя подоходный налог в размере у2% с объявленной выручки содействовали не только обогащению казны, но и уравнению состояний. Праздность сделалась неизвестной, и даже дворянские семьи ищут какой-либо должности в государстве, как бы ничтожно ни было связанное с ней жалованье, и под предлогом, что то же делалось во времена республики21. Наряду с праздностью исчезла и роскошь, так же как последствие большого уравнения состояний; это, впрочем, не мешает тому, что некоторые семьи еще слывут получающими ежегодный доход во сто и двести тысяч ливров, хотя на деле имеют самое большее половину22. В Пиемонте королем сделано все нужное к ограничению власти, влияния и богатства высших сословий. Соглашением с папою достигнуто обложение церковных земель, раз последние приобретены были не далее ста лет назад, а также частных владений лиц, принимающих священнический сан,— обстоятельство, уменьшившее, как замечает Монтескье, число
18 Ibid., с. 253.
о8 Ibid., с. 218.
го Ibid., с. 166,167,169,171, 172,173 И 174,
21 Ibid., с. 175.
22 Ibid., с. 107.
кандидатов23. Воссоединением с доменами некогда отчужденных от них земель король нанес существенный удар экономическому благосостоянию дворянских семей, которые в Пиемонте, пишет Монтескье, весьма бедны и едва затрачивают десять или двенадцать тысяч ливров в год24; он не пользуется также никакою властью в своих землях, так как крепостное право отменено. Что касается до крестьянства, то его материальное положение относительно весьма благоприятно; каждый владеет участком земли, вообще плодородной; многие из крестьян так же богаты, как и дворяне25. Все это вместе взятое объясняет и большее равенство в общественных отношениях (крестьяне, например, перестали ломать шапку 26 перед дворянами) и такой экономный образ жизни, что приглашение на обед в Турине является чем-то необычным27.
Совсем иная картина раскрывается перед глазами Монтескье в пределах австрийских владений, будет ли ими Ломбардия, где, по его словам, дворянство очень богато землею, а крестьяне весьма бедны ею, или Богемия, где, как он пишет, дворянство всем владеет, крестьяне продаются в неволю, и малейший сеньер играет в своем поместье роль императора28. Дневник Монтескье позволяет нам не только следить за тем, с каким вниманием будущий автор «Духа законов» отмечал связь между учреждениями и нравами; он дает нам еще возможность присутствовать при самом зарождении в его уме того учения о связи, в какой нравы стоят с формою правления. Роскошь, учит он, более или менее велика, согласно степени неравенства; она немыслима в деспотиях и нежелательна в демократиях, где должно господствовать равенство в правах в такой же мере, в какой в деспотиях равенство в бесправии; она нежелательна также в аристократиях, так как противоречит духу умеренности,— обстоятельство, ввиду которого законы Венеции принуждают дворян к весьма скромному образу жизни29; но в монархиях роскошь и неравенство равно необходимы. Богатства одних, пишет Монтескье, высказывая мысли, близкие к тем, какие обычны социалистам, воз
23 Ibid., с. 123.
2-» Ibid., с. 127.
25 Ibid., с. 120.
26 Ibid., с. 112.
27 Ibid., с. 6.
28 Ibid., кн. VII, гл. III. См. также кн. V, гл. VIII.
29 Ibid., кн. VII, гл IV.
росли только потому, что у части граждан отнято было необходимое для жизни; надо вернуть им отнятое, а для этого, думает Монтескье, следовало бы, чтобы богатые тратили пропорционально неравенству состояний, иначе бедные умрут с голоду30. Эти мысли в зародыше уже встречаются в дневнике. Если дворянство в Пиемонте обеднело и пришло в упадок, то рядом с этим королевская власть постепенно приняла деспотический характер. Ни за что в мире, восклицает Монтескье, не хотел бы я быть подданным этих маленьких князьков; они знают все, что вы делаете; они вечно следят за вами. Ваши доходы для них не тайна, и они сумеют найти средство к тому, чтобы заставить вас издержать их излишек31. В Турине можно встретить шпионов во всех домах; здесь слышат сами стены32. Король позволяет себе посылать комиссаров к собственникам, с целью принудить их обратить виноградники в сенокосы, и облагает, в целях поощрения местного шелководства и других туземных промыслов, иноземные товары такими высокими пошлинами, что купцы находят расчет обходить его владения, невзирая на то, что провоз товара гораздо легче через Монсени, чем через Симплон. Итак, в Пиемонте дворянство только потому не отличается существенно от прочих граждан богатством и роскошью, что сама монархия постепенно вырождается в деспотию. Что касается до мелких республик Италии, то водворившееся в них неравенство состояний вполне отвечает факту вырождения их в аристократии, озабоченные одной мыслью — продлить свое, как выражается Монтескье, жалкое существование, пользуясь состраданием, какое оказывают им соседние князья. В этих республиках, прибавляет он, дворянство, потеряв заботу о величии и славе, сосредоточивает свое честолюбие на том, чтобы удержать свои сословные преимущества и возможность жить в праздности33. Тиранический характер приобретают также городские республики Германии. Народ обложен в них чрезмерно: так в Аугсбурге треть, а иногда и половина дохода уходит на содержание города и магистрата. Сам этот магистрат составлен на три четверти из дворян. При пяти тысячах граждан, власть сосредоточивается в руках каких-нибудь 40; они пользуются большим произволом, одинаково в Ульме, во Франкфурте и в Нюренберге. В Аугсбурге, где, не в пример прочим
30 Tbid., с. 112.
33 Ibid., с. 114,118 и 121.
32 Voyages, т. II, с. 273.
33 Voyages, т. II, с. 156 и 157.
городам, в состав магистрата входят, наравне с католиками, и протестанты, существует по крайней мере практическая возможность прибегать в случае несправедливости с жалобой к вечно враждующим между собою разноверцам и добиться отмены или исправления уже принятой меры. Благодаря этому, и сама республика пользуется лучшей администрацией, так как каждый из правителей считает себя состоящим под надзором у товарищей. Но в других городах, где магистрат составлен из одних протестантов, члены его живут, как князья, и являются по отношению к подданным мелкими тиранами34. Такими же вырождающимися аристократиями надо считать и городские республики Нидерландов, в которых чрезмерная страсть к наживе и происходящее отсюда неравенство и роскошь внесли в управление общественными делами продажность и корысть. Даже в Амстердаме, аристократию которого Монтескье объявляет разумной, так как в ней немногие управляют толпою в силу избрания, продажность так велика, что сановники входят в сделку с откупщиками налогов и берут с них взятки35. Настоящей монархии, в которой бы власть умерялась богатым и привилегированным дворянством, склонным поэтому к неравенству и роскоши, Монтескье не встречает более на континенте, как не находит он на нем и проникнутых духом равенства демократий. Молодому герцогу Мекленбургскому его наставник, лютеранский пастор, внушает мысль, что он властитель над жизнью и имуществом подданных, и, что все, чем владеют его дворяне,— продукт узурпации36. Прусский король, озабоченный только мыслью создать себе большое войско, не останавливается ни пред каким насилием; его подданные, пишет Монтескье, страдают от его ужасающей тирании; он не хочет, чтобы отцы отдавали детей в обучение; последствием будет водворение в его землях крайнего варварства; в судах Пруссии сидят какие-то ничтожества, получающие 200 флоринов в год и поставленные в необходимость торговать правосудием. Едва мальчик достигнет десятилетнего возраста, как его уже вербуют в солдаты; он не остается более под властью отца, хотя и продолжает жить под его кровом. Не удивительно, если он позволяет себе по отношению к родителю всякого рода дерзости. Многие отцы изувечили своих детей из желания удержать их при себе. Чтобы откупиться от службы, семьям,
34 Ibid., с. 234.
35 Т. II, с. 203.
36 Voyages, т. II, с. 197 и 198.
имеющим только одного наследника, приходится затрачивать на поставку наемщика до тысячи экю, да еще снаряжать его на свои средства. Купцы не дерзают более проникать во владения прусского короля: их грабят здесь, оскорбляют, силою берут в рекруты. Все, кто занимается промышленностью, бегут из владений прусского правителя. Когда собрано было войско под Магдебургом, прибавляет Монтескье, королю пришлось окружить некоторые полки крестьянами из опасения дезертирства. В Пруссии не встречается больше серебряных флоринов; все они в руках короля; так как его фермеры обязаны платить ему ренту звонкой монетой, то им приходится приобретать ее в Ганновере с потерей 10% в обмене на мелочь, да вскоре у них не будет и этой мелочи37. И в Швеции Монтескье констатирует тот же рост единовластия и тот же упадок дворянства и сословного представительства. Приводимый им в «Духе законов» пример посылки Карлом XII своего сапога недовольному его отсутствием сейму представляет только одно из проявлений нескрываемого более стремления короля к единовластию. В этом шведские правители нашли прямую поддержку в недовольных дворянским режимом крестьянах. Монтескье отмечает тот факт, что, когда штаты потребовали отмены абсолютного образа правления и бывший канцлер Горн, избранный в президенты дворянской камеры, принудил короля к соглашению, далекарлийцы послали депутатов на сейм с заявлением, что они предпочитают иметь одного верховного начальника взамен многих, короля на место угнетающих их дворян. На этот раз дело кончилось задержанием депутатов вопреки конституции, позволяющей каждому предлагать, что ему угодно; но Монтескье предвидит, что при правителе более твердом и предприимчивом шведские государственные порядки подвергнутся радикальной перемене38. Не меньшая опасность грозит дворянским привилегиям завоеванной русскими Ливонии. Царь обещал, правда, сохранить наималейшие преимущества дворян, но их отмена настанет несомненно в недальнем будущем. Стремление создать сильную армию и подражать великолепию версальского двора, — таковы причины, побуждающие правителей Германии накоплять деньги, и, ввиду невозможности делать это с согласия сословий, всячески стремиться к захвату власти в свои руки. Монтескье тщательно отмечает в своем днёвнике, сколько солдат может поставить в поле каждый из мелких
37 ibid., с. 199.
38 Ibid., с. 142,145 и 147.
правителей Германии, как велика их задолженность, откуда достают они средства для покрытия своих издержек. Мы узнаем таким образом, что из всех князей империи ни один не понес больших утрат, как баварский курфирст. Его земли расположены таким образом, пишет Монтескье, что император во всякое время может наложить на них руку. Пруссия, Саксония, Ганновер, Гессен поправили свои дела, Кельнский курфирст владеет многими епископиями и могущественнее баварского. Несмотря, однако, на ничтожность своей территории, несмотря на то, что его предшественник оставил ему тридцать миллионов флоринов долгу, и что его доход, происходящий от соляной и табачной регалии, да еще от монополии пивоварения, не превышает семи миллионов пятисот тысяч флоринов в год, баварский курфирст ежечасно может поставить в поле пять тысяч солдат, не считая офицеров39.
Насколько баварский курфирст разоряется на войско, настолько вюртембергский ничего не жалеет на постройки Людовик XIV, замечает шутя Монтескье, вероятно, не предполагал разорить немецких принцев и упрочить преобладание Франции, воздвигая свои дворцы в Версале40. Каждый хочет подражать ему и иметь свою столь же роскошную резиденцию. Баварский курфирст довольствуется еще сравнительно скромным загородным дворцом в Нимфенбурге, но герцог вюртембергский, несмотря на незначительность своих владений, разоряется на сооружение Луисбурга, в котором, говорит Монтескье, под внешним видом величия не удается скрыть «le petit et le mesquin» 41.
В рейнском палатинате, состоявшем в это время в личной унии с королевством Богемией, заботы о войске берут верх над всеми прочими; в нем насчитывается в мирное время до 10 000 солдат, хотя доход с палатината и связанных с ним герцогств Юлих и Берг, а также Нейбург, не превышает четырех миллионов флоринов в год. Курфирст кельнский при еще меньшем доходе, всего в 400 000 немецких экю, содержит армию в 7000 человек42.
Неудивительно, если при таких условиях мелкие правители Германии вызывают ропот в народе чрезмерностью своих денежных требований. Жители герцогств Юлих, Берг, а также Клеве, пишет
39 Ibid., с. 211.
-to Ibid., с. 159 и 160.
« Ibid., с. 177 и 179.
« Ibid., с. 192.
Монтескье, всего более стонут под гнетом податей, что заставляет их эмигрировать в большом числе; чрезмерные требования вызывают столкновения между штатами и рейнским курфирстом палатином. Он желает получать 800 000 экю в год, а штаты соглашаются дать ему только 600 000; подобные же столкновения существуют и в Баварии, где дворянским привилегиям, пишет Монтескье, наносится постоянный ущерб. Тщетны все обращения в Вену. Вена молчит, а курфирст баварский, поддерживая свои притязания военными экзекуциями, отрицает за Веною даже право сказать свое слово 43. В одном только Ганновере, связанном личной унией с Англией, доходы превышают расходы и из 700000 фунтов стерлингов, получаемых королем ежегодно с его ганноверских владений, всего 300 000 затрачиваются на армию44.
Все эти наблюдения необходимо должны были сложиться в голове Монтескье в одно общее представление о вырождении современных ему форм политического устройства, одинаково аристократий и монархий в общую обеим деспотию или тиранию. Уже у Аристотеля он мог встретиться с учением о правильных и неправильных формах государственного устройства и о переходе одних в другие. В применении к новым народам та же мысль была развита Вико в той «Новой науке», о выходе которой в свет за три года до его путешествия (в 1725 г.) Монтескье узнает впервые в Венеции. Но особенность учения автора «Духа законов» касательно вырождения правительств лежит в том, что он сводит его всецело к двум явлениям; к анархии и деспотизму. Первая наступает тогда, когда народ теряет уважение к властям и понимает политическое равенство в смысле отсутствия подчинения. Она возможно в одних народоправствах,— но образца их не представляла более современная Монтескье Европа, в которой, не исключая и швейцарских кантонов, права верховенства осуществлялись, самое большее, двумя или тремястами граждан45. Только в древних демократиях, насколько они известны были ему по сочинениям Платона, Аристотеля, Ксенофонта, Цицерона и римских анналистов, Монтескье мог найти элементы своего учения о вырождении народоправств в анархию, эту «охлократию» древних писателей. Но переживаемая в его время всей Европой, за исключением Англии, борьба тесных городских советов и магистратов с полноправным некогда гражданством и королевской
« ibid., т. II, с. 193.
44 Melanges inedits de Montesquieu, с. 195 по 197.
45 Ibid., письмо 108.
власти с сословным представительством, в частности с дворянством,— борьба, конечный исход которой уже обрисовывался в близком будущем в форме установления единовластия на развалинах гражданских вольностей, привилегии дворянства и верховных палат, заставила автора «Духа законов» выделить в отличную от монархии группу, не знающую никаких средостений, деспотии. Совершенные образцы ее он, разумеется, нашел на Востоке в описаниях Шарденом Персии, Рико Турции и католическими миссионерами Китая и Японии. Но посещенные им государства европейского континента, заодно с Францией последних годов царствования Людовика XIV и сменившего его регентства герцога Орлеанского, вызвали в нем справедливое опасение, что восточный деспотизм грозит завоевать себе и единственную часть света, еще избежавшую полного подавления прирожденной человеку свободы. Подобно тому, как реки устремляются к морю, пишет он в XVII главе VIII книги своего великого сочинения, монархии теряются в деспотии.
Некоторые критики, в том числе Франк, ставят Монтескье в вину отступление от той старинной классификации государственных форм, основы которой положены были еще Аристотелем; автор «Духа законов» восполнил ее деспотией, признав ее таким образом не вырождением, а самостоятельным типом правительства. Упрек, о котором идет речь, сделан был еще Вольтером, заявлявшим, что монархия и деспотия похожи друг на друга, как два родных брата. Но эволюция, пережитая Европой, начиная с религиозных войн, и состоявшая в постепенном торжестве единовластия над политическими правами сословий, как нельзя лучше доказывает глубокую проницательность Монтескье и тонкое понимание им действительных условий времени. Его дневник указывает нам на ту фактическую основу, на которой опирается эта наиболее оригинальная сторона его историко-философских воззрений. Он находит себе в этом отношении существенное дополнение в тех отрывках из незаконченных им или только необнародованных мемуаров, с какими познакомило нас недавно издание, предпринятое обществом библиофилов в Гвиене. В одном из них, озаглавленном «письма Ксенократа к Фересу», не трудно открыть замаскированную критику французских порядков в эпоху регентства герцога Орлеанского. Некоторые особенности этого режима, ознаменовавшегося знаменитым банкротством, вызванным кредитными операциями Джона Ло, мастерски очерчены будущим автором «Духа законов». Оставляя людей в мире, но тревожа их состояния, он разоряет их опытами обогащения, как другие
правители разоряют своих подданных собственными капризами. Желая постоянно совершенствовать, он исправляет там, где нужно было бы обнаружить широкую терпимость, не понимая того, что народ, всегда думающий медленно, не может внезапно признать злоупотреблением то, что в течение стольких лет пример и разум заставляли его считать законами. Монтескье намекает на денежную горячку Ло, рассказывая, как однажды ночью изображаемому им правителю Алкамену показалось во сне, что он владеет всеми сокровищами мира. Этот сон сделался источником народных бедствий. Тщетно Фемида предупреждала тех, кто воздвигал храмы Плутону; ее изгнали из собственного ее храма, заставили замолчать и не произносить более оракулов; но в одну ночь все алтари Плутона были низвергнуты, его жрецы обратились в бегство, а все те, кто следовал его культу, отданы были в жертву Титану46.
В «Персидских письмах» Монтескье таким же образом расточает по адресу Людовика XIV и сменившего его правительства стрелы своей сатиры, говоря о том влиянии, какое при покойном короле имели женщины на дела страны. «Когда я прибыл во Францию, пишет одно из действующих лиц его вымышленной переписки, я нашел покойного короля всецело во власти женщин, а между тем его возраст ставил его в условия, при которых они всего менее необходимы; да и помимо короля не было человека при его дворе, в Париже или провинциях, у которого бы не было женщины, через чьи руки проходили бы все милости, а иногда и все несправедливости, какие он в состоянии был причинить. Все эти женщины состоят между собою в постоянных сношениях, образуя своего рода республику, члены которой весьма деятельны, помогают и пользуются услугами друг друга. Это точно государство в государстве. Кто видит при дворе, в Париже или провинциях, одних министров, судей или прелатов и не знает женщин, ими управляющих, подобен человеку, видящему машину, но не знающему ее тайных пружин» 47. Монтескье весьма наглядно изображает также ничтожество придворного дворянства, заступившего место феодального. Штат лакеев, пишет он, пользуется во Франции большим уважением, чем где бы то ни было; это рассадник, из которого выходят сановники государства. Им наполняется то пустое пространство, которое создано исчезновением йысших сословий. Лица, принадлежащие к штату лакеев, занимают
« Письмо XXXVII.
47 Ibid., письмо 140.
места великих страдальцев, разоренных членов магистратуры, дворян, убитых на войне; так как их не всегда хватает для этого, то они поднимают блеск древних родов с помощью своих дочерей, которые в этом отношении подобны навозу, удобряющему бесплодные гористые земли. Государство, сведенное к правительству женщин и штату придворных лакеев, настолько приблизилось к типу восточных деспотий, управляемых сералями и евнухами, что уподобление Франции с Персией невольно напрашивается на каждом шагу. Людовик XIV изображен у Монтескье чертами человека, обладающего редкой способностью добиваться от всех повиновения. Он с равным гением управляет и семьей, и двором, и государством, держась высокого мнения о восточных порядках и не раз высказывая свое пристрастие к турецкому и персидскому правительству, как наилучшим в мире. Хотя он и привязан к своей вере, но он не может терпеть тех, кто настаивает на строгом соблюдении ее правил. Любя трофеи и победы, он в то же время так же боится поставить способного генерала во главе своих войск, как если бы дело шло о враждебной ему армии. Наделенный несметными сокровищами, он в то же время терпит нищету, какой не в состоянии было бы перенести частное лицо. Он любит расточать свои милости за действительные услуги государству и еще более награждать ими праздность и лесть своих придворных. Часто он отдает предпочтение человеку, раздевающему его перед сном или подающему ему салфетку, над героем, взявшим город или выигравшим сражение. Он обнаруживает свое великолепие в постройках и населил свои версальские сады большим числом статуй, чем имеется жителей в городе48. Таков не особенно лестный портрет человека, которого еще недавно величали титулом Короля-солнца. Картина французских порядков восполнена еще следующими чертами. Едва старый король закрыл глаза, значится в одном из писем проживающего в Париже перса, как решились установить новую администрацию; все чувствовали, что дела идут неладно, но не знали, как взяться за улучшение. Так как неограниченная власть прежних министров признавалась виновницей зла, то решились разделить ее; создали с этою целью шесть или семь советов (намек на реформу, произведенную герцогом Филиппом Орлеанским); и это правительство, быть может — то, которое управляло Францией наиболее разумно. Но существование его было столь же краткосрочно, как и причиненное им
48 Письмо 93.
благо. Франция в момент смерти короля страдала всевозможными болезнями. Герцог Ноаль взял в руки железо, отсек лишнее мясо и применил несколько радикальных мер лечения, но внутренняя болезнь оставалась по-прежнему в теле. Иностранец (намек на шотландца Джона Ло) сделал попытку исцелить больного; он прибег к сильным лекарствам; больному, по его мнению, возвращено было прежнее дородство, но в действительности в нем произвели только вздутие; кто шесть месяцев назад был богат — теперь беден, а кто не имел хлеба — теперь утопает в роскоши. Последствием этого было то, что лакеи, сделавшие карьеру при прежнем царствовании, прославляют теперь собственное рождение и обнаруживают презрение к тем, кто ввиду разорения должен снять ливрею. «Дворянство в нищете, восклицают они, какой беспорядок в государстве, какое смешение состояний!»... Все же это произошло от того, что, по примеру Востока, правители Запада стали распоряжаться народной казной, как своей собственной, прибегая только к более сложным приемам и не допуская протеста со стороны установленных властей. Вздумал было парижский парламент воспротивиться мероприятиям Ло, и его отправили в Понтуаз. Королевский совет, пишет Монтескье, требовал от парламента внесения в свои протоколы позорящей его декларации; он сделал это так, что весь позор пал на совет. Парламент сослали, и та же судьба грозит и другим верховным палатам королевства; они ненавистны, так как короли слышат от них только горькие истины. В то время как толпа придворных восхваляет благоденствие народа под мудрым правительством монарха, палаты, протестуя против этой лести, приносят к подножью престола выражение стонов и слез подданных.
Парламенты ныне не более как почтенные развалины, которые топчут ногами, но которые внушаемым ими народу культом вызывают в уме представление о великолепном некогда храме. В настоящее время эти верховные палаты вмешиваются только в отправление правосудия; их власть кажется вымирающей, и только непредвиденное стечение обстоятельств может вернуть им прежнюю силу и жизнь; их постигла общая судьба всех человеческих созданий; они подчинились влиянию всеразрушающего времени, порче нравов, от которой все слабеет, и захватам верховной власти, которая все рушит. Монтескье не скрывает своего сочувствия попыткам регента восстановить уважение к парламентам, этому, как он выражается, зерцалу публичной свободы; Филипп Орлеанский хочет, чтобы в них видели опору монархии и основу всякой законной власти.
РУССО - ГРАЖДАНИН ЖЕНЕВЫ *
I
В знаменитой «Исповеди» Руссо высказывает, между прочим, свое удивление по поводу того, что книга, изданная в Голландии, могла сделаться предметом преследований во Франции и навлечь на ее автора громы парижской юстиции. Этой книгой был знаменитый «Эмиль», а причиной, по которой эта книга была признана преступной, являются те главы его, в которых затрагиваются вопросы свободы совести и народного суверенитета. Исповедь Савойского викария и передача вкратце главных положений «Общественного договора» — таковы инкриминируемые в книге места. Руссо недоумевает, что преступного в изложении начал естественной религии, подкрепляющей истину христианства, и какое дело парижскому парламенту до его мыслей о разумных основах демократических порядков Женевской республики. Еще раньше выхода в свет «Эмиля» Руссо посвятил свой трактат «Об источнике неравенства между людьми» властям Женевской республики. В позднейшем сочинении, написанном в защиту «Общественного договора», он открыто говорит о том, что это сочинение написано не для монархий, а в рассуждениях по вопросу о наилучшем устройстве Польши и, позднее, Корсики — он дает несомненные доказательства тому, что принципы, изложенные в его философско-историческом трактате о природе и источнике государственного суверенитета, должны найти себе применение в конституциях отдельных стран только в той мере, в какой они могут быть согласованы и с историческим прошлым народов, и с той физической обстановкой, в которой протекает их жизнь.
Печатается по: Голос минувшего: Журнал истории и истории литературы. 1913. № 1. Январь. С. 7-19.
Из всего сказанного, по-видимому, легко сделать тот вывод, что Руссо взялся за составление «Общественного договора», имея в виду поучать не французов, а прежде всего, своих собственных сограждан, что его интересовала судьба не монархий, а республик. В «Исповеди» имеется одно место, более точно определяющее, когда именно Руссо впервые стал интересоваться теми вопросами, которые сделались предметом обсуждения в его трактате «Общественный договор». Он жил в Венеции секретарем французского посла, вероятно, в большей степени, чем французского посольства. И, пользуясь досугом, заинтересовался судьбами республики Св. Марка. В этих судьбах он нашел много общего с теми, какие переживала в это время его собственная родина Женева, но только в одном отношении — в смысле перехода державных прав всего народа в руки тесных олигархических советов и Коллегии сановников. Желая объяснить, прежде всего, самому себе природу и источник государственной власти, а затем причины сосредоточения ее во все меньших и меньших руках — Руссо стал читать книги о политике и заниматься историей, как собственной родины, так и Венеции, древнего Рима и Афин. В числе его неизданных и недоконченных работ найден очерк истории Женевы; в числе упоминаемых им авторов имеются и Алтузий и Спиноза: они оба раньше его подымали вопрос о происхождении суверенитета или верховной власти и, подобно ему, считали его принадлежащим первоначально всему народу.
Переписка Руссо с друзьями укрепляет в нас уверенность, что он писал свою книгу, имея в виду отозваться на события, происходившие в Женеве. В его дни нарушено было старинное согласие ее граждан, а это грозило возобновлением той внутренней распри, свидетелем которой он был в юности во время одного из тех странствий, какие предпринимались им из Савои, из Шамбери и имений г. Де Варенс, а затем и в первые годы его поселения в Париже. Тогда уже Руссо, пробыв короткое время в Женеве, проникся гордостью гражданской. Он в стихах называет себя membre du Souverain, т. е. членом самодержавного народа не в силу одного факта рождения в Женеве, а потому что его семья принадлежала к меньшинству тех, которые пользуются правами citoyens, а не принадлежат к жителям предместий bourgeois или к позднейшим поселенцам (advenaires, domicilies); их не призывали к участию в большом Совете, сосредоточивавшем в себе осуществление Верховной законодательной власти.
Когда Руссо поставлен был в необходимость покинуть Францию ввиду висящего над ним приговора Парижского парламента,— он
сразу решил ехать в Женеву и поселиться в ней. Он, видимо, рассчитывал принять участие в ее политической жизни, по крайней мере, в смысле руководительства кружком единомышленников, озабоченных сохранением державных прав народа и одновременно внутреннего мира в государстве. Еще ранее в одну из своих поездок он сошелся с De Luc’om, предпринял в его обществе поездку по Леманскому озеру и, очевидно, ознакомился, благодаря этому, с тем отношением, какое к господствующей в республике олигархии заняли сторонники демократических течений. В Женеве спор шел о том, не захватили ли синдики, т. е. коллегия высших сановников, республики, и тесный совет, составленный из олигархов, те полномочия, которые по праву должны принадлежать всей совокупности «граждан» (citoyens), собирающимся на Большой Совет (grand Conseil). Де Люк и его партия поддерживали это последнее мнение и стремились к восстановлению державных прав гражданства, хотя бы и ценой революции. Руссо, деятельность которого, как политического писателя, началась с изложения взглядов аббата Сен-Пьера на условия упрочения вечного мира среди людей, проникся подобно ему желанием избегать войн столько же внешних, сколько и внутренних. Он, очевидно, не мог примкнуть всецело к революционному движению De Luc’a.
Убедившись в то же время, благодаря изучению истории, главным образом истории республик, начиная от Рима и Афин, переходя к Флоренции и Венеции и заканчивая Женевой, что на первых порах верховенство принадлежало всему народу и что власть перешла к тесным советам и коллегиям сановников не без захвата с их стороны, Руссо поставлен был в невозможность поддерживать и противоположную сторону — сторону предержащих властей г. Женевы. Он счел нужным поэтому разобраться в претензиях обеих сторон и дать теоретическое обоснование взгляду, который он считал и наиболее отвечающим требованиям справедливости, и политической свободе, и всецело отражающим в себе исконные исторические порядки.
В уцелевшем наброске его истории Женевы мы нашли место, в котором он говорит об епископе Адемаре Фабри и о дарованной им гражданам Женевы грамоте. В этой грамоте значится, что они никогда не могут потерять предоставленных им прав, даже в том случае, если бы эти права временно не нашли применения. В числе же этих прав имеется право сходиться на собрания, на своего рода «вече», выбирать в нем властей республики и решать зако
нодательные вопросы. Так как эта грамота известна было Руссо, то одному из женевских комментаторов «Общественного договора» Yuy пришла мысль следующего рода: не заимствовал ли Руссо своего учения о неотчуждаемом народном суверенитете из самого текста грамоты, дарованной в середине XIV века гражданам города — его державным владельцем — епископам. Такая точка зрения могла показаться правдоподобной, т.е. в синтетической передаче грамоты епископ Фабри действительно говорит о такой неотчуждаемости народного суверенитета. Сомнение возбуждало и возбуждает, однако то обстоятельство, что в глазах кальвинистов, какими были женевцы времен Руссо, едва ли большой авторитет могла иметь грамота католического епископа, некогда бывшего феодальным владельцем их города. Новейшие писатели Женевы, в числе их Гаспар Валлет в своей недавней книге о Руссо, считают излишним восходить до XIV века при толковании того источника, из которого Руссо мог извлечь свои данные о значении, какое большой Совет Женевы имел для осуществления народного суверенитета. Валлет полагает, что государственный строй, заведенный в Женеве, ее реформатором Кальвином, отправлялся от признания державных прав общего собрания граждан. Руссо мог поэтому, не греша против истины и не восходя в глубь веков, поддерживать ту точку зрения, что в Женеве, как и во Флоренции, как и в Риме, и в Афинах, верховная законодательная власть, а равно и выбор сановников, — принадлежат по праву не кому иному, как собранию всех граждан, под каким бы именем оно ни выступало: под именем ли веча, или aringa, как в городских республиках Италии, под именем ли народных комиций, как в древнем Риме, или экклезии древних Афин, или под именем Большого Совета, как в Венеции и Женеве.
На вопрос о том, каковы были в середине XVIII века политические учреждения Женевы, Валлет говорит:
«Эдиктами 1543 года, подвергшимися пересмотру в 1568 году, признан был принцип народного суверенитета и в то же время установлен аристократический образ правления в двояком отношении; во-первых, в том смысле, что за тесным советом признано было право почина законодательных предложений, поступавших к Большому Совету; во-вторых, в том, что малые советы получили олигархическое устройство. Что касается до времен самого Руссо, тов сочинениях его противника Антуана Тронше, озаглавленном “Современное положение правительства г. Женевы”, написанном в 1721 году, значится: конституция Женевской республики
следующая — суверенитет принадлежит общему совету граждан и жителей пригородов (citoyens et bourgeois); дважды в год этот совет собирается для выбора “синдиков” и некоторых других высших сановников. Он созывается еще для того, чтобы дать свою санкцию новым законам, а также в тех случаях, когда малый совет считает это нужным. В 1738 году Франция, в союзе с Берном и Цюрихом, вмешивается во внутренние распри г. Женевы и 8 мая издают свой “эдикт посредничества”. Эдикт этот признает за Большим Советом право принимать или отклонять предлагаемые ему законопроекты, право выбирать ежегодно важнейших сановников; утверждать или отклонять проекты новых налогов и договоры о союзах. Тот же эдикт 8 мая 1738 года освящает право граждан делать представления (represantations) совету; рядом с этим Малый Совет и Совет двухсот призваны пополнять друг друга путем кооптации. Им вверено исключительное право вносить в Большой Совет законопроекты. Никакой практической санкции не дано праву граждан делать представления Совету двухсот и Малому. Все это благоприятно, с одной стороны, признанию суверенитета народа, а с другой,— аристократического образа правления: никакой гарантии не дано индивидуальным правам граждан. Государственная церковь, церковь кальвинистская, продолжает управляться неизменными церковными правилами ее учредителя».
Сопоставим с этим основные учения Руссо. Они изложены им трижды: во-первых, в 5-й книге «Эмиля», где резюмированы мысли «Общественного договора», во-вторых, в более полном виде — в самом «Общественном договоре» и, в-третьих, в той защите, какую доктрина «Общественного договора» нашла в 6-м из писем, написанных с «Горы»... В 5-й книге «Эмиля» Руссо объявляет, что «Общественный договор»,— т.е., скажем мы, не насилие, а соглашение,— кладет основу гражданскому сообществу. Соглашение касается передачи совокупности всех граждан имущества, личности, жизни всех участников соглашения. Отныне руководительство переходит к общей воле граждан, и каждый становится составною и нераздельною частью общего целого. Суверен, которым является совокупность всех граждан, не может высказывать ничего, кроме общей воли; его веления должны касаться общих всем вопросов; их выражением служат законы, т. е. общие нормы. Народ, как суверен, не вправе постановлять по частному вопросу. Что касается до правительства, то это посредствующее тело, установленное между подданными, с одной стороны, и сувереном — с другой. Оно приводит
их в сношение между собою. Ему поручается исполнение законов и охрана, как гражданской, так и политической свободы. Нельзя без опасности разрушить государство — упразднить ни одного из этих трех составных его частей: суверена, т. е. народ, князя, т. е. правительство, и подданных, т.е. население государства.
Раз суверен вздумает править, а князь издавать законы, раз подданные откажутся от повиновения, то наступит анархия и государство будет разрушено.
Та точка зрения, согласно которой Руссо имел в виду изданием своего «Общественного договора» достигнуть практической цели — реформы Женевского государственного строя,— находит себе подтверждение и от противного. Ссылаясь на его собственные слова, столько на изданные им сочинения, сколько и на письма, очевидно, не рассчитанные на распространение в широких кругах, мы имеем возможность доказать: во-первых, что Руссо не имел в виду колебать общественные или государственные порядки Франции и вообще любого народа, имеющего исторически сложившийся строй, во-вторых, что принципиально он был врагом революции и, в-третьих, что эта вражда вызывалась тем обстоятельством, что в принципе он отрицал существование так называемой «лучшей формы правления», полагая, что учреждения создаются под непосредственным влиянием как физических, так и исторических причин, что государственные порядки каждого народа должны иметь, ввиду сказанного, свои особенности, и что эти характерные черты всякого народного уклада не могут подвергнуться произвольным изменениям без вреда для народного благополучия. В этом отношении, как и во многих своих мыслях, Руссо вовсе не был противником Монтескье, каким выставляли и выставляют его весьма часто. И у Монтескье государственный порядок народов признается далеко не случайным, а обусловлен протяжением страны, климатом и историческим прошлым. Под климатом разумеется вся совокупность физических условий, даже столь трудно подводимых под понятие климата, как длина береговой линии и плотность населения. На Монтескье, как и на Руссо, в сущности, отразилась точка зрения древних писателей, которые рассматривали государственный порядок, как нечто придуманное мудрецом-законодателем, взвесившим все обстоятельства данного случая и наделившим свой народ только соответствующими ему учреждениями.
Такими законодателями были Минос, Ликург, Солон. Их примеру не прочь был последовать и автор «Общественного договора»,
серьезно взявшийся за предложенную ему поляком Вьельгорским работу — начертать проект конституции для Речи Посполитой. И позднее, после отпадения Корсики от Генуэзской республики, Руссо, по просьбе Буттадюко, задался мыслью об устройстве общественных и политических порядков острова.
Отрывок из этого неоконченного сочинения дошел до нас и отпечатан среди других уцелевших фрагментов. На работе, произведенной Руссо, как для Польши, так и для Корсики, весьма наглядно выступает присущая ему основная идея, что государственные учреждения обусловливаются рядом причин. Он ставит государственные порядки в непосредственную зависимость от объема государства: демократии возможны только в пределах ограниченной территории, монархии свойственны обширным политическим телам, государства средние по размерам получают аристократические учреждения. Недостаток всех этих построений лежит, разумеется, в том, что они не считаются с той истиной, которая гласит, что учреждения растут, что государственные порядки изменяются с поступательным ходом истории, по мере развития все большей и большей сознательности в массах и пробуждающемуся в них стремлению к самодеятельности и самоуправлению. Иначе нельзя было бы объяснить перехода европейских народов от неограниченной монархии и олигархического образа правления, свойственного немногим уцелевшим еще в XVIII веке республикам, к демократическим, конституционным или парламентарным порядкам с наследственным или избирательным главою. Но Руссо, разумеется, так же неосновательно было бы винить за недопущение им идеи прогресса общественных и политических порядков, как и несправедливо противополагать ему Монтескье. Современная им Европа представляла скорее картину политического регресса, нежели развития. Монтескье указывал на то, что народы устремляются в объятия абсолютизма с тою же неудержимостью, с какой реки текут в море. Он отметил в своем дневнике, что в Голландии и в Швейцарии, в которых удержались еще республиканские порядки, произошел сдвиг в сторону олигархии и плутократии. То же, разумеется, должен был отметить и Руссо при изучении как венецианских порядков, так и женевских. Идея прогресса, чуждая писателям середины XVIII века, по крайней мере, во всем, что касается общественного и политического уклада, зарождается вместе с той ликвидацией «старого порядка», начало которого было положено переворотом 1789 года. Недаром же Кондорсе, разрывая с теорией круговращательного движения гражданствен
ности и политических порядков, с теорией прохождения одним и тем же народом целого цикла, составленного из следующих друг за другом государственных форм, перешел к идее безостановочного развития или прогресса. Первая точка зрения, как известно, нашла выразителя себе в современнике Монтескье — Вико, вторая неразрывно связана с Кондорсэ, участником и жертвой революционного движения. Для Руссо, как и для Монтескье, политические порядки не совершенствуются, а вырождаются. Монтескье отметил черты этого вырождения во Франции. Они обнаружились в том, что сословно-представительная и уравновешенная монархия Средних веков, называемая им «готической», уступила место единовластию, вместе с падением генеральных штатов и политической роли судебных парламентов. Власть монарха потеряла всякую удержь. Нет более границ произволу. Руссо также указал на вырождение и в республиках и в монархиях. С этим надо привести в соответствие его пророчество грядущей революции; оно относится к последним годам его жизни и должно быть признано далеко не первым по времени. Маркиз д’Аржансон десятками лет ранее предсказывал ее в своих «Considerations sur la France». Подтвердим несколькими цитатами из собственных сочинений Руссо выставленные нами положения.
Вот, кажется, место, не оставляющее сомнения в том, что в лице Руссо мы не имеем дело с сторонником государственных переворотов. Еще задолго до появления в свет первых рассуждений «о вреде наук и искусств» и «о причинах неравенства» Руссо в послании к Паризо, заключающем в себе более трехсот стихов, признается, что пребывание в Париже и вообще во Франции заставило его отказаться от тех крайних принципов, которые привиты были ему воспитанием и превратностями судьбы в юношеском возрасте. «Я навсегда отказался,— пишет он,— от этих жестоких принципов горьких и незрелых плодов родного мне края; они подобно дрожжам, подымающим “опару”, порождают в юных сердцах республиканскую гордость. Я научился уважать дворянство, славное своими подвигами, умеющее самой добродетели придавать особый блеск; нежелательно, чтобы в обществе существовало меньшее неравенство рангов». Это стихотворение написано между 1741 и 1742 годами, за 20 лет до обнародования «Общественного договора». В своей «Исповеди» Руссо сознается, чтб, когда несколько лет спустя, он в том же Париже выступал в роли противника деспотизма и гордого республиканца, он чувствовал в то же время некоторое пристрастие (une predilection) к той самой французской нации, которую он объявлял рабской, и к тому самому
правительству, против которого он фрондировал. «Забавно то,— пишет он,— что, стыдясь такого влечения, столь противного моим принципам, я не решался даже признаться в этом».
Известно, что Руссо объяснял впоследствии резкий тон своих первых рассуждений влиянием, оказанным на него Дидро. В «Исповеди» прямо сказано, что резкость, сатирический тон и желание изображать все в мрачном свете — черты, которые развились в нем в общении с тогдашним его другом, редактором великой «Энциклопедии». Но и в этих уже рассуждениях Руссо признается, что он не желал бы жить в республике новой формации, созданной недавним переворотом.
«Народы,— пишет он,— раз привыкшие иметь властителей, лишены возможности обходиться без них. Попробуют они низвергнуть существующий порядок, и они удалятся еще в большей степени от свободы: ведь так легко принять за нее необузданный разгул, который, на самом деле является ее противоположностью. Революционные перевороты выдают (народы) с головою “соблазнителям” (seducteurs) — мы теперь сказали бы льстецам-демагогам — а эти, в конце концов, сделают только более тягостными их цепи».
Кто любит открывать в довольно неопределенных выражениях определенное пророчество грядущих событий, мог бы привести это место для обоснования того взгляда, что Руссо предвидел и Наполеоновскую диктатуру и декабрьский переворот 1851 года. Революции, по мнению Руссо, надо избегать, даже в том случае, когда она вызвана справедливыми мотивами. «Может показаться,— пишет он,— что человек имеет право отказаться от зависимости. Но ужасные раздоры, бесконечные нарушения порядка, которые вызвало бы пользование этим правом, вполне доказывают, насколько правительство нуждается в более прочном базисе, чем тот, который представляет разум и как было необходимо для общественного порядка, чтобы власть верховная приобрела от божественной воли характер чего-то священного и ненарушимого, что отняло у подчиненных ей право уклоняться от повиновения. Если бы религия не оказала людям другого блага, кроме этого, то и одного его было бы достаточно, чтобы дорожить ею и следовать ей, несмотря на все ее злоупотребления».
В известном письме к Даламберу Руссо весьма определенно обнаруживает свою консервативную тенденцию. «Между народами,— говорит он,— необходимо отметить большое различие в нравах, в темпераменте, в характере. Разумеется, человеческая
природа всюду одна и та же, но она подвергалась изменению под влиянием различных между собою религий, государственных порядков, законов, обычаев, предрассудков, климатов или физических условий». Думаешь, что Руссо как бы предугадывает то направление современной социологической мысли, которая полагает, что не одни физические, но и общественные условия определяют собою и массовую и индивидуальную психологию людей. Из того положения, что люди крайне разнятся между собою под влиянием среды, Руссо делает тот вывод, что необходимо не довольствоваться шаблонными, общими для всех порядками, а искать то, что может быть полезным в данное время и в данной стране. «Необходимо привесть в такое соответствие свод законов с тем народом, для которого он написан, чтобы самое исполнение его вызывалось этим соответствием» (Письмо к Даламберу, часть II).
В анализе проекта «Вечного мира», написанного аббатом Сен-Пьером, Руссо пишет, между прочим: «Система европейских государств имеет ту степень устойчивости, которая, сохраняя их в постоянном брожении, устраняет в то же время мысль о возможности низвергнуть установившийся порядок. Нашим бедствиям не предвидится конца, так как всякая серьезная революция отныне является невозможной». В другом своем сочинении, которое также вызвано критикой аббата Сен-Пьера и предлагаемой им системы множественности советов, Руссо пишет: «Подумайте только об опасности взволновать массы, из которых слагается французская монархия. Кто в состоянии будет воздержать начавшееся напряжение или предвидеть те последствия, какие оно может иметь? Если бы даже бесспорными были все преимущества нового порядка, то какой человек с здравым смыслом решился бы отменять древние обычаи, изменять исконные принципы и придавать государству другую форму, чем та, к которой оно было приведено 1300-летним существованием? Все равно — будет ли правительство тем же, каким оно было искони, или подвергшимся изменениям в течение столетий — одинаково неосторожным было бы вызывать в нем перемены. Если оно сохранилось неизменным — надо относиться к нему с уважением; если оно выродилось, то под влиянием времени и истории человеческая мудрость бессильна изменить все это». Очевидно, что с Таким утверждением не стоит в противоречии известная фраза «Общественного договора»: «Народы, стремившиеся к владычеству и завоеванию и создавшие благодаря этому обширные политические дела, должны надолго отказаться от свободы».
Чем же, спрашивается, обязаны Руссо не монархии, а народоправства? В чем состоит его доктрина народного суверенитета, с одной стороны, и его учение об отношениях государства и церкви — с другой? Какие практические применения нашли обе доктрины, в какой степени существующие в мире республики устроили по его образцу свои гражданские и духовные власти?
Руссо вверяет законодательство всему народу и считает закон выражением общей воли. Отсюда то последствие, что общеобязательная норма не может быть издана народной представительной камерой, что последняя в сущности только устанавливает проекты новых законов и что народу в его избирательных округах предоставлено принять или отвергнуть эти законы. Руссо является поэтому не только отцом движения, приведшего к установлению начала всеобщего голосования на выборах, но еще в большей степени тех различных приемов, которыми обеспечено народу первое и последнее слово в законодательстве. Плебисцит, референдум, прямой законодательный почин одинаково могут быть возводимы к нему, как к первоисточнику. Это, разумеется, не значит, чтобы и в практике народоправств XVIII века, с которой Руссо легко мог быть знаком, не заключалось зародышей референдума. И в Бернской республике, и одно время в зависимом от нее Валлисе от местных союзов зависело окончательное принятие решений, выработанных на представительном собрании государств, а к принятию или к отправлению прошедших через народные камеры законопроектов призываемо было все взрослое мужское население. Под влиянием идей Руссо составители конституции первой республики — республики 1793 года — предложили подвергнуть ее народному плебисциту, и этот плебисцит, как известно, не раз повторялся во Франции в эпоху обеих империй. Плебисцитарный характер носит и та конституция Гельветской республики 1802 года, которую, согласно прямо выраженному в ней требованию, подвергли затем голосованию по избирательным округам, причем поставлен был вопрос исключительно об ее принятии или отвержении. В 1874 году референдуму подверглась и ныне действующая с немногими изменениями конституция Швейцарии. Гораздо раньше те же порядки утвердились в кантоне Цюрихе — столько же по отношению к конституции, сколько и по отношению к простым законам. А с того времени практика референдума усвоена была и всеми другими кантонами. Она принята также и по ту сторону Атлантики во многих штатах, иногда, с характером факультативным, т.е. от самой палаты зависит обратиться к референдуму или обойтись без него. Так было, например,
с народным представительством штата Мэн, впервые задавшимся вопросом о борьбе с алкоголизмом путем запрещения самой продажи спиртных напитков. Законы, устанавливающие новые виды налогового обложения, или увеличивающие самый размер налогового обложения, или создающие те или иные сообщества для эксплуатации железных дорог, трамваев, омнибусов и т.д., обыкновенно также поступают под контроль народа в форме референдума.
От политической доктрины Руссо перейдем к нормированию им отношений государства и церкви.
Высказываясь в смысле терпимости, если не религиозной свободы, Руссо требовал признания гражданами некоторых «основных истин», столько же религиозного, сколько и гражданского характера. В письме к своему другу в Женеве Мульту от 17 февраля 1763 года он заявляет: «Я в отношении к религии терпим по принципу, как христианин, Я отношусь терпимо ко всему за исключением нетерпимости». В своих «письмах с Горы» он высказывает то же начало, говоря: «Сановники и короли не могут иметь власти над душами, если только люди повинуются законам государства. Не дело сановников и монархов вмешиваться в то, что будет в загробном мире, над которым они не имеют наблюдения». Все это не мешает тому, что в «Общественном договоре» тот же Руссо различает в религии двоякого рода догматы: одни, устанавливая принципы наших обязанностей, служат основой морали, а другие носят спекулятивный характер. Первые, однако, «подлежат ведению правительства». «В письмах с Горы», защищая ту же мысль, Руссо поясняет, что, поступая так, правительство изгоняет вредные мнения, направленные к тому, чтобы разрубить социальную связь, соединяющую граждан одного государства. Не отрицает также Руссо за государством и права регулирования культа граждан. В своей «Исповеди Савойского викария» он говорит: один суверен имеет право устанавливать этот культ. Во всем этом он мало расходится с Бейлем, и оба одинаково примыкают к тем порядкам отношений между государством и церковью, какие установлены были в Женеве Кальвином. «Я желал бы,— пишет Руссо в X книге “Общественного договора”,— чтобы в каждом государстве имелся свод морали или некоторое гражданское вероисповедание, которое в своей положительной части содержало бы социальные принципы, обязательные для каждого человека». Догматы этой гражданской религии должны быть, по мнению Руссо, простыми и малочисленными. Существование божества могущественного, разумного, благодетельного, всевидящего и пекущегося
о людях, загробная жизнь — блаженство для праведных, наказание злых, святость общественного договора и законов — таковы положительные догматы. Отрицательные же догматы, т.е. догматы, не-допускаемые в государстве, все сводятся к одному — к нетерпимости. Религии, ее придерживающиеся, должны быть изгнаны из пределов государства. Таким образом Руссо, подобно Кальвину, видит основание к исключению католиков из пределов кальвинистской гражданственности,— но только потому, что католики не желают допускать терпимости по отношению к другим церквам. В то же время он не отрицает за властью права удаления из государства каждого, кто не придерживается перечисленных им догматов. Изгнать его следует не как нечестивца, а как человека антиобщественного, неспособного, говорит Руссо, уважать законы, справедливость и жертвовать жизнью ради долга. Если кто-нибудь, признав публично эти догматы, поступает так, как будто он не верит в них,— да будет он наказан смертью. Он совершил величайшее из преступлений — он солгал перед лицом народа.
И эта сторона учения Руссо, в значительной степени обусловленная религиозно-политическим укладом кальвинистской Женевы, в свою очередь, к сожалению, оказала влияние на те первые опыты регулирования отношений государства к церкви, какие представила собою революционная Франция. Так называемая «constitution civile du clerge», предложенная аббатом Грегуаром, как и вынуждаемая страхом наказания религия «верховного существа», установленная во Франции Робеспьером, имеют своим прототипом тот «гражданский катехизис», соблюдение которого вынуждается государством и властями идеальной республики, задуманной Руссо. Куда шире его смотрит на отношение церкви и государства Л.Н. Толстой, которого так часто и не вполне верно сравнивают с Руссо. Толстому чужды всякая мысль ограничения свободы личности и ее духовного самоопределения.
Поступательное развитие учреждений заставило и демократию во многом отойти от ригоризма Руссо. Представительная система, которой он не допускал, нашла применение себе в республиках с обширной территорией. Горячему приверженцу Руссо аббату Сийэсу пришлось в этом отношении разойтись со своим учителем. И с этого времени нет республик, за исключением шести мелких кантонов Швейцарии (Ури, обоих Унтервальденов, обоих Аппенцелей и Гларуса), которые бы считали возможным обходиться без представительства.
Отношения церкви к государству в передовых демократических странах, и прежде всего в Америке, сложились по иному образцу, чем тот, который рекомендуем был Руссо. Они сложились по началу отделения церкви от государства, устраняющего всякую мысль о возможности для какой бы то ни было государственной власти настаивать на исповедании религиозного или гражданского катехизиса.
Но доктрина Руссо продолжает жить в народоправствах, во-первых, в том смысле, что всякая власть в них признается исходящей от народа, как первоисточника, и что исполнительные органы — сановники — считаются не более как прямоуполномочен-ными того же народа, который ежечасно может отнять у них власть в случае несоблюдения данного им повелительного мандата.
Сказанным не исчерпывается еще жизненное влияние политической философии Руссо. Вслед за Монтескье он провозгласил пользу установления между государствами федеративной связи и посвятил развитию этой мысли особый трактат, только потому не дошедший до нас, что он был уничтожен виконтом Дантрегом из страха создать благоприятное течение в пользу жирондистов. Но и по тому немногому, что нам известно из рассуждения Руссо о польской конституции и из некоторых глав «Общественного договора», федеративный образ правления казался ему обеспечивающим возможность прямого народоправства, с одной стороны, и оборонительной силы государства — с другой.
Мысль Руссо была использована не одними деятелями Американской революции и сотрудниками журнала «Федералист» — она нашла применение себе одинаково и в Старом и в Новом Свете, и в Швейцарии, в состав которой по Венскому конгрессу вошла его родина — Женева, и в том ряде союзных государств, из которых последним является зарождающаяся на наших глазах Балканская федерация.
СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА СПЕНСЕРА *
Из взглядов, высказанных Спенсером по вопросам обществоведения, наибольшей известностью пользуется его органическая теория государства. Спенсера превозносят или, наоборот, порицают, смотря по тому, готовы ли принять или отвергнуть эту гипотезу. Но органическая теория государства создана вовсе не Спенсером; мало этого, социальная доктрина его не вытекает необходимо из признания за государством органической природы.
Едва ли мне нужно напомнить, что первый зародыш учения, согласно которому различные социальные классы и соответствующие им учреждения признаются частями одного органического целого, восходит к Платону. Много веков спустя после Платона, Плутарх в своих «МогаВа» проводит ту же точку зрения. «МогаНа» Плутарха были очень распространены в византийском и средневековом обществах. Они сохранили от забвения Платоново учение об органической природе государства даже в эпоху, когда мысли величайшего из философов Греции известны были миру лишь в отрывочном виде и доходили до него окольными путями. В ХП веке Иоанн Салисберийский, следуя Платону, снова выставил-положение о государстве-организме. Прежде появления «Богословской Энциклопедии» («Summa theologiae») Фомы Аквината, «Polycraticus» Иоанна Салисберийского резюмировал, так сказать, все политическое знание Средних веков. К этой книге постоянно обращались за справками, и ее не раз рабски списывали. Благодаря ей, органическая теория государства перешла
Печатается по: Русская внешняя школа общественных наук в Париже: Лекции профессоров Р. В. Ш. о. н. в Париже / Под ред. Е. В. де Роберти, Ю. С. Гамбарова и М. М. Ковалевского. СПб., 1905. С. 58-84.
в сочинения первых представителей схоластической философии, особенно в «Specula» Винцента из Бовэ. Один существенный отдел этих «Specula», доселе не изданный, хранится среди рукописей одного колледжа в Оксфорде. В этом-то фрагменте мне и удалось открыть воспроизведение доктрин Платона и Плутарха о государстве-организме.
Эта теория, связываемая обыкновенно с именем Гоббса, была известна, таким образом, за много веков до него. Гоббс сумел придать ей, однако, некоторую оригинальность и в высшей степени блестящую форму в своем «Левиафане». Учение Герберта Спенсера есть лишь новое выражение той же доктрины, насчитывающей, как мы видели, более чем две тысячи лет существования и только несколько обновленной Гоббсом.
Даже среди современных социологов эта доктрина не составляет исключительного достояния великого английского мыслителя. Шеффле, Лилиенфельд, Рене Вормс выставили ее за свой счет и впали в немало преувеличений при ее развитии. В своих поисках за аналогиями между государством и живым организмом, они дошли до отождествления биржи с человеческим сердцем. Они готовы были говорить о социальной патологии по поводу социализма и анархизма и т.д. и т. д... Мы напрасно стали бы искать таких же преувеличений у Спенсера. Кроме того, автор «Основ социологии» представляет себе социальные явления скорее с характером суперорганических, чем органических. Не он ли, в первой же главе своих «Основ», говорит, что намерен приступить теперь к решению вопросов, относящихся к области суперорганической эволюции, в предыдущих же трудах ему приходилось иметь дело с эволюцией чисто органической (с. 5). Форма эволюции, которую я называю суперорганической,— продолжает Спенсер,— должна была вырасти незаметно из органической. Мы можем свободно подвести под это понятие те акты и явления, которые предполагают координированные действия многих индивидов и порождают такие сложные и обширные последствия, что их легко отличить от действий отдельных лиц. Еще в 1850 году Спенсер писал в своих знаменитых «Основных Принципах» (§ III), что процессы, вызываемые действием живых агрегатов или организмов, образуют особый род явлений, которые могут быть названы- суперорганическими; их можно встретить даже среди низших существ. Эспинас взялся доказать правильность этого положения в своей книге об обществах животных, книге, которая справедливо получила весьма громкую известность. «Если суперорганическая
жизнь появляется уже в союзах животных, продолжает Спенсер, то она особенно характерна для человечества. Отношения людей между собою принадлежат к типу явлений суперорганических par excellence». Спенсер возвращается к той же мысли и в «Основах социологии». «Мне казалось необходимым,— пишет он,— обратить внимание на то, что над органической эволюцией постоянно возникает новый и высший тип эволюции, которую я бы назвал охотно суперорганической». Она представляет несколько типов. Каждый определяется особенностями того животного царства, у которого мы его наблюдаем. Спенсер начинает свой обзор с насекомых и заканчивает его изучением явлений, свойственных людям.
Таким образом, основные взгляды Спенсера несколько отличны от тех, какие ему приписывают. С другой стороны, один тот факт, что ученые, как Шеффле, выводили из того же положения о государстве-организме совершенно иные последствия, чем Спенсер,— не оставляет сомнения в том, что органическая теория государства не стоит в тесной связи с его социальной доктриной.
Остановимся несколько подробнее на этом вопросе, так как он крайне важен для верного понимания мыслей английского философа. Автор «Строя и жизни общественного тела», немецкий экономист и социолог Шеффле, был в такой же степени, как и Спенсер, защитником органической теории государства; но, в противоположность ему, он старался доказать, что такая теория необходимо ведет к социализации производства, к той самой социализации, ярым противником которой Спенсер оставался всю свою жизнь.
Из этого следует, что действительный источник социальной доктрины Спенсера надо искать в чем-то ином, а не в органической теории государства. Мы увидим впоследствии, что наш автор пришел к своему пониманию природы справедливости, благодаря расширению основ доктрины, появившейся в Англии еще в середине XVII столетия, доктрины естественного права. Спенсер старался связать ее с великим законом эволюции, открытым им еще до Дарвина. Эволюция, согласно Герберту Спенсеру, напомню я, происходит двумя различными и взаимно восполняющими друг друга порядками: путем дифференциации функции и им соответствующих органов и путем интеграции. В приложении к будущему государства, закон эволюции требует постепенного ограничения его атрибутов в интересах индивидов и свободных ассоциаций. Но в то же время государство должно сосредоточить в своих руках всю власть, необходимую для защиты прав личности.
Мне кажется, тут было бы весьма уместно задать себе вопрос, находит ли эта доктрина подтверждение в действительной истории государства, или, может быть, государство развивалось в направлении совершенно обратном тому, какое приписывает ему Спенсер. Не вернее ли передают смысл его эволюции те, кто говорит о прогрессивном расширении функций государства? Но если так, то что позволяет нам утверждать, что это расширение не перейдет никогда той или иной наперед установленной границы, что единственной задачей государства будущего надо считать обеспечение каждому невозбранного пользования его свободой?
Чтобы вкратце указать на главные возражения, которые можно выставить против исторической концепции Спенсера, я позволю себе напомнить, что государство даже не всегда исполняло ту роль полицейского комиссара, заботящегося о сохранении общественного порядка, к которой английский философ хотел бы свести всю его деятельность. В эпоху, когда преследование преступника было делом частным, и родственники сами должны были мстить за жертву, государство вмешивалось лишь косвенным образом во внутренние ссоры между семьями и родами. Еще в правление Ины убийство короля вело за собою в Англии лишь частное преследование убийцы. Прошли столетия, прежде чем из понятия мира короля и церкви выросло понятие мира всего королевства, земского мира.
С другой стороны, государство уже с давних пор вмешивалось в область экономической жизни. Так было во времена классической древности и позднее, в Средние века. Нужно ли мне напоминать длинный ряд законов, начиная с закона вавилонского царя Гамураби, современника Авраама, которые пытались с большим или меньшим успехом установить цены товаров и размер заработной платы? В моей «Истории экономического роста Европы» я подробно остановился на анализе рабочего законодательства Средних веков,— в особенности того, которое было вызвано к жизни экономическими последствиями так называемой «Черной Смерти» (1348 г.). Все европейские правительства, под давлением владетельных классов, старались в это время помешать росту заработной платы, который явился естественным результатом уменьшения числа жителей, а следовательно, и трудящихся. То же самое явление, только в еще большем размере, имело место в правление Диоклетиана. Знаменитый Момзен опубликовал и выяснил значение его закона о maximum. Аналогичные этому законы мы встречаем как при Карле Великом и первых германских императорах,
так и во времена Елизаветы Английской, так, наконец, и в эпоху французского Конвента 1793 года.
С другой стороны, с момента реформации, государство призвано было исполнять по отношению к бедным и обездоленным те же обязанности, какие в Средние века лежали на Церкви; немедленно вслед за тем ставится на очередь, в законодательном порядке, вопрос о праве на труд. В Англии закон приказывает приходам содержать живущих на их землях нищих, доставлять им работу на дом или устраивать для них особого рода национальные мастерские, известные под именем «домов для бедных». Вводится новый местный налог для покрытия издержек на учреждение и содержание этих домов. Драконовские меры, введенные Генрихом VIH и направленные против бродяг и праздношатающихся, дополняются целым рядом законов и указов, предписывающих приходским властям заботиться о материальных нуждах безработных.
Изучая это законодательство, Монтескье еще до Тюрго пришел к признанию права на труд. В «тетрадях жалоб» или наказах избирателям от 1789 года не раз указывается на необходимость доставлять всем гражданам возможность найти заработок. Знаменитые национальные мастерские, учреждение которых в 1848 году, быть может, не вполне основательно приписывают Луи Блану, были лишь частичным и недостаточным осуществлением тех самых требований, которые вытекают из признания права на труд.
Не продолжая далее этого беглого перечня фактов, красноречиво говорящих о прогрессивном сосредоточении в руках правительства самых разнообразных функций, мы вынуждены сказать, что эволюция государственной власти, как она нам рисуется, совершенно не соответствует построениям Спенсера.
Из всего сказанного мы можем сделать то заключение, что на его социальную и политическую философию нельзя смотреть, как ла необходимый вывод из органической теории государства. Не может быть сомнения в том, что, строя свою доктрину, Спенсер почти не руководствовался теми представлениями, которые сложились в его уме по отношению к эволюции государства. Но, в таком случае, где же искать источник его ученья, каковы его исходные моменты и к какой школе следует причислить Спенсера-политика. В одном из произведений своей юности, «Социальной статике», он излагает свою социальную и политическую программу, до малейших подробностей напоминающую радикальные доктрины, которые были в ходу в Англии в середине XVII века, в ту эпоху, когда
английские нивеляторы, так называемые левеллеры, с Джоном Лилльборном во главе, провозглашали себя защитниками прирожденной свободы английского гражданина (freeborn englishman). Эта доктрина, которая только отчасти была воспринята Джоном Локком, не признавала за государством никаких других функций, кроме обязанности обеспечить каждому гражданину возможность пользоваться свободой, в одинаковой степени необходимой всем людям. Каждый гражданин может требовать, чтобы его судили сограждане, его пэры, т. е. свободно избранные присяжные; он должен быть наделен правом обжаловать в судах случаи произвольного ареста; законодательством должны быть признаны свобода совести, право платить налоги лишь в случае предварительного согласия на них народных представителей, свобода слова и печати, свобода сходок. Все, что столетие спустя философы и законоведы вздумают обнять неопределенным термином «естественное право», по существу своему вполне отвечает тем требованиям, которые левеллеры ставили власти, ссылаясь на прирожденные права английского гражданина.
Обещания, данные Иоанном Безземельным своим подданным в Великой Хартии 1215 года, должны были в глазах левеллеров найти давно ожидаемое осуществление из рук республиканского правительства, основанного пресвитерианами и индепендентами Кромвеллевской армии. Недавно в Англии был опубликован ряд любопытных документов, бросающих живой свет на взгляды, распространенные среди офицеров и солдат, стоявших под знаменами будущего Лорда Протектора. Между членами Военных Советов армии, думавшими, что они призваны указать королю и парламенту правильный путь к решению всех поставленных временем вопросов, происходили не раз в высшей степени интересные дебаты о происхождении, характере и границах верховной власти. Две теории разделяли в это время владычество над умами. Республиканские порядки, сложившиеся вслед за распущением Долгого Парламента, носят на себе печать ожесточенной борьбы, которую вели между собою приверженцы этих двух противоположных теорий.
Одна из них опиралась на те же принципы, которые и ранее руководили политической жизнью Англии; она только истолковывала их в духе демократии и республики. Государство должно было, согласно этой теории, оставаться столь же всемогущим, как и во времена Генриха VIII и Елизаветы. Кромвелль и его духовный руководитель Айертон признавали за гражданами лишь те права,
которые они называли «существенными», т. е., прежде всего, свободу совести. Что же касается до других проявлений индивидуальной свободы, то все они имеют, по их мнению, только второстепенное значение и не должны выходить за пределы, в которые найдет нужным поставить им глава исполнительной власти и Парламент, составленный, в отличие от прежнего, всего-навсего из одной палаты, при почти всеобщем праве голосования.
Эта точка зрения, которой придерживались главные начальники, далеко не разделялась большинством офицеров армии. Проникнутые идеями Джона Лилльборна, они высказывались в пользу установления такого государства, которое относилось бы с уважением к индивидуальной свободе граждан и ставило бы своей задачей заботиться о возможно полном проведении ее в жизнь. Борьба этих двух доктрин кончилась победою той, которая отстаивала всемогущество правительства. Свое завершение она нашла в произведении, которое совершенно несправедливо считают за программу монархической партии; я говорю об обширном трактате по публичному праву, известном под именем Левиафана. Одно то, что Кромвель разрешил автору этого произведения, Томасу Гоббсу, поселиться в Англии, несмотря на то, что он еще недавно находился в близких сношениях с претендентом на английский престол, Карлом Стюартом, должно было бы вызвать сомнение в тех, кто продолжает видеть в Гоббсе, прежде всего, горячего защитника королевского абсолютизма. На самом деле автор «Левиафана» требует всемогущества для государства, независимо от формы его правления.
Государство, согласно Гоббсу, является продуктом сознательной деятельности множества людей, испытавших на себе опасности и невыгоды естественного состояния. Последнее рисуется его воображению, как постоянное столкновение страстей и интересов, как «борьба всех против всех». Стремясь к установлению мира, люди соглашаются уступить избранной ими власти все свои права, без исключения; они соглашаются признавать только те формы свободы и те порядки собственности, которые будут установлены этою властью, исповедовать ту религию и руководствоваться тою моралью, которую власть государства признает наиболее желательной. Только ценой таких пожертвований может быть обеспечен, по мнению Гоббса, внутренний мир. Несмотря на оригинальность, которую имеет на первый взгляд эта доктрина, она является, в конце концов, лишь крайним выражением того самого принципа, которого англичане придерживались уже в течение веков и который едва ли
может быть выражен лучше, чем известной сентенцией судьи Кока: «Парламент все может; он не в состоянии только из мужчины сделать женщину, а из женщины мужчину». Этим Елизаветинский судья хотел сказать, что для могущества Парламента нет других границ, кроме тех, которые определяются законами природы. Во Франции выразителем этой теории явился Жан-Жак Руссо; он истолковал ее в пользу демократической власти, власти всего народа, который своими решениями облекает в форму закона «общую волю всех граждан». Суверенитет народа есть лишь новый вид всемогущества государства.
Герберт Спенсер с самого начала объявил себя решительным противником этой доктрины, которую незадолго перед ним горячо защищал в Англии апостол утилитаризма Бентам.
Против этого знаменитого врага «Декларации прав человека и гражданина», полагавшего, что в ней нашли себе выражение одни принципы анархии, и выступил с глубокой и систематической критикой наш философ. Прочтите первые страницы его «Социальной статики», написанной несколько месяцев спустя после февральской революции, изучите также, как она этого заслуживает, последнюю часть его большого сочинения «О морали», появившегося незадолго до его смерти, и вы убедитесь в том, как тесно связаны между собою положения его доктрины и как верен остался он всю жизнь принципам, раз признанным им правильными.
Его учение целиком вытекает из одной общей посылки, именно той, что «счастье зависит от наиболее полного пользования нашими способностями». Но такое пользование может иметь место только в том случае, если каждому будет предоставлена самая широкая свобода. Ей могут быть поставлены лишь те границы, которые вытекают из признания равной свободы других, т.е. всех граждан или, вернее, всех людей. Спенсер не ограни чивает действие своего принципа пределами государства; свобода эмиграции и свобода торговли должны быть, по его мнению, равно гарантированы от всякого вмешательства со стороны государства, а это одно уж служит доказательством интернационализма английского социолога. Таков он был в начале своих дней, и таким он остался до смерти. Достаточно вспомнить его отношение к англо-бурской войне, его нападения на империалистские тенденции, на возрождение английского протекционизма и английской исключительности.
Признав вместе с «левеллерами» или нивеляторами XVII столетия принцип равной для всех свободы, Спенсер последовательно
выводит из него следующие положения: государство должно заботиться о том, чтобы граждане могли беспрепятственно пользоваться личной автономией. Когда государство расширяет свою власть, беря на себя выполнение и других функций, помимо охраны свободы, то последствием этого может быть помеха ее развитию. Всякой функции должен соответствовать орган; функция защиты индивидуальной свободы принадлежит по праву государству; этой одной функции для него совершенно достаточно. Кто хочет заставить государство исполнять еще какую-нибудь другую роль, например, заботиться о доставлении возможно большего счастья возможно большему числу людей, тот, если верить Спенсеру, не понимает закона эволюции, так как этот закон состоит в прогрессивной дифференциации функций и соответствующих им органов.
Еще в первом своем социологическом трактате, в «Социальной статике», написанной в 1849—<18>50 годах, Спенсер заявляет, что между высшими и низшими животными замечается различие в числе органов, исполняющих отдельные жизненные функции. Тот же факт встречается и в человеческих обществах в зависимости от степени их развития. Взяв его за критерий, мы можем классифицировать все виды человеческих сообществ в более или менее дифференцированные. Закон дифференциации управляет, по мнению Спенсера, всем ходом развития общественной жизни; он проявляется как в экономической сфере в форме разделения труда, так и в сфере развития языка и учреждений. В новом издании того же сочинения, вышедшем в 1902 году, мы встречаем примечание, гласящее, что еще в 1849 году Спенсер придерживался тех же мыслей насчет природы эволюции или прогресса, что и полвека спустя, когда заканчивался им его обширный трактат о социологии1.
Всякое расширение функций государства, противоречащее закону прогресса, требующему постоянной дифференциации, является поэтому, в глазах Спенсера, понятным движением. Оно заключает в себе вместе с тем посягательство на индивидуальную свободу. Спенсер пытается доказать это, прибегая к форме диалога между частным лицом и государством.
— К чему вы призваны, как руководители общества,— спрашивает гражданин, обращаясь к правителям,— Разве не к тому, чтобы защищать интересы всех, кто вверил вам власть; разве вы не должны заботиться прежде всего о том, чтобы каждый пользовался необхо- 1
1 См. «Social Statics», изд. 1902 г., с. 120.
димой для развития его способностей и возможно широкой свободой, под условием, однако, чтобы она не нарушала равной свободы других людей?
— Совершенно верно,— следует ответ.— Такова ближайшая наша обязанность. При передаче нам власти было решено, что мы не будем стеснять ничьей свободы, раз этого не требует обеспечение равной свободы всех.
— Но зачем в таком случае,— возражает собеседник,— вы требуете от меня денег на покрытие нужд, не имеющих ничего общего с защитой моей свободы? Зачем вы лишаете меня того, что необходимо мне самому, от чего зависит полное развитие моей личности? Заставляя меня давать вам часть моего имущества, вы лишаете меня возможности найти наилучшее употребление для моих способностей, или, что, в конце концов, одно и то же, вы ограничиваете мою свободу. Грабя меня, вы вместо того, чтобы оказывать пользу, приносите мне только вред. Тем самым вы уклоняетесь от исполнения ваших прямых обязанностей и перестаете служить той функции, для которой вы были созданы2.
Герберт Спенсер ничего не прибавил нового к своей доктрине о нормальном отношении государства к индивиду в известном рассуждении: «Частное лицо против Государства». Это не помешало его брошюре вызвать своим появлением целую бурю негодования. Спенсера стали считать, по-моему, совершенно неосновательно, за противника демократических требований, тогда как он боролся только против преобладающей тенденции расширять произвольно область правительственного вмешательства. Он оспаривал пользу его, исходя из того же начала борьбы классов, которое служит основою и для марксистского социализма. В самом деле, в «Социальной статике» можно найти следующее характерное место: «Раз мы согласимся с тем, что люди по своей природе эгоистичны, как можем мы думать, что те, которым вверена власть, не будут пользоваться ею, как им покажется наиболее выгодным. Легко убедиться, что так всегда и было, притом в любой период истории. Во времена господства монархии единственной целью, которую ставило себе правительство, было обеспечение своих собственных интересов. Оно стремилось расширить свою власть, конфисковывало имущество подданных, продавало право отправления правосудия тому, кто соглашался произвести наибольший платеж, и чеканило фальшивую
2 Ibid., с. 121.
монету. Его жадность доходила до того, что оно не брезгало извлекать доход даже с профессии проституток». Герберт Спенсер пытается доказать, что классовые интересы одинаково преследовались как в эпоху феодальных порядков, предшествовавших во времени неограниченной монархии, так и с момента господства парламентской аристократии, являющейся непосредственным преемником королевского абсолютизма. Можно было бы подумать, что читаешь горячий памфлет, вылившийся из-под пера какого-нибудь чартиста и который охотно был бы включен в библиотеку, созданную для пропаганды доктрин Карла Маркса. В действительности Спенсер весьма далек от того, чтобы требовать отмены существующего строя или отрицать вместе с анархистами необходимость самого существования государства. Он хочет только того, чтобы государственной власти были поставлены известные границы, которые бы дали ей возможность исполнять исключительно ту функцию, ради которой она создана; он стремится к тому, чтобы правительство видело свою единственную задачу в защите прав личности.
Спенсера часто обвиняли в анархических тенденциях. На самом же деле, хотя он и не отрицал никогда, что употребление силы со стороны государства есть зло, тем не менее весьма часто и при самых разнообразных условиях ему приходилось высказываться в пользу активного сопротивления, в интересах защиты прав личности, порядка и общественного спокойствия.
Не раз из его уст слышались речи, радикально расходящиеся с проповедью Толстого. «Нужно признать, что несопротивление злу есть абсолютное зло, читаем мы в его “Социальной статике”,— Мы не можем отказываться от того, что должно быть нашим; мы не можем пренебрегать теми правами, которые принадлежат нам с самого рождения. Если мы обязаны уважать чужие интересы, то как можем мы относиться безразлично к признанию или непризнанию своих собственных? Неужели то, что священно в личности другого человека, теряет характер святости, как только страдающим субъектом являемся мы сами? У нас, несомненно, имеется тенденция выражать нашу свободу во внешних поступках; она и вызывает в нас решимость признавать за другими людьми равное с нами право самоопределения. Но разве не стоит вне спора, что мы начинаем уважать свободу ближних только тогда, когда мы научились служить активной защите своих собственных прав! Мы не можем оставаться пассивными, когда на нас нападают; в борьбе за свои права мы научаемся исполнять наш долг» (стр. 117).
Но, требуя признания за личностью права активного сопротивления, Спенсер считает, что и государство должно пользоваться своею силою, в случае, если дело идет о защите свободы его граждан. Правда, английский философ вовсе не хочет того, чтобы демократическое правительство прибегало к насилию так же часто, как военные монархии. Он не раз повторяет, что народною формою правления называется та, которая требует от граждан наименьших жертв и оставляет им возможно широкую свободу действия. Поэтому, говоря о демократической форме правления, мы и употребляем, пишет он, такие термины, как свободные учреждения, самоуправление, гражданская свобода и т.п. Но подобно тому как способность управлять самим собой зависит от степени развития в личности нравственного чувства, так точно интенсивности этого чувства должна соответствовать та степень свободы, которая признается за индивидом учреждениями и законами.
Истинно-демократическое правление может оказаться жизнеспособным лишь в том случае, если нравственное чувство не только проявляет себя весьма активно, но еще достаточно распространено в массе населения. Рассуждая таким образом, Спенсер высказывает, между прочим, одну мысль, которая могла бы подать повод к ложным толкованиям, раз мы ее изолируем от того контекста, в котором она стоит. «Поступками людей,— пишет Спенсер,— должна управлять внутренняя или внешняя сила. Когда все люди в своем поведении подчиняются влиянию внутренней силы, т. е. своему нравственному чувству, то правительство становится излишним. Напротив, если нравственное чувство недостаточно интенсивно, то немыслимо обойтись без дополнительного руководительства силы, привходящей извне». Если передать эти мысли разговорным языком, надо будет сказать: только то общество может обойтись без всякого правительства, членами которого являются личности, стоящие на высшей ступени развития нравственного чувства, т. е. существа, придерживающиеся в своем отношении к другим людям тех самых принципов, которые они желали бы видеть примененными к себе. Но так как такое общество встретить трудно, то из этого следует, что правительство необходимо должно продолжать свое существование. Таким образом, мы видим, что в глазах Спенсера правительство приносит известную пользу; но оно может сделаться вредным и опасным, если расширит свои правомочия и возьмет на себя задачи, которые лучше могли бы быть выполнены другим общественным органом.
То же нерасположение к «полновластию» государства препятствовало сочувственному отношению Спенсера к социализму. Тот социализм, с которым он боролся, был действительно «государственным» (я разумею социализм Луи Блана); Спенсер видел в нем прежде всего учение, по которому государство призвано регулировать производство. Желая доказать неосновательность такого требования, Спенсер приводит в своем сочинении ряд хорошо известных исторических фактов, показывающих, что всякий раз, когда правительство принимало на себя выполнение подобной задачи, оно пользовалось своей силой в интересах господствующих классов, выразителем которых оно и было на деле.
«До каких пределов хотите вы расширить власть правительства?» — спрашивает Спенсер. Должен ли я признать за государством право регулировать промышленность, как это было некогда во Франции старого порядка, когда ремесленников и фабрикантов выставляли к позорному столбу за дурно сделанную работу, за неправильности, допущенные ими при изготовлении тканей? Нужно ли возвращаться к тем временам, когда желающий трудиться не был свободен в выборе местожительства, когда он был принужден заниматься своим ремеслом лишь в течение некоторой части года или принимать заказы лишь от определенной группы клиентов? Или, может быть, желательно вернуться к тем порядкам, которые не позволяли в Германии сапожнику заняться своим ремеслом прежде, чем изготовленная им на образчик работа не получит благоприятной оценки со стороны избранных цехом старшин? Нужно ли, чтобы человек по-прежнему не смел менять рода занятия или селиться в том или другом городе, по выбору, не получив на это специального разрешения? «Спенсер обозревает различные законы, изданные против роскоши, а также ряд предписаний, имевших своей задачей установить цены на товары и размер заработной платы; он показывает бессилие первых и вред, причиненный последними трудящемуся люду, в виду того, что они сознательно стремились к одной цели: помешать производителям и рабочим извлечь выгоду от увеличения спроса на труд и его продукты. Из всего этого он делает то общее заключение, что единственной задачей, которую постоянно ставило себе государство, было защищать интересы господствующих классов.
Спенсер и впоследствии не раз возвращался к развитию тех же мыслей; так, например, в своем знаменитом памфлете «Личность против Государства». В этой брошюре говорится о законодательстве Эдуарда III, направленном к задержанию роста заработной платы;
Спенсер старается доказать с помощью его, что правительство всегда регулирует производство таким образом, чтобы собственники и предприниматели могли получать наибольшую выгоду. Но если он и не признает вмешательства государства в область экономической жизни, если он доводит свою непримиримость в этом вопросе до отрицания пользы, какую может доставить регулирование законом самой продолжительности рабочего дня, если он не хочет признать за государством обязанности заботиться о доставлении работы нуждающимся, то из всего этого еще не следует, чтобы он не признавал справедливости требований рабочих, чтобы он стремился скрыть действительные размеры той эксплуатации, какой подвергаются рабочие со стороны землевладельцев, еще в большей степени, как он думает, чем со стороны фабрикантов. Спенсер хочет только одного, чтобы своим материальным и нравственным благосостоянием рабочие обязаны были не вмешательству государства, а ими же самими устроенным союзам; чтобы улучшение их быта имело источником не правительственную опеку, а самодеятельность и свободу.
Опыт последних пятидесяти лет только отчасти оправдал его ожидания.
Рабочие синдикаты, правда, в сильной степени содействовали улучшению как материального, так и нравственного уровня трудящегося люда в Англии. Но в том же направлении действовало и вмешательство государства в экономическую жизнь страны. Оно принимало в разных странах разную форму: то издавались законы с целью регулирования работы на фабриках, то вводилось страхование рабочих от несчастных случаев, наиболее совершенный образец чего представляет Германия. Можно было бы задаться вопросом, в какой степени личная и коллективная инициатива, усилия рабочих синдикатов и некоторых филантропов, горячо проповедовавших введение системы мелкого дешевого кредита и народных банков, земледельческих синдикатов, коопераций и т.д., в состоянии была бы содействовать поднятию уровня рабочих классов, если бы ей не суждено было встретить поддержки со стороны правительства. Но я вполне понимаю скептическое отношение Спенсера к правительственному вмешательству в середине прошлого столетия, после неудачи чартистского движения и крушения республики во Франции; ведь Англия далеко не была в то время государством, основанным на демократических принципах, а возрождение французского цезаризма не пророчило быстрого торжества той «уравненной свободы», которую Спенсер призывал всеми силами своего духа.
Политическим идеалом Спенсера, повторяю, как и всей радикальной партии Англии в середине XIX столетия, была широкая демократия. Спенсер принадлежал к числу тех, которые громко требовали если не признания за женщинами голоса на выборах, то, по крайней мере, равноправия их с мужчинами перед гражданским законом. Еще в 1850 году он резюмировал следующим образом те доводы, какие могут быть представлены в пользу этой мысли: «Кто ссылается на преимущество способностей, какими мужчины отличаются по отношению к женщинам, и строит на нем свои возражения против уравнения их в правах, того легко опровергнуть следующим соображением: раз вы желаете, чтобы права соответствовали способностям обоих полов, вам необходимо применить тот же принцип и к решению вопроса о том, какие права должны быть признаны за каждым индивидом сильного пола. Но чем вы станете руководствоваться при производстве такой оценки? Общественным мнением? Но оно разноречиво, да и ничто не доказывает его правильности. С другой стороны, несомненно, что если женщины более интеллигентные, средний уровень мужчин, чтобы оставаться последовательными, нужно было бы признать за ними права более широкие. Впрочем, само основное положение не выдерживает критики. Раз мы допустим, что свобода необходима для полного развития наших способностей, мы последовательно должны признать и следующее: отличаясь меньшими дарованиями, чем мужчины, женщины еще более их нуждаются в свободе...»
Не следует забывать, что эти мысли были высказаны Спенсером за много лет до Джона Стюарта Милля, притом в то самое время, когда главою французского позитивизма провозглашалось совершенно противоположное начало. Все только что приведенные мысли в настоящее время сделались ходячими, но было ли так пятьдесят лет назад, когда во всей Европе, вслед за подавление революции 48 года, все резче и резче стала обрисовываться реакционная политика кабинетов, запуганных восстанием и подъемом национальностей? Если бы английское государство во вторую половину XIX столетия осталось тем же феодально-аристократическим, каким мы застаем его в эпоху чартистского движения, его социальное законодательство едва ли отразило бы на себе влияние иных принципов, кроме тех, которые в конце XVIII столетия повели к «огораживанию открытых полей и упразднению общинных пользований», что, в свою очередь, отняло у крестьян их исконные права на пастбища и пустоши. Спенсер не раз вспоминает об этом хищническом законодательстве; по его мнению,
оно прекрасно показывает, как на деле государство понимает свою задачу о «доставлении невозможного блага наибольшему числу людей». Народное представительство только тогда было в состоянии даровать народу социальное законодательство, отвечающее справедливости и интересам масс, когда три следовавшие друг за другом избирательные реформы совершенно упразднили аристократический характер английского парламентаризма, когда Верхняя Палата потеряла всякое влияние на выбор депутатов в Нижнюю, и ее роль в общем направлении внутренней политики была значительно ограничена. Ничто не предвещало такого исхода почти накануне Крымской войны, когда английский шовинизм, встревоженный восстаниями в Индии и Ирландии, позволял опасаться нового подъема духа завоевания и угнетения.
Ввиду всего сказанного, не правы те, кто нападает на Спенсера за то, что в 1850 году он с сомнением относился к поддержке, какую правительство способно оказать справедливым требованиям народных масс. В это время было уместно напомнить о принципе самопомощи, о необходимости самопроизвольной защиты раз приобретенных вольностей.
Но ведь Спенсер продолжал обнаруживать то же недоверие к правительству и в более близкое к нам время, когда жизнь, по-видимому, перестала оправдывать его опасения? С этим нельзя не согласиться. «Грядущее рабство», которому Спенсер посвятил в 1860 году свою знаменитую монографию,— не что иное, как тот порядок «правительственной опеки», которым грозит нам, по его мнению, постоянно растущее всемогущество и вмешательство государства. Спенсер окончательно установил свою социальную доктрину в знаменитых «Принципах Этики», особенно во второй их части, носящей название «Справедливость» и вышедшей в 1890 году.
Изучая сочинение, которое, по своему содержанию, отвечает понятию общего трактата по публичному праву, мы встречаемся с теми же взглядами, какие высказаны были Спенсером сорок лет назад в уже анализированном нами «произведении его молодости». Действительно, мы снова имеем перед собою систематическую защиту основных положений английского радикализма, стройное развитие доктрины, кладущей в основу всего общественного и государственного уклада начала свободы и равенства. Зародыш этого учения, как я сказал раньше, нужно искать у английских нивелля-торов XVII столетия, у «левеллеров». На новое сочинение Спенсера
можно смотреть поэтому, как на лучший, наиболее полный и последовательный комментарий к тем «Декларациям прав человека и гражданина», которые все находят свой прообраз в Манифестах, так называемых «Народных Соглашениях», пущенных в свет теми же нивелляторами. Как и прежде, Спенсер думает, что свобода необходима для полного развития наших способностей, что она должна быть равною для всех, без различия пола, что она не терпит иных ограничений, кроме тех, каких требует защита одинаковой свободы всех граждан государства. Единственной задачей последнего должна быть забота о сохранении равновесия между запросами всех и каждого на свободу самоопределения, почему мы и можем смотреть на государство, как на орган справедливости; основной принцип ее требует, чтобы каждый человек был волен делать все, что захочет, пока его действия не нарушают равной свободы других людей (стр. 46).
Государство становится органом справедливости только под условием порвать с своим прошлым, отказаться от традиции милитаризма и сделаться индустриальным. Отныне оно обязывается прибегать к оружию только в крайнем случае, только для отражения нападений и защиты собственной независимости (стр. 43).
Из всего этого можно заключить, что Спенсер ничуть не изменил своей основной точки зрения; он только развивает ее более полно и систематично, чем прежде. Ему удается также связать свою доктрину с великим законом эволюции, которого он был одним из первых провозвестников.
В каком, спрашивается, смысле можно смотреть на теорию английского радикализма в том виде, в каком она представлена Спенсером, как на необходимый вывод из великого закона эволюции? Отвечая на этот вопрос, автор «Справедливости» исходит от известного биологического закона, установленного Ламарком и Дарвином. Этот закон гласит, что виды, наиболее приспособленные к окружающей их среде, уцелевают всего легче. Спенсер делает из этого закона следующее применение к человеческим обществам: обеспечивая каждому свободу, необходимую для возможно полного его развития, мы тем самым содействуем сохранению наиболее жизнеспособных особей человеческого рода. Наоборот, если государство, расширяя свои функции, берется обеспечить счастье возможно большему числу граждан и с этою целью принуждает жизнеспособных нести в форме налога дополнительные издержки на пользу нежизнеспособных, т.е. тех, кого леность и пороки по
вергли в нищету, оно тем самым мешает закону эволюции оказывать свое благотворное влияние.
Критика этой доктрины не представила бы трудностей. Ее делали не раз, упуская, однако, из виду, что понимание Спенсером «необходимых вольностей», обеспечение которых принадлежит государству, гораздо шире того, какое мы находим в любой Декларации Прав. Так. например, он говорит, что все граждане могут предъявлять одинаковые притязания не только на свет, воздух, проточные воды, но и на пространство, т. е. на землю. Исходя из такой точки зрения, Спенсер отрицает знаменитую теорию Локка, полагавшего, что земельная собственность порождается трудом. Автор «Принципов Этики» обстоятельно знаком с историей землевладения и пользуется ею в своей критике. В немногих словах его возражения сводятся к следующему: земля принадлежала, говорит он, с самого начала сообща всем членам одного и того же племени; отдельное лицо могло лишь временно пользоваться частью ее, которую и обрабатывало собственным трудом; само это пользование обусловливалось молчаливым согласием остальных членов племени. Спенсер прекрасно понимает также характер совладения, какой носила земельная собственность во времена феодализма. Сеньер считался только собственником земли, пользовался же ею тот, кто ее обрабатывал. Согласно Спенсеру, современное государство является наследником племени и феодального сеньера. Оно имеет поэтому верховное право на все земли страны; отдельные личности могут только пользоваться этими землями. Из этого положения вытекает право государства национализировать недвижимые имущества. Но ценность земель увеличилась, благодаря приложению труда к их обработке теперешними собственниками или их предками. Ввиду этого на государстве лежит обязанность выкупить эти земли; собственники же имеют право требовать за них вознаграждения.
Спенсер является не только сторонником национализации земли в духе Уоллэса и Генриха Джюрджа; он идет еще несравненно дальше их в своих требованиях. Все вещи, способные сделаться предметом аппроприации, пишет он, имеют посредственно или непосредственно источником землю; благодаря этому, всякое индивидуальное право на них должно быть ограничено теми же условиями, в какие поставлено право земельного владения. Труд есть единственное средство приобретения имущества, но труд возможен только благодаря пище; всякая же пища обязана своим происхождением земле. Из этого следует, что с нравственной точки зрения так же трудно
оправдать право собственности на любой материальный предмет, как и на землю (стр. 94).
Вы видите, что взгляды Спенсера нельзя смешивать с теми теориями английских либералов XVII столетия, которые с одинаковым уважением относились как к свободе, так и к собственности.
Автор «Справедливости» превзошел в своей схеме все билли о правах. Один страх перед формулой: «каждому согласно его потребностям», продолжает отличать его от крайних партий. Напротив, довольно близкое выражение его взглядам дает правило: «каждому — полный продукт его труда», правило, пущенное в ход Антоном Менгером и которое по существу совпадает с принципом Прудона: «каждому согласно его труду». Если Спенсер оспаривает положение, выставляемое коммунистами, то лишь потому, что принятие его кажется ему равносильным признанию, что государство должно покровительствовать нежизнеспособным во вред жизнеспособным. С другой стороны, не подлежит ни малейшему сомнению, что та форма, которую принимает у Спенсера «право каждого на свою личность и члены», не встретила бы сочувствия ни Бастиа, ни других представителей школы «laissez faire». Ведь Спенсер объявляет себя в пользу признания за рабочим права преследовать хозяина в судебном порядке, если он небрежно относится к своим обязанностям и не принимает мер к устранению на фабрике или заводе всего, что могло бы принести ущерб для здоровья рабочих, будет ли то несовершенство машин, отсутствие необходимых предосторожностей или риск, связанный с выполнением заказанной хозяином работы.
Французская аудитория найдет, вероятно, что английский философ заходит слишком далеко в своем стремлении защитить личность от всего, что так или иначе может быть рассматриваемо, как покушение на ее честь. Ведь он требует издания закона, который позволил бы преследовать, как за преступление, за всякий поцелуй, на который не последовало согласия получающего его (стр. 69).
При отстаивании «необходимых вольностей» Спенсер не считает возможным поставить в один ряд права публичные и права политические. Политические права, дающие возможность всем, кто пользуется ими, принимать участие в правлении в качестве избирателя или избираемого, являются на его взгляд лишь средством к обеспечению прав публичных, т. е. свободы в ее различных проявлениях. Полное развитие способностей каждого не предполагает необходимо, по мнению Спенсера, участия всех граждан в управлении государством.
При решении вопроса, кому должны принадлежать политические права, необходимо руководствоваться иным принципом, нужно иметь в виду тесное соотношение, которое должно существовать между преимуществами, признаваемыми законом за тем или иным гражданином, и его обязанностями по отношению к государству. Тот, кто не в состоянии исполнять всех обязанностей гражданина, особенно же обязанности защищать страну от врагов, тот не может претендовать на признание за собой всей полноты политических прав. Рассуждая таким образом, Спенсер уклоняется до некоторой степени от взглядов, высказанных Джоном Стюартом Миллем относительно полной эмансипации женщины.
Из различия, установленного им между публичными и политическими правами, делается затем вывод, неблагоприятный признанию всеобщего права голосования не только женщин, но и мужчин. Само по себе право голоса, по мнению Спенсера, вовсе не необходимо для того, чтобы обеспечить личности возможность широкого развития всех ее способностей. Оно служит в ее руках лишь орудием, позволяющим ей бороться с нарушением ее свободы правительством. Сравнивая политическую организацию различных наций в различные периоды их истории, продолжает развивать свою мысль Спенсер, можно вынести впечатление, что те, в чьих руках находится власть, будет ли то единичное лицо или известное меньшинство, пользуются ею по большей части в собственных интересах и во вред большинству населения. Более широкое распределение политической власти, по-видимому, должно уменьшить число этих злоупотреблений; будь это так, этого одного было бы достаточно, чтобы признать народную форму правления обладающей крупными преимуществами перед всякой другой. Но в действительности дело обстоит иначе. Сколько стран, в которых политические права принадлежат всем гражданам, и где, тем не менее, нет и следа общественной свободы. Чтобы доказать свою мысль, Спенсер указывает в виде примера на республиканскую Францию, в которой бюрократический деспотизм свирепствует не менее, чем во Франции времен Империи. По его мнению, к свободе граждан относятся во Франции с таким неуважением, что приходится терять всякое доверие к республиканской форме правления. Спенсер утверждает, что подобные же факты наблюдаются и в Соединенных Штатах, где всеобщее голосование вовсе не мешает подкупным муниципалитетам требовать с жителей громадных местных налогов, которые никоим образом не соответствуют пользе, достигаемой при их помощи.
Указав на все эти факты, Спенсер приходит к заключению, что расширение права голосования, недавно воспоследовавшее во многих государствах, ничуть не содействовало защите прав человека; напротив того, оно привело к более частому нарушению этих прав. Вместо того, чтобы сделаться редкими, правительственные приказы, предписывающие гражданам то или иное поведение, все учащаются; правительство решается облагать подданных такими крупными налогами, каких никогда не бывало раньше. Таким образом, политические права не только могут не содействовать торжеству общественной свободы; они часто являются средством к увеличению правительственной тирании. Имеем ли мы, однако, основание утверждать, вместе с Спенсером, что существует тесная связь между расширением права голосования и повышением тех требований, какие правительство предъявляет к индивиду? Поступать таким образом значило бы терять из виду уроки истории: она ставит вне сомнения тот факт, что во времена монархического и аристократического режима налоговая система приносила в жертву интересы низших классов населения; с развитием же демократии на всех граждан в равной степени была возложена обязанность нести подати. Сравните, с другой стороны, порядки, господствовавшие при системе lettres de cachet, с теми, при которых каждый гражданин имеет право преследовать пред судом всякого превысившего свою власть чиновника, и вы придете к заключению, совершенно обратному с тем, какое делает Спенсер.
Покровительственная система появилась в Соединенных Штатах Америки гораздо раньше введения в них всеобщего голосования. Примеры самосуда или «Линча» можно встретить в ней издавна. Итак, факты вовсе не доказывают того тесного соотношения, какое Спенсер находит между расширением права голосования и уменьшением общественной свободы.
Более внимательного отношения заслуживают взгляды автора «Справедливости» на опасность, которой грозит расширение права голосования на женщин. Спенсер принадлежит к тем, кто думает, что легкая возбуждаемость женщины, с одной стороны, ее уважение к силе и успеху, с другой, равно как и некоторые другие черты ее психики, приобретенные благодаря тому, что единственным открытым для нее поприщем была семейная жизнь, могут иметь последствием, что при выступлении ее на арену общественной деятельности политическая жизнь примет более тревожный характер. Он боится, что женщина внесет нетерпимость в обсуждение текущих вопросов
и нарушит связь и преемство политических мероприятий. Весьма вероятно также, что ее участие в делах страны поведет к усилению той тенденции, которая желает, чтобы государство играло роль Провидения. С другой стороны, женщина может сделаться опорою для всякого рода консервативных стремлений, особенно в вопросах религиозных. Не допуская женщин к избирательным урнам, Спенсер, тем не менее, вовсе не желает того, чтобы их роль ограничивалась исключительно семейной средою, как этого требовал, например, Огюст Конт. Он также далеко не согласен с тем, что Конт говорит о низком уровне умственных способностей женщин, благодаря чему они будто бы всегда находятся под влиянием мужчин. Спенсер имеет в виду отметить только некоторые черты женского характера, образовавшиеся, как он сам признает, под влиянием той роли, какую женщина была призвана играть доселе в общественной жизни. Не выходя почти никогда из сферы семейных забот, женский ум приобрел, в конце концов, известный склад, который мешает женщине в настоящее время так же хорошо исполнять свои гражданские обязанности, как мужчина. На все, что Спенсер говорит по так называемому женскому вопросу, можно было бы возразить следующее. Отправляясь от той научной истины, что функция сама создает орган, как не признать, что нравственный характер женщины и склад ее ума совершенно изменятся, раз она будет пользоваться правом голоса и непосредственно принимать участие в государственных делах? Нет основания сомневаться, что женщина приобретет таким образом недостающую ей теперь способность руководствоваться в своих суждениях общими интересами, без чего, само собой разумеется, немыслимо никакое разумное законодательство. С другой стороны, нельзя не сказать, что Спенсер впадает в противоречие с самим собою, когда говорит о склонности женщин одновременно к социальным новшествам и к консерватизму. В самом деле, разве эта последняя черта их характера не будет служить постоянным препятствием для безграничного расширения системы правительственного вмешательства, которого так боится автор «Справедливости»? Если женщина стремится к сохранению существующего, особенно в сфере семьи и церкви, то совершенно непонятным представляется нам опасение, что ее политическая деятельность будет направлена в пользу расширения власти и подчинения государству семьи и церкви.
Мы далеко не исчерпали в предыдущем очерке богатого содержания социальной доктрины Спенсера, так как нам пока не пришлось
еще говорить о наиболее обширном, если не важнейшем, из его сочинений, об «Основах социологии».
Этот трактат посвящен, впрочем, почти исключительно выяснению начальных фазисов общественного развития. Генетическая социология, иначе говоря, эмбриология общества, обязана великому английскому энциклопедисту установлением некоторых из своих основных положений.
Когда от органической теории государства не останется никаких, или почти никаких следов, когда нравственная или, вернее, общественно-политическая программа Спенсера будет оценена по достоинству и понята, как выражение требований всего-навсего одной партии, радикалов, без различия рас и национальностей, «Основания социологии» по-прежнему останутся образцом для всех, кто при помощи сравнительно-исторического метода ищет ответа на великие проблемы происхождения и развития человеческих обществ. Этот гигантский труд, который охватывает в трех томах все вопросы, касающиеся прошлого семьи, собственности и правительства, как светского, так и духовного, мог быть написан только в стране, так глубоко интересующейся этнографией и первобытной археологией, как Англия. Литература этой страны изобилует описаниями путешествий; правительством предпринят ряд исследований с целью раскрыть в их мельчайших подробностях особенности быта населяющих британскую империю народностей. Все это вместе взятое должно было привести к тому, что нигде, кроме Англии, не могла быть сделана и первая попытка соединить в общий синтез все положения, относящиеся к вопросу о происхождении верований и различных других сторон общественной жизни. «Основания социологии» Спенсера были подготовлены исподволь такими замечательными работами, как «Первобытная культура» Эдуарда Тэйлора, «Происхождение семьи» Мак-Ленана и превосходные монографии Генриха Сейнера Мэна о древнем праве й о первобытных учреждениях. Спенсер не всегда отдает должное своим предшественникам. Так, например, Эдуард Тейлор счел себя вправе утверждать, что теория первоначального культа предков и происхождения из него фетишизма была построена им значительно раньше Спенсера. И действительно, если сравнить то, что говорит Спенсер о древнейших верованиях, с соответствующими главами «Первобытной культуры», нельзя будет не признать, что автор Оснований Социологии не раз высказывает взгляды, заимствованные им из сочинения великого оксфордского антрополога.
Одна из наиболее оригинальных глав в «Основаниях социологии» та, в которой Спенсер указывает на важную роль освященных обычаем церемоний и обрядностей в жизни дикарей. Отправляясь от этого факта, английский мыслитель берется доказать, что раньше всех прочих форм правительства возникло «церемониальное». Мне пришлось однажды слышать, из уст одного французского социолога (Тарда), полную юмора критику этой теории. По мнению Тарда, о его соотечественниках можно приблизительно сказать то же, что Спенсер говорит о дикарях. Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить французскую судебную практику, хотя бы; например, роль, играемую приставами (greffiers). Это не мешает тому, что новейшие сочинения, изображающие нам быт наиболее отсталых рас и народностей земного шара (я имею специально в виду исследования Спенсера и Гиллена об австралийцах и Кодривгтона о меланезийцах), вполне подтверждают гипотезу Спенсера: первыми нормами, регулировавшими общественную жизнь людей, были нормы обрядового или церемониального характера. В самом деле, как у австралийцев и меланезийцев, так и у краснокожих существует нечто вроде посвящения лиц, достигших половой зрелости, посвящения, напоминающего собою обрезание или крещение взрослых. Только тот мужчина считается у них полноправным, над которым был совершен предварительно такого рода обряд. Только подчинившись известного рода операции, операции, крайне мучительной, можно сделаться действительным членом тех тайных обществ, внутри которых совершаются некоторые тщательно скрываемые обряды или церемонии магического характера. Знание их составляет своего рода сокровенную науку, в которую отнюдь не посвящают женщин в надежде внушить им тем самым спасительный страх, позволяющий держать их в повиновении.
Нельзя сделать большей похвалы такому синтетическому труду, каким являются «Основания социологии» Спенсера, как сказав, что общие положения его подтверждаются фактами, которые остались неизвестными его автору. Спенсер почти ни слова не говорит о славянах, и тем не менее его взгляды на характер политических учреждений в период зарождающегося государства находят блестящее подтверждение в политической эволюции, пройденной славянскими народами.
В «Основаниях социологии» указано, например, на то, что княжеская власть в начале своего развития была ограничена, с одной стороны, советом старейшин, а с другой, народными собраниями; и вот, оказывается, что это буквально та картина, какую представляют
собою в эпоху, предшествующую образованию Московии, древнерусские княжества с их «вечами» и «думами». То же самое можно сказать о княжествах западных и южных славян, о княжеской власти поляков, чехов, сербов и хорватов. Изучение быта кавказских горцев также подтвердило теорию Спенсера по следующему вопросу: Спенсер утверждает, что гражданская власть далеко не всегда при своем первоначальном появлении носит характер военного начальствования. Сосредоточение в руках той или другой семьи или целого класса религиозного или светского знания (знания легенд, заклинаний или судебных приговоров) путем долгой эволюции может иметь своим последствием предоставление им известных правительственных функций, пожизненных и даже наследственных.
И вот, оказывается, что мы имеем возможность наблюдать этот процесс не только в истории евреев в эпоху «Судей», пример, на который ссылается Спенсер, но еще у кельтов Галлии и Ирландии. Достаточно напомнить о друидах, потерявших со временем, т.е. с момента принятия ирландцами христианства, значение духовных вождей нации и превратившихся из жрецов частью в народных бардов, частью в судебных посредников или «брегонов». Тот же самый процесс повторился, наконец, еще недавно в государстве, образовавшемся в XVII и XVIII веках на юге Дагестана, почти на берегу Каспийского моря. Я имею в виду Кайтаг, во главе которого стоял наследственный вождь, носивший название «Уцмия». На туземном наречии это слово значит «судья». Лица, носившие этот титул, принадлежали к роду знаменитого судьи XVII века, Рустема. Только членам его семьи было известно содержание постановленных им приговоров. Они долгое время тщательно скрывали их от всех остальных семей и с помощью этого сокровенного знания добились власти над ними. Им удалось достигнуть этого потому, что народ рассчитывал с их водворением воспользоваться выгодами хорошего суда, в котором он так нуждался.
Я бы затруднился сказать, какая часть «Оснований социологии» должна быть поставлена выше других. Главы, в которых поднимается вопрос о происхождение семьи, могут считаться в настоящее время несколько устаревшими, так как с тех пор, когда они были написаны, литература обогатилась новыми трудами Моргана, Вестермарка и Колера. Спенсер придает, может быть, слишком большое значение первобытному гетеризму, считая его исходным моментом в развитии всех форм брака.
Последняя часть его книги, в которой речь идет об индустриальной эволюции, носит на себе следы сильной умственной усталости.
С сожалением констатируешь, что преклонный возраст и продолжительная работа ослабили свежесть и изобретательность ума Спенсера. Но это не мешает тому, что и в этой части блестяще разработан вопрос о разделении труда. Спенсер придерживается при этом той самой социологической точки зрения, с которой пытались осветить этот вопрос Зиммель и Дюркгейм. Мне кажется, однако, что всего менее пострадали от времени и вполне соответствуют современному положению наших знаний об истории собственности те главы «Оснований социологии», в которых говорится о переходе коллективной собственности в частную. Нет сомнения, что Спенсер заимствовал многое у Мэна и Лавелэ; но он писал эти главы своего сочинения в то время, когда в литературе начала брать перевес противоположная Мэну доктрина Фюстель де Куланжа. Великая его заслуга состоит в том, что он сумел не поддаться общему увлечению. Благодаря этому, он сделал для установления эмпирического закона эволюции собственности больше, чем кто другой. Точно так же Спенсер совершенно правильно указал на то, что рост населения должен был повлиять разлагающим образом на первобытные земледельческие общины. В одной недавно появившейся книге Фулье — «Психология европейских народов» — сказано: «Я был совершенно прав, когда боролся с теорией Фюстеля, согласно которой частная собственность существовала значительно ранее того времени, когда была сделана первая попытка делить периодически землю поровну между членами общины» (с. 404). Но если кому-нибудь принадлежит честь поддержания правильной точки зрения на этот счет, то, несомненно, прежде всего автору «Оснований социологии».
Мы теперь вправе сказать, что Спенсер ярко осветил многие вопросы генетической социологии, что им установлен целый ряд эмпирических законов, единственных обобщений, которые мыслимы в здраво понимаемой социальной науке. Да позволено же будет мне закончить этот очерк словами, что Спенсер так много сделал для начинающейся науки социологии, что имя его смело может быть поставлено рядом с именем Огюста Конта, ее основателя. В Спенсере социология, как абстрактная, так и описательная, потеряла одного из своих творцов.
СОВРЕМЕННЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ СОЦИОЛОГИ *
Мне на днях пришлось беседовать с одним из представителей «отвлеченной науки об обществе» по вопросу о новых течениях в области социологии, и мы оба пришли к заключению, что в текущем столетии нельзя отметить, по крайней мере во французской литературе, ничего поистине нового. Последним «открывателем» был, пожалуй, Тард, с его учением о «междуумственном взаимодействии» и о тех потоках подражания, какие вызывает всякое новшество в социальной среде.
Строго говоря, и Тард только придал большее значение давно известному явлению, без которого, очевидно, немыслим был бы самый поступательный процесс развития общества или так называемый прогресс. Ведь образование, получаемое нами в юности, сводится ни к чему другому, как к усвоению начал общечеловеческой культуры. А это означает массовый процесс подражания.
И дальнейшее наше развитие связано с усвоением возрастающего запаса знаний, технического опыта и вызываемых обоими изменений в хозяйственном и политическом быту, а также в сфере общественной идеологии.
Конту, ставившему в прямую зависимость от роста наук изменение хозяйственных, общественных и политических устоев, не могла, очевидно, оставаться неизвестной мировая роль подражания. Тард только развил его мысль, пытаясь установить, не всегда удачно, те законы, которые управляют самым процессом подражания.
Если таким образом в построении новых доктрин протекшие 15-20 лет не оставили заметного следа, то следует ли из этого, что настал период упадка социологической мысли, что подорвана
* Печатается по: Вестник Европы. 1913. Июль. С. 339-369.
вера в возможность, при быстро накопляющихся конкретных знаниях, установить сколько-нибудь прочные и охватывающие всю их массу обобщения или так называемые эмпирические законы? Я лично далек от такой мысли. Четверть века прошла недаром. Голые формулы, висящие в воздухе гипотезы, нередко полученные чисто дедуктивно, подвергнуты были проверке на обширном материале этнографических и исторических данных, после чего одни рассеялись, как мираж, другие пустили корни в почву и явилась возможность строить на добытых обобщениях все новые и новые гипотезы. Найдутся, разумеется, «стародумы», которые при всяком пользовании социологом выводами конкретных наук об обществе будут повторять обычную фразу: «это не социология, это антропология, этнография, история, психология» и т.д. и т.д. Они не только найдутся, но и нашлись на страницах наших толстых журналов (подчеркиваю «наших», но не иностранных). Леви-Брюли и Дюркгеймы такими разоблачениями не стесняются и строят генетическую социологию на положительном фундаменте строго проверенных наблюдений этнографов и фольклористов. В результате получаются выводы, очевидно не лишенные социологического интереса, что религия в такой же степени, как и язык, является продуктом коллективного творчества, отражает на себе коллективную психологию масс, и та же коллективная психология выступает в общественном укладе и в той системе дозволенных и запрещенных действий, в которой надо искать зародышей столько же морали, сколько и права. Сказать, что такие выводы совершенно новы, было бы опять-таки преувеличением. Ведь Тэйлор не выдавал своего учения о первобытном анимизме, как результат индивидуального открытия того или иного первобытного гения. И то же в равной степени можно сказать и о тех более ранних сравнительных мифологах, которые предпосылали анимизму фетишизм или культ растений и животных. Кто позволит себе утверждать также, что Лафито, впервые заговоривший о материнстве у краснокожих, считал его продуктом индивидуального изобретения, или что те запреты, которые связаны с понятием экзогамии или с системой «табу», кем-либо объявляемы были новшеством, введенным каким-либо определенным лицом.
Вся перемена, пережитая этими основными построениями социологии, состоит в том, что из области весьма вероятных гипотез они перешли на степень основных начал, строго проверенных на громадном фактическом материале, приведенных в соответствие с другими, не менее основными положениями, нередко почерпаемыми из данных
психологии животных и психологии детей, т. е. стали теми индуктивно-дедуктивными построениями, с которыми необходимо связано понятие о законах или о «постоянных отношениях, возникающих из самой природы вещей».
Положительное приобретение для социологической мысли заключают в себе поэтому такие труды, как «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейма, «Умственные функции на низших ступенях общественности», «Мораль и наука о нравах» Леви-Брюля. Но этого мало: такое же значение должно быть признано и за работами Сенара, а за ним Бугле о кастах, и целого ряда других ревнителей социологии во Франции о сословиях и классах; не лишены того же значения и прения, происходившие в «Социологическом обществе» в Париже и на международных конгрессах «Института социологии» в Женеве и в Риме, о природе столкновений между обществами, об общественной солидарности и о прогрессе. Эта коллективная работа более намечала возможные решения поставленных вопросов, чем устанавливала сразу окончательные и бесспорные выводы. Параллельно с нею шли более систематические исследования, производимые отдельными социологами, к числу которых я считаю возможным отнесть и бельгийца Де Грефа, и недавно скончавшегося французского философа Фулье, и основателя «Международного Института Социологии» Рене Вормса.
Недавняя кончина Фулье вызвала первые попытки изложить в систематическом виде его философские и социологические воззрения. Одна из них принадлежит перу сына, того молодого и тем не менее уже знаменитого философа, который сам был духовным сыном Фулье, превзошел его известностью и умер в самый разгар своей славы. Я разумею автора переведенной и на русский язык книги «Иррелигиозность будущего». В тесном общении с ним протекла добрая половина жизни покойного Фулье. Он явился также издателем посмертных сочинений Гюйо, отстаивал приоритет некоторых его взглядов по отношению к Ницше и занялся философским образованием оставленного им сына.
Только что появившаяся в «Библиотеке современной философии», издаваемой Алканом, книга благодарного ученика заключает в себе и первый по времени биографический очерк Фулье, написанный его вдовою, и сжатую передачу того, что автор называет его философией и социологией. Читая это сочинение, проникаешься убеждением, что Фулье далеко не был тем эклектиком, каким привыкли считать его у нас, что учение об «идеях-силах» выражено им давно, еще в первых
его трудах, что им проникнута вся его коллективная психология, в частности — психология рас, и вся его социология.
Многих из русских читателей быть может поразит самое упоминание об особой социологии Фулье. Я сам в моей книге «О современных социологах» не счел нужным посвятить ей особой главы. Мне остается теперь только покаяться в столь существенном упущении.
Фулье внес несомненно значительную оригинальность в старое учение об общественном договоре, стараясь примирить его с более современным и по-видимому его исключающим учением об общественном организме. Попытка примирения сделана Фулье с помощью той самой теории «идей-сил», которая служила ему путеводной нитью и в теории познания, и в области морали, и в области педагогики.
В довольно сжатой главе, так и озаглавленной: «Социология идей-сил», Огюстен Гюйо отмечает, что еще в 1880 году, в сочинении, озаглавленном «Современная общественная наука», Фулье явился до некоторой степени предшественником и Тарда, и Дюркгейма, т.е. и доктрины о «междуумственных процессах», лежащих в основе социальных явлений, и учения об обществе, как об объективном явлении, отвечающем совокупности коллективных идей или представлений. Согласно Фулье, социология ставит своей задачей изучение природы, происхождения и развития общества, под влиянием причин физических, биологических, психологических и, в особенности, социальных.
Действием их объясняется и самая организация общества, и его дальнейшее развитие. В числе этих причин Фулье выдвигает одну: то представление, какое человеческие общества имеют о своем собственном устройстве и о дальнейшей эволюции. Социальный факт, по мнению Фулье, на лицо только тогда, когда имеется и воздействие одного сознания на другое, и воздействие совокупности сознаний на одно. В конечном исходе основной чертой социального порядка является возможность его изменения вместе с развивающимся сознанием. Социальный порядок — это продукт коллективного самоопределения, зарождающегося под влиянием «идеи-силы» и «чувства-силы». Каждое общество находится постоянно в состоянии самотворчества, в видоизменении существующего под влиянием идей и идеалов. Автор отмечает четыре оригинальных учения в социологической теории Фулье: одно из них составляет идея договорного организма. С первого взгляда может показаться, что самое понятие внутренне-противоречиво. Но оно во всяком случае передает оттенки мысли Фулье так же точно, как идея над-организма, пущенная в ход Г. Спенсером.
В печатаемом Гюйо неизданном отрывке частного письма Фулье мы читаем: «Общество — несомненно нечто живущее (vivant), из чего не следует, однако, чтобы оно было животным или растением».
Жизнь предполагает волю, направленную на самосохранение и дальнейшее развитие; эта воля оживляет органы и осуществляется посредством функций. Функции являются взаимным приспособлением органов между собою и их приурочением к внешней среде. Все эти характерные признаки жизни мы находим во всяком организованном обществе. В нем налицо общее желание жизни, совместное направление отчасти бессознательных тенденций к сохранению и прогрессу всей совокупности. Есть взаимные приспособления индивидов друг к другу и всех к общему целому. Есть приспособления этого общего к внешней среде; имеются органы и функции. Общество живет поэтому и образует организм — но организм особого рода. Оно реагирует не только на внешние воздействия. Оно имеет также внутреннюю жизнь, которая состоит в том, чтобы создавать идеалы и осуществлять их в действительности.
В «Социологических элементах морали», изданных в 1905 году, как и четвертью века раньше, в томике, посвященном «Современной общественной науке», Фулье высказывается в том смысле, что общество обязано своим существованием не только совокупности коллективных необходимостей, но и индивидуальным согласиям на признание этих необходимостей, согласиям более или менее предполагаемым, а не открыто выраженным. В представлении Фулье общество является не столько законченным организмом, сколько организацией, постоянно переживающей новый творческий процесс. Социологу, говорит он, приходится иметь дело не столько с законченным и неизменным бытием, сколько с постоянным становлением. Поэтому, в глазах Фулье, общество является организмом «осмысленным и волевым».
К-Этой доктрине примыкает и второе учение Фулье об обществе, построенном на договорном начале. Между людьми, принадлежащими к одному и тому же обществу, существует реальный договор, хотя и не открыто выраженный. Такое учение, издали напоминающее известную договорную теорию Руссо, привлекло к себе общественные симпатии теми выводами, какие делал из него сам автор. Он полагал, что у членов общества и их совокупностей имеются обязательства не только друг к другу, но и к предшествующим поколениям, наследие которых они приняли. А отсюда следует, что общество-государство не вправе отказать в содержании ни тем, кто
лишен возможности зарабатывать жизнь трудом, ни оставленным без призрения детям. Эта идея долга, падающего на нарождающиеся поколения по отношению к предшествующим им во времени — долга, направленного к восстановлению справедливости,— составляет третью оригинальную черту в доктрине Фулье. Она построена была на том начале гражданского права, по которому на дарителя, как и на всякого вступающего в меновую сделку, вместе с выгодами переходят и обязательства (charges). Такие обязательства тяготеют не на частных лицах, а на всей совокупности членов общества. То, что привыкли называть братством, в действительности является не более как справедливостью (justice reparative).
Из всего сказанного само собой следует, что то учение об общественной солидарности, которое за последнее время связывают с именем Буржуа — автора книги, напечатанной под этим заглавием,— задолго до ее появления нашло пропагандиста в лице Фулье. Ему принадлежит известная фраза: «Изобретатель плуга невидимо работает заодно с пахарем». Но в этом отношении Фулье кажется мне только истолкователем мысли Конта, что миром управляют покойники.
Достаточно ли только что приведенных положений, чтобы признать за Фулье честь быть одним из основателей современной социологии, как это думает его преданный ученик, автор недавно вышедшей книги? (с. 132).
Мы склонны думать, что это было бы преувеличением. Не один Фулье старается оттенить характер добровольности, якобы присущей всякому обществу, понимая под ним народ-государство. О таком consensus socialis говорят и Де Греф, и покойный русский социолог Новиков, которого трудно не отнести к числу французских писателей по обществоведению, так как книги его выходили в Париже. В предисловии ко второму изданию1 своего двухтомного «Вступления к Социологии» Де Г£>еф говорит о себе, как о стороннике «контрактуализма», пытаясь в то же время обособить свои взгляды от высказанных Фулье. Что касается до Новикова, то ему принадлежит, как известно, целое рассуждение о сознании и воле общественной.
У Конта, несомненно, надо искать зародыш того воззрения, что общество является не столько законченным организмом, сколько прогрессирующей организацией, на которой отражаются рост знаний и соответствующие перемены техники и хозяйственного
1 Изд. 1910 г., т. I, с. CIXIX; т. II, с. 440 и след.
строя. Таким образом, на примере Фулье оправдывается общая мысль, выраженная мною в начале статьи,— мысль о том, что современные социологи Франции только углубляют положения своих предшественников, подкрепляя их в то же время новыми фактами и соображениями.
Еще в большей степени, чем к Фулье, сказанное применимо к Рене Вормсу, инициатору «Международного Института Социологии» и «Парижского Социологического общества».
Вторым изданием выходит в нынешнем году его «Философия социальных наук». Автор предпочел это название термину «социология», хотя и не прочь признать, что философия социальных наук и социология — понятия взаимно покрывающая друг друга. По его определению, которое я вполне разделяю, социология является синтезом результатов, полученных конкретными общественными науками. Она показывает постоянную связь феноменов экономических, гене-зических, эстетических, интеллектуальных, нравственных, юридических и политических. Принимая эту классификацию социальных явлений, Вормс, по собственному признанию, следует за Де Грефом, предложившим ее в своем уже упомянутом нами «Вступлении в социологию» и пользующимся ею и в своих «Социологических законах» и в «Социальном Трансформизме», наконец, и в тех трех томах, которые озаглавлены «Структура обществ», и являются частичным осуществлением давно поставленной им темы общей социологии.
Мне кажется, полезно будет при дальнейшем изложении взглядов Бориса сопоставлять сказанное им с тем, что ранее или одновременно развито Де Грефом. Это не значит, чтобы между обоими авторами существовало тесное умственное родство. Вормс решительно отделяет социологию, как науку, от социального искусства или общественного реформаторства. Вспоминая о том, что Энрико Ферри однажды заявил: «Социология будет социалистической или ее не будет вовсе», он в одном месте своего сочинения пишет, что истина лежит в обратном, т. е. что только под условием строгого обособления социального искусства возможно поступательное развитие обществоведения. Де Греф далеко не так утвердителен. В одном месте своего вступления он даже не прочь допустить, что общественная наука прониклась учениями социалистов, и эти последние в свою очередь близко подходят к социологическим решениям, так что нет возможности при установлении общих положений новой науки совершенно игнорировать подготовительную работу социальных реформаторов. Тем не менее в самом содержании его книги влияние
Сен-Симона и сен-симонистов, как и взгляды Прудона, принимаются в расчет лишь настолько, насколько в первых можно видеть зародыш последних по времени построений Конта, а во вторых — критику доктрины социальной гармонии и всей вообще Манчестерской школы. Ни Вормс, ни Де Греф не выдают себя за автодидактов; они почтительно относятся к своим предшественникам, при чем первый считает ими всех вообще основателей и работников в конкретных науках об обществе, а второй — главным образом Кетле, Конта и Спенсера.
Излагая общие им с другими мысли, они каждый раз указывают на то, что нового вносится ими самими в общую с их предшественниками доктрину. Вормс делает это попутно; Де Греф облегчает задачу читателя во вступительном очерке, написанном в 1910 году, где в 18 положениях передаются основные черты той доктрины, с которой он выступил, четверть века тому назад, в первом издании своего «Введения в социологию». Не все, конечно, в этих 18 пунктах носит печать оригинальности, например, хотя бы известное положение, что психология должна быть вставлена в классификацию наук Конта, и что место ей между биологией и социологией. Ведь то же самое сказано было раньше и Спенсером. Но вот, например, мысли новые в то время, когда они были впервые высказаны, да и то не вполне, так как сходство их с теми, какие развивал Фулье, бросается в глаза каждому.
Необходимость создания социологии, как особой науки, вытекает из того, что различия между обществами и организмами — не только количественные, но и качественные. Контрактуализм или способность к самоорганизации встречается в одних только обществах. Мы видели, что близкое к сказанному развивал и Фулье. Более своеобразно то положение, что всякий общественный феномен есть результат комбинации населения и физической среды. Всякий феномен становится социальным, если он одновременно не только органический и психический, но и физический. Театр и актер сливаются в нем воедино.
Признавая иерархию наук Конта Де Греф продолжает ее, применяя к различным порядкам социальных явлений. Экономический феномен он ставит в основу всех других, самый же этот феномен порождается соотношением территории и населения.
Остановимся на этих последних мыслях; покажем, что скрывается за ними и спросим себя, в какой мере они разделяются и Вормсом?
Я не был еще знаком с построениями того и другого писателя, когда в качестве гипотезы высказал то положение, что биосоциальный
фактор густоты населения является первичным по отношению к экономическому, который, в свою очередь, обусловливает собою политическую надстройку. Эта мысль в первой ее половине встречена была сочувственно Костом в его «Объективной социологии». Автор,— я это ясно вижу теперь,— даже излишне подчеркивал оригинальность моей мысли, которая, как читатель может убедиться из сделанной у Де Грефа выдержки, довольно близка к утверждению, что экономическое явление вызывается комбинацией территории и населения. Вормс решительно стоит на точке зрения Коста, когда в 3-й части своей «Философии Общественных Наук», говоря о населении, как об одном из социальных элементов, указывает на зависимость экономических явлений от густоты и концентрации населения. Прилив или отлив его из сел в города, или наоборот, имеет важные не только экономические, но и нравственные последствия: является возможность говорить о «densite morale», т.е. о нравственной густоте.
И в этом отношении между социологами Франции или, точнее, социологами, пишущими по-французски, установилось за последнее время полное соглашение. В «Разделении Общественного труда» Дюркгейм в сущности говорит то же самое, указывая на влияние, какое рост населения оказывает даже на постановку вопросов о ренте, о срочном пожизненном или наследственном съеме земель у собственников, о возникновении таким образом арендных соглашений, о прикреплении крестьян к земле или откреплении их от нее, о возникновении различий между условиями городской и сельской жизни, что в свою очередь влияет на нравы и представления людей. В этом отношении социологи нашли готовые обобщения у экономистов, которые, начиная с Тюрго и Адама Смита, переходя к Мальтусу и Рикардо и оканчивая Лориа и историками хозяйственного быта сел и городов, как нельзя лучше выяснили взаимоотношение, существующее между возрастающей или убывающей густотой населения и целым рядом экономических явлений, в свою очередь находящих отражение и в политическом укладе, и в гражданском праве, и в нравах, и в этических представлениях людей. И в этом вопросе подтверждается ранее высказанная нами мысль, что социология строит свои положения, пользуясь выводами конкретных наук об обществе. А если так, то какой смысл и значение имеют заявления тех или других ее критиков, что она, мол, берет свой материал и свои выводы напрокат то у антропологов и этнографов, то у историков и экономистов? Она иначе и поступать не может, если только не считать ее — что
было бы неправильно — также своего рода конкретной дисциплиной, изучающей один вопрос о природе и формах общения, как это делает Зиммель2. Вормс принимает установленную Де Грефом иерархию социальных явлений, с оговоркой, значительно ослабляющей ее смысл. Он не решается утверждать, что они следовали в известном историческом преемстве, а не зародились одновременно. Это замечание подкашивает в корне учение, например, о политической надстройке над экономическим фундаментом, на котором покоится, как известно, теория исторического материализма. Но автор «Философии общественных наук» не пускается на этот счет в желательные подробности и не преломляет, так сказать, копья с последователями Марксова учения. Не будем и мы останавливаться на этой стороне столь распространенной в наши дни социологической доктрины, тем более, что мы имели случай довольно обстоятельно заняться ею в отдельной главе наших «Современных социологов». Единственная оригинальная черта внесена в этот старый спор не Вормсом, который в этом отношении является только последователем чужих мнений, а Де Грефом. В специальном сочинении, посвященном экономической эволюции, Де Греф указывает на то, что формула Маркса: порядок производства определяет собою общественную политическую и умственную жизнь,— может быть заменена другою, по которой во всех этих отношениях перемена условий обмена или, как он выражается, циркуляция ценностей, играет роль решающего фактора3. Дюркгейм, в сущности, думает то же, противополагая общества, построенные на начале разделения труда и вытекающего отсюда обмена, обществам, в которых самое большее встречается обособление занятий между обоими полами. Таким образом под различными только формулами скрывается одна и та же мысль. И Вормс принимает ее, но скорее как доказательство тому, что в вопросе о взаимодействии
2 По вопросу о влиянии густоты населения, т.е. того биосоциального фактора, который в моих глазах является первичным, Зиммель и в американском журнале «Социология» от июля 1902 г„ и в своей «Soziologie» говорит приблизительно то же, что и Дюркгейм. Общественная структура социальной группы существенно зависит от числа индивидов, в ней объединенных. Известные формы общежития необходимы и даже возможны только под условием известного численного отношения между населением и территорией. Как, например, он ссылается на коммунистические общества ‘ древности, необходимо предполагающие численно ограниченную организацию.
3 Dans 1’ordre econoniique le phenomene circnlatoir est lui-meme a la base comme pins simple et plus general que la consommation et la production, introduction a la sociologies т. 1,1911, XOVI.
экономических и политических факторов далеко не сказано последнее слово и не установилось полного соглашения даже между последователями исторического материализма.
Другой, весьма существенный предмет, затронутый Де Грефом и вносящий оригинальность в его доктрину,— это не столько построение им нового закона, «закона ограничения» (loi delimitation), сколько протест против мысли Конта, что человечество в своем целом рано или поздно составит ту общественную организацию которая лежит в основе его социологических синтезов. В просторечии это означает ни больше ни меньше, как следующее: государства, как политические организации исторически сложившихся народностей, не призваны к исчезновению даже в отдаленном будущем, что не мешает, разумеется, возникновению не только европейского, но и мирового федерализма. Эта мысль и составляет ближайшую задачу первого тома того обширного сочинения, которое едва ли будет доведено до конца неутомимым бельгийским социологом. Я разумею его «Структуру обществ» (La Structure generale des societes).
В таком беглом очерке, каков настоящий, я не могу дать даже приблизительного понятия об этом наиболее обстоятельном и оригинальном из сочинений Де Грефа. Я могу привесть из него только отрывок, указывающий, каково задание автора. Всякий общественный агрегат, получаемый путем комбинации населения и территории, является одновременно не только комбинацией биологической и психической, но еще чем-то более сложным и конкретным. В этом агрегате имеется равновесие, как внутреннее, так и внешнее. Всякий агрегат, подобно любой органической материи, имеет форму или структуру: ни один не является аморфным; его равновесие никогда не бывает устойчивым. Увеличение массы служит ближайшим и простейшим условием общественной дифференциации. Квантитативная вариация лежит в основе всех вариаций квалитативных. Всякий социальный агрегат, какова бы ни была его масса, раз он имеет определенную форму, необходимо ограничен, как ограничены все силы природы, математические, механические, астрономические, физические, как ограничена и всякая организованная материя. Ограничены также физические и умственные силы человека. Этот наипростейший и наиболее общий закон, в силу которого всякая материя, как и всякий организм, имеет свои границы, свою форму, структуру, применим и к человеческим обществам: и они подлежат так называемому Де Грефом закону ограничения. Де Греф старается приложить этот общий закон к человеческим обществам, дока
зывая необходимость государственных границ и обособленность классов. Развитию первой мысли посвящен второй том, а развитию второй — третий.
Вормс считается с общими положениями их автора, когда говорит, что общество может считаться конституированным, раз налицо имеется политически организованная нация, отвечающая понятию государства. «Четыре слова,— пишет он,— употребляются иногда безразлично, как бы заменяя одно другие: народ, нация, общество и государство. Полезно, однако, установлять между ними различия. По нашему мнению, они применяются к одной и той же коллективной единице, но рассматриваемой с различных точек зрения. Термины народ и нация означают группу, изучаемую со стороны ее структуры; термины же общество и государство имеют в виду самое ее функционирование. Социальная группа называется народом или нацией, когда мы рассматриваем ее только как существующую; она называется обществом или государством, когда мы рассматриваем ее как живущую. Теперь спрашивается; чем отличается народ от нации, а общество от государства? Термины народ и общество употребительны, раз заходит речь о множественности составляющих их элементов или множественности феноменов, представляемых их жизнью. Термины же нация и государство являются подходящими каждый раз, когда мы имеем в виду оттенить единство, к которому сводятся составляющие их элементы и развивающиеся в них явления. Нация — это организованный народ; государство — это общество, дисциплинированное правительством и законами. Жизнь самопроизвольно развивается в обществе; она стеснена всякого рода обязательствами в государстве. Народ может быть рассеянной толпою; нация — внутренне объединенная масса. На низших ступенях истории, среди первобытного человечества или отсталых типов современного, имеются уже народы и общества, но неизвестны нации и государства». Вормс заканчивает свои противоположения приведением таблицы, позволяющей одним взглядом распознать эти отличительные черты народа и нации, общества и государства4.
Я привел этот отрывок с целью показать самый способ изложения Вормсом его мыслей. Он отличается сжатостью, своего рода «лапидарностью» и на первый взгляд грешит догматизмом, пожалуй, даже схоластикой. Но дело в том, что на французском языке термины народ, нация, общество и государство, исключают
4 Философия обществ, наук, т. I, с. 36-37.
собою употребление таких терминов, как народность, которая, очевидно, может и не совпадать с народом, как составленным подчас из нескольких народностей или включающим в себя лишь часть определенного народа. С этой точки зрения классификация, предлагаемая Вормсом, может показаться несколько узкой и не обнимающей собой всего разнообразия политических организаций этнографических групп. Вормсу приходится рассматривать, например, Австрийскую империю, с разнообразием населяющих ее племен и различием в политических отношениях этих племен между собою и к общему целому, как явление исключительное, как нечто напоминающее тот monstrum politicnm, каким воображению Пуффендорфа рисовалась предшествовавшая образованию Австрии Римско-Германская империя. Мы задумаемся поэтому, прежде чем перенесть в наш толковый словарь предлагаемую Вормсом классификацию. Но она во всяком случае свидетельствует о том, что в глазах ее автора не человечество, а организованное в государство население отвечает понятию общества.
Для Бориса процесс общественной эволюции рисуется в форме объединения семей в роды, родов в племена, племен в государства. Он не особенно останавливается на этом вопросе, но, видимо, отдает предпочтение ходячей доктрине над тою, которая выдвинута была английскими и за ними некоторыми немецкими писателями, говорящими об обособлении семьи из более безразличной массы особей разных полов, обнимаемых, по терминологии столько же Спенсера, сколько и Колера, термином «стадных соединений».
Характерным для автора «Философии общественных наук» является отрицание им идеи прогресса. Вормс — противник не одного лишь учения Кондорсе о безостановочности поступательного движения человечества и отождествления его с возрастающим счастьем наибольшей части людей; он просто-напросто отрицает самую мысль об усовершенствовании материальных и нравственных условий человечества в связи с эволюцией обществ. Для него, по-видимому, несомненным является один рост знания. Но какое отражение этот рост имеет на то, что мы называем прогрессом,— об этом Вормс не то что не говорит, а не считает даже возможным поднять речи. «Идея прогресса, пишет он, имеет чисто субъективную ценность. Мы называем прогрессом то, что кажется нам усовершенствованием по отношению к предшествующим порядкам, но критерий для суждения об этом усовершенствовании мы создаем сами. Мы говорим о том, что те или другие существа прогрессируют, когда они более
или менее осуществляют наш идеал. А между тем нужно было бы знать как раз обратное — знать, насколько они приблизились к их собственному идеалу. А это именно то, что нередко всего труднее определить».
Наша точка зрения в этом отношении радикально противоположна точке зрения Вормса. Заодно с Контом мы полагаем, что без идеи прогресса не может быть и социологии, самый же прогресс, как мы не раз доказывали, сводится к расширению сферы солидарности, как внутри политически обособившихся национальных групп, так и между этими группами, обнимаемыми общим понятием человечества.
Только что вышедший во втором издании 1-й том «Философии общественных наук» Вормса отразил на себе то влияние, какое оказали на автора прения как в социологическом обществе в Париже, так и на конгрессах международного института социологии. В своем введении он говорит о том, что коллективная работа во многом выяснила его взгляды на спорные вопросы, разделяющие социологов, и в частности, заставила несколько отступить от слишком ортодоксального отношения к теории государства — общественного организма. Второй и третий томы во втором издании, насколько можно судить по первому, посвящены будут вопросу о методах социальных наук и об основных положениях, вытекающих из изучения этих наук.
Начинающим свои занятия ими нельзя не рекомендовать в особенности II том сочинения Вормса. Он введет их в самую лабораторию исследований, посвященных раскрытию отдельных сторон общественного быта, указывая в то же время на связь, существующую между методами общественных наук и методами наук о материи неорганической и органической. Особенно полезной кажется мне попытка Вормса свести в систему те приемы, какими орудует социолог и вообще ревнитель общественного знания, под две группы: приемов анализа и приемов синтеза. К числу первых принадлежат приемы непосредственного наблюдения, статистический, монографический, прием анкеты, приемы этнографический, исторический и даже экспериментальный. Говоря о последнем, автор указывает на ограниченность его применения; так как каждое общественное явление необыкновенно сложно, то о повторяемости его в истории едва ли может быть речь. Экспериментация ограничивается поэтому наблюдением перемен, происходящих в разных странах под действием тех или других причин, например новых законов по одному и тому же предмету. В конце концов важнейшим приемом анализа в социальных науках все же является наблюдение.
Переходя к приемам синтеза, автор посвящает отдельные главы рассмотрению таких вопросов, как поиск причин, отношение сосуществования, отношение преемства. Второй том заканчивается четырьмя главами о классификации, индукции и дедукции в области социальных наук, наконец об аналогии и гипотезе.
Читая этот том, в котором в сжатом и общедоступном виде изложены способы изучения общественных вопросов, к каким прибегали и прибегают в наши дни этнографы, экономисты, статистики, историки и, наконец, социологи, трудно не прийти к заключению, что он является существенным дополнением к тому образцовому использованию приемов Огюста Конта при построении им социологии, какое мы находим во второй части известной «Логики» Милля. Сказать это — равносильно очень высокой квалификации самой книги. Несомненно, что в ней нельзя искать последнего слова по методологии всех и каждой из конкретных наук об обществе. Она не освобождает, например, от чтения таких монографий, как та, которая посвящена была недавно методам исторического исследования академиком Лаппо-Данилевским. Но насколько последнее сочинение обращено к лицам, уже имеющим некоторую историческую подготовку, настолько книга Вормса обращается ко всем, кто обнаруживает простую любознательность по вопросу, как добываются эмпирические обобщения в области социальных знаний. Неудивительно, если книга, вышедшая частями в 1903-1904 и 1907 годах, уже потребовала нового издания в 1913 году.
В противоположность II тому, третий едва ли удовлетворит тех, кто, не будучи сам посвящен в вопрос о спорности общих положений, выдвигаемых конкретными социальными науками, ждет от книги, посвященной их синтезу, своего рода откровений. Оказывается, что более или менее бесспорными можно считать только некоторые труизмы, с которыми давно познакомила широкую публику европейская журналистика. Но эта, так сказать, самоограниченность автора, избегающего всякого спора о гипотезах и ставящего себе, по-видимому, задачу ознакомить читателя не столько с собственными взглядами, сколько с теми, по отношению к которым существует большее или меньшее единомыслие, имеет и свои выгодные стороны. Оно очерчивает контуры той terra ferma, той незыблемой почвы, на которой приходится строить дальнейшие обобщения. Да и самая банальность развиваемых в книге взглядов на самом деле является только мнимой. Она существует исключительно для тех, кто привык считать бесспорными известные положения, не раз повторенные
популяризаторами современного общественного знания. В доказательство нашей мысли остановимся на некоторых примерах. Вторая глава посвящена вопросу о расе. Мы столько раз слышали за последнее время о расовой вражде, что у нас не зарождается даже сомнения в том, что понятие рас вполне выяснено и что есть возможность не только признать их постоянство, но и установить определенную иерархию их. А между тем оказывается, что чистых рас почти не существует, что их свойства меняются с временем, что они постоянно делают заимствования друг у друга и что в ходе истории культурное руководительство не раз переходило от одной расы к другой. Иерархия рас, пишет Вормс, не представляет собою ничего абсолютного и неизменного. В течение веков превосходства, которыми отличалась та или другая раса, подвергались изменению и руководящая роль переходила от одного народа к другому. Черные расы, быть может, предшествовали белым столько же в долине Нила, сколько и на берегах Инда. Желтая раса достигла значительного экономического и общественного развития в пределах Китая задолго до Европы; краснокожие Мексики и Перу обладали довольно развитой культурой. Среди народов белой расы умственное господство переходило от Египта, к халдеям, евреям, финикиянам, персам, грекам и римлянам. А в новое время ряд наций: итальянцы, испанцы, французы, голландцы, англичане, немцы, американцы, вправе гордиться тем, что в известные эпохи они были главными инициаторами в поступательном ходе человечества (т. III, с. 42-43).
Так как автор ставит себе задачей не столько передачу собственных взглядов, сколько более или менее установившихся и всеми признанных,— то он скорее может считаться консерватором, нежели новатором в научной доктрине. Это резко выступает, например, в таких вопросах, как вопрос об индивиде. Ревнители так называемой коллективной психологии сходятся в развитии того взгляда, что индивидуальность также является продуктом истории. Эта мысль красной нитью проходит, например, в сочинениях Дюркгейма, не исключая и его последнего по времени трактата: «Об элементарных формах религиозной жизни». В том же направлении написана появившаяся недавно в «Американском журнале социологии» статья Дюрбара, озаглавленная «Социальный базис индивидуальности». Вормс смотрит на вопрос с ранее установившейся точки зрения, или, точнее, он старается выделить в новом учении то, что кажется ему прочно установленным, от того, что носит еще характер гипотетический. Не следует ли, пишет он, объяснять самого индивида
общественными необходимостями? В наши дни не прочь думать так. В обширных современных обществах индивид принадлежит к значительному числу независимых друг от друга групп — к определенной расе, полу, возрасту; он живет в определенной местности, исполняет известную профессию, состоит членом того или другого класса, примыкает к той или другой партии, числится в том или ином вероисповедании, участвует в тех или иных свободных ассоциациях. Таким образом с разных сторон воздействуют на него несходные влияния; он становится тем или иным под влиянием сил, развившихся в этих разнообразных кругах; он будет их порождением, и то направление, которого он будет держаться в жизни, явится комбинацией тех разнообразных импульсов, которые все эти круги будут давать ему. Можно также представить себе все эти группировки в форме кругов, имеющих свои отличные размеры и свои отдельные центры и пересекающих друг друга в определенных местах. Индивид явится в таком случае местом преломления этих различных кругов. Чтобы определить его положение в пространстве, достаточно будет установить их собственные положения, так как тем самым будут указаны их общие элементы. А отсюда тот вывод, что можно познать индивида, определив, к каким группам он принадлежит. Оставим в стороне математическую терминологию приверженцев такого воззрения и проникнем в самую суть их мнения. В некотором смысле они правы, а в некотором смысле их точка зрения ошибочна. Справедливо, что можно было бы узнать все об определенном человеке, если бы мы могли окончательно приписать его ко всем тем группам, к которым он принадлежит; но это, как мы увидим, немыслимо. С другой стороны, не группа — создание индивида, а индивид — группы. Правда, группа влияет на человека, развивает его, видоизменяет и увлекает; но почему человек принадлежит к той или другой группе? Потому, что присущие ему характерные особенности привлекли его в ее среду. Группа возникает потому, что в ней сошлись люди, имеющие одни и те же отличительные особенности. Вормс указывает, что в число неразрешимых вопросов, по крайней мере при современном состоянии знания, надо включить вопрос о происхождении индивидуальности. Он связывает его с другим, еще более широким — с вопросом о том, чем обусловливается различие организмов всех вообще живых существ, и далее, отчего всякая материя, как неорганическая, так и органическая, принимает определенные и различные формы? Этим вопросом занимались еще Платон и его учитель Сократ, над ним останавливались схоластики,
искавшие определить principinm individuationis, над ним работали двадцать веков ученые мыслители,— и он все же покрыт мраком неизвестности.
Спорным, крайне трудным, но не устраняющим возможности разрешения является и другой вопрос, тесно связанный с предыдущим,— вопрос о природе и условиях появления великих людей, тех, кого мы в просторечии называем гениями. Для многих гений не более как интенсивный выразитель своего времени, его запросов и требований; он появляется в положенное время. Тард критикует такой взгляд, говоря, что выбор этого времени зависит от самого «гения». Вопрос не может быть решен без долгой предварительной работы. Нужно было бы, говорит Вормс, составить список всех великих людей, выяснить, чем каждый обязан своей среде и что, затем, должно быть приписано исключительно его прирожденным способностям или гению. По верному замечанию Тарда, не существует какой-то бездны между гениальным человеком и толпою. Изобретения и открытия не составляют исключительного достояния чрезвычайных способностей. Мы все в большей или меньшей мере — раз попав в известные условия — обнаруживаем инициативу. Вопрос о великих людях в сущности сводится к вопросу о том, при какой счастливой встрече двух или большего числа разнородных мыслей в уме, разумеется, способном к обобщению, зажигается та искорка, от которой исходит всякое новшество в науке, технике, искусстве или жизни.
Говоря об индивидуальности, Вормс, по-моему, недостаточно останавливается на вопросе о том, в какой мере переход от общества, не знавшего дифференциации социальных функций, к обществу, построенному на начале разделения труда, содействовал развитию индивидуальности. Дюркгейм, а за ним и другие ревнители так называемой коллективной психологии, в последнее время — Дюрбар, справедливо останавливаются на той мысли, что индивидуальность стала развиваться в тесной связи с только что указанной эволюцией. О дикаре, говорит Дюрбар, трудно собственно сказать, что он ведет индивидуальное существование, в особенностях которого от жизни других членов одного с ним рода-племени он дает себе ясный отчет. Даже при допущении, что его жизнь имеет личный отпечаток, стороны, которыми она отличается от других, так немногочисленны и эти отличия в такой степени лишены сколько-нибудь систематического единства, что трудно говорить серьезно о том, что на практике они вносят много нового и своебытного. Психическая жизнь дикаря исчерпывается его родовым общением. Он и не думает независимо,
и не поступает иначе, как в согласии с обычаем; наконец, он даже не индивидуализирует своей оценки жизненного опыта. Фетишизм, представляющий в культуре дикаря религиозную интерпретацию этого опыта и основание для общественной морали, принимается каждым членом племени без всякой критики и определяет его поведение. Согласный с обязательными нормами образ действий в обществах, близких к первобытному, определяется не логическим признанием необходимости авторитета и власти, а исключительно тем, что такого же порядка держались предки. В своей практической жизни дикарь не выходит из круга созданных религией запретов или «табу», которыми определяется вся рутина повседневной жизни. Дикарь не ищет усовершенствований и ни в чем не отступает от порядка, установленного этим «табу», так как всякое отступление могло бы повергнуть его группу в беду. Преступление и наказание являются делом рода, так как не зародилось еще понятия об индивиде, как о моральной ценности. Таким образом на этой ступени развития элемент общественный достигает максимального развития, а индивидуальный — минимального5.
Из приведенного отрывка, отражающего собою не столько мысли самого автора, сколько всей плеяды тех мыслителей, которые не считают возможным обходиться без того, что мы называем генетической социологией, и что прежде слыло под еще менее удачным названием «доистории» — с очевидностью выступает ограниченность той точки зрения, на которой стоит Вормс. В одном месте своей книги он говорит, что не видит причины строить обобщения на других фактах, как на фактах по преимуществу новой истории. «К чему социологам обширное знакомство с бытом дикарей и варваров,— пишет он на стр. 14 Ш-го тома своей книги,— Оно раскроет пред ним такие порядки, которых мы только стараемся избежать. Что нам действительно нужно, это узнать, как и какою ценою создана современная гражданственность, а этого можно достигнуть, опираясь преимущественно на факты новой истории». Автор обещает поэтому опирать свои выводы на наблюдениях, заимствованных из среды современных народов.
В этих строках не трудно увидеть критику того направления, которого держатся Дюркгейм, Маус, Леви-Брюль и целая плеяда ученых, частью опубликовавших уже, частью не опубликовавших результаты своих личных исследований, плеяда, к которой принадлежит и сравнительный историк-юрист Флак, настаивающий на тесной
5 Американский журнал социологии. Июль, 1912 г.
связи зарождающегося права с магией,— этой предшественницей религии, как пытался доказать английский ученый Фразер.
В таком сжатом очерке, как настоящий, я не имею, разумеется, возможности даже резюмировать те выводы, к которым пришли перечисленные мною исследователи. Но они во всяком случае клонятся к признанию, что человеческая психика, мораль, право, подверглись с веками таким изменениям, которые необходимо приводить к признанию человеческого прогресса, с чем, как мы видели, Вормс не считает возможным согласиться.
Дюркгейм в новейшей своей работе удачно использовал обильный материал, накопленный трудами английских этнографов в Австралии, начиная с работ Файзона и Хауита «о Камилароях и Курнаях» — австралийских племенах, сохранивших многие черты первобытности, в том числе деление на тотемы, экзогамию или запрет брачного сожития в пределах одного и того же тотема или его подразделения, и оканчивая обширными томами Спенсера и Гиллена о племенах Южной и Центральной Австралии. Он восполнил полученные таким образом сведения теми, какие об организации тотемистических групп заключает книга известного Моргана «О древнем обществе», построенная не на всегда удачном сопоставление быта краснокожих Северной Америки с древнейшим бытом римлян и греков. На основании всего этого Дюркгейм сделал попытку показать, что религия имеет своим источником коллективную психологию тех начальных, частью материнских, частью отеческих родов, какими являются тотемы. Общераспространенность такой организации кажется ему более или менее доказанной не только благодаря наличности ее у туземцев Индии, как установлено английскими этнографами, но и тем сводом сведений о тотемах, какой сделан был Фразером, и теми попытками доказать наличность тотемистической организации в древнем Египте, и в древней Греции, какие принадлежат Масперо и новейшим французским египтологам,— с одной стороны, и Соломону Рейнаку — с другой.
В тесном умственном общении с Дюркгеймом работает и Леви-Брюль, главным образом, над выяснением истории развития нравов и на анализе первобытных умственных представлений. Он также не прочь признать влияние общественной организации на выработку тех запретов или «табу», которыми дикари установляют целую систему недозволенных действий,— первоначальный источник тех норм, из которых слагается одинаково и нравственность, и право. Его точка зрения, таким образом, существенно расходится с тою, которая считает источником морали религию. В интересной работе
Гастона Боне-Мори, озаглавленной: «Моральное единство религий», сделана попытка показать, что основатели мировых религий более или менее сошлись в основных началах этики. Очень интересны в этом отношении, например, следующие сопоставления. Душа усопшего, представши на суд Озириса, говорит ему в качестве рекомендации своего доброго поведения: «Я никому не причинил зла, я не убил, не украл, не прелюбодействовал, я не повинен в лжесвидетельстве, я не остался глух к мольбам просителей». Разве то же не повторяется в Декалоге: не убий, не прелюбы сотвори, не укради, не пожелай жены искреннего твоего, ни вола его, ни двора его и т. д. Соглашаясь даже с тем, что, как выразился один из членов конгресса религий в Стокгольме, раввин Клейне, история религий и история нравственности указывают нам, как во все времена великие умы стремились достигнуть одинаково нравственного уровня, мы тем самым нимало не отрицаем глубокой бездны, отделяющей эпоху зарождения нравственных запретов от эпохи появления связанных с религиозными системами этических учений. Религиозные реформаторы не довольствовались признанием существующих в их стране нравов: они делали попытку видоизменить их в направлении, благоприятном расширению человеческой солидарности.
Книга Леви-Брюля проводит поэтому весьма основательно различие между нравственностью и нравами. В правилах нравственного поведения всегда отражается культура народов, стоящих на одинаковом уровне развития. Немудрено поэтому, если среди белой расы эти советы доброго поведения более или менее одинаковы. Этим объясняется, почему между нравственными воззрениями различных религиозных толков встречается столько сходства. Но его нельзя констатировать при сопоставлении нравственных учений отдельных мыслителей, а это обстоятельство и заставляет Леви-Брюля отрицать самую возможность «теоретической», как он выражается, морали, т. е, такой, которая одновременно являлась бы и спекулятивной, и нормативной... Попутно автор высказывает несколько положений общего характера, имеющих ближайшее отношение и к определению задач социологии. «Несомненно,— говорит Леви-Брюль, — что она в тех своих частях, которые посвящены религиозному, нравственному и юридическому развитию человечества, неотделима от психологии. Но абстрактная психология, имеющая своей задачей изучение умственной жизни современного человечества, способна дать только вероятное и в большинстве случаев ложное решение. Прогресс научной социологии один проливает свет на начальные
умственные функции людей (les functions mentales primitives). Этих сведений мы не могли бы получить другим путем, и так как то, что она нам открывает по отношению к воображению, к коллективным представлениям, к организации мыслей и верований, касается древнейшего проявления этих функций, до которого мы только можем подняться, социология со временем может сделаться весьма полезной для положительного объяснения и наших высших умственных функций. Предполагаемое знакомство наше с человеческой природой вообще в отношении к нравственной и умственной ее стороне уступит со временем место совершенно иной психологии. Она основана будет на терпеливом, мелочном, методическом изучении нравов и учреждений, в которых объектировались чувства и мысли различных человеческих обществ, когда-либо существовавших и оставивших доступные нашей интерпретации следы» («Мораль и наука о нравах», с. 81).
Таким образом, под влиянием развития социологии предвидится существенное изменение и других научных дисциплин, предшествующих ей в той схеме наук, какая намечена была Контом и восполнена Г. Спенсером. Подобно тому, как теория Мальтуса и установленная им формула роста средств пропитания в арифметической прогрессии, а роста населения в геометрической, оказали свое влияние на биологическую доктрину о борьбе за существование, как лежащей в основе всего растительного и животного царства,— так точно учение о росте нравов и учреждений несомненно отразится и на научной постановке психологии, обогащая ее точными представлениями о начальных умственных и чувственных процессах, проявляющихся столько же у дикарей, сколько и у младенцев.
Сам Леви-Брюль сделал попытку в своей книге: «Об умственных функциях в обществах, близких к первобытности» — использовать то, что мы называем «генетической социологией», для построения системы начального мышления. Разумеется, мы не можем дать нашим читателям и приблизительного понятия о всем богатстве содержания его сочинения (почти 500 с. мелкого шрифта). Мы можем отметить только тот факт, что в этой книге ставится вопрос — отвечает ли начальная умственная деятельность людей тем же законам элементарной логики, на каких построено наше мышление. Писатели, ранее Леви-Брюля поднимавшие этот вопрос, в том числе Тейлор, не высказывали на этот счет никакого сомнения. То же самое можно сказать о Бринтоне, хорошем знатоке религиозных верований краснокожих. И в моих сочинениях
по сравнительной этнографии, древнейшему праву и генетической социологии я указывал на то, что ограниченность знаний и суеверное отношение к зиждительной силе магии — ближайшая причина того, что дикари довольствуются в своих умственных процессах самыми грубыми аналогиями и признают возможность вызывать актами магии аналогичные явления в жизни природы. Так, они льют воду на землю в надежде вызвать тем самым дождь; они наносят раны грубому изображению того или другого лица в надежде вызвать его смерть. Поступая таким образом, они только в более грубой форме впадают в те ошибки, от каких несвободны многие современные писатели, допускающие причинную связь между следующими во времени явлениями, руководствуясь началом post hoc ideo propter hoc. Но недавние наблюдения этнографов в Австралии познакомили нас с таким детством мысли, которое наводит Леви-Брюля на решение, колеблющее самое представление о том, что человеческая логика осталась неизменной в своих основных положениях с древнейших времен. Доселе мы думали, что различие первобытных обществ от культурных в этом отношении более квантитативное, чем квалитативное. Мы не допускали, например, способности дикарей считать далее известного, ограниченного круга чисел. Мы видели следы тому и в языке некоторых культурных народов, например англичан, которые отправляясь от цифры 20 (Score), и помножая ее на цифры от одной до двадцати, вызывали тем в уме представление о более крупных числах. Мы указывали и на то, что у евреев счет не шел далее сотен, а для тысячи и больших сумм — употреблялся неспециализированный термин «тьмы», и на то, что численные представления осетин были более или менее ограничены. Работы Спенсера и Гиллена о быте уроженцев Австралии подтвердили вполне нашу точку зрения. Но в то же время они обнаружили такие элементарные отступления в мышлении первобытных народов от общепризнанных начал логики, как признание, например, части за целое. Значит ли это, однако, что мы вправе говорить в применении к ним о какой-то особой логике? Разве и в наши дни не встречается суеверных людей, которые считают нужным закапывать обстриженные волосы и ногти из опасения, чтобы они не могли попасть в руки врагов, которые, действуя чарами, способны вызвать болезнь и смерть? Но Леви-Брюль еще далее идет в своих утверждениях, стараясь доказать, что первобытному мышлению неизвестен закон противоречия. Прежде чем согласиться с ним, необходимо будет подвергнуть тщательной проверке те данные,
на которых опираются его выводы. Многое из того, что считалось более или менее установленным Спенсером и Гилленом, вызывает сомнения в позднейших путешественниках. Они не могут примириться, например, с тем, чтобы австралийцам неизвестен был тот факт, что рождению предшествует половой акт. Во всяком случае Леви-Брюлем поставлен один из важнейших вопросов истории культуры и социальной динамики — вопрос о том, можно ли допустить то, что он называет mentalite prelogique, для которой он выводит, на основании богатого этнографического материала, свои особые законы: например, закон соучастия (loi de participation), сводящийся в сущности к тому, что сопутствующие друг другу явления находятся в причинной связи между собою. Этот закон устраняет необходимость противополагать целое его части и устраняет, как думает Леви-Брюль, действие основного закона логики — закона противоположения. Но в заявлениях тех или других дикарей, что они попугаи или земноводные, быть может, скрывается иной смысл, чем тот, какой находит в них Леви-Брюль,— смысл прямого отождествления себя с животными? В заявлении, что они земноводные, пожалуй, скрывается память о том отдаленном периоде, когда для защиты от диких зверей они принуждены были жить в отстраиваемых среди озер и заливов свайных постройках? А в заявлении, например, одного племени Центральной Бразилии, что его члены — попугаи, можно видеть следы той системы тотэмов, которая, как выяснено работами Фразера, Масперо, Соломона Рейнака и др., не говоря уже о Моргане и об авторах этнографических описаний Австралии, пользовалась и пользуется широким распространением среди древних народов и отсталых племен нашего времени. Книга Леви-Брюля, таким образом, ставит на очередь новые вопросы, остающиеся, однако, спорными и после ее выхода. Это нисколько не умаляет ее цены. Когда Лафито впервые указал на существование племен, у которых счет родства производится по матери, а не по отцу, его сообщение признано было более или менее баснословным. Оно нимало не помешало построению теории происхождения агнати-ческого рода путем разрастания патриархальной семьи. А о самом Лафито и об его оригинальной доктрине вспомнили только тогда, когда Бахофену и Мак-Леннану, защищая теорию первобытного материнства, пришла мысль — первому — об изучении мифических сказаний греков и римлян, а второму — этнографических материалов, сообщенных древними анналистами и того, какой дают нам путешественники о быте отсталых племен, населяющих
Новый и Старый Свет. Позднейшие исследования показали, что счет родства по матери вовсе не говорит о том, что владычество некогда принадлежало женщинам, как думал Бахофен. Отсутствующего нередко отца заменял всегда известный брат по матери, которому и принадлежало руководительство возрастающим поколением. Сказать, что и в настоящее время все споры решены и выяснена действительная природа материнства — нельзя. И главная трудность несомненно лежит в том, что с течением времени однажды сложившиеся обычаи нередко начинают служить другим целям, чем те, ради которых они были созданы. Толкование их по здравому смыслу нередко оказывается поэтому ошибочным.
Сказанное об обычаях в значительной степени может быть повторено и об обрядах. Леви-Брюль приводит тому разительный пример. Мертвецам у некоторых народов влагают в уста золото или яшму. При допускаемой, под влиянием по преимуществу греческой мифологии, гипотезе о всеобщем господстве анимизма, этот обряд интерпретируется в том смысле, что золото послужит покойнику в будущей жизни, и является затем как бы подтверждением первобытной веры в духов, ведущих более или менее близкое к нам существование. Но из расспросов туземцев оказывается, что они связывают с этим обрядом совершенно иное представление: считая золото и яшму самыми чистыми металлами, они полагают, что их чистота сообщится и трупу покойника и вызовет его нетленность. А такое толкование дает повод Леви-Брюлю настаивать на мысли о том, что дикарям недоступен закон противоположения и что их логика, наоборот, отправляется от неизвестного нам представления о необходимом воздействии друг на друга двух или более сопутствующих явлений (loi de participation).
Из всего сказанного следует, что работы по генетической социологии, к которым, благодаря Дюркгейму, обратились напоследок и французские ученые обещают не малую поживу и для учения о прогрессе. В этом отношении я становлюсь решительно на сторону новой школы и высказываюсь против той, какая имеет своим важнейшим представителем Тарда и находит отклик и в книге Бориса, и в недавней статье Фаге, появившейся в парижском журнале «Кегле» по поводу выхода в свет интересного тома Дельваля об истории идеи прогресса. Дельваль доводит свою историю до конца XVIII века, обещая читателям продолжение своего труда. Мы дождемся исполнения этого обещания, чтобы познакомить русских читателей с главными выводами автора. В настоящее же время мы обратимся к рассмотрению тех соображений, по которым Вормс не только
отрицает идею прогресса в смысле усовершенствования условий общественной жизни, но и высказывает некоторые сомнения насчет общеприменимости той формулы общественной эволюции, какую дает Спенсер, говоря о все большей дифференциации и интеграции общественных функций. Главным возражением против непрерывности поступательного движения является падение древней культуры — культуры классических народов и зарождение новой гражданственности лишь на расстоянии нескольких столетий со времени нашествия варваров. Я полагаю, что причина такого, на мой взгляд, узкого понимания истории раннего средневековья лежит в добровольном игнорировании, во-первых, культурной роли Византии, а во-вторых, того положения, что в понятие поступательного роста человечества должны входить столько же квантитативные, сколько и квалитативные явления. Культура древнего мира, как всем известно, не выходила за сравнительно ограниченные пределы orbis romani, в центре которого лежало Средиземное море. В Средние века эта культура, благодаря Византии, распространяется и на Восток; одновременно она переходит за границы Рейна, под влиянием распространения римской гражданственности на немецкие племена, в эпоху Тацита еще сохранявшие свою относительную первобытность. При восстановлении Карлом Великим Римской империи в тесном союзе с главою католического мира начинается насильственное сближение с греко-римской культурой или, точнее, с усвоенными из нее началами обращенных в христианство варваров вплоть до немецкого моря. Полусветские, полурелигиозные ордена тевтонских рыцарей и меченосцев распространяют ее затем на прибалтийских славян и финские племена — прусов, латышей и эстонцев. Еще ранее идет, благодаря христианскому миссионерству, передача элементов древней культуры кельтам Ирландии, Шотландии и саксонскому населению Англии. Скандинавский мир вместе с христианством получает и элементы античной гражданственности. Наконец, под влиянием миссионеров, вышедших с Балканского полуострова, и принятая князем Владимиром восточного православия, расширяется культурное влияние Византии на славянские и финские племена, поселенные по Волхову, Днепру и верховьям Волги.
Римско-эллинская культура, не обнаруживая поступательного хода в смысле квалитативном, переживая даже в этом отношении некоторого рода понижение, в то же время охватывает собою весь материк Европы. Квалитативный рост ее начинается с зачатками Возрождения, быть может и несколько ранее, со времени находки
рукописей Аристотеля и позднее Платона и комментирования их сперва арабскими философами — Аверроэсом и Авиченой, а затем Фомой Аквинатом и схоластиками. С этого времени и идет безостановочный ход развития точного знания. Квантитативно европейская культура, выросшая на почве усвоения культуры классических народов, распространяется и на новые материки, со времени открытия Америки, островов Тихого и Индийского океанов и материка Австралии. Мы вошли в тот период истории, когда исчезает возможность говорить об одной лишь европейской культуре и приходится заменить эту квалификацию прилагательным «мировой». С защищаемой здесь точки зрения трудно отнестись иначе, как с полным скептицизмом, и к теории ricorsi или какого-то спирального развития человечества, какую в середине XVIII века построил итальянец Вико, и к тем попыткам ее оживления, какие мы находим у некоторых новейших писателей — Рауля де ля Грассери, например, приурочивающего свою доктрину к Гегелевской триаде (тезис, антитеза и синтез). Вормс говорит об этой последней попытке, что она, подобно теории немецкого социолога Вейзенгрюна, указывает на то, что за периодом противодействия или оппозиции вновь развившемуся течению в различнейших сферах общественности следует как бы возрождение старого и его примирение с новым. Эта мысль защищается де ля Грассери некоторыми далеко не бесспорными данными, представляемыми на правах примеров. Они почерпнуты главным образом из истории права. Де ля Грассери ссылается, например, на то, что права женщины, одно время отнятые мужчинами, снова оживают. Кровомщение, одно время подавленное государственной властью, снова оживает в применении к преступлениям, направленным против чести (дуэли). Прямое народоправство, одно время уступившее место представительному, возрождается в форме плебисцита и референдума и т.д. Если более внимательно разобрать эти примеры, то можно будет усомниться в точности приведенных фактов. Мы видели, что система материнства не совпадает с первоначальным владычеством женщин. Есть основания сомневаться в том, чтобы дуэли и система личного отмщения обид чести вступили бы в период прогрессивного развития, а не наоборот — упадка. Дуэль, весьма распространенная в англо-американской среде еще в XVIII веке, несомненно дискредитирована в общественном мнении Нового Света, допускающем замену ее столь «буржуазным» приемом, как привлечение обидчика к вознаграждению за вред и убытки. Она едва ли прививается также к русскому обществу, появившиеся
со времени введения у нас представительных палат случаи подражания французским приемам решать шпагою столкновения между депутатами, встретили в русском обществе скорее насмешливое отношение. Наконец, в плебисците, особенно в той форме, какую он принял в эпоху обеих наполеоновских империй, следует видеть не возвращение к началу прямого народоправства, а карикатуру той практики, какой придерживались в эпоху Гракхов. Остаются референдум и прямой законодательный почин, которые опять-таки трудно сближать с вечевыми порядками и с присущим им стремлением решать все дела единогласно, «едиными усты». Еде принято считать волю большинства за выражение общей воли — там отсутствует всякая идея первобытности. Наше время готово отнестись с большим признанием к правам меньшинства и не прочь говорить даже о пропорциональном представительстве. Но в этом нет ничего схожего с теми порядками, о которых в применении к германцам говорит Тацит: «О менее важных делах судят старейшины, а о более важных — все». Попытки возвращения к старому часто вызываются силою традиции, но и это старое воссоздается или только внешним образом, как например, тогда, когда городские власти средневековых республик Италии получают римское название консулов или подвергается таким видоизменениям, которые дают повод говорить не о возрождении, а о приспособлении. Что вновь появившиеся течения встречают отпор в старом и что исходом их столкновения с ним является приспособление старого к вновь заявленным требованиям,— это в значительной степени отвечает действительности. На признании такого скорее эмпирического обобщения, чем закона причинности, остановились по справедливому замечанию Вормса, как на конечном выводе, и теоретические построения Тарда. Хотя Тарда и считали непримиримым противником Спенсеровой доктрины об эволюции, но Вормс справедливо указывает на то, что в действительности они далеко не стояли на двух противоположных полюсах. Чтобы показать действительное согласие взглядов Спенсера и Тарда — думает Вормс,— достаточно ввести в формулу первого легкую перемену терминов, от которой она только выиграет. Когда Спенсер говорит, что общество переходит от смутной гомогенности к координированной гетерогенности, он далеко не так решительно противопоставляет эти два существительных, как склонны понимать это мы. Его мысль может быть передана более точно положением, что общество переходит от смешения в гомогенности, к координации в гетерогенности. Но то же самое допускает и Тард. Спенсер, говоря
о гомогенности, имеет в виду только определенную социальную группу, а Тард, настаивая на гетерогенности всего человечества, не распространяет ее на отдельные социальные группы, нации, государства. К тому же он ничего не говорит о периоде первобытности. При начале же исторической жизни народов общество несомненно представляет, в глазах обоих писателей, значительную гетерогенность. И по отношению к позднейшим периодам их взгляды сходны. Тард настаивает на том, что под влиянием подражания устанавливается большее однообразие, а Спенсер говорит о возрастающей координации. Когда последний останавливается на росте обособления между отдельными социальными органами и индивидами, он опять-таки встречается с Тардом, настаивающим на возрастающей индивидуализации людей.
Только что приведенные страницы рассеивают довольно распространенное представление о том, что Тард и Спенсер расходились в основных точках зрения. Насколько дело идет об общественной эволюции, такого расхождения, как показывает Вормс, в действительности не было. Но мне кажется, что между обоими мыслителями, как и их последователями — Вормсом, с одной стороны, и Дюркгеймом — с другой, продолжает держаться одна существенная противоположность: дифференциация и связанная с ней интеграция общественных функций рисуется воображению Спенсера и за ним Дюркгейма чем-то наступающим самопроизвольно, процессом до некоторой степени механическим, вызываемым к жизни самым сгущением населения. Тард и Вормс, наоборот, настаивают на той мысли, что в основе всякого общественного трансформизма лежат психические причины: появившиеся в людях желания или, точнее, запросы и вожделения. Вормс посвящает целую главу вопросу о двигателе общественной эволюции и старается свести все факторы ее к одному — к новым запросам, пробуждающимся в людях и под влиянием требований среды, и под влиянием изменения в технике производства и общественной структуре, в свою очередь обусловленным новыми изменениями в психике. Что же такое, спрашивает он, эти вновь пробуждающиеся вожделения или запросы? Это тот импульс, который человек получает при мысли, что его современное состояние может быть улучшено проявлением деятельности или движения в направлении к лучшему. В социологии, говорит он, нам предстоит заняться исключительно коллективными запросами; насколько они индивидуальны, они нас не интересуют. Для нас важны только те, которые проявляются во всем человечестве или в отдельных национальных группах (т. III, стр. 257 и 258).
Вормс грешит в этом месте чрезмерной исключительностью; очевидно, и желания, проявившиеся в более тесных группах — в городе-республике, в классе, партии и т.д.,— входят также в область коллективной психологии и, тем самым, в область социологии. Но основная его мысль тем не менее остается верной. Мне вспоминается по поводу ее спор, какой еще в ранней молодости мне пришлось слышать в Лондоне, в гостеприимном доме философа Джорджа Льюиса. Его жена — известная английская писательница Джордж Элиот — упрекала Бокля за то, что его общая схема как бы порождает в уме представление, что тот или иной общественный и политический уклад определяется чем-то независимым от воли людей. Такая доктрина, полагала она, весьма опасна, так как она парализует то сознательное стремление к лучшему будущему, которое, в ее глазах, являлось ближайшим рычагом для поступательного движения общества. Насколько справедлив упрек, направленный великой писательницей против Бокля,— это еще вопрос. Но несомненно одно в учении Тарда и его последователей; сведение причин всех перемен в общественном и политическом укладе к появлению, как выражался Тард, известных верований и желаний — представляет одну из наиболее положительных сторон. Другое дело — в какой мере она может быть признана оригинальной. Разве Конт не учил тому, что в росте положительного знания лежит причина всякого общественного трансформизма, и разве перемены в наших верованиях и желаниях не стоят в тесной связи с ростом знания? Не станем же мы в настоящее время веровать в наступление дождя при совершении известных магических действий и произнесении известных заклинаний и соответственно желать совершения этих действий и заклинаний? — Мы не станем делать этого, очевидно, только потому, что источник происхождения дождя для нас в настоящее время не составляет тайны. Не будем мы поэтому также преклоняться перед чародеем — «дождедателем» и признавать неограниченность его власти над собою.
А с этой переменой в нашей коллективной психике тесно связана и невозможность тех политических порядков, которые опирались на таких верованиях и желаниях. Но если верования и желания, стоя в тесной связи с уровнем знаний, в свою очередь вызывают явления общественного и политического трансформизма, то наступление их мыслимо только тогда, когда эти определенные верования и желания станут осуществимыми. Для этого необходимы те перемены в общественной среде, источник которых в конце концов лежит в биосоциальном факторе размножения населения и его уплотнения. Те или другие
мыслители могли мечтать и в древности, и в Средние века о наступлении братского обмена между людьми естественных продуктов почвы и климата. Но при разобщенности, вызываемой прежде всего слабой густотой населения, такие верования и желания необходимо оставались без осуществления, и идея мирового обмена и общественной солидарности всех членов великой человеческой семьи не встречала даже того скромного признания, какое выпало ей в удел в наши дни.
Все это я говорю с целью показать, что взаимодействие психического и биосоциального факторов в действительности гораздо более тесно, чем склонны допускать это, с одной стороны, последователи психологической школы в социологии, с другой — сторонники экономического или исторического материализма. На этой мысли я настаивал в моей книге о современных социологах и продолжаю настаивать и теперь.
Но, поступая таким образом, я, в сущности, только развиваю взгляды, которых придерживался сам основатель социологии. Дюркгейм справедливо указал, что Контом по достоинству оценено было и влияние биосоциального фактора возрастания плотности населения, и связанных с нею изменений в условиях техники, в свою очередь зависящих от роста знаний. Меня не удивляет поэтому, если французские социологи, и в числе их Вормс, не перестают отводить в своем преподавании значительное место изложению социологической доктрины Конта, если с этой целью в течение ряда лет читаются отдельные курсы и в парижской юридической школе, и в школе Обществоведения в том же Париже. Конт все еще продолжает оставаться не только прадедом, но и отцом социологии, и всякое игнорирование высказанных им мыслей сопровождается хотя бы тем неожиданным последствием, что оригинальные учения, высказываемые отдельными писателями по отвлеченному обществоведению, оказываются, при поверке, в лучшем случае только развитием его мыслей, а иногда суживанием их и искажением. Что совершается в области социологии, то повторялось уже не раз в истории других наук: критики Дарвина в конце концов не упразднили необходимости восхождения к нему в вопросах биологии; и то же значение по отношению к наукам о неорганической природе сохранили доктрины Ньютона и Лавуазье. Если мы все еще должны считаться со взглядами Конта, то это доказывает только, что основные положения социологии уже установлены, и установлены ее творцом. Социология действительно является наукой не только зарождающейся, но и зародившейся, и современным ее ревнителям остается только продолжать и укреплять давно начатое дело.
ТЕОРИЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ ТАРДА ** 1
’ Не знаю, представляют ли себе с достаточною ясностью в Париже, какою популярностью пользуется в России и в Америке один из наших коллег, Тард, а с ним вместе и самый психологический метод в социологии. Русский родом, я читал несколько месяцев лекции в Америке и могу поручиться, что ни один из современных французских социологов не пользуется там такою известностью, как знаменитый автор «Законов подражания» («Les lois de Limitation») и «Социальной логики» («Logique sociale»). Еще задолго до моего переселения во Францию — тому назад лет пятнадцать — русские критики моей работы «Современный обычай и древний закон» обратили мое внимание на взгляды, высказываемые Тардом. Эти критики утверждали — совершенно, впрочем, неосновательно, — что Тард — систематический противник сравнительного метода в области права. Единственную причину сходства обычаев и законов у народов различного происхождения, часто значительно удаленных друг от друга пространством и временем, он видит, по их словам, лишь в том, что они подражали одному и тому же образцу. Читая труды Тарда, я с удовольствием убедился, что совсем не такова была мысль нашего знаменитого коллеги. Он и не думает отрицать частых аналогий в учреждениях и нравах разных народов и объясняет их совершенно так же, как делал это за несколько столетий до него знаменитый секретарь флорентийской республики, великий Макиавелли. В самом деле, разве Макиавелли не говорил, что люди всюду и во все времена — люди, что они обладают одинаковыми
* Печатается по: Вестник воспитания. 1903. Кн. IX. С. 115.
1 Доклад, прочитанный по-французски профессором М. М. Ковалевским на парижском социологическом конгрессе в июле 1903 г.
физическими потребностями и одинаковыми духовными склонностями. Раз признав это положение, можно думать, что люди будут походить друг на друга и своим образом жизни, и своим поведением 2. Тард в «Законах подражания» говорит то же, замечая: эти аналогии всего вероятнее указывают на основное единство человеческой природы, на тожество органических потребностей, удовлетворение которых является целью всякой социальной эволюции, на тожество чувств и умственного склада3. Но в то время, как автор II principe видит в неизменности человеческой природы помеху всякому иному прогрессу, кроме материального, Тард вполне признает возможность улучшения человеческих отношений. Он объясняет и характер этого улучшения, говоря, что социальная эволюция совершается, благодаря постоянному наслоению открытий и тех подражаний, которым эти открытия служат исходною точкой.
Я думаю, однако, что, излагая эту теорию со всеми вытекающими из нее заключениями, Тард высказывает иногда отдельные мысли и употребляет выражения, которые оставляют в голове читателя некоторые сомнения. Об этих-то сомнениях я и позволю себе побеседовать с вами в этом коротком докладе.
Тард, по моему мнению, напрасно настаивает на том положении, что религия, правительство, человеческая речь, обычаи и т.д. имели отправным пунктом одну какую-нибудь семью. В своей «Социальной логике» он называет даже эту семью провиденциальной (стр. 88-90), так как все остальные семьи, по его мнению, только пошли по ее стопам, подражая этому единственному образцу. Я не могу согласиться с подобной доктриной не только потому, что не допускаю самого существования первобытной патриархальной семьи. Будь это даже иначе, мне все-таки трудно было бы представить себе, каким образом религии, языки и обычаи, как общие целой области, так и местные, могли быть вызваны к жизни подражанием единому образцу. Я отлично знаю, что домашняя религия существовала и у римлян, и у греков, и у индусов, персов, славян, германцев; я сам показал, что она существует и в наши дни у осетин и у многих других народностей Кавказа. С другой стороны, все знают, что у китайцев существует культ домашнего очага и что маниту краснокожих и специально могикан вовсе не дух, правящий судьбами человечества, как это полагал, например, романист Купер, но обожествленный предок.
2 II principe.
3 Les lois de Limitation, p. 42.
Но рядом с этими религиями и у тех же самых народов, которые исповедовали или еще исповедуют их, наблюдается существование и областных божеств, более или менее национальных. Я отказываюсь от мысли не видеть в религии древних персов ничего, кроме фравашей, а в религии древних индусов — одних питри. Агни, или бог огня, и Варуна — бог небесного свода, наконец, Ашвины — божества солнца и луны — мне кажутся такого же древнего происхождения. Никто также не в силах доказать, что Перун, бог грома у русских славян,— был позднейшего происхождения, чем домовой, домашний дух, и даже чем Роженицы,— общие матери, почитаемые нашими предками, как сообщает автор «Слова некоего Христолюбца». Впрочем, все эти вопросы о времени происхождения того или другого верования или обычая наталкиваются на непреодолимые трудности, благодаря позднему появлению письменных памятников у народов исторических. Поэтому было бы гораздо целесообразнее, на мой взгляд, при решении подобных проблем сосредоточить все внимание на показаниях современников о духовном быте таких отсталых народов, как австралийские негритосы, например. В этом отношении мы имеем свидетелей, заслуживающих полнейшего доверия, я разумею, в частности, недавнее сочинение Спенсера и Гиллена. Оба они жили многие месяцы в среде австралийцев и научились местному или, вернее, местным языкам и наречиям. И вот что эти ученые говорят о коллективной психологии аборигенов центральной Австралии. У них нет и помину о домашней религии по той простой причине, что у них не существует и вполне установленной семьи. Индивиды, принадлежащие к одному и тому же племени, распределяются у них между различными группами, которых бывает минимум две. Браки заключаются у туземцев только между членами разных групп. Всякие супружеские отношения в недрах одной и той же группы запрещены. Это не мешает различным группам племени говорить на одном языке, или, вернее, наречии4. Группы одного и того же племени чтут различных тотемов5. Эти тотемы носят скорее топографический, чем семейный, характер, т. е. относятся к месту, занимаемому данной группой. Каждая группа имеет собственного
4 Each of the various tribes speaks a distinct dialect, утверждают Спенсер и Гиллен (The Native tribes of Central Australia (c. 7)).
5 Тотем — животное или растение, от которого известное племя ведет свои роды и которое поэтому считается священным.
вождя, известного под именем Алатунжа6. Он исполняет известные религиозные обряды и председательствует на известных религиозных церемониях, имеющих целью увеличить число растений или животных, которые служат тотемами для данной группы7. Наряду с этим местным, а не семейным характером языка, религии и правительства, обычай тоже далеко не составляет особенности той или другой семьи, а распространяется на всю область, занимаемую племенем. Эти местные обычаи к тому же время от времени обогащаются удачными нововведениями, придумываемыми тем или другим членом племени по случаю собраний, которые часто повторяются у них и носят ритуальный характер8.
Я далек от мысли дать вам хотя бы слабое представление как о социальной, так и о религиозной организации негритосов, с такою точностью и такими подробностями описанной Гилленом и Спенсером. Но и то немногое, что я о ней сказал, достаточно, чтобы установить то положение, что тотемы, как божества, тесно связаны с известными определенными местностями, а не с теми или другими семьями и что местный характер обычаев и наречий, наконец, самое существование у туземцев местных, а не семейных обрядов — все это вместе заставляет нас предполагать, что отправная точка человеческой эволюции была не та, какую указывает Тард. Обожествление реки, пустыни, горы,— обожествление, к которому сводится культ Озириса или Тифона, у египтян произошло, на мой взгляд, непосредственно из этого местного характера наиболее древних культов. Фетишы или тотемы, связанные с известными, определенными местами, лучше объясняют нам происхождение областных религий, чем гипотеза о примитивном веровании, не переходящем за пределы семейного очага. Поклонение растениям и животным, как полезным, так и вредным, происходит прямым путем из этого местного тотемизма. Культ обожествленных предков мог появиться только с того момента, когда возникли различные семейные очаги. Эти очаги могли быть материнскими или отцовскими, т. е. построенными на культе общей матери, прародительницы общего прадеда.
Не настаивая более на этом пункте, я, на мой взгляд, представил некоторые основания, позволяющие утверждать, что семья, особенно единая и провиденциальная, могла и не «быть отправным
6 Ibid., с. 9.
’ Ibid., с. 11.
8 Ibid., с. 12.
пунктом всякой власти, всякой религии, всякого языка и всякого обычая».
Но этим еще не исчерпываются мои разногласия с нашим коллегой, которого я готов признать одним из самых ярких представителей современной социологии, понимаемой в смысле психологии коллективной. Я не могу так же признать и все установляемые им законы подражания.
Один из этих законов состоит, по мнению Тарда, в признании того факта, что люди начинают подражать не внешней, а внутренней стороне того или другого открытия. Подобное обобщение чисто эмпирического характера, по моему мнению, есть только одна из сторон того закона Огюста Конта, по которому накопление научных знаний влечет за собой соответственное изменение в развитии индустрии, искусств и политической организации. Но будучи эмпирическим обобщением, формула Тарда может быть признана законом лишь при том условии, если все известные нам исторические факты подтверждают ее. Но в действительности, по моему мнению, дело обстоит совсем не так. В Англии, например, Генрих VIII начинает с того, что устраняет не догматы католицизма, а его иерархическую организацию: он распускает конгрегации, экспроприирует их имущества, присваивает себе папскую власть. Все это, по моему мнению, мало согласуется с законом, по которому всякое подражание идет от внутреннего к внешнему. То же самое повторилось и с Петром Великим, царем-реформатором, который, желая сделать из своих подданных европейцев, начал с того, что сбрил им бороды и заставил их жен и дочерей танцевать на «ассамблеях». Так называемое подражание континентальными государствами английской конституции было тоже скорее подражанием внешним, формальным. В самом деле, трудно допустить, чтобы система самоуправления общества, к чему в конце концов сводится представительный парламентарный порядок, могла мирно уживаться с централизацией, бюрократией и той государственной опекой над коммунами, которые до установления третьей республики господствовали во Франции.
Другой пункт, в котором я не могу согласиться с мнением Тарда, следующий. Он возводит на степень закона то наблюдение, что всякое подражание сначала является в виде обычая, потом переходит в моду и кончает тем, что снова становится обычаем. В одном из своих критических исследований, посвященном, если не ошибаюсь, разбору книги Гиддингса, наш французский собрат тонко отметил тенденцию некоторых умов представлять себе всякую эволюцию
проходящей через три различные стадии. Как и Гегель — этот, можно сказать, классический пример ума, который чувствует себя хорошо только в границах тезы, антитезы и синтеза,— Тард тоже не освободился от тенденции сводить всякую эволюцию к трем моментам. Но чтобы доказать, что обычай неизбежно уступает место моде, а мода в свою очередь переходит в обычай, автор «Законов подражания» пускается в исторические соображения, которые кажутся мне сомнительными. Я совсем не понимаю причины, по которой можно указывать на распространение феодальной системы или на принятие германцами римского права, как права национального, или на успехи представительного образа правления, как на доказательства того, что всякое подражание неизбежно идет медленно вначале, затем быстро распространяется и снова замирает. Дело в том, что я в общем представляю себе все эти явления иначе, чем делает это Тард.
Я склонен думать, например, что феодализм или по крайней мере его зачатки существовали в Англии до ее завоевания Вильгельмом и до введения континентальной норманской системы, и в этом со мной согласились бы многие английские писатели, начиная с Пальгрэва и кончая Стебсом. Я допускаю также, что феодализация земель в Восточной империи произошла независимо от влияния Западной Европы. То же самое было и в России, где поместья имели характер западно-европейских бенефиций. Как и бенефиции, они отличались вначале от наследственных имений, вотчин — аллодов.
Я старался когда-то показать, что индусские iktaa превратились постепенно в Империи Великого Могола из бенефиций в лены, или наследственные поместья. Мне случалось также слышать от Масперо, что феодализм не остался чужд и Египту эпохи фараонов.
Но все эти видоизменения произошли совершенно непосредственно, т. е. помимо всякого прямого подражания одного народа другому. Исходным их пунктом был тот факт, что в обществах, где обмен далеко не составляет общего правила, где довольствуются потреблением собственных продуктов, всякая государственная служба может быть вознаграждаема лишь уступкой известных доходов, собираемых либо с управляемых, либо с земледельцев. Служилый человек живет поэтому или «кормлением», т. е. с доходов своей должности, или с доходов, получаемых с данной ему во владение земли. Так было с англосаксонскими танами, меровингскими ан-трустионами, служилыми людьми древней Московии, индусскими талукдарами и земиндарами и т.д. Прибавьте к этому потребность
в покровительстве богатых и сильных,— потребность, которая чувствовалась с величайшею интенсивностью в разнородном, разделенном на бесконечное число крошечных мирков феодальном обществе, и вы поймете причины, заставлявшие как мелких собственников, так и общинников превращаться из людей свободных, какими они были на первых порах, в простых «держателей», владеющих своими землями лишь в качестве наследственных арендаторов.
При такой точке зрения, на феодализм нельзя смотреть как на моду, быстро распространявшуюся из одной страны в другую, благодаря человеческой склонности к подражанию. При предлагаемом мною толковании будет понятна и остановка, наступившая в известный момент в его развитии. Она произошла не потому, что мода сменилась снова обычаем, а потому, что меновое хозяйство явилось на смену хозяйству натуральному. С развитием обмена накопление движимой собственности, в частности денег, дает возможность главам государства вознаграждать всякую службу, как военную, так и гражданскую, не одними только землями и земельным доходом. Регулярная армия и бюрократия, оплачиваемые государством в форме жалованья, являются поэтому на смену феодальному народному ополчению и вотчинной полиции и суду, органы которых получали вознаграждение за свою службу в виде приношений от тяжущихся.
Было бы слишком долго доказывать, что в распространении римского права в эпоху возрождения, так же как и представительного режима с концаХУШ столетия, нужно видеть скорее приспособление, чем подражание. Европа в XVI веке только что вступила в тот период своего экономического развития, который известен под именем капиталистического или менового хозяйства. Такой порядок предполагает свободу договоров, а ни одна юридическая система не отвечает этому требованию лучше, чем римское право. И потому-то Дигесты 9, открытые за целые века раньше, становятся общим правом в Германии с XVI столетия. Но при применении этого чужеземного законодательства все-таки были удержаны многие положения местного обычного права, касающиеся преимущественно земельных порядков. Если бы это было не так, новому гражданскому своду в Германии не пришлось бы так много заниматься трудным вопросом о сохранении остатков обычного права в системе, последние корни которой восходят к Юстиниану.
9 Законодательство Юстиниана.
Что же касается так называемого подражания английской конституции, то, копируя ее, континентальные государства на самом деле только возвращались к своим старым исконным принципам — соучастию народа и его представителей в составлении законов и бюджета, так же хорошо известным с давних пор и Франции, и Германии, и Испании, и Италии, как и Англии. Не только в Средние века, но далее в XVI столетии мы видим участие в осуществлении суверенитета не одного короля, но и штатов,— генеральных и провинциальных,— а также верховных судов. Теория Монтескье о необходимости разделения властей была не столько выражением английской парламентской практики, сколько возвращением к той «готической монархии», которая когда-то, по его мнению, царила у всех народов Западной Европы.
Из всех только что сделанных замечаний следует, что больше всего мы расходимся с Тардом в одном пункте: следует ли признать, что развитие обществ сводится к постоянному заимствованию народами друг у друга или к тому роду второстепенного творчества, каким является приспособление. Единственная область, где народы действительно сплошь подражают друг другу,— это область науки и техники; во всем остальном они, худо ли, хорошо, только приспособляют свои собственные учреждения к новым требованиям, которые по временам, если не постоянно, возникают в их собственной среде. Они приспособляют их, видоизменяя. Эти изменения часто вызываются иностранными образцами, но они только в том случае пускают в стране корни, когда не противоречат прямо всему тому наследию прошлого, которое слагается из верований, нравов, обычаев и учреждений известного народа. Благодаря такому противоречию нового старому, закон о майорате, введенный в России Петром Великим, остался мертвой буквой. По той же причине не привилась и попытка Екатерины ввести в наших городах ремесленные цехи. Я думаю, что корни французской централизации и бюрократизма гнездятся в той постепенной перемене народной психологии французов, начало которой было положено созданием «великих бальяжей» (своего рода губернаторств) при Филиппе-Августе и с учреждения постоянной армии при Карле VII, не говоря уже о позднейшем установлении интендантов при Людовике XIII и Ришелье. Не то ли же самое можно сказать и о той удивительной амальгаме бюрократического абсолютизма и представительного образа правления, пример которой дает государственный строй Пруссии? Во всяком случае трудно
объяснить политическую организацию республиканской Франции и федеральной Германской империи простым подражанием одному английскому образцу. И в том и в другом случае мы одинаково имеем перед собой пример приспособления, т.е. самостоятельного развития, и того второстепенного творчества, которое только вдохновляется иностранными образцами, часто далее не схватывая вполне их действительного характера.
В своем более позднем труде «L’opposition universelle» Тард сам видит во всяком изобретении своего рода приспособления. Изобретение, говорит он, это социальное название приспособления (с. 428). На этот раз я совершенно с ним согласен. Бесспорно, что всякое открытие есть только видоизменение, результат счастливого сочетания в могучем уме никогда дотоле не сходившихся между собою мыслей; от их сближения и получается новая искра истины. Но чтобы эти новые завоевания человеческой мысли могли быть применены к жизни, надо чтобы общественная среда благоприятствовала им или, выражаясь языком Тарда, чтобы они соответствовали верованиям и желаниям тех, которые ими воспользуются. Этим и объясняется, почему некоторые открытия целыми веками оставались на степени простых проектов. Машины были известны и раньше второй половины XVIII века; технические изобретения, ставившие себе целью сокращение человеческого труда в индустрии, появлялись еще в античном мире и в Средние века, но экономический строй, если не совсем чуждый обмену, то прибегавший к нему лишь в исключительных случаях, не видел никакого преимущества в бесконечном увеличении количества продуктов, сбыт которых был или затруднителен, или просто невозможен. Натуральное хозяйство, т. е. хозяйство, которое производит для непосредственного потребления, прекрасно уживается с дешево стоящей, но зато и очень мало производительной работой невольников и крепостных. Оно вовсе не стремится заменить ее введением дорого стоящих машин. В этом и заключается коренная причина тому, что так называемая промышленная революция произошла только с появлением менового хозяйства и упрочением капитализма, т. е. в конце XVIII и в первой половине только что истекшего столетия.
Было бы ошибкой думать, что другое, не менее важное открытие,— открытие достоинства человеческой личности и, следовательно, ее свободы, несовместимой с рабством и крепостничеством, восходит только к XVIII столетию или даже к XVI — к эпохе Возрождения. Некоторые греческие софисты, как, например, Алкидам из Элей,
провозгласили этот принцип, по свидетельству Аристотеля, гораздо раньше Иисуса Христа или Эпиктета и за тысячу лет до начала освободительного движения, если не единичного, то массового. Надо было, чтобы экономическое развитие современных обществ привело к капитализму для того, чтобы вслед за рабством исчезло окончательно и крепостничество.
Возьмем другой пример. Компас был, по-видимому, известен еще древним китайцам и без всякого сомнения морякам южной Италии, и однако же великие морские путешествия, которые он делал возможными, стали совершаться только тогда, когда европейские народы почувствовали, что им тесно, и стали искать для себя других небес, другой природы, т. е. в эпоху мучительного зарождения капитализма.
Как объяснить себе также причину, почему открытие в Амальфи текста Пандектов, восходящее к первым крестовым походам, принесло свои плоды только веками позже, когда меновое хозяйство потребовало введения юридической системы, благоприятствующей свободе договоров, что, как известно, произошло в окончательной форме лишь в XVI столетии.
Если всякое открытие приобретает свое социальное значение только тогда, когда оно соответствует верованиям и желаниям тех, кто им пользуется, и если, с другой стороны, всякое подражание предполагает приспособление индивидуального открытия к тем же самым верованиям и желаниям, то из этого следует, что в основании всякой социальной эволюции мы находим изменение коллективной психологии. Этого достаточно, чтобы признать, что основы социологии не могут лежать вне психологии. Великая заслуга Тарда в том и состоит, что он, вслед за другими двумя-тремя великими социологами — Контом, Спенсером, Лестер Уордом, понял эту истину. Мы должны отдать ему справедливость еще и в том, что он лучше, чем кто-либо из наших современников, уяснил себе, что индивидуальная психология не может служить основой науке, которая ставит себе целью изучение жизни обществ, т. е. коллективностей. Таким образом Тард один из первых заговорил о необходимости создать совершенно новую психологию, ту, которую немцы с Лазарусом и Штейнталем во главе назвали Volker — psychologic (психологией народов). Я предпочитаю, впрочем, термин «коллективная психология», потому что им можно пользоваться далее в тех случаях, когда дело идет об изучении верований и желаний групп более широких или более узких, чем нация, как, например,
рода, коммуны, цеха, касты сословия, класса — с одной стороны, расы или союза народов — с другой.
Мне остается только сказать, каким образом такая наука могла бы возникнуть. Я держусь того мнения, что единственное средство познать духовное состояние народа состоит в изучении всей совокупности его верований, учреждений, частного обихода, привычек и обычаев. Тот, кто стремится раскрыть нам психологию той или другой нации, не должен ничем пренебрегать — ни народными сказками, ни былинами, ни пословицами, ни поговорками, ни юридическими формулами, ни законами как писаными, так и неписаными. Таким образом folklore, понятый в самом широком смысле слова, призван оказать великую услугу науке об обществе и его психических проявлениях. История занимает в этом отношении уже второстепенное место, объясняя нам настоящее при помощи прошедшего, дух народа — наследием, полученным им от предков.
Данные, добытые из этих двух источников, дадут нам возможность составить себе представления более общего характера; а из синтеза этих представлений получится правдивая картина всей совокупности идей и чувств, сокрытых в народной душе,— термин неопределенный и не совсем подходящий, но без которого я не могу обойтись в данную минуту.
Этим-то длинным путем, а не прямым анализом, хотя бы и очень остроумным, чувств и душевных движений посетителей того или иного салона или клуба, и будут положены прочные основания коллективной психологии. Говоря это, я еще раз расхожусь с Тардом, который, на мой взгляд, не дает себе достаточно ясного отчета в том, какую роль играет личность в образовании общественного мнения. Это влияние, по-видимому, значительно нейтрализируется при выработке той массы предрассудков, обрядов, обычаев и т.д., из которых слагается народный folkore. Поэтому-то изучение фолклора и кажется мне наиболее верным путем для выяснения того, что именно из индивидуальных открытий и изобретений делается общим достоянием.
НОВОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО *
, I Г
Новое социологическое общество в Лондоне возникло с прошлого года. Некоторые члены его читают лекции в школе общественных наук при лондонском университете; в стенах того же университета устроено было несколько собраний, на которых прочитаны были доклады, вызвавшие оживленные прения. Не все доклады исходили от англичан. Темою одного из них послужила статья, напечатанная Дюркгеймом, известным французским социологом, в «Revue Philosophique». Она вызвала много разномыслия в прошлом году между французскими обществоведами и встретила энергичный отпор в двух них: в проф. Эспинасе и в покойным Тарде. В сокращенном виде лондонское социологическое общество распространило ее между английскими и иностранными философами и обществоведами, прося их прислать свои письменные замечания на нее. В числе других такой запрос получен был и мною. Наши ответы присоединены были к тексту прочитанных докладов и произнесенных речей. Мало этого: печать, занявшаяся обсуждением многих вопросов, поднятых на заседаниях социологического общества, также призвана была содействовать успеху первого сборника работ английского социологического общества* 1; важнейшие критики, появившиеся в периодических изданиях, были воспроизведены в сборнике, обогащая, таким образом, социологическую литературу интересными и, как мы сейчас покажем, крайне разноречивыми точками зрения. Интерес 1-го тома трудов социологического общества лежит, однако, не столько в попытках дать возможно полное выражение современ
* Печатается по: Мир Божий. 1905. № 8. Август. С. 35-53.
1 Этот сборник вышел недавно под заглавием «Sociological Papers», London, Macmillan, 1905.
ному разномыслию по вопросу о том, что такое социология и каково ее отношение к конкретным наукам об обществе, сколько в двух отделах с новыми названиями «eugenies» и «civics», из которых один лежит на границе биологии и социологии, а другой является чем-то вроде социальной экономии. Каждый из этих отделов поручен был лицам с именем и продолжительной научной и педагогической деятельностью. В первом мы встречаемся с Францисом Гальтоном, деятельность которого так тесно связана с судьбами дарвинизма, что и в среде оспаривающих его выводы критиков мы не могли встретить ничего, кроме восторженного отношения к его прежним научным заслугам. Что касается до Геддеса, то это — старый знакомый для всех, имеющих дело с преподаванием в свободных высших школах. Ему принадлежит блестящая мысль поднять ренту в захудалом квартале Эдинбурга с помощью такого чрезвычайного средства, как создание в центре его свободного университета. Проекту посчастливилось на первых порах, и домовладельцы охотно поставили в распоряжение Геддеса свои незанятые помещения. Университет действовал успешно, особенно в летние месяцы, привлекая отовсюду специалистов и устраивая согласованные между собою специальные курсы. Затем преподавание временно было прервано, так как Геддес перенес свою педагогическую деятельность в Париж, по случаю открытия в нем всемирной выставки. При его ближайшем участии и, можно сказать, по его инициативе, возникла международная школа, русским отделением которой мне пришлось заведывать, с Мечниковым и Де Роберти. В настоящее время Геддес перенес свою деятельность в школу общественных наук в Лондоне, и перед лондонским университетом, при почетном председательстве известного генерала армии спасения Чарльза Бутса, прочитан был им доклад, всестороннее обсуждение которого сделало возможным отвести целый отдел сборника так называемым civics, т. е., повторяю, подобно социальной экономии.
Желая познакомить русских читателей с тем, что действительно есть нового в этом первом томе изданий лондонского социологического общества, я остановлюсь, прежде всего, на той картине, какую оно дает современному состоянию европейской мысли по вопросу о социологии, ее задачах и отношении к конкретным наукам об обществе. Во-вторых, я познакомлю читателя с той постановкой, какая дана была в равной степени Гальтоном и его критиками вопросу о возможности применить, не столько статистический метод, сколько метод частной анкеты, к такому еще
мало затронутому предмету, как анализ условий, содействующих зарождению способных и выдающихся людей. Наконец, в-третьих, я считаю полезным бросить беглый взгляд и на то понимание задач конкретной, или, точнее, прикладной, социологии, какое мы находим в докладе Геддеса и вызванной им полемике.
Тон всем работам по вопросу о том, что такое социология, каковы ее ближайшие задачи и отношения к другим общественным наукам, дан был не столько докладом молодого английского социолога Барнфильда о происхождении самого термина «социология» и связываемого с ним смысла, сколько уже названной мною статьею проф. Дюркгейма. Ближайший смысл ее тот, что социология должна разорвать с созданной Кантом традицией какой-то новой философии истории и сделаться достоянием специалистов — обществоведов, орудующих индукцией в большей степени, чем дедукцией. Эта мысль, которая некоторым французам, как, например Леви-Брюлю, показалась своего рода откровением, встретила в Англии довольно дружную критику. Критика вызвала, в свою очередь, контркритику, в которой приняли участие и итальянские, и французские, и немецкие, и русские исследователи. Если я позволю себе привести некоторые из высказанных взглядов, то не с целью их примирения, а чтобы показать, как глубоко расходятся еще мнения выдающихся европейских ученых и мыслителей по вопросу о том, насколько так называемые нравственные науки могут рассчитывать в близком будущем на роль точных описательных наук, вроде биологии. Вот что говорит, например, председатель собрания проф. Бозанке, очевидно не давший себе точного отчета в том, к чему сводится предлагаемая Дюркгеймом реформа социологии. Бозанке настаивает на том, что классификация с точки зрения логики не может быть признана первичною формою мышления, что она возможна только после предварительного ответа конкретными науками, каждой в пределах ее специальности, на отдельные вопросы обществоведения, почему социология, как сводящая будто бы свою роль к такой классификации добытого другими науками знания, и должна будет возникнуть только в отдаленном будущем. Другой специалист, на этот раз не философ, а экономист, Никольсон, считал возможным утверждать, что социология в наше время может быть только преждевременным и априорным обобщением результатов, достигнутых специальными науками об обществе. Он не отрицал того, что и экономисту приходится, хотя бы при решении вопроса о собственности, иметь дело и с фольклором, и с археологией,
и с этнологией, которую он смешивает с антропологией; но в этой невозможности такой даже наиболее выработанной конкретной общественной дисциплине, как экономика, обойтись без помощи других социальных наук Никольсон не видел основания стремиться к созданию отвлеченной науки об обществе, или социологии. Не менее категоричен был в своем отрицании пользы последней и известный сравнительный историк права Родольф Дарест. Он полагал, что успехи конкретных наук об обществе, в том числе истории права, возможны только при одном условии: если они способны будут отрешиться от всякой системы и придерживаться изучения одних фактов и текстов. Прибавим к этим отрицательным отзывам еще тот, какой представлен был профессором Карлом Пирсоном. Он относится с скептицизмом не столько к социологии, сколько к возможности содействовать ее развитию основанием научного общества. «Я не верю,— сказал он,— чтобы группа мужчин и женщин, имеющих свои повседневные, занятия, могла, собравшись, положить основание новой науке. Я полагаю, что это может быть сделано только одним человеком, который, с помощью массы накопленного им знания, правильного метода и научного энтузиазма, в грубых линиях даст окончательное очертание новой научной дисциплине и создаст школу, которой и поручит выработку ее в подробностях. Я полагаю, что так и было всегда в истории наук. Инициатива исходила от одного какого-нибудь мыслителя — от Декарта, Ньютона, Вирхова, Дарвина, Пастера. Пока мы не найдем великого социолога, основываемому обществу не удастся ни установить границ науки, ни определить ее функций». Я слышал нечто подобное и во Франции, прежде всего от Эспинаса, отчасти также от Дюркгейма. Очевидно, такой скептицизм не свойствен тем, кто, как Бриджес, верит в создание верховых столбов на пути социологического знания основателем положительной философии, Контом. Бриджес высказывает уверенность, что теория трех стадий может служить руководящей нитью для всех работ, входящих в область абстрактной науки об обществе, в том смысле, как понимал и определил ее природу автор «Положительной философии».
С точки зрения ортодоксального позитивизма — да и не одного только ортодоксального,— предложение Дюркгейма разорвать связь социологии с философией, очевидно, не выдерживает критики. «Если история научных изобретений учит нас чему-либо,— справедливо замечает Бриджес,— то несомненно тому, что нельзя производить точных научных наблюдений без руководящей теории, или, другими
словами, без прилагаемой к работе гипотезы. Это справедливо даже по отношению к выработанным уже наукам, а тем более это применимо к науке молодой, какова социология». Говоря это, Бриджес только повторяет высказанную еще Контом мысль, что всякое обобщение, даже теологическое или метафизическое, т. е. в конце концов ложное, лучше той умственной анархии, в которой, в его время, столько же как и в наше, производились и производятся специальные исследования в области обществоведения.
Очевидно, что такие соображения имеют вес только в глазах тех, кто думает, что должны существовать законы общественной эволюции, или, что то же, исторические законы. Но в числе мыслителей, мнение которых было спрошено составителями сборника, оказался и некий д-р Эмиль Рейх, выразивший решительное сомнение в том, чтобы можно было добиться установления таких законов. «Бокль,— пишет он,— составил себе неправильное представление об истории, так как верил в возможность существования в ней законов. Во времена Бокля, люди были увлечены успехами науки и верили, что и история будет иметь судьбу физики или биологии. Они надеялись и в ней открыть законы. Бокль искал их; он думал, что открытие их есть верх мудрости. Но на деле таких законов нет: исторический закон имелся бы налицо в том случае, если бы мы могли доказать, например, что так как в Англии было три правящих династии, то в Ирландии должно быть именно такое, а не большее число. Но таких законов нет и следа. История находится в вечном движении. Она никогда не повторяется. Есть в ней такое неизвестное, которое нельзя открыть простым анализом фактов».
Английские социологи, собравшиеся для обсуждения вопроса о природе и задаче новой науки, обнаружили свою терпимость, свое уважение к чужим мнениям, выслушав спокойно и только что приведенное. Оно нашло даже некоторую поддержку со стороны д-ра Шадуортса-Годжсона. По примеру Фюстель де Куланжа, он не прочь был также сводить социологию к одной истории, что не мешало ему затем высказать несколько противоречивое положение, что социология — специальная наука, зависящая от психофизиологии. Ведь психофизиология занимается решением вопроса о том, в каком отношении сознание стоит к физиологической энергии. Все человеческие тяготения, сказывающиеся в области истории — социологии, имеют поэтому свой корень в явлениях, объясняемых психофизиологией (с. 211). Д-р Робертсон, возражая против этой попытки обосновать социологию исключительно на психологии,
настаивал на той мысли, что социология имеет дело с историческим опытом, опытом, поставленном нам предшествующей историей общества. И этот-то опыт и должен подвергнуться такому же научному исследованию, какому подлежат предметы других наук, например, естественных. Это не значит, конечно, чтобы социологу не приходилось искать частичного объяснения некоторых явлений, скажем реформации, и в психологии. Социология, несомненно, будет обращаться за содействием и к другим наукам, но это не помешает ее самостоятельности (с. 214).
Социологическое общество в Лондоне запросило, между прочим, Барта и Фулье. Первый высказался в том смысле, что законы социологии должны быть психического характера, так как основу всякой истории дает человеческая воля, стремящаяся превозмочь все препятствия, какие ставит ей природа. Что касается до Фулье, то в своем ответе он отметил ранее им высказанную мысль, что социология имеет дело не с одними индивидуальными актами, но и с массовыми движениями, с феноменами, зарождающимися в недрах самого общества.
Поэтому ей приходится заниматься законами психологического взаимодействия в такой же степени, как и законами авто-детерминизма со стороны целого общества. Содержание социологии составит поэтому изучение функций и органов социального тела, их зарождения, принятых ими форм, проникающего их самосознания и тех реакций, которые порождаются этим самосознанием. От социологии Фулье желал бы обособить этику, т. е. нравственную оценку целей, преследуемых обществом. Оттеняя более определенно специфические особенности своей доктрины, Фулье настаивает на том, что существенную характеристику общества составляет постепенное его видоизменение под влиянием его собственных идей и идеалов, под влиянием тех идей-сил, которым французский мыслитель посвятил ранее отдельную монографию. С другой стороны, мы можем сказать, что общество представляет нам картину постоянного авто-детерминизма. По мнению Фулье, признание идей-сил позволило бы признать за обществом известную свободу в осуществлении своих высших функций; она позволила бы смотреть на него, как на живой организм, который, при осуществлении своих высших функций, постоянно доделывает самого себя. Эти соображения не позволяют Фулье последовать за Контом и Спенсером в признании, что методы естественных наук в естественнонаучной концепции могут быть целиком приложены к науке об обществе. Элемент сознательности привносит
в социальные феномены нечто чуждое тем, которыми занимаются естественные науки. Все это имеет то последствие, что в области обществоведения можно найти лишь небольшое число основных законов причинности и несравненно большее законов второстепенных. Эти первичные законы окажутся имеющими большое сродство, с одной стороны, с законами биологическими, с другой — с психологическими. Но это не помешает им иметь некоторую оригинальность и самостоятельное значение. Я не думаю, что приведенное мнение Фулье может выяснить те недоразумения, какие оставили в умах социологов его предшествующие рассуждения на ту же тему. Между свободою воли и детерминизмом трудно вставить что-нибудь третье, и заявление Фулье, что общество сохраняет свою свободу, но что эта свобода в то же время не равнозначительна с свободою воли, вероятно, останется непонятым. Идеи-силы в конце концов будут сведены к более простым факторам, какими окажутся, с одной стороны, поступательное развитие знания, абстрактного и прикладного, а с другой стороны — осложнение потребностей и средств к их удовлетворению, под влиянием растущей густоты населения и обусловленных успехами знания модификаций в орудиях производства. Сами чувствования изменятся под влиянием этого взаимодействия знаний и желаний. Говоря, что социологические законы окажутся стоящими в близком отношении к биологическим и психологическим, Фулье высказывает более или менее общее убеждение современных обществоведов и продолжает традицию не только Спенсера, но и Конта.
Меньше оригинальности вносят в понимание задач социологии такие последователи доктрин Конта, как известный историк экономических учений Ингрэм, и сторонники экономического материализма, как Лориа. Лориа повторяет не раз уже высказанную им уверенность, что экономическая интерпретация есть единственная, поставившая пока «солидную массу согласных и координированных доктрин», доктрин, которым в их последовательном развитии присущ был вполне научный характер. Наоборот, энциклопедические, как он выражается, социологии, которые за разными факторами или феноменами, изучаемыми отдельными общественными науками, признавали равное значение в выяснении причин общественного строя и развития, не в состоянии были поставить ничего, кроме крайне неопределенных обобщений и неточной систематизации. Надо сказать, однако, что Лориа далеко не представляет еще самого крайнего выражения той доктрины, которая вне экономики не ищет объяснения ни для успехов знания, ни для развития искусства. Он
допускает, вместе с Лабриола, возможность некоторого позднейшего саморазвития в этих двух областях и возводит только корни их к условиям производства обмена и, в частности, к той постепенной апроприации свободных к занятию земель, которая в его системе дает ключ к толкованию всех явлений общественности.
Я, разумеется, не привел и десятой части всех тех мнений, какие высказаны были различными мыслителями, спрошенными вновь возникшим обществом в Лондоне о природе и задачах той науки, которой оно собирается служить. Справка имела свое значение: оно показало лишний раз, что мы далеко не имеем еще дела с вполне сложившейся социологической доктриной, что имеются только различные и непримиримые между собою системы. Одни не прочь отрицать самую пользу новой отвлеченной науки об обществе, другие смешивают ее с философией истории, третьи считают ее придатком к биологии и в особенности к психофизиологии, четвертые думают, что в экономике уже имеются достаточные данные для объяснения как современной структуры, так и всего хода развития общества. И одни только последователи Конта сохраняют уверенность в том, что социология есть уже наука, имеющая свои самостоятельные законы и прежде всего закон трех стадий: смены теологического миросозерцания метафизическим и, наконец, научным. Замечательно, что в Англии, которой принадлежит, как и можно было этого ожидать, большинство спрошенных лондонским обществом мыслителей, не послышалось ни одного голоса в пользу признания органической теории общества, в том смысле, в каком понимал ее Герберт Спенсер. В томе, заключающем в себе целых 300 страниц, едва одна отведена оценке влияния, оказанного Спенсером на ход развития социологии. Невольно зарождается в уме сомнение в достаточной отрешенности спрошенных мыслителей от интересов одной ближайшей современности. Я рад тому, что в приложении, в котором собраны отзывы печати о движении, поведшем к созданию социологического общества в Лондоне, точно преднамеренно подчеркивает неблагодарность нового общества к тени человека, который, можно сказать, один создал в Англии все движение в пользу социологии. Почти все эти отзывы начинаются с упоминания печального факта кончины Герберта Спенсера и услуг, оказанных им социологии. Некоторые газеты отмечают тот символический в их глазах факт, что основание нового социологического общества совпадает с смертью Герберта Спенсера. Будем надеяться, что в ближайших трудах молодого общества мы найдем более уважительное отношение к этому начинателю.
II
Если б в отпечатанном сборнике не было ничего другого, кроме передачи современного разномыслия по вопросу о природе социологии, о нем можно было бы и не поднимать речи. Но два отдела «Социологических мемуаров» лондонского общества посвящены рассмотрению двух основных вопросов: одного — био-социологического, другого — социологического в тесном смысле слова. Постановкой первого мы обязаны Франсису Гальтону. Гальтон недавно пожертвовал значительную сумму денег на создание кафедры, преследующей задачу изучения этой новой науки, которой он является ревнителем. Определение, даваемое им этой науке, следующее: «Ее задача — содействовать устройству брачных союзов, способных увеличить число даровитых людей». На кафедру ассигновано 1500 фунтов; преподавание должно происходить в лондонском университете.
В мемуаре, представленном Гальтоном социологическому обществу, он настаивает на той мысли, что с помощью статистики возможно решить вопрос о том, какие браки обусловливают собою зарождение особенно даровитых или, как он выражается, «efficient» потомков. Социологическое общество призывается, впрочем, не к одному этому, но также к распространению в обществе знаний о законах наследственности и к дальнейшему их изучению. Гальтон утверждает, что мало людей дают себе отчет в том, какие успехи сделаны в последнее время статистическим выяснением роли наследственности, тем, что он называет «actuarial side, of heredity». Задачей той же новой науки должно быть историческое исследование вопроса о том, в какой мере различные классы общества (при установлении которых принят критерий гражданской полезности) участвовали в росте населения у древних и новых наций. Есть, пишет он, большое вероятие в том, что рост и упадок народов тесно связан с этим вопросом. Тенденцией высшей культуры является, по-видимому, упадок рождаемости высших классов, причины чего далеко еще не вполне выяснены. Гальтон полагает, что одна из них — та же, какую можно наблюдать у многих диких животных, попавших в зоологические сады; из сотен и тысяч пород, таким образом укрощенных, весьма немногие при лишении свободы и упразднении необходимости борьбы за существование оказываются способными к деторождению. Те, которые отвечают этому условию, рано или поздно становятся ручными. . .
«Весьма вероятно,— пишет Гальтон,— что существует некоторая зависимость между отмеченным явлением и исчезновением дикарей, вступивших в близкое отношение к высшей цивилизации, хотя имеются этому и другие, параллельно действующие и хорошо выясненные, причины». Тогда как большинство диких и варварских рас исчезает, негры продолжают размножаться. Можно поэтому рассчитывать, думает Гальтон, что окажутся такие расы, которые не теряют производительности и при высшей цивилизации, которые могут даже сделаться более производительными при искусственных условиях, как это имеет место с домашними животными. Задачею преподавания, как и научного исследования, должно быть также собрание возможно большого числа фактов, указывающих на обстоятельства, при которых большие и успешные семьи обыкновенно возникали. Успешной семьей Гальтон считает такую, в которой дети получили высшее положение, чем унаследованное ими в ранней молодости; крупными же семьями — те, в которых имеется более трех детей-мужчин. В доказательство той мысли, что такие работы могут быть выполнены, Гальтон представляет мемуар, составленный им самим на основании ответов, полученных от членов королевского общества наук в Лондоне. Половина всего их числа (454) прислала Гальтону данные о своих семьях в прошлом и настоящем. На основании этих данных он мог установить тот факт, что можно на расстоянии полутора столетия найти в одних и тех же семьях чередование даровитых людей. Наиболее характерный пример из приводимых им представляет семья Дарвина. Дед известного натуралиста, Эразм Дарвин (1731-1802), был медиком, поэтом и философом. Отец автора «Происхождения видов», Уоринг Дарвин (1766-1848), также был медиком и охарактеризован своим сыном названием «мудрейшего из людей, с каким ему приходилось встречаться». К семье Дарвина принадлежит и брат последнего Карл Дарвин (1758-1778), получивший первую золотую медаль за экспериментальные работы от «Общества Эскулапа». Брат Дарвина Эразм также представлен в письмах Чарльза Дарвина выдающимся человеком. В семье матери первого Дарвина мы находим Джозиа Веджвуда (1730-1795), знаменитого основателя фабрики фаянсовых изделий, и Томаса Веджвуда (1771-1805), одного из первых изобретателей фотографии, наконец, в нисходящих поколениях, в обеих семьях мы находим выдающихся людей: трое из сыновей Дарвина — члены королевского общества наук, к семье же Веджвудов принадлежит автор «Этимологического словаря», Генсли Веджвуд; по матери
в родстве с Дарвиными стоит и Франсис Гальтон (р. 1822), автор мемуара и ряда сочинений, из которых наибольшей известностью пользуется его монография «О наследственном гении» от 1869 года и две другие работы о человеческих способностях и о «Естественной наследственности», последнее от 1889 года.
Мемуар Гальтона вызвал в высшей степени интересные прения, в которых подвергнута была сомнению возможность достигнуть ожидаемых результатов с помощью статистического метода. Весьма любопытно соображение д-ра Маудсли. «Занимаясь значительную часть моей жизни вопросом о влиянии наследственности,— сказал он,— я, наравне с другими, имел случай отметить тот факт, что рядом с детьми, напоминающими отца, мать или более отдаленного предка, мы в одной и той же семье встречаем таких, которые никого не напоминают. При современном состоянии знания мы не можем дать ни малейшего объяснения причин этого уклонения. Возьмите для примера Шекспира. Он, сын родителей, ничем не отличавшихся от своих соседей. У него было 5 братьев, из которых ни один ничем не выдавался. Из моей продолжительной практики, как медика, я мог бы указать явления, совершенно однохарактерные. И вот, чтобы объяснить такие факты, нам необходимо будет пойти несравненно более вглубь вопроса и остановиться на изучении таких зародышных тельцев, как атом, электрон или каким бы другим именем они не назывались; эти-то тельца и окажутся подлежащими могущественным влиянием физическим и умственным в процессе своего образования и позднейшей комбинации. В этих-то факторах и лежит, по-моему, ключ к объяснению того, почему одни члены семьи возвысились над общим уровнем, а другие — нет». Сравнивать эти явления с процессом усовершенствования пород животных кажется Маудсли ошибочным, так как процесс в первом случае осложняется умственными состояниями. Это заставляет его предупреждать от поспешности выводов и не предлагать правил к искусственному усовершенствованию человеческой породы. «Я не вполне уверен,— заключил Маудсли,— что природа, порождая чувство привязанности, не устраивает союз полов лучше, чем могли бы сделать это мы по соображению с теми, весьма несовершенными, принципами, какими мы пока располагаем». В числе приславших мемуары по тому же вопросу мы находим д-ра Лесли Макензи, медицинского инспектора при бюро местного управления в Шотландии. Он высказывает уверенность в том, что когда к грубым методам практической гигиены присоединена будет точность антро
пологического исследования, легко будет найти в школах обильный материал для тех работ о влиянии наследственности, на которых настаивает Гальтон. На прениях отразилось также влияние новейших доктрин Вейсмана. Д-р Аргдиль Рейд настаивал на том, что приобретенные особенности не передаются по наследству, что поэтому еще вопрос, переходит ли к потомку доброе или дурное здоровье родителей. Нисколько не доказано, чтобы дети жителей трущоб представляли менее жизненный тип, нежели дети только что переселившихся в город поселян. Трущобная жизнь влияет на здоровье индивида, но прямо не воздействует на происшедшее от него потомство. В том же направлении можно указать на то, что малярия, которой страдает столько негров, не повела к упадку их жизненного типа. Можно сказать даже более: жители Северной Европы, которые в течение стольких столетий и даже тысячелетий страдали от чахотки, породили потомство, менее подверженное этой болезни, очевидно, ввиду того, что ее избежали только наиболее способные к борьбе с нею особи. Прилагая эту точку зрения, Рейд настаивал на том, что дикие расы вырождаются, главным образом, под влиянием изменения физических условий, делающих их беззащитными по отношению к инфекционным болезням: платье, посещение церквей и школ гибельно повлияло на тасманийцев; у них даже составился, за несколько лет до совершенного их исчезновения, тот взгляд, что добропорядочные люди, т. е. ходившие в церковь, непременно умирают молодыми. Негры, способные переносить малярию, вымирают от чахотки, чем и надо объяснить, что число их не могло размножиться ни в Европе, ни в Азии. Из 12000 ввезенных в Цейлон голландцами и англичанами лет 100 тому назад в 20 лет почти все погибли от чахотки, а между тем на этом острове чахотка далеко не свирепствует так, как в Северной Европе.
Бесплодность рас Нового Света, входящих в соприкосновение с цивилизацией, обусловливается, по мнению Рейда, почти исключительно болезнями, бесплодие же наших высших классов — добровольное и сознательное. Нам часто говорят о том, что нет городской семьи, которая бы не вымерла после 4 поколений, без примеси сельской крови; но истинно то, что сельская кровь не усиливает жизнеспособности, а только уменьшает ее, так как сельское население менее освободилось от слабых элементов, чем городское. Если бы дурные физические условия приносили вред не одному только индивиду, а всей расе, никакая цивилизация не была бы мыслима, а последовало бы вымирание. В действительности же
устранением неспособных выдержать эти условия последние закаляют расу против вредных физических влияний. Поэтому, если мы желаем поднять уровень нашей расы, мы должны сделать это двояким образом: мы должны, во-первых, усовершенствовать условия, в которых развивается индивид, и сделать его тем самым более совершенным животным. Во-вторых, мы должны ограничить по возможности брак между физически и умственно неспособными. Совершенствуя же только условия, в которых живут люди, мы совершенствуем одного индивида, а не расу.
Эти замечания Рейда встретили отпор в Робертсоне. Невозможно, говорил он, обособить новую науку, задуманную Гальтоном, от политики в широком смысле этого слова, так как дурные физические и нравственные условия, порождаемые бедностью,— дурная пища, дурное жилье, недостаточная одежда, половая неумеренность, с одной стороны, и отсутствие знаний на счет лучшего способа выращивания детей — с другой, в значительной степени обусловливают наступление тех последствий, каких желал бы избежать Гальтон. Настоящая причина роста и упадка наций, в глазах Робертсона, зависит от физической обстановки и от политического руководительства. Рим поднялся и пал не от производительности или непроизводительности его высших классов, а оттого, что экономические условия сперва содействовали, а потом препятствовали производительности. Обезлюдение Италии в эпохи империи и Греции, следовавшие за Александром, было результатом не физиологического, а экономического процесса. Робертсон протестовал также против смешения физически совершенного типа с большими умственными способностями. Многие великие люди, как, например, Ньютон или Вольтер, были физически очень слабы в молодости; другие, как Кальвин, Спенсер, Гейне, Стивенсон, были хроническими больными. Безумно было бы, однако, препятствовать размножению таких лиц, воздерживая их от брака.
Полемика, вызванная сообщением Гальтона, таким образом не решила вопроса, что надо считать следствием, а что причиной: экономическую ли необеспеченность или физическое вырождение, и чем, следовательно, может быть всего более обеспечено усовершенствование человеческой породы: брачным соединением людей высшего физического и нравственного типа или усовершенствованием материальной и нравственной обстановки народных масс. На Гальтона эти прения, по-видимому, произвели невыгодное впечатление, так как в его ответе мы находим, между прочим, ту мысль,
что многие из сделанных ему возражений имели силу лет 70 тому назад и совершенно потеряли ее в настоящее время, после того, как статистическими приемами установлено было действие наследственности. Любопытно, что, при оценке в печати характера прений, большинство рецензентов стало на сторону Гальтона. Неверные представления о влиянии наследственности, столь распространенные в обществе, приписывались при этом печатью влиянию романов Золя. Правда, прибавляет один из обозревателей, согласно установленному Гальтоном закону регрессии и посредственности, дети гения, оставаясь на среднем уровне, обнаруживают тенденцию к упадку, тогда как дети преступника, хотя и представляют нравственный уровень более низкий, чем средний, тем не менее не могут считаться столь же черными, как их родитель. Но все же это не доказывает, чтобы в интересах общества не было содействовать размножению гениев и святых, атлетов и артистов в большей степени, чем идиотов и преступников, слабосильных и филистеров.
III
Не столько горячие дебаты, сколько дружный хор похвал вызвало сообщение Геддеса, сообщение программного характера. В нем этот восстановитель целого квартала старого Эдинбурга старался обосновать тот взгляд, что история гражданского развития в такой же степени, как и практическое решение социальных вопросов, выиграет от внимательного отношения к тем различным наслоениям, какие могут быть обнаружены при изучении любого исторического города в Англии. Практические стремления Геддеса сводятся к тому, чтобы подарить свою родину муниципиями, в которых соблюдены были бы, по возможности, все условия общественной гигиены и, столько же исторические, сколько и эстетические требования были бы приняты в расчет при восстановлении старинных зданий, отчасти также при постройке новых. Как я имел уже случай заметить, при создании свободного университета в Эдинбурге, Геддес до некоторой степени задался и этой мыслью. Известность, приобретенная им в этом предприятии, заставила Карнеджи обратиться недавно к его услугам и поставить в его распоряжение полмиллиона фунтов стерлингов (5 миллионов рублей) для того, чтобы сделать из родины американского миллионера, небольшого шотландского городка Денфермлайн, образцовый в гигиеническом
и художественном отношении поселок. Карнеджи, по-видимому, не один задается такими целями; более практические задачи преследует, например, предприятие фирмы братьев Левер, которые, пользуясь низким уровнем ренты в Уорингтоне, решились перенести в него из города свои фабричные заведения и обратить этот поселок в образцовое в гигиеническом отношении рабочее селение, самое название которого — Порт Солнечного Света — уже вызывает в уме представление о разрыве с фабричным чадом и так дружно сопровождающим его туманом. Все эти недавние опыты приняты в расчет при составлении Геддесом его доклада о задачах новой науки, для которой придумано им и новое название: «civics», в смысле городского быта. В докладе намечены в самых общих чертах те вопросы, частью географического характера, частью исторического, какие вызывает знакомство с внешним видом городов, и сделана попытка указать преемство различных их типов, начиная от городища и оканчивая современными центрами мировой торговли и мировых финансовых оборотов. По мере эволюции города менялся, очевидно, не один его внешний вид: менялся, очевидно, не один состав населения, возникали новые отношения между образующими его сословиями и классами. Мы вправе поэтому сказать, что изучение современного города с точки зрения удержавшихся в нем переживаний может представить пример удачного пользования индуктивным методом в области обществоведения. Но, очевидно, оно не исчерпывает всех тех вопросов, знакомство с которыми сделалось бы возможным при ближайшем ознакомлении с условиями быта городского населения вообще и в частности рабочего пролетариата. Поэтому некоторые из лиц, присутствовавших при докладе Геддеса, справедливо указывали на то, что метод анкеты, пущенный в ход Бутсом при изучении лондонских трущоб, метод, позволивший ему издать целых два тома о положении трудящегося люда в Лондоне, также входит в число задач этой новой ветви обществоведения, какой представляется проповедуемая Геддесом наука, «civics». Другие, еще с большим основанием, указывали, что поле исследования может быть в этой области еще расширено, например, постановкой вопроса о том, насколько возможна децентрализация промышленности и отлив рабочего населения из городов в села. Этот вопрос, затронутый уже в недавней книге Вандервельда, находит себе в Англии попытки практического решения в таких фактах, как упомянутый уже мною перенос в деревню промышленного предприятия братьев Левер и создание ими
целого рабочего поселка. Некоторые мнения, высказанные на этот счет, заслуживают быть отмеченными. Они свидетельствуют о тех заботах, какие новейшая эволюция капитализма вызывает в лицах, проникшихся сознанием опасности самого вырождения расы в том случае, если не принято будет некоторых мер, задерживающих гибельные последствия скучивания для здоровья и жизни рабочих. Поддерживая принцип, высказанный Геддесом, Эбенезер Гауерд, основатель ассоциации по устройству так называемого garden-city, т.е. «снабженного садами города», считал возможным заявить, что децентрализация промышленности в настоящее время — вопрос на очереди. Основание таких образцовых рабочих поселков, как Порт Солнечного Света, Бурнвиль и Садовый Град (garden-city), могут считаться только первыми опытами в этом роде. Говоря, в частности, о руководимом им же предприятии, Гауерд сообщил о нем следующие интересные данные: 3800 гектаров, т.е. площадь в 10 раз большая, чем та, которая занята Бурнвилем или Портом Солнечного Света, приобретены в Герфордшире, в двух милях от Гитчина. Деньги упло-чены были созданной Гауердом ассоциацией. При распланировании нового поселения принята в расчет необходимость сохранить все природные красоты местности, живописно расположенной среди деревьев поселков Нортон и Уильям. В то же время принято в расчет удобство сообщения с железной дорогой и создана по соглашению с «Большой северной компанией» особая станция. Продолжены также шоссейные пути, делающие возможным сообщение отдельных частей площади: обеспечена обильная и хорошая вода, создан резервуар на приличной высоте, устроена система дренажа, отведена площадь под парки и под игры: наконец, приступлено к постройке рабочих жилищ для 30 000 душ, жилищ, окруженных садами. Часть этих коттеджей строится не ассоциацией, а частными лицами. В проект входит также постройка школ, церквей и других публичных зданий и устройство электрического освещения.
Из всего сказанного доселе русский читатель вправе заключить, что вновь возникшее в Лондоне общество намерено преследовать не одни теоретические цели, но и задачи практические. Конкретная социология, по-видимому, будет даже главным занятием того круга лиц, который собрался вокруг Вебба и Бутса и нашел в лондонской школе общественных наук, устроенной и руководимой первым, свой ближайший центр. Лондонское общество социологов не чуждается однохарактерных предприятий, ранее его возникших на континенте Европы. Оно состоит в письменных сношениях с социологическим
обществом в Париже и приглашает международный институт социологов созвать свой ближайший конгресс в Лондоне, в стенах его университета. Если принять во внимание возникновение за последние 15 лет, вслед за международным институтом социологии и его первыми конгрессами, социологического общества в Париже, имеющего свой особый орган в «Международном журнале социологии», издаваемом Вормсом; открытие курсов по социологии в двух школах общественных наук, имеющихся в Париже; издание в Италии трех журналов, посвященных социологии, из которых один — «Rivisto Internationale di soeiologia» — также носит международный характер; включение в задачи таких обществ, как, например, общество сравнительного законоведения в Берлине, между прочим, и чисто социологических исследований; наконец, издание весьма полной библиографии по общественным наукам в Париже одним из лучших французских социологов, Дюркгеймом,— то можно будет сказать, что интерес к социологии, по крайней мере на Западе Европы — прибавлю также: в Америке, где в Чикаго издается «Американский журнал социологии»,— значительно возрос за последнее время. Ежегодно выбрасывается на книжный рынок не мало сочинений, в которых слова «социальный» и «эволюция» красуются не на одном заголовке. Правда, le pavilion ne couvre pas toujours la cargaison, но намерения все-таки остаются похвальными. Возрождение идеализма, таким образом, по-видимому, не служит препятствием к успешному развитию социологической литературы. Скажу более: в среде самих идеологов заметно стремление меньше прежнего сторониться от задуманной Контом науки. Многие философские журналы включили в свою программу и социологию; члены метафизических обществ, по крайней мере в Париже, появляются на заседания социологического общества и даже читают в нем свои рефераты, которые в глазах социологов не всегда имеют желательную ясность и фактическую убедительность. О прежней претензии не считаться с «мнимо-научным эмпиризмом и верхоглядством» обществоведов более не слышно ни в среде философов, ни в среде специалистов-эрудитов. Сама социология перестает считаться наукой, как бы приуроченной к одному позитивизму.
Разные школы соперничают друг с другом в попытках ее основания или, по крайней мере, упрочения ее корней. Если в настоящее время преобладающими течениями в ней надо признать, с одной стороны, психологическое, а с другой — экономическое, то уже во взаимных уступках, делаемых обеими враждующими школами
друг другу, сказывается близкое наступление новой эры, эта последняя будет, вернее, возрождением того основного взгляда, который высказан был еще Контом и сводится к признанию взаимодействия самых разнообразных причин,— столько же физико-биологических, сколько и психосоциальных, экономических, политических и эстетических, в создании как структуры общества, так и его постепенной эволюции. В настоящее время социологи все еще спорят о факторах и о важнейшем и всеопределяющем из среды их. Можно ждать, что в будущем вполне будет оценена сложность общественных явлений и, вместо факторов, будут иметь дело только с фактами, воздействие которых друг на друга может сказываться в различнейших направлениях, так что один и тот же феномен представляется одновременно исследователю, с одной стороны, причиной, а с другой — следствием. При анализе ходячих в настоящее время систем, анализе, которому я посвящаю целое сочинение, мне постоянно бросалась в глаза односторонность даваемых объяснений и возможность поправки выводов одной школы соображениями, представляемыми соперничающим с нею направлением. Если я издаю эту книгу, то в намерении поделиться с другими этим впечатлением, и тем самым содействовать повороту к той более широкой и свободной схеме, в которой взаимодействие различных сторон общественной жизни признается непреложным законом. Это то течение, из которого вышли важнейшие системы Конта и Спенсера, столь различные между собою во многом, но которым одинаково чужды всякая узкость и исключительность. Впрочем, современное стремление к монизму и в области социологии принесет свою пользу. Оно сделало возможным проникнуть более в глубь вопроса о границах влияния отдельных причин общественных изменений и тем самым подготовило почву признанию, что ни одной из этих причин недостаточно для объяснения всех общественных феноменов в непрекращающемся процессе их эволюции.
ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ СУДЕБ РУССКОГО ПРОШЛОГО МЫСЛИТЕЛЯМИ И ПИСАТЕЛЯМИ 30-х И 40-х ГОДОВ *
На чем, если не на понимании законов природы и общественности, отразилось влияние тех хотя бы далеко не систематических чтений немецких философов и мистиков, какому предавались люди 30-х и 40-х годов? Я вынес то впечатление, что центральным вопросом для них было выяснение судеб России и заодно с нею славянства во всемирной истории, на которую немецкие философы смотрели как на раскрытие мирового духа. Вопрос, естественно, ставился сам собою всем нашим прошлым и, прежде всего, тем переломом, какой произвела в нем петровская реформа. Он мог волновать читателей Шеллинга и Гегеля еще по той причине, что немецкая философия, особенно в том направлении, какое дано было ей Гегелем, как бы заканчивала проявление мирового духа германским миром и совершенно не принимала в расчет факты славянской и русской жизни. И вот мы видим, что ряд выдающихся людей разных лагерей и направлений ставит себе все один и тот же вопрос: каково наше место в истории? Призваны ли мы идти только в хвосте у Европы, только довольствоваться восприятием выработанной ею культуры, или мы сами призваны занять определенное место в мировой истории, двинуть далее человечество и в каком именно направлении? Это вопрос, который, прежде чем разделить западников и славянофилов, сказался очень остро в отношениях большинства русских православных людей и тех немногих из их среды, которые чувствовали влечение к католицизму. На одной стороне оказались братья Киреевские, Одоевский, Шевырев и Краевский, на другой — Чаадаев и Печерин. Бросим беглый взгляд на эти два различных течения русской философствующей мысли в 30-х и 40-х годах. Мы
* Печатается по: Вестник Европы. 1915. Кн. XII. С. 163-201.
найдем в них одновременно отражение немецких философских и религиозно-мистических идей, с одной стороны, и, с другой,— зародыш того разномыслия, которое скажется в противоположении «славянофильства» и «западничества».
Профессор Венгеров в своей «Эпохе Белинского» обособляет резко три течения в русской литературно-общественной мысли: течение, представленное официальным народничеством, программу которого министр народного просвещения Уваров определил тремя принципами: «самодержавие, православие и народность», то течение, которое известно под названием славянофильства, и, наконец, то, которое известно под названием западничества. «Славянофилы», пишет Венгеров, «выделились в 40-х годах и выставили на своем знамени ту же формулу, во имя которой действовала партия официальной народности: самодержавие, православие и народность; но в понимании этой формулы славянофилы настолько разошлись не только с Булгариным, Гречем, но и с Шевыревым и Погодиным, что смешивать обе партии прямо оскорбительно, для идеально высокого настроения, из которого вытекло славянофильство»1. В настоящую минуту мы выдвигаем не нравственный критерий для обособления отдельных групп. Нас интересует вопрос о том, в какой мере люди, ставшие родоначальниками славянофильства, отлично от столпов партии официальной народности, понимали русское прошлое, настоящее и будущее. И на этот вопрос мы должны ответить, что никаких существенных различий мы отметить не можем. Если эти различия появились впоследствии, то они чужды были начинателям. Между точками зрения Шевырева и Одоевского, Краевского и И. Кириевского на указанный вопрос провести существенных различий мудрено. Предоставим судить об этом самому читателю. Шевырев был в числе первых, озабоченных мыслью определить то положение, какое Россия призвана занять в мировой истории. Ему предшествовал в этом отношении разве Титов, который еще в 1836 году в упомянутом уже письме к Одоевскому противополагает Европу и Восток, признает одряхление Запада и не прочь думать, что Россия призвана спасти Европу от этого одряхления. В форме письма он, разумеется, не в состоянии дать своей мысли детальное развитие. Но она высказана уже с большой определенностью и яркостью. «Ты, может быть, не поверишь,— пишет он Одоевскому,— когда скажу, что, взглянув на Италию
1 Эпоха Белинского, с. 27 и 28.
и Германию, я стал более турком и азиатцем, нежели когда-нибудь. Скажу более, только теперь я стал практически понимать мысль, любимую нами с детства, мысль, что Россия должна служить звеном Востока с Западом... Несколько лет тому назад, когда Восток был еще Востоком, он имел перед Европой три важных преимущества: силу религиозных убеждений, патриархальную простоту гражданского устройства и плод той и другой — кеф (кейф), слово, которое у нас непереводимо и соединяет в себе все, что беззаботность и самодовольство имеют пленительного. Овосточиться значило для России вернуться к самобытности. Реформы Петра Великого имели свой исторический смысл, но пора нам возвращаться постепенно к самим себе и к Востоку». «Запад также», по мнению Титова, «сознает необходимость выйти на новый путь, но ему мешают сделать это тяжелые кандалы, которыми для него служат католицизм и фео-дальность. От католицизма произошло протестантство — недоносок, полурелигия, от феодализма — представительный строй». Титов относится к обоим отрицательно; он не верит, в частности, в реформу католицизма. Европейские понятия, по его утверждению, не полны, холодны, шатки. «Европейское общественное устройство основано на взаимном недоверии граждан между собою и правительством... Россия счастлива тем, что у нее нет ни протестантизма, ни феодальности... Наша церковь построена просто, патриархально; она не имеет на душе своей таких грехов, как римская, отношения наши к правительству суть отношения семейные, детей к главе семейства; между ними не нужно письменных договоров, и власть не принуждена ни бороться, ни торговаться с партиями и цехами. Следственно, дай Бог, чтобы это так и осталось. России бесполезны радикальные реформы, которые Европа ищет в поте лица. Для частных улучшений дорога не закрыта, но главной их целью должно быть водворение простоты в гражданском и кейфа в духовном отношении. Кейф предполагает глубокие основные убеждения. Задача', нам предстоящая, стало быть, сводится к трем условиям: воскресить религиозную веру, упростить гражданские отношения и научить людей хотеть быть самодовольными» 2.
И все это пишет Титов человеку, близко стоявшему к движению декабристов и, вероятно, разделявшему одно время их задания. Пишет он это на расстоянии не многим более десяти лет со времени декабрьского переворота и, как мы вскоре увидим, не только не вызы
2 Саккулин, стр. 336-338.
вает протеста в своем корреспонденте, но встречается с ним во многих основных посылках. Недалеко от Титова стоит и Шевырев.
В своем «Взгляде русского на современное образование Европы» («Москвитянин», 1841 г.), Шевырев, делая исключения для Англии и Италии, объявляет две важнейшие страны континента — Францию и Германию — состоящими под гнетом двух переломных болезней: революции и реформации. «Болезнь,— прибавляет он,— одна и та же, только в двух разных видах. Во Франции царит», по мнению Шевырева, «разврат личной свободы, который всему государству угрожает совершенной дезорганизацией». Ее религия, искусство, наука и литература находятся в совершенном упадке, и даже развитие ее промышленности стесняется год от году более своеволием низших классов народа. Что касается до Германии, то ей недостает религиозного единства. Реформация расколола ее на две части; до сих пор в ней идет ожесточенная борьба между протестантизмом и католицизмом и нет надежды на их примирение. Эта коллизия порождает будто бы бессилие искусства, изящной литературы и философии. Старая европейская цивилизация погибает, но у нее есть наследники, и Шевырев приводит слова французского писателя Филарета Шаля: «Разве нет стран свежих, юных, которые примут и уже приемлют наше наследство, как некогда отцы наши приняли наследие Рима». Шаль указывает, в частности, на Соединенные Штаты Америки и на Россию. Смысл современной истории, по мнению Шевырева, содержится в словах: «Запад и Россия». «Они стоят друг перед другом лицом к лицу»; увлечет ли он нас в своем всемирном стремлении, усвоит ли себе, пойдем ли мы в придачу к его образованию, составим ли какое-то дополнение к его истории, или устоим мы в своей самобытности, образуем мир особый, по началам своим, а не тем же европейским.., вынесем из Европы шестую часть мира... зерно будущего развития человечества. Россия может сделаться орудием Провидения. Мы сильны тем, что сохранили в себе три коренные чувства, в которых семя и залог нашему будущему развитию; именно: древнее чувство религиозное, чувство государственного единства (под которым Шевырев разумеет гармонию политического быта и нравственную связь между царем и народом) и, наконец, сознание нашей народности. Провидение, рассуждает Шевырев, «посылает в лице иных народов силу хранящую и соблюдающую, да будет же такою силою Россия в отношении к Западу, да сохранит она на благо всему человечеству сокровища его великого протекшего и да отринем благородно все то, что служит
к разрушению, а не к созиданию; да найдет она в себе и в своей жизни источник своенародный, в который все чужое, но человечески прекрасное сольется с русским духом, духом обширным, вселенским, христианским, духом всеобъемлющий терпимости и всемирного общения»3.
Поворот к Европе начался у нас с Петра Великого; немудрено поэтому, если вопрос о том, чем быть России — простым продолжением Запада или нет, проводится русскими писателями в связи с петровскими реформами.
В том же 1841 году в «Москвитянине» его редактор Погодин в этюде, озаглавленном «Петр Великий», признавая историческую необходимость за преобразованиями Петра, вместе с тем полагает, что с кончиной Александра I завершился европейский период русской истории и начался период национальный, которому на высшей ступени его развития, быть может, принадлежит слава сделаться периодом в общей истории человечества. Это произойдет вследствие слияния начал образованности западной и восточной. Оба эти образования, отдельно взятые, односторонни и неполны. Они должны соединиться между собой, пополняться одно другим и произвести новое полное образование западно-восточное, европейски-русское. Погодин и видит значение Петра в том, что он положил начало соединению этих двух культур и сделался тем самым начинателем новой истории человечества. «Моему отечеству», пишет Погодин, «суждено явить миру плоды этого вожделенного вселенского просвещения и освятить западную пытливость восточной верой» 4.
Не расходится с пониманием взаимоотношения Запада и России, как оно выражено Шевыревым и Погодиным, и то, что Иван Киреевский пишет на ту же тему в 1839 году (полное собрание сочинений И. Киреевского, т. I, с. 142, 144 и 162). «Старая европейская образованность», говорит он, «как основанная на личной самобытности, разумеется, оказывается уже неудовлетворительной для высших требований просвещения и нуждается в новом начале. Это начало хранит в себе племя, доселе не имевшее всемирно-исторического значения. В наши дни все вопросы мировой истории», продолжает он, «сливаются в один существенный, живой, великий вопрос об отношении Запада к тому незамеченному до сих пор началу жизни, мышления и образованности, которое лежит в основании
3 Все цитаты сделаны на основании книги Сакулина, с. 357, 363, 364.
4 Цитаты заимствованы у Сакулина, с. 355.
мира православно-славянского». Киреевский нимало не отворачивается от западной науки: «она должна служить», по его мнению, «питанием для новой жизни. Любовь к образованности европейской, равно как любовь к нашей, совпадает в последней точке своего развития в одну любовь, в одно стремление к живому, полному всечеловечному и истинно-христианскому просвещению».
Всего определеннее общее всем только что упомянутым писателям выступает в рассуждениях человека, которого нельзя никак считать представителем ни официальной народности, ни славянофильства; я разумею Краевского. Его статья «Мысли о России» появилась раньше статей Шевырева, Погодина или Киреевского; она напечатана в литературных прибавлениях к «Русскому Инвалиду» за 1837 год. «Никогда», пишет он, «не говорили и не писали так много и так основательно о народности и руссизме, о необходимости отвыкнуть от привычки к подражанию и стряхнуть иго чужеземных, не свойственных нам обычаев и идей, как в настоящее время». Констатировав этот факт, Краевский считает нужным сам высказаться по вопросу: «должны ли мы быть европейцами в настоящем смысле этого слова, чтобы быть народом истинно-образованным; можем ли мы быть ими и в каком отношении наша народность находится к тому особенному характеру Запада, который называют европеизмом». Краевский, приведя мнения поклонников европеизма, в частности взгляды Чаадаева, соглашается, что мы не европейцы. Против этого спорить невозможно. Все это правда, но правда утешительная. «Неисповедимыми путями Благое Провидение», пишет Краевский, «вело русский народ к возвышенным целям, вдалеке от тех бурь и треволнений, которые облили кровью всю Европу и создали ее нынешнюю физиономию. Россия шла все время своим путем, русский народ обнаруживал неизменно преданность вере православной, власти, кротость и смирение. «Наконец явился Великий Петр, взором гения проник он в душу своего народа, постиг всесторонние дарования русского человека и, узнав Европу, не мог снести, чтобы этот народ, от самой природы одаренный великими способностями и, следовательно, предназначенный к высокому поприщу, оставался еще долгое время вдали от европейского образования и не занял приличное ему место в семействе народов Западной Европы. Совершая свое великое дело реформы, преобразователь не коснулся ни одного из коренных оснований русской жизни. Россия осталась при своей неповрежденной религии, удержала в полной мере формы своего прежнего, освященного веками,
быта общественного, сохранила свой язык и нравы». По этому случаю Краевский говорит, «об удобовосприемлемости русского народа, соединенной с совершенной бесподражательностью. Мы знаем чужое», «а живем по-своему». Краевский отрицает самую возможность в одно или два столетия усвоить себе то, что развилось в продолжение десятков веков. «Мы рождены от другого, нежели европейские народы, племени, воспитаны под влиянием других обстоятельств, проводили жизнь уединенно, не имевшую ничего общего с Европой; не можем сделаться европейцами; если же не можем, то и не должны стараться быть европейцами, ибо долг имеет место только там, где есть возможность его исполнения; мы не европейцы, но мы и не азиатцы, мы русские, обитатели шестой части света, называемой Россией. Могущество сил, уделенных нам Провидением, так огромно, что его бы хватило не только на собственное наше усовершенствование, но и на то, чтобы внести в человечество целый мир новых идей, созданных из ее собственных элементов... Нужно отбросить всякое стремление к подражательности». Разумеется, прибавляет Краевский, «на земле одна истина, одно добро, одна красота, но каждый народ идет своим путем к той высоте, на которой предстоят нам эти светозарные идеи. Высший закон человечества в том и состоит, чтобы всякий народ развивал ту идею, для которой способен по своему характеру, условливаемому местностью и историей его, и чтобы приносил плоды изолированной своей деятельности в общую сокровищницу человеческого образования». Краевский доказывает далее, что Европа находится в упадке. «За последние 25 лет,— пишет он,— в Европе не явилось ни одной великой, плодотворной идеи; даже недавняя попытка соединить философию с христианством похожа более на замысловатую игру ума, нежели на дело, а между тем это соединение единственно спасительное для науки. Сама Европа,— продолжает Краевский,— глубоко чувствует свое бессилие; лучшие умы ее ожидают такого же огромного переворота во всем образованном мире, какой совершился при одряхлении древнего мира. Некоторые вспоминают слова Вольтера, утверждавшего, что свет исходит от Севера».
Каково же в виду этого падения Европы и ее культуры должно быть положение России? Краевский отвечает на этот вопрос следующими словами: «Мужая постепенно, переполняясь жизнью странной, своеродной, собственными ее стихиями созданной, Россия непременно, так сказать, по органической связи всех живых существ, должна будет делиться этой жизнью с Западом, который
нечувствительно сам будет принимать.чуждые ему доселе элементы и, скажем прямо, обновляться ими. Вот то высокое назначение, к которому предопределило Россию Провидение. Замедляя в ней так называемое образование, удерживая ее вдали от вечно движущейся Европы и сохраняя в ней, как в некогда избранном народе израильском, семена живой веры и девственность юношеского сердца, дабы вышла она наконец из своей неизвестности для обновления и научения языков» 5.
Соредактор Краевского по изданию Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», Одоевский, проповедывает те же мысли. И он смотрит с грустью на упадок Европы. «Меркантильные заботы царят повсюду, вытесняя искусство, убивая поэзию; наше ухо загрубело от стука паровой машины; на пальцах мозоли от ассигнаций, акций и прочей подобной бумаги; говорит ныне о наслаждениях искусства то же, что рассказывать о запахе лишенному обоняния. Уничтожение чувства изящного имеет свои причины. Сначала мы убили в себе чувство религиозное, потом философы, в роде Бентама, доказали нам, что все бесполезное вредно; мы назвали эту пользу именами — промышленность, обогащение, дело; желудочные интересы взяли верх над всеми остальными; это зло чувствуется на Западе, но сильнее всего во Франции и в Англии. Франция более других распространила стремление к демократической нивеллировке. Революция выдвинула кровожадного Робеспьера и Наполеона». Франция находится в беспрестанном нервическом припадке. В век Шатобриана и Бальзака, Виктора Гюго и Жорж Занд, Одоевский решается утверждать, что духовная жизнь Франции характеризуется совершенным отсутствием поэзии и разладом религии с наукой. «Растлевающий дух меркантилизма проник во Францию. Французы разрушают старинное здание, чтобы обратить его в фабрику. Нынешняя Франция», говорит Одоевский, «дряхлеет и клонится к упадку. В англичанах коммерческое отвращение ко всему поэтическому в жизни. Английский фабрикант заставляет ребенка работать двадцать часов в сутки для своей наживы. Англию убил Адам Смит своим разделением работы»6. В особой статье, озаглавленной «Англомания», тот же Одоевский протестует против пристрастия к английскому складу
5 Цитаты заимствованы у Сакулина, с. 596 и 601.
6 Эти мысли Одоевский развивает в «Психологических заметках». Цитаты сделаны Сакулиным, с. 575-577.
жизни и английской литературе, английской философии и английской истории в русском обществе. Его возмущает не только то, что английский философ не знает и не хочет знать, чего он не мог изучать (?); но и то, что, как показывает Бентам, он не в состоянии связать своих мыслей (?). Одоевский возмущается также тем, что философ Пале, написавший книгу о бытии Бога, сомневается в ней в существовании души. Но всего более он восстает против «чудовищных, бессмысленных», как он выражается, теорий Мальтуса. Успехи своей промышленности англичане, по его мнению, купили ценою человеческого достоинства. Ни у одного английского ученого не оказалось такой творческой мысли, как у Гете или Окена. «Что доныне спасало Англию от конечного разрушения», пишет Одоевский, «это поэзия, которая в лице Байрона была вечно упреком английской бухгалтерии. Спасали Англию ее высшие классы, счастливою судьбою отдаленные от тины народной».
Не удовлетворяют Одоевского и американцы. «Достигнув величайшего общественного и частного богатства, они до сих пор не знают другого наслаждения, кроме денег». Сакулин таким образом резюмирует взгляды Одоевского на важнейшие государства Запада: Франция — политический вулкан, Англия — сплошная торговая контора, Америка — страна рабства и меркантилизма. Самый основной грех Запада — материализм. Тяжелая участь ожидает его, если он не поймет своего критического положения и не обновит себя общением с другим свежим народом, под которым Одоевский разумеет Россию. «Россия сильна своим политическим и социальным строем, особенностями своей народной психологии и общим направлением духовной жизни». «Одоевский,— пишет Сакулин,— убежденный сторонник монархизма; западный демократизм не прельщает его. Обладая одинаково физической и нравственной силой, русское правительство не боится, утверждает Одоевский, “выборного” начала. Оно предоставляет местному населению выбирать себе чиновников (очевидно право дворянских собраний), выбирать из своей среды не одного только предводителя дворянства, но и некоторых судей и администраторов». Одоевский хвалит правительство Николая Павловича за то, что тем самым оно сохраняет свой престиж в народе. Ропот населения обрушивается только на избранных чиновников; «завеса же таинственной правительственной власти не снимается, правительство остается на недосягаемой высоте, как прибежище угнетенных, что-то священное, действующее, как высшая сила».
Бывший приятель декабристов недалек от тех мыслей, которые заставляли Николая Павловича говорить о жандармах, как о призванных утирать слезы народные.
«И социальный вопрос в России», полагает Одоевский, «не имеет такой остроты, что на Западе». Само крепостное право не возмущает его. В одной заметке, относящейся к 1840 году, Одоевский рассуждает следующим образом: «Звание помещика есть служба государственная; право, предоставленное им, право огромное и благодетельное». К числу фантастических мыслей Одоевского нельзя не отнести и его предложения подвергать всякого, имеющего по наследству притязания на власть помещика, предварительному испытанию в ученом и нравственном отношении7.
Одоевский, как мы сказали, ставил высоко нравственные качества русского народа. Он особенно ценит нашу способность к усвоению чужого, обезвреживая в то же время то, что в этом чужом заключает в себе ядовитые начала. Подтверждение этому он видит в том, что, усваивая воззрения французских философов XVIII века: Вольтера, Дидро, Жан-Жака Руссо, мы в то же время оценили по достоинству их заблуждения, осмеяли их систематическую филантропию, их ребяческий политический план. Екатерина Великая сумела применить многие мысли, исходившие из Франции, отбросив то, что было в них опасного. В великой лаборатории Великой Екатерины переплавлена была эта европейская руда. Мнения, по-видимому, столь противные духу русскому, в других странах имевшие разрушительное действие, могли превратиться в учреждения русские, вполне соответствующие началам религиозным и монархическим, доныне цветущие полной жизнью и разлившие благо на все состояния государства. В России многое худо, но все вместе хорошо; пишет Одоевский; «в Европе многое хорошо, а все вместе дурно».
«В жизни народа прививка и пересадка имеют то же благотворное влияние, что и в жизни растения. Древнее просвещение Востока возвысилось в Греции, из Греции перешло к новым народам, освежив и развив их силу. Мы приняли в себя европейское просвещение, переработали его сообразно своему духу; обрусевшая Европа должна, как новая стихия, оживить старую одряхлевшую Европу. Есть верные признаки невольного стремления Запада к Северо-Востоку. Он ищет приближения к нашей цели; кроме Шеллинга, такое стремление заметно у Бадера; он прямо выговорил эту
7 Сакулин, с. 584-589.
мысль»,— пишет Одоевский. Европейцы опасаются материального завоевания Россией, но не о таком завоевании мечтает Одоевский. «Будет,— пишет он,— русское завоевание Европы, но духовное, ибо один русский ум может соединить хаос европейской учености, может отрясти прах всех возможных авторитетов, которые доныне держит европейскую ученость в пеленках — но для этого нужно превзойти всех авторитетов»8.
Одоевский собирался напечатать свое рассуждение в «Введении к Русскому сборнику», задуманному им в 1836 году; но этот сборник не был разрешен цензурой.
Полагаю, что из сопоставления взглядов, высказанных, во второй половине 30-х годов, только что перечисленными мною писателями, легко вывести то заключение, которое в письме к графу Сир куру сжато передает противник только что изложенных идей — Чаадаев.
В шутливом тоне Чаадаев говорит Сиркуру: «Не далек тот день, когда мы займем место в ряду народов-цивилизаторов. Вы, которые видели нас собственными глазами, вы, конечно, знаете, какие у нас на то имеются титулы. Если бы вы тем не менее случайно недоумевали на этот счет, вам бы пришлось только набрать справки у той молодой русской школы, чести нашего отечества, которой вы могли оценить широкий полет и великое значение. Ручаюсь вам, что она поставила в ваше распоряжение обширный каталог. Вы видите, что я становлюсь “славянофилом”, как сказала бы госпожа Сюркур. Что делать, как избежать этой всеобщей заразы, которая действует с тем большею силой, что представляет совершенно новое патологическое явление в нашем климате». Чаадаев говорит затем об успехе, какой имеет своим курсом по истории русской литературы молодой профессор, им не названный, но в котором немудрено отгадать Шевырева. «Вы не можете себе представить, сколько неожиданных и восхищающих нас выводов делает он из небольшого числа литературных источников, рассеянных по необозримым степям нашего прошлого, сколько он открывает в нем сокрытых сил. Противополагая этому благородному прошлому ничтожное прошлое католической Европы, он стыдит ее с жаром и строгостью невероятною. И не думайте, что это новое учение встречает у нас только слабые симпатии, наоборот, это шумный успех. Удивительное дело, последователи и противники одинаково приветствуют его.
8 Саккулин нашел все эти неизданные рассуждения среди бумаг кн. Одоевского, см. с. 584-595.
Последние, быть может, больше первых... Не буду поражен тем, если профессор докажет с очевидностью превосходство нашей цивилизации над вашей, положение, к которому сводится вся его программа». Чаадаев шутя предлагает перевести этот курс при его появлении в печати на французский язык. «Он, пожалуй, произведет большое впечатление в ваших широтах и обратит доброе число людей на правый путь в этой старой Европе, утомленной бесплодной рутиной и которая, я в том уверен, не знает, что у нее под рукой имеется целый неведомый ей мир, богатый теми элементами прогресса, которых ей недостает, и заключающий в себе решение всех задач, ее занимающих и которых решить сама она не может».
В том же шутливом тоне Чаадаев продолжает: «Что в сущности представляет европейское общество? Хаотическое сочетание множества противоречивых элементов, амальгаму всех культур мира, продукт насилия, завоевания и узурпации; мы же наоборот, мы прямой логический результат одного верховного принципа, принципа религиозного, принципа любви. Единственный элемент, чуждый христианству, который вошел в постройку нашего социального здания, это элемент славянский. Вы знаете, в какой мере он эластичен и гибок. Ввиду этого все вожаки происходящего у нас литературного движения, каково бы ни было их разномыслие по другим вопросам, сходятся в том, что истинный народ Божий в новое время никто другой, как мы. Такая точка зрения не лишена некоторого сходства с той, которой придерживался израильский народ; но вы не откажете ей в исключительной глубине, раз вы примете во внимание ту великолепную роль, какую играла церковь, и толпу наших коронованных предков, возведенных ею в лик святых. Один из наших наиболее выдающихся умов и которого вы легко узнаете по самому характеру его утверждения, недавно доказал с могучей своей логикой, что христианство стало возможным на первых порах только в нашей земле, что оно в ней одной расцветет вполне, так как мы были единственным народом, достаточно хорошо организованным, чтобы принять его во всей его чистоте... Правда, представляется некоторая трудность согласить эту точку зрения с тем принципом вселенности христианства (Чаадаев употребляет термин космичность), какую с таким упорством проводят в другой сфере христианского мира; но это капитальное различие между двумя доктринами и обеспечивает наше превосходство над вами. Вместо того, чтобы быть обреченными на вечную неподвижность, вместо того, чтобы окаменеть в догме, подобно вам, наши верования
допускают самые счастливые и самые разнообразные применения христианского принципа и, в частности, сочетание его с национальным преимуществом, которому вы имеете полное основание завидовать. Наш дорогой профессор сказал нам также на днях с высоты своей кафедры с глубочайшим убеждением и громогласно, что мы избранный сосуд, предназначенный принять и сохранить евангельскую догму во всей ее чистоте, дабы передать ее в положенное время нациям, менее счастливо организованным, чем мы. Этот ход в распространении евангельской доктрины — интересное открытие туземной интеллигенции,— не замедлит, вероятно, быть признанным всеми христианскими толками; но, пока это последует, вам необходимо привыкнуть к тому, что в один прекрасный день вы узнаете и следующую новинку: “в то самое время, когда вы были повергнуты в тьму средневековья, мы гигантскими шагами двигались во всех возможных направлениях прогресса, мы владели всеми благами современной цивилизации и большинством тех учреждений, которые даже теперь у вас не выходят из состояния утопии. Нужно ли говорить вам, каково было то несчастное событие, которое остановило нас в нашем славном шествии в течение ряда веков. Вы слышали упоминание о нем тысячи раз в течение вашего пребывания в Москве; но я не могу оставить вас в неизвестности насчет моего личного мнения на этот счет. Да, вторжение идей Запада, идей, отвергаемых всем нашим историческим прошлым, всеми нашими национальными инстинктами, парализовало наши силы, извратило наши прекрасные тенденции, исказило нашу добродетель, одним словом, низвело нас на ваш уровень или близко к тому. Необходимо поэтому вернуться вспять, разыскать снова это прошлое, которое вы так злостно у нас похитили, воссоздать его как можно лучше и засесть в нем так, чтобы больше не выходить. Такова творческая задача, которая занимает ныне наши лучшие умы... Если мы увидим вас через несколько лет здесь, вам откроется возможность восхищаться плодами нашего понятного движения”» 9.
Если Чаадаев в 1845 году так осмеивал то новое течение, которое, независимо от партий, приводило русских людей к невероятному бахвальству и к совершенному извращению всего исторического процесса, то он, быть может, недооценивал той роли, какую в утрировке здравых в конце концов мыслей о самобытности нашей
9 Статьи и письма Чаадаева под редакцией Гершензона, т. 1, с. 253-257. Перевод сделан мною. . .
культуры, нашего исторического процесса, играла его странная попытка низвести это прошлое к нулю. Попытка эта нашла выражение себе в его «Письмах по философии истории», редактированных в годы от 29 по 31, появившихся в печати не ранее 1838 года и вызвавших подъем против него не только российского начальства, но и в гораздо большей степени, как он это сознает, всего русского общества. Содержание этих писем слишком хорошо известно, чтобы нам нужно было передавать их здесь, хотя бы в сжатом виде. Ограничимся только самым необходимым. В первом письме мы, между прочим, читаем: «Одна из изумительных сторон нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом отставших от нас. Это происходит от того, что мы никогда не шли бок о бок с другими народами. Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода, мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода. Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесшая его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, не оказала на нас никакого влияния. То, что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для нас только теория и умозрение»10 11.
В дальнейшем изложении Чаадаев объявляет, что у нас не было периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народа. Вся русская история сводится им к следующему: сначала — дикое варварство, потом — грубое невежество, затем — свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть. «Такова,— пишет Чаадаев,— печальная история нашей юности... Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы нам о прошлом, который воссоздавал бы его перед вами живо и картинно» п.
«Да и наше настоящее», полагает Чаадаев, «не представляет собою ничего привлекательного; мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди
10 См. т. I, французский текст, с. 77, т. II, русский текст, с. 104 и 111.
11 Ibid., с. 78 1-го тома и III 2-го тома.
мертвого застоя и если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или в расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня». Если верить Чаадаеву, то и «в нашем повседневном обиходе нет элементарных идей, которыми мы могли бы руководствоваться в жизни! Хотите ли знать, что это за идеи, это идеи дела, справедливости, права, порядка»12. «Нет у нас нравственных понятий, нет у нас общих идей. В наших головах», пишет он, «нет решительно ничего общего, все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной жизни. Нет у нас общих идей, не имеется и науки».
«Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили»13. Таким образом, если верить Чаадаеву, мы представляем собою в прошлом и в настоящем совершенное ничтожество, и все это потому, что Провидение отвернулось от нас. Отвернулось же оно от нас потому, что мы не католики, какими были в свое время все народы Запада, без различия латинского и тевтонского мира. «Однако, скажете вы, разве мы не христиане, и разве немыслима иная цивилизация, кроме европейской; без сомнения, мы христиане, но не христиане ли и абиссинцы». Западный прогресс создан католичеством, которое Чаадаев отожествляет с христианством. «Разверните», пишет он, «вполне картину эволюции нового общества (т.е. новых народов), и вы увидите, как христианство претворяет все интересы людей в свои собственные, заменяя всюду материальную потребность — потребностью нравственной и возбуждая всюду те великие споры, каких до него не знали ни одно время, ни одно общество... Главный и, можно сказать, единственный интерес новых народов всегда заключался в идее. Религиозные гонения, мученичество за веру, проповедь христианства, ереси и соборы,— вот события, наполняющие первые века. Все движение этой эпохи, не исключая и нашествия варваров, связано с этими первыми младенческими усилиями нового мышления. Следующая затем эпоха
12 Ibid., с. 80 французского текста и 114 русского.
13 С. 85 французского текста и 117 русского.
занята образованием иерархии, централизацией духовной власти и непрерывным распространением христианства среди северных народов. Далее следует высочайший подъем религиозного чувства и упрочения религиозной власти. Философское и литературное развитие ума и улучшение нравов под державой религии довершают эту историю новых народов, которую с таким же правом можно назвать священной, как и историю древнего избранного народа (израильского). Наконец, новый религиозный поворот, новый размах, сообщенный религией человеческому духу, определил и теперешний уклад общества»14.
Вот к чему сводится вся история новых народов, думает Чаадаев, для которого прогресс вызван исключительно развитием западного христианства. Оно создало всю культуру европейских народов, которые шли вперед рука об руку... «Вспомните, что в течение пятнадцати столетий у них был один язык для обращения к Богу, одна духовная власть и одно убеждение». Все даже политические революции были на Западе в сущности духовными революциями. Люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. Этим объясняется характер современного общества и его цивилизации; иначе, прибавляет Чаадаев, его совершенно нельзя было понять. В христианском мире все способствует установлению совершенного строя на земле, нового строя государства Божьего... Но неужели вы думаете, что такой порядок вещей, который является конечным предназначением у человечества, может быть осуществлен абиссинским христианством? Неужели вы думаете, что небо сведут на землю эти нелепые уклонения от божеских и человеческих истин?15
В таком сопоставлении только что сделанные нами выдержки весьма резко и определенно передают основную мысль автора. Прогресс — особенность народов католического мира. У православных ни в прошлом, ни в настоящем нет ничего, что бы они могли вспомнить с удовлетворением или чем бы они могли поделиться с народами католической Европы. Православная Россия живет одними материальными интересами. В прошлом ничего, кроме дикости, в настоящем — хаотическое брожение в мире «духовном, подобное тем переворотам истории земли, которые предшествовали», пишет Чаадаев, «современному состоянию нашей планеты. Мы до сих пор находимся в этой стадии... Мы растем, но не созреваем,
14 Русский текст, с. 122.
15 С. 119 и 120 русского текста.
движемся вперед, но по кривой линии, т. е. по такой, которая не ведет к цели; мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание — в их внешнем быте, вся их душа — вне их. Именно таковы мы»16.
Мудрено ли, если русское общество, даже в большей степени, чем правительство, отнеслось к такому отрицанию всего нашего прошлого и настоящего с величайшим раздражением. Сам Чаадаев в позднейшем письме к графу С. Г. Строганову признавал, что он придал слишком большую роль католицизму. «Думаю ныне», пишет он, «и что он не всегда был верен своей миссии. Я недостаточно оценил стоимость элементов, которых у нас недоставало, и думаю теперь, что они много содействовали созданию нового общества»... Разумеется, на эти заявления, сделанные Чаадаевым в 1836 году, можно смотреть как на отписку, делаемую с целью оправдать себя в глазах начальства. На них позволено смотреть, как на те показания, какие даны были Чаадаевым в том же ноябре 1836 года устно тому же графу Строганову и, прибавляет Чаадаев, «господину оберполициймейстеру»17.
Но к А. И. Тургеневу, с которым Чаадаев был близок и к которому его письмо было доставлено не по почте, Чаадаев мог писать более откровенно. И в этом письме он, говоря о разверзшемся над ним громе, заявляет: «Во всем этом деле, которое приняло столь серьезный оборот, не было ни одного серьезного убеждения, кроме убеждения, высказываемого самим автором, но и это убеждение было философского характера до некоторой степени, заржавевшее и которое не прочь было уступить место более новому и более туземному»18.
В письме к своему брату Чаадаев сообщает, в чем состояли те ужасные последствия, какие имело появление его статьи в журнале Надеждина «Телескоп». «Статья моя», пишет он, «вышла без имени, но тот же час была мне приписана или, лучше сказать, узнана, и тот же час начался крик. Через две недели издание журнала прекращено. Журналист и цензор призваны в Петербург к ответу. У меня по Высочайшему повелению взяты бумаги, а сам я объявлен сумасшедшим. Поражение мое произошло 27 октября, следователь
16 Ibid., с. 113.
17 См. т. I, с. 135 и 137.
is Ibid., с. 200.
но, вот уже три месяца, как я сошел с ума. Ныне издатель сослан в Вологду, цензор отставлен от должности, а я продолжаю быть сумасшедшим. Я должен довольствоваться одной прогулкой в день и видеть у себя господ медиков, ex officio меня навещающих». Своему брату Чаадаев попутно говорит: «Мнение, выраженное автором шесть лет тому назад, может быть, ему теперь и не принадлежит; нынешний его образ мыслей, может быть, совершенно противоречит прежним его мнениям, но об этом правительство, по-видимому, еще не имело времени подумать»19. Скажут, и не без основания, что Чаадаев предвидел возможность вскрытия своих писем, а следовательно, писал и для начальства. Что Чаадаев остался в душе католиком, это наглядно выступает из всей его последующей переписки. Мне пришлось слышать от одного русского иезуита, что он и на самом деле вступил в лоно католической церкви. Для характеристики его действительных убеждений очень характерно многое из того, что он пишет старым своим знакомым, в числе других осужденному декабристу Якушкину. Он, между прочим, говорит ему в своем письме от 18 октября 1837 года: «Не знаю, каковы теперь твои религиозные чувства, но, признаюсь тебе, не могу поверить, чтобы к душевному спокойствию ты пришел путем того оледеняющего деизма, которое испытывали умы твоей категории тогда, когда мы расстались... Все недавние открытия в науке служат к поддержке христианских преданий, подтверждают космогоническую систему Библии», и Чаадаев в доказательство ссылается на сочинение Кювье. В новом письме к А.И. Тургеневу Чаадаев говорит20: «Ты по старому обычаю отличаешь учение церковное от светского... Это великое разделение, которое противоставляет науку религии, вовсе не философское и несколько пахнет XVIII столетием» 21.
Обращаясь к тому же Тургеневу по пов( ду своих писем о философии истории, Чаадаев говорит: «Кто-то (в действительности же он сам) сказал, что нам, русским, недостает некоторой последовательности в уме и что мы не владеем силлогизмом Запада. Нельзя признать безусловно это резкое суждение о нашей умственности, произнесенное умом порченным, но и нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен,
> /Ж1 ''.'''''ЖЖ' '> 1
19 С. 203 и 204. ' w * . . ... Л’.. • ' ' .
20 Т. 1, с. 207 и 208.
21 Ibid., с. 209. , .,
что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают по одиночке, внезапно, и почти не оставляют по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем, мы с чрезвычайной ловкостью усваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем. Мы постепенности не знаем ни в чем, одним словом, мы живем не продолжительным мышлением, а мгновенной мыслью». Из другого письма к тому же Тургеневу видно, что, оставаясь прежним сторонником общехристианской культуры Запада, Чаадаев начинал признавать за русскими некоторые свойства, которые бы позволили им при систематическом усвоении западной культуры вступить на поприще беспредельного усовершенствования человечества, как он выражается. Это — преимущества психического характера, бескорыстные сердца, простодушные верования, что, в свою очередь, вызвано отсутствием тяжелого прошлого и закоснелых предрассудков. По-видимому, убедившись в том, что «политическое христианство, как он выражается, отжило свой век и что христианство нынче не должно быть чем иным, как той высшей идеей, которая заключает в себе все идеи всех прошедших и будущих времен, а следовательно, должно действовать на гражданственность только посредственно, властью мыслей, а не вещества», Чаадаев начинает более положительно оценивать попытки выяснения русского прошлого и, в частности, признает Карамзина за необыкновенного человека. «Как здраво, как толково любит он свое отечество, как простодушно он любовался его огромностью и как хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой огромности, а между тем, как и всему чужому, знал цену и отдавал должную справедливость. Где это ныне найдешь?» И мимоходом Чаадаев клеймит тех современников, которых «одолел», как он выражается, «фанатизм народности»22. В письме к М.С. Орлову он раскрывает свою задушевнейшую мысль, говоря, что наше отечество казалось ему призванным раньше всех других стран провозгласить простые и великие истины, какие содержит в себе христианство. Он полагал, что «основание к такой надежде дает то обстоятельство, что христианство у нас избежало влияния на него страстей людских и интересов земных». Все это теперь он признает химерой.
«Да наступит будущее, каково бы оно ни было, сложим руки и будем ожидать его, склоняя головы перед святыми иконами
по подобию наших благочестивых и мужественных предков, этих героев покорности. Будем ждать в молчании и мире душевном наступления этого будущего, будь оно хорошим или дурным». В «Апологии сумасшедшего», написанной в 1837 году и представляющей вместе с «Письмами о философии истории» самое крупное из литературных произведений Чаадаева, к сожалению незаконченное, автор, искупивший попытку честного выражения своих заветных взглядов причислением его к умалишенным, верно оценивает причины поведенного против него похода. Он говорит о зловещем крике, который раздался в известной части общества при появлении его статьи. «Правительство только исполнило свой долг, можно даже сказать, что в строгости, применяемой к нему, нет ничего чудовищного, так как они далеко не превзошли ожиданий значительного круга лиц». Апология заключает в себе славословие Петра. «Высокий ум этого необыкновенного человека», пишет Чаадаев, «безошибочно угадал, какова должна быть наша исходная точка на пути цивилизации и всемирного культурного движения. Он увидел, что, за полным отсутствием у нас исторического наследия (la donnee historique; переведено в русском тексте по-моему неудачно словом исторические данные), мы не можем утвердить наше будущее на этой слабой основе. Он понял, что, стоя лицом к лицу к старой европейской цивилизации, которая является последним выражением всех прежних цивилизаций, нам незачем задыхаться в нашей истории и незачем тащиться подобно западным народам через хаос национальных предрассудков по узким тропинкам местных идей, по изрытым колеям туземной традиции... И вот он освободил нас от всех пережитков прошлого, он открыл ум наш всем великим идеям, какие существуют среди людей, он передал нам Запад сполна, каким его сделали века».
Чаадаев высказывает соболезнование, что «в наши дни плохие писатели, неумелые антикварии и несколько неудачных поэтов, не владея ни ученостью немцев (впервые открывших наших летописцев), ни пером знаменитого историка (Карамзина), самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже у нас никто не помнит и не любит. Таков итог наших трудов по национальной истории. Надо признаться, что из всего этого невозможно извлечь серьезное предсказание относительно ожидающих нас судеб. Между тем в них теперь все дело».
Чаадаев настаивает на необходимости добросовестного анализа тех моментов, когда жизнь обнаруживалась у народа с большею
глубиною, когда его социальный принцип проявлялся во всей его чистоте. Такие моменты редки в нашей истории, но они все же были. Таков был, например, тот, который закончил страшную драму междуцарствия, когда народ, сразив врага, свободным порывом всех скрытых сил своего существа поднял на щит благородную семью, царствующую теперь над нами. Этот момент он называет «беспримерным», которому нельзя достаточно надивиться, особенно если вспомнить пустоту нашей предшествовавшей истории. «Я очень далек», прибавляет Чаадаев, «как следует из сказанного от приписываемого мне мнения — вычеркнуть все наши воспоминания». Говоря о своих «Письмах о философии истории», Чаадаев сознается, что была в них некоторая нетерпеливость в выражениях, резкость в мыслях, но что чувство, которым они проникнуты, не грешит отсутствием патриотизма. Это глубокое чувство о наших немощах, выраженное с болью, горестью и только... «Я не научился», пишет он, «любить свою родину с закрытыми глазами, преклоненной головой и запертыми устами... Я люблю мое отечество, как Петр научил любить его. Мне чужд этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями. Им, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы». Чаадаев убежден в том, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше других. «У меня есть», пишет он, «глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество». «История не в нашей власти, но наука нам принадлежит. Мы не в состоянии проделать сызнова всю работу человеческого духа, но мы можем принять участие в его дальнейших трудах. Прошлое уже нам не подвластно, но будущее зависит от нас». Чаадаев готов сознаться в ряде преувеличений, какие сделаны были им в его письмах по философии истории. «Было преувеличение», пишет он, «в этом обвинительном акте, предъявленном великому народу, вся вина которого сводится к тому, что он был заброшен на крайнюю грань всех цивилизаций мира; было преувеличение не признать того, что мы увидели свет на почве, не вспаханной и не оплодотворенной предшествующими поколениями, где ничто не говорило нам о протекших веках, где не было никаких задатков нового мира; было преувеличением не воздать должного этой церкви (православной), столь смиренной и столь героической, которая
одна утешает за пустоту наших летописей, которой принадлежит честь каждого мужественного поступка, каждого прекрасного самоотвержения наших отцов, каждая прекрасная страница нашей истории; наконец, может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышла могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».
Если мы спросим себя теперь, можно ли во всех этих оговорках видеть отступление от ранее высказанных Чаадаевым мыслей, наш ответ необходимо будет отрицательным. Русское до-петровское прошлое продолжает казаться ему ничтожным; в нем не было проявлено почина со стороны русского общества. «Просмотрите от начала до конца наши летописи», говорит он, «вы найдете в них на каждой странице глубокое воздействие власти, безпрестанное влияние почвы и почти никогда не встретите проявления общественной воли» 23.
Но что сказать об общей схеме автора «Писем о философии истории». Ими привыкли восхищаться, а они, право, не заслуживают ни особых нападков, ни особых восторгов. Как человек, проникнутый католическим миросозерцанием, Чаадаев вслед за Боссюэтом готов признать, что все происходившее и происходящее в мире — дело Провидения. Божественная Воля раскрылась всего ярче на судьбах избранного народа Божьего, народа Израильского, а в новое время в истории католического Запада. Этими избранными народами и занимается рассуждение Боссюэта. Идя по его следам, Чаадаев также сосредоточивает свое внимание преимущественно на истории еврейства и европейского средневековья. Его отношение к роли древней Греции в поступательном развитии человечества в высшей степени характерно для всей его схемы и, к сожалению, страдает отсутствием научной объективности. Во французском тексте, тексте первоначальном, мы читаем (2-е письмо): «Я думаю, что настанет день, когда нравственная мысль не останется более на почве Греции, этой страны обольщения и иллюзии, откуда гений обмана так долго распространял по всей земле обман и ложь. Могучие умы (Чаадаев прибавляет в примечании, как Шеллинг и Кузен) не дадут себя более увлечь чувственными учениями Платона». Такое же предвзятое отношение мы встречаем у Чаадаева и к Сократу, и к Марку Аврелию, и к Аристотелю, и даже к Гомеру. «Моисей указал людям
23 Т. И, с. 215-220.
истинного Бога», пишет Чаадаев, «между тем как Сократ завещал им лишь малодушные сомнения. Давид — совершенный образец самого возвышенного героизма, тогда как Марк Аврелий только любопытный пример искусственного величия и тщеславной добродетели. Имя Стагирита (Аристотеля) будет произносимо не иначе, как с омерзением; своего рода бесчестие покроет, может быть, и великое имя Гомера».
Среди ряда мыслей, подсказанных Чаадаеву его католическими пристрастиями, нельзя не отметить верного положения, занятого им по отношению к средним векам. Он справедливо говорит, что «огромное превосходство нового общества над древним лежит в том, что в течение ряда веков оно представляло собою настоящую федеральную систему, которая была расторгнута только реформацией». «До этого прискорбного события, народы Европы смотрели на себя не иначе, как на части единого социального тела. Долгое время у них не было другого публичного права, кроме предписанного церковью; войны того времени считались междоусобиями. История средних веков — это история одного народа — народа христианского». Эти мысли навеяны на Чаадаева чтением знаменитой книги Де Местра «О папе». Та же книга, как известно, до некоторой степени подсказала и Огюсту Конту верную мысль о том, что средние века представляют в истории развития человечества тот момент, когда единовластие заменялось двоевластием, с одной стороны светским, с другой — духовным правительством. Чаадаев, разумеется, ошибается, думая, что в средние века не было других законов кроме канонов; но он прав, когда настаивает на той мысли, что войны носили в то время характер междоусобий, так как они могли быть предупреждены или приостановлены вмешательством духовной власти — власти папы. Другой его основной взгляд, согласно которому древнее общество разрушено было не варварами, а погибло от внутренней порчи, заслуживает внимания. Разумеется, есть преувеличение в утверждении, что Римская империя, в эпоху нашествия германских народов в ее пределы, была истлевшим трупом, и что им оставалось только развеять ее прах по ветру. Но нельзя не поставить ему в заслугу, что он отметил условия внутренней порчи римского общества, хотя и совершенно произвольно признал причиною всех их развитие материализма. «Жизненный принцип,— пишет он,— поддерживавший дотоле человеческое общество, истощился. Материальный или, если хотите, реальный интерес, которым одним до тех пор определялось социальное движе
ние, так сказать, выполнил свою задачу, завершил предварительное образование рода человеческого»24.
Если верить Чаадаеву, то только с Средних веков главное содержание жизни составляет развитие нравственной идеи. Но такое разделение истории на два неравных периода, из которых один преследует только материальные, а другой только идейные интересы, разумеется, совершенно произвольно; и древнее общество жило религией и с трудом отрешившимися от нее философией и наукой. То же зрелище представляет нам и новая история, в которой философская и научная мысль зарождаются под кровом церкви с тем, чтобы со временем завоевать свою независимость, сбросить с себя железную опеку. Чаадаев настолько проникнут мыслью о том, что материализм — причина, останавливающая прогресс наций, что этим готов объяснить то, что Азия не пошла далее определенного предела в своем развитии и что та же судьба постигла Индостан, Грецию, Рим и в наши дни Японию. «Дело в том», рассуждает он, «что как только материальный интерес удовлетворен, человек больше не прогрессирует, хорошо если он не идет назад. Не будем заблуждаться, в Греции и в Индостане, в Риме, как и в Японии, вся умственная работа, какой бы силы ни достигала она, в прошлом и настоящем, всегда вела и теперь ведет лишь к одной и той же цели. Поэзия, философия, искусство — все это, как прежде, так и теперь, всегда преследует удовлетворение только физического существа... Одно христианское общество поистине одушевлено духовными интересами, и именно этим обусловлена способность новых народов к совершенствованию, именно здесь вся тайна их культуры». Нужно ли говорить, что с его католической точки зрения реформация снова повергла мир в этическую разъединенность. Ею вызвана та особенность умов и душ, которую Спаситель приходил разрушить. «Допустим», пишет Чаадаев, «что папство — человеческое учреждение, каким его хотели бы представить. Но оно существенным образом выступает из самого христианства, это видимый знак единства и символ воссоединения».
Идея прогресса, которая красной нитью проходит через философические письма Чаадаева, навеяна на него также католическим писателем Паскалем. Он приводит его основную мысль и называет ее прекрасной; мысль эта: последовательный ряд людей есть не что иное, как один человек, постоянно накопляющий новые знания.
24 С. 138,т.п.
Возможно также, что с идеей прогресса Чаадаев познакомился из Сен-Симона, на которого встречается ссылка в его корреспонденции. Интересно отметить, что он ни слова не говорит ни о Тюрго, ни о Кондорсе, у которых Сен-Симон, а за ним и Конт, заимствовали свою формулу поступательного развития человечества в связи с развитием знания. В третьем письме, в котором Чаадаев, в частности, занимается объяснением исторической роли Моисея и Давида и утверждает их превосходство над героями Греции и Рима, над Сократом и Марком Аврелием,— особенно резко выступает зависимость его мыслей от Боссюэта и всей вообще католической историографии. К числу оригинальных его взглядов можно отнести высокую оценку Эпикура и низкую Аристотеля. Об Эпикуре Чаадаев пишет: «Если бы его нравственному учению удалось вкорениться в умах народов, не исказившись под влиянием порочных начал, властвовавших тогда над миром, то без всякого сомнения оно сообщило бы сердцам крепость и гуманность, которых совершенно не в состоянии были влить ни хвастливая мораль Портика, ни мечтательное умозрение академистов». Эпикур дорог Чаадаеву потому, «что его философия содержала один важный элемент, которого была совершенно лишена практическая мысль древних, именно элемент единения, солидарности и благоволения между людьми». Этого элемента недоставало Гомеру. «На наш взгляд», пишет Чаадаев, «гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле,— все это заимствовано нами у Гомера. Одни греки решились идеализировать и обоготворить порок и преступление. В глубине материальной поэзии Гомера, необычайно снисходительной к порочности нашей природы», сознается Чаадаев, «действительно заключается какое-то удивительное обаяние», с которым он поэтому и считает нужным сражаться.
Я не стану разбирать немногих страниц, которые дошли до нас от 4-го письма Чаадаева. Они свидетельствуют только о том, что в своем стремлении объяснить поступательное движение человечества, он не обходил молчанием и вопрос об эстетическом развитии и ставил последнее в связь со своей основной мыслью — о материализме древности и духовности новых народов. С этой точки зрения он собирался изложить развитие искусств, начиная с зодчества или архитектуры. Его письмо обрывается как раз на том месте, где от архитектуры древности, египетской пирамиды и храмов в Пестуме, он переходит к готическому храму средних веков. «В греческом стиле», рассуждает он, «вы найдете чувство оседлости, домовитости, привязанность к земле
и ее утехам, а в готическом — мощность мысли, порыв к небу и его блаженству». Таким образом и здесь Чаадаев проводит свою мысль о том, что культура античного мира была чисто материальной, тогда как средневековая христианская — духовной; но, чтобы не порывать с библейским преданием, он верит, что человечество на первых порах жило также преимущественно духовными интересами; демонстрируя эту веру, он старается убедить, что египетские пирамиды имеют то общее с готическим стилем, что устремляются к небу. Вот почему рядом с готическим стилем он ставит и египетский. «Пирамидальная архитектура,— пишет он, — является чем-то священным, небесным, а отсюда — следующий вывод: сопоставление классического зодчества с египетским и готическим приводит к тому заключению, что история человеческой мысли устремлялась сначала к небу в своем, как он выражается, «целомудрии». Потом в период растления, который совпадает с периодом развития классицизма, она пресмыкается в прахе и, наконец, снова кинута к небу всесильной десницей Спасителя. Не могу сказать, чтобы такие обобщения позволяли нам высказывать соболезнование о том, что письма Чаадаева не дошли до нас в полном виде. Большого приращения к социальной динамике они, разумеется, не представляют, их интерес чисто исторический; они свидетельствуют о том, в какой степени мысль выдающегося умом человека могла подчиниться ортодоксальным воззрениям западного католичества, подчиниться до того, чтобы извратить самый ход истории, отнестись с одинаковым отрицанием и к древней Греции, и к Риму, и к эпохе Возрождения античной культуры, с чего, как известно, начался ускоренный рост знания и в связи с ним промышленности, а последствием этого было, как показал Конт, все большее и большее ограничение церковной опеки над человеческой мыслью и человеческим поведением зарождение новых, более свободных форм жизни. При высокой оценке современной культуры, чего нельзя отрицать за Чаадаевым, трудно, однако, сказать, чтобы он верно передавал ее характер. Так, отмечая совершенно правильно тот факт, что никогда масса распространенных идей не была так сконцентрирована в обществе, как теперь, он в то же время ложно утверждает, что никогда также за все время существования человечества вся деятельность его не была поглощена в такой степени идеей, как в наши дни, и что во всем мире существует теперь лишь одна умственная власть, под чем он, разумеется, понимает власть главы католичества. Конт полагал как раз обратное и, видя невозможность сохранить эту власть за церковью, приходил к мысли
о необходимости создания новой духовной силы в лице ученых. Схема, предлагаемая Чаадаевым, ничем существенно не отличается от той, какую проводил Боссюэтт, которая была восполнена Де Местром и доселе повторяется в историко-философских рассуждениях католических писателей. В угоду ей он не сумел оценить ни классической древности, ни Возрождения, ни Реформации, и совершенно отказался видеть какое-либо поступательное движение во всем русском историческом процессе до момента нашего внешнего приобщения к благам европейской культуры. Положительным в его построении я считаю только одно признание, что поступательный ход человечества требует безусловного усвоения всего того запаса знаний и общественного строительства, какое унаследовано от предков. С этой точки зрения он приветствовал реформы Петра; но, как видно из некоторых его позднейших писем, он в то же время считал ее неполной и остановленной в своем ходе его ближайшими преемниками.
Для понимания его мысли не мешает познакомиться с теми письмами к княгине Мещерской и графу Сюркуру, в которых он возвращается к темам, поднятым им ранее в его «Письмах о философии истории». Чаадаев нападает на тех, кто позволяет себе утверждать, что библейская космогония, т. е. откровенная история создания мира, должна быть опущена. «Я постарался доказать,— пишет он,— что история человечества не имеет смысла, если не возводить ее к первым дням мира и сотворению человека, что все обратится неизбежно в хаос и прах в этой области человеческого познания, если мы не бросим на нее яркий свет глубоких истин и дивных символов, находящихся в книге Бытия». Это та точка зрения, на которой доселе стоят католические писатели, не допускающие возможности применения метода сравнительно-исторического или сравнительно-этнографического. В том же письме Чаадаев говорит: «Раз христианство есть слово и свет по преимуществу, оно естественно вызывает слово и распространяет возможно больший свет на все объекты интеллектуального воззрения человека. Оно не только не противоречит данным науки, но, напротив, подтверждает их своим высоким авторитетом, между тем как наука подтверждает постоянно своими открытиями христианские истины. Наиболее плодотворными эпохами в истории развития человеческого духа были те, когда наука и религия шли рука об руку». Он считает прискорбной тенденцию увеличивать раскол между религией и наукой, созданный XVIII веком и о котором ни отцы
церкви, ни учителя средневековья не имели даже представления. «В этой тенденции,— прибавляет он,— до сих пор упорствуют многие выдающиеся и строго религиозные умы, несмотря на обратное направление века нашего, стремящегося изо всех сил вернуться к приемам доброго времени твердых верований и слить в один поток света эти два великих маяка человеческой мысли» (Письмо от 24 мая 1839 г.). Много лет спустя, а именно в 1846 году, Чаадаев, отсылая графу Сиркуру статью известного славянофила Хомякова, переведенную им на французский язык, с просьбой напечатать ее во французском периодическом издании, подробно останавливается на своих разномыслиях с возникающей школой. Тема статьи была: «Мнения иностранцев о России». «Вы знаете,— пишет он,— что я не разделяю взглядов автора и мне приятнее было бы опровергать его мысль, нежели передать ее с величайшей тщательностью, как я это сделал». Его побуждает к этому желание подвергнуть эту мысль оценке европейских писателей. «Я думаю,— пишет он,— что прогресс еще не возможен у нас без апелляции к суду Европы. Не то чтобы в нашем собственном существе не крылись задатки всяческого развития, но несомненно, что почин в нашем движении все еще принадлежит иностранным идеям и, прибавлю, принадлежал им и искони: странное явление, быть может, не имеющее примера в истории народов» 25.
В доказательство своего положения, что русская культура всегда была заимствованной, Чаадаев останавливается на вопросе о влиянии на нее Византии. Этого вопроса он не касался в своих «Письмах по философии истории»; теперь он развивает свою мысль с желательной подробностью... «Вся наша умственность», пишет он, «есть, очевидно, плод религиозного начала, а это начало не принадлежит ни одному народу, в частности; оно, стало быть, постороннее нам, как и всем остальным народам мира; но оно всюду подвергалось влиянию национальных или местных условий, тогда как у нас христианская идея осталась такой же, какою она была привезена к нам из Византии,— важное обстоятельство, которое характеризует своеобразную природу нашей народности. Под действием этой единой идеи развилось наше общество; к той минуте, когда явился со своим преобразованием Петр Великий, это развитие достигло своего апогея. Но то не было собственно социальное развитие, то был интимный факт, дело личной совести и семейного уклада,
25 Т. П, с. 257 и 258.
т.е. нечто такое, что неминуемо должно было исчезнуть по мере политического роста страны. Естественно, что весь этот домашний строй, примененный к государству, распался тотчас, как только могучая рука кинула нас на поприще всемирного прогресса... Мы с охотой приняли реформы Петра... Эта податливость чужим внушениям, эта готовность подчиняться идеям, навязанным извне, все равно чужеземцами или нашими собственными господами, является, следовательно, существенной чертой нашего права,— врожденной или приобретенной,— это безразлично».
Чаадаев останавливается далее на развитии той мысли, что византийское христианство страдало цезарепапизмом, что церковь не имела на православном Востоке той независимости, какой она пользовалась на Западе. «Император Византии скоро,— пишет он,— сосредоточил в своих руках высшую власть духовную так же, как и светскую, а это имело своим последствием и то, что духовная власть в древнерусском обществе далеко не пользовалась всей полнотой своих естественных прав. Мы получили, следовательно, от Византии вместе с полнотою христианской догмы и ее первоначальною чистотой и другое наследие, а именно, церковь, покорную материальной власти, домогающейся стать как бы христианским калифатом. Чистота догмы, без сомненья, неоценимое благо», рассуждает Чаадаев, «и она должна утешать нас во всех недостатках нашего духовного строя; но у нас идет речь сейчас только о нашем социальном развитии, и вы согласитесь, что западный религиозный строй гораздо более благоприятствовал такого рода развитию, нежели тот, который выпал на нашу долю. Но в нашем обществе не существовало никакого другого нравственного начала, кроме религиозной идеи, так что наш народ обязан ей своим историческим воспитанием и ей должно быть приписано то, что у нас есть доброго, как и злого». Совершенно правильно судит Чаадаев, что наша готовность подчиняться разнородным влияниям есть неизбежное последствие религиозного строя, лишенного свободы, где нравственная мысль сохранила лишь видимость своего достоинства, где ее чтут только под условием, чтобы она держалась смирно, где она пользуется авторитетом лишь в той мере, в какой он уделяется ей политическою властью. «Мне кажется», пишет Чаадаев, «что этими особенностями византийского христианства, к нам перенесенными, легко объяснить всю нашу историю... В отличие от Запада, где жизнь в своем разнообразном развитии находила покровительство, сочувствие и свободу в христианской церкви, у нас она встречала
лишь монастырскую суровость и рабское подчинение интересам государя. Неудивительно, что мы шли от отречения к отречению. Вся наша социальная эволюция сплошной ряд таких фактов; достаточно указать на колоссальный факт постепенного закрепощения нашего крестьянства. Рабство всюду имело один источник — завоевание; у нас не было ничего подобного; в один прекрасный день, одна часть народа очутилась в рабстве у другой, просто в силу вещей, вследствие настоятельной потребности страны, вследствие непреложного хода общественного развития, без злоупотребления, с одной стороны, и без протеста — с другой. Заметьте, что это вопиющее дело завершилось как раз в эпоху наибольшего могущества церкви, в тот памятный период патриаршества, когда глава церкви делил одну минуту престол с государем. Можно ли ожидать после этого, чтобы при таком беспримерном в истории социальном развитии, где все с самого начала направлено к порабощению личности и мысли народа, мы могли бы свергнуть иго вашей культуры, вашего просвещения и авторитета». И Чаадаев пускается в подробное развитие той мысли, что петровская реформа, навязавшая нам западноевропейскую культуру, не встретила в народе упорного противодействия. «Ничто не мешало стране», рассуждает он, «после смерти Петра вернуться к своим старым учреждениям». Кто мог запретить народному чувству проявиться со всей присущей ему энергией в те два царствования, которые следовали за царствованием преобразователя? Конечно, ни Меншикову, правившему Россией при Екатерине I, ни молодому Петру II, руководимому Долгорукими и поселившемуся в древней столице России, очаге и средоточии всех наших народных предрассудков, никогда не пришло бы в голову воспротивиться реакции, если бы народ вздумал предпринять таковую. За ужасным бироновским гнетом последовало царствование Елизаветы, ознаменовавшееся, как известно, чисто-национальным направлением, мягкостью и славой. Излишне говорить о царствовании Екатерины II, «носившем столь национальный характер, что, может быть, еще никогда ни один народ не отождествлялся до такой степени со своим правительством, как русский народ в эти годы побед и благоденствия». Чаадаев, разумеется, не может закрыть глаза на то, что при Петре были восстания, мятежи стрельцов, заговоры, в которые вовлечен был и наследник, Алексей Петрович, наконец, быстрый рост раскола, среда которого выступает величественная фигура протоиерея Аввакума. Все эти явления, которых он не перечисляет, обнимаются им в следующей крайне неопределенной фразе:
«Слабое сопротивление, встреченное Петром в небольшой части русского народа было лишь вспышкой личного недовольства против него со стороны одной партии, а вовсе не серьезным противодействием проводимой им идее».
Нельзя отказать всему этому экскурсу в цельности взглядов и во внешней убедительности. Начальные посылки совершенно правильны. Церковь не пользовалась у нас тою свободой от государственной власти, какая выпала ей в удел на Западе, и не могла поэтому воспитывать в людях дух независимости. Отсутствие его объясняет слабость народного протеста и при введении у нас крепостного права, и при ломке всех наших старинных нравов и учреждений реформою Петра. Но, не говоря уже о том, что утверждение Чаадаева не считается с такими общеизвестными явлениями, как восстание Стеньки Разина, пугачевщина и быстрый рост того, что мы называем расколом, весьма спорным является и то положение, что рабство будто бы на Западе вызвано было одним завоеванием, и то, что нигде в мире, кроме России, крепостное право не родилось поздно под влиянием причин, частью физического, частью экономического характера. Исследования Ключевского, завершившие ряд других, более ранних, не оставляют сомнения в том, что и в развитии крепостного права внутренние экономические причины, вместе с финансовой политикой, играли решающую роль. Таково было, например, добровольное заложничество, неисправность в платежах свободных поселенцев на помещичьих землях, так называемых «Серебрянников», получавших от хозяев необходимый им живой инвентарь, наконец, забота правительства положить в интересах земельных собственников конец свободному переходу крестьян и в своих собственных интересах закрепить население на занятых им местах путем включения его в перепись. Ошибочно было бы думать, что такие же причины не влияли на рост гражданской несвободы и на Западе. Крепостному праву предшествовал, как известно, колонат, т. е. прикрепление свободных людей не к лицу отдельных собственников, а к почве; задолженные же колоны, как доказывает Фюстель де Куланж, принуждены были заменить барщиной и натуральными повинностями свои прежние земельные взносы ввиду накопившихся недоимок. Наконец, не в одной России мы встречаемся с фактом позднего развития крепостных отношений. То же самое можно сказать и о Германии, в которой процесс закабаления народа к земле окончился в эпоху реформации. Но со всеми этими оговорками схема, предложенная Чаадаевым в объяснение нашей
относительной пассивности в протесте против навязываемых нам порядков, заслуживает быть отмеченной, как сводящая все причины к одной, к воспитанию русского человека византийским христианством, нами унаследованным, в духе смирения и отказа от личной инициативы, от самостоятельного творчества в области социального и государственного строительства.
Чаадаев не отрицает возможности для нас прогрессивного движения в будущем. «Я уверен», пишет он, «что придет время, мы сумеем так понять наше прошлое, чтобы извлекать из него плодотворные выводы для нашего будущего. Мы будем истинно свободны от власти чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь, когда из наших уст помимо нашей воли вырвется признание во всех наших заблуждениях, во всех ошибках нашего прошлого, когда из наших недр исторгнется крик раскаяния, отзвук которого наполнит мир. Тогда мы естественно займем свое место среди народов, которым предназначено действовать не только в качестве дубины, но и в качестве идеи».
Чаадаев не выдает вполне своих сокровенных мыслей и ни словом не упоминает о желательности перехода России в католицизм. Сохранил ли он свои пристрастия к нему или нет, сказать трудно. Объясняя в письме к неизвестному, написанном 15 ноября 1846 года на французском языке, причины своих бедствий, он говорит ему: «Почти с самого момента выхода из отроческого возраста я оказался в полном противоречии с окружающей меня средой. Я любил мою родину», пишет он, «по-своему, и потому мне трудно передать вам, в какой степени мне было тяжело прослыть за неверного русского. Я думал, что Россия, встретившись с обширной цивилизацией, не могла иметь перед собою другой цели, как всяческое ее усвоение. В том исключительном положении, в каком мы оказались, нам было невозможно идти прежнею стезею, так как мы захвачены были во власть новой истории мира, которая мчит нас в сторону всевозможнейших выводов. Быть может, это было ошибкой, но, согласитесь, ошибкою вполне естественной. Как бы то ни было, новые работы, новые изыскания познакомили нас с массой вещей, остававшихся доселе скрытыми. Теперь уже стало совершенно ясно, что мы слишком мало походим на остальной мир, чтобы с успехом подвигаться по одной с ним дороге. Поэтому, если мы действительно сбились с своего естественного прежнего пути, нам прежде всего предстоит разыскать его, но раз этот путь будет найден, то что нам делать? На это укажет нам время». В этих словах трудно не видеть
некоторое отступление Чаадаева от своей заветной мысли обращения России в Запад. Какие причины могли содействовать такой эволюции его мысли? Я полагаю, что одна из них указана верно самим Чаадаевым, это те «новые работы и новые изыскания», которые показали, что прошлое России, России до-петровской, не есть белый лист бумаги, на котором ничего не написано, и что с этим прошлым приходится считаться, так как оно оставило неизгладимые следы.
В письме к Сиркуру, уже мною приведенном ранее, Чаадаев говорит о том, что «огромное число фактов воскрешается из забвения, интереснейшие эпохи нашей истории воссозданы вполне... и все это сделано трудами так называемой им рациональной школы... С другой стороны, воззрение противников, противоположное ей, также принуждает заняться серьезными изысканиями, только в другой области. И, исходя из совершенно иной точки зрения, оно приходит к результатам не менее непредвиденным. Бесстрашие, с которым оба воззрения исследуют свой предмет, делает честь нашему времени и подает добрые надежды на будущее, когда наш язык и ум будут свободнее, когда они уже не будут, как всегда до сих пор, скованы путами лицемерного молчания»26.
Те две школы или два направления, о которых говорит Чаадаев, были, с одной стороны, славянофильство, а с другой — так называемое западничество. Корифеи того и другого направления поднимали те же вопросы, какими интересовался Чаадаев. Славянофилы старались выяснить, каково было в действительности наше прошлое и какие заветы поставлены новой России. Константин Аксаков, как и прочие славянофилы, будучи необыкновенно высокого мнения о нравственных качествах русского народа, доходил в своем восхищении древней Русью до утверждения, что история русского народа есть единственная во всем мире история народа христианского, не только по исповеданию, но и по жизни своей, по крайней мере по стремлению своей жизни27.
Онй не отрицали того, что русский народ — народ-богоносец, добровольно отказался от всякого участия в государственной власти, но, взамен этого, предоставил себе нравственную свободу — свободу жизни и духа. На этих началах, продолжает Аксаков, «и зиждется единственное истинно русское понимание основ нашего государственного уклада». Правительству неограниченная власть
т. п, с. 264.
27 Цитата взята у Венгерова, «Эпоха Белинского», с. 38.
государственная, политическая, народу — полная свобода нравственная, свобода жизни и духа — мысли и слова. Самостоятельно может и должен высказывать безвластный народ полновластному правительству свое мнение, мнение, которое правительство вольно принять или не принять. Но каким образом правительство может вызвать выражение этого мнения? Аксаков полагает, что ответ на это дает история до-петровской Руси. «Древняя Русь указывает нам», пишет он, «и на дело самое, и на способ. Цари наши вызывали в важнейших случаях общественное мнение всей Руси и созывали для того земские соборы, на которых были выборные всех сословий и со всех концов России. Земские соборы, однако, не то, что западноевропейский парламент. Земский собор имеет только значение мнения, которое государство может принять и не принять»28.
Славянофилы не удовольствовались указанием на то, что в древней Руси свобода до некоторой степени существовала; они постарались также установить тот факт, что самодеятельность русского народа сказалась в создании целого мира былин, сказок, песней, религиозных стихов, пословиц, поговорок, из которых выступает его нравственный облик. В очерке, посвященном им Петру Киреевскому, Гершензон справедливо указывает на него, как на начинателя в этой области. «Побывав в Германии и поучившись там не у одного Шеллинга, Киреевский почти всю свою остальную жизнь проводит в деревне и здесь собирает народные песни. В течение 25 лет Петр Киреевский», «с неослабевающей любовью трудился над песнями. Это не был просто этнографический интерес. Киреевский задавался высшей целью доказать самотворчество русского народа, Языков недаром обозвал его в стихах «своенародности подвижник просвещенный». Ядром его мировоззрения,— пишет Гершензоне,— была следующая мысль: правда-истина не может быть одним человеком добыта единолично, она есть продукт коллективной жизни народа. Киреевский делал отсюда целый ряд выводов и между прочим тот, что немощно всякое бытие, отщепленное от общенародной жизни. Петр, пресекший преемственное развитие русского народа, подчинивший русскую церковь светской власти и положивший начало отпадению образованных классов от народа, причинил великий вред России. Со времен Петра Россия поражена тяжким недугом... Только позже, когда в ней не будет никакой другой власти, кроме власти единой соборной церкви, когда в эту церковь сольется весь
28 Ibid., с. 29.
народ образованный и необразованный и когда эта всенародная церковь восстановит вполне утраченное церковно-народное предание, прерванное Петром, только тогда исцелится Россия. Паписты,— пишет он,— верят в непогрешимость папы, протестанты — в непогрешимость общечеловеческого разума, православные — в непогрешимость апостольской соборной церкви» 29. «Соборное начало желательно не только в церкви, но и в государстве,— думал Киреевский,— это выступало в древней Руси в тех советах всей русской земли, которые назывались земскими». Оно удержалось на низах в мирской сходке. Киреевский был в числе немногих в то время ревнителей освобождения крестьян с землей. Они должны были получить половину того, чем владели, и, по-видимому, без выкупа Киреевский в то же время желал сохранить за крестьянами их веками созданную мирскую сходку. В письме к Кошелеву он говорит: «Где мирская сходка еще существует, как обломок древних тысячелетних привычек народа, там она, конечно, имеет существенную важность, и совестливый помещик должен беречь и хранить ее, как основу будущей законности»30.
Славянофилы не ограничились указанием на то, что в древней Руси существовала соборность в церкви и соборность в государстве, черты которой желательно сохранить и в наши дни. Они настаивали также на том, что древняя Русь завещала нам определенный политический и социальный уклад в вече, земельной общине и в артели. Пользуясь работами Сергиевича, последние по времени славянофилы не прочь были присоединить народное собрание, выбирающее князя и вступающее с ним в договор, к числу завещанных нашим прошлым политических начал, а сельскую общину с ее мирским владением — к числу своеобразных основ нашего народного быта. Национальными отличительными чертами народной жизни на Руси Коялович, например, считает общину, вече и самодержавие в соединении с земскими соборами. Отправляясь от начала соборности, Афанасий Васильев приходит к заключению о необходимости сохранить мирскую общину. «Начало соборности,— читаем мы в его письме,— в области земельных отношений нашло себе выражение в общине, в мирском владении землей и высоко-человечном и справедливом, поистине христианском взгляде русского народа на землю, как на Божье и Царево достояние, т.е. как на общенародную или,
29 Образы прошлого, с. 124 и 125.
30 Ibid., с. 134 и 135.
что то же, государственную собственность, которая лишь настолько и до тех пор может быть в обладании частного лица, поскольку ее владелец может управляться с нею силами своей семьи и для своих семейных нужд — не барышничая землей и не обездоливая других... С установлением общественного землеобрабатывания», полагает он, «устранились бы все теперешние неудобства крестьянского землепользования одинаково и при общинном и при подворном владении». После произнесения этой речи Васильев должен был сложить с себя полномочия председателя «русского собрания» и выйти из числа его членов.
Васильев дал только окончательный и возможно полный вывод тем положениям, которые на счет общины высказывали старые славянофилы, в том числе Кошелев, от которого идет предание о Кавуре, якобы заявившем, что «Россия покорит мир своими мирскими порядками землевладения». Что касается до западников, то они в значительной степени примыкают к тому направлению, какое Чаадаев выразил в своих «Письмах по философии истории». «Славянофилы как бы дают ответ на высказанное им недоумение насчет того, оставила ли древняя Русь за собою какие-либо положительные создания». Белинский, сделавшийся со временем главою западников, часто возвращается в своих статьях к вопросу о значении у нас петровской реформы и во многом повторяет мысли, ранее высказанные Чаадаевым. «Петр Великий,— писал он,— есть величайшее явление не нашей только истории, но и истории все-человечества. Он — божество, вызвавшее нас к жизни, вдунувшее в нас душу живую, в колоссальном, но подвергнутом смертельной дремоте теле России»31. «Неужели же русский народ до Петра Великого не имел чести существовать по-человечески? — вопиет господин Шевырев.— Если человеческое существование народа заключается в жизни ума, науки, искусства, цивилизации, общественности, гуманности в нравах и обычгях, существование это для России начинается с Петра Великого, смело и утвердительно отвечаем мы господину Шевыреву... Петр дал России свет, сделал русских людьми»32. «До Петра русская история вся заключалась в одном стремлении к соглашению разъединенных частей страны и сосредоточению ее вокруг Москвы»33.
31 Сочинения Белинского, т. IV, с. 313.
32 Ibid., т. VII, с. 413.
33 Ibid., с. 105.
Трудно во всех этих заявлениях найти много нового после того, что уже было написано Чаадаевым. Один Герцен, оставаясь западником, в то же время сумел оценить и то, что в славянофильстве было положительного, подчеркивая в особенности его сочувственное отношение к сельской общине и к артели. В напечатанных мною письмах его к Кине, знаменитому историку французской революции, особенно наглядно выступает эта сторона его мировоззрения. В своих недавних этюдах о нем, озаглавленных «Герцен и Запад», г. Гершензон, в свою очередь, останавливается на этой переписке. «Когда в 1865 году,— пишет он,— вышла знаменитая книга Кине “О революции”, Герцен написал ему письмо, которое затем сам напечатал в “Колоколе”... В этом письме он считает своим долгом сказать Кине, что для того, чтобы выйти из разваливающегося здания старой Европы, надо перешагнуть через завещанную нам Римом идею частной собственности, а на это способна одна, одна только юная Россия с своим общинным строем34. Не много лет до своей смерти Герцен таким образом высказал ту самую точку зрения, которая проглядывает у него в “Былое и думы” и в “Письмах из Италии и Франции” при критике поведения западноевропейских революционеров. Неуспех затеянного ими переворота Герцен прежде всего объясняет тем, что они удовольствовались только политической задачей, оставляя в стороне социальную. В 1850 году, как полагает Гершензон, Герцен впервые высказывает мысль, что русская сельская община ключ к решению социального вопроса. Эту мысль он развивает затем в письме к Мишле и повторяет ее в течение 20 лет вслух перед всей Европой»35.
34 «Образы прошлого», стр. 252.
35 Ibid., стр. 190.
БОРЬБА НЕМЕЦКОГО ВЛИЯНИЯ С ФРАНЦУЗСКИМ В КОНЦЕ XVIII И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX СТОЛЕТИЯ *
О немецком влиянии в первые годы царствования Александра I едва ли приходится говорить. Победоносная Франция приковывала в это время к себе если не симпатии, то интерес всего мира. Ученик Лагарпа, император рано подвергся влиянию освободительных идей, шедших от Франции Вольтера, Руссо и Дидерота. При дворе его бабки, хотя и Ангальтской принцессы, всесильны были французские литературные влияния и сама императрица комментировала или, точнее, переносила в свой наказ мысли, вычитанные ею в «Духе законов» Монтескье. Г. Гомон, автор книги о французском влиянии в России, справедливо указывает на то, что Франция в первую четверть XIX века поставляла России и вольнодумцев и мистиков, в числе их Сен-Мартена, и таких католиков-легитимистов, какими были эмигрировавшие из Франции сторонники Бурбонов. Напомним хорошо известный факт присутствия в числе их и знаменитого уполномоченного Пьемонта Жозефа де Местра, не перестававшего сетовать на то, что русское общество увлекается пагубными книгами — livres pernicienx,— среди которых, разумеется, первое место отводится им Вольтеру, Руссо и Энциклопедистам. Этой французской литературой зачитывались и русские реформаторы. В своих проектах нового русского государственного строя Сперанский, несомненно, следует образцу французских имперских учреждений, придавая, например, государственному совету то же значение, ту же роль подготовителя законопроектов и верховного административного суда, какая признана была за возрожденным Наполеоном и во многом уклонившимся от старого типа «Королевским советом». Сперанский,
* Печатается по: Вестник Европы. 1915. Октябрь. С. 123-163.
разумеется, не ограничился одними заимствованиями из Франции, и федералистический характер, какой носит его конституция, отражает на себе американский образец, ту конституцию 1787 года, которая с немногими изменениями продолжает держаться и по настоящий день. Мордвинов, со своими аристократическими симпатиями, тянул, наоборот, более в сторону Англии. Отсюда — в отличие от Сперанского — предлагаемая им двухпалатная система, отсюда же — мысль о том, чтобы усилить представительство зажиточного класса в нижней палате отказом депутатам в каком-либо вознаграждении за их труд. «Конституционные течения,— пишет В. И. Семевский,— проявились при Александре I в обществе, литературе и науке, причем большую роль сыграла западно-европейская печать. В 1806 году издан был по повелению государя перевод вышедшего в 1771 году французского сочинения швейцарца Делольма об английской конституции, а в 1805-1811 годов появились в русской передаче сочинения Бентама-Дюмона в трех томах. Перевод книги Монтескье: “О духе законов”, напечатанный еще при Екатерине II, издан был вновь в 1801 году, а новый перевод стал появляться между 1808 и 1814 годами». «Книги эти,— пишет Семевский,— проникали в самые глухие провинциальные города; так, в середине 1810-х годов в одном уездном городе Воронежской губернии, у многих жителей, в том числе купцов и мещан, имелись коллекции книг серьезного содержания, как-то: Монтескье, Делольма, Беккарии и др.» Т Все эти книги переведены были с французского, в числе их, и сочинения англичанина Бентама, изданная им в сотрудничестве с швейцарцем Дюмоном. Да и кого из всей немецкой политической литературы можно было поставить рядом с только что упомянутыми всемирными авторитетами!
И наиболее передовая часть общества — члены масонских лож, будущие декабристы,— питали свою мысль, главным образом, французскими книгами, да еще, пожалуй, английскими, подчас, в немецкой передаче. Так, Н.И. Тургенев увлекался Адамом Смитом; ознакомился же он впервые с его мыслями в той передаче, какую давал им в Геттингене профессор Сарториус. Большинство наиболее видных декабристов или побывали сами во Франции, или, живя в России, читали французские книги. М. А. Бестужев сам свидетельствует, пишет тот же Семевский, о сильном влиянии западноевропейских наблюдений на морских офицеров. В 1817 году он
1 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов, с. 66.
был во Франции и, там познакомившись со многими французскими моряками и англичанами-путешественниками, «заимствовал» у них начало свободных мыслей. Волконский в бытность свою в Париже в 1813 и 1814 годах посещал салон г-жи Сталь, встречал в нем либерального публициста Бенжамена Констана, сочинения которого оказали затем немалое влияние на декабристов. Лунин в 1816 году познакомился в Париже с Сен-Симоном, который предостерегал его от увлечения политикой, утверждая, что будущность всего человечества зависит от совокупного действия трех двигателей,— чувства, науки и промышленности2.
Чтение, разумеется, произвело на декабристов еще большее влияние в смысле выработки их социальных и политических воззрений, чем пребывание за границей в рядах русской армии, призванной сломить владычество Наполеона. Еще семнадцатилетним юношей Н. Тургенев зачитывается Вольтером и знакомится с сочинениями Мабли. Будучи слушателем Геттингенского университета, он читает не только Адама Смита, но и аббата Галиани и англичанина Джемса Стюарта, после чего он, по собственным словам, прекращает чтение Жан Батиста Сэя, убедившись, что «мало пользы в его книге». В 1816 году, уже состоя в близком общении с известным Штейном, министром-реформатором Пруссии, он увлекается Делольмом и отмечает в своем дневнике: «Политические писатели (его времени) либеральнее наших. По каким-то странным и бедственным обстоятельствам многие находят теперь опасными, злыми и ложными правилами те, кои за пятьдесят лет почитались единственно справедливыми и ведущими к счастью народов»3. Тот же Тургенев читает сочинение Бенжамэн Констана «о выборах», находит в нем много хорошего и справедливого и восстает в то же время против допущения им необходимости имущественного ценза. В 1820 году Тургенев отмечает в дневнике, что чтение Бональда, известного клерикала и реакционера, навело его на либеральные мысли. «Глупость глупцов,— пишет он,— или ум, во тьме находящийся, часто лучше всего доказывает истину. Давно я не читал ничего более убедительного в пользу либеральных идей». В круг его чтений вошел также комментарий на «Дух законов», написанный Дэтю де Траси. Последний вообще имел большой успех у декабристов и не мало повлиял, как мы сейчас увидим, на политические воззрения автора «Русской Правды», декабриста Пестеля.
2 Ibid., 201-206.
з Ibid., 211.
Тургенева пленяет мысль Дэтю о том, что главный и единственный способ дать нравственность народу — постановления государственные. Во французских комментариях на итальянца Филанджиери, написанных Бенжаменом-Констаном, их ревностный читатель, по собственному сознанию, нашел здравые и справедливые мысли о множестве вопросов из обширной области политики, между прочим, доказательства необходимости конституционного строя. И другой декабрист С.М. Семенов, интересуясь немецкими философами, в то же время глубоко изучал французских энциклопедистов XVIII века. А.Н. Муравьев, в своем показании следственной комиссии, говорит буквально, что «вольнодумство возникло в нем со времени пребывания в чужих краях от духа времени тогдашнего (1813-1814 гг.); оттого начал он читать разные политические книги, как-то: Макиавелли, Монтескье, “Общественный договор” Руссо и прочие, тому подобные». Рылеев, в свою очередь, изучал «Дух законов», конституции, как европейские, так и американские. «Свободомыслием первоначально заразился,— говорит он в своем показании,— в походах во Францию в 1814-1815 годах. Потом оное постепенно возрастало во мне от чтения разных современных публицистов, каковы: Биньон (автор книги: “Кабинеты и народы”) Бенжамен-Констан и др.». «Первая книга, развернувшая в Н. А. Бестужев желание конституции в России, по его собственному признанию, было французское сочинение Дедольма о конституции в Англии». Другой Бестужев, известный под псевдонимом Марлинского, «свободный образ мыслей заимствовал из книг наиболее и, восходя постепенно от мнения к другому, пристрастился к чтению публицистов французских и английских» (в том числе Бентама). Барон Штейнгель в одном из своих показаний говорит: «Теперь трудно упомнить, какое сочинение наиболее способствовало развитию моих либеральных понятий. Читал Вольтера, Руссо, Гельвеция». Батеньков в своих показаниях настаивал на той мысли, что чтения г-жи Сталь о французской революции заставили его проникнуться уважением к английской конституции и совершенной ненавистью к французской от 1791 года. Это и обратило его в защитника двухпалатной системы и родовой аристократии, как основы верхней палаты. М. А. Фонвизин «приобрел, как он говорит, свободный образ мыслей еще в семнадцатилетнем возрасте из прилежного чтения Монтескье, Рейналя, Руссо».
Опуская ряд других, остановлюсь на примере молодого мичмана Дивова, который воспитал себя в «либеральном духе» на чтёнии Делольма, Рейналя («Философская и политическая история обеих
Индий»), а также «Путешествия в Америку Лафайета». Что касается до Пестеля, то он был одним из самых начитанных. В его записной книжке можно встретить выписки из Вольтера, Дидро, Кондильяка, Гельвеция, Руссо, Гольбаха, Беккарии, Бентама, г-жи Сталь, Сисмонди; наиболее же сильное влияние на его политические взгляды оказал Дэтю де Траси. Сам Пестель рекомендует Лореро при первом свидании в 1824 году читать Беккариа, Филанджиери, Вольтера и Гельвеция, Сэя и Адама Смита. Тех же писателей изучал и декабрист Крюков, и Поджио, и Н. Бобрищев-Пушкин. Оба последние упоминают также о Гольбахе и Вателе («Право народов или начала естественного права»), а князь Ф. Шаховской берет с собою в крепость и произведения Роберта Оуэна.
Подводя итог всему сказанному, Семевский справедливо говорит, что «из писателей, у которых наши декабристы могли почерпнуть сведения по государственному праву, чаще других они называют Монтескье, Филанджиери, Руссо, Делольма, Бентама, Бенжамена Констана и Дэтю де Траси» 4.
Кто желал бы познакомиться с воздействием этих французских идей на те проекты конституций и те более или менее незаконченные политические статьи и трактаты, которые вышли из рук некоторых декабристов — Никиты Муравьева и Пестеля, тот найдет обильную для себя пищу в интересном разборе, данном В. И. Семевским в его книге «Об общественных и политических идеях декабристов», этих провозвестниках русского либерализма. Чтобы дать только пример той зависимости, в какую Пестель попал к французским конституционным теоретикам, я приведу лишь один факт. В проекте конституции, написанном им в 1820 году, Пестель, опираясь на пример Америки, высказался за учреждение в России областных представительных собраний. Позднее он изменил свой взгляд на федерацию под влиянием сочинения Дэтю де Траси. Повторяя мысль Монтескье и Руссо, последний рекомендует мелким и слабым государствам образовывать союзы и в то же время признает, что только единая и нераздельная Франция способна была противостоять всей Европе. В полном соответствии с таким указанием Пестель признал, что «Россия должна быть единым и нераздельным целым, отвергающим всякое федеративное образование, устройство и существование государства» 5. Это положение он защищает в своей «Русской Правде»
* Ibid., S. 205-229.
s Ibid., S. 515.
следующим соображением: «Что касается России, то дабы в полной мере удостовериться, до какой степени федеративное образование государства было бы для нее пагубно, стоит только вспомнить, из каких разнородных частей сие огромное государство составлено. Области его не только различными учреждениями управляются, не только различными гражданскими законами судятся, но совсем “различными языками” говорят, совсем различные веры исповедуют, жители оных различные происхождения имеют, к различным державам некогда принадлежали; и потому, ежели сию разнородность еще более усилить чрез федеративное образование государства, то легко предвидеть можно, что сии разнородные области скоро от коренной России тогда отложатся, и она скоро потеряет тогда не только свое могущество, величие и силу, но даже, может быть, и бытие свое между большими или главными государствами».
Я не стану долее настаивать на том несомненном факте, что передовая политическая мысль России подчинялась влиянию французской и английской, но отнюдь не немецкой публицистики. Ни на одно немецкое сочинение нет ссылок ни в показаниях декабристов, ни в их литературных опытах. Да и какие бы это были сочинения? Пуффендорф и Вольф устарели. «Метафизические основоположения правоведения» Канта были слишком отвлеченно написаны и заключали в себе в конце концов одно философское обоснование мыслей, высказанных Руссо. Позднейшие немецкие философы, начиная с Фихте и оканчивая Гегелем, вопросов конституционного устройства в своих книгах, даже посвященных энциклопедии права, не затрагивали. Да и в немецких университетах, как мы сейчас увидим, посещаемых уже в это время избранной, немногочисленной русской молодежью, в области экономических и политических наук пропове-дывались английские и французские теории. Немудрено, если в таких условиях французское влияние продолжало быть господствующим не только в области мод и изящной литературы, но и в области руководящих политических и общественных воззрений.
Разумеется, что 1812 год вызвал некоторую остановку в этом мирном завоевании России французскими идеями, не теми, которые обусловили собою освободительное движение 1789-го и следующих годов и отвергнуты были в виду их демократического характера и «излишеств свободы» современниками Екатерины, а теми, которые под именем наполеоновских удержали только часть наследия революции, воскрешая в то же время многие руководящие начала старой Франции.
Где же, спрашивается, искать первых очагов быстро возросшего во второй половине царствования Александра I и в правление Николая Павловича немецкого влияния? — Я полагаю, что рядом с масонскими ложами, продолжавшими традицию Екатерининской эпохи и свою зависимость от Германии, ближайший импульс к распространению в русском обществе прежде всего немецкой философии, а затем и созданной Шиллером и Гете новой немецкой литературы, дали университеты, как в самой Германии, куда со времен Екатерины и Павла только и посылаемы были для усовершенствования в науках русские студенты, так и в России, где, как увидим, сам Московский университет преобразован был по образцу Тюбингенского и где в университетах оказалось немало профессоров, ранее преподававших в Германии или получивших в ней научную подготовку. Я не буду останавливаться на роли масонства, так обстоятельно изученной В. И. Семевским и в ряде статей, отпечатанных им в журнале «Минувшие Годы», и в его книге «Политические и общественные идеи декабристов». Чтобы доказать зависимость их от Германии, достаточно сослаться на упомянутый мною в другом месте факт широкого распространения немецкого языка в самом ходе масонских работ. Напомню приводимые Семевским цифры. Как в союзе «Астрея», так и в союзе «Великой провинциальной ложи», не малое число лож работало или на одном немецком языке, или на русском и немецком. Число первых равнялось 10-ти,— 8 в «Астрее», 2 — в «Союзе великой провинциальной ложи»6.
Перехожу к роли немецких университетов. Они сделались весьма рано одним из деятельных проводников немецкого влияния, в частности университеты Лейпцигский и Тюбингенский, а в более позднее время Берлинский. Екатерина И, еще в 1766 году, послала в Лейпцигский университет 12 молодых людей. Из них половина были пажами; и к числу их принадлежал впоследствии А. Н. Радищев, которому едва исполнилось 17 лет. На каждого питомца отпущено было 800 руб. в год, и ко всем приставлен, в качестве ментора, гофмейстер Бокум. В числе товарищей Радищева были Ушаков и Кутузов.
Первый прославлен бил автором «Путешествия из Петербурга в Москву» — в своем особом «Житии Ушакова». Что касается до Кутузова, то он долгое время был уполномоченным русских масонов в Берлине, приобрел известность переводом на русский
6 Минувшие годы. 1908. Кн. 3. С. 128.
язык «Мессиады» Клопштока и «Размышлений» Юнга. Сам Радищев, вскоре по возвращении из-за границы, занялся переводом известного сочинения Монтескье «О величии и упадке римлян». Сын его в своих воспоминаниях, отпечатанных в «Русском Вестнике» в 1858 году, говорит об отце, «что он вернулся юрисконсультом, литератором, медиком и химиком из своей заграничной командировки». Александр Николаевич, как видно из его сочинений, был одним из образованнейших людей своего времени, но его начитанность была не исключительно немецкая. Он был поклонником и последователем знаменитого Гельвеция, книга которого «О Разуме» вышла в Париже в 1758 году. Даже беглое знакомство с его знаменитым «Путешествием», за которое он присужден был к смертной казни, свидетельствует о том, что, разделяя общее увлечение своего времени французской литературой, он воспитал свою мысль на сочинениях тех самых писателей, которые оказали немалое влияние на Екатерину II, начиная с Монтескье, переводчиком которого он был, и кончая Вольтером и французскими материалистами с Гельвецием во главе. Сама императрица в своих замечаниях на книгу Радищева пишет: «Намерение сей книги на каждом листе видно, сочинитель оной исполнен и заражен французским заблуждением... Знания имеет довольно и много книг читал». Удивительно, что Екатерина заподозрила Радищева в мартинизме, так резко расходившемся во взглядах с направлением французских материалистов, которых придерживался автор «Путешествия». Императрица пишет о нем: «Он же едва ли не мартиниста, или что подобное». Это обвинение подало повод Шишковскому поставить Радищеву во время следствия вопрос: «Не был ли он приглашен в общество мартинистов» — на это последовал ответ: «Мартинистом он не только никогда не был, но и мнения их осуждает».— В подтверждение Радищев сослался на некоторые места в своей книге, из которых видно отрицательное отношение автора «Путешествия» к учениям мартинистов. Пробегая самую книгу Радищева, встречаем в ней нередко ссылки на французских писателей и ни одной на немецких. Самое содержание книги не таково, чтобы предполагать частые заимствования из иностранных авторов. Мы только косвенно узнаем о том, кого Радищев считал духовными вождями человечества. Так, рассказывая о своей встрече с одним новгородским семинаристом, ушедшим искать просвещения вне стен семинарии, Радищев влагает ему в уста жалобу на то, что Аристотель плут
и схоластик7, доныне царствуют в семинариях. Тот же семинарист прибавляет: «Как не потужить, что у нас нет училищ, где бы науки преподавались на языке народном. Учение всем бы было внятнее, просвещение доходило бы до всех поспешнее... Нашлось бы двести человек просвещенных... В каждом суде был бы хотя бы один член, понимающий, что есть юриспруденция или законоучение». «Боже мой,— продолжал он,— если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судов наших о делах! Что бы сказали Гроций, Монтескье, Блекстон. Не худо бы было заставлять судей наших иметь сию (последнюю книгу) вместо святцев, заставлять их чаще в нее заглядывать, нежели в календарь». Таким образом, Радищев устами выведенного им семинариста указывает, какие книги он считал бы настольными для судьи. Это — голландец Гуго де Грот, француз Монтескье, англичанин Блекстон. Ни об одном немецком авторитете ни слова. Все три книги уже были переведены на русский язык; из Блекстона только первые две части. Сам Радищев пускается по поводу своей встречи в следующее рассуждение: «Оглянись назад, кажется, еще время-то за плечами близко, в которое царствовало суеверие и весь его причет: невежество, рабство, инквизиции, и многое кое-что. Давно ли то было, как Вольтер кричал против суеверия до безголосицы». Пристрастие Радищева к английскому языку и к литературе выступает и в том поучении, какое дает взрослым детям перед разлукой выводимый им крестицкий дворянин. В его уста вложены собственные мысли Радищева о воспитании; он говорит между прочим: «Английской язык, а потом Латинской, я вам известнее сделаю других, ибо упругость духа вольности, переходы в изображении речи приучат и разум к твердым понятиям, во всяких направлениях нужным» 8.— Мы узнаем и о литературных пристрастиях Радищева из следующего перечисления им книг, которые читаны будут «доколе не истребится род человеческий». Таковыми он считает: Омира (Гомера), Виргилия, Мильтона, Расина, Вольтера, Шекспира, Тассо. Опять-таки на одного немецкого писателя. Да и немудрено, если вспомнить, что время, к которому относятся годы ученичества и годы продолжительных чтений Радищева, в Германии предшествовало появлению Лессинга, и среди тогдашних знаменитостей, разумеется, не Годшедт и не Бодмер, а один только Клопшток, переведенный
7 Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 1868, с. 111.
s Ibid. S. 148.
другом Радищева, Кутузовым, пользовался и заграничной известностью. В одном только месте «Путешествия» я встретил упоминание о немецком беллетристическом произведении: «Слезы мои,— пишет Радищев,— были для меня столь же сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером»9.— В слове о Ломоносове попадается другое немецкое имя, имя знаменитого Вольфа, которого Ломоносов сделался учеником; но в тут же помещенном перечне великих ораторов опять-таки встречаются только английские и французские имена: Пит, Бурк, Фокс, Мирабо,— Заходит речь о Ломоносове, как историке (Радищев употребляет выражение «дееписатели»), и Радищев снова приводит, как недосягаемые величины, рядом с Тацитом, француза Рейналя и англичанина Робертсона. Упоминание о Баконе Веруламском и о Франклине в той же характеристике Ломоносова, в свою очередь, свидетельствует о том, что свои авторитеты Радищев охотно брал из английской, далеко не из немецкой литературы10.
На примере Радищева нам немудрено было убедиться в том, что, несмотря на пребывание в немецком университете, русские люди возвращались на родину проникнутыми не одной немецкой, но и французской и английской культурой, последователями той просветительной философии, какая из Англии стала проникать во Францию ко времени появления «философских писем» Вольтера и выступила в полном расцвете к эпохе выхода в свет знаменитой «Энциклопедии» Даламбера и Дидро, «Духа законов» Монтескье, первых «Рассуждений» Руссо и его знаменитого «Эмиля». Влияние всех этих писателей заметно на Радищеве, у он не уклонился от истины, когда, отвечая на предъявленное ему обвинение в том, что он заражен (так, по крайней мере, выразилась Екатерина) французским заблуждением т. е. революционной доктриной, он ответил: «Францию ж в пример не брал... ибо сие писал он прежде, нежели во Франции было возмущение».
Немецкие университеты,— как еще в большей степени, чем Лейпцигский, доказывает пример Геттингенского,— были очагами не одной немецкой, но мировой науки и литературы. Эту мысль весьма подчеркивает в своей немецкой книге и в своих позднее вышедших русских журнальных статьях господин М. Вишницер, работавший, между прочим, в нашей Академии Наук над материалом
’ Ibid. 222.
ю Ibid. 253-255.
переданного ей Тургеневского архива. Указав на присутствие русских студентов с первой половины XVIII века в Лейпциге, Страсбурге, Геттингене, в Гейдельберге и Галлэ, автор говорит: «Особое значение имел Геттингенский университет в конце XVIII и в начале XIX века. Выдающиеся ученые этого университета, привлекавшего, по словам русского студента фон Фрейганга, иностранцев так же сильно, как королевский замок, в Версале... космополитический и чуждый всяких узких местных влияний, характер университета... вот главные моменты, которые мы должны иметь в виду при выяснении вопроса, почему мы встречаем столько русских имен в университетских списках конца XVIII и начала XIX века» п.
В 70-х и 80-х годах XVIII столетия Геттингенский университет становится одним из первых в мире. Он считает в среде своих профессоров известных химиков, математиков, физиков; но особенно блестяще поставлен в нем отдел юридических и политических наук. Русский студент этого университета А. Я. Поленов пишет о нем: «Геттингенский университет может почитаться первым относительно юридических наук. Юристы со всех стран приезжают сюда, для своего образования и усовершенствования. Если в середине столетия из русских едут в Геттинген преимущественно медики и естественники, то во второй половине века его посещают юристы и историки». А. Я. Поленов приехал в Геттинген в 1766 году, по окончании юридического образования в Страсбурге. Он слушает лекции по ленному праву, интересуясь положением крестьянства на Западе и характером их землевладения. Вернувшись в Петербург в следующем году, он уже представляет «Вольному экономическому обществу» рассуждение на заданную им тему: «Что полезнее для государства, чтобы крестьянин имел в собственность землю или только движимое имение, и сколь далеко на то или другое его право простирается?» Поленов только потому не получил высшей награды, что позволил себе резкую критику крепостного права11 12. С целью привлечь возможно большее число русских, университет иногда приглашал на кафедру немецких ученых из России, в числе их известного Шлецера, автора книги «О летописи Нестора». Экономист Иоганн Бекман, прежде чем сделаться профессором в Геттингене, состоял преподавателем в Петровском училище в Петербурге. Екатерина II одно время думала
11 «Минувшие годы», апрель 1908 г., с. 186.
12 См.: Семевский В. Крестьянский вопрос в России в 18-м и первой половине 19-го столетия, 1888 г.Т. I, с. 81.
пригласить в члены комиссии по составлению «Наказа» некоторых геттингенских юристов и историков, в числе их статистика Ахенваля и известного знатока истории немецкого государственного права Пюттера. Настроение профессоров было благоприятно французскому освободительному движению и проводимым во Франции принципам свободы и равенства. Максим Невзоров, посланный на средства масонских лож обучаться в Лейдене и приехавший для завершения образования в Геттинген, встретил в профессоре и поэте Бюргере, бывшем в то время великим мастером Геттингенской ложи, человека, сочувственно относившегося к идее равенства. Выражая свое удовольствие по поводу того, что он отклонил предложение вступить в среду геттингенских братьев, Невзоров, впоследствии ставший реакционером, пишет в своей автобиографии: «Славные немецкие университеты, как, например, Берлинский, Гальский, Лейпцигский, Венский, Йенский и всего более Геттингенский, сие молодое, но слишком далее других в новом безумии забежавшее дитя Германии, были первейшими орудиями, рассадниками, распространителями всякого разврата и безбожия и последовавшего от того после... несчастия своего отечества»13.
Прилив русских в немецкие университеты, и в частности в Геттинген, приостановлен был указом Павла Петровича, от 9 апреля 1798 года, запрещавшим его подданным посещать иностранные университеты «по причине возникших ныне в них зловредных правил к воспалению незрелых умов на необузданные и развратные умствования подстрекающих».
С воцарением Александра Павловича, указ этот был отменен. Русская молодежь снова отправилась в немецкие университеты; в числе их Геттингенский снова стал привлекать учащихся из России. Профессора из Геттингена охотно были приглашаемы в Первопрестольную. Даже курс по русской истории читал в Москве бывший геттингенский философ Булэ. Сочинение геттингенского профессора Шлецера — «Летописец Нестор» в 1804 году вышло на русском языке14.
Отвечая своему космополитическому направлению, Геттингенский университет, в котором в 1801 году на 701 слуша
13 Отрывок из послания Невзорова к Поздееву. Библиографические записки 1858 года, № 24. Цитата заимствована мною из статьи господина Вишницера о геттин-1 генских годах Н.И. Тургенева, «Минувшие годы» 1908 г., апрель, с. 191.
14 Ibid., с. 188 -193.
теля приходилось 456 иностранцев, старался избегать в преподавании всякого рода националистических пристрастий. Связь Ганноверского курфюршества с Англией, в лице одного и того же правителя, во многом объясняет причину, по которой Геттингенский университет, расположенный в курфюршестве, сделался проводником не одной немецкой, но и английской науки. В своей книге об этом университете в 1802 году, его воспитанник, Эрнест Брандес, останавливается на той мысли, что необходимо, как он говорит, «большому числу студентов, которым в будущем придется занимать ответственные должности в разных государствах, знакомиться с чужими нравами и взглядами, дабы в них мог пробудиться либеральный всечеловеческий дух». Ввиду этого некоторые профессора, в том числе Герен, в своих курсах, знакомили слушателей с политическими, общественными и административными учреждениями Англии, Франции, России и Соединенных Штатов, а Сарториус своей аудитории излагал учение Адама Смита «О богатстве народов».
В числе слушателей Геттингенского университета мы встречаем таких впоследствии известных людей, как: А. И. Михайловский-Данилевский, Николай Тургенев и Кайсаров, написавший диссертацию об освобождении крестьян на латинском языке и разобравший в ней записку лифляндского помещика Унгерна-Штернберга, по мнению которого рабство коренится в человеческой природе и отвечает принципам разума. Диссертация Кайсарова публично защищалась им в Геттингене в 1804 году. Николай Тургенев, как и Михайловский-Данилевский, особенно интересовался экономическими науками. В семинариях Сарториуса Данилевский читал рефераты по финансовому праву, которые проникнуты были взглядами Адама Смита, и впоследствии он, руководя выбором чтений одного из участников заговора декабристов А. фон Бриггена, направил его на изучение «Духа законов» Монтескье и «Богатства народов» Смита. В число студентов в Геттингене попало несколько слушателей педагогического института в Петербурге. Среди них мы находим Кайданова, посланного для занятия историей, географией и статистикой, будущего философа Галича, шеллингианца по направлению, и Куницына. Последний по возвращении из командировки занял кафедру естественного права в преобразованном впоследствии в университете педагогическом институте. Куницын в 1818 году выпустил в свет свои переработанные лекции под заглавием «Естественное право». В нем он придерживался взглядов
Руссо и Канта и поплатился за свою смелость отставкой, данной ему в марте 1821 года.
В числе слушателей Геттингенского университета, как я уже сказал, мы находим и Николая Ивановича Тургенева, будущего декабриста и автора хорошо известных книг: «Опыт о налогах» и «Россия и русские». Еще в Москве до своей поездки Николай Иванович, получивший образование в Московском благородном пансионе, открытом в 1789 году при университете, занимался экономическими и политическими науками. В 1807 году он посещает в университете лекции Рейнгарда по истории философии, Гайма по статистике и Цветаева по теории права. Два последних учились ранее в Геттингене, Цветаев кроме того посетил Париж в 1804 году, занимался там правоведением под руководством в числе других известного Пасторэ и таким образом имел возможность получить весьма широкую и разностороннюю подготовку. Сам Николай Иванович едет в Геттинген не один, а в обществе со студентом Куницыным, будущим профессором. В Геттингене Николай Иванович мало занимается философией, сосредоточивает свое внимание на лекциях Герена и Сарториуса и читает труды Адама Смита, Гарнье и Герена о «торговом обмене у народов древнего мира». Он занят также переводом книги своего учителя Сарториуса «О народном богатстве», которое в значительной мере было простой передачей взглядов Смита. «Смит,— заносит в свой дневник Тургенев,— восхищает меня, а эта наука (политическая экономия) будет главнейшим моим занятием в продолжение, думаю, всей моей жизни». Тургенева занимает уже в это время вопрос об улучшении быта крестьян: еще в Геттингене он отмечает в своем дневнике (в 1810 г.): «Священнейшим долгом решился я поставить себе улучшение состояния земледельцев, на которых буду иметь влияние, и после трудами, доказательствами стараться поспешествовать к облегчению судьбы земледельцев вообще в России». Несколько лет спустя, назначенный после битвы под Лейпцигом в 1812 году в центральный департамент по управлению теми землями Рейнского союза, которые не вошли в число воевавших с Наполеоном княжеств, Тургенев в своем возобновленном дневнике пишет: «Часто думаю я теперь о России... Уничтожение рабства есть первый важнейший шаг к достижению всех целей государственных вообще. Но тут правительство, кажется, не столько может успеть, сколько частные люди, а сии должны видеть свою пользу; а чтобы видеть оную, надобно знать немного более, нежели курить вино и ездить
за собаками — надобно просвещение. Следственно, судьба рабства тесно соединена с судьбою просвещения дворян, которым должно вбить в голову благородные, человеческие понятия; собственную их пользу надо им показать, убедить их в истине, справедливости, человеколюбии, религии: а для сего нужны соединения умных, верных граждан, покровительствуемых правительством. Правительство может даже проложить дорогу, сделать первый пример,— а дух подражания, ободряемый разноцветными ленточками, много может подействовать на самые благороднейшие души»15.
Таким образом, немецкие университеты, и в частности Геттингенский, являясь истолкователями общественных идеалов, впервые проведенных в жизнь французской революцией, пробуждают в русских образованных людях интерес и к крестьянскому освобождению.
В царствование Александра I проходит, как известно, отмена крепостного права в балтийских губерниях и для самой России издается закон о свободных хлебопашцах. В обеих реформах идет речь об одном личном освобождении крестьян. Они не наделяются землею ни на начале частной собственности, ни в порядке мирского, общинного владения. В этом отношении Россия опять-таки следует западноевропейским образцам, за исключением одного лишь, преподанного революционной Францией.
В моем «Экономическом росте Европы», излагая подробно ход эмансипации на Западе, я старался показать, что, начиная с средних веков, и прежде всего с Италии, идет отпуск крестьян на свободу путем оставления ими участков, отданных в их наследственное пользование помещиками. Иногда законодатель ускоряет этот процесс принятием мер к отпуску на волю всех крестьян в пределах, того или другого города — республики или завоеванных им феодальных замков, с прилегающими к ним ленами. В Англии указанное движение принимает массовый характер со второй половины XIV века, так что к середине следующего канцлер короля Генриха VI Ланкастерского Фортескью уже считает возможным говорить о своей родине, как о стране, не знающей земельной крепости. Крестьянский отход, скопление в городах ушедшего из поместий трудящегося люда, становится важнейшим фактором эмансипации и в Германии, где складывается поговорка, что «городской воздух делает несвободного свободным» (Die Luft macht frei) и где создается обычаем правило
15 «Минувшие годы», 1908 г., № 5 и 6, с. 230.
о том, что пребывание в пределах городской оседлости в течение года и дня лишает помещика возможности вчинать в судах иск против бежавшего. Так называемыми «desaveux», т.е. отказами от поместных наделов, пролагается и во Франции путь к гражданской свободе и независимости. Крепостное право исчезает задолго до революции, за немногими исключениями, или переходит в чиншевое оброчное владение. Деятелям 1789-1793 годов выпадает в удел обращение этой наследственной крестьянской аренды в полную собственность с помощью выкупа так называемых земельных рент, выкупа, который в действительности очень часто отпадает. Ко времени воцарения Александра I крепостное право, возродившееся в соседней Германии с эпохи Реформации и еще продолжавшее держаться в форме чиншевого владения в бывших польских землях, не исключая и Галиции, не могло навесть русское правительство на мысль о государственном выкупе, подобном тому, который более полувека спустя был проведен деятелями 19 февраля. Мы видели, что и в проектах улучшения быта крестьян, которыми задавались Радищев, Поленов, Кайсаров или Николай Тургенев, не ставится еще ясно вопрос об обеспечении крестьян землею.
Когда в Остзейском крае последовала эмансипация без наделения землею освобождаемых, в среде людей, озабоченных улучшением условий трудящегося люда, раздались голоса, неблагоприятные той форме дарования крестьянам личной независимости, какая нашла выражение себе в законодательстве Александра I.
Закон Павла Петровича, урегулировавший барщину, приурочивший ее к трем дням недели и дозволивший русским крепостным затрачивать на обработку собственных полей половину времени в страдную пору, удовлетворял некоторых, даже получивших свое воспитание за границей русских общественных деятелей, по-видимому, в большей степени, нежели безземельное отпущение крестьян на волю в Остзейских губерниях. Доказательство этому мы находим в том отношении, в какое стал к крепостному праву отец знаменитого Бакунина.
Г. Корнилов в своем недавнем сочинении о молодых годах Михаила Бакунина приводит выдержки из стихотворения его отца, в котором высказывается отношение последнего к крепостному праву. Г. Корнилов полагает, и кажется не без основания, что это стихотворение было вызвано поэмой Пушкина «Деревня», напил санной в 1819 году. В стихотворении А. С. Пушкина встречались следующие строки:
Не видя слез, не внемля стону, На пагубу людей, избранное судьбой Злись барство дикое, без чувства, без закона, Присвоило себе насильственной лозой И труд, и собственность, и время земледельца. Здесь рабство тощее влачится по браздам Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут; Надежд и склонности в душе питать не смея, Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея;
Опора милая стареющих отцов, ': Младые сыновья, товарищи трудов, Из хижины родной идут собою множить Дворовые толпы измученных рабов.
Как бы в ответ на это стихотворение Бакунин-отец в своей поэме «Осуга» (название реки, на которой расположено было его Поместье) пишет:
Среди возделанных полян Я вижу мирное селенье Трудолюбивых поселян. Не знаю, почему «рабами» Их наши умники зовут, Они посильными трудами Оброк урочный отдают. И свой удел за то имея, Поля, покосы, скот и дом Такие же, как и владея, Хозяева в быту своем. Разделом дней на половину Полусвободный селянин, Три дня давая господину, Другие три — свой господин. На сей незыблемой основе Покоится святая Русь.
И в ненавистном рабства слове Взаимный кроется союз. Что проку в вольности бездомных Поденщиков в чужих краях, Кочующих рабов подъемных Неволи злой — в чужих домах?
Один работник изнеможет, И по миру пошла семья, Хозяин и помочь не может. — Арендная его земля.
/ У нас же волей и неволей
Помещик — опекун сирот. , И кормит их родное поле, Родная печь тепло дает.
А. М. Бакунин был воспитанником Падуанского университета. Биограф его сына поэтому высказывает некоторое недоумение по поводу того, как мог он подобные мысли примирить с своим европейским воспитанием. Но в годы, когда А.М. получал свое образование в Италии и, в частности, в пределах республики Св. Марка,— где впоследствии проходил он свою дипломатическую карьеру,— ни о каком освобождении крестьян с землею не подымалось еще речи, а отпущенные на волю даром или за выкуп поселяне переходили в положение съемщиков чужих земель или в рабочих пролетариев. Но что отношение к подневольному труду, которое мы находим у А.М. Бакунина, было далеко не всеобщим среди людей, просвещенных западной наукой, доказательство этому дает нам и такой, в сущности, консерватор, как Чаадаев, требовавший, по крайней мере, постепенной отмены у нас рабства. То же доказывает и поголовно-отрицательное отношение к крепостному праву всех декабристов. «Аннибаловой» клятве И. С. Тургенева предшествовало решение его родственника Николая Ивановича Тургенева еще в 1810 году посвятить всю свою жизнь улучшению состояния земледельцев, т.е.— поясняет Гершензон, — уничтожению крепостного права16. Сам А. М. Бакунин вынес, по-видимому, свое отрицательное отношение к освободительным идеям из пребывания во Франции и Неаполе во время революции. По преданиям, сохранившимся в его семье, он был в Париже во время взятия Бастилии. Но Сергей Муравьев, родственник его жены, рассказывал о нем Кропотову, биографу М. Н. Муравьева, что Бакунин был свидетелем кровавой революции не в Париже, а в Неаполе. В упомянутом уже стихотворении «Осуга» встречается несколько строк, касающихся пережитого Францией и по ее примеру другими странами переворота. Вот они: х
16 См.: Гершензон. Образы прошлого. С. 291. Ст. Н.И. Тургенев в молодости.
Какой-то сыч зловещий стонет «Les droits de l’homme» и наподхват С ним журналистика трезвонит Философический набат.
От этой музыки вскружила Шальные головы хандра, И чернь озляся завопила Ослиным хором: «Sa ira!» Я наяву все это видел
В стране драчливых петухов .и
И с той поры возненавидел • , Музыку тигров и ослов.
Сделавшись врагом революции, А.М. Бакунин в то же время не переставал интересоваться просветительным движением в России и участвовал поэтому в обсуждении устава «Союза благоденствия». Г. Корнилов пишет о нем, что он играл в деле развития и направления внутренней борьбы между двумя крайними направлениями в «Союзе спасения», основанном Александром Муравьевым, значительную роль и писал когда-то Михаилу Муравьеву длинное письмо, в котором доказывал безнадежность политических революций в России. М. Муравьев, принятый в «Союз спасения» братом своим Александром, относился враждебно к карбонарскому уставу этого союза, автором которого был Пестель, и к революционному направлению, приданному последним членам этого тайного общества. А.М. Бакунин поддерживал в нем это настроение и склонил его к составлению устава «Союза благоденствия» по образцу немецких Tugendbund’oB. «Сергей Муравьев рассказывает,— пишет Корнилов,— что весь план похода против Пестеля и его “Союза спасения” был выработан в кабинете А. М. Бакунина, М. Муравьев послал ему и рукопись пестелевского устава, прося его дать свое мнение о нем». Бакунин воспользовался случаем, чтобы, по словам Кропотова, осудить увлечения молодых людей, бредивших конституцией. Он высказал уверенность, что ей сочувствуют немногие, и говорил о тех бедственных последствиях, какие произойдут от малейшего ослабления власти в стране, раскинувшейся на необъятные пространства и не имеющей, кроме самодержавия, никакой органической связи между своими частями. «В странах теплых, богатых и густо населенных, рассуждал он (по словам Кропотова), в странах, изобилующих множеством образованных и пользующихся досугом людей, ограниченные
монархии еще могут существовать без особого неудобства. Но при наших пространствах, суровом климате, и ввиду неустанной вражды к нам Европы, самодержавие является у нас потребностью для народа и государственной безопасности. Не путем анархии, насилий и заговоров против правительства можем мы достигнуть благоденствия, полагал он, но распространяя в народе любовь к труду, трезвости, порядку, чистоплотности и честности, ознакомляя его с ремеслами и искусствами и развивая просвещение»! Эти мысли, по словам Кропотова, были встречены весьма сочувственно М. Муравьевым и приняты им за основание при составлении устава «Союза благоденствия»17. Пример А. М. Бакунина показывает нам, что Карамзин далеко не был одинок в своем осуждении реформ, затеянных Александром I при ближайшем участии Сперанского. Представленная им через сестру Александра великую княгиню Екатерину Павловну записка «О древней и новой России», как и происходившие в Твери, при дворе великой княгини и ее первого мужа принца Ольденбургского, споры с императором о самодержавии и конституции, споры, при которых Александр отстаивал благодетельность конституционных начал, а Карамзин защищал самодержавие, отвечали определенному течению в руководящих кругах. Записка «О древней и новой России» была вручена в Твери Александру в 1811 году. Наступившая затем борьба с Наполеоном положила конец всем попыткам пересоздания империи по французскому образцу, усилила мистическое направление ума императора, приблизила к нему знаменитую баронессу Крюднер, положила, как мы сейчас увидим, конец влиянию французских идей; в области философии, она поставила на первую очередь задачу религиознонравственного возрождения, сказавшуюся созданием по мысли Александра «Священного Союза» трех императоров.
Параллельно с этими историческими событиями шла радикальная перемена и в том направлении, в каком мысль Европы стала воздействовать на наше общество. На смену энциклопедистам и Вольтеру,— немецкая философия в меньшей степени в лице Канта, нежели Шеллинга, начинает овладевать умами прогрессирующей части русской молодежи. Масонские ложи закрываются в 1818 году, и некоторые члены их, в числе их, как мы увидим, Чаадаев, успеют настолько отрешиться от идей масонства, что не прочь будут выступить у нас с пропагандой католицизма, которому сочувствовала
17 Корнилов. Молодые годы М. Бакунина. С. 21-24.
проживавшая в Париже г-жа Свечина. В ее салоне в 30-х годах член австрийского посольства Апони и советник русской миссии, мемуары которого, писанные на французском языке, недавно отпечатаны были в Париже, встретят князя Гагарина, вскоре покинувшего службу, чтобы осуществить свое намерение перейти в католицизм и записаться в орден иезуитов. Примеру Гагарина последуют и некоторые другие русские, в том числе, будущий отец Мартынова. Несколько лет спустя проф. Печерин, одно время бывший в составе преподавателей Московского университета, также принимает католичество, становится сперва монахом, а затем католическим патером.
Философское влияние Германии сказалось в России далеко не сразу. Век Александра, как мы только что показали, подобно веку Екатерины, был периодом увлечения французской и отчасти английской мыслью. Французская революция вызвала в этом отношении только ту перемену, что Вольтер, Дидро и Гельвеций признаны были ложными философами и принуждены уступить место менее видным, но в то же время менее опасным для христианства и власти мыслителям. Из их среды наиболее выдающимся был, , разумеется, Жозеф де Местр. Посланник Савойского герцога и короля Пьемонта, долгие годы проведший в Петербурге, оставивший след своего пребывания в нем в известной книге, озаглавленной «С.-Петербургские вечера» де Местр едва ли не самый блестящий представитель католической философии, принципа легитимизма и, наконец, вселенского значения папы в первой четверти прошлого столетия.
Он во многом высказывал взгляды, близкие к тем, какие мы впоследствии найдем у Чаадаева. То из его положений, которое увлекло самого творца «Положительной философии», О. Конта, и заставило его отнести к органическим эпохам в истории развития человечества средние века с их двоевластием папы и императора, духовного и светского верховенства над миром, нашло «отклик в письмах Чаадаева по философии истории». Де Местр высказывает в своей книге о папе то положение, что контроль папской власти за деятельностью самодержавных правителей был одновременно гарантией мира и защитой свободы, что деспотизм сделался немыслимым благодаря подчинению светских властителей главе христианского мира. Эта самая мысль будет выражена впоследствии и у Чаадаева. Она, быть может, не останется без влияния и на такие свободомыслящие умы, как тот, каким надо считать московского профессора Печорина, не ужившегося в русской обстановке, покинувшего Москву, добровольно осудившего себя
на бедность и бродяжничество в течение ряда лет, с целью сохранить без умаления свою индивидуальность, и покончившего вольным переходом в лоно католицизма.
В области философской мысли отметим еще влияние двух французских философов-эклектиков, скорее историков, чем творцов самостоятельных систем — де Жерандо и несравненно более знаменитого — Кузена. Сочинение русского философа и профессора Московского университета Давыдова, как верно указано г. Сакулиным, свидетельствует о его близком знакомстве с обоими писателями. Весьма вероятно, что при их посредстве он заинтересовался также философами англо-шотландской школы, начиная с Бэкона Веруламского, продолжая Гаррингтоном и заканчивая Готчиссоном. Свое преподавание в университетском благородном пансионе Москвы, возникшем еще в 1779 году и возобновленном в 1791 году, И. И. Давыдов начал в 1814 года. Во главе благородного пансиона стоял тогда А. А. Прокопович-Антонский. Он получил образование в Московском университете на средства «Дружеского ученого общества», связанного с памятью об известном русском масоне, Шварце. Под его влиянием и развивался Антонский. Это обстоятельство, пишет Сакулин, не сделало из него, однако, ортодоксального масона, но наложило неизгладимый отпечаток на все его религиозно-нравственное мировоззрение». Проф. Тихонравов доказывает, что не масонство, а реакция философским идеям, предшествовавшим французской революции, дала окраску тому направлению, которое господствовало в преподавании университетского пансиона18.
Академик Истрин, в статье «Младший Тургеневский кружок и Ал. Ив. Тургенев», говорит в свою очередь: «Три элемента были выдвинуты в московском пансионе: нравственное совершенствование, патриотизм и литературное образование. Первое требование идет еще от Новиковского периода, от Шварца, от которого Прокопович-Антонский унаследовал свои основные положения»19. В речи о воспитании, произнесенной Антонским, на акте 1798 года, уже встречаются ссылки на «известного, как он пишет, в ученом свете Бакона», у которого он заимствует классификацию трех главных способностей души — память, рассудок и воображение. Тот же «Бакон» играет большую роль и в философских построениях
is Сочинения Тихонравова, т. III, ч. I, с. 401.
w Архив бр. Тургеневых, вып. II, с. 65.
Давыдова, и не один «Бакон», но и Петр Гассенди — противник Аристотеля и Декарта, поклонник системы Эпикура и атомизма Демокрита, отрицатель врожденных идей, стремившийся эклектически сочетать старинный сенсуализм с христианским спиритуализмом, с учением о Провидении и бессмертии души. П. Гассенди принадлежал к эпохе, следовавшей за Бэконом, и жил между 1592 и 1655 годами. Давыдов посвящает первую свою философскую работу — докторскую диссертацию, Бэкону. Она вышла в 1815 году, а второе его сочинение: «Опыт руководства к истории философии», отпечатанный в Москве в 1820 году, открывается заявлением, что автор предпочитает способ Гассенди, т. е. желает сначала познакомить с попытками, удачными и неудачными, которые довели мыслителей до определения «правил и законов теории философии». Главным же руководителем Давыдова в его «Очерке истории философии», по собственному его признанию, является Де Жерандо. «В иных местах,— пишет он,— вменял я себе за честь переводить знаменитого философа, в других — извлекал из него важнейшие мысли; есть предметы, в которых осмеливался не соглашаться с великими писателем»20. Де Жерандо сам был последователем Кондильяка и в то же время другом мистика Сен-Мартена. В «Философском лексиконе» Франка говорится о нем, что он счастливо развивал теорию Локка и Кондильяка об отношении, существующем между мыслью и ее внешними выражениями. Франк считает его одним из первых писателей, познакомивших французов с историей философии. Заглавие его книги «Histoire comparee des systemes phylosophiques». В ней он уже во многом отступает от Кондильяка, в частности, в вопросе о деятельности души, независимо от чувствований. Давыдов познакомился с сочинениями Де Жерандо еще из лекций своего учителя, проф. Булэ. Сакулин говорит, что без преувеличения можно сказать: Давыдов хотел быть русским Де Жерандо в своем «Опыте руководства». Здесь он особое значение придает Бэкону, о котором говорит, что «его учение развилось повсюду и как плодоносное древо распространилось на многие отрасли. Не одна секта, кроме Сократовой, не произвела столь великих талантов, сколько Баконова секта в опытной философии». Локк, Кондильяк, д’Аламбер и Боннет, по мнению того же Давыдова, «оказывают важные услуги метафизике, озаряют сию мрачную часть философии исследованием способности души.
20 См.: Сакулин. Из истории русского идеализма, т. I, ч. I, с. 25.
Нравственная же философия получает прочное обоснование трудами Гаррингтона и Гочиссона» (Гётчисон). К опытной философии Давыдов относится вполне положительно. «Невыгода ее,— пишет он,— состоит только в ее скромности, в ней нет ничего таинственного, что обыкновенно возбуждает страсть и воспламеняет воображение. Правила ее просты и согласны с рассудком». Сакулин, у которого мы заимствовали все эти данные, справедливо говорит, что в своем «Опыте» Давыдов вне всякого сомнения является апологетом опытной философии21. Направление Давыдова являлось новшеством сравнительно с тем философским течением, которое господствовало в России, по словам Сушкова, пред самым нашествием Наполеона. Это направление он характеризует словами: «Духовно-мистическое или, правильнее, набожно-поэтическое», очевидно, завещанное масонством, ложи которого закрыты были частью не ранее 1818 года.
Наряду с Де Жерандо попадается у философов второй половины царствования Александра I упоминание и о Кузене, хотя последний далеко не играет для них той же роли, что Жерандо. Имя Кузена встречается рядом с новым властителем дум, немецким философом Шеллингом, о котором Давыдов впервые заводит речь в своей «Логике». «Логика» Давыдова тем интересна, что заключает в себе признание, что «первый в отечестве нашем познакомил нас с Шеллингом почтенный проф. Галич». Сакулин справедливо указывает, что Давыдов обошел в этом случае своим вниманием труды Велланского, который, по-видимому, и ранее Галича пропо-ведывал Шеллингову философию. Из четырех писателей, которых обыкновенно считают провозвестниками в России Шеллинговой философии, только один Велланский, по словам Сакулина, может быть причислен к верным его последователям. Еще в 1815 году он издает свое «Обозрение главных содержаний философического естествопознания». Значение Велланского в деле распространения у нас Шеллинговой философии и ее последователя Окэна послужило темою рассуждений для многих русских историков и философов, в числе их — Филиппова, Милюкова, К. С. Веселовского. Повторять сказанное ими я не считаю нужным; но, чтобы дать понятие о том отвлеченном языке, каким излагалась Велланским эта и без того не особенно ясная немецкая метафизика, я приведу следующий отрывок, который Сакулину удалось открыть в бумагах Одоевского.
21 Сакулин. Ibid., с. 30.
Он заключает в себе резюме натурфилософии Велланского и сделан им почти в конце его жизни, в 1841 году. На него можно смотреть поэтому, как на окончательную передачу его мысли. Предоставляем читателю судить, насколько лицам, не посвященным в таййы немецкой метафизики, легко было разобраться в этом сокращенном изложении шеллингианства. «Природа есть произведение самопо-знательного действия абсолютной идеи Бога, образующейся лепотою, истиною и благостью, как идеалами душевной субъективной сущности и телесной объективной формы человека, равнокачественными свету, тяжести и теплоте, составляющим деятельные силы и вещественное содержание всей видимой природы. Лепота изъявляет субъективную сущность в объективной форме, истина показывает форму в сущности; а благость знаменует одно нераздельное начало объективной формы тела и субъективного существа души. Посему человек есть индивидуальный духовный мир, как истинный облик Бога, представляемого в нем тремя видами единой сущности: духом, телом и душою, кои суть идеальное, реальное и эссенциальное существо человека, созданного по образу и по подобию Божию на земле. Огонь есть всемирный элемент, состоящий из света, тяжести и теплоты, которыми производятся, удерживаются, разрушаются и изменяются все вещества и силы естественных предметов. Свету равнозначителен дух, тяжести сообразно тело, а с теплотою однокачественна душа, как существенные принадлежности человека, содержащегося к огню в противоположном значении образовательного их свойства, и в универсальном мироздании человек составляет внутренний, идеальный центр, а огонь соделывает внешнюю реальную периферию общей сферы субъективного органического и объективного неорганического мира»22.
В двух недавно изданных сочинениях, из которых одно посвящено молодым годам Бакунина, а другое — князю Одоевскому как мыслителю и писателю, сообщено немало материала о быстром росте у нас шеллингианства. Из немецких философов, наиболее выдающийся Кант встретил у нас слабый отклик. Давыдов, правда, упоминал о нем в своей «Логике», но властителем дум суждено было сделаться не великому кенигсбергскому мыслителю, а Шеллингу. Шевырев, в годы ученичества в университетском благородном пансионе, в который он поступил в 1818 году, застает в нем слабые следы мистического настроения, овладевшего
22 Сакулин. Ibid., 129-130.
Россией перед началом освободительной войны. Мистицизм этот, по словам другого современника, Сушкова, не только предшествовал, но отчасти подготовил торжество в преподавании немецкой философии и всего более Шеллинга, «которого, говорит Шевырев, ввели в пансион профессора Павлов и Давыдов» 23. Но Давыдов относился к Шеллингу не без некоторой самостоятельности. По замечанию Филиппова, автора «Судеб русской философии», «вся своеобразность учения немецкого мыслителя, вся сила и слабость его поэтических и фантастических классификаций и аналогий, все его полярности и прочие натурфилософские красоты и бессмыслицы исчезают или стушевываются у Давыдова до неузнаваемости». Это не помешало, однако, тому, что знаменитый Магницкий счел возможным в своем доносе найти в логике Давыдова вольнодумство и разврат, как следствие «богопротивного учения Шеллинга». Перешед на сторону немецкой философии, Давыдов считал нужным направить в позднейших своих сочинениях стрелы против французского рационализма XVIII века. «С непонятным распространением в отечестве нашем словесности французской,— писал он под псевдонимом “Мемнона”,— наводняемы мы были в продолжение нескольких десятилетий книгами без всякого разбора, ибо вместе с Фенелонами, Боссюэтами и Лапласами входили к нам ничтожные сочинения Вольтера, Дидеротов, Гельвециев; юные празднолюбцы увлекались нелепостями лжеучителей; даже люди зрелые поверили и затвердили, будто сии самохвалы — философы. Англичане и немцы никогда не удостаивали имени философов Вольтера, Дидерота и им подобных писателей. Не только в Германии, но и во Франции, продолжает Давыдов, заметное распространение получает теперь учение любомудрия более основательного, нашедшего выражение себе в сочинениях Лейбница, Канта, Фихте и других последователей сих необыкновенных умов, основателей современной философии».
В 1826 году Давыдов открывает преподавание философии и в Московском университете; во вступительной лекции «о возможности философии», как науки, он ссылается на книгу Шеллинга с тем же заглавием, появившуюся еще в 1795 году. Природа видимая для него есть уже отражение духовной, отражение идеального в вещественном. Следует новая ссылка на Шеллинга, на его «Идеализм и натурфилософию». Но в трудах Давыдова мы встречаем еще,
23 Сакулин, с. 20.
по счастливому выражению Филиппова, «борьбу Локковского эмпиризма с идеализмом Шеллинга». Во всем, что говорит он о Шеллинге, замечает Сакулин, нет и следа того сильного поклонения немецкому философу, какое мы находим у Велланского или Галича. И тем не менее, под влиянием Давыдова, образовался тот ряд людей, которые, вышедши из благородного пансиона, положили основание кружку и журналу, ставшим проводниками в русское общество идей Шеллинга. Главою кружка сделался князь Одоевский. Этот кружок еще в 1823 году включал в себя под руководительством Раича, Погодина, Титова, Шевырева целый ряд других деятелей. Образованию этого кружка немало содействовал Погодин. В письме к княгине Голицыной от 15 марта того же года он сообщает: «У нас составилось общество друзей; собираемся раза два в неделю, читаем свои сочинения и переводы; у нас положено между прочим перевести всех греческих и римских классиков. Уже начаты Платон, Демосфен и Тит Ливий». Кружок преследовал, главным образом, литературные задачи, но не был также чужд и философии. В нем Одоевский прочитал свой перевод из «Натуральной философии» Окэна, единомышленника Шеллинга. Почти одновременно с обществом Раича в том же 1821 году возникает уже чисто философское «Общество Любомудрия». Председателем его является Одоевский, а секретарем хорошо известный писатель Веневитинов. В числе членов мы встречаем имена и А. И. Кошелева и Ив. Киреевского. Более или менее тесно примыкали к кружку, по словам Сакулина, Титов, Мельгунов, Шевырев и Погодин. Собрания происходили обыкновенно у Одоевского. В своих мемуарах Кошелев говорит, что общество продолжало собираться до 14 декабря 1825 года, «когда мы сочли необходимым прекратить философские беседы, как потому, что не хотели навлечь на себя подозрение полиции, так и потому, что политические события сосредоточивали на себе все наше внимание». «Общество Любомудрия» просуществовало, таким образом, два года. Термин «любомудрия» быль пущен в ход еще в XVIII веке, для обозначения философии, отличной от той, какую проповедовали энциклопедисты. Кошелев в своих мемуарах, говоря об обществе, замечает; «Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окэн, Гэррес и др. Тут мы иногда читали наши философские рассуждения, но всего чаще беседовали о прочитанных нами творениях немецких любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу. Большим авторитетом пользовался также Гэррес, шеллингианец, занимавшийся, главным образом, вопросами
религии». Первым органом, где любомудрие нашло себе приют, был «Вестник Европы», издававшийся тогда М.Т. Каченовским. Но так как это был журнал далеко не специальный и который готов был посвятить вопросам трансцендентальной философии сравнительно лишь небольшое число страниц, то Одоевский вместе с Кюхельбекером с 1824 года стал издавать подобие немецких альманахов под названием «Мнемозина». Этот журнал не был философским в строгом смысле слова, но отводил немецкой метафизике несравненно больше места. Издатели в первой же книжке указывали на две преследуемые ими цели: 1) борьбу с французским направлением во имя германского любомудрия и 2) проповедь самобытности. По примеру «Мнемозины», говорит Сакулин, и другие журналы, как «Сын отечества», «Северный архив» и «Литературные листки», заговорили о Шеллинге и Окэне. «Мнемозина» просуществовала недолго и имела, по-видимому, не более двухсот подписчиков. Ближайшей по времени попыткой «любомудров», пишет тот же Сакулин, было издание «Московского вестника» под редакцией М. П. Погодина при сотрудничестве Пушкина, Шевырева, Веневитинова, Одоевского, Титова, Кошелева и др. Этот кружок поддерживал прежние связи с Давыдовым, продолжая ставить его весьма высоко. В числе сотрудников «Мнемозины» был и Павлов, по специальности физик, но приобретший также известность, как проповедник шеллингианства с кафедры Московского университета. Проф. Сакулин посвятил ему несколько страниц в первом томе своего обширного сочинения о князе Одоевском. Из его анализа взглядов Павлова следует, что, будучи сторонником Шеллинга и Окэна, он существенно упрощал и рационализировал их учение, а это содействовало тому, что его лекции и статьи всегда производили впечатление ясности и простоты. Он был скорее умеренным шеллингианцем и переносил, по выражению Сакулина, центр тяжести на точные науки. «Умозрение, учил он, при всем его преимуществе пред эмпирией, без сей последней недостаточно. Каждое явление, следовательно, и природа, как совокупность явлений, есть соединение противоположностей, совместность идеального с вещественным. Посему умозрительное познание и эмпирическое, каждое отдельно, как одностороннее, неполно. Опыт и наблюдение — поверка начал, выведенных из самопознания». Павлов стал издавать свой журнал под именем «Атеней» в годы 1828-1830. В первых же двух номерах своего журнала он напечатал философский разговор под заглавием: «О взаимном отношении сведений умозрительных и опытных».
Статья эта должна быть отмечена потому, между прочим, что мы находим в ней первую попытку критического отношения к тому поверхностному «любомудрию», которым заразилась молодежь двадцатых годов прошлого века. Автор хотел выразить протест против тех, кто думал, что достаточно усвоить общие принципы философии, чтобы, не изучая точных наук, считать себя вполне образованным человеком. Недаром философия есть наука наук. Павлов предал осмеянию такое направление в форме разговора, в котором участвуют три вымышленных лица под названиями: Кенофон, Полист и Менон. В этом разговоре встречаются мысли, которые покажутся трюизмами всякому современному последователю научной философии; например, следующая: «Чтобы узнать философию, надобно прежде знать науки. В философии рассуждается о возможности того, что в науках представляется, как есть. Можно ли рассуждать о возможности того, чего не знаешь, следовательно, сведения умозрительные, составляющие философию, возможны только при опытных, составляющих науки. Ясно ли теперь, что науки без философии быть могут и совсем не вздором, а философия без наук невозможна. Если же кто вздумает философствовать, не зная наук, его мудрствования будут вздор постыдный для ума, вредный для наук».
«Любомудрствовавшая» молодежь сочла себя задетой, и «Московский телеграф» Полевого счел нужным подвергнуть ироническому разбору мысли Павлова. Автором статьи был сам Полевой; формою изложения также избран был разговор, но на этот раз он происходит между Давыдовым, покровителем и до некоторой степени инспиратором «Мнемозины», и Павловым, критиком легкомыслия, проявленного кружком любомудров. Первый выступает под именем Алкиноя, второй под прозвищем Кассия Феликс. Павлов не отказался от ответа, и на этот раз еще откровеннее высказал свое отрицательное отношение к тем, для которых философия стала предметом моды, «чем-то вроде тех плащей, без которых франты не обходятся ни зимой, ни летом». «Несколько лет тому назад,— пишет он,— возродилось у некоторых литературных юношей тщеславие щеголять философическими терминами, не понимая их значения. Затейница-мода из удовольствия пошутить шепнула тому, другому: это — новая философия. С этого времени права здравого смысла поколебались и в славу вошла бессмыслица. Появились целые трактаты на русском языке, на которые сами русские смотрели, как на вновь найденные иероглифы». Очевидно, Павлов
был далек от того безусловного преклонения пред Шеллингом и его школой, какое обнаруживали например, проф. Велланский, считавший возможным писать, например, следующее: «Сколько бы исследований по роду предметов различно не было, все эти предметы надо рассматривать с одной точки зрения. Сия же точка находится в натуральной философии». Или еще: «Без умозрительной способности дух человека остается в неведении самого себя и окружающей природы... Сколько бы помрачителей ни усиливались к одолению эпохи истинного познания, не возмогут они потемнить сияния наступившей ее зари, и умозрительные понятия г. Шеллинга о сущности природы, несмотря на все возмущения не разумеющих его противников, составляют начало сей эпохи». Велланский был в большом почете у любомудров и, в частности, у Одоевского. В период издания «Мнемозины» Одоевский обратился к нему с письмом, которое, как говорил Велланский, «восхитило его более, чем другие лестные отзывы, приходившие к нему из разных мест России». «Из всех известных мне ученых россиян,— писал Одоевскому Велланский,— вы одни поняли настоящее значение философии». После смерти Велланского Одоевский также говорил о нем, как «о нашей отечественной знаменитости», как о «может быть единственном русском философе». Оба сошлись в безусловном преклонении пред Шеллингом. «Шеллингу обязан я, писал Одоевский Титову 16 июля 1823 года, моей теперешней привычкой все малейшие явления, случаи, мне встречающиеся, родовать» (перевод французского generaliser). Одоевский одно время задавался мыслью издать словарь истории философии, так как считал ближайшей причиной тому, что в науках и искусствах русские только подражатели, не иное что, как их презрение к «любомудрию».
Мы, конечно, не последуем за проф. Сакулиным в разборе философских статей Одоевского. Отметим только вслед за его биографом, что, в противоположность Велланскому и Павлову, философия интересует Одоевского преимущественно в применении к области духа человеческого. В 1842 и в 1847 годах Одоевскому суждено было увидеть дважды Шеллинга в Берлине. В письме к А. И. Тургеневу, сообщая о первом свидании, Одоевский писал: «Шеллинг и не знал, что я первый начал его переводить на Руси». Если сравнить Одоевского с его сверстниками, не исключая и Веневитинова, замечает Сакулин (стр. 175,1 т.), и говорить вообще о любомудрии, то он раньше, полнее, глубже и своеобразнее, чем кто-либо из них, пытался дать себе систематический отчет
в общефилософских и эстетических идеях своего времени. По словам Погодина, философские статьи Одоевского в «Мнемозине» отличались «примечательной ясностью изложения».
И Михаил Бакунин начал свои занятия немецкой философией с изучения работ Шеллинга. Из артиллерийского училища Бакунин вынес немного. Он вышел из него с знанием математики, французского языка, на котором его заставили писать рассуждение: «О влиянии нравов на литературу и литературы на нравы», и с большим патриотическим пафосом, сказавшимся между прочим во французском письме к родителям по поводу выхода в свет известного стихотворения Пушкина «Клеветникам России». «Русские — не французы,— значилось в этом письме,— они любят свою родину, обожают своего монарха, его воля для них закон. Между ними не найдется ни одного, который бы не пожертвовал всеми своими интересами для благополучия (Государя) и благоденствия родины» 24.
После небольшого числа лет, проведенных на военной службе, Бакунин решительно отказался поступить на штатскую и объявил родителям о решимости подготовлять себя к научной деятельности и профессорской карьере. На это решение повлияло знакомство его с членами кружка Н. В. Станкевича, который, еще будучи студентом в университете, сделался центром для целого ряда товарищей, охотно подчинявшихся его умственному и нравственному руководительству. Станкевич, по словам Анненкова, действовал обаятельно всем своим существом. В 1834 году он оканчивает курс в университете и уезжает домой в Воронежскую губернию, где усиленно занимается философией Шеллинга. Его сближает с Бакуниным неудачное ухаживание за его сестрою, заставившее его приезжать в имение Бакуниных — «Премухино», Тверской губ. С этого времени Бакунин становится близким другом Станкевича и деятельным членом организованного им кружка. Об этом кружке мы имеем ряд свидетельств, в том числе Герцена.
«Тридцать лет тому назад,— писал он,— в конце пятидесятых годов, Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавного ботфорта и землей. А в них было наследие 14 декабря (1825 г.), наследие общечеловеческой
24 Корнилов. Молодые годы М. Бакунина, с. 47.
науки и чисто родной Руси». В начале 30-х годов, когда эти мальчики выросли, из них образовались в Московском университете два кружка,— это были кружок Герцена и его друзей — с одной стороны, и кружок Станкевича — с другой. «Между нашим кружком и кругом Станкевича,— пишет Герцен,— не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление. Нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами. Мы их — сантименталистами и немцами». Москва в большей степени, чем Петербург, сделалась очагом изучения Шеллинговой философии, хотя первыми представителями шеллингианства были петербургские профессора, уже упомянутые мною Велланский и Галич. Первый — профессор физиологии, второй — специалист по философии. Г. Корнилов не прочь думать, что преобладание в петербургском обществе французских философских и политических начал — сделалось препятствием к равному с Москвой увлечению местной интеллигенции Шеллинговской философией. В кружке Станкевича мы находим и Белинского, и Клюшникова, с которым Станкевич вместе изучал и Шеллинга, и Канта. Бакунин присоединился к кружку в 1835 году, а год спустя в него вошли и В.П. Боткин, и Т.Н. Грановский. В кружке принимали также участие Ефремов, К. Аксаков и Неверов и довольно близко стоял к нему проф. Надеждин. «Щегольскими диалектиками», по выражению Аксакова, считались в кружке именно Бакунин и Надеждин; в Станкевиче же ценили чистую мысль, необыкновенный и глубокий ум. «Скажу еще,— прибавляет К. Аксаков,— что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездушных выводов мысли. А Белинский еще воздерживал при нем свои буйные хулы». Центральным вопросом для кружка был вопрос о назначении человека. Он привел их к изучению философии. Слушание лекций Надеждина и Павлова, — у последнего Станкевич жил почти в течение всего прохождения им университетского курса,— и обильное чтение философских или соприкасающихся с философией книг помогли Станкевичу и его друзьям выработать нечто подобное собственному мировоззрению, но весьма близкому к шеллингианству, хотя систему Шеллинга они не знали еще по подлиннику. Из небольшого очерка, написанного Станкевичем, под заглавием «Моя метафизика», видно, что молодой автор уже был проникнут некоторыми взглядами «Критики чистого разума», пантеизмом Спинозы и монистическими представлениями
Шеллинга о природе и разумении. В 1831 году Станкевич еще передает в письмах к Неверову главные выводы новейшей немецкой философии ни более, ни менее, как по Кузену25.
Переходя, в частности, к Бакунину, его биограф пишет: «В основание его философских, этических и эстетических взглядов еще в артиллерийском училище был положен известный “Лицей” Лагарпа, в двух последних томах которого содержится поверхностный обзор французской и английской философии XVIII века, причем довольно подробно изложены системы Локка и Кондильяка, выводы которых Лагарп противопоставляет взглядам французских энциклопедистов, материалистов и революционеров. С немецкой философией Бакунин вовсе не был знаком до 1835 года»26. Г. Корнилов держится того мнения, что мысль Бакунина тем не менее работала над решением тех самых вопросов, которые интересовали кружок Станкевича, и что он, не дойдя до отождествления природы с идеей, стремился, однако же, к полному подчинению идее материальной природы. Но от 1835 года мы имеем уже прямое свидетельство о том, что Бакунин занимается чтением присланного ему Станкевичем экземпляра «Критики чистого разума» Канта. Одновременно сам Станкевич занимается с Клюшниковым изучением того же Канта и в письме к Неверову вспоминает, что с тем же Клюшниковым они читали и Шеллинга. «Если мы не поняли вполне,— прибавляет он,— его хода (развития мыслей), его диалектики, то постигнули основные идеи, сущность системы. Чтобы возвести свое горячее убеждение на степень знания, надобно хорошенько изучить основание, на котором утверждается новая немецкая философия. Это основание — система Канта». В письме от 4 ноября 1835 года Станкевич говорит Бакунину: «Верно, ты не раз задумаешься над Кантом. Читая его, я думал сегодня, как бы облегчить тебе эти труды. Я боюсь, что недоразумение взбесит тебя и ты бросишь его или слишком будешь ломать голову. Я пришлю тебе его систему по-французски, если достану. Не спеши его читать. Ты говорил мне, что мало знаком с языком философским и отвлеченностями вообще. В таком случае
25 Корнилов. Op. cit. S. 124 125. Недаром Em. Haumant в своей книге «О французской культуре в России» замечает, что и «в самый разгар увлечения немецкими писателями русские начинают знакомиться с ними во французских передачах». См. с. 377 и след.
2|5 Корнилов. Ibid. S. 129.
Канта надобно изучать медленно и основательно. Подвигайся потихоньку вперед, не оставляя ничего не понятым». В письме от 12 ноября 1835 года мы читаем: «Ты пишешь мне, что не можешь успокоиться, пока не войдешь в дух Канта. Для этого я в коротких словах расскажу тебе, как знаю, его систему. А читая его наскоро и гоняясь за одними результатами, ты собьешься с толку и не получишь пользы. Надо его изучать, надобно привыкнуть на нем к методу новой философии, надобно твердо убедиться в его положениях, которые послужили основанием к системе Шеллинга и в трансцендентальной, и в натуральной философии. Этот твердый методический ум разбил старые кумиры, развеял призраки, носившиеся в области ума, и своею сухою критикой приготовил поэзию Шеллинга. Я благоговею перед Кантом, несмотря на то, что от него болит у меня голова по временам. Письмо заканчивается рассуждением о связи между основными положениями Канта, Фихте и Шеллинга» 27
Бакунин, по-видимому, недолго сидел над Кантом, и в его переписке с сестрами нет упоминания о «Критике чистого разума», а наоборот, немало указаний на то, что в это время он погрузился в сферу религиозной мысли. Этому обстоятельству вполне отвечает и переход его к изучению основного трактата Фихте,— его «Теории знания». Бакунин переводит для «Телескопа» лекции Фихте «О назначении ученого». Только в 1837 году Бакунин от попыток изучения Канта, Фихте и Шеллинга переходит к изучению Гегеля. До этого времени он старается в сочинениях Фихте найти правила для собственной жизни. Так, прочитав у него «Жизнь есть любовь», он пускается в письмах к сестрам в следующие рассуждения: «Итак, любить, действовать под влиянием какой-либо мысли, согретой чувством,— вот задача жизни. Но что любить и как любить? Что значит любить?.. Что значит у нас любовь к отечеству?.. Холодная, затверженная из Карамзина фраза, без всякого настоящего значения. Что значит любовь к человечеству? — Затверженные слова Евангелия: “любите друг друга, как самих себя”. Любовь к науке? Желание прослыть ученым. Любовь семейная? — привычки и обязанности. Любовь к Богу — боязнь ада и желание рая. Вот вам любовь нашего общества, и ему-то, по мнению батюшки, я должен жертвовать собой» 28.
27 Корнилов. С. 139, примеч. 2-е.
28 Ibid. S. 173.
Независимо от Станкевича и Бакунина, Ив. Киреевский, будущий издатель журнала «Европеец», также занимается Шеллинговой философией в связи с Кантовой и первое свое знакомство с германским идеализмом получает в своей семье от отчима Елагина, образованного офицера, вывезшего из заграничных походов 1812-1813 годов некоторое знакомство с сочинениями Канта. С 1819 года он перешел, благодаря приватным лекциям Велланского, от Канта к Шеллингу. Свое влечение к немецкой философии он передает и своим пасынкам, Киреевским. Ив. Киреевский во время своего заграничного путешествия более основательно знакомится с германскими философскими системами, заводит личные связи с Гегелем и гегельянцами в Берлине, а затем с Шеллингом в Мюнхене; при этом Киреевский не становится гегельянцем, хотя и одолевает «Энциклопедию» Гегеля, после личного с ним знакомства. Он стремится создать самостоятельное мировоззрение, более близкое к Шеллингу, нежели к Гегелю.
Брат Ив. Киреевского Петр, известный впоследствии своим сборником русских песен, в свою очередь, читает под влиянием того же Елагина Шеллинга. Г. Гершензон полагает, что некоторые историко-философские идеи были заимствованы им у последнего. Но общий дух шеллингизма остался ему чужд29.
Наконец, Шеллинговой философией увлекся и один из самых сильных умов — Чаадаев, вступавший в письменный обмен с Шеллингом и заинтересовавшийся всего более последним периодом его философской деятельности, когда от изучения «Философии природы» Шеллинга перешел к религиозной философии. В «Переписке Чаадаева», изданной Гершензоном, сохранился текст этих писем. Они представляют значительный интерес для решения вопроса о том, что именно искали в Шеллинге русские ревнители его мировоззрения и в какой мере течение, известное под названием западничества, считало нужным искать в Шеллинговой системе философское для себя обоснование.
В 1832 году Чаадаев пишет первое свое письмо к Шеллингу, но не к этому году относится их знакомство. Оно началось еще в Карлсбаде, где оба они лечились в 1825 году. Чаадаев напоминает об этом немецкому философу, говоря: «Помните вы молодого человека, который в Карлсбаде часто беседовал с вами по вопросам философии? Вы сказали ему между прочим, что
29 Гершензон. Образы прошлого. С. 94.
по некоторым вопросам вы изменили свой образ мыслей, и посоветовали дождаться выхода в свет нового сочинения, прежде чем знакомиться с вашей системой. Сочинение это, которым вы занимались тогда, до сих пор не появлялось, а молодой человек, вас посещавший, это я... Вы позволите мне сказать, что изучение ваших сочинений открыло мне совершенно новый мир; озаренный светом вашего ума, я нашел в сфере мышления такие области, которые пока оставались для меня скрытыми. Изучение вашей системы было для меня источником плодотворных и приятных размышлений. Да будет мне также дозволено сказать, что, следуя за вами, я часто приходил к другим заключениям. Теперь я узнаю от приятеля, недавно проведшего с вами несколько дней (разумеется, А.И. Тургенева), что вы занимаетесь ныне преподаванием философии Откровения. Я предполагаю, что вы даете в нем развитие той мысли, которая зарождалась у вас во время нашей встречи в Карлсбаде... Читая вас, я всегда предчувствовал, что из вашей системы необходимо должна развиться новая религиозная философия. Не могу вам выразить, насколько я был обрадован известием, что глубочайший философ нашего времени пришел к необходимости слить философию с религией. Едва я сам начал философствовать, как эта идея предстала мне, как маяк и как цель моей умственной работы. Весь интерес моей жизни, вся любознательность моего ума были поглощены этой единственной мыслью и по мере того, как я подвигался в моих размышлениях, мною овладевала уверенность, что в этой мысли лежит и величайший интерес человечества. Всякая новая мысль, которая в моей голове присоединялась к этой первичной, казалась мне новым камнем для постройки храма, в котором люди сойдутся, чтобы в полноте познания обожать Господа. В том интеллектуальном одиночестве, в котором протекали мои дни на родине, я долгое время считал себя единственным, истощающим свои силы над этой работой, если не говорить о немногих товарищах, рассеянных по всему свету. Я открыл затем, что все мыслящие люди шли в том же направлении, и день, когда я узнал эту истину, был для меня великим днем. Но в то же время мне ясно представилась необходимость высокого ума, великой индивидуальности, призванной руководить всеми умами, чтобы оберегать торжество этой мысли. Совершенно естественно я начал с этого времени думать о вас. Я сказал себе: этот человек, так высоко поставленный в сфере моральной, которому род человеческий обязан тем, что он снова открыл свои
первоначальные и святые интуиции, не мог не увидеть во всем ее блеске этот новый свет, который вскоре засветит над всеми нами. Он должен увидеть его раньше, чем он предстанет глазам всего мира. Неужели он, который сумел установить гармонию стольких различных элементов человеческой мысли, не примирит религиозный элемент с элементом философическим, тем более, что оба уже касаются друг друга. Одним словом, в моих внутренних стремлениях к прогрессу и усовершенствованию, я вам предоставлял совершить ту великую революцию, к которой устремлена была новейшая мысль. И вот я узнаю, что ваше красноречивое слово не проповедует более науку земли, но науку неба. Мои желания, мое предчувствие до некоторой степени осуществились. Я сперва собрался писать вам только для того, чтобы выразить вам мою признательность. Но в настоящую минуту я не могу воспротивиться желанию узнать что-нибудь об этом новом образе вашей системы. Не будет ли высокомерным попросить у вас лишь некоторых указаний об основных ее положениях или о руководящей идее вашей современной доктрины?»30.
Значительный свет на то настроение, в каком было составлено только что приведенное письмо, дают строки, написанные Чаадаевым несколько времени спустя А. И. Тургеневу. Он благодарит его за интересное сообщение, им сделанное. «Ваше письмо из Лондона весьма заинтересовало меня. И так, несомненно, что с одного конца света до другого держится одна общая мысль: универсальный дух парит над всем миром, тот Weltgeist, о котором говорил мне Шеллинг (очевидно, еще в Карлсбаде) и перед которым он преклонялся с таким величием. Можно, следовательно, идти рука об руку, несмотря на бесконечные расстояния. Нет границ для мыслей. Это бесконечная цепь людей, которые мыслят в унисон, которые преследуют одну цель всеми силами своей души и разума, идут, следовательно, одним шагом и на протяжении всего света»31.
Шеллинг отвечает Чаадаеву из Мюнхена, где он состоял в это время профессором, письмом от 21 сентября 1833 года. Оно написано по-французски и представляет несомненное значение и для понимания того отношения, в какое натурфилософ стал к новому обороту, принятому его философским мышлением,
30 Сочинение и письма Чаадаева. S. 168-169. Т. 1.
31 Ibid., T.I.S. 183.
обороту религиозному. «В момент окончания труда, давно начатого в тишине, и результатом которого будет открытие нового интеллектуального мира, доселе недоступного философии, нам приятно узнать, что другие люди стоят на одной с нами дороге, что они прислушиваются к нам, что они нас наперед понимают и что, следовательно, общий дух времени, а не настроение индивидуальное, вдохновил нас и сказался чрез наше посредство». В дальнейшей части письма, уже написанной по-немецки, Шеллинг настаивает на том, что он не покинул старого пути, а только продолжал его, что он нимало не думает отказаться от ранее приобретенного, но только превзойти его. Философия Откровения не обнимает собою всей его философии, а образует только ее третью часть. «Моя система отличается тем от всех прежних, что заключает в себе философию, которая не причиняет никакого насилия ни философии, ни христианству. Я придерживался по возможности прежней дороги и искал наипростейших приемов, озабоченный тем, чтобы превозмочь рационализм не богословия, а философии, и, с другой стороны, я старался воздержаться от того, чтобы не впасть в сентиментальность, фантастичность или мистику, отвергаемую разумом...»32 Таким образом Шеллинг отстаивал от Чаадаева цельность своего мировоззрения. Он отказывался признать какой-нибудь новый поворот в своей системе и говорил о своей религиозной философии только как об увенчании здания.
Вся эта переписка необыкновенно ценна для нас тем, что показывает, так сказать, философское обоснование дорогой Чаадаеву мысли, что имеется единая христианская культура, общая всем народам, созданная и проводимая в мир католичеством и папством, к которой Россия, вовлеченная в европейский круговорот гением Петра, может только приобщаться в интересах совместного участия с Европой в дальнейшем поступательном ходе человечества, что для нашего отечества невозможно поэтому задаваться мыслью о какой-то отличной от всего католического мира народной или национальной гражданственности. Эта мысль, проводимая и в его философских письмах, и в тех, которые посланы были Чаадаевым графу Сиркуру и А. И. Тургеневу, в значительной степени ляжет в основу нашего западничества. Мы подробнее познакомим с нею читателя, говоря о зарождении тех двух противоположных течений — западничества
32 Ibid., т. I, примеч. S. 382-3.
и славянофильства, которые составляют главное содержание нашего интеллектуального развития с начала 30-х годов. В настоящее же время мы используем другое письмо Чаадаева к тому же Шеллингу, с целью показать источник отрицательного отношения русских шеллингианцев, как западников, к философии Гегеля, которую стремились использовать для своих целей русские «самобытники», отстаивая мысль о том, что каждой нации или, точнее, каждому племени, в том числе и славянскому, суждено выработать свою самостоятельную культуру.
В 1842 году Чаадаев из Москвы снова пишет Шеллингу по случаю его перехода в Берлин, куда, по мнению Чаадаева, он призван с целью низвести с престола «новую философию» (Гегеля). Чаадаев говорит об интеллектуальном кризисе, переживаемом Россией, об «обуявшей нас национальной реакции, страстной, фанатической, ученой, естественно вызванной к жизни теми экзотическими течениями, под властью которых мы так долго жили, но которая может радикально изменить мышление страны». Та философия, которую Шеллинг призван низвергнуть в Берлине, вошла в комбинацию с идеями, ныне господствующими в России. Вступив в связь с ними, она грозит извратить окончательно наше национальное чувство. «Я разумею тот затаенный в сердце каждого народа принцип, который составляет его совесть, способ его самопонимания и его поведения при прохождении им пути, отведенного ему в общем распорядке мира. Изумительная эластичность этой новой философии (Гегеля), которая позволяет ей всякого рода приспособления, создала в воображении русских людей самые странные представления о роли, какую мы призваны играть в мире, о наших будущих судьбах. Ее фаталистическая логика, которая упраздняет свободу самоопределения, которая всюду находит неумолимую необходимость, примененная к нашему прошлому, готова была обратить всю нашу историю в ретроспективную утопию, в дерзкий апофеоз русского народа... Нас старались убедить в том, что, предупреждая поступательный ход человечества, мы уже осуществили в нашей среде самые честолюбивые теории, им преследуемые. Нам грозит опасность потерять драгоценнейшее наследие наших предков: стыдливость разума, умеренность мысли, какими мы были проникнуты, благодаря нашей религии, склонной к созерцательности и аскетизму. Можете судить после этого, в какой мере для всех нас, привязанных к родине, ваше появление в самом очаге этой новой философии, которая могла сделаться для нас вредоносной,
является желательным»33. Таким образом, Чаадаев необыкновенно определенно высказывает ту мысль, что гегельянство явилось у нас так сказать философским обоснованием для теории русской самобытности и призвания всего славянства, во главе с Россией, поведать миру что-то новое, ему неведомое, и отвечающее тем задачам, которые Запад поставил перед собою и которые нашли осуществление себе в нашем прошлом.
Мы перейдем в ближайшем очерке к вопросу о том, когда гегельянство стало пускать корни в России, какие круги восприяли его особенно охотно, какие последствия имело распространение его в нашей среде. , ,
33 Ibid. Т. I. S. 245.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Н. Кареев
М.М. КОВАЛЕВСКИЙ КАК ИСТОРИК И СОЦИОЛОГ*
Мне неоднократно приходилось слышать от М.М. Ковалевского, что он считает себя более историком, нежели юристом, имея в виду, конечно, обычное значение последнего слова. В этом же смысле нередко высказывались и некоторые юристы, но я никогда не слыхал, чтобы историки не считали его своим, и я думаю, что одинаково были правы и сам покойный Максим Максимович, и те юристы или историки, которые видели в нем больше историка, чем юриста. Подчеркиваю это «больше», вместо «скорее», которое я здесь сейчас чуть было не написал. Конечно, Ковалевский был и юристом и историком, но одним меньше, другим больше, и дело вовсе не в выборе, к какой категории — юристов или историков — его следует скоре причислить.
То, что можно назвать «чистою» юриспруденцией, очень далеко от истории, как и история, в свою очередь, от нее весьма далека. Недаром между обеими науками столь долгое время не было почти никаких точек соприкосновения, и лишь в XIX веке образовалась в юриспруденции историческая школа, да и сама историческая наука стала больше интересоваться правом. Конечно, в настоящее время есть много ученых, занимающих положение в этой сравнительно новой, так сказать, промежуточной области между юриспруденцией и историей, но у них всегда обнаруживается уклон в ту или другую сторону, и потому одни являются больше юристами-историками, а другие историками-юристами.
Ковалевского я причислил бы ко второй категории, если бы он в истории был исключительно юристом, т. е. если бы он занимался только одним правом в его историческом развитии. Исторический интерес Ковалевского был весьма широким. Рядом с предметами, входящими в состав публичного права, его внимание привлекали к себе и вопросы права частного, особенно явления собственности и семьи, и вместе с этим он выходил за пределы
* Печатается по: М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин. Пг., 1917. С. 169-179.
права в тесном смысле слова, работая также в области народного хозяйства, т. е. был не только юристом, но и экономистом, так что его научные труды касались и государства, и права, и экономической жизни,— а это делало его социологом. Ведь по мысли основателя социологии Огюста Конта, верным последователем которого в этом отношении Ковалевский оставался до конца дней своих, общая теоретическая наука об обществе должна изучать общественные явления в их «консенсе» (consensus), т.е. в общей их совокупности и в их взаимоотношениях. Более специальные общественные науки изучают общество лишь с одной какой-либо стороны, различая, например, явления хозяйства, права, государства; социологическая же точка зрения как раз и заключается в стремлении к синтезу экономики, юриспруденции и политики. В своих исторических работах в области права Ковалевский примыкал не к германской исторической школе, основанной Савиньи, а к традиции, родоначальником которой был Монтескье, указываемый и Контом, как один из немногих предшественников социологии.
Несколько своих работ Ковалевский и специально посвятил социологии, как науке с определенными предметом, задачею и методом, о чем речь будет идти впереди. Но к этой научной области он подходил преимущественно с исторической стороны. В своей классификации наук Конт, как известно, делил все чистые (не прикладные) науки на абстрактные и конкретные, соответственно с чем социология, как наука абстрактная, должна противополагаться истории, как науке конкретной. (Теперь для обозначения тех же понятий в ходу другие термины, пришедшие к нам из Германии: науки номотетические и идиографические.) Конечно, как и везде, здесь также возможны постепенные переходы от одной точки зрения к другой, от изучения общества, отвлеченно взятого, как особой форме бытия, к изучению конкретных общественных явлений, данных нам в известных местах и в определенные времена. Так вот Ковалевского не влекло к разработке общих теорий путем гипотетических построений, дедукций, аналогий и т. д„ играющих такую роль в социологической литературе. Он строил социологию не сверху, исходя от какой-либо философии, а снизу, опираясь на фактический материал, доставляемый историей да, кроме истории, еще этнографией и тем, что можно назвать социально-культурной палеонтологией, изучением доисторического быта и самых ранних, даже прямо зачаточных форм общественности. Разумеется, и здесь дело не могло обходиться без гипотез, но у Ковалевского это были гипотезы не о природе общества, а о тех формах, какие могла и должна была принимать общественность на самых ранних ступенях своего развития. Социологические построения, исходящие не из философских, психологических и иных отвлеченных предпосылок, а отправляющиеся от фактического материала, возможны лишь при широком пользовании сравнительным методом, которому в своем гениальном предвидении отводил такое важное место в социологии сам Конт. Ковалевский был убежденным «компаративистом»,
не только фактически пользуясь историко-сравнительным,— как он его называл,— методом, но и теоретически его защищая, обосновывая и рекомендуя, как это было, например, им сделано в одной из ранних работ. И он называл его именно историко-сравнительным методом, как бы подчеркивая этим, что сравниваемые явления или формы брались им не в их неподвижности, а в их исторической эволюции. Не статика, а динамика, пользуясь терминами Конта, стояла в центр внимания Ковалевского.
Если в своих социологических исканиях Ковалевский был преимущественно историком, а не чистым теоретиком, и потому «идиография» у него преобладала над помологией, то, с другой стороны, и в исторических своих работах он был прежде всего социологом, притом не только в смысле синтеза экономической, юридической и политической точек зрения, но еще и в другом смысле, а именно если социологической точке зрения в истории противополагать точку зрения психологическую. Есть историки внутренних переживаний, историки-психологи, интересующиеся фактами интеллектуальной и эмоциональной жизни, ее проявлениями в областях религии, философии и науки, литературы и искусства, одним словом, историки духовной культуры, и есть историки-социологи, беря вторую часть термина в более тесном смысле, историки общественных отношений, подводящихся под категории политических, юридических, экономических явлений, историки социального строя. Ковалевский был как раз таким историком-социологом, исследователем внешних форм общественного бытия, т. е. учреждений в широком смысле этого слова, подводя под данное понятие, например, и первобытную семью и парламентарное государство.
Однако, занимаясь преимущественно эволюцией учреждений от элементарных форм общественности до наивысшего, что было в этом отношении создано жизнью, он отказывался видеть в этой эволюции какой-то бессознательный процесс, назовем ли мы такой процесс, рассматриваемый в его бессознательности, стихийным, механическим или органическим. Он был не только историком учреждений, но и историком идей, поскольку это были идеи, касавшиеся государства, права и народного хозяйства. Но и эту область он изучал опять-таки не так, к ж это делается в историях философии или науки, т. е. в отвлечении известного идейного содержания от социальной жизни, а, наоборот, в теснейшей и неразрывной связи с нею. Точка зрения Чичерина в его «Истории политических учений», в которой теории нанизываются одна за другою на некоторую логическую нить, была совершенно чужда и прямо антипатична Ковалевскому, если даже не принимать в расчет и нерасположения его, как последовательного позитивиста, к метафизическим предпосылкам Чичерина в духе гегельянства.
Я думаю, что для Ковалевского всякая общественная «идеология», к каковой относятся и разные политические учения или экономические теории и т.п., не являлась лишь идейною надстройкою над реальным зданием социального строя, в роде того, как это представляют себе экономические
материалисты. Некоторые из них готовы были считать Ковалевского своим, но как ни близок он был к известным сторонам этой доктрины, он глубоко с нею расходился, признавая за идеями значение не только показательных симптомов, но и действенных, творческих сил в процессе смены общественных форм одних другими. Как историк политических, социальных и экономических учений, он интересовался ими не только как ступенями развития теоретической мысли в вопросах государства, права и народного хозяйства или вообще социального строя, и не только как порождениями данных общественных отношений, но и как теми принципами, которыми руководились люди соответственных эпох в своем общественном поведении, в разрешении важных вопросов текущей общественной действительности, в сознательной работе, направленной на социальные, политические, экономические и юридические формы.
Помнится, на одном из ранних своих научных трудов он выставил эпиграфом спинозовский девиз; «не радоваться и не плакать, а понимать»,— девиз строгого объективизма. Этим лозунгом Ковалевский отмежевывал себя, как верный последователь Конта времен «Курса положительной философии», от той, как ее впоследствии называли, русской субъективной социологии, главными деятелями которой были П. Л. Лавров и Н.К. Михайловский. В последний год жизни Ковалевский заинтересовался идеями наших западников и славянофилов середины прошлого века, но на ранних его взглядах не видно влияния русских идеологий, да и теоретические споры времен выработки социологического субъективизма или позднее времен распри марксистов и народников его мало затрагивали. Рано уехав учиться за границу, он там, на Западе, преимущественно в Англии и во Франции, находил своих учителей и руководителей в лице Конта, Мэна, Спенсера, Моргана, Лёббока, Маркса, проникаясь тем, что у них действительно было, а иногда, в сущности, только казалось научным объективизмом. Ковалевский не любил споров на такие отвлеченные темы, но было бы неправильно думать, что и на самом деле он был объективистом чистейшей воды, интересовавшимся только тем, что есть и как оно есть, и совершенно равнодушным к тому, что должно быть. Самый выбор им вопросов, которыми он особенно много занимался, и показывает, что им руководило не одно ученое любопытство в роде того, которого так много у людей, занимающихся историей археологически, а двигал им также интерес к совершающейся вокруг нас общественной жизни. Ковалевский был историком-политиком, если под политикой разуметь стремление к воздействию на общественную жизнь во имя определенных идеалов.
Впрочем, общественные взгляды и политические убеждения покойного не входят в мою задачу, и я возвращаюсь к его работе в области исторической науки.
Работу в этой области Ковалевский совершил огромную. Начитанность его в непосредственном историческом материале была недюжинная,
и очень многое из материала для своих исторических трудов он брал непосредственно из архивов, что облегчалось для него продолжительными периодами пребывания в разных европейских центрах. Некоторая часть найденного им в архивах была им же издана, другая легла в основу целых больших частей отдельных его трудов. Конечно, печатный материал тоже ему всегда был хорошо известен. Внешние обстоятельства жизни, солидные материальные средства, которыми он располагал, и вынужденный досуг, когда он, в течение почти двадцати лет, был устранен от университетской кафедры в России, позволили ему подолгу работать в разных архивах и таких книгохранилищах, как Национальная библиотека в Париже или Британский Музей в Лондоне. Кроме того, он сам приобретал массу книг, и у него всегда можно было найти разные новинки по тем отраслям знания, которые его интересовали. Поэтому он всегда был хорошо осведомлен относительно литературы каждого вопроса, за который брался, как ни спешно иногда приходилось ему знакомиться с той или другой нужной книгой. Счастливая память помогала ему без особого труда ориентироваться в литературе, хотя дело подчас и не обходилось без lapsus memoriae.
В свои исторические работы Ковалевский вносил большую оригинальность мысли, которая притом обнаруживала более склонности к конструктивному синтезу, нежели к операциям аналитического характера. В этом отношении, быть может, он находил неприемлемым для себя известный афоризм Фюстель де Куланжа: «Pour un jour de synthese il faut des annees d’analyse», и с точки зрения требования строгой акрибии нередко критики находили кое-что сказать против недостаточного внимания автора к частностям, подробностям и мелочам, когда его мысль устремлялась к интересному выводу, к важному общему положению. Если, однако, мы обратим внимание на поразительную массу того, что осталось от Ковалевского, мы поймем, что при постоянных его исканиях и желании как можно скорее пустить в общий оборот найденное им в архивах ли, или литературе почти неизбежны были те или другие недосмотры. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, а кто много делает, тот рискует и больше ошибаться. В массе крупного и важного,— раз только его действительно много,— недостатки работы тонут, а Ковалевский как раз оставил очень много и крупного и важного.
За писательскою деятельностью Ковалевского я следил ровно сорок лет, с тех пор, как появилась его небольшая книжка об общинном землевладении в кантоне Ваадт, о которой я тогда же, т.е. в 1876 году, поместил заметку в журнале «Знание». Не могу сказать, чтобы все сочинения Ковалевского, особенно не чисто исторические, были мною прочитаны или одинаково внимательно прочитаны, но едва ли есть одно из более крупных и важных, в которое я, по крайней мере, не заглядывал бы. Одним из них мне приходилось пользоваться при составлении своих университетских курсов, другое давать студентам при практических занятиях, третье анализировать или критиковать в печати, так что книги,
которые Ковалевский дарил или присылал, не оставались в моих руках мертвым капиталом. Не могу не вспомнить и того содействия, которое было им оказано моим начинаниям в виде редактирования «Исторического обозрения» и «Научного исторического журнала», в которых мною были помещены четыре его статьи.
Ближе всего мне, конечно, известны работы Ковалевского по западноевропейской истории, больше — относящиеся к новому времени, меньше — к средним векам. Наиболее крупными трудами его являются здесь, — следуя хронологическому порядку выхода в свет,— «Происхождение современной демократии» (1895 и след.), «Экономический рост Европы в период, предшествующий развитию капитализма» (1898-1903) и оставшееся незаконченным сочинение под заглавием «От прямого народоправства к представительному строю и от патриархальной монархии к парламентаризму» (1906). Первый из этих трудов заключает в себе четыре тома, причем первый во втором издании раздвоился, так что получилось всего пять томов; во втором и третьем трудах по три тома. Все эти одиннадцать томов были написаны в период, на который Ковалевский смотрел, как на время изгнания из отечества. Отдельные части первого тома «Происхождения демократии» были изданы и по-французски, а «Экономический рост Европы» вышел в свет в немецком переводе с дополнениями в семи томах. Это — самые крупные по объему исторические труды Ковалевского, но, кроме них, можно назвать несколько других, как, например, две его диссертации (магистерскую — о полицейской администрации в английских графствах до смерти Эдуарда I, и докторскую — об общественном строе Англии к концу средних веков) или большую общую историю Великобритании, составляющую целый том, хотя и являющуюся лишь статьею в гранатовском «Энциклопедическом словаре». Наконец, в разных периодических изданиях разбросано множество статей Ковалевского, заслуживающих быть приведенными в известность, а в некоторых случаях и переизданными. В общем, я далеко не перечислил всего, что написано было Ковалевским касательно прошлого западно-европейских стран, особенно Англии и Франции, которыми он преимущественно занимался, отразив и на себе влияние главным образом английской же и французской науки.
Последнее обстоятельство заставляет меня сделать еще одно общее замечание о направлении работ Ковалевского. Наши юридические факультеты в то время, когда Ковалевский начал свою ученую деятельность, находились преимущественно под влиянием германской науки, и это же влияние сказывалось в то время, равным образом, и на исторических кафедрах историко-филологических факультетов. Ковалевский был одним из первых юристов, порвавших с этою одностороннею традицией и широко воспринявшим влияние научной мысли французов и англичан. Среди ученых обеих западных наций, главным образом, и составил он себе имя, а также на английском же и французском языках он издавал свои не
большие работы, в которых знакомил заграничную публику с прошлым России, с развитием ее политических учреждений, с ее аграрным строем, с социальными реформами, с пережитым ею недавно внутренним кризисом. Тяготение Ковалевского к Англии и к Франции объясняется не только тем, что ему больше нравилась английская и французская наука, бывшая сорок лет тому назад более проникнутою позитивным духом, нежели немецкая, но и тем, что это — две страны, в учреждениях которых наиболее воплотились принципы свободы, демократии и прогресса.
Рассматривать отдельные исторические труды Ковалевского не входит в мою задачу, так как это потребовало бы очень много места, и так как об одном из этих трудов я уже много писал особох, а также не входит в мой план рассматривать и отдельные труды Ковалевского по социологии, но мне все-таки хотелось бы сказать здесь несколько слов о Ковалевском, как социолог, специально по поводу двух общих его трудов в этой области.
В лице Ковалевского историк сочетался с социологом, но если он был историком не только потому, что история нужна для социолога, а интересуясь ею и ради ее самой, то и интерес к социологии у него вырос не на почве одних исторических занятий, и он следил за развитием социологической литературы, вообще мало останавливающим на себе внимание чистых историков. Кроме многих работ сравнительно-исторического содержания, предпринимавшихся Ковалевским в общих социологических интересах, каковы «Современный обычай и древний закон» (1886), «Первобытное право» (1911) и т.п., от него остались еще два труда, посвященные изложению его взглядов на самое социологию и на современное состояние разработки социологических проблем в научной литературе. Оба эти труда, «Современные социологи» и «Социология», были написаны им в последние годы и возникли в связи с общими курсами социологии, читанными как за границей, так и в России.
Ковалевский был убежденным сторонником преподавания социологии в высшей школе, и если в чем-либо с ним в этом отношении нельзя было, по моему мнению, соглашаться, так это с преподаванием данного предмета студентам-новичкам, плохо в большинстве случаев подготовленным
1 Речь идет о «Происхождении современной демократии» в связи с другими работами Ковалевского по эпохе французской революции, о чем мне уже приходилось писать и раньше в ряде этюдов: «La revolution irancaise dans la science historique russe» (La Rev. Franc., 1902), «Работы русских ученых по истории французской революции (Изд. Политехи. Инет, и отдельно, 1904), «Эпоха французской революции в трудах русских ученых за последние десять лет» (Истор. Обозр. и отдельно, 1912). «Deus opinions contraires sur 1'histoire agraire de la France» (La Rev. Franc. 1913), «Беглые заметки по экономической истории Франции в эпоху революции (Изд. Политехи. Инет, и отдельно, 1913-1915 и отдельно) и «М. М. Ковалевский, как историк французской революции» («Вестник Европы», февраль 1917 г.).
по истории и уже совсем лишенным подготовки по общим теориям права и государства, по политической экономии, по психологии и философии. Но если только преподавать социологию, то, конечно, слушателям должны быть сообщены научно обоснованные определения предмета, задачи и метода этой науки, что и дал Ковалевский в первом томе своей «Социологии». Последователь Конта в общем взгляде на эту науку еще в молодых годах, Ковалевский остался верен ему и на склоне своих дней. Те, которые готовы причислить его к экономическим материалистам, должны были бы отказаться от этого, если бы вникли в смысл резко заявленного им протеста против искания какого-либо единственного фактора социальной эволюции, каковым для экономического материализма является развитие производительных сил.
Ковалевский, однако, не ограничивался одним принятием исходных точек зрения Конта, но и следил за общим развитием социологической литературы, в которой, как известно, чистые историки принимают очень мало участия, предоставляя разработку теоретических вопросов социологии психологам и философам, экономистам и юристам, этнологам и антропологам и вообще социологам без специальной исторической подготовки. Доказательством того, как Ковалевский интересовался этою литературою и как он ее знал, является его книга «Современные социологи». Меня лично только удивляло, что он совершенно игнорировал русскую социологическую литературу, как будто у нас не было ни Лаврова, ни Михайловского, ни Южакова, ни Муромцева и т. д., принимавших участие в разработке тех же вопросов, которым посвящены книги и статьи, рассмотренные Ковалевским в его книге. В этом отношении некоторые иностранцы оказывались более внимательными к русской социологической мысли, особенно, например, американец Ю. Геккер, автор вышедшей в 1915 году книги «Russian Sociology» (в которой, между прочим, очень сочувственно говорится и о Ковалевском). Что это вышло так у Ковалевского не из пренебрежительного отношения к русской социологии, достаточно явствует из того, что, благодаря содействию Ковалевского, появились два историко-теоретических труда П.Л. Лаврова, из которых один вышел с псевдонимом Арнольди, другой — с псевдонимом Доленги. Как бы там ни было, Ковалевский держался в стороне от движения социологической мысли в России, и упомянутый американский автор, говоря о том, что он называет «русской социологической школой», как раз не включает Ковалевского в ее личный состав. Тем не менее в истории социологии в России Ковалевский занимает видное место, что и признано было рядом наших ученых разных специальностей, объединившихся в Социологическом Обществе его имени.
Н. С. Тимашев
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ МАКСИМА КОВАЛЕВСКОГО *
I. Основания социологии Ковалевского
Российская социология, возможно, лучшая из всех возможных иллюстраций фундаментальных теорий социологии знания, в которой научная мысль рассматривается как функция социальной ситуации в ее целостности. В течение второй половины девятнадцатого века верхушка российского общества была разделена на два сектора: (1) правящую бюрократию (поддерживаемую большинством дворян) и (2) «интеллигенцию», социальную группу, состоящую преимущественно из академических преподавателей и профессионалов, однако включающих также значимые меньшинства групп, поддерживаемых оппозиционным лагерем — среди дворян всегда были «либеральные бюрократы» и «социальные работники». Первый сектор развил консервативную идеологию, выраженную в хорошо известной триаде «самодержавие, православие, народность», в то время как второй примкнул к западным идеологиям либерализма и социализма. Общая структура российской культуры требовала, чтобы оба сектора отстаивали соответствующие им позиции на высоко теоретическом уровне. Результатом стало увеличение многочисленных социологических систем, которые все имели одну общую тенденцию к обслуживанию политических целей.
Обоснования, использовавшиеся консервативным сектором, вытекали из хорошо известной идеологии славянофилов, базисное положение которой состояло в том, что Россия есть особый мир, полностью отличный от Запада и, следовательно, не подверженный законам эволюции, характерным для него. Наиболее интересная работа этого направления — «Россия и Европа» Н. Данилевского, который сформулировал большинство допущений, получивших широкое освещение в мире после того, как были
* Перевод с английского Н. А. Гусевой.
повторены Освальдом Шпенглером к В наши дни теория получила новую жизнь в работах так называемых «евразиатов» 1 2.
Социология интеллигенции имела множество направлений. Она может быть разделена на несколько следующих «школ»: (1) субъективистская школа П.Л. Лаврова (1822-1900) и Н. К. Михайловского (1842-1904), которая предвосхитила современную социологию знания в том, что признала «существование истин, которые не могут быть признаны до определенного времени... вследствие субъективных причин неготовности общества понять вопрос в его активной постановке», предугадав Макса Вебера в его попытках использовать в социологии концепцию вероятности, а также предвосхитила учение Тарда о новации и подражании в исследовании роли личности в социальном процессе, но которая совершила методологическую ошибку, допустив, что социология — нормативная наука: (2) марксистская школа, главным образом представленная ортодоксальным Г. В. Плехановым и нетрадиционным В. И. Лениным; (3) анархистская школа Принца Петра Кропоткина; и (4) революционная школа В. М. Чернова. Объединяет все школы, во-первых, принятие идеи об одностороннем прогрессе и, во-вторых, идеи о том, что социология должна служить путеводителем в борьбе за прогресс, против бюрократии и консервативных групп, поддерживающих ее. Вне такого деления, но в рамках школы прогресса стоит профессор Н.И. Кареев (1850-1931), единственный представитель академических кругов в этом движении, первый, кто опубликовал учебник по российской социологии (1897 г.), представлявший собой во многом компетентную дискуссию о социологических теориях того времени.
Острота конфликта между бюрократией и интеллигенцией сдерживала подъем чисто научной социологии в России, но не сделала его невозможным. Данную тенденцию с честью преодолел М. М. Ковалевский, самый выдающийся российский социолог довоенного периода. Он в полной мере покончил с российской традицией и построил свою систему не на политических размышлениях, но на тщательном исследовании истории социальных, политических, правовых и экономических институтов. Разрыв с традицией был настолько радикальным, что в своих работах он никогда не упоминал российских социологов3.
1 Как Г. Э. Барнс и Г. Беккер правильно отмечают: «Параллелизм слишком узок, чтобы быть случайным» («Социальная мысль от традиционного знания до науки» [Бостон, 1983], II. С. 1032-1033).
2 Сравните с моей статьей «Die politische Lehre der Eurasier» («Политическая теория евразийцев») в Zeitschrift fur Politik («Политическом журнале»), XVIII (1929). С. 558-612.
3 На этот факт указал с некоторым огорчением Н. И. Кареев в своей статье для симпозиума «В память М.М. Ковалевского» (Петроград, 1917).
II. Жизнь и творчество Ковалевского
М. М. Ковалевский родился 27 августа 1851 года в Харькове на Украине в семье богатого землевладельца. После окончания одной из средних школ г. Харькова (1863 г.) и юридического факультета Харьковского университета (1873 г.), он провел почти три года в Западной Европе: в Берлине, где он учился с Рудольфом Гнейстом, Генрихом Бруннером и Адольфом Вагнером; в Париже и в Лондоне, где он познакомился с сэром Генри Мэйном (которого он называл своим учителем), Гербертом Спенсером и Карлом Марксом. После возвращения в Россию, он получил степень магистра и был немедленно назначен профессором в Московском университете, а три года спустя он получил степень доктора наук4.
В годы обучения за пределами России Ковалевский опубликовал свой первый труд. Он касался «Разложения аграрных общин кантона Ваадта» (1876 г.)5. Тема была показательной для научной увлеченности молодого Ковалевского, поскольку являлась ранней историей институтов. Его вторая работа была посвящена «Администрированию и судебным организациям английских графств периода до кончины Эдварда III» (1877 г.); следующая работа называлась «Аграрные общины» (1879 г.), исследовавшая образование и разложение данной формы земельного владения на колониальных территориях; последующий труд рассматривал «Социальную организацию Англии в эпоху позднего Средневековья» (1880 г.).
Проспект на тему «Сравнительно-исторический метод в юриспруденции» (1880 г.) стал одним из наиболее значимых вкладов Ковалевского в социальные науки. В надежде на непосредственное наблюдение пережитков раннего «арийского» закона, он провел три лета в высоких долинах Кавказа, результатом чего стали три книги: «Современный обычай и древний закон» (1886 г.)6, «Первобытный закон» (1886 г.); «Закон и обычай на Кавказе» (1890 г.).
Перед опубликованием последней книги, в академическую деятельность Ковалевского вмешалась катастрофа в России. Будучи либералом (типичным представителем интеллигенции), он тем не менее никогда не был
4 Вплоть до коммунистической революции Россия придерживалась французской системы научных степеней. Степень магистра присуждалась после публикации, по меньшей мере, одной авторской монографии и публичной дискуссии перед профессорско-преподавательским составом: степень доктора наук присуждалась после публикации второй (обычно большей) работы и похожего диспута.
5 Перевод на немецкий язык появился в следующем году в Цюрихе.
6 Перевод на французский язык вышел в 1893 г.; сокращенный перевод на английском языке — в 1891 г.
революционером. Его преподавание конституционного права в Московском университете основывалось на идее сходства политического развития всех стран и на предположении о том, что, по его мнению, конституционная реформа в России была неизбежна. Этого не мог терпеть реакционный министр образования того времени7, и Ковалевского очень быстро выдворили из университета.
Поскольку Ковалевский был богат, независим и никогда не был женат, ничто не мешало ему принять решение о выезде из России и продолжении своей ученой деятельности в либеральном окружении. Тем более решение было необременительным, учитывая, что он говорил бегло на английском, французском, немецком и итальянском языках. Сначала он провел серию лекций в Стокгольме8, а затем поселился во Франции. Он приобрел красивое поместье в Бьюли на побережье Средиземного моря, где постепенно собрал личную библиотеку из пятидесяти тысяч томов. В этом месте он провел почти пятнадцать лет, часто покидая его в качестве приглашенного профессора (в Брюссель, Оксфорд и другие города) или как член Парижской школы социальных наук, которую он создал в 1900 году, или же с целью изучать различные общества и культуры. Он дважды был в США. В1895 году он стал вице-президентом Международного социологического института, его президентом в 1907 году (после своего возвращения в Россию) и часто делал пожертвования «Международному обозрению по социологии» (Revue internationale de Sociologie).
Французские годы были наиболее продуктивным периодом в жизни Ковалевского. Три грандиозные работы были написаны: «Экономический рост Европы до подъема капитализма»9, «Происхождение современной демократии»10 11 и «От прямой к представительной демократии» п.
В этот же период он опубликовал несколько работ, в которых описал российские институты для их изучения нероссийскими учеными. Две из них — «Экономический режим России» («Le Regime economique de la Russie», 1898 г.) и «Российские политические институты» (1902 г.).
Значительные политические изменения, которые произошли в России в 1904-1906 годы, позволили Ковалевскому вернуться в Отечество и там
7 Последние две декады девятнадцатого века породили нечто вроде «Средних веков» в истории российского образования.
8 Они были опубликованы во Франции под следующим названием: «Tableau de 1’Origine de la Famille et de la Propriete» (1890 г.); русский перевод (1891 г.); перевод на испанский язык (1913 г.).
9 Три тома (Москва, 1898-1903). Расширенная немецкая версия была опубликована в семи томах (1901-1914 гг.).
10 Четыре тома, опубликованные в России (1895-1897 гг.); большие части были переведены на французский язык и опубликованы под разными названиями.
11 Три тома на русском, опубликованные в 1906 г.
возобновить свою академическую деятельность. Он стал профессором Санкт-Петербургского университета и экономического отделения Политехнического института в том же городе. Почти одновременно профессор Бехтерев основал в Санкт-Петербурге Психоневрологический институт и создал в нем кафедру социологии, первую в России. Он сделал предложение возглавить ее Ковалевскому, который с радостью согласился.
Последний период его академической и научной деятельности характеризовался интенсивным чтением лекций и внеакадемической деятельностью. В 1906 году он был избран членом первой Думы от своего родного города Харькова; выборы во вторую Думу он проиграл, но почти сразу же был избран одним из шести представителей университетов России в Государственный Совет (верхнюю палату России). Он посвятил много времени и энергии законодательной деятельности. В то же время он являлся президентом множества научных и благотворительных организаций.
Однако Ковалевский не оставил научную деятельность. В последний период своей жизни его интерес был прикован к социологии. Это было логичное завершение его научного творчества, посвященного преимущественно исследованию корреляции между различными аспектами социальной жизни в их историческом развитии. В 1905 году он опубликовал книгу «Современные социологи» — достойный обзор современных ему социологических теорий и, кроме того, еще и блестящая критика всех видов монизма в социологии. В 1910 году он опубликовал два тома «Социологии» (которые вышли один за другим), первую в своем роде дискуссию о масштабе и методах социологии и их отношении к специальным социальным наукам и, во-вторых, монографию «Генетическая социология». В 1913 году он начал редактирование (совместно с П. А. Сорокиным и другими) серии монографий «Новые идеи в социологии», внеся свой посильный вклад12.
Лето 1914 года Ковалевский прожил в Карловых Варах, затем в Австрии, где лечил больное сердце. Когда настигла война, он проходил по гражданскому судебному делу в качестве обвиняемого. Его освобождение стало возможным только благодаря вмешательству влиятельных друзей (среди них — президент Вудро Вильсон), но его здоровье было явно подорвано, и 23 марта 1916 года он скончался. Его похороны были национальным событием, так как Россия знала, что потеряла одного из величайших мужей науки. Симпозиум «В память М. М. Ковалевского» состоялся на следующий год со всеми почестями выдающемуся социальному ученому.
12 Полная библиография работ Ковалевского, занимающая семь страниц, приводится в симпозиуме «В память».
III. Масштаб и задачи социологии
и ' Когда Ковалевский начал свою научную деятельность, в социологии доминировала теория односторонней эволюции и неизбежного прогресса. За время своего существования теория постепенно демонстрировала свою несостоятельность и возродилась уже в новых формах; Ковалевский не только знал об этих изменения, но и сам много сделал для этого. Однако он никогда не был способен отвергнуть теорию полностью, которая прочно обосновалась в нем; отсюда, некоторая дуальность в его социологических идеях. С одной стороны, он объяснял с помощью «безуспешного доминирования органической теории общества» тенденцию его современников говорить об однонаправленной эволюции, подобно той, что имеет место быть среди людей и продуцирующей разные ступени в эволюции организма; но одновременно он говорил, что основной закон социологии заключается в том, что прогресс13 и тождество, столь часто возникающие между обществами, которые не взаимодействовали или не имели общих предков, могут быть объяснены только принципом «единства истории», означая, что эволюция человечества была прогрессивной14. Он часто возвращался к этой идее: «Схожесть экономических условий, подобие правовых отношений (тесно связанных с предшествовавшими), схожесть в уровне знаний породили тот факт, что люди различных рас и происхождения к разным эпохам начинают свое развитие с идентичных стадий»15. Это сходство остается и на более поздних стадиях: «Структуры и институты, принадлежа генетической структуре, племенным территориям, правящей монархии могут быть обнаружены в истории людей, которые не имели ничего общего друг с другом и которые никогда не подражали друг другу. Если уровень знаний был схожим, возникают похожие или идентичные истории»16.
Непостоянство Ковалевского относительно сущности феномена, который должен изучаться социологией, отразилось в его идеях о масштабе и цели социологии. В своих ранних работах он принимал определение Конта, в соответствии с которым социология — наука о социальном порядке и социальном прогрессе17. К концу жизни под влиянием американской социологии 18 Ковалевский изменил позицию и определил социологию как «науку о социальной организации и социальных изменениях». «Невозможно утверждать,— писал он,— что эволюция всегда идет в направлении излечи
13 «Социология» (С. 261, 80).
14 «Современные социологи» (С. 10-14). ь ” ’ н '
15 «Социология» (С. 35). <я - ‘Ч1 . < ;
16 Там же. С. 33-35.
17 Содержится в «Современные социологи» (С. 286).
18 С прямой ссылкой на статью «Социология; ее проблемы и отношения» Чарльза Эллвуда в «Американском журнале социологии», XIII (1907). С. 300.
вания социальных болезней и к увеличению общественного благосостояния; также сложно допустить, что каждая социальная организация есть порядок; в царской России порядка нет»19.
Следовательно, он провозгласил задачей социологии изучение коллективного менталитета социальных групп в тесной связи с их организацией и их эволюцией. Социология должна выполнять свою задачу посредством абстрагирования направлений от массы конкретных фактов и указывая на общею тенденцию; таким образом она может вскрывать причины социальной стабильности и социальных изменений20.
Когда социология берет на себя такие задачи, возникают определенные трудности в установлении границ ее поля и поля других специальных социальных наук. Ковалевский знал об этих трудностях и решил проблему следующим образом: социология как обобщающая наука не может заимствовать свои предпосылки из специальных социальных наук; она должна самостоятельно и тщательно их осмысливать, принимая во внимание разнообразие человеческих потребностей и чувств, существующих в царствах религии, закона, экономики, политики, эстетики, пр.21 Конкретные социальные науки, несмотря на то, что предоставляют социологии материал для последующего синтеза, должны в то же время базировать свои эмпирические выводы на общих законах сосуществования и развития, которые социология призвана устанавливать22.
По мнению Ковалевского, социология принадлежит не только к описательным социальным наукам, но также к наукам о социальной политике23. Только социология, говорил он, способна раскрыть все причины, от которых зависит прогресс обществ, и их взаимоотношения24. Только социология в силах преподать нам урок, согласно которому порядок невозможен без прогресса, и что прогресс состоит из последовательных изменений в социальной и экономической структуре и тесно связан с аккумуляцией знания и с ростом населения25. Только социология может найти объективный критерий для определения ценности позитивного закона26.
19 Очевидно, Ковалевский подразумевал порядок в «экзистенциальном», не в «процессуальном» смысле.
20 «Социология» (С. 9). : С.
21 «Современная социология» (С. 286). Ч '
22 «Социология» (С. 30).
23 Необходимость в создании такой науки социальной политики особенно подчеркивалась известным современником Ковалевского Л. Петражицким (гл. Г. Бабб «Наука правовой политики Петражицкого», Бостонский университет правового обозрения, XVII [1937]. С. 793 и далее).
24 «Социология» (С. 14). ...... , .
25 Там же. С. 59. . |;,г !Л. ... ;
26 Там же. С. 68. .; . . - . • ,
IV. Методология, применяемая в изучении социального изменения
Внимание Ковалевского было приковано к изучению социальных изменений. Несмотря на то, что его значимые работы написаны на предмет истории экономических, политических и правовых институтов поздних ступеней развития, поиск происхождения общества никогда не покидал его ум, о чем свидетельствуют многочисленные ранние эссе, и эта тема стала его главным увлечением в течение последних лет, когда он писал свои социологические работы. Данный предмет обсуждения он называл «социальной эмбриологией» 27, или «генетической социологией» (название его второго тома «Социологии»),
Методы изучения социальных изменений Ковалевского (на ранних и поздних ступенях) естественно зависели от его фундаментальных гипотез. По его мнению, именно для генетической социологии необходимо установление, во-первых, некоторого числа ступеней эволюции и, во-вторых, законов, управляющих ими. Законы он понимал как «необходимые связи явлений» 28; они должны были отражать многообразие социальной природы человека, зависящей от климата и расы.
Законы этой эволюции могут быть открыты путем сравнения параллельно протекающих эволюций. Простое сопоставление явлений недостаточно, и использование сравнительно-исторического метода необходимо29. Будучи мастером указанного метода, Ковалевский в своих социологических построениях использовал материалы, полученные в ходе его исследований по истории институтов, и расширял перспективу посредством добавления данных, приобретенных через этнологию и изучение животных сообществ. Постепенно он детально разработал методологию, которая может быть представлена в следующем виде:
1. Сравнительная этнология и сравнительная история институтов должна иметь дело только с фактами, которые бы коррелировали и с прошлым, и с настоящим, и особенно с коллективным менталитетом народов, среди которых эти факты были зафиксированы30. «Необоснованно,— полагал он,— представлять большое количество данных, которые, как кажется, подтверждают гипотезу; необходимо показать, что явления, существование которых гипотетически декларируется, были тесно связаны с массой
27 Там же. С. 84.
28 Там же. С. 33.
29 Многие современники Ковалевского считали этот метод методом социологии. Так, например, сэр П. Виноградов отождествлял социологию права и сравнительную историю права (сравните его статью по «Сравнительной юриспруденции» в Энциклопедии Британника [11-е изд.], Т. XV) (с. 98)
30 «Социология» (С. 104-105).
обстоятельств, имеющих место быть на определенной стадии социальной эволюции».
2. Факты, проанализированные таким образом, должны быть изучены с учетом их природы; другими словами, должно быть установлено на данной стадии эволюции, действительно ли факты относятся к существующей социальной структуре, или они есть пережиток из прошлого или, возможно, зародыш будущего развития31.
3. Однако схожесть фактов может основываться на общем происхождении или на подражании32. Следовательно, перед тем, как делать какое-либо заключение относительно естественных однообразий, эти возможности должны быть проанализированы.
4. Систематизация похожих фактов в соответствии со стадиями эволюции предполагает знание этих стадий. Здесь встает проблема родственной примитивности социальных форм. Сложность тем больше, чем, согласно Ковалевскому, менее возможность увидеть в современных природных состояниях картину ранних стадий эволюции исторического народа. Один из показателей примитивности — аналогия с формами социальной жизни среди высших животных33. Однако нет человеческого племени, которое было бы аналогично животным сообществам, имевших хотя бы в зародыше религию и государство34. Следовательно, такие человеческие сообщества должны считаться наиболее примитивными, которые не знают ограничения в сексуальных связях, за исключением запрета сношений с матерью; существенна также признанная связь ребенка лишь с матерью35.
5. Другой критерий примитивности может быть найден путем функционального анализа: мы не можем считать примитивным институт, который несовместим с низким интеллектуальным уровнем и примитивными материальными условиями 36.
6. Но лучший показатель — принцип выживания. Этнографические материалы могут дать результаты касательно удаленности прошлого, только если есть причина полагать, что они содержат его пережитки37; то же верно в отношении раннего закона 38.
31 Там же.
32 Там же. С. 36, 80.
33 «Генетическая социология» (С. 18). Существование таких аналогий было проиллюстрировано тем фактом, что отношения охотников к оккупированной территории практически такое же, как и стада животных или стаи птиц.
34 «Социология» (С. 85).
35 «Генетическая социология», С. 51,76.
36 Там же. С. 19. "
32 Там же. С. 2.
38 Там же. С. 17.
Как было уже сказано, вера в метод реликтов (пережитков) побудила Ковалевского провести три лета на Кавказе. Он объяснял свои ожидания следующим: «Сваны и осетины жили веками в высокогорье и не подвергались воздействию со стороны; следовательно, они, должно быть, сохранили множество пережитков ранних институтов». Исследование не дало ожидаемых результатов. Ковалевский признал свое частичное поражение: «Не на все вопросы закон осетин дал ожидаемые ответы. Во многих случаях он подтвердил недостаток промежуточных связей [которые он искал], и поэтому его пришлось интерпретировать с помощью данных, касающихся других арийских народов»39. Однако он обнаружил, что особенно хотел: следы матриархальной семьи; и это позволило ему сделать значительно позже следующий вывод: «Семиты, арийцы, полинезийцы и американские индейцы знали матриархальную семью, следы которой сохранились в древнем законе и фольклоре» 40.
7. Однако этот результат был релевантен только для генетической социологии, потому что было констатировано много отклонений от матриархальной к патриархальной семье, тогда как противоположные случаи были неизвестны41. Важное методологическое правило содержится в этом утверждении, правило, привносящее пользу в этнологию статистического метода, к которому Ковалевский не питал особого уважения42.
8. Необходима чрезвычайная осторожность, согласно Ковалевскому, во всей работе с этнологическим и историческим материалом. Наибольшая опасность состоит в необоснованном обобщении. Так, например, говорит Ковалевский, тенденция видеть в тотемизме общую стадию человеческой эволюции может быть опровергнута тем фактом, его следы отсутствуют в России43. Другая опасность заключается в интерпретациях, основанных на ранее заданных образцах мышления. Ковалевский дал иллюстрацию этому из личного опыта:
Во время путешествия в горах Кавказа я часто видел христианские часовни, окруженные высокими деревьями. Сваны почти не сохранили память _ о том, что когда-то были христианами; среди них бытует мнение, что деревья сдерживаются духами, готовыми наказать любого, кто пройдет между ними. Я сразу же сделал предположение, что открыл пережиток поклонения предкам в комбинации с поклонением деревьям. К счастью, я не опубликовал что-либо по этому вопросу.
39 «Современный обычай и древний закон», С. iv и vi.
40 «Генетическая социология», С. 90.
41 Там же. С. 63.
42 «Социология», С. 90.
« Там же. С. 87-89.
Дальнейшее изучение показало, что сваны позволяли деревьям расти вокруг часовен, чтобы предотвратить воровство икон и других ценных вещей. В случае со сванами часовни были объяснены второстепенными причинами, нерелевантными для общего вывода44.
9. Наконец, Ковалевский никогда не отрицал существование вариаций. Но в одной из своих ранних работ45 он утверждал, что исследование случаев вариаций должно рассматриваться как задача для последующих поколений социологов, которую следует решать после определенного установления сходств и других преобразований до одного общего закона.
V. Модель и природа социальной эволюции
1 Используя описанные методы, Ковалевский сформулировал следующие предположения относительно стадий социальной эволюции46: наиболее примитивная форма социальной организации — орда, в которой зародилась матриархальная семья. Следующая стадия (которой никогда не достигали многие племена) — род, в который примитивная орда трансформировалась посредством экзогамии, табу и запрета на кровную месть. Единственная ментальная связь — почитание общих предков. Дальнейшее развитие было тесно связано с отходом от кочевого образа жизни к оседлому; род разделился на «большие семьи» (по кровному родству; позднее также по родству по мужской линии), которые затем в результате внутренних разногласий и роста населения образовали «маленькие семьи». С другой стороны, род был замещен более сложной структурой, которая может быть названа «феодальным порядком». Последнее было широко распространено среди наций вне зависимости от времени и пространства (Западная Европа, Византия, Россия, мусульманские народы, Япония): владение землей и государственная служба унифицировали общество так же сильно, как и родство. Отход от феодального к демократическому порядку — последняя стадия эволюции, которую мы знаем47. На этой стадии прогресс повлек переход от неравенства к равенству и от государственного вмешательства к частной и коллективной инициативе48.
44 «Генетическая социология» (С. 6-7).
45 «О сравнительно-историческом методе в юриспруденции» (1880 г.). Он повторил это утверждение в «Социологии», С. 104.
46 В монографии о «Примитивном законе»; повторно упомянуто в «Генетической социологии» (С. 104 и далее). : >
47 «Социология» (С. 44-50). . s \ <
48 Там же. С. 58.
Эволюция от одной стадии к другой не является, по мнению Ковалевского, прогрессом, возложенным на человека судьбой (если использовать термин Шпенглера), представленная каким-либо единственным фактором, будто расой, экономической потребностью или чем-либо другим. Жизнь Ковалевского характеризовалась доминированием монистических теорий в социологии; но, принимая концепцию Конта о взаимозависимости факторов, он сделал все для того, чтобы скомбинировать эти теории и сформулировать плюралистскую теорию социальной каузальности. «Принимать гипотезы экономического монизма,— полагал он,— или противоположные гипотезы Штена и Гнейста49 было бы допустимо, только если они опирались бы не на изучение той или иной нации, а на изучение всего развития человечества; вплоть до сегодняшнего времени это не было сделано»50. Несмотря на его склонность к изучению демографического фактора (см. ниже), он также боролся с демографическим монизмом. Когда А. Кост объяснил весь процесс эволюции единственно ростом населения, он был, с точки зрения Ковалевского, виновен в односторонности так же, как и марксисты51.
Личностная позиция Ковалевского по данному предмету была выражена в двух приводимых пассажах:
Социология много выиграет, если попытка найти первопричину будет исключена из числа ее непосредственных проблем, и если она ограничит саму себя в соответствии со сложностью социальных феноменов, чтобы показать одновременное и параллельное действие и влияние многих причин52.
Говорить о центральном факте, который бы предопределил все остальные, для меня то же, что говорить о всех каплях воды в реке, которые своим движением обусловливают ее течение. Я думаю, что в будущем проблема будет не решена, а просто подавлена. Я объясняю важность, которая присуща этой проблеме в современной социологии, желанием найти выход из хаоса неисчислимых действий и влияний, из которых и состоит прогресс53.
Проникновение Ковалевского глубоко внутрь двусторонней взаимозависимости факторов было во многом основано на его исторических монографиях, в которых только этот вопрос и обсуждался. Центральная идея «Экономического роста Европы» — связь между ростом населения и формами экономической жизни. Работа, названная «От непосредствен
49 И Штейн, и Гнейст считали политический фактор основным.
50 «Современные социологи» (С. 240).
si Там же. С. 247. • • > .
52 Там же. Гл. XIV.
53 Там же. Гл. VIII.
ной к представительной демократии», была посвящена изучению корреляции между политической структурой и политическими идеалами. Труд «Происхождение современной демократии» подчеркивал взаимозависимость между экономической структурой, политической структурой и политической доктриной. В некоторых случаях Ковалевский обсуждал принцип взаимозависимости в связи с определенными факторами. Так, например, он отрицал, что политические и правовые институты могли более тесно относиться к экономическим феноменам, нежели к накоплению знания54. Не всегда, говорит он, самый богатый человек становится руководителем; во многих случаях эта зависимость или сильнее, или благоразумнее55. Было бы большой ошибкой игнорировать влияние конфликта племен и наций (политический фактор) по критерию сословий или классов, независимых от разделения труда и накопления богатства (экономический фактор)56.
Весьма побудительным был анализ Ковалевского проблемы видимого доминирования различных факторов в различных эпохах. Все человеческие потребности, говорил он, находятся в постоянном взаимодействии, которое иногда становится частичным антагонизмом. Временно та или другая потребность может стать доминирующей57. Во времена Александра Македонского, завоеваний и варваров, Наполеона доминировал политический фактор; в период борьбы пап и императоров, или Реформации, так же как и в определенные периоды китайской истории, религиозный фактор играл главную роль; в период перехода от рабства к свободному труду экономический фактор имел наибольшую значимость. Однако более глубокий анализ показывает, что всегда каждый аспект социальной жизни был подвержен важным изменениям, естественно, в тесной связи с изменениями относительно доминирующего фактора. Социальный процесс никогда не останавливается, хотя временами он то более, то менее очевиден58.
Приемлемость принципа плюралистичной каузальности порождает хорошо известные сложности. Ковалевский решил проблему, используя модели, которые можно считать аналогичными моделям «переходной стабилизации»: каждая ситуация подвержена влиянию в различных направлениях одновременно и может возниг ать не одним, а многими способами, хотя и не случайно. «Невозможно объяснить все социальные явления,— считал он,— апеллируя к абстрактным законам. В каждой конкретной среде эти законы проявляют себя одновременно с рядом определенных причин, которые частично ускоряют и одновременно частично
54 «Социология» (С. 114).
55 Там же. С. 102-103.
56 «Генетическая социология» (С. 19).
57 «Современные социологи» (С. 286).
58 Там же. Гл. XIV.
сдерживают их влияние» 59. Обращаясь к этим общим идеям касательно одного из его любимых объектов изучения — эволюции аграрных сообществ под влиянием роста населения — он писал:
Социальное событие может быть результатом большего или меньшего количества причин. Допустим, что рост населения заставляет людей переходить от трехполосной системы к более сложной системе земледелия. Для того чтобы сделать это, люди должны упразднить систему наследования и распределения на доли. Какой самый вероятный вариант развития событий? Не заменит ли один фактор другой? ...Мы не имеем возможности определить величину конвергенции или расхождения причин и решить, '-’s следует ли посчитать их действия в терминах арифметики или геометри-j • ческих пропорциях60.
IV. Изучение населения и популяционные изменения
Полное понимание плюралистичного характера социальной каузальности не помешало Ковалевскому выбрать одну такую причину для пристального изучения. Этой причиной стал рост населения и его плотность, которая, как ему казалось, дает самый постоянный импульс к экономическому развитию. Он писал:
В моих лекциях в Брюсселе по истории экономического развития Европы, z, также как и в моем большом труде по данному предмету, я пытался опреде-. , лить влияние плотности населения по изменениям в организации производства и обмена и в структуре благосостояния. Этот фактор спровоцировал переход от стадии охоты и рыболовства к земледелию и от примитивной системы земледелия к более интенсивной с соответствующими изменениями в системе землевладения и собственности... Замещение натурального хозяйства системой мануфактурного производства в промышленности произошло благодаря тому же фактору. ...Таким образом, простой факт роста населения вызвал в дальнейшем разделение труда, социальную дифференциацию ; на касты, слои и классы, и эволюцию техники производства так же, как и экономического режима61.
Иллюстрируя это базовое предположение, он показал, что даже в тринадцатом веке процесс эмансипации крепостных большей частью был успешным. Но Черная Смерть 1348 года уменьшила население наполовину, и результирующий рост стоимости рабочей силы послужил причиной законодательного сдерживания процесса эмансипации62. Он настаивал,
59 Там же. С. 59.
60 Там же. Гл. XI.
61 Там же. С. 200-201.
62 «Экономический рост Европы». Т. II, гл. X, XIV, XV.
что экономическое развитие колониальных земель также зависело от демографического фактора:
Экономический процесс, который начался в метрополиях, продол- ; жился в колониях, однако значительно медленнее из-за меньшей плотности населения и дополнительного действия двух вторичных причин: (1) необходимости использования рабочей силы культурно отстающих рас и (2) необходимости расходования части социальных сил на агрессивные и оборонительные операций63.
Однако Ковалевский никогда не преувеличивал роль демографического фактора, и его никогда не обвиняли в демографическом монизме64. Во-первых, он всегда утверждал, что только на экономическую эволюцию прямо влиял демографический фактор, особенно на ранних стадиях. «Целесообразно ли,— спрашивал он,— идти дальше в описании изменений в государстве и церкви, накопления технических знаний, возможно также, теоретических идей посредством влияния того же фактора? Я так не думаю» 65.
Во-вторых, он всегда подчеркивал тот факт, что демографический фактор никогда не действует в одиночку. Рост населения (преимущественно биологический фактор) увеличивает или уменьшает его действие на социальную эволюцию в отношении многочисленных чисто социальных причин: разрушительные войны, прогресс или регресс в социальной гигиене, контроль рождаемости (основанный на религиозных и моральных принципах или на индивидуальном или классовом эгоизме)66. В этой связи он упоминал беспорядки, которые повлекли переселенцы (мирные или в результате войны)67 и вмешательство правительств (разрешение или ограничение эмиграции)68.
63 «Современные социологи» (С. 268).
64 В одной из его поздних работ он отрицал лавры создателя демографической школы в социологии: согласно ему, меркантилисты, физиократы и Конт уже достигли полного понимания важности плотности населения. Будучи обвиняемым марксистами в первенстве признания, а потом в отрицании детерминирующей роли демографического фактора, он пояснял, что односторонность его трактата «Экономический рост Европы» была преднамеренной («Современные социологи», с. 291). Как поясняет Сорокин, в этом труде демографический фактор был представлен уже как «независимая переменная» (методологическая процедура), не как «causa efficiens» («В память»).
65 «Современные социологи» (С. 202). < .
66 Там же. Гл. XIII.
67 Там же. С. 168. • ' < -
68 Тамже. С. 246. ‘ • 4
VII. Факторы социальных изменений
«Факторы» Ковалевский никогда не считал прямо вынуждающими действовать людей специфическим образом. Он тщательно разработал учение о механизме социальных изменений, в котором подчеркивалась роль личности 69. Так, например, «когда обнаруживается недостаток в еде, разум ищет решение проблемы и находит его либо в эмиграции, либо в приручении животных, либо в первых попытках выращивать питательные культуры» 70. Похожим образом он объясняет рост политического лидерства (возникновение политического фактора): «Необходимость регулирования новых ситуаций требует использования дополнительной психической энергии. В таких обстоятельствах действия личностей, которые обладают инициативным и творческим духом, становятся необходимыми, тогда как массы не способны сделать что-либо, кроме как подчиниться действиям инициатора»71.
Процесс социальных изменений, по мнению Ковалевского, может быть описан двумя соотносимыми способами: во-первых, как последовательность новаций, имитаций и согласований (вторичные новации); во-вторых, как постепенный рост и разработка правил поведения 72. Оба аспекта связаны между собой следующим образом:
Личностные новации и подражание отражаются в изменениях обычаев и, отсюда, закона. В каждом правовом институте возможно обнаружить оба элемента. Так, например, частное присвоение земли первоначально кажется личностной новацией; подражание и согласование трансформируются в институт частного благосостояния 73.
Долгое время новым правилам не хватает санкций, и они действуют ’’ на уровне морали. ...Они могут вступать в конфликты с существующим правовым порядком, но это не мешает им постепенно стать признанными в законном порядке и позднее быть включенными в систему правовых установлений 74.
Эти идеи были во многом основаны на прямом рассмотрении социальных и правовых институтов на Кавказе. Это исследование, кстати говоря, склонило Ковалевского к отрицанию фундаментальных идей
69 Возможно, под влиянием российской школы социологии.
70 «Социология» (С. 300).
71 «Генетическая социология», С. 200, 215, со ссылкой на статью Е. Мамфорда «Происхождение лидерства» в «Американском журнале социологии», XII (1906 г.). С. 216 и далее.
72 «Современные социологи» (С. 138-139).
73 «Социология» (С. 63-68). , .
74 «Современные социологи» (С. 138-139).
исторической школы — превосходства обычая в формировании правовых сводов. «Обычай,— говорит Ковалевский,— часто является результатом религиозного фанатизма, насилия и деспотизма; зачастую он не становится источником более позднего закона, а, напротив, отражает более ранний закон, который перестал исполняться по требованию жизни»75.
VIII. Влияние Ковалевского на социальные науки
В статье, посвященной памяти Ковалевского, Рене Вормс написал: «Для французской и английской социальной науки он был представителем российской социальной науки, тогда как все в России признавали, что никто не знал лучше, чем он, достижения западной науки. Таким образом, он был связующим звеном двух миров — Западной Европы и России».
Однако было бы сложно найти следы его прямого влияния на западную науку. Кост признавал, что был обязан Ковалевскому пониманием роли демографического фактора. Лория, который в определенный период подчеркивал этот фактор в своих работах, оспаривал приоритет Ковалевского. Ортодоксальные марксисты подвергали нападкам те утверждения Ковалевского, в которых он отрицал всеопределяющую роль экономического фактора.
В России Ковалевский получил удовлетворение от наблюдения за становлением молодого поколения социологов, на которых он непосредственно повлиял. Но он ушел из жизни лишь за восемь месяцев до того, как нарушилась целостность в российской социальной науке, что произошло по причине роста силы коммунистов, которые имели целью установление монополии марксизма. Большинство его учеников были лишены возможности демонстрировать свои таланты и продолжать работу. Один из самых блестящих, Н. Д. Кондратьев, после небольшого периода лидерства в российской сельской социологии неожиданно исчез. Наиболее знаменитому из учеников было суждено бежать и стать выдающимся американским социологом — П.А. Сорокину76.
Однако теоретические системы существуют отдельно от персоналий. Что было предначертано построениям Ковалевского?
Один из таких элементов — теория однолинейной эволюции прогресса была однозначно отвергнута. Но следует помнить, что Ковалевский принимал ее только с большими оговорками и модификациями, и его учение
75 В своей работе «Современный обычай и древний закон» Ковалевский дает детальное описание пагубных обычаев. Для иллюстраций смотрите мое «Введение в социологию права» (Кембридж, Массачусетс, 1939). С. 128.
76 Среди других учеников Ковалевского следует упомянуть Е. Кулишера, также политического эмигранта, который опубликовал (в Германии) хорошую книгу, А. и Е. Кулишер «Kriege- und Wanderzuge» (Берлин, 1932).
о возможных причинах культурного тождества является одной из доминант социальных наук в наши дни, вероятно, вместе с принципами «ограничения возможностей».
Другой элемент, за который он постоянно боролся и который при его жизни был принят только незначительным меньшинством, одержал решающую победу; это идея плюралистичности социальной каузальности, или взаимозависимости факторов. Под многими из утверждений Ковалевского могли бы подписаться и последователи Парето, и современные функционалисты. Идея, безусловно, сформировала фундамент для социологической теории Сорокина.
Ковалевский никогда не заявлял, что он был оригинальным в своем предмете; он признавал свой долг перед Контом и его предшественниками. Его огромная заслуга состояла именно в сохранении известной идеи на поколения, для которой был характерен почти массовый отказ и которая саккумулировала ошеломляющую очевидность в свою пользу.
В отношении социальных наук в целом можно сказать, что выдающийся вклад Ковалевского заключался в представлении исторических и антропологических концепций и данных социологии, а также в доказательстве историкам важности обращения к социологическому и антропологическому материалу. Среди социальных ученых в других странах, чьи работа и интересы отвечали творчеству Ковалевского, были Маркс и Альфред Вебер в Германии, Л.Т. Хобхаус в Англии, Александр Голденвейзер, Джеймс Т. Шотвелл, Гарри Эльмер Барнс и Хаттон Вебстер в США.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Авалов (Зураб Давидович Авалишвили; 1876-1944) — выдающийся грузинский историк, дипломат и юрист, — 28
Аввакум (протопоп Аввакум; 1621-1682) - протопоп города Юрьевца-Повольского, противник богослужебной реформы Патриарха Никона XVII в.; духовный писатель,— 90, 567
Аверроэс (Абуль Валид Мухаммад ибн Ахмад ибн Рушд; 1126-1198) — западноарабский философ,— 504
Авиценна (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина; 980-1037) — таджикский философ и врач, представитель восточного аристотелизма,— 357
Авраам — ветхозаветный патриарх, одна из ключевых фигур в иудаизме, христианстве и исламе, именующихся авраамическими религиями,— 36,353,455
Аврелий Марк (121-180) — римский император (с 161) — 559-560, 562
Агамемнон в древнегреческой мифологии царь микенский, полководец в троянской войне, один из главнейших героев древнегреческого национального эпоса — «Илиады» Гомера, - 91
Адемар Альфонс Жозеф (1797—?) — известный французский математик, написавший много элементарных руководств по различным отраслям математики, — 440
Айертон (Айртон) Генри (1611-1651) - идеолог умеренных индепен-дентов во время Английской революции XVII в, — 457
Аксаков Константин Сергеевич (1817-1860) — критик, поэт, публицист, драматург, историк, филолог,— 570-571,606
Александр I Павлович Романов (1777-1825) — российский император (с 1801).- 12, 542, 575-576, 581, 589-590, 594, 598
Александр Македонский (356-323 до н.э.) — македонский царь (с 336 до н.э.) из династии Аргеадов, основатель мировой эллинистической державы; самый прославленный полководец античности,— 115, 177, 266,637
Алексей Михайлович Тишайший (1629-1676) — второй русский царь из династии Романовых (1645-1676).— 54
Алексей Петрович (1690-1718) — русский царевич, старший сын Петра I и его первой жены Е. Ф. Лопухиной. Стал участником оппозиции реформам Петра I. Бежал за границу, был возвращен и осужден на казнь,— 567
Аленгри (Alengry) Франк (1865-194?) французский философ, публицист, — 187
Алквист Карл Август Энгельберкт (1826-1889) — финский поэт, филолог, исследователь финно-угорских языков, внесший значительный вклад в финно-угроведение литературный критик,— 159
Алкидам из Элей Алкиды. В греческой мифологии Алкиды — сыновья Геракла и Мегары, старшей дочери фиванского правителя Креонта,— 517
Альтузий Йоханн — (ок. 1557-1638) — немецко-голландский политический теоретик, родоначальником современных теорий федерализма и консоционализма; философ права,— 92,119,270
Альфьери Витторио, граф (1749-1803) — итальянский поэт и драматург-классицист, «отец итальянской трагедии»,— 413
Амабиле Луиджи (1828-1892) — врач, историк и итальянский политик,— 339,348, 350-352
Аммон Отто (1842-1916) - немецкий издатель и антрополог, представитель социального дарвинизма, расово-антропологической школы, — 247
Анненков Павел Васильевич (1813-1887) — русский литературный критик, мемуарист, эстетик,— 605
Анфантен Бартелеми Проспер (1796-1864) — французский философ-утопист, представитель сен-симонизма, социальный реформатор,— 190
Алони Альберт (1846-1933) — венгерский дипломат и государственный деятель,- 595
Араго Доминик Франсуа Жан (1786-1853) - французский физик и астроном,— 376,378
Арии — самоназвание исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии (II—I тыс. до н.э.), говоривших на арийских языках индоевропейской семьи языков,- 158-159,165
Аристид (около 540 — около 467 до н.э.) — политический и военный деятель Афин периода греко-персидских войн 500-449 до н.э, — 91
Аристотель (384 дон.э,— 322 до н. э) — древнегреческий философ, воспитатель Александра Македонского,— 72,100,111,130,139,177,179, 212,251,262,286,295,347-348,360,411,433-434, 504, 518, 559-560, 562, 582, 597
Арнольд Брешианский (?—1155) — проповедник, вокруг которого возникло средневековое антиклерикальное течение «арнольдизм», последователь Абеляра,- 173,340
Аткинсон Вильям Уокер (1862-1932).- Известен под псевдонимом Рама-чарака, на рубеже XIX-XX вв. занимался популяризацией индийской философии на Западе.— 143
Ахенваль Готфрид (1719-1772) — немецкий философ, историк, экономист, юрист, педагог и один из основоположников статистики, — 586
Ваверк Бем Эйген (1851-1914) — австрийский экономист.— 274
Бадер Иосиф (Bader) (1805—?) — историк великого герцогства Баден.— 547 Базар Сент Аман (1791-1832) — французский социалист утопист.— 190
Бакунин Александр Михайлович (1768-1854) — русский поэт и публицист, отец известного русского революционера анархиста Михаила Бакунина,— 590-593
Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) — революционер, теоретик анархизма, один из идеологов народничества.— 590-594, 599, 605-609
Бальдакнни (Baldacchini) Мишель ди Барлетта (1803-1870) - итальянский писатель, биограф Кампанеллы,— 348,362
Бальдвин (Болдуин) Джеймс Марк (1861-1934) - американский психолог, социолог и историк,— 274
Бальзак Оноре де (1799-1850) — французский писатель-романист,— 545 Барбес Арман (1809-1870) — французский революционер,— 222-223
Барнс Гарри Элмер (1889-1968) — американский историк и социолог, основатель школы нового подхода к истории, известного как «ревизионизм»,— 626, 642
Барнфильд Ричард (1574-1627) — английский поэт,— 522
Барт Генрих (1890-1965) — швейцарский, философ, представитель критического идеализма, приближающегося к философии экзистенциализма,— 237, 525
Бастиа Фредерик (1801-1850) — французский экономист. Один из авторов теории гармонии интересов труда и капитала,— 470
Бастиан Генри-Чарльтон (1837—?) — английский психиатр, немецкий этнолог-эволюционист,— 109, 260, 371
Батеньков Гавриил Степанович (1793-1863) — русский поэт-декабрист,— 578
Баумштейн А,— 32
Бахофен Иоганн Якоб (1815-1887) - швейцарский историк права и религии. Положил начало изучению истории семьи и проблемы матриархата,— 20,173, 501-502
Бейл (Бейли) Пьер (1647-1706) — французский публицист и философ, ранний представитель Просвещения; с позиций скептицизма отвергал возможность рационального обоснования религиозных догматов, утверждал независимость морали от религии,— 449
Беккариа Чезаре Бонесано (1738-1794) — итальянский мыслитель, публицист, правовед и общественный деятель, выдающийся деятель Просвещения, — 579
Бекман Иоганн (1739-1811) — немецкий ученый, придумавший термин «технология» для обозначения «науки о ремесле»,— 585
Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) — русский критик и публицист,— 539, 570, 573,606
Бело,— 245
Бенерей.— 165
Бентам Иеремия (1748-1832) — английский социолог, юрист, родоначальник одного из направлений в английской философии — утилитаризма,- 459, 545-546, 576, 578-579
Бергсон Анри (1859-1941) — французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни, — 245
Бёрк (Бурк) Эдмунд (1729-1797) — британский политический философ и эстетик, политический деятель и публицист,— 584
Берти Доменико — итальянский государственный деятель, философ и литератор,— 348
Бертон Ричард (Burton) (1821-1890) — исследователь, лингвист и антрополог,- 142,147
Бестужев (Марлинский) Александр Александрович (1797-1837) —
русский писатель, критик, публицист; декабрист,— 580
Бестужев Михаил Александрович (1800-1871) - декабрист, писатель,— 576
Бестужев Николай Александрович (1791-1855) — декабрист, брат
А. и М. Бестужевых, писатель, критик и художник. — 580
Биньон Луи-Пьер-Эдуард (1771-1841) — французский дипломат, публицист и историк, — 578
Бирон Эрнст Иоганн (1690-1772) — регент Российской империи при несовершеннолетнем императоре Иване VI,— 567
Биш Перси Шелли (1792-1822) - английский поэт,— 196,211
Блан Луи (1811-1882) — французский утопический социалист, историк, журналист,— 369, 456,464
Блекстон Уильям (1723-1780) — виднейший английский юрист XVIII в,- 583
Блюнчли Иоганн Каспар (1808-1881) — швейцарский юрист, специалист по государственному и международному праву и по истории права,— 104,255-256
Бобрищев-Пушкин Николай Сергеевич (1800-1872) — декабрист, писатель, переводчик, — 579
Бодмер Иоганн Якоб (1698-1783) — швейцарский писатель, филолог, литературный критик,— 583 ,
Бодэн Жан (1529-1596) — идеолог французского абсолютизма, один из создателей буржуазной теории права, - 72,179, 247, 394, 411
Бозанке (Бозанкет) Бернард (1848-1923) — британский философ, представитель неогегельянства,— 522
Бокль Генри Томас (1821-1862) — английский историк и социолог-позитивист,— 180, 237, 247, 507, 524
Бональд Лун Габриэль Амбруаз (1754-1840) - французский философ, родоначальник традиционализма, активный политический деятель периода Реставрации,— 577
Бонне (Боннет) Шарль (1720-1793) — швейцарский натуралист и философ,— 597
Бонсерф Пьер Франсуа (1745-1794) — адвокат, экономист и политический писатель,— 378, 394
Борромео Карло (1538-1584) — кардинал и святой католической церкви. Один из самых видных деятелей Контрреформации, инициатор реформы монашеских орденов,— 341
Боссюэт Жак Бенинь Боссюэ (1627-1704) — французский проповедник и богослов XVII в., писатель, идеолог абсолютизма,— 559, 562, 564, 600
Ботеро Джованни (1540-1617) — итальянский ученый, автор работ по истории финансов и государствоведению,— 92, 338-347, 349, 423
Боткин Василий Петрович (1811-1869) - русский очеркист, литературный критик, переводчик,— 606
Браганцская династия.— Браганца (Braganza) - родовое имя царствовавшей в Португалии династии, — 45
Брандес Эрнст (1758-1810) — юрист, ученый, писатель,— 587
Брентано Франц (1838-1917) — немецкий философ, непосредственный предшественник феноменологии,— 52,139
Бригген фон-дер Александр Федорович (1792-1859) — писатель, декабрист,- 587
Бриджес Роберт (1844-1930) — английский поэт,— 523-524
Бриенн Иоанн де (1595-1666) — французский государственный деятель,— 395, 406
Бринтон Дэниел Гаррисон (?-1899) — известный американский ученый, исследователь религиозных верований и фольклора доколумбовых цивилизаций, — 499
Бриссо Жак Жан-Пьер (1754-1793) - деятель французской революции, возглавлял партию жирондистов,— 18, 374-375
Бруннер (Brunner) Генрих (1840-1915) - немецкий историк, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1908).— 15,19, 627
Бруно Джордано (1548-1600) — итальянский монах-доминиканец, философ и поэт, представитель пантеизма,— 41, 338
Брунов Филипп Иванович (1797-1875) - русский дипломат в царствование Николая I в разные годы в Париже, Берлине и Лондоне,— 41
Бруссе Франсуа Жозеф Виктор (1772-1838) - французский ученый, врач,— 241
Бутле Селестен (1870-1940) — французский социолог и философ,— 10,480
Будда (санскр. просветленный) - в буддизме человек, достигший просветления, или нирваны. В буддизме также Будда — имя собственное основателя буддизма принца Сиддхартха Гаутамы,- 147,306, 349
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789-1859) — писатель, журналист, критик, издатель,— 539
Булэ Иоганн Готлиб Герхард (1763-1821) — немецкий философ-кантианец, проф. философии Гёттингенского (1787-1804) и Московского (1805-1811) университетов,- 586, 597
Бурбоны — европейская династия, младшая ветвь королевского дома Капетингов, происходящая от младшего сына Людовика IX Святого,— 45, 575
Буркгардт Якоб Кристоф (1818-1897) — выдающийся швейцарский историк и эстетик,— 143
Бутс Чарлз Джеймс (1840-1916) — английский общественный деятель и статистик,- 521, 534-535
Буттадюко,— 444
Бэйль Пьер (1647-1706) — французский публицист и философ, ранний представитель Просвещения,— 390
Бэкон Роджер (ок. 1214 - ок, 1292) — английский философ и естествоиспытатель,— 338, 357, 596
Бэкон Фрэнсис (1561-1626) — английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма,— 411, 597
Бэр Поль (1833-1886) — известный французский ученый и государственный деятель,— 244, 373
Бюиссон Фердинанд Эдуард (1841-1932) - французский педагог и общественный деятель,— 245
Бюргер Готфрид Август (1747-1794) — немецкий поэт, создатель балладного жанра в немецкой литературе,- 586
Бюрден.— 192,196-198, 212
Бюхер Карл (1874-1930) — выдающийся немецкий экономист, автор многочисленных трудов по истории первобытной культуры, народного хозяйства и рабочего движения,— 139
Вагнер Адольф (1835-1917) - немецкий экономист и политический деятель.-242, 274, 627
Вагнер Владимир Александрович (1849-1934) — русский биолог и психолог, основоположник сравнительной психологии в России, — 8, 371
Вала (Валла) Лоренцо (1407-1457) — итальянский гуманист, философ, писатель,— 189-191
Валлет Г.— 441
Вальдгрев Гренвилл Август Вильям, третий барон Редсток (1833-1913). — С его именем связывают возникновение Редстокизма — религиозное течение протестантского толка, распространенное в российских аристократов в 1860-1900 гг,- 419
Вальполь Роберт Уолпол, 1-й граф Орфорд (уст. Вальполь; 1676-1745) — британский государственный деятель,— 401
Вандервельд Эмиль Вандервельде (1866-1938) — бельгийский социалист, — 534
Варрон Марк Теренций (116-27 до н. э.) - римский ученый-энциклопедист и писатель,— 37,41
Васильев Афанасий Васильевич (1851-1929) — общественный деятель и писатель, публицист неославянофильского направления,— 23, 572-573
Васко да Гама (1460-1524) — португальский мореплаватель, известен как первый европеец, совершивший морское путешествие в Индию, — 340
Ватель Эммер де (1714-1767) — швейцарский юрист, дипломат на саксонской службе, специалист по вопросам международного права,— 579
Вебб Филипп Картерет (1700—?) — английский археолог и юрист, замечательный знаток английского конституционного,— 535
Вебер Альфред (1868-1958) — немецкий экономист и социолог. Младший брат всемирно известного социолога, историка и экономиста Макса Вебера, — 642
Вебер Максимилиан Карл Эмиль (1864-1920) - немецкий социолог, историк, экономист,— 626
Вебстер Хаттон (1875-1955) — американский социолог,— 642
Веджвуд Джозиа (1730-1795) — английский дизайнер и художник-керамист, наиболее прославленный мастер декоративно-прикладного искусства своего времени, один из прародителей промышленного дизайна,— 531
Веджвуд Томас (1771-1805) — один из первых изобретателей фотографии,— 531
Вейсман Август (1834-1914) - немецкий зоолог и теоретик эволюционного учения,- 128-129,131, 299-301, 531
Венгеров Семен Афанасьевич (1855-1920) — русский литературный критик, историк литературы, библиограф и редактор, — 539, 570
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805-1827) - русский поэт романтического направления, переводчик, прозаик и философ,— 601-602,604
Верньё Пьер Виктюрниен (1753-1793) — французский политический деятель, революционер, глава жирондистов, деятель французской революции конца XVIII в,— 374, 376
Вернэ — вдова скульптора Верне, предоставляла убежище в своем доме деятелям французской революции в 1793-1794 гг,— 407,412
Веселовский Константин Степанович (1819-1901) — русский ученый статистик, занимался политэкономией,— 598
Вестермарк Эдвард Александр (1862-1939) — финский и британский этнограф и социолог,— 137,371,476
Виельяр.— 216
Вик д’Азир Феликс (1748-1794) — французский анатом, врач, известный открытиями в сравнительной анатомии,— 196
Вико Джамбаттиста (1668-1744) — итальянский философ эпохи Просвещения, автор современной философии истории, один из основателей антропологии и этнологии,— 9,182, 186, 278, 327, 330, 374, 423,433,445, 504
Виллари Эмилио (1836-1904) — итальянский физик,- 339
Вильгельм I Завоеватель (1028-1087) — английский король (с 1066).— 514
Вилькс Джон (1727-1797) — английский публицист и общественный деятель,— 412
Вильсон Томас (1856-1924) - 28-й президент Соединенных Штатов Америки (1913-1921).— 629
Винцент из Бовэ (1190-1264) — доминиканский монах, богослов, энциклопедист, философ и педагог,— 453
Виргилий Публий Вергилий Марон (70 до н. э,— 19 до н. э.) — римский поэт,— 583
Вирхов Рудольф Ллюдвиг Карл (1821-1902) — немецкий патологоанатом, антрополог, археолог и политический деятель,— 523
Вис Иоганн-Рудольф (1781-1830) — швейцарский поэт, был профессором философии в Бернской академии,— 15
Витте Сергей Юльевич (1849-1915) — русский государственный деятель, — 31
Вишницер Марк Львович (1882-1955) — политик, журналист, редак-тор,- 584, 586
Владимир I Святославич (ок. 960-1015) — киевский великий князь, при котором произошло крещение Руси,- 288, 503
Волков.— 144
Волконский Сергей Григорьевич (1788-1865) — герой Отечественной войны 1812 г„ декабрист,— 577
Вольтер Франсуа-Мари Аруэ (1694-1778) — французский философ-просветитель поэт, прозаик, сатирик, историк, публицист, правозащитник,- 12, 90, 185, 376, 385-387, 389-392, 394, 411, 416, 434, 532, 544, 547, 575,577-579, 582-584, 594-595, 600
Вольтман Людвиг (1871-1907) — немецкий философ, социолог и публицист, по образованию врач-окулист,— 130
Вольф Христиан фон (1679-1754) — немецкий ученый-энциклопедист, философ, юрист и математик.— 580, 584
Вормс Рене (1869-1926) — французский социолог, представитель органической школы в социологии,— 10, 94, 98, 100, 244-245, 247-251, 313-326, 330-332,336,368,453,480,484-487,490-497, 502, 504-508, 536, 641
Вундт Вильгельм Максимилиан (1832-1920) — немецкий физиолог, основатель экспериментальной психологии,— 306, 371
Вьельгорской (Вьельгорский) М.— 444
Габсбурги — династия, правившая в Австрии (с 1282 — герцоги, с 1453 — эрцгерцоги, с 1804 — австрийские императоры).— 46, 64
Гагарин Иван Сергеевич (1814-1882) — князь, писатель,— 595
Гайм Рудольф Хайм (1821-1901) — немецкий философ, историк и публицист,— 588
Галиани Фердинандо (1728-1787) — итальянский экономист и писатель эпохи Просвещения,— 577
Галилей Галилео (1564-1642) — итальянский физик, механик и астроном, один из основателей естествознания. — 215,338,348, 353
Галич Александр Иванович (1783-1848) — русский философ и эстетик,— 12-13, 587, 598, 601, 606
Галлиани Фердинандо (1728-1787) — аббат, политэконом,— 378, 412
Галль Франц Йозеф (1758-1828) — австрийский врач, создатель френологии,- 180-182,273
Гальтон Фрэнсис (1822-1911) — английский психолог и антрополог. — 260,528-533
Гамбаров Юрий Степанович (1850-1926) - юрист-цивилист, теоретик гражданского права,— 10,17, 22, 26-27, 283
Гамильтон Уильям (1788-1856) — английский философ,- 273
, Гамураби (Хаммурапи) (1792-1750 до н. э.) — царь Вавилонии, политик и полководец,— 36,455
Гара Доминик Жозеф (1749-1833) — франц} зский публицист и политический деятель,— 413
Гарве Харви Уильям (1578-1657) — английский врач и естествоиспытатель, один из основоположников современной физиологии и эмбриологии,— 178
Гарингтон Джеймс (1611-1677) — английский публицист эпохи Английской революции XVII в., идеолог нового дворянства и буржуазии.— 130
Гарнье Жозеф (1813-1881) — французский экономист. — 588
Гарофоло Рафаэле (1851-1934) — итальянский ученый-криминалист, ученик и продолжатель Чезаре Ломброзо,- 337
Гаррингтон (Харрингтон) Джеймс (1611-1677) - английский публицист, идеолог нового дворянства. — 596, 598
Гассенди или Гассенд Пьер (1592-1655) — французский философ, математик, астроном и исследователь древних текстов.— 353,362,597
Гастон Ришар — французский социолог.— 108, 259
Гастон Эжен Мари Боннье (1853-1922) — французский биолог ботаник и естествоиспытатель, — 498
Гауит,— 138
Гвичардини (1482-1540) — итальянский историк, правовед,— 178-179
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) — немецкий философ.— 39,130,185,189, 248, 289, 295, 514, 538, 580, 609, 613
Геддес Патрик (1854-1932) — шотландский биолог, социолог и градостроитель,-521-522, 533-535
Гейне Генрих (1797-1856) — немецкий поэт-романтик, прозаик, публицист и критик,— 532
Геккер Юлиус Франк (1846-1927) американский социолог,— 624
Гёксли (Хаксли) Томас Генри (1825-1895) — английский биолог и педагог,— 109, 260
Гельвеций Клод Адриан (1715-1771) — французский философ-материалист XVIII в, - 386, 392, 405, 578-579, 582, 595, 600
Гельспиций,— 41
Ген (Хен) Виктор (1813-1890) — немецкий историк, культуролог, филолог,— 163-165
Генрих IV Бурбон (Генрих Наваррский, Генрих Великий; 1553-1610) — король Франции, рожденный в протестантизме, открыл себе доступ к французскому престолу переходом в католичество. — 391
Генрих VI Ланкастерский (1422-1461) - король Англии (1422-1461).— 589
Генрих VII (1457-1509) - король Англии и государь Ирландии (1485-1509), первый монарх из династии Тюдоров,— 356
Генрих Птицелов (ок. 874-934) — герцог Саксонии (с 912) — первый король Восточно-Франкского королевства (Германии) (с 919) из Саксонской династии,— 106, 257
Герар Бенжамен Адм Шарль (1797-1854) — французский буржуазный историк, автор ряда работ по истории средневековой Франции, — 233
Герен Арнольд (1760-1842) — немецкий историк, профессор Геттингенского университета,— 233, 587-588
Герцен Александр Иванович (псевдоним Искандер; 1812-1870) — русский революционер, писатель, философ и публицист.— 12-13, 30-31, 574, 605-606
Гершензон Михаил Осипович (Мейлих Иосифович; 1869-1925) — русский литературовед, философ, публицист и переводчик,— 550, 571, 574, 592, 609
Гесиод (из Аскры; Гезиод) (VIII-VII в. до н.э.) - древнегреческий поэт и рапсод, представитель направления дидактического и генеалогического эпоса.— 236
Гёслер.— 139
Гете Иоганн Вольфганг фон (1749-1832) — немецкий поэт,— 546, 581
Гётчисон (Готчиссон) Джонатан (Хатчинсон) (1828-1913) — английский хирург и дерматолог.— 596, 598
Гиббон Эдуард (1737-1794) — английский историк, автор исторического труда «История упадка и крушения Римской империи».— 412
Гиддингс Франклин Генри (1855-1931) — американский социолог, профессор социологии в США.- 247-248, 275, 297-298,303, 513
Гиллен Фрэнсис Джеймс (1855-1912) — австралийский антрополог,— 475, 497, 500-501,511-512
Гиппократ (около 460 до н.э,— 377 до н.э.) — знаменитый древнегреческий врач.— 179, 247
Гнейст Генрих Рудольф (1816-1895) — известный ученый и публицист,— 15,19,627, 636
Гоббс Томас (1588-1679) — английский философ-материалист,— 73, 94, 106,111,117, 212, 249, 257, 262, 268, 453,458
Гобино Жозеф Артюр де, граф (1816-1882) — известный французский писатель-романист, социолог, автор расовой теории, впоследствии «взятой на вооружение» национал-социалистами.— 237
Говард (Гауерд) Э.- 535
Гогель Сергей Константинович (1863-1933) — русский юрист.— 9
Гогенштауфены — династия южно-германских королей и императоров Священной Римской империи (1138-1254).— 106, 257
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) — русский писатель,— 29
Голденвейзер А. (1880-1940) — амерканский антрополог и этнограф,— 642
Гольбах Поль Анри (1723-1789) — французский философ немецкого происхождения, его трактат «Система природы» представляет собой изложение основных принципов французского материализма и воинствующего буржуазного атеизма XVIII в,- 385, 392, 579
Гом — Мёбес Григорий Оттонович (1868-1934) — был одним из вождей русского масонства и розенкрейцерства, активным членом мартинисткой ложи и теоретиком оккультизма,— 17, 32
Гомер — легендарный древнегреческий поэт-сказитель, которому приписывается создание «Илиады» и «Одиссеи»,— 236, 559-560, 562, 583
Гоммель Фриц (1854-1936) — немецкий востоковед,— 159
Гомон Г,— 575
Горн Арвид Бернхард (1664-1742) — шведский военный и государственный деятель,— 431
Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867- 1941) — русский литературовед, критик, переводчик, публицист, — 26
Готшед (Годшедт) Иоганн Кристоф (1700-1766) — немецкий писатель, критик, историк литературы и театра, виднейший писатель и теоретик раннего Просвещения,— 583
Гракхи, братья Тиберий (162 до н.э,— 133 до н.э.) и Гай (153 до н.э,— 121 до н.э.) — политические деятели Древнего Рима,- 37, 72, 505
Гранат. Братья Гранат Александр Наумович (1861-1933) и Игнатий
Наумович (1863-1941) — издатели и публицисты,— 18, 30-32
Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855) — русский медиевист, заложил основы научной разработки западноевропейского Средневековья. — 606
Грассери Ла де, Рауль Робер Герен де (1839-1914) — французский юрист, филолог, литератор,— 504
Греч Николай Иванович (1787-1867) — русский издатель, редактор, журналист, публицист, беллетрист, филолог, переводчик,— 539
Григорий VII,— 49, 62
Гримальди — одно из четырех семейств (альберго), которые на протяжении пяти столетий правили Генуэзской республикой. — 44
Гримм Фридрих Мельхиор (1723-1807) — немецкий публицист эпохи Просвещения, критик и дипломат, многолетний корреспондент императрицы Екатерины II,- 405,412
Гроссе Эрнст (1862-1927) - немецкий буржуазный этнолог и историк искусства, позитивист. — 245
Грот Яков Карлович (1812-1893) — филолог, академик Петербургской АН (1856).- 119, 270, 583
Гроций Гуго де Гроот (1583-1645) — голландский гуманист, теоретик права, государственный деятель.— 106, 257, 583
Губерт,— 394
Гумплович Людвиг (1838-1909) — австрийский экономист и социолог польского происхождения,— 110, 114-121, 247, 261, 265, 267-272, 330, 368
Гурнэ Жан Клод Венсан (1712-1759) - французский государственный деятель и экономист, близкий к физиократам; учитель А. Тюрго.— 383
Гус Ян (1369-1415) — проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации, — 360
Гэррес Йохан Йозеф Фон (1776-1848) — немецкий католический публицист, историк, светский теолог,— 601
Гюго Мари Гюго (1802-1885) - французский писатель (поэт, прозаик и драматург), глава и теоретик французского романтизма,— 545
Гюйо Мари Жан (1854-1888) - французский философ,— 10, 110, 261, 480-482
д’Аламбер Жан Лерон (1717-1783) — французский ученый-энциклопедист, философ, математик и механик, — 377, 390, 410-411,417, 597
д’Антрег — ученик Ж.-Ж. Руссо, литератор, публицист и международный шпион, — 398
д’Аржансон Рене Луи (1694-1757) — французский государственный деятель,— 445
д’Эйхталь Эжен (1844-1936) — французский философ, публицист,— 190-191 д’Эпремениль Дюваль Жан-Жак (1746-1794) - французский юрист и памфлетист, — 393-394
Давид — второй царь Израиля. Царствовал 40 лет (ок. 1005-965 до н.э.).— 353, 560, 562
Да Винчи Леонардо ди сер Пьеро (1452-1519) - великий итальянский художник и ученый, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения,— 338
Давыдов Иван Иванович (1794-1863) — филолог, философ, логик, математик, — 596-601
Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885) — русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель,— 625
Данте Алигьери (полное имя — Дуранте дельи Алигьери; 1265-1321) — итальянский поэт, один из основателей литературного итальянского языка,— 235,339
Дантон Жорж Жак (1759-1794) — один из отцов-основателей Первой французской республики, — 220,374,376, 409-410
Дантрег Эмиль (псевдоним Сварм) (ок. 1837—?) — французский железнодорожный служащий, член секции Интернационала в Тулузе.— 451
Дарвин Уорииг Роберт — практиковал как врач, был также вполне успешным финансистом, отец Ч. Дарвина. — 531
Дарвин Чарльз Роберт (Карл) (1809-1882) - английский натуралист и путешественник,— 79,94-95,108,110-113,122,124-126,128-131, 138, 249, 259, 261-264, 296-297, 299-300, 308, 312, 328, 454, 468, 508,523, 529
Дарвин Эразм (1731-1802) — врач, поэт, натурфилософ, трансформист, дед Ч. Дарвина,— 531
Даргун.- 139,165
Дарест де ла Шаванн Антуан Клеофос (1820-1882) — французский историк права.— 17,30,523
Де Греф Гийом (1842-1924) — бельгийский социолог. — 4, 243,245,247, 302-303, 312-318, 349, 358, 373, 480, 483-488
Де Бросс Шарль (1709-1777) — французский ученый, историк, политический деятель. — 208
Декарт Рене (1596-1650) — французский математик, философ, физик и физиолог).— 523, 597
Де ла Барр — кавалер, в 1766 несправедливо обвинен в осквернении святынь и в атеизме, казнен в Аббевиле.— 388, 391, 393
Делольм Жан-Луи (1740-1806) — швейцарский публицист, юрисконсульт, член Совета двухсот в Женеве,— 12, 576-579
Де Люк Вовенарг, Люк де Клапье (1715-1747) - французский писатель,— 440
Демокрит Абдерский (ок. 460 до н. э. - ок. 370 до н. э.) - древнегреческий философ, ученик Левкиппа, один из основателей атомистики,— 597
Демоленс (Демолен) Эдмон (1852-1907) — французский историк и социолог,— 247
Демулэн Люси Семплис Камилл Бенуа (1760-1794) — деятель Великой французской революции, адвокат и журналист, — 93
Де Роберти Евгений Валентинович (Де Роберти де Кастро де ла Серда; 1843-1915) — русский социолог, философ и экономист испанского происхождения,- 4,10,11,18,31-30,113,180, 245-247,264,302-303, 312-313, 521
Дерюжинский Владимир Федорович (1861-1926) — русский юрист, правовед, магистр полицейского права,— 16, 23
Де Ту Жак Огюст (1553-1617) — известный французский историк и государственный деятель.-
Джанотти Донато — итальянский политик и историк, — 73
Джевонс Вильям Стэнли (1839-1882) — английский экономист и логик. — 417
Джентилес Альберико (1552-1608) — итальянский юрист, один из основоположников современной науки международного права,— 347
Джефферсон Томас (1743-1826) - американский просветитель, философ и государственный деятель, — 402, 407
Дивов Василий Абрамович (1805-1842) — декабрист, мичман. Участник восстания 14 декабря 1825 г. Приговорен к вечной каторге. С 1839 г, рядовой в армии на Кавказе,— 578
Дидро Дени (1713-1784) — французский писатель, философ-просветитель и драматург, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел»,— 446,547, 579, 584, 595
Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (245-313) — римский император (с 284).-455
Довнар-Запольский Митрофан Викторович (1867-1934) — белорусский историк, этнограф, фольклорист, экономист,— 39-41
Долгорукие — представители русского княжеского рода, Рюриковичи,— 567
Дриль Дмитрий Андреевич (1846-1910) - известный русский криминолог, магистр права, общепризнанный глава русской ветви уголовноантропологической школы,— 29
Дюги.- 80-81
Дюдефан Мари де Виши-Шамрон (1697-1780) - французская писательница.— 404
Дюма Жан Батист Андре (1800-1884) — французский химик.
Дюмон Перье Этьен Луис (1759-1829) — политический писатель.— 413, 576
Дюпон Пьер Самюэль де Немур (1739-1817) — французский экономист и политический деятель, представитель школы физиократов.— 385
Дюркгейм Давид Эмиль (1858-1917) — французский социолог и философ,- 6,10-11,77-80,110,122-124,132,244-250,261,276, 302-312, 315-317, 323,325-326,370,477,481-481,486-487,493,495-497,502, 506, 510, 520, 522-523, 536
Екатерина I Марта Самуиловна Скавронская, Екатерина Алексеевна Михайлова (1684-1727) — российская императрица (с 1721 как супруга царствующего императора), с 1725 г,- как правящая государыня; вторая жена Петра I Великого.— 396, 567
Екатерина И Великая (1729-1796) — российская императрица (1762-1796).- 396, 547, 567, 576, 580-582, 584-585, 595
Екатерина Медичи (1519-1589) — французская королева, жена Генриха II, французского короля (1547-1559).— 347
Екатерина Павловна (1788-1819) — великая княжна; четвертая дочь Павла I Петровича и Марии Федоровны,— 594
Елизавета I (1533-1603) — королева Бесс — королева Англии и королева Ирландии (1558-1603).— 455
Елизавета Петровна (1709-1761) — российская императрица (1741-1761) из династии Романовых.— 135, 288,344, 396,457,459
Еллинек (Йеллинек) Георг (1851-1911) — немецкий юрист, представитель юридического позитивизма,— 87,101,103-104,106-107, 252, 254-255, 257-258
Ефремов Петр Александрович (1830-1907) — известный библиограф и библиофил,— 606
Жерандо Де Жозеф-Мария (1772-1842) — французский публицист и общественный деятель. — 596-598
Жэз Гастон — известный французский социолог,— 18
Загурский Леонард Петрович (1827-1891) — русский лингвист и этнограф. — 168
Зейдлер Густав (1858-1931) — основатель статистики как науки.— 100, 251
Зибер Николай Иванович (1844-1888) - радикальный публицист и экономист, первый в России популяризировавший теорию Маркса.— 138
Зиммель Георг (1858-1918) — немецкий философ и социолог.— 77,122, 248, 304, 316, 368, 477, 487
Золя Эмиль (1840-1902) — французский писатель, один из самых ярких представителей реализма и натурализма второй половины XIX в.— 533
Зюсмильх Иоганн Петер (1707-1767) — немецкий демограф, богослов.— 276
Иаков I (Яков I) (1394-1437) — шотландский король (1406-1437) из династии Стюартов.— 346
Ибн-Фоцлан Ибн-Фодлан (Федлан; Ахмед И.-Аббас И.-Рашид И.-Хеммад) — арабский писатель-путешественник X в,— 146
Иван III Васильевич (известен также как Иван Великий; 1440-1505) — великий князь московский) (с 1462).— 346
Иван Калита Данилович Калита Добрый (1283-1341) - московский князь (с 1325), великий князь Владимирский (с 1328), князь Новгородский (1328-1337).— 53
Иванюков Иван Иванович (1844-1912) - русский экономист и публицист,- 13,17, 23,30
Иеллинек - См.: Еллинек
Иеринг Рудольф фон Иеринг (1818-1892) — немецкий юрист, профессор гражданского права.— 152-153,155-156,165,172
Изулэ (Изуле) Лубатьер Жан (1854-1929) — французский философ и социолог, представитель органицизма.— 98, 247-248
Ингрэм Келле (1823-1907) - ирландский экономист и историк экономических учений.— 526
Ине Уэссекский (?—728) — король Уэссекса (688-726).
Иннокентий III (в миру — Лотарио ди Сеньи; 1160-1216) - папа римский (1198-1216).- 49, 62, 356
Иннокентий XII (в миру Антонио Пиньятелли дель Растрелло; 1615-1700) - папа римский (1691-1700).- 427
Иоанн (Джон) Безземельный (1167-1216) — король Англии (с 1199) и герцог Аквитании из династии Плантагенетов.— 457
Иоанн Златоуст (347-407) — архиепископ Константинопольский, богослов,— 360
Иоанн Салисберийский (1115-1180) - англо-французский богослов, схоластик, писатель, педагог, епископ.— 94, 249, 452
Иолшин Михаил Александрович (1830-1883) — русский генерал, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877-1878 гг.— 17,25
Иппократ — См.: Гиппократ
Истрнн Василий Михайлович (1865-1937) - русский литературовед, специалист по древнеславянским памятникам,— 596
Ифигения — в древнегреческой мифологии дочь царя Микен (или Аргоса) Агамемнона, которую он принес в жертву богине Артемиде, чтобы обеспечить благополучное отплытие греческого войска, направлявшегося к Трое.— 91
Кабанис Пьер Жан Жорж (1757-1808) — французский философ-материалист и врач,— 181,196,413
Кабэ Этьенн (1788-1856) — французский писатель, глава коммунистической школы, — 219
Кавеньяк Луи Эжен (1802-1857) — французский генерал. В 1848 г. военный министр, глава исполнительной власти Французской республики,— 221-222,231
Кавур Камилло Бенсо (1810-1861) — граф, государственный деятель и дипломат Пьемонта (Сардинского королевства) и Италии эпохи ее воссоединения,— 573
Кагонн.— 406
Кайданов Иван Кузьмич (1782-1843) — профессор истории в Царскосельском лицее,— 587
Кайсаров Андрей Сергеевич (1782-1813) — русский публицист, филолог, поэт,— 587, 590
Каласс Жан (1698-1762) — протестант, колесован Тулузе в 1762 г,— 388, 390
Калонн Шарль Александр (1734-1802) — французский государственный деятель. В 1783-1787 гг. генеральный контролер финансов,— 395
Кальвин Жан (1509-1564) — французский богослов, реформатор,— 441, 449-450, 532
Кампанелла Томмазо (1568-1639) — итальянский философ, поэт, политический деятель, ортодоксальный доминиканец (до пострига в монахи в 1582 г. Джованни Доменико).— 213, 338-339, 345, 347-360,362-366
Кант Иммануил (1724-1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии,— 130,151,178, 188-189, 273, 522, 580, 588, 594, 599-601, 606-609
Капетинги — происходящая из дома Робертинов династия французских королей, представители которой правили с 987 по 1328 г„ а по боковым линиям до 1848 г,— 52
Каракалла Септимий Бассиан (188-217) — римский император римский император (с 211) из династии Северов,— 70,72, 90,181
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) - русский историк-историограф, писатель, поэт,— 556-557, 594, 608
Кареев Николай Иванович (1850-1931) — русский историк и философ,-4,11,13, 617, 626
Карл XII (1682-1718) — король Швеции (1697-1718), полководец, большую часть своего правления участвовавший в продолжительных войнах в Европе,— 431
Карл Великий (742-814) — император Священной Римской империи (800-814), родоначальник Каролингов,— 106,157, 257, 455, 503
Карлос Карлуш I (1863-1908) — португальский король (1889-1908), представитель династии Браганса,— 45
Кассо Лев Аристидович (1865-1914) — русский юрист, государственный деятель.— 369
Кауфман Александр Аркадьевич (1864-1919) — русский экономист.— 85
Каченовский Дмитрий Иванович (1827-1872) — русский правовед. -15, 30
Каченовский Михаил Трофимович (1775-1842) — русский историк, переводчик, литературный критик, родоначальник «скептической школы» в русской историографии.— 180,192, 602
Кене Франсуа (1694-1774) — основатель школы экономистов, или физиократов,— 178,192
Кетлэ Адольф Ламбер Жак (1796-1874) — бельгийский математик, астроном, метеоролог, социолог. Один из родоначальников научной статистики.— 417
Кидд Бенджамин (1858-1917) - английский экономист и социолог. -128-129,299-300
Кинэ Эдгар (1803-1875) - французский историк.— 377, 574
Кир II Великий (Куруш) — персидский царь, правил в 559-530 гг. до н.э., из династии Ахеменидов. Основатель персидской державы Ахеменидов.— 179
Киреевский Иван Васильевич (1806-1856) — русский религиозный философ, литературный критик и публицист, один из главных теоретиков славянофильства.— 12,538, 542, 601, 609
Киреевский Петр Васильевич (1808-1856) — русский публицист, археограф и фольклорист. Видный деятель славянофильства, младший брат И. В. Киреевского,— 10,540,571, 611
Клейн Георг (1776-1820) - немецкий философ, последователь Шеллинга,— 498
Климент VIII (в миру Ипполито Альдобрандини; 1536-1605) — папа римский (1592-1605).— 355
Климент Александрийский (ок. 150 - ок. 220) — христианский философ и богослов,— 360
Клисфен (VI в. до н.э.) — афинский законодатель, — 71
Клопшток Фридрих Готлиб (1724-1803) — немецкий поэт, драматург.— 582-583
Клотц Христиан Адольф (1738-1771) — немецкий филолог-классик, журналист.— 413
Ключевский Василий Осипович (1841-1911) - русский историк,- 13, 30,120, 271, 568
Клюшников Иван Петрович (1811-1895) — русский писатель,—606-607
Кодривгтон.— 475
Козентини Франческо (1870-?) - итальянский философ, представитель генетической социологии, правовед, — 249
Колер Йозеф (1849-1919) — немецкий юрист, профессор университетов Вюрцбурга и Берлина.— 139, 319, 371,476,490
Кольбрук Томас (1765-1837) — английский востоковед.— 210
Комб де Лестрад Гатан-Гийом (1859-1918) - французский социолог.— 332
Комбарье Жюль (1859-1915) — французский историк музыки,— 208
Коммин Ф., де (ок. 1447-1511) — французский дипломат и историк.- 72
Кондильяк Этьен Бонно де (1715-1780) — аббат, французский философ-сенсуалист.— 579,597, 607
Кондорсе Мари Жан Антуан Николя де (1743-1794) - французский философ-просветитель, математик, социолог и политический деятель,— 9, 35, 93,180,180,182-190,192,196,198, 206, 211-212, 237, 241, 251, 330, 374-420, 444, 562
Кондратьев Николай Дмитриевич (1892-1938) - русский и советский экономист,— 641
Констан де Ребек Бенжамен (1767-1830) - франко-швейцарский писатель, философ и политический деятель,— 25,75,86,577-579
Константин Великий Флавий Валерий (272-337) — римский император,— 39, 286
Конт Огюст (1798-1857) — французский философ, социолог. Основоположник позитивистского направления в социологии.— 9-11, 19, 35,131,174,180,182-183,185-196,198-204, 207-214, 216, 221-230, 232-242, 250-251, 291, 294, 302-303, 310, 314, 315, 317, 320-321, « 331-332,413-414, 477-480, 483-485, 490-492, 501, 510, 513, 520, 523-527, 536-537, 560, 595, 618-620, 624, 630, 635, 642
Контарини Гаспаро (1483-1542) — итальянский кардинал.— 73, 342,423 Кончевская Н.- 26
Корнилов Александр Александрович (1862-1925) — русский историк, общественный деятель.
Кост Адольф (1842-1901) — французский социолог,— 10, 315, 486, 636,641
Котляровский Сергей Андреевич (1873-1939) — русский историк, писатель, правовед, политический деятель.— 14
Кошелев Александр Иванович (1806-1883) — известный публицист и общественный деятель, славянофил,— 572-573, 601-602
Коялович Михаил Осипович (1828-1891) — известный русский историк, политический публицист и издатель,— 572
Краевский Андрей Александрович (1810-1889) — русский издатель, редактор, журналист, педагог,— 12, 538-539, 543-545
Краус Карл (1874-1936) — австрийский писатель, поэт-сатирик, литературный и художественный критик, фельетонист, публицист,— 336
Крашенинников Степан Петрович (1711-1755) — русский ботаник, этнограф, географ, путешественник, исследователь Сибири и Камчатки.— 138
Кредаро Луиджи — выдающийся педагог, министр народного просвещения Италии в начале XX в.— 367
Крижанич Юрий (1617-1683) - хорватский богослов, философ, писатель, историк, этнограф, публицист и энциклопедист,— 54
Кромвель Оливер (1599-1658) — выдающийся военачальник и государственный деятель,— 103,254,457-458
Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921) — русский революционер, теоретик анархизма, географ, историк, литератор,— 111-113,126,131, 262-264, 297, 626
Кропотов Дмитрий Андреевич (?—1875) — русский военный писатель,— 592-594
Круазе Морис (1846-1935) — французский филолог,— 368
Крюднер (Криденер), баронесса Варвара Юлия (1765-1825) - проповедница мистицизма пользовавшаяся влиянием при русском дворе,— 594
Крюков Николай Александрович (ок. 1800-1854) — декабрист,— 579
Ксенократ (396-314 до н.э.) — греческий философ, один из ближайших учеников Платона, с 339 до н. э. глава платоновской Академии в Афинах, — 434
Ксенофонт (не позже 444 до н.э,— не ранее 356 до н.э.) — древнегреческий писатель, историк, афинский полководец и политический деятель,— 71,433
Кузен Виктор (1792-1867) — французский философ, историк и деятель образования,— 559, 596, 598, 607
Кун Николай Альбертович (1877-1940) - историк-античник, специалист по мифологии, писатель, педагог,— 159,163
Куницын Александр Петрович (1783-1841) — выдающийся русский юрист,— 12, 587-588
Купер Джеймс Фенимор (1789-1851) — американский писатель, историк, — 510
Курно Антуан Огюстен (1801-1877) — французский математик, философ и экономист, предшественник математической школы буржуазной политической экономии,— 291
Кутузов Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745-1813) — русский полководец и дипломат,- 581, 584
Кювье Жорж Леопольд (1769-1832) — французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных,— 555
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797-1846) — писатель и декабрист,-602
Ла-Боэси Этьенн (1530-1563) — французский гуманист, поэт и публицист.— 48, 394
Лабриола Антонио (1843-1904) — итальянский философ, публицист, теоретик и пропагандист марксизма, деятель социалистического движения,— 527
Лабулэ Эдуар Рене Лефевр де (1811-1883) — французский писатель, ученый, публицист и политический деятель.— 86
Лавель Луи (1883-1951) — французский философ, один из основоположников «философии духа».— 19
Лавелэ Эмиль (1822-1892) — бельгийский экономист и публицист,— 477
Лавров (Миртов) Петр Лаврович (1823-1900) — теоретик русского революционного народничества, философ, публицист, социолог,— 31, 620, 624, 626
Лавуазье Антуан Лоран (1743-1794) — основатель современной химии,— 508
Лагарп Жан Франсуа (1739-1803) — французский драматург, поэт, теоретик классицизма,— 387, 575, 607
Лазарус Морель (1824-1903) — швейцарский философ, ученик и последователь основоположника немецкой эмпирической психологии И. Гербарта,— 518
Лали Люлли (1632-1687) — французский композитор и музыкальный деятель эпохи Людовика XIV, директор Французской оперы, автор ряда опер на мифологические сюжеты,— 393
Ламанский Владимир Иванович (1833-1914) — историк, славист,— 168
Ламарк Жан Батист Пьер Антуан де Моне (1744-1829) — французский ученый-естествоиспытатель, — 94-95,131,468
Ла-Мот-Ле-Вайё Франсуа (1588-1672) — французский писатель и философ,— 394
Лангэ Николай Николаевич (1858-1921) — русский психолог, один из основоположников российской и видных представителей мировой экспериментальной психологии своего времени, — 394
Ланессан Жан-Мари-Антуан (1842-1919) — французский ученый и политический деятель,— 113, 264
Лаплас Пьер Симон (1749-1827) — французский астроном, математик и физик,— 600
Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863-1919) — русский историк, ординарный академик Санкт-Петербургской академии наук (1905).— 321,492
Лапуж Жорж Ваше де (Ляпуж) (1854-1936) - французский социолог, последователь теории социального дарвинизма и один из идеологов расизма,— 247
Лароз.— 17, 23
Лафайет Мари Жозеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де Ла Файет (1757-1834) — французский политический деятель,— 409, 413, 579
Лафит Пьер (1823-1893) — французский философ-позитивист, друг и последователь Конта,— 228, 233, 376
Лафито Жозеф-Франсуа (1681-1746) — французский иезуит, основатель сравнительной антропологии,— 210,479, 501
Лебокк Джон (1834-1913) — английский естествоиспытатель. Представитель эволюционной школы в этнографии,— 330
Левер Уильям Хескет, виконт Леверхалм (1851-1925) — богатейший промышленник викторианской эпохи построил «образцовую деревню» Порт-Санлайт для рабочих,— 534
Леви-Брюль Люсьен (1857-1939) — французский философ и антрополог,- 10-11, 204, 230, 240, 242, 326, 479-480, 496-502, 522
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716) — немецкий философ, логик, математик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед,— 183, 600
Лейст Буркард Вильгельм (1819-1906) — немецкий юрист, специалист по римскому праву,— 165-166
Ленин Владимир Ильич Ульянов (псевдоним - Ленин; 1870-1924) -русский и советский политический и государственный деятель,— 626
Леонтович Федор Иванович (1833-1911) — доктор государственного права, профессор истории русского права,— 168
Леопольд II (1835-1909) — король Бельгии (с 1865) из Саксен-Кобургской династии, — 61
Леруа-Болье Шаль П. Анатоль (1842-1912) — французский публицист, профессор истории,— 30
Лесгафт Петр Францевич (1837-1909) — выдающийся биолог, анатом, антрополог, врач, педагог, создатель научной системы физического воспитания, — 29, 246
Леспинас Жюли (1732-1776) — хозяйка парижского салона,— 386, 404, 413
Лессинг Готхольд Эфраим (1729-1781) — немецкий поэт, драматург, теоретик искусства и литературный критик-просветитель,— 583
Летурно Шарль (1831-1902) — французский этнограф, философ и социолог,- 107,140, 243, 258, 328, 337
Ливий Тит (59 до н.э,— 17 н.э.) — один из самых известных римских историков, автор чаще всего цитируемой «Истории от основания города»,— 426, 601
Ликург — легендарный спартанский законодатель (9-8 вв. до нашей эры), которому греческие авторы приписывают создание государственных и общественных институтов Спарты,- 357, 360,443
Лилиенфельд Павел Федорович (псевдоним — Лилее; 1829-1903) — русский социолог и государственный деятель, один из видных сторонников органицистской теории в социологии.— 4, 47, 94, 98, 241, 247, 249, 251-252, 328, 330, 336, 453
Лилльбори Джои (1618-1657) — лидер английских левеллеров «уравнителей», публицист.— 457-458
Лингэ.— 393
Литтре Поль-Максимилиан-Эмиль (1801-1881) - французский филолог и философ-позитивист, ученик и последователь О. Конта,— 197-198, 241-240
Лициний Столон Гай — первый плебейский консул (с 366 до н. э.), автор аграрных законов.— 37
Локк Джон (1632-1704) — английский философ и политический писатель,- 73, 84, 224, 386, 411,457, 471, 597, 601, 607
Ломброзо Чезаре (1835-1909) — итальянский тюремный врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, - 337, 371, 651
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) — первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик,- 559,584
Лопе де Вега Феликс Лопе де Вега и Карпио (1562-1635) — испанский драматург, поэт и прозаик,— 30
Лопиталь Мишель де л’Опиталь (1507-1573) — французский государственный деятель, поэт, гуманист,— 377,383-384
Лоран Англивьель де Лабомель (1726-1773) — французский публицист, вольтерьянец, — 63
Лорер Николай Иванович (1794-1873) — декабрист, мемуарист,— 579
Лория Акилле (1857-1943) — итальянский экономист и социолог,— 641
Луи-Филипп (1773-1850) — французский король (1830-1848).— 50
Лунин Михаил Сергеевич (1787-1845) — русский мыслитель, декабрист,— 577
Львович Т.Ф.— 27-28
Льюис Джордж Генри (1817-1878) — английский философ-позитивист, литературный критик, — 95,507
Лэнг.— 208
Людовик XIII Справедливый (1601-1643) — король Франции король и Наварры (с 1610) из династии Бурбонов,— 50, 345,516
Людовик XIV де Бурбон, Луи-Дьёдонне («Богоданный»), также известный как «король-дитя» и — «король-солнце»; также Людовик XIV Великий; 1638-1715) — король Франции и Наварры (с 1643).— 15,20, 44, 50, 90, 432,434-436
Людовик XVI (1754-1793) - король Франции (1774-1793) из династии Бурбонов, - 75, 374, 390, 406-407, 411
Людовик XVIII (1755-1824) — король Франции из династии Бурбонов (1814-1824, с перерывом в 1815 г.).— 398
Лютер Мартин (1483-1546) — христианский богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык,— 87, 362
Мабли Габриэль Бонно де аббат (1709-1785) — один из левых энциклопедистов, последователь Руссо в его учении о преимуществах «первобытного состояния»,— 398,577
Магницкий Михаил Леонтьевич (1778-1844) — государственный деятель, публицист, поэт в царствования Александра I и Николая I,— 600
Мазарини Джулио (1602-1661) — итальянец, французский государственный деятель, кардинал,— 347
Майер Эдуард (1855-1930) — немецкий историк и исследователь,— 37
Макензи Уильям Лайон (1795-1861) — канадский политический деятель и публицист, — 530
Макиавелли Никколо (1469-1527) - итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель,— 72, 339, 343, 345, 347, 411, 509,578
Макинтош Джеймс (1765-1832) - английский философ, историк,— 413
Мак-Ленан Джон Фергюсон (1827-1881) — шотландский этнограф, историк первобытного общества,— 20,474
Мальтус Томас Роберт (1766-1834) — английский священник и ученый, демограф и экономист,— 316,486,499,546
Маннгарт Вильгельм (1831-1880) — немецкий этнолог и мифолог,— 208
Мануврие Леоне Пьер (1850-1927) — французский антрополог,— 337
Марат Жан-Поль (1743-1793) — политический деятель, один из вождей якобинцев. По профессии врач и журналист,— 412
Мария Малых.— 27
Мария-Терезия Шарлотта Французская (1778-1851) — герцогиня
Ангулемская, дочь короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты,— 396
Маркс Карл Генрих (1818-1883) - немецкий философ, экономист и политический деятель. Основатель теории научного социализма, основоположник марксизма,— 130,316-317, 330,462, 487, 620,627,642
Мартынов Иван Михайлович (1821-1894) — русский католический деятель, археолог, член ордена иезуитов,— 595
Масперо Гастон Камиль Шарль (1846-1916) — французский египтолог,-497, 501,514
Маудсли Генри (1835-1918) — английских психиатр,— 530
Маурер Георг Людвиг фон (1790-1872) — немецкий историк, создатель Марковой, или общинной теории,- 233
Маус Хьюберт Марсель (1872-1950) — французский социолог и антрополог.— 326, 496
Мах Эрист (1838-1916) — австрийский физик и философ-позитивист,- 370
Медичи — олигархическое семейство, представители которого с XIII по XVIII в. неоднократно становились правителями Флоренции.— 349
Мелои Жаи Франсуа (1680-1738) - французский экономист.- 421
Мельвиль Генри (1741-1811) — шотландский юрист и государственный деятель.— 347
Мельгунов Николай Александрович (1804-1867) — русский литератор.— 601
Менгер Антон (1841-1906) — австрийский социолог,— 151,470
Меигер Карл (1840-1921) — экономист, основатель Австрийской школы в экономической теории.— 274
Менеиий Агриппа — римский политический деятель; происходил из патрицианской фамилии. В 503 г. в борьбе римлян с сабинянами победил последних и получил триумф.— 329
Меншиков Александр Данилович (1673-1729) — князь, русский государственный деятель.— 567
Меркель Адольф (1836-1896) — немецкий юрист,— 152
Местр де Жозеф-Мари, граф де Местр (1753-1821) — французский (сардинский) католический философ, литератор, политик и дипломат, основоположник политического консерватизма.— 49,186, 212-213, 560,564, 575, 595
Мечников Лев Ильич (1838-1888) — швейцарский географ, социолог, революционер-анархист и публицист русского происхождения.— 247, 370, 521
Мещерская София Сергеевна, урождённая Всеволожская (1775-1848) -писательница и переводчица, трудившаяся в рамках Библейского общества, автор религиозно-нравственных сочинений,— 564
Мидгат-паша Ахмед Шефик (1822-1884) — османский государственный деятель. Выступал выразителем интересов буржуазного развития Турции,— 158
Миллер Всеволод Федорович (1848-1913) — русский филолог, фольклорист, языковед, этнограф и археолог,— 16,23,31,165,168
Милль Джон Стюарт (1806-1873) — английский мыслитель и экономист,- 230, 240, 273, 321, 375, 466, 471, 492
Мильтои Джон (1608-1674) — английский поэт, политический деятель, мыслитель,— 29, 583
Милюков Павел Николаевич (1859-1943) — русский политический деятель, историк и публицист,— 5, 598
Минос — мифический царь Крита, законодатель, глава морской державы,- 357, 360, 443
Мирабо Оноре Габриель Рикетти (1749-1791) — один из самых знаменитых ораторов и политических деятелей Франции,— 89,102, 254, 374, 376, 398, 411,413,584
Мирабо Старший Виктор Рикети (1715-1789) — французский экономист,— 88
Митфорд Алджернон Бертрам, лорд (1837-1916) — британский дипломат и писатель,— 280
Михайловский Николай Константинович (1842-1904) — русский публицист, социолог, литературный критик; теоретик народничества,— 6,11,30, 620,624, 626
Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1789-1848) — генерал-лейтенант, сенатор, известный русский военный писатель, историк,— 12, 587
МишлэЖюль (1798-1874) — французский историк, профессор Высшей нормальной школы и Коллеж де Франс,— 574
Мольер, настоящее имя Жан Батист Поклен (1622-1673) — комедиограф Франции и новой Европы, создатель классической комедии,- 222, 231
Момзен Теодор (1817-1903) - немецкий историк, филолог и юрист,— 455
Монтень Мишель Эйкем де (1533-1592) — французский писатель, философ-гуманист эпохи Возрождения,— 48,145
Монтескье Шарль-Луи де Секонда, барон Ла Брэд и де (1689-1755) — выдающийся политический мыслитель и правовед,— 9-10, 26, 55, 62, ч 73-75, 90, 107, 177, 181, 204, 210, 212, 237, 247, 260, 327, 341, 344, 386, 394, 411, 421-437, 443-445, 451, 456, 516, 575-576, 580-584, 587, 618
Морган Льюис Генри (1818-1881) — известный американский историк и этнограф.- 20,139, 371,476,497, 501, 620
Мордвинов Николай Семенович (1754-1845) — русский флотоводец и государственный деятель, — 576
Морелле Андрэ аббат де (1727-1819) — публицист-просветитель, один из видных сотрудников «Энциклопедии»,— 385
Морисо.- 393
Морселли Энрико-Агостино (1852-1929) — итальянский психиатр и антрополог,— 306-307, 373
Морус (Мор) Томас (1477-1535) — английский гуманист и политический деятель, основатель утопического социализма,— 365
Мульт Поль (1725-1785) — протестантский пастор, друг Руссо, которому последний вручил для хранения рукопись «Исповеди», в настоящее время известную под названием «Женевской», — 449
Муравьев Александр Михайлович (1802-1853) - декабрист.- 593
Муравьев Андрей Николаевич (1806-1874) — камергер российского императорского двора; православный духовный писатель и историк Церкви, паломник и путешественник. — 280
Муравьев Никита Михайлович (1795-1843) — один из главных идеологов движения декабристов,— 581, 592-594
Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796-1826) — лидер движения декабристов. — 592-593
Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910) — русский юрист, публицист и политический деятель.— 11, 29, 624
Мэн Генри Джеймс (1822-1888) — известный английский юрист, антрополог, историк и социолог права.— 16,19,21,450,474, 477, 620
Мюллер Фридрих Максимилиан (1823-1900) — немецкий и английский филолог, специалист по общему языкознанию, индологии и мифологии.— 159,161
Надеждин Николай Иванович (1804-1856) — многосторонний ученый и критик,— 554, 606
Наполеон I Бонапарт (1769-1821) — французский полководец, государственный деятель, император Франции,— 49,75,90,106, 231,257, 330, 446, 505, 545, 577, 590, 594, 598, 637
Наполеон III Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808-1873) — французский император в 1852-1870,— 46, 61,76,221-222
Неверов Януарий Михайлович (1810-1893) — русский педагог и писатель, автор педагогических сочинений, мемуарист,— 606-607
Невзоров Максим Иванович (1762/1763-1827) — поэт и публицист,— 586
Нейкамп Э,— немецкий историк права,— 152,155-156
Неккер (1732-1804) — французский государственный деятель,— 378, 381,406,410
Нибур Бартольд Георг (1776-1831) — выдающийся немецкий историк античности,— 212
Никитский Александр Иванович (1842-1586) — историк. Научная деятельность Никитского была посвящена, главным образом, истории Великого Новгорода и Пскова, — 41
Николай I Павлович (1796-1855) — русский император (1825-1855), царь Польский и великий князь Финляндский,- 223
Никольсон Джозеф Шилд (1850-1927) — английский экономист,— 522-523
Ницше Фридрих Вильгельм (1844-1900) — немецкий философ,— 110, 241,261,360,480
Нич,— 15,19
Ноаль Ф. (Ноайль) Павел, герцог (1802-1885) — французский писатель,— 437
Новиков Яков Александрович (1849-1912) — русский социолог и экономист,- 4, 64, 94,101, 247, 251-250,483, 596
Ньютон Исаак (1643-1727) — английский физик, математик и астроном, ученый заложивший основы классической физики,— 240, 420, 508, 523, 532
Нэт,- 17
Одоевский Владимир Федорович, князь (1803-1869) — русский писатель, философ, педагог, музыковед и теоретик музыки,— 12, 539-541, 545-550,598, 601-602,604-605
Окен Лоренц (1779-1851) — немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, ученик и последователь Ф.В. Шеллинга,— 546, 598
Оконор,— 376
Орелли Каспар (1787-1849) — швейцарский филолог, реформатский священник, профессор классической филологии в Цюрихе,— 354
Орлеанские — титул герцога Орлеанского; начиная с 1344 г. традиционно давался второму сыну французского короля, — 45
Орлов Михаил Федорович (1788-1842) — активист декабристского движения, член масонских лож и Библейского общества, публицист, — 556
Оствальд Вильгельм Фридрих (1853-1932) — немецкий физико-химик и философ,— 246, 370
Оуэн Роберт (1771-1858) — английский философ, социалист-утопист,— 579
Павел I Петрович (1754-1801) - русский император (1796-1801).- 581,586
Павленков Флорентий Федорович (1839-1900) — русский книгоиздатель,- 17, 25-26,114, 265
Павлов Михаил Григорьевич (1793-1840) — русский философ, физик, агробиолог,— 602-604, 606
Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869-1908) — русский историк,— 53
Палант (Паланте) Жорж Туссен Леон (1862-1925) — французский философ, писатель, анархист, — 247,373
Пале Пьер Абеляр (1079-1142) — французский философ, теолог,— 546
Палеолог София Фоминична (она же Зоя Палеологиня; 1455-1503) -великая княгиня московская, вторая жена Ивана III.— 346
Палеолог В.— 26
Паллас Петр Симон (1741-1811) — знаменитый немецкий и русский ученый-энциклопедист, естествоиспытатель,— 143
Пальгрэв Франсис (1788-1861) - английский историк, директор государственного архива,— 514
Пантелеев Лонгин Федорович (1840-1919) — общественный деятель, мемуарист, издатель,— 26-27
Папо,— 231
Парето Вильфредо (1848-1923) — итальянский инженер, экономист и социолог.— 642
Паризо Жан де ла Валетт (1494-1568) — Великий магистр Мальтийского ордена.— 445
Паруте Паоло (1540-1598) - итальянский историк.- 342
Паскаль'Блез (1623-1662) — французский религиозный мыслитель, математик и физик.— 180,184,236,561
Пасси Фредерик (1822-1912) — французский политический деятель, миротворец и экономист.— 30
Пастер Луи (1822-1895) — французский микробиолог и химик.— 523
Пастора К. Э.— французский историк права и государственный деятель.— 588
Пахман Семен Викентьевич (1825-1910) — русский юрист.— 168
Перье Жан Поль Пьер Казимир (1847-1907) — французский государственный государственный деятель, президент Франции времен Третьей Республики.— 370
Пестель Павел Иванович (1793-1826) — политический деятель, один из идеологов восстания декабристов.— 28, 577,581, 593
Петр I Великий (1672-1725) — русский царь (1682-1721), русский император (1721-1725).- 102,160, 253, 290, 513, 516, 540, 542-543, 557-561, 564-566,567,570, 571-573,612
Петр II Алексеевич (1715-1730) — русский император (с 1727), сын царевича Алексея Петровича.— 567
Петр III Федорович (1728-1762) - русский император (с 1761), немецкий принц Карл Петр Ульрих, внук Петра I.— 88
Петрарка Франческо (1304-1374) — итальянский поэт, глава, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса.— 339, 354
Петти Уильям (1623-1687) — английский статистик и экономист.— 178
Печерин Владимир Сергеевич (1807-1885) — русский поэт, мыслитель,- 12, 538, 595
Пизано Чезаре — друг Томазо Компанеллы участник колабрийского восстания 1598 г.— 352
Пизарро Франсиско Писарро-и-Гонсалес (1475-1541) — испанский авантюрист, конкистадор, завоевавший империю инков и основавший город Лима.— 349
Пий II Энеа Сильвио Пикколомини (1405-1464) — папа римский (1458-1464).- 341
Пикте Адольф (1799-1875) — известный швейцарский филолог,— 165
Пирсон Карл (1857-1936) - английский математик, биолог, философ.— 523
Питт Уильям Младший (1759-1806) — премьер-министр Великобритании,— 401
Пиш А,- 331-332
Плаканика Джованни Батиста ди.— 350
Платон (428 до н. э. — 348. до н. э.) — древнегреческий философ. — 70, 72, 94, 99-100, 130, 251, 251, 324, 341, 347, 351, 361-360, 365, 423, 433, 452-453, 494, 503, 561, 559
Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) — теоретик и пропагандист марксизма, философ, видный деятель российского и международного социалистического движения,— 626
Плутарх из Херонеи (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий философ, биограф, моралист.— 72,94,249,452-453
Победоносцев Константин Петрович (1827-1907) — русский государственный деятель, ученый-правовед, писатель, переводчик, историк Церкви,- 18
Погодин Михаил Петрович (1800-1875) — русский историк, коллекционер, журналист, писатель, публицист,— 539, 542-543, 601-602, 605
Поджио Александр Викторович (1798-1873) — декабрист,— 579
Полевой Николай Алексеевич (1796-1846) — русский писатель, драматург, литературный и театральный критик, журналист, историк и переводчик,— 603
Поленов Алексей Яковлевич (1738-1816) — русский историк, просветитель века,— 585, 590
Полибий (201 до н.э,— 120 до н.э.) — греческий историк, государственный деятель и военачальник.— 72,177,179
Полиньяк (Мельхиор де) (1661-1742) — кардинал, французский писатель и дипломат.— 422
Польган,— 290
Помпей Гней Помпей Великий (106 до н.э,— 48 до н.э.) — римский государственный деятель и полководец.— 177
Пост Альберт Герман (1839-895) - видный представитель сравнительного правоведения в Германии,— 20,141, 371
Прайс,— 401
Пристли Джозеф (1733-1804) — британский священник-диссентер, естествоиспытатель, философ, общественный деятель.
Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762-1848) — русский публицист и педагог,— 596
Профумо Б,— 235
Прудон Пьер Жозеф (1809-1865) — французский социалист, теоретик анархизма.— 221, 314, 470, 485
Пуффендорф Самуил (1632-1694) — немецкий юрист, один из основоположников теории «естественного права».— 106, 257, 319, 490, 580
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) — русский поэт, драматург и прозаик,— 559, 590, 602, 605 ; >
Пэн Томас, также Пейн (1737-1809) — англо-американский писатель, философ, публицист, прозванный «крестным отцом США».— 407, 411,413
Пюттер Иоганн Стефан (1725-1807) — немецкий юрист,— 586
Рабо-Сент-Этьенн Жан Поль (1743-1793) — французский политический деятель, публицист, священник.— 398
Равальяк Франсуа (1578-1610) — убийца кораля Франции Генриха IV.— 391
Радищев Александр Николаевич (1749-1802) — русский писатель, философ, поэт, директор Петербургской таможни и участник Комиссии по составлению законов. — 581-584, 590
Разин Степан Тимофеевич, известный также как Стенька Разин (около 1630-1671) — донской казак, предводитель восстания 1670-1671 гг.— 568
Раич Семен Егорович (Амфитеатров) (1792-1855) — педагог, поэт, знаток и переводчик античной и итальянской поэзии.— 601
Рамузия.— 341
Расин Жан Батист (1639-1699) — французский драматург.— 583
Ратцель Фридрих (1844-1904) — немецкий географ и этнолог, социолог; основатель антропогеографии, геополитики, а также теории диффу-зионизма,— 247,371
Редерер Пьер Луи, граф (1754-1835) — французский экономист и политический деятель,— 75
Рейд А,- 531-532
Рейнак Соломон (1858-1932) — французский археолог, исследователь античности и филолог,— 497, 501
Рейналь Г. (1713-1796) — французский историк, энциклопедист, автор «Философской и политической истории учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях»,— 578, 584
Рейнгард Филиппа Христиан (Христиана Егоровича) (1764-1812) — профессор философии Московского университета,— 588
Рейх Эмиль (1854-1910) — немецкий ученый, писатель, профессор эстетики, — 524
Рибо Тзодюль-Арман (1839-1916) — французский психолог, один из основоположников концепции «природного эксперимента»,— 244,274,290,292
Риголаж.— 207, 226
Риенци Кола Ди Габрини Николо ди Лоренцо (1313-1354) — итальянский политический деятель, один из первых гуманистов, идеолог объединения Италии,— 339
Риккардо Давид (1772-1823) — английский экономист, классик политической экономии,— 173, 316,486
Ринальдис Маурицио де — вместе со своим другом Томазо Компаанелло возглавлял заговор против испанской короны (1607-1609).— 351, 353
Ринк Генри (1819-1893) — датский геолог и этнограф, исследователь Гренландии.— 138
Ришелье Арман Жан дю Плесси, прозвище «Красный герцог» (1585-1642) — кардинал римско-католической церкви, аристократ и государственный деятель Франции.— 345, 516
Робертсон Уильям Смит (1846-1894) — шотландский ученый, филолог,- 412, 524, 532, 584
Робеспьер Максимилиан Франсуа Мари Исидор де (1758-1794) — известный современникам как Неподкупный — один из лидеров французской революции, глава, возможно, самого радикального революционного движения — якобинцев,— 70, 220-221, 408, 450, 545
Робиннэ Жан Батист Рене (1735-1820) — французский философ, сочетавший материалистические взгляды с элементами деизма,— 376, 412-413,417
Романее Джон Джордж (1848-1894) — английский биолог-эволюционист,— 371
Рубруквис (Рубрук) Вильгельм (ок. 1220-1270) — голландский путешественник, монах,— 40
Руссо Жан-Жак (1712-1778) — французский философ-просветитель, писатель, композитор и реформатор педагогики,— 9,12,31,50,62,92, 106,184, 224-225, 257,387,389-390,397-398,405,415,438-451,459, 482, 547,575, 578-580, 584,588
Рустем-хан (XVI-XVII вв.) — уцмий (титул правителя Кайтага (обл. в Дагестане)), составитель одного их древних сборников обычного права народов Северного Кавказа,— 270, 476
Рылеев Кондратий Федорович (1795-1826) — русский поэт, общественный деятель, декабрист, один из пяти казненных руководителей декабрьского восстания 1825 г,— 578
Рюриковичи — династия русских князей потомков Рюрика, в том числе великих князей киевских, владимирских, московских и русских царей (конец IX-XVI вв.), последний Рюрикович — царь Федор Иванович).— 54
Сабатье Огюст (1839-1901) — протестантский богослов и библеист либерального направления, оказавший влияние на католический «модернизм».
Савиньи Фридрих Карл фон (1779-1861) — немецкий правовед и историк, знаменитый юрист, основатель исторической школы права,— 618
Сакулин Павел Никитич (1868-1930) — русский и советский литературовед,- 545-546,596-602, 604
Салов Илья Александрович (1834-1902) — русский прозаик, драматург,— 367
Самоквасов Дмитрий Яковлевич (1843-1911) — русский археолог, историк права, архивовед,— 172
Санд (Занд) Жорж (наст, имя — Амандина Аврора Люсиль Дюпен; 1804-1876) — французская писательница,— 545
Саразен Пауль (1856—?) и Фридрих (1856—?) — братья, швейцарские зоологи. Главный труд — разработка зоологических и антропологических материалов, собранных ими на Цейлоне (1887-1893) и Целебесе (1898-1901).- 112, 263
Сарпи Паоло (1552-1623) — итальянский историк церкви, монах ордена сервитов, защищал права государства против притязаний папы, за что подвергался преследованиям, — 73
Сарториус Георг Фридрих (1765-1828) — известный немецкий историк, профессор Геттингенского университета. Главный труд посвящен Ганзейскому союзу, — 576, 587-588
Сассаниды — династия шахиншахов, правившая в 226-651 гг. в Иране,— 115
Свечина Софья Петровна, урождённая Соймонова (1782-1857) — фрейлина, писательница, хозяйка литературного салона в Париже, одна из наиболее влиятельных русских католиков XIX в,— 595
Северцев Николай Алексеевич (1827-1885) — зоолог, этнограф, геолог, климатолог, ботаник, путешественник. Известен изучением животного мира Воронежской губернии,— 112, 263
Сейссель Клод (ок. 1450-1520) — французский государственный деятель, историк,— 44
Семевский Василий Иванович (1848-1916) — русский историк либерально-народнического направления,- 576, 579, 581, 585
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827-1914) — русский географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель,— 31
Семенов Степан Михайлович (1789-1852) - декабрист,— 580
Сен-Мартен Луи Клод (1743-1803) — французский философ-мистик. Находился под влиянием Якоба Беме. Отвергал сенсуализм и материализм,— 575, 597
Сенар Эмиль (1847-1928) — французский индолог,— 10,480
Сен-Пьер Ш. (аббат) Шарль-Ирене Кастель (1658-1743) — французский философ и публицист, один из предшественников энциклопедистов, автор «Проекта вечного мира»,— 440, 447
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа, граф де Сен-Симон (1760-1825) — французский мыслитель, социолог, социалист-утопист,— 35,180,183, 187-203, 205, 212,215, 236-237, 251,314, 330,484, 562, 577
Серра Антонио — представитель итальянского меркантилизма,— 361
Серапион Владимирский (Серапион Печерский) (1192-1275) — русский проповедник и один из первых древнерусских писателей, в последний год своей жизни — епископ Владимирский, — 40
Сергеевич (Сергиевич) Василий Иванович (1832-1910) — историк русского права, глава государственной юридической школы в России.— 30,572
Сигеле Сципион (1868-1913) — итальянский социолог и криминолог,— 275,371
Сидней Альджернон (1623-1683) — английский политик.— 73
Сийэс (аббат) Эммануэль-Жозеф (Сиэйс) (1748-1836) — французский политический деятель эпохи великой революции, аббат, влиятельный член национального собрания и выдающийся оратор. — 450
Сиркур Адольф Мария Пьер де, граф (1801-1879) - французский дипломат и публицист,— 548, 565, 570, 612
Сисмонди Жан Шарль Леонард Симонд де (1773-1842) — швейцарский экономист и историк, один из основоположников политической экономии,— 579
Склопис де Салерано граф Федерико (1798-1878) — итальянский государственный деятель и ученый,— 420
Смирнов Е,— 32
Смит Адам (1723-1790) — шотландский экономист и философ, видный представитель классической буржуазной политической экономии,— 178, 202,316,381, 385,411-412,417,486, 545, 576-577, 581, 587-588
Смол Альбион (1854-1926) — американский социолог, основатель и руководитель первого в мире факультета социологии,— 244, 369
Сойкин Петр Петрович (1862-1938) — русский издатель. Основал в 1885 г.
в Санкт-Петербурге издательство (существовало до 1930 г.).— 26
Сократ (470-399) — древнегреческий философ,— 89, 198, 324, 494, 559-560, 562, 597
Солдатенков Козьма Терентьевич (1818-1901) — московский предприниматель, старообрядец, известный книгоиздатель, владелец художественной галереи,— 17, 25-26
Соломон — в Ветхом Завете, сын царя Давида и последний царь единого Израильского царства. Правил 40 лет (ок. 973 — ок. 933 до н.э.).— 359, 673
Солон (640 — ок. 559 до н.э.) — афинский политик, законодатель и поэт, один из «семи мудрецов» Древней Греции,— 121, 272,357,360,443
Сорокин Питирим Александрович (1889-1968) — русский социолог и культуролог.— 3, 631, 641, 642
Соссюр Фердинанд (1857-1913) — швейцарский лингвист, один из основоположников современной лингвистической науки, а также структурализма как научной идеологии и методологии,— 165
София Фоминична Палеолог (она же Зоя Палеологиня; ок. 1455-1503) — великая княгиня московская, вторая жена Ивана III, мать Василия III, бабушка Ивана IV Грозного,— 346
Спенсер Герберд (1820-1903) — британский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма,— 6,9-10,28,94-98,100,104,131, 137,140,142, 146,195, 202, 237, 243, 251, 255, 273, 280, 284, 302, 306, 310, 314, 321, 330, 336, 452-456,461-477, 481,485,490,497, 499-501, 503, 505-506, 511-512, 520, 525-527, 532, 537, 620, 627
Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) — общественный и государственный деятель времен Александра I и Николая I, реформатор, . законотворец, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения,— 575-576, 594
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632-1677) — нидерландский философ-материалист, пантеист и атеист,— 92, 367, 439, 601, 606
Спурцгейм Иоганн Каспар (1776-1832) — немецкий френолог, ученик Галля, создавший собственную френологическую систему,— 181
Сталь Анна Луиза Жермена де (1766-1817) — французская писательница, теоретик литературы, публицист,— 577-579
Станислав-Август Понятовский (1732-1798) — последний польский король(1764-1795).- 410
Станкевич Николай Владимирович (1813-1840) - русский писатель, поэт, публицист, мыслитель,— 605-607, 609
Стебе (Стеббс) Уильям (1825-1901) — английский историк-медиевист; епископ Оксфордский,— 16, 21, 23, 514
Стенгоп Джемс Честерфильд (1673-1721) — английский полководец и государственный деятель, — 401
Стерн Лоренс (1713-1768) — английский писатель XVIII в,— 412
Стивенсон Роберт Льюис (1850-1894) — английский писатель и поэт,— 532
Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) — государственный деятель Российской империи, реформатор,— 31, 70
Стоянов Андрей Николаевич (1830—?) — русский юрист,— 19
Строганов Сергей Григорьевич (1794-1882) — граф, русский государственный и военный деятель,— 554
Стюарт Милль Джон (1806-1873) — известный английский мыслитель и экономист,— 230,466, 471
Стюарт Карл Эдуард (1720-1788) — предпоследний представитель дома Стюартов и якобитский претендент на английский и шотландский престолы,— 460
Стюарт Мария (1542-1587) — королева Шотландии,— 346
Суи-Ят-Сен (1866-1925) — китайский революционер демократ.— 369
Сушков Николай Васильевич (1796-1871) — драматург и поэт.— 598,600
Сфорца — династия миланских герцогов в 1450-1535 гг,— 55
Сытин Иван Дмитриевич (1851-1934) — русский предприниматель, книгоиздатель, просветитель,— 20, 28
Сэй Жан Батист (1767-1832) — французский экономист, представитель классической школы политэкономии.— 202, 577, 579
Сюар Жан-Батист (1733-1817) — французский журналист, член Французской академии,— 404
Тадит Тацит Публий или Гай Корнелий (ок. 56 — ок. 117 н. э.) — древнеримский историк.- 50,52,72,106,120,133,257,271,343,503,505,584
Тайлор Уолтер «Уот» Тайлер (1341-1381) — предводитель крупнейшего в средневековой Англии крестьянского восстания 1381 г, — 26
Тамерлан Амир Тимур (1336-1405) — среднеазиатский завоеватель, выходец из племени, выдающийся полководец, эмир (с 1370). Основатель империи и династии Тимуридов, со столицей в Самарканде.- 115, 266
Тард Жан Габриель (1843-1904) — французский социолог и криминолог,- 11, 27, 101,110,120,124-126,153, 180, 213, 245-250, 261, 271, 274-298,310,324,330,332-333,335-336,371,475,480-481,495, 502, 505-507, 509-510, 512-514,517-520, 626
Тардлер (Тандлер) Джулиус (1869-1936) — австрийский социал-демократ, публицист.— 17
Тассо Торквато (1544-1595) — итальянский поэт.— 583
Телезий Бернардино Телезио (Телезий, Телесий) (1509-1588) — итальянский ученый и философ.— 338,347-350
Тёнисс Фердинанд (1855-1936) - немецкий социолог, один из родоначальников профессиональной социологии в Германии, основатель «понимающей социологии», сторонник «формальной социологии»,— 337
Тиберий Юлий Цезарь Август (урожденный Тиберий Клавдий Нерон;
42 г. до н.э. 37 г.н.э.) — второй римский император (с 14 г.) из династии Юлиев-Клавдиев. Именно в его правление был распят Иисус Христос.— 343,392
Тимашев Сергеевич (1886-1970) — русский социолог и правовед, публицист, общественный деятель,— 8, 625
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-1920) — русский естествоиспытатель, профессор Московского университета, основоположник русской научной школы физиологов растений,- 370
Титов Владимир Павлович (псевдоним Тит Космократов; 1807-1891) — русский писатель, государственный деятель, дипломат,— 539-541, 601-602, 604
Тихонравов Николай Саввич (1832-1893) - русский филолог, археограф; один из виднейших историков русской литературы.— 596
Толстой Лев Николаевич (1828-1910) — русский писатель и мыслитель,- 13,31, 70, 450, 462
Траси Антуан Луи Клод Дестют де (1754-1836) — видный французский философ, политик и экономист. Ввел в употребление термин «идеология»,— 577, 579
Тронше Антуан Франсуа Дени (1726-1806) — участник Французской революции, юрист, депутат Генеральных штатов от третьего сословия Парижа, затем член Национального собрания; выступал в защиту короля; в начале XIX в.— один из сотрудников Наполеона.— 441
Трюден Даниэль Шарль (1703-1769) — интендант финансов и директор мостов и дорог в 1743-1769 гг. во французском правительстве,- 377, 384
Тургенев Александр Иванович (1785-1846) - брат Николая Ивановича Тургенева, русский писатель, поэт, переводчик; член-корреспондент императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности,- 554-555,604, 610-612
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) — русский писатель, поэт, переводчик; член-корреспондент императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности.— 13, 29,31,554-556,577,586, 590,592, 596,604, 610-612
Тургенев Николай Иванович (1789-1871) - русский экономист и публицист, активный участник движения декабристов. Один из крупнейших деятелей русского либерализма.— 10, 576-577, 586-590, 592, 677
Тьерри Огюстен (1795-1856) — французский историк, основатель школы историков периода Реставрации во Франции,— 201, 212, 233
Тэйлор Эдуард (1832-1917) — английский этнограф,— 20, 474, 479
Тэн Ипполит Адольф (1828-1893) — французский философ-позитивист, писатель, историк литературы и искусствовед,— 237
Тюрго Анн Робер Жак (1727-1781) — французский экономист и государственный деятель. Вошел в историю как один из основоположников экономического либерализма,— 35, 56, 131,182-183, 192, 197-198, 212, 249, 316, 328, 344, 376-378, 380-387, 389, 391-394, 403, 405-406, 410, 417-418, 423, 456,486, 562
Уваров Алексей Сергеевич (1825-1884) — русский археолог. — 23
Уваров Сергей Семенович (1786-1855) — русский государственный деятель,— 541
Унгерн-Штернберг Роберт-Николай-Максимилиан (Роман Федорович) (1885-1921) — русский генерал, видный деятель Белого движения на Дальнем Востоке,— 587
Уоллэс Альфред Руссель (1823-1913) - британский натуралист, путешественник, географ, биолог и антрополог, - 469
Уорд Лестер Франк (1841-1913) — американский основоположник психологического эволюционизма, первый Президент Американского социологического общества,— 122,124, 127-130, 237, 243, 247-250, 298-299, 368, 518
Ушаков Федор Федорович (1745-1817) - выдающийся русский флотоводец, адмирал (1799), командующий Черноморским флотом.— 581
Уэк,- 140
Фагэ Эмиль (1847-1916) — французский критик и историк литературы.— 502
Файзон Лоример (1832-1907) — миссионер, фольклорист и этнолог; работал в Австралии.— 138,497
Федор III Алексеевич (1661-1682) - русский царь (1676-1682) из династии Романовых.- 102, 253
Фейербах Людвиг Андреас фон Фенелон (1804-1872) - выдающийся немецкий философ.— 130
Феодосий Печерский (1008-1074) — православный монах XI в., святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобного, один из основателей Киево-Печерской лавры.— 40
Фердинанд III Медичи (1663-1713) — старший сын герцога Тосканского, Козимо III Медичи (1642-1723).- 349
Фердинанд Католический — Фердинанд II Арагонский, Католик (1452-1516) — король Кастилии, Арагона, Сицилии и Неаполя,— 344
Ферес (варианты транскрипции Фера/Ферес/Фер) — персонаж древнегреческой мифологии Согласно Геродоту, царь Спарты, — 434
Ферма Пьер де (1601-1665) — французский математик, один из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел. — 394
Феррари Джузеппе (1812-1876) — итальянский публицист и философ,— 365
Ферри Энрико (1856-1929) — итальянский криминолог и политический деятель,- 245, 314, 337, 371,484
Фик Адольф (1829-1901) — выдающийся немецкий физиолог.— 159, 165
Филанджиери-Гаэтано (1752-1788) — итальянский экономист и публицист.— 578-579
Филипп II Орлеанский (1674-1723) - регент Французского королевства при малолетнем короле Людовике XV с 1715 по 1723 г,— 436-437
Филипп II Август, Филипп Кривой (1165-1223) — король Франции (1180-1223).- 516
Филиппов Тертий Иванович (1825-1899) — русский государственный деятель, сенатор, публицист, православный богослов, собиратель русского песенного фольклора,— 598, 600-601
Фиркандт Альфред (1867-1953) — немецкий социолог и этнолог,— 245
Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814) — немецкий философ, представитель немецкой классической философии, создатель системы субъективного идеализма.— 580,600-601, 608
Флак Жак (Фляк) (1846-1918) — французский ученый, юрист и истЬ-рик. — 52, 326, 496
Фокс Чарльз Джеймс (1749-1806) — английский политический деятель, лидер левого радикального крыла вигов,— 401,584
Фома Аквинский (Фома Аквинат; Томас Аквинат; 1225-1274) — итальянский философ-схоласт, теолог, — 72
Фонвизин Михаил Александрович (фон Визин) (1787-1854) — генерал-майор, декабрист, философ, представитель утопического социализма,— 578
Форбоннэ Франсис Верон (1722-1800) — французский финансист,— 410
Фортескью Джон (ок. 1391 — ок. 1476) — английский юрист, политический мыслитель и гоударственный деятель,— 72,589
Фоше Клод (1744-1793) — деятель Великой французской революции; до революции — викарий архиепископа Буржа,- 411
Фразер Джеймс Джордж (Фрезер, Фрейзер) (1854-1941) - английский антрополог, культуролог, фольклорист и историк религии, представитель классической английской социальной антропологии,— 497, 501
Франк Семен Людвигович (1877-1950) — философ, религиозный мыслитель и психолог,— 187, 434,597
Франклин Бенджамин (1706-1790) — политический деятель, дипломат, учёный, изобретатель, журналист, издатель, масон,— 130, 584
Франц II (Иосиф-Карл) (1768-1835) - последний император Священной Римской империи (1792-1806) и под именем Франц I — первый император Австрии (1804-1835).— 106, 257
Франциск I (1494-1547) — французский король из династии Валуа, при котором начался расцвет французского Возрождения, — 44
Франческо ди Джеронимо (1642-1716) - итальянец, католический священник канонизирован Григорием XVI в 1839 г,- 351
Фрейганг Василий Иванович (Вильгельм) фон (1783-1849) — русский дипломат, филолог-славист,— 585
Френикль-де-Бесси (Бернар) (1605-1675) - французский математик, член парижской академии наук,— 394
Фридрих I Барбаросса Гогенштауфен (1122-1190) — король Германии (1152-1190), император Священной Римской империи (1155-1190).— 62
Фридрих II (Фридрих Великий), известный также по прозвищу Старый Фриц (1712-1786) — король Пруссии (1740-1786); один из основоположников прусско-германской государственности,— 51, 62, 90, 422
Фридрих Борромео (1564-1631) - итальянский церковные, кардинал и архиепископ Милана,— 343
Фриман Эдуарда (1823-1892) - английский историк,— 16, 23, 74,161, 160,164,333
Фулье (Фуйе) Альфред Жюль Эмиль (1838-1912) — французский философ и социолог,— 10,105,109-110,125-126, 256, 260-261, 297, 312,314-315, 371,477,480-485,525-526
Фурье Шарль (1772-1837) — французский социалист-утопист,— 350,365
Фюстель-де-Куланж Нюма-Дени (1830-1889) — французский историк,-24, 477, 524,568,621
Харонд (вторая половина VII в. до н.э.) — один из древнегреческих законодателей,— 357, 360
Хауит Альфред Уильям (1830-1908) — австралийский антрополог и натуралист,— 497
Хобхаус Леонард Трелони (1864-1929) — английский социологи философ, теоретик современного либерализма, — 642
Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) — русский поэт, художник, публицист, богослов, философ,— 565
Цветаев Лев Алексеевич (1777-1835) — русский юрист,— 588
Цезарь Гай Юлий (100-44 до н.э.) — римский политический деятель и полководец, создатель единоличной диктатуры как переходной формы от республики к монархии,— 136,144,172,177, 355
Цикте.— 159
Циммер Генрих Роберт (1851-1910) - немецкий кельтолог и индолог.-165,172
Цитович Петр Павлович (1843-1913) — русский юрист, доктор права,— 19
Цицерон Марк Тулий (106-43 до н.э.) - римский оратор и государственный деятель, теоретик риторики, классик латинской прозы и философ,-72,177, 411, 433
Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856) - русский философ и публицист-12, 540, 543, 550-570,573-574, 592, 594-595, 609, 611-614
Чарльтон Бастиан Генри (1837-1915) — английский психиатр,— 111
Чернов Виктор Михайлович (1873-1952) - политический деятель, социолог, публицист,— 626
Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) — русский философ-утопист, революционер-демократ, литературный критик, публицист и писатель,— 13
Черутти,— 398
Честерфильд Филип Дормер Стенхоп (1694-1773) — английский писатель, публицист, философ-моралист,— 420
Чичерин Борис Николаевич (1828-1904) — юрист, историк, философ,— 619
Чупров Александр Иванович (1842-1908) — экономист, статистик и публицист,— 13,29
Шадуортс-Годжсон.— 524
Шаль Виктор-Эфемион Филарет (1798-1873) — известный французский писатель,— 541
Шамбор Генрих (Анри), герцог Бордоский, граф де (1820-1883) — последний представитель старшей линии французских Бурбонов,— 45
Шампольон Жан-Франсуа (1790-1832) — французский историк-ориенталист и лингвист,- 210
Шарден Тейяр Пьер де (1881-1955) — французский ученый-палеонтолог, философ и теолог, — 434
Шастель Этьен (1801—1886) — писатель, теолог,— 387
Шатобриан Франсуа Рене (1768-1848) — французский писатель и дипломат, один из основателей романтизма во французской литературе,— 545
Шаховской Федор Петрович (1796-1829) - декабрист, масон,- 579
Шварц Иван Георгиевич (Иоганн-Христофор) (1751-1784) — педагог и просветитель, выдающийся деятель русского масонства и просветитель,— 596
Шевалье Мишель (1806-1879) - экономист французской классической школы,— 190
Шевырев Степан Петрович (1806-1864) — русский мыслитель, политический публицист традиционалистского толка,— 12,538-539,541-543, 550,573, 601-602
Шекспир Уильям (1564-1616) — английский драматурги поэт,— 530, 583
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854) — немецкий философ,- 13, 540,547,561,571,594, 598, 600-602, 604-609, 611-613
Шеффле Альберт Эберхард Фридрих (1831-1903) — немецкий и австрийский экономист и социолог, представитель органической школы,— 94, 98,100, 243, 247, 249, 251, 370, 453-454
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759-1805) — немецкий поэт, драматург, теоретик искусства, историк, — 581
Шлейхер Август (1821-1868) — немецкий лингвист, представитель сравнительно-исторического языкознания,— 162-163
Шлецер Август Людвиг (1735-1809) — русский и германский историк, публицист и статистик, — 585-586
Шлиман Иоганн Людвиг Генрих Юлий (1822-1890) — немецкий предприниматель и археолог-любитель,- 172
Шотвелл Джеймс Томсон (1874-1965) — американский историк.— 642
Шрадер Отто (1855-1919) — немецкий филолог, известный благодаря своим работам по истории немецкой и праиндоевропейской лексики,— 159,162,164-165
Штейн Лоренц фон (1815-1890) - немецкий философ-гегельянец, правовед, историк, экономист.- 19,130
Штейн Людвиг (1859-1930) — немецкий социолог и философ.— 101, 251
Штейн Генрих Фридрих Карл (1757-1831) — немецкий государственный и политический деятель, реформатор.— 577, 635
Штейнгель Владимир Иванович (1783-1862) — декабрист, автор воспоминаний,— 578
Штейнмец (Steinmetz), Себальд Рудольф (1862-1940) - голландский социолог и этнограф, — 337
Штейнталь X. (Steinthal) Хейман (1823-1899) — немецкий языковед, один из первых теоретиков психологизма в языкознании,— 273-274, 371,518
Щило — «Повесть о посаднике Щиле» («Сказание о Щилове монастыре, еже в Великом Новеграде», «Повесть, содеяшася в Великом Новеграде, - о избытии изо ада посадника Шила») появилась в XV-XVI вв., дошла в более поздних списках XVII в,— 40
Эдуард I Плантагенет-Длинноногий (1239-1307) — король Англии (с 1272), в правление которого окончательно сложился английский парламент,— 169,622
Эдуард III Плантагенет (Edward) (1312-1377) - король Англии (с 1327). (Плантагенеты — королевская династия французского происхождения.) — 16, 22,169,464
Эммануил Филиберт (1528-1580) — герцог Савойский. В 1572 г. совместно с папой римским Григорием XIII восстановил для борьбы в Савойе с протестантским кальвинистским вероучением рыцарский Орден, — 341
Энгельс Фридрих (1820-1895) — мыслитель и общественный деятель, один из основоположников марксизма,— 130-131
Эпиктет (ок. 50 — ок. 138) — греческий философ-стоик.— 518
Эпикур (ок. 341-270 до н.э.) — древнегреческий философ, основатель одного из наиболее влиятельных направлений античной философии — эпикуреизма.— 562, 597
Эсмен Адемар Жан Поль (1848-1913) - французский государствовед, представитель школы юридического позитивизма,— 17-18, 26, 31, 104, 255
Эспинас Альфред (1844-1922) — французский социолог, представитель биоорганической школы в социологии,— 109,114, 242, 260, 265, 371, 453, 523
Эттинген Александр (1827-1905) — статистик, протестантский богослов, профессор Дерптскго университета,— 307
Южаков Сергей Николаевич (1849-1910) — русский публицист и социолог, либеральный народник, — 4, 624
Юм Дэвид (1711-1776) — шотландский философ, представитель эмпиризма и агностицизма,— 212, 411-412
Юиг Карл Густав (1875-1961) — швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений, аналитической психологии,— 582
Юрий Долгорукий (1091-1157) — сын Владимира Мономаха, представитель рода Рюриковичей, князь суздальский и великий князь киевский, основатель г. Москвы,— 53
Юстиниан I Великий (482/483-565) — византийский император, кодификатор римского права,— 148,515
Языков Николай Михайлович (1803-1847) — русский поэт, славянофил,— 571
Яков II (James) (1633-1701) — король Англии (1685-1688) из династии Стюартов.
Якушкии Иван Дмитриевич (1793-1857) - декабрист, - 555
Янжул Иван Иванович (1846-1914) — экономист и статистик, педагог, деятель народного образования,— 29
Яновский Людвик (1878-1921) - историк польской культуры,— 168
Янчук Николай Андреевич (1859-1921) — этнограф, фольклорист, антрополог, литературовед и писатель,— 168
СОДЕРЖАНИЕ
А.О. Воронове. М. М. Ковалевский как теоретик и историк социальной мысли............................... 3
Материалы для биографического словаря действительных членов Императорской Академии наук............................. 15
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Прогресс................................................ 35
Взаимоотношение свободы и общественной солидарности..... 70
Дарвинизм в социологии.................................. 94
Происхождение идеи долга................................. 136
Сравнительно-историческое правоведение и его отношение к социологии. Методы сравнительного изучения права................... 148
ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Очерк истории развития социологических учений.......... 177
Очерк истории развития социологии в конце XIX и в начале XX века......................... 243
Социология и социологи................................. 327
Развитие идей государственной необходимости и общественной правды в Италии. Ботеро и Кампанелла.... 338
Социология на Западе и в России........................ 367
Кондорсе............................................... 374
Монтескье и подготовительные работы к «Духу законов»... 419
Руссо - гражданин Женевы............................... 438
Социальная доктрина Спенсера.............................. 452
Современные французские социологи......................... 478
Теория заимствования Тарда................................ 509
Новое социологическое общество............................ 520
Философское понимание судеб русского прошлого мыслителями и писателями 30-х и 40-х годов................ 538
Борьба немецкого влияния с французским в конце XVIII и в первой половине XIX столетия............ 575
ПРИЛОЖЕНИЕ
Н. Кареев. М. М. Ковалевский как историк и социолог....... 617
Н. С. Тимашев. Социологические теории Максима Ковалевского. 625
Указатель имен............................................ 643
Наугное издание
Максим Максимович Ковалевский
СОЦИОЛОГИЯ.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ответственный редактор А. О. Воронове
Директор издательства Р.В. Светлов Заведующий редакцией В. Н. Подгорбунских Корректор Н. И. Тимофеева Верстка Т. О. Прокофьевой
Подписано в печать с готового оригинал-макета 28.11.2011. Формат 60x90 !/16- Бум. офсетная. Гарнитура OctavaC. Печать офсетная. Усл. печ. л. 43,00.
Тираж 800 экз. Заказ № 31
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15, Издательство Русской христианской гуманитарной академии. Тел.:(812)310-7 - 9; факс: (812) 571-30-75;
e-mail:si hb cmi s@h bmp URL: http://rhga.ru
Отпечатано в типографии «Диалог» 291028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 13, лит. А