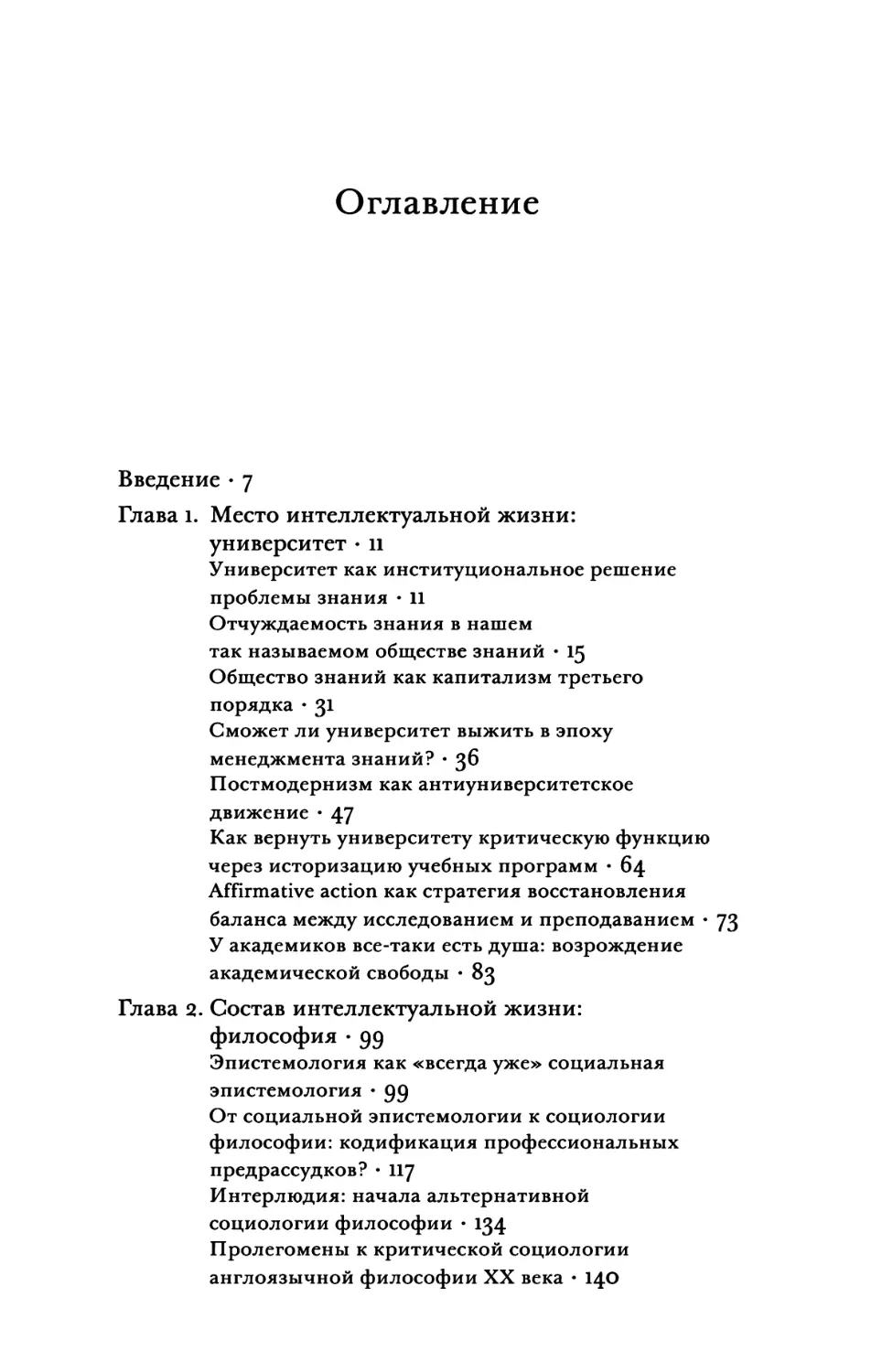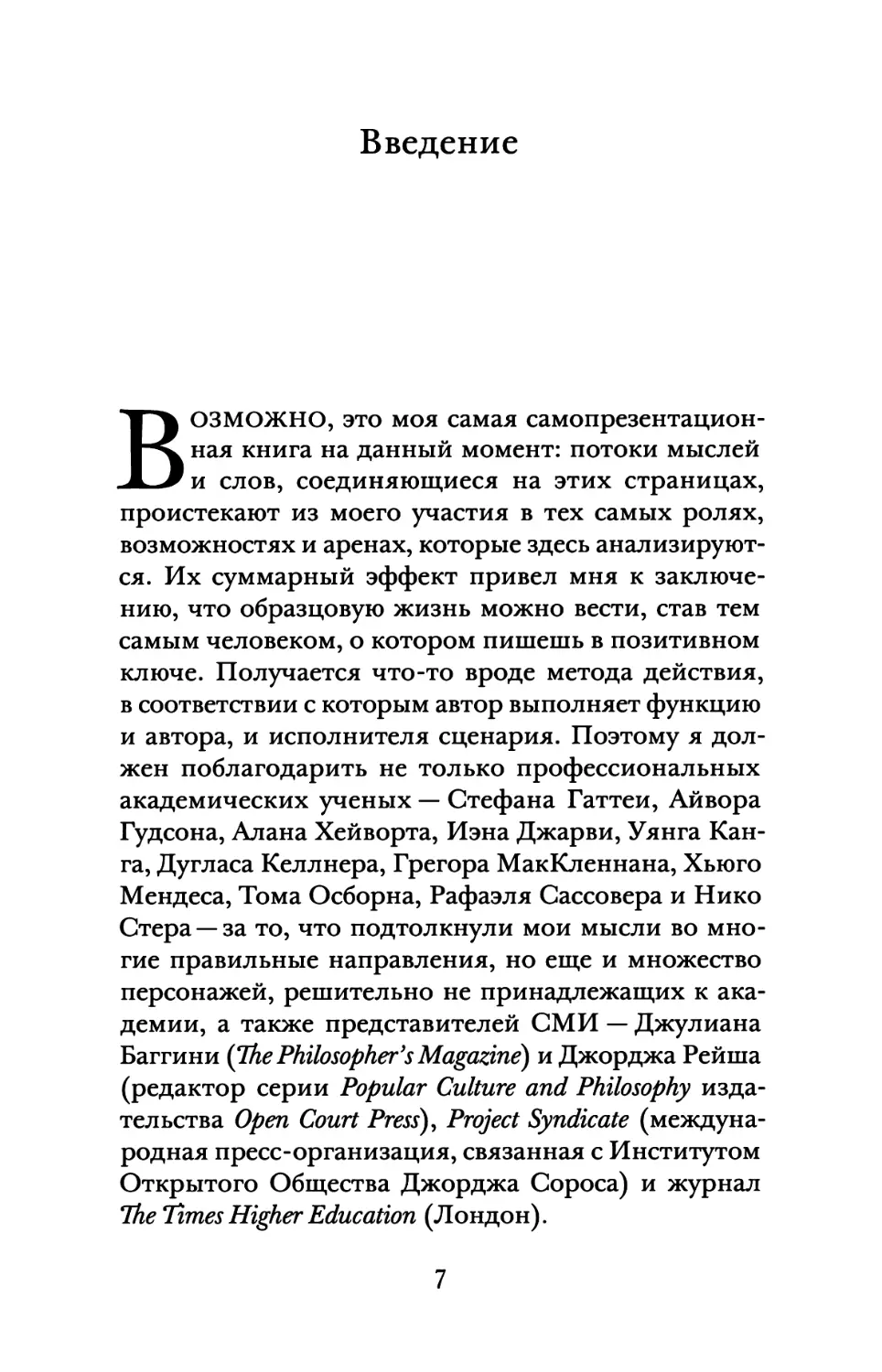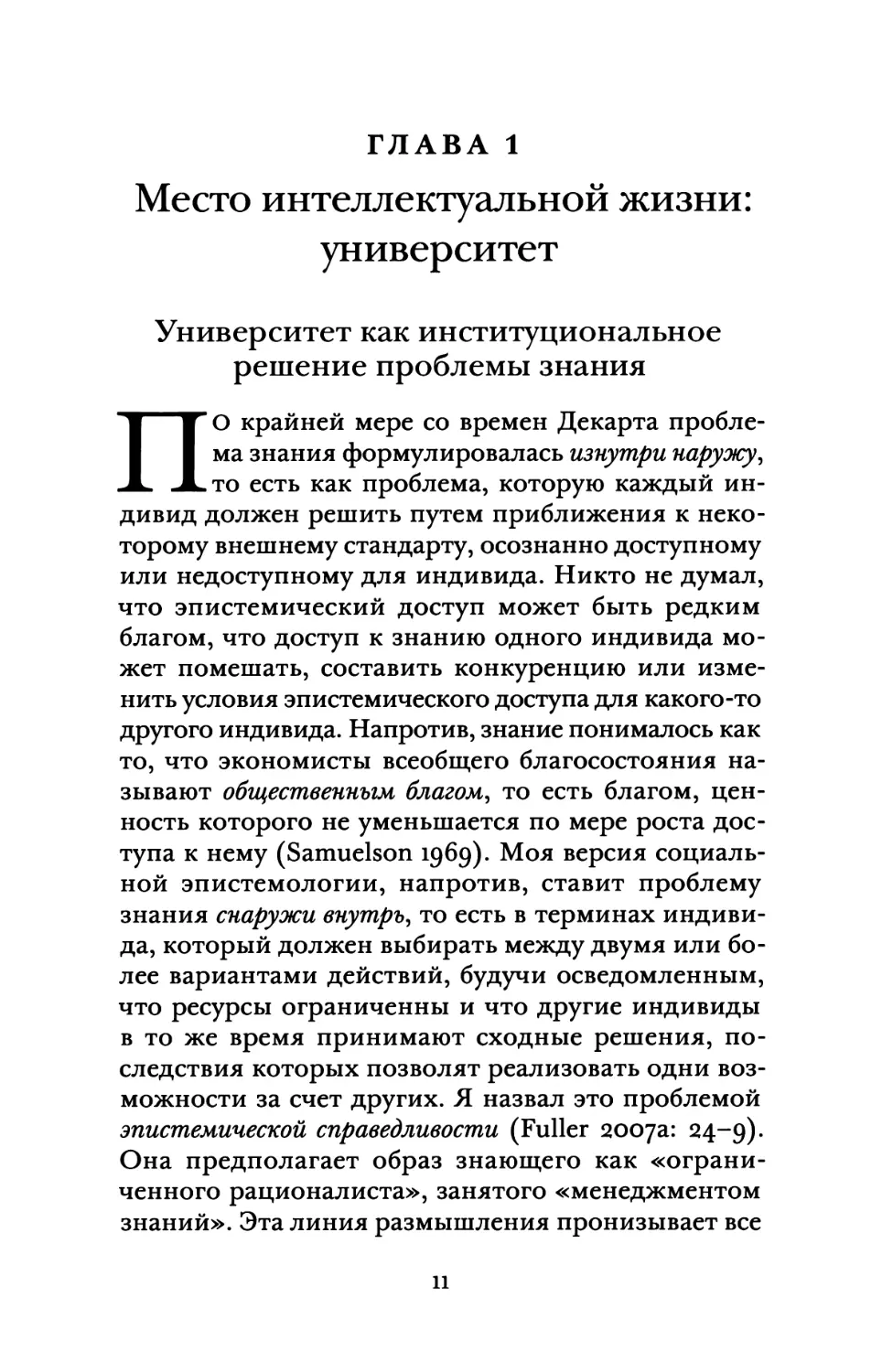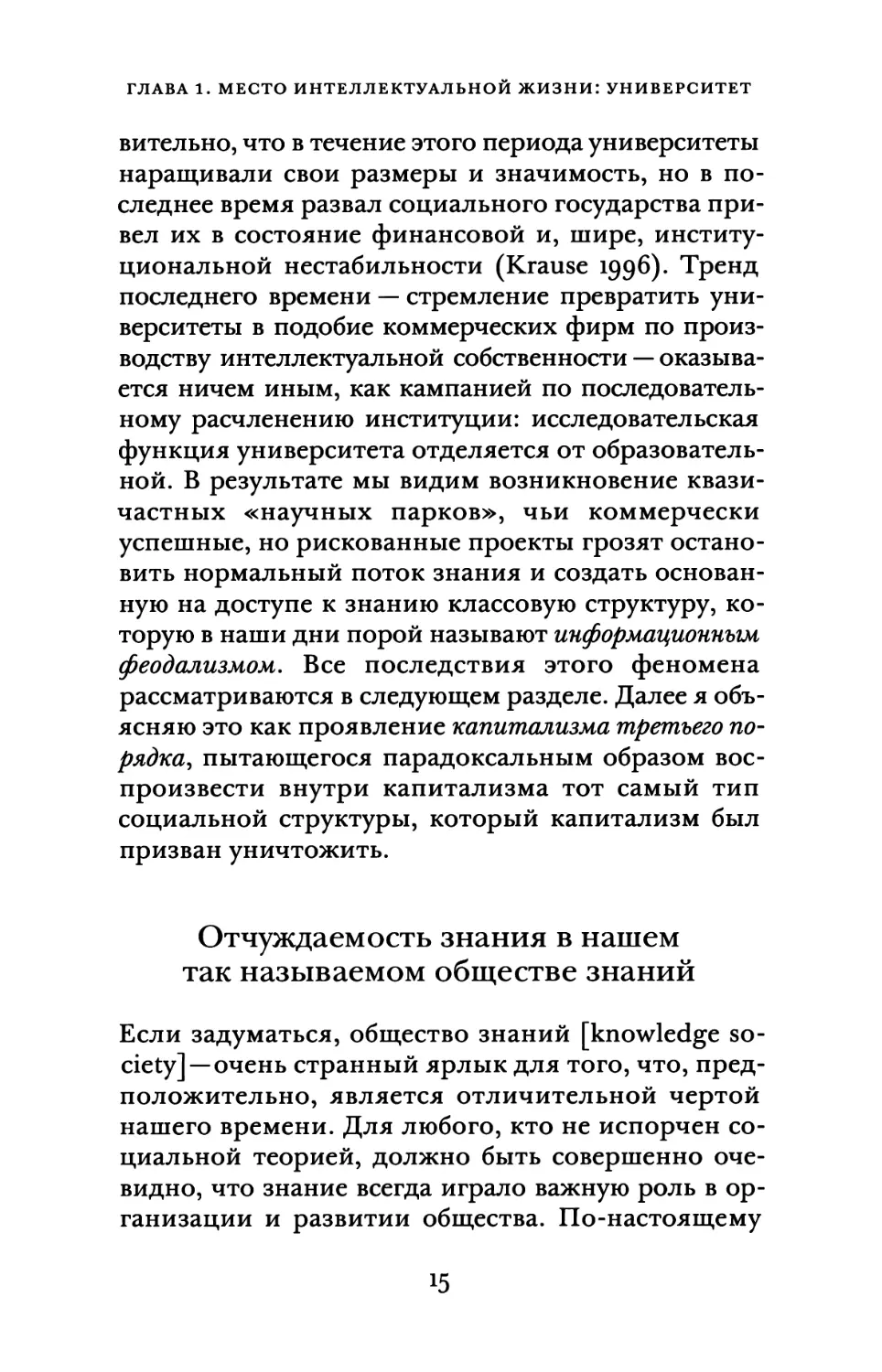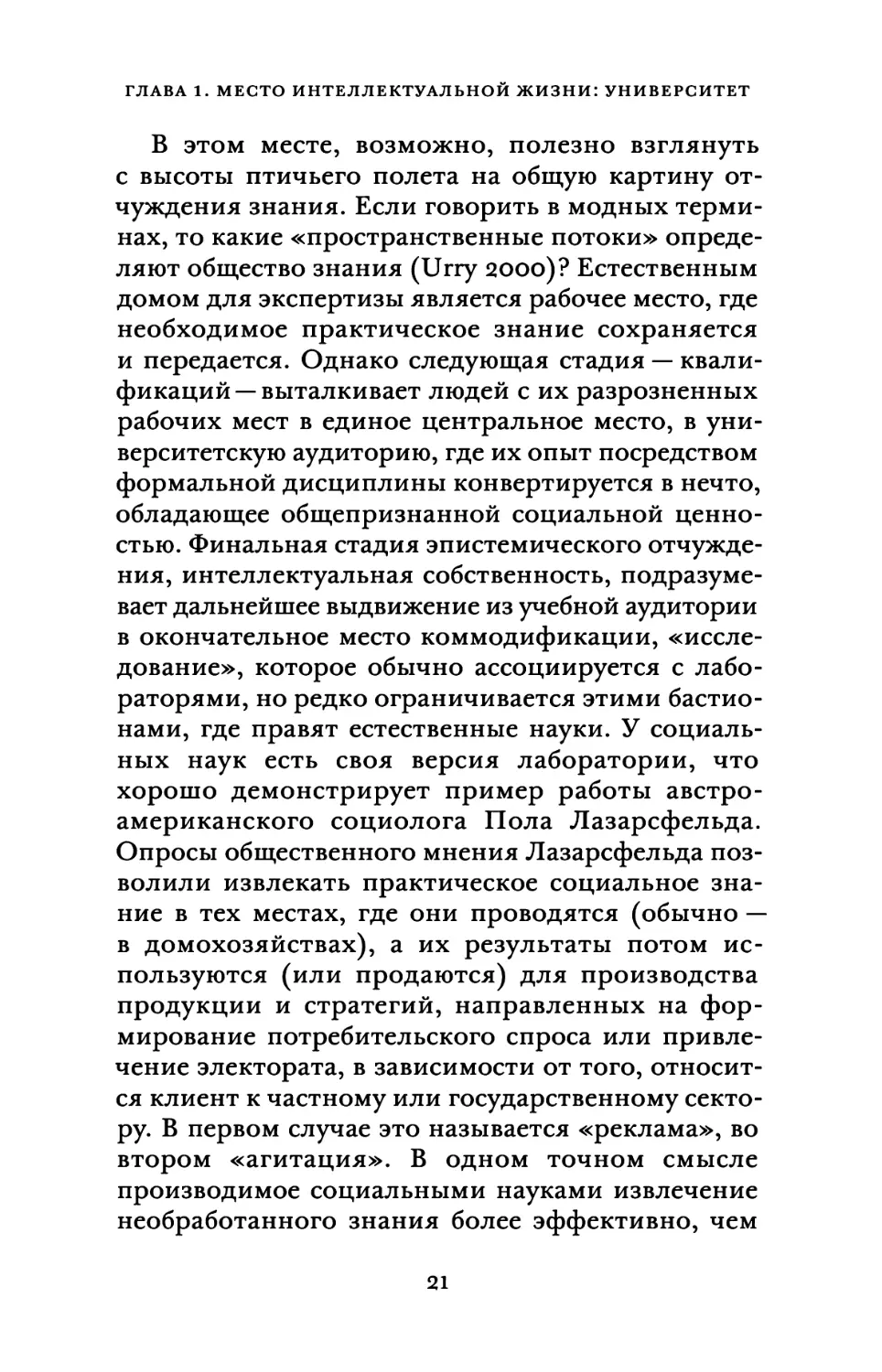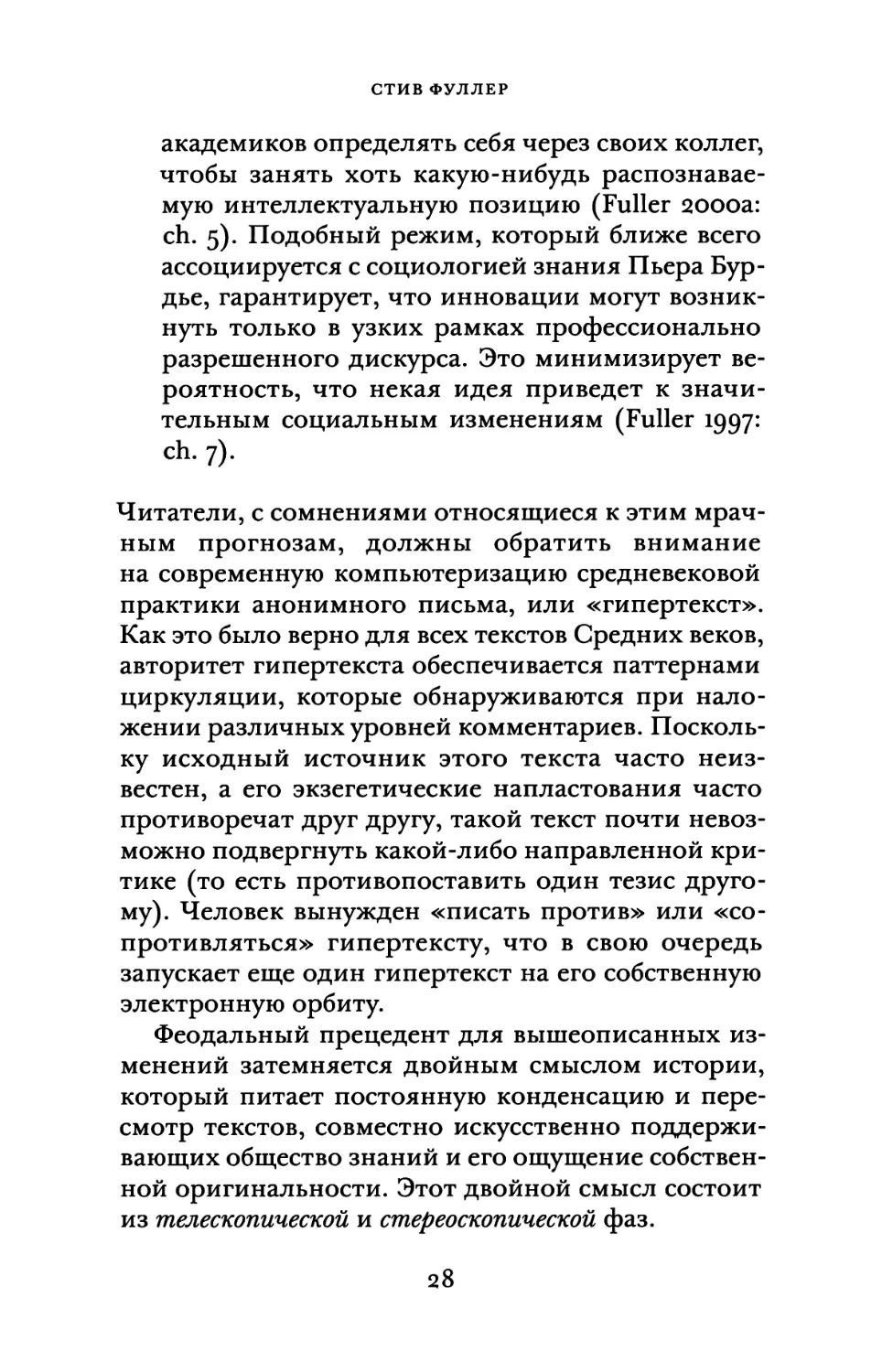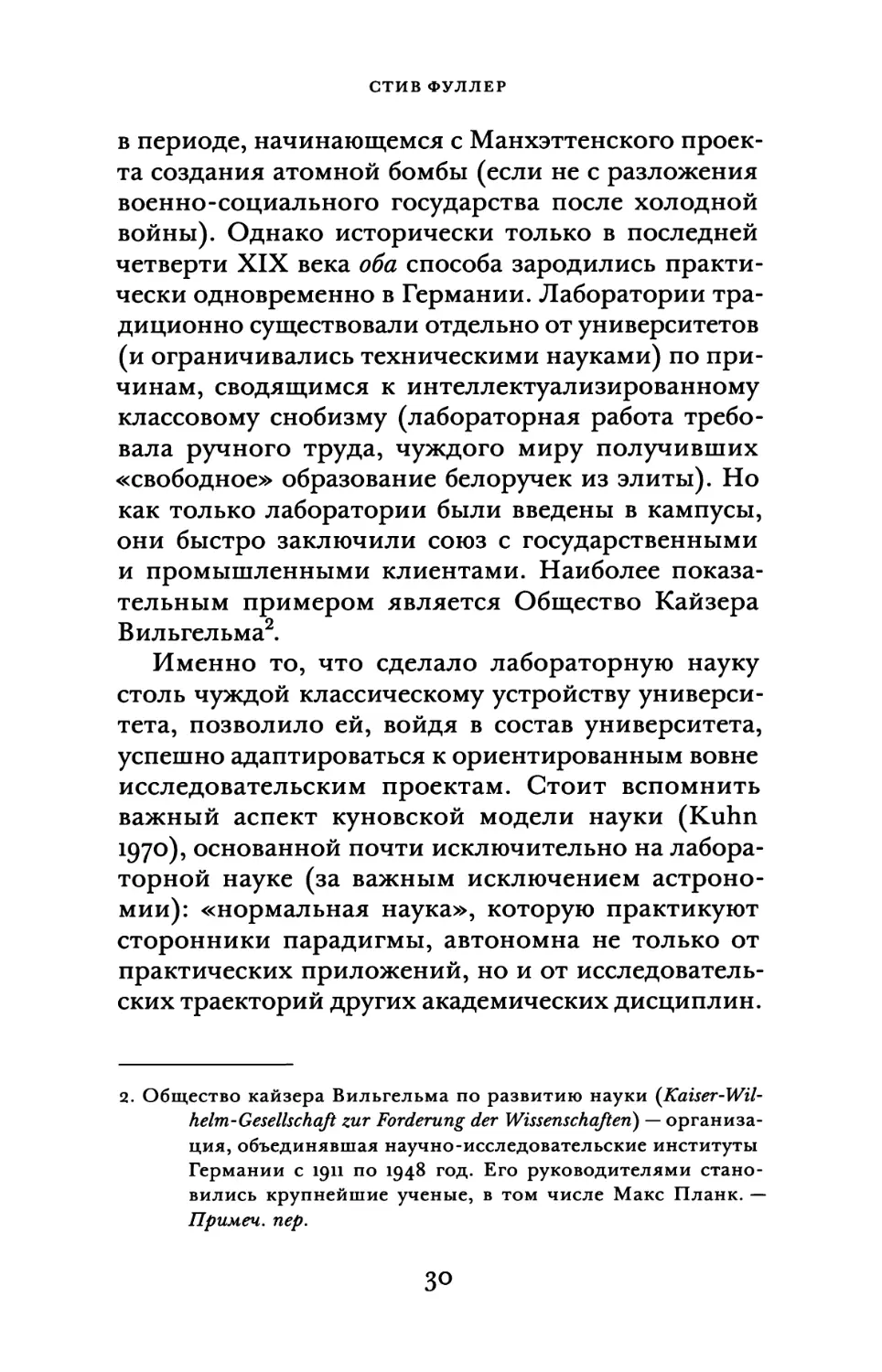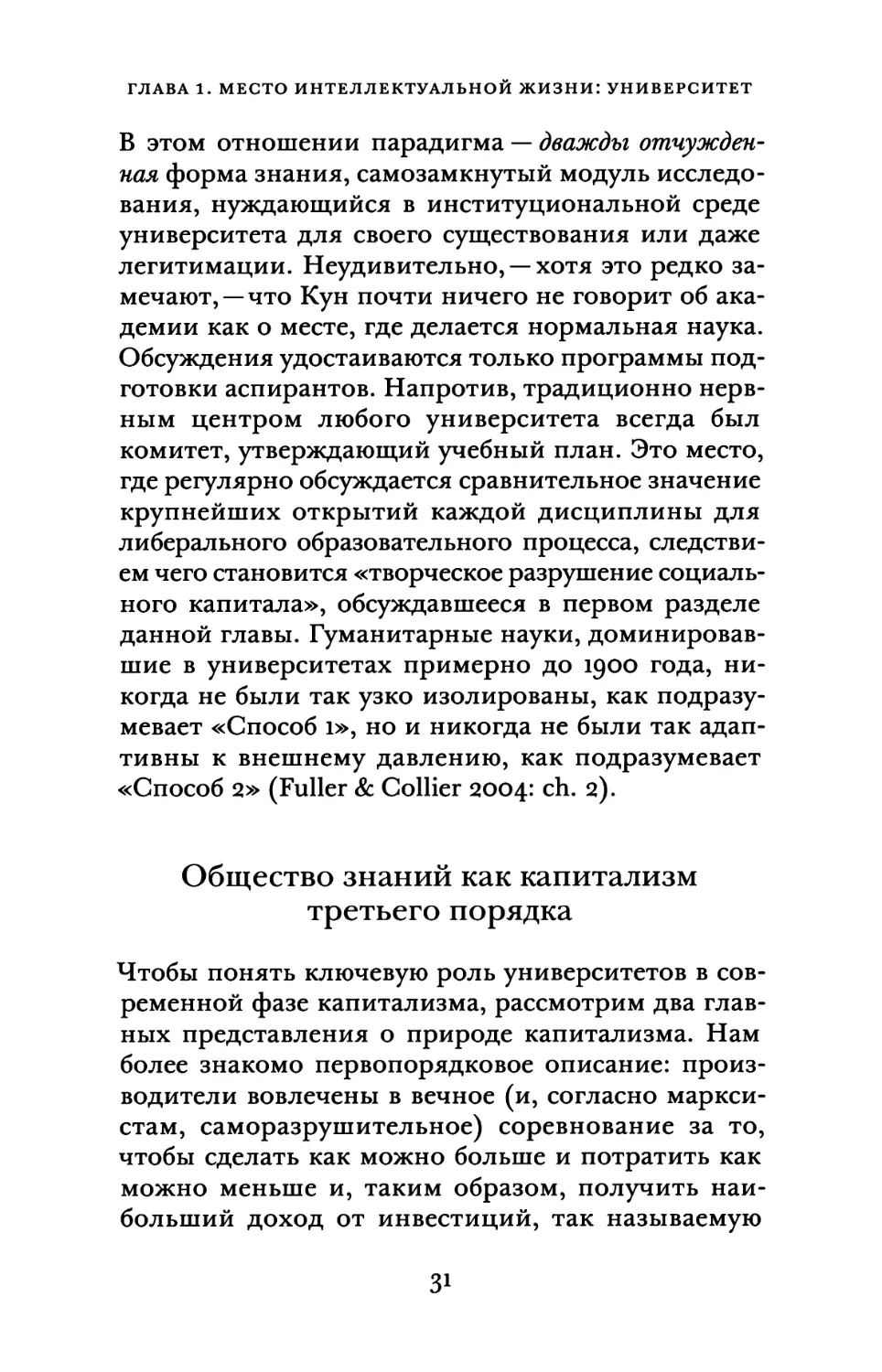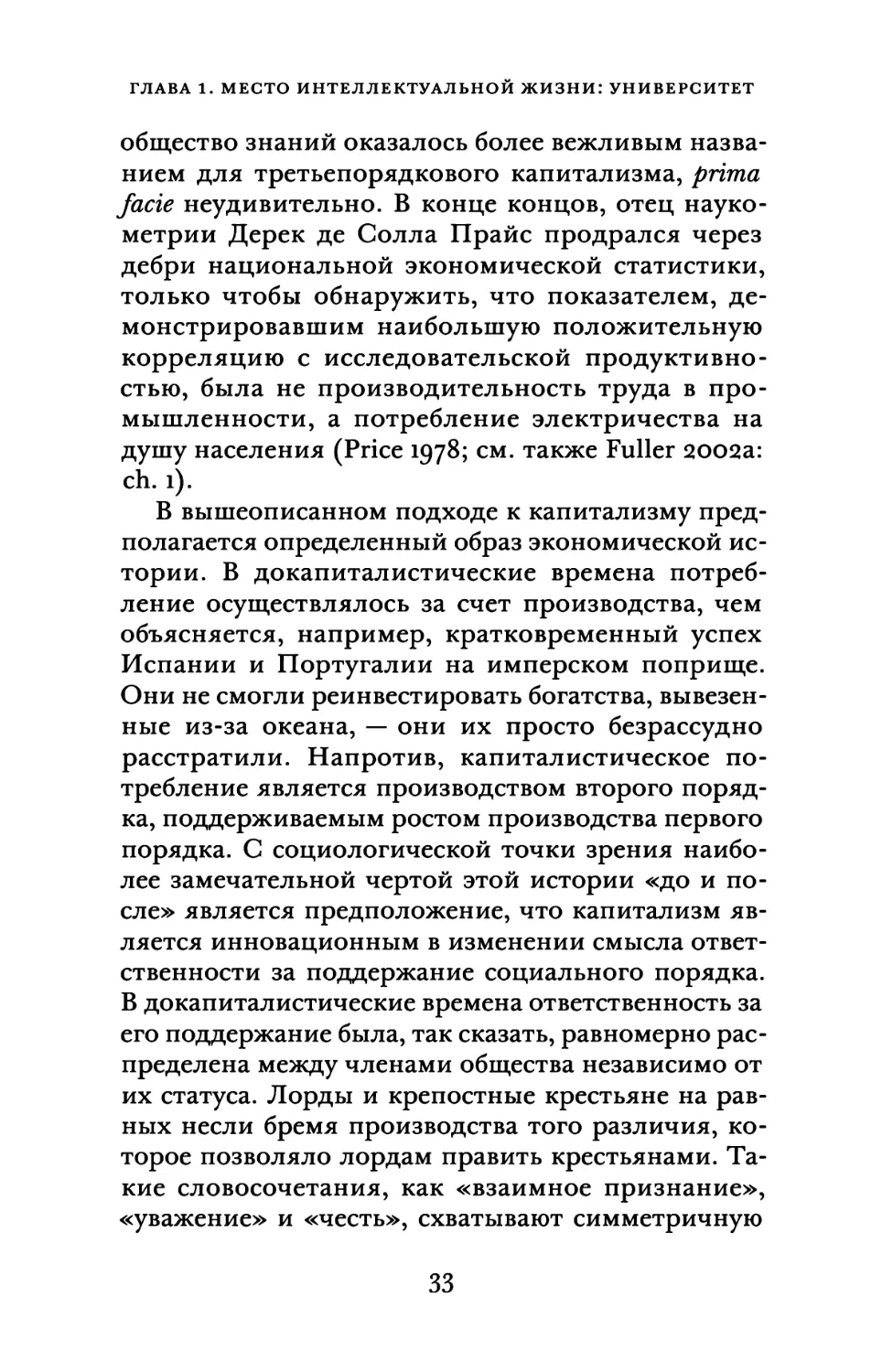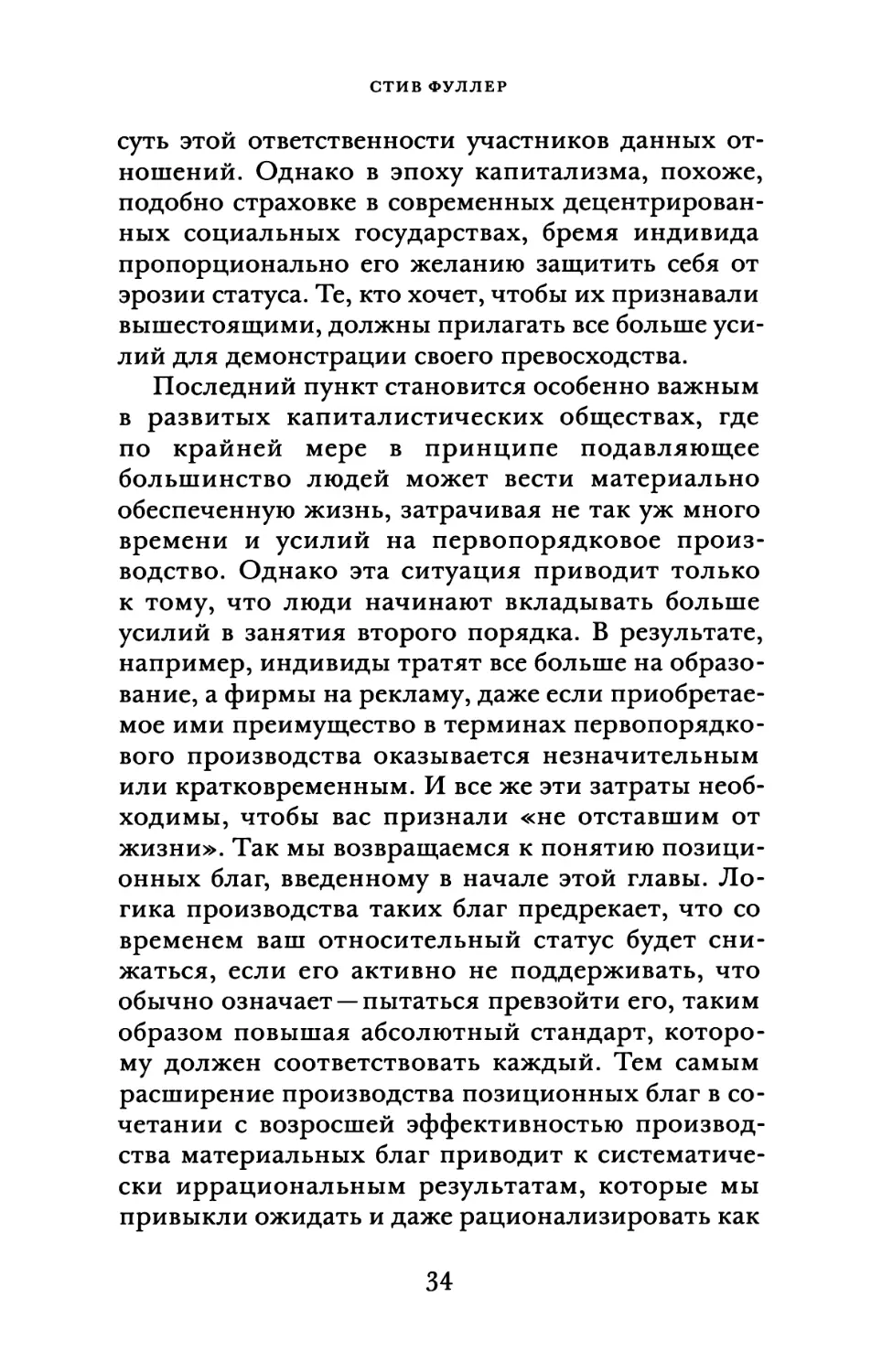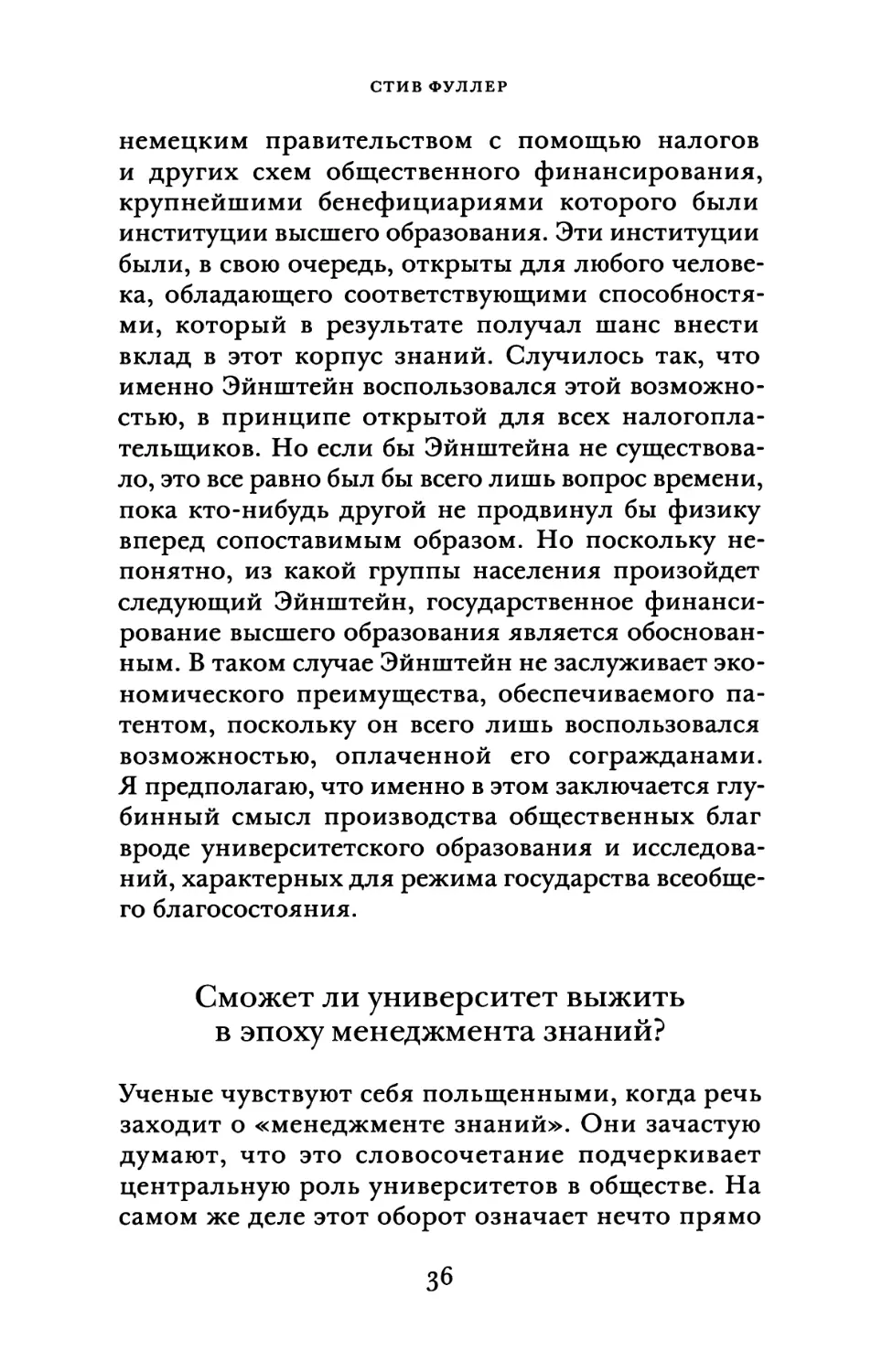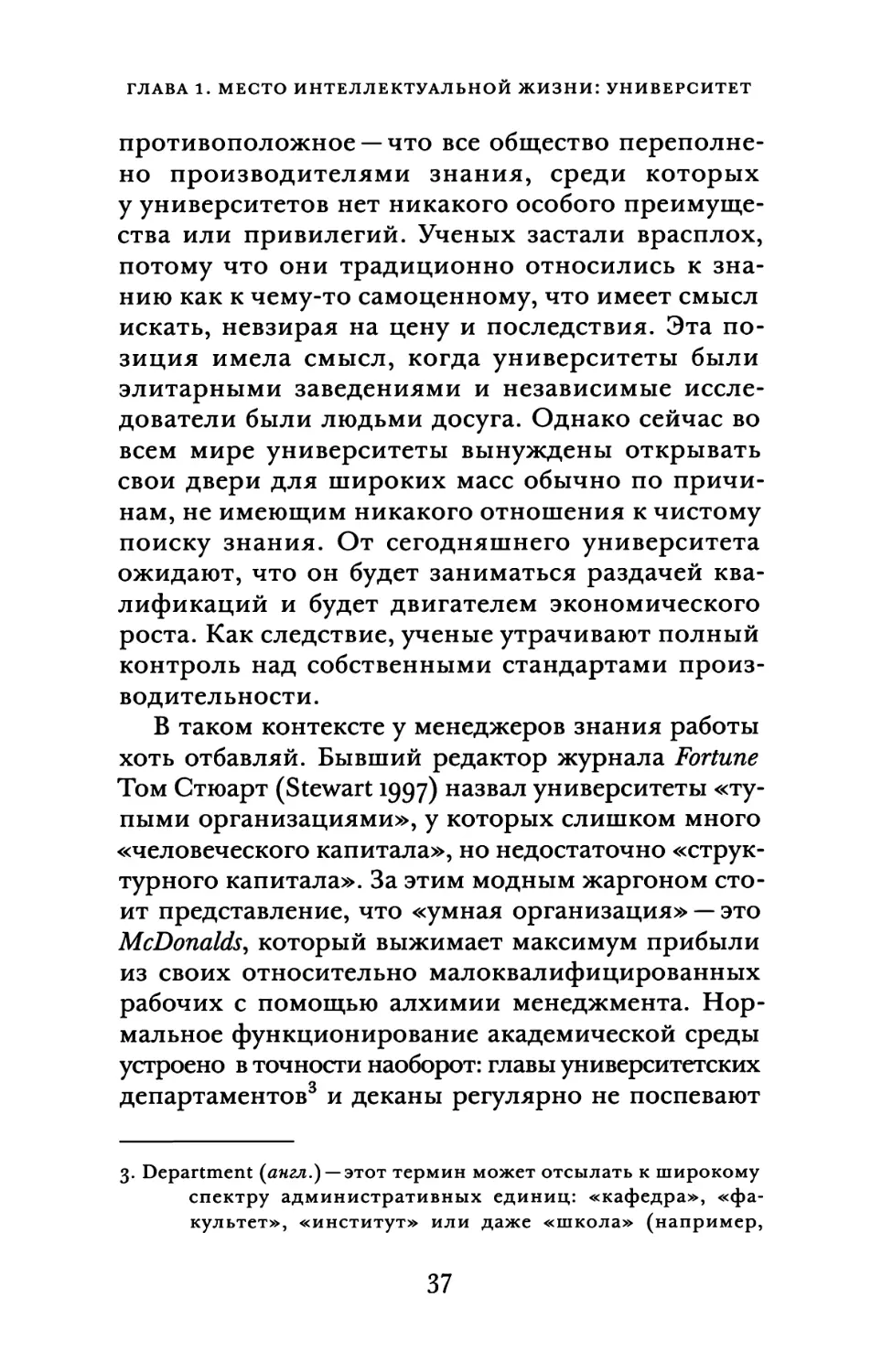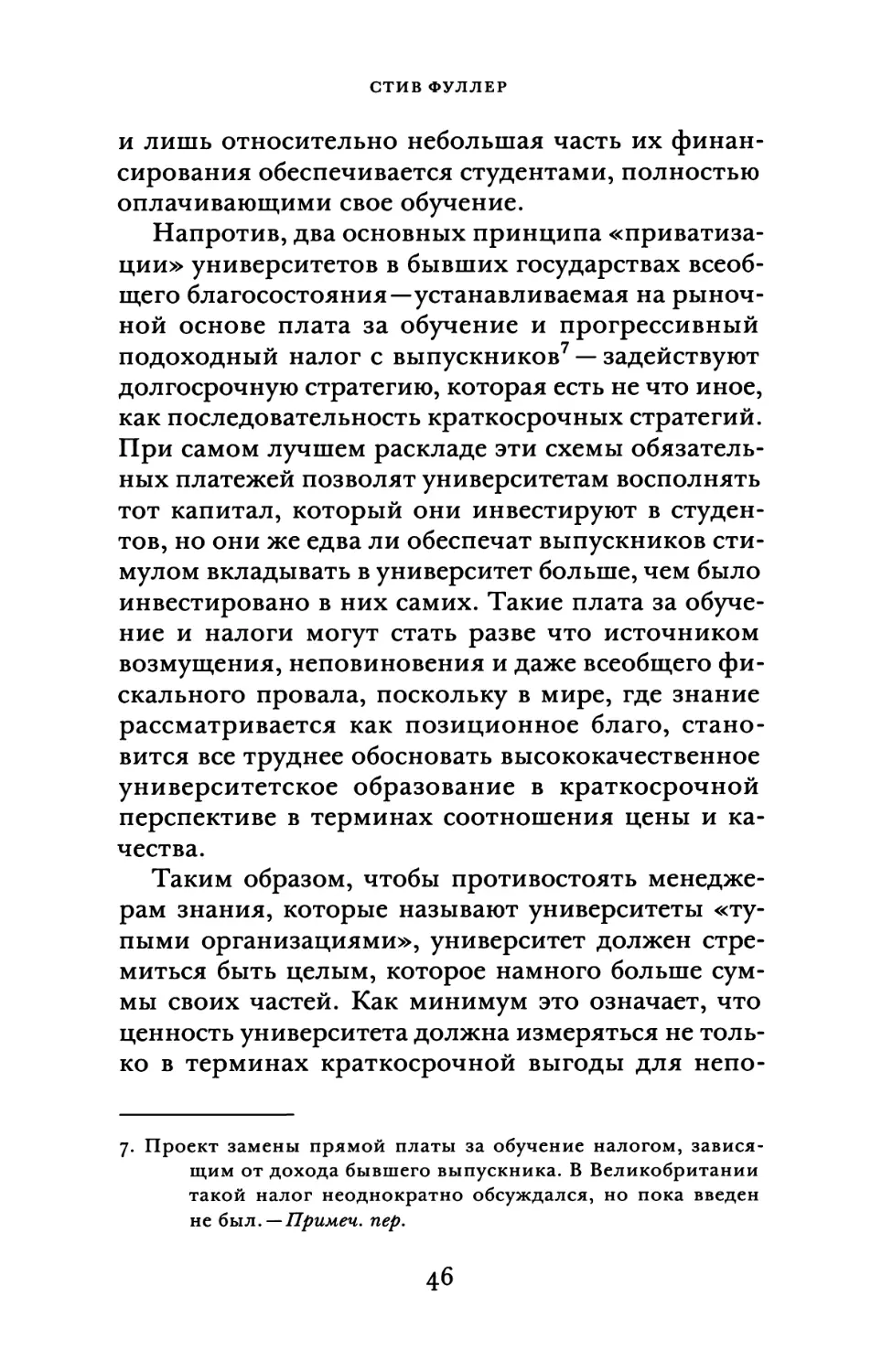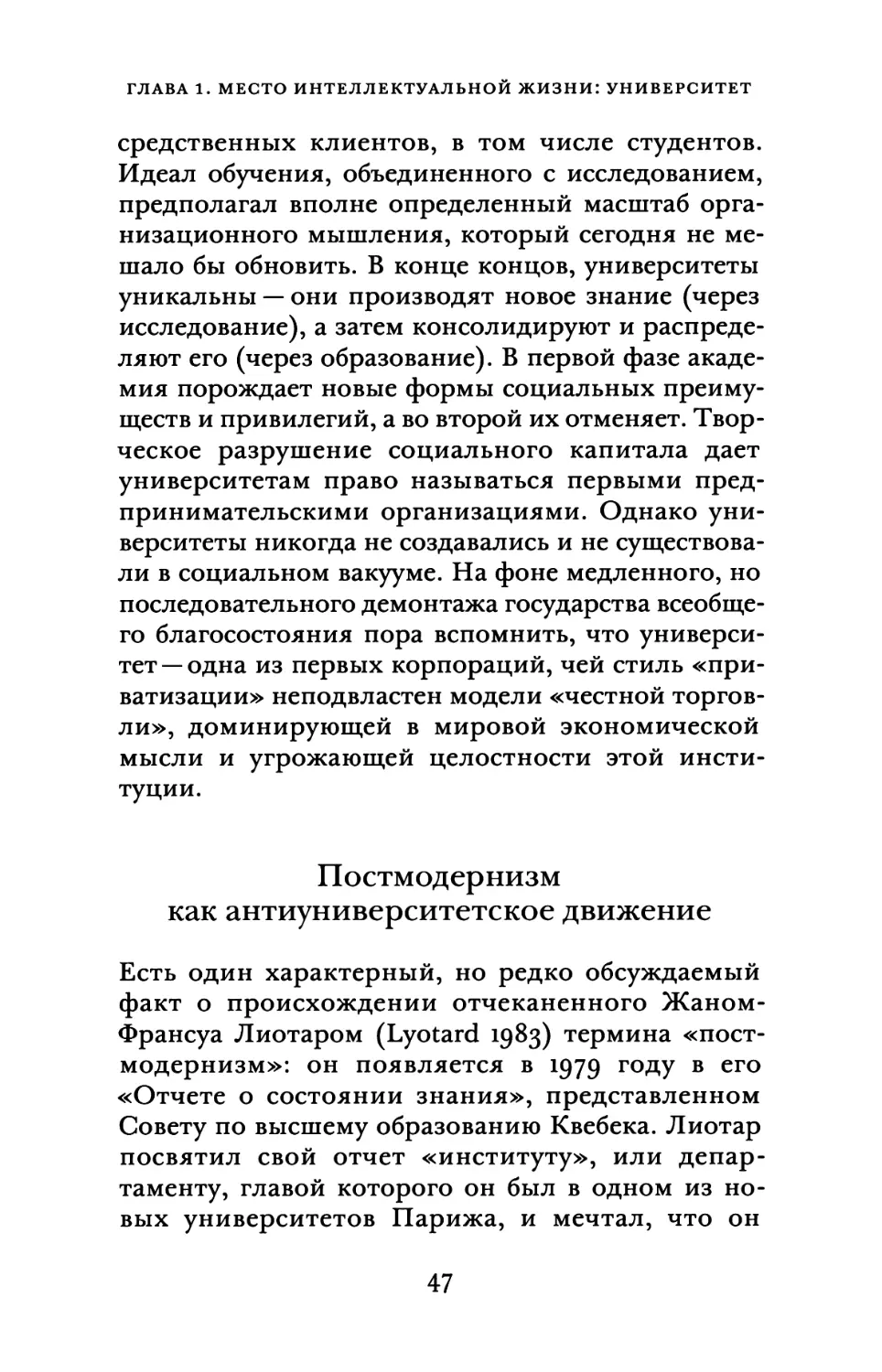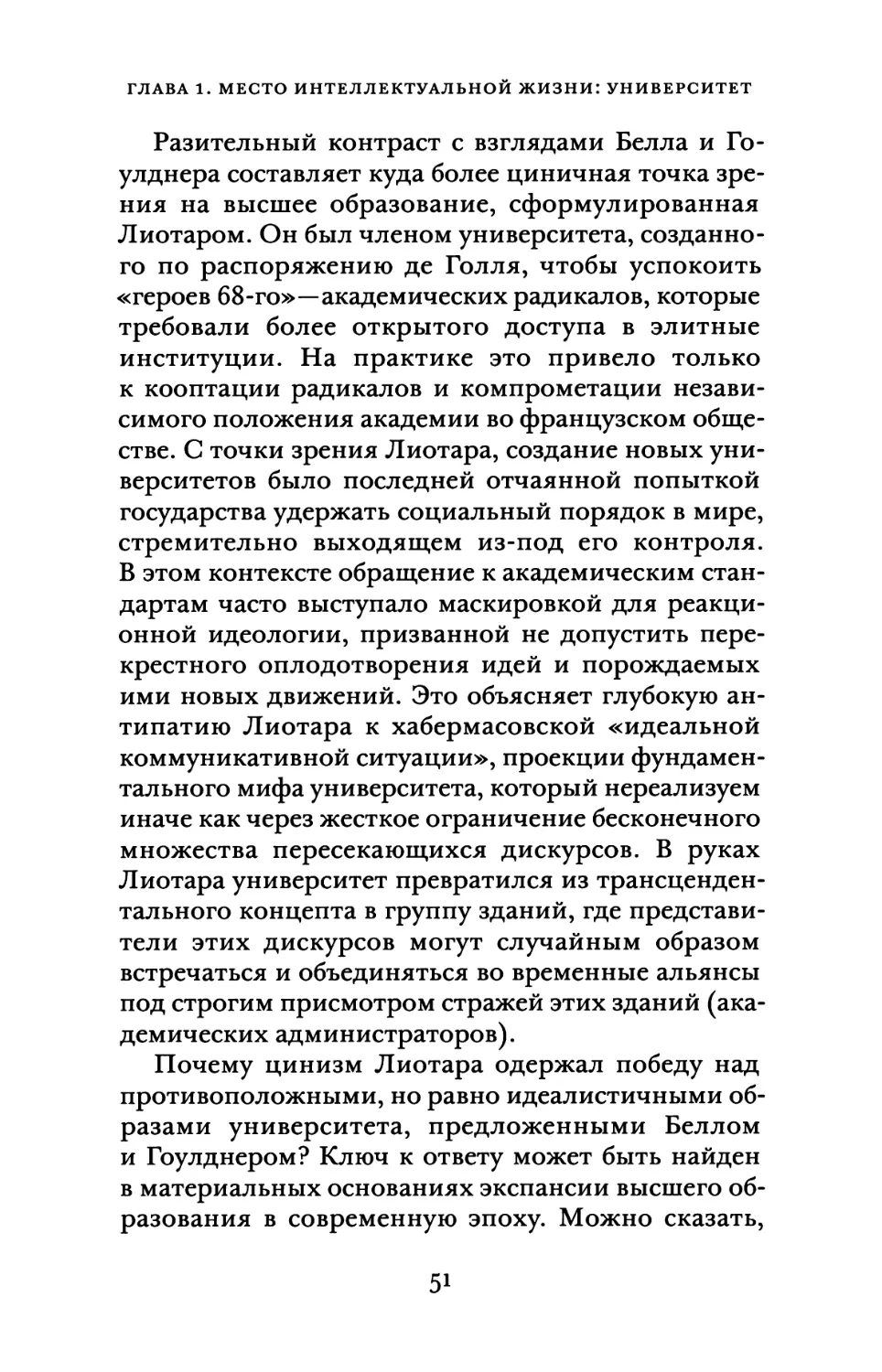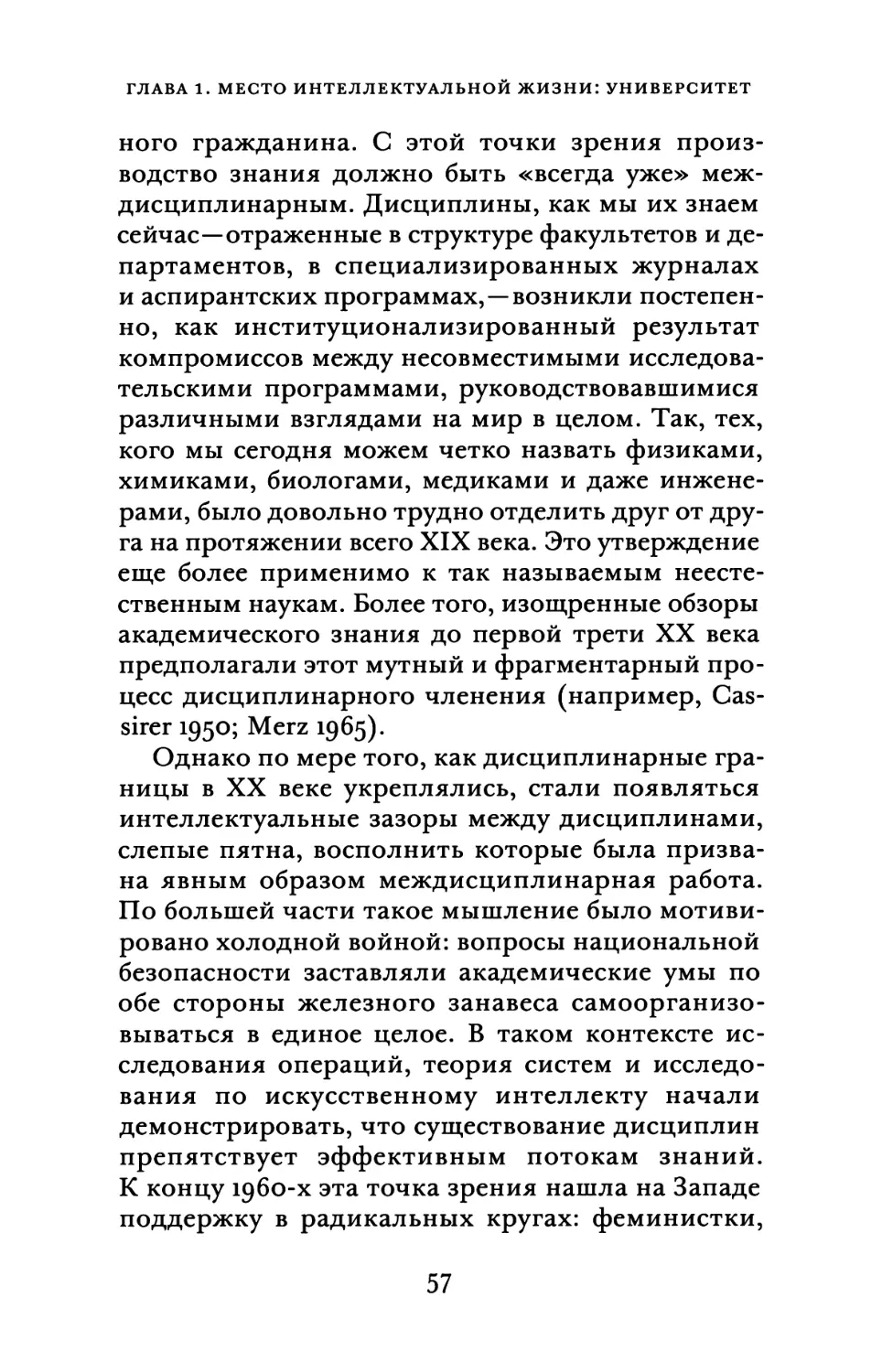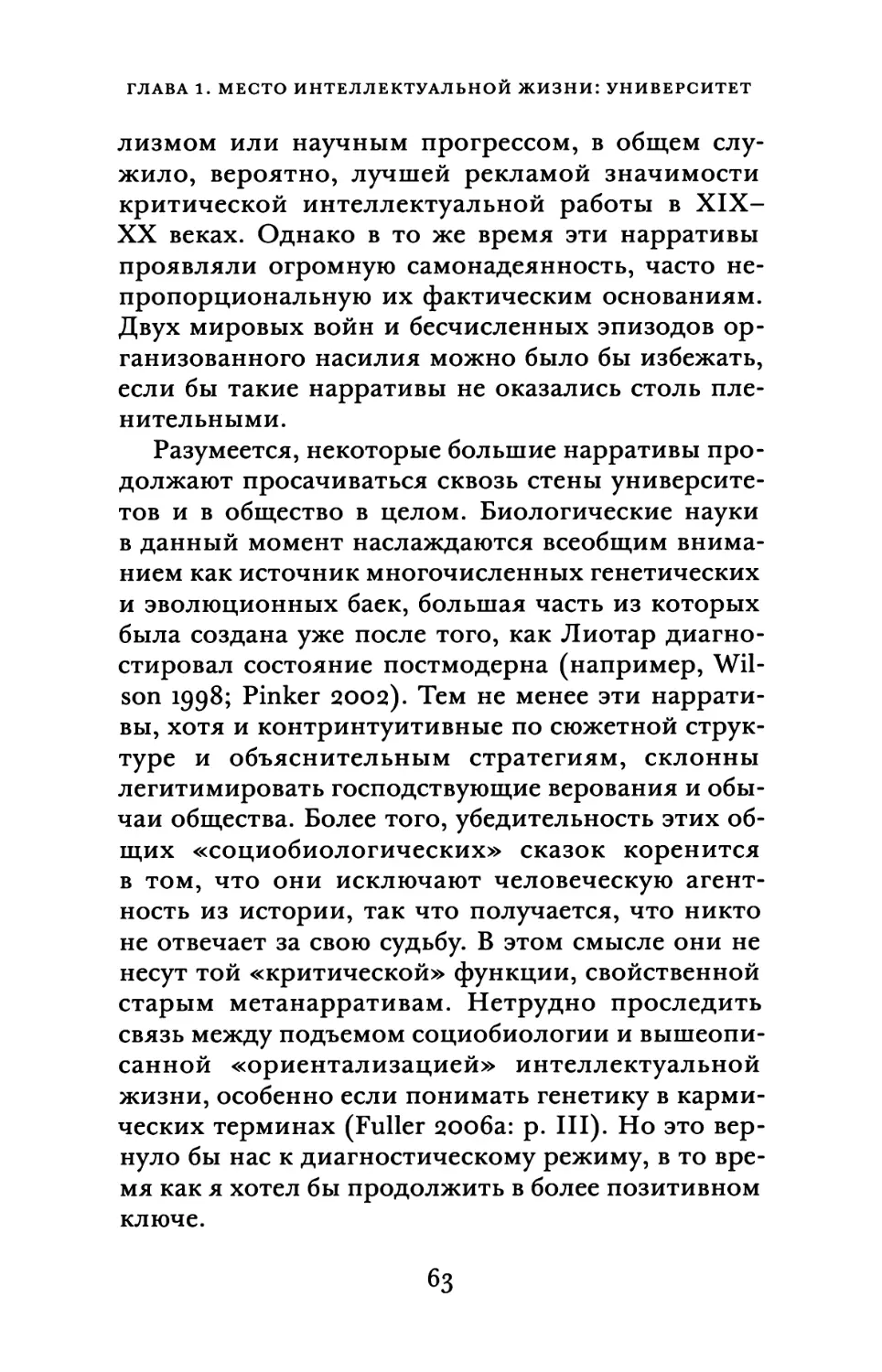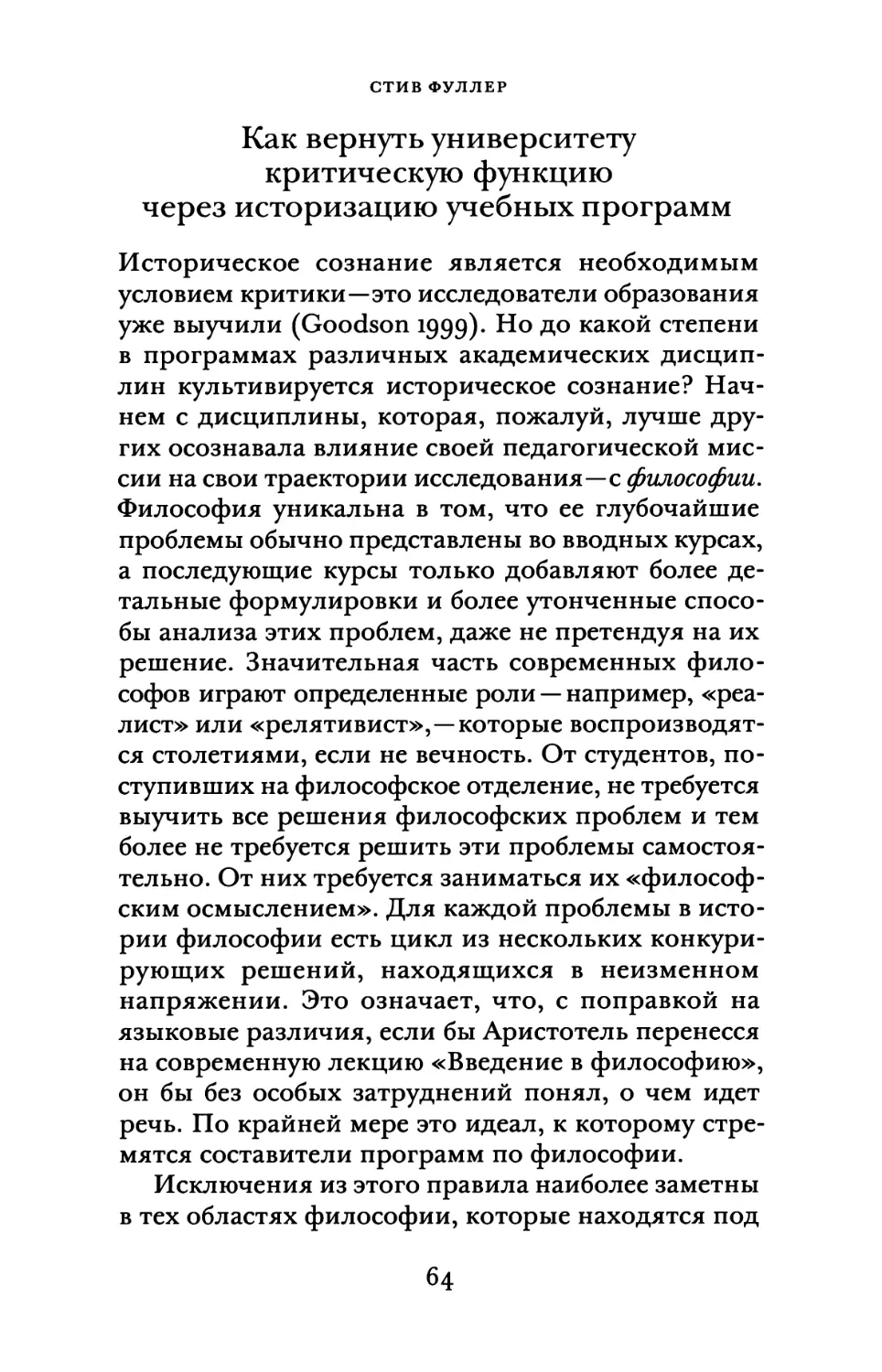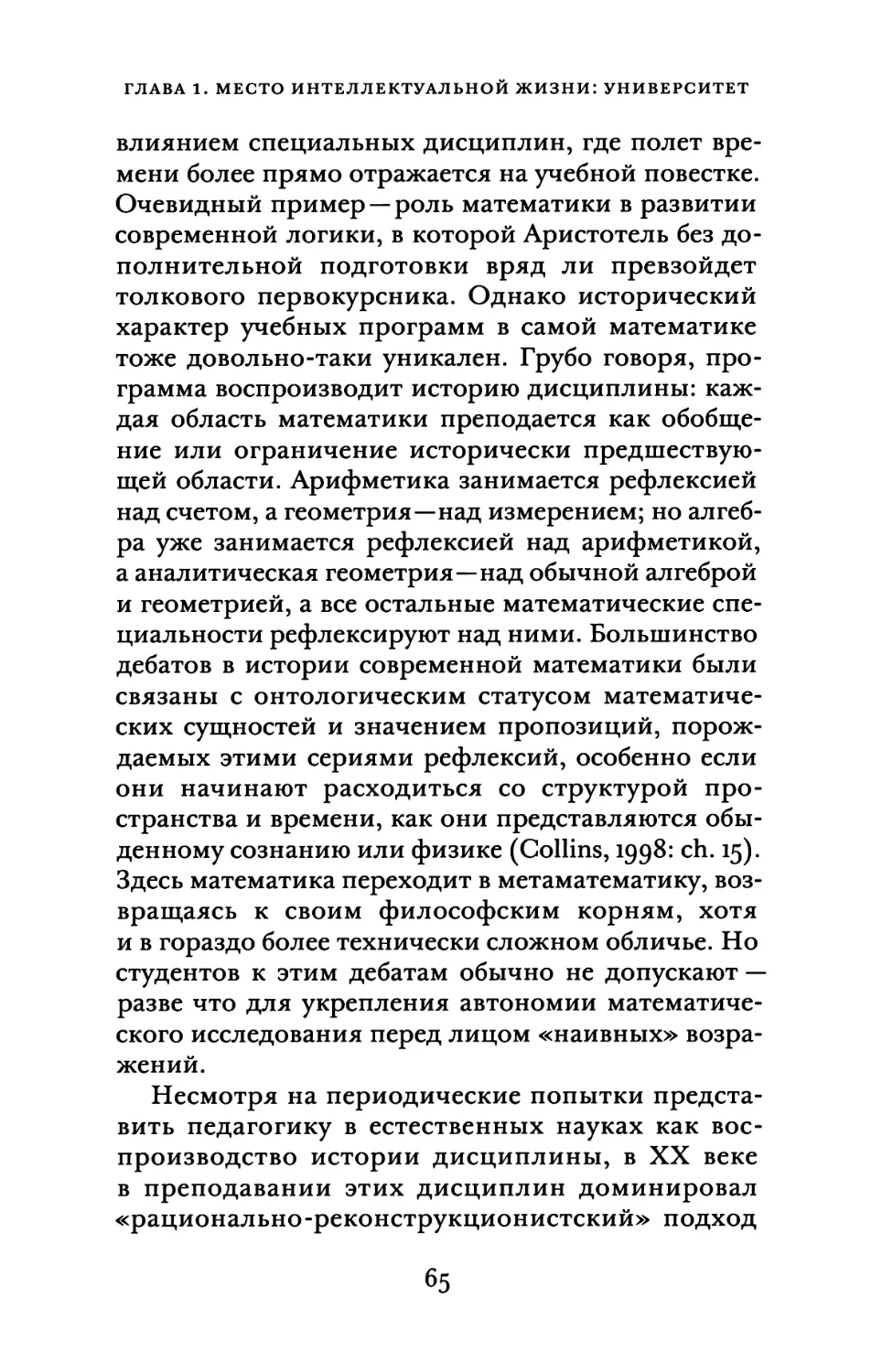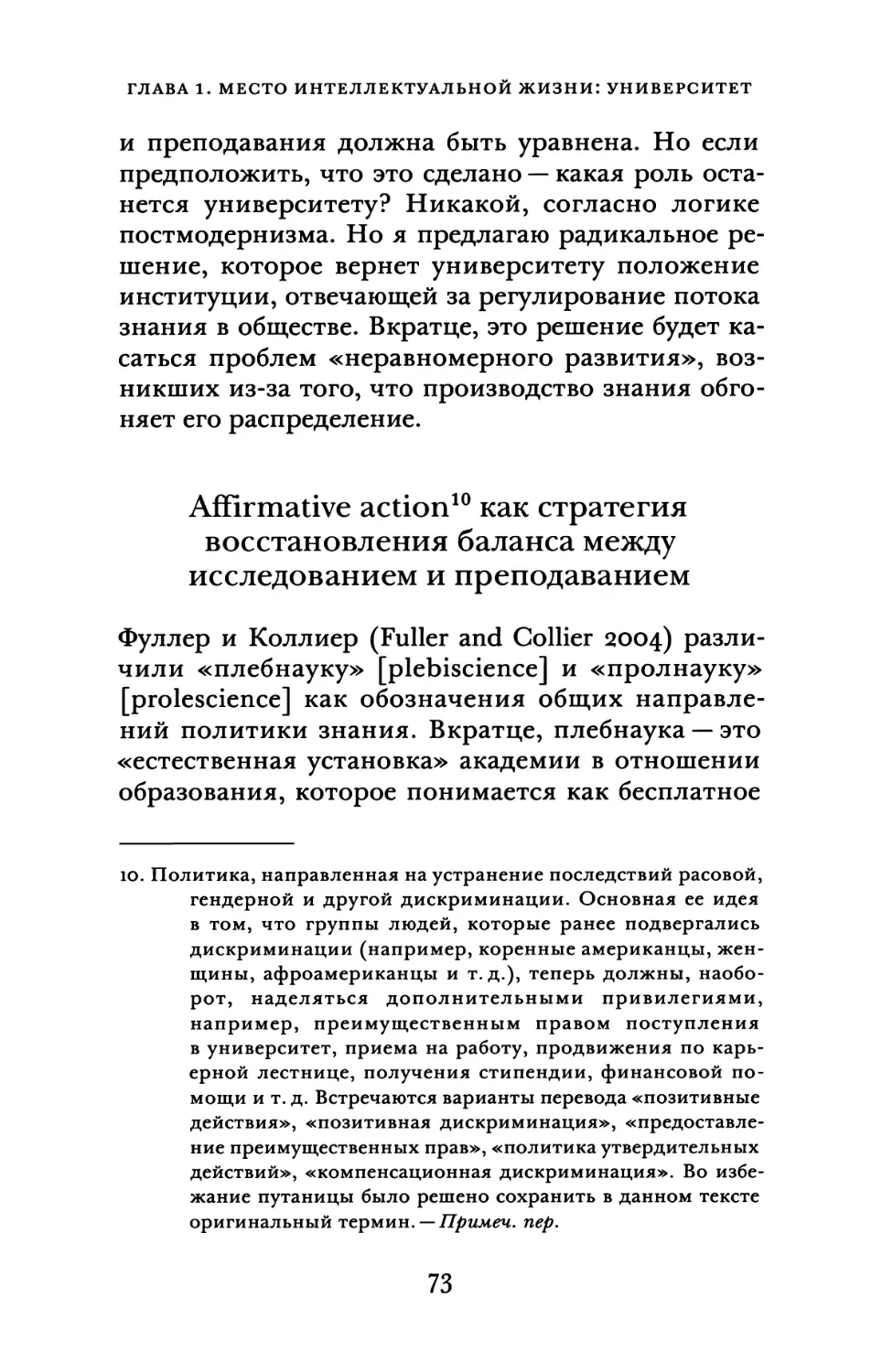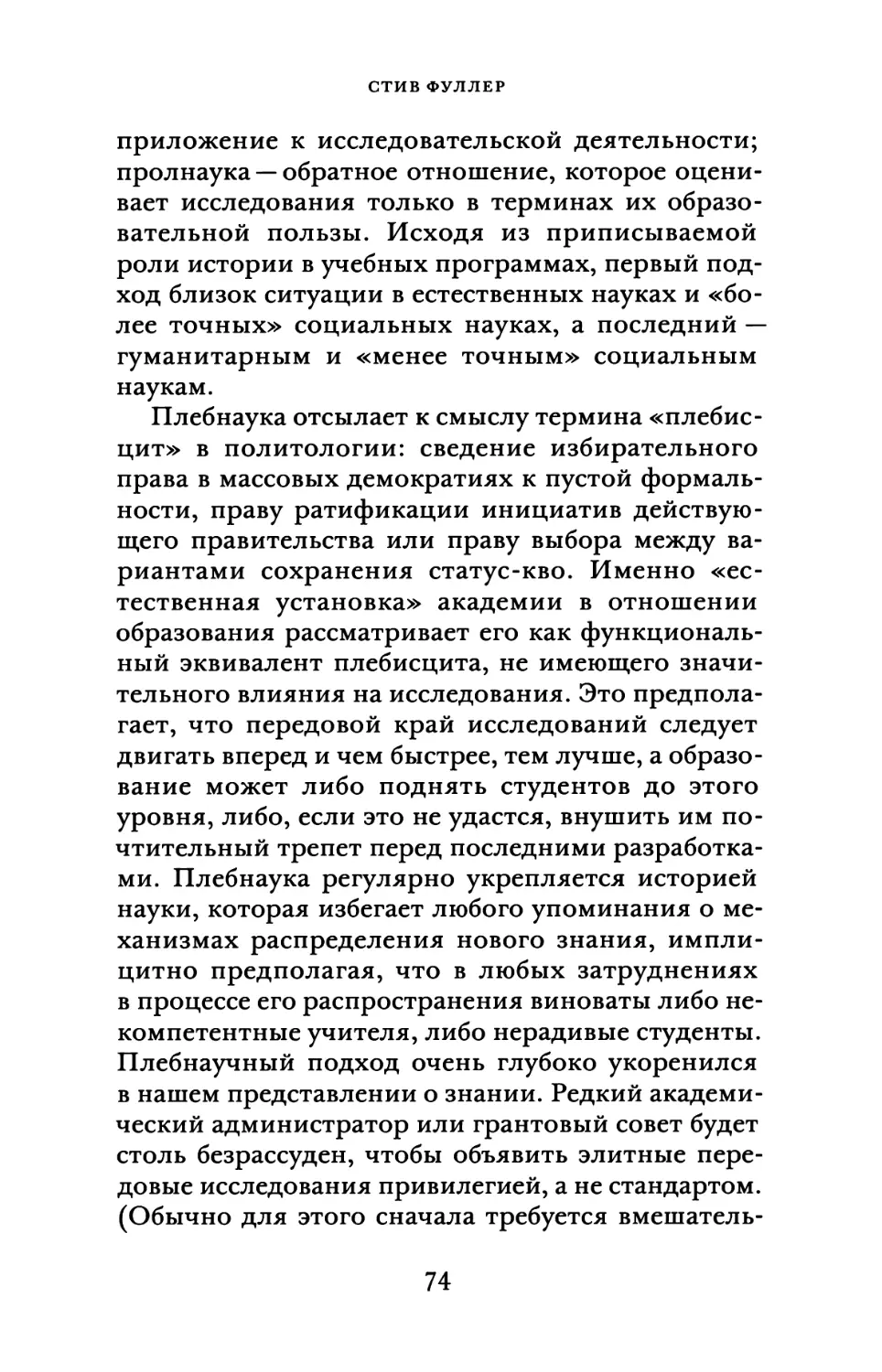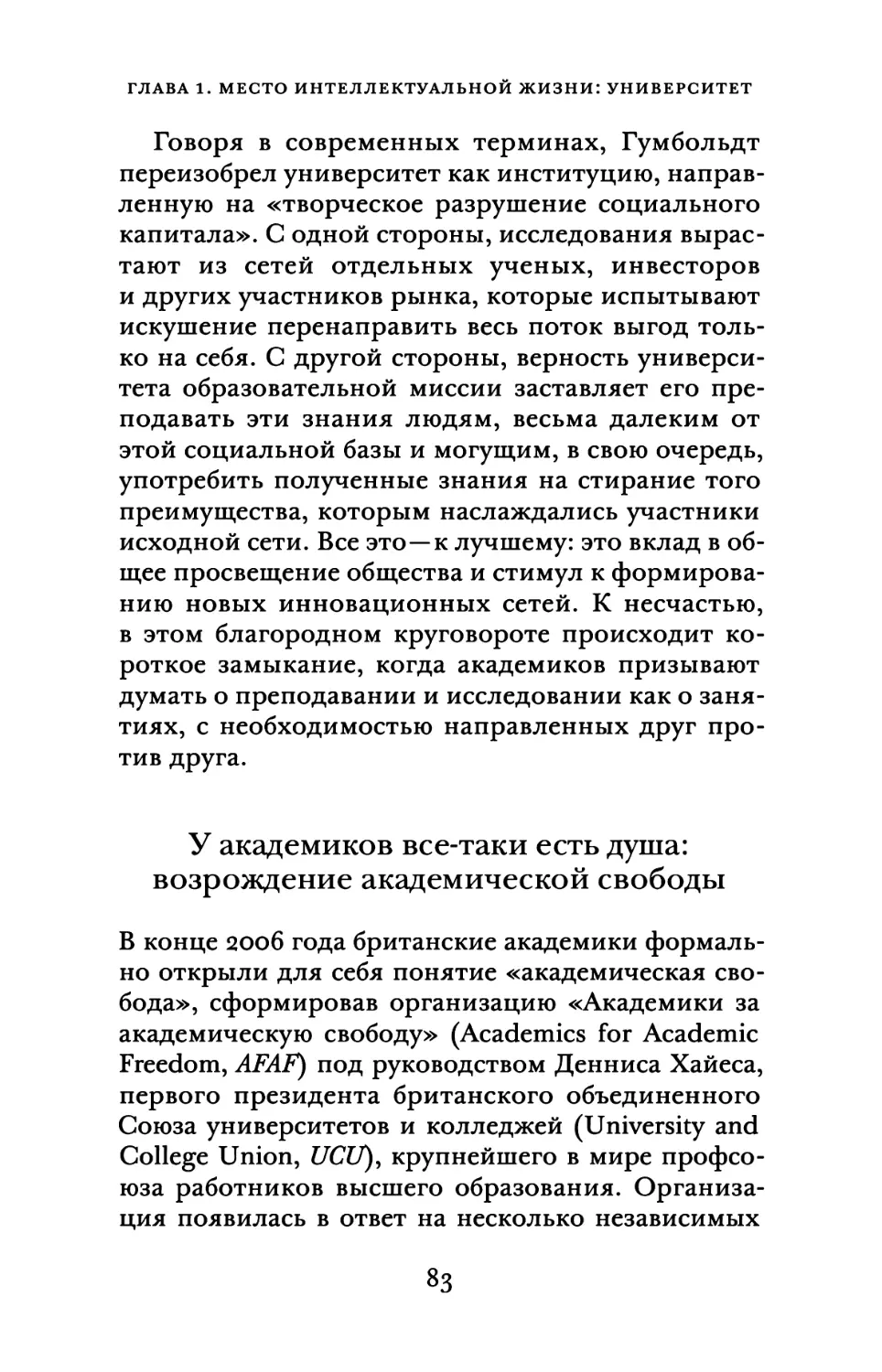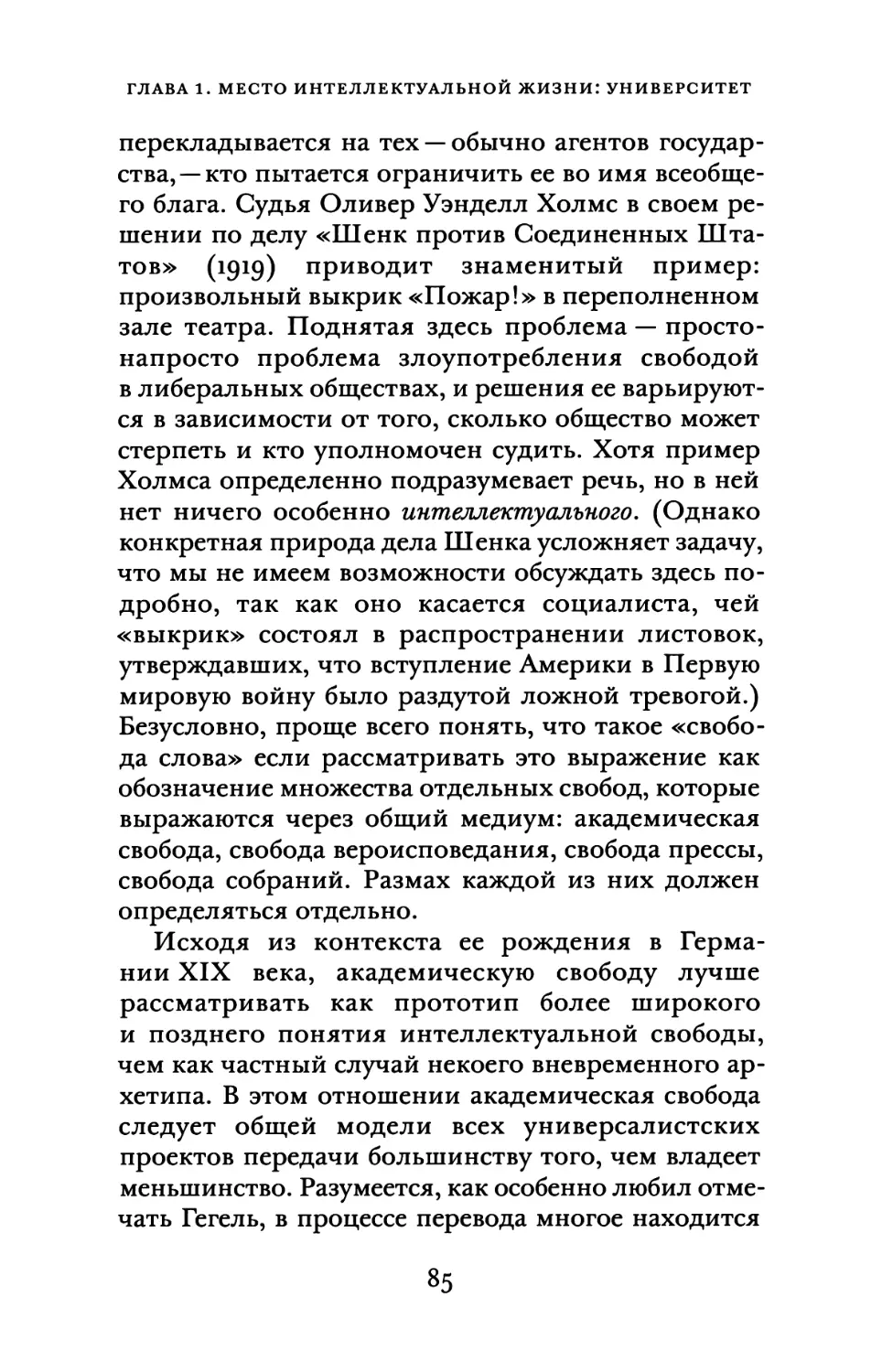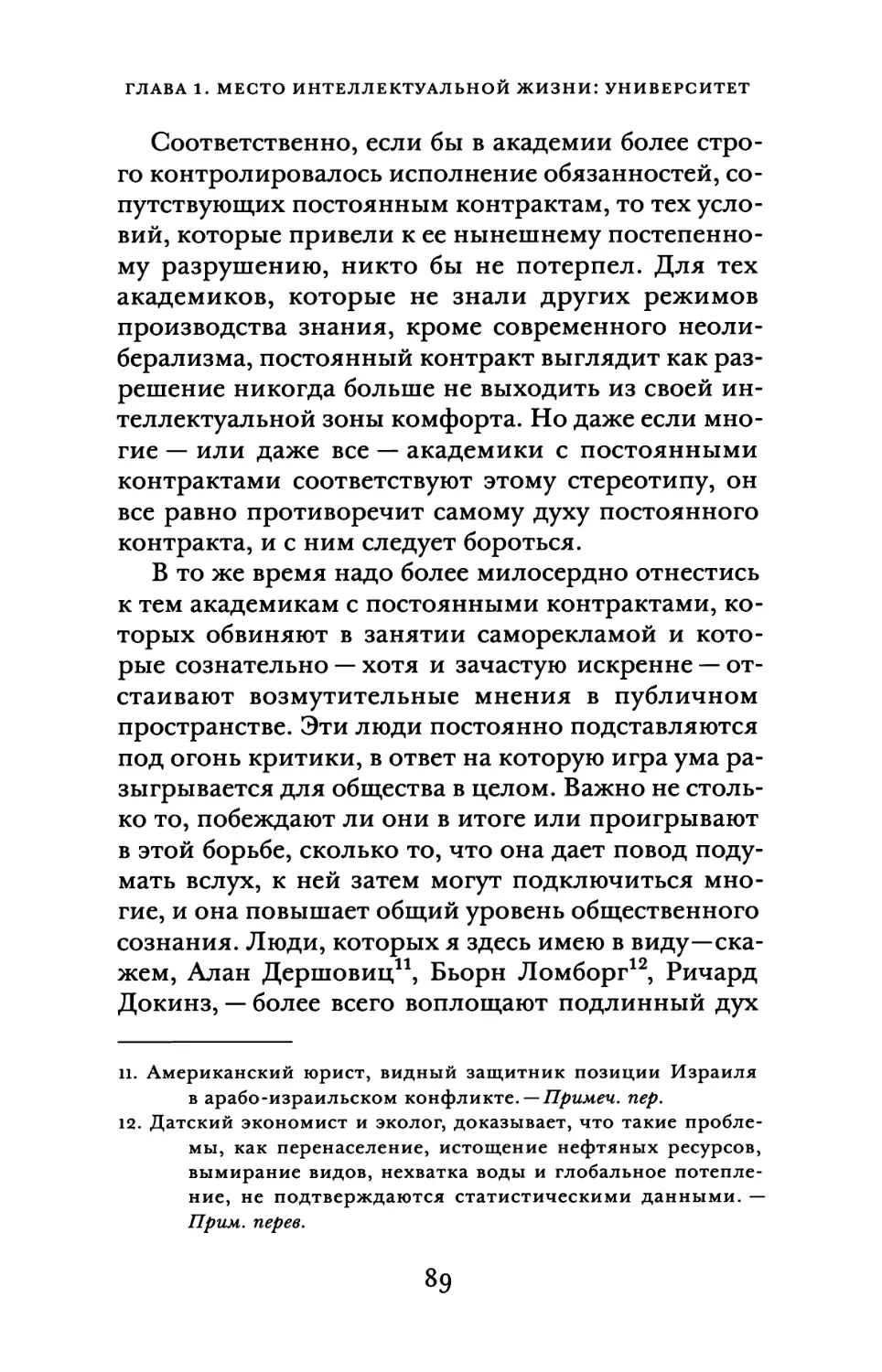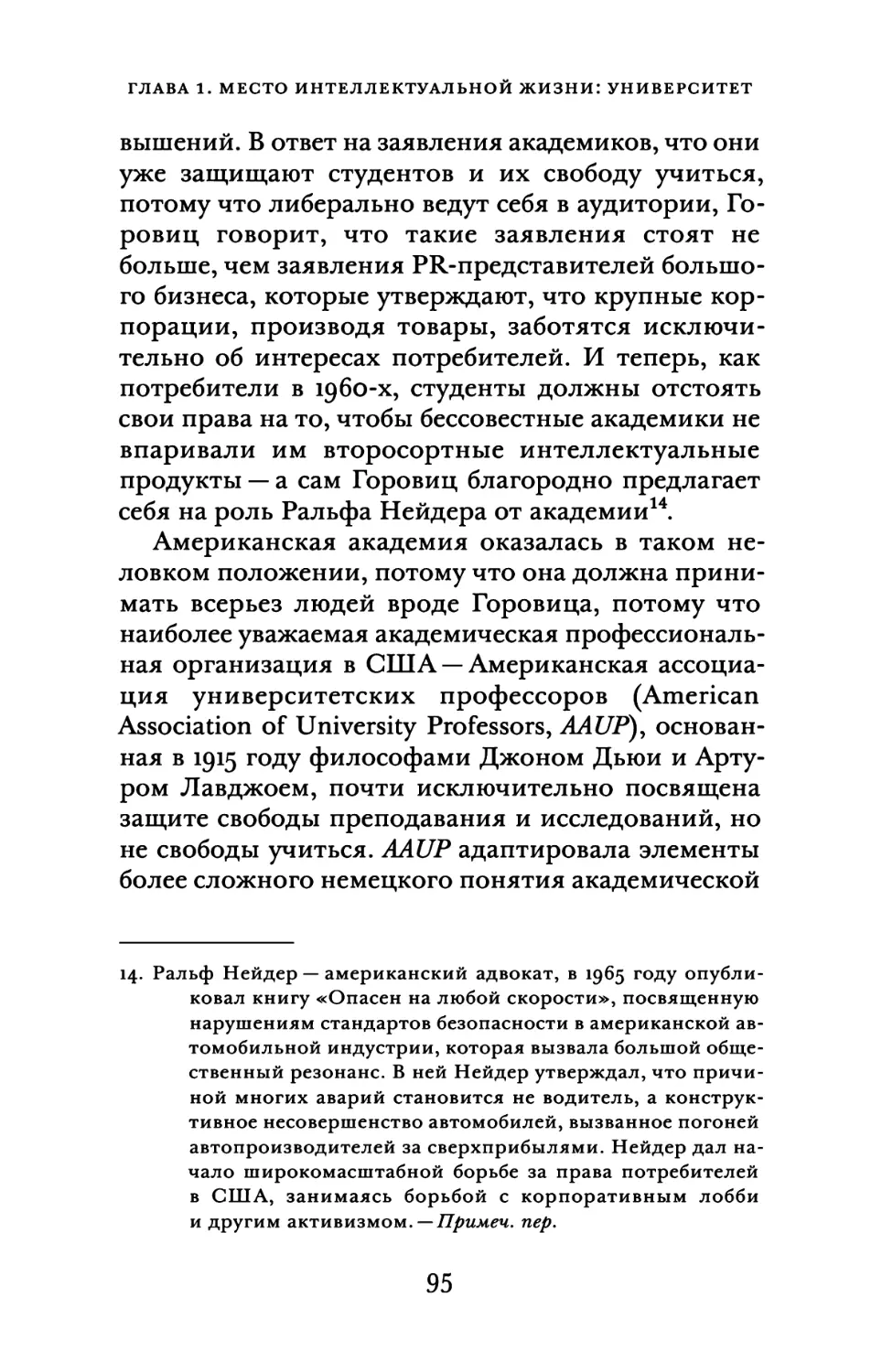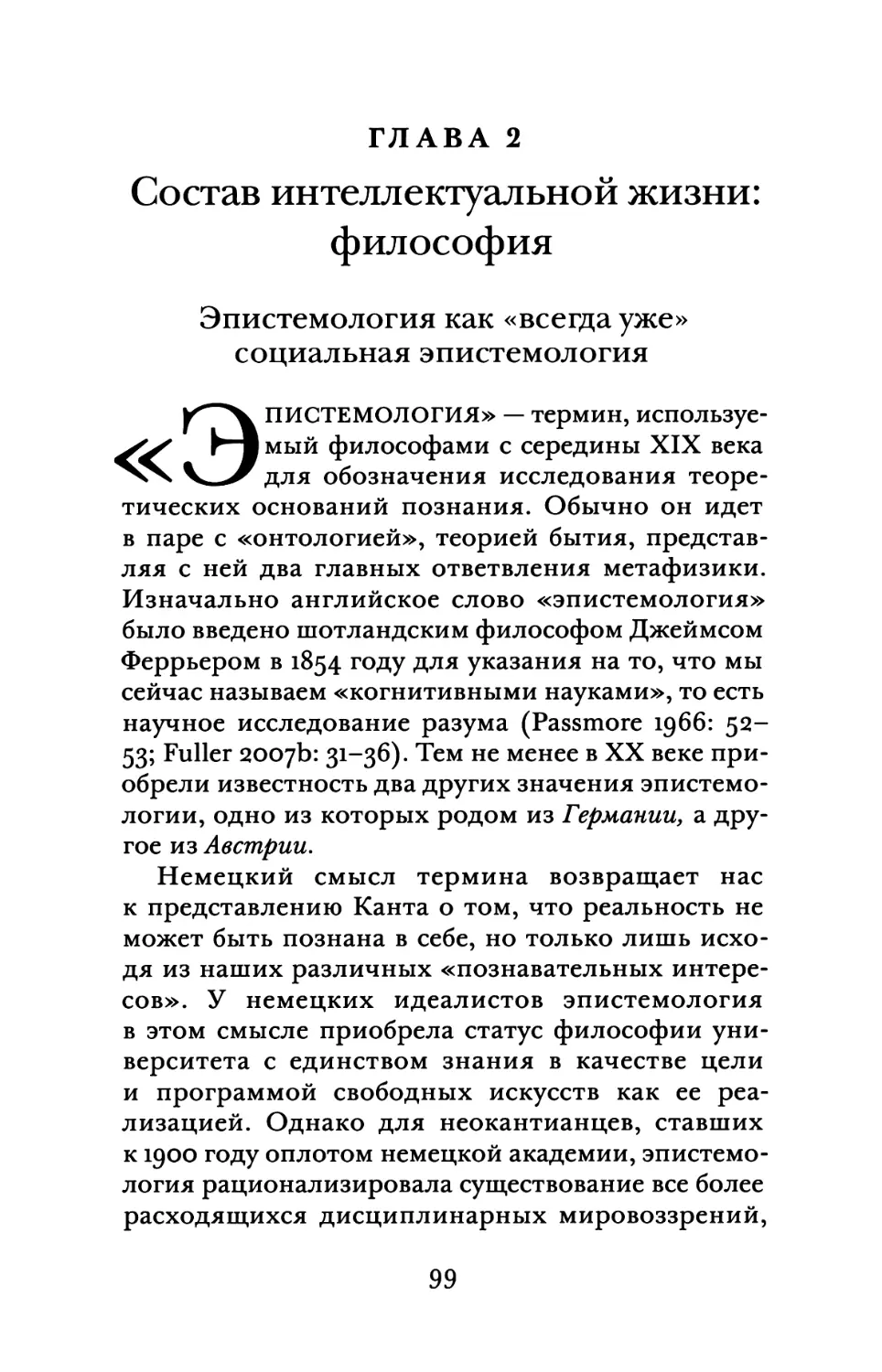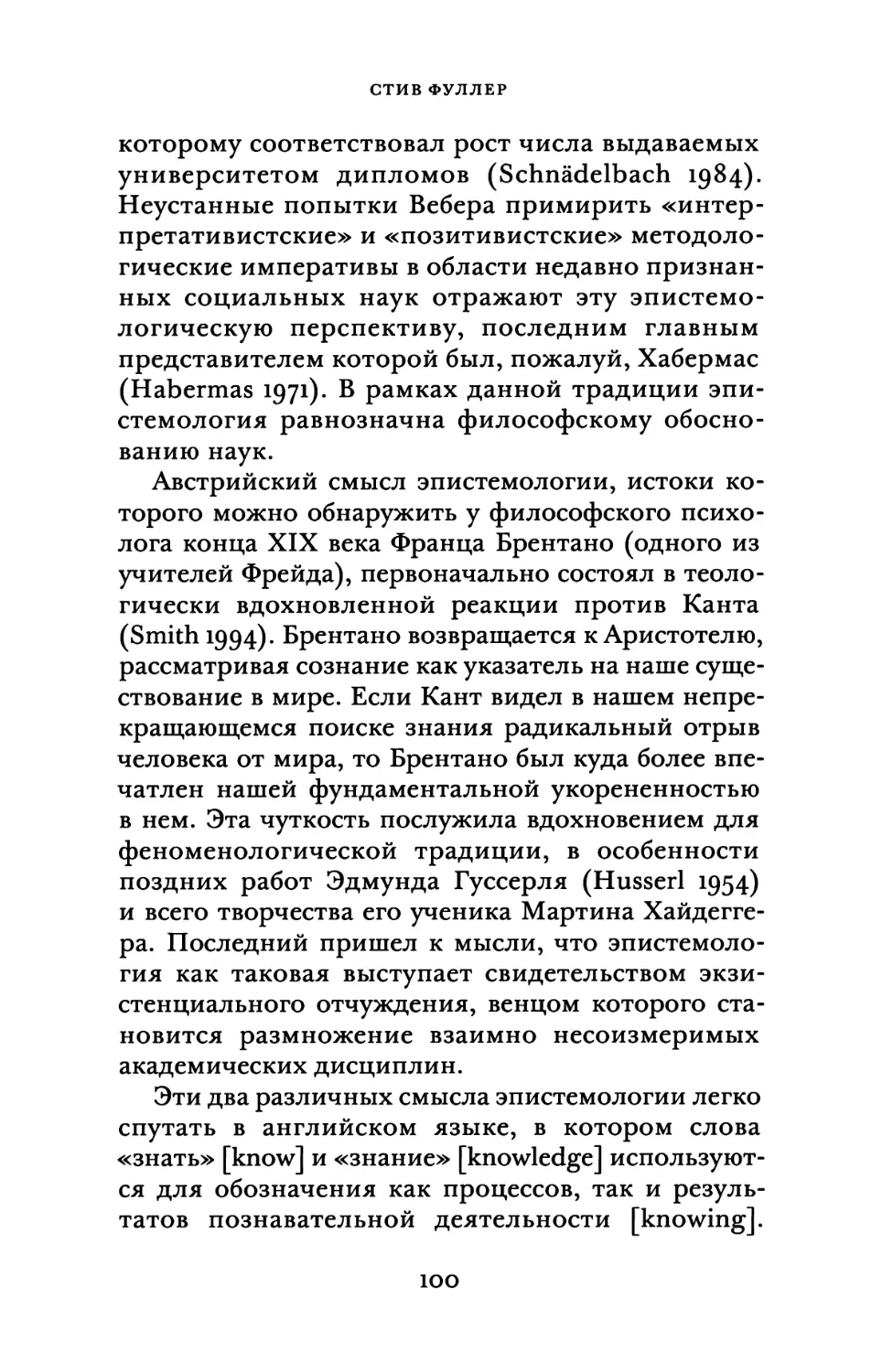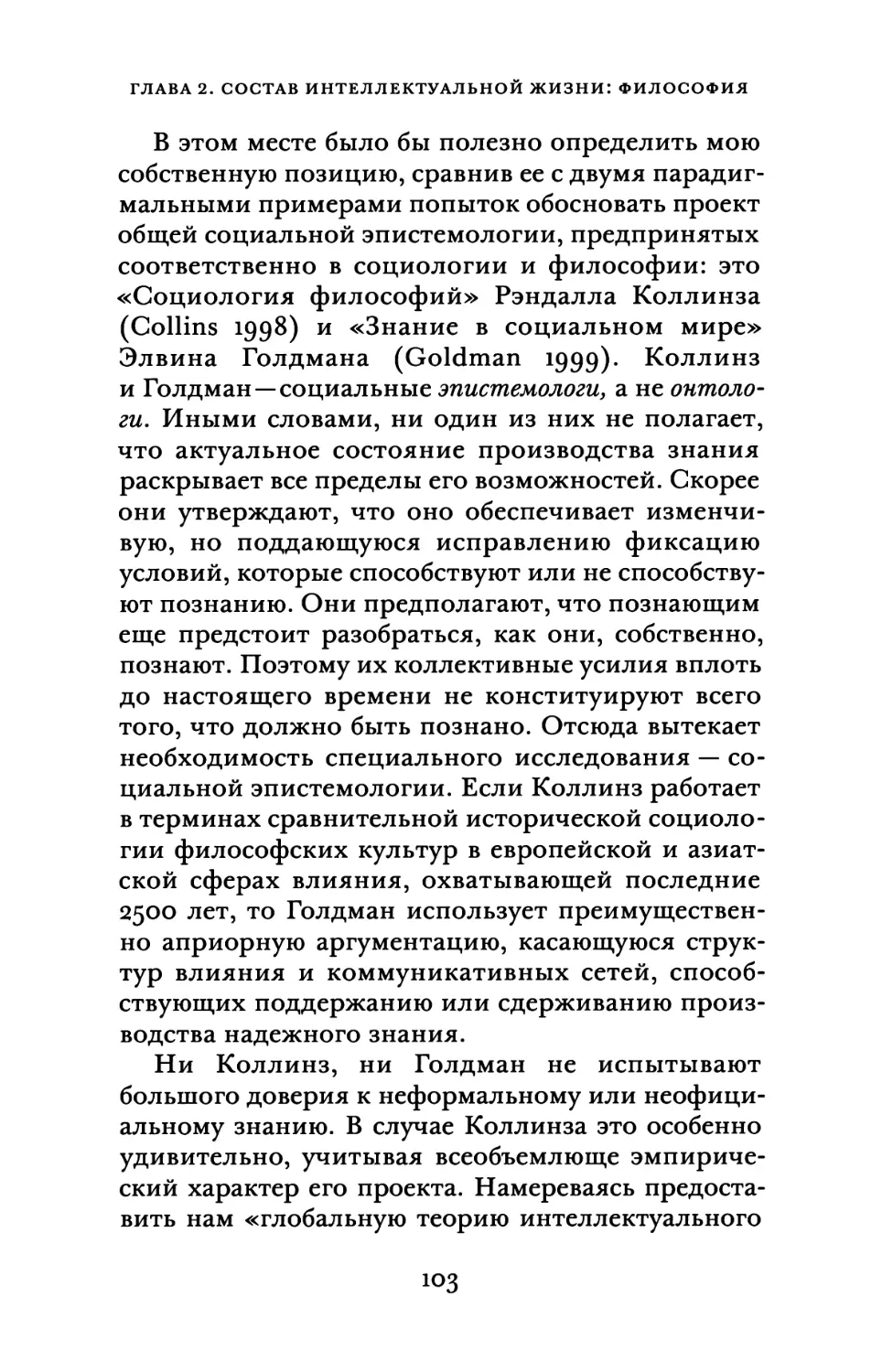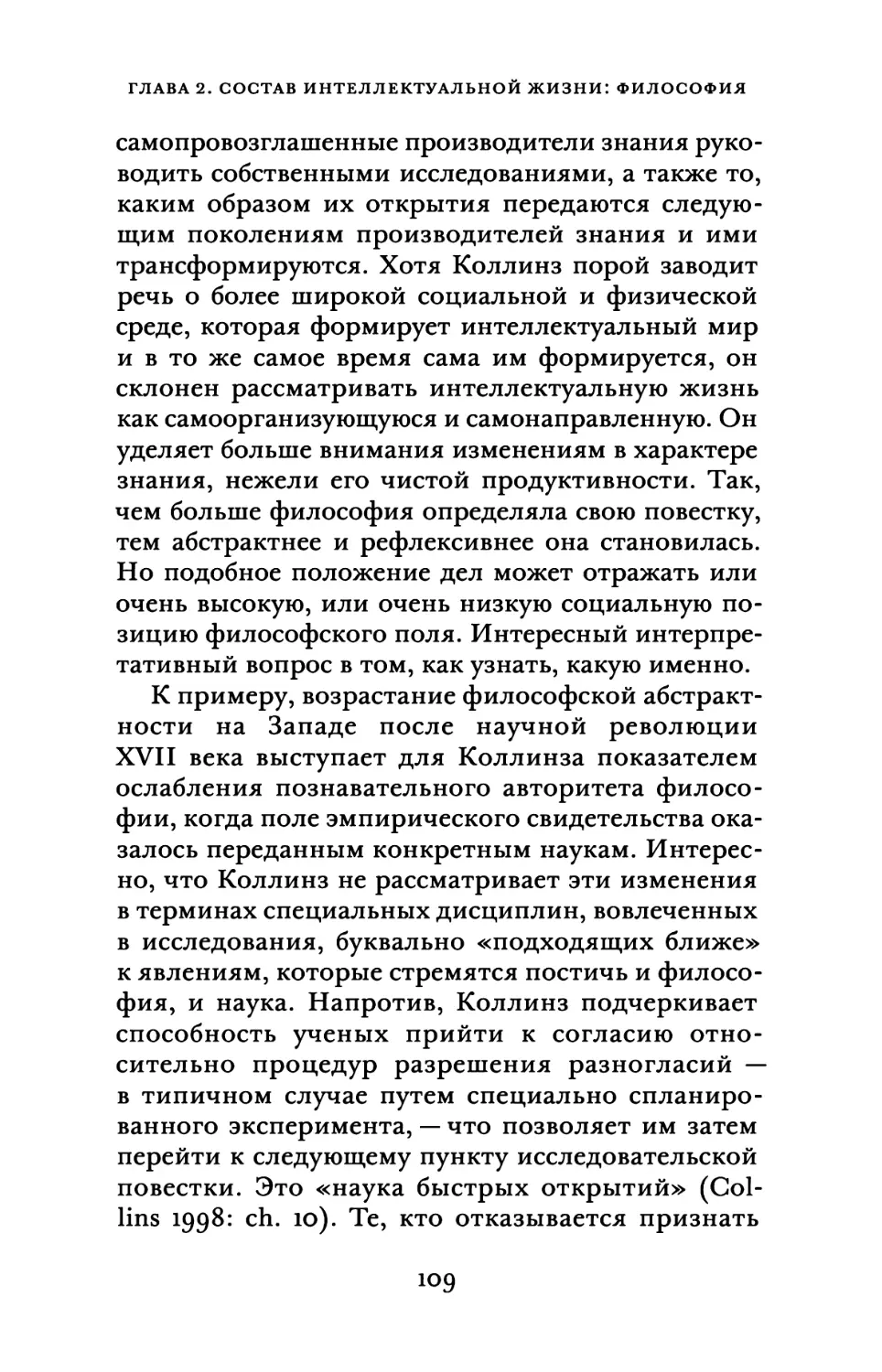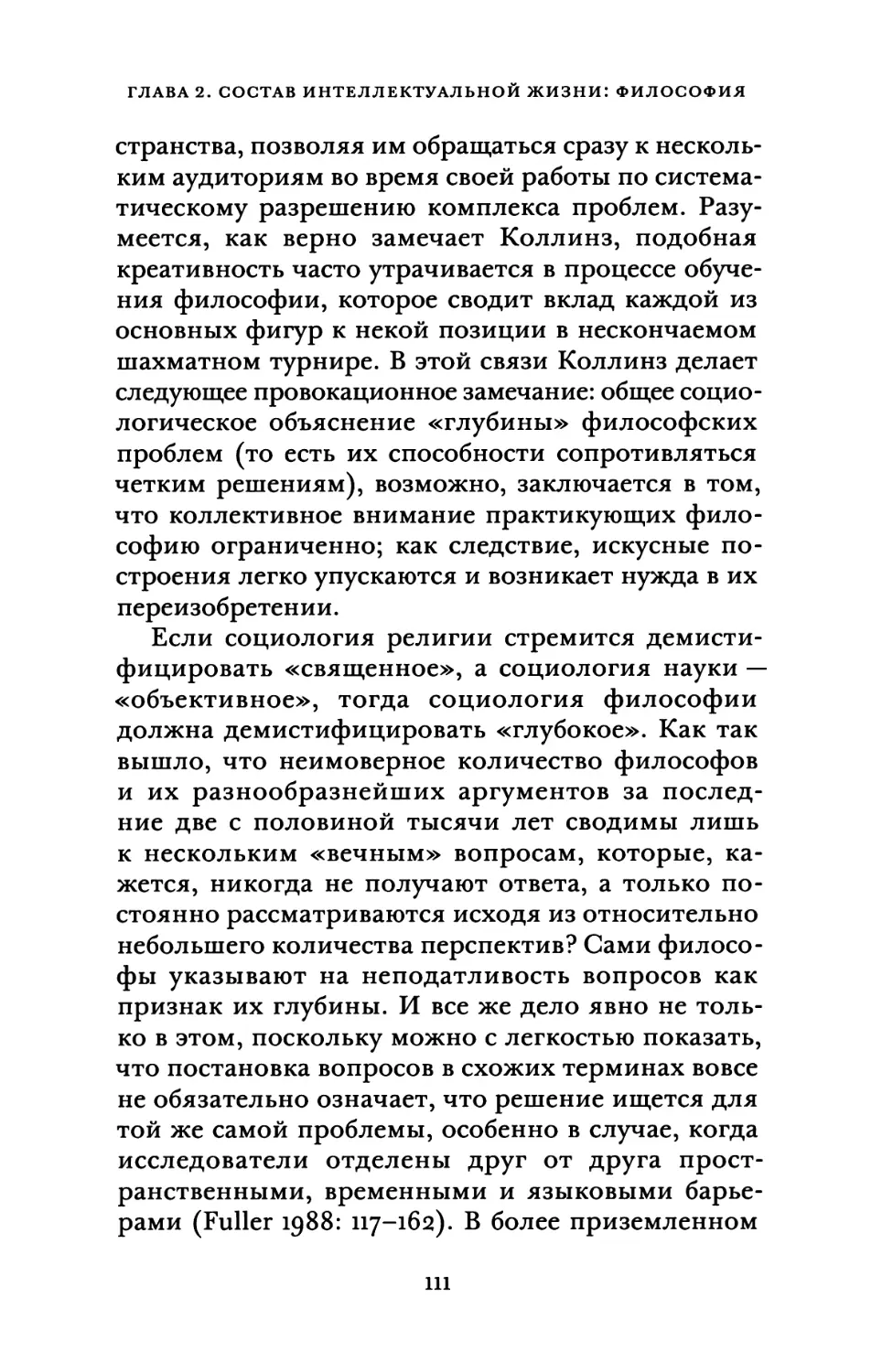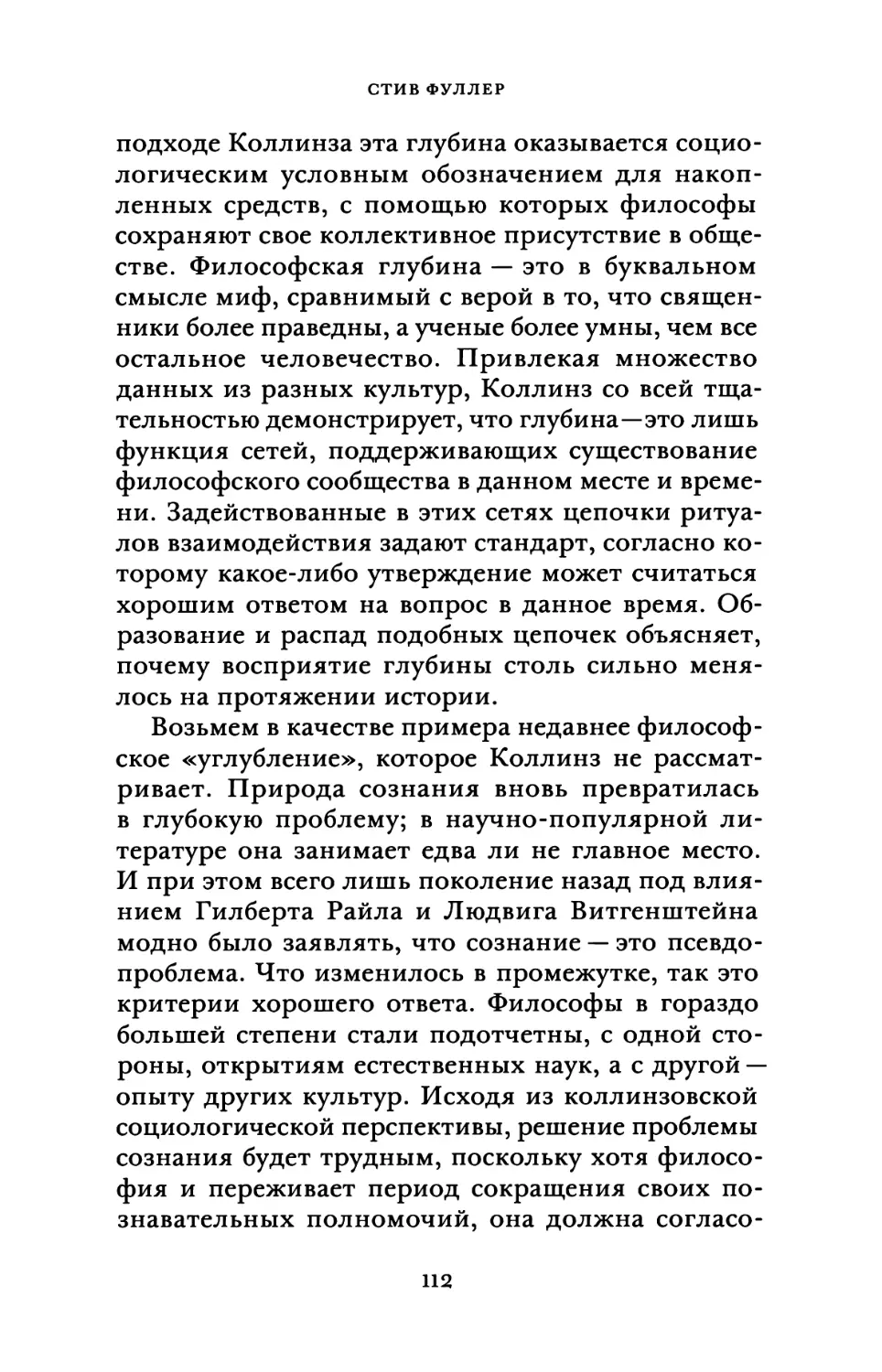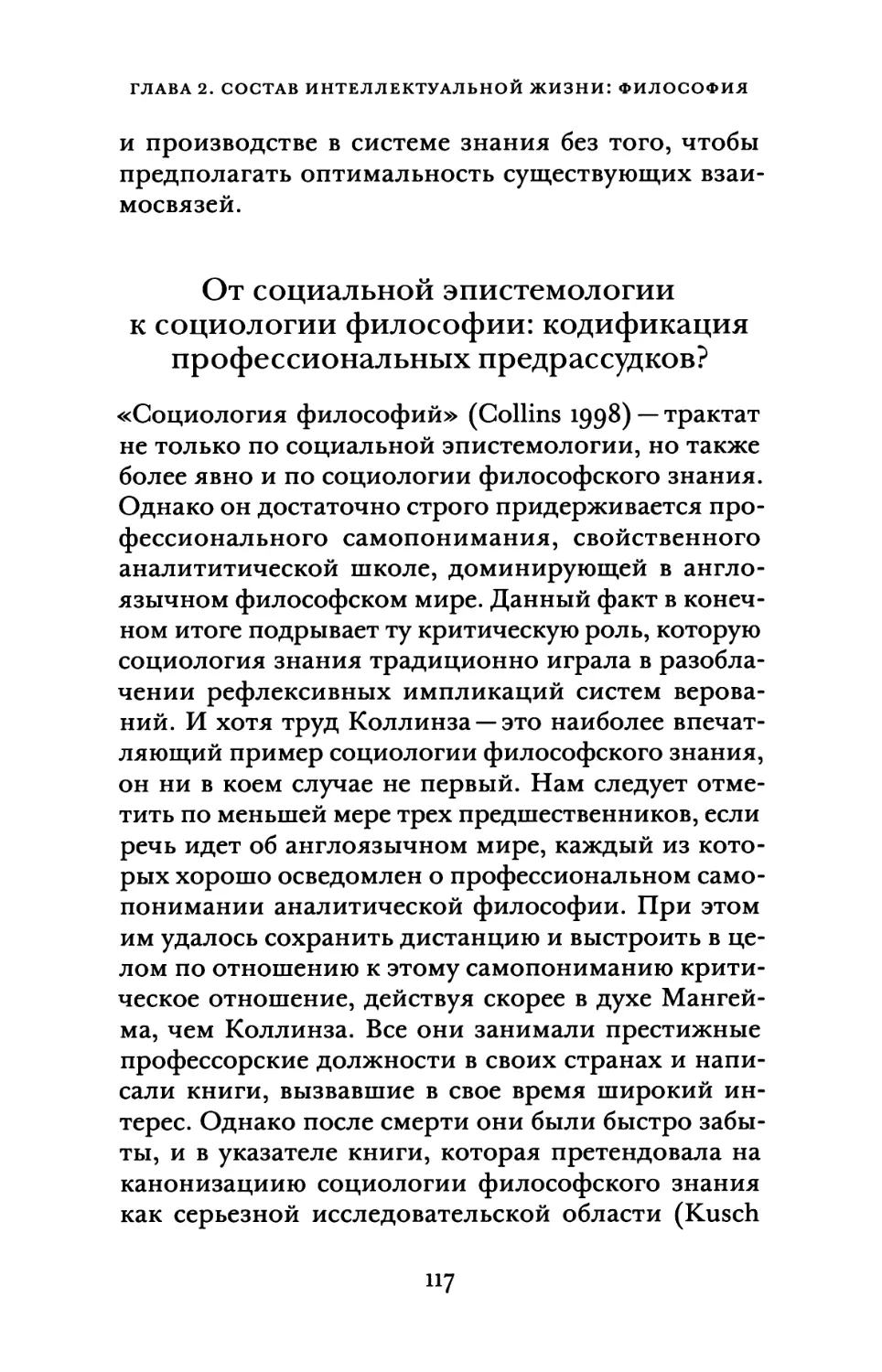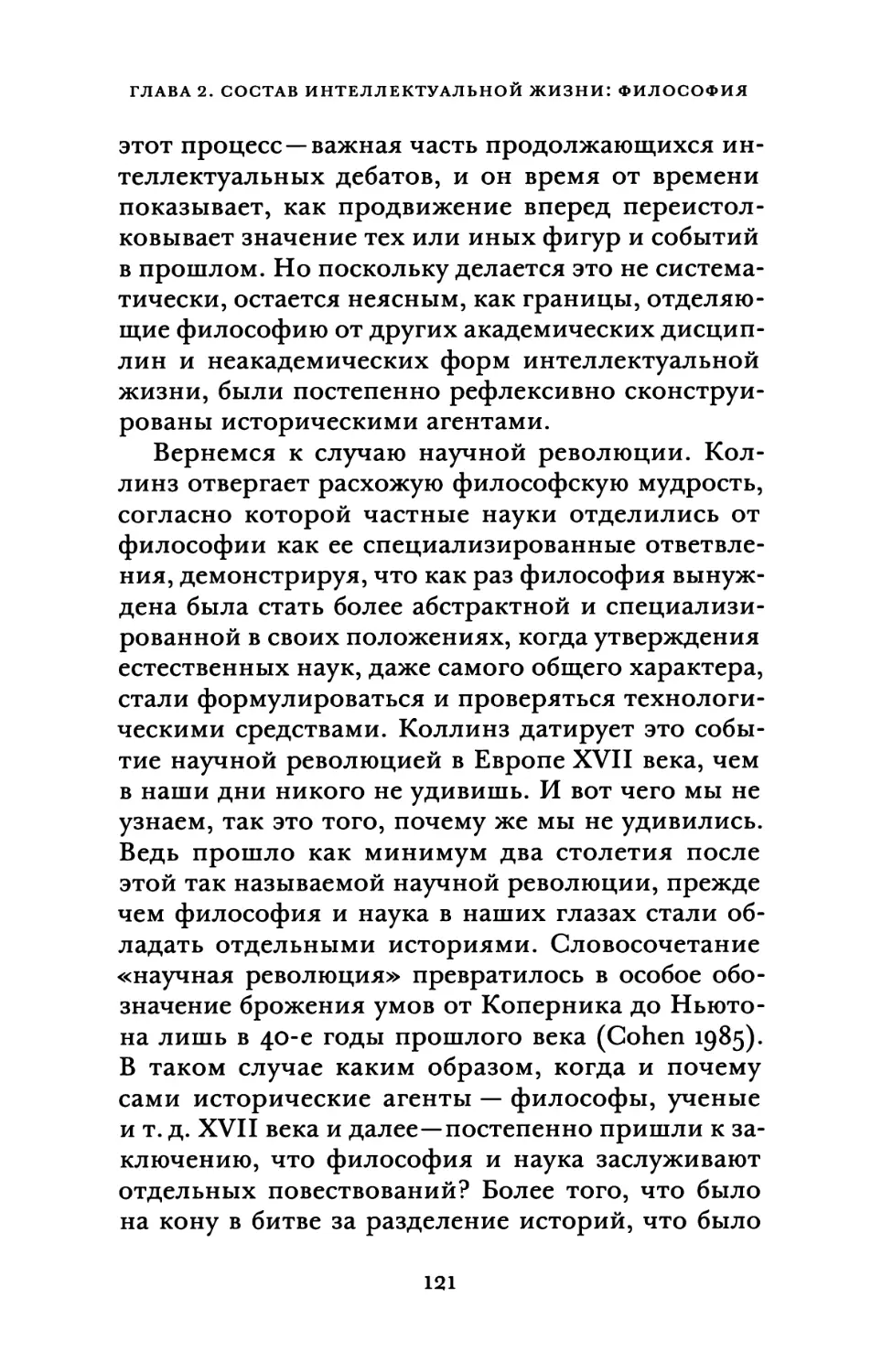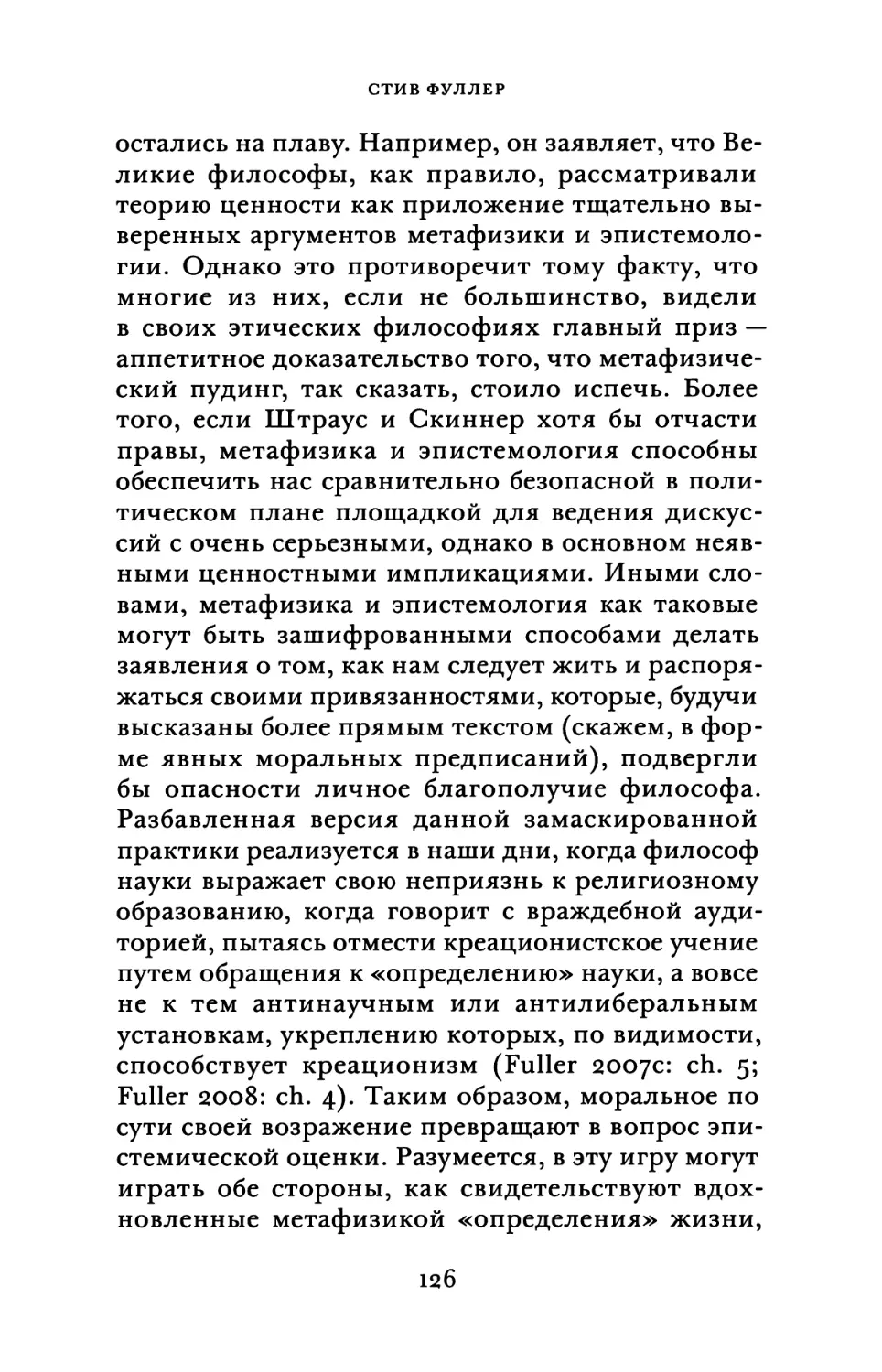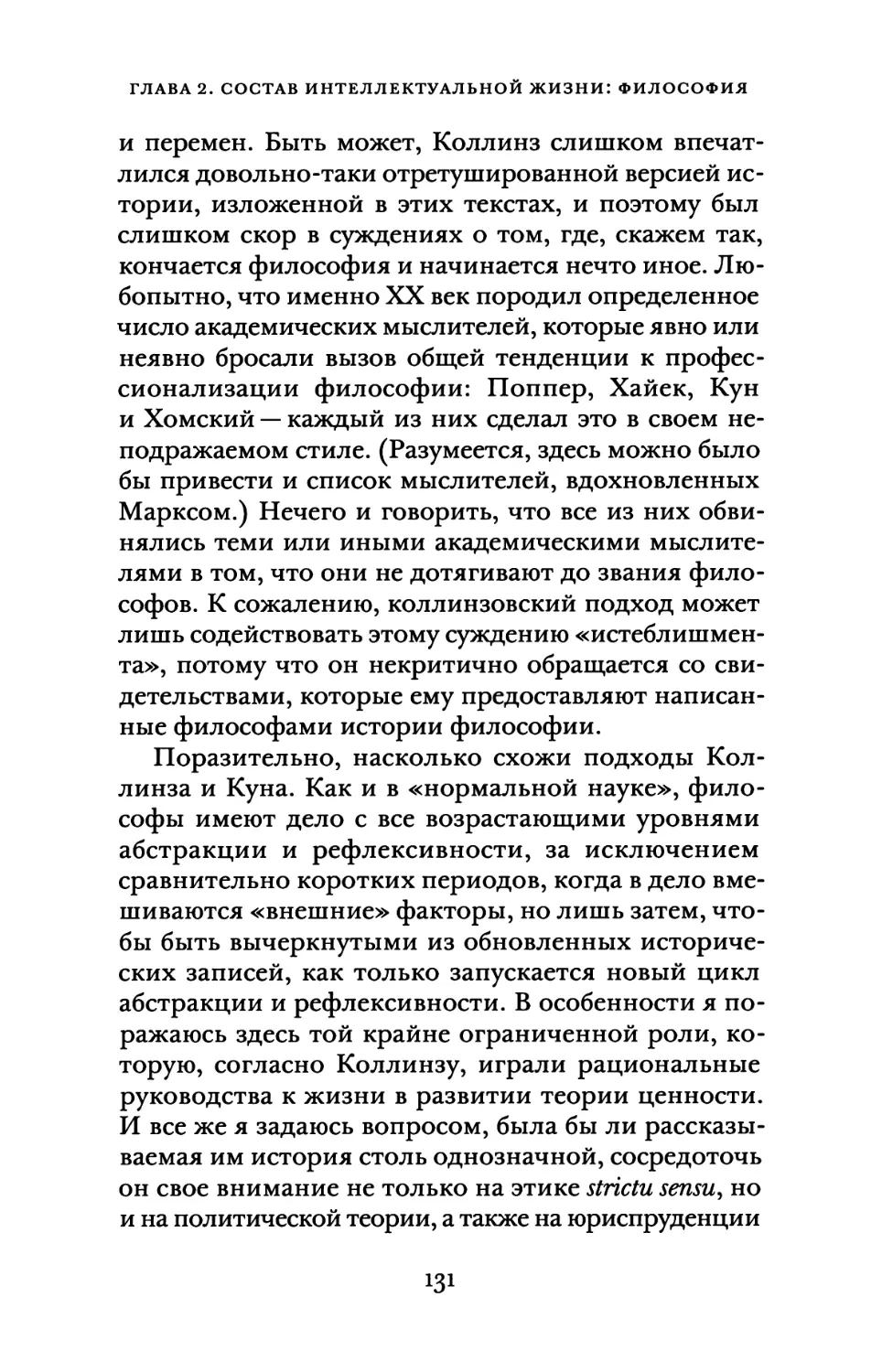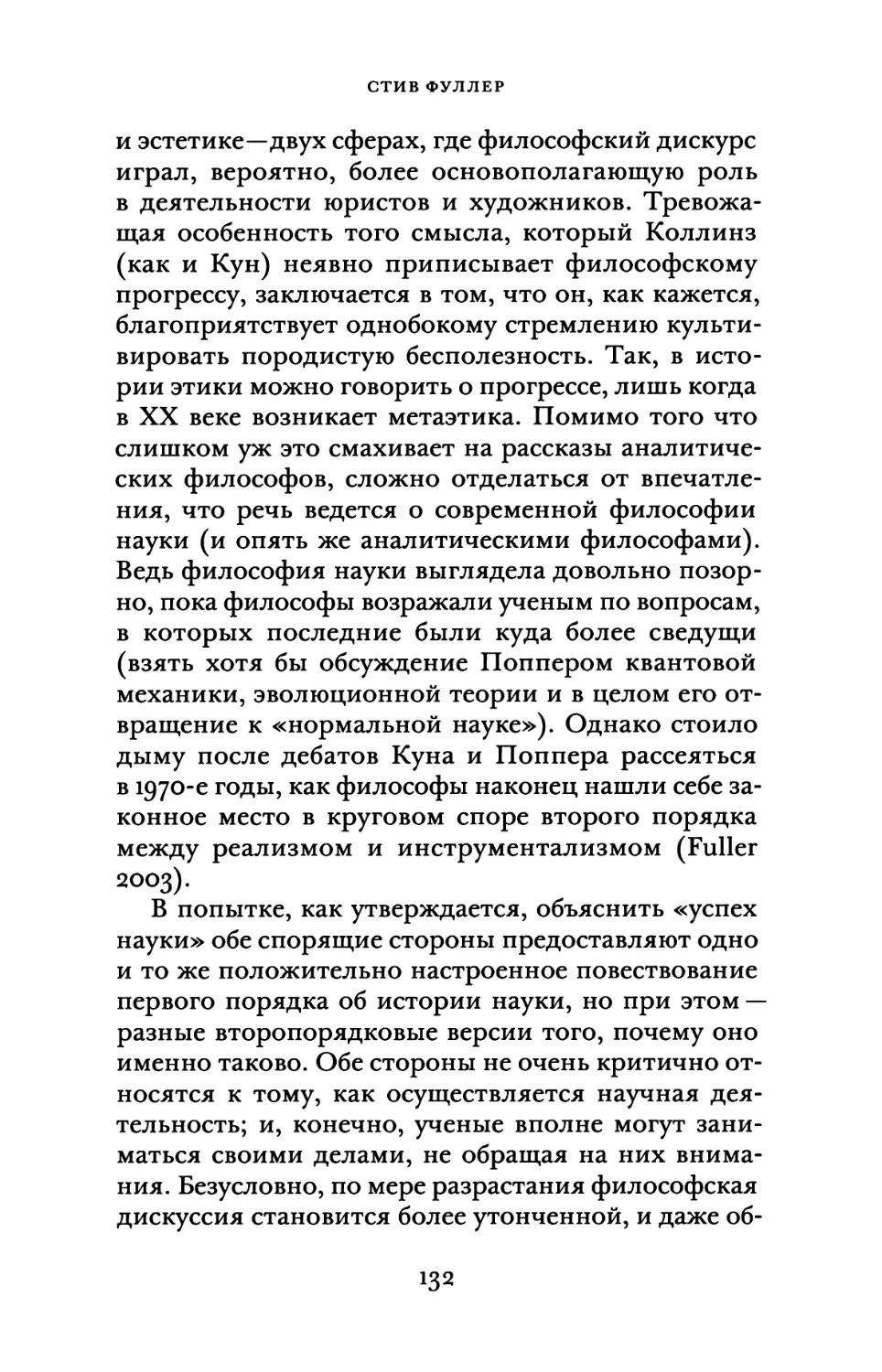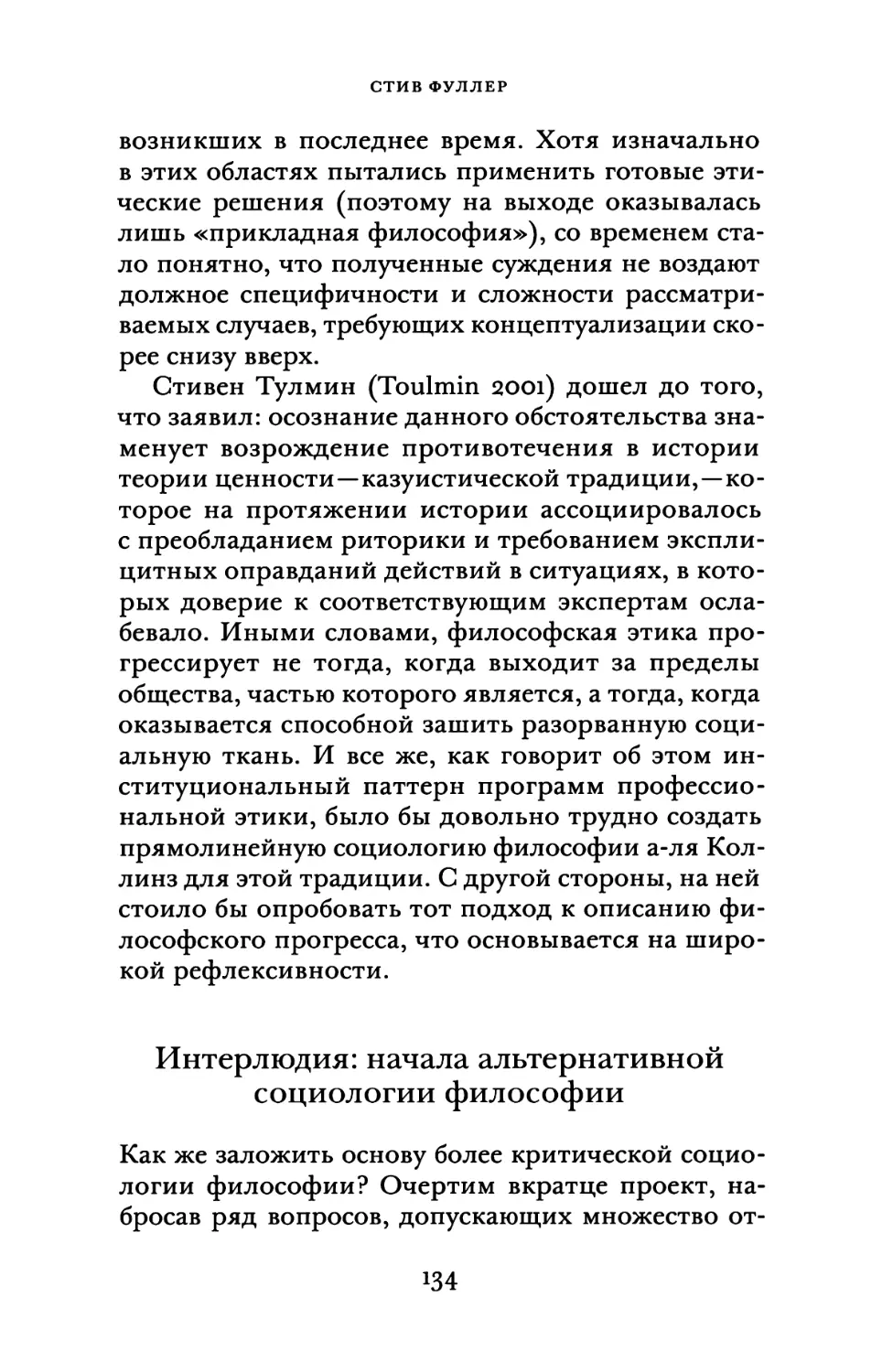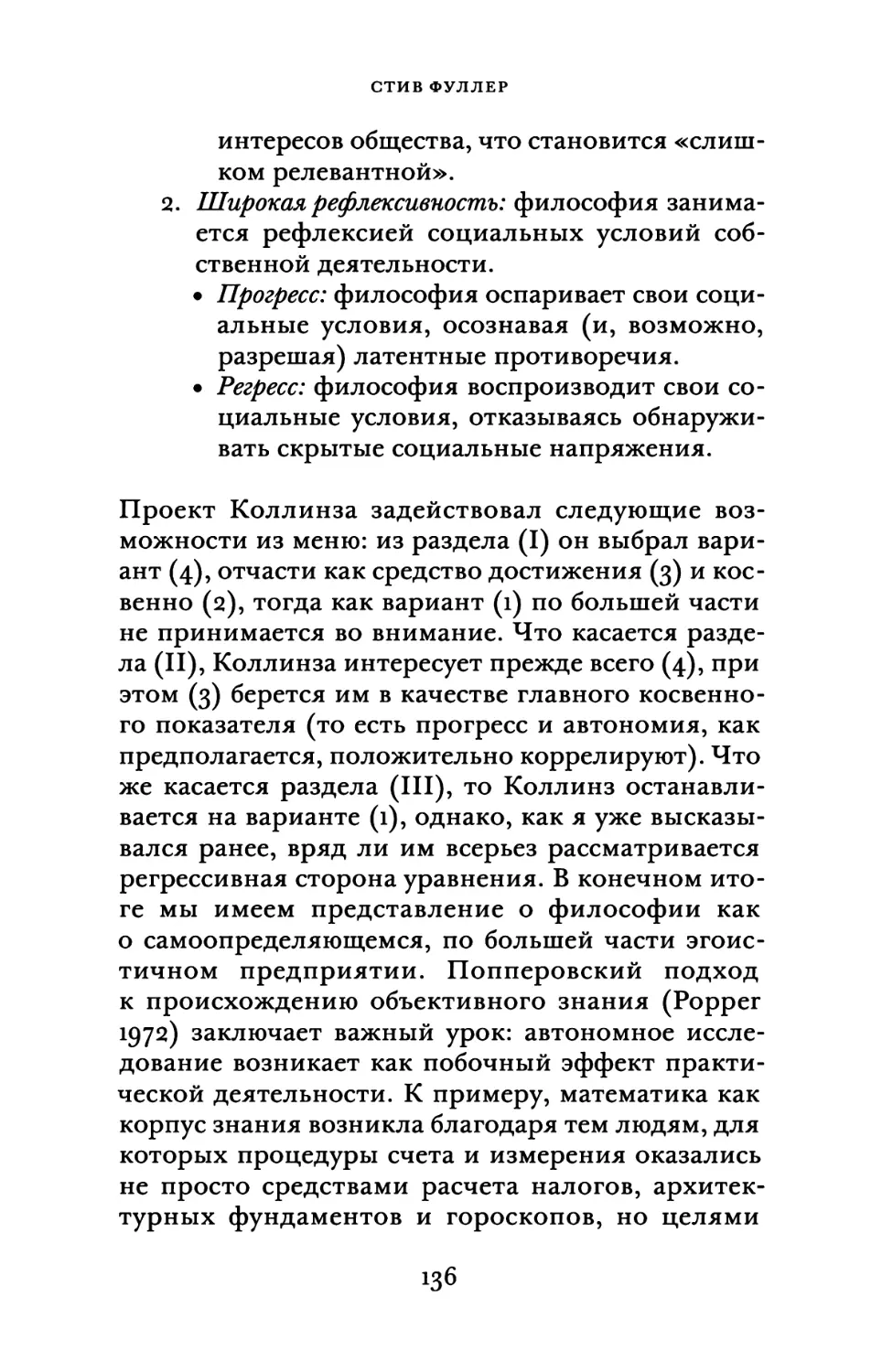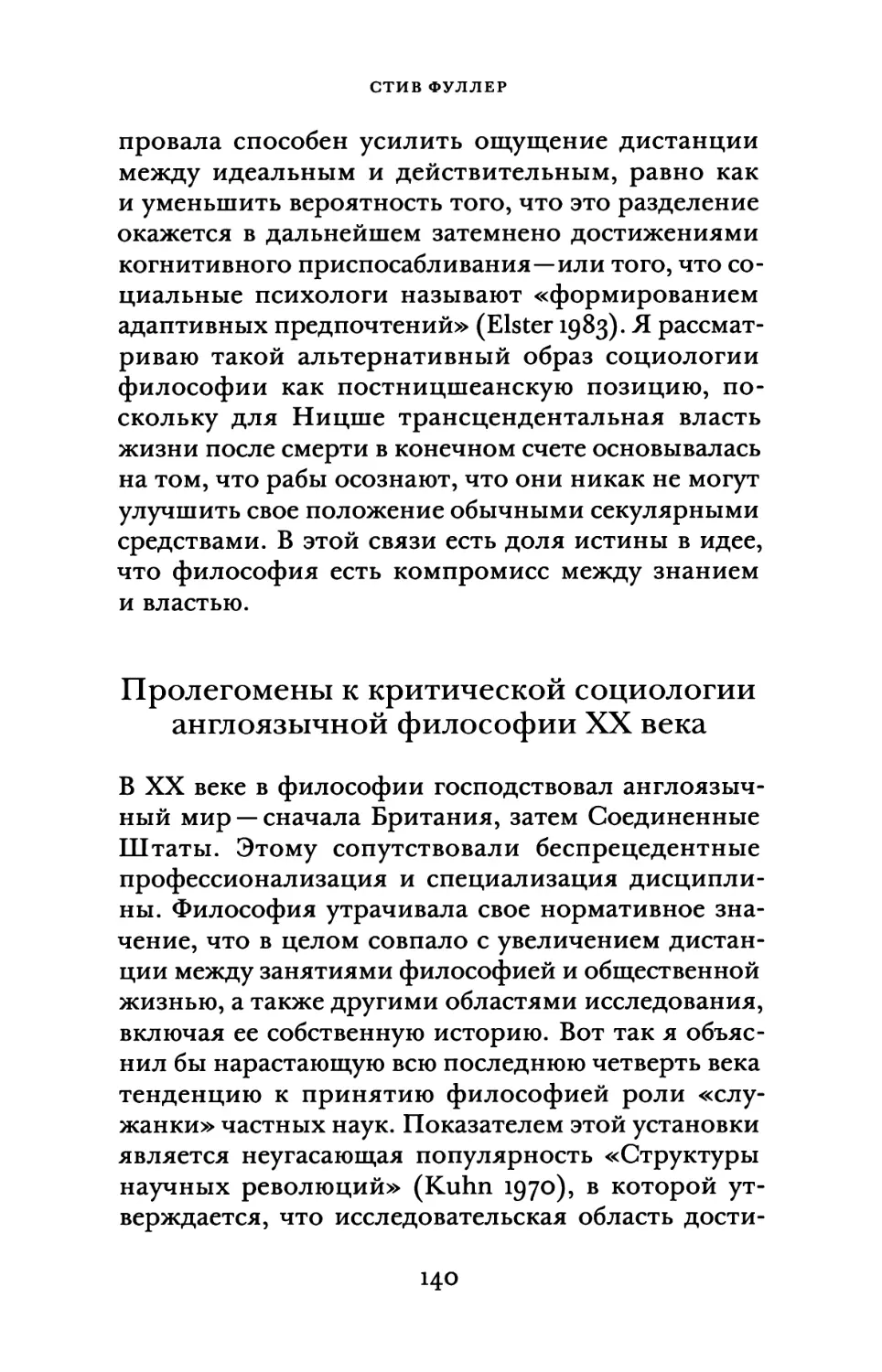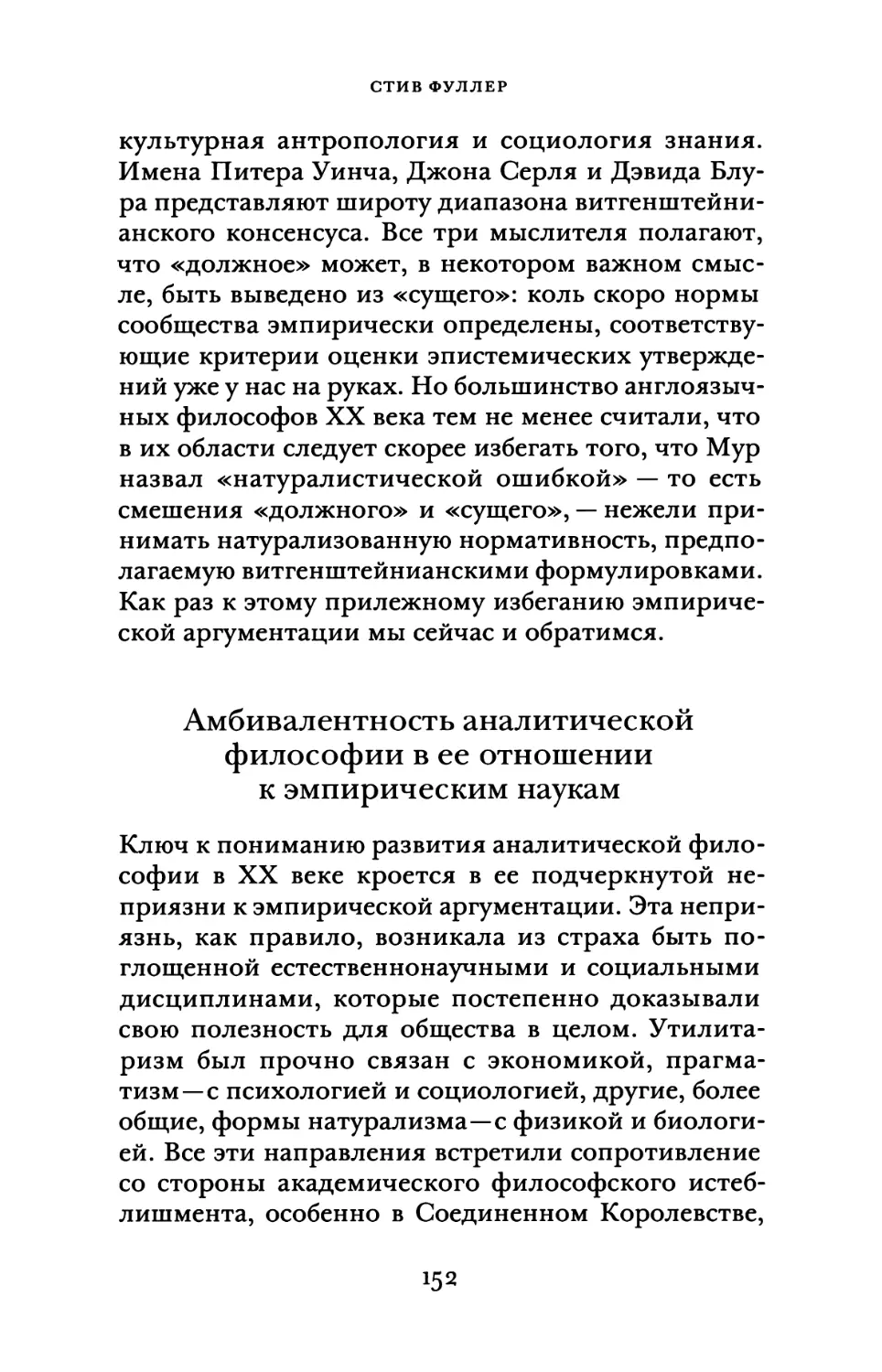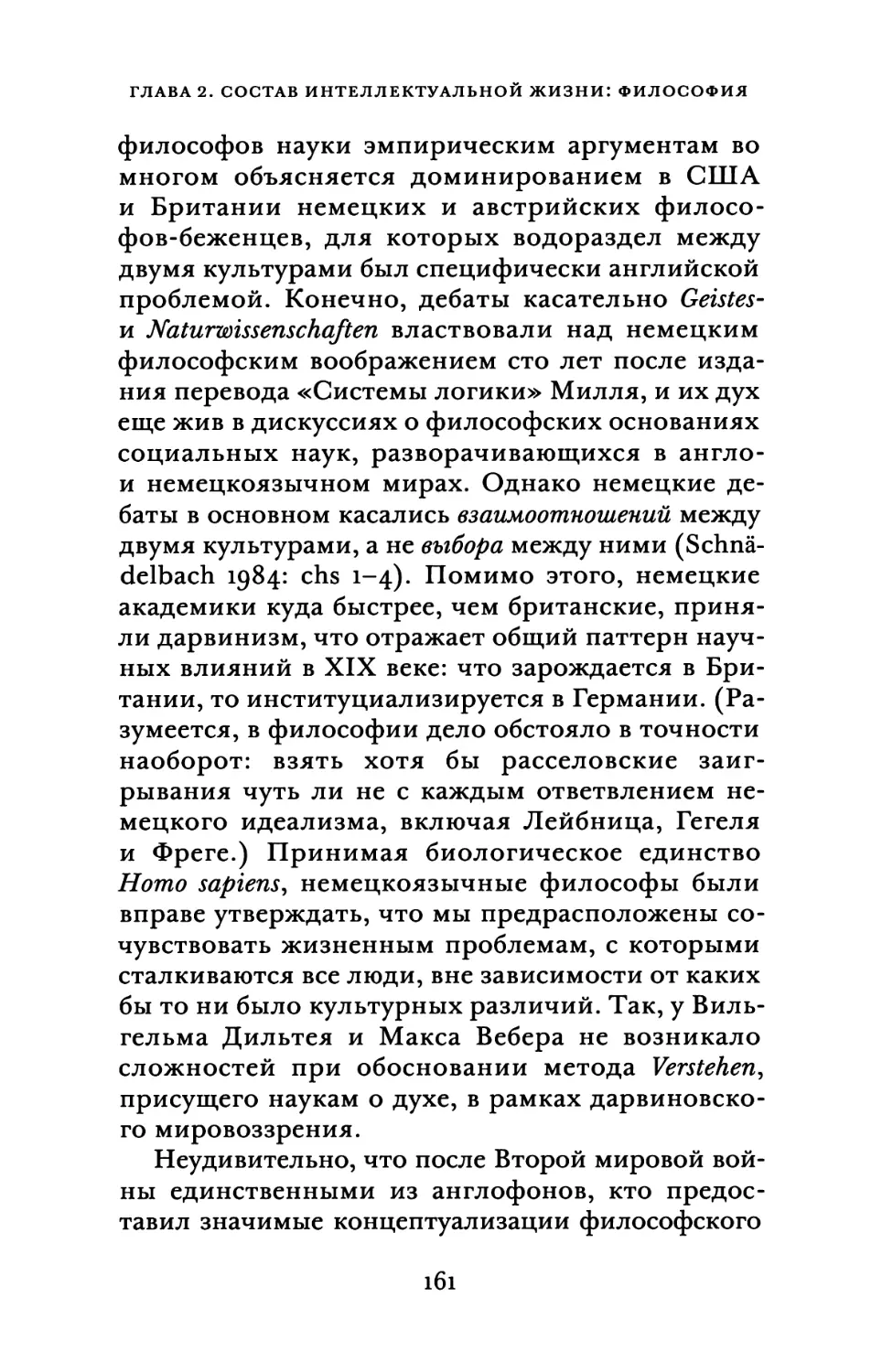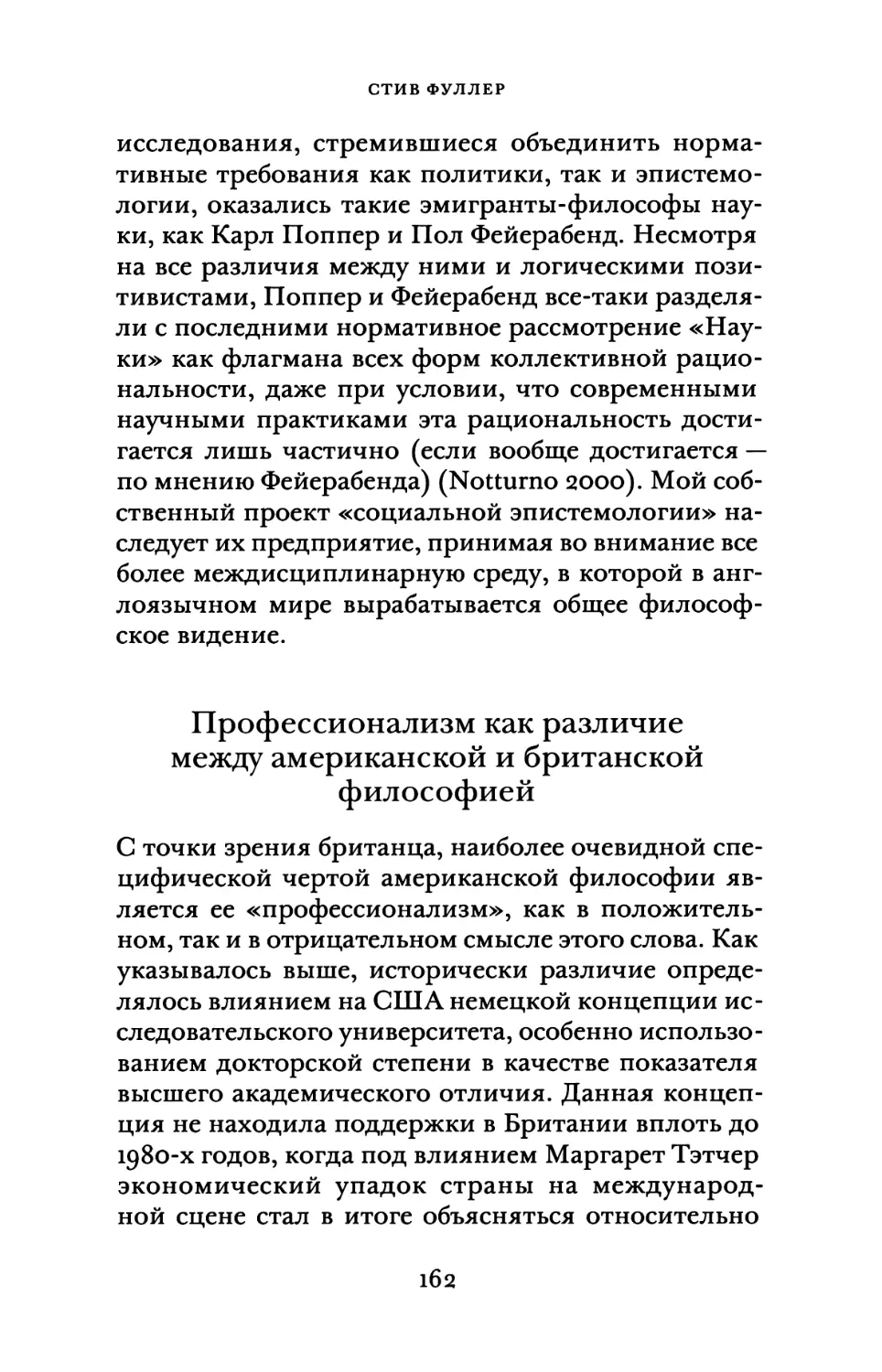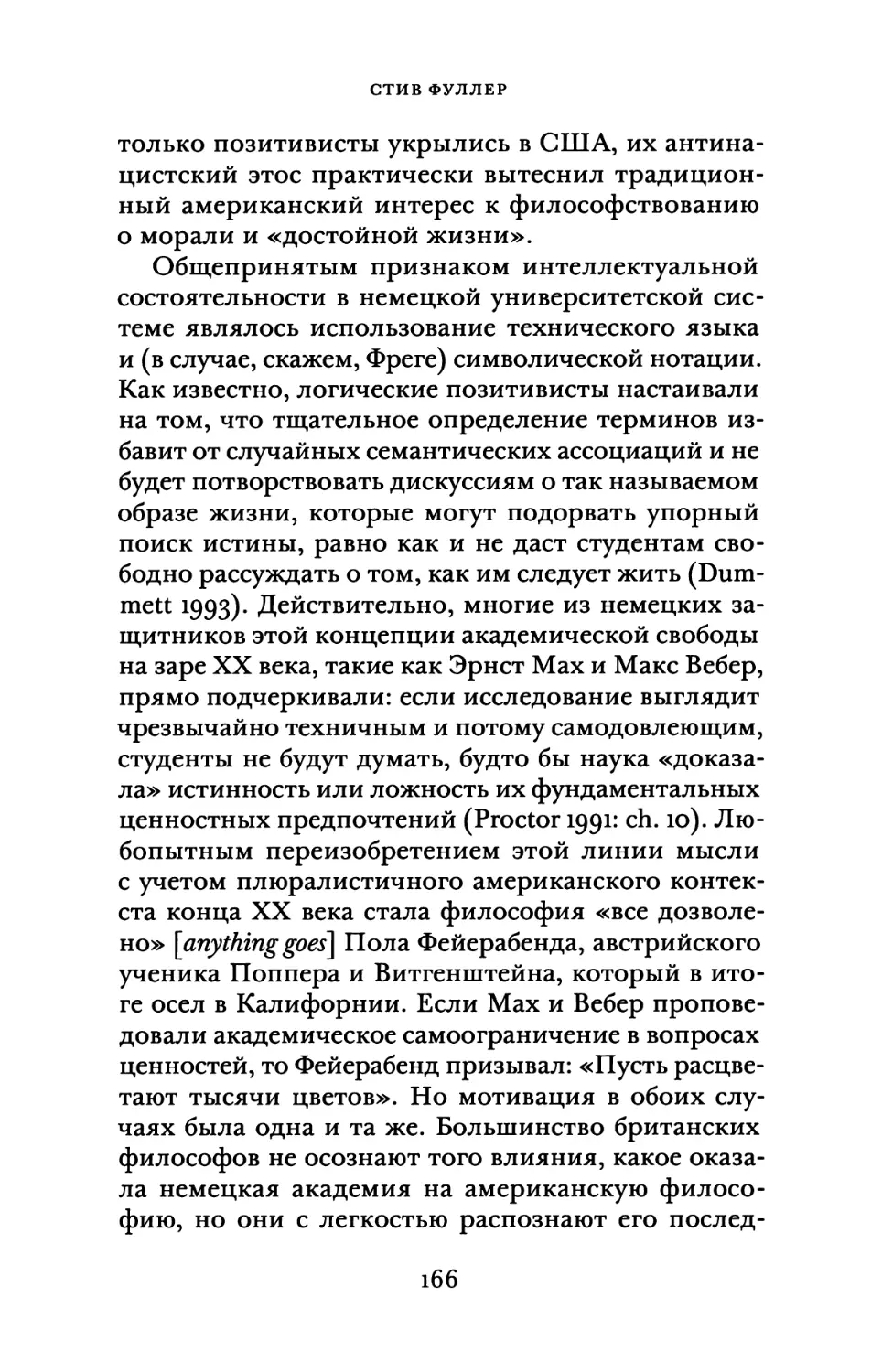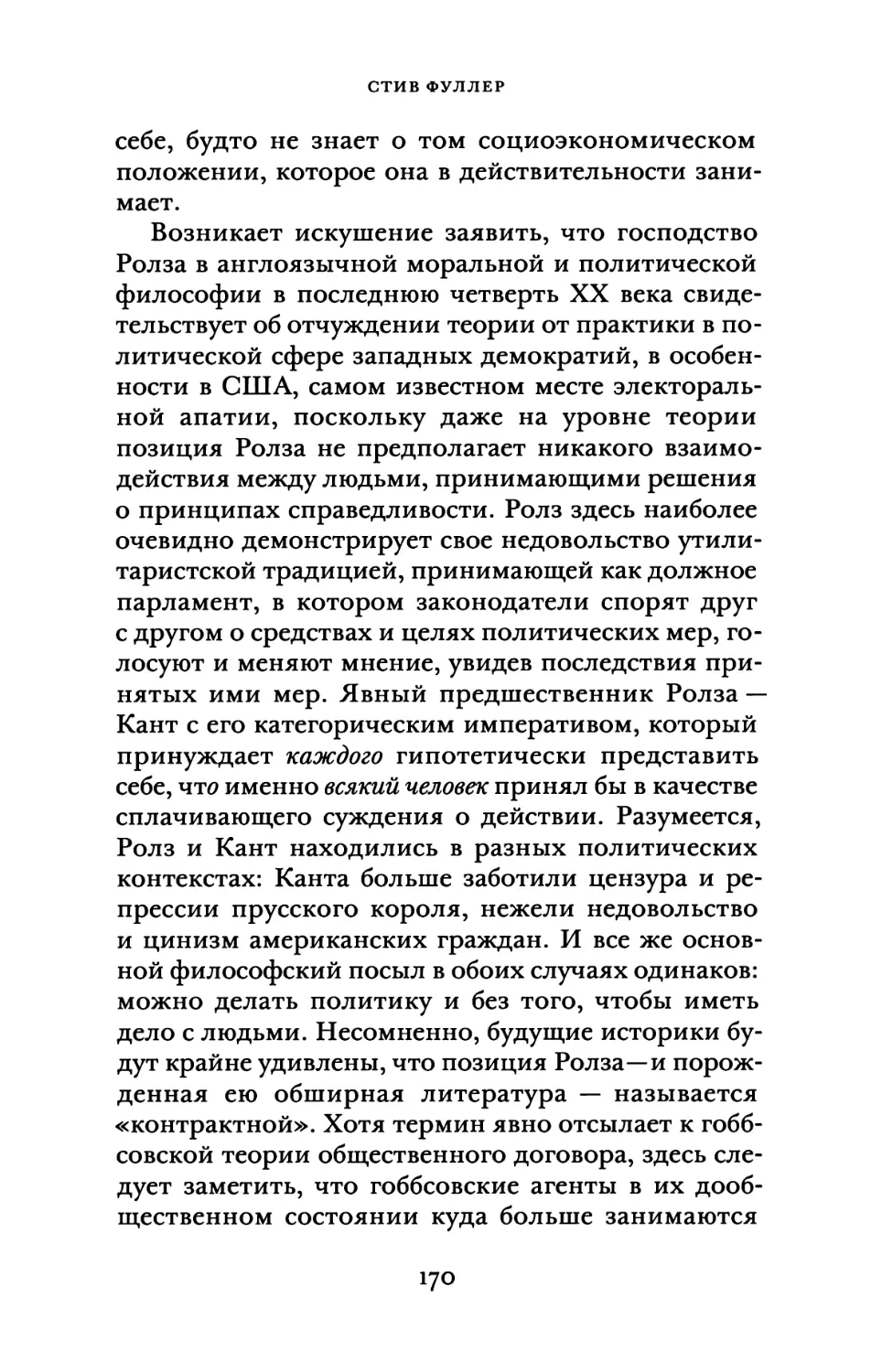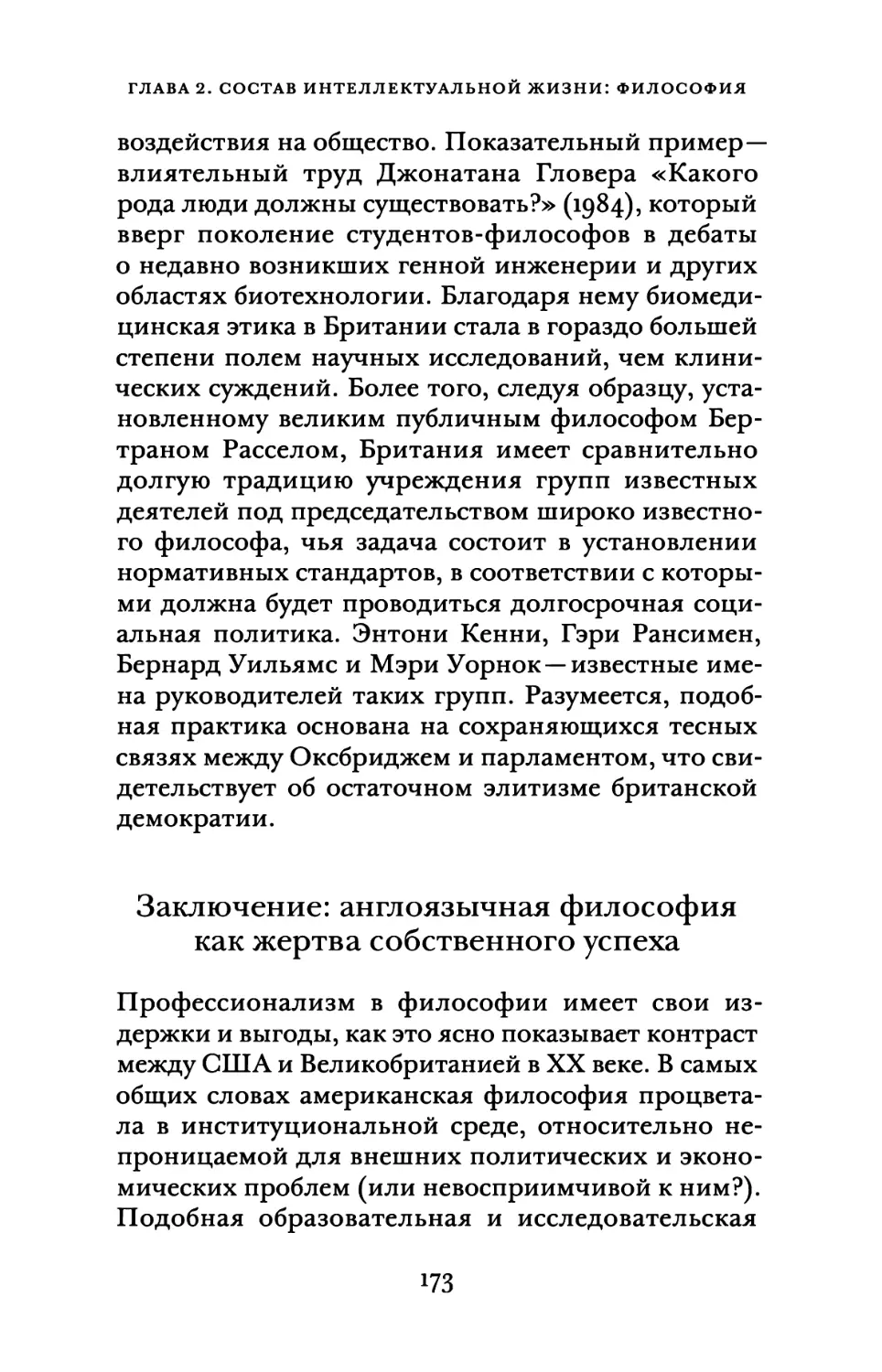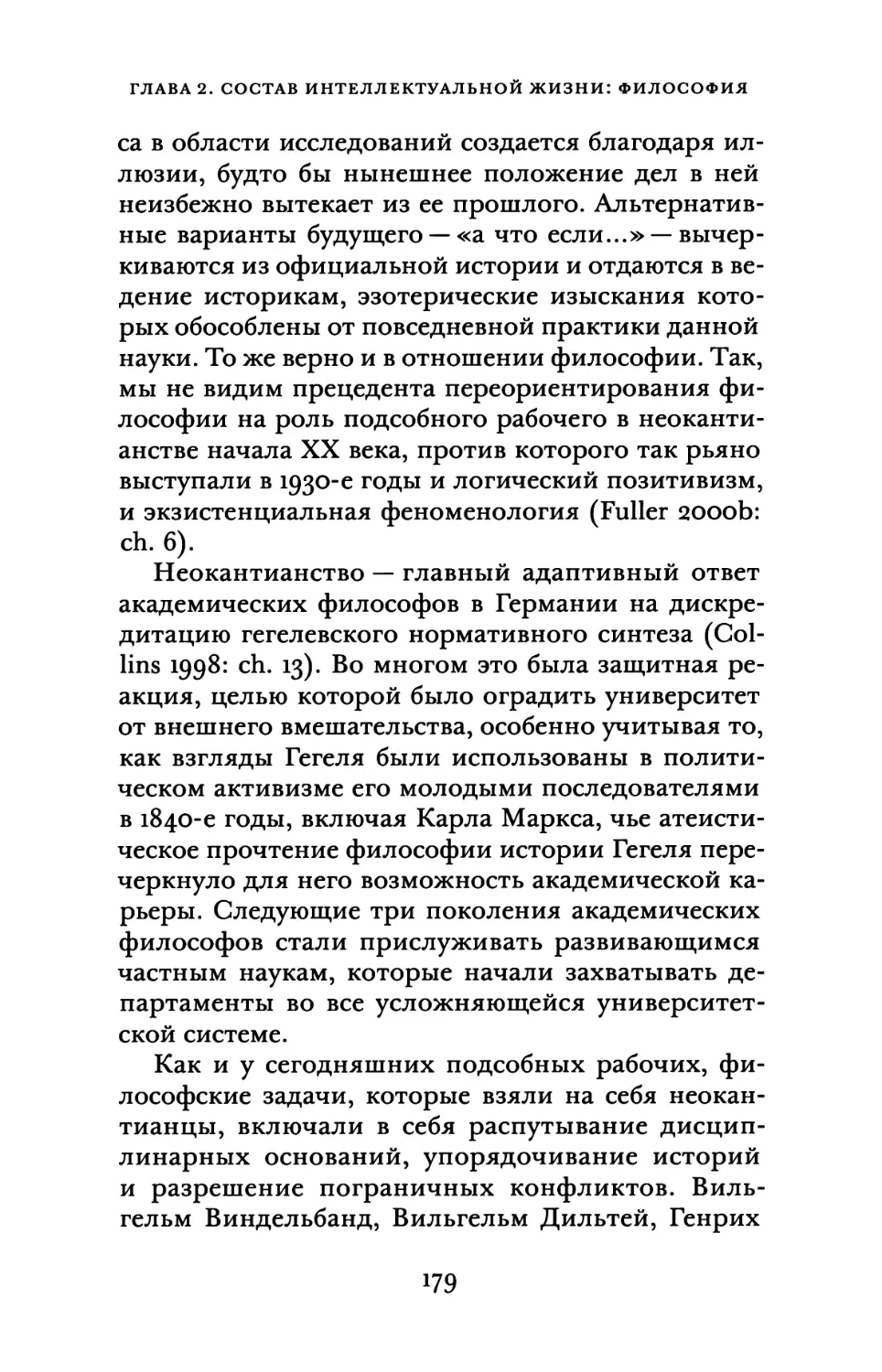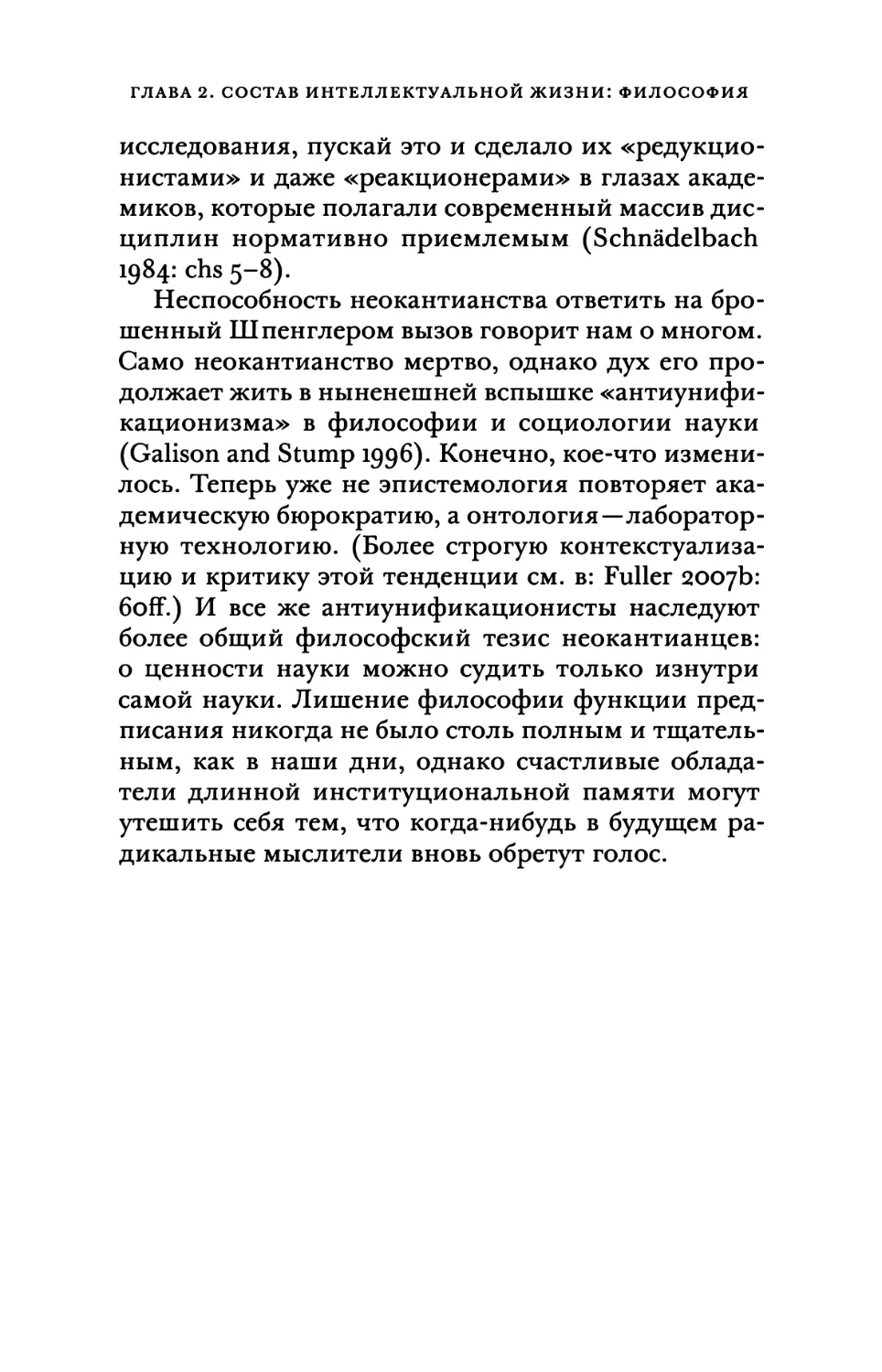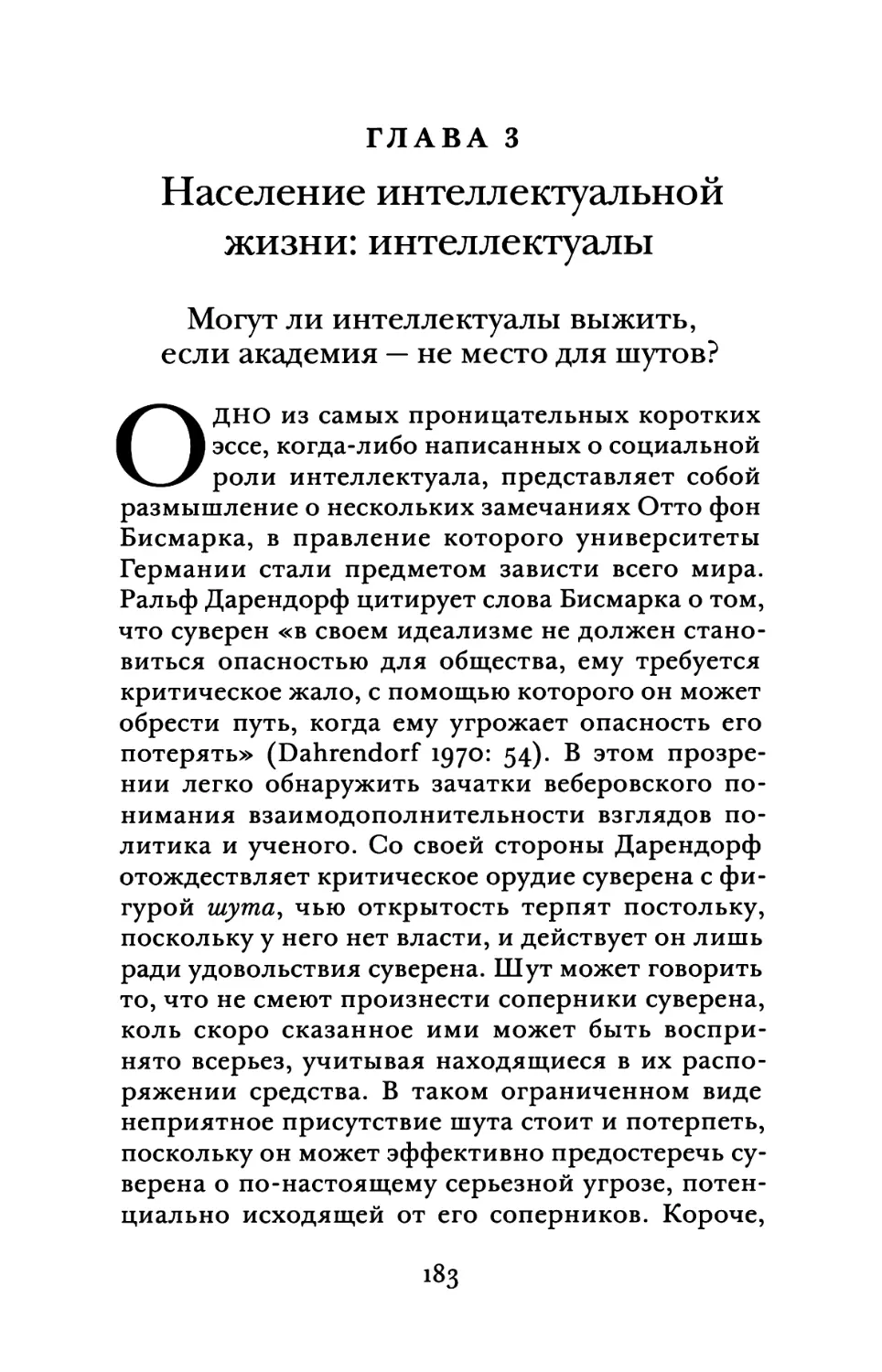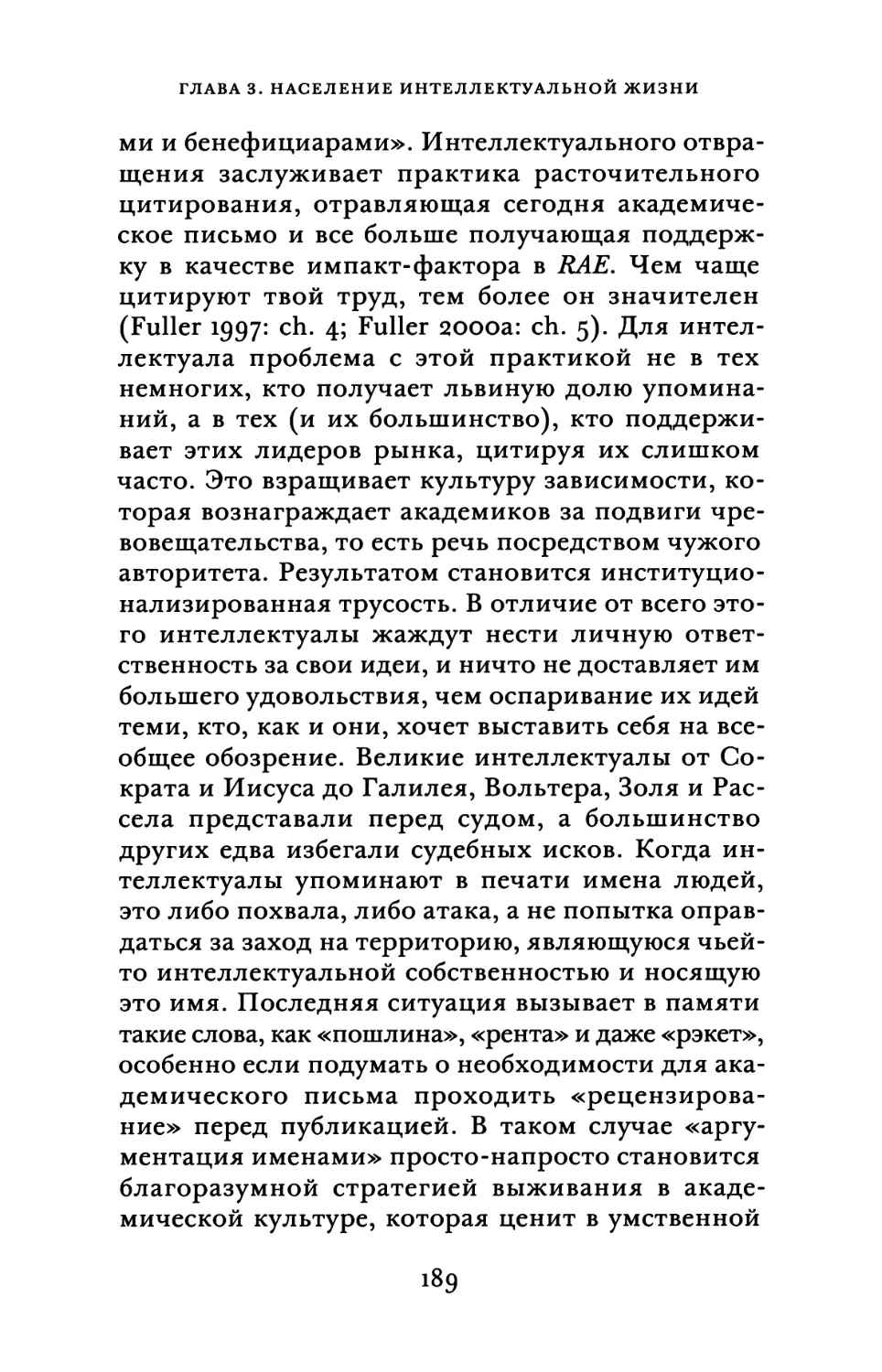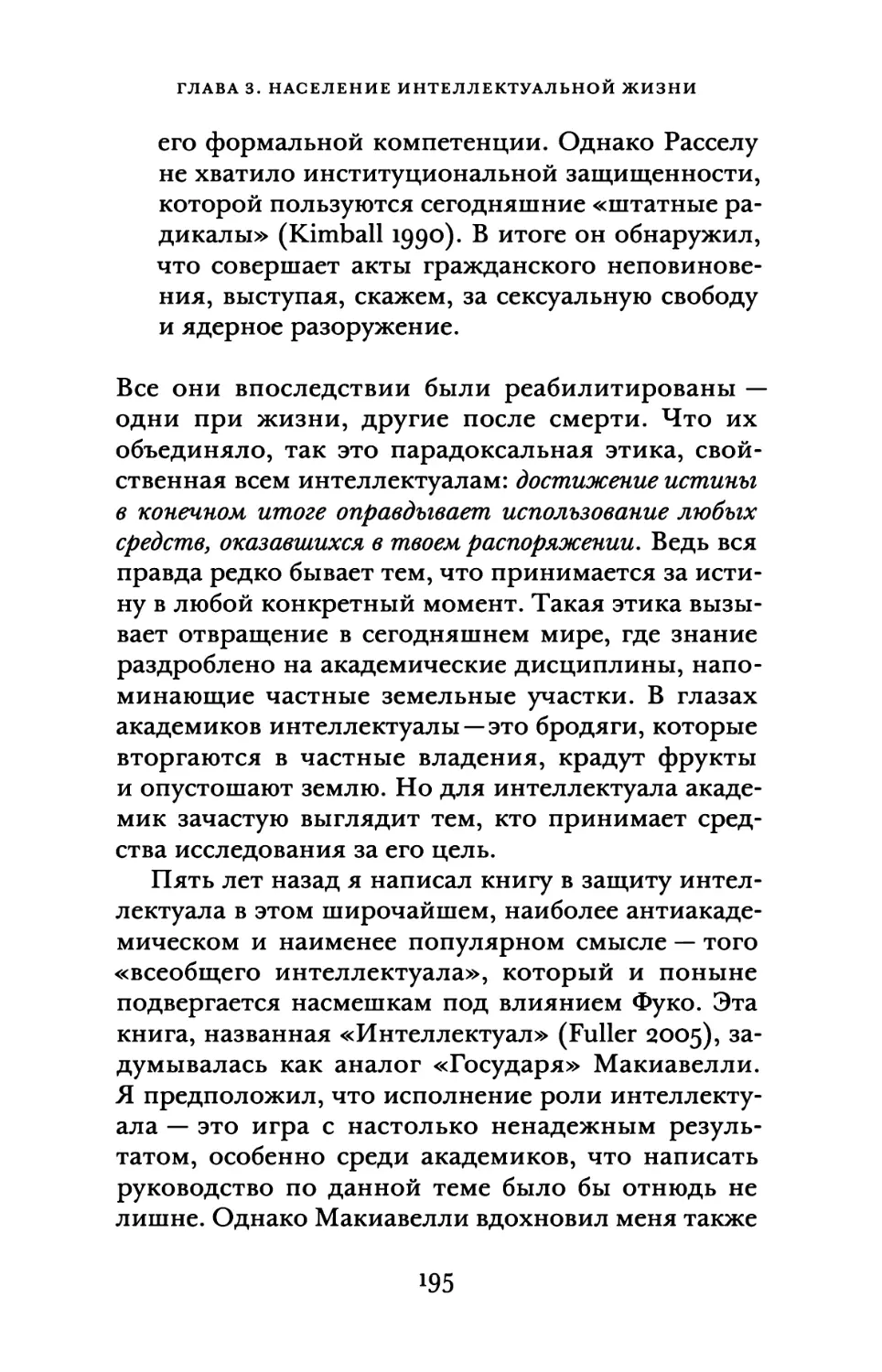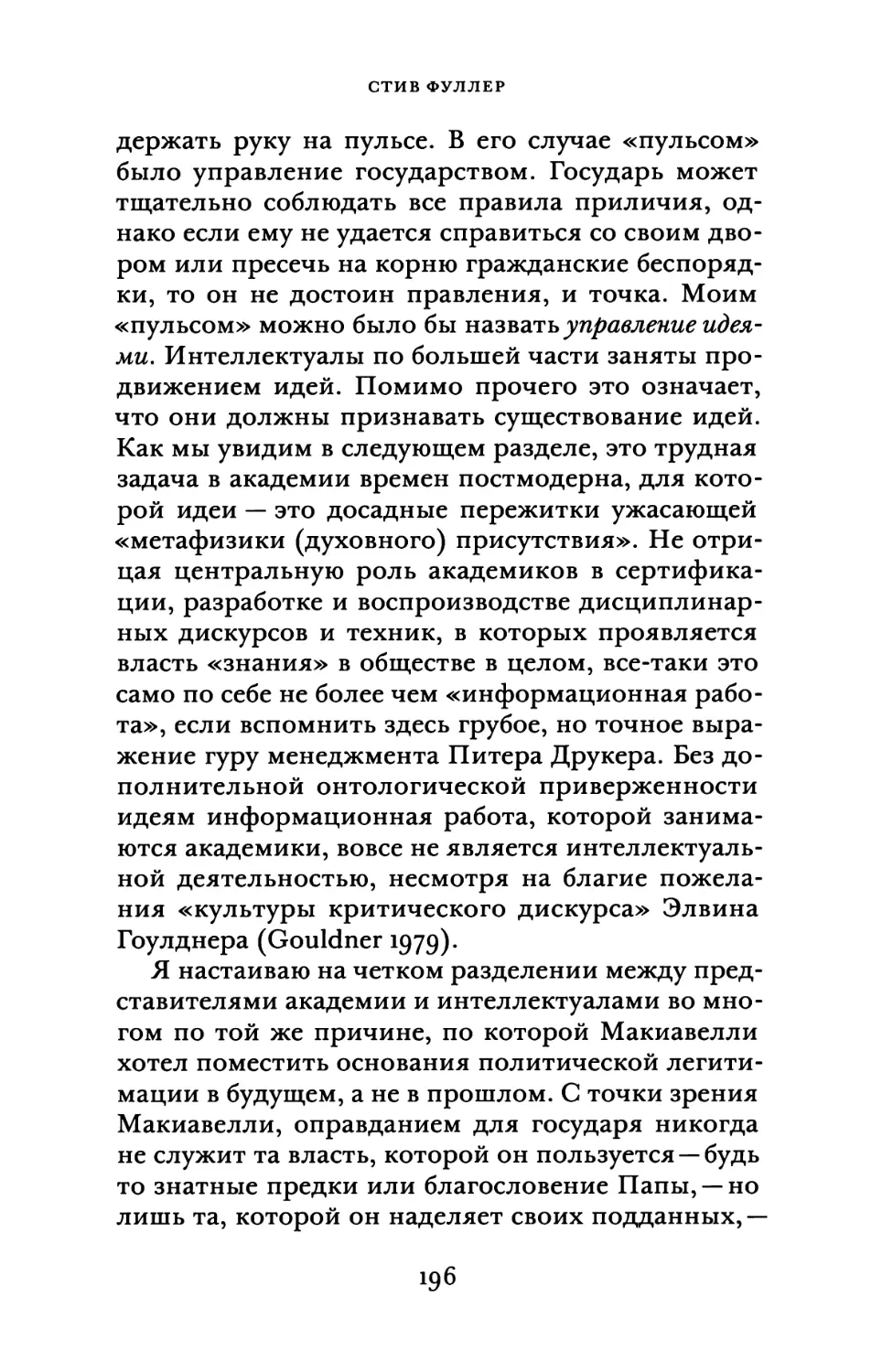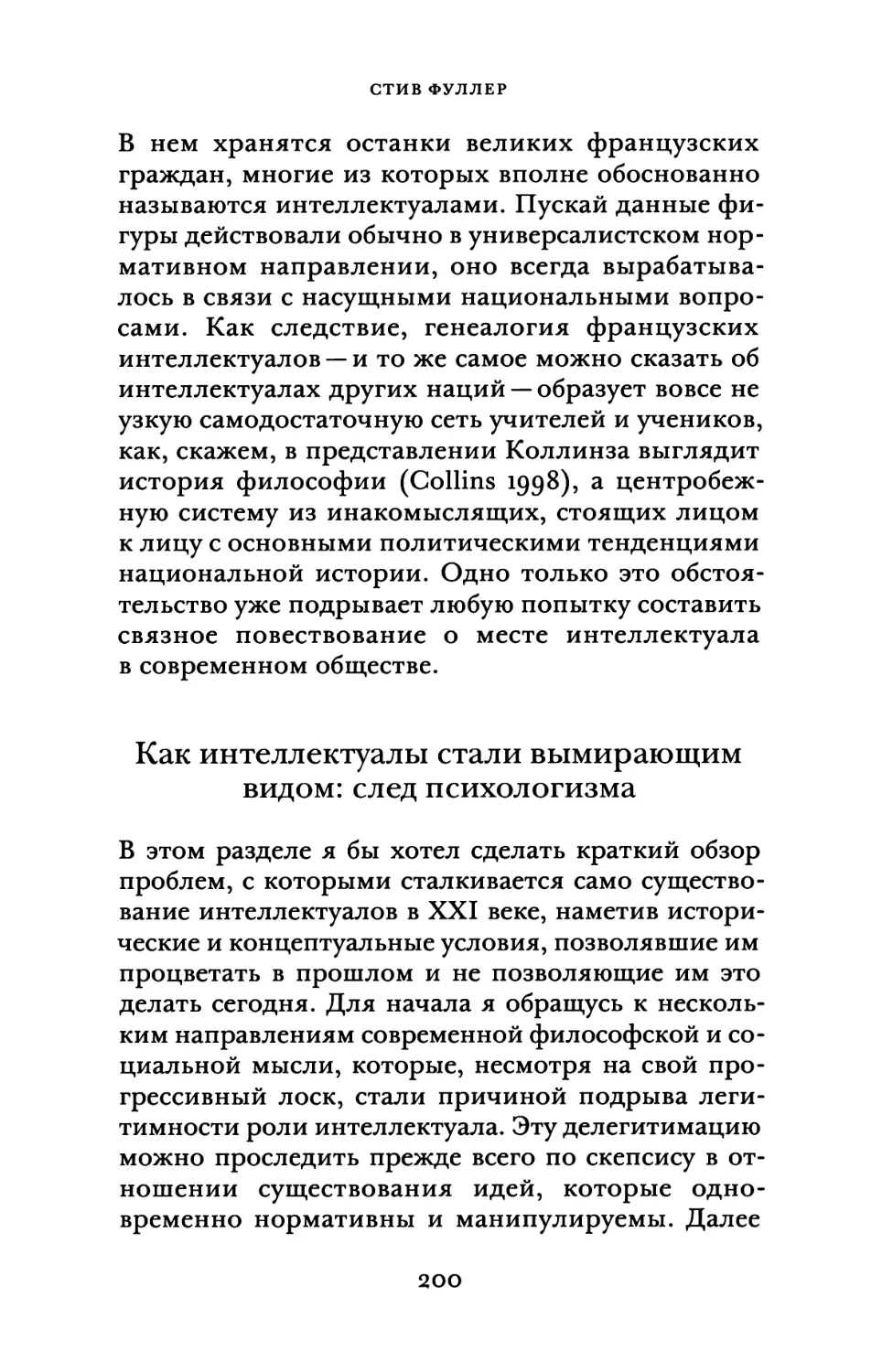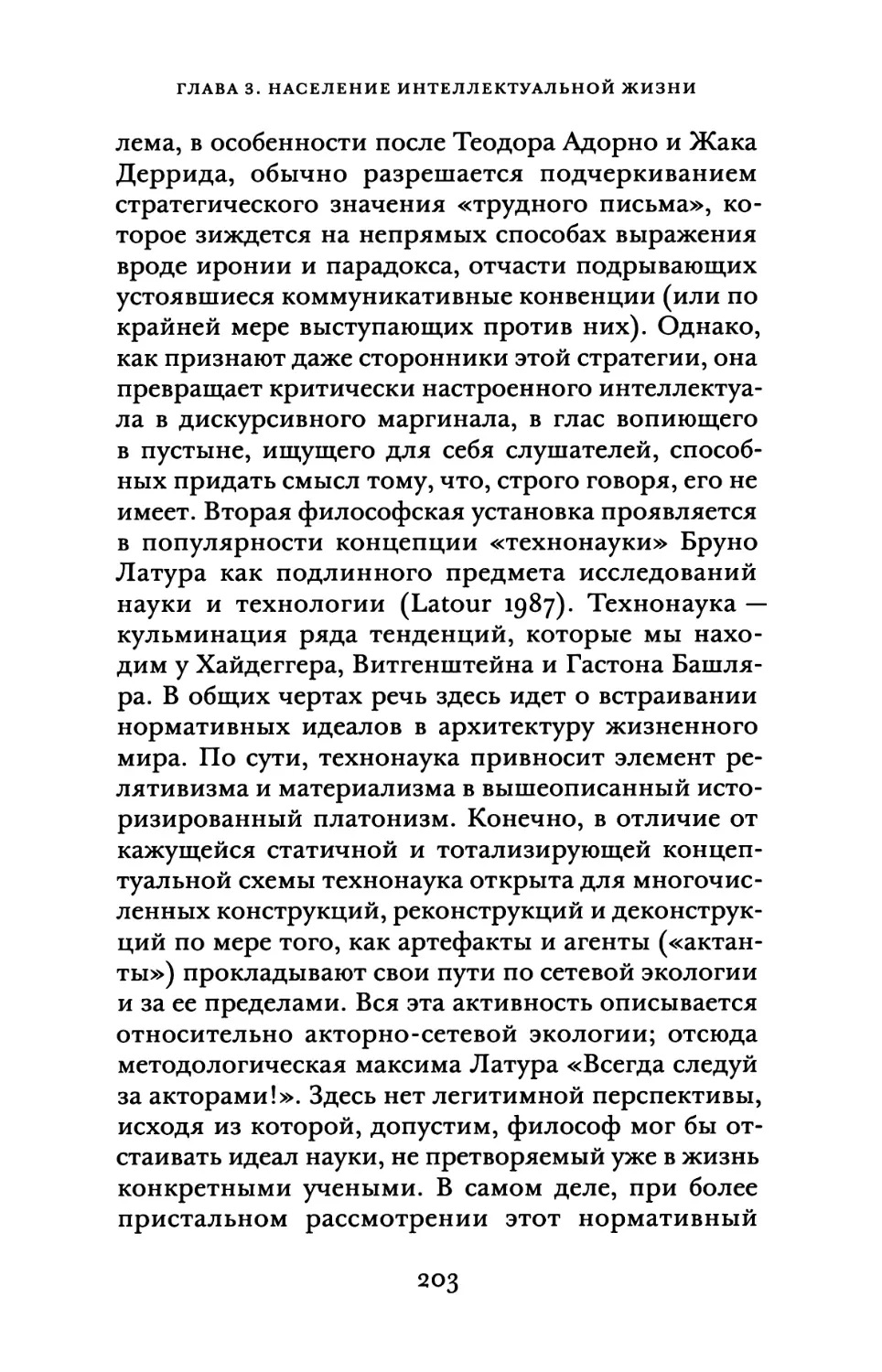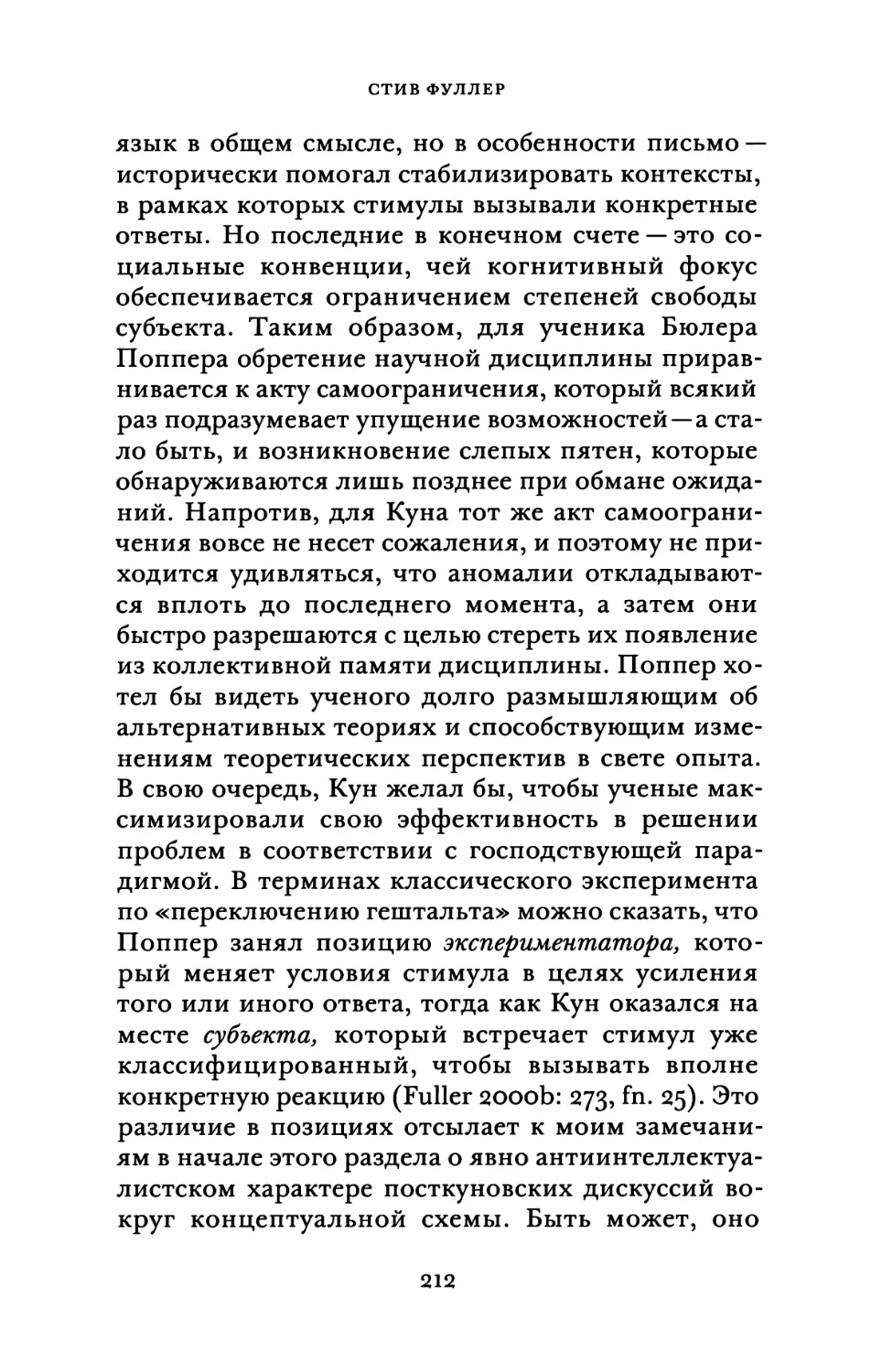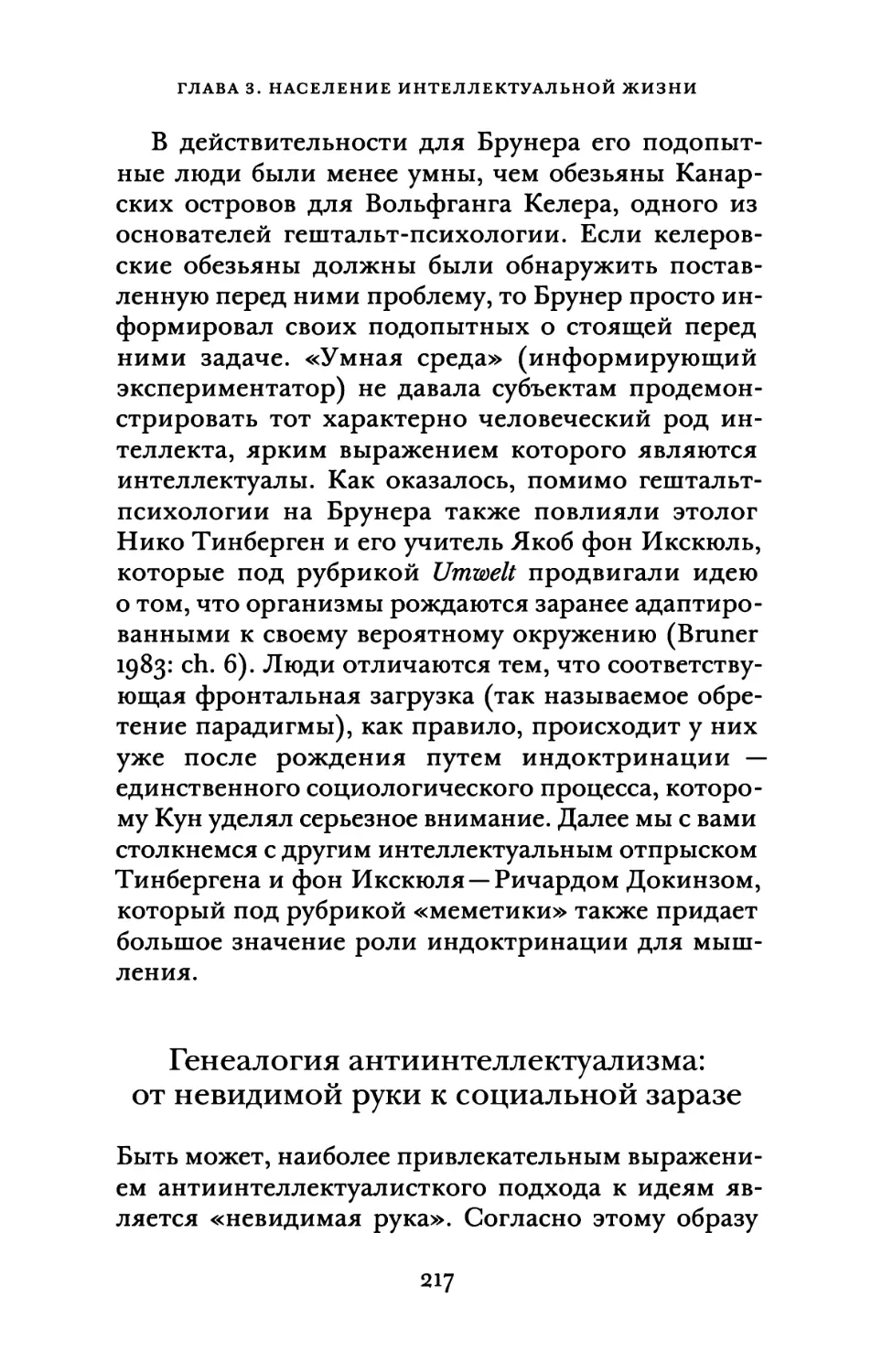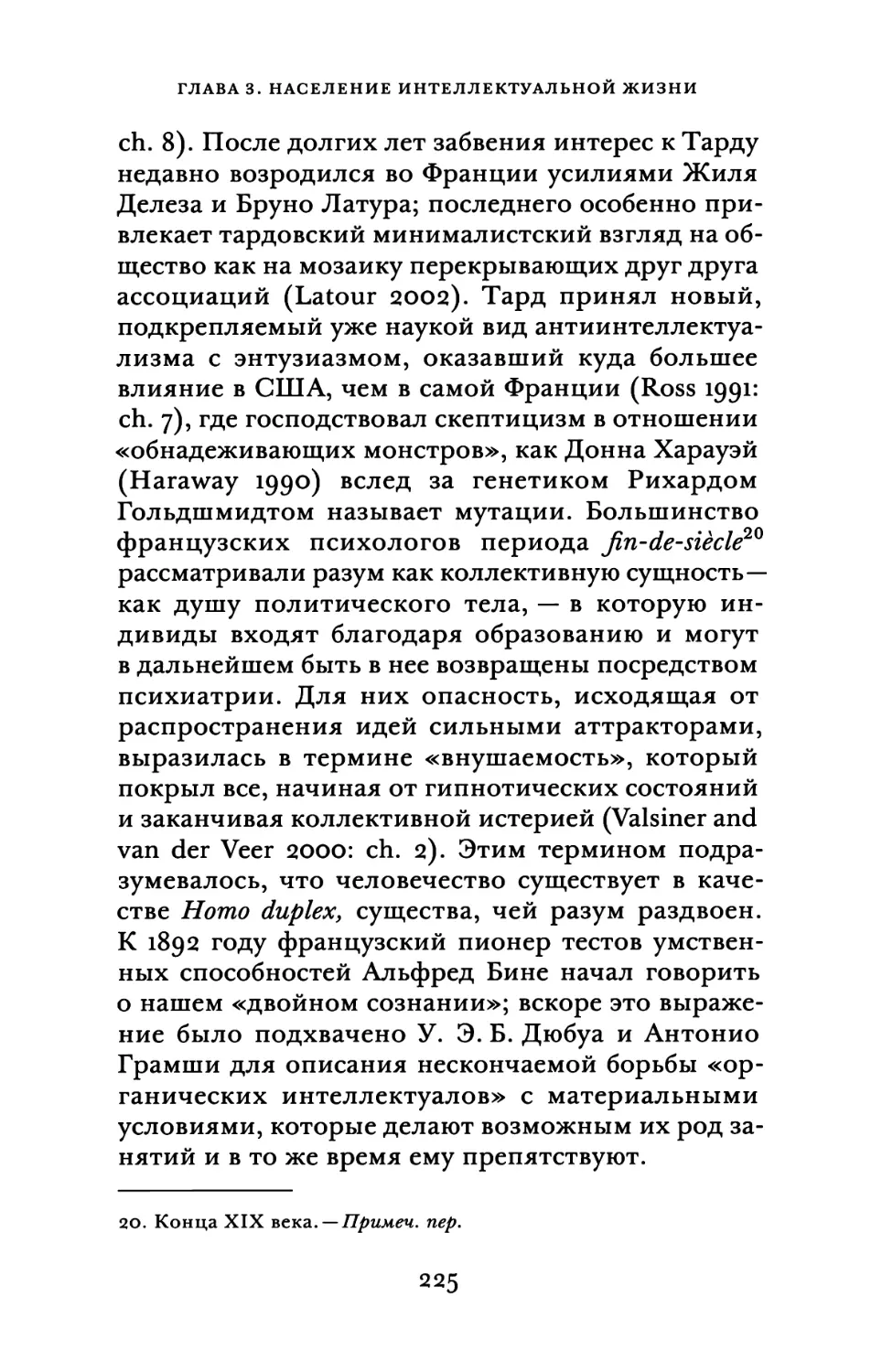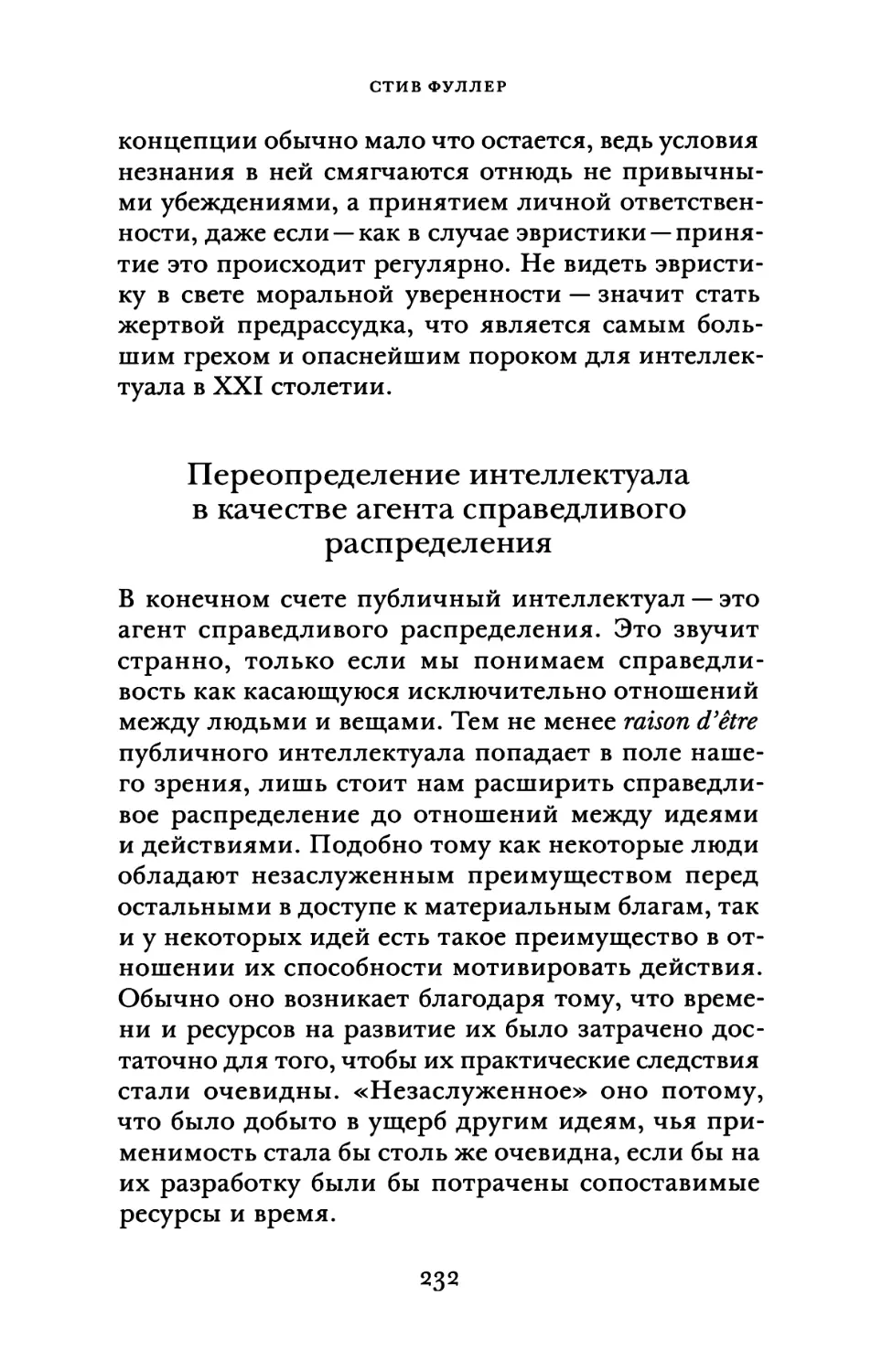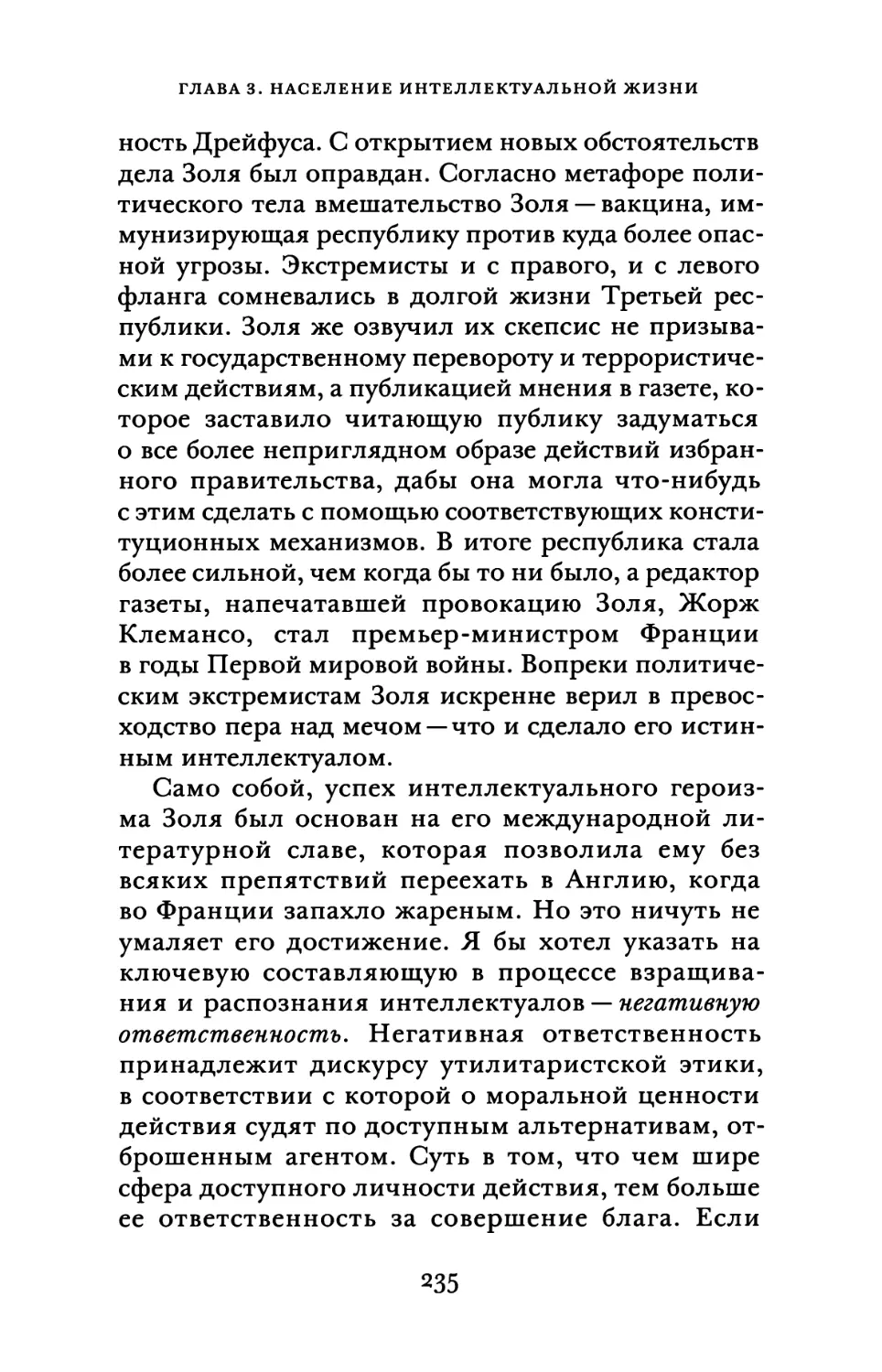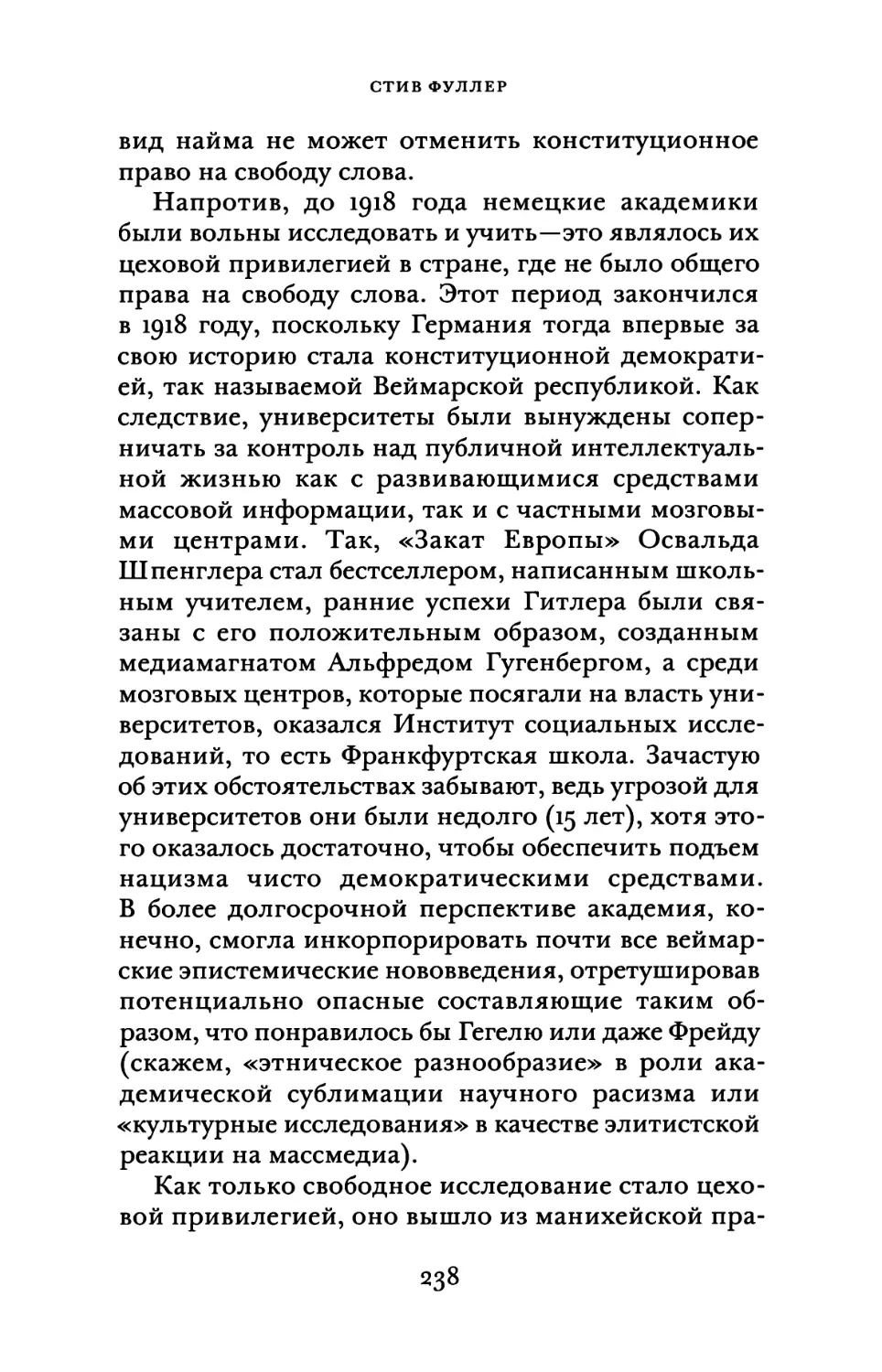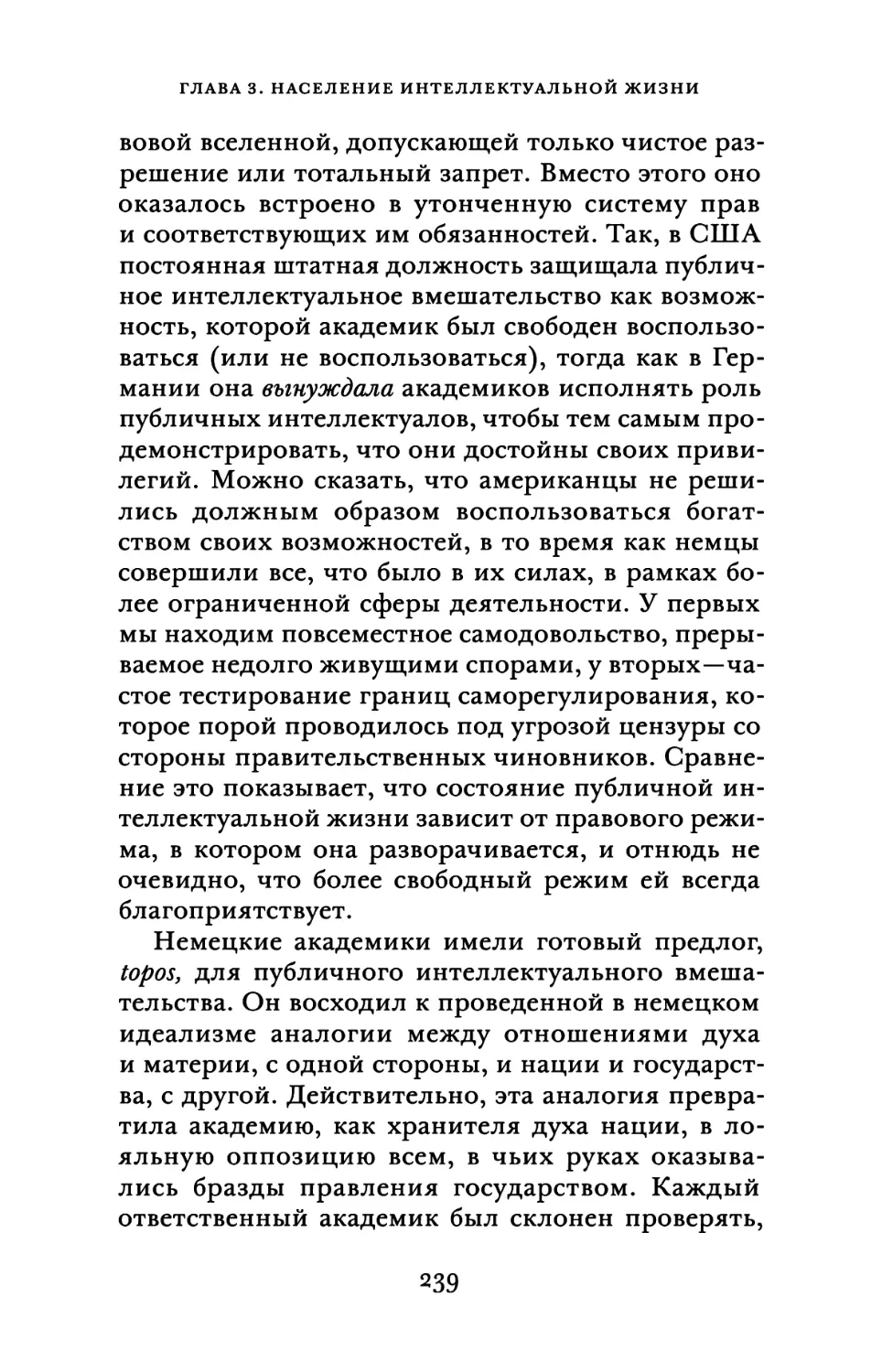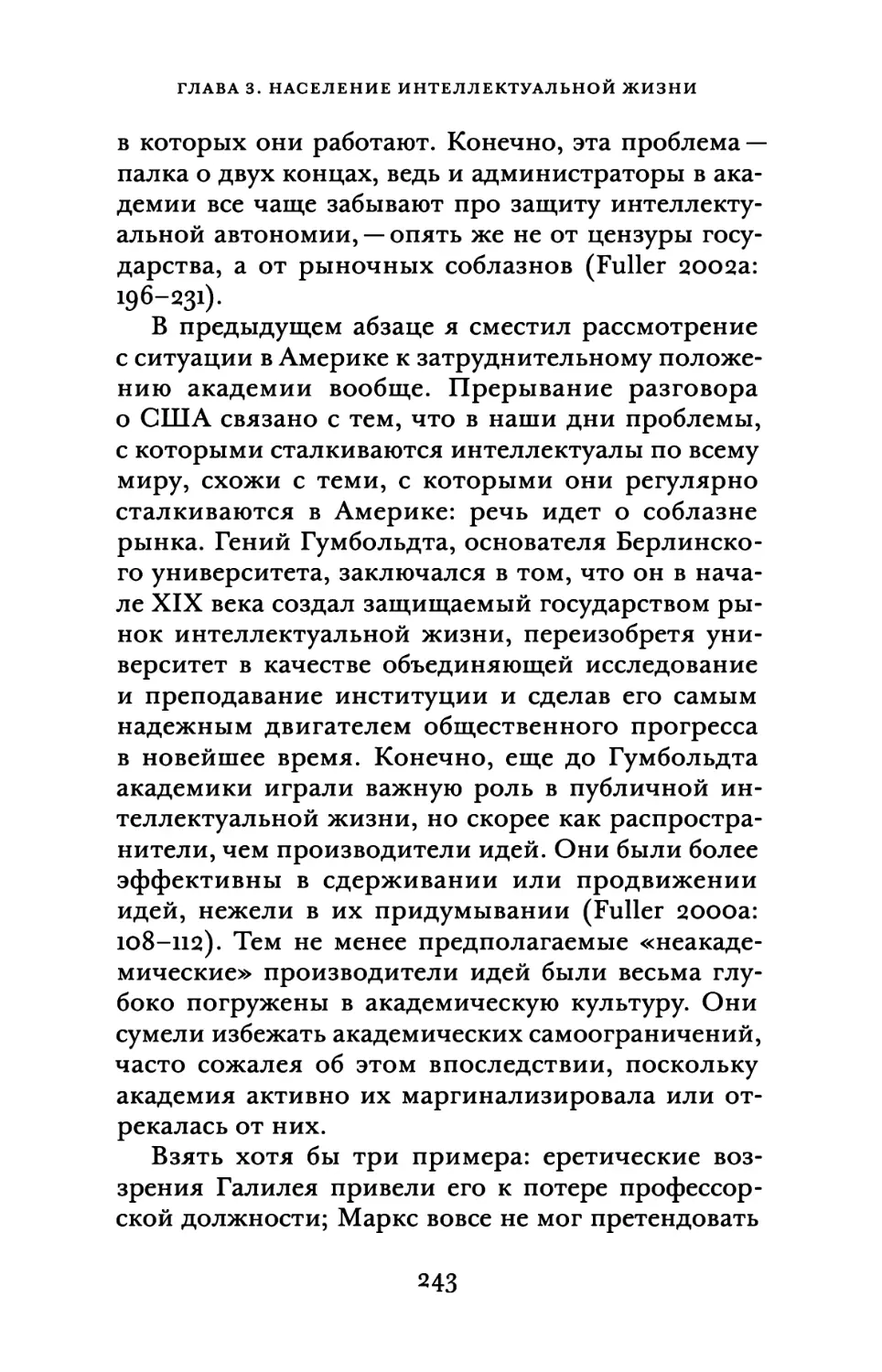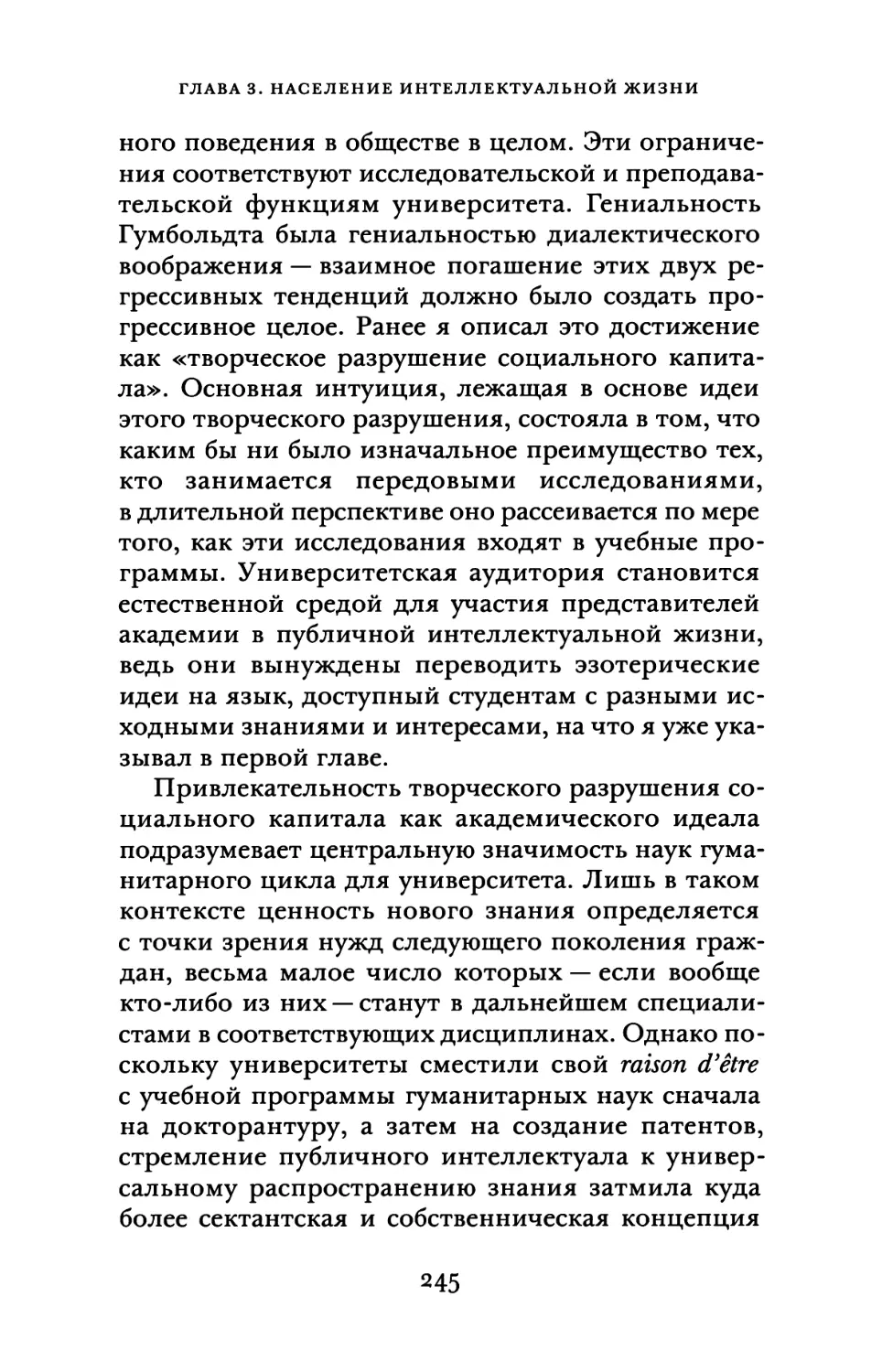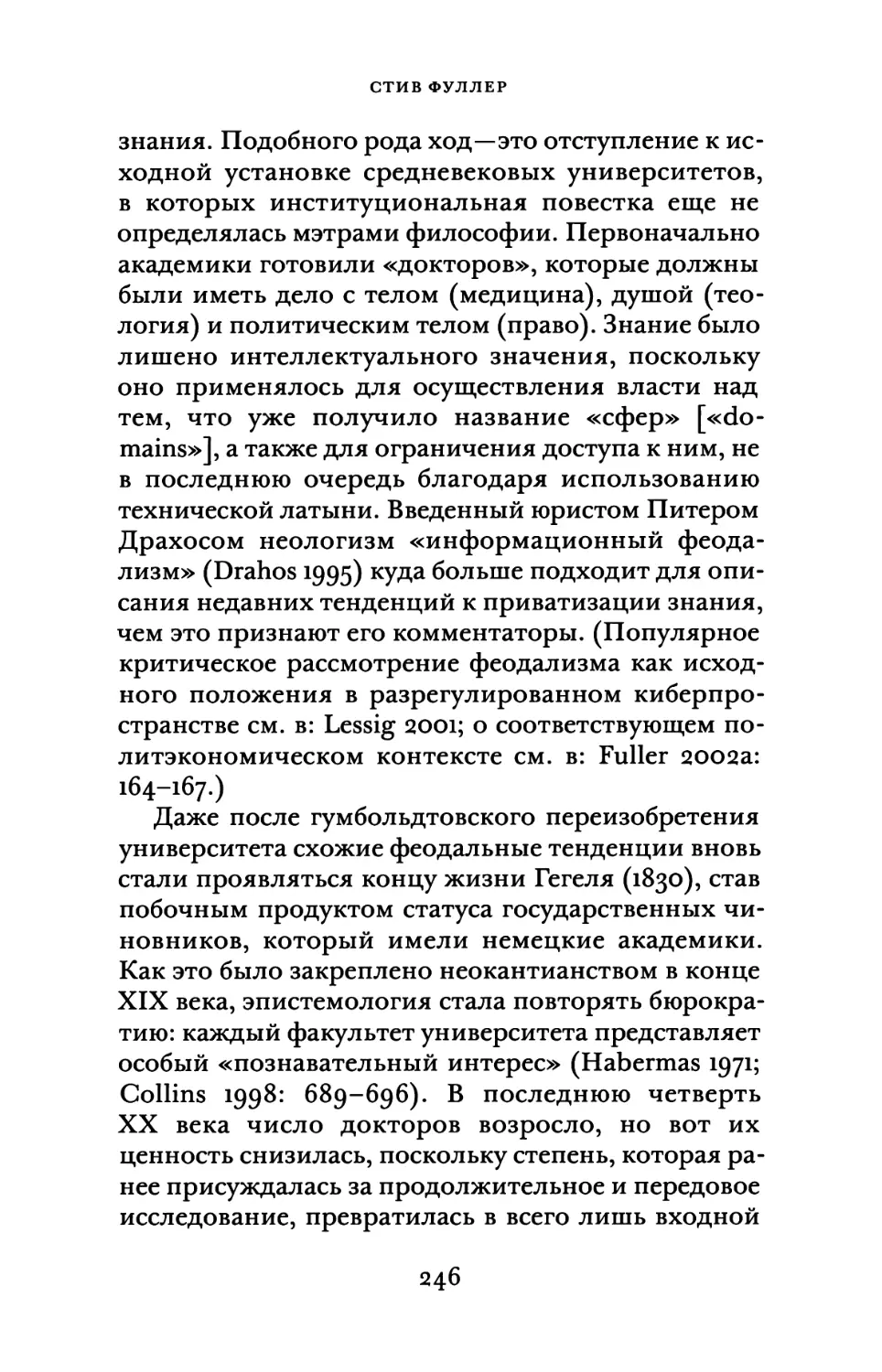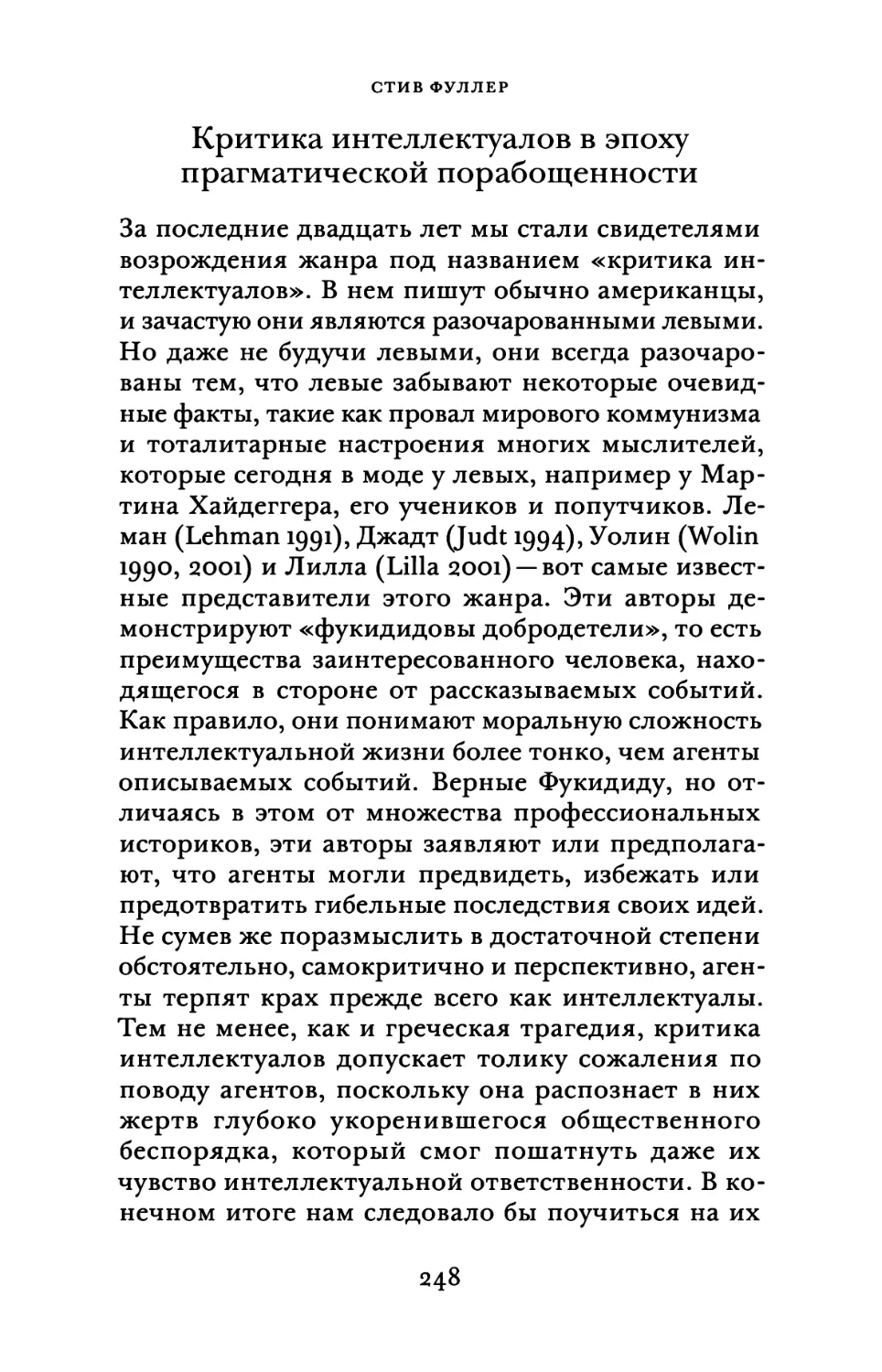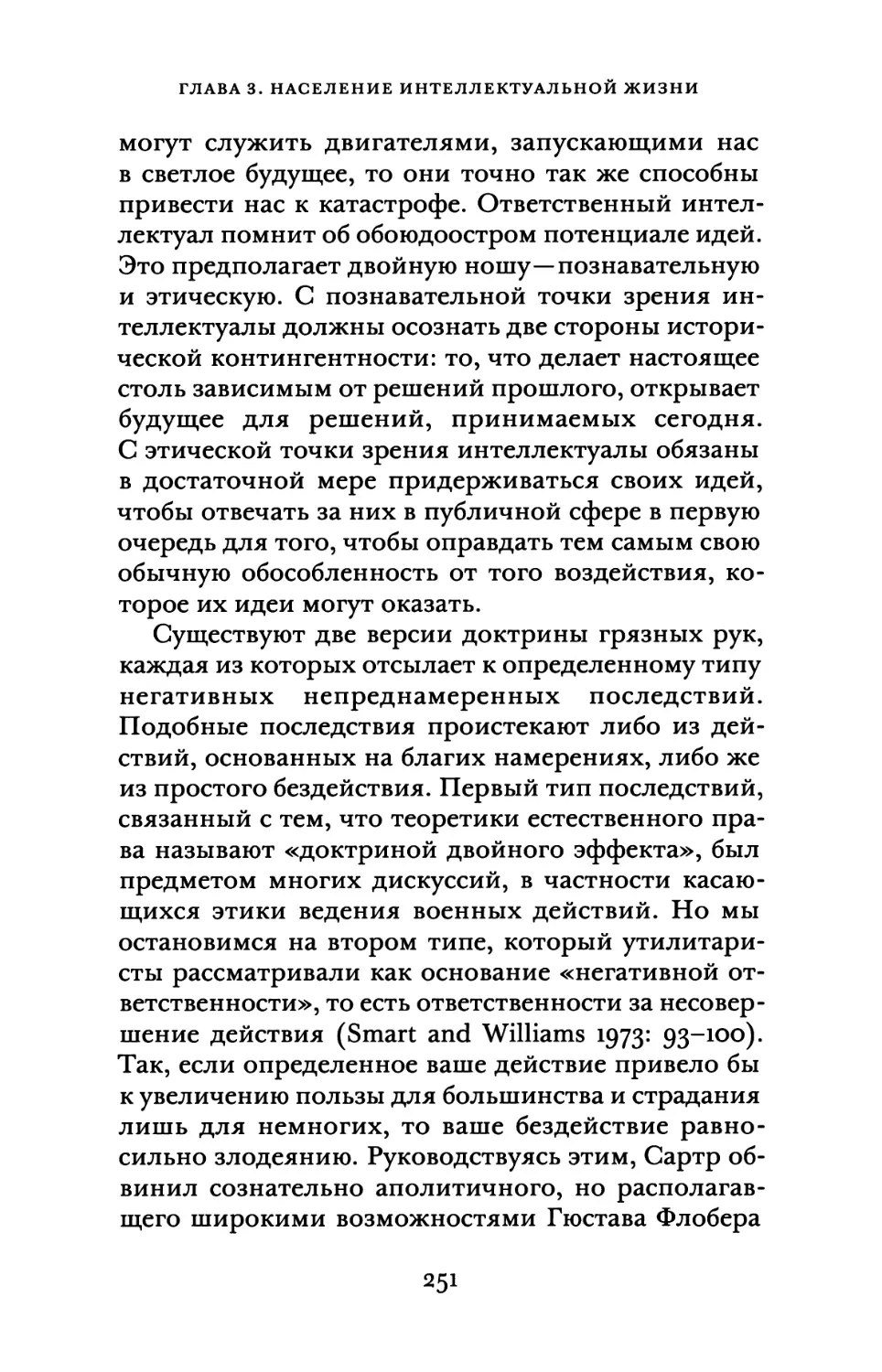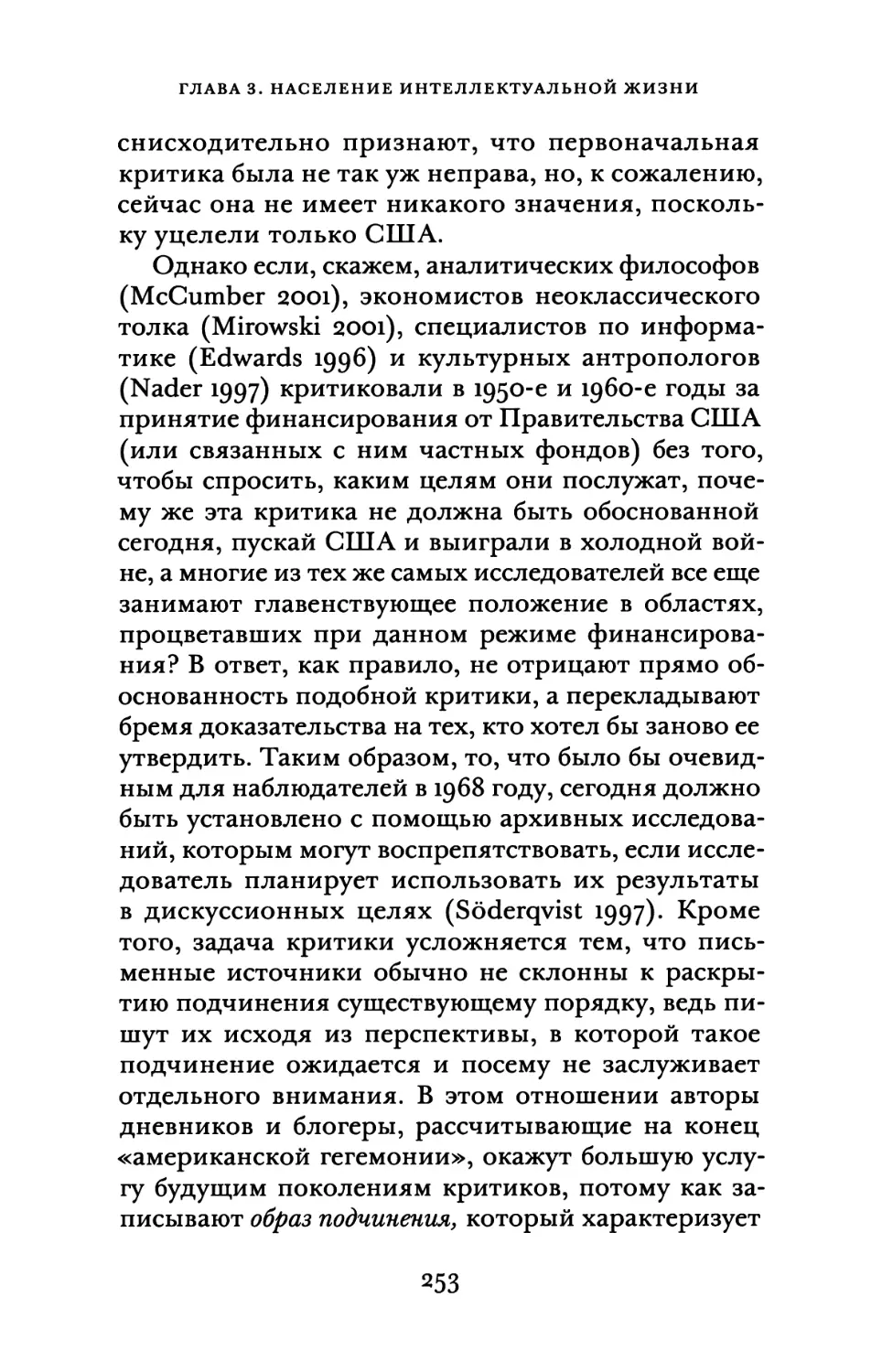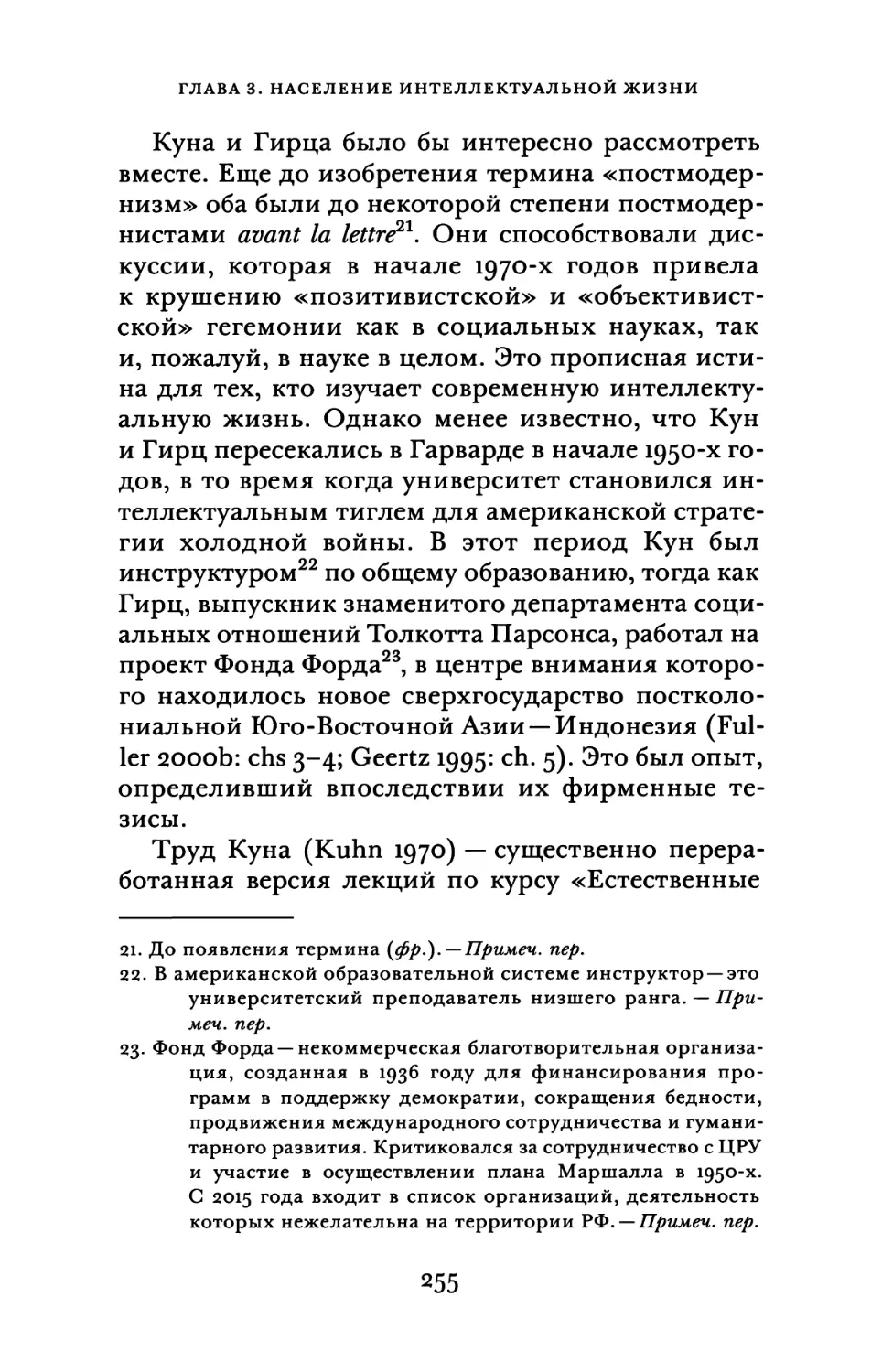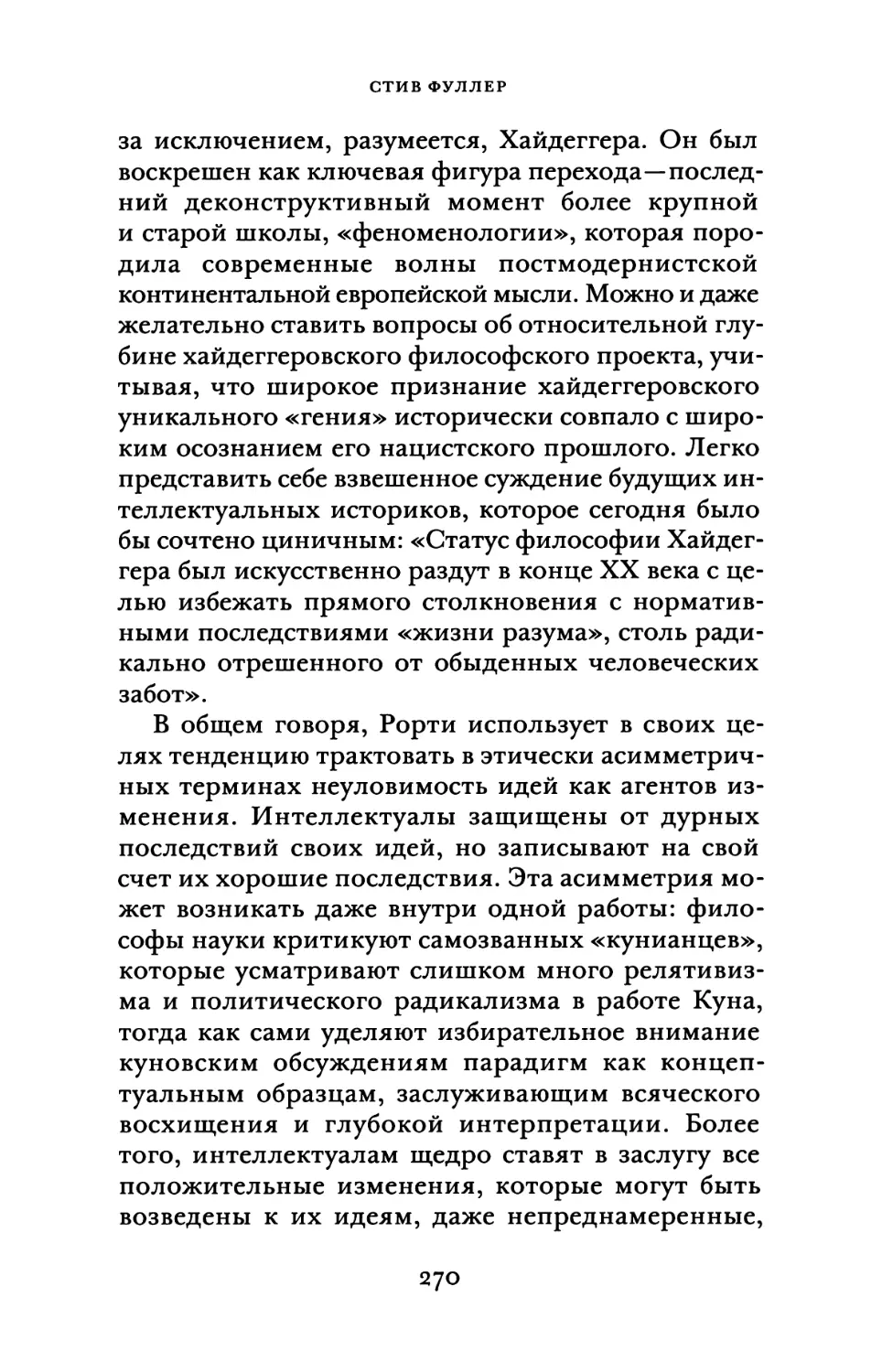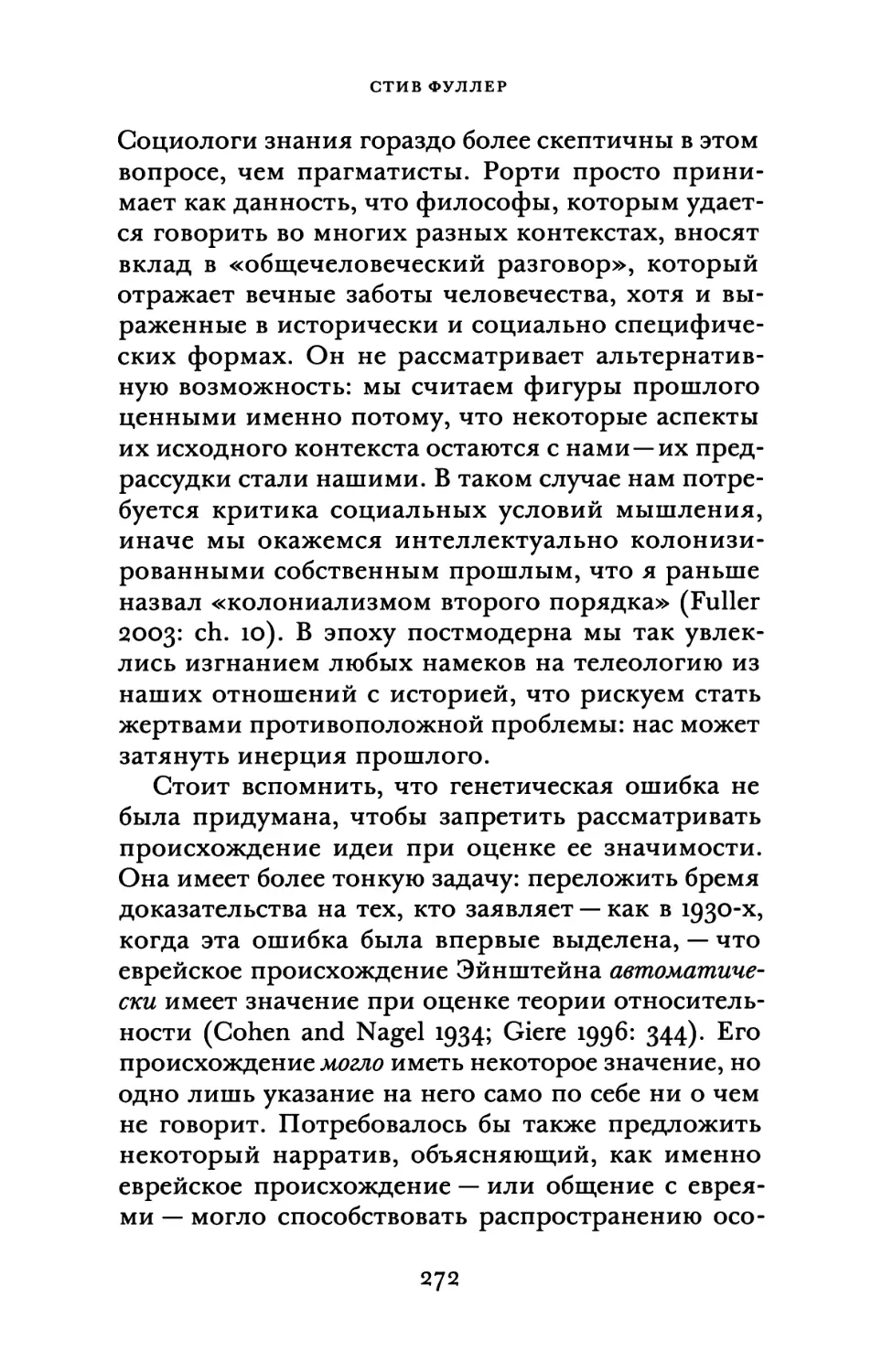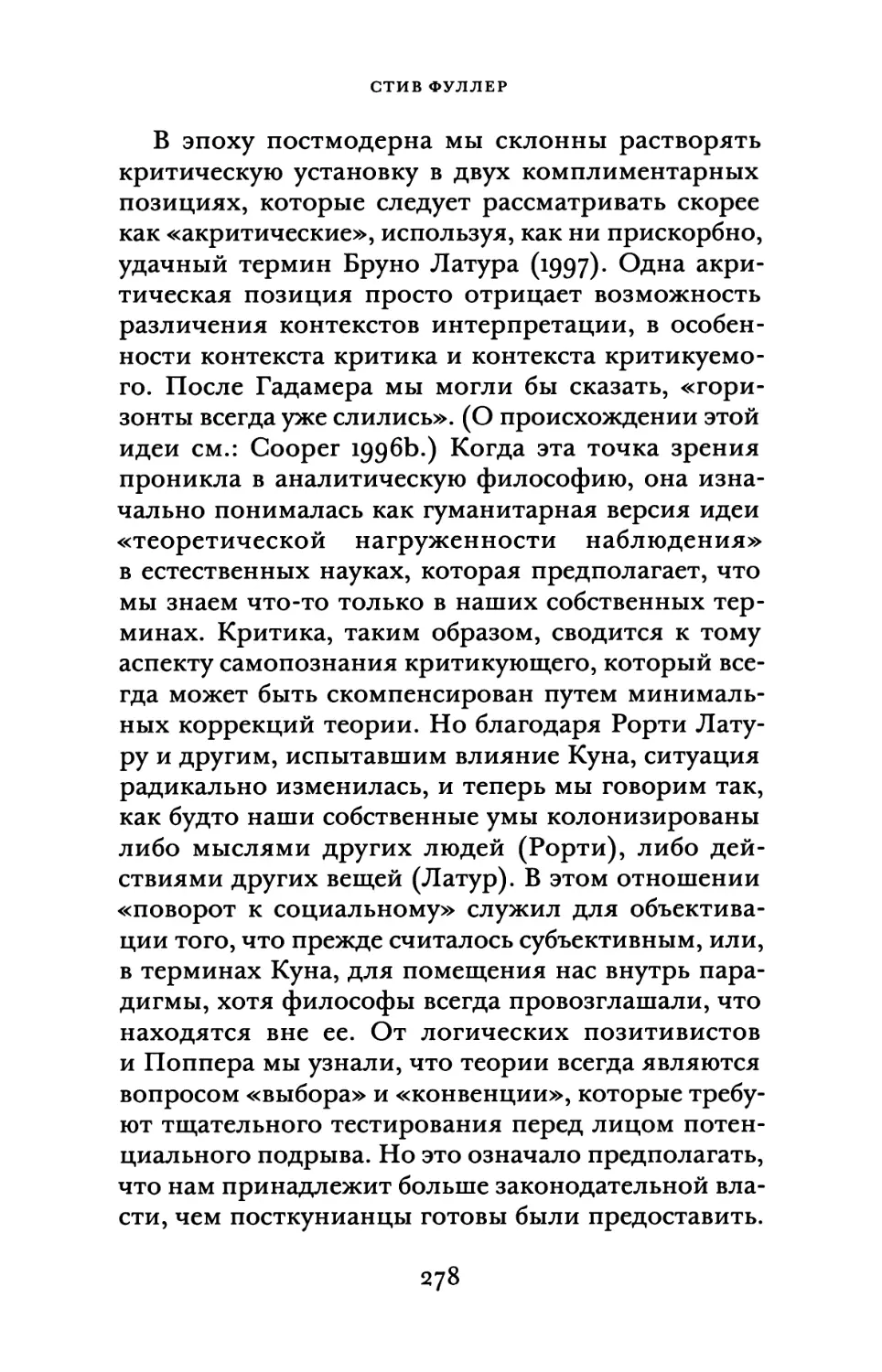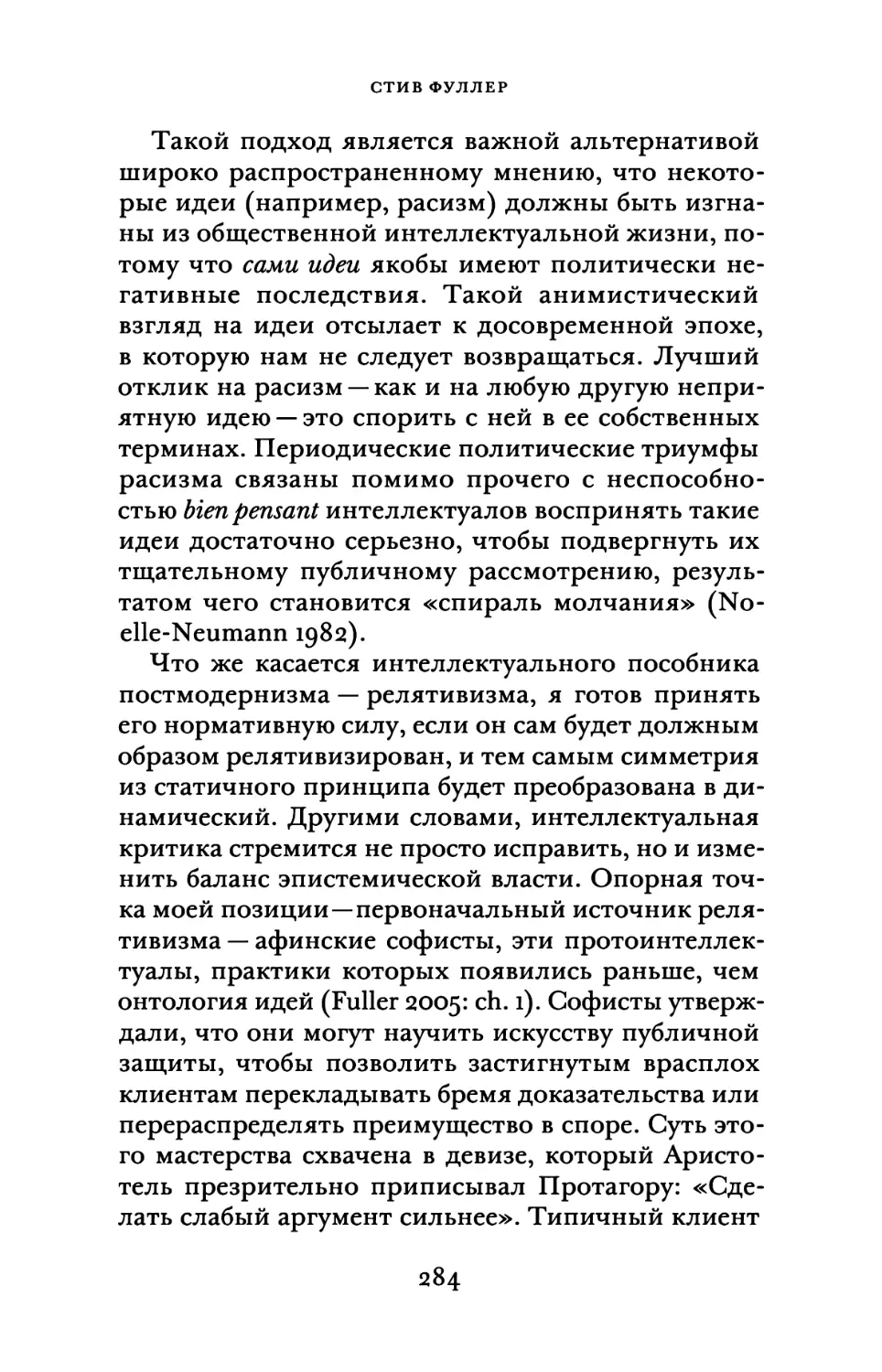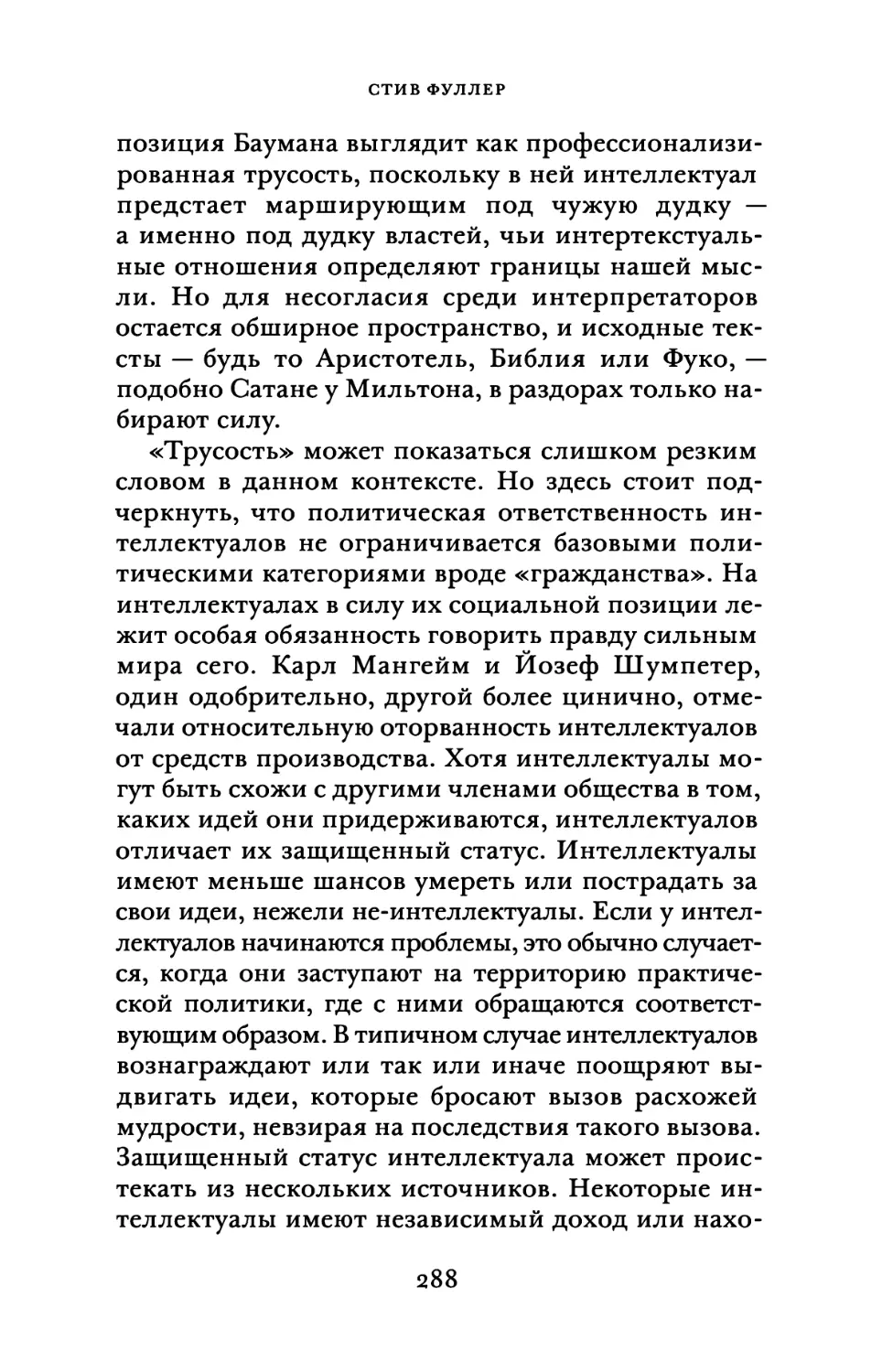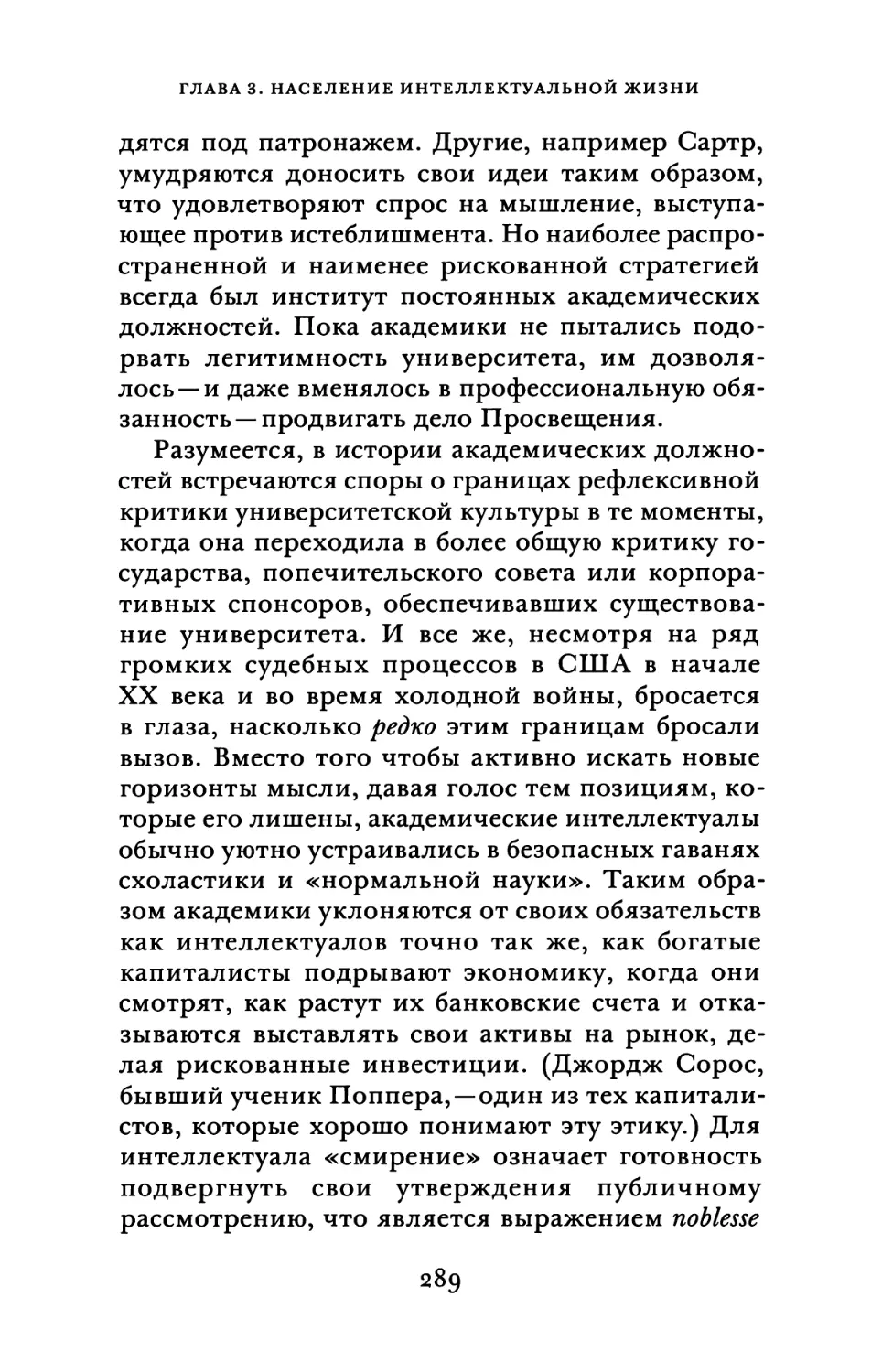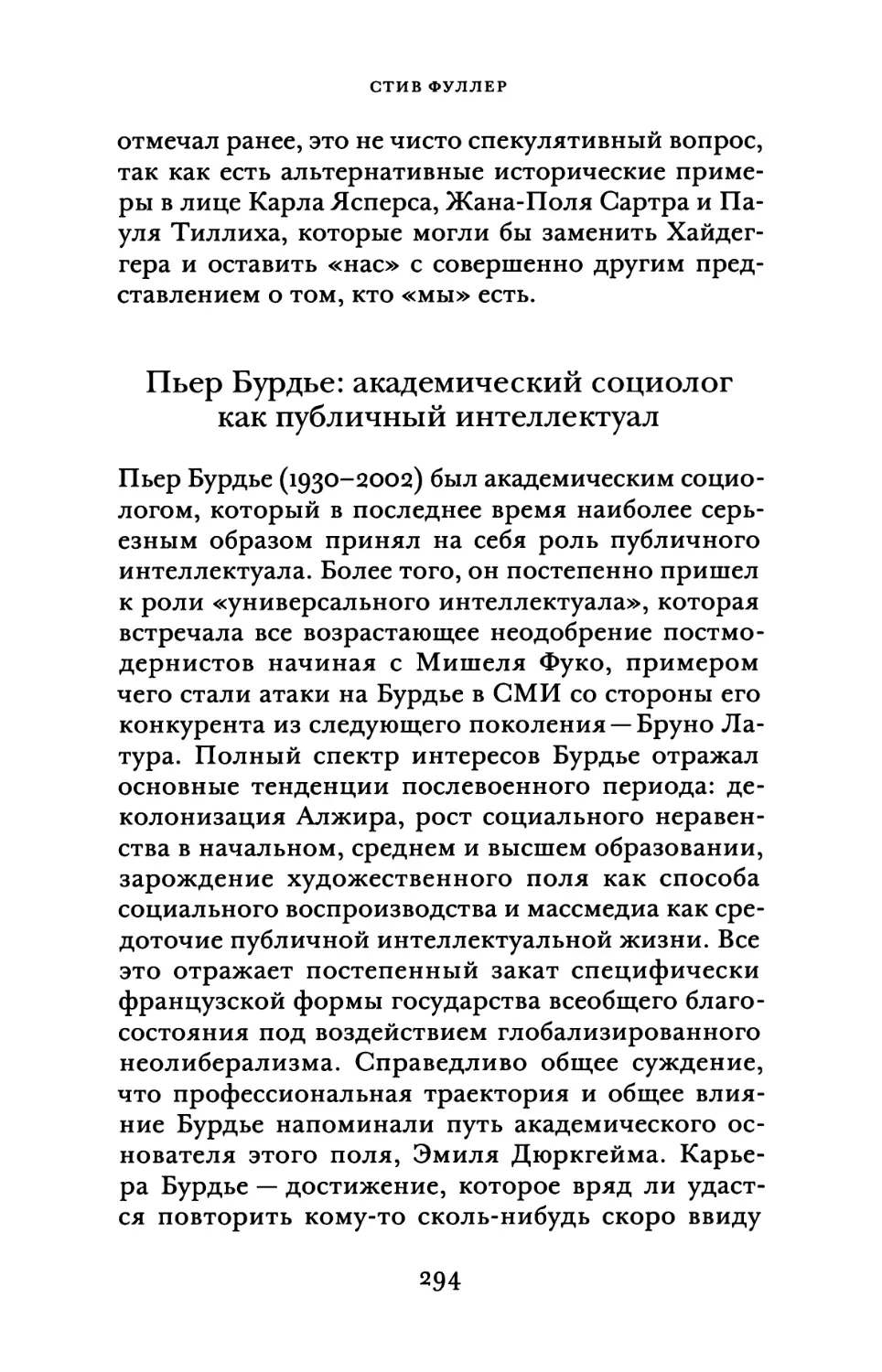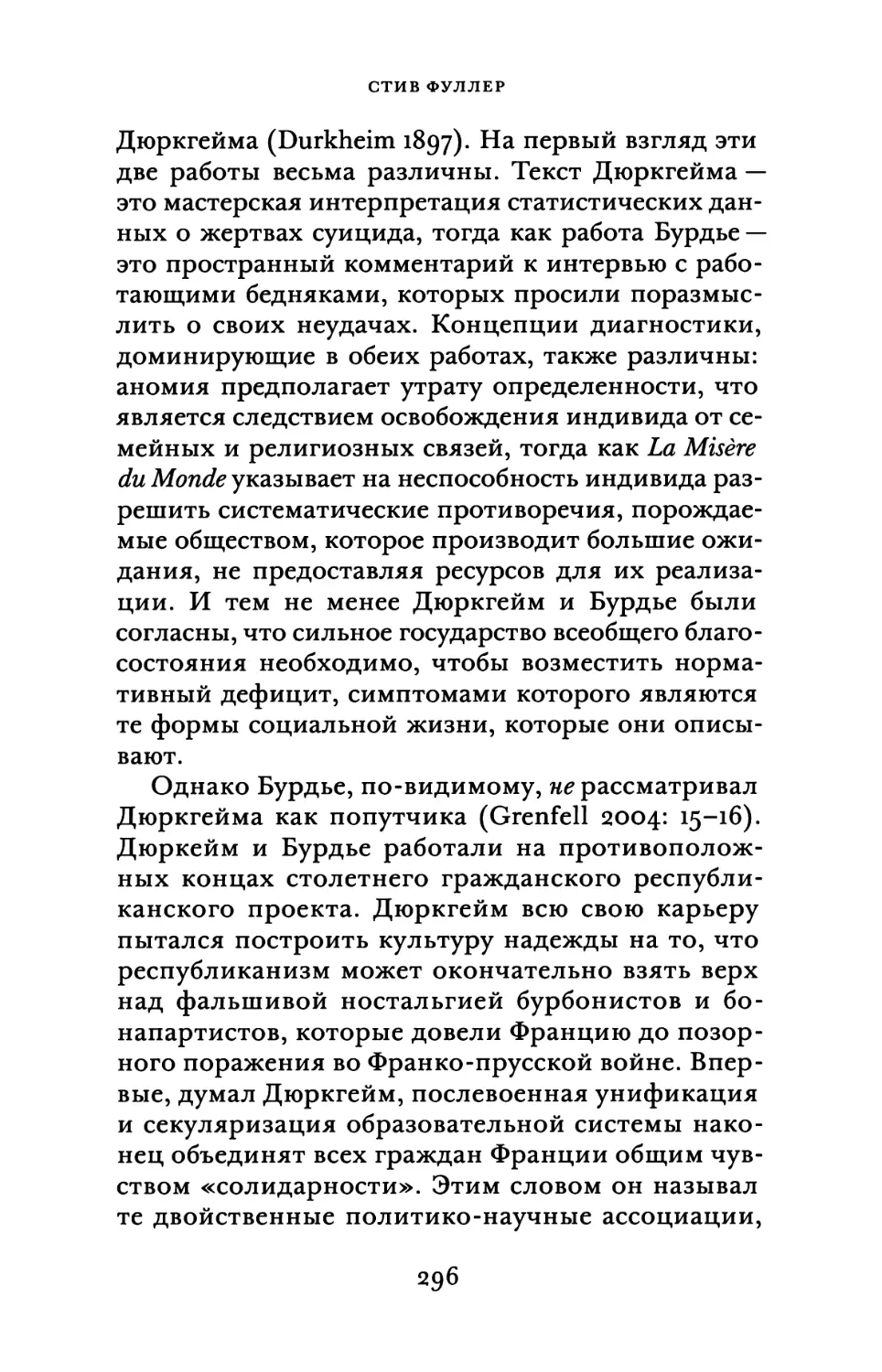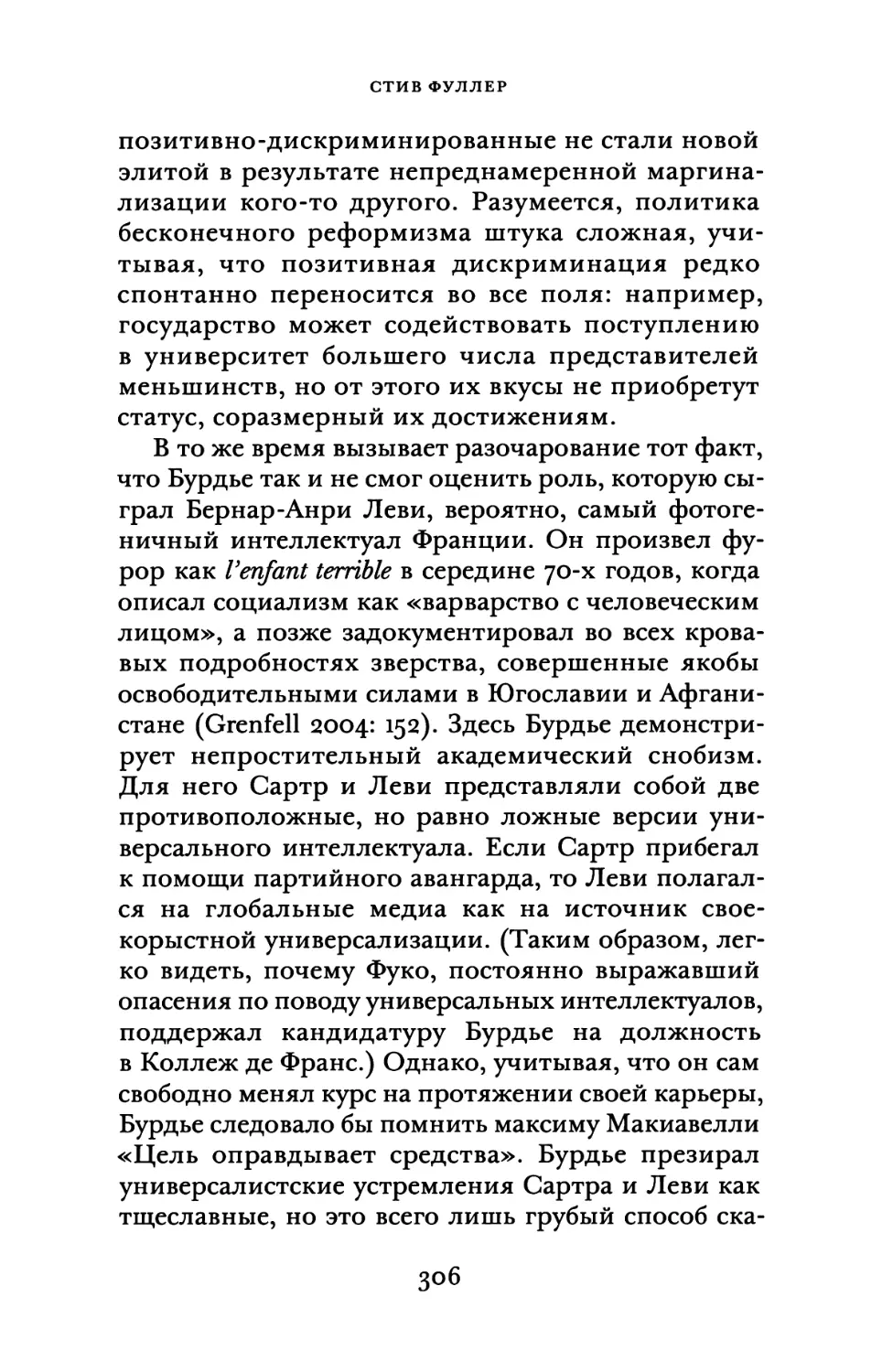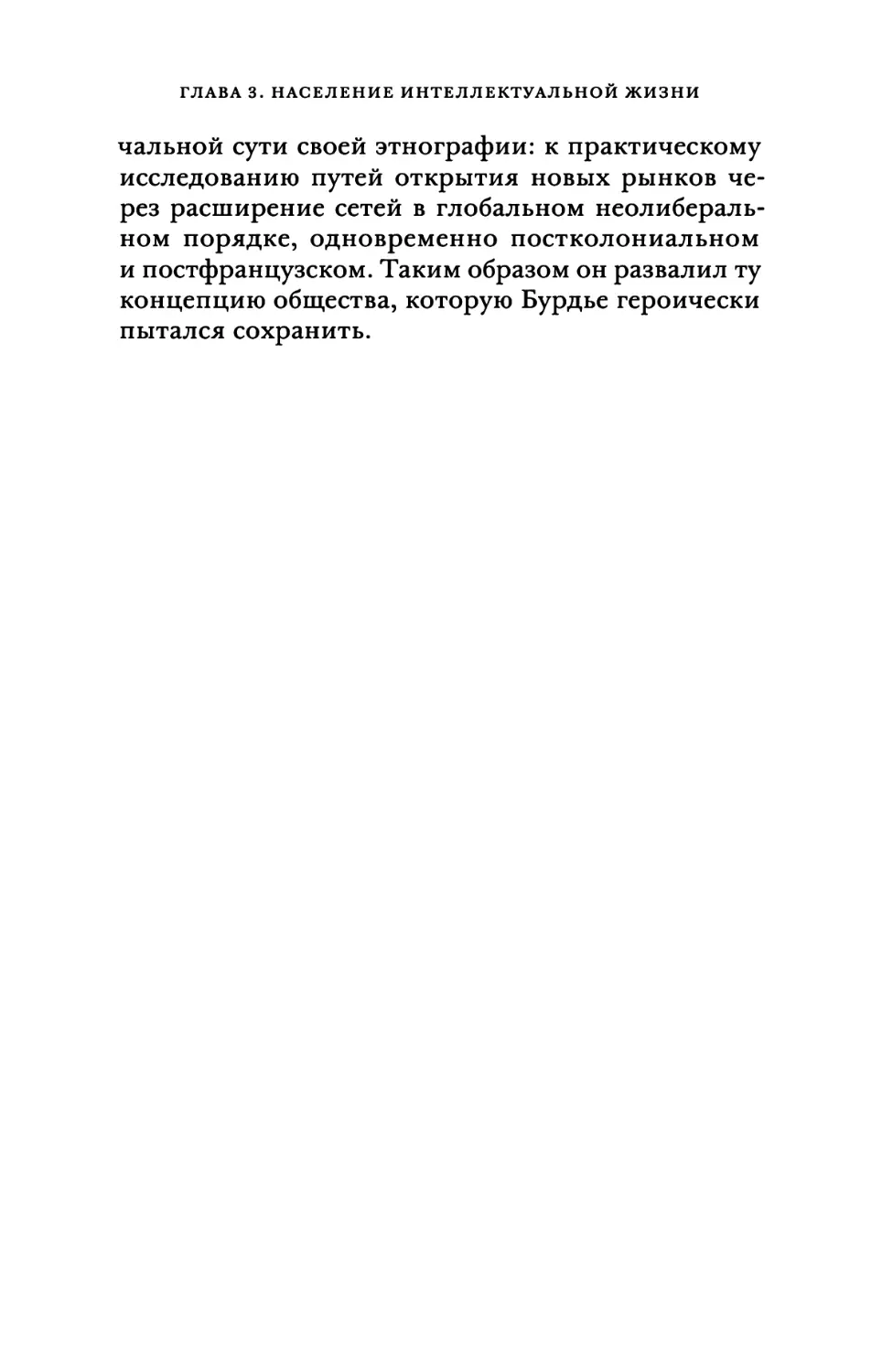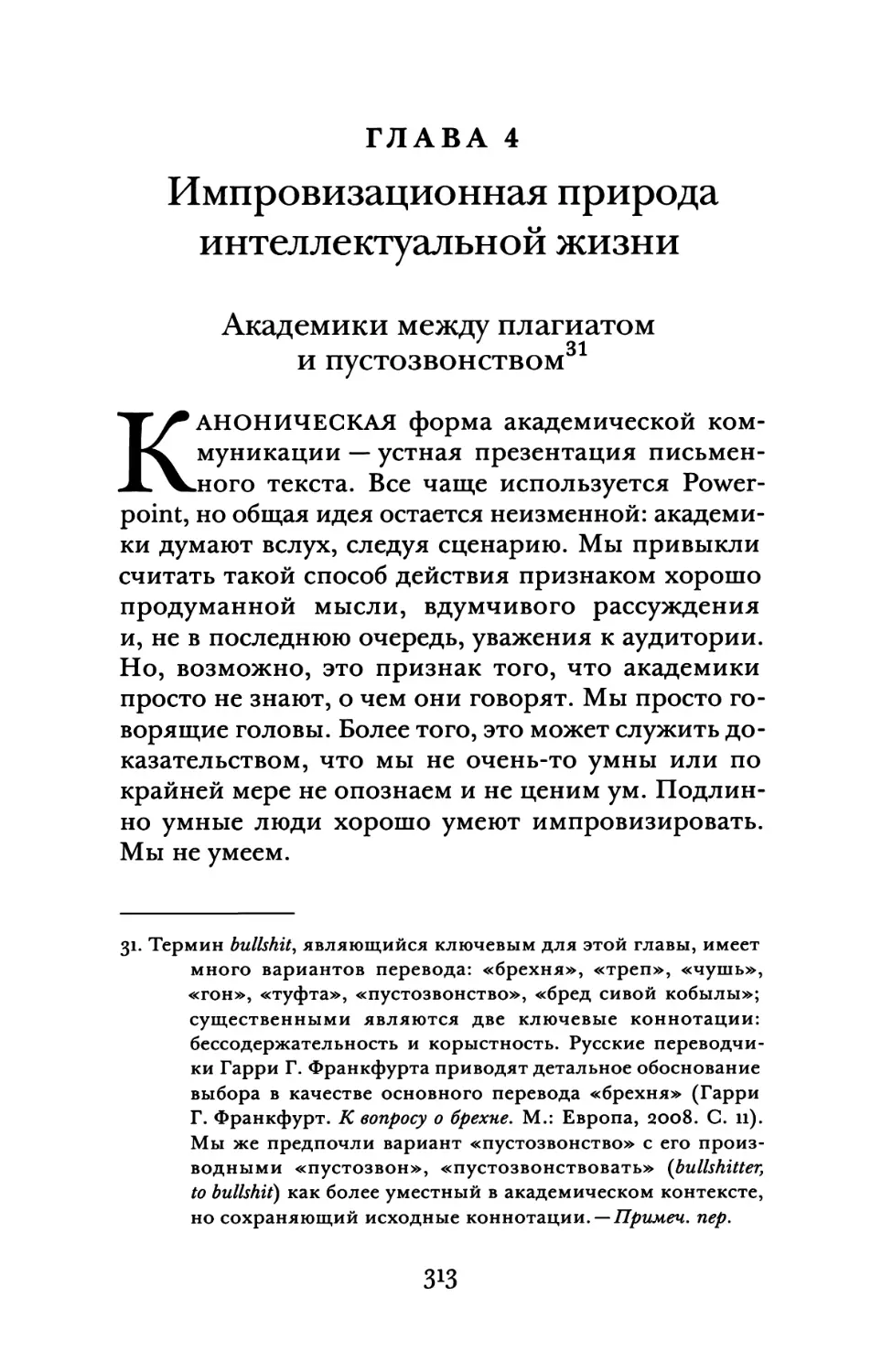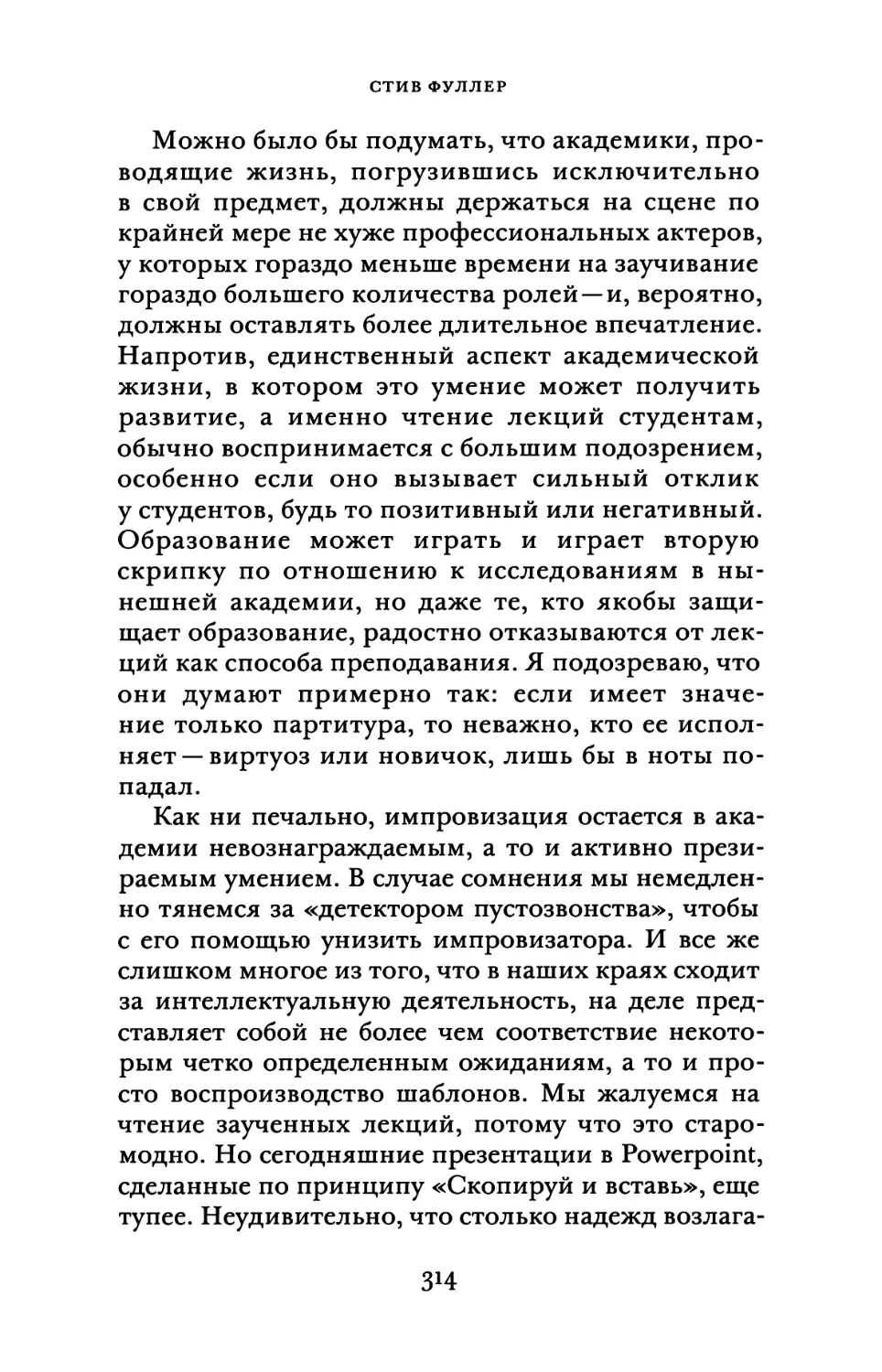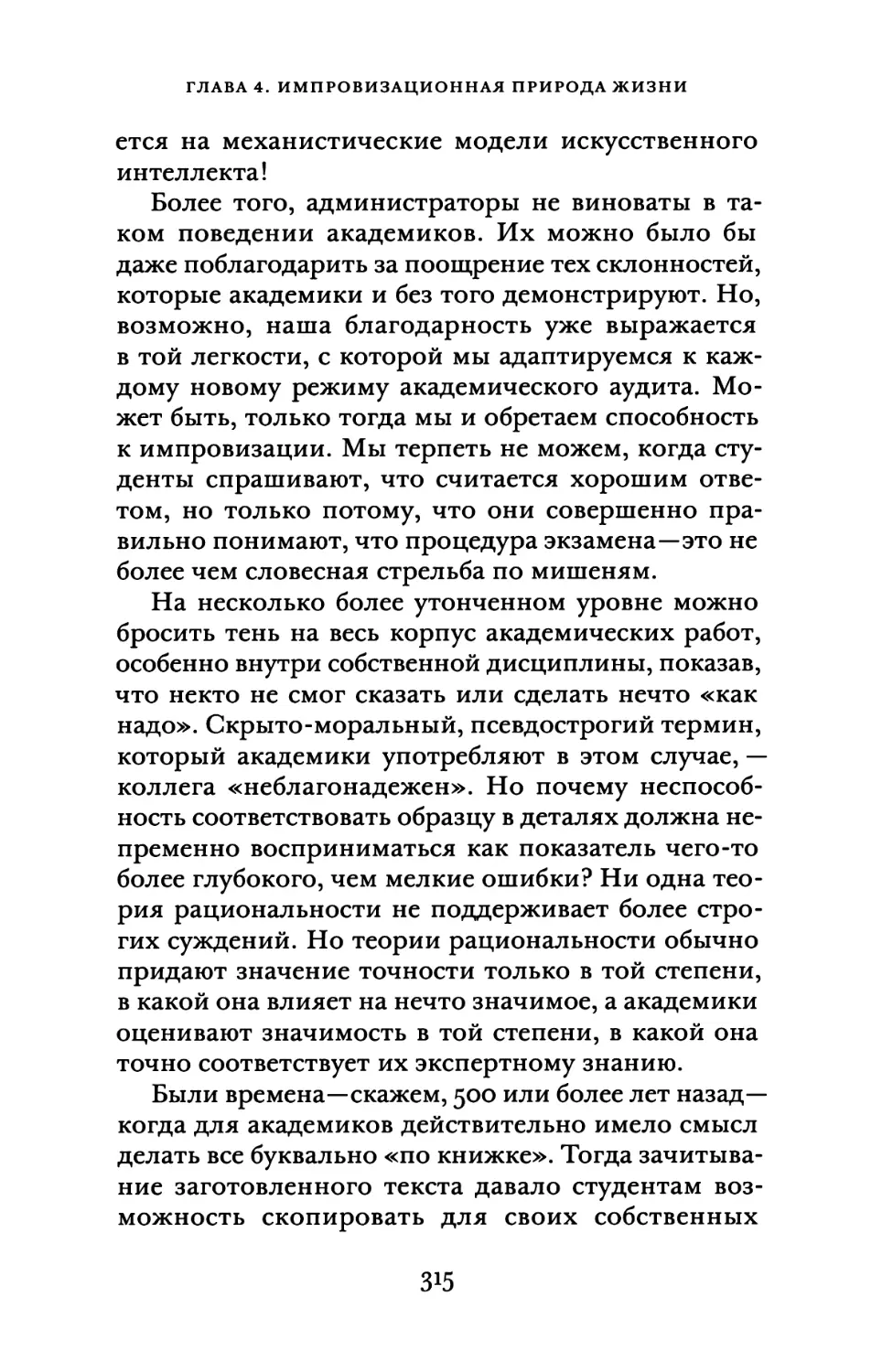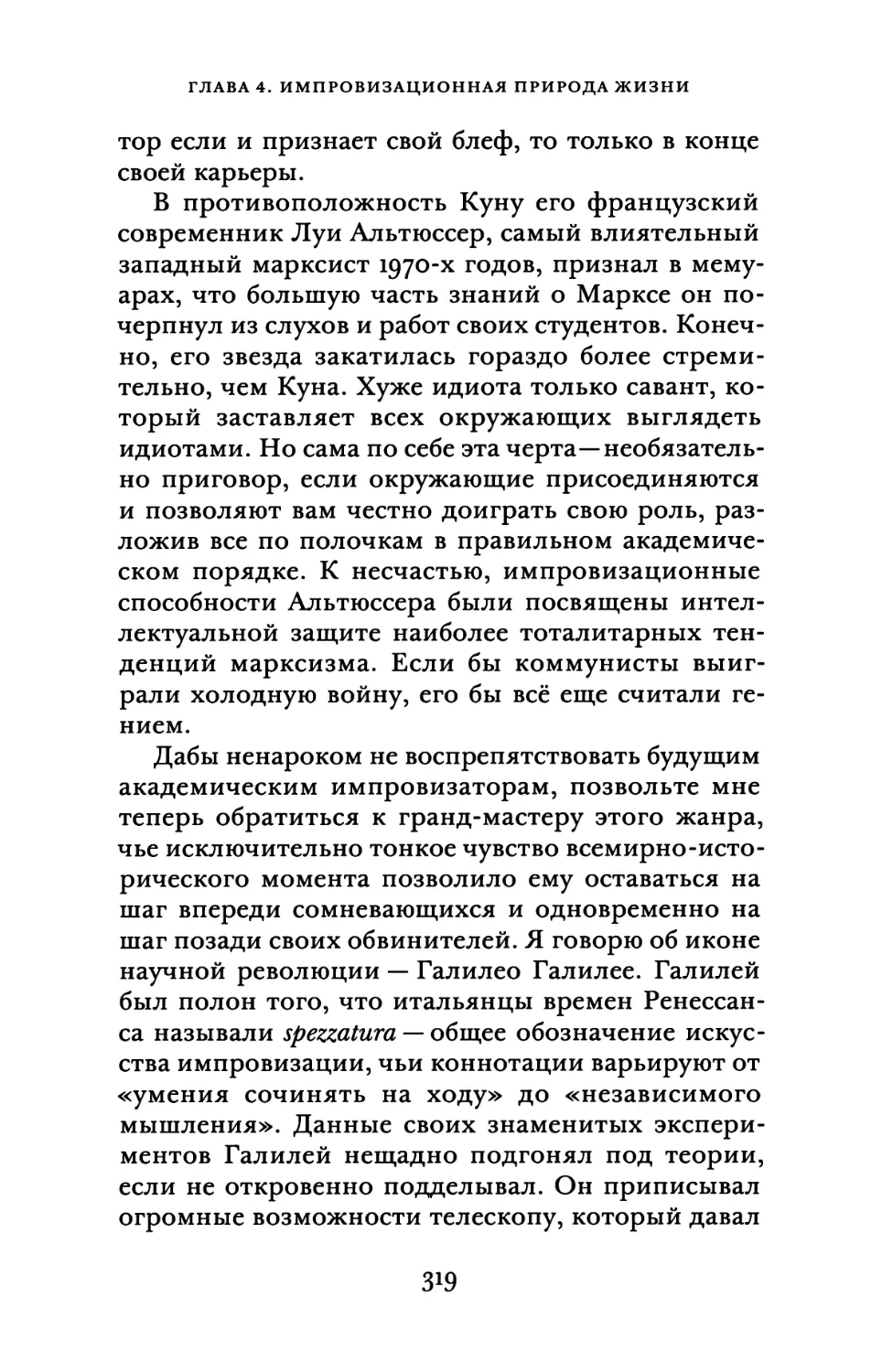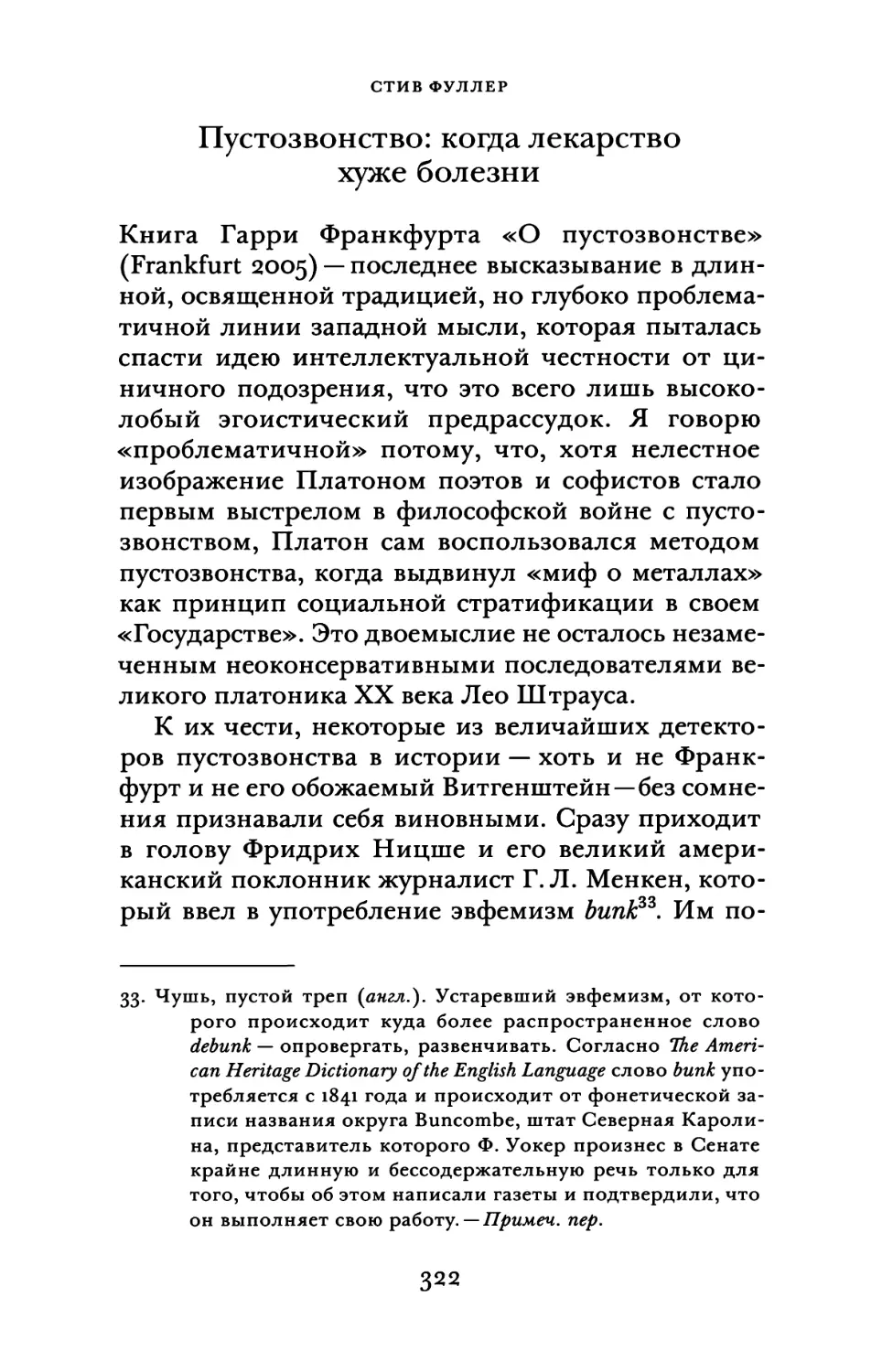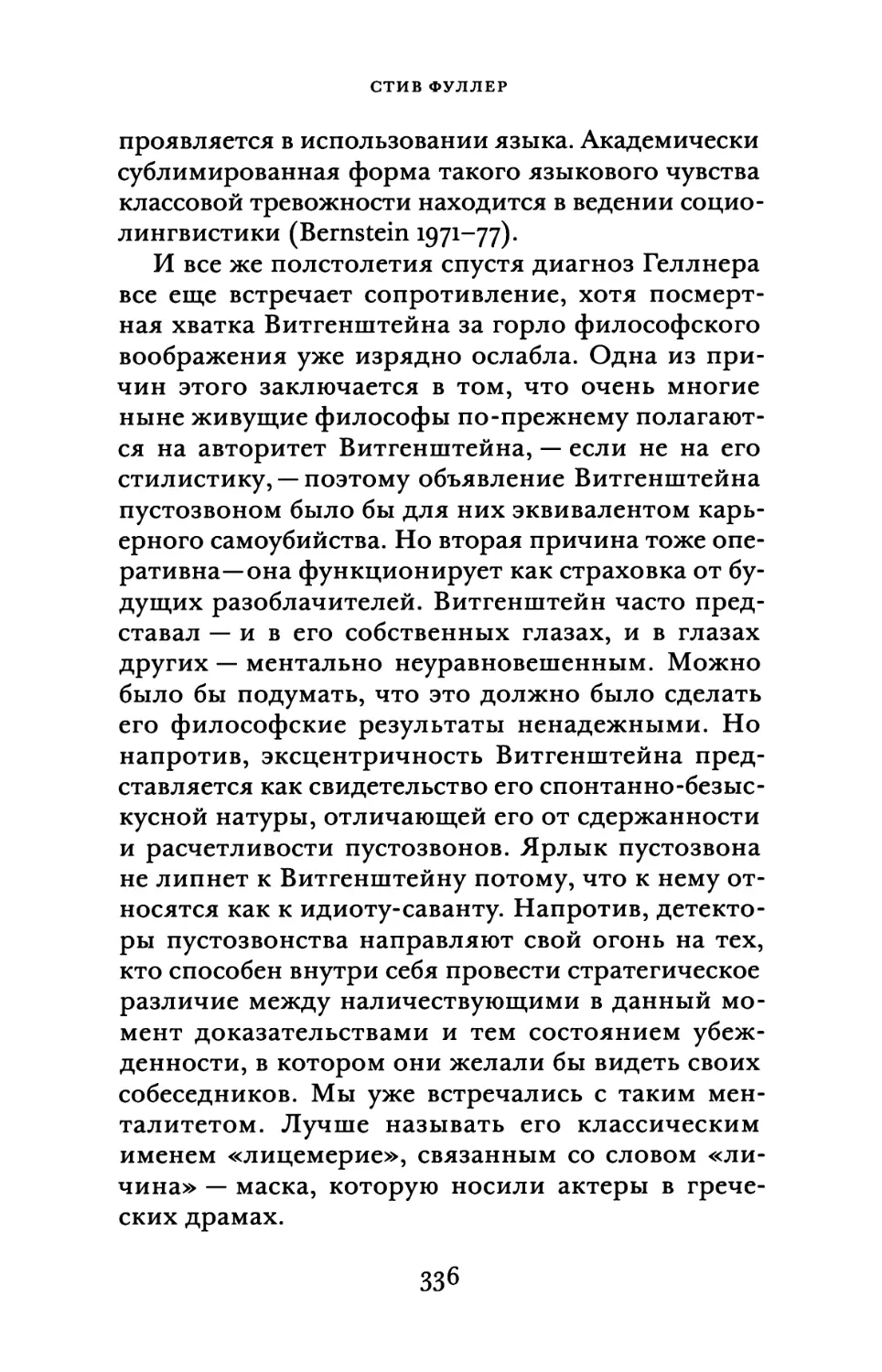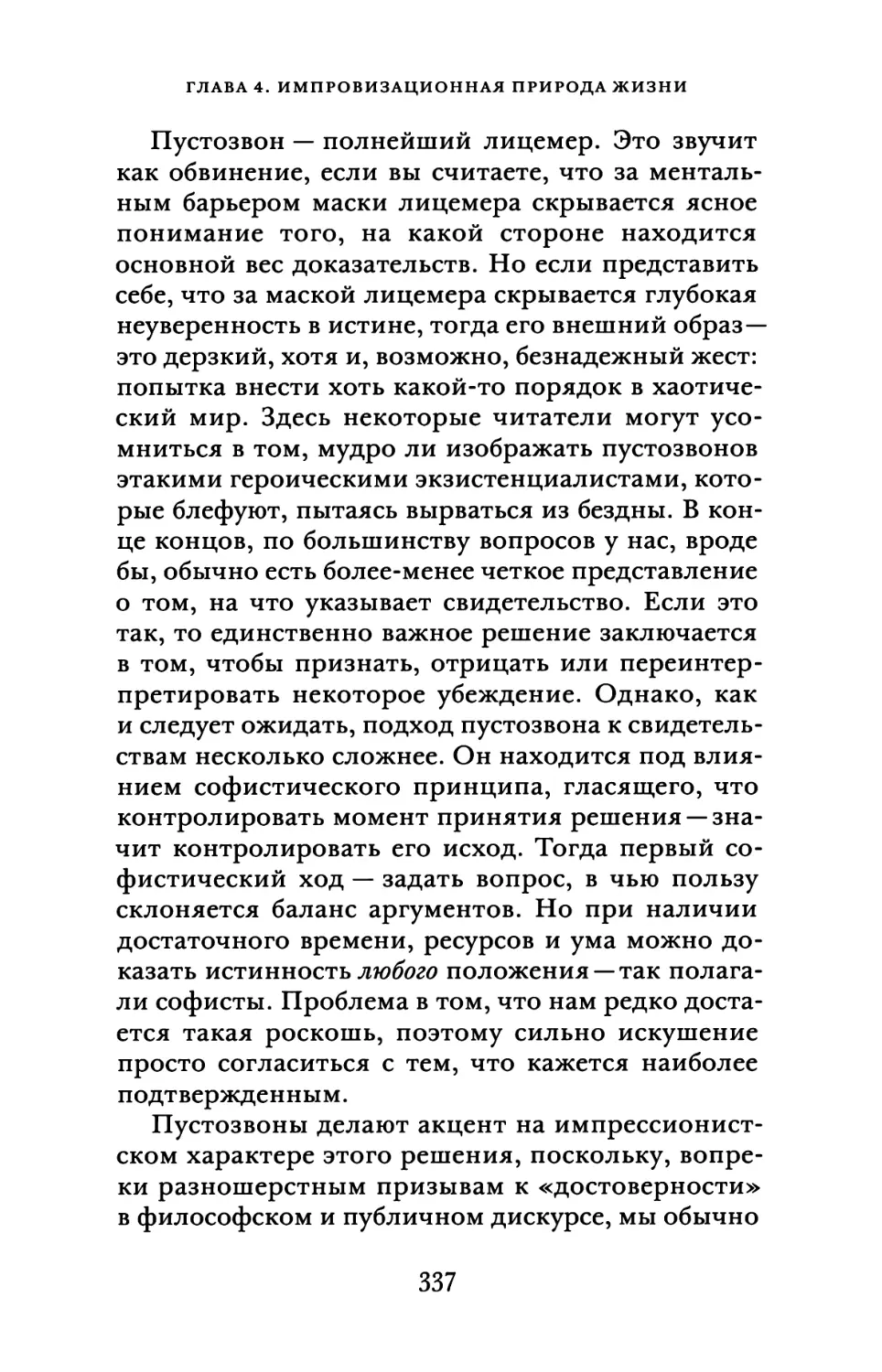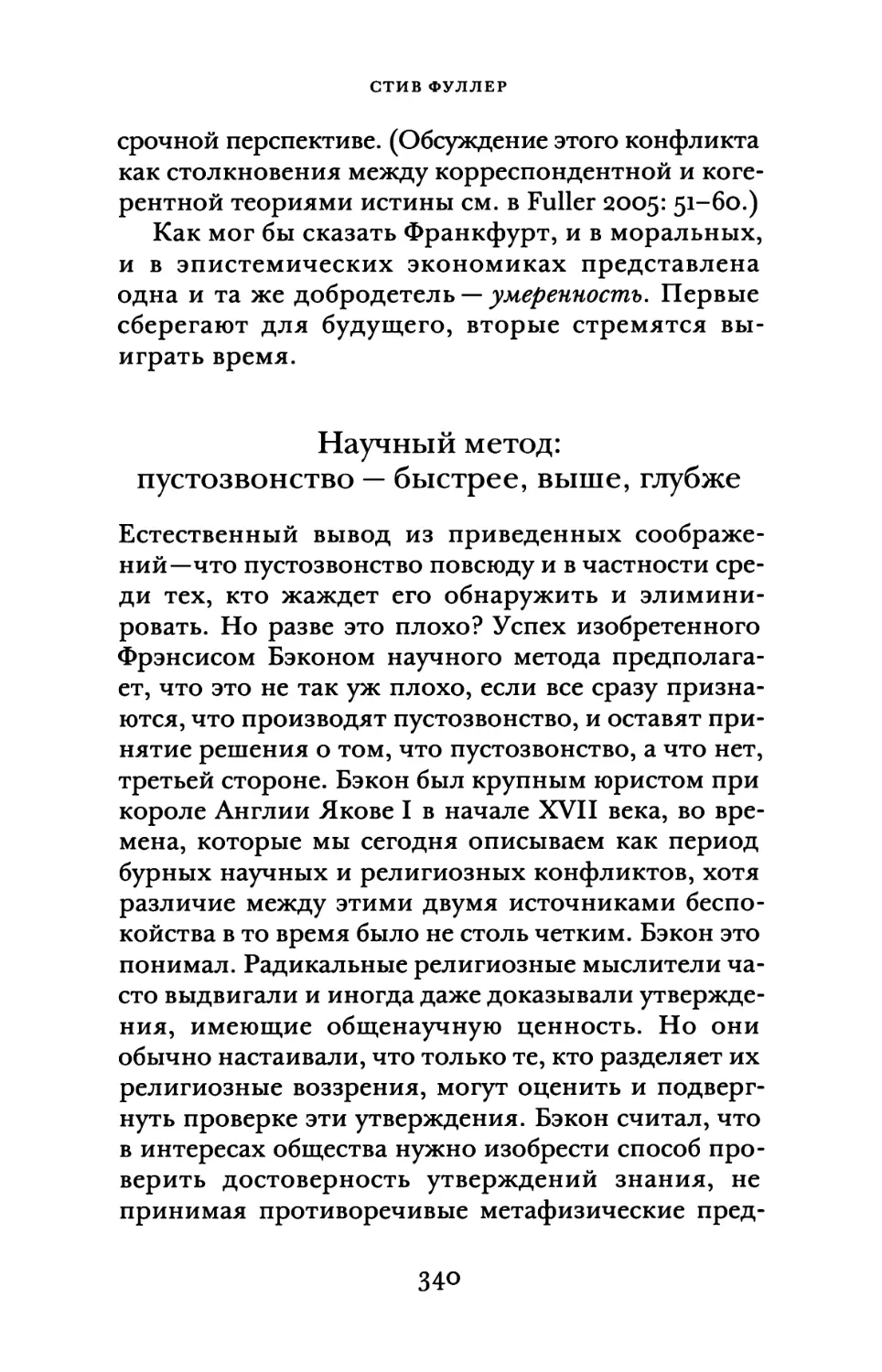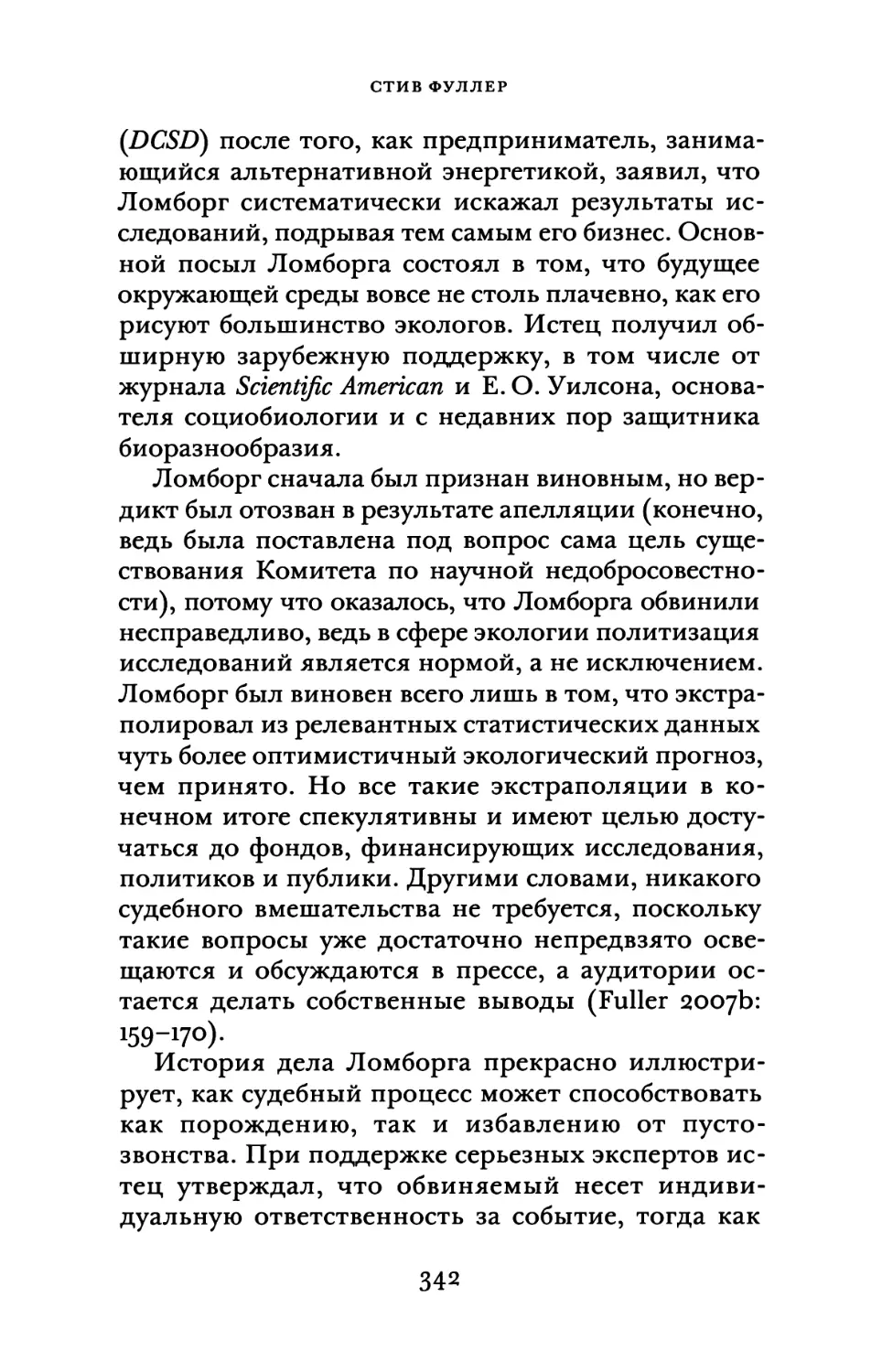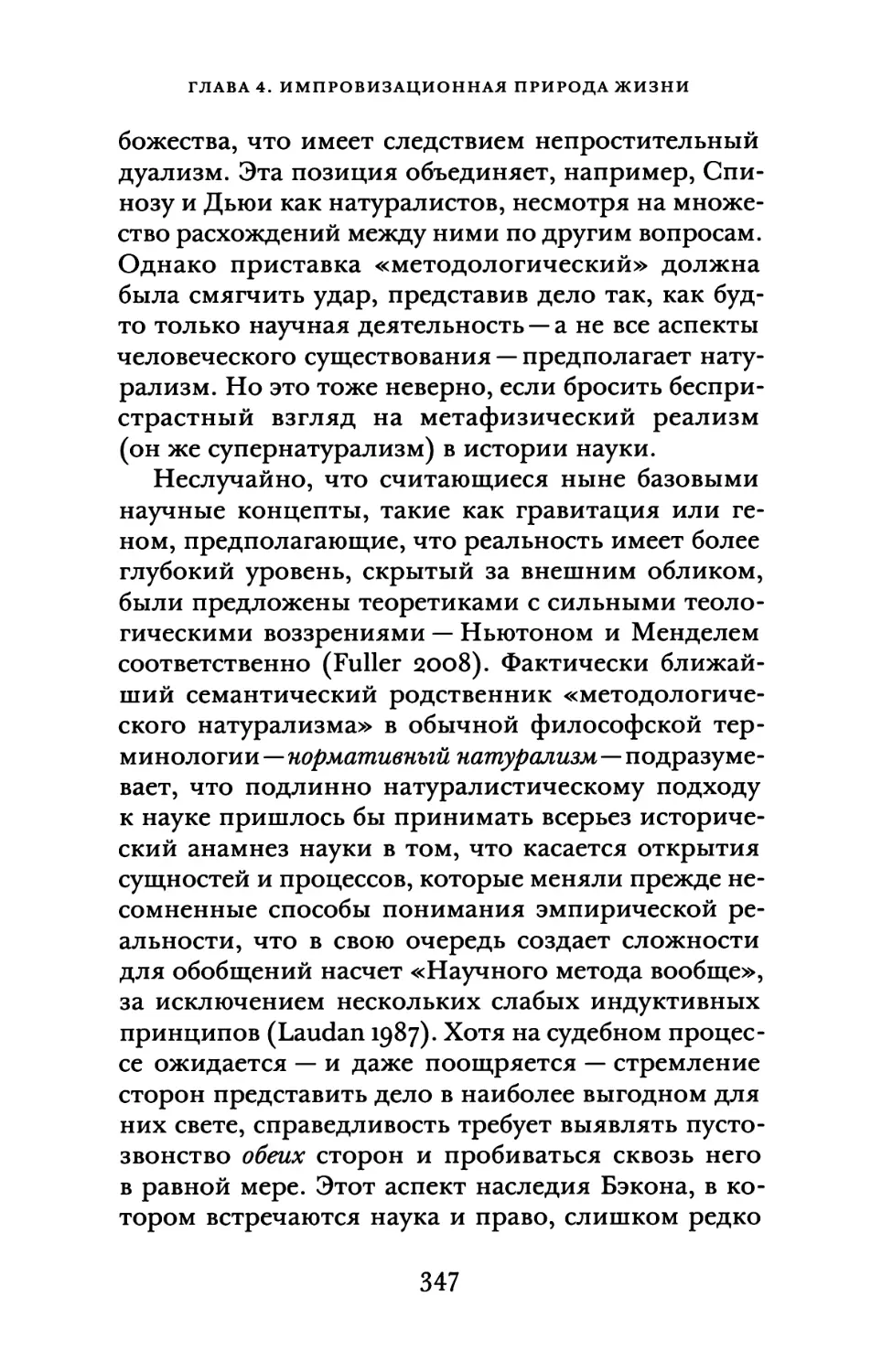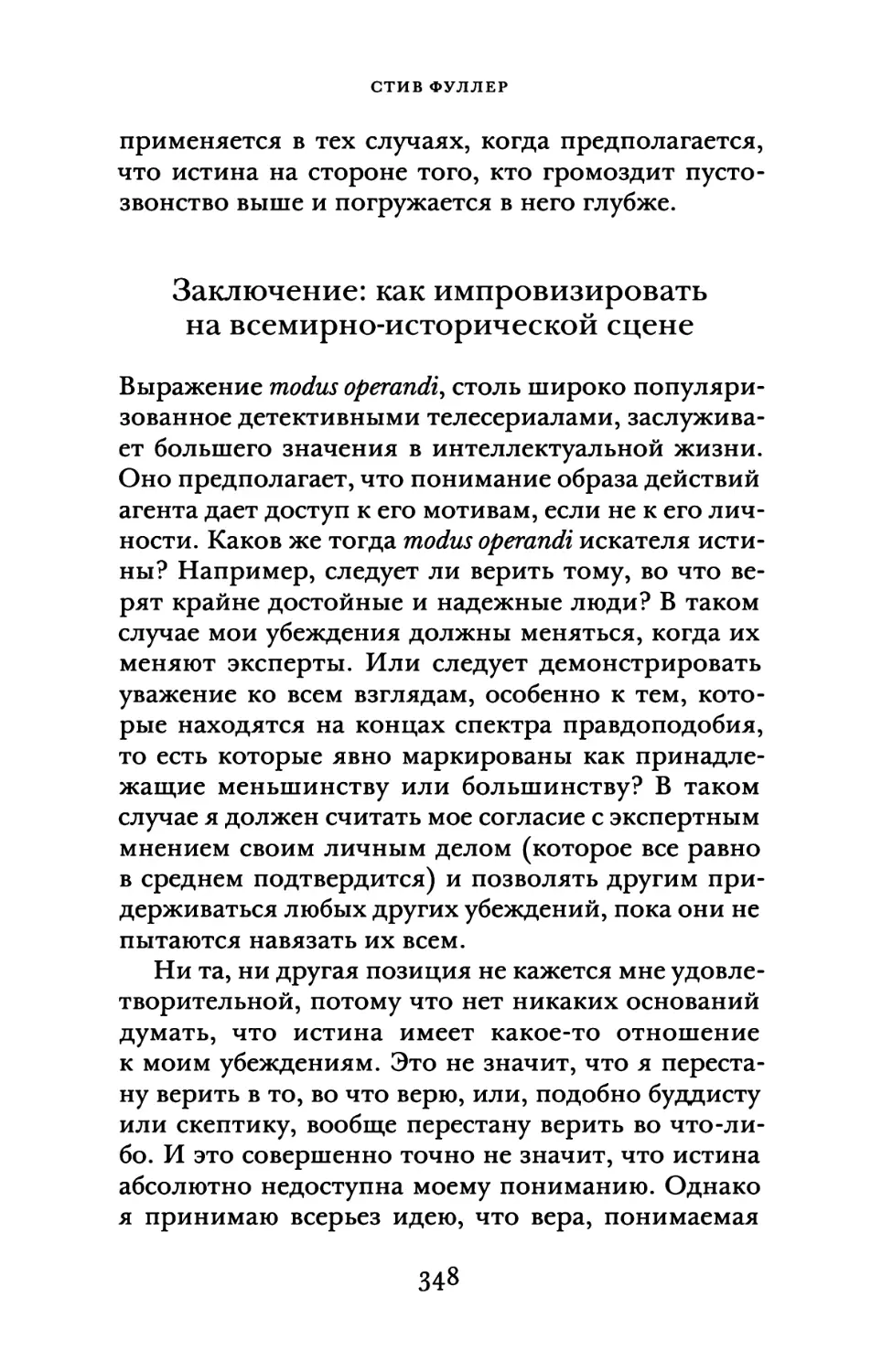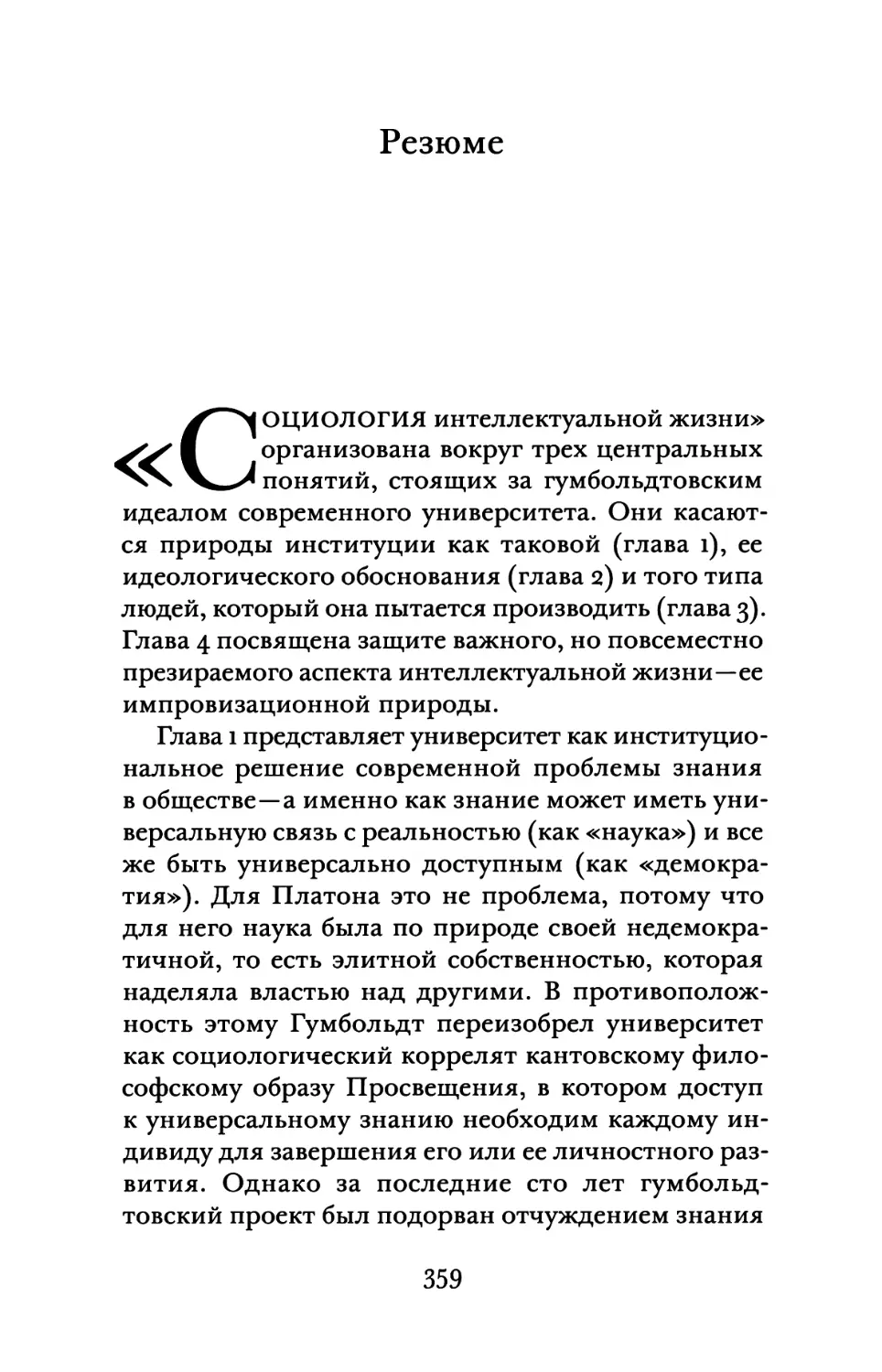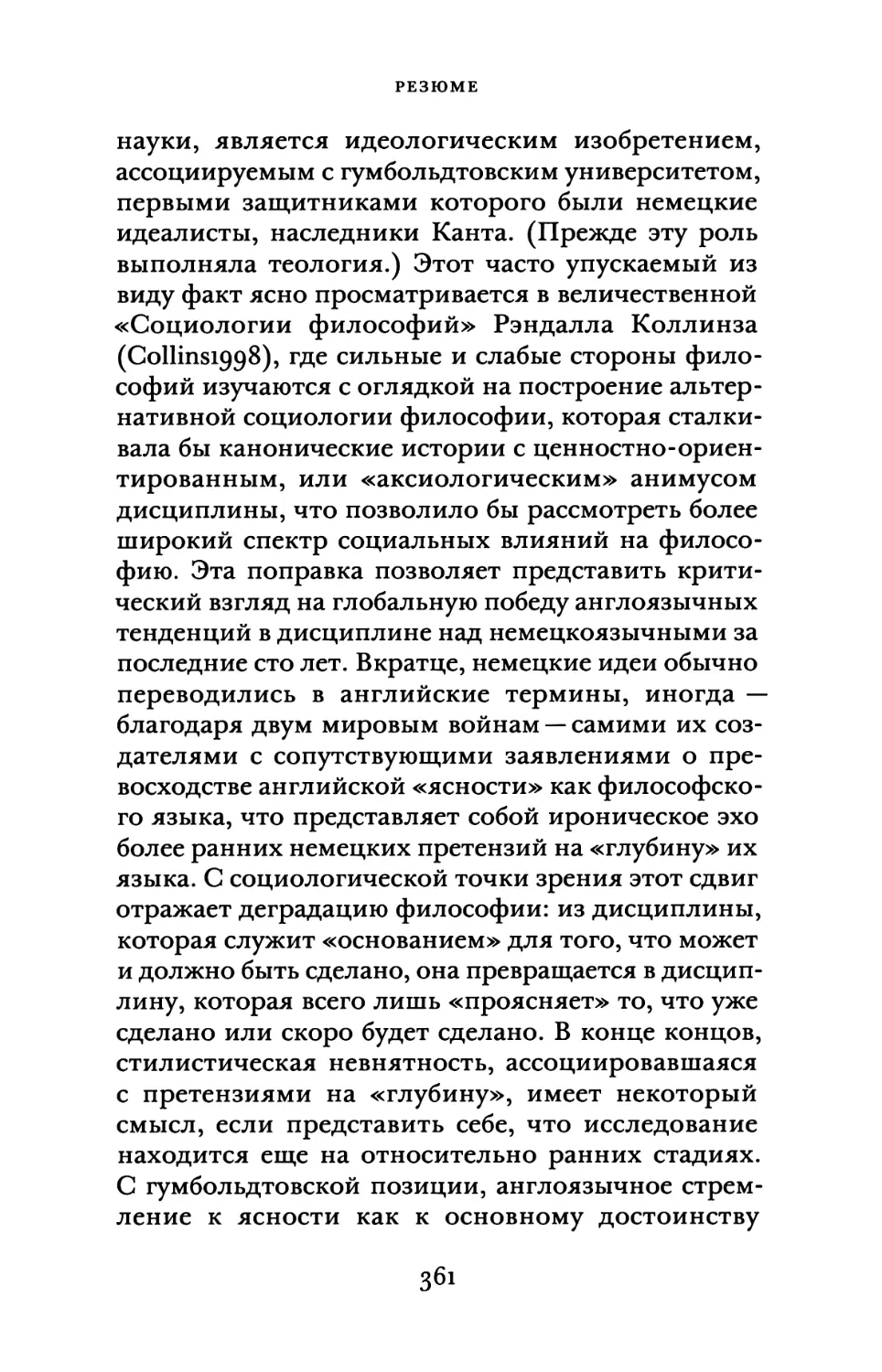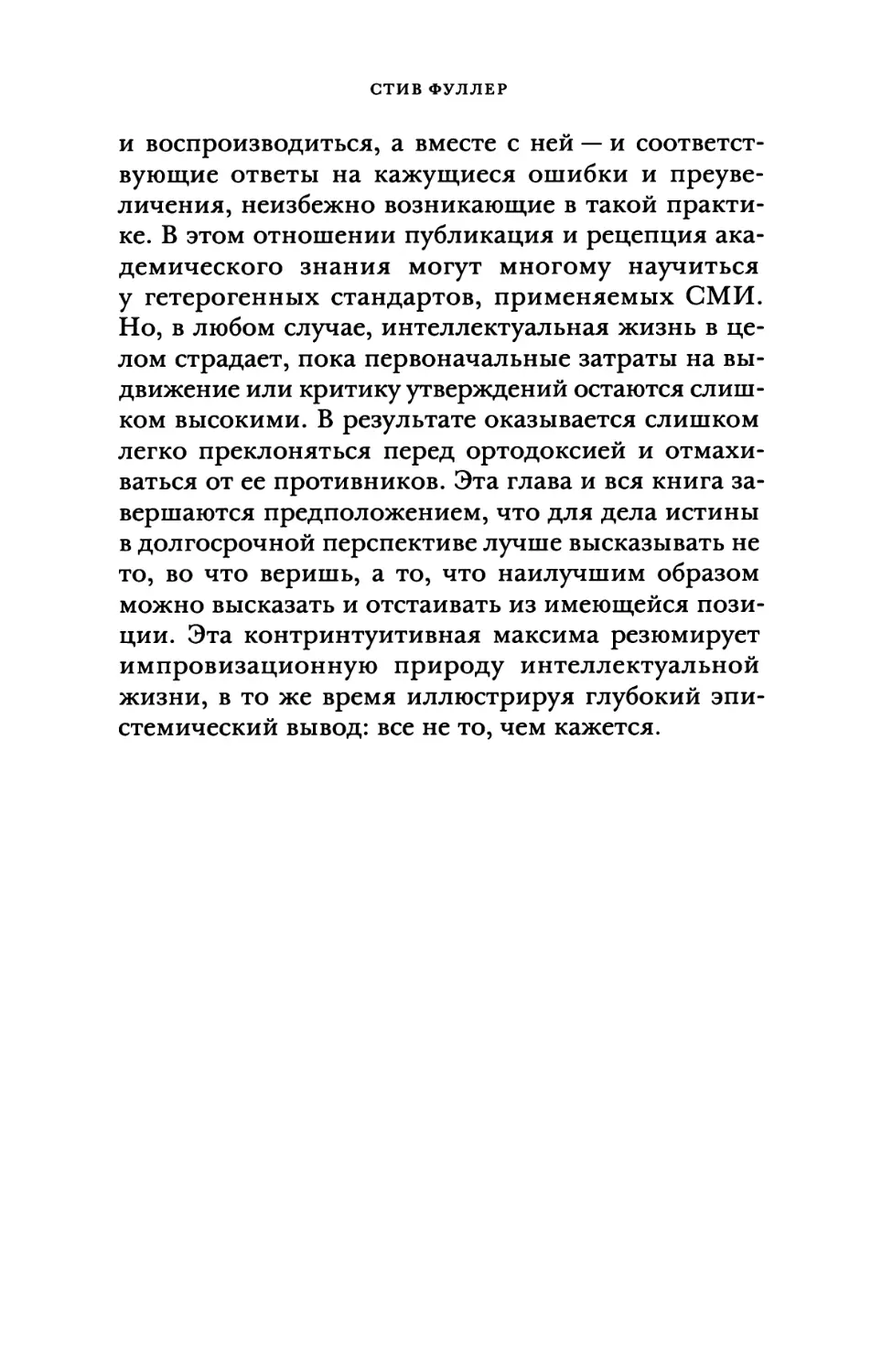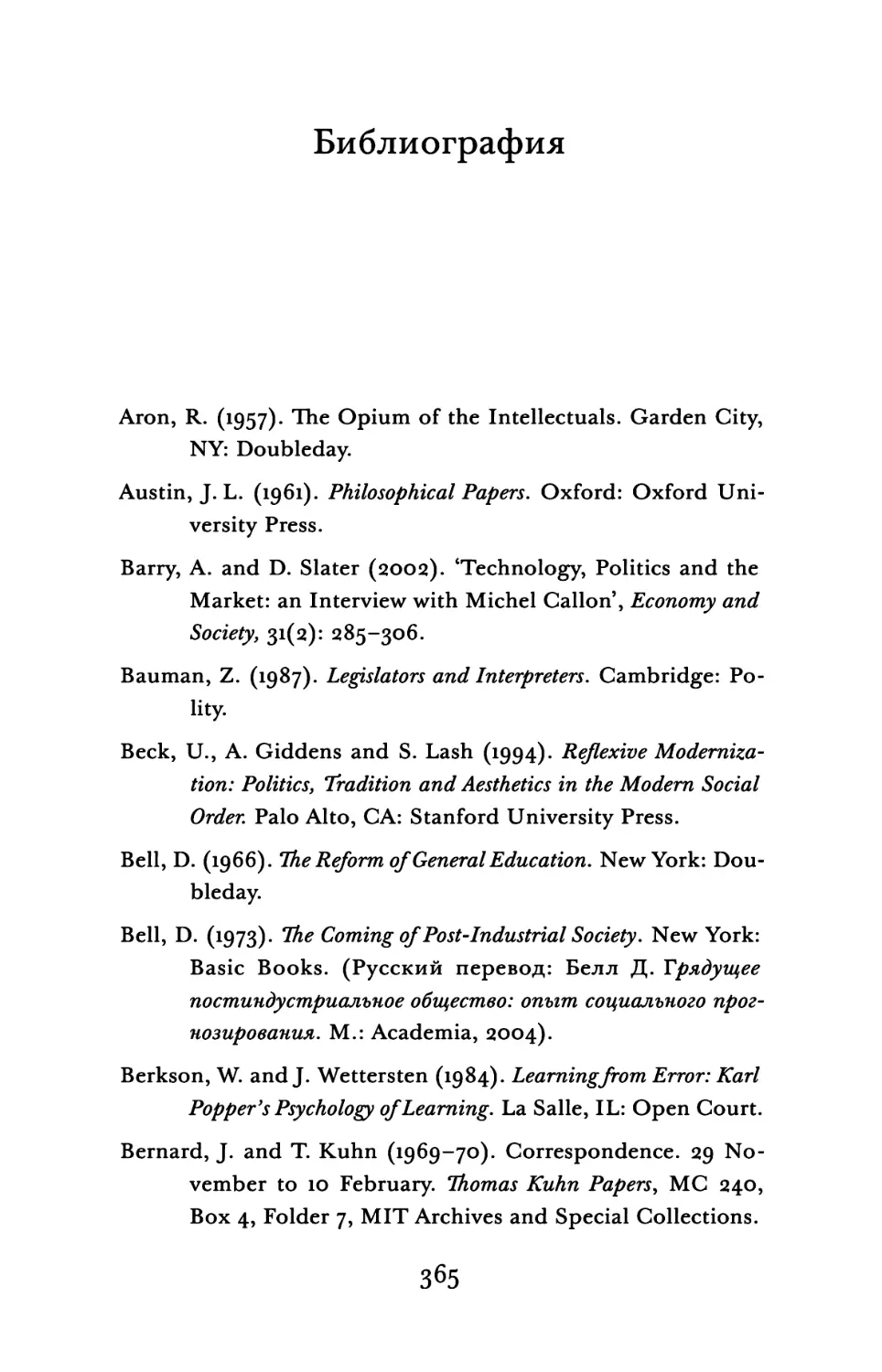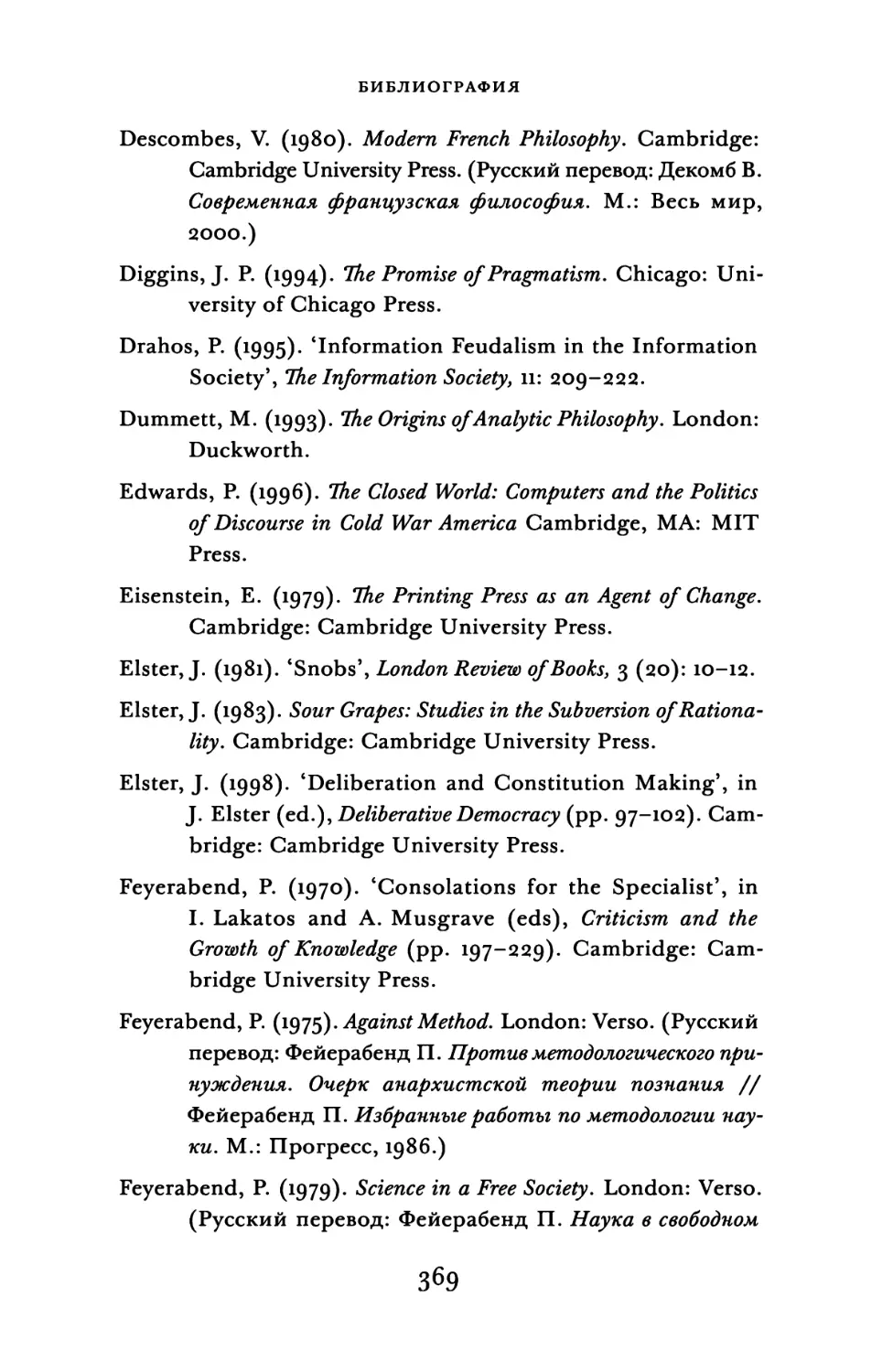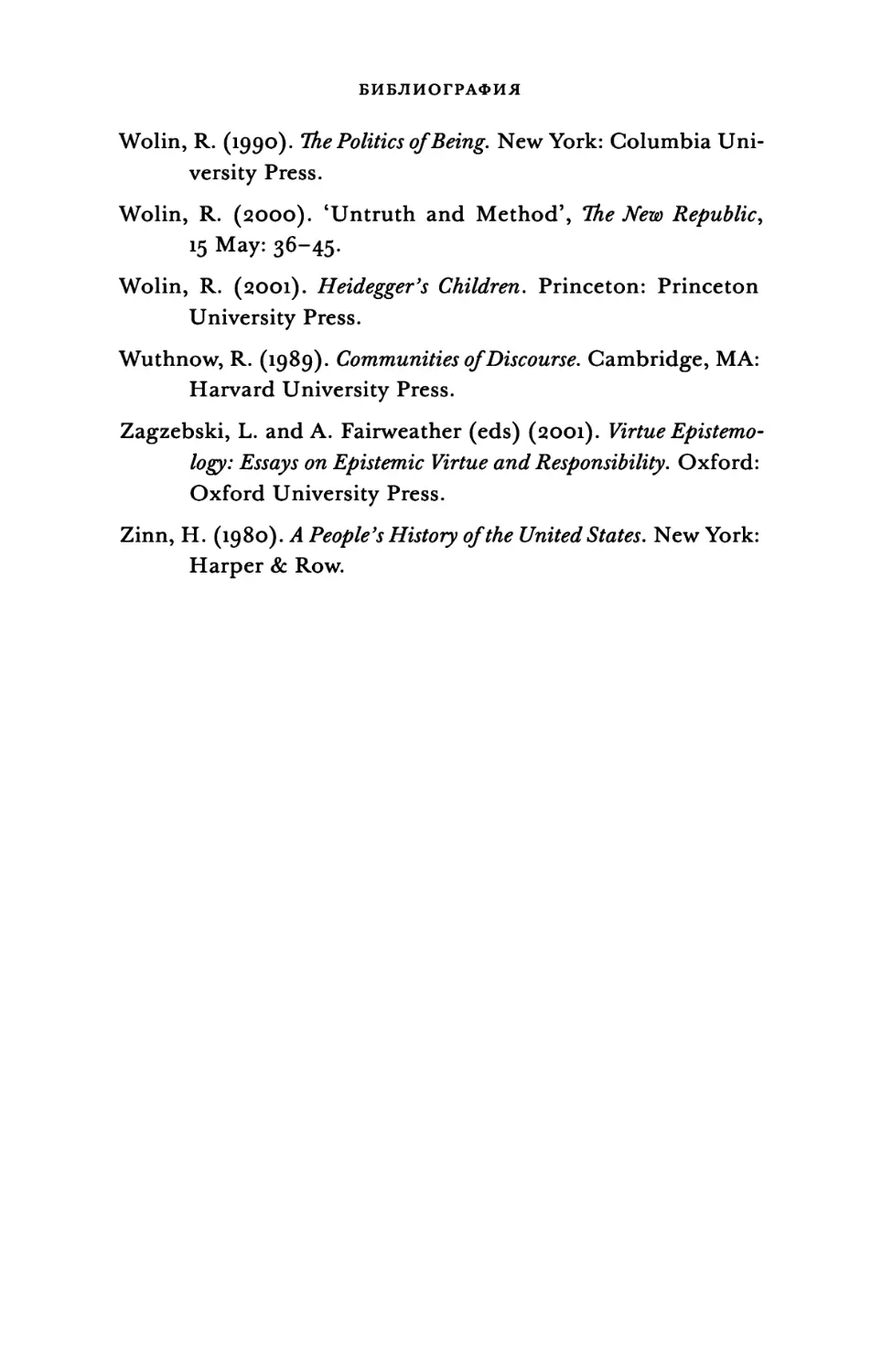Автор: Фуллер С.
Теги: основные элементы и подсистемы общества экономика экономические науки социология социальная философия переводная литература издательство дело
ISBN: 978-5-7749-1281-0
Год: 2018
Текст
*-Ж^
РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Steve Fuller
The Sociology
of Intellectual Life
The Career of the Mind
in and around
the Academy
(DSAGE
Los Angeles — London — New Delhi
Singapore —Washington DC
Стив Фуллер
Социология
интеллектуальной
жизни
Карьера ума внутри
и вне академии
Перевод с английского
Станислава Гавриленко, Артема Морозова
и Полины Хановой
Под научной редакцией
Станислава Гавриленко
I Издательский дом ДЕЛО I
Москва | 2018
УДК 316.332
ББК 65
Ф94
Фуллер, Стив
Ф94 Социология интеллектуальной жизни: карьера ума
внутри и вне академии / Стив Фуллер; пер. с англ.
С. Гавриленко, А. Морозова и П. Хановой; под науч. ред.
С. Гавриленко. — М. : Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2θΐ8.— 384 с.
ISBN 978-5-7749-1281-0
Предлагаемая книга представляет очерк социальной
теории знания XXI века. С характерной тонкостью и живостью
Стив Фуллер исследует мир, в котором университеты и
академическая среда уже не принимаются по умолчанию как
самое лушее место для интеллектуальной жизни. Хотя
автор и защищает привилегии академиков, он очень
серьезно относится к историческим расхождениям между
академиками и интеллектуалами, специально обращаясь к
различным типам производства знания, которые среди них
ценятся.
В этой книге вы найдете разбор проблематичных
отношений между постмодернизмом и университетом как
институцией, критический обзор новых исследовательских
полей социальной эпистемологии и социологии
философии, дискуссию об этике и политике публичной
интеллектуальной жизни, в особенности с учетом ее
импровизационного (или, как называет это сам Фуллер, «пустозвонско-
го») характера.
УДК 316.332
ББК 65
ISBN 978-5-7749-1281-0
The Sociology of Intellectual Life: The Career of the Mind in and
around the Academy
© Steve Fuller 2009
Впервые опубликовано на английском языке в Соединенных
Штатах Америки, Великобритании и Индии в 2009 году.
Настоящий перевод публикуется по соглашению с SAGE
Publications Ltd.
© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», 2θΐ8
Оглавление
Введение · η
Глава ι. Место интеллектуальной жизни:
университет · и
Университет как институциональное решение
проблемы знания · 11
Отчуждаемость знания в нашем
так называемом обществе знаний · 15
Общество знаний как капитализм третьего
порядка· З1
Сможет ли университет выжить в эпоху
менеджмента знаний? · 36
Постмодернизм как антиуниверситетское
движение · 47
Как вернуть университету критическую функцию
через историзацию учебных программ · 64
Affirmative action как стратегия восстановления
баланса между исследованием и преподаванием ·
У академиков все-таки есть душа: возрождение
академической свободы · 83
Глава 2. Состав интеллектуальной жизни:
философия · 99
Эпистемология как «всегда уже» социальная
эпистемология · 99
От социальной эпистемологии к социологии
философии: кодификация профессиональных
предрассудков? · 117
Интерлюдия: начала альтернативной
социологии философии · 134
Пролегомены к критической социологии
англоязычной философии XX века · Ц.О
Амбивалентность аналитической философии
в ее отношении к эмпирическим наукам · 152
Профессионализм как различие между
американской и британской философией · 1Ô2
Заключение: англоязычная философия
как жертва собственного успеха · 173
Глава 3· Население интеллектуальной жизни:
интеллектуалы · 183
Могут ли интеллектуалы выжить,
если академия —не место для шутов? · 183
Как интеллектуалы стали вымирающим видом:
след психологизма · 200
Генеалогия антиинтеллектуализма:
от невидимой руки к социальной заразе · 217
Переопределение интеллектуала в качестве агента
справедливого распределения · 232
Критика интеллектуалов в эпоху прагматической
порабощенности · 248
Пьер Бурдье: академический социолог
как публичный интеллектуал · 294
Глава 4· Импровизационная природа
интеллектуальной жизни · 313
Академики между плагиатом и пустозвонством · 313
Пустозвонство: когда лекарство хуже болезни · 322
Научный метод: пустозвонство — быстрее,
выше, глубже · 34^
Заключение: как импровизировать
на всемирно-исторической сцене · 34&
Резюме · 359
Библиография · 365
Введение
ВОЗМОЖНО, это моя самая
самопрезентационная книга на данный момент: потоки мыслей
и слов, соединяющиеся на этих страницах,
проистекают из моего участия в тех самых ролях,
возможностях и аренах, которые здесь
анализируются. Их суммарный эффект привел мня к
заключению, что образцовую жизнь можно вести, став тем
самым человеком, о котором пишешь в позитивном
ключе. Получается что-то вроде метода действия,
в соответствии с которым автор выполняет функцию
и автора, и исполнителя сценария. Поэтому я
должен поблагодарить не только профессиональных
академических ученых — Стефана Гаттеи, Айвора
Гудсона, Алана Хейворта, Иэна Джарви, Уянга Кан-
га, Дугласа Келлнера, Грегора МакКленнана, Хьюго
Мендеса, Тома Осборна, Рафаэля Сассовера и Нико
Стера —за то, что подтолкнули мои мысли во
многие правильные направления, но еще и множество
персонажей, решительно не принадлежащих к
академии, а также представителей СМИ — Джулиана
Баггини {The Philosopher's Magazine) и Джорджа Рейша
(редактор серии Popular Culture and Philosophy
издательства Open Court Press), Project Syndicate
(международная пресс-организация, связанная с Институтом
Открытого Общества Джорджа Сороса) и журнал
The Times Higher Education (Лондон).
7
СТИВ ФУЛЛЕР
«Социология интеллектуальной жизни»
разделена на четыре главы в соответствии с моей версией
социальной эпистемологии. Социальная
эпистемология — это междисциплинарное поле,
занимающееся эмпирическими и нормативными основаниями
производства и распределения знания. В моем
исполнении она фокусируется в первую очередь на
организационных формах знания, ассоциирующихся
с академическими дисциплинами.
Социально-эпистемологический тезис, который я стремлюсь
доказать в этой книге, можно сформулировать таким
образом, который объясняет деление на главы.
Исторически сложилось, что определенная
институция лучше всего послужила распространению той
формы интеллектуальной свободы, которая стала
двигателем прогрессивной трансформации
общества. Эта институция—университет, особенно на
исходе XIX века, как место «академической свободы»,
теория которой была сформулирована в рамках
философии, понимаемой как основание и
одновременно единство всех специализированных форм
знания. Эта идея была по большей части
изобретением Вильгельма фон Гумбольдта, считавшего, что
он применяет уроки критической философии
Канта, в которой были формализованы многие аспекты
движения Просвещения. Согласно идее
Гумбольдта, чем больше людей получат университетское
образование, тем больше интеллектуальных
полномочий они будут иметь для принятия общественно
значимых решений на публичных демократических
форумах. Поэтому в этой книге три основные
главы, каждая из которых посвящена одной из частей
исходного гумбольдтовского проекта:
университету, философии и интеллектуалам.
Однако план Гумбольдта воплотить в жизнь
полностью не удалось. За последние 200 лет акаде-
8
ВВЕДЕНИЕ
мическая жизнь стала жертвой собственного
успеха. Академия так хорошо готовила людей и ее
исследования стали настолько социально
релевантными, что ей пришлось непрерывно отстаивать
свой дух свободного исследования от
экономических и политических попыток его сдержать. Это
сопротивление часто принимало умышленно анти-
дисцисплинарную позу, свойственную
импровизационным формам выражения, —я имею в виду тот
нечестивый союз плагиата и пустозвонства,
который хитрые академики1 постоянно ловко выдают
за истину. Надеюсь, что после описания бурной
«карьеры ума внутри и вне академии» в основной
части текста читатель в четвертой главе если и не
испытает подлинный катарсис, то хотя бы найдет
шутливое утешение.
ι. «Академики» здесь и далее следует понимать расширительно—
в значении «участники академического сообщества»,
то есть не только члены Академии наук, но и все
институционализированные ученые, исследователи,
университетские преподаватели, лаборанты, аспиранты и даже
студенты. — Примеч. пер.
ГЛАВА 1
Место интеллектуальной жизни:
университет
Университет как институциональное
решение проблемы знания
ПО крайней мере со времен Декарта
проблема знания формулировалась изнутри наружу·,
то есть как проблема, которую каждый
индивид должен решить путем приближения к
некоторому внешнему стандарту, осознанно доступному
или недоступному для индивида. Никто не думал,
что эпистемический доступ может быть редким
благом, что доступ к знанию одного индивида
может помешать, составить конкуренцию или
изменить условия эпистемического доступа для какого-то
другого индивида. Напротив, знание понималось как
то, что экономисты всеобщего благосостояния
называют общественным благом, то есть благом,
ценность которого не уменьшается по мере роста
доступа к нему (Samuelson 1969)· Моя версия
социальной эпистемологии, напротив, ставит проблему
знания снаружи внутрь, то есть в терминах
индивида, который должен выбирать между двумя или
более вариантами действий, будучи осведомленным,
что ресурсы ограниченны и что другие индивиды
в то же время принимают сходные решения,
последствия которых позволят реализовать одни
возможности за счет других. Я назвал это проблемой
эпистемической справедливости (Fuller 2007а: 24-9)·
Она предполагает образ знающего как
«ограниченного рационалиста», занятого «менеджментом
знаний». Эта линия размышления пронизывает все
11
СТИВ ФУЛЛЕР
мои работы по социальной эпистемологии начиная
с моей докторской диссертации (Fuller 1985) и
определенно с (Fuller 1988) и подразумевает, что знание
есть позиционное благо (Hirsch 1997)· Это
утверждение имеет серьезные последствия как для
интерпретации освященного мудростью веков равенства
«знание — сила», так и для устройства
институций—носителей знания, в особенности университетов.
В лозунге «Знание — сила» {Knowledge is power,
Savoir est pouvoir, Wissens ist Kraft), сила, или власть,
подразумевает одновременно и расширение, и
сокращение возможности действовать. Знание должно
расширять возможности действия знающего путем
сокращения возможных действий других. Термин
«другие» может включать в себя как других
знающих, так и не обладающих знанием природные
и искусственные сущности. Это широкое
понимание лозунга объединяет интересы всех, кто его
принял, включая Платона, Бэкона, Конта и Фуко.
Но по-разному расставленные акценты
порождают различия: что важнее—открываемые или
закрываемые возможности действовать? Если первое, то
список знающих, скорее всего, будет ограничен;
если второе, то этот список будет шире. В конце
концов, мое знание дает мне преимущество перед
вами только в том случае, если вам это знание не
принадлежит, то есть если знание является
«позиционным благом». Это понятие также помогает
объяснить несколько шизоидное отношение
к производству и распределению знания, которое
воплощено в устройстве университетов. Вкратце:
мы производим исследования, чтобы расширить
собственную способность действовать, но мы учим,
чтобы дать нашим студентам свободу от действий,
которые были или могут быть предприняты
другими.
12
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
В силу их двойственной роли как
производителей и распространителей знания, университеты
вовлечены в бесконечный цикл создания и
разрушения социального капитала, то есть
сравнительного преимущества, которое группа или сеть
получает в силу коллективной способности действовать на
основе некой формы знания (Stehr 1994)· В качестве
исследователей академики создают социальный
капитал, потому что интеллектуальные инновации
необходимо начинают свой путь как элитарный
продукт, доступный только тем, кто находится
на переднем крае. Однако в качестве учителей они
разрушают социальный капитал, предоставляя
широкой публике доступ к инновациям, таким
образом нивелируя то самое преимущество, которое
изначально принадлежало обитателям переднего
края. Йозеф Шумпетер (Schumpeter 195°)
определил предпринимателя как «творческого
разрушителя» капиталистических рынков; университет
аналогичным образом можно назвать «метапред-
принимательской» институцией, которая
функционирует как тигель для более масштабных
социальных изменений.
Однако если университет рассматривать
отдельно от системного контекста, то его эффекты могут
показаться противоестественными. Яркий пример-
тенденция к девальвации дипломов по мере того,
как их получает больше людей. Тот факт, что
степень бакалавра или даже магистра уже не дает тех
преимуществ на рынке труда, как в прошлом,
иногда объясняют снижением качества
университетского образования или бесполезностью
академического знания по сравнению с профессиональным
обучением. Однако потеря преимуществ, скорее всего,
является прямым результатом того, что на рынок
труда выходит больше претендентов, обладающих
13
СТИВ ФУЛЛЕР
соответствующим образованием, поэтому одной
только степени недостаточно, чтобы предпочесть
одного кандидата другому. В данном случае знание
утратило свою былую силу. Естественная реакция
академии на это — провести больше исследований,
чтобы либо более эффективно проводить различия
между обладателями имеющихся степеней, либо
вводить новые, более высокие степени, которые
потребуют обучения новым знаниям, в сизифовой
погоне за знаками отличия (Collins 1979)· Более того,
эта стратегия работает и внутри самой академии:
сейчас степень PhD является обязательным
требованием для того, чтобы занять любую постоянную
преподавательскую должность, хотя отбор
кандидатов на PhD по-прежнему проводится на
основании их исследовательского потенциала, и их
обучение рассчитано на исследовательскую карьеру.
Несмотря на то что исследования всегда были
элитарным родом занятий, близость — а в идеале
совпадение в одном лице —исследователя и
преподавателя в университетах всегда имела тенденцию
к разрушению, какими бы изначальными
преимущества ни пользовались создатели и основатели
нового знания. Идеал, управляющий этим циклом
творческого разрушения, обрел свое наиболее
четкое философское обоснование, когда Вильгельм
фон Гумбольдт переизобрел университет в
Германии в начале XIX века. Это было стремлением
к форме знания, которое является
«универсальным» как по потенциальным применениям, так
и по потенциальному доступу к его применениям.
За последнее столетие этот идеал был перекован
и поставлен на службу двойной функции
государства всеобщего благосостояния — поддержка
капиталистического производства (исследования) и
перераспределение его излишков (обучение). Неуди-
Н
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
вительно, что в течение этого периода университеты
наращивали свои размеры и значимость, но в
последнее время развал социального государства
привел их в состояние финансовой и, шире,
институциональной нестабильности (Krause 1996)· Тренд
последнего времени — стремление превратить
университеты в подобие коммерческих фирм по
производству интеллектуальной собственности —
оказывается ничем иным, как кампанией по
последовательному расчленению институции: исследовательская
функция университета отделяется от
образовательной. В результате мы видим возникновение
квазичастных «научных парков», чьи коммерчески
успешные, но рискованные проекты грозят
остановить нормальный поток знания и создать
основанную на доступе к знанию классовую структуру,
которую в наши дни порой называют информационным
феодализмом. Все последствия этого феномена
рассматриваются в следующем разделе. Далее я
объясняю это как проявление капитализма третьего
порядка, пытающегося парадоксальным образом
воспроизвести внутри капитализма тот самый тип
социальной структуры, который капитализм был
призван уничтожить.
Отчуждаемость знания в нашем
так называемом обществе знаний
Если задуматься, общество знаний [knowledge
society]—очень странный ярлык для того, что,
предположительно, является отличительной чертой
нашего времени. Для любого, кто не испорчен
социальной теорией, должно быть совершенно
очевидно, что знание всегда играло важную роль в
организации и развитии общества. По-настоящему
15
СТИВ ФУЛЛЕР
новым является то, что выражение «общество
знаний» призвано скрыть. Это легко увидеть,
если рассмотреть другие слова, обитающие в той
же семантической вселенной, что и «знание»
в дискурсе общества знания: экспертиза,
квалификация, интеллектуальная собственность — вот те
вещи, которыми жители общества знаний могут
владеть или стремятся овладеть. Эти три слова
перечислены в порядке возрастания
отчуждаемости. Начнем с наименее отчуждаемого —
экспертизы.
Мое экспертное знание принадлежит мне таким
образом, что его невозможно строго отделить от
других аспектов моей личности. Эта
относительная неотчуждаемость экспертного знания делает
его менее податливым классическим философским
теориям знания — оно скорее требует того, что
я называю флогистонологией, в честь многоликой
химической субстанции XVIII века — флогистона,
свойства которого описывались исключительно
в терминах того, что остается после эксперимента
с горением, когда все остальные известные
факторы были элиминированы или учтены.
Определяющий момент Великой химической революции
наступил тогда, когда Лавуазье понял, что под
именем «флогистон» химики имели дело иногда
с кислородом, а иногда с азотом, в зависимости от
условий горения. По аналогии «экспертное
знание», скорее всего, отсылает не к некому
уникальному свойству ума, а к набору разнообразных
поведенческих диспозиций, которые объединяет
между собой только то, что они сбивают нас
с толку.
Более конкретно, экспертиза имеет
флогистонный характер в следующих смыслах (адаптировано
из Fuller 1996):
16
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
(ι) Экспертное знание несводимо к формальной
процедуре или к набору поведенческих
индикаторов, хотя те, кто обладает экспертным
знанием, могут делать подходящие
социально-эпистемологические суждения в условиях реальной
жизни.
(2) Одно и то же действие может быть сочтено или
не сочтено проявлением экспертного знания
в зависимости от социального статуса агента
(например, ошибка новичка может быть
сочтена инновацией в случае опытного специалиста).
(3) Почти нет прямых свидетельств наличия
экспертного знания. Оно скорее «предполагается»
в случае отсутствия сбоев в повседневной
деятельности.
(4) Экспертное знание выступает объяснением по
умолчанию для базовой компетенции в тех
случаях, когда мнения и действия субъекта
оказываются под вопросом (то есть тот факт, что вы
не согласны со мной по данному конкретному
вопросу, не приводит вас к выводу, что я
некомпетентен в целом).
(5) Отрицание чьего-либо экспертного статуса
воспринимается не только как социальное или
эпистемическое, но и как моральное суждение,
таким образом вызывая обвинение не просто
в критической позиции, но в предубежденности
и непонимании обсуждаемого индивида.
Экспертное знание можно разместить в
континууме отчуждаемости, естественно ведущем к
квалификациям и интеллектуальной собственности,
при помощи идиомы дискурса общества знания,
гласящей, что экспертное знание может быть
«приобретено». Это особенное свойство
сформулировано выше в пункте (2). Это значит, что, если
!7
СТИВ ФУЛЛЕР
я продемонстрирую, что я прошел через
определенный режим, это придает моим действиям
намного большую значимость, чем ту, которую они
имели бы в противном случае. Чтобы осознать
флогистонный характер этого процесса, обратите
внимание, что действия сами по себе, как
фрагменты поведения, могут почти не измениться после
применения режима. Меняется только контекст,
а вместе с ним спектр реакций, которые возникают
в ответ на эти действия. Эта проблема была
выведена на метафизический уровень на самой заре
общества знаний в форме «теста Тьюринга»,
гипотезы о том, что рано или поздно станет невозможно
отличить без прямого указания высказывание
машины от высказывания человека. Зная, что некое
высказывание было произнесено bona fide живым
человеком, а не искусственным интеллектом
машины, позволяет приписать первому почти
бездонные семантические глубины, а второе
редуцировать до поверхностного запрограммированного
ответа (Fuller 2002а: eh. 3).
Однако нам необязательно углубляться в
проблему различения человеческого и машинного, чтобы
продемонстрировать тезис. Студенты обычно (и,
возможно, вполне справедливо) отказываются
понимать, почему они не могут безнаказанно
высказывать в своих работах радикальные идеи,
содержащиеся в тех текстах, которые им задают читать.
Готовый ответ состоит в том, что заданные авторы
могут обосновать свои радикальные утверждения,
тогда как студенты не смогли бы обосновать
собственные версии этих же утверждений. Конечно,
мы, преподаватели, редко, если вообще когда-либо,
даем себе труд подвергнуть эту гипотезу прямой
верификации. Мы скорее относимся к этой гипотезе
как к исходному предположению: эксперт должен
ι8
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
провалить какой-то канонически
санкционированный тест, чтобы мы начали ставить его экспертный
статус под вопрос, хотя эти тесты обычно
являются непрямыми и их результаты всегда можно
оспорить (например, снижение индекса цитируемости
как признак отсутствия значимых результатов или
даже нерелевантности). Напротив, студент, чтобы
получить право считаться экспертом, должен
пройти тесты, которые являются четко определенными,
регулярными и редко оспариваемыми. Авторы,
которых мы считаем экспертами и включаем в учебную
программу, закончили хорошие университеты,
занимают достойные посты, публикуются в
уважаемых журналах и высоко оцениваются другими
экспертами, и мы считаем это достаточным
основанием для предположения, что они обладают глубиной
знания, которой нет у студентов. Более того,
вследствие обладания такими «верительными
грамотами» эксперту дозволяется делать заявления на
темы, не имеющие ничего общего с
квалификационными экзаменами или даже последними
публикациями.
Как только знание начинает отчуждаться от
знающего, например, когда кто-то должен овладеть
чем-то, чем пока не обладает, содержание того, чем
необходимо пытаются овладеть, уже не имеет
значения для объяснения того, как формальные
квалификации наделяют экспертным статусом. Это
очевидно для тех, кто заканчивает университет,
только для того, чтобы подтвердить дипломом те
знания, которыми они уже обладают в силу
профессионального или жизненного опыта. Уже это одно
делает выражение «общество знаний» крайне
обманчивым, поскольку знание обычно определяется
в терминах содержания, то есть как некая более
или менее достоверная и надежная репрезентация
19
СТИВ ФУЛЛЕР
реальности, без которой человек не может
функционировать. Но становится понятно, что в обществе
знаний имеют значение не знания, а контейнеры
знаний, то есть одно и то же высказывание имеет
разную ценность в зависимости от того, высказано
оно устами профессора Гарварда или студента-
недоучки. Достоверность и надежность чьих-либо
знаний может и не вырасти в промежутке между
поступлением в университет и получением
диплома, но вероятность, что эти знания будут
восприняты как таковые, возрастает. (Однако речь
гарвардского недоучки тоже может иметь авторитет, если
за ней стоит существенный капитал и
коммерческие результаты, как в случае, например, Билла
Гейтса.)
Таким образом, выражение «общество знаний»
все-таки может оказаться в некотором смысле
информативным — оно говорит нам о средствах
воспроизводства социальной структуры. Alma Mater
заменила право рождения в качестве главного
фактора, определяющего место в обществе. Академия
заменила семью и духовенство как главных
хранителей социального статуса. Этот переход отражает
не только тот факт, что формальное образование
необходимо для практически любого хоть сколько-
нибудь социально значимого занятия, но, что более
важно, образование вытеснило большинство других
путей продвижения в обществе (Ringer 1979)· Адеп-
ты общества знаний распинаются о преимуществах
«пожизненного обучения» и якобы протягивают
руку помощи тем, кто возвращается на школьную
скамью, уже чего-то добившись в «реальном мире»;
но в реальности эти вечные студенты вынуждены
возвращаться, чтобы конвертировать свой
жизненный опыт в твердую валюту формальных
квалификаций.
20
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! УНИВЕРСИТЕТ
В этом месте, возможно, полезно взглянуть
с высоты птичьего полета на общую картину
отчуждения знания. Если говорить в модных
терминах, то какие «пространственные потоки»
определяют общество знания (Urry 2000)? Естественным
домом для экспертизы является рабочее место, где
необходимое практическое знание сохраняется
и передается. Однако следующая стадия —
квалификаций — выталкивает людей с их разрозненных
рабочих мест в единое центральное место, в
университетскую аудиторию, где их опыт посредством
формальной дисциплины конвертируется в нечто,
обладающее общепризнанной социальной
ценностью. Финальная стадия эпистемического
отчуждения, интеллектуальная собственность,
подразумевает дальнейшее выдвижение из учебной аудитории
в окончательное место коммодификации,
«исследование», которое обычно ассоциируется с лабо-
раторями, но редко ограничивается этими
бастионами, где правят естественные науки. У
социальных наук есть своя версия лаборатории, что
хорошо демонстрирует пример работы австро-
американского социолога Пола Лазарсфельда.
Опросы общественного мнения Лазарсфельда
позволили извлекать практическое социальное
знание в тех местах, где они проводятся (обычно —
в домохозяйствах), а их результаты потом
используются (или продаются) для производства
продукции и стратегий, направленных на
формирование потребительского спроса или
привлечение электората, в зависимости от того,
относится клиент к частному или государственному
сектору. В первом случае это называется «реклама», во
втором «агитация». В одном точном смысле
производимое социальными науками извлечение
необработанного знания более эффективно, чем
21
СТИВ ФУЛЛЕР
в естественных науках: единственное наставление,
которое необходимо, чтобы начать извлечение
социального знания—это указание респондентам на
те ограничения, в рамках которых необходимо
отвечать на вопросы исследования.
Главное, что отличает общество знания от того
способа конвертации труда в технологию, который
характеризовал основную часть истории
человечества, — присутствие академических «посредников»,
которые облегчают переход от человека к
артефакту, подчиняя первого эксплицитным процедурам.
Если ученые находятся на службе государства, они
вносят момент меркантилизма в процесс, который
в противном случае был бы примером прямого
капиталистического присвоения. Однако аналогия
с меркантилизмом не совсем верна. Университеты
никогда не обладали — и совершенно точно не
обладают сегодня — монополией на распоряжение
продуктами знания. Более того,
полуприватизированный характер высшего образования (уже давно
устоявшийся в США и набирающий силу в Европе)
и распространение спонсируемых корпорациями
научных парков при университетских кампусах
работают на превращение академии в
инновационный хвост, который, как ошибочно полагают,
виляет собакой капитализма. Фактически последний
оплот интеллектуального
меркантилизма—образовательная функция университета, которая остается
(по крайней мере пока) под контролем государства,
тогда как исследовательская функция
университета все больше переходит под контроль частного
сектора.
Результат отчасти напоминает то, что Маркс
когда-то назвал «восточным деспотизмом», в
котором «азиатский» способ производства состоит
в том, что империя облагает налогами подчинен-
22
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
ные народы, но оставляет нетронутыми их
локальные способы производства и социальные
отношения. Это соответствует роли ученых,
наделяемых государством правом управлять временем
и деньгами работников, которым необходимы
формальные квалификации для карьерного роста,
обычно без привнесения изменений в их рабочие
практики, а иногда и в их реальные знания. В
восточных деспотиях собранные налоги изначально
вливались обратно через крупномасштабные
общественные работы, укреплявшие власть империи.
Этому тоже есть аналогия в истории общества
знаний, а именно то, что Алвин Гоулднер (Gouldner
1970) метко назвал «военно-социальным
государством» [welfare-warfare state]: на пике холодной
войны оно занималось консолидацией граждан
с помощью доступной системы здравоохранения
и образования, в то же время усиливая надзор
и военную мощь с помощью обширных
информационно-коммуникационных сетей. Эти проекты
«государственного строительства» вызвали
первый взрывной рост технически образованного
персонала в поколении после Второй мировой
войны, особенно после запуска первого
советского спутника в 1957 Г°ДУ·
Однако когда в 199° Г°ДУ напряженность между
сверхдержавами сошла на нет, сделав очевидными
огромные бюджетные расходы, крупные
корпорации и различные заинтересованные группы начали
захватывать эти проекты в собственных целях. В
результате начались политическая деградация и
нормативная фрагментация, ассоциируемые с
возникновением идеологий постмодернизма и
неолиберальных форм управления. Эти явления обычно
интерпретируются как результаты дальнейшего
проникновения капитализма в те сферы общества,
23
СТИВ ФУЛЛЕР
которые раньше защищало государство всеобщего
благосостояния. Не будем отрицать, что в этом
утверждении есть доля истины, но если
рассматривать исходное устройство инфраструктуры
общества знаний как современную форму восточного
деспотизма, приватизация великих информационных
и коммуникационных сетей начинает напоминать
скорее распад Римской империи на феодальные
фьефы и вольные города, характерные для
европейского Средневековья.
Поэтому неудивительно, что на окраинах полей
общества знаний расцвела группка
теоретиков-прорицателей надвигающегося «информационного
феодализма» (Drahos 1995)· Что можно считать
свидетельствами в пользу такого атавистического
развития событий? Здесь достаточно ограничиться
следующими тремя пунктами:
ι. Человеческий труд становится все более
незначительным в качестве источника стоимости, но
лишь отчасти из-за разработки более
эффективных механических средств, его заменяющих. Не
менее важно то, что эти новые
машины—например, экспертные системы —все чаще
оказываются под защитой законов об охране
интеллектуальной собственности, которые позволяют
держателю соответствующих имущественных прав
(то есть патента, авторского права или торговой
марки) взимать ренту с тех, кто пытается
снизить свои издержки на производство. Во имя
поддержки инноваций юридическая система
преобразует капиталистическое стремление
к выгоде в феодальный оброк. Эта
трансформация не произошла во времена индустриальной
революции, потому что, прежде чем в
Конституции США был явным образом закреплен
24
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
государственный интерес в систематическом
лицензировании инноваций, право
собственности на интеллектуальную продукцию
даровалось свободным решением правителя, обычно
в качестве личного расположения. Никто не
ожидал, что однажды все интеллектуальное
пространство будет разделено на отдельные
домены, подобно физическому пространству при
феодализме. Американские отцы-основатели
были озабочены в основном защитой свободы
самовыражения (которая требовала защиты не
только от цензуры, но и от имитации) и
коллективным производством богатств (нация,
которая зарегистрировала патент, должна была
получать максимальную выгоду от
экономического использования изобретения). Учитывая
растущую в последние два столетия
транснациональную мобильность капитала, кажется, что
законодательство об охране интеллектуальной
собственности выполняет первую задачу в ущерб
второй.
2. Чем больше для найма на работу требуется
формальных квалификаций, тем меньше значат
собственно знания, ассоциирующиеся с этими
квалификациями. Это происходит в основном
потому, что квалификации становятся не
достаточным, но всего лишь необходимым условием
найма. Таким образом, из принципа увеличение
полномочий квалификации превращаются
в метку исключения. В таких условиях они
становятся наследниками расовых и классовых
отличий в качестве главного механизма
дискриминации и стратификации населения. И, подобно
расе и классу, квалификации оказываются не
слишком-то удачным индикатором
эффективности на рабочем месте, а всего лишь громоотводом
25
СТИВ ФУЛЛЕР
для возмущения и негодования. По мере
обнаружения этого феодального осадка в системе
квалификаций возникают частные
неакадемические учебные центры, стремящиеся подорвать
монополию университетов. Но еще
важнее—какая ирония — переизбыток людей с
академическим образованием дает конкурентное
преимущество обладателям традиционно
неакадемических, а конкретно предпринимательских, форм
знания. Нигде это незаметно столь явно, как
в естественных науках. Ученый-«эксперт» входит
и выходит из областей исследования впереди
основной массы ученых, инвестирует в умения
и оборудование, которые можно задействовать
во множестве разных проектов, и конструирует
свои интеллектуальные продукты таким
образом, чтобы извлечь определенную «выгоду»
(упоминание в списке цитирования или
финансовое вознаграждение в виде роялти с патента).
«Инженеры знаний» разрабатывают
компьютеры, симулирующие экспертное знание целого
поля, чтобы исключить еще больше
академических конкурентов. Сырым материалом для этих
симуляций являются, разумеется, сами
эксперты, радостно продающие свои знания перед
лицом их неизбежного устаревания, как только
из них извлечена вся предполагаемая выгода.
Здесь мы видим, возможно, наиболее ясно, тот
клин, который экономика знаний вбивает
между двумя основными функциями университета—
обучением и исследованием, поскольку вместо
того, чтобы передаваться обратно в обучение,
исследования либо не попадают в учебный
процесс из-за приватизации, либо делает его
бесполезным из-за автоматизации (Fuller 2002а:
eh. 3).
26
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
3- Оказалось, что избыток информации, который
часто называют информационным взрывом,
имеет такой же эффект, как и ее недостаток
в докапиталистические времена, а именно
замедление общих темпов интеллектуального
прогресса. До того как Иоганн Гутенберг довел
до ума и коммерциализировал наборную печать
в середине XV века, книги невозможно было
производить в больших количествах. Поэтому
авторы не могли предполагать, что их читатель
будет иметь доступ к библиотеке. Это означало,
что большинство текстов должны были
предлагаться читателям уже содержащими все знания,
необходимые для того, чтобы оценить
уникальный вклад данного автора. К несчастью, задача
пропедевтики обычно оказывалась столь
трудоемкой, что на пересказ и критику существующих
знаний уходило больше энергии, чем на
собственно продвижение науки вперед (Eisenstein
1979)· Неудивительно, что коперниканская
революция началась только после Гутенберга,
хотя разнообразные гелиоцентрические
астрономии уже бросали вызов геоцентрической
ортодоксии на протяжении тысячи лет. Однако
сейчас мы страдаем от противоположной
проблемы: при той скорости, с которой новые
тексты выбрасываются на рынок, никто не в
состоянии уследить за ними всеми
самостоятельно. В результате, вместо того чтобы опережать
основную массу, академики вынуждены вносить
помехи внутри этой массы, поскольку каждый
из них пытается доказать, что без него
невозможно будет понять, чем занимаются все
остальные. В этом смысле возросшее в последнее
время внимание к сложности предмета — в
реальности не более чем проекция стремления
27
СТИВ ФУЛЛЕР
академиков определять себя через своих коллег,
чтобы занять хоть какую-нибудь
распознаваемую интеллектуальную позицию (Fuller 2000а:
eh. 5)· Подобный режим, который ближе всего
ассоциируется с социологией знания Пьера Бур-
дье, гарантирует, что инновации могут
возникнуть только в узких рамках профессионально
разрешенного дискурса. Это минимизирует
вероятность, что некая идея приведет к
значительным социальным изменениям (Fuller 1997:
eh. 7).
Читатели, с сомнениями относящиеся к этим
мрачным прогнозам, должны обратить внимание
на современную компьютеризацию средневековой
практики анонимного письма, или «гипертекст».
Как это было верно для всех текстов Средних веков,
авторитет гипертекста обеспечивается паттернами
циркуляции, которые обнаруживаются при
наложении различных уровней комментариев.
Поскольку исходный источник этого текста часто
неизвестен, а его экзегетические напластования часто
противоречат друг другу, такой текст почти
невозможно подвергнуть какой-либо направленной
критике (то есть противопоставить один тезис
другому). Человек вынужден «писать против» или
«сопротивляться» гипертексту, что в свою очередь
запускает еще один гипертекст на его собственную
электронную орбиту.
Феодальный прецедент для вышеописанных
изменений затемняется двойным смыслом истории,
который питает постоянную конденсацию и
пересмотр текстов, совместно искусственно
поддерживающих общество знаний и его ощущение
собственной оригинальности. Этот двойной смысл состоит
из телескопической и стереоскопической фаз.
28
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
С одной стороны, история относительно
отдаленного прошлого телескопируется так, что
основанные на знании социальные движения
прошлого, ничуть не менее сложные и широкомаштабные,
чем общество знаний, схлопываются в единообразно
тиражируемый идеальный тип — скажем,
«протестантизм», «Просвещение», «социализм» (Wuthnow
1989), — который выбирается скорее за
исключительность, чем за репрезентативность. Это
разумный методологический принцип, который был
придуман, чтобы позволить социологии
формулировать общие гипотезы на основании исторических
данных, но с тех пор он превратился в стратегию
легитимации исторической амнезии в мире,
полном архивов. Таким образом, неизбежно теряется
любое представление о том, что современным
явлениям что-то предшествовало.
С другой стороны, события истории
относительно недавнего прошлого стереоскопируются: между
двумя близко связанными явлениями вбивается
клин, чтобы они казались двумя сторонами
искусственно созданного разрыва. Пожалуй, наиболее
наглядный пример—это предполагаемое различие
между «Способом ι» и «Способом 2» производства
знания, столь популярное среди европейских гуру
научной политики (Gibbons et al. 1994)· Оно
применяется в основном к лабораторным
естественнонаучным исследованиям. «Способ ι» означает
исследования, основанные на дисциплинарной
модели науки, а «Способ 2» —исследования гибридного
характера, в которых сплетаются интересы
академии, государства и индустрии. В
стереоскопическом видении истоки «Способа ι» возводятся
к основанию Королевского научного общества
в XVII веке (если не к древнегреческим
философам), тогда как корни «Способа 2» отыскиваются
29
СТИВ ФУЛЛЕР
в периоде, начинающемся с Манхэттенского
проекта создания атомной бомбы (если не с разложения
военно-социального государства после холодной
войны). Однако исторически только в последней
четверти XIX века оба способа зародились
практически одновременно в Германии. Лаборатории
традиционно существовали отдельно от университетов
(и ограничивались техническими науками) по
причинам, сводящимся к интеллектуализированному
классовому снобизму (лабораторная работа
требовала ручного труда, чуждого миру получивших
«свободное» образование белоручек из элиты). Но
как только лаборатории были введены в кампусы,
они быстро заключили союз с государственными
и промышленными клиентами. Наиболее
показательным примером является Общество Кайзера
Вильгельма2.
Именно то, что сделало лабораторную науку
столь чуждой классическому устройству
университета, позволило ей, войдя в состав университета,
успешно адаптироваться к ориентированным вовне
исследовательским проектам. Стоит вспомнить
важный аспект куновской модели науки (Kuhn
1970), основанной почти исключительно на
лабораторной науке (за важным исключением
астрономии): «нормальная наука», которую практикуют
сторонники парадигмы, автономна не только от
практических приложений, но и от
исследовательских траекторий других академических дисциплин.
2. Общество кайзера Вильгельма по развитию науки (Kaiser-Wil-
helm-Gesellschafi zur Forderung der Wissenschaften) —
организация, объединявшая научно-исследовательские институты
Германии с îgn по 1948 год. Его руководителями
становились крупнейшие ученые, в том числе Макс Планк. —
Примеч. пер.
Зо
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
В этом отношении парадигма — дважды
отчужденная форма знания, самозамкнутый модуль
исследования, нуждающийся в институциональной среде
университета для своего существования или даже
легитимации. Неудивительно, — хотя это редко
замечают,—что Кун почти ничего не говорит об
академии как о месте, где делается нормальная наука.
Обсуждения удостаиваются только программы
подготовки аспирантов. Напротив, традиционно
нервным центром любого университета всегда был
комитет, утверждающий учебный план. Это место,
где регулярно обсуждается сравнительное значение
крупнейших открытий каждой дисциплины для
либерального образовательного процесса,
следствием чего становится «творческое разрушение
социального капитала», обсуждавшееся в первом разделе
данной главы. Гуманитарные науки,
доминировавшие в университетах примерно до 1900 года,
никогда не были так узко изолированы, как
подразумевает «Способ ι», но и никогда не были так
адаптивны к внешнему давлению, как подразумевает
«Способ 2» (Fuller & Collier 2004: eh. 2).
Общество знаний как капитализм
третьего порядка
Чтобы понять ключевую роль университетов в
современной фазе капитализма, рассмотрим два
главных представления о природе капитализма. Нам
более знакомо первопорядковое описание:
производители вовлечены в вечное (и, согласно
марксистам, саморазрушительное) соревнование за то,
чтобы сделать как можно больше и потратить как
можно меньше и, таким образом, получить
наибольший доход от инвестиций, так называемую
31
СТИВ ФУЛЛЕР
прибыль. При всех его положительных сторонах
в этом описании принимается как данность, что
относительное положение конкурирующих
производителей самоочевидно, то есть не требуется
дополнительных усилий, чтобы определить «лидеров
рынка». Но на самом деле усилия требуются. Вто-
ропорядковое описание того, как производители
публично демонстрируют свою продуктивность —
это тот контекст, в котором формулирует свое
понятие «капитализма» великий немецкий соперник
Макса Вебера Вернер Зомбарт в 1902 году
(Grundmann & Stehr 2001). То, что его современники, в
особенности Торстейн Веблен, презрительно называли
«демонстративным потреблением» успешных
капиталистов, Зомбарт считал ключевым средством,
которое капиталисты используют для демонстрации
своего социального положения в мире, где
социальная структура более не воспроизводилась как
система фиксированных наследственных различий.
Капиталист должен тратить больше, чтобы
выглядеть более успешным.
Однако будет заблуждением считать, что эти
траты просто позволяют капиталистам
наслаждаться плодами своего успеха. Напротив, это заставляет
их быть более продуктивными в обычном, первопо-
рядковом, смысле, поскольку их конкуренты
быстро покупают такие же, если не лучшие,
потребительские товары. Однако вскоре конкуренция
становится столь напряженной, что приходится
тратиться на присвоение компетенции и тонкого
вкуса, необходимых для приобретения товаров,
которые будут замечены — теми, кто знает, на что
смотреть, — и интерпретированы как более
«продвинутые», чем покупки конкурентов. К моменту
достижения «капитализма третьего порядка», мы
оказываемся на границе общества знаний. То, что
32
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! УНИВЕРСИТЕТ
общество знаний оказалось более вежливым
названием для третьепорядкового капитализма, prima
facie неудивительно. В конце концов, отец
наукометрии Дерек де Солла Прайс продрался через
дебри национальной экономической статистики,
только чтобы обнаружить, что показателем,
демонстрировавшим наибольшую положительную
корреляцию с исследовательской
продуктивностью, была не производительность труда в
промышленности, а потребление электричества на
душу населения (Price 1978; см. также Fuller 2002а:
eh. 1).
В вышеописанном подходе к капитализму
предполагается определенный образ экономической
истории. В докапиталистические времена
потребление осуществлялось за счет производства, чем
объясняется, например, кратковременный успех
Испании и Португалии на имперском поприще.
Они не смогли реинвестировать богатства,
вывезенные из-за океана, — они их просто безрассудно
расстратили. Напротив, капиталистическое
потребление является производством второго
порядка, поддерживаемым ростом производства первого
порядка. С социологической точки зрения
наиболее замечательной чертой этой истории «до и
после» является предположение, что капитализм
является инновационным в изменении смысла
ответственности за поддержание социального порядка.
В докапиталистические времена ответственность за
его поддержание была, так сказать, равномерно
распределена между членами общества независимо от
их статуса. Лорды и крепостные крестьяне на
равных несли бремя производства того различия,
которое позволяло лордам править крестьянами.
Такие словосочетания, как «взаимное признание»,
«уважение» и «честь», схватывают симметричную
33
СТИВ ФУЛЛЕР
суть этой ответственности участников данных
отношений. Однако в эпоху капитализма, похоже,
подобно страховке в современных децентрирован-
ных социальных государствах, бремя индивида
пропорционально его желанию защитить себя от
эрозии статуса. Те, кто хочет, чтобы их признавали
вышестоящими, должны прилагать все больше
усилий для демонстрации своего превосходства.
Последний пункт становится особенно важным
в развитых капиталистических обществах, где
по крайней мере в принципе подавляющее
большинство людей может вести материально
обеспеченную жизнь, затрачивая не так уж много
времени и усилий на первопорядковое
производство. Однако эта ситуация приводит только
к тому, что люди начинают вкладывать больше
усилий в занятия второго порядка. В результате,
например, индивиды тратят все больше на
образование, а фирмы на рекламу, даже если
приобретаемое ими преимущество в терминах первопорядко-
вого производства оказывается незначительным
или кратковременным. И все же эти затраты
необходимы, чтобы вас признали «не отставшим от
жизни». Так мы возвращаемся к понятию
позиционных благ, введенному в начале этой главы.
Логика производства таких благ предрекает, что со
временем ваш относительный статус будет
снижаться, если его активно не поддерживать, что
обычно означает —пытаться превзойти его, таким
образом повышая абсолютный стандарт,
которому должен соответствовать каждый. Тем самым
расширение производства позиционных благ в
сочетании с возросшей эффективностью
производства материальных благ приводит к
систематически иррациональным результатам, которые мы
привыкли ожидать и даже рационализировать как
34
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
наше общество знаний. Конкретнее, ресурсы,
потраченные на получение квалификаций и
маркетинг товаров, начинают превосходить затраты на
реальную работу, которую эти виды деятельности
призваны улучшать, продвигать и
демонстрировать.
Разумеется, такая классическая перестановка
целей и средств не является систематически
иррациональной, если она отражает более-менее
осознанный ценностный сдвиг. Нас нетрудно убедить,
что производство существует только для того, чтобы
было что продать, а на работу мы нанимаемся,
чтобы было где демонстрировать свои квалификации.
Поэтому борьба за признание перевешивает борьбу за
выживание — окончательная победа немецкой
традиции политической мысли над английской
(Fukuyama 199 2: cns 13_19)· Но эта проблема
становится острее в случае так называемых
общественных благ, в особенности знаний. В случае
этих благ производители не только неспособны
вернуть затраты на их производство, они понесли
бы дальнейшие издержки, если бы были
вынуждены ограничить потребление этих благ.
Однако я предлагаю рассматривать эти общественные
блага как класс позиционных благ, который
просто наиболее эффективно скрывает
производственные затраты, а конкретно тот факт, что все
платят в фонд, бенефициарии которого
неизвестны, потому что не определены (Fuller 2002а:
eh. 1).
Этот абстрактный тезис можно
проиллюстрировать ответом на конкретный вопрос: почему
Эйнштейн не мог запатентовать свою теорию
относительности? Ответ таков: теория Эйнштейна была
инновационной в отношении корпуса
теоретической физики, разработка которой спонсировалась
35
СТИВ ФУЛЛЕР
немецким правительством с помощью налогов
и других схем общественного финансирования,
крупнейшими бенефициариями которого были
институции высшего образования. Эти институции
были, в свою очередь, открыты для любого
человека, обладающего соответствующими
способностями, который в результате получал шанс внести
вклад в этот корпус знаний. Случилось так, что
именно Эйнштейн воспользовался этой
возможностью, в принципе открытой для всех
налогоплательщиков. Но если бы Эйнштейна не
существовало, это все равно был бы всего лишь вопрос времени,
пока кто-нибудь другой не продвинул бы физику
вперед сопоставимым образом. Но поскольку
непонятно, из какой группы населения произойдет
следующий Эйнштейн, государственное
финансирование высшего образования является
обоснованным. В таком случае Эйнштейн не заслуживает
экономического преимущества, обеспечиваемого
патентом, поскольку он всего лишь воспользовался
возможностью, оплаченной его согражданами.
Я предполагаю, что именно в этом заключается
глубинный смысл производства общественных благ
вроде университетского образования и
исследований, характерных для режима государства
всеобщего благосостояния.
Сможет ли университет выжить
в эпоху менеджмента знаний?
Ученые чувствуют себя польщенными, когда речь
заходит о «менеджменте знаний». Они зачастую
думают, что это словосочетание подчеркивает
центральную роль университетов в обществе. На
самом же деле этот оборот означает нечто прямо
зб
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
противоположное — что все общество
переполнено производителями знания, среди которых
у университетов нет никакого особого
преимущества или привилегий. Ученых застали врасплох,
потому что они традиционно относились к
знанию как к чему-то самоценному, что имеет смысл
искать, невзирая на цену и последствия. Эта
позиция имела смысл, когда университеты были
элитарными заведениями и независимые
исследователи были людьми досуга. Однако сейчас во
всем мире университеты вынуждены открывать
свои двери для широких масс обычно по
причинам, не имеющим никакого отношения к чистому
поиску знания. От сегодняшнего университета
ожидают, что он будет заниматься раздачей
квалификаций и будет двигателем экономического
роста. Как следствие, ученые утрачивают полный
контроль над собственными стандартами
производительности.
В таком контексте у менеджеров знания работы
хоть отбавляй. Бывший редактор журнала Fortune
Том Стюарт (Stewart 1997) назвал университеты
«тупыми организациями», у которых слишком много
«человеческого капитала», но недостаточно
«структурного капитала». За этим модным жаргоном
стоит представление, что «умная организация» — это
McDonalds, который выжимает максимум прибыли
из своих относительно малоквалифицированных
рабочих с помощью алхимии менеджмента.
Нормальное функционирование академической среды
устроено в точности наоборот: главы университетских
департаментов3 и деканы регулярно не поспевают
3- Department {англ.) — этот термин может отсылать к широкому
спектру административных единиц: «кафедра»,
«факультет», «институт» или даже «школа» (например,
37
СТИВ ФУЛЛЕР
за тем, чем заняты их чересчур образованные
подчиненные. Если McDonalds намного больше, чем
сумма его частей, то университет, похоже, меньше.
Ученые обычно склонны отрицать влияние
менеджмента знаний, хотя даже простой рост числа
выходцев из коммерческих и индустриальных кругов
в университетском руководстве указывает на то, что
McDonalds и Массачусетский технологический
институт (MIT) все же могут в принципе
оцениваться по одним и тем же стандартам
производительности. Недавний яркий пример—Ричард Сайке,
который был назначен ректором Имперского
колледжа Лондона на основании произведенного им
успешного слияния двух транснациональных
фармацевтических корпораций — Glaxo и Smith-Kline.
Естественно, он немедленно — и на момент
написания данной книги безуспешно4 — принялся за
попытки объединить Имперский колледж с
Университетским колледжем Лондона в ведущий
британский исследовательский университет (по
крайней мере по доходам от исследований). Так или
иначе, Сайке посеял семена культуры
академического менеджмента, что привело к слиянию
Манчестерского университета с соседним UMIST5,
крупнейшим в Британии (по числу студентов)
университетом с собственным кампусом. В то время этот
ход рекламировался как сравнимый с
гипотетическим слиянием Гарварда и MIT, которые
располагаются на противоположных концах Массачусетс-
авеню в Кембридже (США).
Институт стран Азии и Африки или Высшая школа
государственного аудита в составе МГУ). — Примеч. пер.
4- И на момент перевода тоже. — Примеч. пер.
5- University of Manchester Institute of Science and Technology —
Манчестерский институт науки и технологии. — Примеч. пер.
3»
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
Да и с чего бы следующему академическому
поколению противостоять этим изменениям?
Спросим прямо: стоит ли ожидать от ученых с
краткосрочными контрактами (а их становится все
больше и больше), что они станут отстаивать
целостность институции, которая даже не может
обеспечить им гарантии занятости? Даже
обладатели докторских степеней быстро осваивают
навыки выживания, привычные малообразованным
и взаимозаменяемым работникам McDonalds: они
все чаще и легче соглашаются менять место
работы ради более высокой зарплаты и лучших
условий работы (Jacob & Hellstrom 2000). В самом деле,
когда способность адаптироваться к постоянно
меняющемуся рынку труда становится главной
ценностью, нормативная сила профессиональной
автономии начинает ослабевать. В конце концов,
автономия подразумевает способность сказать
«нет» внешнему давлению, что в мире гибкого
капитализма кажется безрассудной жесткостью.
Так, привилегией академиков с постоянными
контрактами всегда была возможность
преподавать именно то, что является предметом их
исследований, даже если на занятия приходят три
студента, из которых двое постоянно не согласны
с преподавателем.
Однако многие академики—а не просто
профессиональные академические менеджеры — с
одобрением приняли недавние шаги по разъединению
единства преподавания и исследований, которое
определяло университет со времен его
переизобретения в Германии в начале XIX века. Эти шаги
предпринимаются ежедневно — с открытием все
новых дистанционных образовательных программ
или научных парков: первые превращают
университет в фабрику дипломов, а вторые — в фабрику
39
СТИВ ФУЛЛЕР
патентов. Хотя они тянут в противоположных
направлениях, эти два «постакадемических» типа
организаций разделяют главный интерес: они
работают на тех, кто готов заплатить за товар. В
таком контексте университеты оказываются весьма
уязвимыми, так как им всегда с трудом удавалось
оправдать собственное существование в терминах
немедленной экономической выгоды. Но будет
несправедливо винить в появлении концепции
«образовательных услуг» одних только
университетских менеджеров или недавнюю волну
неолиберальной идеологии.
Академики, с ностальгией вспоминающие
бурный рост финансирования университетов на пике
социального государства, часто забывают, что
именно образовательные услуги были тем, что стояло за
апелляцией академиков к политикам. Общество
соглашалось платить более высокие налоги в надежде,
что его члены (или, более вероятно, их дети)
получат возможность поступить в университет и
повысить свои шансы на высокооплачиваемую работу
или что академики-исследователи изобретут какое-
нибудь новое лекарство или технику, которая
повысит качество жизни в обществе. Эта ментальность
работает и сегодня, только в среде все более
частного финансирования.
Короче говоря, в эпоху государства всеобщего
благосостояния была заключена сделка с дьяволом,
обычно прикрываемая социал-демократической
риторикой. Университеты разрослись, приобрели
невероятные размеры и значение, но в обмен они
стали главным местом социально-экономического
воспроизводства. В долгосрочной перспективе эта
сделка привела к утрате университетами
политической — и, следовательно, интеллектуальной —
независимости, которая становится все заметнее
40
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
по мере исчезновения юридической и финансовой
поддержки государства. Прежде университеты
находились на службе всех налогоплательщиков
и оценивались по предоставляемым им благам,
а теперь их выбросило на глобальный рынок, где
университеты США уже давно предоставляют
высококачественные интеллектуальные товары и
услуги в ответ на спрос.
По крайней мере так выглядит меняющаяся
политическая экономия академии по эту сторону
Атлантики. Сейчас среди европейских
университетских руководителей стало модно жаловаться, что
пережитки эпохи социального государства мешают
правительствам выставлять высокие тарифы на
образование, которые позволили бы конкурировать
с университетами США на мировом рынке.
Похоже, они находятся под впечатлением, что
американцы готовы платить так много за высшее
образование в лучших университетах потому, что у них
есть большой опыт и репутация на рынке труда.
Однако это не объясняет, как, например,
получается, что официально в Лиге Плюща самые высокие
в мире цены на образование, но при этом две трети
студентов их не платят. Освященные временем
идеи—универсализм, демократия и меритократия—
могут объяснить, почему в Лиге Плюща
установлены такие правила, но для европейцев остается
загадкой, как им это удается.
Оказывается, что европейское представление об
американском рынке образования — особенно о его
элитном сегменте — весьма существенно
расходится с действительностью. Это расхождение столь
серьезно в силу забвения того, что исторически
сделало университеты специфически европейским
вкладом в мировую культуру. Я вернусь к этому
позже. Но даже на более фундаментальном уровне
41
СТИВ ФУЛЛЕР
это расхождение должно напомнить нам о том
длительном разъедающем эффекте, которое оказало
крайнее утилитаристское мышление на наше
представление о ценности. И экономика государства
всеобщего благосостояния, и нынешняя волна
неолиберализма согласны в том, что экономика
состоит из трансакций, в которых их участники
одновременно обмениваются (взаимодействуют) друг с
другом и поступаются собственными интересами.
Рациональный экономический агент соглашается
на некоторую цену, но только за определенное
количество товара или услуги, ниже которого
вступает в дело «сокращение доходности», и
рациональный агент начинает тратить свои деньги где-то еще.
Это означает, что товары и услуги оцениваются по
их перспективам влияния на покупателя на
относительно коротком промежутке времени. Такая
система координат фундаментально
противоположна характеру университета.
К чести экономистов государства всеобщего
благосостояния они давно поняли, что их
концепция экономики имеет тенденцию к обесцениванию
благ, доступных только в долгосрочной
перспективе и в особенности тем, кто не связан
непосредственно с агентом (Price 1993)· Как мы видели в
предыдущем разделе, представление об университетах
в государстве всеобщего благосостояния—как об
образчиках и одновременно производителях
«общественных благ»—было призвано решить эту
проблему с помощью утверждения, что, по сути, дешевле
освободить от платы все общество, чем выбирать
отдельных граждан, которые будут платить
указанную цену и наслаждаться благами. Но для
равнодушного неолиберального уха это звучит как
признание в том, что высшее образование — это рынок
с неопределенной ценовой структурой. Не в том ли
42
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! УНИВЕРСИТЕТ
дело, что производители и потребители лишены
возможности эффективно коммуницировать друг
с другом? Это подозрение мотивирует общий
призыв университетских менеджеров к устранению
государственных ограничений на свободную
конкуренцию университетов, которая быстро заставит их
провести реструктуризацию или даже передать
полномочия под давлением рынка.
Однако за этой уже привычной линией
аргументации скрыта основная интуиция: парадигмой
любой экономической активности является товарный
обмен как он мог бы происходить на еженедельной
деревенской ярмарке между участниками,
стремящимися обеспечить потребности своего домашнего
хозяйства. С этой точки зрения главная
практическая проблема в том, как расчистить рынок, чтобы
к закату дня никто не остался с непроданным
товаром или с неудовлетворенными потребностями.
Эта формулировка проблемы включает как
минимум три предпосылки, которые совершенно чужды
экономической ситуации, в которой находятся
(и всегда находились) университеты:
ι. Каждый участник рынка — одновременно
«производитель» и «потребитель». Напротив,
в любой транзакции между университетом и
потенциальным клиентом, студентом в том числе,
эти роли четко разведены.
2. Ни один производитель не желает избытка
товаров и тем более не стремится скопить как
можно больше товаров. Неиспользованные
товары либо испортятся, либо станут приманкой
для воров. Напротив, чистое накопление
знания—будь то книги, мозги или банки данных —
является неотъемлемой частью миссии
университета.
43
СТИВ ФУЛЛЕР
3· Потребности каждого участника рынка имеют
циклическую структуру, которая идеально
совпадает с периодичностью деревенской ярмарки.
Не существует сущностно неудовлетворимых
желаний —только повторяющиеся желания,
которые удовлетворяются по мере их
возникновения. Напротив, академическому
исследованию настолько чужда сама идея завершения, что
попытки остановить или даже перенаправить
его, скорее всего, будут восприняты как
репрессивные.
Однако университетом можно управлять не только
как производителем многофункциональных услуг,
связанным с клиентами системой отдельных
транзакций, которые заканчиваются, как только
академический товар доставлен покупателю.
Изначально статус корпорации был дарован университету
согласно Римскому праву (лат. universitas)
благодаря тому, что их цель превосходила личные
интересы каждого из его членов. Это позволяло
университетам создавать собственные целевые
фонды, предоставлявшие средства индивидам, которые
были «инкорпорированы» в институцию на игнас-
ледственной основе. Такие индивиды обычно
приобретали свою идентичность посредством
экзаменов или отбора, что требовало от них согласия стать
другими в сравнении с тем, кем они уже были.
Наряду с университетами изначально корпорациями
были церкви, религиозные ордена, гильдии и
города. В этом отношении студенчество означало
примерно то же, что и гражданство. Коммерческие
предприятия начали регулярно восприниматься
в качестве корпораций только в XIX веке. До того
бизнес был либо временным, направленным на
определенную цель предприятием (вроде военного
44
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
похода), либо более масштабным вариантом
семейного наследства—базового механизма передачи
социального статуса в Римском праве.
Корпоративное происхождение университета
представляет не только исторический интерес.
Старейшие и наиболее успешные американские
университеты были основаны британскими
религиозными диссидентами, для которых
корпоративная структура церкви была живой реальностью.
Начиная с XVII века учащиеся американских
университетов воспитывались в качестве «alumni»6,
воспринимавших свое обучение в университете
как процесс, определяющий всю их дальнейшую
жизнь и которым они хотели бы поделиться с
любым достойным кандидатом. Дальнейшие
пожертвования alumni^ основанные на протестантской
«десятине» с доходов, формировали фонд,
позволявший последующим поколениям получить
такой же шанс на обогащение. Взамен alumni
получают глянцевые альбомы, победы спортивных
команд (которым выпускники поклоняются каждый
выходной), бесплатные курсы, а также
номинальное—а иногда и не такое уж номинальное —право
участия в управлении университетом. Две трети
студентов Лиги Плюща получают финансирование
именно таким образом. Более того, ведущие
государственные университеты Америки
демонстрируют аналогичные и иногда даже более сильные
тенденции в том же направлении. Так,
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе,
Мичиганский университет и Университет штата
Вирджиния — «государственные университеты»,
которые на ηο% финансируются из частных фондов,
6. Почетное именование выпускников определенного колледжа
или университета. — Примеч. пер.
45
СТИВ ФУЛЛЕР
и лишь относительно небольшая часть их
финансирования обеспечивается студентами, полностью
оплачивающими свое обучение.
Напротив, два основных принципа
«приватизации» университетов в бывших государствах
всеобщего благосостояния—устанавливаемая на
рыночной основе плата за обучение и прогрессивный
подоходный налог с выпускников7 — задействуют
долгосрочную стратегию, которая есть не что иное,
как последовательность краткосрочных стратегий.
При самом лучшем раскладе эти схемы
обязательных платежей позволят университетам восполнять
тот капитал, который они инвестируют в
студентов, но они же едва ли обеспечат выпускников
стимулом вкладывать в университет больше, чем было
инвестировано в них самих. Такие плата за
обучение и налоги могут стать разве что источником
возмущения, неповиновения и даже всеобщего
фискального провала, поскольку в мире, где знание
рассматривается как позиционное благо,
становится все труднее обосновать высококачественное
университетское образование в краткосрочной
перспективе в терминах соотношения цены и
качества.
Таким образом, чтобы противостоять
менеджерам знания, которые называют университеты
«тупыми организациями», университет должен
стремиться быть целым, которое намного больше
суммы своих частей. Как минимум это означает, что
ценность университета должна измеряться не
только в терминах краткосрочной выгоды для непо-
7- Проект замены прямой платы за обучение налогом,
зависящим от дохода бывшего выпускника. В Великобритании
такой налог неоднократно обсуждался, но пока введен
не был. — Примеч. пер.
46
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
средственных клиентов, в том числе студентов.
Идеал обучения, объединенного с исследованием,
предполагал вполне определенный масштаб
организационного мышления, который сегодня не
мешало бы обновить. В конце концов, университеты
уникальны — они производят новое знание (через
исследование), а затем консолидируют и
распределяют его (через образование). В первой фазе
академия порождает новые формы социальных
преимуществ и привилегий, а во второй их отменяет.
Творческое разрушение социального капитала дает
университетам право называться первыми
предпринимательскими организациями. Однако
университеты никогда не создавались и не
существовали в социальном вакууме. На фоне медленного, но
последовательного демонтажа государства
всеобщего благосостояния пора вспомнить, что
университет—одна из первых корпораций, чей стиль
«приватизации» неподвластен модели «честной
торговли», доминирующей в мировой экономической
мысли и угрожающей целостности этой
институции.
Постмодернизм
как антиуниверситетское движение
Есть один характерный, но редко обсуждаемый
факт о происхождении отчеканенного Жаном-
Франсуа Лиотаром (Lyotard 1983) термина
«постмодернизм»: он появляется в 1979 Г°ДУ в его
«Отчете о состоянии знания», представленном
Совету по высшему образованию Квебека. Лиотар
посвятил свой отчет «институту», или
департаменту, главой которого он был в одном из
новых университетов Парижа, и мечтал, что он
47
СТИВ ФУЛЛЕР
будет процветать, когда сам университет отомрет.
Подобное настроение четко выражает
постмодернистскую нормативную позу —«да» бесконечному
размножению исследований, «нет» подчинению
этого «информационного взрыва»
институциональным ограничениям университета, который,
в конце концов, подразумевает четко
ограниченный «универсум дискурса», вращающийся вокруг
«учебного плана». В исторической перспективе
Лиотар атаковал последний бастион
Средневековья в современном университете, а именно идею,
что все, что достойно быть высказанным, должно
быть замкнуто в его стенах. Этот образ имел смысл
в XIII веке, когда считалось, что центром
ограниченной физической Вселенной является Земля,
а точнее человечество. Тогда университет был
буквально микрокосмом.
Лиотар в посвящении к «Состоянию
постмодерна» переворачивает определение
постмодернизма, предложенное всего десятилетием раньше
Дэниэлом Беллом (Bell 1973) в качестве
культурного аналога «постиндустриализма». У Белла
постмодернизм означал подъем академически
образованного класса государственных служащих,
которые сдерживают и подавляют потенциально
деструктивные эффекты информационного
взрыва во имя благожелательного, хотя и
технократического государства всеобщего благосостояния.
Всеобъемлющее критическое видение
университета, выходящее за пределы специального знания
в конкретных дисциплинах, было в этом проекте
ключевым. В этом отношении Белл рассматривал
постмодернизм как представитель
истеблишмента, предполагая, что интеллектуалов ждет
будущее чего-то вроде «нового класса» Алвина Гоулд-
нера, который в государстве всеобщего благосо-
48
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
стояния должен был стать своеобразным ответом
революционному партийному авангарду в
постмарксистском мире (Gouldner 1979)· Но ни Белл,
ни Гоулднер не предвидели деградации
социального государства и сопутствующих ей вызовов
университету как хорошо организованной
социальной единице. Хрустальный шар Лиотара
оказался чище, и его критика структурной власти
университетов предстала созвучной
неолиберальным призывам не сдерживать инновации и
заявлению Маргарет Тэтчер, что общества не
существует. Таково наше постмодернистское будущее.
Разумеется, различия между постмодернистскими
пророчествами Белла, Гоулднера и Лиотара
хорошо объясняются разницей их позиций в системе
высшего образования.
В 1963 году Белл был нанят попечительским
советом Колумбийского университета, чтобы
выявлять растущие требования студентов к
«релевантности» учебного плана, уникальность которого
заключалась в том, что все студенты первые два года
должны были изучать классику западной
философии, литературы, искусства и музыки, а
последующие два года — интенсивно обучаться одной из
традиционных академических дисциплин. Это
требование «релевантности» было в форме
предложений междисциплинарных учебных программ,
имеющих в качестве предмета регионы мира или
аспекты человеческого существования (например,
класс, раса, тендер), которые не были адекватно
представлены в структуре академических
департаментов. К большому облегчению попечителей,
Белл, вооруженный модной тогда концепцией
«парадигмы» Томаса Куна, неотступно держался
классического идеала: традиционные
академические департаменты предлагают защищенное
49
СТИВ ФУЛЛЕР
пространство для автономных занятий
фундаментальными исследованиями, на базе которых уже на
уровне аспирантуры могут строиться вторичные
исследования, инициированные социальной
повесткой (Bell 1966)· Как оказалось, соломоново
решение Белла не смогло предвидеть, что в 1968 году
Колумбийский университет окажется на переднем
крае общемировой волны студенческих бунтов
против истеблишмента.
Гоулднер, в свою очередь, был ошеломлен
ростом высшего образования как фабрики
формальных квалификаций после окончания Второй
мировой войны. Хотя большинство людей,
проходящих через академию, вовсе не
руководствовались этосом чистого познания, задача их
обучения предоставляла преподавателям возможность
расширить и обогатить гражданское общество
путем привнесения критического мышления в
любую область знаний, которой обучались студенты.
Но внезапная смерть Гоулднера в 1980 году не
позволила ему увидеть, как некогда «подлинные»
университеты начали, не смущаясь, представлять
себя как фабрики дипломов, вступая на
территорию, в большей степени знакомую более
локально ориентированным институциям —
политехническим институтам и колледжам. Более того,
последовательный отказ от меритократической
ментальности государства всеобщего
благосостояния в течение следующих двух десятилетий
заставил университеты вступить в конкуренцию на
рынке, где ввиду соотношения между числом
институций и числом поступающих любая
попытка нагрузить студентов чем-либо, не связанным
напрямую с получением квалификации
—«критической рефлексией», например, — было обречено
на негативный прием.
50
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
Разительный контраст с взглядами Белла и Го-
улднера составляет куда более циничная точка
зрения на высшее образование, сформулированная
Лиотаром. Он был членом университета,
созданного по распоряжению де Голля, чтобы успокоить
«героев 68-го»—академических радикалов, которые
требовали более открытого доступа в элитные
институции. На практике это привело только
к кооптации радикалов и компрометации
независимого положения академии во французском
обществе. С точки зрения Лиотара, создание новых
университетов было последней отчаянной попыткой
государства удержать социальный порядок в мире,
стремительно выходящем из-под его контроля.
В этом контексте обращение к академическим
стандартам часто выступало маскировкой для
реакционной идеологии, призванной не допустить
перекрестного оплодотворения идей и порождаемых
ими новых движений. Это объясняет глубокую
антипатию Лиотара к хабермасовской «идеальной
коммуникативной ситуации», проекции
фундаментального мифа университета, который нереализуем
иначе как через жесткое ограничение бесконечного
множества пересекающихся дискурсов. В руках
Лиотара университет превратился из
трансцендентального концепта в группу зданий, где
представители этих дискурсов могут случайным образом
встречаться и объединяться во временные альянсы
под строгим присмотром стражей этих зданий
(академических администраторов).
Почему цинизм Лиотара одержал победу над
противоположными, но равно идеалистичными
образами университета, предложенными Беллом
и Гоулднером? Ключ к ответу может быть найден
в материальных основаниях экспансии высшего
образования в современную эпоху. Можно сказать,
51
СТИВ ФУЛЛЕР
что Лиотар, Белл и Гоулднер размышляют об
одном и том же наборе достижений, связанных с
бракосочетанием высокопроизводительной
капиталистической экономики с системой государства
всеобщего благосостояния. Оно образуют слепое пятно
марксистской политической экономии,
предлагавшей классическое объяснение подъема критически
настроенной интеллигенции, способной встать во
главе революции. Маркс не предвидел, что
государство продолжит играть регулятивную роль в
развитых капиталистических обществах, сравнимую с его
ролью в меркантилистских режимах XVII-XVIII
веков. Государство не только предоставляло
инвестиции и стимулы для капиталистического развития,
но и использовало свою фискальную власть для
укрепления социально ориентированных
институций, призванных защищать население от эффектов
колебаний циклов деловой активности. Это
означало более стабильную кривую роста экономики, но
ценой наращивания операционных расходов
государства.
Согласно Йозефу Шумпетеру (Schumpeter 195°)>
который первым четко сформулировал этот
сценарий, капитанам индустрии не останется другого
выбора, кроме как принять растущие налоговые
ставки на их доходы, чтобы избежать массового
вытеснения рабочих, которое могло бы посеять
семена революции. В конечном счете, инновационное
«творческое уничтожение» рынка само станет
рассматриваться как угроза экономической
безопасности. Пока ни капиталистам, ни социалистам
не удается реализовать свои героические идеалы,
все могут спокойно жить в общем мире. Короче,
будущее—это Швеция.
Беллу и Гоулднеру казалось, что шумпетеровский
сценарий оставит достаточно работы для интеллек-
52
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
туалов, даже если он препятствует второму
пришествию Ленина. Среди разрастающихся социальных
институций были университеты и другие
лицензированные государством учреждения высшего
образования, которые предоставляли обучение и
рабочие места для интеллектуалов. До середины XIX века
эти интеллектуалы были бы—примерно как первые
философы Просвещения — перемещающимися с
места на место наемными работниками без
определенной привязки к текущему политическому и
экономическому порядку. Но за последние 150 лет, и в
особенности после Второй мировой войны, эти люди
стали государственными служащими, которые
сначала обращаются друг к другу в ревниво охраняемых
(«рецензируемых») дискурсивных зонах и лишь
потом, после первичной фильтрации, к обществу в
целом. Как следствие, их способность к
подстрекательству оказалась прирученной путем оформления в
рациональную культурную критику и отрывочные
политические рекомендации.
Маркс был бы недоволен, но Белл и Гоулднер
надеялись на лучшее. Поскольку бесперебойное
функционирование развитого капитализма зависит от
поддержания системы социальной защиты,
интеллектуалы, работающие в этой системе, коллективно
обладают огромной силой, способной изменить
направление развития общества. В представлении
Белла это должно было привести к последовательной
рационализации экономики, к «концу идеологии»,
по его знаменитому выражению, когда классовый
конфликт будет разложен на специализированные
административные задачи. Со своей стороны,
Гоулднер представлял себе не столь окончательное
снятие идеологического конфликта.
Интеллектуалы продолжат делать во имя всего человечества
общие утверждения, которые неизбежно будут
53
СТИВ ФУЛЛЕР
противоречить друг другу. Однако растущая
специализация их знаний и интересов сделает
ангажированность их заявлений гораздо более заметной,
что позволит сформироваться более критически
ориентированной общественной культуре.
Однако с парижской жердочки Лиотара Белл
и Гоулднер выдавали желаемое за действительное
в частности потому, что они принимали как
данность то, что государство будет до бесконечности
переводить все более фрагментирующиеся
практики знания в принципы социальной структуры,
нанимая ради этого все больше интеллектуалов.
Реальность не совпала ни с полностью
социализированным государством, сдерживающим эксцессы
капитализма (мечтой Шумпетера), ни с его
двойником из ночных кошмаров, которого Джеймс Р.
О'Коннор (O'Connor 1973) назвал «фискальным
кризисом государства», когда раздутый
социальными расходами бюджет приведет к новому витку
классового конфликта, возможно, даже того
эпического масштаба, который воображал Маркс. Те, кто
искал подходящую роль для интеллектуалов в мире
постмодерна, не ожидали, что государство просто
возьмет и отступится от своих ключевых
социальных обязательств, включая здравоохранение и
образование, таким образом позволив капитализму
рвануть вперед.
Постмодернистский цинизм Лиотара был
подтвержден нечестивым союзом между классической
академической этикой автономного исследования
и растущим дисциплинарным разделением
современного разросшегося университета. Изначально
все академики верили, что они занимаются одним
и тем же автономным исследованием,
руководствующимся неким общим идеалом (например,
Истиной). Общность идеала оставляла достаточное про-
54
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
странство для конструктивной критики, которая
зачастую бросала вызов правящей ортодоксии
и дисциплинарным границам. Университет
предоставлял институциональное пространство, которое
делало возможным эти свободные исследования.
Мы видим пережитки этого подхода в публичных
дебатах на такие «внедисциплинарные» темы, как
существование Бога, смысл жизни или даже
эволюция человека. Однако этот подход совершенно
чужд исследованию в сегодняшнем
профессиональном академическом смысле, в котором автономия
релятивизирована относительно отдельных
дисциплин. Таким образом, вместо поиска-Истины-
куда-бы-он-ни-завел исследователю приходится
заниматься приложением «парадигмы» или
выполнением «исследовательской программы» до тех
пор, пока его интеллектуальные —или, что важнее,
финансовые—ресурсы не иссякнут. По сути,
разделение труда в современной академии превратило
в модульную конструкцию или даже деконтекстуа-
лизировало приверженность автономному
исследованию. Живое напоминание об этом — те случаи,
когда исследовательские группы
естественнонаучных департаментов переводятся из
университетской институциональной среды в какую-нибудь
другую — скажем, в научный парк или
коммерческую лабораторию — и, казалось бы, ничего при
этом не теряют.
Состояние постмодерна, стало быть, отмечено
буквальной дезинтеграцией университета, когда
каждая дисциплина все больше становится
способна самостоятельно заниматься исследованиями,
не волнуясь о судьбе других дисциплин.
Традиционно у университета имелись средства
сдерживания таких тенденций к самозамыканию. Самым
банальным, но оттого не менее мощным, был
55
СТИВ ФУЛЛЕР
общий фонд финансовых ресурсов, из которых все
департаменты получали свое финансирование,
которое надо было обосновать — если не друг
другу, то хотя бы финансовому комитету
университета, который по умолчанию выступал за
перекрестное субсидирование (то есть чтобы богатые
снабжали бедных). Однако с появлением и
активным поощрением внешних доходов эта исходная
позиция стала терять свой моральный вес, и
финансовый комитет повсеместно теряет свое
значение как форум для обсуждения сравнительных
затрат и выгод проведения альтернативных линий
исследования. Другим традиционным
академическим способом борьбы с дисциплинарным
самозамыканием является, конечно, главная клиентская
база университета: студенты. Составление
учебного плана остается отрезвляющей процедурой,
позволяющей взвесить относительную значимость
различных областей знания и способов мышления
для жизни обычного человека. Как мы увидим
в следующем разделе, именно здесь лежит
источник давления критических интеллектуалов на
систему знания.
Здесь следует сказать несколько слов о роли
междисциплинарности в наступлении состояния
постмодерна, поскольку выше, обсуждая Белла
и Гоулднера, я допустил намек, что в i96o-i97°~e
междисциплинарность обещала вернуть
университету критический угол зрения. Конечно, в
сегодняшней академии призывы к
междисциплинарности остаются в моде. Однако в наши дни они
получили постмодернистский разворот, которого
раньше у них не было (Fuller & Collier 2004:
Introduction). Это становится особенно заметно, если
вспомнить, что Гумбольдт основал современный
университет с расчетом на либерально образован-
56
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
ного гражданина. С этой точки зрения
производство знания должно быть «всегда уже»
междисциплинарным. Дисциплины, как мы их знаем
сейчас—отраженные в структуре факультетов и
департаментов, в специализированных журналах
и аспирантских программах,—возникли
постепенно, как институционализированный результат
компромиссов между несовместимыми
исследовательскими программами, руководствовавшимися
различными взглядами на мир в целом. Так, тех,
кого мы сегодня можем четко назвать физиками,
химиками, биологами, медиками и даже
инженерами, было довольно трудно отделить друг от
друга на протяжении всего XIX века. Это утверждение
еще более применимо к так называемым
неестественным наукам. Более того, изощренные обзоры
академического знания до первой трети XX века
предполагали этот мутный и фрагментарный
процесс дисциплинарного членения (например, Cas-
sirer 195°; Merz 1965)·
Однако по мере того, как дисциплинарные
границы в XX веке укреплялись, стали появляться
интеллектуальные зазоры между дисциплинами,
слепые пятна, восполнить которые была
призвана явным образом междисциплинарная работа.
По большей части такое мышление было
мотивировано холодной войной: вопросы национальной
безопасности заставляли академические умы по
обе стороны железного занавеса
самоорганизовываться в единое целое. В таком контексте
исследования операций, теория систем и
исследования по искусственному интеллекту начали
демонстрировать, что существование дисциплин
препятствует эффективным потокам знаний.
К концу 1960-х эта точка зрения нашла на Западе
поддержку в радикальных кругах: феминистки,
57
СТИВ ФУЛЛЕР
мультикультуралисты и другие начали
рассматривать дисциплинарное членение как активное
подавление политически непокорных субъектов,
не дающее академии эффективно коммунициро-
вать с обществом в целом и, что важнее,
заниматься его просвещением.
Основные символические и материальные
конфликты, разворачивавшиеся между
истеблишментом и контркультурой в тот период, происходили
на фоне разрастания университетского сектора.
Однако это разрастание стало сходить на нет с
падением Берлинской стены в 1989 году. После этого
междисциплинарность начала принимать
нынешний постмодернистский оттенок. Под личиной
производства знания в соответствии со
«Способом 2», если использовать излюбленный в
европейских кругах деятелей научной политики новояз
(Gibbons et al. i994)> междисциплинарность стала
средством введения неакадемических стандартов
деятельности, призванных разрушать такие
нормальные приметы академической жизни, как
технический язык и привычка к саморегулированию,
которые представлялись как показательная «погоня
за рентой». С этого времени слово
«междисциплинарный» стало отсылать ко всем тем «реальным
проблемам», которые дисциплинарная академия
постоянно игнорировала или обесценивала. Так,
в исследовательские и даже учебные программы
стало принято включать потенциальных
«пользователей и выгодополучателей» за пределами
академии.
В этой среде более всего процветают те области
академии, в которых «междисциплинарность»
выражается главным образом через размножение
прикладных методов в противоположность
содержательной объяснительной теории. Для сравнения
5»
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
задумайтесь: более академически
ориентированные междисциплинарные исследования были
основаны на дисциплинах, бросающих вызов своим
теоретическим и методологическим различиям,
чтобы прийти к некоторому синтетическому
решению, где каждая дисциплина узнает в другой нечто,
что служит ограничением для ее собственных
претензий на гегемонию. Мы можем считать такую
междисциплинарную «интерпретацию»
применением подхода семантического восхождения (Fuller &
Collier 2004: eh. 2). Но в нашем дивном новом мире
крупнейшим препятствием на пути междисципли-
нарности является именно теоретический багаж
индивидуальных дисциплин, накопленный в силу
их индивидуальной истории, который мешает им
участвовать в коллективном исследовании. Это,
так сказать, подход семантического спуска, который
требует искать наименьший эмпирический общий
знаменатель, как в случае основанной на фактах
политики, в которой различные теории — и даже
методы, использованные для получения и
интерпретации данных, рассматриваются как лестницы,
которые следует отбросить, забравшись наверх.
В этом отношении поражает семантическое
размывание самого слова «теория» в таких популярных
междисциплинарных исследовательских
инструментах, как «теория рационального выбора»,
«теория игр», «теория сложности», «теория хаоса»,
«акторно-сетевая теория»—ни одна из них реально
не объясняет те паттерны, которые обнаруживает
в данных.
Конечно, кто-то может сказать, что в отношении
междисциплинарного производства знания я
формулирую ложную дилемму. Это необязательно
вопрос создания более высокой формы
академического знания или полного изъятия результатов
59
СТИВ ФУЛЛЕР
исследований из рук академиков. Может быть, дело
просто в том, чтобы учиться ценить существование
других дисциплин и других способов знания,
обладающих самостоятельной ценностью. Но это все
равно, что пытаться изучать современные
иностранные языки, ни разу не встретившись с
межкультурными конфликтами, в которые вовлечены
их носители.
Позвольте мне в завершение этого раздела
поместить грядущую дезинтеграцию университета в так
называемую всемирно-историческую перспективу.
Я уже писал в других работах о постэпистемическом
состоянии, когда наука является не формой
исследования, а чем-то другим, например стратегией
сохранения работы или фактором достижения
благосостояния (Fuller 2000а: eh. 3)· В состоянии
постмодерна эти разнонаправленные стремления
раздирают университет на части, отрывая
образовательную функцию от исследовательской. В свои
лучшие времена университет был катализатором
социальных изменений, когда две его функции
занимались взаимной регуляцией: задача обучения
сдерживала тягу исследователей к эзотеризму,
а исследователи вносили разнообразие в
склонный к рутинизации учебный процесс. В результате
каждое новое поколение студентов причащалось
знаний, которые хоть в каком-то отношении
существенно отличались от знаний, переданных
предыдущим поколениям. Этим обеспечивался
начальный импульс для более масштабных
социальных изменений. Однако возникла опасность, что
тонкий баланс между этими двумя функциями
будет утрачен. С одной стороны, учебный процесс
сводится к распределению квалификаций; с другой
стороны, исследования приватизируются в виде
интеллектуальной собственности. Первый попадает
бо
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
в зависимость от рынка труда, вторые — от рынка
фьючерсов.
Эти процессы, возможно, являются новыми
относительно недавнего прошлого, но они не
являются полностью уникальными ни для нашего
исторического периода, ни для нашей культуры.
Вообще-то, несмотря на название, постэпистемическое
состояние было нормальным положением дел в
незападных культурах, где институты высшего
образования существовали как минимум так же долго,
как и на Западе, в особенности в Китае и Индии.
В одном из наиболее масштабных сравнительных
исследований различных школ мысли Рэндалл
Коллинз обнаружил один удивительнейший факт
о производстве знания в Китае и Индии (Collins
1998: 501_522)· Эти регионы Азии породили
большинство теорий, релеватных научной
революции, на несколько столетий раньше, чем
аналогичные теории были созданы в XVII веке в Европе.
Однако там не было институций, в рамках которых
они могли бы вступить в конструктивную
конфронтацию таким образом, чтобы множество
теорий было бы подвергнуто экспериментальной
проверке. Вместо этого технологии обычно
разрабатывались и усовершенствовались исключительно либо
в контексте крупномасштабных общественных
проектов, либо по индивидуальному заказу. Более
того, за исключением нескольких кратких
плодотворных эпизодов даже теоретические школы
остались в основном не затронутыми культурой
схоластических диспутов, столь характерной для
периода первого расцвета университетов в средневековой
Европе. Восточные теоретические учения
разрабатывались в контексте подготовки к экзаменам для
поступления на государственную службу, а
технические инновации теоретизировались не более, чем
6i
СТИВ ФУЛЛЕР
было необходимо для выполнения конкретной
практической задачи.
Короче говоря, на Востоке преподавание и
исследования развивались в слишком плотной
привязке к внешним «стандартам
производительности», чтобы породить такую радикальную соци-
ально-эпистемическую трансформацию, как
научная революция на Западе. Но разве
сегодняшняя ситуация так уж сильно отличается? Не
находимся ли мы в процессе разрушения
уникальных достижений западного университета, когда,
например, отделяем систему оценки
исследований от системы оценки учебного процесса,
оценивая первую по числу опубликованных статей,
а вторую по числу выпущенных студентов, не
задумываясь о том, какие между ними должны быть
взаимоотношения? Несомненно, это разрушение
произойдет по крайней мере поначалу без явных
внешних симптомов. В конце концов, принято
считать, что по материальному богатству Восток
превосходил Запад до конца XVIII или даже до
начала XIX века, то есть еще два столетия после
официального начала научной революции (Frank
!997)·
Однако явным признаком отступления
университета от его общественной миссии является то,
что Лиотар назвал крахом «мета-», или «больших
нарративов», в академическом дискурсе. Метанар-
ративы—это генерируемые внутри академии
истории о том, как все стало таким, как оно есть, и
каким оно, скорее всего, станет в будущем. Они
обычно порождаются теоретическими рамками,
которые выходят за пределы обычных способов
понимания мира и даже бросают им вызов.
Всепроникающее влияние больших нарративов,
ассоциирующихся, например, с капитализмом, социа-
62
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
лизмом или научным прогрессом, в общем
служило, вероятно, лучшей рекламой значимости
критической интеллектуальной работы в XIX-
XX веках. Однако в то же время эти нарративы
проявляли огромную самонадеянность, часто
непропорциональную их фактическим основаниям.
Двух мировых войн и бесчисленных эпизодов
организованного насилия можно было бы избежать,
если бы такие нарративы не оказались столь
пленительными.
Разумеется, некоторые большие нарративы
продолжают просачиваться сквозь стены
университетов и в общество в целом. Биологические науки
в данный момент наслаждаются всеобщим
вниманием как источник многочисленных генетических
и эволюционных баек, большая часть из которых
была создана уже после того, как Лиотар
диагностировал состояние постмодерна (например,
Wilson 1998; Pinker 2002). Тем не менее эти
нарративы, хотя и контринтуитивные по сюжетной
структуре и объяснительным стратегиям, склонны
легитимировать господствующие верования и
обычаи общества. Более того, убедительность этих
общих «социобиологических» сказок коренится
в том, что они исключают человеческую агент-
ность из истории, так что получается, что никто
не отвечает за свою судьбу. В этом смысле они не
несут той «критической» функции, свойственной
старым метанарративам. Нетрудно проследить
связь между подъемом социобиологии и
вышеописанной «ориентализацией» интеллектуальной
жизни, особенно если понимать генетику в
кармических терминах (Fuller 2006а: р. III). Но это
вернуло бы нас к диагностическому режиму, в то
время как я хотел бы продолжить в более позитивном
ключе.
63
СТИВ ФУЛЛЕР
Как вернуть университету
критическую функцию
через историзацию учебных программ
Историческое сознание является необходимым
условием критики—это исследователи образования
уже выучили (Goodson 1999)· Но до какой степени
в программах различных академических
дисциплин культивируется историческое сознание?
Начнем с дисциплины, которая, пожалуй, лучше
других осознавала влияние своей педагогической
миссии на свои траектории исследования—с философии.
Философия уникальна в том, что ее глубочайшие
проблемы обычно представлены во вводных курсах,
а последующие курсы только добавляют более
детальные формулировки и более утонченные
способы анализа этих проблем, даже не претендуя на их
решение. Значительная часть современных
философов играют определенные роли — например,
«реалист» или «релятивист»,—которые
воспроизводятся столетиями, если не вечность. От студентов,
поступивших на философское отделение, не требуется
выучить все решения философских проблем и тем
более не требуется решить эти проблемы
самостоятельно. От них требуется заниматься их
«философским осмыслением». Для каждой проблемы в
истории философии есть цикл из нескольких
конкурирующих решений, находящихся в неизменном
напряжении. Это означает, что, с поправкой на
языковые различия, если бы Аристотель перенесся
на современную лекцию «Введение в философию»,
он бы без особых затруднений понял, о чем идет
речь. По крайней мере это идеал, к которому
стремятся составители программ по философии.
Исключения из этого правила наиболее заметны
в тех областях философии, которые находятся под
64
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
влиянием специальных дисциплин, где полет
времени более прямо отражается на учебной повестке.
Очевидный пример —роль математики в развитии
современной логики, в которой Аристотель без
дополнительной подготовки вряд ли превзойдет
толкового первокурсника. Однако исторический
характер учебных программ в самой математике
тоже довольно-таки уникален. Грубо говоря,
программа воспроизводит историю дисциплины:
каждая область математики преподается как
обобщение или ограничение исторически
предшествующей области. Арифметика занимается рефлексией
над счетом, а геометрия—над измерением; но
алгебра уже занимается рефлексией над арифметикой,
а аналитическая геометрия—над обычной алгеброй
и геометрией, а все остальные математические
специальности рефлексируют над ними. Большинство
дебатов в истории современной математики были
связаны с онтологическим статусом
математических сущностей и значением пропозиций,
порождаемых этими сериями рефлексий, особенно если
они начинают расходиться со структурой
пространства и времени, как они представляются
обыденному сознанию или физике (Collins, 199&: cn· 15)·
Здесь математика переходит в метаматематику,
возвращаясь к своим философским корням, хотя
и в гораздо более технически сложном обличье. Но
студентов к этим дебатам обычно не допускают —
разве что для укрепления автономии
математического исследования перед лицом «наивных»
возражений.
Несмотря на периодические попытки
представить педагогику в естественных науках как
воспроизводство истории дисциплины, в XX веке
в преподавании этих дисциплин доминировал
«рационально-реконструкционистский» подход
65
СТИВ ФУЛЛЕР
к прошлому. Это означает, что программа
организована с точки зрения современных
исследователей, заинтересованных в самых действенных
методах, посредством которых прошлое может быть
показано как имеющее значение для
исследований, находящихся на передовых рубежах науки.
Поэтому первыми преподаются теоретически
самые простые проблемы, затем более сложные,
строящиеся на них, постепенно подводя к
переднему краю исследований. Программа включает
лишь отдельные чисто символические кивки
в сторону реальной истории дисциплины, обычно
в качестве конкретных примеров, поясняющих
абстрактные тезисы.
Неудивительно, что тех, кто прошел обучение
в какой-либо из естественных наук, а затем
посвятил большую часть своей энергии исследованию
истории своей области, в результате начинают
идентифицировать в первую очередь как историков, а не
ученых, то есть как хранителей мертвого
прошлого, не имеющего влияния на обучение современных
студентов-естественников. При этом часто
упускается из виду следствие этой тенденции:
избирательное использование истории для задач
сегодняшнего дня сосуществует в симбиозе с
попытками воспроизвести прошлое, чтобы понять его в его
собственных терминах. По сути, исключение
истории науки из учебных программ естественных наук
позволяет ей существовать как автономной области
исследований, на которую не влияют
практикующие ученые.
Обратившись к гуманитарным и социальным
наукам, которые не следуют естественнонаучной
модели педагогики, мы увидим множество разных
подходов к истории. В первую очередь студентов
знакомят с предметом в додисциплинарной форме,
66
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
которая в общих чертах совпадает с обыденными
представлениями. То есть студенты знакомятся
сначала с художественными произведениями, а уже
потом с теорией искусства, сначала с литературой,
а потом с теорией литературы, и так далее.
Вводный курс экономики знакомит студентов с самыми
базовыми понятиями и простейшими моделями
экономики, а программа по социологии обычно
начинается с демонстрации сложности социальной
жизни, и только потом выдвигается требование
специфически социологического анализа этой
сложности.
В силу педагогической процедуры,
применяемой в учебной программе по социологии, связь
между дисциплинарной оптикой и ее
предполагаемым предметом начинает выглядеть
искусственной, тем самым открывая студентам возможность
поставить под сомнение пользу этой оптики. По
сути, социальные науки постоянно воспроизводят
в учебной аудитории свою первоначальную битву
за легитимацию, привлекая внимание к
«неестественному» характеру своей дисциплины. Если бы
учебные программы по математике или
естественным наукам были устроены подобным образом,
студенты заканчивали бы курс с уймой знаний
о, допустим, движении объектов, но по-прежнему
сомневаясь в том, какова ценность физики для
понимания этих объектов. Однако таких студентов
нет, потому что преподаватели физики обычно
заботятся о том, чтобы показать богатство
физической реальности такими способами, которые
подразумевают необходимость концептуального
аппарата этой дисциплины.
Разумеется, за юо лет, предшествовавших
Первой мировой войне, было множество попыток
организовать учебную программу естественных наук
б7
СТИВ ФУЛЛЕР
на основаниях, сходных с сегодняшними
практикам в гуманитарных и социальных наук. Поэт
Иоганн Вольфганг фон Гете и позитивист Эрнст
Мах могут всплыть в воображении
многочисленных сторонников этого подхода, который во
времена, предшествующие Гуссерлю, разворачивался под
флагом «феноменологии» в смысле
«феноменологической оптики» — области, в которую и Гете,
и Мах внесли свой вклад. Более того, этот
гуманистический подход не остался лишь утопической
фантазией: именно он в XIX веке позволил
естественным наукам выбраться из политехнических
институтов в университеты. Глубокое влияние
знаменитого оппонента Гегеля и поборника
Naturphilosophie Шеллинга на последующие поколения
немецких ученых-экспериментаторов еще предстоит
открыть — и заниматься этим будут только
историки науки (например, Гейдельберг (Heidelberger
2004)), чья работа тщательно изгоняется из
учебных программ естественных наук. Важное
исключение из этой общей тенденции — постоянные
попытки креационистов, в том числе сторонников
теории разумного замысла, реструктурировать
преподавание биологии, особенно распространенные
в США и Австралии, но набирающие популярность
и в Великобритании.
Ключевой момент креационистского проекта
состоит в том, что феномены, ассоциирующиеся с
развитием жизни на земле (свидетельства
палеонтологии, морфологии и т.д.) должны предъявляться
отдельно от концептуального аппарата
неодарвинистского эволюционного синтеза. В результате
учебники по биологии должны стать больше
похожими на учебники по социологии, где
объяснительные схемы вводятся только после того, как
представлены богатые описания феноменов. Студенты
68
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
при этом помещаются в положение оценки
конкурирующих схем, каждая из которых может иметь
свои преимущества и недостатки в применении
к полному спектру свидетельств (Meyer et al. 2007).
Согласно креационистскому проекту, эти
альтернативные схемы должны быть позаимствованы из
скрытого прошлого самой биологии: библейского
буквализма, космического перфекционизма, теории
разумного замысла, ламаркизма и т. д. (Fuller 2007с,
20о8).
И сторонники, и противники креационизма
соглашаются, что такое риторическое нововведение
подорвет педагогическую гегемонию дарвиновской
эволюции путем естественного отбора. Теории,
прежде считавшиеся опровергнутыми, получат
новое право на жизнь, когда студентам придется
самостоятельно определять истинную ценность
дарвинизма по сравнению с теми теориями, которые
могли бы возникнуть, если бы одна из альтернатив
была соответствующим образом разработана.
Присутствие этих исторических альтернатив также ярче
высветило бы неименные концептуальные и
эмпирические затруднения дарвинизма, которые
обычно затемняются его статусом парадигмы в
биологии. Для биологии такой проект может показаться
радикальным, но он хорошо знаком
преподавателям социологии, для которых ни одна теория
прошлого не является полностью отброшенной. Ведь
если доминирующее положение в научном
исследовании социальной жизни в XXI веке займет,
допустим, социобиология, нетрудно представить себе,
что сами социологи адаптируют к своей пользе
риторическую стратегию, лежащую в основе
креационистской критики преподавания биологии.
В этом споре с креационистами проявляется
важное отличие в отношении к истории. Он ведется
69
СТИВ ФУЛЛЕР
вокруг возможной обратимости истории
дисциплины, особенно возвращения к уровням
понимания, соответствующим «додисциплинарным»
формам опыта. Очевидно, эволюционные биологи
считают педагогические инновации
креационистов большим шагом назад в этом отношении. Они
следуют за Томасом Куном (Kuhn 197°) в
убежденности, что достижение консенсуса по поводу такой
детально разраработанной теории, как
синтетический неодарвинизм, является несомненным
признаком прогресса науки. Напротив, креационисты
хотели бы установить учебную программу, которая
стремится подорвать этот консенсус (Fuller 2008:
eh. 1).
Но, как я уже замечал, необязательно быть
религиозным фанатиком или интеллектуальным
реакционером, чтобы придерживаться таких
взглядов. Например, Мах не хотел помещать теорию
атома в центр преподавания физики, потому что,
несмотря на всю пользу для концептуальных
и экспериментальных исследований
профессиональных физиков, контринтуитивная природа
этой теории мешала пониманию и освоению
физического знания инженерами, ремесленниками
и другими не-экспертами. Для Маха
отвлеченность атомной теории от обыденного опыта
отражала идиосинкразию истории физики, которая,
подобно другим дисциплинам, выработала
эвристики, превосходно работающие в кругу
специалистов, но вовсе не так хорошо — за его пределами
(Fuller 2000b: eh. 2). Соответственно, задача
образования — выпустить эти озарения
специалистов в более широкие круги общества, а не
укреплять их исходную теоретическую упаковку,
относясь к студентам как к потенциальным рекрутам
в ряды специалистов.
70
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! УНИВЕРСИТЕТ
Образовательное затруднение, обозначеннное
в предыдущем предложении, наиболее явно
проявляется в тех социальных дисциплинах, которые
имеют наиболее долгую историю попыток
соответствовать методам физических наук, а именно в
психологии и экономике. В этих дисциплинарных
полях на студентов постоянно обрушивается
шизоидная программа. Основные курсы делят пространство
дисциплины на теоретически релевантные
категории, будь то «ощущение», «восприятие» и
«сознание» (в случае психологии) или «рынок»,
«домохозяйство» и «фирма» (в случае экономики). Однако
последующие курсы по «истории и системам»—все
еще обязательные во многих программах
специализации—подрывают это представление дисциплины
в стиле рациональной реконструкции, обращаясь
к ее истокам в связи с вопросами, которые наиболее
интересны студентам. Обычно это «концептуально
недооформленные» (также известные под именем
«прикладные») области, обладающие низким
статусом в рамках нынешней академической системы
ценностей. Таким образом, теоретически
обеспеченные успехи, например неоклассической
экономики или когнитивной психологии,
сопровождаются их подозрительным молчанием по поводу
проблем, относящихся к экономическим или
психологическим аспектам повседневной жизни,
которые как раз оказываются сильной стороной таких
«отброшенных» направлений, как институциона-
лизм (в экономике) и бихевиоризм (в психологии).
Более того, этот программный диссонанс быстро
усиливается по мере того, как учебная нагрузка
кафедр и департаментов все больше ложится на тех
сотрудников, чье образование и интересы слишком
далеки от переднего края науки, чтобы обеспечить
крупные исследовательские гранты.
71
СТИВ ФУЛЛЕР
Несомненно, теоретик образования с панглос-
совским8 образом мышления похвалил бы такое
положение дел, поскольку оно позволяет
психологии и экономике воспользоваться сегментиро-
ванностью рынка образования и исследований
в своих целях: сотрудники с высокой
исследовательской активностью могут держаться подальше
от студентов, пока их менее активные коллеги
заполняют учебные аудитории, даже если это
означает, что наиболее живой интерес студентов будет
принадлежать областям, страдающим от низкого
статуса внутри дисциплины. Хотя эта стратегия
может помочь академическим департаментам
выжить в нынешней культуре аудита, в конечном
итоге она только доказывает тезис Лиотара,
что университет стал не более чем физическим
контейнером для никак не связанных друг с
другом занятий, каждое из которых могло бы
выполняться лучше в другом месте, если бы им
позволили пойти своей дорогой. Передовым
исследователям было бы свободнее в научном парке или
think-tanke9, а популярные преподаватели могли
бы без помех следовать своему призванию в
сфере профессионального образования или в
Открытом Университете.
Несомненно, структура вознаграждения за эти
различные институционализации исследования
8. Панглосс — персонаж романа Вольтера «Кандид»,
карикатура на идеи Лейбница: он убежден, что ничто в мире не
может стать лучше, потому что мы уже живем в лучшем
из миров.— Примеч. пер.
9- Think tank {англ. «мозговой центр», «фабрика мысли») —
негосударственная научно-исследовательская организация
или сообщество экспертов, обычно собранное для
решения какой-то конкретной проблемы или разработку
некого проекта.— Примеч. пер.
72
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
и преподавания должна быть уравнена. Но если
предположить, что это сделано — какая роль
останется университету? Никакой, согласно логике
постмодернизма. Но я предлагаю радикальное
решение, которое вернет университету положение
институции, отвечающей за регулирование потока
знания в обществе. Вкратце, это решение будет
касаться проблем «неравномерного развития»,
возникших из-за того, что производство знания
обгоняет его распределение.
Affirmative action10 как стратегия
восстановления баланса между
исследованием и преподаванием
Фуллер и Коллиер (Fuller and Collier 2004)
различили «плебнауку» [plebiscience] и «пролнауку»
[prolescience] как обозначения общих
направлений политики знания. Вкратце, плебнаука — это
«естественная установка» академии в отношении
образования, которое понимается как бесплатное
ю. Политика, направленная на устранение последствий расовой,
тендерной и другой дискриминации. Основная ее идея
в том, что группы людей, которые ранее подвергались
дискриминации (например, коренные американцы,
женщины, афроамериканцы и т. д.), теперь должны,
наоборот, наделяться дополнительными привилегиями,
например, преимущественным правом поступления
в университет, приема на работу, продвижения по
карьерной лестнице, получения стипендии, финансовой
помощи и т. д. Встречаются варианты перевода «позитивные
действия», «позитивная дискриминация»,
«предоставление преимущественных прав», «политика утвердительных
действий», «компенсационная дискриминация». Во
избежание путаницы было решено сохранить в данном тексте
оригинальный термин. — Примеч. пер.
73
СТИВ ФУЛЛЕР
приложение к исследовательской деятельности;
пролнаука — обратное отношение, которое
оценивает исследования только в терминах их
образовательной пользы. Исходя из приписываемой
роли истории в учебных программах, первый
подход близок ситуации в естественных науках и
«более точных» социальных науках, а последний —
гуманитарным и «менее точным» социальным
наукам.
Плебнаука отсылает к смыслу термина
«плебисцит» в политологии: сведение избирательного
права в массовых демократиях к пустой
формальности, праву ратификации инициатив
действующего правительства или праву выбора между
вариантами сохранения статус-кво. Именно
«естественная установка» академии в отношении
образования рассматривает его как
функциональный эквивалент плебисцита, не имеющего
значительного влияния на исследования. Это
предполагает, что передовой край исследований следует
двигать вперед и чем быстрее, тем лучше, а
образование может либо поднять студентов до этого
уровня, либо, если это не удастся, внушить им
почтительный трепет перед последними
разработками. Плебнаука регулярно укрепляется историей
науки, которая избегает любого упоминания о
механизмах распределения нового знания,
имплицитно предполагая, что в любых затруднениях
в процессе его распространения виноваты либо
некомпетентные учителя, либо нерадивые студенты.
Плебнаучный подход очень глубоко укоренился
в нашем представлении о знании. Редкий
академический администратор или грантовый совет будет
столь безрассуден, чтобы объявить элитные
передовые исследования привилегией, а не стандартом.
(Обычно для этого сначала требуется вмешатель-
74
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
ство бюджетного кризиса.) Таким образом,
экспериментальные естественные науки начинают
цениться превыше всех остальных дисциплин за их
способность «руководить собственным примером»
в педагогическом смысле, то есть строить учебные
программы так, чтобы они подводили к
переднему краю, что было подробно описано в
предыдущем разделе.
С точки зрения истории высшего образования
проблема с использованием естественных наук —
особенно лабораторных дисциплин —в качестве
общей модели состоит в том, что они одними из
последних были инкорпорированы в миссию
университета и, возможно, так до конца в нем и не
ассимилировались. Появление первых
исследовательских лабораторий на территории
университетов в большинстве стран датируется не ранее чем
третьей четвертью XIX века. Более того, это была по
большей части защитная реакция на доказанную
финансовую прибыльность исследований,
исходящих из лабораторий, которые обычно
финансировались индустрией и располагались в
политехнических институтах. Предоставленные сами себе,
университеты все еще находились под властью
аристократических предрассудков, восходящих
к грекам, которые ассоциировали знание,
полученное путем ручного труда, с тяжелой монотонностью
и даже рабством.
Но чтобы университет смог вместить эти
вдохновленные индустрией формы знания,
потребовалась сделка с дьяволом. Капиталистическая этика
требует вселенную безграничной
производительности, призванную дополнять отсутствие
естественных границ человеческих аппетитов. Невозможно
изобрести слишком много, потому что всегда есть
новые рынки, которые можно захватить, или,
75
СТИВ ФУЛЛЕР
точнее, старые рынки, которые можно реконфигу-
рировать к своему конкурентному преимуществу.
Постепенно университет принял эту этику как свою.
Ее наследием стала бездумная погоня за числом
публикаций и числом ссылок на эти публикации —
все это без внимания к качественному значению
этих численных индикаторов (Fuller 1997: cn· 4)·
Лучшее воплощение этой извращенной логики —
тот факт, что университеты призывают своих
сотрудников патентовать все, что только можно,
несмотря на отсутствие свидетельств, что таким
образом можно получить коммерческую выгоду
(Hinde 1999)·
Напротив, пролнаучная перспектива исходит
из осознания, что плебнаука есть историческая
аберрация, которая началась, когда у
университетов возникла необходимость мимикрировать под
ценностную систему капитализма, таким образом
сводя общественную ценность знания до
(относительно) частных условий его производства.
Вернуть общественный характер знания значит, в
экономических терминах, вернуть распределение как
способ производства. В классических
академических терминах, ученический опыт должен быть
заново интегрирован в исследования под общим
термином «изучение» [«inquiry»]. В предыдущем
разделе я обсуждал эту стратегию как вопрос исто-
ризации учебных программ. Как понятно из
названия, пролнаука имеет свой источник в широких
массах общества, в этом смысле — в
«пролетариате»: состояние знания в обществе измеряется тем,
что знает обычный человек, а не
эксперт-исследователь. Пролнаучный ответ плебнауке
подразумевает сдвиг в представлении о производстве знания.
Там, где плебученый в каждый отдельный момент
видит передовой край исследований, который
76
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
функционирует как большая река, в которую рано
или поздно вливаются все течения, пролученый
переворачивает этот образ у себя в голове,
интерпретируя наличие четкого передового края как
монополию, требующую разделения, подобно
тому, как река разделяется на рукава в дельте.
Средством, при помощи которого действуют оба
этих типа потоковых трансформаций, является,
разумеется, образование (Fuller 2000а: eh. 6; Fuller
2000b: Conclusion).
Пролнаучная задача исследования — сделать
новые претензии на знание совместимыми с
максимально возможным количеством разных исходных
предпосылок. Чтобы выполнить эту задачу,
необходимо размыть нынешнее жесткое разграничение
между обучением и исследованием—особенно в том
смысле, что эти две области деятельности
оцениваются по разным критериям. В социологических
терминах это двухступенчатый процесс:
демистификация и детрадиционализация (Beck et al. 1994)·
Следует начать с раскрытия конкретных
исторических причин, по которым та или иная
исследовательская программа оказалась признанной в
качестве ценной формы знания. Это демистификация.
А затем нужно показать, что это знание может быть
ассимилировано и использовано множеством
различных исследовательских программ, зачастую
в целях, весьма далеких от первоначальной. Это
детрадиционализация.
В долгосрочной перспективе успех пролнауч-
ного подхода приведет к переходу всех
академических дисциплин на модель педагогики,
принятую в гуманитарных и менее точных социальных
науках. Передача нового знания широким массам
населения должна будет стать обязательным
требованием для любых претензий на эпистемический
77
СТИВ ФУЛЛЕР
прогресс, как и хотели Мах и креационисты.
Образование перестанет быть прислужником
исследований и вернет себе активную функцию
контроля над негативными тенденциями исследований
к чрезмерной специализации и
приверженности одним исследовательским областям за счет
других.
Я предлагаю довести законодательство
affirmative action до его логического завершения,
распространив универсалистские амбиции академии не
только на людей, которые вовлечены в поиск
знания, но и на идеи, которыми эти люди могут
легитимно заниматься. В настоящее время
affirmative action служит для того, чтобы распространить
привилегии, доступные, например, белым
мужчинам среднего класса, на все население в ситуациях
приема в университет и найма на работу в
академии (Cahn 1995)· Обычно успех этих
перераспределительных законов измеряется в терминах
повышения доли желаемых позиций, занимаемых
представителями традиционно ущемляемых
групп.
Однако продолжают страдать от ущемления не
только группы людей, но и, возможно, даже
более остро, школы мысли. Сегодняшние режимы
affirmative action весьма преуспевают в облегчении
доступа представителей небелых рас, рабочего
класса и женщин к высоким и значимым
академическим позициям, но относительно немного
(по крайней мере напрямую) делают для того,
чтобы переориентировать ту систему ценностей,
которая существует в академии применительно
к школам мысли. Неудивительно, что члены
различных меньшинств, которые получают
наибольшую выгоду от программ affirmative action,
в своих образовательных и исследовательских
7»
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! УНИВЕРСИТЕТ
интересах наиболее преданно следуют
доминирующим парадигмам.
Разумеется, отдельные течения политики
идентичности утверждают, что простое добавление
в академию представителей традиционно
непредставленных групп рано или поздно преобразует
доминирующие направления исследований,
поскольку в таких группах культивируются формы
сознания, которые не могут быть полностью
ассимилированы в культурный мейнстрим. Однако
эмпирическая подтверждаемость этой радужной
гипотезы весьма неочевидна. Даже наоборот,
достаточно взглянуть на число людей из традиционно
ущемляемых групп, которые оскорбляются, когда
их успех связывают с их этнической, тендерной
или классовой идентичностью. Эти люди обычно
думают, что лучше выиграть «по правилам», чем
изменить их. Культур-критики могут смотреть
свысока на такое поведение как на
«обыкновенный» ассимиляционизм и игнорирование
интересов своих собратьев по классу. Однако вполне
возможно, что это критики проецируют свою
собственную иконоборческую идеологию, которая
критикуемым, может быть, не так просто дается
или вовсе не нужна.
Более прямолинейный подход к affirmative action
на уровне школ мысли мог бы поощрять пролнауч-
ные занятия так, чтобы все несли ответственность за
то, чтобы сделать новое знание доступным для как
можно более широкого круга людей. Таким
образом, университету не придется отказываться от
просвещенческого стремления к универсализму,
в то же время признавая социально-исторический
характер всех форм знания. Хитрость в том, что
теперь этот характер будет пониматься как проблема,
требующая осмысления, а не как жесткий факт.
79
СТИВ ФУЛЛЕР
Одним из очевидных следствий такой политики
было бы размывание различий между
преподаванием и исследованием. В наши дни задача изложения
сложных идей в доступной для студентов форме
обычно классифицируется как «всего лишь
педагогическая». Однако в пролнаучном академическом
режиме эта деятельность тоже классифицировалась
бы как исследовательская, поскольку академик
должен понять, что в исходном способе выражения
идеи — особенно в теоретическом языке — следует
изменить, а что — сохранить, чтобы донести
релевантные идеи до целевой аудитории.
Я представляю себе эту задачу как нечто вроде
«обратного конструирования» в инженерии, когда
индустриальная инновация раскладывается на
компоненты, чтобы понять, как она работает, с
целью разработать недорогую и улучшенную версию
продукта для целевого рынка. Когда обратное
конструирование превращается в основную
экономическую политику, историки технологии говорят
о «японском эффекте», что должно служить
напоминанием о том, как баланс мировой торговли
часто восстанавливался какой-нибудь нацией,
капитализировавшей (незапланированные) выгоды от
того, что она не была первым создателем некой
идеи, открытия или изобретения (Fuller 1997:
eh. 5ff.).
Академические исследования остаются в плену
культа первенства даже несмотря на то, что
материальные условия, придававшие смысл такому
отношению к новому знанию, радикально
изменились. Когда исследование было делом досуга,
которым занимались только те, кто мог не заботиться
о хлебе насущном, к нему относились как к игре, где
первым получить некий результат — значит
выиграть приз, но не более того: точно не право
8о
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! УНИВЕРСИТЕТ
интеллектуальной собственности на этот результат
в смысле современных патентов и авторских прав.
Предполагалось, что все игроки в этой игре
обладают примерно одинаковыми способностями,
поэтому различие между выигравшими и проигравшими
в конечном итоге сводилось к удаче, а не к
глубоким вопросам профессиональной компетентности
или принадлежности к определенной
исследовательской традиции.
Качественная история того, как борьба за
первенство стала судьбой академии, требует принять
всерьез изменения, произошедшие в идее
исследования, когда оно из досуга стало трудом,
а точнее, одним из тех видов труда, которыми
человек обеспечивает все свое существование. С этого
момента поиск нового знания начинает
напоминать деятельность добывающего сектора
экономики — горнодобычи, рыболовства, сельского
хозяйства—за исключением, конечно же,
неопределенного отношения между исходными усилиями
и конечным результатом (в этом смысле более
удачной аналогией будет геологоразведка).
Отношение к любому найденному знанию стало
собственническим. Более того, я думаю, было бы
уместным описать траекторию академической
исследовательской деятельности за последние два
века как серию попыток «колонизировать»
жизненный мир, успешность которых может быть
оценена по ощутимой потребности учебных
программ догонять исследовательскую повестку. Но
является ли этот тренд обратимым?
Я начал предпоследний раздел с наблюдения,
что постмодернизм в наиболее часто употребимом
смысле родился из разочарования ролью
университета в государственных попытках контролировать
общество. Лиотар считал, что образовательная
8ι
СТИВ ФУЛЛЕР
функция сдерживает естественное размножение
исследовательских траекторий. Но, хотя он,
возможно, правильно обозначил реакционную
социальную роль университетов в его времена, идея
использовать учебные программы для сдерживания,
коррекции и перенаправления исследований сама
по себе не является реакционной. Фактически она
была мощным средством демократизации
социальной жизни через подавление новых,
основанных на знании, форм элитизма. Я
проиллюстрировал эту мысль, рассмотрев роль истории в
академических учебных программах, выделив
гуманитарные и «менее точные» социальные
науки за их педагогическое внимание к случайному
характеру исследовательских прорывов. Если
в сегодняшней академической жизни и есть роль
для критических интеллектуалов, то это
распространение пролнаучнои ментальности во всех
дисциплинах, где им случилось работать, и
сопротивление всем попыткам отсечь оценку
исследований от оценки преподавания. Это и будет
распространением принципов affirmative action от
ущемленных групп населения на ущемленные школы
мысли.
Я утверждал, что университет есть величайшая
социологическая инновация нового времени
(интервью газете Guardian от 30 апреля 2007 года). Это
институция, которая больше всего сделала для
того, чтобы сделать поиск знания безнаказанным,
в то же время максимизировав его влияние на
общество; «единство исследования и
преподавания» — миссия современного университета. Эта
миссия была детищем министра образования
Пруссии Вильгельма фон Гумбольдта, который
впервые применил ее в Берлинском университете
в ι8ιο году.
82
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! УНИВЕРСИТЕТ
Говоря в современных терминах, Гумбольдт
переизобрел университет как институцию,
направленную на «творческое разрушение социального
капитала». С одной стороны, исследования
вырастают из сетей отдельных ученых, инвесторов
и других участников рынка, которые испытывают
искушение перенаправить весь поток выгод
только на себя. С другой стороны, верность
университета образовательной миссии заставляет его
преподавать эти знания людям, весьма далеким от
этой социальной базы и могущим, в свою очередь,
употребить полученные знания на стирание того
преимущества, которым наслаждались участники
исходной сети. Все это—к лучшему: это вклад в
общее просвещение общества и стимул к
формированию новых инновационных сетей. К несчастью,
в этом благородном круговороте происходит
короткое замыкание, когда академиков призывают
думать о преподавании и исследовании как о
занятиях, с необходимостью направленных друг
против друга.
У академиков все-таки есть душа:
возрождение академической свободы
В конце 20о6 года британские академики
формально открыли для себя понятие «академическая
свобода», сформировав организацию «Академики за
академическую свободу» (Academics for Academic
Freedom, AFAF) под руководством Денниса Хайеса,
первого президента британского объединенного
Союза университетов и колледжей (University and
College Union, UCÜ), крупнейшего в мире
профсоюза работников высшего образования.
Организация появилась в ответ на несколько независимых
»3
СТИВ ФУЛЛЕР
процессов, укрепивших поселившееся в
академической среде ощущение, что спектр
преподаваемых и исследуемых тем подвергается ограничению:
(ι) боязнь оскорбить студентов, которые в свете
возросших расценок на обучение стали думать о себе
как о «клиентах» университета (в том смысле, что
клиент всегда прав); (2) страх отпугнуть реальных
или потенциальных внешних заказчиков
университетских исследований критикой, например,
государственной или корпоративной политики. В
результате несколько сотен академиков подписали
следующий манифест:
Заявление об академической свободе
Мы, нижеподписавшиеся, убеждены, что
следующие два принципа являются основой
академической свободы:
(ι) академики, как внутри, так и вне учебной
аудитории, имеют неограниченное право
подвергать сомнению и проверке расхожие
взгляды и выдвигать спорные и
непопулярные мнения, даже если они могут быть
сочтены оскорбительными, и
(2) академические институции не имеют права
ограничивать своих сотрудников в
пользовании этой свободой или использовать ее как
основание для дисциплинарных санкций или
увольнения.
СМИ немедленно обозвали это движение борьбой
за «право оскорблять», что смещает акцент на
самовыражение, а не, например, на поиск истины, куда
бы он ни завел. Этот поворот неудивителен,
поскольку в англоговорящем мире свобода
самовыражения считается фундаментальным гражданским
правом. Таким образом, бремя доказательства
84
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
перекладывается на тех — обычно агентов
государства,—кто пытается ограничить ее во имя
всеобщего блага. Судья Оливер Уэнделл Холмс в своем
решении по делу «Шенк против Соединенных
Штатов» (i9*9) приводит знаменитый пример:
произвольный выкрик «Пожар!» в переполненном
зале театра. Поднятая здесь проблема — просто-
напросто проблема злоупотребления свободой
в либеральных обществах, и решения ее
варьируются в зависимости от того, сколько общество может
стерпеть и кто уполномочен судить. Хотя пример
Холмса определенно подразумевает речь, но в ней
нет ничего особенно интеллектуального. (Однако
конкретная природа дела Шенка усложняет задачу,
что мы не имеем возможности обсуждать здесь
подробно, так как оно касается социалиста, чей
«выкрик» состоял в распространении листовок,
утверждавших, что вступление Америки в Первую
мировую войну было раздутой ложной тревогой.)
Безусловно, проще всего понять, что такое
«свобода слова» если рассматривать это выражение как
обозначение множества отдельных свобод, которые
выражаются через общий медиум: академическая
свобода, свобода вероисповедания, свобода прессы,
свобода собраний. Размах каждой из них должен
определяться отдельно.
Исходя из контекста ее рождения в
Германии XIX века, академическую свободу лучше
рассматривать как прототип более широкого
и позднего понятия интеллектуальной свободы,
чем как частный случай некоего вневременного
архетипа. В этом отношении академическая свобода
следует общей модели всех универсалистских
проектов передачи большинству того, чем владеет
меньшинство. Разумеется, как особенно любил
отмечать Гегель, в процессе перевода многое находится
85
СТИВ ФУЛЛЕР
и многое теряется. Но, не принимая во внимание
этот процесс, слишком легко съехать в
метафизические призывы к «академической свободе»,
основанные на химерических интуициях и
непоследовательных представлениях о «человеческой
природе». Исходное немецкое политическое допущение
была явно авторитарным: никто не имеет права на
свободу слова, если только она не делегирована, что
в свою очередь требует четко прописанных в
законодательстве прав и обязанностей.
Принципиальный поиск истины отстаивался как узкое цеховое
право академиков, которые были обязаны
защищать его, гарантируя, что их самовыражение
происходит в рамках стандартов рациональности и
доказательности, в поддержании которых и
заключается их работа. Таким образом, заявление AFAF не
утверждает, что академики могут говорить все, что
им вздумается, просто потому, что они академики.
Как и со всеми цеховыми правами, все вертится
вокруг правильного использования рабочих
инструментов, и здесь именно оборот «подвергать
сомнению и проверке» является определяющим для
масштаба защищаемой свободы.
Академикам должно быть позволено, хоть
в учебной аудитории, хоть на телевидении,
утверждать, что холокоста не было, что черные
интеллектуально уступают белым или что согласно
законам термодинамики эволюция невозможна —
но все это только при одном неотъемлемом
условии: они обязаны предоставить аргументы,
которые могут быть подвергнуты критической
проверке на том же уровне публичности. Они не
имеют права ссылаться на личное мнение или на
веру, и точка. По факту, очень немногие
радикальные академики столь немногословны в
отношении своих аргументов. Но те, кто отказывает-
86
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
ся предоставлять аргументы, девальвируют валюту,
имеющую хождение в академическом мире,—даже,
добавлю я, если они отстаивают совершенно
невинные позициии.
Несомненно, академики ничем не отличаются от
обычных людей в том, что они тоже могут иметь
внутренние убеждения, которые они неспособны
отстоять с помощью своих профессиональных
инструментов. В таком случае правила
академической свободы предписывают им помалкивать.
Однако нормативный смысл этого молчания серьезно
скомпрометирован климатом политкорректности,
который отчасти сформирован разрастающейся
практикой аудита университетов. Академики
в наши дни зачастую не горят желанием
задействовать необходимые интеллектуальные ресурсы
(например, подавая заявки на гранты), чтобы
вынести свои более радикальные взгляды на честное
публичное обсуждение, просто из-за того, что
высказывание таких взглядов призовет на их головы
цензуру.
Что же до более бесстрашных академиков,
которые публично отстаивают оскорбительные
позиции, они как минимум заставляют своих
оппонентов формулировать конкретно, на каких
основаниях те чувствуют себя оскорбленными, что всегда
полезно для общества, которое считает себя
рациональным. Да, регулярное озвучивание
оскорбительных позиций может привести к появлению
нежелательных политических группировок, но это
нормальный риск в просвещенном обществе. Если
кто-то считает спорные слова академика
поддержкой такой группировки, это обязывает академика
предъявить свою позицию по данному вопросу.
Недостаточно просто сказать, что чьи-то слова
были использованы не по назначению. Вот в чем
«7
СТИВ ФУЛЛЕР
самая суть цеховой обязанности—защищать
инструменты интеллектуальной работы.
Короче, пользоваться интеллектуальной
свободой—значит позволять нашим идеям умирать
вместо нас, по меткому выражению Карла Поппера.
Это «право быть неправым», способность
утверждать нечто сегодня, не подвергая опасности свою
способность утверждать нечто в будущем, даже если
утверждение окажется ложным (Fuller 2000а).
Интеллектуальная свобода в этом смысле
предполагает институционализированный дуализм — вам не
придется буквально поплатиться за свои слова:
«спекуляция» в интеллектуальном смысле отделена от
«спекуляции» в финансовом смысле. Подлинный
сторонник академической свободы, таким образом,
хотел бы, чтобы в академической среде можно было
бы безнаказанно совершать то, что в статистике
называется ошибками первого рода—то есть
ошибаться в сторону более смелых («ложнопозитивных»)
утверждений.
Современная модель такой среды —
академический постоянный контракт [tenure], первоначально
введенный в качестве аналога владения
собственностью, которое было условием гражданства в
античных Афинах. Эта историческая связь была
выстроена основателем современного университета
Вильгельмом фон Гумбольдтом, которому посвящен
трактат Милля «О свободе». С одной стороны,
афинский гражданин, который проиграл
голосование, мог спокойно вернуться в свои владения, не
беспокоясь за свою материальную безопасность;
с другой стороны, его экономические значение для
города обязывало его высказать свое мнение на
форуме при ближайшей возможности. Граждан,
которые воздерживались от самовыражения,
высмеивали как трусов.
88
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
Соответственно, если бы в академии более
строго контролировалось исполнение обязанностей,
сопутствующих постоянным контрактам, то тех
условий, которые привели к ее нынешнему
постепенному разрушению, никто бы не потерпел. Для тех
академиков, которые не знали других режимов
производства знания, кроме современного
неолиберализма, постоянный контракт выглядит как
разрешение никогда больше не выходить из своей
интеллектуальной зоны комфорта. Но даже если
многие — или даже все — академики с постоянными
контрактами соответствуют этому стереотипу, он
все равно противоречит самому духу постоянного
контракта, и с ним следует бороться.
В то же время надо более милосердно отнестись
к тем академикам с постоянными контрактами,
которых обвиняют в занятии саморекламой и
которые сознательно — хотя и зачастую искренне —
отстаивают возмутительные мнения в публичном
пространстве. Эти люди постоянно подставляются
под огонь критики, в ответ на которую игра ума
разыгрывается для общества в целом. Важно не
столько то, побеждают ли они в итоге или проигрывают
в этой борьбе, сколько то, что она дает повод
подумать вслух, к ней затем могут подключиться
многие, и она повышает общий уровень общественного
сознания. Люди, которых я здесь имею в
виду—скажем, Алан Дершовиц11, Бьорн Ломборг12, Ричард
Докинз, — более всего воплощают подлинный дух
il. Американский юрист, видный защитник позиции Израиля
в арабо-израильском конфликте. — Примеч. пер.
12. Датский экономист и эколог, доказывает, что такие
проблемы, как перенаселение, истощение нефтяных ресурсов,
вымирание видов, нехватка воды и глобальное
потепление, не подтверждаются статистическими данными. —
Прим. перев.
»9
СТИВ ФУЛЛЕР
интеллектуальной ответственности. И я бы добавил
в этот список много других, еще более ненавистных
фигур, включая многих ревизионистов нацизма, ев-
генистов, расистов и креационистов. Считать, что
общество нуждается в защите от взглядов этих
людей, — значит признавать, что оно не доросло до
права на интеллектуальную свободу.
Возьмем так называемое отрицание холокоста —
гипотезу, что обращение нацистов с евреями во
время Второй мировой войны не следует считать
геноцидом. Эта гипотеза, скорее всего, неверна, но все
же она заслуживает того, чтобы ее самая сильная
версия была подвергнута критической проверке.
Как и со многими гипотезами такого рода, ее
ложность наиболее очевидна, если принять ее именно
настолько буквально, насколько хотели бы ее
защитники. Однако усилия, прилагаемые для
фальсификации этой гипотезы, заставляют нас обратить
диагностический взгляд на те ограничения,
которые мы де-факто накладываем на «свободное
исследование» во имя «политической корректности».
В конце концов, цифры б ооо ооо евреев впервые
появились в результате сделанной на скорую руку
приблизительной оценки во время Нюрнбергского
процесса в 1946 году. В нормальном случае цифры,
появившиеся в столь политизированных
обстоятельствах, были бы встречены горячим
обсуждением, если не откровенным скептицизмом.
Следовало бы ожидать, что в последующие годы
исследователи с более холодной головой будут
увеличивать или уменьшать эти цифры по мере
оценки свидетельств.
Отрицатели холокоста придают большое
значение тому факту, что эти нормы были подвешены
или по крайней мере их действие было ослаблено.
Важно понимать, почему в этом отношении они
90
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
могут быть правы, хотя их главная теория неверна
и даже, возможно, вредна. Все дело в том, что
«интеллектуальная свобода» не имеет смысла, если она
не является расширением академической свободы.
Общество, которое по-настоящему обладает той
свободой, которую мы защищаем в академии, в
публичном режиме отделило бы друг от друга
различные деяния нацистов и оценило бы каждое из них
по отдельности в его собственных терминах, задав
вопрос, стоит ли объединять его с теми
чудовищными действиями, с которым исторически
ассоциируется нацизм (Fuller 2006а: eh. 14). Таким
образом, мы должны получить возможность
заключить—без страха или презрения,—что сторонники
нацизма, независимо от их низких побуждений,
заслуживают благодарности, например, за то, что
показали нам, как наше отчаянное стремление
к жестким моральным границам лишает нас
способности к критическому мышлению.
Стало бы меньше наше моральное возмущение,
если бы мы узнали, что нацисты уничтожили бооо
евреев, а не боооооо? Возможно — особенно если
не доверять зрелости нашего коллективного
морального суждения. Традиционно считалось, что
детям и дикарям следует внушать преувеличенные
истории о неописуемых ужасах, иначе они не
будут поступать хорошо. Вся суть Просвещения была
в том, чтобы выйти из этого состояния
«несовершеннолетия», как это называет Кант в своем
знаковом эссе об этом движении. Он хотел, чтобы
людей официально признали взрослыми, имеющими
право спорить и решать свои дела самостоятельно
путем общественного обсуждения. Однако
наиболее политически успешный последователь Канта
Вильгельм фон Гумбольдт понял, что этот идеал
Просвещения требует институционального средства,
91
СТИВ ФУЛЛЕР
с помощью которого Просвещением, может быть,
медленно, но верно, будет охвачено все общество.
С этой целью он изобрел современный
университет.
Однако до сих пор я рассуждал об
академической свободе, как будто она имеет отношение
только к профессиональным академикам. Но это лишь
половина понятия, и необязательно исторически
господствующая (Metzger 1955: 123)· Гумбольд-
товский замысел современного университета
включал в себя исходную средневековую идею, что
и студенты, и сотрудники являются гражданами
университета, с комплементарными правами и
обязанностями, которые должны поддерживаться
вместе. То, что немцы назвали свободой учиться
{Lernfreiheit) в отличие от свободы учить (Lehrfreiheit),
обосновывалось через историческую укорененность
университета в цеховой идее передачи самоценной
формы знания (universitas) в сочетании с
основанным на образовании как Bildung задаче правом
предоставить индивиду пространство для
личностного роста и развития. Все учащиеся, таким
образом, по сути, являются подмастерьями-учителями
и потому заслуживают уважения—сегодняшние
социальные психологи называют это «легитимным
периферийным участием» (Lave and Wenger 1991? СР·
Fuller 2000b: 130).
Речь Макса Вебера к аспирантам «Наука как
призвание и профессия» (Weber 1958) заслуженно
знаменита изложенным в ней взглядом на эту
проблему. Для Вебера академическая целостность
требует организации учебной аудитории таким
образом, чтобы права преподавателя не ущемляли
прав учащегося, что значило бы противозаконное
превращение науки в политику. Вебер замечает, что
один из важнейших способов, которым студенты
92
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! УНИВЕРСИТЕТ
реализуют свою свободу учиться,—это выбор, на
какие лекции ходить, что означает, что у некоторых
преподавателей намного больше студентов, чем
у других. Это особенно характерно для
академических систем (например, Оксбридж13), в которых
четко разведены роли преподавателя и
экзаменатора, так что студент в принципе может сдать предмет,
ни разу не побывав на соответствующих лекциях. Ве-
бер находил такой зарождающийся академический
консьюмеризм безвкусным, но даже он принимал его
как следствие студенческой свободы учиться.
Однако чего он не принимал —это идеи, что
преподаватели должны подстраиваться под эту тенденцию.
Он был бы, следовательно, резко против
использования студенческого набора как критерия для
раздачи служебных повышений и постоянных
контрактов. Другими словами, он хотел оставить
пространство для свободы учиться, не ущемляя
свободу учить — и наоборот, чем более известна речь
Вебера (то есть что преподаватели должны
раскрывать свои предрассудки в оценке свидетельств
и представлять противоречащие друг другу мнения
беспристрастно).
Будь Вебер жив сегодня, он бы заявил, что при
наличии студенческого интереса и университетских
ресурсов студенты имеют право на курсы по
нестандартным и даже контркультурным темам, например
«Менеджмент гостеприимства», «Исследования
спорта и досуга», «Астрология» или «Креационизм».
В конце концов, курсы по неортодоксальным темам
исторически входили в университетские программы
посредством самоорганизующихся студенческих
13. Обобщающее именование, составленное из названий двух
наиболее престижных британских университетов:
Оксфорда и Кембриджа. — Примеч. пер.
93
СТИВ ФУЛЛЕР
семинаров, имевших или не имевших поддержку со
стороны факультетов и которые студенты затем
стремились включить в формальную
академическую отчетность. Если интерес сохраняется в
течение нескольких поколений студентов, то есть
основания обратиться к университету для установления
постоянного академического курса по этой теме.
Однако эта перспектива никоим образом не
должна влиять на суждения о повышениях и продлении
контрактов имеющегося преподавательского
состава, которые должны делаться на основании
академической компетентности кандидатов в их
областях специализации. Разумеется, университету,
который хочет сохранить тонкий баланс между
Lehrfreiheit и Lernfreiheit, потребуется бизнес-план,
а может быть, и более формальный юридический
механизм, чтобы студенческий спрос не подавлял
предложение преподавателей, и наоборот.
Этим и занялся самозваный американский
активист академической свободы Дэвид Горовиц,
который в 1960-е был радикальным студентом, а
потом стал неоконсервативным защитником «прав
студентов» и прославился своим «Академическим
биллем о правах». И если американские
академики люто ненавидят Горовица за его список
«юо опаснейших профессоров» (Horowitz 2006),
то в Германии к нему относятся более
уважительно (Schreiterer 2008). Своими книгами вроде
Indoctrination U. (Horowitz 2007) Горовиц пытается
изменить мнение не самих академиков, а
студентов, их родителей, которые платят за обучение,
и выпускников. Работая со студенческими
союзами и организациями выпускников, Горовиц
поддерживает более детализированные,
содержательные студенческие оценки курсов, чем те, которые
используются для назначения контрактов и по-
94
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
вышений. В ответ на заявления академиков, что они
уже защищают студентов и их свободу учиться,
потому что либерально ведут себя в аудитории, Го-
ровиц говорит, что такие заявления стоят не
больше, чем заявления PR-представителей
большого бизнеса, которые утверждают, что крупные
корпорации, производя товары, заботятся
исключительно об интересах потребителей. И теперь, как
потребители в 1960-х, студенты должны отстоять
свои права на то, чтобы бессовестные академики не
впаривали им второсортные интеллектуальные
продукты — а сам Горовиц благородно предлагает
себя на роль Ральфа Нейдера от академии14.
Американская академия оказалась в таком
неловком положении, потому что она должна
принимать всерьез людей вроде Горовица, потому что
наиболее уважаемая академическая
профессиональная организация в США — Американская
ассоциация университетских профессоров (American
Association of University Professors, AAUP),
основанная в 1915 году философами Джоном Дьюи и
Артуром Лавджоем, почти исключительно посвящена
защите свободы преподавания и исследований, но
не свободы учиться. AAUP адаптировала элементы
более сложного немецкого понятия академической
14. Ральф Нейдер — американский адвокат, в 1965 году
опубликовал книгу «Опасен на любой скорости», посвященную
нарушениям стандартов безопасности в американской
автомобильной индустрии, которая вызвала большой
общественный резонанс. В ней Нейдер утверждал, что
причиной многих аварий становится не водитель, а
конструктивное несовершенство автомобилей, вызванное погоней
автопроизводителей за сверхприбылями. Нейдер дал
начало широкомасштабной борьбе за права потребителей
в США, занимаясь борьбой с корпоративным лобби
и другим активизмом.—Примеч. пер.
95
СТИВ ФУЛЛЕР
свободы, чтобы предотвратить необоснованные
увольнения радикальных и неконвенциональных
академиков, случающиеся по указке главных
университетских администраторов, попечительских
советов, государственных чиновников да и
студентов или их родителей (последние сами зачастую
являются выпускниками и спонсорами
университетов). Неудивительно, что АЛ UP приобрела
оборонительный характер профсоюза и пытается теперь
привязать идею академической свободы почти
исключительно к дисциплинарной экспертизе,
понимаемой в строгих цеховых терминах как право
взрослого практикующего члена на постоянное
трудоустройство после юридически
зафиксированного испытательного срока. В наше время, когда
университеты вынуждены поднимать стоимость
обучения, чтобы свести концы с концами, эта
строгая интерпретация академической свободы как
пожизненного контракта может легко быть
представлена в негативном свете — как попытка сохранить
численность рабочей силы независимо от
потребности в ней или как «погоня за рентой»15.
С точки зрения социологии в американском
контексте ни борцы за права студентов вроде Горо-
вица, ни демонстративно либеральная AAUP не
находятся в подходящей позиции, чтобы затронуть
animus, одухотворяющий Lernfreiheit. AAUP
проблематична тем, что относится к университетам не как
к организациям с собственными целями (например,
предоставление свободного образования), а всего
лишь как к местам воспроизводства различных
дисциплинарных экспертиз, во имя которых универ-
15. Экономическое поведение, направленное на получение благ,
но вносящее при этом отрицательный баланс в чистое
богатство общества. — Примеч. пер.
96
ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: УНИВЕРСИТЕТ
ситетам назначено поддерживать адекватные
условия труда для соответствующим образом
сертифицированных практиков. Для любого, кто не
является профессиональным академиком, такой
образ университета покажется крайне
своекорыстным. Тем не менее Горовиц тоже заблуждается: он
думает, что проблему свободы учиться можно
легко решить внутри одной учебной аудитории путем
изменений в практике преподавания. Напротив,
как справедливо отмечают критики Горовица, это
было бы ущемление Lehrfreiheit. Однако на
академиках лежит ответственность за формирование
процедур, позволяющих студентам организовывать
собственные курсы и требовать введения новых
предметов. Это гораздо более жесткая постановка
вопроса о Lernfreiheit, чем принятие внешне
либерального, но в конечном итоге
снисходительно-покровительственного отношения к студентам и их
способности культивировать собственные
интеллектуальные интересы.
ГЛАВА 2
Состав интеллектуальной жизни:
философия
Эпистемология как «всегда уже»
социальная эпистемология
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ» — термин,
используемый философами с середины XIX века
для обозначения исследования
теоретических оснований познания. Обычно он идет
в паре с «онтологией», теорией бытия,
представляя с ней два главных ответвления метафизики.
Изначально английское слово «эпистемология»
было введено шотландским философом Джеймсом
Феррьером в 1854 году для указания на то, что мы
сейчас называем «когнитивными науками», то есть
научное исследование разума (Passmore 1966: 52-
53; Fuller 2007b: 31-3б)· Тем не менее в XX веке
приобрели известность два других значения
эпистемологии, одно из которых родом из Германии, а
другое из Австрии.
Немецкий смысл термина возвращает нас
к представлению Канта о том, что реальность не
может быть познана в себе, но только лишь
исходя из наших различных «познавательных
интересов». У немецких идеалистов эпистемология
в этом смысле приобрела статус философии
университета с единством знания в качестве цели
и программой свободных искусств как ее
реализацией. Однако для неокантианцев, ставших
к 1900 году оплотом немецкой академии,
эпистемология рационализировала существование все более
расходящихся дисциплинарных мировоззрений,
99
СТИВ ФУЛЛЕР
которому соответствовал рост числа выдаваемых
университетом дипломов (Schnädelbach 1984)·
Неустанные попытки Вебера примирить «интер-
претативистские» и «позитивистские»
методологические императивы в области недавно
признанных социальных наук отражают эту
эпистемологическую перспективу, последним главным
представителем которой был, пожалуй, Хабермас
(Habermas 1971)· ^ рамках данной традиции
эпистемология равнозначна философскому
обоснованию наук.
Австрийский смысл эпистемологии, истоки
которого можно обнаружить у философского
психолога конца XIX века Франца Брентано (одного из
учителей Фрейда), первоначально состоял в
теологически вдохновленной реакции против Канта
(Smith 1994)· Брентано возвращается к Аристотелю,
рассматривая сознание как указатель на наше
существование в мире. Если Кант видел в нашем
непрекращающемся поиске знания радикальный отрыв
человека от мира, то Брентано был куда более
впечатлен нашей фундаментальной укорененностью
в нем. Эта чуткость послужила вдохновением для
феноменологической традиции, в особенности
поздних работ Эдмунда Гуссерля (Husserl 1954)
и всего творчества его ученика Мартина Хайдегге-
ра. Последний пришел к мысли, что
эпистемология как таковая выступает свидетельством
экзистенциального отчуждения, венцом которого
становится размножение взаимно несоизмеримых
академических дисциплин.
Эти два различных смысла эпистемологии легко
спутать в английском языке, в котором слова
«знать» [know] и «знание» [knowledge]
используются для обозначения как процессов, так и
результатов познавательной деятельности [knowing].
100
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
Во французском и немецком философских
дискурсах различие проведено куда более четко: с одной
стороны мы имеем connaissance и Erkenntnis, а с
другой— savoir и Wissenschaft. Мы могли бы переводить
первую пару терминов словом «познание»
[cognition], а вторую — словом «дисциплина» [discipline].
К примеру, бэконовский девиз «Знание — сила»
передается у Конта как Savoir est pouvoir.
Данная выразительная неуклюжесть
английского языка в вопросах эпистемологии привела к тому,
что англоязычные философы обычно
рассматривают социально санкционированное знание попросту
как совокупность того, что знают индивиды. Тем
самым они затушевывают фактичность знания как
продукта коллективной деятельности и
нормативного стандарта, который может входить в
противоречие с индивидуальными верованиями. Напротив,
именно эта фактичность знания принимается за
само собой разумеющееся французскими и
немецкими теоретиками знания, такими как Фуко и Ха-
бермас. Различие в отправных точках остается
главным источником недопонимания между
современными аналитическими и континентальными
философами, и в последние годы оно привело
к призывам обратиться к «социальной
эпистемологии» (Fuller 1998) как к исследовательскому полю,
способному не только преодолеть несоизмеримость
аналитического и континентального подходов
к знанию, но и вобрать в себя эмпирические
результаты истории и социологии науки в целях
более содержательной политики знания. Это поле
исследований науки и технологии, или STS (Science
and Technology Studies) (Fuller and Collier 2004;
Fuller 2006b).
В рамках собственно социологии эпистемология
имела непростую карьеру, и характер споров вокруг
ιοί
СТИВ ФУЛЛЕР
нее менялся с годами. Для Конта социология по
существу была прикладной эпистемологией — это
представление он унаследовал от эпохи
Просвещения, полагавшей, что общества определяются
легитимирующими их идеями. Тем не менее под
влиянием Маркса легитимные формы знания стали
рассматриваться в качестве идеологий, которые
должны быть демистифицированы социологией
знания. И все же Мангейм (Mannheim 1936)
воздержался от демистификации эпистемологии науки —
в немалой степени потому, что сама социология
утверждала (вслед за Контом), что основывается
на ней.
Но к 1970м годам проблема рефлексивных
следствий социологической критики науки
породила раскол внутри социологии,
продолжающийся и по сей день. С одной стороны, социологи
науки открыто демистифицируют эпистемологию
науки. К примеру, Блур (Bloor 1976) явным
образом намеревается завершить дело общей
социологии знания, начатое Мангеймом. С другой
стороны, социологи более мейнстримного толка
отвергают эпистемологию в пользу онтологии,
предпочитая последнюю в качестве философского
основания для социального знания. Так, Гидденс
(Giddens 1976) рассматривает социальных агентов
как «всегда уже» социальных теоретиков, чей
подход к социальному миру так же значим, как и
подход изучающих их социальных исследователей.
Этот взгляд, явно наследующий Альфреду Щюцу,
созвучен философской критике эпистемологии
Рорти (Rorty 1979)5 оказавшей сильное влияние на
постмодернистов, больше предрасположенных
к идее, что мы, скорее, населяем различные миры,
чем мы имеем разный доступ к одному и тому же
миру.
Ю2
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
В этом месте было бы полезно определить мою
собственную позицию, сравнив ее с двумя парадиг-
мальными примерами попыток обосновать проект
общей социальной эпистемологии, предпринятых
соответственно в социологии и философии: это
«Социология философий» Рэндалла Коллинза
(Collins 1998) и «Знание в социальном мире»
Элвина Голдмана (Goldman 1999)· Коллинз
и Голдман—социальные эпистемологи, а не онтоло-
ги. Иными словами, ни один из них не полагает,
что актуальное состояние производства знания
раскрывает все пределы его возможностей. Скорее
они утверждают, что оно обеспечивает
изменчивую, но поддающуюся исправлению фиксацию
условий, которые способствуют или не
способствуют познанию. Они предполагают, что познающим
еще предстоит разобраться, как они, собственно,
познают. Поэтому их коллективные усилия вплоть
до настоящего времени не конституируют всего
того, что должно быть познано. Отсюда вытекает
необходимость специального исследования —
социальной эпистемологии. Если Коллинз работает
в терминах сравнительной исторической
социологии философских культур в европейской и
азиатской сферах влияния, охватывающей последние
2500 лет, то Голдман использует
преимущественно априорную аргументацию, касающуюся
структур влияния и коммуникативных сетей,
способствующих поддержанию или сдерживанию
производства надежного знания.
Ни Коллинз, ни Голдман не испытывают
большого доверия к неформальному или
неофициальному знанию. В случае Коллинза это особенно
удивительно, учитывая всеобъемлюще
эмпирический характер его проекта. Намереваясь
предоставить нам «глобальную теорию интеллектуального
юз
СТИВ ФУЛЛЕР
изменения» (подзаголовок труда Коллинза (i99^))>
он тем не менее преимущественно
сосредотачивается на анализе содержания стандартных историй
философии, как правило, предполагающих, что
философия есть нечто такое, что делается
философами для других философов. И, как следствие,
традиционные формальные разделы
дисциплины—логика, метафизика и эпистемология
—руководят развитием нарратива Коллинза столь сильно,
что Никколо Макиавелли, чью область интересов
составляли правовая практика, политика и этика,
упоминается лишь мимоходом. Я вернусь к этому
пункту в следующем разделе. Голдман же считает
само собой разумеющимся то обстоятельство, что
знание в сложном мире предусматривает
относительно независимые друг от друга варианты
экспертизы. Главный для него вопрос заключается
в следующем: как определить экспертов,
подходящих для данного случая, и насколько можно
доверять их суждениям? Любопытно, что Голдман
склонен объединять идеи «маргинальной» и
«новой» форм знания, что, как может показаться,
ведет к отрицанию возможности для некоторых
вполне легитимных способов познания оставаться
вне господствующей тенденции на протяжении
длительных периодов времени. Определяя, в
каком именно смысле Коллинз и Голдман оба
являются социальными эпистемологами, мы
начинаем видеть некоторые весьма значительные точки
их расхождения. Будучи верным своим аналити-
ко-философским корням, Голдман следует досо-
циологическому определению «социального» как
собрания индивидов. Стало быть, социальная
жизнь протекает лишь в наблюдаемых
взаимодействиях между индивидами. Воспитание, обучение,
не говоря уже о распределенных в пространстве
104
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
и времени формах структурного доминирования,
никак не фигурируют в теории Голдмана. Тем
самым все примечательные свойства эпистемиче-
ских сообществ оказываются преднамеренными
или непреднамеренными последствиями
подобных взаимодействий. Подобное установление
связей между индивидуальным и социальным,
известное со времен шотландского Просвещения
и сохранявшееся большинством микросоциологий
вплоть до современной теории рационального
выбора, предполагает неопределенность социального,
которое не показывает себя в индивиде. Индивиды
в данном подходе имеют четко распознаваемые
психологические и биологические свойства,
предшествующие их взаимодействиям друг с другом.
Общество же не имеет собственного своеобразия —
за исключением того, которое конституируется
конкретными индивидами.
Мое оригинальное определение социальной
эпистемологии, напротив, принимает во внимание
две логических ошибки—композиции и разделения, —
которые отклоняют возможность
исчерпывающего объяснения целого (скажем, общества) в
терминах его частей (членов общества) или наоборот
объяснения частей в терминах целого (Fuller 1988:
xii-xiii). Следовательно, социальная
эпистемология, основывающаяся на концепции,
ограниченной познающим индивидом, будет существенно
отличаться от той, что основывается на
концепции, ограниченной обществом, и, в свою очередь,
предлагает нам широкую «конструктивистскую»
альтернативу этой полярности: условия
индивидуального и коллективного познания взаимно
определяют друг друга. Такой более
рефлексивный подход к социальной эпистемологии виден
в проводимом Коллинзом различении между
105
СТИВ ФУЛЛЕР
«организационными» и «интеллектуальными»
лидерами в истории философии. Например, в
качестве организационного лидера Иоганн Готлиб
фон Фихте таким образом определил границы
исследовательского поля философии в начале
XIX века, что его учитель Кант стал
интеллектуальным центром всех последующих дебатов.
Переопределив отношения философии с
собственным прошлым, Фихте по сути наделил ее новой
целью—быть оплотом немецкого университета.
Еще один пункт расхождения между
Коллинзом и Голдманом — вопрос о том, что является
целью, или функцией, системы знания. Ответ
Голдмана четок и ясен: всеобъемлющая цель —
производство надежных истин по общественно
значимым вопросам при помощи наиболее
эффективных средств. На определенном уровне
анализа, который предлагается самим Голдманом,
это единственная функция системы знания как
таковой. Конечно, наука, право, журналистика,
образование и другие ориентированные на знание
институты имеют множество иных функций. Но,
с точки зрения Голдмана, эти функции
пересекаются с их специфическими эпистемическими
целями. Подобная позиция предполагает, что
в вопросах знания цели всегда оправдывают
средства. Голдман допускает, что наилучшим образом
производящие знание системы могут
концентрировать свои ресурсы в руках нескольких элитных
исследователей, которые используют свои
открытия способами, обеспечивающими максимальную
общественную пользу, но при этом
манипулируют основной частью населения большую часть
времени. Возможно, потому что (как, скажем,
думал Платон) людям трудно принять истину —
и когнитивно, и эмоционально. В этой связи ста-
юб
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
новятся понятными одобрительные замечания
Голдмана (i992) насчет «эпистемического
патернализма», оправдывающего цензуру и
дезинформацию в том случае, если распространение
истины повлечет за собой общественное
возмущение.
Для Голдмана предельный нормативный вопрос
заключается в том, может ли знание,
произведенное данным сообществом, получить одобрение со
стороны всех компетентных исследователей—цель,
которая должна быть известна социологам по
работам Хабермаса, интерпретируемого Голдманом
в терминах способности притязаний на знание
пройти широкий диапазон проверок на
правильность, проводимых за пределами изначального
сообщества. Голдман не считает, что производители
знания являются чистыми интеллектами. Скорее,
проверки правильности способны каким-то
образом отфильтровать негативные влияния. Голдма-
новская ориентация на производство знания
напоминает объяснения материального производства
в условиях развитого капитализма, в которых не
имеет большого значения, кто в действительности
участвует в процессе и как он организован. Важно,
что максимальная продуктивность сама по себе
(в данном случае в форме истинных высказываний
или правильных решений) является благом для
каждого, так как произведенное знание ухитряется
тем или иным образом просочиться к тем, кто в нем
более всего нуждается16. И конечно, Голдман
определяет «эпистемическую силу» как
просто-напросто надежность и эффективность в решении
проблем (Goldman 1986).
16. Этот образ отсылает к экономическому термину «теория
просачивания благ» (англ. trickle-down theory). — Примеч. пер.
107
СТИВ ФУЛЛЕР
Напротив, в рассмотрении Коллинза сообщества
воплощают или же задействуют знание, которое ими
производится. Он расширяет введенное Ирвином
Гофманом понятие «цепочек ритуалов
взаимодействия» для того, чтобы ухватить взаимоусиливаю -
щий характер практик в философии, когда все
вовлеченные в нее заинтересованы одновременно в
истине, уважении, влиянии и дружбе. В этой связи
Коллинз полагает, что стили ведения аргументации,
определяющие философию в ее наиболее
организованные периоды — от остроумных обменов
репликами на площади до более методичных ученых
диспутов в лекционном зале, — по большей части
представляют собой эмоциональные явления,
предназначенные для производства групповой
солидарности (к примеру, «сообщества исследователей»),
даже если они вызывают напряжение и конфликты
между членами группы. Здесь Коллинз опирается на
свой особый взгляд на цепочки ритуалов
взаимодействия, сходные с микроструктурами религии —
образцового примера социальной жизни у Эмиля
Дюркгейма, которая также демонстрируют широкий
диапазон объединяющих практик: от неформальных
практик «Низкой церкви» до строгого формализма
«Высокой церкви»17 (Collins 2004).
Как бы то ни было, Коллинзу чужда голдма-
новская идея независимых проверок правильности
знания. Его интересует прежде всего то, могут ли
17. «Низкая церковь» («Low Church») — евангелическое
направление в англиканской церкви; отличается неприятием
внешней обрядности, сокращением роли священства
и т.п. «Высокая церковь» («High Church») —
направление в англиканской церкви, тяготеющее к католицизму;
сохраняет обрядность, утверждает авторитет духовенства,
придает большое значение церковным таинствам. —
Примеч. пер.
ю8
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! ФИЛОСОФИЯ
самопровозглашенные производители знания
руководить собственными исследованиями, а также то,
каким образом их открытия передаются
следующим поколениям производителей знания и ими
трансформируются. Хотя Коллинз порой заводит
речь о более широкой социальной и физической
среде, которая формирует интеллектуальный мир
и в то же самое время сама им формируется, он
склонен рассматривать интеллектуальную жизнь
как самоорганизующуюся и самонаправленную. Он
уделяет больше внимания изменениям в характере
знания, нежели его чистой продуктивности. Так,
чем больше философия определяла свою повестку,
тем абстрактнее и рефлексивнее она становилась.
Но подобное положение дел может отражать или
очень высокую, или очень низкую социальную
позицию философского поля. Интересный интерпре-
тативный вопрос в том, как узнать, какую именно.
К примеру, возрастание философской
абстрактности на Западе после научной революции
XVII века выступает для Коллинза показателем
ослабления познавательного авторитета
философии, когда поле эмпирического свидетельства
оказалось переданным конкретным наукам.
Интересно, что Коллинз не рассматривает эти изменения
в терминах специальных дисциплин, вовлеченных
в исследования, буквально «подходящих ближе»
к явлениям, которые стремятся постичь и
философия, и наука. Напротив, Коллинз подчеркивает
способность ученых прийти к согласию
относительно процедур разрешения разногласий —
в типичном случае путем специально
спланированного эксперимента, — что позволяет им затем
перейти к следующему пункту исследовательской
повестки. Это «наука быстрых открытий»
(Collins 1998: eh. 10). Те, кто отказывается признать
log
СТИВ ФУЛЛЕР
результаты подобных процедур, оказываются «вне
закона» или изгнанниками, порой учреждающими
свои собственные дисциплины. Отсюда
занимательный эпистемологический урок: то, что
философы науки и поныне зовут «эмпиризмом», на
поверку оказывается натурализацией позиции,
которую следовало бы описать как «антиреализм» или
«конструктивизм»—опыт обеспечивает
свидетельства в пользу общих притязаний на знание только
в том случае, если имеется хитроумное социальное
устройство, примером которого служит
лаборатория, вызывающее пиетет у корпуса
квалифицированных исследователей.
Голдман и Коллинз также значительно
расходятся в позициях насчет того, что Кун (Kuhn 1977а)
изначально определил как «сущностное
напряжение» между традицией и инновацией: Голдман
больше ставит на первую, тогда как Коллинз — на
вторую. Подобно самому Куну, Голдман
утверждает, что социальная эпистемология должна
объяснить не то, как системы знания порождают новые
идеи и открытия, а то, как им удается обеспечивать
надежный доступ к социально значимым аспектам
реальности, то есть речь идет об условиях
существования «нормальной науки». Хотя Голдман даже не
пытался заниматься ничем таким, что у социологов
сошло бы за эмпирическое исследование,
поставленные им задачи резонируют с особым
вниманием, которое в наши дни уделяется «прочности»
и «устойчивости» рутинных лабораторных практик
в рамках социальных исследований науки (Fuller
2006b: eh. 3).
И все же для меня предпочтителен скорее
подход Коллинза. Пусть философия и не является
практикой «быстрых открытий», тем не менее она
предоставляет практикующим ее творческие про-
110
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
странства, позволяя им обращаться сразу к
нескольким аудиториям во время своей работы по
систематическому разрешению комплекса проблем.
Разумеется, как верно замечает Коллинз, подобная
креативность часто утрачивается в процессе
обучения философии, которое сводит вклад каждой из
основных фигур к некой позиции в нескончаемом
шахматном турнире. В этой связи Коллинз делает
следующее провокационное замечание: общее
социологическое объяснение «глубины» философских
проблем (то есть их способности сопротивляться
четким решениям), возможно, заключается в том,
что коллективное внимание практикующих
философию ограниченно; как следствие, искусные
построения легко упускаются и возникает нужда в их
переизобретении.
Если социология религии стремится
демистифицировать «священное», а социология науки —
«объективное», тогда социология философии
должна демистифицировать «глубокое». Как так
вышло, что неимоверное количество философов
и их разнообразнейших аргументов за
последние две с половиной тысячи лет сводимы лишь
к нескольким «вечным» вопросам, которые,
кажется, никогда не получают ответа, а только
постоянно рассматриваются исходя из относительно
небольшего количества перспектив? Сами
философы указывают на неподатливость вопросов как
признак их глубины. И все же дело явно не
только в этом, поскольку можно с легкостью показать,
что постановка вопросов в схожих терминах вовсе
не обязательно означает, что решение ищется для
той же самой проблемы, особенно в случае, когда
исследователи отделены друг от друга
пространственными, временными и языковыми
барьерами (Fuller 1988: 117-162). В более приземленном
ш
СТИВ ФУЛЛЕР
подходе Коллинза эта глубина оказывается
социологическим условным обозначением для
накопленных средств, с помощью которых философы
сохраняют свое коллективное присутствие в
обществе. Философская глубина — это в буквальном
смысле миф, сравнимый с верой в то, что
священники более праведны, а ученые более умны, чем все
остальное человечество. Привлекая множество
данных из разных культур, Коллинз со всей
тщательностью демонстрирует, что глубина—это лишь
функция сетей, поддерживающих существование
философского сообщества в данном месте и
времени. Задействованные в этих сетях цепочки
ритуалов взаимодействия задают стандарт, согласно
которому какое-либо утверждение может считаться
хорошим ответом на вопрос в данное время.
Образование и распад подобных цепочек объясняет,
почему восприятие глубины столь сильно
менялось на протяжении истории.
Возьмем в качестве примера недавнее
философское «углубление», которое Коллинз не
рассматривает. Природа сознания вновь превратилась
в глубокую проблему; в научно-популярной
литературе она занимает едва ли не главное место.
И при этом всего лишь поколение назад под
влиянием Гилберта Райла и Людвига Витгенштейна
модно было заявлять, что сознание — это
псевдопроблема. Что изменилось в промежутке, так это
критерии хорошего ответа. Философы в гораздо
большей степени стали подотчетны, с одной
стороны, открытиям естественных наук, а с другой —
опыту других культур. Исходя из коллинзовской
социологической перспективы, решение проблемы
сознания будет трудным, поскольку хотя
философия и переживает период сокращения своих
познавательных полномочий, она должна согласо-
112
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
вать по большей части противоположные
интересы и нормативы групп, чьими естественными
академическими средами обитания в наши дни
являются департаменты психологии и
антропологии.
В то же время философская глубина есть нечто
большее, нежели просто сложность, которую
можно было бы ожидать как кумулятивный эффект
долгих споров. Поразительная черта педагогики
в философии, отличающая ее от всех остальных
академических дисциплин, состоит в том, что
о глубине текущих проблем рассказывается
обычно в вводных курсах, которые обращаются к
стародавним текстам (в западной традиции)
Платона, Аристотеля, Декарта, Юма и Канта. Коллинз
опирается на данное когнитивной психологией
определение рабочей памяти как ограниченного
пространства внимания, чтобы ввести «закон
малых чисел»—социологическую версию
гегелевского всемирно-исторического духа. «Числа»
обозначают здесь от трех до шести позиций, которые
могут рассматриваться в данной дискуссии в данный
момент времени философским сообществом.
Философы, занимая эти позиции, становятся
образцовыми благодаря наличию способности рекомби-
нировать интересы уже существующих сетей. Как
правило, они опираются на культурный капитал,
связанный с участием в этих сетях. Канонические
истории философии, как правило, скрывают это
обстоятельство; подобно прочим
легитимирующим попыткам описания «гения», они
пренебрегают привилегированной подноготной творческих
мыслителей и зачастую добровольным характером
маргинальности, которую они якобы
«претерпевали» в свое время. В равной степени это
относится к Галилею, Спинозе, Шопенгауэру, Пирсу
ИЗ
СТИВ ФУЛЛЕР
и Витгенштейну — мыслителям, которые очень
по-разному становились в позу «маргинала».
Между подходами Голдмана и Коллинза
множество различий, но одно из них могло бы объяснить
все остальные. Так, для Голдмана очевидно, что
эпистемическая добродетель — «истина» — не
только по определению, но и в реальности может быть
отделена от иных нормативных добродетелей —
«добра», «справедливости», «красоты»,
«эффективности» и «силы». Поэтому для Голдмана
социальный эпистемолог — это проектировщик
институций, производящих надежное знание. При этом
он предполагает, что всякая такая институция
будет содействовать по принципу домино
продвижению других добродетелей. По сути, легендарный
«автономный» характер организованного
исследования становится у него императивом всего
предприятия. Однако, с точки зрения Коллинза, Голд-
ман просто овеществляет различие между
эпистемологией и этикой, которое возникло только
с оформлением философии в специализированное
академическое поле в конце XIX века. Но ход
Голдмана включает в себя не только забвение
прошлого: он также намечает спектр отношений,
которые в будущем могут сложиться между
систематическим знанием и конституирующими его
социальными практиками.
Как уже говорилось, Голдман, по всей
видимости, готов позволять сохранению автономности
исследования служить оправданием
патерналистской установки в отношении тех членов общества,
которые неспособны усвоить новое знание в
подобающей «рациональной» манере. Но в нашу
неолиберальную эпоху, когда национальное
государство ослабевает, более вероятно, что
предположительно надежные познавательные процессы
114
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
будут кодифицироваться в качестве
компьютерных алгоритмов, патентоваться и обращаться на
фондовом рынке. Стоимость заявок, которые
делают спекулянты на конкретных биржах, в
конечном счете зависит от действий компаний, которые
продают им акции. Конечно, это обоснованное
расширение переформулировки Голдманом
эпистемологических вопросов в терминах
проблематики теории рационального выбора и
когнитивной науки.
А вот социальная эпистемология Коллинза
предусматривает в том числе и мрачный вариант
развития событий, при котором системы знания
становятся жертвами своего успеха. Чем больше
людей принимают участие в организованных
исследованиях и чем значимее место
производимого ими знания в масштабных процессах
социального воспроизводства, тем меньше оказывается
возможностей для осуществления
интеллектуальных инноваций в их рамках. Кто не может
встроиться в высококонкурентные и
бюрократизированные системы знания, тот вынужден искать
поддержку в менее официальных
областях—писательстве, бизнесе или политическом активизме.
Коллинз подробно рассказывает о первом
европейском «обществе знаний» — Испании XVI века,
имевшей 32 университета, которые посещали з%
мужского населения страны. (Сравнимого
показателя США смогли добиться лишь в начале
XX века.) Имперские притязания Испании тогда
достигли апогея, а ее литература, представленная
сочинениями Лопе де Беги, Кальдерона и
Сервантеса, переживала золотой век. Тем не менее
писательская деятельность процветала
преимущественно за пределами академии и во многом находилась
в оппозиции к ней. Когда Бэкону, Декарту и иным
115
СТИВ ФУЛЛЕР
вождям научной революции требовались примеры
схоластической ортодоксии, они обычно
обращались к испанским трактатам. Коллинз
периодически намекает, что мы на Западе сейчас находимся
в схожей ситуации: больше всего инноваций
сегодня возникает на окраинах академии, а именно
в сфере программирования и в жанре научной
фантастики. Вполне может статься, что эти па-
раакадемические занятия посеют семена
следующей интеллектуальной революции.
Голдман и Коллинз представляют
расходящиеся направления исследовательской программы
социальной эпистемологии. Голдман делает акцент
на эффективности производства знания за счет
постановки вопроса о том, кто участвует в этом
производстве и в какой мере данное эпистемиче-
ское сообщество отражает интересы
поддерживающего его общества. Коллинз в свою очередь
может определить условия причастности к системе
знания, однако закрывает глаза на ту
действенность, которой ее продукты обладают в отношении
остального общества. Поскольку Голдман и
Коллинз оба разделяют предположение о том, что
сообщество производителей знания — это хорошо
определенное подмножество любого данного
общества, они не могут объяснить, каким образом
изменилась бы природа знания, если бы в его
производство оказалось вовлечено все большее
количество разных людей. В обоих случаях мы
сталкиваемся с последствием принятия тех
упрощающих предпосылок, с опорой на которые
Голдман с Коллинзом только и смогли прийти
к осуществлению своих героических проектов. Тем
не менее потенциал социальной эпистемологии
будет реализован лишь в том случае, если теоретик
окажется способным связать вопросы об участии
иб
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
и производстве в системе знания без того, чтобы
предполагать оптимальность существующих
взаимосвязей.
От социальной эпистемологии
к социологии философии: кодификация
профессиональных предрассудков?
«Социология философий» (Collins 1998) — трактат
не только по социальной эпистемологии, но также
более явно и по социологии философского знания.
Однако он достаточно строго придерживается
профессионального самопонимания, свойственного
аналититической школе, доминирующей в
англоязычном философском мире. Данный факт в
конечном итоге подрывает ту критическую роль, которую
социология знания традиционно играла в
разоблачении рефлексивных импликаций систем
верований. И хотя труд Коллинза —это наиболее
впечатляющий пример социологии философского знания,
он ни в коем случае не первый. Нам следует
отметить по меньшей мере трех предшественников, если
речь идет об англоязычном мире, каждый из
которых хорошо осведомлен о профессиональном
самопонимании аналитической философии. При этом
им удалось сохранить дистанцию и выстроить в
целом по отношению к этому самопониманию
критическое отношение, действуя скорее в духе Мангей-
ма, чем Коллинза. Все они занимали престижные
профессорские должности в своих странах и
написали книги, вызвавшие в свое время широкий
интерес. Однако после смерти они были быстро
забыты, и в указателе книги, которая претендовала на
канонизациию социологии философского знания
как серьезной исследовательской области (Kusch
"7
СТИВ ФУЛЛЕР
200о), их имен нет. Речь идет об американце Мор-
тоне Уайте (White 1957)» британце Эрнесте Геллне-
ре (Gellner 1992) и австралийце Джоне Пассморе
(Passmore 1966).
Достоинство труда Коллинза (Collins 1998)
заключается в том, что он разоблачает социологию,
скрывающуюся в исторических нарративах, с
помощью которых академическая философия
показывает свое официальное лицо студентам и
обычным читателям. Более осмотрительные версии
этих нарративов представляют основную модель
для историй философий, написанных
философами, и, само собой, для профессиональных
философов, которые ищут выдающихся
предшественников для легитимации своих текущих
занятий. Коллинз ставит перед философией
социологическое зеркало. Если философам не
нравится отражение, им некого винить, кроме самих
себя. Неудивительно, впрочем, что философы
нашли его довольно приятным (к примеру, Quinton
1999)· Это свидетельствует о существенной
слабости метода Коллинза. Если продолжить
оптическую метафору, в качестве инструмента
теоретического видения он выбирает зеркало, а не более
мощный рентген. Как следствие, проект
Коллинза—не самый характерный пример для
социологии знания, выводы которой, как правило,
вызывают у читателя беспокойство, что за любым
господством в некотором поле стоит всего лишь
монополия на власть или на другой редкий ресурс.
Однако с философией, по Коллинзу, похоже, все
в порядке. «Хорошие парни» побеждают:
западная философия — самая прогрессивная
философская культура, которую только видел мир;
логика, эпистемология и метафизика — ее передовые
области исследования; аналитическая филосо-
и8
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
фия — наиболее успешная из ее современных
школ. Если какое-то из этих трех утверждений
вызывает у вас сомнение, то чтение Коллинза
вряд ли вас успокоит. Рискуя совершить
смертный грех европоцентризма, я сразу признаюсь,
что подписываюсь лишь под первым
утверждением.
Коллинз не оспаривает самопредставление
философии прежде всего потому, что он принимает
допущение, в соответствии с которым философская
активность наиболее естественным образом связана
с работой других интеллектуалов в рамках
академии. Фактически это допущение позволяет
Коллинзу исключить множество—пускай и не
все—тенденций в естественных и социальных науках, а также
религии и литературе. Но сфера жизни,
представленная в таком подходе, еще ограниченнее, чем,
скажем, у Вутноу (Wuthnow 1989)> который
исследует, как Реформация, Просвещение и социализм
превратились из внутренних философских споров
в полноценные общественные движения. Коллин-
зовская перспектива не дает нам увидеть, как люди
вне академии, будь то профессиональные писатели,
журналисты, юристы, предприниматели,
священники или идеологи, могли вообще становиться
главными силами интеллектуального изменения —
разве что если некая пуповина по-прежнему
связывала их с местами прежнего обучения. Им суждено
служить внешним стимулом к внутреннему
развитию философского дискурса либо зачаточным
выражением этого развития.
Из факта, что главными производителями
интеллектуальных историй являются академики,
следует, что социологам знания нужно приложить
дополнительные усилия, чтобы гарантировать, что
итоговые вклады неакадемических интеллектуалов
"9
СТИВ ФУЛЛЕР
не окажутся недооцененными. То, как тесно
Коллинз связывает интеллектуальное творчество с
долгосрочным профессиональным признанием,
вызывает определенную тревогу. Возможно, ему не
удалось отделить задачу объяснения того, как
философские интеллектуалы приобрели важное
значение, от того обстоятельства, что его
фактологическую базу составляют главным образом
интеллектуальные истории, посвященные тем людям,
которых историки полагают в качестве своих
предшественников. Это ведет к очевидным пробелам,
например к отсутствию рассмотрения ислама после
его вклада в европейскую философию XIII века,
хотя он продолжал поддерживать философски
значимые дискурсы, что признают даже современные
западные историки «мировой философии» (Cooper
1996а: з86-39б)· Поэтому тот, кто знаком с
историей философии только лишь по конвенциональным
дисциплинарным источникам, будет удивлен
скорее близкому соответствию между развитием
философских идей и расслоением сетей
принадлежностей, а не тому, кто был членом этих сетей и какую
относительную значимость приписывает им
Коллинз.
И это странно. Если социологические
категории на первый взгляд чужды предмету
философии, то было бы логичным ожидать ревизио-
нисткого подхода к сюжетной структуре
философского дискурса после того, как он получил
социологическое объяснение. В противном случае
недоброжелатель мог бы заключить, что закон
малых чисел Коллинза лишь переописывает на сцене
мировой истории тот самый процесс, с помощью
которого интеллектуальные историки урезают
прошлое, чтобы ориентировать свои исследования
на будущее. К его чести, Коллинз осознает, что
120
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
этот процесс — важная часть продолжающихся
интеллектуальных дебатов, и он время от времени
показывает, как продвижение вперед
переистолковывает значение тех или иных фигур и событий
в прошлом. Но поскольку делается это не
систематически, остается неясным, как границы,
отделяющие философию от других академических
дисциплин и неакадемических форм интеллектуальной
жизни, были постепенно рефлексивно
сконструированы историческими агентами.
Вернемся к случаю научной революции.
Коллинз отвергает расхожую философскую мудрость,
согласно которой частные науки отделились от
философии как ее специализированные
ответвления, демонстрируя, что как раз философия
вынуждена была стать более абстрактной и
специализированной в своих положениях, когда утверждения
естественных наук, даже самого общего характера,
стали формулироваться и проверяться
технологическими средствами. Коллинз датирует это
событие научной революцией в Европе XVII века, чем
в наши дни никого не удивишь. И вот чего мы не
узнаем, так это того, почему же мы не удивились.
Ведь прошло как минимум два столетия после
этой так называемой научной революции, прежде
чем философия и наука в наших глазах стали
обладать отдельными историями. Словосочетание
«научная революция» превратилось в особое
обозначение брожения умов от Коперника до
Ньютона лишь в 40-е годы прошлого века (Cohen 1985)·
В таком случае каким образом, когда и почему
сами исторические агенты — философы, ученые
и т. д. XVII века и далее—постепенно пришли к
заключению, что философия и наука заслуживают
отдельных повествований? Более того, что было
на кону в битве за разделение историй, что было
121
СТИВ ФУЛЛЕР
приобретено и что потеряно (и кем?) в результате
его институционализации? Вместо того чтобы
ответить на эти вопросы, Коллинз предоставляет
социологическую легитимацию сохранению границ
между наукой и философией. Что касается меня,
то я обратился к этим вопросам с точки зрения
возникновения «философии науки» как
отдельного от науки исследовательского поля, несмотря на
то, что по крайней мере до начала XX века и той
и другой занимались одни и те же люди (Fuller
2003: eh. 9).
Позвольте обратить ваше внимание на два
важных следствия общей стратегии Коллинза,
заключающейся в принятии профессиональных историй
философии за чистую монету.
Во-первых, нормативная позиция Коллинза
остается неясной, без нужды подставляя его подход
под недоброжелательные интерпретации
обороняющихся философов. Одни скажут, что Коллинз
только переписывает конвенциональную историю
на социологическом жаргоне, другие заподозрят,
что сам этот жаргон оскверняет эту историю. Даже
если Коллинзу и не удалось раскрыть все
возможные восходящие философские траектории, которые
были исключены действительным ходом истории,
он вполне мог бы привести социологические
аргументы для переоценки значимости различных
фигур, движений или дискуссий. В таком случае
критическая сторона его проекта стала бы яснее.
К примеру, в рамках подхода Коллинза (здесь я
отсылаю к его методу подсчета страниц) ученик
Канта Фихте да и идеализм в целом, как
представляется, заслуживают лучшей участи за то, что они
сделали философию интеллектуальной опорой
современного университета. Явная постановка
вопроса о том, когда, каким образом и почему про-
122
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
фессиональные истории философии стали
преуменьшать этот факт (и понесенные при этом
потери), могла бы сформировать основу для полезной
дискуссии с философским сообществом, на
протяжении XX века боровшимся за то, чтобы его не
считали атавизмом. Во-вторых, для Коллинза
основными философскими дисциплинами
оказываются скорее метафизика и эпистемология, чем
теория ценности. Это обстоятельство вполне
согласуется с академическим предрассудком, согласно
которому философия более всего преуспевает —
в смысле достижения ею высших уровней
абстрактности и рефлексивности, —когда она автономна от
конкретных вопросов религии и политики. В
случае Коллинза это означает, в частности, что
Макиавелли упоминается в его книге только один раз, да
и то в контексте обсуждения японского философа.
Кажется, Коллинзу чужда идея, что
метафизический дискурс может представлять собой риторику,
которая позволяет маскировать неудобные истины
в политически трудные времена. Этот тезис, чаще
всего связываемый с историей происхождения
«Государства» Платона, стал действенным
историографическим инструментом в руках Лео
Штрауса и Квентина Скиннера, располагающихся по
разные стороны политического спектра и вовсе не
являющихся теоретиками идеологии в духе
ортодоксального марксизма. Важным проявлением
подобного мышления являются современные
философские истории науки, прежде всего, когда
поддержка науки связывается с вопросами
национальной безопасности (Fuller 2000b: eh. 1-2).
Разумеется, Коллинза нельзя винить в том, что
он следовал своей, а не чужой гипотезе, особенно
учитывая ее явную плодотворность. Позвольте все
же вкратце очертить возможные преимущества
123
СТИВ ФУЛЛЕР
обстоятельной разработки альтернативной
гипотезы, согласно которой философия—это, в конечном
счете, политика в изгнании. Во-первых, значение
некоторых из фигур и дискуссий может
измениться в том случае, если понятие «пространства
внимания» будет приспособлено к более широкому
риторическому горизонту. Во-вторых, подход
избежит знакомого для истории науки дурного
различения «внешнее—внутреннее», которое
предполагает, что действующие социальные факторы
могут лишь ограничивать или искажать свободный
поток идей. В-третьих, будет легче увидеть, в каких
ситуациях междуусобные философские дискуссии
оказываются устройствами, наделяющими
аудитории силой привести слова философов в действие.
В самом деле, сами философы могли бы желать,
чтобы их взгляды претворялись в жизнь с помощью
«политтехнологий», сравнимых с теми
материальными практиками, которые требовались для
превращения философии природы в
естествознание,—при этом коллегиальные стычки,
документируемые Коллинзом, выступали бы в качестве
важного подготовительного этапа. Обратим внимание
на превознесение Коллинзом метафизики и
эпистемологии над теорией ценности в качестве
движущей силы истории философии — о чем он прямым
текстом пишет в эссе, дополняющем его magnum
opus (Collins 2000). Под «теорией ценности»
я подразумеваю ряд философских дисциплин —
включая эстетику, этику, экономику, политику,
право, которые определяют рациональность как
дисциплинирование не убеждений, а желаний.
Рудольф Герман Лотце, немецкий врач, ставший
влиятельным философом XIX века, назвал область
теории ценности «аксиологией», полагая, что
знание основано на фундаментальном отношении
124
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! ФИЛОСОФИЯ
к миру, которое неокантианцы (вплоть до раннего
Хабермаса) обозначили как «познавательные
интересы» (Schnädelbach 1984: eh. 6). Хорошим
примером философа, который в наши дни смотрел на всю
историю своей дисциплины с точки зрения теории
ценности (то есть теории объектов желания),
является Мишель Фуко. Вместо того чтобы видеть
в теории ценностей простое приложение
метафизики или эпистемологии, я буду утверждать, что
более критический взгляд увидит в метафизике и
эпистемологии версии ценностных позиций, которые
могут иметь (и имели) важное значение для тех, кто
принимает философию всерьез — а именно как
руководство к жизни.
То, что социология философии Коллинза
подтверждает предрассудки философов, наиболее
очевидно в его обсуждении познавательного
превосходства метафизики и эпистемологии над теорией
ценности. Так, Коллинз (Collins 2000)
подчеркивает нехватку интеллектуальной изобретательности
у теории ценности. Однако он точно так же мог бы
указать на тендерный характер дихотомии,
поскольку в теории ценности женщины играют
гораздо более заметную роль, чем в метафизике
и эпистемологии. В других профессиях это
свидетельствовало бы о сравнительно низком статусе
дисциплины. Быть может, все это также связано
с неформальными представлениями о теории
ценности, согласно которым она менее строга и
менее содержательна («Этика — это лишь
кодификация народных [folk] установок, а не результат
логически убедительной аргументации») и более
подвержена влиянию прочих дисциплин, не говоря
уже о внешнем политическом давлении.
Намеренно или нет Коллинз извращает
историю теории ценности, чтобы эти предрассудки
125
СТИВ ФУЛЛЕР
остались на плаву. Например, он заявляет, что
Великие философы, как правило, рассматривали
теорию ценности как приложение тщательно
выверенных аргументов метафизики и
эпистемологии. Однако это противоречит тому факту, что
многие из них, если не большинство, видели
в своих этических философиях главный приз —
аппетитное доказательство того, что
метафизический пудинг, так сказать, стоило испечь. Более
того, если Штраус и Скиннер хотя бы отчасти
правы, метафизика и эпистемология способны
обеспечить нас сравнительно безопасной в
политическом плане площадкой для ведения
дискуссий с очень серьезными, однако в основном
неявными ценностными импликациями. Иными
словами, метафизика и эпистемология как таковые
могут быть зашифрованными способами делать
заявления о том, как нам следует жить и
распоряжаться своими привязанностями, которые, будучи
высказаны более прямым текстом (скажем, в
форме явных моральных предписаний), подвергли
бы опасности личное благополучие философа.
Разбавленная версия данной замаскированной
практики реализуется в наши дни, когда философ
науки выражает свою неприязнь к религиозному
образованию, когда говорит с враждебной
аудиторией, пытаясь отмести креационистское учение
путем обращения к «определению» науки, а вовсе
не к тем антинаучным или антилиберальным
установкам, укреплению которых, по видимости,
способствует креационизм (Fuller 2007с: eh. 5;
Fuller 2008: eh. 4)· Таким образом, моральное по
сути своей возражение превращают в вопрос эпи-
стемической оценки. Разумеется, в эту игру могут
играть обе стороны, как свидетельствуют
вдохновленные метафизикой «определения» жизни,
126
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
позволяющие сторонникам католицизма
высказывать «принципиальные» возражения против
абортов, которые они считают аморальной
практикой. Конечно, учитывая широкое
использование эпистемических средств для моральных
целей, я испытываю искушение утверждать, что
шаблонные уловки, при помощи которых
метафизики и эпистемологи отсылают нас к
основаниям, допущениям и определениям, являются лишь
возвыщенной формой разрешения (или
сублимации?) конфликтов, способом выбора между
радикально различными суждениями, касающихся
последствий верности определенным убеждениям,
без прямого столкновения с теми ценностными
предпочтениями, которые предполагаются этими
суждениями. Является ли простым совпадением
тот факт, что универсальные философии сильной
консеквенциалистской (как правило,
телеологической) направленности — аристотелианство,
гегельянство, прагматизм — помещали в самый
центр метафизики именно ценности, размывая
тем самым столь значимое для Коллинза
разделение ветвей философии?
Здесь стоит заметить, что смысл
«рефлексивности», задействованный в трех
предшествовавших абзацах, не совпадает с коллинзовским.
Коллинз обращается к тому, что ранее я определил
как «узкое» значение рефлексивности, близкое
к заинтересованности логика или лингвиста в
непротиворечивости самоприменимых
высказываний. Здесь же, напротив, я имею в виду
«широкий» смысл, традиционно связываемый с тем
вниманием, которое социология знания уделяет
экзистенциальным последствиям акта
высказывания, учитывая место его автора в более широком
культурном контексте. В рамках такого понимания
127
СТИВ ФУЛЛЕР
рефлексивности нет ничего особо
«загадочного» в том обстоятельстве, что философы,
которые открыто выражают свою моральную
философию, придерживаются нормативных границ
своей эпохи.
Побочный эффект сравнительно абстрактной
терминологии, в которой выражаются
метафизические и эпистемологические высказывания,
заключается в том, что они могут быть присвоены
множеством различных групп со множеством различных
ценностных предпочтений для множества
различных целей. В перспективе социологии философии,
которая в отличие от Коллинза отдает теории
ценности приоритет, подручный характер
метафизического и эпистемологического дискурса,
возможно, станет предметом критического изучения,—
и не исключено, что он (дискурс) будет объявлен
оппортунистическим. Но, учитывая симпатию
Коллинза к метафизикам и эпистемологам, легкость
присвоения может показаться скорее достоинством,
чем недостатком.
До сих пор я принимал за чистую монету кол-
линзовское выражение «метафизика и
эпистемология», коль скоро оно отражает нечто знакомое по
курсам философии. И все же в значительной мере
та смелость, которую Коллинз приписывает этим
разделам философии особенно в сравнении с
теорией ценности, есть не более чем проявление
ностальгии, если принять во внимание современную
англоязычную философскую сцену, где
метафизика и эпистемология стали как минимум столь же
специализированными и ограниченными по
своему предмету дисциплинами, что и различные
ответвления теории ценности. К примеру, возьмите
крупные имена современной эпистемологии: Элвин
Голдман, Кит Лерер, Джон Поллок, Айзек Леви,
128
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! ФИЛОСОФИЯ
Генри Кайберг. Разве кто-нибудь из них
принадлежит хотя бы ко второму эшелону коллинзовских
Великих философов? В самом деле, то, что
преподается как «метафизика и эпистемология» в
нынешних англоязычных курсах (за исключением тех,
которые явно отведены Великим философам),—как
правило, лишь эндшпиль игры, начатой Уилфри-
дом Селларсом и Родериком Чизолмом после того,
как последний, проходя военную службу в Австрии
во время Второй мировой, открыл для себя работы
Брентано (Chisholm and Seilars 1957)·
Пожалуй, самым долгосрочным инстуциональ-
ным последствием логического позитивизма стала
смена места «смелого» философствования: от
метафизики и эпистемологии к философии языка и
философии науки. Вот где в англоязычном мире
второй половины XX века мы с вами обнаруживаем
интеллектуальный авантюризм, который так ценил
Коллинз. И именно здесь в воздухе гораздо более
отчетливо витает нормативный аромат теории
ценности, будь то в различных оксбриджских
предписаниях относительно словоупотребления или же
в попперовской критике научной рациональности,
вследствие которой большая часть «нормальной
науки» оказывается иррациональной.
Возможная причина, по которой теоретики
ценности не оказываются наверху коллинзовского
списка Великих философов, состоит в том, что они
обычно были больше, чем просто философами—по
крайней мере из перспективы нынешней эпохи.
Для нас, ушедших с головой в философию как
техническую дисциплину, быть больше, чем просто
философом, всегда означает быть меньше, чем
философом. Нельзя не признать, что это сложный
историографический случай: в какой степени наши
интуитивные суждения о статусе данных фигур
129
СТИВ ФУЛЛЕР
отражают то, как они прожили свои жизни, в
противовес тому вкладу, который им приписывается
(или не приписывается) нами в деле оправдания
нынешних интеллектуальных исканий?
Поразительный вариант этой проблемы можно
обнаружить далеко за пределами теории ценности,
а именно—в происхождении современной
философии науки. Практически все ее отцы-основатели
XIX века—Уильям Уэвелл, Пьер Дюгем, Эрнст Мах
и т. д. — были на стороне проигравших в основных
научных спорах своей эпохи; зачастую это был
откровенный провал. В то же время мы обычно
рассматриваем крупных ученых как
посредственных или неполноценных философов. (Разница тем
выразительней, чем дальше по времени мы уходим,
как в случае, скажем, противопоставления научной
и философской значимости Гоббса и Бойля или,
если на то пошло, Декарта и Ньютона.) Если в
указанных случаях спорящие стороны не
фиксировали строгой границы между наукой и философией,
которая наблюдается сегодня, следствие ли это
того, что они не понимали характера своей
деятельности (смешивая без разбора науку и философию),
или того, что мы позволили своим категориям
задним числом определить наше суждение о том, как
в действительности сложилась история?
Публичные дебаты 1908-1913 годов между Махом и Максом
Планком были рассмотрены мной как
примечательная попытка разрешения данного вопроса
(Fuller 2000b: eh. 2).
Главную базу данных Коллинза составляет
множество профессиональных историй философии,
написанных с разных точек зрения в XX веке. Это
время, когда отношение между философией и
остальными дисциплинами не просто изменилось, но, что
более важно, оказалось предметом горячих споров
130
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
и перемен. Быть может, Коллинз слишком впечат-
лился довольно-таки отретушированной версией
истории, изложенной в этих текстах, и поэтому был
слишком скор в суждениях о том, где, скажем так,
кончается философия и начинается нечто иное.
Любопытно, что именно XX век породил определенное
число академических мыслителей, которые явно или
неявно бросали вызов общей тенденции к
профессионализации философии: Поппер, Хайек, Кун
и Хомский — каждый из них сделал это в своем
неподражаемом стиле. (Разумеется, здесь можно было
бы привести и список мыслителей, вдохновленных
Марксом.) Нечего и говорить, что все из них
обвинялись теми или иными академическими
мыслителями в том, что они не дотягивают до звания
философов. К сожалению, коллинзовский подход может
лишь содействовать этому суждению
«истеблишмента», потому что он некритично обращается со
свидетельствами, которые ему предоставляют
написанные философами истории философии.
Поразительно, насколько схожи подходы
Коллинза и Куна. Как и в «нормальной науке»,
философы имеют дело с все возрастающими уровнями
абстракции и рефлексивности, за исключением
сравнительно коротких периодов, когда в дело
вмешиваются «внешние» факторы, но лишь затем,
чтобы быть вычеркнутыми из обновленных
исторических записей, как только запускается новый цикл
абстракции и рефлексивности. В особенности я
поражаюсь здесь той крайне ограниченной роли,
которую, согласно Коллинзу, играли рациональные
руководства к жизни в развитии теории ценности.
И все же я задаюсь вопросом, была бы ли
рассказываемая им история столь однозначной, сосредоточь
он свое внимание не только на этике stnctu sensu, но
и на политической теории, а также на юриспруденции
131
СТИВ ФУЛЛЕР
и эстетике—двух сферах, где философский дискурс
играл, вероятно, более основополагающую роль
в деятельности юристов и художников.
Тревожащая особенность того смысла, который Коллинз
(как и Кун) неявно приписывает философскому
прогрессу, заключается в том, что он, как кажется,
благоприятствует однобокому стремлению
культивировать породистую бесполезность. Так, в
истории этики можно говорить о прогрессе, лишь когда
в XX веке возникает метаэтика. Помимо того что
слишком уж это смахивает на рассказы
аналитических философов, сложно отделаться от
впечатления, что речь ведется о современной философии
науки (и опять же аналитическими философами).
Ведь философия науки выглядела довольно
позорно, пока философы возражали ученым по вопросам,
в которых последние были куда более сведущи
(взять хотя бы обсуждение Поппером квантовой
механики, эволюционной теории и в целом его
отвращение к «нормальной науке»). Однако стоило
дыму после дебатов Куна и Поппера рассеяться
в 197°"е годы, как философы наконец нашли себе
законное место в круговом споре второго порядка
между реализмом и инструментализмом (Fuller
2003).
В попытке, как утверждается, объяснить «успех
науки» обе спорящие стороны предоставляют одно
и то же положительно настроенное повествование
первого порядка об истории науки, но при этом —
разные второпорядковые версии того, почему оно
именно таково. Обе стороны не очень критично
относятся к тому, как осуществляется научная
деятельность; и, конечно, ученые вполне могут
заниматься своими делами, не обращая на них
внимания. Безусловно, по мере разрастания философская
дискуссия становится более утонченной, и даже об-
132
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! ФИЛОСОФИЯ
ращение к истории для иллюстрации главных
утверждений становится все детальней. Однако в итоге
все это становится похожим на отношения между
метаэтикой и поведением, диссонируя с моим
интуитивным пониманием того, в чем заключается
прогресс интеллектуального предприятия (которое,
разумеется, навеяно «широким» смыслом
рефлексивности). К этому последнему пункту относятся
и вводящие в заблуждения каузальные рассуждения
Коллинза о том, что метаэтика (и неважно, кто
именно положил ей начало—Причард или Ницше)
является интеллектуальным «прорывом». Они
предполагают, что теоретики ценности пытались
совершить семантическое восхождение, но потерпели
неудачу — не хватило мотивации? или ума? Но на
самом деле это далеко не такая поучительная
история. Вполне могло статься, что на протяжении
XX века моральные философы все больше
дискутировали лишь сами с собой, мало-помалу утрачивая
своих традиционных подопечных — готовящихся
к рукоположению священников и чиновников.
Интеллектуально смелый дискурс рационального
поведения в секулярную эру переместился из теологии
в область свободных профессий, минуя при этом
профессиональную философию.
В известном смысле, Коллинз прав: философия
как таковая мало что может сказать по поводу
моральных проблем первого порядка. Однако дело не
в том, что здесь невозможно интересное
интеллектуальное развитие. (Замечания Коллинза насчет
«консервативной» природы этики наводят на
мысль, что он придерживается именно этого
мнения.) Просто происходит оно за кулисами. Я
предполагаю, что Коллинз недооценивает значимость
исследований бизнеса, медицины, права и
инженерии—и всех иных видов «профессиональных этик»,
!33
СТИВ ФУЛЛЕР
возникших в последнее время. Хотя изначально
в этих областях пытались применить готовые
этические решения (поэтому на выходе оказывалась
лишь «прикладная философия»), со временем
стало понятно, что полученные суждения не воздают
должное специфичности и сложности
рассматриваемых случаев, требующих концептуализации
скорее снизу вверх.
Стивен Тулмин (Toulmin 2001) дошел до того,
что заявил: осознание данного обстоятельства
знаменует возрождение противотечения в истории
теории ценности—казуистической
традиции,—которое на протяжении истории ассоциировалось
с преобладанием риторики и требованием
эксплицитных оправданий действий в ситуациях, в
которых доверие к соответствующим экспертам
ослабевало. Иными словами, философская этика
прогрессирует не тогда, когда выходит за пределы
общества, частью которого является, а тогда, когда
оказывается способной зашить разорванную
социальную ткань. И все же, как говорит об этом
институциональный паттерн программ
профессиональной этики, было бы довольно трудно создать
прямолинейную социологию философии а-ля
Коллинз для этой традиции. С другой стороны, на ней
стоило бы опробовать тот подход к описанию
философского прогресса, что основывается на
широкой рефлексивности.
Интерлюдия: начала альтернативной
социологии философии
Как же заложить основу более критической
социологии философии? Очертим вкратце проект,
набросав ряд вопросов, допускающих множество от-
!34
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
ветов, которые составят вместе меню возможностей
для дальнейшего продвижения:
I. Как «философия» определяется с точки зрения
социологии?
ι. Публичные определения (например,
посредством опросов интеллектуалов, граждан).
2. Симптоматические определения (например,
посредством указаний в трудах по философии).
3- Самоопределения (например, посредством
причисления к философским школам).
4- Официальные определения (например,
посредством дисциплинарных историй).
II. Какие черты философии должны быть объяснены
социологией?
ι. Ее (не)прерывность как деятельности в
пространстве и времени.
2. Ее влияние на общество / влияние общества
на нее.
3- Ее автономия (или же отсутствие у нее
автономии) в отношении общества.
4- Ее прогресс (или его отсутствие) как
деятельности.
III. «Рефлексивность» как мера прогресса в философии
ι. Узкая рефлексивность: философия занимается
рефлексией логических предпосылок
собственных утверждений.
• Прогресс: философия достигает такого
уровня общности, артикуляции и
систематичности, при котором она выходит за
пределы требований социального контекста.
• Регресс: философия или отчуждается от
общества, становясь нерелевантной, или
оказывается столь полезной для различных
135
СТИВ ФУЛЛЕР
интересов общества, что становится
«слишком релевантной».
2. Широкая рефлексивность: философия
занимается рефлексией социальных условий
собственной деятельности.
• Прогресс: философия оспаривает свои
социальные условия, осознавая (и, возможно,
разрешая) латентные противоречия.
• Регресс: философия воспроизводит свои
социальные условия, отказываясь
обнаруживать скрытые социальные напряжения.
Проект Коллинза задействовал следующие
возможности из меню: из раздела (I) он выбрал
вариант (4), отчасти как средство достижения (з) и
косвенно (2), тогда как вариант (ι) по большей части
не принимается во внимание. Что касается
раздела (II), Коллинза интересует прежде всего (4), при
этом (з) берется им в качестве главного
косвенного показателя (то есть прогресс и автономия, как
предполагается, положительно коррелируют). Что
же касается раздела (III), то Коллинз
останавливается на варианте (ι), однако, как я уже
высказывался ранее, вряд ли им всерьез рассматривается
регрессивная сторона уравнения. В конечном
итоге мы имеем представление о философии как
о самоопределяющемся, по большей части
эгоистичном предприятии. Попперовский подход
к происхождению объективного знания (Popper
1972) заключает важный урок: автономное
исследование возникает как побочный эффект
практической деятельности. К примеру, математика как
корпус знания возникла благодаря тем людям, для
которых процедуры счета и измерения оказались
не просто средствами расчета налогов,
архитектурных фундаментов и гороскопов, но целями
136
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
в себе. В этом смысле размышление об
инструментах как о самостоятельных объектах может
обеспечить эволюционное основание для переосмысли
[Z/r-sense] рефлексивности как базовой способности
к второпорядковому мышлению. Данный
принцип с легкостью можно обобщить и объяснить
с помощью него происхождение философских
проблем: философия начинается тогда, когда
частные аргументы, используемые в публичных
дискуссиях, рассматриваются как принадлежащие
к особому классу аргументов, который, в свою
очередь, становится главным предметом внимания.
Это помогает объяснить, почему сравнительно
легко найти начальную точку для социологии
философского знания: практически все канонические
позиции происходят от более обыденных форм
социальной легитимации. Нижеследующая
таблица (2.ι) представляет список стандартных
философских позиций, проинтерпретированных
исторически как попытки универсализации тех типов
аргументов, которые часто встречаются в
публичных дебатах.
Таблица 2.1. Основания философских позиций
в проектах социальной легитимации
Философская позиция
Кантианство (в этике)
Утилитаризм (в этике)
Рационализм
(в эпистемологии)
Вопросы легитимации
Как законодательствовать,
уважая при этом
достоинство каждого индивида?
Как законодательствовать,
чтобы общество в целом
преуспевало?
Как не допустить появления
неразрешимого
религиозного диспута?
!37
СТИВ ФУЛЛЕР
Окончание табл. 2.1
Философская позиция
Эмпиризм
(в эпистемологии)
Реализм (в философии
науки)
Инструментализм
(в философии науки)
Объективизм (в философии
социальных наук)
Релятивизм (в философии
социальных наук)
Вопросы легитимации
Как обеспечить
минимальное согласие в
неразрешимом религиозном диспуте?
Что заменяет религию
в секулярном обществе?
Почему секулярное
общество не нуждается
в субституте религии?
Что обеспечивает
окончательный успех
империалистического проекта?
Что обеспечивает
сопротивление империалистическому
проекту?
Поразительная черта истории современной
философии заключается в том, насколько редко
философы пытались вновь внести данные философские
экстраполяции в практику принятия решений.
Значимой попыткой в этом плане была работа
«Методы этики» Генри Сиджвика (Sidgwick 1966), которая
канонизировала оппозицию между кантианством
и утилитаризмом, указав на ситуации, требовавшие
компромиссов между этими двумя подходами.
Конечно, в большинстве случаев они приводят к
принятию одних и тех же решений. Возможно, потому
что философия процветает на задворках, то есть
в предельных случаях, где различия в рассуждении
наконец-то действительно оказывают ощутимое
влияние на дальнейшие действия. Конструирование
подобных гипотетических случаев составляет, таким
образом, исключительно философское искусство.
138
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
Единственная проблема данной
характеристики состоит в том, что полностью
артикулированные философские позиции наподобие тех, что
были избраны Коллинзом во имя узкой
рефлексивности, не просто сходятся в главном и
расходятся по краям: они могут привлекаться в
поддержку политики, диаметрально
противоположной духу их исходного замысла. Потребовалось
всего лишь немного изобретательности вкупе со
злым умыслом, чтобы применить кантианство для
легитимации слепого повиновения диктаторам,
а утилитаризм — для оправдания обнищания
большинства населения. Это свидетельствует, что
упорное стремление вести философские
исследования в отрыве от конкретных практических забот
может превратить итоговые позиции в
идеологические джокеры, доступные тому игроку, который
предложит за них наивысшую цену. Раз Коллинз
придает большое значение способности западной
философии абстрагироваться от внешних
социальных нужд, то ему стоило бы объяснить (а быть
может, также и оправдать?) столь серьезные
непреднамеренные последствия.
В конце концов, даже широкий рефлексивист
наподобие меня самого обязан дать объяснение
намерений тех, кто избирает путь узкой
рефлексивности; ведь признано, что именно это эмпирически
отделяет философию от иных организованных
интеллектуальных исканий. В двух словах: я беру
пример с Платона, пытавшегося защитить разум от
общественного разложения, свойственного его эпохе,
которое началось с расцвета софистов, а
продолжилось осуждением Сократа и поражением Афин
от Спарты (Fuller 2000b: ch.i). Уместные в данном
случае эмоции—разочарование, фрустрация и в
какой-то мере негодование. Определенный опыт
*39
СТИВ ФУЛЛЕР
провала способен усилить ощущение дистанции
между идеальным и действительным, равно как
и уменьшить вероятность того, что это разделение
окажется в дальнейшем затемнено достижениями
когнитивного приспосабливания—или того, что
социальные психологи называют «формированием
адаптивных предпочтений» (Elster 1983)· Я
рассматриваю такой альтернативный образ социологии
философии как постницшеанскую позицию,
поскольку для Ницше трансцендентальная власть
жизни после смерти в конечном счете основывалась
на том, что рабы осознают, что они никак не могут
улучшить свое положение обычными секулярными
средствами. В этой связи есть доля истины в идее,
что философия есть компромисс между знанием
и властью.
Пролегомены к критической социологии
англоязычной философии XX века
В XX веке в философии господствовал
англоязычный мир —сначала Британия, затем Соединенные
Штаты. Этому сопутствовали беспрецедентные
профессионализация и специализация
дисциплины. Философия утрачивала свое нормативное
значение, что в целом совпало с увеличением
дистанции между занятиями философией и общественной
жизнью, а также другими областями исследования,
включая ее собственную историю. Вот так я
объяснил бы нарастающую всю последнюю четверть века
тенденцию к принятию философией роли
«служанки» частных наук. Показателем этой установки
является неугасающая популярность «Структуры
научных революций» (Kuhn 197°)» в которой
утверждается, что исследовательская область дости-
140
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! ФИЛОСОФИЯ
гает зрелости тогда, когда она предает забвению
свое прошлое и сосредоточивает внимание на
крайне специализированных проблемах.
Заканчивается эта глава припоминанием той истории
философии, которую заветы Куна заставили нас
забыть, а именно — судьбы неокантианства в начале
XX века.
Будущие социологи знания сочтут весьма
необычными некоторые черты философии XX века.
Во-первых, английский язык вне всяких сомнений
превратился в lingua franca академической
философии. Во-вторых, философия стала гораздо более
профессионализированной и специализированной,
чем когда бы то ни было прежде, в особенности
в Соединенных Штатах, которые в течение века
стали господствовать чуть ли не в каждой ее
области. В-третьих, симптомом профессионализации
и специализации философии выступили ее
отдаление от публичной политики и отказ от
нормативных притязаний в более общем смысле.
Разумеется, не все философы воздерживались от
вынесения предписаний, но к концу века таких
философов стали считать эксцентричными и
неудобными, особенно в сравнении с ситуацией начала
века. Более спорное суждение о данном периоде
высказал Коллинз (Collins 1998) > согласно которому
большая часть подлинных прозрений случилась
в первой четверти века, тогда как оставшиеся годы
были посвящены их расширению и проработке.
А так называемый декаданс, зачастую связываемый
с современной постмодернистской мыслью, может
быть понят как сублимированная форма усталости
от жизни. Далее читателю станет ясно, что я во
многом согласен с Коллинзом на этот счет. Тем не
менее мне хотелось бы продемонстрировать, каким
образом перемены, свидетельствовавшие во многих
Hi
СТИВ ФУЛЛЕР
отношениях об успешности и устойчивости
философии в англоязычном мире XX века, в то же самое
время раскрывают слепые пятна данного
предприятия, которые в XXI первом столетии при желании
можно было бы прояснить.
В начале XX века философия в англоязычном
мире была дисциплиной насквозь нормативной.
Я не имею в виду, что те ее разделы, которые
относятся к теории ценности — этика, политика,
юриспруденция и эстетика, господствовали над
остальными. Напротив, традиционные оплоты
философии—логика, метафизика и эпистемология — сами
были нормативными изысканиями. До выхода
«Principia Mathematica» Рассела и Уайтхеда (1910)
«логика» рассматривалась главным образом как
руководство для умственной жизни, своего рода
нормативная психология, сосредоточивающая
внимание на конкретных суждениях, а не на абстрактных
пропозициях. Метафизика в основном занималась
вопросом о смысле жизни, иногда — о
божественном предназначении. Даже дебаты в
эпистемологии, новейшей и наиболее техничной философской
области, разворачивались вокруг правильной
«установки» в отношении человеческой и
нечеловеческой областей исследования. Чтобы наилучшим
образом представить, насколько далеко мы отошли от
исходной нормативной чувствительности, возьмем
нынешний статус дискуссий о «теории истины»
в англоязычном мире. Помимо молчаливого
большинства философов, следующих за Дьюи и Рорти,
согласно которым «истина» есть лишь почтительное
наименование утверждений, которые мы желаем
принять или же считаем, что примем в
дальнейшем, остаются еще поборники когерентных и коррес-
пондентных теорий истинности, сумевшие
достигнуть компромисса благодаря усилиям Уилфрида
142
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! ФИЛОСОФИЯ
Селларса (Delaney 1977)· Истина определяется как
соответствие между высказыванием и реальностью,
тогда как критерий соответствия заключается в
согласованности друг с другом всех высказываний,
имеющих такую же направленность. Это
аккуратное решение, отводящее корреспондентность
онтологии, а когерентность —эпистемологии, способно
удовлетворить профессиональных метафизиков
и философов языка. Тем не менее оно не
учитывает должным образом те изначальные интуиции,
которые заставили выдвинуть когерентность и
корреспондентность как противостоящие друг другу
образы достоверности. Далее мы увидим, что указанный
компромисс устранил нормативные притязания
обеих позиций.
Корреспондентный образ достоверности
разделялся широким кругом философов: эмпириками,
индуктивистами и некоторыми позитивистами.
Многие из них — скажем, Джон Стюарт Милль
и Бертран Рассел,—спорили об истинности многих
важных философских тезисов. Между тем этот
образ традиционно мотивировался идеей о том, что
в конечном счете наши убеждения и желания
упорядочиваются всем тем, что от них ускользает, также
известным как «внешний мир». Финальная стадия
секуляризации философии в XX веке состояла
в определении ускользания реальности не как
(метафизической) трансценденции, а как (языковой)
референции. (Здесь следовало было бы уделить
внимание теологическим атавизмам в мысли Гуссерля
и Фреге — теме, к которой порой был чувствителен
Майкл Даммит.) Соответствие высказывания
реальности связывалось с тем фактом, что люди
продолжают его принимать на протяжении
длительного времени, тогда как многие другие их
утверждения противоречат друг другу или несовместимы.
НЗ
СТИВ ФУЛЛЕР
Это предположительно свидетельствует о хорошем
показателе выживаемости высказывания,
независимо от разнообразия дискурсов, в которых оно
фигурирует. Поэтому акцент на когерентности
высказывания со всеми остальными ничем не оправдан
и даже препятствует подлинной «проверке
реальностью».
Напротив, когерентный образ достоверности
предполагал, что цель исследования
определяется нами, а вовсе не миром вне нас. Данное
воззрение объединило идеалистов с прагматистами
и другими философами процесса, которые
расходились по многим важным философским
вопросам. Для того, кто придерживается теории
когерентности, «погоня за истиной» —это радикально
недоопределенная деятельность, лишенная какой
бы то ни было общей цели, которой можно было
бы мотивировать поиск конкретных истин. В этой
связи «выживание» не более чем положение по
умолчанию, принимаемое исследователями,
которые потеряли ориентацию и нуждаются в
нахождении направления в чем-либо или ком-либо
еще. Таким образом, антагонизм между коррес-
пондентной и когерентной ментальностями — это
противостояние не между, как это часто
изображается, атомизмом и холизмом (то есть
соответствием отдельных высказываний участкам реальности
и всесторонней согласованностью корпуса
высказываний перед лицом всей реальности в целом),
а между пассивизмом и активизмом (то есть пассивной
установкой исследователей, ожидающих увидеть,
соответствует ли реальность их высказываниям, и
активной установкой исследователей, организующих
свою среду так, что реальность принимает форму
их ума). На заре XX века дихотомия «пассивизм vs.
активизм» часто выражалась как «детерминизм vs.
144
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
волюнтаризм», однако едва ли эта формула
отображает сущностное различие основных жизненных
установок.
В исходной сильной нормативной форме
философия занимала очень надежное место в
университетских курсах США и Великобритании, причем
и там и там господствовал когерентный образ
достоверности (Hylton 199°)· Он был связан с
насущными вопросами, которые касались как личной, так
и общественной жизни. Один из трудов в данном
ключе, с ι88ο-χ до 1930х годов оказывавший
немалое влияние на философию в Великобритании —
«Этические исследования» Брэдли, — включал
в себя знаменитое эссе «Мое общественное
положение и вытекающие из него обязанности» (1876).
Вопреки названию труд Брэдли был не столько
трактатом по философской этике, сколько
исследованием следствий его абсолютно-идеалистической
метафизики для руководства жизнью. Сравнимая
с ним работа из американского контекста — «Эссе
о прагматизме» Уильяма Джеймса (1910) —под
маской метафизического рассуждения выражала общее
мировоззрение, которое один из почитателей
Джеймса, президент Теодор Рузвельт, обозначил
как «суровый индивидуализм». Такое понимание
философии в значительной степени являлось
следствием рынка студенческих тем, на котором
философская специализация занимала лишь небольшой
сегмент (White 1957) *
В случае Британии курс «моральных наук»
в Оксфорде и Кембридже был прежде всего
направлен на подготовку священников и (с конца XIX века)
государственных служащих. Особое внимание
отводилось изучению «языческих» (то есть
греко-римских) и христианских авторов, а также более
«современных» классиков политической философии,
145
СТИВ ФУЛЛЕР
например, Макиавелли, Гоббса и Локка.
Официальной целью этого курса было внушить студентам
ценности, необходимые для управления
чрезвычайно усложняющимся обществом (читай:
империей), в котором к тому же шло усиление
гражданского участия. И все же, как и в императорских Китае
и Японии, которые схожим образом готовили
бюрократов, содержание этого курса было куда менее
важно, чем прививаемые им навыки письма и
публичной речи, способствовавшие сохранению
существовавшей социальной иерархии. В XX веке эту
роль исполняла бы философия обыденного языка.
Миссия же ведущих американских частных
университетов по крайней мере до Первой мировой
войны напоминала миссию первых средневековых
университетов, которая состояла в подготовке
юристов и клериков, выступавших основным
источником будущих политических и академических
лидеров. Это средневековое наследие сохраняется
и поныне в организации американских
«колледжей свободных искусств», полагающих, что они
скорее обучают будущих национальных лидеров,
нежели раздвигают границы знания в
специализированных областях. Как следствие, данные
институции направляли сравнительно мало ресурсов на
развитие аспирантских программ вне контекста
профессиональной подготовки. Между тем
менталитет свободных искусств по-прежнему
характеризует британскую академическую систему в
целом, хотя он и серьезно ослаб за последние два
десятилетия в результате стремительного
встраивания в университетскую систему
политехнического сектора. В настоящее время мы в Британии
говорим, что система была «американизирована»,
хотя на деле речь идет о принятии и
усовершенствовании Америкой немецкой исследовательской
146
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
модели университета, возникшей в начале XX века
(Metzger 1955)·
Разница в путях развития британской и
американской академической жизни отражена в
тенденции излагать историю американской философии
как историю ее институализации в качестве
академического предмета (см., например Kuklick 2001).
Так, истоки подлинно «американской»
философии обычно возводятся к основанию
прагматического направления Уильямом Джеймсом в
Гарварде, одухотворенного его другом детства Чарльзом
Сандерсом Пирсом. В рамках этого нарратива
прежние жители Массачусетса, трудившиеся вне
стен университета, такие как Джонатан Эдварде,
Ральф Уолдо Эмерсон и Генри Дэвид Торо,
рассматривались как производные — пожалуй,
даже колониальные — фигуры, чьи основные
интеллектуальные истоки находились в Британии
или Германии. В менее романтичном и
этноцентричном свете культурная исключительность
Америки порой описывается как дисциплинарное
высвобождение ею философии из тисков теологии,
катализатором которого стал Дарвин (см.,
например, Menand 2001).
Данная оценка американской философской
традиции была недавно творчески оспорена двумя
противостоящими фракциями, одна из которых
стремилась реинтегрировать допрагматистских
американцев и тем самым усилить ощущение
уникальности Америки, тогда как другая была
нацелена на усиление трансграничных связей, которые
представили бы прагматизм в качестве
человеческого лица американской глобальной гегемонии.
С одной стороны у нас есть Стэнли Кэвелл,
гарвардский специалист в области эстетики, чью
сферу интересов составило критическое рассмотрение
47
СТИВ ФУЛЛЕР
кинематографа и других популярных видов
искусства, которое по традиции выходит за рамки
академической философии. Для Кэвелла (Cavell 1992) то
обстоятельство, что Эдварде, Эмерсон и Торо
передавали свои идеи посредством проповедей и поэм—
равно как и трактатов, — знаменует рождение
мультимедийной чувственности, говорящей о
спонтанной склонности американцев встраивать
философию в обыденную жизнь. С другой же стороны
мы имеем ныне наиболее известного в мире
знаменосца «американской философии» Ричарда Рорти
(Rorty 1982), который по-прежнему начинает
историю с Джеймса и видит ее кульминацию в трудах
Джона Дьюи. Однако Америка Рорти—не что иное,
как бодрияйровская «гиперреалистичная» сущность,
которая соответствует ее статусу сверхдержавы
конца XX века. Рорти гораздо больше стремится
показать, что ранний Хайдеггер и поздний
Витгенштейн «всегда уже» были прагматистами, нежели
заниматься истолкованием наследия Джеймса или
Дьюи.
В отличие от этого поиска академической
легитимности, неакадемические корни наиболее
характерных направлений британской философии
XIX века являются общепризнанными. Разумеется,
знаменитое шотландское Просвещение с середины
по конец XVIII века, включавшее в себя Дэвида
Юма, Адама Смита и Адама Фергюсона, было
университетским движением с центрами в Эдинбурге
и Глазго. Но эти шотландцы были англофилами
в образовательной системе, где все еще
господствовала Шотландская Церковь. (Например, Адам
Смит, глава кафедры риторики в Глазго, побуждал
образованных шотландцев перенимать
«английский» акцент.) Характерная церковная философия,
представленная Томасом Ридом и быстрой рецеп-
148
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
цией Канта, проводила близкую связь между
ментальной функцией здравого смысла и естественной
склонностью к вере. Фигуры шотландского
Просвещения, таким образом, в первой половине XIX века
не имели серьезного академического влияния. Юм
был заново открыт Гексли в качестве протодарви-
ниста на волне антиклерикализма, последовавшей
за изданием «Происхождения видов» (Passmore
1966: 40).
Наследие Смита и Фергюсона было куда
быстрее освоено интеллектуальной средой Англии
XIX века благодаря движениям, которые в
дальнейшем приняли вид политической экономии
и социологии. Я говорю «движения», поскольку
данные области возникли на основе
политических платформ «философского радикализма»,
в первую очередь утилитаризма, а вовсе не в
результате академических инициатив. Здесь я имею
в виду журналистскую деятельность и памфлеты
таких лондонских интеллектуалов, как Иеремия
Бентам, Джон Стюарт Милль и Герберт Спенсер—
и, конечно же, немецкого экспатрианта Карла
Маркса. Творчество этих авторов встретило
значительное институциональное сопротивление со
стороны Оксфорда и Кембриджа. «Революция»,
начало которой было положено «Принципами
этики» Дж. Э. Мура (i9°3) и которая в итоге
привела к господству аналитической традиции во
всей англоязычной философии, может быть
рассмотрена как реакционный ход британских
академиков, почуявших, что их авторитет пытаются
подорвать «аутсайдеры», зачастую
придерживавшиеся «радикальных» взглядов, которые
угрожали их заработку в качестве не только
представителей философской профессии, но и учителей
будущих элит.
149
СТИВ ФУЛЛЕР
Это противостояние воплотилось в институте,
бросившем самый громкий вызов оксбриджской
гегемонии в XX веке—Лондонской школе экономики
(London School of Economics, LSE), которую Сидни
и Беатрис Уэбб основали в 1895 году с целью создать
фабианско-социалистическую альтернативу
консервативному преподаванию теории ценности
в Оксбридже (Dahrendorf 1995)· Вместо религии
и эстетики нормативными для нее дисциплинами
стали политика и экономика, а также, что наиболее
спорно, евгеника. С момента учреждения LSE
служила лондонским секулярным противовесом
затянувшемуся оксбриджскому клерикализму, пойдя
по пути, изначально намеченному Бентамом
(который внес вклад в создание Университетского
колледжа Лондона) и Хаксли (превратившим
Имперский колледж из политехнического института
в университет). На протяжении всего XX века LSE
была пристанищем крупных социальных
теоретиков, которые не вписывались в рамки
зарождавшегося аналитико-философского консенсуса:
Леонарда Хобхауса, Ричарда Тоуни, Гарольда Ласки,
Карла Мангейма, Майкла Оукшотта, Фридриха фон
Хайека, Карла Поппера и Эрнеста Геллнера.
Разумеется, немногие из этих мыслителей могли бы
считаться подлинными социалистами. Многие из
них были либералами, а некоторые даже
консерваторами. Однако все они разделяли в широком
смысле консеквенционалистский подход к
философии, который неизбежно открывал двери для
эмпирических соображений при разрешении
ценностных проблем, перекрывавших дисциплинарные
границы.
Лучше всего сформулировать различие подходов
Оксбриджа и LSE к разработке теории ценности
позволит рассмотрение воззрений ведущих фило-
150
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
софов соответствующих школ — а именно Людвига
Витгенштейна и Карла Поппера—касательно
взаимосвязи эмпирического и нормативного элементов
в производящих знание сообществах. Конечно,
в некоторых аспектах их позиции схожи. Оба
философа крайне враждебно относились к попыткам
дать априорное нормативное описание
деятельности сообществ, которое отсылало бы к законам
истории, функционалистской социологии или к
теориям человеческой природы. Оба философа во
многом склонялись к «конструктивистскому»
пониманию социальной жизни, для которого
прошлое всегда недоопределяет будущую практику.
Однако Поппер придерживался подобных
взглядов исходя почти исключительно из нормативно-
философских оснований, провозглашая ценность
«открытых обществ» в качестве средств
расширения исследований человеческого потенциала,
связанных в свою очередь с идеей бесконечного
экспериментирования. Таковы аксиологические корни
метода фальсификации и попперианской
склонности к рыночным решениям социальных проблем,
которые обычно подразумевают действия
бесконечно пластичных индивидов в постоянно
изменяющейся среде. Нет ничего более далекого от витген-
штейнианской чувствительности: в то время как
попперианцы думают, что их подход окажет
критическое воздействие на вполне конкретные
«закрытые общества», витгенштейнианцы полагают
его бесполезным за пределами круга тех, кто
желает участвовать в попперианской языковой игре.
Если взгляды Поппера получили немалую
поддержку со стороны естественных и социальных
наук, то подход Витгенштейна по-прежнему
торжествует в философии и в более релятивистски
настроенных областях социальной науки, таких как
151
СТИВ ФУЛЛЕР
культурная антропология и социология знания.
Имена Питера Уинча, Джона Серля и Дэвида Блу-
ра представляют широту диапазона витгенштейни-
анского консенсуса. Все три мыслителя полагают,
что «должное» может, в некотором важном
смысле, быть выведено из «сущего»: коль скоро нормы
сообщества эмпирически определены,
соответствующие критерии оценки эпистемических
утверждений уже у нас на руках. Но большинство
англоязычных философов XX века тем не менее считали, что
в их области следует скорее избегать того, что Мур
назвал «натуралистической ошибкой» — то есть
смешения «должного» и «сущего», — нежели
принимать натурализованную нормативность,
предполагаемую витгенштейнианскими формулировками.
Как раз к этому прилежному избеганию
эмпирической аргументации мы сейчас и обратимся.
Амбивалентность аналитической
философии в ее отношении
к эмпирическим наукам
Ключ к пониманию развития аналитической
философии в XX веке кроется в ее подчеркнутой
неприязни к эмпирической аргументации. Эта
неприязнь, как правило, возникала из страха быть
поглощенной естественнонаучными и социальными
дисциплинами, которые постепенно доказывали
свою полезность для общества в целом.
Утилитаризм был прочно связан с экономикой,
прагматизм—с психологией и социологией, другие, более
общие, формы натурализма—с физикой и
биологией. Все эти направления встретили сопротивление
со стороны академического философского
истеблишмента, особенно в Соединенном Королевстве,
152
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
в котором разрыв между «двумя
культурами»—science и humanities—был выражен наиболее сильно.
В британской академии XX века философия, как
и история, оставалась бастионом гуманистической
ментальности. Скажем, аналитическая этика на
протяжении своей истории предпочитала скорее
эмотивистские или деонтологические
истолкования нравственных обязательств, нежели
утилитаристские, которые открыли бы путь научным
аргументам. Еще более красноречив случай
аналитической эпистемологии, которая была склонна
к анализу обыденных, а не научных концепций
знания: эпистемологов больше интересовало, как мы
узнаем, что в данной комнате есть стул, а не,
скажем, что кварки есть в космосе. Последнее—это уже
область исследования философии науки, которая
довольно сильно расходится с эпистемологией
в англоязычной—но не в континентально-европей-
ской — философской традиции.
Интересный способ понять историю
аналитической философии заключается в осмыслении того,
что произошло бы, если бы в XIX веке
гуманитарные науки не отказались от статуса образцового
научного исследования, или Wissenschaft, в пользу
естественных наук. Отличительной особенностью
этого отказа стало то, что естественные науки (как
и большинство социальных наук, отделившихся от
гуманитарных именно на этом основании) не
ограничивают свою фактологическую базу
письменными документами. Напротив, они в значительной
степени опираются как раз на неписьменные
источники данных (к примеру, на живую речь или поведение).
Конечно, важнейшая функция естественно- и
социально-научного исследования состоит в регистрации
явлений, которые в противном случае избежали бы
документирования, ведь камни, растения, животные
153
СТИВ ФУЛЛЕР
и, конечно, большинство людей, как правило, не
пишут собственные истории. В этом смысле
естественные и социальные науки расширяют свои эпи-
стемические притязания от толкования текстов,
уже когда-то написанных, до написания текстов,
которые никто, кроме них, не написал бы.
Современная социология научного знания описывает это
различие в терминах «поворота к практике», тем
самым сосредоточивая внимание на той работе,
которую осуществляют Naturwissenschqfien18 и их
подражатели, когда «записывают» различные свойства
реальности.
В этой связи становится понятней, почему
австрийский экспатриант Людвиг Витгенштейн
оказал столь большое влияние на британскую
академическую философию в XX веке. Витгенштейн
утверждал, что философское исследование
должно «оставить мир в покое», апеллируя к
имплицитной эпистемологии гуманитарного
исследования. Подобно классическому гуманисту, философ
витгенштейнианского толка не добавляет ничего
содержательного к тому, что уже было сказано
другими. Он скорее открывает пространство,
позволяющее им высказаться отчетливей. И хотя
Витгенштейн находился в Кембридже, больше
всего к его воззрениям прислушались
оксфордские философы, специализировавшиеся на
древнейшей части гуманитарной традиции —
греческой классике: Гилберт Райл был специалистом
по Платону, Дж. Л. Остин —по Аристотелю.
Вместе они культивировали стиль «обыденного
языка», побуждающий философов сводить
классические философские проблемы к вопросам
семантики словоупотребления, как того и следовало
ι8. Естественные науки (нем.) — Примеч. пер.
154
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
ожидать от тех, кто пришел в философию из
филологии.
Британскому продвижению лингвистического
шовинизма способствовало утверждение в XX веке
английского языка (сменившего немецкий) в
качестве универсального языка образованности.
Произошло это скорее по политическим, чем по строго
научным причинам — прежде всего, вследствие
поражения Германии в двух мировых войнах. Если
отбросить риторику, эту одержимость
виртуозностью английского языка, подвергнутую
справедливой критике Геллнером (Gellner 1959)» можно
сравнить с тем, что в значительно большем масштабе
происходило с немецким языком больше столетия.
Начиная с Гегеля и романтиков и до кульминации
в работах великого филолога-ренегата Фридриха
Ницше немецкие мыслители стабильно полагали,
что немецкий язык единственный содействует
философии, верной своим греческим истокам.
Следует заметить, что во второй половине XX века
французы восприняли данный тезис серьезнее, чем сами
немцы, даже если путеводной звездой французской
философии попеременно становились Гегель,
Гуссерль и Хайдеггер (Descombes 1980).
Учитывая общий «классический» бэкграунд,
неудивительно, что Райл написал для журнала Mind
благосклонную рецензию на «Бытие и время»
Хайдеггера вскоре после издания труда в 1927 Г°ДУ
(Murray 1973)· Классически образованные
британские и немецкие философы расходились, прежде
всего, по вопросу о том, как именно язык
раскрывает тайны философии. Если британцы полагали,
что дело в тех аспектах словоупотребления,
которые сумели пережить столетия, то немцы считали,
что оно состоит в значениях и употреблениях,
которые были утрачены. Это расхождение, в свою
155
СТИВ ФУЛЛЕР
очередь, отражает глубинное различие в
чувствительности относительно того, что требует
философского объяснения: для британцев это
продолжительный и даже растущий успех наших
коммуникативных и выразительных возможностей, для немцев
же—их непоследовательность и упадок. Сумела
философия достигнуть прогресса при ответе на
вопросы, впервые заданные греками, или же мы
позабыли самую их суть? В этой дилемме
сконцентрировано все различие между британским и немецким
языковыми подходами к философии.
Общая стратегия, которой придерживались
аналитические философы в защите своей
дисциплины от научных посягательств, состояла в
утверждении, что философия использует априорные
средства для выражения интуиции, разделяемых
всеми разумными существами. Такова была
изначальная ориентация ее отца-основателя Мура,
и впоследствии именно она была возрождена
в «Диалоге разума» Л. Дж. Коэна (Cohen 1986)
в ответ на обвинение, выдвинутое Рорти в
«Философии и зеркале природы» (Rorty 1979) > согласно
которому частные науки оставили аналитическую
философию без предмета.
Редко замечается, что стратегия Мура обязана
скорее Платону, чем великому рационалисту
Декарту, на деле отводившему куда большее место для
эмпирических рассуждений, чем позволял Мур.
В целом Мур принимал древнегреческое
представление о философской жизни как о досуге. Он был
типичным оксбриджским гуманистом своей эпохи,
получившим образование в области классической
филологии. Этос Мура воплотился в первую
очередь в «группе Блумсбери», объединившей
интеллектуалов и эстетов, следовавших его заветам, в
первые десятилетия XX века.
156
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! ФИЛОСОФИЯ
Несовместимость аналитической философии
и эмпирико-научного склада ума была
канонизирована Муром в положении о «натуралистической
ошибке», то есть о логической несостоятельности
выведения высказываний о должном из
высказываний о сущем. Исходными мишенями Мура были
Милль и Спенсер, ведь они полагали, что
«добродетель» есть не более чем результат свободного
решения (Милль) или врожденного инстинкта
(Спенсер). Хотя Мур выдвинул свой аргумент о
несводимости должного к сущему, чтобы установить
отдельную область бытия, соответствующую
нравственному познанию, в наши дни он используется
как всего лишь доказательство негативного факта:
то, что есть, не является необходимо тем, что
должно быть. И до недавних пор некогнитивистские
направления в этике XX века истолковывали тезис
Мура как неявно допускающий более субъективную,
нежели платоновская, версию идеализма.
Положение Платона как предводителя
англоязычного рационализма пошатнулось, когда
нацисты вынудили логических позитивистов
эмигрировать из Австрии и Германии. Широкая
австро-германская сеть, включавшая не только
позитивистов, но и, среди прочих, Поппера и Хайе-
ка, была хранителем англоязычного огня в
немецкоязычном мире. Впервые он был зажжен, когда
в середине XIX века выражение Милля
«моральные науки» [moral sciences] было переведено на
немецкий язык как «науки о духе», Geisteswissenschaften
(Kolakowski 1972)· Но позитивисты, культивируя
«английские» установки, восприняли не только
эмпиризм Юма—Милля и (позднее) логику
Рассела — Уайтхеда, но и политические взгляды
британских левоцентристов, согласно которым насилие
не может выступать орудием крупномасштабных
157
СТИВ ФУЛЛЕР
социальных изменений. В данном контексте часто
употреблялось выражение «социальная
демократия», которым обозначался широкий круг
движений от эволюционного социализма Эдуарда Берн-
штейна до парламентского либерализма Эрнста
Маха.
Логические позитивисты и их попутчики, таким
образом, оказались чувствительны к постепенным,
процедурно оформленным изменениям,
выраставшим из опыта, а не просто диктуемым сверху.
Наследием данной чувствительности является
канонизированная Карлом Гемпелем «симметрия»
между объяснением и предсказанием в выведении
научных заключений, предполагавшей, что
теоретический аппарат хорош настолько, насколько
большой диапазон эмпирических явлений им
охватывается. Можно считать, что это
эпистемологический эквивалент демократического принципа, в
соответствии с которым представитель тем сильнее,
чем большую поддержку он получает со стороны
народа, от имени которого он говорит. Другими
словами, между представителями и
представляемыми всегда должна происходить взаимная
калибровка, не подразумевающая отношения
подчинения.
Когда в 1950~е годы логические позитивисты
стали философским истеблишментом в США,
Декарт занял место Платона в качестве
отца-основателя аналитического мировоззрения и до сих пор
является краеугольным камнем большинства
курсов «современной» философии в англоязычном
мире. Учитывая родство логических позитивистов
с эмпиризмом, выбор фигуры Декарта может
показаться странным. Конечно, как и позитивисты,
он был занят основаниями физики и утверждал,
что доброкачественное эмпирическое исследова-
158
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
ние невозможно без надежной концептуальной
отправной точки. Однако до прихода логического
позитивизма к власти Декарт не был наиболее
очевидным образчиком научной установки XVII века.
Скорее, таковым был бы кто-нибудь более
эмпирического или даже прикладного склада ума,
например Галилей, Бэкон или Ньютон,
являвшиеся полной противоположностью кабинетному
интуиционисту вроде Мура. Приемлемость для
логических позитивистов Декарта в роли
исторического моста между априоризмом аналитической
философии и научным натурализмом, к которому
Мур питал столь стойкое отвращение, требует
объяснения. Ближе всего к институциональной
поверхности и, возможно, наиболее значимым по
продолжительности своего влияния здесь был
образовательный контекст философии в США. С
начала XX века Декарта воспринимали как
философа, бросившего вызов, на который эмпирики,
прагматики, идеалисты и реалисты считали себя
обязанными ответить. Все они стремились к
выработке концепции знания, которое бы не сводилось
к безоговорочной приверженности истинности
определенных пропозиций (Kuklick 1984)·
Позитивисты уже были знакомы с данным вызовом
благодаря расселовской формулировке «проблемы
познания» в «Проблемах философии» (1912)·
Рассел, в свою очередь, находился под влиянием
Гуссерля, Мейнонга и Брентано, давших
картезианскому вызову в широком смысле психологист-
ское истолкование (Kusch 1995)·
Расселовское нововведение, обязанное отчасти
Муру, а отчасти совместной работе с Уайтхедом
в области логики, состояло в том, чтобы
представить проблему как относящуюся к пропозициям,
а не к пропозициональным установкам. Подобное
159
СТИВ ФУЛЛЕР
представление проблемы упрощало необходимый
для эпистемологического исследования учет
человеческого разума прежде всего путем сведения
познания (cognition) к утверждению и отрицанию
пропозиций (то есть к так называемым верованиям
[beliefs]), а заодно защищало философию от
вторжения экспериментальной психологии. Наследие
этих пограничных маневров—переопределение
Родериком Чизолмом проблемы познания как
оправдание наших истинных верований.
В течение жизни позитивистов произошли два
важных события, способствовавшие принятию
ими картезианства в качестве начального пункта
современной философии. Оба произошли в
первые два десятилетия XX века: эйнштейновская
революция в физике и поражение Германии в
Первой мировой войне. Позитивисты ставили
Эйнштейну в заслугу реконцептуализацию научных
оснований, которую он совершил благодаря
новому толкованию результатов некоторых
проблематичных экспериментов, а не благодаря
проведению новых экспериментов или получению новых
данных. Тем самым Эйнштейн занимался явно
философской деятельностью. В то же время
немецкое научное сообщество поддерживало Кайзера
в Первой мировой, но смогло произвести новые
виды оружия массового поражения лишь тогда,
когда война была фактически проиграна. Это
поражение обернулось реакцией против
естественных наук в нарождающейся Веймарской
республике. В свете двух описанных событий логические
позитивисты стремились выстроить образ науки,
которая была бы концептуально
фундаментальной, но при этом технологически нейтральной.
Уникальная форма априоризма Декарта отвечала
этим требованиям. Одним словом, открытость
ι6ο
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
философов науки эмпирическим аргументам во
многом объясняется доминированием в США
и Британии немецких и австрийских
философов-беженцев, для которых водораздел между
двумя культурами был специфически английской
проблемой. Конечно, дебаты касательно Geistes-
и Naturwissenschaften властвовали над немецким
философским воображением сто лет после
издания перевода «Системы логики» Милля, и их дух
еще жив в дискуссиях о философских основаниях
социальных наук, разворачивающихся в англо-
и немецкоязычном мирах. Однако немецкие
дебаты в основном касались взаимоотношений между
двумя культурами, а не выбора между ними (Schnä-
delbach 1984: chs 1-4)· Помимо этого, немецкие
академики куда быстрее, чем британские,
приняли дарвинизм, что отражает общий паттерн
научных влияний в XIX веке: что зарождается в
Британии, то институциализируется в Германии.
(Разумеется, в философии дело обстояло в точности
наоборот: взять хотя бы расселовские
заигрывания чуть ли не с каждым ответвлением
немецкого идеализма, включая Лейбница, Гегеля
и Фреге.) Принимая биологическое единство
Homo sapiens, немецкоязычные философы были
вправе утверждать, что мы предрасположены
сочувствовать жизненным проблемам, с которыми
сталкиваются все люди, вне зависимости от каких
бы то ни было культурных различий. Так, у
Вильгельма Дильтея и Макса Вебера не возникало
сложностей при обосновании метода Verstehen,
присущего наукам о духе, в рамках
дарвиновского мировоззрения.
Неудивительно, что после Второй мировой
войны единственными из англофонов, кто
предоставил значимые концептуализации философского
ι6ι
СТИВ ФУЛЛЕР
исследования, стремившиеся объединить
нормативные требования как политики, так и
эпистемологии, оказались такие эмигранты-философы
науки, как Карл Поппер и Пол Фейерабенд. Несмотря
на все различия между ними и логическими
позитивистами, Поппер и Фейерабенд все-таки
разделяли с последними нормативное рассмотрение
«Науки» как флагмана всех форм коллективной
рациональности, даже при условии, что современными
научными практиками эта рациональность
достигается лишь частично (если вообще достигается —
по мнению Фейерабенда) (Notturno 2000). Мой
собственный проект «социальной эпистемологии»
наследует их предприятие, принимая во внимание все
более междисциплинарную среду, в которой в
англоязычном мире вырабатывается общее
философское видение.
Профессионализм как различие
между американской и британской
философией
С точки зрения британца, наиболее очевидной
специфической чертой американской философии
является ее «профессионализм», как в
положительном, так и в отрицательном смысле этого слова. Как
указывалось выше, исторически различие
определялось влиянием на США немецкой концепции
исследовательского университета, особенно
использованием докторской степени в качестве показателя
высшего академического отличия. Данная
концепция не находила поддержки в Британии вплоть до
1980-х годов, когда под влиянием Маргарет Тэтчер
экономический упадок страны на
международной сцене стал в итоге объясняться относительно
1Ô2
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
малым числом выпускников вузов в сравнении
с численностью населения. Это вызвало к жизни
доселе невиданный в британском академическом
мире профессионализм, который выступал
временами как форма коллективной защиты от
посягательств сил рынка, а порой и в виде средств
приспособления к ним.
В Америке немецкая модель впервые дала
о себе знать с подъемом прагматизма. Несмотря
на заявленные Уильямом Джеймсом попытки
проложить курс между эксцессами немецкого
идеализма и позитивизмом, базовое медицинское
образование сделало его близким по духу
Герману Гельмгольцу и Вильгельму Вундту, великим
немецким профессорам-исследователям, которые
в конце XIX века пытались разрешить проблему
«душа — тело» с помощью экспериментальных
методов. Оставаясь «публичным философом»,
Джеймс содейстовал техническим и порой даже
эзотерическим исследованиям в Гарварде, целью
которых было подтвердить метафизические
положения экспериментально. Их результаты
составляют начальный этап экспериментальной
психологии в США, и этому образцу следовали
ранние программы подготовки по философии
в Университете Джона Хопкинса, Университете
Кларка и Чикагском университете (в последнем —
под влиянием Джона Дьюи).
И все же именно миграция логических
позитивистов из Центральной Европы, связанная с
подъемом нацизма, сформировала нынешний
профессиональный этос американской философии.
Публичность, которая была присуща прагматизму
и другим исконно американским движениям,
постепенно стала исчезать. Это изменение может быть
объяснено главным—хотя зачастую незамечаемым—
1бз
СТИВ ФУЛЛЕР
различием в акцентах, расставляемых
позитивизмом и прагматизмом. Если прагматисты
рассматривали науку в качестве здравого смысла, который
обрел самосознание, то позитивисты понимали
здравый смысл как зачаточное и потому
несовершенное выражение типа мышления. Американец
Уиллард ван Орман Куайн, который был
студентом-наблюдателем на первых встречах Венского
кружка, обычно объявляется тем, кто сгладил это
различие. В частности, он перевел прагматистский
открытый взгляд на исследование в логический
принцип недоопределенности выбора теории
имеющимися эмпирическими данными (Thayer 1968).
Однако не менее значимой фигурой в этой связи
является Кларенс Ирвинг Льюис, возглавлявший
в студенческие годы Куайна департамент
философии в Гарварде. Льюис был учеником Джеймса
и стал одним из первых американских новаторов
в области символической логики. Он возродил
исследовательский корпус Чарльза Сандерса Пирса,
эксцентрика из Гарварда, чьи интересы и немалая
эрудиция в формально-научных вопросах
обеспечили недостающее звено между прагматизмом и
логическим позитивизмом.
До прибытия логических позитивистов
публичный образ американской философии был
исторически связан с христианскими, обычно либерально-
протестантскими устоями большинства колледжей
и университетов США. Это была секулярная версия
пасторской деятельности. Даже такой откровенно
секулярный философ, как Джон Дьюи, в своих
публичных выступлениях напоминал протестантского
священника. Это отличие от немецкой
университетской системы весьма примечательно. Начиная
со своего возрождения в начале XIX века немецкая
академия проводила строгое различие между пас-
164
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
торской теологией и теологией критической:
первая рассматривалась как подрывающая
интеллектуальную целостность последней, выступавшей в
форме исследования. (Майкл Полани (Polanyi 1957)
обновил это различие применительно к
естественным наукам XX века, говоря о
«священнической» установке идеологии и «монашеском»
настрое подлинных ученых.) Разумеется, подобное
различие было легче наблюдать в теории, чем на
практике, как об этом свидетельствует увольнение
радикальных теологов вроде Людвига Фейербаха
и Давида Фридриха Штрауса в 1840-е годы и отказ
Карла Маркса от академической карьеры (Toews
4*5)-
С приходом к власти Гитлера исключение
воспитательных вопросов из системы обучения
разделило немецкую академию на враждующие лагеря.
Позорное поражение в Первой мировой войне
многими рассматривалось как исход, результат
надменности научного материализма, который
разрешил полную свободу действий в политике без
должного нравственного руководства (Herf 1984)·
Иные, как Хайдеггер, желали вернуться к
пасторской миссии, восходящей к самому Мартину
Лютеру. Некоторое время нацисты прикрывались
обещаниями неолютеранского возрождения, в
особенности лютеровским превознесением
непосредственного опыта над интеллектуальным
посредничеством. Однако благочестивые лютеране,
наподобие Дитриха Бонхеффера, раскусили этот трюк
и поплатились за это жизнями. Отчасти в ответ на
нацистское манипулирование религиозными
чувствами более позитивистски настроенные
академики стали воинствующими атеистами и начали
с немалым подозрением относиться к
когнитивному содержанию эмоциональных воззваний. Как
1б5
СТИВ ФУЛЛЕР
только позитивисты укрылись в США, их
антинацистский этос практически вытеснил
традиционный американский интерес к философствованию
о морали и «достойной жизни».
Общепринятым признаком интеллектуальной
состоятельности в немецкой университетской
системе являлось использование технического языка
и (в случае, скажем, Фреге) символической нотации.
Как известно, логические позитивисты настаивали
на том, что тщательное определение терминов
избавит от случайных семантических ассоциаций и не
будет потворствовать дискуссиям о так называемом
образе жизни, которые могут подорвать упорный
поиск истины, равно как и не даст студентам
свободно рассуждать о том, как им следует жить (Dum-
mett 1993)· Действительно, многие из немецких
защитников этой концепции академической свободы
на заре XX века, такие как Эрнст Мах и Макс Вебер,
прямо подчеркивали: если исследование выглядит
чрезвычайно техничным и потому самодовлеющим,
студенты не будут думать, будто бы наука
«доказала» истинность или ложность их фундаментальных
ценностных предпочтений (Proctor 1991· eh. 10).
Любопытным переизобретением этой линии мысли
с учетом плюралистичного американского
контекста конца XX века стала философия «все
дозволено» [anything goes] Пола Фейерабенда, австрийского
ученика Поппера и Витгенштейна, который в
итоге осел в Калифорнии. Если Мах и Вебер
проповедовали академическое самоограничение в вопросах
ценностей, то Фейерабенд призывал: «Пусть
расцветают тысячи цветов». Но мотивация в обоих
случаях была одна и та же. Большинство британских
философов не осознают того влияния, какое
оказала немецкая академия на американскую
философию, но они с легкостью распознают его послед-
166
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! ФИЛОСОФИЯ
ствия. Американское философское письмо
перегружено жаргонизмом и символизмом, необоснованно
технично, а также сверхспециализированно.
Наиболее философски интересное проявление этой сверх-
специализированности заключается в том, что
американцы зачастую столь впечатлены результатами
последних научных достижений, что совершают
кантовский ход по превращению их в синтетические
априорные истины. Подобно Канту,
стремившемуся продемонстрировать, что Ньютон раскрыл
фундаментальные категории, с помощью которых мы
осмысляем мир, американские философы
психологии и биологии, такие как Дэниел Деннет или чета
Пола и Патрисии Черчлендов, пытаются
сконструировать свои теории таким образом, чтобы
превратить соответствующие научные достижения чуть ли
не в дедуктивные следствия смутно обоснованных
предположений о том, как функционирует мир.
В более дружелюбные для Маркса времена это
называлось бы «идеологией»; логики до сих пор
называют это «рационализацией post hoc». Ну а философы
обучены облагораживать этот ход, обозначая его как
«натурализм» (Callebaut 1993)·
Стоило доморощенным оксфордским
логическим позитивистам Айеру и Уэлдону заявить
в 1940-е годы, что моральный и политический
дискурсы состоят из едва прикрытых обращений
к эмоциям, как англоязычные философы также
стали провозглашать смерть политики в качестве
философски интересной темы. Тот факт, что
похоронный звон воспринимался серьезно и в США,
и в Великобритании на протяжении двух
десятилетий после Второй мировой войны, говорит
о многом. Логические позитивисты свели
политический дискурс к идеологическим
различиям, которые не могут быть разрешены строго
167
СТИВ ФУЛЛЕР
эмпирическими методами, поскольку он
включает обращение к страхам и надеждам публики, на
которую направлен. В перспективе холодной
войны подобный дискурс следовало всячески
сдерживать, поскольку единственной предсказуемой
альтернативой оставался насильственный
конфликт. Политика покинула философию, когда
она перестала рассматриваться как предмет, о
котором возможна обоснованная аргументация.
Более того, многие послевоенные общества стали
примером такого рода деполитизированной
чувственности, изменив должностные требования
к государственным служащим и поощряя тех, кто
обучался «технократическим» наукам, наподобие
инженерии и экономики, а не традиционным
гуманитарным дисциплинам. Именно в результате
этих перемен лекция Сноу о «двух культурах»
(1956) приобрела культовый статус, который она
сохраняла на протяжении последних
пятидесяти лет.
Аласдер Макинтайр (Maclntyre 1984 [1^91])
предложил любопытный, но убийственный способ
говорить об этих изменениях, по-прежнему
имеющих большое значение в англоязычной среде.
По заявлению Макинтайра, моральный дискурс
утратил связь с практическими концепциями
достойной жизни, вследствие чего мораль свелась
к всего лишь дискурсу, то есть анализу условий
лицензирования «высказываний о должном». Для
Макинтайра это сродни установке археологов
с Марса, которые прибыли на Землю после
ядерной катастрофы и рассматривают мораль как
сложно разработанную, но, в конечном счете,
чуждую языковую игру бывших обитателей
планеты. В подобном переводе оказывается
утраченным любой культурный смысл, вкладывавшийся
168
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
людьми в эти лингвистические маневры. Макин-
тайровское же объяснение деградированного
состояния современной моральной и политической
философии содержит ряд сомнительных квази-
хайдеггерианских воззрений, согласно которым
западная философия утратила связь со своими
греческими и христианскими корнями. И
все-таки было бы ошибкой полагать, что подобное де-
контекстуализированное понимание морали и
политики завершило англоязычное философское
мышление на эти темы. Наиболее изощренный
подход к ним мы находим в работе гарвардского
философа Джона Ролза.
Ролз начал свою карьеру в конце 1950-х,
комментируя труды Стивена Тулмина и Нельсона Гудме-
на; им отстаивалась необходимость разрешающей
процедуры, которая определила бы, стоит ли
продолжать нынешние нормативные практики в
неопределенном будущем —и если да, то каким
именно образом. Его ранние сочинения
свидетельствуют об изначальном влиянии верификационизма
логических позитивистов, пропущенном через
заботу позднего Витгенштейна об открытости к
жизненному миру, в котором разные заинтересованные
люди разрешают противоречия в рамках общих
социальных практик. Однако Ролз не выстраивает
свою разрешающую процедуру на основе
«решающих экспериментов» и «операционализаций», за
которые ратовали позитивисты. Он отказывается
от любых прямых эмпирических проверок в
пользу контфактической ситуации (что больше в духе
Витгенштейна), которая в «Теории
справедливости» (Rawls 1971) была названа «исходное
положение». В нем личность в одиночку принимает
решение о том, какие именно принципы
справедливости будут руководящими в ее обществе, представляя
1б9
СТИВ ФУЛЛЕР
себе, будто не знает о том социоэкономическом
положении, которое она в действительности
занимает.
Возникает искушение заявить, что господство
Ролза в англоязычной моральной и политической
философии в последнюю четверть XX века
свидетельствует об отчуждении теории от практики в
политической сфере западных демократий, в
особенности в США, самом известном месте
электоральной апатии, поскольку даже на уровне теории
позиция Ролза не предполагает никакого
взаимодействия между людьми, принимающими решения
о принципах справедливости. Ролз здесь наиболее
очевидно демонстрирует свое недовольство
утилитаристской традицией, принимающей как должное
парламент, в котором законодатели спорят друг
с другом о средствах и целях политических мер,
голосуют и меняют мнение, увидев последствия
принятых ими мер. Явный предшественник Ролза —
Кант с его категорическим императивом, который
принуждает каждого гипотетически представить
себе, что именно всякий человек принял бы в качестве
сплачивающего суждения о действии. Разумеется,
Ролз и Кант находились в разных политических
контекстах: Канта больше заботили цензура и
репрессии прусского короля, нежели недовольство
и цинизм американских граждан. И все же
основной философский посыл в обоих случаях одинаков:
можно делать политику и без того, чтобы иметь
дело с людьми. Несомненно, будущие историки
будут крайне удивлены, что позиция Ролза—и
порожденная ею обширная литература — называется
«контрактной». Хотя термин явно отсылает к гобб-
совской теории общественного договора, здесь
следует заметить, что гоббсовские агенты в их дооб-
щественном состоянии куда больше занимаются
170
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! ФИЛОСОФИЯ
предугадыванием действий друг друга, нежели
переговорами лицом к лицу, которые имели бы
место при разработке национальной конституции.
Для Гоббса исходные стороны общественного
договора не доверяют другу другу настолько, чтобы
поддерживать демократическое искусство
риторики. У Канта этот испуганный атомизированный
индивид превратился в самоуверенного
универсального субъекта, коль скоро предположительно
каждое лицо способно решать за всех без каких-либо
консультаций. И Гоббс, и Кант имели дело с
абсолютной монархией: Гоббс легитимировал ее, Кант
к ней приспосабливался. Дух Гоббса и Канта в
работе Ролза можно объяснить лишь тем, что перед
нами труд американца, впечатленного гибкостью
своей национальной конституции, но
разочарованного текущим состоянием политики, которому она
потворствует. В любом случае Ролз не так уж
сильно отличается от Гоббса и Канта: подобно им, он
абстрагирует нечто бросающееся в глаза из своей
общественно-политической ситуации и проецирует
это на универсальный план.
Разумеется, даже в Америке существовала куда
более яркая традиция политико-философских
дискуссий, перемещавшихся между академией и масс-
медиа. Этот прецедент возвращает нас в 1920-е
годы, когда Джон Дьюи и Вальтер Липпман
спорили друг с другом о вопросах демократического
правления в больших сложных обществах на
страницах левоцентристских еженедельников The New
Republic и The Nation (Diggins 1994)· Принципиальное
различие между тем, как американские философы
вели разговор о политических проблемах тогда
и как делают это сейчас, состоит в том, что в наши
дни философ предстает скорее не участником
публичной дискуссии, а своего рода верховным судьей,
!7!
СТИВ ФУЛЛЕР
который высказывается об общественных делах,
почти не оставляя места для несогласия. Здесь мне
приходит на ум фигура современного
англо-американского философа права Рональда Дворкина,
регулярно появляющегося на страницах The New York
Review of Books. Сложно представить себе
журналиста или политического эксперта, который посмел
бы оспорить его изречения. Соглашаются ли с ним
из уважения или же потому, что перечить было бы
бесполезно,—открытый и весьма немаловажный
вопрос.
Однако можно утверждать, что публичный
образ современной американской философии лучше
всего виден в процветающей области
«профессиональной этики», включающей этику бизнеса,
правовую этику, инженерную этику, исследовательскую
этику и в особенности биомедицинскую этику. Если
сегодня и существует «зона роста» для ищущих
работу в англоязычной философии, то именно в
указанных областях, которыми все больше
занимаются не в департаментах философии, а в
профессиональных школах. Кроме того, именно им, скорее
всего, обеспечено постоянное внимание массмедиа,
измеренное количеством упоминаний и интервью
(в противоположность более пространным
письменным текстам). И все же, в соответствии с
собственным представлением американской
философии о профессионализме, люди, привлеченные к
занятиям профессиональной этикой, наделяются
сравнительно низким статусом в качестве
философов, порой их даже считают софистами,
обеспечивающими легитимацию на заказ. В частности,
весьма строгие отклики в свой адрес на этот счет
получает любимец СМИ Артур Каплан. Как можно было
ожидать, менее профессионализированная
британская философия дает больше возможностей для
172
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! ФИЛОСОФИЯ
воздействия на общество. Показательный пример—
влиятельный труд Джонатана Гловера «Какого
рода люди должны существовать?» (1984), который
вверг поколение студентов-философов в дебаты
о недавно возникших генной инженерии и других
областях биотехнологии. Благодаря нему
биомедицинская этика в Британии стала в гораздо большей
степени полем научных исследований, чем
клинических суждений. Более того, следуя образцу,
установленному великим публичным философом
Бертраном Расселом, Британия имеет сравнительно
долгую традицию учреждения групп известных
деятелей под председательством широко
известного философа, чья задача состоит в установлении
нормативных стандартов, в соответствии с
которыми должна будет проводиться долгосрочная
социальная политика. Энтони Кении, Гэри Рансимен,
Бернард Уильяме и Мэри Уорнок —известные
имена руководителей таких групп. Разумеется,
подобная практика основана на сохраняющихся тесных
связях между Оксбриджем и парламентом, что
свидетельствует об остаточном элитизме британской
демократии.
Заключение: англоязычная философия
как жертва собственного успеха
Профессионализм в философии имеет свои
издержки и выгоды, как это ясно показывает контраст
между США и Великобританией в XX веке. В самых
общих словах американская философия
процветала в институциональной среде, относительно
непроницаемой для внешних политических и
экономических проблем (или невосприимчивой к ним?).
Подобная образовательная и исследовательская
!73
СТИВ ФУЛЛЕР
автономия привела к беспрецедентному уровню
технической изощренности и специализации. Но
она означала, что американским философам было
гораздо сложнее, чем их британским и в
особенности континентально-европейским коллегам,
оправдывать свои занятия перед все более озабоченными
вопросами бюджета законодателями и
идеологически подкованными гражданами. Успех континен-
тально-европейских философов в этом плане
состоит в том, что они пользуются гораздо большей, чем
философы из США и Великобритании,
популярностью среди англоязычных не-философов (к
примеру, литературных критиков, социологов), ищущих
философского руководства. Усиление позиций
аналитической философии в США в период с конца
Второй мировой по конец холодной войны могло
иметь в качестве своего непреднамеренного
результата «выученную беспомощность» (как сказал
бы социальный критик Торстейн Веблен) к
рефлексии социальных условий производства
философского знания. Выражаясь в терминах, которые бы
порадовали эволюционных биологов,
аналитические философы США, вероятно, «сверхадаптирова-
лись» к своей «экологической нише», утратив
способность адекватно отвечать на изменения в той
политической и экономической среде, в которой
они себя обнаружили к концу XX века. Даже столь
проницательный философ, как Ричард Рорти
(Rorty 1982), аппелирует к «традиции» —
исключительному характеру истории США как нации—для
объяснения своей приверженности философии как
свободному критическому исследованию. Но,
пожалуй, еще большее беспокойство вызывает то
обстоятельство, что для нынешних выпускников
философских программ в Америке философия вряд ли
обладает самостоятельной значимостью (скажем,
174
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
будучи способной предложить всеобъемлющее
мировоззрение или же строгую критическую
перспективу, исходя из которой можно было бы
обсуждать общественное устройство); скорее занятие ею
представляется средством ведения другой,
предположительно более достойной деятельности.
Естественная интерпретация этой ситуации
заключается в следующем: молодые философы
убеждены, что если они не могут сделать карьеру в
узкой области технических головоломок, решению
которых они были формально обучены, то
альтернативой становится работа в качестве
технического решателя головоломок в чужом проекте. Мало
кто из них задумывается о возможности для
философии оправдать себя в качестве автономного
занятия, даже не будучи предметом формальной
специализации.
В предыдущем разделе я отметил, что
философская «зона роста» — профессиональная этика —
с легкостью начинает восприниматься как область,
предлагающая легитимацию любому, кто платит
философу зарплату. Несколько более утонченная
версия этого же явления обнаруживается во всех
нормативных направлениях англоязычной
философии конца XX века. К примеру, когда
утилитаристы и деонтологи говорят о достоинствах своих
этических теорий они, как правило, делают это на
основе рассмотрения суждений о конкретных
ситуациях, которые уже принимаются в качестве
моральных. Иными словами, споры идут о том,
почему суждение морально, а не о том, является ли оно
моральным. Сходным образом реалисты и
инструменталисты в философии науки хотят решить,
почему выбор одной теории (скажем, предпочтение
Эйнштейна Ньютону в 1920 году) был верен, а не
являлось ли верным само пространство выбора.
175
СТИВ ФУЛЛЕР
Реалист и инструменталист в основном согласны
в том, когда история науки соответствовала,
а когда не соответствовала нормам научной
рациональности. Расходятся они по поводу того, в чем
именно заключаются сами эти нормы. В свете
вышесказанного может показаться, что нормативный
охват философов оказался резко сужен: из
законодателей они превратились в оценщиков. Я сравнил
(Fuller 2000b: eh. 6) данное понижение в статусе
с положением бухгалтера на чужом предприятии.
Философы теперь уже не занимаются
предписанием норм нравственной жизни и научной
практики: они попросту судят, соответствует ли
поведение в конкретных ситуациях нормам, и
предоставляют альтернативные объяснения тому, что
делает эти нормы собственно «нормативными»
в отличие от стихийно сложившихся социальных
закономерностей.
«Структура научных революций» Томаса Куна
(Kuhn 197°) — это книга, несущая наибольшую
ответственность в англоязычном мире за ослабленние
нормативной роли философии. Судя по продажам,
переводам и количеству цитирований, она вполне
может оказаться самым влиятельным трудом о
природе науки в XX веке. Так или иначе, она побудила
философов избрать для себя роль подсобного
рабочего — как описывал себя по отношению к Ньютону
Джон Локк (Locke 1959» Callebaut 1993)· Локк не был
достаточно математически образован, чтобы
понять ньютоновские «Principia Mathematica» во всех
деталях. И все же он действовал в качестве
«отделенного», но способного пропагандиста взглядов
Ньютона, будучи лично проинструктированным
последним о философских следствиях загадочных
вычислений, составляющих ядро ньютоновской
механики. Несмотря на свои первоначальные проте-
176
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
сты, философы все же приняли видение своей
дисциплины в качестве прислужницы, о чем
свидетельствует распространение философий частных
наук (философия физики, философия биологии
и т. д.), причем на деле такой философ может знать
о физике или биологии больше, чем о самой
философии. И чем глубже философы погружаются в
детали конкретной науки, включая обучение в
лаборатории, тем менее вероятно, что они будут
критичны по отношению к ней.
Философы, которые тратят время на подобную
научную подготовку, часто видят себя в качестве
продолжателей проекта логических позитивистов
и их попперианских собратьев. Позитивистам
ставится в заслугу благое намерение изменить
философские практики по образцу научных, но вменяется
в вину недостаточное усвоение ими деталей
конкретных наук (за частичным исключением физики).
Как же тогда, вопреки техническим недоработкам,
позитивисты сумели оказать столь огромное
влияние на научную методологию и публичный образ
науки? Ответ состоит в том, что, возможно,
логические позитивисты вовсе ne пытались быть
подсобными рабочими, а использовали науку для
достижения определенных философских целей, имевших
более широкое социальное значение. Взять хотя бы
символическую функцию естественных наук
в проекте «Просвещение», наиболее
последовательно продвигавшемся в наше время Карлом Поппе-
ром. Его идея состояла ne в том,, чтобы философы
рыли котлован для возведения здания
эзотерического знания; речь шла скорее о том, чтобы
распространить на все сферы жизни тот критический
настрой, который изначально позволил ученым
бросить вызов традиционным верованиям. Но по мере
того как наука становится все более приверженной
m
СТИВ ФУЛЛЕР
определенным линиям исследования, стоимость
пересмотра которых чрезвычайно высока, все
сложнее оказывается поддерживать этот
критический дух.
Некоторые вслед за Фейерабендом (Feyerabend
1979) утверждали, что следовало бы сократить
научно-исследовательские программы таким образом,
чтобы дать возможность развернуться критике
(Fuller 2000а: eh. 2). Когда Фейерабенд заявлял, что
креационизм нужно преподавать в
государственных школах США наряду с эволюционной теорией,
он высказывал мнение прежде всего не о том,
какова доказательная сила креационизма per se, а о том,
каковы социальные контексты, в которых она
должна определяться: это местные управления
образования, а не профессиональное научное
сообщество. Разделение между чьими-то личными
суждениями и рамкой, внутри которой их следует
оценивать, едва уловимо, однако оно крайне важно для
понимания той научной политики, которая
вытекает из модели подсобного рабочего. Фейерабенд
вступил в дебаты о креационизме, желая уравнять
императивы науки и демократии. Это типично
философский интерес, который требует постоянного
размышления о науке без принятия обязательств
перед конкретными научно-исследовательскими
программами. Более того, этот интерес
предполагает поддержку таких процедур принятия решений,
которые могут привести к суждениям, идущим
вразрез с личными предпочтениями. Определение
отношения между философским и частнонаучным
интересами по модели подсобного рабочего не
является в истории философии беспрецедентным.
Тем не менее оно требует обычно как раз забвения
истории. Как понял Кун (Kuhn 197°)' изучив
учебники по естественным наукам, ощущение прогрес-
i78
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
са в области исследований создается благодаря
иллюзии, будто бы нынешнее положение дел в ней
неизбежно вытекает из ее прошлого.
Альтернативные варианты будущего —«а что если...»
—вычеркиваются из официальной истории и отдаются в
ведение историкам, эзотерические изыскания
которых обособлены от повседневной практики данной
науки. То же верно и в отношении философии. Так,
мы не видим прецедента переориентирования
философии на роль подсобного рабочего в
неокантианстве начала XX века, против которого так рьяно
выступали в i93°'e годы и логический позитивизм,
и экзистенциальная феноменология (Fuller 2000b:
eh. 6).
Неокантианство — главный адаптивный ответ
академических философов в Германии на
дискредитацию гегелевского нормативного синтеза
(Collins 1998: eh. 13). Во многом это была защитная
реакция, целью которой было оградить университет
от внешнего вмешательства, особенно учитывая то,
как взгляды Гегеля были использованы в
политическом активизме его молодыми последователями
в 1840-е годы, включая Карла Маркса, чье
атеистическое прочтение философии истории Гегеля
перечеркнуло для него возможность академической
карьеры. Следующие три поколения академических
философов стали прислуживать развивающимся
частным наукам, которые начали захватывать
департаменты во все усложняющейся
университетской системе.
Как и у сегодняшних подсобных рабочих,
философские задачи, которые взяли на себя
неокантианцы, включали в себя распутывание
дисциплинарных оснований, упорядочивание историй
и разрешение пограничных конфликтов.
Вильгельм Виндельбанд, Вильгельм Дильтей, Генрих
m
СТИВ ФУЛЛЕР
Риккерт и Эрнст Кассирер —вот самые
выдающиеся имена этого периода. Их подход хорошо
описывается девизом «Эпистемология повторяет
[recapitulates] бюрократию». Более того, как это
принято и сегодня, неокантианцы ревностно
защищали свою «академическую свободу», дозволяя
проверку своих эпистемических утверждений
«коллегам», прежде чем они будут переданы
политикам и широкой публике, перед которыми они не
несли никакой ответственности. Уже тогда данный
призыв к специализации рассматривался как
стратегия дистанцирования претензий на знание,
порождаемых академической средой, от сходных
претензий, выдвигаемых такими общественными
движениями, как социализм, феминизм и
арийство. Учитывая то, как недавно проявили себя
философы и социологи науки в «научных войнах»,
кажется, что здесь по сути мало что изменилось
(Proctor 1991: Р· 2; ср· Fuller 2000b: eh. 7).
Как я упоминал ранее в связи с подъемом
логического позитивизма, поражение поддерживаемой
наукой Германии в Первой мировой войне вызвало
иррационалистическую реакцию. Об этом
свидетельствует слава «Заката Европы» Освальда
Шпенглера (1918-1922). Неокантианцы не сумели дать
достойный отпор, поскольку они разделили силы
«Разума» и «Истины» на множество
узкоспециализированных «разумов» и «истин», которые не
смогли все вместе ответить на устрашающий вопрос
Шпенглера: что именно придает смысл и
направление погоне за знанием? Несмотря на коренные
различия между ними, последователи логического
позитивизма и экзистенциальной феноменологии
отнеслись к этому вопросу серьезно, что привело
к пересмотру истории философии с целью
обнаружения упущенных представлений о целостности
ι8ο
ГЛАВА 2. СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ФИЛОСОФИЯ
исследования, пускай это и сделало их
«редукционистами» и даже «реакционерами» в глазах
академиков, которые полагали современный массив
дисциплин нормативно приемлемым (Schnädelbach
1984: chs 5-8).
Неспособность неокантианства ответить на
брошенный Шпенглером вызов говорит нам о многом.
Само неокантианство мертво, однако дух его
продолжает жить в ныненешней вспышке «антиунифи-
кационизма» в философии и социологии науки
(Galison and Stump 1996)· Конечно, кое-что
изменилось. Теперь уже не эпистемология повторяет
академическую бюрократию, а
онтология—лабораторную технологию. (Более строгую контекстуализа-
цию и критику этой тенденции см. в: Fuller 2007b:
6off.) И все же антиунификационисты наследуют
более общий философский тезис неокантианцев:
о ценности науки можно судить только изнутри
самой науки. Лишение философии функции
предписания никогда не было столь полным и
тщательным, как в наши дни, однако счастливые
обладатели длинной институциональной памяти могут
утешить себя тем, что когда-нибудь в будущем
радикальные мыслители вновь обретут голос.
ГЛАВА 3
Население интеллектуальной
жизни: интеллектуалы
Могут ли интеллектуалы выжить,
если академия — не место для шутов?
ОДНО из самых проницательных коротких
эссе, когда-либо написанных о социальной
роли интеллектуала, представляет собой
размышление о нескольких замечаниях Отто фон
Бисмарка, в правление которого университеты
Германии стали предметом зависти всего мира.
Ральф Дарендорф цитирует слова Бисмарка о том,
что суверен «в своем идеализме не должен
становиться опасностью для общества, ему требуется
критическое жало, с помощью которого он может
обрести путь, когда ему угрожает опасность его
потерять» (Dahrendorf 197°: 54)· В этом
прозрении легко обнаружить зачатки веберовского
понимания взаимодополнительности взглядов
политика и ученого. Со своей стороны Дарендорф
отождествляет критическое орудие суверена с
фигурой шута, чью открытость терпят постольку,
поскольку у него нет власти, и действует он лишь
ради удовольствия суверена. Шут может говорить
то, что не смеют произнести соперники суверена,
коль скоро сказанное ими может быть
воспринято всерьез, учитывая находящиеся в их
распоряжении средства. В таком ограниченном виде
неприятное присутствие шута стоит и потерпеть,
поскольку он может эффективно предостеречь
суверена о по-настоящему серьезной угрозе,
потенциально исходящей от его соперников. Короче,
183
СТИВ ФУЛЛЕР
шут укрепляет идеологическую иммунную
систему суверена.
Во времена Бисмарка академики вполне могли
бы сойти за шутов, ведь жалованье они получали
исключительно от государства (или с согласия
государства), а «академическая свобода» была
связана с их работой в качестве академиков, а не
являлась выражением всеобщего законного права на
свободу слова. Ситуация с академиками, как и
вообще с университетом, сегодня не столь очевидно
сходна с ситуацией шута. С одной стороны
кажется, что это к лучшему, учитывая
увеличивающуюся финансовую независимость от государства,
а в некоторых случаях даже и присвоение
академией функций, ранее исполнявшихся
государством. Но усиление власти и значимости вовсе не
обязательно приводит к усилению автономии.
И именно потому, что университет стал настолько
важен для воспроизведения социального порядка,
он утратил свободу говорить и действовать от
своего имени — роскошь, предоставляемую
безвластному, но находящемуся под защитой шуту. По
этой причине те, кто ставит интеллектуальную
автономию превыше остальных академических
добродетелей, в наши дни склоняются к миграции
из кампусов в гораздо более рискованные
среды, предоставляемые массмедиа и даже деловым
миром.
Для наивного наблюдателя интеллектуал и
академик очень похожи. Оба много говорят, бурно
жестикулируют и плохо одеваются. Большая разница
между ними, однако, заключается в том, что
интеллектуалы действительно заботятся об идеях и
знают, как их эффективно использовать. Идеи могут
быть переданы посредством различных медиа
разным аудиториям в любой допустимый момент
184
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
времени и в любую доступную точку пространства.
Если вы не можете передать нечто таким образом,
значит, либо вы не такой уж интеллектуал, либо то,
что вы пытаетесь передать, навряд ли является
идеей. Тогда вы пресс-агент, продвигающий
политическую программу, предприниматель,
рекламирующий продукт, или академик, делающий
карьеру.
Разумеется, некоторые академики —
интеллектуалы. Именно они не поддаются панике, когда им
говорят, что время их доклада сокращено вдвое,
или, еще лучше, когда они забывают принести
заготовленный текст или презентацию в Powerpoint.
У них нет проблем с тем, чтобы произвести
впечатление, потому что они всегда могут выйти за
пределы написанного. И если они больше ничего
не знают—вероятность всегда существует,—то они
все же знают собственный ум. Их живая речь ничуть
не похожа на фонограмму — а ведь именно такое
впечатление зачастую создается, когда слушаешь
нынешние академические доклады. Стоит только
спросить у заслуженного профессора нечто, не
совсем прямым образом относящееся к его теме, как
возникает чувство, будто вы зажгли фары перед
невинным оленем.
Чем же объясняется это странное положение
дел? Быть может, культ исследовательской
производительности не дает академикам достаточно
времени для полного понимания идей, которые
содержатся в их работе. В таком случае они знают
меньше, чем говорят. А это оставляет интеллектуалам
массу возможностей для заимствования и кражи их
идей, использования и злоупотребления ими ради
своих собственных, куда более широких целей.
Когда академики жалуются на журналистов и
политиков, которые плохо обращаются с их идеями,
185
СТИВ ФУЛЛЕР
они должны спросить себя, почему сами не
предали их огласке раньше. Во всем виноват дедлайн
подачи заявок на грант? Слишком много эссе нужно
проверить? Слишком много заседаний посетить?
Интеллектуал должен тщательно расставлять
приоритеты. Я вернусь к этому в четвертой главе, когда
буду говорить об «импровизационной природе
интеллектуальной жизни».
Любопытно, что единственными академиками,
которые приложили совместные усилия для того,
чтобы стать интеллектуалами, оказались
представители естественных наук. Во многих странах
существует институционализированное движение за
«понимание общественностью науки», но нет
сравнимого с ним движения за «понимание
общественностью гуманитарных наук» или «социальных
наук». Неудивительно, что Ричард «Эгоистичный
ген» Докинз возглавил список ведущих
публичных интеллектуалов журнала Prospect по опросам
2004 года, а также оказался третьим в мире
в 2005 году, согласно опросу, проведенному тем же
Prospect совместно с американским Foreign Policy.
Хотя это навело ужас на бастион консервативной
высокой культуры США, журнал The New CHteHon
(Johnson 2005), такой результат не должен
удивлять. Только научно-популярная литература
вроде «Краткой истории времени» (Hawking 1988),
«Эгоистичного гена» (Dawkins 1976)* «Ложного
измерения человека» (Gould 1981) и «Чистого листа»
(Pinker 2002) — четырех трансатлантических
бестселлеров, воплощающих неоднородность этого
жанра, — может состязаться по продажам с поп-
психологией, нью-эйджевым мистицизмом и
новейшими уловками всевозможных гуру от
менеджмента. Среди направлений подготовки в системе
высшего образования естественные науки менее
186
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
всего привязаны к какому-либо конкретному
медиуму. Журнальные статьи и популярные книги —
обычно только последыши того знания, которое
первоначально было воплощено в полевых
наблюдениях, лабораторных экспериментах и (все чаще)
компьютерных симуляциях. Неудивительно, что
естественники с легкостью делают доклады, не
читая по бумажке, запускают свои тезисы в СМИ
и прочими способами приспосабливаются к
поколению Powerpoint. Кроме того, затраты на
исследования в естественных науках выше, чем в других
дисциплинах, так что естественники привыкли
отрабатывать свой хлеб. Конечно, здесь я обобщаю,
и предмет моего обобщения дался не без слез.
И тем не менее ученые-естественники не
выказывают «принципиальной осторожности» перед
мультимедийной коммуникацией, которая столь
часто обнаруживается у гуманитариев и
социальных ученых. Когда люди жалуются на «жаргон»
последних, обычно имеется в виду как раз это
явление—и оно часто сопровождается сравнительно
необщительным, привязанным к текстам
поведением. Мы, академики не из естественных наук,
должны здесь задать трудный вопрос: мы мешкаем
потому, что реально боимся искажения наших
утверждений, или всего лишь того, что их
следствия станут настолько очевидными, что нам
придется нести за них ответственность перед слишком
большой аудиторией?
Разумеется, сами академики должны быть
способны осуществлять переводческие процедуры,
необходимые для расширения доступа к их
лингвистическим и техническим картелям. В этом
переводе заключается цель преподавания и
разработки учебных программ. Тем не менее мы
живем в академической культуре, которая слишком
1»7
СТИВ ФУЛЛЕР
превозносит «исследование» над преподаванием,
так что в итоге именно последнее должно
определяться первым, а не наоборот. Это препятствует
любой общей «интеллектуализации» общества,
которая в то же время не разделяла бы людей на
«знающих» и «незнающих». Я помещаю
«исследование» в кавычки, чтобы напомнить, что правило
подчинять новые открытия и контринтуитивные
прозрения дисциплине «реценизирования» [peer-
review] неизбежно сдерживает их подрывной
потенциал. Я не собираюсь сходу осуждать это
правило. Но выгоды страхового договора,
гарантируемого рецензируемым журналом, необходимо
сравнить с чрезмерной властью, которую в рамках
этого режима способна получить публикация
внутри и вне сообщества коллег.
Несмотря на все усилия Докинза, одна
воспринимаемая как должное черта нынешней
академической жизни постоянно подрывает нашу
способность быть подлинными интеллектуалами. Речь
идет о базовом допущении регулярных оценок
результатов индивидуальных исследований,
известных как «программа оценки качества
исследовательской работы в учебных заведениях» (Research
Assessment Exercise, RAE), впервые созданных
в Великобритании и экспортированных в
остальной мир. Суть его в том, что теперь мы заняты
«производством знания». Интеллектуалы могут
сокрушать догмы, но они определенно не
производят знание. Производство знания
предполагает отчуждение идей от мыслителя в виде таких
«результатов», как публикации и патенты, чья
ценность определяется рынком, состоящим или
из таких же отчужденных производителей
знания, или же (что чаще) из тех благодарных
паразитов, эвфемистично называемых «потребителя-
188
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ми и бенефициарами». Интеллектуального
отвращения заслуживает практика расточительного
цитирования, отравляющая сегодня
академическое письмо и все больше получающая
поддержку в качестве импакт-фактора в RAE. Чем чаще
цитируют твой труд, тем более он значителен
(Fuller 1997: сп· 4; Fuller 2000а: eh. 5)· Для
интеллектуала проблема с этой практикой не в тех
немногих, кто получает львиную долю
упоминаний, а в тех (и их большинство), кто
поддерживает этих лидеров рынка, цитируя их слишком
часто. Это взращивает культуру зависимости,
которая вознаграждает академиков за подвиги чре-
вовещательства, то есть речь посредством чужого
авторитета. Результатом становится
институционализированная трусость. В отличие от всего
этого интеллектуалы жаждут нести личную
ответственность за свои идеи, и ничто не доставляет им
большего удовольствия, чем оспаривание их идей
теми, кто, как и они, хочет выставить себя на
всеобщее обозрение. Великие интеллектуалы от
Сократа и Иисуса до Галилея, Вольтера, Золя и
Рассела представали перед судом, а большинство
других едва избегали судебных исков. Когда
интеллектуалы упоминают в печати имена людей,
это либо похвала, либо атака, а не попытка
оправдаться за заход на территорию, являющуюся чьей-
то интеллектуальной собственностью и носящую
это имя. Последняя ситуация вызывает в памяти
такие слова, как «пошлина», «рента» и даже «рэкет»,
особенно если подумать о необходимости для
академического письма проходить
«рецензирование» перед публикацией. В таком случае
«аргументация именами» просто-напросто становится
благоразумной стратегией выживания в
академической культуре, которая ценит в умственной
189
СТИВ ФУЛЛЕР
жизни задолженность выше кредитоспособности.
Здесь возмущенный академик заметит, что все эти
упоминания имен в действительности исполняют
подлинно интеллектуальную функцию. Они
помогают сориентировать читателя в сложном поле.
К сожалению, число цитирований в
академической статье обычно избыточно в отношении
требований. Для любознательного читателя с
ограниченной терпимостью к ложным наводкам при
освоении незнакомого предмета будет больше
толка от хорошего интернет-поисковика, чем от
послушного изучения списка источников статьи.
Но, разумеется, их список может предоставить
надежный указатель имен, к которым, по мнению
автора, стоит прислушаться.
Быть интеллектуалом значит думать самому,
а не беспокоиться о том, кто может вынести тебе
приговор. Академики не понимают эту разницу —
и страдают от этого. Профессиональная
подготовка к академической жизни включает в себя
обучение тому, где проходят границы исследования
и как их можно расширить,—но не тому, как
поставить поле под сомнение внутри границ. Как
следствие, большинство академиков продолжают
производить все более утонченные версии того типа
исследования, которому их обучили. Решения
проблем значительной интеллектуальной и
социальной важности могут с легкостью
игнорироваться просто потому, что они не вписываются в
формат, которому академики были обучены и
распознавание которого вознаграждается. Ученый из
библиотеки Чикагского университета Дон Суонсон
(Swanson 1986) предложил для описания
данного явления термин «неизвестное общее знание».
Суонсон наткнулся на способ лечения своей
загадочной болезни благодаря вовсе не получению
19°
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
крупного гранта, требующего предварительного
одобрения экспертов, а соединению идей,
собранных при чтении работ по различным
академическим дисциплинам.
Гуру менеджмента любят говорить об открытии
Суонсона как о случае применения
«нестандартного мышления», или «мышления вне рамок». Это
уж точно было мышление вне академических
рамок. Он предположил, что гораздо полезнее
изучить старые исследования в нескольких областях,
нежели заняться проведением нового
исследования, обещающего прорыв лишь в одной из
них. Пересмотр того, что оставила после себя
громогласная орда, —это проверенная временем
стратегия взращивания независимого мышления, что
отмечает истинного интеллектуала. Прискорбно,
что на это академических грантов не выдают. Как
бы то ни было, если здесь и есть рецепт, то он
примерно таков:
ι. Прочти много книг, которые затрагивают
существующие категории мышления.
2. Не принимай ни одну из них за последнее
слово в чем бы то ни было, а вместо этого
рассматривай их все как предлагающие крупицы
озарений. В конце концов, тебе же не хочется быть
сведенным к кому-либо еще, но тебе также не
хотелось бы оказаться непочтительным.
3- Соедини полученные озарения такими
способами, которые будут странными, но при этом
прослеживаемыми по крайней мере для будущего
историка.
4- Фоновое условие: чтобы будущие историки
обнаружили тебя, убедись, что ты достаточно
известен, чтобы числиться хотя бы среди «прочих
участников» интеллектуального забега.
191
СТИВ ФУЛЛЕР
5· В почтенной традиции «Кто не умеет — учит»
Фридрих Ницше представляет «виртуальную
модель» бесстрашного академического
интеллектуала. К несчастью, настоящий Ницше
утратил силу духа довольно-таки рано — после
разгромной рецензии на его первую книгу. Трюк
заключается в том, чтобы быть таким Ницше,
который остается стойким, живя согласно
девизу «Что меня не убивает, то делает меня
сильнее» (то, что Ницше почитают, а не
высмеивают, свидетельствует о наличии у академиков
обычно скрываемой способности к эмпатии).
6. Ницшеанский поворот, помимо всего прочего,
означает принятие профессорской должности
всерьез, как базы для того, что можно назвать
интеллектуально-венчурным капитализмом. Речь
идет о том, чтобы поставить на карту репутацию
и институциональную безопасность, занявшись
идеями, которые с легкостью обанкротят
других, занимающих менее благоприятные места.
Интеллектуалы отличаются от обычных
академиков тем, что для них наилучший подход к истине—
это не производство знания, но разрушение
старых верований. Когда философы Просвещения
восстановили старый христианский слоган
«Истина сделает вас свободными», они представляли
себе процесс открытия дверей, а не возведения
баррикад. Короче говоря, интеллектуалы желают,
чтобы их аудитория думала сама, а не просто
переносила свою преданность с одного эксперта на
другого. Этика интеллектуала — одновременно
пьянящая и суровая, поскольку для нее
ответственность за мышление лежит непосредственно
на мыслящем. Любое проявление пиетета, таким
образом, становится актом сложения интеллекту-
192
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
альных полномочий. Лишь интеллектуалы
понимают все значение знаменитого девиза «Знание —
сила». Очевидно, чем больше знания, тем больше
способность к действию. Куда менее очевидно то,
что подобное усиление влияния требует
разрушения общественно санкционированного знания.
Только тогда в обществе открывается пространство
для решений, позволяющее его членам двигаться
в большем числе направлений, чем было
возможно прежде.
На протяжении многих столетий великих
интеллектуалов отличала известного рода
антитрадиционность. Пьер Абеляр в XII веке, Эразм в XVI, Га-
лилео Галилей в XVII, Вольтер в XVIII, Эмиль Золя
в XIX и Бертран Рассел в XX веке — все они
бросили вызов благочестию своей эпохи, и сейчас мы
считаем их успех весьма неплохим. Однако
большинство из нас склонны шарахаться при упоминании
тех методов, которые они как интеллектуалы
использовали: карикатура, введение в заблуждение
и даже подлог. Рассмотрим случай каждого из них
по отдельности:
ι. Абеляр считается тем, кто сделал теологию
в рамках христианства критической
дисциплиной. Однако удалось ему это потому, что он
сопоставлял противоречивые, вырванные из
контекста цитаты и показывал, что ни Библия, ни
Отцы Церкви не говорят единогласно, а значит,
их читатели должны принимать решение
самостоятельно.
2. Эразм утверждал, что «истинной вере» не
стоит бояться изучения прошлого христианства, но
на практике его историко-критическое
прочтение Библии делало несостоятельными те
метафизические утверждения, которые разделили
193
СТИВ ФУЛЛЕР
католиков и протестантов. Быть может,
неудивительно, что Эразм был полностью
реабилитирован лишь тогда, когда «гуманизм» стал
считаться, вопреки своему исконному смыслу,
полностью секулярной позицией.
3- Как сейчас стало известно, Галилей в своих
знаменитых физических опытах занимался тем, что
мы называем «подделкой исследовательских
результатов». Если предположить, что он вообще
их проводил, навряд ли на выходе он получал
именно те точные результаты, которыми он
срамил оппонентов. Однако последующая
видимость гонений выиграла время для тех, кто
симпатизировал ему и желал идти по его стопам.
4- Вольтер обращался к гиперболам и насмешкам,
чтобы вывести из себя оппонентов-клерикалов,
чья собственная риторическая сила
заключалась в строгой сдержанности самовыражения
(Goldgar 1995)· Помогало ему и то, что его
аудитория, принадлежащая к среднему классу, уже
сомневалась в тех мирских рекомендациях,
которые духовенство давало монархии
относительно ведения внутренней и внешней
политики.
5- Знаменитая статья Золя «Я обвиняю!»,
написанная в защиту капитана Альфреда Дрейфуса от
приправленных антисемитизмом обвинений
в государственной измене, была с легкостью
осуждена как клеветническая, поскольку он только
ставил под сомнение мотивы свидетелей, не
предоставляя при этом никаких новых
доказательств.
6. Рассел впервые исполнил роль, ныне
разыгрываемую Ноамом Хомским: элитного
академического радикала, который может позволить себе
высказывания, выходящие далеко за пределы
194
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
его формальной компетенции. Однако Расселу
не хватило институциональной защищенности,
которой пользуются сегодняшние «штатные
радикалы» (Kimball 199°)· В итоге он обнаружил,
что совершает акты гражданского
неповиновения, выступая, скажем, за сексуальную свободу
и ядерное разоружение.
Все они впоследствии были реабилитированы —
одни при жизни, другие после смерти. Что их
объединяло, так это парадоксальная этика,
свойственная всем интеллектуалам: достижение истины
в конечном итоге оправдывает использование любых
средств, оказавшихся в твоем распоряжении. Ведь вся
правда редко бывает тем, что принимается за
истину в любой конкретный момент. Такая этика
вызывает отвращение в сегодняшнем мире, где знание
раздроблено на академические дисциплины,
напоминающие частные земельные участки. В глазах
академиков интеллектуалы —это бродяги, которые
вторгаются в частные владения, крадут фрукты
и опустошают землю. Но для интеллектуала
академик зачастую выглядит тем, кто принимает
средства исследования за его цель.
Пять лет назад я написал книгу в защиту
интеллектуала в этом широчайшем, наиболее
антиакадемическом и наименее популярном смысле — того
«всеобщего интеллектуала», который и поныне
подвергается насмешкам под влиянием Фуко. Эта
книга, названная «Интеллектуал» (Fuller 2005),
задумывалась как аналог «Государя» Макиавелли.
Я предположил, что исполнение роли
интеллектуала — это игра с настолько ненадежным
результатом, особенно среди академиков, что написать
руководство по данной теме было бы отнюдь не
лишне. Однако Макиавелли вдохновил меня также
*95
СТИВ ФУЛЛЕР
держать руку на пульсе. В его случае «пульсом»
было управление государством. Государь может
тщательно соблюдать все правила приличия,
однако если ему не удается справиться со своим
двором или пресечь на корню гражданские
беспорядки, то он не достоин правления, и точка. Моим
«пульсом» можно было бы назвать управление
идеями. Интеллектуалы по большей части заняты
продвижением идей. Помимо прочего это означает,
что они должны признавать существование идей.
Как мы увидим в следующем разделе, это трудная
задача в академии времен постмодерна, для
которой идеи — это досадные пережитки ужасающей
«метафизики (духовного) присутствия». Не
отрицая центральную роль академиков в
сертификации, разработке и воспроизводстве
дисциплинарных дискурсов и техник, в которых проявляется
власть «знания» в обществе в целом, все-таки это
само по себе не более чем «информационная
работа», если вспомнить здесь грубое, но точное
выражение гуру менеджмента Питера Друкера. Без
дополнительной онтологической приверженности
идеям информационная работа, которой
занимаются академики, вовсе не является
интеллектуальной деятельностью, несмотря на благие
пожелания «культуры критического дискурса» Элвина
Гоулднера (Gouldner 1979)·
Я настаиваю на четком разделении между
представителями академии и интеллектуалами во
многом по той же причине, по которой Макиавелли
хотел поместить основания политической
легитимации в будущем, а не в прошлом. С точки зрения
Макиавелли, оправданием для государя никогда
не служит та власть, которой он пользуется — будь
то знатные предки или благословение Папы, — но
лишь та, которой он наделяет своих подданных, —
19 6
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
пусть даже эта власть состоит в чем-то столь
элементарном, как возможность жить в мире и
процветании. (На этом впоследствии настаивал Гоббс.)
Существует более глубокое истолкование этой
задачи, прокладывающее пугающий курс от
Макиавелли прямиком к Муссолини: правитель должен
быть способен заставить своих подданных видеть
в его действиях реализацию их собственных
намерений. Что бы ни говорили о таком подходе к
политике, он предполагает, что осуществление
власти—творческий процесс, принуждающий
правителя постоянно переводить чаяния и страхи
народа в нечто большее, нежели сумма частей.
Конечно, результатом может стать презрение к
верховенству закона, как это вышло в случае Карла
Шмитта, веймарского юриста, приложившего
наибольшие усилия для оправдания нацистского
режима. Тем не менее даже если Макиавелли и не
предложил адекватную нормативную теорию
политики, он malgré lui19 предоставил нам элементы
нормативной теории той самой пра-, прото-, мета-,
крипто- (если не псевдо-) формы политического
существования, которую мы называем
интеллектуальной жизнью.
В таком случае академики, стремящиеся извлечь
выгоду из своей дисциплинарной власти, подобны
обращенным в прошлое правителям, высмеянным
Макиавелли. Они пытаются принудить аудиторию
к повиновению, напоминая ей о том, насколько их
положение выше в силу особой родословной,
пускай речь здесь идет об ученых степенях и званиях,
а не о наследственности. Теоретики общественного
выбора сводят воедино обе стороны этой аналогии
в понятии «рентоориентированное поведение»,
ig. Поневоле (фр.).— Примеч. пер.
!97
СТИВ ФУЛЛЕР
при котором эксклюзивное владение фактором
производства, скажем, землей, является
источником ценности независимо от его действительной
производительности. Не желая поощрять цинизм,
часто сопровождающий подобные апелляции
к экономике, мы все-таки не можем отрицать, что
зачастую «идеи» академиков и других работников
знания состоят всего лишь в том, что их дискурсы
предоставляют ограниченный доступ к
определенным сферам, которые, учитывая их более широкое
значение, могли бы быть достигнуты иными
средствами — если и не при помощи более простых
слов, то хотя бы посредством некоторых
невербальных образов. В этом отношении
свидетельством интеллектуальных притязаний логических
позивистов (по крайней мере «красного»
Венского кружка 1920-х и 1930-х) может служить тот факт,
что они пытались сконструировать универсально
применимый иконический язык мысли —
названный Отто Нейратом ISOTYPE —для представления
сложных социально-экономических данных на
публичных досках объявлений для
информирования участников политических дебатов.
Необходимо выполнение нескольких общих
условий, чтобы мир был пригоден для
существования идей и интеллектуалов:
ι. Идеям должна быть обеспечена возможность
множественной реализации, то есть они
должны иметь право на мультимедийную передачу.
Все, что стоит говорить, всегда может быть
сказано другими словами и, пожалуй, с помощью
других медиа.
2. Идеи должны открывать сферу
потенциального действия, которая бы иначе отсутствовала,
то есть они должны расширять коллективное
ig8
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
воображение в определенных направлениях
(даже если это означает его сужение в других).
3- Должны существовать материальные условия
для превращения «коллективного сознания»,
которое в наше время было деонтологизирова-
но и демократизировано в качестве «публичной
сферы», в область, где было бы уместно говорить
об идеях как о том, что внедряется,
оспаривается и имеет различное влияние.
4- Идеи должны быть разделены в строгом смысле
этого слова, то есть идея не рождается
полностью созревшей усилиями одного
оригинального гения, который затем запечатлевает ее в
массах; скорее идея реализуется постепенно, по
мере того, как большее число людей участвует
в ее производстве.
Говоря в перспективе истории, осуществление
вышеописанных условий требует двух переходов.
Во-первых, источником идей должны выступать не
платоновские небеса, а человеческая психология.
Во-вторых, психология должна будет
рассматриваться не как несводимо личная, а как общая
интеллектуальная собственность. Франция стала
духовным домом интеллектуалов с учреждением Третьей
республики в 1870-м году, поскольку оба этих
условия были сознательно внедрены. Образовательная
система была открыто секуляризирована, а
прежние эмоциональные привязанности к Церкви были
перенесены на «Республику» как общее достояние
(то есть res publico) французских граждан, в
создании которого их пригласили (если не обязали)
участвовать через свободную прессу. Это
наследие символизирует Пантеон — крестообразное
неоклассическое сооружение, располагающееся возле
Сорбонны и напоминающее здание конгресса США.
!99
СТИВ ФУЛЛЕР
В нем хранятся останки великих французских
граждан, многие из которых вполне обоснованно
называются интеллектуалами. Пускай данные
фигуры действовали обычно в универсалистском
нормативном направлении, оно всегда
вырабатывалось в связи с насущными национальными
вопросами. Как следствие, генеалогия французских
интеллектуалов — и то же самое можно сказать об
интеллектуалах других наций — образует вовсе не
узкую самодостаточную сеть учителей и учеников,
как, скажем, в представлении Коллинза выглядит
история философии (Collins 1998)> а.
центробежную систему из инакомыслящих, стоящих лицом
к лицу с основными политическими тенденциями
национальной истории. Одно только это
обстоятельство уже подрывает любую попытку составить
связное повествование о месте интеллектуала
в современном обществе.
Как интеллектуалы стали вымирающим
видом: след психологизма
В этом разделе я бы хотел сделать краткий обзор
проблем, с которыми сталкивается само
существование интеллектуалов в XXI веке, наметив
исторические и концептуальные условия, позволявшие им
процветать в прошлом и не позволяющие им это
делать сегодня. Для начала я обращусь к
нескольким направлениям современной философской и
социальной мысли, которые, несмотря на свой
прогрессивный лоск, стали причиной подрыва
легитимности роли интеллектуала. Эту делегитимацию
можно проследить прежде всего по скепсису в
отношении существования идей, которые
одновременно нормативны и манипулируемы. Далее
200
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
я рассмотрю подъем антиинтеллектуализма в
философии и психологии в XX веке, уделив особенное
внимание спорам вокруг «психологизма».
Следующий раздел я посвящу тому, что остается наиболее
привлекательным выражением
антиинтеллектуализма, а именно представлению о невидимой руке
и его превращениях в конце XIX века под
влиянием статистики, теории эволюции и эпидемиологии.
В заключении мною будет предложен вариант
стратегии по сдерживанию нынешней волны
антиинтеллектуализма, основанный на реинтерпретации
популярного ныне понятия «эвристика».
Оправдать существование интеллектуалов
в XXI веке —задача не из легких. Кажется, что
нынешний способ существования идей просто не
допускает возможности интеллектуалов. Взять хотя
бы главные установки относительно идей,
которые господствуют в современной философии.
Одну из них можно назвать «остаточным
платонизмом». Согласно этой установке идеи —это не
то же самое, что убеждения; напротив, они
обладают второпорядковым статусом, являясь рамкой,
внутри которой эти убеждения формируются. Эта
мыслительная рамка часто называется
«концептуальной схемой». В наши дни она, как правило,
функционирует как нечто необходимое, само
собой разумеющееся (иными словами,
«трансцендентальное») условие наших верований, и потому
ею нелегко манипулировать. Разумеется, ранние
прагматисты и логические позитивисты (включая
попперианцев) рассматривали схему как чистую
конвенцию, чья судьба зависела от того, что
именно она дает тем, кто ее принимает. Однако
недавние дискуссии о концептуальных схемах —
вдохновленные столь различными мыслителями, как
Мартин Хайдеггер, Томас Кун, Мишель Фуко
201
СТИВ ФУЛЛЕР
и Дональд Дэвидсон, —подчеркнули нашу
зависимость от решений предшественников (часто
называемую «контингентностью»). Наша
концептуальная схема оказывается наследием не менее
прочным —оттого что способ ее передачи
является культурным, а не строго биологическим. В
таком случае это не мы пользуемся идеями, а идеи
используют нас. Хотя быть интеллектуалом
означает нечто большее, нежели уметь обращаться
с идеями, манипулирование ими — важный
элемент интеллектуальной жизни. В этой связи «ис-
торизированный платонизм», модный ныне как
в аналитической, так и в континентальной
философии (см., к примеру: Hacking 2002), подрывает
легитимность интеллектуала.
Две другие нынешние философские установки,
усложняющие жизнь интеллектуала, обычно
представляются изнутри философии «прогрессивными»
и «радикальными». Первая из них—это установка
на сведение идей к языковому или поведенческому
их выражению. Так, Гилберт Райл (Ryle 1949) гово~
рил о понятиях как о «проездных билетах»,
дающих право на переход от одних утверждений к
другим, то есть как о наборе условий, определяющих
диапазон допустимых ответов. Подобное воззрение
весьма влиятельно среди философских
антиреалистов и аналитиков дискурса в социальных науках.
Его цель достойна восхищения — сделать
публичным учет класса (идей), которые в противном
случае остались бы окутаны тайной, будь то в
человеческих головах или на платоновских небесах. Но
как в таком случае обстоит дело с классической
миссией интеллектуала — говорить истину в лицо
власти, которая зачастую требует от него
«произносить непроизносимое», если идеи не существуют
помимо выражающих их предложений? Эта проб-
202
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
лема, в особенности после Теодора Адорно и Жака
Деррида, обычно разрешается подчеркиванием
стратегического значения «трудного письма»,
которое зиждется на непрямых способах выражения
вроде иронии и парадокса, отчасти подрывающих
устоявшиеся коммуникативные конвенции (или по
крайней мере выступающих против них). Однако,
как признают даже сторонники этой стратегии, она
превращает критически настроенного
интеллектуала в дискурсивного маргинала, в глас вопиющего
в пустыне, ищущего для себя слушателей,
способных придать смысл тому, что, строго говоря, его не
имеет. Вторая философская установка проявляется
в популярности концепции «технонауки» Бруно
Латура как подлинного предмета исследований
науки и технологии (Latour 1987)· Технонаука —
кульминация ряда тенденций, которые мы
находим у Хайдеггера, Витгенштейна и Гастона Башля-
ра. В общих чертах речь здесь идет о встраивании
нормативных идеалов в архитектуру жизненного
мира. По сути, технонаука привносит элемент
релятивизма и материализма в вышеописанный исто-
ризированный платонизм. Конечно, в отличие от
кажущейся статичной и тотализирующей
концептуальной схемы технонаука открыта для
многочисленных конструкций, реконструкций и
деконструкций по мере того, как артефакты и агенты
(«актанты») прокладывают свои пути по сетевой экологии
и за ее пределами. Вся эта активность описывается
относительно акторно-сетевой экологии; отсюда
методологическая максима Латура «Всегда следуй
за акторами!». Здесь нет легитимной перспективы,
исходя из которой, допустим, философ мог бы
отстаивать идеал науки, не претворяемый уже в жизнь
конкретными учеными. В самом деле, при более
пристальном рассмотрении этот нормативный
203
СТИВ ФУЛЛЕР
идеал науки оказывается устаревшим, упрощенным
или просто-напросто неверным описанием
научной практики, но он, к сожалению, порой заражает
самопонимание ученых. А стало быть,
интеллектуалам присущи те же неприятнейшие черты, что мы
находим у философов, напыщенно рассуждающих
о практиках, в которых сами они не участвуют.
В таком случае изучающие технонауку образуют
фалангу «контринтеллектуалов», — если не
антиинтеллектуалов,—чья работа состоит в подрыве
легитимности тех, кто считает, будто бы они могут
учить о том, чем не занимаются сами.
Неудивительно, что сам Латур (Latour 1997) объявил «критику»
бесполезным занятием —во многом так же, как
двумя поколениями ранее последователи
Витгенштейна настойчиво призывали применять «языковую
терапию» против философской страсти к
«теоретизированию». Похоже, существование
интеллектуалов требует наличия не только определенных
социальных условий, но и концептуальных. Идеи
должны существовать определенным образом. К
примеру, идеи Платона существуют в независимой
области, из которой они воздействуют на нас без того,
чтобы угождать нашим замыслам. Такие идеи ведут
себя подобно обезличенным богам. Неудивительно,
что софисты — головная боль
Платона—напоминали во многом современных интеллектуалов. Они не
считали, что имеют дело с идеями, и заявляли, что
являются поставщиками инструментов для
конкретных целей. Платон демонизировал эти
инструменты как «риторику». Хотя интеллектуалы
обычно демонстрируют определенные риторические
навыки, моральное превосходство, к которому они
стремятся, не может быть достигнуто без твердого
обещания отстаивать идеи, которые они считают
правильными.
204
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Мост между независимыми идеями Платона
и манипулируемыми идеями интеллектуала
начинает выстраивается с определения ранним
христианством воли в качестве отличительной черты
человеческой души. Понятие воли было предназначено
для выражения способности человека
сопротивляться инертности материального воплощения
души. В дальнейшем философы часто
отождествляли рациональность с максимальным
сопротивлением. Однако как только христианский Бог покинул
политическую арену, стало все труднее оправдывать
такое сопротивление. Кантовское решение —
автономная воля категорического императива — было
наиболее влиятельным в академической
философии. Оно превратило мораль в напряженную
личную борьбу. Более социально ориентированная
альтернатива была предложена еще при жизни Канта.
Она господствовала вне академии и предоставляла
адекватное метафизическое обоснование работы
интеллектуалов. Здесь я имею в виду превращение
идей в идеологию Мари Франсуа Пьером Мэн де Би-
раном (1766-1824)·
По мнению Мэн де Бирана, аристократа,
заставшего Старый порядок, Революцию, Наполеона
и Реставрацию Бурбонов, идеологии производятся
путем психологизирования философских идей для
того, чтобы сделать их более подходящими для
использования в политических целях. Пока это
смахивает на услуги софистов и даже похоже на
нынешний клиенто-ориентированный рынок идей,
раскручивающий предложения, поступающие из
различных «мозговых центров». Но вот господство
воли в моральной психологии Мэн де Бирана
меняет дело: она играет большую роль в превращении
мастера по торговле идеями в подлинного
интеллектуала. Благодаря воле идеи Платона могут быть
205
СТИВ ФУЛЛЕР
«персонализированы». Теперь они не просто
обитают на уровне реальности, отделенном от сферы
материальных вещей; нет, они борются за
самоутверждение в неподатливой материальности —
в телах конкретных идеологов. Работа
интеллектуала заключается в том, чтобы вести свою личную
борьбу перед лицом общественности.
Молодые последователи Гегеля, в особенности
Карл Маркс, осознали, что Мэн де Биран не
просто секуляризировал христианскую борьбу добра
со злом, но и настолько релятивизировал ее, что
речь теперь идет о постоянном конфликте между
конкурирующими идеологиями. Если вспомнить
о великом манихейском дуализме, порожденном
Французской революцией, то материальное
сопротивление осуществлению левых идей может
конституировать условия для претворения в жизнь
идей правых, и наоборот. Взять хотя бы
социальное неравенство: для одних это разрушительная
социальная проблема, для других это основа
социального порядка. В этом отношении проекты
Конта, Гегеля и Маркса могут быть поняты как
универсалистские версии динамики идей, которую
внедрил персонализированный платонизм Мэн де
Бирана. Для них интеллектуальный конфликт
сдерживается, поглощается и фокусируется
(говоря словами Гегеля, «снимается») в
диалектической прогрессии. Однако этот процесс происходит
в сознании не обычного идеолога, а члена
политического или научного (а лучше бы и того и
другого) авангарда, чьи социально-когнитивные
горизонты намного шире и яснее, чем у среднего члена
общества. Более того, жизнь представителей
авангарда—не только пример, которым можно
восторгаться издалека и на который простые смертные
могут ориентироваться в будущих воплощениях.
2об
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Речь здесь идет о принятии ими ответственности
за возвышение смертных до своих собственных
высот—если возможно, при их жизни. Такая крайне
модернистская чувствительность предполагает,
что идеи обладают достаточной властью, чтобы
свергнуть высокомерие, предубеждения и
привычки, накопленные поколениями. Но почему некто
отдает столько сил идеям? Быть может, потому,
что он уже видел проблеск претворенного идеала
незадолго до того, как, скажем, политическое
разложение или экономический упадок увели
реальность от идеала. Словом, то, что теоретики
социальных движений называют «относительной деприва-
цией», может помочь объяснить тот причудливый
сплав диагностики с утопизмом, который
характеризует менталитет интеллектуалов, находящихся
в полном расцвете.
Как правило, в истории философии и
социальных наук социальный порядок по умолчанию
рассматривался как порядок идей. Данная
тенденция объединяет столь различных в иных
отношениях мыслителей, как Платон и Дюркгейм, Конт
и Гегель, Адорно и Поппер. Моя собственная
социальная эпистемология также принимает этот
исходный пункт (Fuller 1988). Младогегельянцы,
в особенности Фейербах и Маркс, пытались —
с переменным успехом — перепроверить точность
соответствия между социальным порядком и
порядком идей. Они верно чувствовали, что
исторически оно поддерживалось концепцией
подлинной реальности как сообщества душ, которая
впервые обнаружила себя в попытках стоицизма
персонализировать платонизм и достигла
кульминации в христианском милленаристском идеале
«рая на земле» (Toews 1985)· Кроме того,
благодаря Мэн де Бирану идеи оказались чем-то большим,
207
СТИВ ФУЛЛЕР
нежели просто чистыми формами,
существующими независимо на платоновском небе. Это также
реляционные принципы, которые простираются
за пределы своих конкретных воплощений, дабы
быть обогащенными другими идеями.
По-видимому, идеи в сущности беглянки, всегда
пытающиеся избежать своих социально санкционированных
репрезентаций.
Наиболее характерные формы человеческих
отношений включают в себя работу с идеями. Они
предполагают своего рода «встречу умов», и место
этой встречи варьирует от интерпретации,
происходящей зачастую на значительном
пространственно-временном расстоянии, до контактов лицом
к лицу, в которых ее воздействие можно
непосредственно почувствовать телом. В самых общих чертах
«встреча умов» задействует акты идентификации,
ассоциации, адаптации, дифференциации, а также
конфронтации. Ян Хакинг (Hacking 1975: cns 2_5)
говорил о «пути идей». В действительности
имеется целых два пути, или две альтернативные
интеллектуальные эпидемиологии. Они соответствуют
некоторым знакомым разделениям, однако теперь
воспринимаемых уже в несколько ином свете.
Согласно первой эпидемиологии хорошие идеи
распространяются естественно, в то время как плохие—
только по принуждению. Согласно второй версии
плохие идеи распространяются естественным
образом, тогда как хорошие встречают длительное
сопротивление. (Ср.: Fuller 1993:59~66> гДе я различаю
соответственно «освобожденную» и «навязанную»
рациональность.) Я бы хотел назвать первую эпиде-
мологию антиинтеллектуалистскойу а вторую — ин-
теллектуалистской, полностью осознавая
полемический смысл данных ярлыков. В рамках первой
версии эпидемиологии интеллектуалы в лучшем случае
2о8
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
досаждают, а в худшем являются причиной
разрушения ценностей. В рамках второй версии
интеллектуалы—это необходимые исправители и даже
моральные герои в мире, где люди принимают свое
бедственное положение слишком охотно.
Философы науки уже знакомы с наиболее
абстрактной версией этого различения
интеллектуальных эпидемиологии: антиинтеллектуализму
соответствует индуктивизм, интеллектуализму—де-
дуктивизм. Индуктивисты утверждают, что идеи
обычно следуют за опытом, не выходя за его
пределы. Тем самым они идут по пути наименьшего
эмпирического сопротивления. В латуровской
персонификации аналитик всегда следует за
агентами, то есть никогда не забегает вперед них со
своей концепцией того, как им положено себя
вести. (В методологии подобное часто называется
«обоснованной теорией», индуктивистские корни
которой открыто обсуждаются в: Glaser and Strauss
1967.) Трансцендированный опыт в лучшем случае
означает опыт нераспознанный. То есть
трансцендентальная философия Канта — симптом жизни
при режиме, в котором опыт регулярно
обесценивается и поэтому должен быть восстановлен,
скажем, посредством создания уровня реальности,
метафизически превосходящего официальный.
Для индуктивистов такого рода ситуация вполне
понятна, хотя и прискорбна, учитывая
обстоятельства. Напротив, дедуктивисты полагают, что
ситуация Канта скорее правило, чем исключение —
а именно наш опыт обычно настолько ненадежен
в качестве руководства к действию, что должен
быть выработан альтернативный стандарт
поведения, выступающий в качестве либо гипотезы,
проверяемой опытом (то есть научным
экспериментом), либо нормы, с которой должен сверяться
209
СТИВ ФУЛЛЕР
опыт (то есть политической критики). В то время
как индуктивисты доверяют принимаемым по
умолчанию эпистемическим и социальным
институтам вроде здравого смысла и семейных
преданий, дедуктивисты разрабатывают
контринтуитивные средства проверки и коррекции для таких
склонных к предвзятости порядков, как
академические дисциплины и писаные конституции. Для
индуктивиста исследователь этики — это просто
честный докладчик фактов, для дедуктивиста же—
это подотчетное общественности лицо,
принимающее решения. Быть может, самым длительным
современным выражением борьбы между нашими
двумя интеллектуальными эпидемиологиями
явились споры вокруг «психологизма» среди
немецкоязычных философов с i860 по 1930 год (Kusch
1995)· Философы отзывались уничижительно, если
и не всегда последовательно, о психологизме своих
же коллег и эмпирических психологов, которые
приняли антиинтеллектуалистский подход к идеям.
Если воспользоваться недавним эвфемизмом
когнитивных психологов, страдающие от
психологизма злоупотребляют «эвристикой доступности»
(Tversky and Kahneman 1974)· Эвристика
доступности — склонность разума принимать
непосредственность или яркость мысли за свидетельство
верного отображения ею реальности. В некотором
смысле эта эвристика всего лишь реабилитирует
основную предпосылку классического эмпиризма
и ассоцианизма. Согласно ей идея не отложится
в чьем-либо уме, особенно в качестве реакции на
конкретный стимул или проблему, если только
она не укоренена в реальности ситуации.
Предположительная общая надежность эвристики
вдохновила ранних экспериментальных психологов на
развитие метода тренированной интроспекции.
2Ю
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Поздние психологи, следуя за Эгоном Брунсвиком,
дедуктивистом среди индуктивистов, выдвинули
гипотезу, что мы являемся «интуитивными
статистиками», очищающими свои мысли посредством
получения лучших образцов среды.
Среди недавних философов науки,
последовавших за достижениями экспериментальной
психологии, Томас Кун выступил за Карлом Поппером
против приверженцев «психологизма». Поппер,
чья докторская была посвящена педагогической
психологии, был убежден, что философ по сути
своей психолог-антипсихологист (Berkson and
Wettersen 1984)· Точнее говоря, философ понимает
человеческое сознание как состоящее из как
минимум двух независимых и потенциально
уравновешивающих друг друга порывов: один полагается
на эвристику доступности, в то время как другой
преодолевает ее множеством образов — скажем,
обесценивая или избегая первых впечатлений,
отличая точку зрения собственной личности от
того, что ей кажется общеупотребительным или же
всеми ожидаемым (даже учитывая ее опыт), или,
более общо, выдерживая паузу, прежде чем
реагировать на стимул.
Наставник Поппера Карл Бюлер был учеником
Освальда Кюльпе, чья Вюрцбургская школа
демонстративно отошла от методов мейнстримной
интроспективной психологии, заявив, что она
показала: именно второй эшелон «мысли без образа»
ответственен за «суждение»—ту ментальную
функцию, которая не может быть сведена к индукции
от прошлого опыта (Kusch 1999: Р· I)· Субъекту
было предоставлено то, что Бюлер (Bühler 193°)
назвал «степенями свободы» при
теоретизировании о недоопределенном по-своему существу мире.
Конечно, внешний медиум для выражения мысли—
211
СТИВ ФУЛЛЕР
язык в общем смысле, но в особенности письмо —
исторически помогал стабилизировать контексты,
в рамках которых стимулы вызывали конкретные
ответы. Но последние в конечном счете — это
социальные конвенции, чей когнитивный фокус
обеспечивается ограничением степеней свободы
субъекта. Таким образом, для ученика Бюлера
Поппера обретение научной дисциплины
приравнивается к акту самоограничения, который всякий
раз подразумевает упущение возможностей—а
стало быть, и возникновение слепых пятен, которые
обнаруживаются лишь позднее при обмане
ожиданий. Напротив, для Куна тот же акт
самоограничения вовсе не несет сожаления, и поэтому не
приходится удивляться, что аномалии
откладываются вплоть до последнего момента, а затем они
быстро разрешаются с целью стереть их появление
из коллективной памяти дисциплины. Поппер
хотел бы видеть ученого долго размышляющим об
альтернативных теориях и способствующим
изменениям теоретических перспектив в свете опыта.
В свою очередь, Кун желал бы, чтобы ученые
максимизировали свою эффективность в решении
проблем в соответствии с господствующей
парадигмой. В терминах классического эксперимента
по «переключению гештальта» можно сказать, что
Поппер занял позицию экспериментатора,
который меняет условия стимула в целях усиления
того или иного ответа, тогда как Кун оказался на
месте субъекта, который встречает стимул уже
классифицированный, чтобы вызывать вполне
конкретную реакцию (Fuller 2000b: 273» fn· 25)· Это
различие в позициях отсылает к моим
замечаниям в начале этого раздела о явно антиинтеллектуа-
листском характере посткуновских дискуссий
вокруг концептуальной схемы. Быть может, оно
212
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
гораздо более значимо для понимания истории
научной психологии, чем, допустим, различие
между использованием «интроспективных» и «экст-
распективных» методов изучения сознания. Оно
отражает дилемму, которая могла бы оказаться
куда более фундаментальной для понимания
истории психологии, чем водораздел между
«интроспективным» и «экстраспективным» методами:
делиберацию (и ее поведенческий коррелят —
колебание) или же автоматизацию (и ее
поведенческий коррелят—эффективность) стоит брать в
качестве парадигмы мышления, в терминах которой
ее альтернатива будет рассматриваться в качестве
дефекта, требующего исправления? Возвышение
автоматизации как парадигмы мышления над де-
либерацией явилось историческим триумфом
антиинтеллектуализма.
Но как именно скорость реакции стала
основанием для суждений о невежестве и интеллекте?
Среди зоопсихологов, зачастую записываемых
в протобихевиористы (наиболее известный из них,
пожалуй, Конви Ллойд Морган, ученик Гексли),
были опасения, что превращение автоматичности
в безоговорочную добродетель затемнит
отличительные добродетели делиберативной мысли (так
называемой рациональности), которая и сделала
Homo поистине sapiens. Тем не менее они не
смогли предотвратить развитие и массовое внедрение
хронометрированных тестов интеллектуальных
способностей, для которых, что вполне
предсказуемо, обучающиеся должны пройти подготовку,
чтобы выполнить их как можно быстрее и точнее.
Более того, зачастую забывают, что примерно то же
произошло и с куда более «менталистским»
лагерем психологов. К примеру, Вюрцбургская школа
подвергла критике гештальт-психологов за сведение
213
СТИВ ФУЛЛЕР
ими познания к «решению проблем» в простом
смысле нахождения подходящих средств для
достижения предзаданных целей. Субъект здесь сам
проблему не выбирает. Вместо этого гештальт-пси-
хологи сосредоточились на выяснении, имеется ли
у него то, что было после Куна названо
«парадигмой» решения проблемы. Главный объект данной
критики — Отто Зельц — четко смоделировал
процесс «завершения формирования гештальта»
решения математического уравнения (Berkson and Wet-
tersten 1984: chs 1, 5). Подобный ход —при
посредстве Рудольфа Карнапа и У. В. О. Куайна — немало
повлиял на аналитическую философию, в
частности, позволив в 195°"е Г°ДЫ сформулировать свой
подход к «логике научного открытия» Герберту
Саймону. Однако он избавил субъекта от всякой
ответственности за выполнение второпорядковой
задачи постановки проблемы. Она осталась у
экспериментатора, то есть стала итогом разделения
труда между субъектом и экспериментатором,
насчет которого вюрцбуржцы, будучи аутопсихоло-
гами, всегда имели немало сомнений. В какой
степени субъекта эксперимента можно считать
полноправным интеллектуальным агентом в
противоположность простому получателю и отправителю
идей?
В экспериментальной психологии отнюдь не
только вюрцбуржцы поощряли субъектов к
выражению своей человеческой природы помимо
проявления обычных животных реакций. Не
причисляемый, как правило, к поборникам
интеллектуализма, Уильям Джеймс защищал «волю к вере»
перед лицом двусмысленных и противоречивых
свидетельств.
В эпоху Джеймса термин «интеллектуализм»
отсылал к априорному рационализму — эпистемол о -
214
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
гии (обычно связываемой с именем Декарта,
однако иногда также Канта и Гегеля), поддерживающей
учение о врожденных идеях. Для прагматиста
вроде Джеймса главным грехом интеллектуализма был
его догматизм перед лицом опыта. Тем не менее
прагматисты, как и логические позитивисты с поп-
перианцами в XX веке, сохранили ключевую черту
догматизма, а именно принципиальное
сопротивление привычным паттернам опыта. Однако
источник этого отпора у Джеймса и обличаемых им
«интеллектуалистов» радикально отличался: для
Джеймса он лежал в личном решении («воля
к вере» или «по соглашению», как предпочитали
венцы), а не в предварительном программировании
разума. Это различие, конечно, имело огромное
значение для определения виновника неудач в
установлении соответствий между мыслью и
реальностью: Джеймс (как и позитивисты с попперианца-
ми) видел его в том лице, что принимает решение
и затем отягощается задачей обретения более
действенных средств достижения своих целей, а не
бросается заявлениями, будто бы факты являются
испорченной версией истины и от них можно
абстрагироваться при помощи идеализации. Рискуя
нарваться на парадокс, можно было бы сказать,
что самопровозглашенный антиинтеллектуализм
Джеймса—поистине интеллектуалистский подход
к идеям.
На рассуждения Джеймса повлияло то
обстоятельство, что некоторые философы, следуя по пути
«этики веры» математика У. К. Клиффорда, начали
утверждать, что люди из эволюционных
соображений не должны утверждать больше того, к чему
их принуждает опыт, иначе они могут не выжить
(Passmore 1966: chs 5? H)· В наши дни дебаты
Джеймса с Клиффордом воспринимаются как спор
215
СТИВ ФУЛЛЕР
о месте религии в мире науки. Однако лучше было
бы их рассматривать как общую защиту
выдвижения гипотез в качестве черты человеческой
природы, которая слишком легко затушевывается
дарвинистским мировоззрением, сводящим познание
к адаптивным реакциям на проксимальные
стимулы, методологически затем превознося их как
«индукцию».
Джером Брунер выступил связующим звеном
между Клиффордом и Куном в «де-делиберации»
познания. Во многих отношениях труд Брунера
с соавторами (Brimer, Goodnow and Austin 1956),
который так повлиял на куновское объяснение
изменений в науке, являлся гештальт-психологией на
антиинтеллектуалистском пике. Брунер свел
«концептуализацию» к быстрым и подсознательным
реакциям на двусмысленные стимулы в среде (к
примеру, аномальные свойства игральных карт
наподобие неверных цветов на рубашке). «Решения»
же — это причудливое наименование реакций,
предполагающих ограниченный диапазон
вариантов, над которым субъект не имеет власти.
«Теоретически нагруженное наблюдение»—это всего лишь
распознавание паттернов, то есть теоретизирование
сводится к простому наблюдению (Fuller 2003:
eh. 3). Между Брунером и его гарвардским
коллегой, радикальным бихевиористом Б. Ф. Скиннером
имеется лишь одно методологическое различие:
Скиннер попытался бы через ограничение условий
просто-напросто исключить любые колебания,
замешательства или тревоги, которые переживает
субъект перед лицом двусмысленных стимулов, в то
время как Брунер сначала порассуждал бы об
источнике подобной неэффективности. И все же оба
считали, что характерные черты делиберативного
мышления должны быть со временем устранены.
21б
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
В действительности для Брунера его
подопытные люди были менее умны, чем обезьяны
Канарских островов для Вольфганга Келера, одного из
основателей гештальт-психологии. Если келеров-
ские обезьяны должны были обнаружить
поставленную перед ними проблему, то Брунер просто
информировал своих подопытных о стоящей перед
ними задаче. «Умная среда» (информирующий
экспериментатор) не давала субъектам
продемонстрировать тот характерно человеческий род
интеллекта, ярким выражением которого являются
интеллектуалы. Как оказалось, помимо гештальт-
психологии на Брунера также повлияли этолог
Нико Тинберген и его учитель Якоб фон Икскюль,
которые под рубрикой Umwelt продвигали идею
о том, что организмы рождаются заранее
адаптированными к своему вероятному окружению (Brimer
1983: eh. 6). Люди отличаются тем, что
соответствующая фронтальная загрузка (так называемое
обретение парадигмы), как правило, происходит у них
уже после рождения путем индоктринации —
единственного социологического процесса,
которому Кун уделял серьезное внимание. Далее мы с вами
столкнемся с другим интеллектуальным отпрыском
Тинбергена и фон Икскюля —Ричардом Докинзом,
который под рубрикой «меметики» также придает
большое значение роли индоктринации для
мышления.
Генеалогия антиинтеллектуализма:
от невидимой руки к социальной заразе
Быть может, наиболее привлекательным
выражением антиинтеллектуалисткого подхода к идеям
является «невидимая рука». Согласно этому образу
217
СТИВ ФУЛЛЕР
стихийно возникшее в обществе разделение труда
способствует свободному обмену товаров и услуг,
который позволяет каждому индивиду
максимизировать собственные интересы, максимизируя при
этом интересы всех остальных. Процесс не
распланирован с самого начала, а развивается благодаря
цепочкам ассоциаций, происхождение которых
случайно. Эта «эволюция» становится возможной
при предположении, что все индивиды по сути
эгоистичны, но при этом способны учиться у других.
Наше обучение, в свою очередь, основано на второ-
порядковой способности к подражанию, в наши
дни называемой «когнитивной симуляцией». (Адам
Смит предпочитал термин «симпатия».) Иными
словами, работа невидимой руки складывается не
из бездумного всеобщего подражания поведению
новатора, а из всеобщих попыток воспроизвести
стратегию поведения, которая (гипотетически)
ведет к инновациям. Согласно теоретикам
невидимой руки, в такой стратегии деятельность каждого
индивида опознается остальными как то, с чем они
бы справились хуже, и тем самым для индивида
создается рыночная ниша.
Несмотря на рисуемую ее привлекательную
картину потока идей, невидимая рука является
решительно антиинтеллектуалистской из-за
намеренного отказа подчинить этот поток тому
нормативному идеалу, от имени которого мог бы вести речь
«интеллектуал». Конечно, в контексте XVIII века,
породившего невидимую руку, соответствующие
«интеллектуалы» являлись клериками, которые
желали ограничить свободу рынка во имя
различных навеянных религией идей, усиливающих
легитимность королевских династий, чья власть
в противном случае основывалась не более чем на
голой силе. Эти ограничения включали в себя
218
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
предоставление монополий политически
надежным производителям, что приводило к
сокращению производительности и, как следствие,
доходов тех, кто находился за пределами
королевского окружения. Реликтом подобных отношений
является присущая закону враждебность в
отношении к идее «интеллектуальной собственности»
(Kitch 1980).
Исторически привлекательность этой формы
антиинтеллектуализма связана с двумя
предпосылками. Согласно первой из них индивиды
естественным образом ведут себя как свободные и равные
граждане даже в тех обществах, где политическая
реальность к такому не располагает. Это наиболее
убедительно показали споры, приведшие к
американской революции. В соответствии с петициями,
которые были составлены колонистами и отцами-
основателями Соединенных Штатов, королевская
власть и ее агенты всего лишь прославляемые
поставщики услуг в рамках существующего в
Северной Америке разделения труда, а не какие-то
привилегированные особы, которые могут диктовать
условия торговли.
Согласно второй предпосылке тот род порядка,
который стихийно возник благодаря невидимой
руке, будет по меньшей мере столь же (если не
более) стабильным, что и порядок, устанавливаемый
государством. Это допущение показывает, что
невидимая рука нормативно укоренена в мире, в
котором финансовая спекуляция строго
удерживается на обочине экономики. На деле невидимая рука
предполагает позднесредневековую фантазию
о сельских свободных землевладельцах и
городских торговцах, в равной степени
заинтересованных в поддержании «общего благосостояния»
благодаря обмену. Такой мир, возможно, даже
219
СТИВ ФУЛЛЕР
и существовал недолго на заре промышленного
капитализма до того, как национальное
государство консолидировалось и создало валюту,
которая могла накапливаться и быть задействованной
для влияния (как правило, дестабилизирующего)
на будущее производство без того, чтобы
самому производить что-либо полезное. (Таким
образом, будучи провозглашена в разгар дирижи-
стско-меркантилистского капитализма, невидимая
рука уже имела оттенок ностальгии.) Не
приходится удивляться, что «правоверные» сторонники
невидимой руки в новейшем времени — скорее
австрийцы, нежели неоклассические экономисты —
любят различать виды капитала так, чтобы
отправить финансиста, этого паразита производства,
в тот круг ада, что находится лишь чуть-чуть выше
места обитания комиссаров.
За этими предпосылками лежат другие, еще
более глубокие, которые подводят нас к современным
проявлениям антиинтеллектуализма. Самые
важные из этих предпосылок следующие: (ι)
когнитивное оснащение, как правило, хорошо
приспособлено, чтобы служить нашим интересам; (2) в
нормальных условиях мы обладаем приблизительно
равными возможностями реализации своих
интересов. Короче говоря, антиинтеллектуалисты
предполагают, что стоит устранить несправедливые
или неестественные ограничения из свободного
оборота идеями (а также товарами и услугами), как
наши наличные способности предоставят все то,
что, как объявляют самопровозглашенные
интеллектуалы, может быть обеспечено лишь намеренно
и поэтому силой. Начиная с XVIII века
существовали два разных толкования этого весьма
оптимистичного решения проблемы знания и власти. Оба
они отсылали к понятию коллективной памяти,
220
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
но способы межпоколенческой передачи у них
существенно отличались. Оглядываясь назад, можно
сказать, что первые теоретики невидимой руки
работали с представлением о культуре и природе как
о «со-производящихся» в исторических наррати-
вах, тогда как коллективные психологи
следующего столетия рассматривали культуру как
расширенный побочный продукт природы, возможный
благодаря грамматике нашего генетического кода.
Ричард Докинз (Dawkins 1983) назвал культуру
«расширенным фенотипом».
Первое толкование упрочивает линию
преемственности от кальвинистской концепции
Провидения к дарвиновскому естественному отбору, но
не касается прямо вопросов генетической
передачи. Согласно ему идеи (и практики),
процветавшие в одном и том же месте долгое время, тем
самым составляют успешную адаптивную
стратегию — независимо от того, насколько странным
или даже отталкивающим может быть характер
идей или же судеб тех, кто не соизволил им
подчиниться. Очевидно, данный взгляд
благоприятствует политической толерантности и
моральному релятивизму, граничащим с
самоуспокоенностью: «Что ни есть, то и должно быть».
Неудивительно, что для теоретика невидимой руки
вроде Дэвида Юма всеобщая отмена рабства была
типичным примером интеллектуалистского
движения, поскольку в своем нежелании поступаться
принципом человеческого равенства (зачастую по
библейским основаниям) аболиционисты не
принимали в расчет явную стабильность
рабовладельческих обществ до европейского колониального
вторжения. Конечно, теоретики невидимой руки
выступали против рабства в своих обществах,
но только потому, что для них Европа имела
221
СТИВ ФУЛЛЕР
уникальный путь развития, в рамках которого
первые поколения ее жителей обладали свободой
и равенством, к которым снова стремятся вопреки
диктату тиранов. Переданные воспоминания
в этом случае оказываются скорее культурными,
чем биологическими, — чем-то вписанным в
повествования (о благородных афинянах, римлянах,
венецианцах и т.д.), пересказывавшиеся на
протяжении веков, а вовсе не напрямую в генетический
код нынешних членов общества.
Статья «История» Адама Фергюсона в
Encyclopaedia BHtannica 1780 года издания позволяет получить
представление о складе ума теоретиков невидимой
руки. В ней предлагается одна из самых первых
растянутых хронологий, представляющих общее
направление человеческой истории. В манере,
напоминающей философов XX века, например Тойн-
би, Фергюсон изображает историю в качестве
набора географически разделенных культур со своими
внутренними траекториями, разворачивающимися
параллельно во времени. Согласно Фергюсону,
«революции» вызываются взаимодействием людей
с сущностно различными характерами. И хотя
Фергюсон не считал, что революции с необходимостью
разрушительны, он полагал, что они все же
нарушают непрерывность траектории и способны
произвести долговременный положительный
эффект лишь в случае, если их результаты
нормализуются внутри революционизированной культуры
как новая парадигма, являющаяся результатом ку-
новской научной революции. Что Фергюсон не
предусмотрел, так это то, что непрестанные
диффузия и миграция индивидов и идей могут
радикально реконфигурировать границы, физически
разделяющие культуры. В этом отношении, в
противоположность либеральному империализму конца
222
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
следующего века, первые поборники невидимой
руки, по-видимому, полагали, будто естественный
поток благих идей подразумевает столь же
естественные границы, внутри которых эти идеи будут
вполне успешно течь.
В XIX веке прогресс в двух научных областях
помог прояснить процесс передачи идей. Первый
прорыв произошел в теории вероятности. Во
многом он был вызван сбором статистических данных
для консолидации власти национальных
государств. Второй прорыв был осуществлен в
биологии развития и затронул все органические уровни:
от эволюции видов и эмбрионального развития до
деления клеток. Эти тенденции пополнили
антиинтеллектуал истский арсенал представлением,
согласно которому подражание является не простым
умножением идентичных событий, а процессом
несовершенной репликации, равносильной
дифференциации, в рамках которой каждый
подражатель естественным образом отклоняется от того,
чему подражает. Обычно такие отклонения
возникают в фиксированных границах, так что, в
конечном счете, они нейтрализуют друг друга. Однако
порой эти «ошибки», накапливаясь, достигают
глобального масштаба, позволяющего им
эффективно перенастроить нормы той социальной или
биологической системы, в которой они возникли.
В наши дни это состояние известно как
«переломный момент» (Gladwell 2000). В начале XX века,
как только биологи пришли к пониманию
генетики Менделя в качестве причинной подоплеки
дарвиновской эволюции, ошибки в генетической
перезаписи в ходе репродуктивного цикла, которые
в итоге изменяют популяционные паттерны, тем
самым переопределяя границы вида, получили
название «мутации». Обычно мутация становится
223
СТИВ ФУЛЛЕР
успешной благодаря некоему изменению в
экологии, которое случайно оказывается подходящим
для ее отклоняющихся черт. Но еще до того как
биологи пришли к согласию по поводу понятия
мутации, социальные ученые антиинтеллектуа-
листского толка уже успели объяснить
периодическое появление «гения» или «изобретателя»
(или «созидательного разрушителя» Йозефа Шум-
петера — предпринимателя) в схожих терминах.
Подобного рода индивиды выступают, если
воспользоваться понятием современной теории
сложности, «странными аттракторами», присутствие
которых изменяет среду отбора поведения в
достаточной степени, чтобы заставить остальных
ориентироваться на их отличительные поведенческие
паттерны (Sperber 1996)· Характер группы в целом
может изменяться со временем, когда ее члены
открывают новые пути для удовлетворения
естественных склонностей с наименьшим
сопротивлением. В данной модели те свойства
индивидуального познания, которые иначе считались бы
помехой, становятся добродетелями, особенно
естественная эрозия памяти, чьи следы нацелены
на усиление ассоциации со свежим впечатлением,
оставленным сильным аттрактором,—явление,
ранее мною обозначенное как «эвристика
доступности».
Среди ранних социальных исследователей,
продвигавших эту линию мысли, наиболее всего
выделяется Габриэль Тард (ι843_19°4)> один из первых
директоров по статистике в Министерстве
юстиции Третьей французской республики, главный
соперник Дюркгейма в борьбе за звание
основателя французской социологии (пусть даже как
«интерпсихологии») и, наконец, профессор
современной философии в Коллеж де Франс (Gane 1988:
224
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ch. 8). После долгих лет забвения интерес к Тарду
недавно возродился во Франции усилиями Жиля
Делеза и Бруно Латура; последнего особенно
привлекает тардовский минималистский взгляд на
общество как на мозаику перекрывающих друг друга
ассоциаций (Latour 2002). Тард принял новый,
подкрепляемый уже наукой вид
антиинтеллектуализма с энтузиазмом, оказавший куда большее
влияние в США, чем в самой Франции (Ross 1991:
ch. 7)) где господствовал скептицизм в отношении
«обнадеживающих монстров», как Донна Харауэй
(Haraway 199°) вслед за генетиком Рихардом
Гольдшмидтом называет мутации. Большинство
французских психологов периода fin-de-siècle20
рассматривали разум как коллективную сущность—
как душу политического тела, — в которую
индивиды входят благодаря образованию и могут
в дальнейшем быть в нее возвращены посредством
психиатрии. Для них опасность, исходящая от
распространения идей сильными аттракторами,
выразилась в термине «внушаемость», который
покрыл все, начиная от гипнотических состояний
и заканчивая коллективной истерией (Valsiner and
van der Veer 2000: ch. 2). Этим термином
подразумевалось, что человечество существует в
качестве Homo duplex, существа, чей разум раздвоен.
К 1892 году французский пионер тестов
умственных способностей Альфред Бине начал говорить
о нашем «двойном сознании»; вскоре это
выражение было подхвачено У. Э. Б. Дюбуа и Антонио
Грамши для описания нескончаемой борьбы
«органических интеллектуалов» с материальными
условиями, которые делают возможным их род
занятий и в то же время ему препятствуют.
20. Конца XIX века.— Примеч. пер.
225
СТИВ ФУЛЛЕР
Мутационный подход к передаче идей,
благодаря Ричарду Докинзу известный сегодня как «ме-
метика» (Dawkins 197^)? усиливает
антиинтеллектуализм. Говоря в политических терминах,
подобная модель оправдывает стихийную тягу людей
к харизматичному лидеру, который
концентрирует смутные верования и желания толпы в
динамический порядок действия. Такой лидер, сильный
аттрактор, высвобождает поток глубинных чувств,
которые ранее были блокированы. Разумеется,
превращение антиинтеллектуализма из
невидимой руки в стадное чувство возмутило бы
представителей Шотландского Просвещения—Юма,
Смита и Фергюсона. Для них все свободные европейцы
должны быть равны в своем стремлении к
просвещенному эгоизму, а не в подчинении базовым
животным порывам. Конечно, в мысли шотландцев
имелся интеллектуалистский осадок. Они
цеплялись за средневековую схоластическую
концепцию—корни ее мы находим у Платона,—согласно
которой идеи распространяются с помощью
«сообщения форм», процесса, рассматривавшегося
как передача общего духа через множество тел,
«инстанцировавших» формы. Для теоретиков
невидимой руки такого рода средневековый осадок
не обнаруживает себя в образовании первопоряд-
ковых состояний сознания агентов, которые
отличаются друг от друга сообразно их личному опыту,
а также положению в общественном разделении
труда. Однако он дает о себе знать при
образовании второпорядковых убеждений агентов, в
особенности симпатии, которая дает место для
стратегической рефлексии о том, как индивиды оказываются
способными приносить пользу себе и другим,
используя один и тот же набор действий. Симпатия
предполагала твердую врожденную психологию —
22б
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
секулярный остаток христианской души, —общую
для всех людей.
В стадном чувстве, продвигаемом меметиками,
отсутствует именно эта способность к второпо-
рядковой рефлексии — относительно защищенное
ментальное пространство, предназначенное для
вынесения независимых, нормативно приемлемых
суждений на основе первопорядкового опыта. К
началу прошлого столетия было выработано три вида
ответов на эксцессы антиинтеллектуализма,
угрожающего свести Homo sapiens к неоправданно
превознесенному стадному животному. Первый ответ
подразумевал институализацию второпорядковой
рефлексии в роли публичного интеллектуала,
который служил бы совестью общества. Так, Эмиль
Золя неофициально стал первым
«интеллектуальным лауреатом» Франции. Второй ответ двигался
строго в обратном направлении: Фрейд вводит
«Сверх-Я» как интернализированного родителя
всякого индивида. Делая основательную уступку
антиинтеллектуализму, Сверх-Я не обращается
к особой способности разума сводить на нет перво-
порядковые импульсы, а задействует эмоции, такие
как вина, стыд и отвращение, для того, чтобы
нейтрализовать и направить в нужную сторону худшие
проявления наших порывов. Тем самым,
поверхностное равновесие рациональности зависит от
непрекращающейся сублимации. Третий ответ —
«нравственное воспитание» Эмиля Дюркгейма —
предписывал государству роль «лояльной
оппозиции» основному порыву человеческого опыта,
то есть нашей «впечатлительности». Социология
была основана им для обучения учителей нормам,
в особенности тех, что касаются ответственности
как на индивидуальном, так и на коллективном
уровне. Это позволило бы секулярной Франции
227
СТИВ ФУЛЛЕР
исцелить свой декадентский недуг (включая
чистый отток населения) — результат горького
похмелья после поражения от Германии в
Франко-прусской войне 1870-1871 годов (Jones 1994)·
Ответ Дюркгейма вызывает у нас особый
интерес, поскольку его концепция общественного
благополучия частично основывалась на аналогии
общества с индивидуальным организмом,
понятым как «внутренняя среда». Идея рассмотрения
индивидуального организма в качестве
внутренней среды принадлежит великому французскому
методологу экспериментальной медицины Клоду
Бернару (Hirst 1975: сп· 4)· Для Бернара здоровье
приравнивается к достижению равновесия перед
лицом изменений во внешней среде. Болезнь лишь
на первый взгляд вызывается конкретными
микробами или иными чужеродными телами. Наделе
она представляет собой итог неудачных попыток
организма восстановить равновесие в ответ на эти
внешние вторжения. Поражает здесь то (и это не
ускользнуло от внимания ученых-медиков того
времени), что сохранение здоровья требует
соблюдения нормативного обязательства, независимого
от естественных биологических порывов, и даже
сопротивляющегося им. Уже в 1855 году основатель
современной патологии Рудольф Вирхов назвал
медицину глубочайшей общественной наукой —
превосходящей право, — поскольку она была не
согласна просто проводить границу между
дозволенным спонтанным поведением (например,
торговля) и запрещенным (преступление),
границу, которая сама может изменяться в зависимости
от образцов поведения. Напротив, задача ученого-
медика — это усиление политического тела путем
укрепления его коллективного иммунитета (Sarac-
ci 2001). Главная стратегия укрепления иммуни-
228
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
тета заключается в вакцинации, моделируемой по
образцу противооспенной вакцины Эдварда Джен-
нера: небольшое введение внешней угрозы —в
данном случае вируса—позволяет телу абсорбировать
ее новизну без того, чтобы подчиниться ее воле,
как случилось бы в ситуации эпидемии.
Классическая роль интеллектуала как «лояльного
оппонента» или даже порой «адвоката дьявола»,
выступающего против господствующих в обществе
воззрений, может быть понята именно как иммунизация
политического тела.
Что любопытно, этот процесс коллективной
иммунизации через вакцинацию был воспринят
наиболее серьезно в качестве предмета изучения на
пике антипропагандистских исследований в США
во время холодной войны (см., например: McGuire
and Papageorgis 1961). Быть может, уже данная
временная привязка объясняет его непопулярность
в наши дни. Тем не менее идея вакцинации могла
бы многое дать нынешним интеллектуалам — в
особенности если мы расширим понятие «внешние
угрозы» и включим в него рыночные тенденции
в качестве аналога эпидемии. В таком случае
интеллектуалы могли бы разрабатывать иммунные
системы, определяя условия, при которых поток
вирулентных новых идей будет успешно ассимилирован
политическим телом. В истории политэкономии
были прецеденты подобной «протекционистской»
миссии. У нас в Великобритании подобным
прецедентом стали общества потребителей, которые
единым фронтом давали отпор рыночным силам и не
позволяли производителям следовать по пути
наименьшего сопротивления. Примером
международного прецедента служит стратегия оборонительной
модернизации Японии, в рамках которой западные
товары (и идеи) допускались в страну в количестве,
229
СТИВ ФУЛЛЕР
достаточном для того, чтобы впоследствии
осуществить обратную инженерию и научиться их
производить, уже не завися исключительно от западных
производителей.
На самом базовом уровне сегодняшний научно
просвещенный антиинтеллектуализм в основном
касается эвристик, то есть таких когнитивных
стратегий, которые, отклоняясь от классических норм
рациональности, тем не менее в течение
длительного времени зарекомендовали себя в качестве
адаптивных реакций на окружающую среду (Gige-
renzer 1999)· Однако умудренные эволюционные
психологи (например, Boyd and Richerson 1985)
были вынуждены признать: большинство
индивидов вовсе не обнаруживают эвристическую ценность
данных стратегий в своем жизненном опыте, а
скорее предполагают ее как часть стандартного
социального обучения. Эвристики передаются отнюдь
не как полезные, но как подверженные ошибкам
гипотезы. Скорее речь идет о вспомогательном, но
при этом необходимом компоненте ментальной
архитектуры индивида, который оправдывается
контрфактическим предположением о возможных
издержках агента при отказе от эвристики.
Иными словами, агентов весьма активно принуждают
отказаться от проверки эффективности эвристики.
Вместо этого поощряется простое ее
использование в обозначенных границах. Конечно, именно
из-за их широкой применимости эвристики не
могут автоматически дать адаптивный ответ в
конкретных ситуациях. Агенты должны дополнить их
собственными «конструкциями». Это значит, что
агенты должны видеть мир таким образом, чтобы
эвристики в нем могли работать независимо от
того, будут ли в процессе удовлетворены их
собственные или чужие интересы. Короче говоря,
230
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
агент собирает данные лишь до той поры, пока его
опыт не начнет отвечать ожиданиям,
обеспечиваемым эвристикой. Для интеллектуала это
выглядит социально разделяемой и эмпирически адми-
нистрируемой версией догматизма.
Огромное количество ментальных ухищрений
слывет в наши дни эвристиками. Многим из них
приписывают квазиэволюционное происхождение,
если их присутствие обнаруживается на большом
пространственно-временном отрезке, а сами они
напоминают паттерны, находимые у других видов.
Даже чья-либо манера одеваться («вторая кожа»)
может функционировать в качестве эвристики для
социального класса, знание которой позволяет
агентам взаимодействовать друг с другом
подобающим образом. Подтверждение эвристики не имеет
никакого отношения к общим проблемам
честности или социальной справедливости; вопрос лишь
в том, позволяет ли она агентам выносить схожие
суждения в будущем. В XVII веке иезуиты
предложили интересное противоядие от данной линии
мысли в целом (Franklin 2001). Они тоже заметили,
что мы часто высказываем стереотипные суждения
на основании недостаточных данных, тем не менее
позволяющие нам в итоге достигать успеха. И все
же иезуиты отвергли провиденциальное
истолкование этого явления, согласно которому мы знаем
гораздо больше, чем осознаем. Скорее для них речь
шла о том, что мы ставим на кон собственную душу,
стремясь преодолеть эпистемическии разрыв; то
есть эвристика, по сути, является моральным
суждением о том, какой мир мы предпочли бы,
учитывая, что у нас нет совершенного знания о том, каков
он есть. Тем самым, иезуиты изобрели идею
«моральной уверенности», на которую часто ссылаются
в судах. К сожалению, от оригинальной иезуитской
231
СТИВ ФУЛЛЕР
концепции обычно мало что остается, ведь условия
незнания в ней смягчаются отнюдь не
привычными убеждениями, а принятием личной
ответственности, даже если —как в случае эвристики
—принятие это происходит регулярно. Не видеть
эвристику в свете моральной уверенности — значит стать
жертвой предрассудка, что является самым
большим грехом и опаснейшим пороком для
интеллектуала в XXI столетии.
Переопределение интеллектуала
в качестве агента справедливого
распределения
В конечном счете публичный интеллектуал — это
агент справедливого распределения. Это звучит
странно, только если мы понимаем
справедливость как касающуюся исключительно отношений
между людьми и вещами. Тем не менее raison d'être
публичного интеллектуала попадает в поле
нашего зрения, лишь стоит нам расширить
справедливое распределение до отношений между идеями
и действиями. Подобно тому как некоторые люди
обладают незаслуженным преимуществом перед
остальными в доступе к материальным благам, так
и у некоторых идей есть такое преимущество в
отношении их способности мотивировать действия.
Обычно оно возникает благодаря тому, что
времени и ресурсов на развитие их было затрачено
достаточно для того, чтобы их практические следствия
стали очевидны. «Незаслуженное» оно потому,
что было добыто в ущерб другим идеям, чья
применимость стала бы столь же очевидна, если бы на
их разработку были бы потрачены сопоставимые
ресурсы и время.
232
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Подобный взгляд подразумевает понимание
публичного в качестве цельной «интеллектуальной
экологии» или «коллективного объема внимания»,
подверженного обычным экономическим
проблемам дефицита. Было бы трудно объяснить
инстинктивное чувство справедливости публичного
интеллектуала, часто выражаемое в форме праведного
негодования, без предположения о наличии этого
дефицита. Оно побуждает к размышлению о том,
какие идеи маргинализированы просто потому, что
не получили подобающей поддержки. Иными
словами, врожденный настрой публичного
интеллектуала рождается из воззрения, что об идеях судят
не по их достоинствам, а всегда в отношении к
другим идеям. И зачастую такие сравнительные
суждения имплицитны, то есть делаются путем
прямого указания не на сами идеи, а на тех, кто, как
предполагается, извлечет выгоду от их
продвижения. Если бы мы жили в мире изобилия, способном
поддерживать любую достойную идею без того,
чтобы в результате вытеснялись остальные, такая
«герменевтика подозрения» была бы необязательна,
а быть может, и неоправданна. Мы же не живем
в подобном мире. Это означает, что всякая идея
повинна в судьбе других. Публичный интеллектуал
отличается от остальных тем, что, столкнувшись
с этой ситуацией, принимает позу не
фаталиста-скептика, а адвоката-софиста. Сравнительное
преимущество идей, очевидно, есть итог решений
(возможно, многих и независимо принятых),
которые позволяют на протяжении долгого времени
нескольким идеям господствовать над остальными.
Задача публичного интеллектуала ясна: создавать
ситуации, позволяющие восстановить равновесие
и возобновить дела, которые слишком долго были
закрыты.
233
СТИВ ФУЛЛЕР
Одним словом, публичный интеллектуал —
профессиональный создатель кризисов. Понадобись ему
покровитель из древнегреческой мифологии,
наилучшим кандидатом выступит Эрида, вручившая
заветное яблоко, которое стало причиной суда
Париса о прекраснейшей из богинь и тем самым
нечаянно развязало Троянскую войну, что в свою
очередь стало отправным моментом формирования
литературного канона Запада. Публичный
интеллектуал становится признаваемой ролью, когда
общество, операционализированное в терминах
национального государства, начинает представляться
организмом, «политическим телом», обладающим
коллективным разумом, в котором множество идей,
в том числе длительно вытесняемых, соперничают
друг с другом за выдвижение на передний план
сознания. В предыдущем разделе я уже указал, что
подобная социальная онтология характерна для
Третьей французской республики —периода, когда
Дюркгейм институциализировал социологию в
качестве академической дисциплины. В этом же
контексте романист Золя стал иконой публичных
интеллектуалов в 1898 году, выпустив «Я
обвиняю!», чтобы привлечь внимание к антисемитизму
и подспудно ощущаемому ухудшению
французского положения на мировой сцене, послужившим
причинами обвинения капитана Альфреда
Дрейфуса в государственной измене.
Поскольку к тому времени прошло почти четыре
года с заключения Дрейфуса на Чертовом острове,
первоначальная реакция на попытку Золя
возобновить его дело была отрицательной. Золя бежал
в Лондон, чтобы избежать тюремного заключения
по приговору суда о клевете на Военное
министерство: у него не было новых свидетельств—лишь
новая контекстуализация, — доказывающих невинов-
234
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ность Дрейфуса. С открытием новых обстоятельств
дела Золя был оправдан. Согласно метафоре
политического тела вмешательство Золя — вакцина,
иммунизирующая республику против куда более
опасной угрозы. Экстремисты и с правого, и с левого
фланга сомневались в долгой жизни Третьей
республики. Золя же озвучил их скепсис не
призывами к государственному перевороту и
террористическим действиям, а публикацией мнения в газете,
которое заставило читающую публику задуматься
о все более неприглядном образе действий
избранного правительства, дабы она могла что-нибудь
с этим сделать с помощью соответствующих
конституционных механизмов. В итоге республика стала
более сильной, чем когда бы то ни было, а редактор
газеты, напечатавшей провокацию Золя, Жорж
Клемансо, стал премьер-министром Франции
в годы Первой мировой войны. Вопреки
политическим экстремистам Золя искренне верил в
превосходство пера над мечом —что и сделало его
истинным интеллектуалом.
Само собой, успех интеллектуального
героизма Золя был основан на его международной
литературной славе, которая позволила ему без
всяких препятствий переехать в Англию, когда
во Франции запахло жареным. Но это ничуть не
умаляет его достижение. Я бы хотел указать на
ключевую составляющую в процессе
взращивания и распознания интеллектуалов — негативную
ответственность. Негативная ответственность
принадлежит дискурсу утилитаристской этики,
в соответствии с которой о моральной ценности
действия судят по доступным альтернативам,
отброшенным агентом. Суть в том, что чем шире
сфера доступного личности действия, тем больше
ее ответственность за совершение блага. Если
235
СТИВ ФУЛЛЕР
благой поступок не был совершен, хотя все
условия для этого были, то это равносильно
совершению зла (Fuller 2003: eh. 17; Fuller 2005: 98-юо).
Эмиль Золя —образцовая модель интеллектуалов,
поскольку он хорошо это понимал (к этому я еще
вернусь в следующем разделе). Хотя Золя и
рисковал, «высказывая истину власти», угроза для
него была невелика, если сравнивать ее с
ожидаемыми выгодами от его вмешательства. Более того,
именно слава дала ему уникальную возможность—
путем получения убежища за рубежом — вынести
любой ответный удар. Для работающих писателей
или не имеющих постоянных постов академиков
высказаться против осуждения Дрейфуса было бы
безрассудно, однако для тех, кто имел
обеспеченное положение, не высказаться означало
проявить беспомощность.
Противопоставление «беспомощных» и
«безрассудных» интеллектуалов — это мой ответ на
«Безрассудные умы» Марка Лилла (Lilla 2001),
известную консервативную историю провалов
интеллектуалов. В то время как Лилла гадает, почему
интеллектуалы начиная с Платона столь часто
склонялись к авторитарной политике, я полагаю,
что следовало бы спросить об обратном: почему
интеллектуалы с такой большой неохотой
высказываются против господствующих позиций в
либеральных обществах, учитывая, что их жизням
почти ничего не угрожает? Эта беспомощность
остается незамеченной, поскольку не оставляет
никаких следов: она состоит просто в
воздержании от действия. В том, что беспомощность
является провалом негативной ответственности,
меня убедило подробное изучение карьерных
перипетий Томаса Куна, который во время холодной
войны отмалчивался по поводу формирования
23б
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
научного сообщества путем кооптации, тогда как
почти каждый крупный философ науки публично
выразил свою озабоченность по этому поводу
(Fuller 2000b). Проблема беспомощных умов ставит
вопрос о том, как именно следовало бы институ-
циализировать моральное мужество, проявлений
которого ожидают от публичного интеллектуала,
чтобы нация не была зависимой от героизма
нескольких знаменитостей.
Немецкое решение оказалось наиболее
эффективным: введение системы постоянных
академических должностей и назначений. Под «немецким»
я подразумеваю классический период немецкого
университета начиная с ректорства Вильгельма фон
Гумбольдта в Берлинском университете в ίδιο году
и кончая завершением Первой мировой войны
в 1918 году (Ringer 1969)· Поворотным моментом
в этот период стало объединение Пруссии и
большинства немецкоговорящих княжеств во Второй
рейх под управлением Отто фон Бисмарка
в 1870 году. В следующем поколении Германия
стала ведущей научной державой мира. Постоянные
академические должности, пусть и лишенные
своего гумбольдтовского истока, хорошо знакомы
и американцам, хотя при переезде за океан было
кое-что утеряно (Metzger 1955)· ^ США они
традиционно обосновывались «свободой слова»,
гарантированной всем гражданам Первой поправкой
к конституции. Многие громкие судебные
разбирательства в США за последний век, касающиеся этих
должностей, представляли собой попытки
противостоять власти попечительских советов
университетов и законодательных органов штатов увольнять
академиков, которые писали и высказывались
вразрез с их интересами. Как правило, академиков
восстанавливали в должности, поскольку никакой
237
СТИВ ФУЛЛЕР
вид найма не может отменить конституционное
право на свободу слова.
Напротив, до 1918 года немецкие академики
были вольны исследовать и учить—это являлось их
цеховой привилегией в стране, где не было общего
права на свободу слова. Этот период закончился
в 1918 году, поскольку Германия тогда впервые за
свою историю стала конституционной
демократией, так называемой Веймарской республикой. Как
следствие, университеты были вынуждены
соперничать за контроль над публичной
интеллектуальной жизнью как с развивающимися средствами
массовой информации, так и с частными
мозговыми центрами. Так, «Закат Европы» Освальда
Шпенглера стал бестселлером, написанным
школьным учителем, ранние успехи Гитлера были
связаны с его положительным образом, созданным
медиамагнатом Альфредом Гугенбергом, а среди
мозговых центров, которые посягали на власть
университетов, оказался Институт социальных
исследований, то есть Франкфуртская школа. Зачастую
об этих обстоятельствах забывают, ведь угрозой для
университетов они были недолго (15 лет), хотя
этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить подъем
нацизма чисто демократическими средствами.
В более долгосрочной перспективе академия,
конечно, смогла инкорпорировать почти все
веймарские эпистемические нововведения, отретушировав
потенциально опасные составляющие таким
образом, что понравилось бы Гегелю или даже Фрейду
(скажем, «этническое разнообразие» в роли
академической сублимации научного расизма или
«культурные исследования» в качестве элитистскои
реакции на массмедиа).
Как только свободное исследование стало
цеховой привилегией, оно вышло из манихейской пра-
238
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
вовой вселенной, допускающей только чистое
разрешение или тотальный запрет. Вместо этого оно
оказалось встроено в утонченную систему прав
и соответствующих им обязанностей. Так, в США
постоянная штатная должность защищала
публичное интеллектуальное вмешательство как
возможность, которой академик был свободен
воспользоваться (или не воспользоваться), тогда как в
Германии она вынуждала академиков исполнять роль
публичных интеллектуалов, чтобы тем самым
продемонстрировать, что они достойны своих
привилегий. Можно сказать, что американцы не
решились должным образом воспользоваться
богатством своих возможностей, в то время как немцы
совершили все, что было в их силах, в рамках
более ограниченной сферы деятельности. У первых
мы находим повсеместное самодовольство,
прерываемое недолго живущими спорами, у
вторых—частое тестирование границ саморегулирования,
которое порой проводилось под угрозой цензуры со
стороны правительственных чиновников.
Сравнение это показывает, что состояние публичной
интеллектуальной жизни зависит от правового
режима, в котором она разворачивается, и отнюдь не
очевидно, что более свободный режим ей всегда
благоприятствует.
Немецкие академики имели готовый предлог,
topos, для публичного интеллектуального
вмешательства. Он восходил к проведенной в немецком
идеализме аналогии между отношениями духа
и материи, с одной стороны, и нации и
государства, с другой. Действительно, эта аналогия
превратила академию, как хранителя духа нации, в
лояльную оппозицию всем, в чьих руках
оказывались бразды правления государством. Каждый
ответственный академик был склонен проверять,
239
СТИВ ФУЛЛЕР
в какой мере действия государства реально
отвечали интересам нации,— в особенности если наиболее
вероятным их итогом было усиление его власти.
Однако поскольку именно государство
обеспечивало академикам материальные условия для
постановки такого рода вопросов, они всегда
осторожничали, стараясь не кусать руку, которая их
кормит. (Не забывайте, что представители немецкой
академии являлись уважаемыми
государственными служащими, чье существование обеспечивалось
налогоплательщиками.) Великий социолог Макс
Вебер мастерски играл в эту тонкую игру: он
критиковал чересчур агрессивную внешнюю
политику Кайзера вплоть до Первой мировой. Но стоило
войне начаться, как Вебер стал болеть за победу
Германии, выступая при этом против кайзеровских
послевоенных экспансионистских амбиций. Тем
не менее после позорного поражения Германии,
приведшего к свержению Кайзера, Вебер с большим
энтузиазмом помогал в разработке проекта
конституции Веймарской республики.
Американцы с легкостью увидели бы в Вебере
человека, который в своих публично выражаемых
мнениях постоянно юлил, избегая цензуры, и даже,
возможно, пользовался благосклонностью
правительства: он выжал максимум из умеренно
репрессивного режима, предлагавшего не самые
оптимальные условия для интеллектуальной жизни. Но
тем самым они упустили бы его главные
достижения, ведь в своей постоянной борьбе — в письмах,
адресованных редакторам газет, в журнальных
статьях и в речах—Вебер защищал интеллектуальную
целостность академии от нападок немецкого
Министерства образования, рассматривавшего
университеты как одну из составляющих—пускай и крайне
важную —общей геополитической стратегии (Shils
240
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
1974)· Главная добродетель публичной
интеллектуальной жизни—это автономия, говорение от своего
имени в «самозаконодательном» (как
подсказывает греческий язык) духе. Но эту добродетель
невозможно проявить без наличия внешних
препятствий, благодаря которым автономия
определяется в качестве активного сопротивления, или
«оппозиционного сознания», как стали его именовать
вслед за Дьердем Лукачем (Frisby 1983· 68-106;
Fuller 2005: 26-27)· При отсутствии такого давления не
ясно, являются ли чьи-либо мнения независимо
выносимыми суждениями или же они следуют по
пути наименьшего интеллектуального
сопротивления. Ведь неслучайно, что наиболее глубокие
теории автономии в западной философской
традиции—начиная со стоиков и заканчивая Кантом,
Гегелем и Сартром — выступали против концепции
реальности, которая на каждом шагу нарушала бы
действенность наших намерений, будь то
посредством полного их пресечения или же порождения
в нас ложного ощущения их осуществления.
Последний вариант дает о себе знать прежде
всего в современной Америке, вне всякого
сомнения в наиболее изобильной исследовательской
среде в мире. Тем не менее это изобилие распределено
в ней отнюдь не равномерно, и заметная
разница в перспективах альтернативных направлений
исследований с легкостью может привести к едва
различимой патологии, которую социальные
психологи называют «формированием адаптивных
предпочтений» (Elster 1983)· Согласно ей академики
предпочитают наиболее финансируемые
исследования, которые, как и следовало бы ожидать,
приводят к более быстрому интеллектуальному
прогрессу и большей профессиональной известности, что
в свою очередь оправдывает — по крайней мере
241
СТИВ ФУЛЛЕР
в умах данных академиков—изначально принятое
решение. Эта цепочка умозаключений
патологична, поскольку она закрывает глаза в первую
очередь на вмененные издержки совершенного
выбора между исследовательскими маршрутами,
однако также, что более важно, и на софистический
довод, согласно которому привлекательность
избранного пути может зависеть во многом от
обстоятельств принятия решения. Пожалуй, любое
направление исследований в подходящих
обстоятельствах приведет к результатам, сопоставимым
с теми, к которым привел выбранный путь. Кроме
того, будь главное решение принято раньше или
позже либо даже в другом месте несколько
другими людьми, могли бы преуспеть альтернативы
(Fuller 2005: 7-13)·
Наша убежденность в том, что наука является
королевской дорогой, ведущей к реальности,
покоится на мистификации вышеописанных петель
положительной обратной связи — а значит, и на
подавлении софистического импульса всегда учитывать
альтернативы. В этом контексте ключ к прогрессу—
это никогда не оглядываться и ни о чем не жалеть.
Я обозначил такой менталитет как «удобную
забывчивость» ученых в отношении своей истории
(Fuller 1997: 80-105). Интеллектуальная цельность
академической жизни подрывается тем, что может
быть названо «возвышенным самообманом» —
словосочетание, примененное мной изначально для
описания того, что академики обычно переживают
как свою «интеллектуальную автономию» (Fuller
1993: 2o8-2io). Я пришел к выводу, что обман
основывается на общем безразличии академиков —если
не их враждебности—в отношении
административных вопросов. Они никак не могут увидеть, что их
автономия тесно связана с пониманием условий,
242
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
в которых они работают. Конечно, эта проблема —
палка о двух концах, ведь и администраторы в
академии все чаще забывают про защиту
интеллектуальной автономии, — опять же не от цензуры
государства, а от рыночных соблазнов (Fuller 2002а:
196-231).
В предыдущем абзаце я сместил рассмотрение
с ситуации в Америке к затруднительному
положению академии вообще. Прерывание разговора
о США связано с тем, что в наши дни проблемы,
с которыми сталкиваются интеллектуалы по всему
миру, схожи с теми, с которыми они регулярно
сталкиваются в Америке: речь идет о соблазне
рынка. Гений Гумбольдта, основателя
Берлинского университета, заключался в том, что он в
начале XIX века создал защищаемый государством
рынок интеллектуальной жизни, переизобретя
университет в качестве объединяющей исследование
и преподавание институции и сделав его самым
надежным двигателем общественного прогресса
в новейшее время. Конечно, еще до Гумбольдта
академики играли важную роль в публичной
интеллектуальной жизни, но скорее как
распространители, чем производители идей. Они были более
эффективны в сдерживании или продвижении
идей, нежели в их придумывании (Fuller 2000а:
108-112). Тем не менее предполагаемые
«неакадемические» производители идей были весьма
глубоко погружены в академическую культуру. Они
сумели избежать академических самоограничений,
часто сожалея об этом впоследствии, поскольку
академия активно их маргинализировала или
отрекалась от них.
Взять хотя бы три примера: еретические
воззрения Галилея привели его к потере
профессорской должности; Маркс вовсе не мог претендовать
243
СТИВ ФУЛЛЕР
на академические посты из-за религиозного
радикализма; Фрейд не сумел обезопасить свое
профессорство из-за славы безумца,
экспериментирующего с кокаином, гипнозом и т. д. для лечения
психических расстройств. И все же было бы ошибкой
рассматривать такие случаи как единственный
способ критики нынешнего статус-кво. Напротив,
есть и другие критические стратегии, не менее
радикальные по содержанию, но встроенные в
конвенции академического письма, где ссылка на
авторитет предшествует выработке своего оригинального
звучания. Эти академики были задушены
критическим вниманием коллег-буквоедов. Неудивительно,
что Галилей, Маркс и Фрейд разработали
несколько жанров, которые обхитряли, если не подрывали,
авторитет голосов академии. Это вызвало
обвинения в интеллектуальной безответственности,
особенно в случае Фрейда. Тем не менее обращение
к целому ряду выразительных средств отмечает
истинного интеллектуала, то есть того, кто
заинтересован в передаче идей, но при этом внимателен
к требованиям различных аудиторий. Оно
противоположно строгим кодам, при помощи которых,
как правило, общаются академики. В наши дни
свидетельством «академизации» критики выступает
тот факт, что она может осуществляться, не
заботясь о том, как именно она повлияет на адресатов
(и повлияет ли вообще), не говоря уже о том,
изменят ли они свое дальнейшее поведение.
Заметьте, что в число академических
ограничений, которые связаны с описанным отчуждением
интеллектуалов, входит как «рецензирование»
(внутренняя структура управления академии,
определяющая очень строгие нормы
интеллектуального самовыражения), так и поддержание академией
весьма консервативных стандартов интеллектуаль-
244
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ного поведения в обществе в целом. Эти
ограничения соответствуют исследовательской и
преподавательской функциям университета. Гениальность
Гумбольдта была гениальностью диалектического
воображения — взаимное погашение этих двух
регрессивных тенденций должно было создать
прогрессивное целое. Ранее я описал это достижение
как «творческое разрушение социального
капитала». Основная интуиция, лежащая в основе идеи
этого творческого разрушения, состояла в том, что
каким бы ни было изначальное преимущество тех,
кто занимается передовыми исследованиями,
в длительной перспективе оно рассеивается по мере
того, как эти исследования входят в учебные
программы. Университетская аудитория становится
естественной средой для участия представителей
академии в публичной интеллектуальной жизни,
ведь они вынуждены переводить эзотерические
идеи на язык, доступный студентам с разными
исходными знаниями и интересами, на что я уже
указывал в первой главе.
Привлекательность творческого разрушения
социального капитала как академического идеала
подразумевает центральную значимость наук
гуманитарного цикла для университета. Лишь в таком
контексте ценность нового знания определяется
с точки зрения нужд следующего поколения
граждан, весьма малое число которых — если вообще
кто-либо из них — станут в дальнейшем
специалистами в соответствующих дисциплинах. Однако
поскольку университеты сместили свой raison d'être
с учебной программы гуманитарных наук сначала
на докторантуру, а затем на создание патентов,
стремление публичного интеллектуала к
универсальному распространению знания затмила куда
более сектантская и собственническая концепция
245
СТИВ ФУЛЛЕР
знания. Подобного рода ход—это отступление к
исходной установке средневековых университетов,
в которых институциональная повестка еще не
определялась мэтрами философии. Первоначально
академики готовили «докторов», которые должны
были иметь дело с телом (медицина), душой
(теология) и политическим телом (право). Знание было
лишено интеллектуального значения, поскольку
оно применялось для осуществления власти над
тем, что уже получило название «сфер»
[«domains»], а также для ограничения доступа к ним, не
в последнюю очередь благодаря использованию
технической латыни. Введенный юристом Питером
Драхосом неологизм «информационный
феодализм» (Drahos 1995) кУДа больше подходит для
описания недавних тенденций к приватизации знания,
чем это признают его комментаторы. (Популярное
критическое рассмотрение феодализма как
исходного положения в разрегулированном киберпро-
странстве см. в: Lessig 2001; о соответствующем по-
литэкономическом контексте см. в: Fuller 2002а:
164-167.)
Даже после гумбольдтовского переизобретения
университета схожие феодальные тенденции вновь
стали проявляться концу жизни Гегеля (1830), став
побочным продуктом статуса государственных
чиновников, который имели немецкие академики.
Как это было закреплено неокантианством в конце
XIX века, эпистемология стала повторять
бюрократию: каждый факультет университета представляет
особый «познавательный интерес» (Habermas 1971;
Collins 199^ 689-696). В последнюю четверть
XX века число докторов возросло, но вот их
ценность снизилась, поскольку степень, которая
ранее присуждалась за продолжительное и передовое
исследование, превратилась в всего лишь входной
246
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
пропуск на рынок академического труда. В итоге
мы имеем нынешнюю адскую ситуацию, в рамках
которой выпускники, которых поощряли за
интенсивное «освоение» собственной узкой
исследовательской области, выкидываются на рынок труда,
все еще требующий от них (причем вполне
оправданно) изложения эзотерического знания
доступными словами.
Данная ситуация маскируется эвфемизмами
вроде «исследовательски-ориентированное
обучение», которые означают, что ты готов преподавать
только то, что сам исследовал, или что ты
организуешь процесс обучения таким образом, что
студенты в итоге занимаются этими исследованиями
за тебя. Трудно себе представить, какая теория
педагогики стоит за этим нечестивым союзом
выученной беспомощности и откровенной
эксплуатации, но молчаливое принятие ее академическим
сообществом привело к скепсису — если не
открытой враждебности — в отношении видов знания,
порождаемых публичной интеллектуальной
жизнью. Пока мы продолжаем бороться с «рефеода-
лизацией» университета на многих фронтах,
относительно скромное предложение по реинтеграции
академии в публичную интеллектуальную жизнь
состоит в том, чтобы положить конец размыванию
границ между степенями магистра и доктора
(то есть в понимании первой как лишь прелюдии
ко второй), сделав их независимыми
программами. И функцией первой тогда было бы развитие
широких преподавательских компетенций,
функцией же второй — развитие специализированных
исследовательских компетенций. Это
подразумевает также понижение квалификации, требуемой
для занятия постоянных должностей, со степени
доктора до магистра.
247
СТИВ ФУЛЛЕР
Критика интеллектуалов в эпоху
прагматической порабощенности
За последние двадцать лет мы стали свидетелями
возрождения жанра под названием «критика
интеллектуалов». В нем пишут обычно американцы,
и зачастую они являются разочарованными левыми.
Но даже не будучи левыми, они всегда
разочарованы тем, что левые забывают некоторые
очевидные факты, такие как провал мирового коммунизма
и тоталитарные настроения многих мыслителей,
которые сегодня в моде у левых, например у
Мартина Хайдеггера, его учеников и попутчиков. Ле-
ман (Lehman 1991)' ДжаДт (Judt 1994)» Уолин (Wolin
1990, 2001) и Лилла (Lilla 2001) — вот самые
известные представители этого жанра. Эти авторы
демонстрируют «фукидидовы добродетели», то есть
преимущества заинтересованного человека,
находящегося в стороне от рассказываемых событий.
Как правило, они понимают моральную сложность
интеллектуальной жизни более тонко, чем агенты
описываемых событий. Верные Фукидиду, но
отличаясь в этом от множества профессиональных
историков, эти авторы заявляют или
предполагают, что агенты могли предвидеть, избежать или
предотвратить гибельные последствия своих идей.
Не сумев же поразмыслить в достаточной степени
обстоятельно, самокритично и перспективно,
агенты терпят крах прежде всего как интеллектуалы.
Тем не менее, как и греческая трагедия, критика
интеллектуалов допускает толику сожаления по
поводу агентов, поскольку она распознает в них
жертв глубоко укоренившегося общественного
беспорядка, который смог пошатнуть даже их
чувство интеллектуальной ответственности. В
конечном итоге нам следовало бы поучиться на их
248
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ошибках, по крайней мере постаравшись их не
повторять.
Любопытно, что сегодняшние критики обычно
нацеливаются на тех мыслителей, которые если
и не во всем соглашались, то по меньшей мере
заигрывали с неудачниками мировой истории, каковыми
мы ныне считаем Гитлера и Сталина. Любопытно
это потому, что наиболее часто называемые в
качестве предшественников нынешних критиков
авторы — Раймон Арон (Агоп 1957) и его вдохновитель
Карл Поппер (Popper 1945) — разворачивали свою
критику во времена, когда было далеко не ясно,
окажутся ли в истории нацизм (в случае Поппера)
или коммунизм (в случае Арона) проигравшей
стороной. О данном обстоятельстве легко забывают,
поскольку критический взгляд решительно
останавливается на одних и тех же людях —
интеллектуалах, обвиняемых в интеллектуальном
пособничестве Гитлеру и Сталину. Если Поппер и Арон
взывали к тем ценностям, которые, как они
надеялись, будут разделять их читатели вплоть до риска
для жизни при попытках их воплотить, то
сегодняшние критики поспешно предполагают
общность взглядов с читателями, которые знают (ведь
это исторический факт), что Гитлер и Сталин—зло,
а те, кто как-либо с ними сотрудничал, повинны
в распространении их зла.
С точки зрения эпистемологии Поппер и Арон
испытывали свои ценности на неопределенном
будущем, тогда как, скажем, Ричард Уолин и Тони
Джадт пользуются предполагаемым вердиктом
истории для подкрепления своих ценностей.
Неудивительно, что работы первых прочитываются как
героические попытки высказать в лицо власти
истину, даже если они злоупотребляли гиперболами.
Работы же вторых, несмотря на более уважительное
249
СТИВ ФУЛЛЕР
отношение к историческим документам, часто
производят на читателей впечатление
завуалированных упражнений по перекладыванию вины.
Поппером и Ароном восхищаются за проявленную
ими интеллектуальную доблесть, отвечающую
обычным общечеловеческим нормам, а вот Уолина
и Джадта критикуют за то, что они не сумели
увидеть, что гений порой требует подвешивания этих
норм или по меньшей мере оправдывает его.
Подобная асимметричная рецепция интеллектуальных
критиков первого и второго поколений говорит
о нравах нашего времени следующее. Во-первых,
это исключительное внимание к неудачникам.
Во-вторых, это предположение, согласно которому
история подводит черту под критическим
суждением. Я рассмотрю их по очереди. Вместе они
определяют то, что я называю нашей «прагматической
порабощенностью». В этой книге «прагматизм»
отсылает к Рорти и его избирательному присвоению
этой философской традиции.
Для Поппера и Арона само представление об
исторических «победителях» и «неудачниках»
несущественно для интеллектуальной правомочности
критики. Они были политическими реалистами,
убежденными, что в мире нет никаких абсолютных
благ или безупречных лиц: даже наиболее
нравственное направление действий повлечет за собой
издержки и жертвы. Вслед за Сартром это порой
называют «доктриной грязных рук». Критика
интеллектуалов основывается на предположении, что
всегда следует ожидать непреднамеренных
последствий наших действий: наши руки всегда более
грязные, чем кажется поначалу. Социальная
ответственность интеллектуала связана с обостренным
чувством осторожности в отношении подобных
контрфактических возможностей. Ведь если идеи
250
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
могут служить двигателями, запускающими нас
в светлое будущее, то они точно так же способны
привести нас к катастрофе. Ответственный
интеллектуал помнит об обоюдоостром потенциале идей.
Это предполагает двойную ношу—познавательную
и этическую. С познавательной точки зрения
интеллектуалы должны осознать две стороны
исторической контингентности: то, что делает настоящее
столь зависимым от решений прошлого, открывает
будущее для решений, принимаемых сегодня.
С этической точки зрения интеллектуалы обязаны
в достаточной мере придерживаться своих идей,
чтобы отвечать за них в публичной сфере в первую
очередь для того, чтобы оправдать тем самым свою
обычную обособленность от того воздействия,
которое их идеи могут оказать.
Существуют две версии доктрины грязных рук,
каждая из которых отсылает к определенному типу
негативных непреднамеренных последствий.
Подобные последствия проистекают либо из
действий, основанных на благих намерениях, либо же
из простого бездействия. Первый тип последствий,
связанный с тем, что теоретики естественного
права называют «доктриной двойного эффекта», был
предметом многих дискуссий, в частности
касающихся этики ведения военных действий. Но мы
остановимся на втором типе, который
утилитаристы рассматривали как основание «негативной
ответственности», то есть ответственности за
несовершение действия (Smart and Williams 1973: 93-юо)·
Так, если определенное ваше действие привело бы
к увеличению пользы для большинства и страдания
лишь для немногих, то ваше бездействие
равносильно злодеянию. Руководствуясь этим, Сартр
обвинил сознательно аполитичного, но
располагавшего широкими возможностями Гюстава Флобера
251
СТИВ ФУЛЛЕР
в подавлении Парижской коммуны в 1871 году,
поскольку тот ничего не сделал, чтобы его
предотвратить. Понятное дело, бремя негативной
ответственности лежит прежде всего на тех, чьи слова и
действия имеют большое влияние. Если же брать шире,
вполне может статься, что ценой победы в мировой
истории является моральная черствость, которая
делает слепым к требованиям негативной
ответственности, поскольку их невыполнение, как
правило, совпадает с подчинением победившему
режиму. Пожалуй, не приходится удивляться, что легче
всего это продемонстрировать на примере
нынешнего победителя в мировой истории—Соединенных
Штатов, чьей национальной философией является
прагматизм.
В самый разгар холодной войны, в 1960-е
и 197°"е годы, когда США и СССР соперничали
за мировое господство, интеллектуалы, живущие
в США, и их союзники много критиковали в
печати создание при университетских кампусах
военно-промышленных комплексов. Большинство
критиков исходили из того, что в долгосрочной
перспективе эксцессы капитализма будут
укрощены, если не обращены вспять, социализмом. По
крайней мере предполагалось, что исход
холодной войны будет благоприятным для Советов.
Однако когда стало окончательно ясно, что дни
СССР сочтены, критика эта пошла на убыль —да
так, что сегодня само упоминание
военно-промышленного комплекса выдает скорее некоторую
старомодность, а не реальное недовольство. Иные,
подобно экс-советологу Фрэнсису Фукуяме (1992),
перевернули старый нарратив о неизбежности
социализма вверх тормашками и начали говорить
о неизбежности капитализма. Но такие
перевороты вовсе не обязательны. Более спокойные умы
252
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
снисходительно признают, что первоначальная
критика была не так уж неправа, но, к сожалению,
сейчас она не имеет никакого значения,
поскольку уцелели только США.
Однако если, скажем, аналитических философов
(McCumber 2001), экономистов неоклассического
толка (Mirowski 2001), специалистов по
информатике (Edwards 1996) и культурных антропологов
(Nader 1997) критиковали в i95°'e и 1960-е Г°ДЫ за
принятие финансирования от Правительства США
(или связанных с ним частных фондов) без того,
чтобы спросить, каким целям они послужат,
почему же эта критика не должна быть обоснованной
сегодня, пускай США и выиграли в холодной
войне, а многие из тех же самых исследователей все еще
занимают главенствующее положение в областях,
процветавших при данном режиме
финансирования? В ответ, как правило, не отрицают прямо
обоснованность подобной критики, а перекладывают
бремя доказательства на тех, кто хотел бы заново ее
утвердить. Таким образом, то, что было бы
очевидным для наблюдателей в 1968 году, сегодня должно
быть установлено с помощью архивных
исследований, которым могут воспрепятствовать, если
исследователь планирует использовать их результаты
в дискуссионных целях (Söderqvist 1997)· Кроме
того, задача критики усложняется тем, что
письменные источники обычно не склонны к
раскрытию подчинения существующему порядку, ведь
пишут их исходя из перспективы, в которой такое
подчинение ожидается и посему не заслуживает
отдельного внимания. В этом отношении авторы
дневников и блогеры, рассчитывающие на конец
«американской гегемонии», окажут большую
услугу будущим поколениям критиков, потому как
записывают образ подчинения, который характеризует
253
СТИВ ФУЛЛЕР
те действия ученых и других интеллектуалов, что
были направлены на избежание противостояния
властям. (Образцовый пример, вышедший из-под
пера немецкого филолога с оруэлловским чутьем на
нацистский новояз, см. в: Klemperer 2000.)
Тем не менее было бы ошибкой сводить
интеллектуальное подчинение к мышлению, открыто
поддерживающему господствующий режим.
Разумеется, есть примеры и такого рода: пропитанные
нацизмом сочинения Мартина Хайдеггера, Поля де
Мана и Конрада Лоренца, сталинистские трактаты
Дьердя Лукача, Жана-Поля Сартра и Джона
Десмонда Бернала. И все-таки более интеллектуально
вызывающим и морально проблематичным
является случай, когда целый корпус мысли кажется
изготовленным таким образом, чтобы избежать
признания режима, который поддерживает как
легитимность описываемого автором, так и его собственную
легитимность как писателя. Самые живучие
сочинения указанных авторов подпадают под эту
категорию. С точки зрения социологии знания их
воздействие может быть понято как
«обскурантистское» в двояком смысле. Во-первых, они затемняют
понимание читателем контекста, приведшего к
решениям, которые принял автор в отношении
представления явлений, формально выступающих
предметом исследования. Во-вторых, они делают
неясными условия, позволившие данным работам после
публикации приобрести большую известность, чем
у работ соперников. Чтобы понять, что я имею
в виду, давайте обратимся к двум примерам времен
холодной войны—Томасу Куну и Клиффорду Гир-
цу — не из-за того, что масштаб их
интеллектуального подчинения бесспорен, а просто из-за наличия
в их деле достаточных оснований для дальнейшего
расследования.
254
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Куна и Гирца было бы интересно рассмотреть
вместе. Еще до изобретения термина
«постмодернизм» оба были до некоторой степени
постмодернистами avant la lettre21. Они способствовали
дискуссии, которая в начале ΐ97θ~χ годов привела
к крушению «позитивистской» и
«объективистской» гегемонии как в социальных науках, так
и, пожалуй, в науке в целом. Это прописная
истина для тех, кто изучает современную
интеллектуальную жизнь. Однако менее известно, что Кун
и Гирц пересекались в Гарварде в начале ΐ95°'χ го'
дов, в то время когда университет становился
интеллектуальным тиглем для американской
стратегии холодной войны. В этот период Кун был
инструктуром22 по общему образованию, тогда как
Гирц, выпускник знаменитого департамента
социальных отношений Толкотта Парсонса, работал на
проект Фонда Форда23, в центре внимания
которого находилось новое сверхгосударство
постколониальной Юго-Восточной Азии —Индонезия
(Fuller 2000b: chs 3-4; Geertz 1995: ch. 5). Это был опыт,
определивший впоследствии их фирменные
тезисы.
Труд Куна (Kuhn 197°) — существенно
переработанная версия лекций по курсу «Естественные
21. До появления термина (фр.). —Примеч. пер.
22. В американской образовательной системе инструктор —это
университетский преподаватель низшего ранга. —
Примеч. пер.
23· Фонд Форда—некоммерческая благотворительная
организация, созданная в 1936 году для финансирования
программ в поддержку демократии, сокращения бедности,
продвижения международного сотрудничества и
гуманитарного развития. Критиковался за сотрудничество с ЦРУ
и участие в осуществлении плана Маршалла в 1950-х.
С 2015 года входит в список организаций, деятельность
которых нежелательна на территории РФ. — Примеч. пер.
255
СТИВ ФУЛЛЕР
науки 4»? организованного президентом Гарварда
Джеймсом Брайантом Конантом с целью обучить
не-ученых, назначаемых на высокие посты, как
обеспечить целостность науки под натиском
шумихи вокруг наступающего «атомного века», к
которой Конант сам приложил руку (Fuller 2000b:
chs 3~4)· Идея заключалась в том, чтобы
обнаружить общую дисциплинарную ментальность (или
«парадигму»), в рамках которой всегда работали
настоящие ученые независимо от материальных
условий или размера их предприятия. Между тем
идеи Гирца (Geertz 1973) ° политике как о театре
и идеологии, как о выражении культуры
разрабатывались в ходе полевой работы в стране, лидер
которой Сукарно24 направлял помощь, полученную
от США и СССР, на экстравагантный проект
отстаивания национальной идентичности,
маскировавший репрессивные меры против местных
повстанцев, умудряясь при этом сохранять политическую
независимость страны.
Куну и Гирцу часто ставят в заслугу
демонстрацию того факта, что «большие теории»
прогрессивной науки и идеологической политики не
подтверждаются действительной научной и политической
практикой. И все же у их альтернативных видений
имеется общая любопытная черта. Хотя обычно
считается, что они оперируют на микроуровне
социальной реальности, они не меньше зависят от
тенденций макроуровня, которые тем не менее
остаются в основном скрытыми.
В случае Куна его пристальное внимание к
решению головоломок в управляемой парадигмой
«нормальной науке» отражает систематизацию и
специализацию обучения и исследований, которых
24· Президент Индонезии в 1945-19^7 голах. —Примеч. пер.
256
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
не было вплоть до последней четверти XIX века
и которые получили признание лишь только с
возникновением национализированной «большой
науки» в XX веке. Набор же исторических примеров
Куна ограничен тремя столетиями «малой науки»
до революции в квантовой физике 1920-х годов.
Такой синкретизм оставляет впечатление, что
деятельность ученых сегодня является такой же
самоорганизующейся и самоопределяющейся, как и во
времена Пристли и Лавуазье, споривших о
природе кислорода в конце XVIII века. За каждым
ускорителем частиц студенты Конанта должны были
видеть Эйнштейна и Бора, а не
военно-промышленный комплекс.
В случае Гирца устройство индонезийской
политической жизни представляется эклектической
культурной смесью, сосредоточенной больше на
процессе, чем на результатах, и маскирующей
озабоченность современного Запада применением
силы для достижения желаемого социального
порядка. И хотя Гирц демонстрирует этот вывод на
примере, скажем, балийских петушиных боев, он
также может быть подтвержден —и, возможно,
более наглядно — геополитической стратегией Су-
карно (который сам себе дал прозвище «Петух»),
направленной на то, чтобы обхитрить
сверхдержавы первого и второго миров, считавших, что
они смогут воспользоваться финансовыми и
военными стимулами для обретения влияния над
Индонезией. Как оказалось, коммунисты
проводили свою идеологическую политику более
строго, но и закончилось это для них большими
потерями.
На протяжении всей своей карьеры Кун и Гирц
постоянно обвинялись в том, что не заняли
однозначной (как могли) позиции в отношении холодной
257
СТИВ ФУЛЛЕР
войны, особенно когда они достигли
привилегированного положения в своих исследовательских
областях. (По поводу Куна см.: Feyerabend 197°; Fuller
2000b: eh. 8; Fuller 2003: eh. 17; по поводу Гирца см.:
Marcus and Fischer 1986: eh. 6; Nader 1997.) За их
осторожностью лежит нормативный принцип,
центральный для политики интеллектуального
соглашательства: минимизация сложностей при
достижении научных и политических целей, как правило,
обеспечивается непротивлением превосходящим силам
в окружении.
Данный принцип известен со времен нацизма.
К примеру, Ханс-Георг Гадамер, в отличие от
своего учителя Хайдеггера, никогда не поддерживал
открыто Гитлера. Он укрылся в классической
филологии и философии, результатом чего стало
неуклонное профессиональное продвижение по мере
того, как евреев убирали с академических постов
(Wolin 2000). Подчинение стало более острой
проблемой в оккупированной Франции, где
правительство Виши не только сдалось нацистам, но
и стало активно загонять евреев в концлагеря, что
отчасти, как кажется, служило извращенным
выражением отказа признать, что оккупация вообще
имела место. Сартр осудил Францию в данный
период как «республику молчания», поскольку
большинство ее bien pensant15 граждан отказывались
высказаться против «решения» правительства
проводить открыто антисемитскую политику. Их
молчание подразумевало, что государство говорит от
их имени, что означало (для Сартра), что они были
«соучастниками» нацистских зверств,
«сопротивление» которым было моральным и политическим
требованием. По крайней мере в этом случае под-
25· Благонамеренных (фр.). — Примеч. пер.
258
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
чинение следовало пути наименьшего
сопротивления.
Для Куна и Гирца, интеллектуалов, которые
преуспели в стране, выигравшей в холодной войне,
«путь наименьшего сопротивления»
представляется более тонким, чем в случае Хайдеггера или даже
Гадамера. Согласно Куну (i97°)> похоже, что ученые
вольны заниматься своими парадигмальными
головоломками безнаказанно до тех пор, пока не
ставят вопрос о вненаучных целях, которые может
иметь их работа. В противном случае они рискуют
оказаться в эпистемическом первобытном
состоянии, которое Кун называет «допарадигмальным»
исследованием, олицетворением которого стал
идеологический конфликт, характерный для
периода от начала Реформации до образования
политически нейтральных научных институтов вроде
Лондонского королевского общества. Об этом же
свидетельствует фаустовская сделка, заключенная
немецкими академиками на пике «мандариниза-
ции» в вильгельмовскую эпоху (Ringer 1969)· ДРУ"
гим примером выступает Америка времен
холодной войны, унаследовавшая от Германии мантию
научного первенства после Первой мировой войны,
когда Конант перенес в академию
организационную структуру немецких химических лабораторий
(Conant 1970: ^9_7°)· Ученые заполучили от
государства цеховую привилегию в областях, для
работы в которых их готовили, при условии, что они не
будут подвергать сомнению его политические цели
даже в отношении использования их экспертных
оценок. Кун рассмотрел этот «пораженческий»
подход в своей единственной продолжительной
переписке, касавшейся вопросов современной
политики в области науки. Он полагал, что
подлинные ученые, сталкиваясь с внешним давлением —
259
СТИВ ФУЛЛЕР
будь то со стороны «истеблишмента» или
«движения», — склонны придерживаться того, что им
лучше всего известно, и решают не пятнать свою
научную репутацию политической
ангажированностью (Bernard and Kuhn 1969-70)· Более того,
Кун сам исходил из такого рода принципа,
осуждая тех, кто пытался воспользоваться его теорией
как основанием для критики «постнормальной
науки»—такое имя Джером Равец (Ravetz 1971) Дал
порабощению организованного исследования
военно-промышленным комплексом (Kuhn 1977k)·
О Гирце необходимо сказать, что он открыто
критиковал стратегию ведения холодной войны
США—ассоциируемую прежде всего с Джоном Фо-
стером Даллесом, государственным секретарем
Эйзенхауэра, — согласно которой весь мир
является большим полем борьбы против коммунизма.
Эта стратегия осталась шаблоном
геополитического мышления США, о чем свидетельствует их
дальнейшая «война против терроризма» (Geertz
1995: сп· 4; СР· Fuller 2001). Странно, но подобная
критика остается (по крайней мере для
оппонентов Гирца) ограниченной преимущественно
концептуальным рассмотрением: Даллес и прочие,
принявшие на себя вслед за ним обязательства по
сдерживанию коммунистического влияния, не
сумели оценить сложность и разнородность
факторов, которые внесли свой вклад в неразбериху
первых десятилетий независимости Индонезии.
В итоге они зачастую усугубляли и без того
запутанную ситуацию. И тем не менее Гирц скорее
излагает точку зрения человека, который желал бы
продвигать в данном регионе американские, а не
местные интересы. Он сознательно занимает
агностическую позицию в отношении правомерности
долгой гражданской войны с миллионами жертв,
2бо
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
говоря об отличающемся менталитете
индонезийцев в понимании политики. Создается
впечатление, будто бы странности (в глазах представителей
Западного мира) индонезийцев частично
оправдывают ужасающую политическую атмосферу
в стране. Подразумевается, что многие вещи,
кажущиеся ужасными, все равно будут иметь место
даже при прекращении иностранного
вмешательства. В итоге послание Гирца, адресованное его
американским спонсорам и читателям, звучит
примерно как «Лучше меньше, да лучше»—мягкое
воздействие на местные дела, в конечном счете,
принесет больше пользы зарубежным интересам.
Этот без сомнения проницательный совет вызвал
беспокойство у оппонентов Гирца — в основном
у коллег-антропологов, —поскольку он
напоминает не что иное, как методологический релятивизм,
характеризующий золотой век британской
социальной антропологии межвоенного периода. Вот
только теперь релятивизм дополняется открыто
империалистическим мотивом, а структурно-функ-
ционалистское видение сменяется образом
«случайного туриста», привносящего в свое общество
понимание чужой культуры по причинам,
которые никогда не проясняются.
Если куновское описание науки способствовало
трансатлантической миграции метатеории,
поддерживавшей немецкую науку на пике ее
империализма, то гирцовское объяснение политики и
культуры, пожалуй, сделало то же самое для
метатеории, поддерживавшей британскую социальную
антропологию на вершине ее имперского
могущества. В обоих случаях культурный перевод
выражал новые интеллектуальные и поведенческие
императивы, задаваемые Америкой времен холодной
войны. Определение того, привел ли этот перевод
2Ö1
СТИВ ФУЛЛЕР
к интеллектуальному согласию в нежелательном
смысле, представляет собой задачу, имеющую эпи-
стемическое и этическое измерения. Требовалось
бы сравнить Куна и Гирца с теми, кто занимал
сходные позиции в соответствующих полях и
пытался разобраться примерно с той же ситуацией,
но несколько иным образом. Что бы открыли и что
бы скрыли их альтернативные подходы? Привел
бы хотя бы один из них к лучшим последствиям
и для кого именно? Пока исход холодной войны
оставался неясным, американские интеллектуалы
были весьма чутки к тому, к чему может привести
их бездействие в государственной политике.
К примеру, почти каждый философ науки,
которого можно было бы назвать соперником Куна —
Поппер, Фейерабенд, Лакатос и Тулмин, —
высказывался против влияния военно-промышленного
комплекса на науку; и все же Кун держал свое
мнение при себе (Fuller 2003: eh. 17).
Но после падения Берлинской стены в 1989 году
эта чуткость практически исчезла из публичных
представлений данного периода. Такое изменение
моральных чувств лучше всего описывают два
выражения: «Цель оправдывает средства» и «Зелен
виноград». Интеллектуалы, которые не
вмешивались в стратегию ведения холодной войны,
косвенным образом поспособствовали исходу,
оказавшемуся лучшим из возможных. Более того, если бы
они вмешались в политику государства, то могли
бы его предотвратить и тем самым привести к
худшему положению вещей (к примеру, к советскому
господству). Поэтому со стопроцентной
проницательностью, доступной только задним числом,
можно сказать, что интеллектуалам не стоит
стыдиться своего изначального политического
бездействия, поскольку оказывается, что они ошибались
2б2
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
в оценке возможных последствий своих действий.
Небольшая толика исторического воображения
превратит то, что было расчетливой трусостью
интеллектуалов, в их бессознательную мудрость. При
этом начинает казаться, что хотя у политических
активистов времен холодной войны и были благие
намерения, нам повезло, что их действия оказались
бесплодными (Braunstein and Doyle 2001).
Здесь некоторые могут заявить, что
историческая эфемерность негативной ответственности
всего лишь подчеркивает неадекватность
моральной теории, основанной исключительно на оценке
последствий (актуальных или возможных)
действий. В таком случае ничто не гарантирует, что
моральное значение определенных актов не
изменится со временем, так как их последствия
взаимодействуют с последствиями других актов.
Скажем, если американской гегемонии придет конец
в XXI веке, предусмотрительно бездеятельных
интеллектуалов 1960-х годов могут вновь осудить как
двуличных трусов! Но этот аргумент работает
против негативной ответственности, только если
считать, что наши моральные суждения должны быть
менее исправимыми, чем обычные эмпирические
суждения. Ведь если мы примем, что наши
моральные суждения должны меняться по мере того, как
мы узнаем больше об истоках и последствиях
конкретных актов, тогда нет ничего абсурдного в
существовании значительных колебаний в моральном
статусе актов и агентов с течением времени (Fuller
2002b). В таком случае решение вопроса о том, кто
мы — герои, злодеи или трусы, — всегда остается
делом будущего. Относительное согласие, которое
может быть достигнуто в промежуточных
решениях, всегда лишь отражает относительное согласие
по поводу каузальной структуры истории, которая,
263
СТИВ ФУЛЛЕР
как это четко понимал Гегель, обычно пишется
с точки зрения тех, для кого прошлое — это
наследие, которое они намерены сохранить и
приумножить. Таким образом, постоянство моральных
суждений во времени требует того, что гегельянцы
называют «субъектом истории». Но мы не обязаны
вслед за Гегелем воображать, что таким
«субъектом» является национальное государство. Это
может быть и последовательность интеллектуальных
режимов (определяемых каноническими текстами
или научными парадигмами) согласно некоторому
легитимирующиму нарративу.
Неудивительно, что те, кто считает себя
наследниками такого нарратива, хотят навязать
критическому суждению историческое завершение.
А именно они хотели бы сохранить «идеи»
интеллектуала постоянно официально открытыми для
переоценки, тогда как его моральное и
политическое досье рассматривается лишь до тех пор, пока
остаются вопросы к режиму, в котором он
существовал,—вопросы, которые рано или поздно
оказываются закрытыми историей. Разумеется,
значение интеллектуала трудно оценить, пока
исходный контекст выражения продолжает оказывать
влияние на восприятие выражаемых идей. В этом
случае поиск органического единства между
жизнью и мыслью—это вполне извинительная
временная критическая стратегия, действующая только
до тех пор, пока история не вынесет свой вердикт
и станет возможно оценить идеи интеллектуала
независимо от их исходного контекста. Это может
объяснить, почему первое поколение
интеллектуальных критиков, например Поппер и Арон,
оценивается по иным стандартам, нежели критики
второго поколения вроде Джадта и Уолина. Но,
в конечном итоге, данный аргумент неубедителен
264
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
в качестве обоснования ограничения
критического суждения тем, что слишком вольно называют
«содержанием» идей интеллектуала. Более того,
этот аргумент звучит особенно неубедительно
исходя из уст прагматиста, как мы увидим на
примере Ричарда Рорти.
Для начала стоит вспомнить, что главный
исследовательский проект аналитической
философии в XX веке —универсальная теория значения —
привел к, мягко говоря, неоднозначным
результатам. По-прежнему не существует согласия по
поводу критерия для утверждения, что два слова,
два изображения или два действия передают одно
и то же содержание, или для отличения
подобного содержания от слов, изображений и действий,
его выражающих. Содержание обычно выводится
на основе конвенции из частично
накладывающихся медиумов, в которых, как предполагается,
оно выражено—и чем разнообразнее медиумы, там
более «идеационным» [«ideational»] является
содержание. Здесь вспоминается «метод
абстракции» Рассела, согласно которому любая группа
индивидов может образовать класс в соответствии
с некоторым произвольно определяемым
отношением сходства. Однако в то же время философы
настаивают, что материальные условия,
сопровождающие передачу идеи (например, кто ее
высказывает, где и когда она высказывается, почему и с
какой целью), не имеют значения для суждений о ее
обоснованности. Целая категория неформальных
ошибок в логике, называемая «ошибки
неуместности» — из которых наиболее известна
«генетическая ошибка», — обусловлена как раз этими
ограничениями, более столетия служившими
основанием для отделения философии от социологии
и психологии (Fuller 2007а: 115-122). Тем не менее
265
СТИВ ФУЛЛЕР
строго придерживаться этих ограничений
значило бы предполагать то, что нам не удалось
установить — а именно, что идея может быть не-произ-
вольным образом отличена от ее материальных
условий. Принимаемая по умолчанию конвенция,
наиболее выгодная философам, просто
отождествляет интеллектуальное содержание с
каноническим текстом, в котором идея выражается. Но эта
конвенция применяется избирательно (несколько
выбранных пассажей призваны представлять
смысл всей работы) и под воздействием
своекорыстной семантики, которая разрешает вводить,
например, профессиональное и обыденное
понимание текста, при этом ограничивая то, что может
быть обоснованным образом отнесено к
собственному авторскому пониманию.
Хороший пример своекорыстного характера
этой конвенции дает следующая примечательная
цитата из Рорти, который выступает в защиту
Хайдеггера против обвинений в том, что его мысль
одухотворена нацизмом:
Карл Поппер в «Открытом обществе» хорошо
показал, как пассажи из Платона, Гегеля и
Маркса могут использоваться для обоснования
гитлеровского или ленинского переворота, но чтобы
доказать свой тезис, ему пришлось выбросить
90% мысли каждого из них. Такие попытки
редуцировать мысль философа к ее возможному
моральному или политическому влиянию столь же
бесполезны, как и попытка выставить Сократа
апологетом Крития или Иисуса — рядовым ха-
ризматичным чудаком. Разумеется, Иисус был,
помимо прочего, харизматичным чудаком,
и Хайдеггер был, помимо прочего,
самовлюбленным неотесанным антисемитом. Но мы многое
извлекли из Завета, и я подозреваю, что филосо-
266
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
фы еще столетиями будут извлекать многое из
оригинального и сильного хайдеггеровского нар-
ратива о движении западной мысли от Платона
к Ницше (Rorty 1988: 33)·
Самое поразительное в этом пассаже, что Рорти сам
на каждом шагу оказывается виновным в том, в чем
обвиняет Поппера, а именно в стратегическом
исключении большей части мысли философа.
(Например, читая Рорти, ни за что не догадаешься, что
логические позитивисты считали Джона Дьюи
духовно близким мыслителем.) Кажется, что во всех
этих принципах интерпретативной
«доброжелательности» и «гуманизма», которые Рорти
периодически поддерживает цитатами из Куайна
и Дэвидсона, чтобы обосновать свое философское
прочтение, существует скрытое условие: если твоя
интерпретация является доброжелательной, то ты
должен учитывать меньше из того, что они в
действительности сказали, нежели в случае
недоброжелательной интерпретации. Другое, более циничное
толкование этой позиции заключается в
следующем: чем более «сложным» считается мыслитель,
тем труднее дать отчет о его/ее мысли, а
следовательно, большая свобода действий разрешена для
того, чтобы представить мыслителя и его/ее мысль
в наилучшем свете. Разумеется, как хороший
прагматист, Рорти официально хочет, чтобы
философский канон был, насколько возможно, передовым.
Конечная ценность канона не в почтении к
прошлому, а в тех инструментах, которые он предлагает
для проецирования настоящего в будущее. Тем не
менее рекомендованные Рорти способы присвоения
мертвых философов продолжают обращаться к их
именам как к маркерам уважения и авторитета, при
этом предусмотрительно избегая любого
комментирования их ошибок и опасностей, которые могли бы
267
СТИВ ФУЛЛЕР
поставить под сомнение их полезность. Он, таким
образом, похоже, хочет одновременно и совершить
генетическую ошибку, и избежать ее.
Вот пример подобной двусмысленности далее
в той же статье:
<...> в работах любого, кто обладает достаточно
сложным умом, чтобы его или ее книги вообще
стоило читать, не будет никакой «сути», эти
книги будут позволять плодотворное разнообразие
интерпретаций, поэтому поиск «аутентичного
прочтения» бессмысленен. Следует исходить из
того, что автор так же запутался, как и мы все,
и что наша работа — вытащить из мешанины на
страницах несколько нитей мысли, которые
могут оказаться полезными для наших собственных
целей (Rorty 1988: 34)·
Хотя Рорти явно хочет отделить значимость хайдег-
геровских идей от хайдеггеровского нацистского
прошлого, он по-прежнему желает приписать эти
идеи «сложному уму»—Хайдеггеру, чтобы мы
могли продолжать читать именно «Бытие и время»,
а не какую-то другую книгу со схожим
содержанием, написанную примерно в то же время
антинацистом. Рорти убежден, что, невзирая на хайдег-
геровское нацистское прошлое, никто другой не
написал книгу столь же глубокую, как «Бытие и
время». Глубина книги, таким образом, перевешивает
гнусность ее автора. Подобные специальные
оправдания — основное возражение против негативной
ответственности интеллектуалов за их слова и
действия. В частности, целостность жизненного
проекта — например, страстно увлеченного ученого или
художника—может требовать игнорировать
утилитарный императив всегда действовать так, чтобы
максимизировать благо для максимального числа
268
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
людей (Smart and Williams 1973: юо-118). Критика
интеллектуалов не сможет развиваться, если она не
в состоянии подорвать этот аргумент. В случае
Хайдеггера мы должны задаться вопросом: были ли
другие философы примерно того же склада,
которые говорили примерно те же вещи, но при этом не
были нацистами? Если были, то освобождение от
негативной ответственности, продвигаемое
защитниками Хайдеггера вроде Рорти, не является
оправданным. Двадцать пять лет назад для
студента-философа было совершенно очевидно, что такие
ненацистские альтернативы Хайдеггеру существовали.
Это прежде всего Карл Ясперс, Пауль Тиллих
и Жан-Поль Сартр. В те времена их вместе с Хайдег-
гером обычно объединяли вместе под именем
«экзистенциалисты», и Хайдеггер среди них был
вовсе не самым уважаемым. Конечно, между этими
мыслителями существовали важные различия,
однако пылкие заявления Рорти о «поразительной
оригинальности» Хайдеггера определенно
следовало бы поумерить, если бы «Бытие и время»
продолжали читать вместе с «Разумом и экзистенцией»,
«Мужеством быть» и «Бытием и ничто». В таком
случае можно было бы задаться резонным вопросом
о том, каков исток тех философских нюансов,
которые отличают Хайдеггера от его современников,
и до какой степени эти нюансы, если и не вполне
переоцененные, обязаны своим существованием
тем линиям мысли, которые склонили Хайдеггера—
но не Ясперса, Тиллиха или Сартра — к нацизму.
Даже сегодня это был бы отличный
исследовательский проект в области гуманитарных наук.
Однако становится трудно ставить вопрос таким
образом, когда «экзистенциализм» исчез как имя
философской школы, а с именем иссяк и
постоянный поток исследований его основных деятелей —
269
СТИВ ФУЛЛЕР
за исключением, разумеется, Хайдеггера. Он был
воскрешен как ключевая фигура
перехода—последний деконструктивный момент более крупной
и старой школы, «феноменологии», которая
породила современные волны постмодернистской
континентальной европейской мысли. Можно и даже
желательно ставить вопросы об относительной
глубине хайдеггеровского философского проекта,
учитывая, что широкое признание хайдеггеровского
уникального «гения» исторически совпало с
широким осознанием его нацистского прошлого. Легко
представить себе взвешенное суждение будущих
интеллектуальных историков, которое сегодня было
бы сочтено циничным: «Статус философии
Хайдеггера был искусственно раздут в конце XX века с
целью избежать прямого столкновения с
нормативными последствиями «жизни разума», столь
радикально отрешенного от обыденных человеческих
забот».
В общем говоря, Рорти использует в своих
целях тенденцию трактовать в этически
асимметричных терминах неуловимость идей как агентов
изменения. Интеллектуалы защищены от дурных
последствий своих идей, но записывают на свой
счет их хорошие последствия. Эта асимметрия
может возникать даже внутри одной работы:
философы науки критикуют самозванных «кунианцев»,
которые усматривают слишком много
релятивизма и политического радикализма в работе Куна,
тогда как сами уделяют избирательное внимание
куновским обсуждениям парадигм как
концептуальным образцам, заслуживающим всяческого
восхищения и глубокой интерпретации. Более
того, интеллектуалам щедро ставят в заслугу все
положительные изменения, которые могут быть
возведены к их идеям, даже непреднамеренные,
270
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
тогда как всякая вина за негативные последствия,
включая намеренные, с них снимается. Например,
ученым обычно ставят в заслугу те изменения,
которые улучшают жизнь человека, даже если они
произошли через несколько десятилетий после
исходной интеллектуальной инновации (например,
«ответственность» Ньютона за промышленную
революцию), но их гораздо труднее привлечь к
ответственности за те изменения, которые сделали
жизнь человека хуже, даже если они были
непосредственным результатом деятельности
интеллектуальных новаторов (например,
ответственность основателей современной атомной физики
за ядерное оружие). Даже в тех сферах жизни, где
господствует состояние постмодерна, где
суждения о «корректном» приписывании авторства
идеям с необходимостью размываются, мы все же
воздаем Локку должное за то, что он вдохновил
американскую демократию, но продолжаем ругать
тех, кто винит Ницше в зарождении нацизма. Но
откуда взялась эта асимметрия?
Ключ к ответу лежит в любопытной
враждебности Рорти к социологии знания, как показывают
его вышеприведенные замечания о Поппере. На
первый взгляд эта враждебность имеет смысл—это
отражение настоящего несогласия относительно
временного потока легитимации. Социология
знания хочет, чтобы материальные условия
интеллектуальной жизни играли главную роль в оценке
идей, тогда как прагматизм хочет
сосредоточиться только на потенциальной выгоде, которую эти
идеи могут принести своим сторонникам.
Социология ориентирована на прошлое, прагматизм —
на будущее. Но за этим различием стоит более
глубокое расхождение во мнениях относительно
отделимости идей от их материальных условий.
271
СТИВ ФУЛЛЕР
Социологи знания гораздо более скептичны в этом
вопросе, чем прагматисты. Рорти просто
принимает как данность, что философы, которым
удается говорить во многих разных контекстах, вносят
вклад в «общечеловеческий разговор», который
отражает вечные заботы человечества, хотя и
выраженные в исторически и социально
специфических формах. Он не рассматривает
альтернативную возможность: мы считаем фигуры прошлого
ценными именно потому, что некоторые аспекты
их исходного контекста остаются с нами—их
предрассудки стали нашими. В таком случае нам
потребуется критика социальных условий мышления,
иначе мы окажемся интеллектуально
колонизированными собственным прошлым, что я раньше
назвал «колониализмом второго порядка» (Fuller
2003: eh. 10). В эпоху постмодерна мы так
увлеклись изгнанием любых намеков на телеологию из
наших отношений с историей, что рискуем стать
жертвами противоположной проблемы: нас может
затянуть инерция прошлого.
Стоит вспомнить, что генетическая ошибка не
была придумана, чтобы запретить рассматривать
происхождение идеи при оценке ее значимости.
Она имеет более тонкую задачу: переложить бремя
доказательства на тех, кто заявляет — как в 1930-х,
когда эта ошибка была впервые выделена, — что
еврейское происхождение Эйнштейна
автоматически имеет значение при оценке теории
относительности (Cohen and Nagel i934i Giere 1996: 344). Его
происхождение могло иметь некоторое значение, но
одно лишь указание на него само по себе ни о чем
не говорит. Потребовалось бы также предложить
некоторый нарратив, объясняющий, как именно
еврейское происхождение — или общение с
евреями — могло способствовать распространению осо-
272
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
бенно хороших или особенно плохих идей. И все же
с логической точки зрения генетическую ошибку
часто путают с другой ошибкой, совершаемой
заодно. Например, Рорти считает, что утверждение
«Происхождение идеи необязательно говорит о ее
истинности» означает «Происхождение идеи
никогда не говорит о ее истинности». Этот
минимальный сдвиг иногда называется «модальной
ошибкой», в которой модальный оператор «отрицание
необходимости» («необязательно») прочитывается
как «необходимость отрицания» («никогда»).
Вследствие совершенной здесь модальной ошибки
Рорти вынужден концептуально закрыть
обсуждение вопроса, который должен оставаться
эмпирически открытым. Конечно, легко увидеть, как в его
рассуждение могла вкрасться модальная ошибка,
учитывая вполне резонное недоверие к
«открытиям» социологов-расистов, которые, вероятнее всего,
занимались бы эмпирическими исследованиями
научного значения еврейства Эйнштейна. Но в
таком случае такая излишне строгая интерпретация
генетической ошибки имеет отношение скорее
к глубоко укоренившейся «политической
корректности», чем к наличию какой бы то ни было ясной
процедуре отделения содержания идей от
материальных условий их выражения.
Здесь будет полезно рассмотреть, что логические
позитивисты думали об этом вопросе, когда
вводили различение, на котором основана идея
генетической ошибки, — различение между «контекстом
открытия» и «контекстом обоснования» (Fuller
2000b: 78-92). Позитивисты утверждали, что могут
переписать, или «рационально реконструировать»,
научные утверждения на «языке мысли», который
не отсылает ни к каким потенциально
компрометирующим истокам утверждения. В переписанном
273
СТИВ ФУЛЛЕР
виде утверждения могут быть правильно оценены.
В качестве языков перевода они рекомендовали
логику предикатов первого порядка, элементарную
теорию множеств и фундаментальные аксиомы
вероятности. Таким образом, можно представить
теорию Эйнштейна физикам-антисемитам в таком
виде, в каком даже они будут вынуждены признать
ее истинность.
У этой стратегии есть интересная особенность:
в отличие от Рорти позитивисты не считали, что
различение между происхождением идеи и ее
истинностью может быть проведено просто на
основании обычного прочтения опубликованного
текста, в котором выражена эта идея. На деле, они
были убеждены, что мы обычно вкладываем
столько предрассудков относительно происхождения
текста в наше прочтение, что размываем
различение и потому совершаем генетическую ошибку.
В качестве страховки мы должны, следовательно,
применять какие-то необычные процедуры, будь то
логический перевод (как считали сами
позитивисты), диалектическая конфронтация (как полагал
ренегат-позитивист Карл Поппер) или
историческая идеализация (как позднее утверждал ученик
Поппера Имре Лакатос). Ганс Райхенбах,
позитивист, которому обычно приписывают канонизацию
различения контекстов открытия и обоснования,
сделал это в рамках списка задач эпистемологии,
которые он перечислил в следующем порядке:
дескрипция, критика и рекомендации (Reichenbach
1938: З-1^)· Иными словами, сначала необходимо
достигнуть досконального понимания
психологических и социологических факторов, окружающих
некоторое утверждение, чтобы увидеть, как способ
его представления влияет на рецепцию его
содержания. Затем это содержание подвергается крити-
274
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ке, результатом которой становятся рекомендации
по поводу того, следует ли верить этому
утверждению, следовать ему и т. п.
Позитивисты вроде Райхенбаха и прагматисты
вроде Рорти предполагают, что читатель исходит
из совсем других когнитивных установок, когда
оценивает такой текст, как «Бытие и время».
Рорти считает достижения психологии открытия
и социологии знания не более чем попытками
«редукции» adhominem всей сложности работы
великого ума, тогда как Райхенбах считал эти
дисциплины средствами пропедевтики (а не замены)
логики научного обоснования. В терминах
знаменитого различения Поля Рикера (Ricoeur 197°)>
позитивисты исходили из «герменевтики
подозрения», которая требует тщательного
исследования (и, возможно, «обеления») истоков всех
подобных текстов, прежде чем их содержание
может быть по-настоящему идентифицировано
и оценено. Прагматисты же исходят из
«герменевтики доверия», которая считает великие
философские тексты «доброкачественным
наследием», на основании которого мы формируем наше
представление о себе. Прагматисты, конечно,
рискуют поддаться панглоссианскому принципу,
согласно которому текст не был бы каноническим,
если бы не имел непреходящей ценности для
своих читателей.
В своем споре с позитивизмом прагматисты
заключили союз с философией обыденного языка
(Austin 1961) и неодарвинизмом (Dennett 1995)· Ин-
туиция, объединявшая все эти движения и
противостоящая позитивизму, состоит в том, что
тексты доказывают свою ценность, выживая во многих
испытаниях в разных средах. Но иногда она
включает в себя более пагубную предпосылку, которая
275
СТИВ ФУЛЛЕР
используется более широко для оправдания «веса
традиции», — и здесь нам следует вспомнить, что
слоган Рорти (Rorty 1979) «Общечеловеческий
разговор» взят у архитрадиционалиста Майкла Оук-
шотта. Он предполагает, что индивиды обладают
неустранимыми когнитивными ограничениями.
Следовательно, канон—как коллективная мудрость
прошлого — предварительно отсортировывает
тексты, выделяя обозримое количество образцов, на
основе которых мы можем определить собственную
интеллектуальную ориентацию. Эта предпосылка
оказывается «пагубной» потому, что она
подразумевает, что число текстов, исключенных из канона,
столько велико, что уже бесполезно (и, возможно,
даже рискованно) заново обращаться к
отброшенным альтернативам. Однако тексты сегодняшнего
«канона» получили свой статус отнюдь не в
результате тщательного рассмотрения всех
релевантных альтернатив с вниманием к различным
контекстам, в которых эти тексты могут быть
впоследствии прочитаны и использованы. Скорее этот
отбор был «произвольным» —в том смысле, что он
был результатом решений, принятых множеством
локальных авторитетов на основе специфических
локальных критериев. Из этих решений
впоследствии образовался общий паттерн канонических
авторов, формирующих общую рамку культурных
и дисциплинарных дискуссий.
Тем не менее прагматисты утверждают, что
поскольку достаточное число «нас» получили выгоду
от этого произвольного отбора, значит, судя по
всему, немного найдется мотивов для пересмотра его
легитимности.
Разумеется, сторонники герменевтики
подозрения захотели бы проинтерпретировать этот
подвиг децентрализованной самоорганизации менее
276
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
доброжелательно — а именно как простую
демонстрацию человеческой способности
адаптироваться к самым разным ситуациям, которые были
бы сочтены субоптимальными в соответствии с
некоторым независимым стандартом: практически
любой набор философских текстов, достаточно
институционализированный в качестве «канона»,
привел бы к каким-то выгодам, которые со
временем были бы приняты за оптимум. Но каков
может быть источник независимого стандарта,
который не поддавался бы такому «адаптивному
формированию предпочтений», как этот феномен
называют социальные психологи? Наиболее
очевидным источником был бы нереализованный
идеал, который, находясь «в изгнании», задавал
бы критерии для оценки актуальной ситуации.
Однако Рорти отказывается от таких
ситуативно-трансцендентных идеалов не только потому,
что они нарушают ограничения его
прагматической философии, но еще и потому, что он
интерпретирует философский канон как адресованный
ему лично и предназначенный для его выгоды.
Поскольку логический позитивизм был
разработан в качестве активного сопротивления немецкой
философской культуре, доминирование которой
вытесняло в основном англофильские просвещен-
ченские интересы позитивистов, Рорти
пользуется преимуществом своего положения наследника
текущего «субъекта истории» — США и их
философской культуры. В результате прагматизму не
хватает критической остроты тех, кто считает, что
ситуация может и могла бы быть лучше. Это
различие жизненно важно для критики
интеллектуалов, поскольку только она бросает
контрфактический вызов легитимности исторических
победителей.
277
СТИВ ФУЛЛЕР
В эпоху постмодерна мы склонны растворять
критическую установку в двух комплиментарных
позициях, которые следует рассматривать скорее
как «акритические», используя, как ни прискорбно,
удачный термин Бруно Латура (i997)· Одна акри-
тическая позиция просто отрицает возможность
различения контекстов интерпретации, в
особенности контекста критика и контекста
критикуемого. После Гадамера мы могли бы сказать,
«горизонты всегда уже слились». (О происхождении этой
идеи см.: Cooper 1996b.) Когда эта точка зрения
проникла в аналитическую философию, она
изначально понималась как гуманитарная версия идеи
«теоретической нагруженности наблюдения»
в естественных науках, которая предполагает, что
мы знаем что-то только в наших собственных
терминах. Критика, таким образом, сводится к тому
аспекту самопознания критикующего, который
всегда может быть скомпенсирован путем
минимальных коррекций теории. Но благодаря Рорти Лату-
ру и другим, испытавшим влияние Куна, ситуация
радикально изменилась, и теперь мы говорим так,
как будто наши собственные умы колонизированы
либо мыслями других людей (Рорти), либо
действиями других вещей (Латур). В этом отношении
«поворот к социальному» служил для
объективации того, что прежде считалось субъективным, или,
в терминах Куна, для помещения нас внутрь
парадигмы, хотя философы всегда провозглашали, что
находятся вне ее. От логических позитивистов
и Поппера мы узнали, что теории всегда являются
вопросом «выбора» и «конвенции», которые
требуют тщательного тестирования перед лицом
потенциального подрыва. Но это означало предполагать,
что нам принадлежит больше законодательной
власти, чем посткунианцы готовы были предоставить.
278
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Действительно, может показаться, что наша
субъективность оказалась в позиции восприемника, так
как нас низвели до положения благодарных
наследников и точных устройств записи — это до
некоторой степени буквальная интерпретация «теории
рецепции».
Комплиментарная акритическая позиция,
которая сходит за критику,—это явное признание
существования относительно независимых
альтернативных традиций, или попросту «релятивизм».
Разумеется, такое признание является «критическим»
разве что в слабом и специфическом смысле —
а именно как утверждение, что все традиции всегда
уже преследует одни и те же конечные цели. Гирц—
мастер релятивизма в этом смысле. Тем не менее он
старательно избегает нормативных суждений об
отношении традиций друг к другу. На практике,
по-видимому, по умолчанию работает
либертарианство: каждая традиция имеет право следовать
собственной траектории, пока она не пересекается
с траекториями других традиций. И хотя эта
доктрина «равенства порознь»26 может служить
обоснованием толерантной культурной политики, но
толерантность—это обычно добродетель тех, кто не
желает или не решается напрямую столкнуться
с различиями. Критики любят столкновения —
потому что у них есть ставка в том, что отстаивает
критикуемый. Возникновение критика как
формальной социальной роли в XVIII веке соответствует
26. «Равенство порознь» {англ. separate but equal) — доктрина
в законодательстве США, согласно которой небелое
население наделялось «равными правами, но отдельно»:
таким образом расовая сегрегация увязывалась с
Конституцией США. Доктрина была признана
неконституционной в 1954 тору.— Примеч. пер.
279
СТИВ ФУЛЛЕР
появлению эстетики как нормативной науки о
восприятии, принципы которой признают (или
утверждают, что признают) и производители,
и потребители произведений искусства. Одним
словом, критик и критикуемый стремятся к одним
и тем же идеалам, но расходятся в том, что
касается их адекватного осуществления. В этом
отношении истинные критики скорее предстают
лишенными наследства потомками общей традиции, чем
представителями «частных» традиций. Им
принадлежит «история тори» — зеркальное отражение
«виговскои истории»27, которую с такой радостью
отбросили постмодернистские посткритики (Fuller
2003: eh. 9).
Когда понимание критика отступает от
доминирующего понимания его времени, ему приходится
конструировать альтернативную контристорию,
которая обычно включает в себя перераспределение
похвал и обвинений, а также значимости среди
широкого круга агентов, актов и событий. Такие
контристории, часто называемые
«ревизионистскими», требуют значительного мастерства в
жонглировании контрфактическими утверждениями,
особенно теми, которые касаются нереализованных
возможностей, подразумеваемых при
приписывании негативной ответственности. Результаты
обязательно оказываются спорными сразу в двух
смыслах. Хорошая контристория, например «Народная
27· «Виговская история» (англ. Whig history) —подход,
интерпретирующий каждое событие с точки зрения его вклада
в общий прогресс, неуклонно ведущий к текущему
положению дел как его высшей точке. Термин предложен
Г. Баттерфилдом в книге «Виговская интерпретация
истории» (1931) и отсылает к партии вигов в британском
парламенте. Оппозицией вигов выступала партия тори.—
Примеч. пер.
28о
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
история США» Говарда Зинна (Zinn 1980), ставит
под вопрос одновременно полученные нормативные
суждения о прошлом (а значит, и предлагаемую ими
легитимацию настоящего) и полученные стандарты
оценки свидетельств и выводов. Особенно это
касается тех выводов, которые можно получить из
отсутствия свидетельств, потому что последние либо не
были записаны, либо были скрыты впоследствии.
Важно, что Зинн (Zinn 1980) пишет не об
интеллектуалах, а о целых субкультурах американской
жизни, стертых из официальной истории.
Отсутствие контристориографии более заметно в
интеллектуальной истории, чем в социальной,
экономической или политической. В случае последних
существуют установленные традиции
контрфактического рассуждения, часто опирающиеся на
количественные аргументы и даже компьютерные
симуляции. Как мы видели, большое внимание было
уделено сложностям в прослеживании каузальных
траекторий идей ввиду их неуловимого
онтологического статуса. Этот факт, по всей видимости,
препятствует методологически строгим оценкам
ответственности, которые обычно зависят от четких
каузальных связей. И все же онтологическая
неуловимость может также указывать на своекорыстный
в целом характер интеллектуальной жизни.
Следовательно, необходимо симметричное отношение
к победителям и проигравшим в истории — как бы
это ни было политически спорно. Ведь в
противном случае те из нас, кто считает себя
«интеллектуалами», заставят читателя задуматься: а кто
устережет самих сторожей? В целом дебаты о социальной
роли интеллектуала обычно вспыхивают тогда,
когда интеллектуалы, как представляется, предают
свое призвание. Идея интеллектуальных обязательств,
которая вдохновляет мою критику, развивалась
281
СТИВ ФУЛЛЕР
на негативном примере Томаса Куна. Его
отстраненность от политических последствий
собственных идей иногда по-прежнему подвергается
мистификации как признак правильного поведения
«чистого исследователя». И все же даже само
содержание куновской теории — его
социально-конформистское и самодостаточное описание научной
практики—подрывает дух критического
исследования. Это не значит, что критика не требует
определенных институциональных условий, которые
нуждаются в постоянной поддержке. Самая большая
проблема с поддержанием интеллектуальной
жизни заключается не в политических репрессиях,
а в неспособности интеллектуалов достучаться до
целевой аудитории. В заключение я рассмотрю
методологию интеллектуальной критики (то есть
критики интеллектуалов), предполагаемую в
проведенном выше анализе, и особенно ее отношение к
постмодернизму и релятивизму.
За отстаивание особой социальной роли
интеллектуалов меня часто обвиняли в
«постмодернизме». Этот ярлык для меня скорее отсылка к
грубым условиям современного знания, чем
нормативный знак отличия, носимый с честью. Я могу
принять титул постмодерниста, только если под
ним понимается, что я исхожу из эмпирически
реалистичной начальной точки (Fuller and Collier 2004:
Introduction). Тем не менее есть у постмодернизма
один приемлемый аспект, касающийся идеала
«равного времени» для всех позиций, который сегодня
определяет эпистемический горизонт массмедиа.
Речь идет о негативной импликации: любая
позиция становится тем более политически опасной
и, соответственно, заслуживающей
интеллектуальной критики, чем больше власти в ней
концентрируется. Позиции становятся проблематич-
282
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ными не из-за руководящих ими идей как таковых,
а из-за количества находящейся в их распоряжении
силы — силы, которая и повышает их шансы на
успех, и защищает от любых негативных
последствий.
Эта, если хотите, «постмодернистская»
чувствительность стоит за моей симпатией к
«симметричным» объяснениям интеллектуальной жизни —
принцип, ассоциируемый с сильной программой
в социологии научного знания (Bloor 1976)· Этот
принцип был введен как противоядие от тенденции
приписывать привилегированные объяснения
историческим победителям, когда, например,
«живучесть» ньютоновской механики объясняется в
терминах ее «истинности» (по крайней мере для
обычного физического движения). Нормативная сила
обращения к симметрии заключается в том, чтобы,
так сказать, свести эпистемический баланс. Я
назвал это «дзен-историзмом», в котором любые
верования оказываются истинными относительно
соответствующего им контекста (Fuller 2000b: 24-25)·
Из этого следует, что любой интеллектуальный
конфликт предполагает ошибку в приписывании
контекста, нечто, что может быть разрешено
в самом конфликте или, в противном случае,
останется задачей для будущих историков. Я связываю
дзен-историзм с позицией профессионального
историка, потому что даже те, кто в истории проиграл,
предпочли бы победить, чем пойти на компромисс
с победителями. Тем самым такая «нейтральность»,
которой содействует «симметрия» в этом смысле,
повышает авторитет историка, возможно, за счет
конкурирующих исторических агентов. Я отрицаю,
что этот смысл симметрии диаметрально
противоположен установке ангажированного
интеллектуала.
283
СТИВ ФУЛЛЕР
Такой подход является важной альтернативой
широко распространенному мнению, что
некоторые идеи (например, расизм) должны быть
изгнаны из общественной интеллектуальной жизни,
потому что сами идеи якобы имеют политически
негативные последствия. Такой анимистический
взгляд на идеи отсылает к досовременной эпохе,
в которую нам не следует возвращаться. Лучший
отклик на расизм — как и на любую другую
неприятную идею — это спорить с ней в ее собственных
терминах. Периодические политические триумфы
расизма связаны помимо прочего с
неспособностью bien pensant интеллектуалов воспринять такие
идеи достаточно серьезно, чтобы подвергнуть их
тщательному публичному рассмотрению,
результатом чего становится «спираль молчания» (No-
elle-Neumann 1982).
Что же касается интеллектуального пособника
постмодернизма — релятивизма, я готов принять
его нормативную силу, если он сам будет должным
образом релятивизирован, и тем самым симметрия
из статичного принципа будет преобразована в
динамический. Другими словами, интеллектуальная
критика стремится не просто исправить, но и
изменить баланс эпистемической власти. Опорная
точка моей позиции—первоначальный источник
релятивизма — афинские софисты, эти протоинтеллек-
туалы, практики которых появились раньше, чем
онтология идей (Fuller 2005: eh. 1). Софисты
утверждали, что они могут научить искусству публичной
защиты, чтобы позволить застигнутым врасплох
клиентам перекладывать бремя доказательства или
перераспределять преимущество в споре. Суть
этого мастерства схвачена в девизе, который
Аристотель презрительно приписывал Протагору:
«Сделать слабый аргумент сильнее». Типичный клиент
284
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
софиста—обвиняемый в ошибочном суждении или
действии — естественным образом помещается
в рефлексивную позицию: если я прав, то почему
меня выставляют неправым? Ответ включает в себя
анализ доступа к средствам защиты: за «ошибкой»
клиента может стоять отсутствие доступа к
оправдывающим его свидетельствам, возможно, потому
что обвинение было сфабриковано так, чтобы
избежать рассмотрения этих свидетельств. В таком
случае следует привлечь внимание к тем особенностям
контекста, которые выставляют клиента
проигравшим. Софисты называли это kairos, или расчет
времени: тот, кто устанавливает рамки спора, зачастую
его и выигрывает. Именно с учетом этого софисты
применяли то, что Платон впоследствии демони-
зировал как «риторику», дух которой живет в
диалектической традиции философии, включая
«оппозиционное сознание» Лукача и «герменевтику
подозрения» Рикера: и то и другое—превосходные
орудия в критическом арсенале современного
интеллектуала.
Я считаю, что невозможно судить идеи — и
раздавать почести и обвинения соответствующим
агентам, — не разобравшись сначала в социальных
обстоятельствах, в которых эти идеи порождаются.
Иначе непонятно даже, в чем, собственно, состоят
эти идеи. Это касается в равной мере тех, кто
возвышает, и тех, кто принижает роль намерений
автора в интерпретации. Даже чисто прагматические
критерии оценки идей, предложенные Рорти,
согласно которым почетное звание «гений»
приписывается, например, Хайдеггеру за те его идеи,
которые оказались для нас полезными,
предполагает сравнительную оценку кандидатов на занятие
ниши в нашей — или по крайней мере в рортиев-
ской — концептуальной схеме. Я хотел бы сделать
285
СТИВ ФУЛЛЕР
это предположение методологически
эксплицитным: что это за ниша? И кто эти кандидаты, по
сравнению с которыми идеи Хайдеггера были признаны
более полезными? Какие бы ответы ни давались на
эти вопросы, очевидно, что на них невозможно
ответить с помощью одного только внимательного
чтения хайдеггеровских текстов: их следует также
сравнить с текстами других авторов, которые связаны
общим контекстом оценки. Не провести такое
сравнение — значит поддаться социологическому
предрассудку под названием «сила традиции».
Мой подход к интеллектуальной критике
определенно «релятивистский» в одном смысле. Я не
предполагаю заранее никаких фактов о том, какие
именно идеи содержатся в каких текстах и,
следовательно, какие тексты лучше других. Заявить, что
«Структура научных революций» (Kuhn 1970)—это
глубочайшая книга о природе знания в XX веке, —
значит просто сказать, что эта книга превосходит
своих конкурентов согласно критериям, которые
она сама помогла установить. В самом деле,
особенность текста, признанного «каноническим»,
состоит в том, что другие тексты прочитываются в его
терминах, что затем служит укреплению его
канонического статуса благодаря негативному
сравнению. Значит, даже лучшие работы Поппера,
Фейерабенд, Лакатоса или Тулмина обязательно
будут выглядеть слабее, если «Структура научных
революций» задает стандарты научной
эпистемологии. Однако если мы применим другие критерии,
выведенные из других текстов, то Кун предстанет
совсем в другом, возможно, не столь ярком свете.
Это, конечно, не праздная спекуляция, а обычая
ситуация, когда такой текст, как «Структура научных
революций», оценивается впервые. Схожая участь
постигала «Бытие и время», которое сначала про-
286
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
читывалось как метафизически раздутая версия
экзистенциализма, но сегодня почитается как
провозвестник состояния постмодерна. Как сказал бы сам
Кун, обычно должен произойти поколенческий
сдвиг, прежде чем новый текст получит шанс
определить новый стандарт. Этот социальный факт об
интеллектуальной истории раскрывает
произвольность суждений о «непреходящем значении», но он
также должен придавать каждому новому
поколению интеллектуалов смелость менять
существующие стандарты на такие, которые больше
соответствуют тому будущему, наступлению которого они
хотели бы содействовать.
Однако моя методология решительно не
является «релятивистской» в другом смысле. Я
хотел бы возродить «законодательную» позицию
интеллектуала, которой Бауман принес дурную
славу (Bauman 1987)· Ключевая черта этой позиции
интеллектуального критика состоит в том, что
критик принимает на себя ответственность за
определение стандарта, согласно которому
оцениваются изучаемые интеллектуалы. Другими словами,
критик, атакуя других, подставляет под удар
и себя. Это интеллектуальный эквивалент
диалектики выработки политики и занятия должности,
основанной на избирательном процессе в
парламентской политической системе, этом великом
изобретении XVIII века. Этот рефлексивный
аспект увлечения в эпоху Просвещения
законодательными собраниями обычно ускользает от
внимания, когда мы стереотипно представляем
данный период как время великодушных деспотов, для
которых «законодательство» значит простое
«дарование закона» без оглядки на соответствующие
институциональные сдержки и противовесы. С моей
точки зрения, альтернативная «интерпретативная»
287
СТИВ ФУЛЛЕР
позиция Баумана выглядит как
профессионализированная трусость, поскольку в ней интеллектуал
предстает марширующим под чужую дудку —
а именно под дудку властей, чьи
интертекстуальные отношения определяют границы нашей
мысли. Но для несогласия среди интерпретаторов
остается обширное пространство, и исходные
тексты — будь то Аристотель, Библия или Фуко, —
подобно Сатане у Мильтона, в раздорах только
набирают силу.
«Трусость» может показаться слишком резким
словом в данном контексте. Но здесь стоит
подчеркнуть, что политическая ответственность
интеллектуалов не ограничивается базовыми
политическими категориями вроде «гражданства». На
интеллектуалах в силу их социальной позиции
лежит особая обязанность говорить правду сильным
мира сего. Карл Мангейм и Йозеф Шумпетер,
один одобрительно, другой более цинично,
отмечали относительную оторванность интеллектуалов
от средств производства. Хотя интеллектуалы
могут быть схожи с другими членами общества в том,
каких идей они придерживаются, интеллектуалов
отличает их защищенный статус. Интеллектуалы
имеют меньше шансов умереть или пострадать за
свои идеи, нежели не-интеллектуалы. Если у
интеллектуалов начинаются проблемы, это обычно
случается, когда они заступают на территорию
практической политики, где с ними обращаются
соответствующим образом. В типичном случае интеллектуалов
вознаграждают или так или иначе поощряют
выдвигать идеи, которые бросают вызов расхожей
мудрости, невзирая на последствия такого вызова.
Защищенный статус интеллектуала может
проистекать из нескольких источников. Некоторые
интеллектуалы имеют независимый доход или нахо-
288
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
дятся под патронажем. Другие, например Сартр,
умудряются доносить свои идеи таким образом,
что удовлетворяют спрос на мышление,
выступающее против истеблишмента. Но наиболее
распространенной и наименее рискованной стратегией
всегда был институт постоянных академических
должностей. Пока академики не пытались
подорвать легитимность университета, им
дозволялось—и даже вменялось в профессиональную
обязанность—продвигать дело Просвещения.
Разумеется, в истории академических
должностей встречаются споры о границах рефлексивной
критики университетской культуры в те моменты,
когда она переходила в более общую критику
государства, попечительского совета или
корпоративных спонсоров, обеспечивавших
существование университета. И все же, несмотря на ряд
громких судебных процессов в США в начале
XX века и во время холодной войны, бросается
в глаза, насколько редко этим границам бросали
вызов. Вместо того чтобы активно искать новые
горизонты мысли, давая голос тем позициям,
которые его лишены, академические интеллектуалы
обычно уютно устраивались в безопасных гаванях
схоластики и «нормальной науки». Таким
образом академики уклоняются от своих обязательств
как интеллектуалов точно так же, как богатые
капиталисты подрывают экономику, когда они
смотрят, как растут их банковские счета и
отказываются выставлять свои активы на рынок,
делая рискованные инвестиции. (Джордж Сорос,
бывший ученик Поппера,—один из тех
капиталистов, которые хорошо понимают эту этику.) Для
интеллектуала «смирение» означает готовность
подвергнуть свои утверждения публичному
рассмотрению, что является выражением noblesse
289
СТИВ ФУЛЛЕР
oblige для социальной позиции, которая уже
маркирована как привилегированная. Более
сдержанные формы смирения, за которые выступают
постмодернисты вроде Донны Харауэй (Haraway
1997)» кажутся мне либо социологически
дезинформированными, либо морально двусмыслены-
ми. С одной стороны, современная культура
достаточно демократична, чтобы публичные
интеллектуалы не воспринимались слишком всерьез, что
традиционно является основанием для призывов
к сдержанности. С другой стороны, эта
кажущаяся потребность в сдержанности может
маскировать обычный страх ошибки и осмеяния, который
интеллектуалы профессионально обязаны
преодолевать.
Это удобный момент обратиться к основаниям
откровенно моральных суждений, которые я
выношу в адрес отдельных интеллектуалов.
Академики, несомненно, рефлексивно относясь к
собственной тихой жизни, любят различать поддержку
и подчинение в отношении политического режима.
Учитывая, как несложно критиковать
интеллектуалов за их политические суждения, легко
представить, что за призывом к толерантности стоит
подход в духе «Не судите, да не судимы будете»,
согласно которому интеллектуальной цензуре
должна подвергаться только откровенная поддержка
отвратительного режима. Имеет смысл
распространить эту снисходительность на людей, которые
рискуют умереть или серьезно пострадать за
выражение политически некорректных взглядов.
Однако интеллектуалы обычно не находятся в такой
позиции. Интеллектуал обладает талантом и/или
статусом, позволяющим выражать неприятные
идеи в приемлемой форме. Следовательно, имеет
смысл рассматривать поддержку и подчинение как
290
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
в равной мере активные отклики интеллектуала на
социальную среду. Оба способа находятся в числе
доступных агенту возможностей, в соответствии
с которыми он всегда может поступить иначе.
Именно поэтому я приписываю такое значение
понятию негативной ответственности: вы не
интеллектуал, пока в вашем распоряжении нет широкой
свободы принимать решения о том, что говорить
(или не говорить). Разумеется, ваша жизнь может
стать легче, если вы не высказываетесь по поводу
каких-то ошибок и несправедливостей, и,
вероятно, если бы вы никогда не замолкали, вы оказались
бы в сумасшедшем доме. Тем не менее мы
должны удерживать четкое различие между
нормативно желательным и статистически нормальным
поведением интеллектуалов. По аналогии, если
большинство людей врут в своих налоговых
отчетах, из этого не следует, что эта практика
является желательной или что вы не должны быть
наказаны, если вас поймают.
Разумеется, здесь имеется обширное
пространство для заинтересованного несогласия по поводу
нормативно желательных стандартов для
интеллектуалов и суждений о конкретных
интеллектуалах. Более того, эти разногласия будут всегда под-
питываться изменениями в нашем эмпирическом
понимании того, как прошлое стало настоящим,
в терминах которого каждое новое поколение
пытается проектировать желаемое будущее. Но мне бы
не хотелось, чтобы эта линия исследования была
закрыта или просто ослаблена из страха перед ее
рефлексивными последствиями. Общеизвестно, что
такие исследования, как критика интеллектуалов,
затронутые социологией знания, имеют
неприятную тенденцию делать исследователя
одновременно мудрее и грязнее. Хайдеггера обвиняют в том,
291
СТИВ ФУЛЛЕР
что его философские откровения и нацистские
симпатии исходили из общего источника, но это
далеко не самый серьезный и грязный вопрос, который
можно было бы ему задать: социолог Пьер Бурдье
(Bourdieu 1991) вместе с Хьюго Оттом, Виктором Фа-
риа и Ричардом Уолином —каждый из которых
отчасти философ, отчасти историк и отчасти
журналист—уже раскрыли этот общий источник. Однако
провал Хайдеггера как интеллектуала—не в его
нацизме, а в его трусости.
В этом отношении моральные суждения,
выносимые критикой интеллектуалов, могут
значительно расходиться с обыденными моральными
и политическими суждениями. Например, Жан-
Поль Сартр и Раймон Арон, хотя и находились на
противоположных сторонах в холодной войне,
вероятно, заслуживают сопоставимого морального
статуса как интеллектуалы. Я гораздо жестче
оцениваю достаточно аполитичного Томаса Куна, чем
его ментора в годы холодной войны Джеймса
Брайанта Конанта (Fuller 2000b). Когда Конант
открыто защищал определенный образ
демократической науки, идеологически подходящий для
Америки времен холодной войны, Кун
отказывался занимать определенную позицию, даже когда
его работа оказалась впутанной в споры об этой
проблеме. В другой своей работе я замечаю, что
молчание Куна можно было бы простить только
в том случае, если бы США времен войны во
Вьетнаме были государством политических репрессий
(Fuller 2003: 215).
Нацизм Хайдеггера является моральной
проблемой для «нас» в том себялюбивом смысле этого
слова, который предпочитал Ричард Рорти, поскольку
«мы» хотим одновременно и клеймить нацизм как
величайшее преступление XX века, и прославлять
292
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Хайдеггера как величайшего философа этого века.
Чтобы сделать такое суждение когерентным,
требуется значительная доза двоемыслия по поводу
того, как «мы» идентифицируем хайдеггеровские
«идеи». Но моральная проблема Хайдеггера была
другой: он открыто поддерживал нацистов только
до тех пор, пока, как ему казалось, они его
слушали. Как только их пути разошлись, он просто
замолк, даже когда ему был предложен шанс
прояснить свою позицию после войны. Как
интеллектуал Хайдеггер был обязан либо переутвердить, либо
отозвать свой прежний нацизм, но вместо этого он
предпочел молчание.
Однако моральный провал Хайдеггера как
интеллектуала также имеет рефлексивные
последствия для «нас». Разумеется, самые упорные
защитники Хайдеггера обращаются к его политической
наивности для объяснения его действий. Но
принять такое объяснение всерьез значило бы
поставить под вопрос хайдеггеровское понимание
отношения между мышлением и бытием, о чем он, по
«нашим» представлениям, сказал нечто
значительное. В ответ большинство философов рады
согласиться с удобным выводом Рорти, что случай
Хайдеггера показывает лишь, что интеллектуалы
тоже люди. Однако это благосклонное признание
за Хайдеггером права на «бренное тело» или
«кривой ствол» не дает достаточных оснований
включать его в список величайших философов. Это
дает, самое большее, основание не отбрасывать его
с порога. Соблюдая верность критике
интеллектуалов, следует скорее заключить, что наследие
Хайдеггера—это полная неразбериха, требующая от
«нас» смелости задуматься, возможно ли — и если
да, то как — разработать его якобы глубокие
находки без одухотворяющего их нацизма. Как я уже
293
СТИВ ФУЛЛЕР
отмечал ранее, это не чисто спекулятивный вопрос,
так как есть альтернативные исторические
примеры в лице Карла Ясперса, Жана-Поля Сартра и
Пауля Тиллиха, которые могли бы заменить Хайдег-
гера и оставить «нас» с совершенно другим
представлением о том, кто «мы» есть.
Пьер Бурдье: академический социолог
как публичный интеллектуал
Пьер Бурдье (1930-2002) был академическим
социологом, который в последнее время наиболее
серьезным образом принял на себя роль публичного
интеллектуала. Более того, он постепенно пришел
к роли «универсального интеллектуала», которая
встречала все возрастающее неодобрение
постмодернистов начиная с Мишеля Фуко, примером
чего стали атаки на Бурдье в СМИ со стороны его
конкурента из следующего поколения —Бруно Ла-
тура. Полный спектр интересов Бурдье отражал
основные тенденции послевоенного периода:
деколонизация Алжира, рост социального
неравенства в начальном, среднем и высшем образовании,
зарождение художественного поля как способа
социального воспроизводства и массмедиа как
средоточие публичной интеллектуальной жизни. Все
это отражает постепенный закат специфически
французской формы государства всеобщего
благосостояния под воздействием глобализированного
неолиберализма. Справедливо общее суждение,
что профессиональная траектория и общее
влияние Бурдье напоминали путь академического
основателя этого поля, Эмиля Дюркгейма.
Карьера Бурдье — достижение, которое вряд ли
удастся повторить кому-то сколь-нибудь скоро ввиду
294
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
растущей децентрализации академической
культуры.
В своем полуинсайдерском путеводителе по
корпусу текстов Бурдье Майкл Гренфелл отмечает, что
Бурдье не стремился стать и не стал придворным
социологом, в отличие, например, от Энтони Гид-
денса, который служил гуру «Третьего пути» Тони
Блэра (Grenfell 2004: 152-153)· Бурдье неизменно
удерживал установку на сопротивление.
Сочувственное левацкое прочтение Дюркгейма задает
прецедент для такого понимания социальной роли
социолога. Дюркгейм ясно видит себя выразителем
идеала гражданского республиканизма, который
реализовывался с переменным успехом во
французской Третьей республике. С этой точки зрения
социология доказала свою ценность для общества
путем воспроизводства знания об идеале — особенно
в следующем поколении учителей—и напоминания
обществу об этом идеале, когда практика с ним
расходилась, как, например, в деле Дрейфуса, в
котором Дюркгейм открыто поддержал знаменитое
обвинение Эмиля Золя.
Дюркгейм и Бурдье исходят из общего
предположения, что «общество» — скорее нормативный,
нежели дескриптивный термин, обозначающий
коллективные устремления, которые заслуживают
соответствующей поддержки, но регулярно
оказываются опровергнутыми реальной социальной
жизнью. В этом отношении обширный трактат Бурдье
La Misère du Monde (1993), переведенный на
английский язык как The Weight of the World («Тяжесть
мира»)28 (Bourdieu 1999), был достойным наследником
более узко ориентированного «Самоубийства»
28. На русский язык французское название этой книги Бурдье
обычно переводят как «Нищета мира». —Примеч. пер.
295
СТИВ ФУЛЛЕР
Дюркгейма (Durkheim 1897)· На первый взгляд эти
две работы весьма различны. Текст Дюркгейма —
это мастерская интерпретация статистических
данных о жертвах суицида, тогда как работа Бурдье —
это пространный комментарий к интервью с
работающими бедняками, которых просили
поразмыслить о своих неудачах. Концепции диагностики,
доминирующие в обеих работах, также различны:
аномия предполагает утрату определенности, что
является следствием освобождения индивида от
семейных и религиозных связей, тогда как La Misère
du Monde указывает на неспособность индивида
разрешить систематические противоречия,
порождаемые обществом, которое производит большие
ожидания, не предоставляя ресурсов для их
реализации. И тем не менее Дюркгейм и Бурдье были
согласны, что сильное государство всеобщего
благосостояния необходимо, чтобы возместить
нормативный дефицит, симптомами которого являются
те формы социальной жизни, которые они
описывают.
Однако Бурдье, по-видимому, «£ рассматривал
Дюркгейма как попутчика (Grenfell 2004: 15-16).
Дюркейм и Бурдье работали на
противоположных концах столетнего гражданского
республиканского проекта. Дюркгейм всю свою карьеру
пытался построить культуру надежды на то, что
республиканизм может окончательно взять верх
над фальшивой ностальгией бурбонистов и
бонапартистов, которые довели Францию до
позорного поражения во Франко-прусской войне.
Впервые, думал Дюркгейм, послевоенная унификация
и секуляризация образовательной системы
наконец объединят всех граждан Франции общим
чувством «солидарности». Этим словом он называл
те двойственные политико-научные ассоциации,
296
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
которые Огюст Конт завещал дисциплине,
окрещенной им «социологией». Однако эта политика
была расширена до типично французской
колониальной практики «ассимиляции», которая
агрессивно подталкивала колонизированные
народы (особенно в Африке) принимать
французскую культуру.
Именно во время своего пребывания на военной
службе, где ему было поручено документировать —
в том числе фотографируя — различия между
реакциями алжирских племен на насильственную
ассимиляцию, Бурдье осознал безответственность
и лицемерие, порожденные этой вдохновленной
Дюркгеймом политикой. «Образованные»
алжирцы попросту воспроизводили идеологические
различия, вычитанные во французских газетах, не
считаясь с их применимостью к собственным
обстоятельствам. Помимо прочего, это привело к
нежелательному обострению различий между секу-
лярной и религиозной культурами, перенесенных
теперь из христианского контекста в исламский.
Даже интеллектуальные вдохновители
алжирского сопротивления, которые появились к концу
пребывания Бурдье в Алжире — Жан-Поль Сартр
и Франц Фанон, — должны были сперва получить
помазание в Париже, чтобы их начали серьезно
воспринимать в Алжире. Такое массовое
производство ложного сознания оставило
неизгладимый след на молодом Бурдье, который посвятил
значительную часть своих последующих
исследований возмещению ущерба, нанесенного наивным
насаждением универсалистской секулярной
образовательной политики, которое зачастую приводило
лишь к усилению социального отчуждения и
отвращения к себе, хотя теперь во имя
республиканской «солидарности». В этом направлении
297
СТИВ ФУЛЛЕР
мысли, включая негативную историческую
оценку Дюркгейма, Бурдье нашел покровителя в лице
либерального эрудита Раймона Арона. Как и сам
Бурдье, Арон считал социологию источником
решений проблем, поставленных в его
первоначальном поле исследований —в философии. Арон
сделал Бурдье своим ассистентом в Сорбонне
в i960 году после его возвращения с военной
службы и поддержал его кандидатуру на место
директора Высшей школы социальных наук,
откуда Бурдье успешно выдвинул свою кандидатуру
(на этот раз с помощью Мишеля Фуко) на место
заведующего кафедрой социологии в Коллеж де
Франс в 1981 году. По стандартам англоязычного
мира Арон явно принадлежал к
левоцентристской части политического спектра, но среди его
сторонников обычно больше было
правоцентристов, в основном благодаря его постоянному
скепсису в отношении крайне левого позерства
(наглядным примером последнего был его великий
противник Жан-Поль Сартр), преуспевшего
только в оправдании лицемерия и политической
нестабильности, которое в конечном итоге никому
не пошло на пользу. Этот скепсис унаследовал
в качестве базовой установки его протеже Бурдье,
который лишь постепенно пришел к убеждению,
что, несмотря на все недостатки, сильное
государство всеобщего благосостояния оставалось
единственным средством решения социальных
проблем, которые нормализация сделала
невидимыми: таких, как, например,
воспроизводство классовых различий в системе образования.
Большая часть политического активизма Бурдье
последних десяти лет его жизни может быть
понята как попытка мобилизовать разнообразные
группы, особенно коллег-ученых, чтобы заставить
298
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
государство встать на защиту общества как
целого.
Те, кто, как и я, впервые знакомились с
историей социологии по блестящему двухтомнику сор-
боннских лекций Арона «Этапы развития
социологической мысли» (Агоп 1965)» припомнят, что он
прослеживает четкую линию наследования от
Французской революции 1897 года через Конта
и Дюркгейма до тотализирующих концепций
общества в XX веке, которые отрицают реальность
социального конфликта, а следовательно, и
ответственность реальных людей за направление
развития общества. В те времена это трудно было
оценить, но Арон был не меньшим
экзистенциалистом, чем Сартр — если не большим. В конце
концов, Сартр зачастую писал так, как будто
капиталисты-угнетатели достаточно понимают «логику
истории», чтобы знать, что их дни сочтены.
Присутствие такого «диалектического разума»
одновременно и объясняло их идеологические уловки,
и вдохновляло коммунистические попытки поднять
угнетаемых с колен. Арон, напротив, представлял,
что люди всегда действуют согласно тому, что
в данный момент считают своими интересами, но
впоследствии, оглядываясь, могут принять
решение действовать иначе в будущем. По Сартру в его
наиболее «марксистские» периоды, люди просто
принимают решения на основе представления
о том, как в дальнейшем историки будут оценивать
их действия, поскольку путь истории уже
объективно определен. По Арону, люди принимают
решения, непосредственно влияющие на их судьбу,
главным образом потому, что ни те силы, которые
прежде препятствовали им, ни те силы, которые
могли бы сейчас освободить их, вовсе не обладают
такой огромной властью, как воображает Сартр.
299
СТИВ ФУЛЛЕР
Шанс есть всегда, даже если кажется, что все
заранее против тебя. Бурдье унаследовал этот подход
от Арона, что позволило ему изящно смещаться
между глубоко структуралистским анализом
социального порядка и все более волюнтаристским
представлением о возможностях политического
действия.
Арон, написавший докторскую диссертацию по
философии истории, полагал, что и Карл Маркс
(но не его последователи вроде Сартра), и Макс Ве-
бер понимали динамический характер истории
куда лучше, чем Дюркгейм. След этого ароновско-
го суждения начинает проявляться в мысли Бурдье
в 1980-х, когда он возглавлял государственную
комиссию по реформе начального и среднего
образования. В этом контексте Бурдье (безуспешно)
призывал к обширной реструктуризации
преподавания истории, чтобы учащиеся могли
«переприсвоить структуры собственного мышления» (Gren-
fell 2004: 75)· Он рассматривал это предложение как
возможность для учителей организовать
«восстание снизу» против официальных хранителей эпи-
стемической власти в Сорбонне и высших школах.
Руководящая идея, почерпнутая Ароном из
социологии знания Карла Мангейма, состояла в том, что
большинство утверждений о социальной
необходимости—например, о классовой природе общества—
на самом деле были мифологизироваными
описаниями контингентности (Fuller 1998)· Рекомендацию
можно сформулировать следующим образом:
«Учите генеалогию, чтобы противостоять телеологии».
В сравнении с Мангеймом и Ароном Бурдье сделал
два шага вперед:
ι. Он подчеркивал самонакладываемый характер
классовых различий. Марксисты считали, что
Зоо
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
такие различия есть, в конечном счете,
субъективные отражения разных социальных
отношений к способу производства, которые
исчезнут, как только эти отношения каким-то
образом станут более равными или по крайней
мере справедливыми. Однако, сместив
экономический фокус классовой идентичности с
производства на потребление, Бурдье признал, что
предположительно угнетаемые классовой
системой являются соучастниками ее
воспроизводства через валоризацию маркеров
классовой идентичности (raison d'être исследований
культуры) и, что более важно для Бурдье,
через «непризнание», проистекающее из
ощущения «не в своей тарелке» при попытке сменить
классовую идентичность. Ниже я вернусь
к этому.
2. Он установил, что образование является
средством систематического навязывания
классовых различий. Хотя дети приобретают
акценты и манеры в семье, именно школьная
система снабжает их системой координат для
определения своего места по отношению к
другим, в терминах которой каждый оказывается
более или менее неудачной версией француз-
29
ского саванта , чья главная цель жизни
—высший балл на национальных конкурсных
экзаменах. Более того, это чувство всеобщего
подчинения перед лицом недостижимого идеала
вводится в действие в школьном классе, когда
учителя передают информацию с
минимальной избыточностью, всегда исходя из
предположения, что все ученики поняли все, что им
говорили до этого. Ученики понимают, что это
29· Le savant (фр·) — ученый, эрудит.— Примеч. пер.
301
СТИВ ФУЛЛЕР
предположение всегда ложно, но оно всегда
делается. Таким образом, они живут в страхе перед
«разоблачением», которое показало бы, что они
не дотягивают до идеала гораздо больше, чем им
хотелось бы показать. Это приводит учеников
к использованию стратегических способов
коммуникации, которые позволяют сказать
достаточно, чтобы показаться умным, но
недостаточно, чтобы обнаружить свое невежество. Этот
подход продолжается и во взрослой жизни,
обеспечивая движение «символического
капитала» в обществе в целом.
В широком смысле Бурдье выступает как
макиавеллист, так как ключ к власти, по-видимому,
лежит в способности убедить других не испытывать
ее пределы. В более оптимистичных вариантах
социальной теории это называется «доверием».
Однако Бурдье значительно усложняет
макиавеллевскую картину, замечая, что мера социального
капитала — это уровень терпимости к чьей-либо
деятельности, направленной на получение
признания. Некто, обладающий большим
социальным капиталом, может получать признание за то,
что лишило бы доверия кого-то с более низким
социальным капиталом. Но в обратном случае
последний может не получить соответствующего
признания за действия, которые слишком уж
очевидно направлены на достижение статуса
первого. Бурдье ввел в оборот термины «гипо-
коррекция» и «гиперкоррекция» для
обозначения этих комплементарных феноменов, которые
можно проиллюстрировать, с одной стороны,
подозрительной беспечностью аристократов,
а с другой стороны, упорными (и
пародируемыми за это) усилиями выдвиженцев из низших
302
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
классов подражать поведению «лучших» (Grenfell
2004: 29).
Тот факт, что недостаточность достижений
может вознаграждаться, а их избыток наказываться,
указывает на динамическое отношение между двумя
наиболее знаменитыми терминами из лексикона
Бурдье — габитус и поле, то есть, грубо говоря,
между глубоко укоренившимися личными ресурсами
и тем рынком, на котором определяется их
социальная ценность (Grenfell 2008: р. II). Однако это
отношение необязательно должно быть столь
реакционным, как предполагают образцовые примеры
гипо- и гиперкоррекции. В революционные времена,
например, движения импрессионистов в ι86ο-χ годах
и студенческих волнений в 1960-х годах, центр
тяжести поля может настолько сместиться, что
габитус каждого окажется в разлаженном состоянии.
В этом случае другие поля начинают служить по
крайней мере временно тем местом, где
определяется социальная ценность. Так, деньги могут
определять ценность искусства, а власть—ценность
знания.
Общество для Бурдье состоит из набора полей,
чьи силы, как правило, согласованы таким образом,
что индивидуальный габитус кажется примером
социального детерминизма, поскольку классовая
позиция попросту воспроизводится во всех полях. Но
в конечном итоге поля не настолько сильно
влияют друг на друга. Это периодически предоставляет
возможности для перестройки полей, которая
переживается как революция. К несчастью, Бурдье
запутал вопрос, попытавшись объединить свои усилия
с концепцией «научных революций» Томаса Куна
(Grenfell 2004: 172)· Проблема в том, что научные
революции происходят из-за крушения парадигм,
тогда как поля перестраиваются другими полями.
ЗОЗ
СТИВ ФУЛЛЕР
Возможно, это месть Дюркгейма: Бурдье оказался
впечатляюще неэффективен в своих попытках
прояснить большую картину, которая стоит за его
социологическими наблюдениями, особенно свою
имплицитную «социальную физику», которая,
похоже, обязана своим существованием
интеллектуальному крестному отцу структуралистского
поворота в гуманитарных науках Гастону Башляру
(Grenfell 2004:99> СР· Fuller 2000b: eh. 7)· Это может
объяснить, почему, несмотря на всю свою шумную
продуктивность, Бурдье оставил в наследство
социологии только набор абстрактных концептов,
таких как габитус и поле.
Хотя много говорилось о
самонакладывающемся и даже о самоосознающем характере отношений
между габитусом и полем, гораздо меньше
внимания уделялось их, в конечном счете, академическому
источнику. Избранный в Коллеж де Франс и,
соответственно, официально признанный главным
социологом Франции, Бурдье переоткрыл свои
экзистенциалистские корни, вспомнив о своем
соучастии в распространении академической власти за
пределы стен университетов. Под маской
«рефлексивной социологии» Бурдье попытался примерить
на себя мантию «универсального интеллектуала»
Золя отчасти для того, чтобы искупить грех
академии: ее роль во внедрении и оправдании
основного способа доминирования и стратификации
в современных демократиях — школьной системы.
Для Бурдье выбор был прост: пытаться либо
повторить, либо исправить ошибки прошлого —
разумеется, с акцентом на «пытаться».
Наблюдаются интересные межнациональные
различия между способом действий
представителей социальных наук, когда они осознают свою
центральную роль в воспроизводстве того, что сами
3°4
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
считают угнетением. Возьмите книгу «Обучение
в капиталистической Америке» (Bowles and Gintis
1976), американскую работу, сопоставимую с
критической социологией образования Бурдье. Однако
после мимолетного заигрывания с политикой
авторы этой книги, два выпускника Гарварда,
профессора социалистически ориентированного
Департамента экономики в Массачусетском
университете, присоединились к Институту Санта-Фе30, где
теперь создают компьютерные симуляции
альтернативных социоэкономических миров, переведя
свой исходный марксистский интерес к
«материальной инфраструктуре» жизни в серьезное
заигрывание с социобиологией, эволюционной
психологией и усложненными версиями теории
рационального выбора.
Бурдье же со своей стороны никогда не
переставал продвигать определенные проблемы в
политическом поле, даже после того, как его более
практичные попутчики переключались на
другие виды деятельности. Например, он постоянно
поддерживал позитивную дискриминацию и
компенсации в образовательной политике, даже
несмотря на то, что социальная дискриминация
осуществлялась уже по другим основаниям (Gren-
fell 2004: 91)· К°гДа многие самоназванные левые
позволили убедить себя в бесполезности любой
попытки реализовать социальную справедливость
на основе государства, Бурдье настаивал: это
означает лишь бесконечность этой задачи.
Государство берет на себя активную роль, чтобы
3<э. Некоммерческая организация think tank, расположенная
в Санта-Фе, Нью-Мексико, США, и занимающаяся
междисциплинарными исследованиями сложных
адаптивных систем. — Примеч. пер.
3<>5
СТИВ ФУЛЛЕР
позитивно-дискриминированные не стали новой
элитой в результате непреднамеренной
маргинализации кого-то другого. Разумеется, политика
бесконечного реформизма штука сложная,
учитывая, что позитивная дискриминация редко
спонтанно переносится во все поля: например,
государство может содействовать поступлению
в университет большего числа представителей
меньшинств, но от этого их вкусы не приобретут
статус, соразмерный их достижениям.
В то же время вызывает разочарование тот факт,
что Бурдье так и не смог оценить роль, которую
сыграл Бернар-Анри Леви, вероятно, самый
фотогеничный интеллектуал Франции. Он произвел
фурор как Venfant terrible в середине 70-х годов, когда
описал социализм как «варварство с человеческим
лицом», а позже задокументировал во всех
кровавых подробностях зверства, совершенные якобы
освободительными силами в Югославии и
Афганистане (Grenfell 2004: 152). Здесь Бурдье
демонстрирует непростительный академический снобизм.
Для него Сартр и Леви представляли собой две
противоположные, но равно ложные версии
универсального интеллектуала. Если Сартр прибегал
к помощи партийного авангарда, то Леви
полагался на глобальные медиа как на источник
своекорыстной универсализации. (Таким образом,
легко видеть, почему Фуко, постоянно выражавший
опасения по поводу универсальных интеллектуалов,
поддержал кандидатуру Бурдье на должность
в Коллеж де Франс.) Однако, учитывая, что он сам
свободно менял курс на протяжении своей карьеры,
Бурдье следовало бы помнить максиму Макиавелли
«Цель оправдывает средства». Бурдье презирал
универсалистские устремления Сартра и Леви как
тщеславные, но это всего лишь грубый способ ска-
Зоб
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
зать, что они использовали свои сильные стороны:
они действовали согласно своим идеалам там, где
это, по их мнению, могло произвести
максимальный эффект.
Бурдье, разумеется, делал то же самое,
основывая издательский дом, ориентированный на
популярный рынок.
И все же более глубокий, но столь же спорный
тезис стоит за неприязнью Бурдье к «медийным
эффектам» (Grenfell 2004: 24)· Он считал массме-
диа ответственными за разрушение
интеллектуальной власти, впервые продемонстрированной
Золя в деле Дрейфуса. Золя, казалось, говорил из
незаинтересованной позиции, потому что он не
принимал чью-то сторону и не являлся
свидетелем-экспертом. Он был просто человеком,
который читает между строк газетные отчеты и делает
собственные выводы (Fuller 2005: 56)·
«Универсальность» его суждения опиралась на претензию
представить сформулированное мнение
информированного члена общества в условиях режима,
в котором общественное мнение официально
имело значение. Согласно Бурдье, сегодняшние СМИ
аннулировали роль Золя, так как они признают
только ангажированные и экспертные суждения
в дискуссиях, которые зачастую ими самими и
создаются. Бурдье винил медиа в нарушении
границы между информированием и диктованием
условий общественному мнению. Он никогда не
рассматривал менее лестную альтернативную
гипотезу, согласно которой большинство академиков
и писателей сегодня просто неспособны к
риторике, то есть не владеют искусством подбора средств
для достижения целей, имея дело с публикой.
Но даже если эта гипотеза окажется верной,
Бурдье тем не менее заслуживает признательности
3<>7
СТИВ ФУЛЛЕР
за организацию «Международного парламента
писателей» в 1993 Г°ДУ Для противостояния
глобальным силам неолиберализма (Grenfell 2004:154)· По
крайней мере сердце его всегда билось там, где ему
и положено быть. Цитируя заголовок мемуаров
бывшего социал-демократического министра
финансов Германии Оскара Лафонтена, «оно билось
слева» (Lafontaine 2000).
Наконец, есть еще и статус англоязычного мира
как главного колониального поля боя для
французских интеллектуалов по меньшей мере с 197° года
(Cusset 2008). В этой крайне важной области
значение Бурдье если не подрывается, то систематически
ограничивается (Schinkel 2003). Битва за
англоязычное влияние Бурдье состоялась, когда он был
избран в Коллеж де Франс. Неоднозначный отзыв
Юна Эльстера на «Различия» в London Review of Books
вышел за три года до английского перевода. Эль-
стер написал диссертацию под руководством
Арона через десять лет после Бурдье, но
присоединился к его сопернику, Раймону Будону, известному как
ведущий французский теоретик рационального
выбора — точки зрения, которую Эльстер
впоследствии импортировал в марксизм. Нельзя отрицать
глубину эльстеровского критического сравнения
Бурдье с Торстейном Вебленом. Тем не менее он
умудрился нейтрализовать все то негативное
значение, которое Бурдье приписывал понятиям
символического и культурного капитала, что в свою
очередь проложило дорогу для принятия
«социального капитала» как в целом позитивной идеи
в политике и в академических кругах неолибералов
1980-х и 1990-х годов.
В последние годы большая часть враждебности
к Бурдье исходила от соратников другого его
конкурента—теоретика социальных движений Алена
3о8
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Турена. Как оказалось, Турен был ранним
вдохновителем акторно-сетевой теории Мишеля Каллона,
ведущей школы исследований науки и технологии
сегодня (Barry and Slater 2002: 3°5)· И Будон, и
Турен отвечают на ощутимые провалы государства
всеобщего благосостояния в конце XX века. По Бу-
дону причина провала заключалась в
социалистической идеологии, которая была неспособна
поддерживать успехи, достигнутые современными
либеральными демократиями. Для Турена, напротив,
причиной провала стало установившееся доверие
к либерал-демократическим процедурам
(например, к голосованию), которые, как показала эпоха
постмодерна, оказались неадекватным
инструментом для выражения подлинных общественных
интересов. Различие между Будоном и Туреном
принято формулировать в терминах «индивидуализм/
коммунитаризм», но суть их оппозиции к Бурдье
не в этом. Будоновская социология требует
строгой согласованности между государством и
гражданским обществом: государство должно просто
приводить в исполнение решения общества. В
социологии же Турена предполагается куда более
свободное отношение между ними: государство
является всего лишь одним из агентов —и далеко не
самым сильным —среди различных
самоорганизующихся тенденций гражданского общества. Тем не
менее из бурдьевской «возрожденной»
гражданской республиканской перспективы обе позиции
недооценивают способность государства
приносить благо, реорганизуя статистически
доминирующие социальные тенденции.
Завершая эту карьерную ретроспективу,
давайте противопоставим дух оригинальной
полевой работы Бурдье в Алжире тому, что делал более
20 лет спустя в Кот-д'Ивуаре другой начинающий
3<>9
СТИВ ФУЛЛЕР
этнограф — Бруно Латур, наиболее
прославленный практик акторно-сетевой теории. Оба
занимались специфически французской проблемой
ассимиляции, и если говорить более конкретно,
влиянием французского управленческого знания
на местные земледельческие практики. Именно
тогда Бурдье впервые использовал термин
déracinement для обозначения «искоренения» местного
аграрного знания, но затем расширил его на весь
спектр отчуждения, порожденного ассимиляцио-
нистской политикой (Grenfell 2004: 44)·
Однако если Африка Бурдье —это позднеколо-
ниальная Африка, то Африка Латура —
постколониальная. Бурдье хотел, чтобы алжирцы
восстановили свою независимость от французов, Латур же
был более заинтересован в том, чтобы дать
возможность кот-д'ивуарцам инкорпорировать
французские практики в собственные для улучшения
торговых отношений. Латур обнаружил, что
французские инструкторы имели больше шансов
достичь этой цели, если работали с тем, что кот-
д'ивуарцы уже знали, и не пытались быть слишком
«французскими», абстрактно представляя
экономику и инженерию «сверху вниз» (Latour and
Woolgar 1986: 273~274г)· В то время этнография
Латура рассматривалась как очередной удар по
европоцентризму в традиции ранних усилий Бурдье.
Действительно, классическая латуровская
этнография научной среды обитания, «Лабораторная
жизнь» (Latour and Woolgar 1986), впервые
опубликованная менее чем через десять лет после
африканской полевой работы Латура, отмечена
влиянием бурдьевской модели научной достоверности
как «циркуляции капиталов». Однако после того
как Бурдье победил Турена в Коллеж де Франс,
под влиянием Каллона Латур вернулся к изна-
ЗЮ
ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
чальной сути своей этнографии: к практическому
исследованию путей открытия новых рынков
через расширение сетей в глобальном
неолиберальном порядке, одновременно постколониальном
и постфранцузском. Таким образом он развалил ту
концепцию общества, которую Бурдье героически
пытался сохранить.
ГЛАВА 4
Импровизационная природа
интеллектуальной жизни
Академики между плагиатом
и пустозвонством31
КАНОНИЧЕСКАЯ форма академической
коммуникации — устная презентация
письменного текста. Все чаще используется Power-
point, но общая идея остается неизменной:
академики думают вслух, следуя сценарию. Мы привыкли
считать такой способ действия признаком хорошо
продуманной мысли, вдумчивого рассуждения
и, не в последнюю очередь, уважения к аудитории.
Но, возможно, это признак того, что академики
просто не знают, о чем они говорят. Мы просто
говорящие головы. Более того, это может служить
доказательством, что мы не очень-то умны или по
крайней мере не опознаем и не ценим ум.
Подлинно умные люди хорошо умеют импровизировать.
Мы не умеем.
31- Термин bullshit, являющийся ключевым для этой главы, имеет
много вариантов перевода: «брехня», «треп», «чушь»,
«гон», «туфта», «пустозвонство», «бред сивой кобылы»;
существенными являются две ключевые коннотации:
бессодержательность и корыстность. Русские
переводчики Гарри Г. Франкфурта приводят детальное обоснование
выбора в качестве основного перевода «брехня» (Гарри
Г. Франкфурт. К вопросу о брехне. М.: Европа, 2θθ8. С. и).
Мы же предпочли вариант «пустозвонство» с его
производными «пустозвон», «пустозвонствовать» (bullshitter,
to bullshit) как более уместный в академическом контексте,
но сохраняющий исходные коннотации. — Примеч. пер.
313
СТИВ ФУЛЛЕР
Можно было бы подумать, что академики,
проводящие жизнь, погрузившись исключительно
в свой предмет, должны держаться на сцене по
крайней мере не хуже профессиональных актеров,
у которых гораздо меньше времени на заучивание
гораздо большего количества ролей —и, вероятно,
должны оставлять более длительное впечатление.
Напротив, единственный аспект академической
жизни, в котором это умение может получить
развитие, а именно чтение лекций студентам,
обычно воспринимается с большим подозрением,
особенно если оно вызывает сильный отклик
у студентов, будь то позитивный или негативный.
Образование может играть и играет вторую
скрипку по отношению к исследованиям в
нынешней академии, но даже те, кто якобы
защищает образование, радостно отказываются от
лекций как способа преподавания. Я подозреваю, что
они думают примерно так: если имеет
значение только партитура, то неважно, кто ее
исполняет—виртуоз или новичок, лишь бы в ноты
попадал.
Как ни печально, импровизация остается в
академии невознаграждаемым, а то и активно
презираемым умением. В случае сомнения мы
немедленно тянемся за «детектором пустозвонства», чтобы
с его помощью унизить импровизатора. И все же
слишком многое из того, что в наших краях сходит
за интеллектуальную деятельность, на деле
представляет собой не более чем соответствие
некоторым четко определенным ожиданиям, а то и
просто воспроизводство шаблонов. Мы жалуемся на
чтение заученных лекций, потому что это
старомодно. Но сегодняшние презентации в Powerpoint,
сделанные по принципу «Скопируй и вставь», еще
тупее. Неудивительно, что столько надежд возлага-
34
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
ется на механистические модели искусственного
интеллекта!
Более того, администраторы не виноваты в
таком поведении академиков. Их можно было бы
даже поблагодарить за поощрение тех склонностей,
которые академики и без того демонстрируют. Но,
возможно, наша благодарность уже выражается
в той легкости, с которой мы адаптируемся к
каждому новому режиму академического аудита.
Может быть, только тогда мы и обретаем способность
к импровизации. Мы терпеть не можем, когда
студенты спрашивают, что считается хорошим
ответом, но только потому, что они совершенно
правильно понимают, что процедура экзамена—это не
более чем словесная стрельба по мишеням.
На несколько более утонченном уровне можно
бросить тень на весь корпус академических работ,
особенно внутри собственной дисциплины, показав,
что некто не смог сказать или сделать нечто «как
надо». Скрыто-моральный, псевдострогий термин,
который академики употребляют в этом случае, —
коллега «неблагонадежен». Но почему
неспособность соответствовать образцу в деталях должна
непременно восприниматься как показатель чего-то
более глубокого, чем мелкие ошибки? Ни одна
теория рациональности не поддерживает более
строгих суждений. Но теории рациональности обычно
придают значение точности только в той степени,
в какой она влияет на нечто значимое, а академики
оценивают значимость в той степени, в какой она
точно соответствует их экспертному знанию.
Были времена—скажем, 500 или более лет назад—
когда для академиков действительно имело смысл
делать все буквально «по книжке». Тогда
зачитывание заготовленного текста давало студентам
возможность скопировать для своих собственных
315
СТИВ ФУЛЛЕР
исследований что-то, что они не могли получить
другим способом. Но это было до появления
печатного станка, личных библиотек, дешевых книг в
бумажных обложках, не говоря уже о Всемирной сети.
И все же те давно прошедшие времена
примитивной передачи знаний все еще живут не только в
наших дурных лекторских привычках, но и в самом
факте того, что мы называем это «лекцией»:
словом, происходящим от латинского lectio,
обозначающего чтение вслух.
Разумеется, нет ничего плохого, когда академик
использует стопку книг в качестве подпорки,
периодически выдергивая одну из них наугад и
зачитывая вслух пару предложений, после чего пускается
в интеллектуальный эквивалент виртуозной
джазовой импровизации или лучших представлений
актера Джона Сешнса на шоу Whose Line Is It Anyway'Ζ32,
которое шло на британском ТВ в начале ΐ99°"χ годов.
Привлекательность такой практики, более
распространенной в франко-германских кругах, нежели
в англоязычных, базируется на идее, что имитация
есть самая искренняя форма доминирования.
Когда гуманитарии старой школы жалуются, что
сегодняшние студенты больше читают
литературных критиков, чем самих литераторов, они
сокрушаются не просто о стремлении студентов к
быстрому интеллектуальному успеху. В конце концов,
многие образчики литературной критики нисколько
не проще для чтения, чем та литература, которую
32. «Так чья сейчас реплика?» (англ.) — популярное британское
юмористическое телешоу. Участники разыгрывают
диалоги, песни и сценки без сценария и предварительной
подготовки, основываясь только на ситуациях,
предлагаемых им ведущим или публикой в зале. Шотландский
актер Джон Сешнс долгое время был постоянным
участником и звездой шоу. — Примеч. пер.
3ΐ6
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
они критикуют. Нет, они завидуют талантам
академических импровизаторов, чьи собственные
творения способны оказаться интереснее, чем
оригинальный текст, если до последнего у читателя
вообще дойдут руки. Например, литературный
критик Гарольд Блум сделал карьеру в Йеле,
использовав маленький кусочек Фрейда и развив из
него целую стратегию достижения литературного
величия. В «Страхе влияния» (Bloom 1973) Блум
утверждает, что все поэты живут в страхе, что кто-
то откопает их мертвых интеллектуальных отцов,
то есть обнаружит источники плагиата. Великими
становятся те поэты, чья способность к
импровизации позволяет им успешно скрыть отцеубийство.
В случае академической культуры один из
последних метастазов этого табу на плагиат перерос
в полномасштабную нравственную панику по
поводу права интеллектуальной собственности. Из
этого можно было бы сделать вывод, что за
презрением к импровизации может скрываться признание
собственной интеллектуальной слабости. В конце
концов, кража текстов и идей не выглядела бы столь
страшным преступлением, если бы мы приняли
всерьез тезис, что, независимо от первоисточника,
любой интеллектуальный продукт открыт для
множества новых употреблений и что в таком случае
всегда есть возможность помыслить и сказать что-
то новое. Здесь мы видим истинный грех
импровизатора: он(а) отказывается говорить в точности то,
что знает, и знать ровно то, что говорит. С одной
стороны, он(а) выдает существующее за новое. Это
плагиат. С другой стороны, он(а) выдает новое за
уже существующее. Это пустозвонство. Так с
помощью этого нечестивого союза плагиата и
пустозвонства импровизатор пытается представить
неблагонадежность как достоинство.
3!7
СТИВ ФУЛЛЕР
Менее жесткая точка зрения на вопросы
надежности часто встречается среди тех, кто находится за
пределами собственной дисциплины академика, на
безопасном расстоянии от ее цеховых заморочек.
Конечно, это может иметь результатом в
буквальном смысле «блестящие» оценки
интеллектуального достоинства их работ. Хороший
пример—Томас Кун, популяризатор «парадигмы» и «научной
революции», самый влиятельный теоретик науки
второй половины XX века. Кун прославлен как
историк, философ, социолог и даже психолог науки.
Однако, поскольку он имел только образование
физика, во всех этих дисциплинах он ходил по
тонкому льду и, по стандартам профессионалов этих
дисциплин, часто проваливался в образовавшиеся
трещины. И все же он имеет славу гения.
И, может быть, Кун и был гением — если
считать, что он изначально планировал достичь
именно того, чего достиг. Тогда он был бы великим
импровизатором, который начал с определенных тем
в различных дисциплинах, развил их в новых
направлениях, которые игнорировали актуальные
достижения этих дисциплин или даже
противоречили им. Подобно великим актерам и музыкантам,
склонным к импровизации, его гениальность
опиралась бы на демонстрацию владения техникой,
достаточного, чтобы позволить аудитории игнорировать
любые оставшиеся недостатки. Почему? Свобода,
дозволяемая этими недостатками, давала
возможность достигнуть большего, чем просто работа по
правилам. Но Кун оказался скорее идиотом, чем са-
вантом. Он был совершенно обескуражен
оказанным ему приемом и отказывался ему подыгрывать.
Вся его последующая работа оставляет впечатление,
что его magnum opus «Структура научных
революций» была случайностью. Подлинный импровиза-
318
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
тор если и признает свой блеф, то только в конце
своей карьеры.
В противоположность Куну его французский
современник Луи Альтюссер, самый влиятельный
западный марксист 1970-х годов, признал в
мемуарах, что большую часть знаний о Марксе он
почерпнул из слухов и работ своих студентов.
Конечно, его звезда закатилась гораздо более
стремительно, чем Куна. Хуже идиота только савант,
который заставляет всех окружающих выглядеть
идиотами. Но сама по себе эта
черта—необязательно приговор, если окружающие присоединяются
и позволяют вам честно доиграть свою роль,
разложив все по полочкам в правильном
академическом порядке. К несчастью, импровизационные
способности Альтюссера были посвящены
интеллектуальной защите наиболее тоталитарных
тенденций марксизма. Если бы коммунисты
выиграли холодную войну, его бы всё еще считали
гением.
Дабы ненароком не воспрепятствовать будущим
академическим импровизаторам, позвольте мне
теперь обратиться к гранд-мастеру этого жанра,
чье исключительно тонкое чувство
всемирно-исторического момента позволило ему оставаться на
шаг впереди сомневающихся и одновременно на
шаг позади своих обвинителей. Я говорю об иконе
научной революции — Галилео Галилее. Галилей
был полон того, что итальянцы времен
Ренессанса называли spezzatura — общее обозначение
искусства импровизации, чьи коннотации варьируют от
«умения сочинять на ходу» до «независимого
мышления». Данные своих знаменитых
экспериментов Галилей нещадно подгонял под теории,
если не откровенно подделывал. Он приписывал
огромные возможности телескопу, который давал
319
СТИВ ФУЛЛЕР
размытые изображения и оптику которого он не
мог объяснить. Вдобавок ко всему этому Галилей
не только предложил альтернативную точку
зрения на строение космоса. В отличие от своего
осторожного предшественника Коперника, он
эксплицитно заявил, что его взгляд должен прийти на
смену взглядам Церкви. Несомненно, если бы
следующие два поколения ученых не употребили свои
усилия на приведение в порядок импровизаций
Галилея, его репутация ныне пребывала бы в
чистилище вместе с куновской или в аду вместе с аль-
тюссеровской.
Истории Куна, Альтюссера и Галилея — и их
различные судьбы — подчеркивают особый характер
импровизаторского интеллекта. Гений
импровизатора может продолжать существовать только
благодаря постоянному участию аудитории, поскольку
это в буквальном смысле искусство выдумывания на
ходу. Зачастую взаимодействие с аудиторией
заключается в том, чтобы убеждать ее, что каждый
странный поворот—это поворот к лучшему, так что
подвешивание недоверия вознаграждается приятным
сюрпризом, который заставляет зрителя
переосмыслить все, что казалось прежде известным.
В этом отношении, как мы видели на примере
Галилея, импровизатор всегда старается выиграть
себе время.
Так как бы выглядело академическое сообщество,
благоприятствующее импровизации? Определенно,
стандарты публичных выступлений изменились бы.
Мы стали бы более терпимы к людям, которые
говорят неизящно и не глядя в текст, корректируя
свое выступление в ответ на вопросы из аудитории.
Но мы бы также стали менее терпимы к людям,
которые отказываются отвечать на вопросы,
требующие отступления от их тщательно подготовленной
320
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
презентации. Вместо дилеммы «строгий —
небрежный» мы бы применяли к интеллектуальным
качествам этих людей бинарную оппозицию «широкий—
ограниченный».
Этот сдвиг в стандартах, возможно, имел бы
некоторые интересные непосредственные
эффекты. Академики могли бы поставить под вопрос
«прибавочную стоимость» приглашения
выступающих, которые только и делают, что
воспроизводят свои широко опубликованные тексты. Они бы
более настойчиво предлагали спикерам темы,
находящиеся за пределами их интеллектуальной
зоны комфорта, возможно, даже в качестве
обязательного условия для приглашения. В общем
и целом эти нововведения могли бы превратить
лекцию из обычного разведения водой сушеных
мыслей в возможность для полнокровного
исследования.
Мой первый опыт академической импровизации
случился в иезуитской математической школе.
Учащимся предлагалось завершить геометрическое
доказательство. Даже если первый студент делал это
правильно, наш преподаватель продолжал
спрашивать: «У кого-нибудь есть другие варианты?».
Неизменно многие из нас начинали предлагать
всевозможные — обычно ошибочные — альтернативы.
Преподаватель ждал, пока этот фонтан иссякнет,
и только потом объявлял печальные новости. Но
затем он показывал, что большинство этих
альтернатив (если не все) имели под собой правильные
основания, которые могли бы сработать в других
контекстах. Никто из нас не знал, чего ожидать
друг от друга в таких учебных ситуациях, но они
почти всегда работали. В конечном итоге, для
целей исследования лучше интересно ошибиться, чем
быть надежно правым.
321
СТИВ ФУЛЛЕР
Пустозвонство: когда лекарство
хуже болезни
Книга Гарри Франкфурта «О пустозвонстве»
(Frankfurt 2005) — последнее высказывание в
длинной, освященной традицией, но глубоко
проблематичной линии западной мысли, которая пыталась
спасти идею интеллектуальной честности от
циничного подозрения, что это всего лишь высоко-
лобый эгоистический предрассудок. Я говорю
«проблематичной» потому, что, хотя нелестное
изображение Платоном поэтов и софистов стало
первым выстрелом в философской войне с
пустозвонством, Платон сам воспользовался методом
пустозвонства, когда выдвинул «миф о металлах»
как принцип социальной стратификации в своем
«Государстве». Это двоемыслие не осталось
незамеченным неоконсервативными последователями
великого платоника XX века Лео Штрауса.
К их чести, некоторые из величайших
детекторов пустозвонства в истории — хоть и не
Франкфурт и не его обожаемый Витгенштейн—без
сомнения признавали себя виновными. Сразу приходит
в голову Фридрих Ницше и его великий
американский поклонник журналист Г. Л. Менкен,
который ввел в употребление эвфемизм bunk33. Им по-
33· Чушь, пустой треп [англ.). Устаревший эвфемизм, от
которого происходит куда более распространенное слово
debunk — опровергать, развенчивать. Согласно The Amen-
сап Heritage Dictionary of the English Language слово bunk
употребляется с 1841 года и происходит от фонетической
записи названия округа Buncombe, штат Северная
Каролина, представитель которого Ф. Уокер произнес в Сенате
крайне длинную и бессодержательную речь только для
того, чтобы об этом написали газеты и подтвердили, что
он выполняет свою работу. — Примеч. пер.
322
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
могло то, что оба были еще и циниками. Они
никогда не сдерживали своих моральных суждений
относительно тех, кого они развенчивали. Более
того, оба даже пытались объяснить эволюционные
преимущества определенных форм чуши: ее
авторы, возможно, и трусы, но не глупцы. Иудеи,
христиане и мусульмане — или, точнее, их духовные
лица—могут не обладать окончательным
доказательством существования трансцендентного божества, но
сама возможность его существования удивительно
способствует концентрации ума и дисциплине тела,
зачастую политически весьма эффективным
образом.
Разнообразные заявления Ницше и Менкена
вызвали волну осуждения со стороны других;
внушает ли психически нестабильный Ницше или
алкоголик Менкен уверенность в нашей способности
жить в мире без пустозвонства? И в более общем
смысле — ведет ли ревностная борьба с
пустозвонством к утончению или, наоборот, к
огрублению человечности? Повышает она или понижает
вероятность распознать истину, столкнувшись
с ней лицом к лицу? На каждого, кто видел в Ницше
и Менкене развенчателей лжепророков, найдется
другой, кто видел в них предельный случай Фомы
Неверующего. Если пустозвонство так легко
обнаружить и оно настолько глубоко пронизывает все
вокруг, то разумно поставить под сомнение и
суждение самого детектора пустозвонства. В
классических пьесах Генрика Ибсена «Дикая утка» и «Гедда
Габлер» эта перспектива рассматривается в терминах
потребности в «жизненной лжи». И Ницше, и
Менкена называли «нигилистами» их противники,
которые обратили на них самих безжалостный свет
истины и обнаружили в «детекторе пустозвонства»
самозванного абсолютиста, питающего нездоровый
323
СТИВ ФУЛЛЕР
интерес к людям, чей разум он не способен уважать
или переделать. Поскреби нигилиста — и
обнаружится догматик в изгнании.
«Детектор пустозвонства» стремится превратить
эпистемическую позицию в нравственное
достоинство: реальность может познать только
правильный человек. Эта идея, находящая широкое
признание среди философов, плотно привязанных
к классической традиции Платона и Аристотеля, не
имеет недостатка в противниках. Линия
сопротивления лучше всего прослеживается в истории
«риторики»: это слово Платон придумал для демони-
зации диалектических оппонентов
Сократа—софистов. Софисты были готовы научить любого
побеждать в спорах — за оговоренную плату,
разумеется. Череда софистов-вопрошателей пытается
донести до Сократа мысль, что владение навыком
убеждения аудитории — единственное нужное
знание. Сократ, как известно, атаковал эту точку
зрения сразу по нескольким фронтам, которые
последующая история философии часто смешивала
в один. В частности, сократовы сомнения
относительно надежности софистских техник
объединялись с более фундаментальной критикой: даже если
признать за софистами некоторое мастерство, все
равно оно основано на знании человеческой
натуры, а не самой реальности.
Пустозвонство есть софистика в самом широком
смысле, в соответствии с которым истина сама по
себе не всегда достаточно сильна, чтобы победить
искусно преподнесенное заявление, которое не то
чтобы откровенно ложно, а скорее, как гласит
британская идиома, «экономно обращается с истиной».
Подчеркивая разницу между пустозвонством и
ложью, Франкфурт явно имеет в виду именно эту
концепцию, хотя он оказывает софистике медвежью
324
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
услугу, обозначая отношение пустозвона к истине
как «равнодушие». Напротив, успешный пустозвон
должен тщательно изучать все то, что люди
обычно принимают за истину, пусть даже только для
того, чтобы подстроиться под эти тенденции в
собственных целях. Скорее всего, Франкфурта и других
философов здесь больше всего возмущает идея, что
истина является всего лишь одним из
инструментов достижения личной выгоды.
Концептуальными схемами играют и отбрасывают их, когда они
становятся бесполезными. Природа этого
возмущения, как я подозреваю, заключается в божественном
всеведении, подразумеваемом такими
отношениями, — то есть в самой идее, что можно вот так от-
страненно обращаться с терминами, в которых
обычно люди выстраивают свое отношение к
реальности. Пустозвон, будучи разоблаченным,
становится низверженным богом.
Теологический оттенок здесь не случаен. В
иерархии христианских грехов ближайший родственник
пустозвонства — лицемерие^ официальный объект
гнева Ницше и Менкена. Однако, по знаменитому
наблюдению Макса Вебера в отношении раннего
капитализма, христиане вовсе не столь
единодушны в своем осуждении лицемерия. Некоторые
понимали его скорее как неудачный побочный продукт
эффективного стремления к цели.
«Автобиография» Бенджамина Франклина развивает эту
позицию с ошеломительной откровенностью. Франклин
строил свое понимание «экономии истины» по
аналогии с пониманием экономии любого ценного
ресурса. Он говорил, что жизнь научила его, что
честность всегда должна соответствовать
требованиям конкретной речевой ситуации. Всегда можно
сказать слишком мало или слишком много, при
этом в обоих случаях говоря правду, и все же
325
СТИВ ФУЛЛЕР
предстать в результате либо некомпетентным, либо
нечестным. Такие вербальные промахи никому не
приносят пользы, хотя и представляют собой
«истину» в некоем абстрактном смысле. (Обновленную
защиту позиции Франклина, озаглавленной
«цивилизующая сила лицемерия», см. в Elster 1998·)
Совет Франклина можно счесть циничным, но
он маркирует ключевой сдвиг в представлении о
человеческом разуме—от пассивного сосуда к
творческому агенту. Как и другие отцы-основатели
Соединенных Штатов, Франклин в своем христианстве
склонялся к унитаризму, согласно которому
личность Иисуса символизирует, что между
человеческим разумом и божественным существует различие
в степени, но не в качестве. Как библейский Бог
сообщал людям только то, что считал нужным, не
открывая им всего, отчасти чтобы стимулировать
наши собственные богоподобные силы свободных
деятелей, таким должен быть и этос, управляющий
мирским человеческим общением. В результате мы
провоцируем друг в друге присущий нам
творческий потенциал. Степень успеха этого предписания
можно оценить по тому, насколько в наше время
бюджеты корпораций захвачены рекламой:
продажи обеспечиваются не собственными свойствами
продукта, а представлениями о продукте, которые
реклама позволяет потребителям сформировать
самостоятельно.
Каково бы ни было ваше мнение о теологии
Франклина, ясно, что понимание пустозвонства
как лицемерия является грубым когнитивным
эквивалентом оппозиции истины и лжи, а не
отсутствия у человека некоей определенной
компетенции, которая могла бы подавить склонность этого
человека к пустозвонству. Я подчеркиваю этот
момент, потому что «детекторы пустозвонства»
32б
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
набирают солидный риторический вес путем
размывания эпистемических и этических измерений
того самого феномена, который они пытаются
искоренить. Зачастую это подразумевает
постулирование психологически мутного состояния
«добросовестности». Разумеется, в наши
демократические времена «детекторы пустозвонства» редко
позволяют себе открыто объявлять, что
пустозвонство подразумевает «нравственную
нечистоплотность», что могло бы быть связано с некими
недостойными (не говоря уже — недоказуемыми)
обвинениями в невоспитанности или даже в
неудачной генетической наследственности
пустозвона. Тем не менее свежие публикации по
«эпистемологии добродетели» подходят очень близко
к таким огульным суждениям (Zagzebski and Fair-
weather 2001).
Но то же самое впечатление может быть
вызвано и другими средствами. Например, десять лет
назад Ален Сокал выдвинул знаменитый тезис, что
французские окололитературные философы и их
американские обожатели не стали бы выводить
постмодернистские следствия из передовой
математической физики, если бы обладали научной
грамотностью: если бы вы больше знали или лучше
учились, вы бы вели себя прилично (Sokal and
Brichmont 199^)· Но обратите внимание, что здесь
подразумевается под «приличным поведением»:
смысл не в том, что философы-франкофилы
должны были сделать атшгшостмодернистские выводы
из передовых достижений науки; по Сокалу, они
должны были воздержаться от любых выводов
вообще, поскольку наука не обращается
непосредственно к широкому культурному контексту, который
интересует франкофилов. (Разумеется, эту позицию
непросто отстаивать с серьезным лицом, когда такие
327
СТИВ ФУЛЛЕР
великие ученые, как Бор и Гейзенберг, сами
пересекали границы между философией и наукой.)
Очень удобно фокусироваться на слегка
завуалированной некомпетентности пустозвонов, но на
самом деле «детекторов пустозвонства» смущает
то, что они считают отсутствием самодисциплины,
проявляющимся в вербальном камуфляже
пустозвонства. Вступая на территорию, еще не
колонизированную общепризнанной экспертизой, где
«истина» и «ложь» еще не разграничены,
пустозвоны делают авторитетные заявления, вместо того
чтобы молчать. Откуда взялась эта разница в
подходах? Приходит в голову различение,
позаимствованное у Канта и широко используемое для
понимания истории ранне-нововременной
философии: пустозвоны и детекторы пустозвонства
обращаются к одной и той же неопределенной
ситуации знания с рационалистической и эмпирической
точек зрения соответственно. Пустозвоны
предлагают разрешить неопределенность путем выбора
одной из уже представленных альтернатив, тогда
как детекторы пустозвонства ищут некоего
внешнего опыта —так называемых свидетельств,—
чтобы определить, где же истина. Я осмелюсь
утверждать, что научный метод в основном представляет
собой «диалектический синтез» этих двух
подходов, то есть каждый из них компенсирует
перекосы другого, чтобы произвести более сильную
форму знания, чем по отдельности. Детекторы
пустозвонства находят утешение в том факте, что
само время, потраченное на освоение некоторого
корпуса знаний, по сути, гарантирует верность
инициированного члена сообщества
соответствующим практикам и центральным догмам. Более
того, часто дисциплина в целом организована так,
чтобы создать как можно больше препятствий на
328
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
пути пустозвона, несущего свою противоречивую
«истину». В руках Куна эта тенденция была
закреплена под именем «нормальной науки».
Согласно Куну, радикальная альтернатива
научной ортодоксии должна дождаться разрушения
господствующей парадигмы, что может занять
очень долгое время, тогда как плохо
сформулированные концептуальные возражения (то
есть пустозвонство) пытаются противостоять
сделанным на заказ эмпирическим успехам
парадигмы. Самопреобразование из потенциального
критика в верноподданного — вопрос преодоления
того, что в социальной психологии называется
«когнитивный диссонанс»: неужели все усилия по
освоению науки были потрачены впустую,
особенно если они имели результатом надежную
социальную идентичность и (возможно, не столь
надежное) рабочее место? Знаменитое «пари
Паскаля» представляет собой обобщенную версию этой
линии рассуждений: нам следует сделать ставку на
существование Бога, приняв христианский образ
жизни, который затем наделит нас
восприимчивостью к знакам божественного присутствия, если
таковые появятся. Как в науке, так и в религии
открытия благоволят подготовленному уму.
Но что если утверждать и оспаривать претензии
на знание было бы проще—если это можно было бы
делать без прохождения личностной
трансформации, необходимой, скажем, для получения
докторской степени? В отсутствие такого
институционализированного иммунитета к пустозвонству это
будет рай для софиста. Решение об истине будет
приниматься каждый день заново, и принимать его
будет тот, кто предложит более сильный аргумент
или пройдет какой-то коллективно оговоренный
тест. Плевать на прошлые заслуги и prima facie
329
СТИВ ФУЛЛЕР
правдоподобие, главное —здесь и сейчас. Научный
метод был разработан именно таким умом: глубоко
недоверчивым к авторитету в любых формах, будь
то канонический текст или некая каноническая
репрезентация коллективного опыта. Это недоверие
питалось часто наблюдаемым несоответствием
между авторитетными утверждениями и
индивидуальными спонтанными мыслями, чувствами
и опытом.
Характерный момент этого умонастроения
в западной традиции, сделавший совесть
слушателя (а не искренность говорящего) местом
окончательного суждения, — Мартин Лютер,
продолжавший чувствовать вину даже после отпущения
грехов католическим обрядом епитимьи. Это
спровоцировало более широкое обсуждение
католического «королевского пути» к спасению через
ритуал. Результатом был протестантизм с его
более высокой терпимостью к пустозвонству,
связанной с пониманием, что все мы в этой жизни
ходим по тонкому льду. В выражении «играть на
слух» схвачен неизбежно импровизационный
характер обращения к совести как к проводнику
истины. В конечном итоге, есть только один
детектор пустозвонства — Бог. Остерегайтесь
подделок.
Детектор пустозвонства верит не только в то,
что истина есть, но и что он (а) обладает доступом
к ней, который достаточно надежен и общезначим,
чтобы служить стандартом, по которому можно
оценивать других. Протестанты были готовы
принять первое условие, но не второе, вот почему
в протестантизме диссидентов поощряли — или
изгоняли—основывать собственные церкви.
Софисты отрицали первое условие, а возможно, и
второе. И протестанты, и софисты—главные подозре-
33°
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
ваемые в распространении пустозвонства, потому
что они признавали, что мы можем нормально
обращаться с реальностью в терминах, которые она
не признает или по крайней мере которые не
требуют от нее четких ответов типа «да/нет»,
«истинно/ложно». В таком случае мы должны как-то
жить с расхождением между неясностью
собственных исследований и непонятностью ответов
реальности. Это «расхождение» и рассматривается как
пустозвонство. Кристаллизованный в виде
философии сознания или философии языка, этот
подход известен как антиреализм. Его
противоположность — реализм, базовая философия детекторов
пустозвонства.
Суть различия между этими двумя
философиями состоит в следующем: вы верите, что все, что вы
говорите и слышите — пустозвонство, если нет
способа показать, истинно это или ложно, или же
верите, что все сказанное и услышанное просто
истинно или ложно, пока не было показано, что это
пустозвонство. Первое — ответ реалиста, второе —
антиреалиста. В таких терминах мы можем
сказать, что антиреалист рассматривает реальность
как сущностно рискованную и находящуюся всегда
в состоянии конструирования {Caveat credor — «Да
остережется верящий!»), тогда как реалист
считает, что реальность в целом стабильна и упорядочен-
на, и только возмутители спокойствия пытаются
обойти систему, производя пустозвонство. В этом
отношении книга «О брехне» может быть с
пользой прочитана как нападение ad hominem на
антиреалистов. Сам Франкфурт вскользь
упоминает эту интерпретацию ближе к концу своего
эссе (Frankfurt 2005: 64-65). И все же он радостно
распространяет вульгарный образ антиреализма
как интеллектуально и, возможно, морально
ЗЗ1
СТИВ ФУЛЛЕР
неполноценного движения, вместо того чтобы
отнестись к нему как к почтенной философской
позиции, каковой он является.
Пример тому —созданный Франкфуртом образ
Витгенштейна как одного из величайших
детекторов пустозвонства в истории (Frankfurt 2005: 24-
34)· Он рассказывает очень характерную байку,
в которой венский философ возражает на само-
описание Фани Паскаль «устала как собака».
Витгенштейн, по рассказам, ответил Паскаль, что она
неправильно использует язык, извлекая выгоду из
того, что слушатель легко может перепутать
буквально ложное утверждение с настоящим
состоянием, что становится возможным благодаря
предрасположенности слушателя к антропоцентризму.
Возражение Витгенштейна сводится к тому, что за
пределами четко маркированных поэтических
контекстов наша интеллектуальная цель никогда
сама по себе не оправдывает наши
лингвистические средства. Франкфрут относится к этому
заявлению как к вневременной истине о том, как язык
структурирует реальность. Однако если
вспомнить, что эта «истина» была высказана семьдесят
лет назад, было бы довольно легко заключить, что
за раздражением Витгенштейна кроется
феерическое отсутствие воображения под личиной
интеллектуальной честности.
Резкое суждение Витгенштейна предполагает,
что у человека нет реального доступа к собачьей
психологии, что делает любую отсылку к собакам
совершенно произвольной. Для него это отсутствие
доступа является установленным фактом,
вписанным в буквальное использование языка, а не
открытым вопросом, для которого фигуративное
использование языка могло бы послужить толчком для
дальнейшего исследования. Тем не менее ученые,
332
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
знакомые с неодарвинианским синтезом—который
формировался как раз примерно в то же время,
когда Витгенштейн высказал свое заявление,—уже
изрядно сузили разрыв между ментальной жизнью
людей и животных в ходе исследований,
ассоциирующихся с «эволюционной психологией». По
мере прогресса этих исследований то, что
Витгенштейн в свое время с такой уверенностью объявлял
пустозвонством, может завтра оказаться
предвосхищением истины. Но любой, кто придерживается
такого подвижного взгляда на верифицирумость, не
найдет утешения ни у Витгенштейна, ни у
Франкфурта, которые ведут себя так, как будто все
лингвистические интуиции английского языка образца
1935 г°Да должны считаться безусловно
доказанными истинами.
Некоторые философы, склонные к выявлению
пустозвонов, так привыкли принимать любое
высказывание Витгенштейна за глубокое
философское утверждение, что им никогда не приходит
в голову, что Витгенштейн сам мог быть
виртуозом пустозвонства. Великие детекторы
пустозвонства, которых я упомянул изначально —
Ницше и Менкен, — оказались уязвимыми для
критики именно потому, что говорили со своей
самообосновывающей позиции, которая
предположительно позволяла им незамутненным взглядом
отличать пустозвонство от его
противоположности. Витгенштейн же задействует классическую
пустозвонскую технологию чревовещания, то есть
говорения от лица кого-то или чего-то,
обладающего авторитетом, чтобы избежать прямого удара
критики.
Я неспроста употребляю слово «задействует»,
потому что цель витгенштейновской риторики
остается неопределенной. Что он пытался сделать:
333
СТИВ ФУЛЛЕР
говорить скромно, вопреки отсутствию привычки
сдерживать свой высокомерный тон, или показать
чувство собственного превосходства как можно
осторожнее, чтобы, не дай бог, не спугнуть
простецов? В любом случае, Витгенштейн стал — для
определенного типа философов — тотемной
фигурой лингвистической благопристойности, в
которой язык понимается как представитель самой
реальности. Разумеется, для пустозвона под это
описание также подпадает каждый, чья сильная
харизма побуждает впечатлительных слушателей
усомниться в собственных мыслительных
процессах. В случае большинства успешных пустозвонов
трюк раскрывается только после того, как
желаемый эффект был достигнут и система отсчета
изменилась. Таким образом, Витгенштейн, которого
так задело высказывание Паскаль о ее состоянии,
должен по крайней мере у некоторых
сегодняшних читателей вызвать ассоциацию с
обеспокоенным священником, которому прихожанин на
исповеди признался в нечистых мыслях. В обоих
случаях последний столкнулся с чем-то, что лежит
за пределами тех границ, в которых продолжает
мыслить первый.
Если Витгенштейн сам был пустозвоном, как ему
удалось обаять таких самопровозглашенных борцов
с пустозвонством, как Франкфурт? Одна из причин
в том, что большая часть пустозвонства обращена
в будущее, а пустозвонство Витгенштейна — нет.
Пустозвон обычно отсылает к утверждениям, чье
рпта facie правдоподобие убеждает слушателя не
проверять их на истинность. Как следствие,
доказательство просто «где-то там» ждет своего
открывателя. Но есть ли на самом деле это
доказательство? Здесь пустозвон вступает в гонку со
временем. Достаточное отставание в проверке источ-
334
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
ников спасало компетентность и даже продвигало
вперед предчувствия многих пустозвонов. Именно
в этом духе работает знаменитая интерпретация
Фейерабендом (Feyerabend 1975) «открытий»
Галилея, где он заключил, что папская инквизиция
изначально была права в своем скептицизме, даже
несмотря на то, что последователи Галилея позже
смогли обналичить выписанные им эпистемические
чеки.
Напротив, специфически витгенштейновское
пустозвонство было обращено не в будущее, а в
прошлое, всегда напоминая слушателям и читателям
о чем-то, что они должны были уже знать, но,
возможно, временно подзабыли. Поскольку
Витгенштейн обычно отвечал своим вопрошателям
повседневными примерами, это впечатление было очень
легко создать. Фокус состоял в мгновенной смене
контекста — от данного конкретного примера
к тому, что оксфордские философы 195°"X r(W>B на_
зывали «парадигмальным случаем»,
предъявляемым как самоочевидный стандарт употребления,
относительно которого должен оцениваться
конкретный пример. Тот факт, что Витгенштейн, для
которого английский не являлся родным языком,
умудрился впечатлить не одно, а два поколения
британской философской элиты только лишь этим
способом аргументации, остается предметом
зависти всякого начинающего пустозвона. Эрнест Гелл-
нер (Gellner 1959)' еш»е °ДИН эмигрант из старой
Австро-Венгерской империи, подвергся остракизму
британского философского истеблишмента за то,
что безжалостно диагностировал этот феномен
в процессе его распространения. Он высказал
предположение, что Витгенштейн был обязан своим
успехом способности подпитывать британское
чувство классовой тревожности, которое наиболее явно
335
СТИВ ФУЛЛЕР
проявляется в использовании языка. Академически
сублимированная форма такого языкового чувства
классовой тревожности находится в ведении
социолингвистики (Bernstein 1971-77)·
И все же полстолетия спустя диагноз Геллнера
все еще встречает сопротивление, хотя
посмертная хватка Витгенштейна за горло философского
воображения уже изрядно ослабла. Одна из
причин этого заключается в том, что очень многие
ныне живущие философы по-прежнему
полагаются на авторитет Витгенштейна, — если не на его
стилистику, — поэтому объявление Витгенштейна
пустозвоном было бы для них эквивалентом
карьерного самоубийства. Но вторая причина тоже
оперативна—она функционирует как страховка от
будущих разоблачителей. Витгенштейн часто
представал — и в его собственных глазах, и в глазах
других — ментально неуравновешенным. Можно
было бы подумать, что это должно было сделать
его философские результаты ненадежными. Но
напротив, эксцентричность Витгенштейна
представляется как свидетельство его
спонтанно-безыскусной натуры, отличающей его от сдержанности
и расчетливости пустозвонов. Ярлык пустозвона
не липнет к Витгенштейну потому, что к нему
относятся как к идиоту-саванту. Напротив,
детекторы пустозвонства направляют свой огонь на тех,
кто способен внутри себя провести стратегическое
различие между наличествующими в данный
момент доказательствами и тем состоянием
убежденности, в котором они желали бы видеть своих
собеседников. Мы уже встречались с таким
менталитетом. Лучше называть его классическим
именем «лицемерие», связанным со словом
«личина» — маска, которую носили актеры в
греческих драмах.
ЗЗб
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
Пустозвон — полнейший лицемер. Это звучит
как обвинение, если вы считаете, что за
ментальным барьером маски лицемера скрывается ясное
понимание того, на какой стороне находится
основной вес доказательств. Но если представить
себе, что за маской лицемера скрывается глубокая
неуверенность в истине, тогда его внешний образ—
это дерзкий, хотя и, возможно, безнадежный жест:
попытка внести хоть какой-то порядок в
хаотический мир. Здесь некоторые читатели могут
усомниться в том, мудро ли изображать пустозвонов
этакими героическими экзистенциалистами,
которые блефуют, пытаясь вырваться из бездны. В
конце концов, по большинству вопросов у нас, вроде
бы, обычно есть более-менее четкое представление
о том, на что указывает свидетельство. Если это
так, то единственно важное решение заключается
в том, чтобы признать, отрицать или
переинтерпретировать некоторое убеждение. Однако, как
и следует ожидать, подход пустозвона к
свидетельствам несколько сложнее. Он находится под
влиянием софистического принципа, гласящего, что
контролировать момент принятия решения
—значит контролировать его исход. Тогда первый
софистический ход — задать вопрос, в чью пользу
склоняется баланс аргументов. Но при наличии
достаточного времени, ресурсов и ума можно
доказать истинность любого положения —так
полагали софисты. Проблема в том, что нам редко
достается такая роскошь, поэтому сильно искушение
просто согласиться с тем, что кажется наиболее
подтвержденным.
Пустозвоны делают акцент на
импрессионистском характере этого решения, поскольку,
вопреки разношерстным призывам к «достоверности»
в философском и публичном дискурсе, мы обычно
337
СТИВ ФУЛЛЕР
находимся не в том положении, чтобы оценивать
реальные прошлые успехи тех, кто претендует на
наши убеждения. Мы можем иметь доступ к
частичному прошлому или чаще припоминаем свой
собственный личный опыт, окрашенный
прихотливостью памяти. Возможно, именно поэтому
эпистемологи все больше полагаются на
морально-окрашенный концепт «доверия» и
родственные ему теологические концепты «свидетельства»
и «исповедания», чтобы восполнить разницу
между нашим подлинным личным отношением
к некоему утверждению и актуальным наличием
доказательств в его пользу (например, Kusch and
Lipton 2002). В благодушной интерпретации
шотландского клирика Томаса Рида, искра
божественного в человеке (также известная как
здравый смысл) гарантирует, что в большинстве
своем люди являются надежными источниками
информации. Но в недоброжелательном
прочтении еретика Кьеркегора распространенность
таких концептов просто выдает нашу трусость: мы
делегируем другим ответственность за те
убеждения, которые мы должны принимать лично,
признавая свои ошибки, когда наши убеждения
опровергают, но в противном случае испытывая
некоторую скромную гордость за то, что
выражаем их. Среди затронутых Кьеркегором был юный
Карл Поппер, которого я назвал «научным
экзистенциалистом» (Hacohen 2000: 83-84; Fuller
2003: 100-110). В любом случае, служа заплаткой
на разрыве между убеждением и
доказательствами, достоверность действительно начинает
казаться пустозвонским концептом —но проблемой
это является, конечно, только для тех, кто,
подобно Франкфурту, посвятил себя элиминации
пустозвонства.
33»
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
Можно обнаружить пустозвонство самих
детекторов пустозвонства, если провести аналогию
между эпистемической экономией свидетельства и
моральной экономией ощущения. Свидетельство в пользу
истины или ложности обычно описывается в тех же
терминах «побуждающего опыта», как и ощущения
удовольствия и боли. Но почему свидетельства
в сфере знания должны так легко влиять на наше
мнение, в то время как большинство философов не
хотели бы, чтобы наши ощущения столь же
автоматически влияли на наши действия? Например,
утилитаризм, современная этическая теория, наиболее
близко связанная с моральной экономией
ощущений, объясняет благосостояние в терминах отказа
от сиюминутного удовольствия в пользу более
существенного вознаграждения в долгосрочной
перспективе. То есть перераспределение доходов,
обеспечиваемое налоговой системой, служит
предохранителем от нашей склонности недооценивать
будущих себя или в данном случае будущие
поколения.
Подобным образом пустозвонство с его
нечувствительностью к имеющимся на данный момент
свидетельствам может быть понято как попытка
избежать утраты возможностей, связанных с неучиты-
ванием того, что в будущем может оказаться
перспективной линией исследования. Аналогом
налоговой системы здесь была бы стратегия affirmative
action, которая давала бы фору менее
подтвержденным позициям, чтобы они получили шанс на
развитие. В терминах интертемпорального
сопоставления эмпирической базы утверждений в
известном настоящем и воображаемом будущем это
значит, что мы жертвуем приверженностью «истине
и только истине» в краткосрочной перспективе
в пользу приверженности «полной истине» в долго-
339
СТИВ ФУЛЛЕР
срочной перспективе. (Обсуждение этого конфликта
как столкновения между корреспондентной и
когерентной теориями истины см. в Fuller 2005: 51-6°·)
Как мог бы сказать Франкфурт, и в моральных,
и в эпистемических экономиках представлена
одна и та же добродетель — умеренность. Первые
сберегают для будущего, вторые стремятся
выиграть время.
Научный метод:
пустозвонство — быстрее, выше, глубже
Естественный вывод из приведенных
соображений—что пустозвонство повсюду и в частности
среди тех, кто жаждет его обнаружить и
элиминировать. Но разве это плохо? Успех изобретенного
Фрэнсисом Бэконом научного метода
предполагает, что это не так уж плохо, если все сразу
признаются, что производят пустозвонство, и оставят
принятие решения о том, что пустозвонство, а что нет,
третьей стороне. Бэкон был крупным юристом при
короле Англии Якове I в начале XVII века, во
времена, которые мы сегодня описываем как период
бурных научных и религиозных конфликтов, хотя
различие между этими двумя источниками
беспокойства в то время было не столь четким. Бэкон это
понимал. Радикальные религиозные мыслители
часто выдвигали и иногда даже доказывали
утверждения, имеющие общенаучную ценность. Но они
обычно настаивали, что только те, кто разделяет их
религиозные воззрения, могут оценить и
подвергнуть проверке эти утверждения. Бэкон считал, что
в интересах общества нужно изобрести способ
проверить достоверность утверждений знания, не
принимая противоречивые метафизические пред-
340
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
посылки, которые, возможно, мотивировали
утверждающих. Эта процедура — научный метод —
была построена по модели судебного процесса,
принятой в инквизиционной юридической системе
континентальной Европы, которой Бэкон
восхищался (Franklin 2001: 217-218).
Разница между инквизиционным (розыскным)
процессом и состязательным процессом,
традиционно предпочитаемым в Англии, состоит в том,
что судья, а не истец, определяет рамочные
условия процесса. Обычно это означает, что, прежде
чем будет вынесен вердикт, судья должен провести
собственное расследование: например, выяснить,
что считается нормальным образом действий в
соответствующей сфере жизни, чтобы определить, не
предъявляются ли к обвиняемому неоправданно
высокие требования — или даже вполне разумные
требования, но которым в действительности мало
кто следует. Таким образом, для истца
недостаточно просто доказать свою правоту. В дополнение
должно быть ясно, что обвиняемого не пытаются
несправедливо выделить из большинства и
наказать за что-то, что, к добру ли, к худу ли, является
общепринятой практикой. В конце концов, если
даже обвиняемый виновен, но другие, возможно,
виновны еще больше — в таком случае судья
должен решить, послужит ли торжеству
справедливости, если обвиняемый будет наказан в качестве
показательного примера, или нет.
Знаменитый недавний пример того, как переход
от состязательной перспективы к инквизиционной
может значительно повлиять на исход дела —
случай политолога Бьорна Ломборга, автора
международного бестселлера The Sceptical Environmentalist
(2001), которому пришлось предстать перед
датским Комитетом по научной недобросовестности
341
СТИВ ФУЛЛЕР
(DCSD) после того, как предприниматель,
занимающийся альтернативной энергетикой, заявил, что
Ломборг систематически искажал результаты
исследований, подрывая тем самым его бизнес.
Основной посыл Ломборга состоял в том, что будущее
окружающей среды вовсе не столь плачевно, как его
рисуют большинство экологов. Истец получил
обширную зарубежную поддержку, в том числе от
журнала Scientific American и Ε. О. Уилсона,
основателя социобиологии и с недавних пор защитника
биоразнообразия.
Ломборг сначала был признан виновным, но
вердикт был отозван в результате апелляции (конечно,
ведь была поставлена под вопрос сама цель
существования Комитета по научной
недобросовестности), потому что оказалось, что Ломборга обвинили
несправедливо, ведь в сфере экологии политизация
исследований является нормой, а не исключением.
Ломборг был виновен всего лишь в том, что
экстраполировал из релевантных статистических данных
чуть более оптимистичный экологический прогноз,
чем принято. Но все такие экстраполяции в
конечном итоге спекулятивны и имеют целью
достучаться до фондов, финансирующих исследования,
политиков и публики. Другими словами, никакого
судебного вмешательства не требуется, поскольку
такие вопросы уже достаточно непредвзято
освещаются и обсуждаются в прессе, а аудитории
остается делать собственные выводы (Fuller 2007b:
История дела Ломборга прекрасно
иллюстрирует, как судебный процесс может способствовать
как порождению, так и избавлению от
пустозвонства. При поддержке серьезных экспертов
истец утверждал, что обвиняемый несет
индивидуальную ответственность за событие, тогда как
342
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
обвиняемый отстаивал чистоту своих мотивов
и ставил под вопрос политические взгляды
обвинителей. Пустозвонство лилось с обеих сторон. От
судьи (в данном случае, комитета),
выполняющего роль следователя, требовалось сформулировать
тест, который позволил бы принять взвешенное
решение в пользу одной из сторон путем
включения тех предпосылок, которые они разделяют,
и элиминации тех, по которым они не согласны.
В переводе на язык науки это и есть то, что Бэкон
назвал «решающим экспериментом». Великое
достоинство решающего эксперимента,
продемонстрированное множеством интеллектуальных
движений, объединенных под знаменем
«позитивизма», в том, что он заставляет провести четкое
различие между теорией и методом: научное
сообщество может спорить о теориях, но его
объединяет общность метода. Но есть здесь и политический
момент, касающийся свободы
самовыражения—сердца демократии, или того, что Карл Поппер назвал
«открытым обществом»: любой может пустозвон-
ствовать в свое удовольствие, если мы все
договоримся о том, как после этого наводить порядок.
Я акцентирую внимание на «свободе
самовыражения», поскольку, как впервые отметил Франклин,
подлинная свобода включает в себя свободу
каждого говорить все что угодно, если он верит, что это
должно быть сказано — даже если сам говорящий
в это не верит. Некоторые ключевые моменты
общественной интеллектуальной жизни
определялись именно в этих терминах. Например, когда
Эмиль Золя публично обвинил Военное
министерство в противозаконном заключении в тюрьму
капитана Дрейфуса («Я обвиняю!»), у него не было
никаких свидетельств, кроме того, что суд признал
Дрейфуса виновным в измене. Он просто прочитал
343
СТИВ ФУЛЛЕР
между строк и предположил, что в этом деле было
второе дно. Золя оказался прав, но только после
признания исполнителей он, наконец, узнал,
почему. Однако его преждевременное заявление
послужило стимулом для пересмотра дела, в результате
чего были обнаружены улики, подтверждающие
заявление Золя, который все это время находился
в изгнании в Лондоне. Золя ждала та же судьба, что
и Галилея, который был помещен Инквизицией
под домашний арест, что спровоцировало
натурфилософов по всей Европе взяться за его гипотезу,
которая была наконец доказана в ньютоновских Рггп-
cipia Mathematica.
Однако мечта Бэкона была осуществлена лишь
частично. Прежде всего его идея, что теория и
метод должны различаться в каждом конкретном
случае, преобразовалась в идею, что они должны
во всех случаях различаться одинаково. Таким
образом, в позитивистском воображении
судья-следователь, который на свое усмотрение
определяет, как это разделение должно быть проведено
в каждом отдельном случае, оказался заменен
механической процедурой, которая может
применяться ко всем случаям подряд. В значительной
степени эта трансформация может быть
возведена к политическому провалу бэконовского
проекта (Lynch 2001). В конце концов, Бэкон грезил
о научном дворе под королевским
покровительством, тогда как самое большее, на что оказалась
способна ослабленная гражданской войной
английская монархия, — разрешить
саморегулирующуюся частную организацию, Лондонское
королевское научное общество, чья преданность
короне выражалась в обращении к «методу» для
исключения всех потенциально спорных проблем
с самого начала.
344
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
Одна черта исходной бэконовской модели,
дожившая до наших дней, часто оказывалась палкой
в колесе судебной системы: либеральная политика
позволяла принимать к рассмотрению
свидетельские показания экспертов, которые были бы
отметены как слухи, если бы исходили от обычного
свидетеля (Golan 2004). Эта пропустозвонственная
политика, которую некоторые ядовито прозвали
«сорной наукой», в принципе необходима, хотя бы
потому, что даже искренние претензии на
достоверное знание редко подтверждаются
непосредственными наблюдениями. Такая политика
позиционирует судью как следователя, обладающего
правом устанавливать независимый стандарт, по
которому определяется пустозвонство в данном
конкретном случае. Однако если судья считает себя
всего лишь рефери в поединке сторон (типичная
позиция в англосаксонском праве), баланс
аргументов, сформулированный в терминах истца, скорее
всего, и окажется на стороне истца. Конечно, это не
означает, что истец автоматически выигрывает
дело, но если он представляет доминирующую
точку зрения на спорный вопрос, это сильно
повышает его шансы. Таким образом, намерения Бэкона
подрываются на практике.
В заключение рассмотрим подходящий пример:
череду судебных процессов в США, касающихся
включения теории эволюции и креационизма —
а в последнее время и теории разумного замысла —
в школьные учебные программы. Знаковый вердикт
был вынесен в 1982 году по делу «Маклин против
штата Арканзас», когда председательствующий
судья обратился к философскому определению
науки, сформулированному Майклом Рузом, чтобы
обосновать исключение креационизма из программы
естественных наук. Это был первый случай, когда
345
СТИВ ФУЛЛЕР
судья не просто склонился перед весом мнения
научных экспертов, но, осознав, что речь здесь идет
о самой сущности науки, попытался найти
стандарт, который был бы действительно нейтрален по
отношению к обеим сторонам. Важно здесь не то,
что судья обратился к упрощенному определению
науки, и не то, что его рассуждение продолжало
общую тенденцию судебных решений против
креационизма. Важно, что он обратился к стандарту,
который даже креационисты были вынуждены признать
разумным. Судья смог пробиться через
пустозвонство обеих сторон.
К сожалению, судебный прецедент дела Макли-
на не прижился. В деле «Кицмиллер против
школьного округа Довер» (2005) решение судьи
основывалось на философски обработанном
определении науки, предложенном истцами с
благословения Национальной академии наук США.
Определение было «обработано» в том смысле, что
главная доктрина, «методологический
натурализм», не имеющая строгого философского
смысла, была специально сформулирована таким
образом, чтобы исключить теорию разумного
замысла и другие формы научного креационизма (Fuller
2007с: eh. 4)·
Философы задавали вопросы: почему
приверженность научной методологии требует
натурализма и почему приверженность натурализму должна
оставаться только методологической? Эти два
замечания были сделаны соответственно Шиком (Schick
2000) и Пиглиуччи (Pigliucci 2003)· «Натурализм»
обычно считается метафизической позицией,
разновидностью монизма, противостоящей
супернатурализму. Эта позиция исторически противостояла
монотеистическим взглядам потому, что
последние постулируют существование трансцендентного
34б
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
божества, что имеет следствием непростительный
дуализм. Эта позиция объединяет, например,
Спинозу и Дьюи как натуралистов, несмотря на
множество расхождений между ними по другим вопросам.
Однако приставка «методологический» должна
была смягчить удар, представив дело так, как
будто только научная деятельность — а не все аспекты
человеческого существования — предполагает
натурализм. Но это тоже неверно, если бросить
беспристрастный взгляд на метафизический реализм
(он же супернатурализм) в истории науки.
Неслучайно, что считающиеся ныне базовыми
научные концепты, такие как гравитация или
геном, предполагающие, что реальность имеет более
глубокий уровень, скрытый за внешним обликом,
были предложены теоретиками с сильными
теологическими воззрениями — Ньютоном и Менделем
соответственно (Fuller 2008). Фактически
ближайший семантический родственник
«методологического натурализма» в обычной философской
терминологии —нормативный
натурализм—подразумевает, что подлинно натуралистическому подходу
к науке пришлось бы принимать всерьез
исторический анамнез науки в том, что касается открытия
сущностей и процессов, которые меняли прежде
несомненные способы понимания эмпирической
реальности, что в свою очередь создает сложности
для обобщений насчет «Научного метода вообще»,
за исключением нескольких слабых индуктивных
принципов (Laudan 1987)· Хотя на судебном
процессе ожидается — и даже поощряется — стремление
сторон представить дело в наиболее выгодном для
них свете, справедливость требует выявлять
пустозвонство обеих сторон и пробиваться сквозь него
в равной мере. Этот аспект наследия Бэкона, в
котором встречаются наука и право, слишком редко
347
СТИВ ФУЛЛЕР
применяется в тех случаях, когда предполагается,
что истина на стороне того, кто громоздит
пустозвонство выше и погружается в него глубже.
Заключение: как импровизировать
на всемирно-исторической сцене
Выражение modus operandi, столь широко
популяризованное детективными телесериалами,
заслуживает большего значения в интеллектуальной жизни.
Оно предполагает, что понимание образа действий
агента дает доступ к его мотивам, если не к его
личности. Каков же тогда modus operandi искателя
истины? Например, следует ли верить тому, во что
верят крайне достойные и надежные люди? В таком
случае мои убеждения должны меняться, когда их
меняют эксперты. Или следует демонстрировать
уважение ко всем взглядам, особенно к тем,
которые находятся на концах спектра правдоподобия,
то есть которые явно маркированы как
принадлежащие меньшинству или большинству? В таком
случае я должен считать мое согласие с экспертным
мнением своим личным делом (которое все равно
в среднем подтвердится) и позволять другим
придерживаться любых других убеждений, пока они не
пытаются навязать их всем.
Ни та, ни другая позиция не кажется мне
удовлетворительной, потому что нет никаких оснований
думать, что истина имеет какое-то отношение
к моим убеждениям. Это не значит, что я
перестану верить в то, во что верю, или, подобно буддисту
или скептику, вообще перестану верить во
что-либо. И это совершенно точно не значит, что истина
абсолютно недоступна моему пониманию. Однако
я принимаю всерьез идею, что вера, понимаемая
348
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
как информированная ментальная диспозиция, —
только один из доступных нам способов доступа
(сколь угодно несовершенных) к истине. Другой,
порой даже более эффективный способ—отстаивать
ту позицию, в которую не веришь. Само собой
разумеется, вам будет нелегко принять этот мой
аргумент, если вы считаете романтическую идею
искренности обязательной частью modus operandi искателя
истины.
Но почему идея неискреннего искателя истины
интуитивно кажется такой невероятной? Тому есть
две главные причины.
Первая причина этой невероятности — наш
исходный эпистемический эгоизм: мы предполагаем,
что мы не дожили бы до шанса задать этот вопрос,
если бы большинство наших убеждений не были бы
истинными. С этой точки зрения большинство
высказываемых нами ложных утверждений — обман,
то есть утверждения, противоречащие нашим
убеждениям. В таком случае неискренность чаще всего
служит всего лишь краткой иронической
интерлюдией на общем эпистемически достоверном фоне
искренних убеждений. Хотя такая позиция нам,
конечно, льстит, в ее свете остается загадкой, почему
к истине всегда приходится стремиться, почему она
всегда так легко ускользает из нашей хватки.
Эпистемический эгоизм слишком самодоволен, чтобы
поддержать идею, что истина ищется, а не просто
«открывается свыше».
Вторая причина, по которой мы интуитивно
отшатываемся от неискренних поисков истины, в том,
что мы постоянно смешиваем вербальные
высказывания, следующие из наших убеждений, и
утверждения, которые мы готовы отстаивать публично.
Это смешение достигается всеохватной
категорией «интеллектуальной ответственности», которая
349
СТИВ ФУЛЛЕР
призывает нас говорить то, во что мы верим, и
верить в то, что говорим. Но в целях поиска истины
имеет значение только готовность отстаивать,
а в идеале доказать, то, что говорим — и не важно,
верим ли мы в это. Глубокий, но недооцененный
факт из истории эпистемологии: изобретатель
научного метода Фрэнсис Бэкон был по
образованию юристом, который считал эксперимент
инквизиторским «допросом» природы: характер — будь
то человека или не-человека — проявляется только
в ответах на вопросы инквизитора.
Я провожу строгое различие между моими
убеждениями и тем, что, по моему убеждению, должно
быть высказано. Это различие предполагает, что
знание—это коллективное предприятие, все члены
которого потенциально могут получить выгоду от
того, что кому-либо из них удастся достигнуть
истины или хотя бы приблизиться к ней. Однако из
этого не следует, что лучший способ этого
добиться—пытаться установить истину лично для себя как
непоколебимое убеждение, а потом выставить его
на всеобщее обозрение, чтобы оно могло
распространиться как вирус или «мем», по выражению
Ричарда Докинза. В случае особо глубоких или
сложных вопросов слишком много времени может
уйти на формирование убеждения, которое
захочется пропагандировать как истину. Но гораздо
большую потенциальную опасность представляют
убеждения, сформированные слишком быстро и
отстаиваемые слишком яро: они привлекают
последователей, но по неправильным причинам —
а именно из желания подстроиться под позицию,
которая потенциально достаточно сильна, чтобы
привлечь других —это так называемое стадное
поведение. Но как мы можем наилучшим образом
внести свой вклад в дело поиска знания? Мой ответ
350
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
таков: следует говорить то, что должно быть
сказано, в ситуации, когда вы находитесь в подходящей
позиции для того, чтобы это высказывать. Если
знание есть коллективное предприятие
неопределенной длительности, то каждый из нас играет
в нем проходную роль. Трудность в том, чтобы
разобраться в сюжете этой мыльной оперы.
Интеллектуальная история пишется именно так.
Персонажи вносят свой вклад в «общечеловеческий
разговор» (пользуясь термином Ричарда Рорти (Rorty
1979))» давая интересные и уместные ответы на
реплики других персонажей. Но как узнать, что это
случилось? Переверните страницу —или смотрите
в следующей серии! Важно ли, верил ли, скажем,
Кант в свои трансцендентальные аргументы или
Юм в свои скептические? Конечно, нет. Вполне
возможно, что Кант и Юм лгали или блефовали. Но
с эпистемологической точки зрения важно только
одно: что они спровоцировали других людей
ответить им таким образом, который позволил нам всем
приблизиться к истине. Это и делает их в
буквальном смысле великими философскими
актерами/акторами.
Итак, как определить, что следует говорить? Вот
удобная пошаговая инструкция:
ι. Что уже было сказано—особенно если это было
сказано хорошо и недавно? Ни в коем случае не
следует повторяться.
2. Что вы можете сказать важного, что еще не было
сказано раньше?
3- Из этого что вы можете позволить себе
высказать?
4- Из этого какие высказывания вы готовы
развивать дальше, преодолевая различные формы
сопротивления?
351
СТИВ ФУЛЛЕР
5· Из этого какие высказывания имеют
наибольшие шансы на общественное внимание,
участие и влияние?
6. Вот это и говорите—и удачи вам!
Если вас возмущает такой modus operandi, значит,
вам, вероятно, свойственна скрытая религиозная
потребность в ментальной прозрачности, чтобы
слова были окном прямо в душу. Такая
прозрачность всегда замутняла свободный критический
анализ. Публичность мысли — это нормально:
подкрепите свои слова чем-то видимым. Но
спрашивать с невинным видом «А вы правда верите
в то, что говорите?» — значит ужесточать условия
дискуссии, навязывая собеседнику немедленное
разрешение всех двусмысленностей, привходящих
условий и ограничений, которые могли бы сыграть
свою роль в более либеральном контексте
исследования.
В наши дни легко забывается, что в эпоху
Просвещения люди вовсе не стремились оценивать
слова по степени веры в них. Напротив, это был
золотой век иронии, ролевых игр и, разумеется,
скептицизма — в первую очередь, юмовского — в
отношении существования души, которая могла бы
произнести когерентное утверждение о вере.
Просвещение было столь противоречивым движением
в свое время по причинам, которые не слишком
отличаются от причин сегодняшних дискуссий вокруг
постмодернизма: и то и другое подвешивает веру
в установленный эпистемический авторитет, при
этом необязательно предлагая альтернативу.
Разница только в том, что сегодня место Ватикана
занимает Королевское научное общество, а критическая
функция чего-то под названием «Разум» сменилась
чем-то другим, называемым «Деконструкция».
352
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
Наиболее влиятельная школа в философии
науки XX века, логический позитивизм, также
настаивала на этом жестком различии между
прозрачностью разума и публичностью мысли. Для
позитивистов только последняя имела значение в науке. Это
привело их к (возможно, избыточной)
концентрации на роли проверки теорий, в идеале —в форме
экспериментальных гипотез. При всех своих
недостатках позитивисты ясно утверждали, что
предложить научную теорию — это совсем не то, что дать
клятву верности или религиозный обет. Молодой
попутчик позитивистов Карл Поппер превратил
эту мысль в общую философию «открытого
общества», на основании которой он критиковал Майкла
Полани и Томаса Куна и им подобных, за то, что они
понимают науку как сообщество, основанное на вере.
Эти абстрактные
социально-эпистемологические тезисы принимают конкретный вид в решении
Верховного суда США по делу «Эдварде против
Агиллара» (1987)» создавшему прецедент для
решения по делу Кицмиллера против теории разумного
замысла, о котором говорилось в предыдущем
разделе. В деле Эдвардса судьи решили, что самого
присутствия религиозной мотивации достаточно,
чтобы исключить теорию из программы
естественных наук в государственных школах. Для философа
это выглядит как очевидная генетическая ошибка
в рассуждении, особенно с учетом того, что
значительная часть современной науки была продуктом
исследований, движимых религиозными мотивами.
Однако судьи взяли под прицел именно
христианских фундаменталистов, которые отрицают
теорию Дарвина только потому, что она
противоречит описанию в Ветхом Завете божественного
акта Сотворения мира. Но в таком случае почему
бы просто не запретить преподавать лженауку,
353
СТИВ ФУЛЛЕР
вместо того чтобы беспокоиться о мотивах
нарушителей?
Как оказалось, с годами креационисты начали
принимать всерьез идею Фрэнсиса Бэкона о том,
что научный метод нейтрален к содержанию.
Другими словами, как только некая теория, будь она
религиозного или идеологического
происхождения, прошла определенные публичные испытания,
она становится научно респектабельной—неважно,
насколько это раздражает существующее научное
сообщество. Креационистам помогает тот факт, что
сегодняшние светские школьные системы
предполагают достоверность теории Дарвина. Из позиции
аутсайдера они отстаивают свое право на то, чтобы
их альтернативная теория преподавалась параллельно
с дарвиновской, а не вместо нее. Это, в свою очередь,
породило «разносторонний» подход в преподавании
биологии, воплотившийся в новом учебнике Expore
Evolution (Meyer et al. 2007), изданном
организацией Discovery Institute в Сиэтле. Даже самые
непримиримые оппоненты креационизма признают, что
их аргументы становится все труднее отрицать,
поскольку креационисты начинают играть по
правилам науки. Однако поскольку Конституция США
устанавливает разделение церкви и государства, эти
попытки научной честности могут быть оборваны
простой ссылкой на исходно религиозную
мотивацию «науки о творении».
В таком контексте версия креационизма, известная
как теория разумного замысла, особенно усложнила
жизнь американской юридической системе,
поскольку она представляет все свои аргументы в
научных терминах, часто опираясь на биологические
феномены, которые дарвинисты затрудняются
объяснить. Более того, специфическое внимание к
замыслу взывает к глубоким историческим регуля-
354
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
тивным идеалам науки, в особенности к тому, что
Лейбниц и Кант называли «интеллигибельностью
природы» — то есть к идее о том, что природа
устроена так, чтобы мы могли ее понять. Наиболее
очевидный источник такого предположения — что
люди были созданы по образу и подобию
божественного творца: мы можем систематически
осмысливать реальность потому, что наши разумы
есть микроверсии разума Создателя. Разумеется,
предположение—это еще не доказательство. И тем
не менее в те времена, когда фильмы вроде
«Матрицы» и философы вроде Дэвида Чалмерса
популяризировали идею, что реальность может быть
произведением сложного космического
компьютера, а симуляции все больше заменяют собой
лабораторные и полевые исследования как место
исходного научного исследования, «Гипотеза Бога»
в версии разумного замысла имеет некоторое
интуитивное правдоподобие.
Здесь и находит применение мой собственный
modus operandi как искателя истины. Я согласился
служить экспертным свидетелем по делу Кицмилле-
ра — первому судебному процессу в США,
подвергшему теорию разумного замысла проверке на
пригодность для преподавания в общем курсе
естественных наук. Другими словами, мое свидетельство
касалось аргументов тех, кто считал, что разумному
замыслу не место в курсе естественных наук. Как
университетский профессор, имеющий постоянный
контракт, погруженный в историю, философию
и социологию науки, я был хорошо подготовлен
к такой задаче и относительно неуязвим для любых
возможных негативных последствий, которые до сих
пор никогда не выходили за пределы личных
оскорблений. Но зная о подозрительном отношении к
теории разумного замысла как к «перелицованному»
355
СТИВ ФУЛЛЕР
креационизму, я не сомневался, что это будет
совершенно неблагодарным занятием. В то же время я не
имел сильных личных убеждений по вопросу о том,
была ли жизнь «разумно сотворена» (в каком-то
смысле) или, как утверждают дарвинисты, является
продуктом «вероятностного процесса» (в каком-то
смысле). Я скорее склонялся ко второму варианту.
Поэтому мне было действительно интересно, как
дарвинисты ответят на серьезную защиту включения
теории разумного замысла в школьную программу.
Как оказалось, к моему удивлению, аргументы,
приведенные против теории разумного замысла,
были довольно слабыми —по крайней мере с
философской точки зрения. Разумеется, религиозные
мотивы сторонников разумного замысла было
трудно не заметить, и этого оказалось достаточно
для судьи, который просто поднял решение по делу
Эдвардса, определяющее, что религиозность в
науке равнозначна смертному греху.
Аргументы противников разумного замысла
оказались такими философски слабыми, потому что
они постоянно опирались на подход к истории
науки, в котором «победитель получает все». То есть
дарвинизм, в силу его доминирования в биологии
в настоящий момент, имеет исключительное право
интерпретировать все исследования этой
дисциплины в свою пользу, даже если эти исследования
проводились (и теперь могут быть использованы)
противниками дарвинизма. Более того, без этой
лицензии на эпистемическую исключительность
дарвинизм подвержен давно знакомым вопросам
философии науки о том, как частные свидетельства из
разнородных источников могут быть использованы
в поддержку крайне общих утверждений. В
частности, как результаты, произведенные в
искусственных условиях современных лабораторий или на
356
ГЛАВА 4. ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА ЖИЗНИ
компьютере, могут «служить подтверждением»
событий и процессов, которые происходили во тьме
веков, особенно когда самое близкое, что у нас есть
к прямым доказательствам эволюционного
прошлого—ископаемые, требует интерпретации с
помощью радиометрических данных, которые сами
являются спорными? Разумеется, низкоуровневые
споры об интерпретациях регулярно возникают во
всех естественных науках, имеющих отношение
к проблеме эволюции. Однако похоже, что
дарвинисты, заслужив одобрение и получив поддержку
юридической системы США, хотят не дать этим
точкам напряжения внутри теории слиться и
породить альтернативу дарвинисткой ортодоксии.
Национальная академия наук США, таким образом,
принимает метафизическую позицию, лежащую
в основе эволюции — натурализм, как условие
любого научно разрешенного возражения.
Исключительно неприятная тенденция нынешнего спора —
называть наиболее научно подкованных
сторонников разумного замысла «лжецами», что избавляет
от необходимости отвечать на их аргументы,
предполагая, что даже их собственные сторонники в них
не верят. Но с каких это пор наука оказалась в
исповедальне, где я не обязан принимать ваши
аргументы всерьез, если они не поданы под соусом
правильных искренне исповедуемых убеждений?
Одно из немногих исторических обобщений, на
котором сходятся все философы науки, — то, что
Хилари Патнэм (Putnam 1978) изначально назвал
«пессимистической метаиндукцией»: все теории
достаточно широкого объяснительного охвата рано
или поздно оказываются эмпирически
опровергнутыми обычно по причине излишнего охвата. С этой
точки зрения дарвинисты только оттягивают
неизбежное. Разумеется, это не делает теорию разумного
357
СТИВ ФУЛЛЕР
замысла истинной, но она может оказаться в
правильной позиции для того, чтобы указать на
глубокие системные ошибки в дарвиновской теории,
которые сами дарвинисты не склонны замечать, не
говоря уже исследовать. Если это так, то, раз уж поиск
истины есть коллективное предприятие, по крайней
мере частично отделимое от текущей научной
моды, те, кто считает себя частью этого
предприятия, должны делать то, что должно быть сделано,
чтобы обеспечить диалектическое преодоление
дарвинизма. Возможно, это роль, которая всегда
была предназначена мне, а теория разумного
замысла послужит мне реквизитом.
Резюме
СОЦИОЛОГИЯ интеллектуальной жизни»
организована вокруг трех центральных
понятий, стоящих за гумбольдтовским
идеалом современного университета. Они
касаются природы институции как таковой (глава ι), ее
идеологического обоснования (глава 2) и того типа
людей, который она пытается производить (глава з).
Глава 4 посвящена защите важного, но повсеместно
презираемого аспекта интеллектуальной жизни—ее
импровизационной природы.
Глава ι представляет университет как
институциональное решение современной проблемы знания
в обществе—а именно как знание может иметь
универсальную связь с реальностью (как «наука») и все
же быть универсально доступным (как
«демократия»). Для Платона это не проблема, потому что
для него наука была по природе своей
недемократичной, то есть элитной собственностью, которая
наделяла властью над другими. В
противоположность этому Гумбольдт переизобрел университет
как социологический коррелят кантовскому
философскому образу Просвещения, в котором доступ
к универсальному знанию необходим каждому
индивиду для завершения его или ее личностного
развития. Однако за последние сто лет гумбольд-
товский проект был подорван отчуждением знания
359
СТИВ ФУЛЛЕР
от человека — сначала дисциплинарной
специализацией, а потом инструментализацией знания
в соответствии с различными требованиями рынка.
Во многих отношениях университеты были
соучастниками этих изменений по мере того, как их
секулярная власть росла и они превращались в
расчетные палаты для раздачи формальных
квалификаций и других форм эпистемической авторизации.
Более того, наиболее популярная академическая
идеология последней четверти века —
постмодернизм—сама по себе является антиуниверситетским
движением, которое предоставило камуфляж для
переориентации институции на рынок. Моя
защита гумбольдтовского университета вращается
вокруг рассмотрения этой институции в качестве
производителя знания как общественного блага
путем «творческого разрушения социального
капитала». Другими словами, исследовательский
императив академии демократизируется ее же
преподавательским императивом путем перераспределения
преимуществ, которые новое знание изначально
сообщает его производителям. Это поддерживает
более общую историческую роль университета как
агента affirmative action в обществе в целом. Но этот
образ может реализоваться только на фоне
четкого представления об «академической свободе»,
которая позволяет и членам академии, и
студентам свободно вести исследования в компании друг
друга.
Глава 2 сосредоточена главным образом на
социологической судьбе философии в англоговорящем
мире в XX веке. Однако эта тема встроена в более
общую дискуссию о социальных условиях
производства знания, или «социальной эпистемологии».
Идея философии как фундаментальной
академической дисциплины, из которой вырастают частные
36°
РЕЗЮМЕ
науки, является идеологическим изобретением,
ассоциируемым с гумбольдтовским университетом,
первыми защитниками которого были немецкие
идеалисты, наследники Канта. (Прежде эту роль
выполняла теология.) Этот часто упускаемый из
виду факт ясно просматривается в величественной
«Социологии философий» Рэндалла Коллинза
(Collinsi998), где сильные и слабые стороны
философий изучаются с оглядкой на построение
альтернативной социологии философии, которая
сталкивала бы канонические истории с
ценностно-ориентированным, или «аксиологическим» анимусом
дисциплины, что позволило бы рассмотреть более
широкий спектр социальных влияний на
философию. Эта поправка позволяет представить
критический взгляд на глобальную победу англоязычных
тенденций в дисциплине над немецкоязычными за
последние сто лет. Вкратце, немецкие идеи обычно
переводились в английские термины, иногда —
благодаря двум мировым войнам — самими их
создателями с сопутствующими заявлениями о
превосходстве английской «ясности» как
философского языка, что представляет собой ироническое эхо
более ранних немецких претензий на «глубину» их
языка. С социологической точки зрения этот сдвиг
отражает деградацию философии: из дисциплины,
которая служит «основанием» для того, что может
и должно быть сделано, она превращается в
дисциплину, которая всего лишь «проясняет» то, что уже
сделано или скоро будет сделано. В конце концов,
стилистическая невнятность, ассоциировавшаяся
с претензиями на «глубину», имеет некоторый
смысл, если представить себе, что исследование
находится еще на относительно ранних стадиях.
С гумбольдтовской позиции, англоязычное
стремление к ясности как к основному достоинству
361
СТИВ ФУЛЛЕР
философии подразумевает, что эта дисциплина
отреклась от своей прерогативы в пользу отдельных
наук. Конечно, «неогумбольдтианец» вроде Хайдег-
гера сказал бы, что поворот к ясности—это верный
симптом умирания философии. Тем не менее
относительно богатая американская академическая
среда позволяет легко закрыть глаза на все это,
особенно когда снижение социоэпистемического статуса
философии подается в обертке очередного
экзотического технического интереса.
В главе з рассматривается роль интеллектуала
как человека явно академического происхождения,
но необязательно академической судьбы. Сначала
я обозначаю интеллектуала как шекспировского
шута, который может говорить правду власть
имущим, потому что он выступает исключительно по
приказу суверена, не обладая никакой собственной
властью. Более современные формы аналогичного
положения дел — система пожизненных
академических постов, а также рыночный успех такого
рода, который достается популярным, но
уважаемым авторам, таким как Эмиль Золя, для которого,
в сущности, и было изобретено слово
«интеллектуал». Другими словами, социоэкономическим
условием устойчивой интеллектуальной жизни
является «право на ошибку». Золя был таким парадиг-
мальным интеллектуалом, потому что со строго
юридической точки зрения его известнейшее эссе
«Я обвиняю!», бросающее обвинение французскому
Военному министерству во время дела Дрейфуса,
было необоснованным, но его подозрения
впоследствии оправдались. Однако маловероятно, чтобы
дело было бы заново открыто, если бы кто-то
вроде Золя из своей привилегированной позиции не
выступил бы вперед, посеяв необходимые зерна
сомнения. Практика Золя как интеллектуала может
362
РЕЗЮМЕ
рассматриваться как микрокосм того, что
университеты делают для общества в целом — а именно
перераспределение авторитета и, в конечном итоге,
власти в сторону большего равенства. Но
академики постоянно подрывают эту роль на метауровне,
когда относятся к обладанию идеей как к вопросу
рецепции (то есть как к продукту социального
заражения), а не производства (то есть как к
результату активного оценивания имеющихся свидетельств).
Хотя гумбольдтовский идеал Lehrfreiheit («свобода
учить») должен был подчеркнуть предвзятый
характер преподавания, на практике он разрешает
достаточно пассивное воспроизведение
установленных убеждений. Эта повсеместная нехватка
интеллектуального риска среди академиков может
объясняться двумя способами: либо они боятся
возможных последствий своих публичных
высказываний, либо, что проще, тяготеют к внутренним
закрытым проблемам дисциплины. Во времена
изобилия эти два мотива может быть трудно различить,
но я выдвигаю против обоих этику «негативной
ответственности»: можно обоснованно обвинить
в бездействии того, кто мог своими действиями
принести существенное благо другим, не нанеся
при этом вреда себе. Подлинная нормативная
мерка интеллектуала — соответствие этой этике.
Пьер Бурдье был академическим социологом,
который со временем стал рассматривать свои права
и обязанности именно в таких терминах.
Глава 4 воспевает и раскрывает центральное
место импровизации в интеллектуальной жизни. Если
жизнь ума должна переводиться в социальное
действие, на основании которого создаются и
меняются институции, тогда практика образованного
публичного мышления — включая то, что часто
называют пустозвонством — должна поощряться
3^3
СТИВ ФУЛЛЕР
и воспроизводиться, а вместе с ней — и
соответствующие ответы на кажущиеся ошибки и
преувеличения, неизбежно возникающие в такой
практике. В этом отношении публикация и рецепция
академического знания могут многому научиться
у гетерогенных стандартов, применяемых СМИ.
Но, в любом случае, интеллектуальная жизнь в
целом страдает, пока первоначальные затраты на
выдвижение или критику утверждений остаются
слишком высокими. В результате оказывается слишком
легко преклоняться перед ортодоксией и
отмахиваться от ее противников. Эта глава и вся книга
завершаются предположением, что для дела истины
в долгосрочной перспективе лучше высказывать не
то, во что веришь, а то, что наилучшим образом
можно высказать и отстаивать из имеющейся
позиции. Эта контринтуитивная максима резюмирует
импровизационную природу интеллектуальной
жизни, в то же время иллюстрируя глубокий эпи-
стемический вывод: все не то, чем кажется.
Библиография
Aron, R. (1957). The Opium of the Intellectuals. Garden City,
NY: Doubleday.
Austin, J. L. (1961). Philosophical Papers. Oxford: Oxford
University Press.
Barry, A. and D. Slater (2002). 'Technology, Politics and the
Market: an Interview with Michel Callon', Economy and
Society, 31(2): 285-306.
Bauman, Z. (1987). Legislators and Interpreters. Cambridge:
Polity.
Beck, U., A. Giddens and S. Lash (1994). Reflexive
Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social
Order. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Bell, D. (1966). The Reform of General Education. New York:
Doubleday.
Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society. New York:
Basic Books. (Русский перевод: Белл Д. Грядущее
постиндустриальное общество: опыт социального
прогнозирования. M.: Academia, 2004).
Berkson, W. and J. Wettersten (1984). Learningfrom Error: Karl
Popper's Psychology of Learning. La Salle, IL: Open Court.
Bernard, J. and T. Kuhn (1969-70). Correspondence. 29
November to 10 February. Thomas Kuhn Papers, MC 240,
Box 4, Folder 7, MIT Archives and Special Collections.
365
СТИВ ФУЛЛЕР
Bernstein, В. (i971—77)* Class, Codes, and Control: Theoretical
Studies towards a Sociology of Language, 3 vols. London: Rout-
ledge & Kegan Paul.
Bloom, H. (1973). The Anxiety of Influence. Oxford: Oxford
University Press.
Bloor, D. (1976). Knowledge and Social Imagery. London: Rout-
ledge.
Bourdieu, P. (1991). The Political Ontology of Martin Heidegger.
Cambridge: Polity. (Русский перевод: Бурдье П.
Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М.: Прак-
сис, 2003.)
Bourdieu, P. (i999 [^ЭЗ])· <^ге Weight of the World. Oxford:
Polity Press.
Bowles, S. and H. Gintis (1976). Schooling in Capitalist America.
New York: Basic Books.
Boyd, R. and P. Richerson (1985). Culture and the Evolutionary
Process. Chicago: University of Chicago Press.
Braunstein, P. and M.W. Doyle (eds) (2001). Imagine Nation:
The American Counter-Culture of the ig6os and igjos.
London: Routledge.
Bruner, J. (1983). In Search of Mind: Essays in Autobiography. New
York: Harper &Row.
Bruner, J., J. Goodnow and G. Austin (1956). A Study of
Thinking. New York: John&Wiley & Sons.
Buhler, K. (1930 [1919]). The Mental Development of the Child.
New York: Harcourt, Brace & Company.
Cahn, S. (ed.) (1995). The Affirmative Action Debate. London:
Routledge.
Callebaut, W. (ed.) (1993). Taking the Naturalistic Turn.
Chicago: University of Chicago Press.
366
БИБЛИОГРАФИЯ
Cassirer, Ε. (ΐ95°)· The Problem of Knowledge: Philosophy, Science,
and History Since Hegel. New Haven, CT: Yale
University Press.
Cavell, S. (1992). The Senses of Waiden. Chicago: University of
Chicago Press.
Chisholm, R. and W. Sellars (1957). 'Intentionality and the
Mental: Chisholm-Sellars Correspondence on
Intentionality', in H. Feigl and W. Sellars (eds), Minnesota Studies
in the Philosophy of Science^ vol. II. Minneapolis:
University of Minnesota Press, pp. 521-539.
Chomsky, N., I. Katznelson, R. Lewontin, D. Montgomery,
L. Nader, R. Ohmann, R. Siever, I. Wallerstein and
H. Zinn (1997). The Cold War and the University. New
York: New Press.
Cohen, LB. (1985). Revolutions in Science. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
Cohen, L.J. (1986). The Dialogue of Reason. Oxford: Clarendon
Press.
Cohen, M. and E. Nagel (1934). An Introduction to Logic and the
Scientific Method. New York: Routledge & Kegan Paul.
(Русский перевод: Коэн M. P., Нагель Э. Введение
в логику и научный метод. М.: Симпозиум, 20Ю.)
Colllini, S. (1979)· Liberalism and Sociology. Cambridge:
Cambridge University Press.
Collins, R. (1979). The Credential Society. New York: Academic
Press.
Collins, R. (1998). The Sociology of Philosophies: A Global Theory of
Intellectual Change. Cambridge, MA: Harvard University
Press. (Русский перевод: Коллинз P. Социология
философий: глобальная теория интеллектуального изменения.
Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.)
3^7
СТИВ ФУЛЛЕР
Collins, R. (2000). 'Reflexivity and Embeddedness in the
History of Ethical Philosophies', in Kusch (2000), pp. 155-178.
Collins, R. (2004). Interaction Ritual Chains. Princeton:
Princeton University Press.
Conant, J.B. (1970). My Several Lives: Memoirs of a Social
Inventor. New York: Harper & Row.
Cooper, D.E. (1996a). World Philosophies: An Historical
Introduction. Oxford: Blackwell.
Cooper, D.E. (1996b). 'Verstehen, Holism and Fascism', in
A. O'Hear (ed.), Verstehen and Humane Understanding
(pp. 95-108). Cambridge: Cambridge University Press.
Cusset, F. (2008). French Theory: How Foucault, Derrida, Deleuze
& Co. Transformed the Intellectual life of the United States.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Dahrendorf, R. (1970). 'The Intellectual and Society: The
Social Function of the Fool in the 20th century', in P. Rieff
(ed.), On Intellectuals (pp. 53-56). Garden City, NY: Dou-
bleday.
Dahrendorf, R. (1995). LSE. Oxford: Oxford University Press.
Dawkins, R. (1976). The Selfish Gene. Oxford: Oxford
University Press. (Русский перевод: Докинз P. Эгоистичный
ген. M.: ACT, CORPUS, 2013.)
Dawkins, R. (1983). The Extended Phenotype. Oxford: Oxford
University Press. (Русский перевод: Докинз P.
Расширенный фенотип: длинная рука гена. М.: CORPUS,
Астрель, 20io).
Delaney, С. (ed.) (1977)· The Synoptic Vision: Essays in the
Philosophy of Wilfrid Sellars. South Bend, IN: Notre Dame
University Press.
Dennett, D. (1995). Darwin's Dangerous Idea. New York: Simon
and Schuster.
368
БИБЛИОГРАФИЯ
Descombes, V. (1980). Modern French Philosophy. Cambridge:
Cambridge University Press. (Русский перевод: Декомб В.
Современная французская философия. М.: Весь мир,
2000.)
Diggins, J. Р. (1994)· The Promise of Pragmatism. Chicago:
University of Chicago Press.
Drahos, P. (1995). 'Information Feudalism in the Information
Society', The Information Society, 11: 209-222.
Dummett, M. (1993). The Origins of Analytic Philosophy. London:
Duckworth.
Edwards, P. (1996). The Closed World: Computers and the Politics
of Discourse in Cold War America Cambridge, MA: MIT
Press.
Eisenstein, Ε. (1979). The Printing Press as an Agent of Change.
Cambridge: Cambridge University Press.
Elster, J. (1981). 'Snobs', London Review of Books, 3 (20): 10-12.
Elster, J. (1983). Sour Grapes: Studies in the Subversion of
Rationality. Cambridge: Cambridge University Press.
Elster, J. (1998). 'Deliberation and Constitution Making', in
J. Elster (ed.), Deliberative Democracy (pp. 97-102).
Cambridge: Cambridge University Press.
Feyerabend, P. (1970). 'Consolations for the Specialist', in
I. Lakatos and A. Musgrave (eds), Criticism and the
Growth of Knowledge (pp. 197-229). Cambridge:
Cambridge University Press.
Feyerabend, P. (1975). Against Method. London: Verso. (Русский
перевод: Фейерабенд П. Против методологического
принуждения. Очерк анархистской теории познания //
Фейерабенд П. Избранные работы по методологии
науки. М.: Прогресс, 1986.)
Feyerabend, P. (i979)· Science in a Free Society. London: Verso.
(Русский перевод: Фейерабенд П. Наука в свободном
3^9
СТИВ ФУЛЛЕР
обществе // Фейерабенд П. Избранные работы по
методологии науки. М.: Прогресс, 1986.)
Frank, A.G. (1997)· Re-Orient. Berkeley: University of
California Press.
Frankfurt, H. (2005). On Bullshit. Princeton: Princeton
University Press. (Русский перевод: Франкфурт Г. К вопросу
о брехне. М.: Европа, 2θθ8.)
Franklin, J. (2001). The Science of Conjecture: Evidence and
Probability before Pascal. Baltimore: Johns Hopkins
University Press.
Frisby, D. (1983). The Alienated Mind: The Sociology of Knowledge
in Germany, igi8-iggg London: Routledge.
Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. New
York: Free Press. (Русский перевод: Фукуяма Φ.
Конец истории и последний человек. М.: Ермак; ACT,
2005.)
Fuller, S. (1985)· 'Bounded Rationality in Law and Science',
PhD in History and Philosophy of Science: University
of Pittsburgh.
Fuller, S. (1988). Social Epistemology. Bloomington: Indiana
University Press.
Fuller, S. (1993 [1989]). Philosophy of Science and Its Discontents 1
2nd edn. New York: Guilford Press.
Fuller, S. (1995). 'Is there Life for Sociological Theory after the
Sociology of Scientific Knowledge?' Sociology, 29:159-166.
Fuller, S. (1996). 'Recent Work in Social Epistemology',
American Philosophical Quarterly, 33: 149-166.
Fuller, S. (1997). Science. Milton Keynes: Open University Press.
Fuller, S. (1998). 'Divining the Future of Social Theory: From
Theology to Rhetoric via Social Epistemology', European
Journal of Social Theory, 1: 107-126.
370
БИБЛИОГРАФИЯ
Fuller, S. (2000a). The Governance of Science: Ideology and the
Future of the Open Society. Milton Keynes: Open University
Press.
Fuller, S. (2000b). Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our
times. Chicago: University of Chicago Press.
Fuller, S. (2001). 'Looking for Sociology after 11 September',
Sociological Research On-Line, 6(3): http://www.socreson-
line. org. uk/6/3/fuller. html
Fuller, S. (2002a). Knowledge Management FoundationsWohum,
MA: Butterworth-Heinemann.
Fuller, S. (2002b). 'Making Up the Past: A Response to Shar-
rock and Leudar', History of the Human Sciences, 15(4):
115-123.
Fuller, S. (2003). Kuhn vs Popper: The Struggle for the Soul of
Science. Cambridge: Icon Books.
Fuller, S. (2005). The Intellectual. Cambridge: Icon Books.
Fuller, S. (2006a). The New Sociological Imagination. London:
Sage.
Fuller, S. (2006b). The Philosophy of Science and Technology
Studies. NewYork: Routledge.
Fuller, S. (2007a). The Knowledge Book: Key Concepts in
Philosophy, Science and Culture. Stocksfield: Acumen.
Fuller, S. (2007b). New Frontiers in Science and Technology Studies.
Cambridge: Polity Press.
Fuller, S. (2007c). Science vs Religion? Intelligent Design and the
Problem of Evolution. Cambridge: Polity Press.
Fuller, S. (2008). Dissent over Descent: Intelligent Design's
Challenge to Darwinism. Cambridge: Icon Books.
Fuller, S. and J. Collier (2004 [1993])· Philosophy, Rhetoric and
the End of Knowledge, 2nd edn. (Orig. 1993, by Fuller).
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
З71
СТИВ ФУЛЛЕР
Galison, P. and D. Stump (eds) (1996). The Disunity of Science.
Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Gane, M. (1988). On Durkheim's Rules of the Sociological Method.
London: Routledge.
Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic
Books. (Русский перевод: Гирц К. Интерпретация
культур. М.: РОССПЭН, 2004)
Geertz, С. (1995). Aßer the Fact: Two Countries, Four Decades, One
Anthropologist.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Gellner, E. (1959). Words and Things: A Critical Account of
Linguistic Philosophy and a Study in Ideology. London:
Victor Gollancz. (Русский перевод: Гелленр Э. Слова
и вещи. М.: Издательство иностранной литературы,
1962.)
Gellner, Ε. (1992)· Reason and Culture: The Historic Role of
Rationality and Rationalism. Oxford: Blackwell.
Gibbons, M., Limoges, C., Nowothy, H., Schwartzman, S.,
Scott, P., Trow, M. (1994). The New Production of
Knowledge. London: Sage.
Giddens, A. (1976). New Rules of the Sociological Method. London.
Hutchinson.
Giere, R. (1996). 'From Wissensschaßliche Philosophie to
Philosophy of Science', in R. Giere and A. Richardson (eds),
Origins of Logical Empiricism (pp. 335-354). Minneapolis:
University of Minnesota Press.
Gigerenzer, G. (1999). Simple Heuristics that Make Us Smart.
Oxford: Oxford University Press.
Gladwell, M. (2000). The tipping Point. New York: Little and
Brown. (Русский перевод: Гладуэлл M. Переломный
момент. M.: Альпина Паблишер, 2θΐ2.)
З72
БИБЛИОГРАФИЯ
Glaser, В. and A. Strauss (1967). The Discovery of Grounded
Theory. Chicago: Aldine.
Glover, J. (1984). What Kind of People Should There Be? Har-
mondsworth: Penguin.
Golan, T. (2004). Laws of Men and Laws of Nature: The History of
Scientific Expert Testimony in England and America.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Goldgar, A. (1995). Impolite Learning: Conduct and Community in
the Republic of Letters, 1680-1750. New Haven, CT: Yale
University Press.
Goldman, A. I. (1986). Epistemology and Cognition. Cambridge,
MA: Harvard University Press.
Goldman, A. I. (1992). Liaisons: Philosophy Meets the Cognitive
and Social Sciences. Cambridge, MA: MIT Press.
Goldman, A. I. (1999). Knowledge in a Social World. Oxford:
Oxford University Press.
Goodson, I. (1999). 'The educational researcher as a public
intellectual', British Educational Research Journal, 25: 277-297.
Gould, S.J. (1981). The Mismeasure of Man. New York: Norton.
Gouldner, A. (1970). The Coming Crisis in Western Sociology. New
York: Basic Books. (Русский перевод: Гоулднер Α.
Наступающий кризис западной социологии. СПб.:
Наука, 2003.)
Gouldner, Α. (i979)· €^ie Future of the Intellectuals and the Rise
of the New Class. London: Macmillan.
Grenfell, M. (2004). Pierre Bourdieu: Agent Provocateur. London:
Continuum.
Grenfell, M. (ed.) (2008). Pierre Bourdieu: Key Concepts. Stocks-
field: Acumen.
Grundmann, R. and N. Stehr (2001). 'Why is Werner Sombart
not part of the core of classical sociology?' Journal
of Classical Sociology у ι: 257-287.
373
СТИВ ФУЛЛЕР
Habermas, J. (1971 ^9^4) · Knowledge and Human Interests.
Boston, MA: Beacon.
Hacking, I. (1975). Why Does Language Matter to Philosophy?
Cambridge: Cambridge University Press.
Hacking, I. (2002). Histoncal Ontology. Princeton: Princeton
University Press.
Hacohen, M. (2000). Karl Popper: The Formative Years, igo2-iQ45
Cambridge: Cambridge University Press.
Haraway, D. (1990). Simians, Cyborgs and Women. London: Free
Association Books.
Haraway, D. (1997). Modest Witness@Second Millenium. London:
Routledge.
Hawking, S. (1988). A Brief History of Time. New York: Bantam.
(Русский перевод: Хокинг С. Краткая история
времени: от Большого взрыва до черных дыр. М.: Амфора,
2008.)
Heidelberger, M. (2004). Nature from Within. Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press.
Herf, J. (1984). Reactionary Modernism. Cambridge: Cambridge
University Press.
Hinde, J. (1999). 'Patents provide universities with slender
returns', Times Higher Education Supplement, 5 February,
p. 4.
Hirsch, F. (1977). Social Limits to Growth. London: Routledge &
Kegan Paul.
Hirst, P. (1975) Durkheim, Bernard and Epistemology. London:
Routledge.
Horowitz, D. (2006). The Professors.Washington, DC: Henry
Regnery.
Horowitz, D. (2007). Indoctrination U.: The Leß's War against
Academic Freedom. New York: Encounter Books.
374
БИБЛИОГРАФИЯ
Husserl, Ε. (ΐ954 [^З?])· t^ie Crisis of the European Sciences and
Transcendental Phenomenology. Evanston, IL:
Northwestern University Press. (Русский перевод: Гуссерль Э.
Кризис европейских паук и трансцендентальная
феноменология. СПб: Владимир Даль, 2004.)
Hylton, P. (i99°)· Russell, Idealism, and the Emergence of Analytic
Philosophy. Oxford: Clarendon Press.
Jacob, M. and T. Hellstrom (eds) (2000). The Future of
Knowledge Production in the Academy. Milton Keynes: Open
University Press.
Johnson, D. (2005). 'British Intellectual Life Today', The New
Criterion, 24: 9, September.
Jones, R.A. (1994). "The Positive Science of Ethics in France:
German Influences on De La Division Du Travail^
Sociological Forum, 9: 37-57.
Judt, T. (1994). Past Imperfect: French Intellectuals 1^44-1^6.
Berkeley: University of California Press.
Kimball, R. (1990). Tenured Radicals. New York:
HarperCollins.
Kitch, E. (1980). "The law and the economics of rights in
valuable information', The Journal of Legal Studies, 9: 683-723.
Klemperer, V. (2000). The Language of the Third Reich. London:
Athlone.
Kolakowski, L. (1972). Positivist Philosophy: From Hume to the
Vienna Circle. Harmondsworth: Penguin.
Krause, Ε. (1996). The Death of the Guilds: Professions, States, and the
Advance of Capitalism. New Haven: Yale University Press.
Kuhn, T.S. (1970 [1962]). The Structure of Scientific Revolutions τ
2nd edn. Chicago: University of Chicago Press.
(Русский перевод: Кун Т. Структура научных революций.
M.: Прогресс, 1975·)
375
СТИВ ФУЛЛЕР
Kuhn, T. S. (1977a). The Essential Tension. Chicago: University
of Chicago Press.
Kuhn, T. S. (1977b). Letter to Arnold Thackray, 7 April, in
Thomas Kuhn Papers, MC 240, Box 12, Folder 1. MIT Archives
and Special Collections.
Kuklick, B. (1984). 'Seven Thinkers and How They Grew', in
R. Rorty, J. B. Schneewind and Q. Skinner (eds),
Philosophy in History (pp. 125-140). Cambridge: Cambridge
University Press.
Kuklick, B. (2001). A History of Philosophy in America. Oxford:
Oxford University Press.
Kusch, M. (1995). Psychologism. London: Routledge.
Kusch, M. (1999). Psychological Knowledge: A Social History of
Philosophy. London: Routledge.
Kusch, M. (ed.) (2000). The Sociology of Philosophical Knowledge.
Dordrecht: Kluwer.
Kusch, M. and P. Lipton (eds) (2002) Special Issue on
Testimony, Studies in History and Philosophy of Science, Part A.
33(2): 209-423.
Lafontaine, Ο. (2θθθ). The Heart Beats on the Left. Cambridge:
Polity.
Latour, В. (1987). Science in Action. Milton Keynes: Open
University Press. (Русский перевод. Латур Б. Наука в
действии: следуя за учеными и инженерами внутри
общества. СПб.: Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге, 2013.)
Latour, В. (1997)· Ά Few Steps toward an Anthropology of the
Iconoclastic Gesture', Science in Context, 10: 63-83.
Latour, В. (2002). 'Gabriel Tarde and the End of the Social',
in P. Joyce (ed.), The Social in Question. London:
Routledge.
З76
БИБЛИОГРАФИЯ
Latour, В. and S. Woolgar (1986 [1979]). Laboratory Life, 2nd
edn. Princeton: Princeton University Press.
Laudan, L. (1987). 'Progress or Rationality? The Prospects for
Normative Naturalism', American Philosophical Quarterly,
24: 19-ЗЗ·
Lave, J. and Ε. Wenger (1991)· Situated Learning. Cambridge:
Cambridge University Press.
Lehman, D. (1991). Signs of the Times: Deconstruction and the Fall
of Paul De Man. London: Andre Deutsch.
Lessig, L. (2001). The Future of Ideas: The Fate of the Commons in
a Connected World. New York: Random House.
Lilla, M. (2001). The Reckless Mind: Intellectuals in Politics. New
York: New York Review Press.
Locke, J. (1959 [1690]). 'Epistle to the Reader', An Essay
Concerning Human Understandings vol. 1. New York:
Dover.
Lomborg, B. (2001). The Sceptical Environmentalist.Cambridge:
Cambridge University Press.
Lutz, M. (1999). Economics for the Common Good. London: Rout-
ledge.
Lynch, W. (2001). Solomon's Child: Baconian Method in the Early
Royal Society of London. Palo Alto, CA: Stanford
University Press.
Lyotard, J.-F. (1983 [1979]). The Postmodern Condition.
Minneapolis: University of Minnesota Press. (Русский
перевод: Лиотар Ж.-Φ. Состояние постмодерна. СПб.:
Алетейя, 1998 (2016).)
Maclntyre, Α. (1984 [^Э1])· After Virtue, 2nd edn. South Bend,
IN: Notre Dame University Press.
Mannheim, K. (1936 [1929]). Ideology and Utopia. New York:
Harcourt Brace & World.
377
СТИВ ФУЛЛЕР
Marcus, G. and Fischer, M. (1986). Anthropology as Cultural
Critique. Chicago: University of Chicago Press.
McCumber, J. (2001). Time in the Ditch: American Philosophy in
the McCarthy Era. Evanston, IL: Northwestern
University Press.
McGuire, W. and D. Papageorgis (1961). "The Relative Efficacy
of Various Prior Belief-Defense in Producing Immunity
against Persuasion', Journal of Abnormal and Social
Psychology, 62: 327-337.
Menand, L. (2001). The Metaphysical Club. New York: Farrar,
Straus and Giroux.
Merz, J. T. (1965 [1896-1914]). A History of European Thought in
the igth Century, 4 vols. New York: Dover.
Metzger, W. (1955). Academic Freedom in the Age of the University.
New York: Random House.
Meyer, S. Minnich, S., Moneymaker, J., Nelson, P., Seelke, R.
(2007). Explore Evolution: The Arguments for and against
Neo-Darwinism. Melbourne, Australia: Hill House.
Mirowski, P. (2001). Machine Dreams: Economics Becomes a
Cyborg Science. Cambridge: Cambridge University Press.
Murray, M. (1973). 'Heidegger and Ryle: Two Versions of
Phenomenology', Review of Metaphysics ^ 27: 88-111.
Nader, L. (1997). 'The Phantom Factor: Impact of the ColdWar
on Anthropology', in Chomsky et al. (1997), pp. 106-146.
Noelle-Neumann, E. (1982). The Spiral of Silence. Chicago:
University of Chicago Press.
Notturno, M. (2000). Science and the Open Society: In Defense of
Reason and Freedom of Thought. Budapest: Central
European University Press.
O'Connor, J. R. (1973)· The Fiscal Crisis of the State. New York:
St Martins Press.
378
БИБЛИОГРАФИЯ
Passmore, J. (1966). A Hundred Tears oj Philosophyf, 2nd edn.
Harmondsworth: Penguin. (Русский перевод: Пас-
смор Дж. Сто лет философии. М.:
Прогресс-Традиция, 1998·)
Pigliucci, M. (2003)'Methodological vs. Philosophical
Naturalism', Free Inquiry, 23: 53-55.
Pinker, S. (2002). The Blank Slate: The Modern Denial of Human
Nature. New York: Vintage.
Polanyi, M. (1957). Personal Knowledge. Chicago: University of
Chicago Press. (Русский перевод: Полани M.
Личностное знание. M.: Прогресс, 1985·)
Popper, К. (1945)· с^ге Open Society and Its Enemies. London:
Routledge & Kegan Paul. (Русский перевод: Поппер К.
Открытое общество и его враги. Т. ι, 2. M.:
Культурная инициатива, 1992·)
Popper, К. (1972). Objective Knowledge. Oxford: Oxford
University Press. (Русский перевод: Поппер К. Объективное
знание: эволюционный подход. М.: Едиториал УРСС,
2002.)
Price, С. (199З)' Time> Discounting and Value Oxford: Blackwell.
Price, D. de S. (1978). 'Toward a Model for Science Indicators',
in Y. Elkana et al. (eds), Toward a Metric of Science
(pp. 69-96). New York: Wiley-Interscience.
Proctor, R. (1991). Value-Free Science? Purity and Power in Modern
Knowledge. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Putnam, H. (1978). Meaning and the Moral Sciences. London:
Routledge & Kegan Paul.
Quinton, A. (1999). 'My Son the Philosopher', The New York Re-
view ojBooks\ 8 April. Vol. 46: 6.
Ravetz, J. (1971). Scientific Knowledge and Its Social Problems.
Oxford: Oxford University Press.
379
СТИВ ФУЛЛЕР
Rawls, J. (1971)· A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Reichenbach, H. (1938). Experience and Prediction. Chicago:
University of Chicago Press.
Ricoeur, P. (1970). Freud and Philosophy. New Haven, CT: Yale
University Press.
Ringer, F. (1969). The Decline of the German Mandarins.
Cambridge, MA.: Harvard University Press. (Русский
перевод: Рингер Φ. Закат немецких мандаринов. M.:
НЛО, 2θθ8.)
Ringer, F. (1979)· Education and Society in Modern Europe. Bloom-
ington, IN: Indiana University Press.
Rorty, R. (1979). Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton:
Princeton University Press. (Русский перевод: Рорти P.
Философия и зеркало природы. Новосибирск:
Издательство Новосибирского университета, 1997-)
Rorty, R. (1982). The Consequences of Pragmatism. Minneapolis:
University of Minnesota Press.
Rorty, R. (1988). 'Taking Philosophy Seriously', The New
Republic^ 11 April: 31-34.
Ross, D. (1991). The Origins of American Social Science.
Cambridge: Cambridge University Press.
Ryle, G. (1949). The Concept of Mind. Oxford: Oxford
University Press. (Русский перевод: Райл Г. Понятие сознания.
М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги,
1999)
Samuelson, Р. (1969)· 'Pure Theory of Public Expenditures and
Taxation', in J. Margolis and H. Guitton (eds), Public
Economics (pp. 98-123). London: Macmillan.
Saracci, R. (2001). 'Introducing the History of Epidemiology',
in J. Orsen et al. (eds), Teaching Epidemiology. Oxford:
Oxford University Press.
380
БИБЛИОГРАФИЯ
Schick, T. (2000). 'Methodological Naturalism vs.
Methodological Realism', Philo, 3 (2): 30-37.
Schinkel, W. (2003). 'Pierre Bourdieu's Political Turn?' Theory,
Culture and Society, 20 (6): 69-93.
Schnadelbach, H. (1984). Philosophy in Germany, 1831-^33.
Cambridge: Cambridge University Press.
Schreiterer, U. (2008). 'Trust Matters: Democratic
Impingements in the City of Knowledge', in N. Stehr (ed.),
Knowledge and Democracy (pp. 67-86). New Brunswick,
NJ: Transaction.
Schumpeter, J. (1950 [1942]). Capitalism, Socialism and
Democracy, 2nd edn. Harper & Row: New York. (Русский
перевод: Шумпетер Й. Капитализм, социализм и
демократия. М.: Экономика, 1995·)
Shils, Ε. (ed.) (1974) Max Weber on Universities: The Power of the
State and the Dignity of the Academic Calling in Imperial
Germany. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Sidgwick, H. (1966 [1874]). The Methods of Ethics. New York:
Dover.
Smart, J. J. C. and Williams, B. (1973). Utilitarianism: For and
Against. Cambridge: Cambridge University Press.
Smith, B. (1994). Austrian Philosophy: The Legacy of Franz
Brentano. La Salle, IL: Open Court Press.
Soderqvist, T. (ed.) (1997). The Historiography of Contemporary
Science and Technology. Amsterdam: Harwood Academic
Publishers.
Sokal, A. and J. Bricmont (1998). Fashionable Nonsense:
Postmodern Philosophers'Abuse of Science. London: Profile
Books. (Русский перевод: Сокал Α., Брикмон Ж.
Интеллектуальные уловки. Критика философии
постмодерна. М.: Дом интеллектуальной книги,
2002.)
3«1
СТИВ ФУЛЛЕР
Sperber, D. (1996). Explaining Culture: A Naturalistic Approach.
Oxford: Blackwell.
Stehr, N. (1994). Knowledge Societies. London: Sage.
Stewart, T. (1997). Intellectual Capital. London: Nicholas Brealy.
Swanson, D. (1986). 'Undiscovered Public Knowledge', Library
Quarterly, 56 (2): 103-118.
Thayer, H.S. (1968). Meaning and Action: A Critical History of
Pragmatism. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
Toews, J. (1985). Hegelianism. Cambridge: Cambridge
University Press.
Toulmin, S. (2001). The Return to Reason. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
Tversky, A. and D. Kahneman (1974). 'Judgment under
Uncertainty: Heuristics and Biases'. Science, 185: 1124-1131.
Urry, J. (2000). Sociology Beyond Societies. London: Routledge.
(Русский перевод: Урри Д. Социология за пределами
обществ: виды мобильности для XXI столетия. М.:
Издательский дом Высшей школы экономики, 2θΐ2.)
Valsiner, J. and R. van der Veer (2000). The Social Mind:
Construction of the Idea. Cambridge: Cambridge University Press.
Weber, M. (1958 [1918]). 'Science as a Vocation', in H. Gerth and
C. W. Mills (eds), From MaxWeber (pp. 129-158). Oxford:
Oxford University Press. (Русский перевод: Вебер M.
Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные
произведения. М.: Прогресс, i99°> с· 7°7~735·)
Werskey, G. (1988 [1978])· '^ге Visible College: Scientists and Socialists
in the 1930s, 2nd edn. London: Free Association Books.
White, M. (1957). Social Thought in America: The Revolt against
Formalism. Boston, MA: Beacon Press.
Wilson, E.O. (1998). Consilience: The Unity of Knowledge. New
York: Knopf.
382
БИБЛИОГРАФИЯ
Wolin, R. (1990). The Politics of Being. New York: Columbia
University Press.
Wolin, R. (2000). 'Untruth and Method', The New Republic,
15 May: 36-45.
Wolin, R. (2001). Heidegger's Children. Princeton: Princeton
University Press.
Wuthnow, R. (1989). Communities of Discourse. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
Zagzebski, L. and A. Fairweather (eds) (2001). Virtue Epistemo-
logy: Essays on Epistemic Virtue and Responsibility. Oxford:
Oxford University Press.
Zinn, H. (1980). A People's History of the United States. New York:
Harper & Row.
Научное издание
Стив Фуллер
Социология интеллектуальной жизни
Карьера ума внутри и вне академии
Главный редактор В. В. Анашвили
Заведующая редакцией Ю.В. Бандурина
Выпускающий редактор Е.В. Попова
Редактор В. Л. Ларина
Художник В.П. Вертинский
Оригинал-макет 0.3. Элоев
Верстка А. И. Попов
Подписано в печать 11.09.2017. Формат 84х 108/32
Гарнитура РТ Serif Pro. Усл. печ. л. 2θ,ι6
Тираж юоо экз. Изд. № 564. Заказ №
Издательский дом «Дело» РАНХиГС
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82
Коммерческий центр-тел. (495) 433-25-10, (495) 433-25-02
delo@ranepa.ru,
www.ranepa.ru
ISBN 978-5-7749-1281-О
9 и785774"912
810