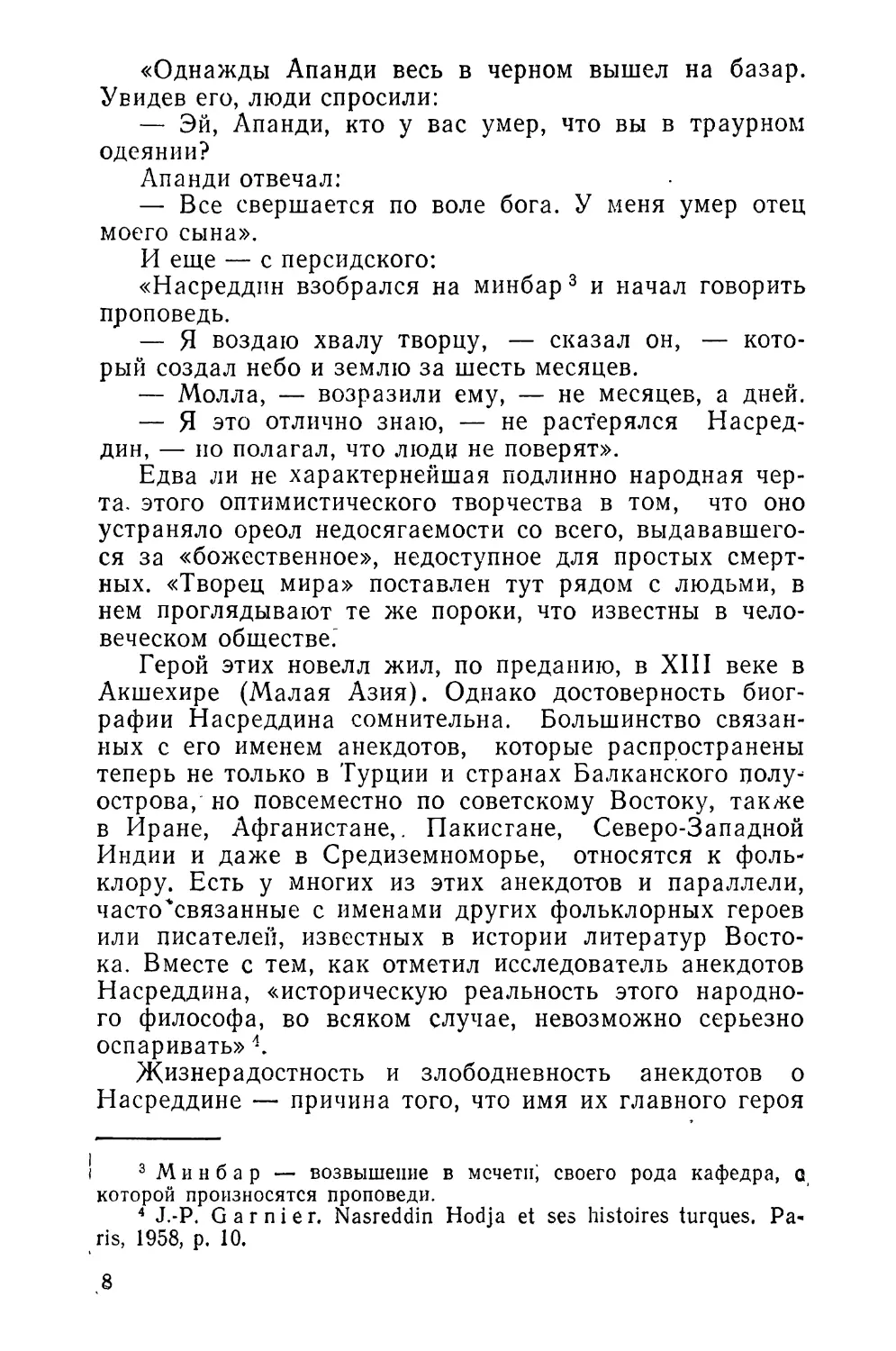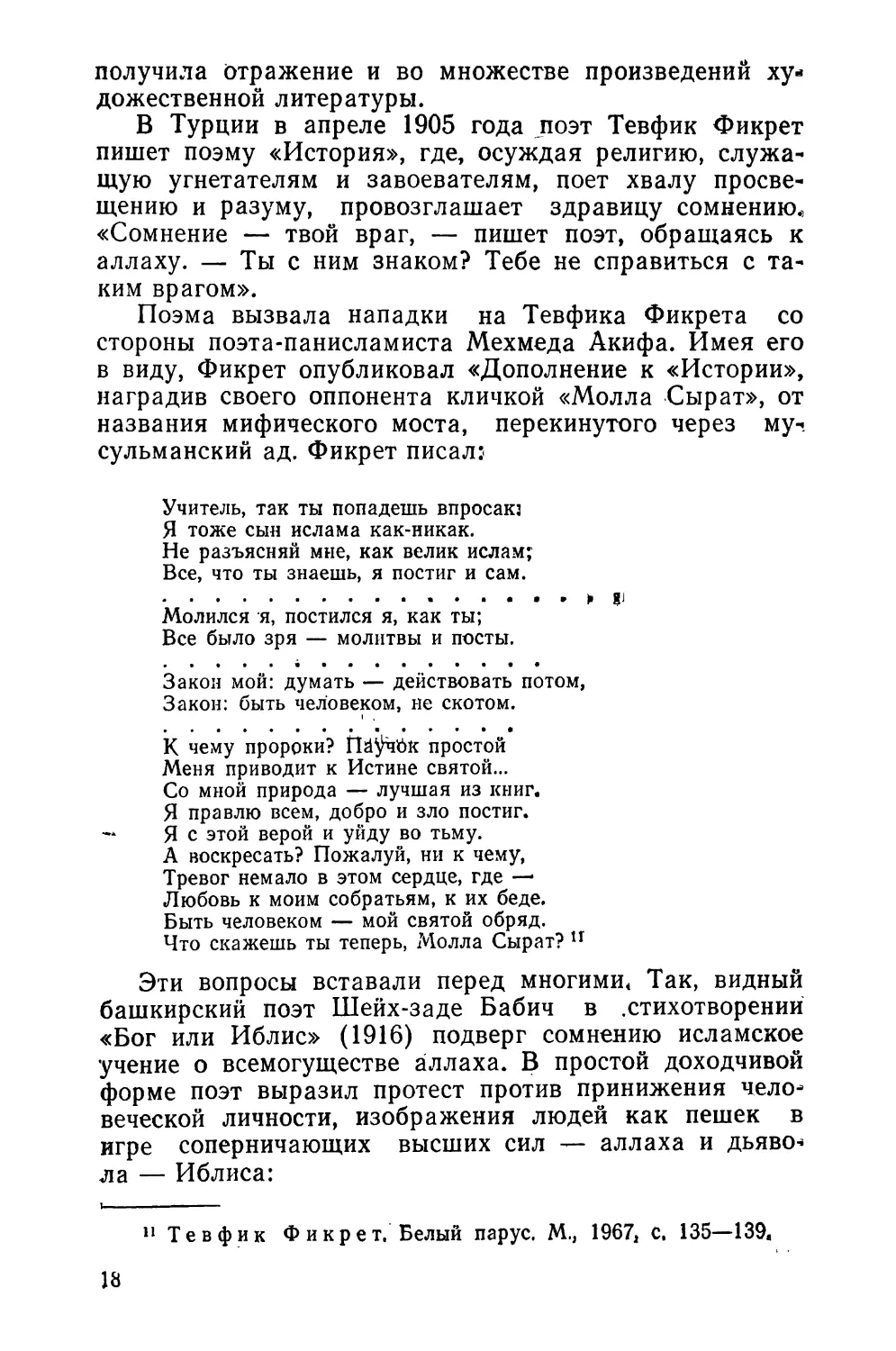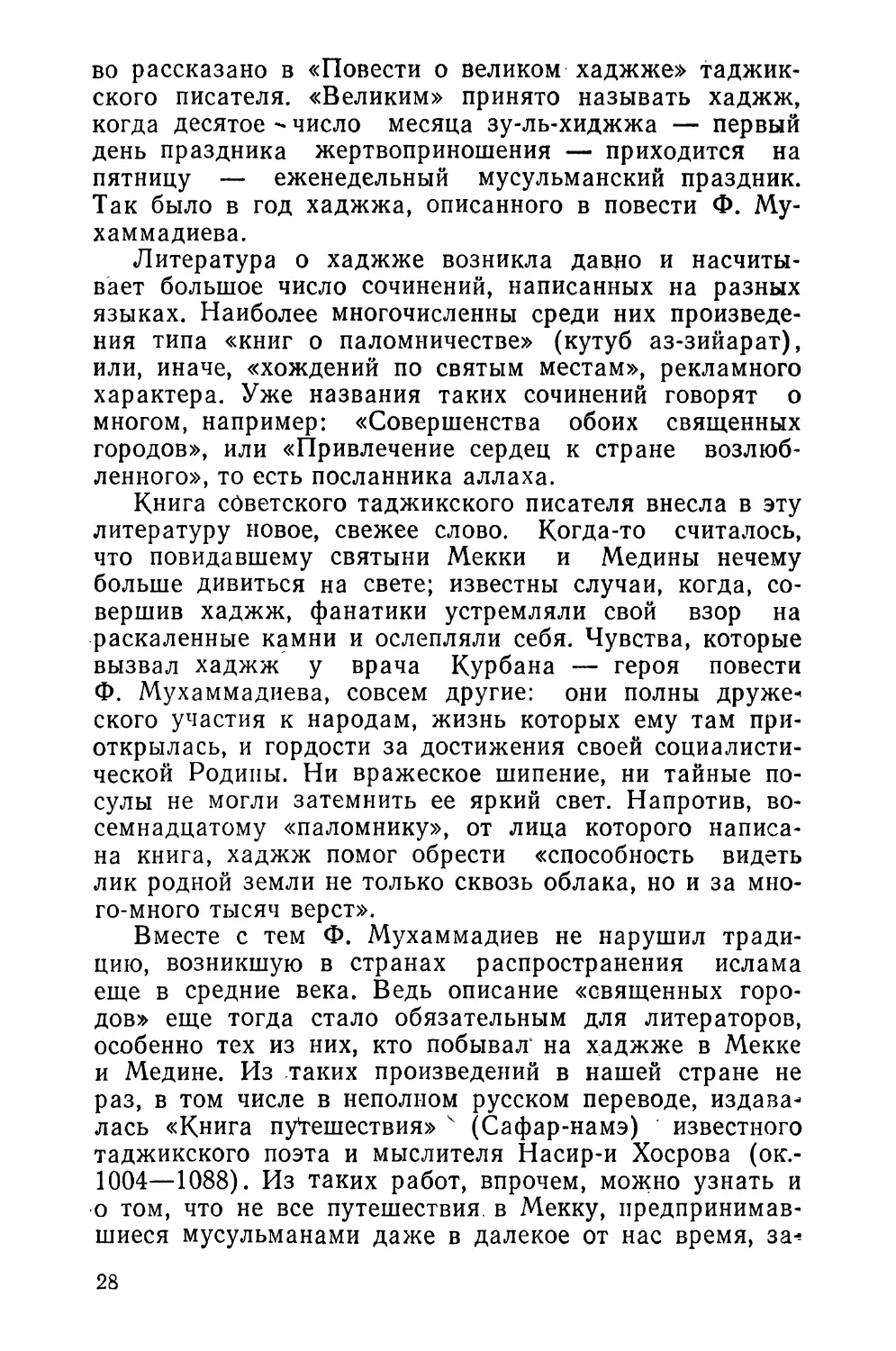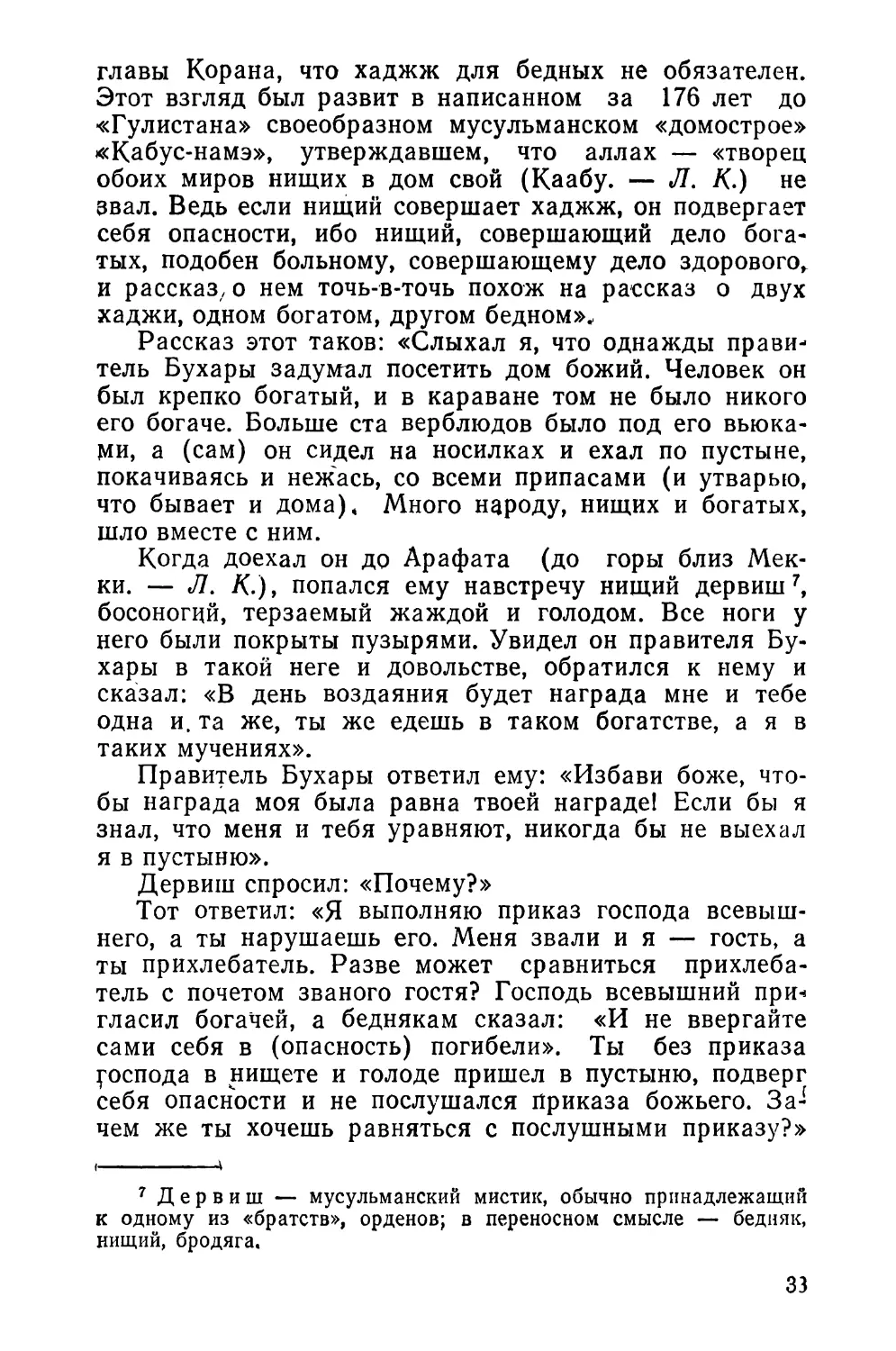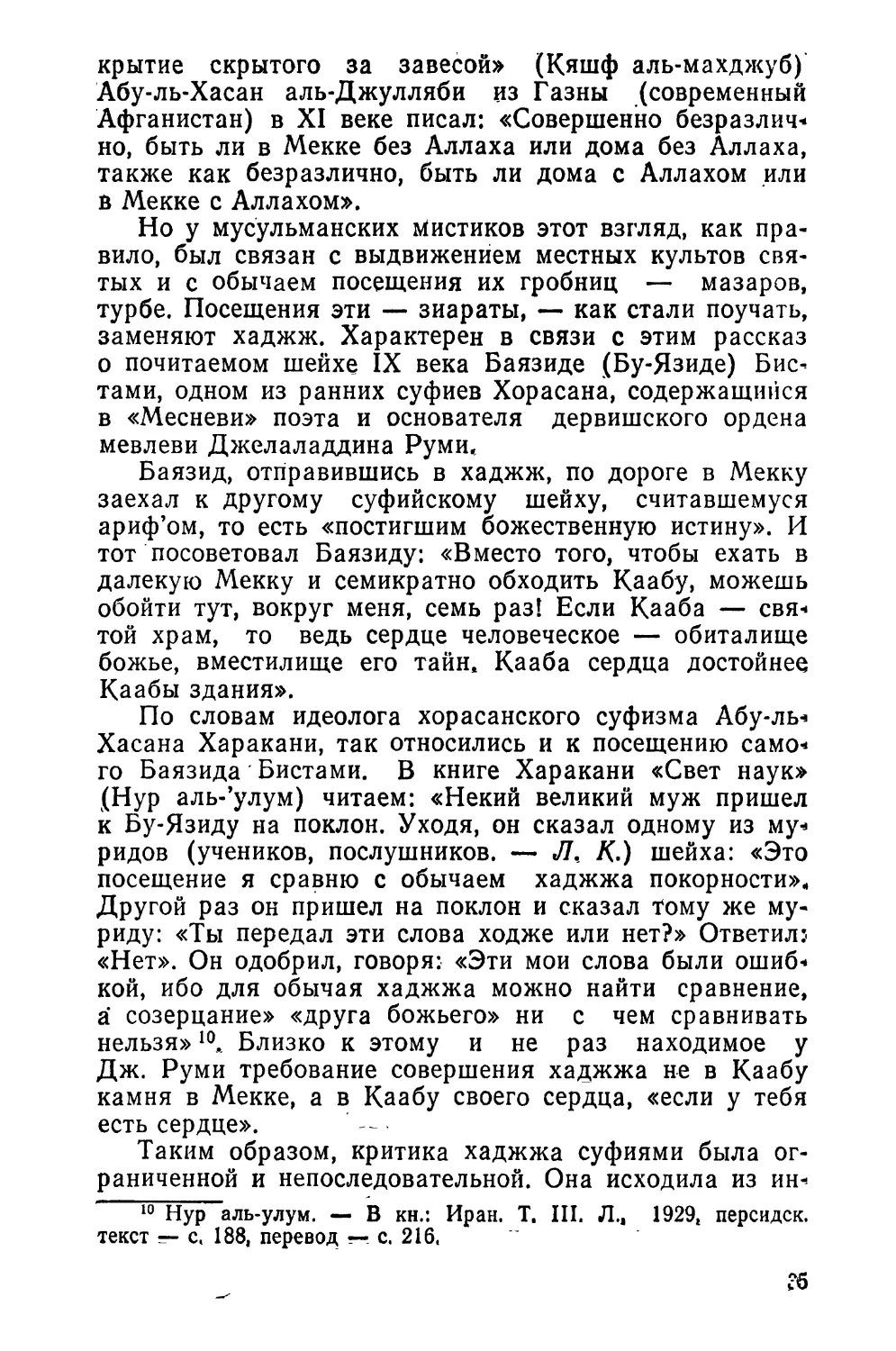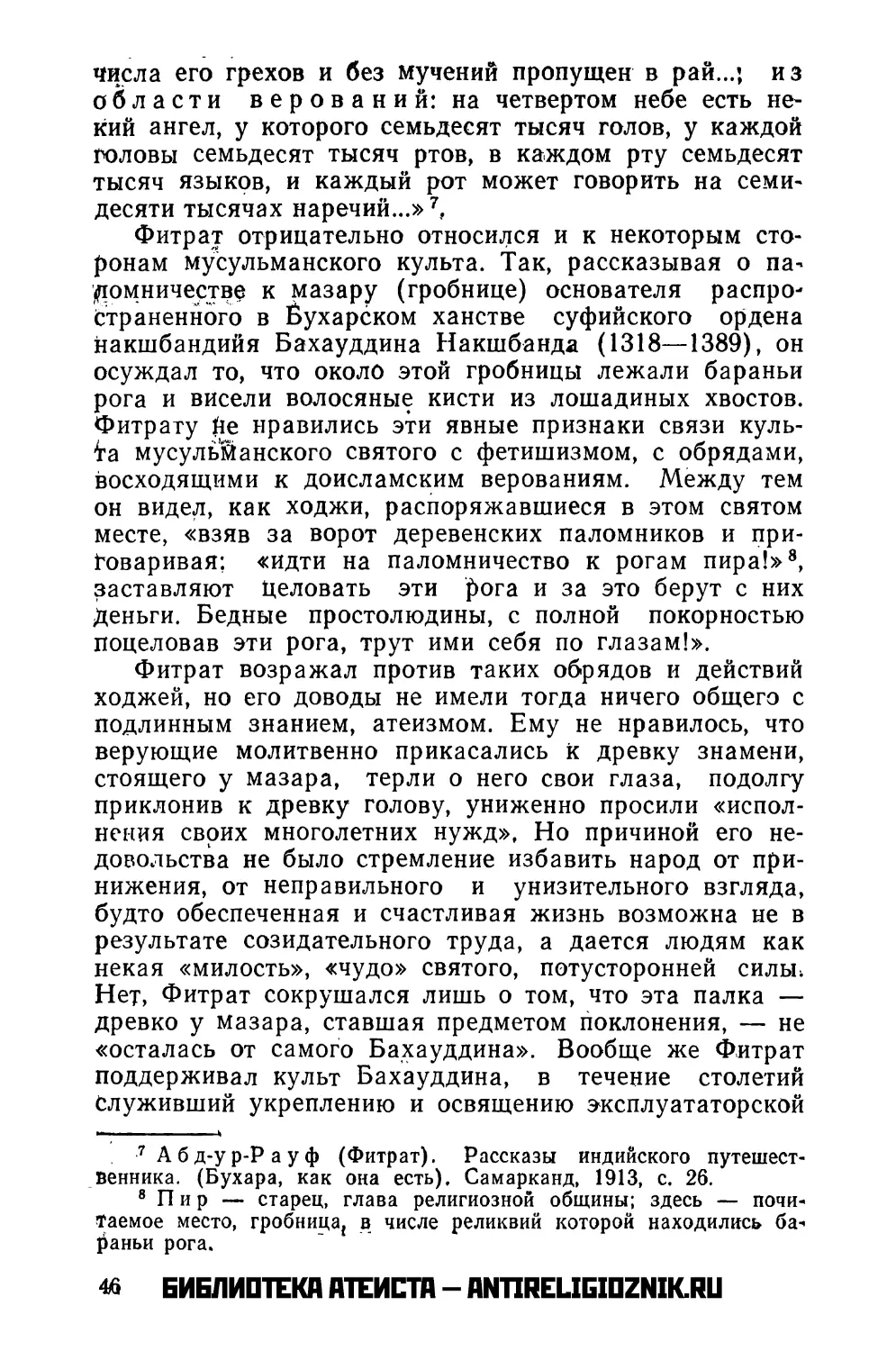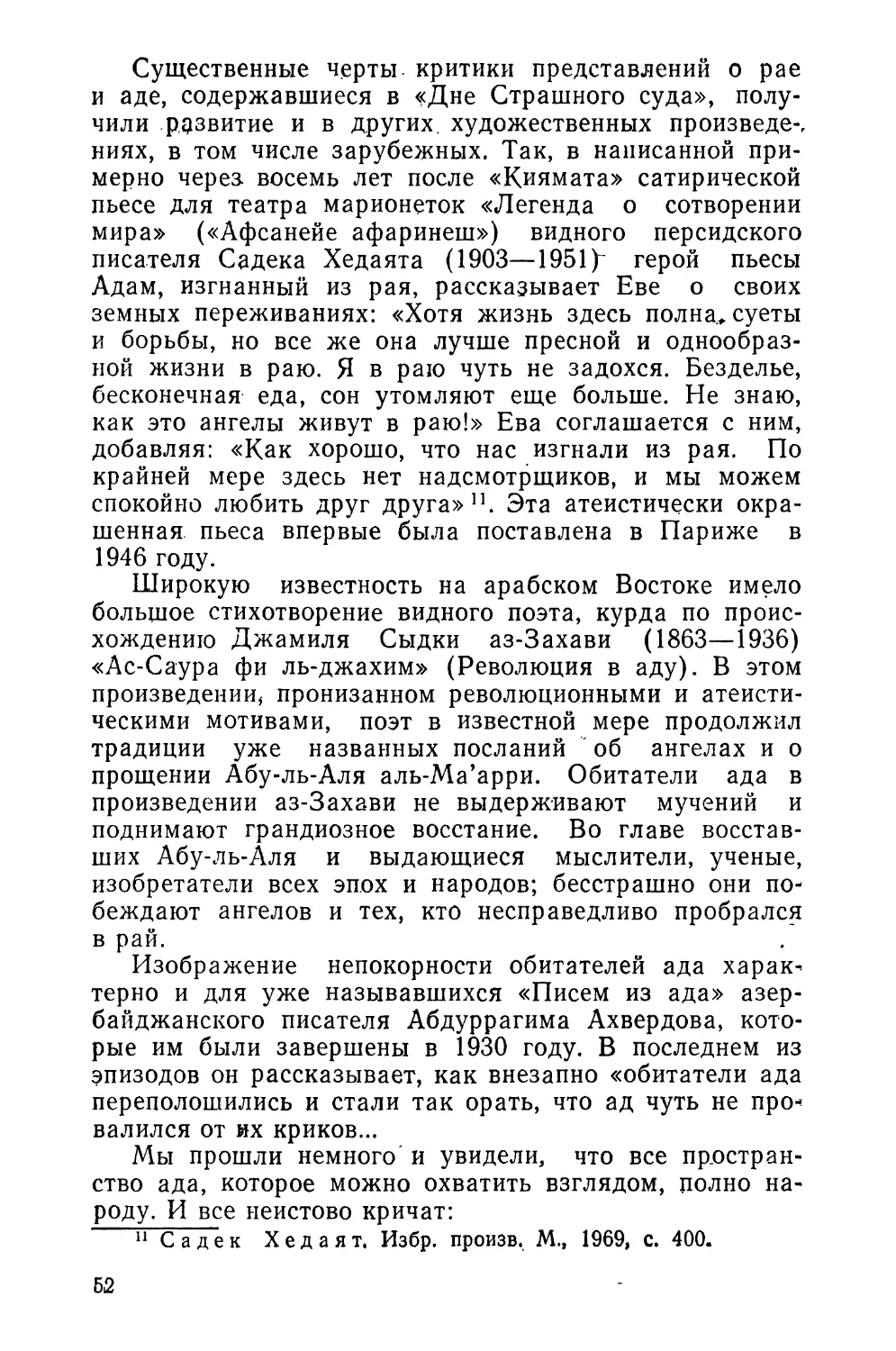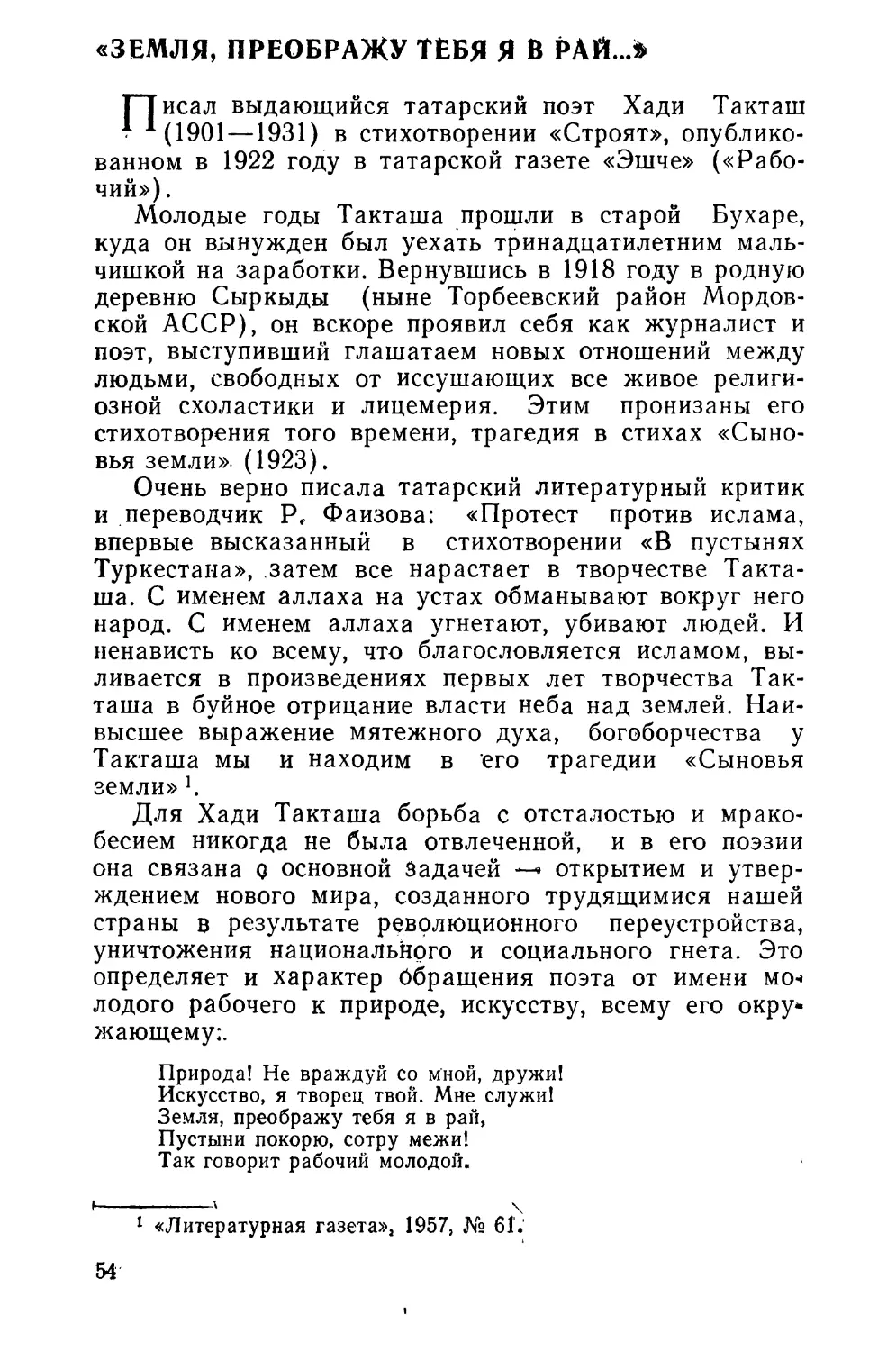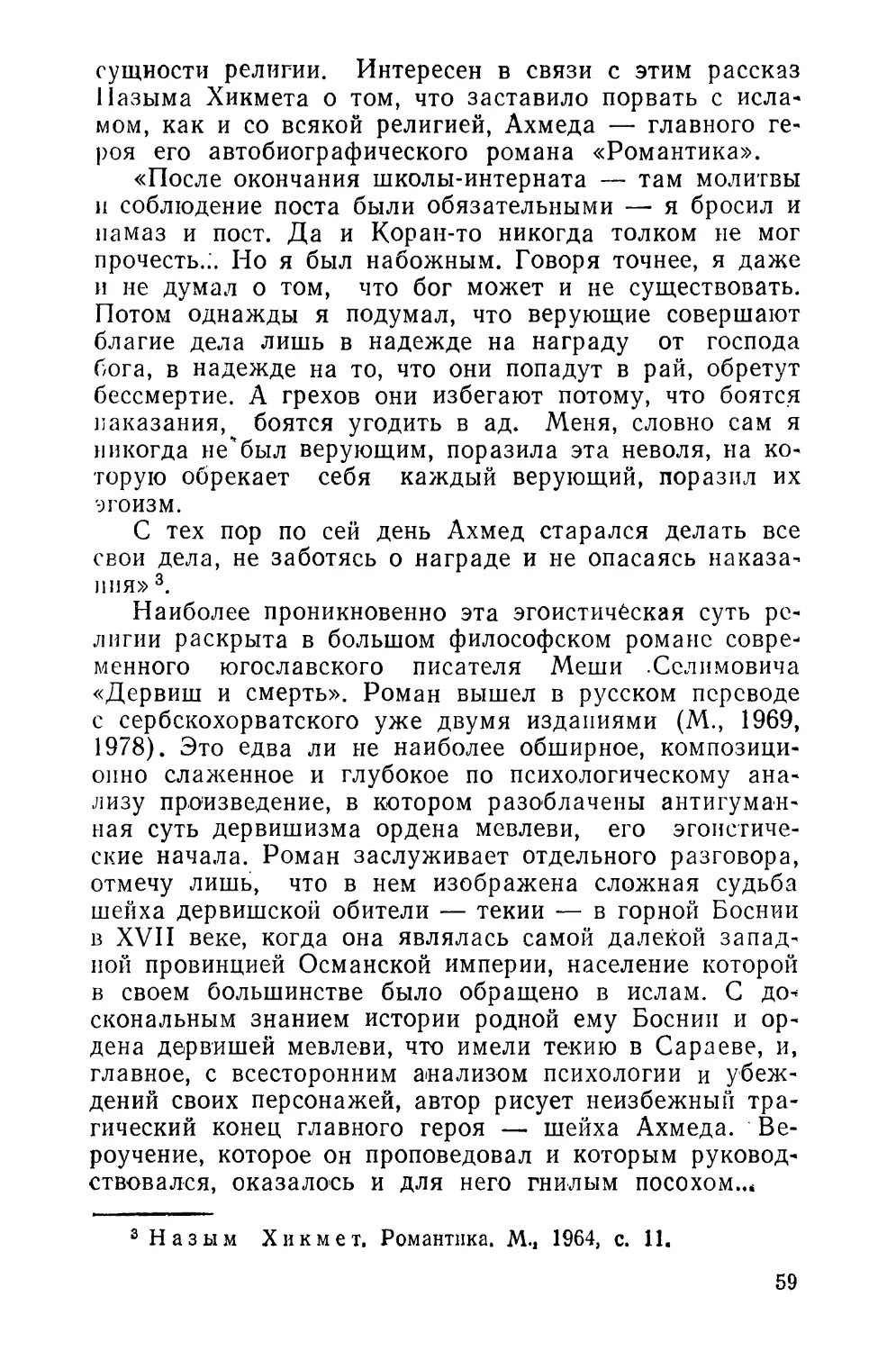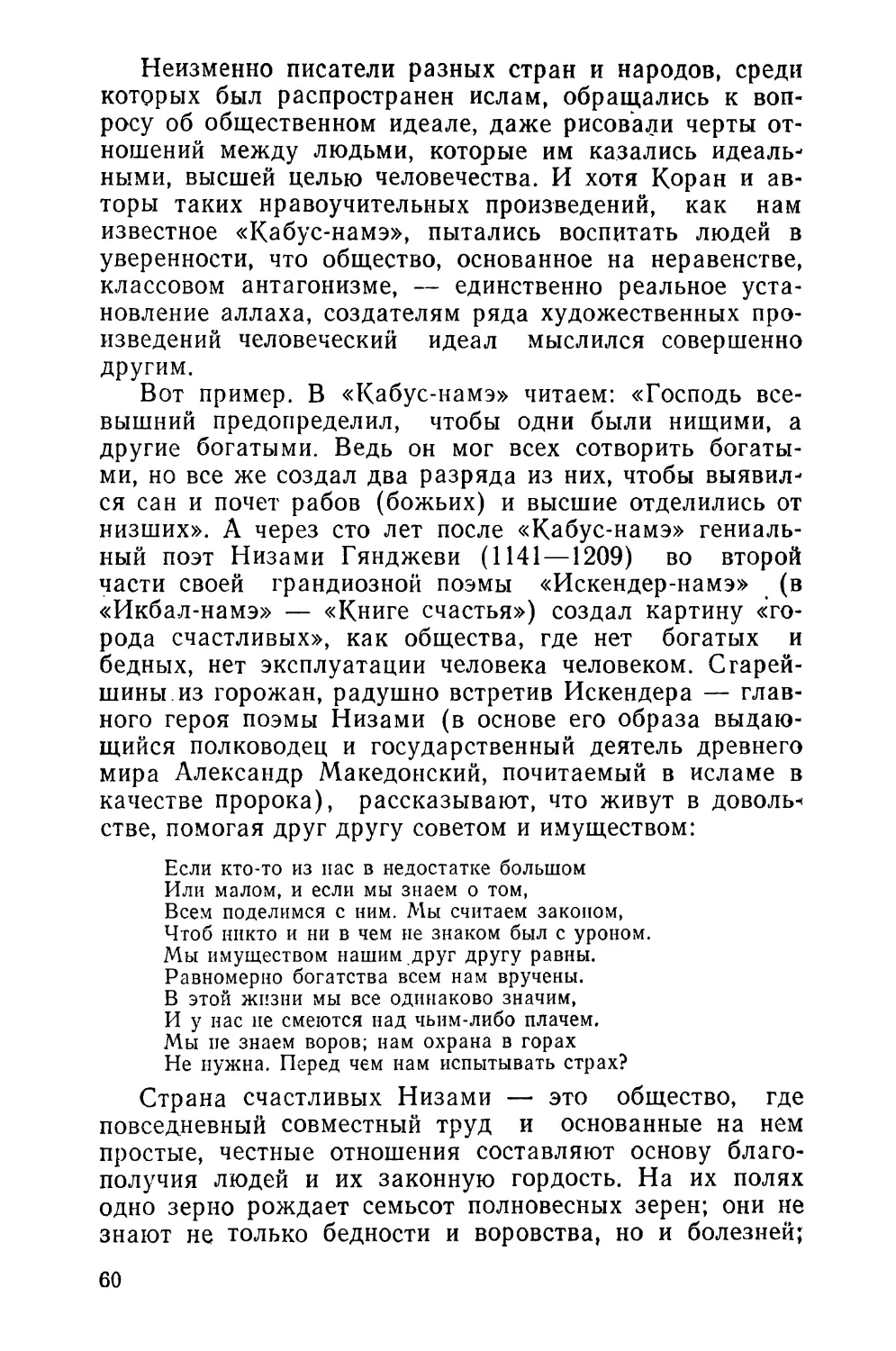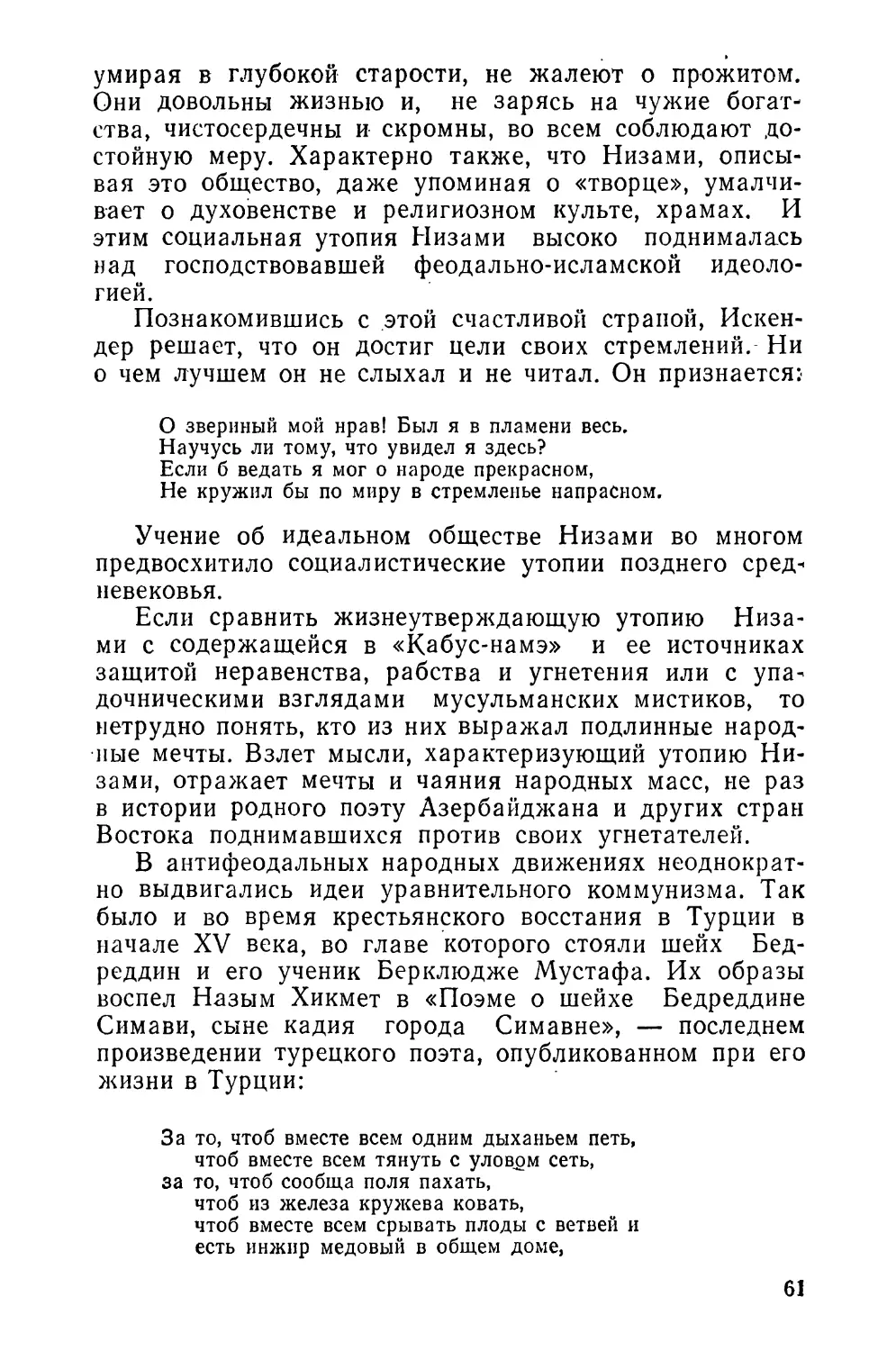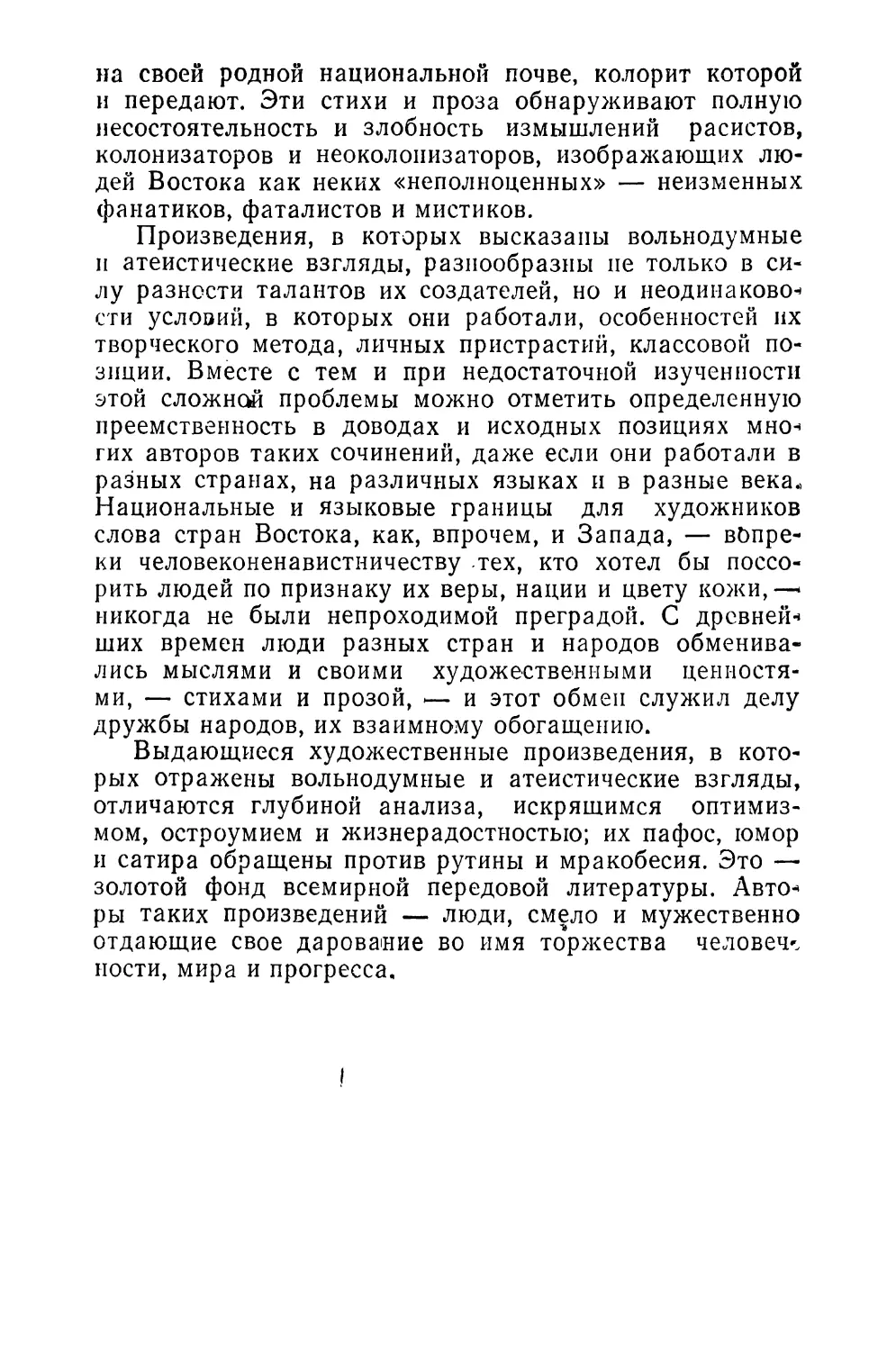Текст
НОВОЕ
В ЖИЗНИ,НАУКЕ,
ТЕХНИКЕ
эНИНИв
Л. И.Климович
ПИСАТЕЛИ
ВОСТОКА
ОБ ИСЛАМЕ
СЕРИЯ' НАУЧНЫЙ АТЕИЗМ
12/1978
жтжжм
НОВОЕ Серия «Научный атеизм»
В ЖИЗНИ, НАУКЕ, № 12, 1978 г.
ТЕХНИКЕ Издается ежемесячно с 1964 г.
Л. И. Климович,
профессор
ПИСАТЕЛИ
ВОСТОКА
ОБ ИСЛАМЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
Москва 1978
Климович Л. И.
К49 Писатели Востока об исламе. М.,
«Знание», 1978.
64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Серия
«Научный атеизм», 12. Издается ежемесячно с 1964 г.).
В брошюре раскрывается атеистическая направленность
народного поэтического творчества, произведений выдающихся
мыслителей, писателей и поэтов зарубежного и советского
Востока. Автор показывает, что вольнолюбивая атеистическая
мысль всегда выступала против невежества и рутины,
приводит критические высказывания этих мыслителей об истории,
догматах, учениях и обрядах ислама.
10509 86.38
27
(?) Издательство «Знание», 1978 г.
ЖИЗНЕРАДОСТНОЕ НАСЛЕДСТВО
Художественная литература со времени своего
возникновения и до наших дней у всех
народов и на всех языках стремится к изображению
человека и окружающего мира во всей его полноте. Ни в од^
ном виде искусства труд, общественная деятельность и
духовные интересы людей не находят столь
всестороннего отражения, как в художественной литературе.
Изображая человека, художники слова раскрывают
психологический образ своих героев, их нравственный
облик, поступки и убеждения, религиозные верования
или атеистические взгляды, соблюдение ими старых или
новых обрядов и т. п. Через судьбы своих персонажей,
человеческие характеры и отношения, а также в
лирических отступлениях и многообразных
публицистических формах писатели выражают свое отношение к
изображаемому, в том числе к мировым религиям —
буддизму, христианству, исламу, их догматам, учениям
и обрядам. Естественно вместе с тем, что эта оценка
не у всех одинакова, каждый раз в той или иной мере
отражая особенности мировоззрения писателя,
творческий метод, которым он руководствуется, его привычки,
сословные и классовые интересы.
Ислам — самая молодая из мировых религий, хотя
ее история насчитывает более тринадцати с половиной
беков. И отражение, которое он получил за это
немалое время в художественной литературе, представляет
определенный научный и общественный интерес.
Возник ислам на Аравийском полуострове в первые
десятилетия VII века, в период объединения арабских
Племен, образования классового государства. В
последующие столетия вместе с начатыми арабами
завоевательными войнами, а также мирным путем ислам по-
3
лучил распространение в ряде обширных областей Азии
и Африки и на других континентах.
Догматы, обряды и предписания ислама составлены
так, чтобы охватить всю жизнь верующих, подчинить
их постоянному «духовному» контролю. Основные из
его установлений были сформулированы и пояснены в
Омейядском F61—750) и Аббасидском халифатах
G50—1258) — крупнейших феодально-теократических
государствах, в которых ислам являлся
государственной религией. Действовавшее в них, а также в других
халифатах (Фатимидском, Кордовском, Османском —
турецких султанов) законодательство — шариат, по
мысли богословов и законоведов ислама, должно было
регулировать все области жизни мусульманского
общества. В связи с этим ислам и его законоустановления и
сейчас часто толкуют как тоталитарные, охватывающие
якобы все стороны жизни человека, включая
экономику, науку, искусство и литературу, все надстройки.
Однако такой взгляд, как показывает ознакомление
даже только с художественной литературой стран
распространения ислама, односторонен. Ибо и там, где за
ревностным соблюдением законов шариата следили му*
сульманское духовенство и община, полного
подчинения им всех^сфер жизни не только в средние века,
но и в новое и новейшее время, нигде и никогда не
было достигнуто. Об этом свидетельствуют характер
возникавших в этих государствах антифеодальных
движений, вольнодумные черты развитых в них
общественно-философских взглядов, также естественных и точных
наук, эстетических учений, искусства и литературы.
Среди приверженцев ислама (как и более древних
религий — буддизма и христианства) очень рано
пробудился интерес к его истории, догматам и обрядам, а
также появились критические о нем высказывания.
Широкое отражение это внимание получило уже в древней"
ших памятниках письменности народов Востока, в мно*
начисленных произведениях их устного поэтического
творчества, в сказках, пословицах и поговорках, а
также в письменной художественной литературе. Это
проявилось и в произведениях религиозного характера.
Главная священная книга ислама — Коран (Алы
Кур'ан), составленная и отредактированная под наблю*
дением первых халифов, одновременно явилась и круп*
ным произведением прозы, написанным на арабском
4
языке. Согласно исламской догме Коран — книга не-
сотворенная, предвечно существующая и лишь
переданная частями в виде откровения пророку Мухаммеду
при посредстве ангела Джебраиля (представление о
нем в известной мере соответствует библейскому
архангелу Гавриилу).
Однако содержание Корана обнаруживает его
земные корни и, в частности, показывает, что изложенное
в нем новое вероучение рождалось в острой идейной
борьбе. При этом едва ли не большинство арабских
поэтов — шаиров — находилось в то время на стороне
его противников. «Не сообщить ли мне вам, на кого
нисходят сатаны (шайтаны)? — читаем в Коране. —
Нисходят они на всякого лжеца, грешника. Они изверг
гают подслушанное, но большинство их лжецы. И
поэты — за ними следуют заблудшие. Разве ты не
видишь, что они по всем долинам бродят и что они
говорят то, чего не делают...» B6, 221—225) {. Исключение
допущено лишь для тех, кто встал на сторону
проповедников ислама: «Кроме тех, — добавлено, — которые
уверовали и творили добрые дела и часто вспоминали
Аллаха» B6, 227).
И хотя в 114 главах Корана есть не только сухость
и монотонность религиозных предписаний и проповедей,
но и яркая, пылкая образная речь, емкие
словосочетания и красочные сравнения, в нем находим настойчивое
требование не смешивать проповедника ислама с
поэтом, или, иначе, с «ведуном», передающим свои пустые
мечтания — «пучки снов» B1, 5), видения «поэта
одержимого» — меджнуна C7, 35). Проповедь посланника
бога, по словам Корана, — «не слова поэта» F9, 41),
Аллах «не учил его стихам, и не годится это для него»
C6, 69).
Среди не веривших проповеднику ислама были дах-
риты — люди, отрицавшие загробную жизнь,
считавшие, что есть только одна земная жизнь, ограниченная
для каждого человека определенным периодом: «губит
нас только время» D5, 23). А в 17-й главе Корана,
относимой к объявленным в Мекке, то есть к одному из
наиболее ранних периодов ислама, читаем о том, что
«большинство людей не хотят принимать, единственно
1 Здесь и дальше в скобках первой цифрой обозначена глава
(сура) Корана, а второй — ее стих (аят).
5
из-за неверия», «различные примеры», которые приво*
дятся им проповедником. И они говорят: «Никогда мы
тебе не поверим, до тех пор, пока ты не изведешь из
земли источника, или не будет у тебя сада из пальм и
виноградных лоз, и посреди него не велишь течь
ручьям, или не извергнешь на нас неба, как ты
утверждаешь, кусками2, или не приведешь Аллаха с ангелами,
или не будет у тебя дома из золота, или не
поднимешься на небо. И мы не поверим до тех пор твоему
восхождению, пока не ниспошлешь к нам оттуда книгу,
которую мы сможем прочитать» A7, 91—95).
Эти логичные настойчивые возражения, делавшиеся
проповедникам новой веры, во многом продолжали
многовековые жизнерадостные вольнодумные традиции,
возникшие задолго до ислама и отраженные в ряде
памятников Древнего Востока, таких, как клинописные
таблички Ниневийского архива, «Песнь"арфиста» из
Древнего Египта, многочисленные философские
сочинения Древней Индии и т. д. Как и эти произведения, они
опирались на трудовой опыт и повседневные
наблюдения людей и с течением времени не угасли, а получили
дополнительную аргументацию и глубину.
Литература народов, среди которых распространен
ислам, существует века и тысячелетия, содержит
множество произведений разных жанров, В них в той или
иной степени отражены различные идейные течения —
как религиозные, мистические, так и вольнодумные,
атеистические. Изложение или обзор всех этих
произведений не входит в нашу задачу, заключающуюся
прежде всего в установлении характерных для них
вольнодумных и атеистических мотивов. Не излагая
жизни и творчества каждого из интересующих нас ав^
торов, отметим лишь, что уже в прошлые века трудом
вольнодумцев и атеистов создано большое многообраз*
ное жизнерадостное наследство. Напомним также, что
среди них были писатели, прославившиеся и научными
трудами.
В числе авторов вольнодумной и атеистической
литературы поэт Абу Нувас из Хузистана G62—813), поэт
и философ Абу-ль-Аля аль-Ма'арри из Сирии (973—
1057), философ, врач и поэт из селения Афшана близ
2 Имеются в виду метеориты, или болиды, появление которых,
как следует из Корана, считалось проявлением гнева бога, его
кары (см. 34, 9 и др.).
6
Бухары Абу Али Ибн Сина (980—1037), известный в
Европе под именем Авиценны, философ, астроном,
математик и поэт Омар Хайям из Нишапура (ок. 1048—
1131). За ними следуют писатели нового и новейшего
времени, среди которых выдающийся азербайджанский
просветитель, основоположник национальной
реалистической прозы и драматургии Мирза Фатали Ахундов
A812—1878), классики турецкой поэзии Тевфик Фикрет
A867—1915) и Назым Хикмет A902—1963).
Неоценимый вклад в историю вольнодумной и
атеистической мысли внесли классики литературы
советского Востока, в том числе азербайджанец Абдуррагим
Ахвердов A870—1933), таджик Садриддин Айни
A878—1954), татары Мажит Гафури A880—1934), Фа-
тих Амирхан A886—1926), Галимджан Ибрагимов
A887—1938), узбек Хамза Хаким-заде Ниязи A889—
1929), туркмен Берды Кербабаев A894—1974).,
Среди народов Ближнего и Среднего Востока
родились и замечательные образы жизнелюбивых борцов
против мракобесия, ханжества, крючкотворства,
скаредности, тупости, произвола и насилия. Один из них —
молла (мулла), эфенди (господин, сударь; отсюда и
Апанди), или ходжа Насреддин — еще задолго до
изобретения кино, радио и телевидения перешагнул
границы множества государств и стал излюбленным
персонажем бесчисленных малых и больших побасенок,
шуток и анекдотов, изящных, а порой и простецких
грубоватых новелл, неизменно вызывающих оживленную
реакцию, улыбку, порой гомерический хохот.
Вот две миниатюры, записанные и переведенные с
азербайджанского языка в начале нашего века:
1. «У Насреддина околел осел. Молла пришел в от*
чаяние от такой потери, сел у порога своего дома и
горько заплакал. Собрались прихожане и стали его
утешать.
— Аллах даст тебе осла лучше, «— сказал один из
прихожан.
— Как же, дожидайся!.. Я отлично знаю Аллаха,
меньше чем за 10 монет он не уступит самого плохого
бела».
'2. «— Куда девают луну, когда она совершит
последнюю четверть? — спросили моллу.
— Ее ломают на звезды, — ответил он»<
А вот перевод с узбекского:
7
«Однажды Апанди весь в черном вышел на базар.
Увидев его, люди спросили:
— Эй, Апанди, кто у вас умер, что вы в траурном
одеянии?
Апанди отвечал:
— Все свершается по воле бога. У меня умер отец
моего сына».
И еще — с персидского:
«Насредднн взобрался на минбар 3 и начал говорить
проповедь.
— Я воздаю хвалу творцу, — сказал он, —
который создал небо и землю за шесть месяцев.
— Молла, — возразили ему, — не месяцев, а дней.
— Я это отлично знаю, — не растерялся Насред-
дин, — но полагал, что люди не поверят».
Едва ли не характернейшая подлинно народная
черта, этого оптимистического творчества в том, что оно
устраняло ореол недосягаемости со всего,
выдававшегося за «божественное», недоступное для простых
смертных. «Творец мира» поставлен тут рядом с людьми, в
нем проглядывают те же пороки, что известны в
человеческом обществе."
Герой этих новелл жил, по преданию, в XIII веке в
Акшехире (Малая Азия). Однако достоверность
биографии Насреддина сомнительна. Большинство
связанных с его именем анекдотов, которые распространены
теперь не только в Турции и странах Балканского
полуострова, но повсеместно по советскому Востоку, также
в Иране, Афганистане,. Пакистане, Северо-Западной
Индии и даже в Средиземноморье, относятся к
фольклору. Есть у многих из этих анекдотов и параллели,
часто^связанные с именами других фольклорных героев
или писателей, известных в истории литератур
Востока. Вместе с тем, как отметил исследователь анекдотов
Насреддина, «историческую реальность этого
народного философа, во всяком случае, невозможно серьезно
оспаривать» ч
Жизнерадостность и злободневность анекдотов о
Насреддине — причина того, что имя их главного героя
г 3 Минбар — возвышение в мечети; своего рода кафедра, с,
которой произносятся проповеди.
4 J.-P. Gamier, Nasreddin Hodja et ses histoires turques.
Paris, 1958, p. 10.
8
стало равнозначным всему новому, разоблачающему и
подрывающему суеверия, отсталость, борющемуся за
торжество простых и светлых отношений между
людьми.
Знакомясь с анекдотами о Насреддине, а также с
аналогичными новеллами, рассказываемыми от имени
арабского Джухи, персидского и азербайджанского
Бахлула, казахского Алдар-Косе, таджикского поэта
Мушфики, туркменского Кемине, понимаешь, сколь
глубока и распространенна их народная основа, как
злободневны эти блестки народного юмора,
выставляющие на посмешище то, что мешает людям,
общественному развитию.
Отсюда же становится ясным и близкий этому
творчеству неиссякаемый народный источник пословиц и
поговорок. Их создают — каждую в своем
национальном колорите, отражающем особенности жизни твор^
цов этой безымянной россыпи, — те, кто ежедневно
убеждался в том, что труд, а не молитва надежный
помощник, что человек сам кузнец своего счастья.
«Надеялся на загробный мир, — гласит
башкирская пословица, — остался ни с чем в земной жизни».
«Винограднику нужна не молитва, а мотыга» — таков
вывод турецкого крестьянина. «Прочитанная молитва
не стоит напуганных при омовении лягушек», —
предупреждает туркменская пословица. Таджик-горец
поучает: «На бога надейся, а за куст держись!» «Ждал от
бога — обжегся, работал — шубу сшил». «Воле
божьей коня поручи, а сам вожжи держи», — советует
татарская пословица. «Кусок хлеба для брюха голодного
полезнее, чем здание мечети», — говорят арабы. «Хлеб
важнее Корана» — такова народная мудрость
азербайджанцев. А в курдских пословицах читаем: «Ходжа
(богачи. — Л. К.) и факи (богословы и законоведы
ислама. — Л, К.) мир испортили»; «Бог — враг
бедных»; «Если б были рай и ад, то муллы давно
оказались бы в аду».
Сомнение в существовании загробной жизни не раз
высказывалось и в сказках, в том числе в сказках
популярного арабского сборника «Книга тысячи и одной
ночи». Выраженная, по-видимому, доисламским араб-*
ским поэтом мудрость: «Жизнь, потом смерть, потом
воскресение — все это россказни и небылицы»
приведена в созданной еще в XII веке на арабском языке
9
«Книге о религиях и сектах» (Китаб аль-милаль ва
н-нихаль) выдающегося литератора и ученого
Мухаммеда аш-Шахрастани.
Вольнодумные и атеистические мотивы в устном
поэтическом творчестве народов Востока еще мало
изучены. Но и то, что в этом направлении сделано,
показывает, что именно здесь, в близости идейных позиций
безымянных авторов этого жизнерадостного и
жизнелюбивого источника, заложены интернациональные
черты вольнодумия и атеизма, которые затем находят вьь
ражение и в письменной литературе.
Вопреки развитому в исламе запрещению
изображать человека и другие живые существа в сказках
народов, исповедующих ислам, содержатся рассказы о
людях, живописавших портреты, даже восхваления их
эмоциональной действенности. Такой рассказ содер*
жится, например, в курдской «Сказке об Али-ага»,
записанной в 1936 году от курдского писателя Араба
Шамилова.
Курд Али-ага, читаем в сказке, имел храбрую же-
Яу, убившую волка-людоеда, наводившего страх на
местных жителей. Будучи призван в войско
правившего в их стране царя, Али-ага сказал жене: «Вот я
ухожу на войну. Может быть, меня убьют. Отдай нарисо*
вать свой портрет для меня. Время от времени
посмотрю на твое лицо — мне станет легче». Жена послуша*
лась и вместе с испеченными ею пирогами и лепешками
дала ему свой портрет, исполненный живописцем,
«Али-ага стал впереди войска, и они отправились в
поход». Во время отдыха Али-ага не забывал любоваться
на портрет жены, и случилось так, что этот портрет
помог ему и его войску одержать полную победу над
врагом. Оценив достоинство Али-аги, царь сделал его
своим везиром — министром. «Так Али-ага достиг сво*
его счастья, и вы будьте счастливы»5, — сказано в кон*
це этой жизнелюбивой сказки.
Таким образом, в народном творчестве находим не
осуждение, а, напротив, возвышение живописи,
изображения живого человека, даже принижаемой в исламе
женщины. Между тем, как много и сейчас в рукописе-
хранилищах рисунков замечательных художников Вое*
6 См. запись сказки: Исследования по истории культуры
народов Востока. М—Л., 1960, с. 495—503.
J0
тока, обезображенных фанатиками: черными полосами
они как бы обезглавливали нарисованных людей, дабы
таким образом «покончить» с ними и не «отвечать» за
их «души» в «загробном» мире. Ведь и куклам в
старом кукольном театре, например, в дореволюционной
Средней Азии, делалась ножом особая метка,
называвшаяся «бисмил» (от начальных слов молитвы: «Во имя
Аллаха...»), что означало «зарезанная», «с перерезан-
ным горлом»...
Жизнь опрокинула эти запреты. Однако они
отразились на развитии искусства, долгое время искажали
или сужали его возможности, в данном случае —
живописи и театра. Есть такие страны, например
Саудовская Аравия, где подобные запреты действуют и в
наши дни...
В условиях духовного сыска, удушающей
подозрительности передовые писатели и ученые часто вы*
- нуждены были маскировать свои вольнодумные
взгляды, пользоваться иносказаниями, аллегориями. Нам
уже доводилось отметить6, что в XII веке великий
арабский мыслитель Ибн Рушд (Аверроэс) в этих целях
написал даже особое «Рассуждение, выносящее
решение относительно связи «между религией и
философией», где предложил своего рода «компромисс»: «всякий
раз, когда выводы доказательства приходят в
противоречие с буквальным смыслом вероучения», считать, что
«буквальный смысл допускает аллегорическое
толкование...» Однако этот «компромисс» не мог изменить
отношения к его прогрессивному творчеству со стороны
мусульманского богословия и правителей Кордовского
халифата. После написания этого «Рассуждения...», в
1195 году, кордовский халиф Абу Юсуф Якуб повелел
по настоянию духовенства выслать Ибн Рушда из
Кордовы, а его бесценные труды предать сожжению.
За тридцать пять лет до решений кордовского
халифа, в Багдаде по приказу аббасидского халифа была
предана публичному сожжению семнадцатитомная
«Книга исцеления» (Китаб аш-шифа) великого ученого
и поэта Абу Али Ибн Сины (Авиценны).
Но и в этом случае, как ни свирепствовала
реакция, она оказалась бессильной пресечь то
положительное влияние, которое оказывали на современников и
6 См.: Л. И. Климович. Мыслители Востока об исламе.
М., 1975, с. 43 и след.
ц
потомков труды гениального ученого и художника
слова. Не случайно, в частности, в числе четверостиший
(рубай) Ибн Сины немало таких, которые
одновременно приписываются и знаменитому поэту и ученому
Омару Хайяму, жившему столетием позже. То, что
Омар Хайям хорошо -знал труды Ибн Сины и во
многом им следовал, можно считать установленным.
Конечно, Ибн Сина понимал, что, открыто отрицая
официальное мусульманское мировоззрение, он мог
навлечь на себя суровую кару, лишиться возможности
выражения своих взглядов. Отсюда понятно, почему в
его сочинениях есть и учение о «двойственности исти- ,
иы», немало непоследовательности и оговорок. Так,
отрицая материальность загробной жизни и учение о
воскресении мертвых, Ибн Сина оговаривает, что в это
можно верить, но лишь с точки зрения религии. И все
же он не побоялся выразить свое мнение по запретным
вопросам, достаточно ясно сказал по адресу
господствовавших в его время схоластов-богословов:
Когда к невеждам ты идешь высокомерным,
Средь ложных мудрецов явись ослом примерным.
Ослиных черт у них такое изобилье,
Что тот, кто не осел, у них слывет неверным.
На обвинение в неверии (что в те времена считалось
злейшим грехом и могло привести к казни) у Ибн Сины
был и другой ответ, ядовито высмеивающий исламских
правоверов:
Мое неверье —- не игра, не слов пустых убранство.
Я верю в истину одну — вот веры постоянство.
Сейчас таких, как я, — один, и если я — неверный,
- То, значит, правоверных нет, нет в мире мусульманства.
Об условиях, в которых жил Ибн Сина,
красноречиво свидетельствует его четверостишие,
предостерегающее от друга, много водившегося с врагом, как от
сахара, смешанного с ядом, от мухи, сидевшей на дохлой
змее. Для Ибн Сины, ученого, подошедшего к
пониманию микробного заражения, в этом четверостишии
интересно упоминание о мухе, которая может передать
трупный яд змеи.
Ибн Сина написал также «Трактат о любви» (Ри-
сала фи-ль-ишк), в котором воздал должное любви как
возвышенному чувству, дарящему человеку «изящество—
и молодость», «одобрение всего прекрасного и подобаки
щего». В этом трактате он осудил тех, кто подобно му*
12
сульманским мистикам — суфиям — пытался подмен
нить это возвышенное, бескорыстное и самозабвенное
чувство, возникающее между людьми, теософией, пус*
тыми рассуждениями о стремлении к «сгоранию», или
«растворению» в божестве. Воспаленному воображению
мистиков эта их тяга представлялась в виде
погружения в «море любви», растворения в нем. Их цель, по
словам Ибн Сины, «не может быть достигнута до
конца»7, а отсюда и все рассуждения суфиев о слиянии в
этом «океане» с «абсолютным благом», с «истиной»
и т. п. оказываются химерой.
Влияние творчества Ибн Сины на разные области
человеческого знания сказывалось в течение столетий,
Его сочинения с XII века переводятся на европейские
языки, а позднее — с изобретением книгопечатания —
они издаются в числе первопечатных книг; некоторые
из них до XVII века включительно являлись учебными
пособиями университетов.
В XII веке арабский писатель и врач Ибн Туфейль
(Абубацер), живший в Марокко и Испании, пишет од*
ноименный с трактатом Ибн Сины философский роман
«Живой, сын Бодрствующего» (Хай ибн Якзан), где
развивает идею самозарождения органической жизни
из неорганической. Ибн Туфейль с первых же слов
своего романа ставит его в связь с трудом Ибн Сины.
Об Ибн Сине говорит и знаменитый итальянец
Данте A265—1321) — «последний поэт средневековья и
вместе с тем первый поэт нового времени», как его
определил Ф. Энгельс8. Данте, правда, помещает Ибн Си-
ну в своей «Божественной комедии» как нехристианина
в Лимб — первый адский круг, но при этом
подчеркивает, что великий бухарец здесь в числе того «миогоче-
стного и высшего сонма», который «искусств и знаний
образец всеместный»:
Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом;
Их речь звучна и медленна была...
Там — геометр Эвклид, там — Птолемей,
Там — Гиппократ, Гален и Авиценна...
7 Арабск. текст и перевод см.: С. Б. Серебряков. Трактат
Ибн Сины (Авиценны) о любви. Тбилиси, 1976, с. 27, 68.
8Ф. Энгельс. К итальянскому читателю. Предисловие к
итальянскому изданию «Манифеста* Коммунистической партии»
1893 года. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 382.
13
Развитие общества стимулировало подъем знаний и
художественной литературы. Однако этот процесс
сдерживался схоластами, объявлявшими почти каждое
значительное достижение культуры и литературы неугод- *
ным богу «новшеством». Логика схоластов была
проста: Коран заявляет, что знать больше, чем аллах, люди
не могут B, 134). Даже ангелы в Коране говорят
богу: «Мы знаем только то, чему ты нас научил» B, 30).
А раз так, то другие сочинения ъе нужны. В их числе,
по утверждению основоположника одного из наиболее
авторитетных толков (мазхаб) ислама имама aiii-Iila-
фии G67—820), «поэзия и ей подобное — суета и
позор».
Если же оказывалось, что автор жил в доисламские
времена, участь его творчества едва ли не в
большинстве случаев была трагичной.
Любопытные свидетельства по этому поводу
содержатся даже в литературных антологиях (тазкире),
например, в составленной в 1487 году в Герате Доулат-
щахом Самаркандским. В этой работе рассказано, как
однажды в Нишапуре наместнику аббасидского халифа
была предложена в дар повесть «Вамек и Азра».
Наместник ответил дарителю: «Мы из тех, кто читает
Коран, и нам не надо ничего, кроме Корана и преданий о
пророке. Нам не нужны книги, подобные этой, потому
что они составлены магами и презренны в наших
глазах». По его повелению рукопись «Вамек и Азра» была
брошена в воду, уничтожена. Найти это
художественное произведение о двух влюбленных не удалось до
настоящего времени.
История литературы содержит немало и грустных
страниц, в том числе недописанных или нарочито
оборванных Схоластами. Достаточно назвать вольнодумцев
поэта-классика слепого от рождения Башшар ибн Бур*
да G14—783), засеченного до смерти по приказу
халифа аль-Махди, задетого его сатирическими стихами, и
писателя и переводчика Ибн аль-Мукаффу G24—759),
вклад которого в историю культуры необычайно велик,
брошенного в негашеную известь и сожженного в ней«
Интересно свидетельство Ибн Хазма (994—1064) —
испанского араба, писателя, историка и философа, а
также богослова, принадлежавшего к толку захири-
тов, державшихся «внешнего», или, иначе,
буквального, понимания Корана. Когда в Андалусии (область в
.14
Испании) господ^вующим Стал другой толк ислама **¦
маликитов, Ибн Хазму пришлось бежать на остров
Майорку, Он был осужден маликитским духовенством,
и по приказу правителя Севильи обширная библиотека
Ибн Хазма предана огню. Писатель мужественно от^
несся к этому варварству и ответил стихами: «Если вы
и сожжете бумагу, то ведь не сожжете того, что содер*
жит бумага: оно останется у меня в груди. Оно идет
со мной, когда двигается мой караван, остановится,
если остановлюсь я, и будет похоронено в моей мо*
гиле».
Ибн Хазм-и до сожжения его библиотеки понимал,
что, берясь за перо, нужно быть осмотрительным. В
своем сочинении .«Ожерелье голубки относительно люб^
ви и любящих», которое в переводе издано и в нашей
стране (М., 1933), он признается, что и о любви, кроме
сказанного, «наверное сообщил бы немало сведений»,
«если бы исполнение долга перед правителями не было
для мусульман обязательно и нам не следовало бы
передавать из рассказов о них лишь то, в чем
заключается рассудительность и оживление веры»,
Тема любви «** одна из широко освещенных в
литературе Востока, # именно в ней очень сильны вольно-*
думные мотивы. Уже в раннем средйевековье возникает
легенда о мусульманском духовном лице «^ шейхе
Сан'ане, из любви к христианке поступившемся
требованиями своей верыг Используя народную Основу этой
легенды, крупный азербайджанский йбэ? XII бека Хй*
кани в касыде «*» обращении к посетившему Ширван
Андронику Комнёну -^ двбюроднбму брату й политик
ческому сопернику византийского императора, писал*
Я променяю на клобук свою чалму и fайласан9,
Как променял когда-то их сын водоноса шейх Сан'ан.
Через шестьсот лет после Хаканй азербайджанский
классик Вагиф (Молла-ПайаХ, 1717—1797), гфоклады*
вая путь реалистической поэзии, верйулся к фбльклор*
ным корням этого образа. При этом, йб-видим(бму, соз*
нательно он оставил в стороне мистические йстолкова*
ния, которые за истекшие река попытались придать ле*
Генде о шейхе Сан'ане поэт-мистик Фаридад&ий Ariap
9Тайласан — род пелерины, которую надевают на плечи
мусульманские богословы и законоведы.
М
A119—1220) и его последователи. Вагиф писал в му-
хаммасе — лирическом стихотворении из пятистиший —
«Вот она, хороша, как луна, тихо вышла из церкви...»:
Грудь под тонкой сорочкой прелестнее райских долин.
Пламя это иль поле, где благоухает жасмин?
Ее зубы — жемчужины, губы — йеменский рубин.
Кто увидит бровей ее дуги хоть раз лишь один,
Забывает мечеть, чуть она тихо выйдет из церкви.
Я, Вагиф, увидав ее взор и пленительный стан,
Позабыл про минбар и михраб 10, веру всех мусульман.
Лишь теперь понял я, что случилось с тобой, шейх Сан'ан.
Иль Тифлис затоплю я слезами, тоской обуян,
Иль она для меня, влюблена, тихо выйдет из церкви.
Исследователь творчества Вагифа азербайджанский
литературовед профессор Азиз Шариф. отметил, что «в
ряду любовных стихотворений Вагифа особое место
занимает мухаммас, посвященный молодой грузинке,
выходящей из церкви. Зная о пропасти, которая в
сознании фанатиков отделяет .приверженцев разных
религий %— христиан и мусульман, поэт восстает против
самой религии...»
Для того чтобы по достоинству оценить гражданский
подвиг поэта, воспевшего шейха Сан'ана, следует доба^
вить, что по действовавшим во времена Вагифа
законам шариата обоих главнейших направлений ислама —
суннитского и шиитского — мусульманин не имел
права заключить законный брак с иноверкой, в том числе
христианкой.
В Закавказье, Поволжье» да и других местах
мусульмане, христиане и люди иных вер, как и разных
племен и национальностей, веками жили бок о бок,
вместе работали, вместе делили радость и горе, вместе
боролись за лучшую жизнь. Й, естественно, что среди
них были и мужчины и женщины, которые любили друг
друга, хотели создать свою семью. Поскольку же
религия считала такие смешанные браки запретными, воз*,
никали конфликты и трагические ситуации. Это
волновало людей, и свое отношение к таким «запретам» они
выражали в народных песнях, сказаниях,
произведениях разных жанров.
Такова и дореволюционная татарская песня «Байт
10 Михр а б — ниша в мечети, указывающая сторону молит*
венного обращения мусульман — к Мекке.
16
Хаернисы», в которой народ заклеймил позором попа,
муллу и станового, надругавшихся над православной
русской девушкой и мусульманином
татарином-джигитом, полюбившими друг друга.
И за что страдало Двое
Юных, любящих, простых?
И зачем их было мучить,
Доводить до смерти их?
Обожгла любовь джигита,
С русской девушкой свела,
И кому б они мешали
Тем, что жизнь у них светла?
И теперь известны сказания не только о шейхе
Сан'ане и девушке-христианке, но, скажем, и об Асли
и Кереме, где горячо полюбившие друг друга армянка-
христианка и азербайджанец-мусульманин встречают,
казалось бы, непреодолимые препятствия. Однако
любовь оказывается сильнее суеверий и их охранителей.
Чувством победы юных сил, молодости отмечена пьеса
азербайджанского драматурга Гусейна Джавида
A884—1944) «Шейх Сан'ан».
В нашей стране браки людей из семей, члены
которых держались различных вероисповеданий, стали
обычными, повседневными. И все же эта тема не потеряла
актуальности и получает отражение как на страницах
художественных журналов, так и в театре.
? развитием реалистической прозы и Особенно
исторического романа в странах Востока возникают
произведения, в которых на большом жизненном материале
художники слова освещают исторические судьбы исла*
ма. К этому времени возрос исторический опыт людей.
Наблюдая и изучая религии, в том числе ислам,
передовые ученые и литераторы приходят к правильному
выводу, что эта религия, как и другие, не нечто
«божественное», раз^ и навсегда данное, а явление
историческое, вызванное к жизни определенными социальными
условиями и с течением времени претерпевающее
определенные изменения.
Решающее значение для развития вольнодумной и
атеистической мысли имел рост классовой борьбы, ши-<
рокий подъем национально-освободительного движения.
Русская революция 1905—1907 годов оказала глубокое
влияние на общественную жизнь стран Востока, она
1706-2
17
получила отражение и во множестве произведений
художественной литературы.
В Турции в апреле 1905 года jiost Тевфик Фикрет
пишет поэму «История», где, осуждая религию, служа-
вдую угнетателям и завоевателям, поет хвалу
просвещению и разуму, провозглашает здравицу сомнению.,
«Сомнение — твой враг, — пишет поэт, обращаясь к
аллаху. — Ты с ним знаком? Тебе не справиться с
таким врагом».
Поэма вызвала нападки на Тевфика Фикрета со
стороны поэта-панисламиста Мехмеда Акифа. Имея его
в виду, Фикрет опубликовал «Дополнение к «Истории»,
наградив своего оппонента кличкой «Молла Сырат», от
названия мифического моста, перекинутого через
мусульманский ад. Фикрет писал:
Учитель, так ты попадешь впросакз
Я тоже сын ислама как-никак.
Не разъясняй мне, как велик ислам;
Все, что ты знаешь, я постиг и сам.
* gj
Молился я, постился я, как ты;
Все было зря — молитвы и посты.
Закон мой: думать — действовать потом,
Закон: быть человеком, не скотом.
К чему пророки? Па^ок простой
Меня приводит к Истине святой...
Со мной природа — лучшая из книг.
Я правлю всем, добро и зло постиг.
Я с этой верой и уйду во тьму.
А воскресать? Пожалуй, ни к чему,
Тревог немало в этом сердце, где —¦
Любовь к моим собратьям, к их беде.
Быть человеком — мой святой обряд.
Что скажешь ты теперь, Молла Сырат? 1Г
Эти вопросы вставали перед многими* Так, видный
башкирский поэт Шейх-заде Бабич в .стихотворении
«Бог или Иблис» A916) подверг сомнению исламское
учение о всемогуществе аллаха. В простой доходчивой
форме поэт выразил протест против принижения чело^
веческой личности, изображения людей как пешек в
игре соперничающих высших сил — аллаха и дьяво*
ла — Иблиса:
11 Тевфик Фикрет. Белый парус. М., 1967, с, 135—139*
.18
На небе бог,
, На земле дьявол,
Я — мальчишка.
Один говорит «вера»,
Другой говорит «я»,
Каждый в свою сторону (тянет).
Не знаю:
То ли бог,
То ,ли дьявол
Надувают?!12
За год до появления этого произведения та же
Мысль, но в более решительной форме была высказана
классиком башкирской и татарской литературы Мажи-
том Гафури в стихотворении «Видно, нет тебя,
Аллах!..», напечатанном в Казани в журнале «Анг»
(«Сознание») и им же прочитанном в Уфе на вечере в
мусульманской семинарии — медресе «Галия». В этом
произведении поэт смело высказался против догматов
и учений ислама, как вводящих верующих в
заблуждение, обман, дающих превратное представление о
действительных причинах страданий народа. Обращаясь к
аллаху, называемому его проповедниками
«милосердным», Гафури говорил:
О, Аллах, видно нет тебя!.. Если б ты был,
Ты карал бы неправду и сеял добро
И не тратил своих сверхъестественных сил,
Чтоб возвысилось золото и серебро.
у Обездоленным дал бы ты кучи монет,
Богачу запретил, бы терзать бедняка,
На разбой и грабеж наложил бы запрет.
И в беде нас твоя поддержала б рука...
Ты могуч. Почему ж не издал ты приказ
И словечка не вымолвил ни одного,
Чтоб любовь процветала всегда среди нас,
Чтобы дружба справляла свое торжество?..
Стихотворение Мажита Гафури вызвало злобное
негодование фанатиков. Поэта проклинали во время
богослужений в мечетях, реакционный клерикальный
журнал «Дин вэ магишат» («Вера и жизнь»),
издававшийся в Оренбурге на средства миллионера Гани Хусаино-
ва, посвятил целый номер нападкам на поэта. Однако
история сделалд свой выбор: «Дин вэ магишат» редко
12 Ш е й х-з а д е Бабич. Шигирлэр мэджмуаси, кн. I.
Казань, 1922, с. 38 (арабск. шрифт),
19
кто вспоминает, да и то не добром, а стихотворения
Мажита Гафури вошли в золотой фонд нашей
литературы, их переводят, издают на разных языках, изучают
в школах...
Мысли, близкие высказанным Мажитом Гафури и
Тевфиком Фикретом, в части критики фатализма,
учения о божественном предопределении, насчитывают
века. Догмат о предопределении едва ли не более всего
вызывал возражений еще в средние века даже со
стороны некоторых мусульманских богословов.
В XI веке арабский поэт Абу-ль-Аля аль-Ма'арри
писал: «Если тот, кто совершит преступление, лишен
свободной воли, то наказывать его за его проступки —
не есть ли это жестокий произвол! Господь, когда соз*
давал руду, знал ведь заранее, что из нее будут поде-
ланы блестящие мечи. Знал же он, что этими мечами
будут проливать кровь люди...»
Веком позже Омар Хайям о том же предопределен
нии говорил в четверостишии:
Ты расставляешь западни на всех путях моих,
Грозишь убить, коль попадусь я вдруг в одну из них.
Ты сам ведь ставишь западни! А тех, кто в них попал,
Бунтовщиками ты зовешь и убиваешь их?
Да и кто такие люди, если они лишены свободы
воли, как учит ислам?
Кто мы? Куклы на нитках, а кукольщик наш — небосвод.
Он в большом балагане своем представленье ведет.
Нас теперь на ковре бытия поиграть он заставит,
А потом в свой сундук одного за другим уберет.
Даже те вольнодумцы Востока, передовые мысли
которых порой причудливо сочетались с
приверженностью к мистицизму, суфизму, чисто критически
относились к предопределению. Так, поэт Джелаладдин Ру-
ми A207—1273) выразил это отношение в
художественно переданном им споре мусульманского духовного ли^
ца — имама — с огнепоклонником. Последний,
использовав учение о предопределении, одерживает в этом
споре верх. Между тем по шариату обращать в
правоверие огнепоклонников или уничтожать их —
благочестивый долг мусульманина. А у Дж. Руми читаем:
Огнепоклоннику сказал имам:
«Почтенный, вам пора принять ислам!»
А тот: «Приму, когда захочет бог, N
Чтобы истину уразуметь я мог».
«Святой Аллах, — имам прервал его, —
20
Желает избавленья твоего;
Но завладел душой твоей шайтан:
Ты духом тьмы и злобы обуян».
А тот ему: «По слабости моей,
Я следую за теми, кто сильней.
С сильнейшим я сражаться не берусь,
Без спора победителю сдаюсь.
Когда б Аллах спасти меня хотел,
Что ж он душой моей не завладел?»
А выдающийся представитель афганской поэзии
XVII века, поэт и воин Хушхальхан Хаттак, впервые
призвавший сородичей к объединению в независимое
государство, учил не поддаваться ударам судьбы, рока:
Пусть рок тебя и ввергнет в пасть ко льву,
Не думай «гибну»! Знай — «переживу».
Пытайся изловчиться в пасти львиной!
Стремись к освобожденью, к торжеству,
И лев еще придет к тебе с повинной!
В кошмаре — смерть. Спасенье — наяву.
В новелле современного иранского прозаика и
драматурга Садека Чубека (род. в 1916 г.) «Первый день
в могиле», предсмертные рассуждения миллионера
хаджи 13 Моатамеда перемежаются не только с критикой
предопределения, но и с откровенным атеизмом.
Моатамед, по словам автора, на принадлежавшем
ему участке земли, в саду, приказал выстроить для себя
большую благоустроенную гробницу. Осматривая ее,
Моатамед отослал сопровождавшего его управляющего
и решил примерить, по росту ли ему выкопана могила-
Спрыгнув в нее, он задумался. Перебирая годы своей
долгой жизни, вспомнил, как, поднимаясь все выше и
выше по социальной лестнице, он был безжалостен к
тем, кто ему мешал, не любил и не жаловал ни лаской,
ни деньгами и близких — ни свою жену, ни детей и
внуков... Не останавливался он и перед совершением
тягчайших преступлений, на его совести было девять
убийств. Но, обращаясь к аллаху, он тотчас добавил:
«Онеметь мне, онеметь на месте, но если бы ты не
хотел, разве кто-нибудь убил бы хотя бы вошь?»
Вспомнив же о воскресении мертвых, которого ему,
мусульманину-шииту, придется ждать пятьдесят тысяч
лет, Моатамед, как деловой человек, забеспокоился:
13 X а д ж и — духовный титул мусульманина, совершившего
хаджж — религиозное паломничество в Мекку,
21
«— Сколько же времени нужно ждать, чтобы
узнать, что тебе уготовано — рай или ад? Наверное, —
рассуждал он, — до дня пятидесятитысячелетия? И что
же, все это время так и лежать без дела и мучиться?.
А что будет с праведниками? Неужели их души
должны в смятении блуждать до дня пятидесятитысячеле*
тия, ожидая приглашения в рай? Сдается мне, что и в
том (посмертном. — Л, /С.) мире нет порядка, пусть
отсохнет мой язык, а там тоже, видно, царит неразбе-*
риха... О господи, я боюсь тебя. Но не стану лгать, не
уверен, есть ли ты или тебя нет? Ты сам вселил сомне*
ние в души людей и тем вызвал распри и кровопцрлит-
ные войны. Разве тебя кто-нибудь видел? Как можно
быть ничем и одновременно всем? Говорят, ты послал
на землю сто двадцать четыре тысячи своих пророков
для того, чтобы заставить людей признать тебя и
поверить в твое существование. Но ты знаешь, ни один
из них не смог доказать, что ты существуешь» и.
Как видим, современный писатель, получивший
образование в Иране, Англии и Америке, точно
излагающий мусульманские представления, высказывает
вольнодумные, атеистические взгляды, которые он вложил
в уста своего персонажа хаджи Моатамеда. Сатира его
продуманна и логична. Хаджи Моатамед вполне
последователен и в критике учения о предопределении, и в
своих описаниях по поводу длительности посмертного
ожидания воскресения мертвых. Ибо ведь не только в
шиитском, но и в суннитском направлении ислама, как
и в Коране, по этому поводу допущены
непоследовательности и противоречия. В частности, в Коране нет
единого ответа на то, когда наступит посмертная жизнь:
сразу после смерти или лишь после воскресения мерт*
вых и Страшного суда (а у шиитов — и возвращения
«сокрытого» двенадцатого имама — махди), когда
умершие получат «направления» в рай, ад или на
«преграды»...
Однако не будем входить здесь в эти «тонкости» и
пойдем дальше* В исламе, как и в других религиях,
сложная обрядность. Верующие должны не только
признавать положения догматики (то есть веровать в
единство бога, посланничество Мухаммеда и божественность
миссии других пророков, в существование ангелов и
чертей, предвечность Корана, в рай и ад, воскресение
и С а д е к Чу бек. Избранное, М., 1972, с. 70—71,
22
мертвых и в судный день и т. д.), но и совершать
пять раз в сутки молитву, платить религиозные подати,
соблюдать посты и праздники, предпринимать
паломничества и выполнять другие обряды и обычаи. Как и в
религиях Древнего Востока, доказать свою
принадлежность к исламу верующий может прежде всего своим
участием в жертвоприношениях и процессиях,
выполнением подробных предписаний бтносительно приема пи-*
1ци, омовений и т. п.
И в эту обрядовую область жизнь вносит все более
существенные коррективы. Современность нельзя
помирить со средневековыми установлениями, сколько бы
ни старались реформаторы и модернизаторы ислама,
как и других культов. В той или иной мере этот процесс
происходит во всех странах, и причудливые формы,
которые он порой принимает, получают отражение в
художественной литературе.
Вот небольшой рассказ сравнительно молодого
арабского писателя Закарии Тамера (род. в 1931 г.)
«Восточная свадьба».
Перед нами семья горожанина среднего достатка в
современной Сирии. Для отца семьи установления
ислама — уходящая из рук узда, воспользовавшись
которой он надеется удержать «в руках» сына, воспитать
его в привычных традициях мусульманского адаба —
в правилах «достодолжных приличий», вежливости и
послушания. Сын же, Салах, смотрит на эти
установления гораздо проще. Он ищет возможности облегчить
себе учебу в школе по обязательной, но плохо дающейся
ему арифметике.
Однажды, вернувшись из школы, Салах «с
отвращением швырнул в угол учебники и тетради,
— Что с тобой? — спросила мать,
— Надоела мне эта школа!
— Почему же вдруг надоела?
Салах помолчал, потом вдруг выпалил:
— Хочу жениться!
Мать радостно всплеснула руками, но, встретив су-'
ровый взгляд мужа, застыла и робко спросила его:
— Разве ты против?»
Отец был против, он резким голосом объявил сыну,
что считает его непослушным и непочтительным.
Однако сын знал, как воздействовать на родителя.
Женитьба, обещал Салах, переломит его, сделает прилежным*
23
«— С этой минуты, лапа, я буду самым примерным,
самым набожным...
— И не пропустишь ни одной молитвы?
— Буду совершать намаз пять раз в сутки! — по*
клялся сын.
— И соблюдать пост?
— Да, буду поститься весь рамадан...15
— И станешь вовремя приходить домой? х
— Обещаю ложиться спать рано.,,
— Перестанешь пить вино?
— Ни капли! И в Мекку пешком пойду!
— Ну ладно, подойди ко мне! Целуй руку! —
смягчился отец.
Салах приблизился к отцу и почтительно приложил*
ся к родительской руке,
— Целуй три раза!
Салах повиновался»*
Отец остался доволен. Устроил его и ответ, на ком
он хочет жениться:
«— Я женюсь на девушке, которая придется по
нраву моим родителям...»
С согласия мужа мать, мечтавшая, по ее словам,
«увидеть при жизни твоих детей и детей твоих деток»,
привела — точно на смотрины — соседскую дочь Хей-
фу. Когда Салах и Хейфа остались одни, он, долго
рассматривавший ^(ейфу, внезапно спросил:
«— Ты умеешь решать задачки по арифметике?*
Девушка утвердительно кивнула. Салах облегченно
вздохнул и рассмеялся.
— Тебе мама сказала, в чем дело?
— Ничего она мне не говорила...
— Не говорила, что я собираюсь жениться?
— Нет.
— И не говорила на ком?
— Нет.
— Я хочу жениться на тебе. Вот так! Ты не против?
Хейфа притворно засмущалась и тихо ответила:
— Я не знаю... По мне... как родители скажут...
— Ты умная девушка, — сказал Салах. — Будешь
помогать мне решать задачки по арифметике?
16 Рамадан или рамазан — девятый месяц мусульманского
лунного календаря, в течение 30 дней которого мусульманам
предписан пост — саум, ураза.
« Конечно, буду.
Салах радостно закричал,
— Мама! Мама!»
Вопрос был решен. Сошлись отцы обеих сторон. На
вопрос отца Салаха: «Сколько же^ты за нее хочешь?» —
отец Хейфы ответил:
«— Ну... дочь у меня красивая, образованная... Так
и быть, из уважения к вам согласен отдать ее по трид?
цать пять лир за килограмм».
Окончательно сторговались «по тридцать за кило*
грамм... Ударили по рукам! Забрав с собою Хейфу,
мужчины поспешили на рынок, пока он еще не
закрылся. Там^девушку поставили на большие весы, и они по*
казали пятьдесят килограммов. Отец Салаха тух же
уплатил деньги».
Покончив с шариатскими формальностями, невесту
привели в комнату для новобрачных. Дверь закрыли на
ключ.
«— Так, значит, ты согласна помогать мне по ариф*
метике? — спросил Салах.
— Конечно, я помогу тебе.
— Только не смей говорить об этом маме и папе!
— Никому не скажу» 16.
Так формально, в патриархальных традициях, по му*
сульманскому адабу, был заключен этот
скоропалительный брак, и таковы были его действительные моти^
вы. Обещания юноши свято соблюдать требования
ислама, даже совершить пешком благочестивое
паломничество в Мекку, шли не от сердца. Они служили сред-»
ством воздействия на отца, держащегося
консервативных привычек, в них не было ничего от идейной убеж->
денности, религиозных мотивов.
Обрядовой стороне ислама уделяют немало
внимания и писатели советского Востока. Особенно привлек
кает в их произведениях психологический анализ и
стремление разобраться в социальной сущности этих
установлений, а также в их современных модернизиро^
ванных формах. К одному из таких произведений —
повести таджикского писателя Фазлиддина Мухамма-
диева «Путешествие на тот свет, или Повесть о
великом хаджже» — мы и перейдем.
16 3 а к а р и я Т а м е р. Дамаск пожарищ. М., 1977, с. 8—12.
25
«ПОВЕСТЬ О ВЕЛИКОМ ХАДЖЖЕ»
|Ца турбовинтовом воздушном гиганте мы отправ-
* *ляемся в паломничество.
Нас восемнадцать человек. Семнадцать
священнослужителей — мулл, имамов, мударрисов, хатибов, му-,
тавалли, и восемнадцатый — я, ваш покорный слуга,
врач-терапевт; как говорит пословица, покойник среди
мертвецов».
Так, с противопоставления, начинается книга
современного таджикского писателя Фазлиддина Мухамма-
диева «Путешествие на тот свет, или Повесть о
великом хаджже», удостоенная Государственной премии
^Таджикской ССР имени Рудаки за 1967 год. Она изда*
на на таджикском языке — «Дар он дуньё. Киссаи хач*
чи акбар» (Душанбе, 1966) и в авторизованном
переводе в журналах «Дружба народов», «Наука и
религия», «Звезда Востока», в «Роман-газете» A966, № 22),
библиотечке «Пятьдесят лет советского романа»
издательства «Известия» (М., 1969) и в других отдельных
изданиях.
- В повести увлекательно, в острой сатирической
форме рассказано об одном недавнем «благочестивом» пу-<
тешествии — хаджже из нашей страны в «священные
города» мусульман — Мекку и Медину, передан
своеобразный «дневник» паломника.
Обычай паломничества — хаджжа — в Мекку к
храму Каабы для совершения религиозных обрядов
праздника жертвоприношения возник у жителей
Западной Аравии в древности, задолго до ислама. Ежегодно
осенью, совершая обряды хаджжа, древние арабы, не
понимавшие действительных причин явлений природы,
от которых зависела их жизнь, обращались к своим
богам с молитвами, прося обеспечить хороший приплод
их стадам и дать обильный урожай, злаков и фиников.
Этот обычай был усвоен исламом. В третьей главе
Корана он выдан за божественное установление и обязан^
ность верующих — «для тех, кто в состоянии совер^
шить путь» в Мекку к храму Каабы.
Однако с введением в государстве арабских
халифов лунного календаря связь паломничества в Мекку
и обрядов праздника жертвоприношения с
определившим их возникновение моментом хозяйственного года
древних арабов порвалась. Этот праздник и хаджж ста*
26
ли проводиться ежегодно, считая по солнечному
календарю, на 10, 11 или 12 дней раньше, чем в предыдущем
году, и получили новое истолкование. Для этого
использовано древнее сказание о попытке принесения проро-
ком Ибрахимом (в Библии — Авраамом) своего сына
Исмаила (Исаака) в жертву богу и чудесной замене
Исмаила бараном. Этот миф символизировал переход
от человеческих жертвоприношений богам
^принесению в жертву животных.
С распространением ислама вне Аравии,
паломничество в Мекку к храму Каабы потеряло первоначальный
местный характер. Его стали совершать уже не только
арабы из близких, политически и экономически
зависимых от мекканцев родов и племен, но и обращенные
в ислам жители других областей Аравии и остальных
стран. Хаджж получил значение, религиозного
установления, выполнить которое мусульманин обязан был
хотя бы раз в жизни при наличии для этого достаточных
средств и свободных путей сообщения. Впрочем, эти
оговорки никогда не соблюдались. И теперь в числе
паломников в Мекку в большинстве люди
несостоятельные, обездоленные, подавленные нищетой и бесправии
ем, подчас десятилетиями откладывавшие из скудных
средств сбережения на хаджж.
Наряду с паломничеством в Мекку повсюду, где
живут мусульмане, стал вводиться ежегодный
«большой праздник» жертвоприношения — ид аль-адха, или
курбан-байрам. И подобно тому как паломники,
прибывшие в Мекку на хаджж, совершают религиозные
обряды в Каабе и ее окрестностях, в других городах и
селениях, а также близ них мусульмане посещают в дни
курбан-байрама мечети и местные «святыни» и режут
предназначенный в жертву скот* В Аравии же с
возведением обширных храмов и развитием транспорта
вошло в обыкновение завершать хаджж в Мекку и ее
окрестности посещением мечетей и почитаемых мест в
городах Таиф и особенно в Медине. Естественно, что
посещение «города пророка» (Мадинат ан-наби), как и
Мекки и Таифа, предоставляется хаджиям не
безвозмездно, С давних времен прибытие в эти города
большого числа паломников используется в экономических
и политических интересах тех, кто эти посещения
поддерживает и организует. Как поставлена система"
«обработки» и обирания паломников в наши дни, правди-
27;
во рассказано в «Повести о великом хаджже»
таджикского писателя. «Великим» принято называть хаджж,
когда десятое - число месяца зу-ль-хиджжа — первый
день праздника жертвоприношения — приходится на
пятницу — еженедельный мусульманский праздник.
Так было в год хаджжа, описанного в повести Ф, Му-
хаммадиева.
Литература о хаджже возникла давцо и
насчитывает большое число сочинений, написанных на разных
языках. Наиболее многочисленны среди них
произведения типа «книг о паломничестве» (кутуб аз-зийарат),
или, иначе, «хождений по святым местам», рекламного
характера. Уже названия таких сочинений говорят о
многом, например: «Совершенства обоих священных
городов», или «Привлечение сердец к стране
возлюбленного», то есть посланника аллаха.
Книга советского таджикского писателя внесла в эту
литературу новое, свежее слово. Когда-то считалось,
что повидавшему святыни Мекки и Медины нечему
больше дивиться на свете; известны случаи, когда,
совершив хаджж, фанатики устремляли свой взор на
раскаленные камни и ослепляли себя. Чувства, которые
вызвал хаджж у врача Курбана — героя повести
Ф. Мухаммадиева, совсем другие: они полны друже->
ского участия к народам, жизнь которых ему там
приоткрылась, и гордости за достижения своей
социалистической Родины. Ни вражеское шипение, ни тайные
посулы не могли затемнить ее яркий свет. Напротив,
восемнадцатому «паломнику», от лица которого
написана книга, хаджж помог обрести «способность видеть
лик родной земли не только сквозь облака, но и за
много-много тысяч верст».
Вместе с тем Ф. Мухаммадиев не нарушил
традицию, возникшую в странах распространения ислама
еще в средние века. Ведь описание «священных
городов» еще тогда стало обязательным для литераторов,
особенно тех из них, кто побывал* на хаджже в Мекке
и Медине. Из таких произведений в нашей стране не
раз, в том числе в неполном русском переводе,
издавалась «Книга путешествия» ч (Сафар-намэ) известного
таджикского поэта и мыслителя Насир-и Хосрова (ок.-
1004—1088). Из таких работ, впрочем, можно узнать и
о том, что не все путешествия, в Мекку,
предпринимавшиеся мусульманами даже в далекое от нас время, за*
28
канчивались с угодным ревнителям ислама
«благочестием».
Интересен, в частности, рассказ об астрономе
Абу Ма'шаре из Балха (ум. в 886 г.), сохранившийся
в биографическом словаре писателей арабского
литератора и путешественника Иакута ибн Абдаллаха
A179—1229). Отправившись на хаджж, Абу Ма'шар в
пути, близ Багдада, попал в знаменитую библиотеку
«Сокровищница мудрости», куда «направлялись люди
со всех стран, оставались там и изучали разные
области наук». Ознакомившись с этой обширной
библиотекой, Абу Ма'шар «был ошеломлен» ее богатствами. «Он
там остался и бросил думать про хаджж; в ней он изу*
чил науку о звездах и углубился в нее, так что стал
отступником. И было это концом его знакомства с
хаджжем, и с религией, и с исламом» К
Европейская литература о хаджже написана по
преимуществу людьми, проникшими и иногда подолгу
жившими в Мекке под личиной духовного лица или купца-
мусульманина. Первым из них был римлянин Лодовико
Вартема, отправившийся в арабские страны из
Венеции. В Сирии он изучил арабский язык и оттуда под
видом мусульманина совершил хаджж в 1503 году.
Мекка до сих пор считается городом, закрытым для
немусульман; каждый, кто нарушит этот запрет,
может оказаться вне закона, ему грозит жестокая кара,
смерть. Естественно поэтому, что в Мекку, тем более на
хаджж из иноверцев отправлялись, как правило, люди,
охваченные стремлением получить там интересные им
сведения или выполнявшие волю тех, кому они служи-*
ли. Все же среди побывавших в Мекке под видом хад<
жиев, например, в прошлом веке были и крупные ис«
следователи и политические деятели. Некоторые из
них свои наблюдения и собранные на месте материалы
изложили в ряде сочинений. Таковы работы
швейцарского востоковеда и путешественника Иоганна Бурк-
хардта, в 1814 году, под видом купца Ибрахима ибн
Абдаллаха из Сирии, совершившего хаджж в Мекку и
в начале 1815 года бывшего в Медине, английского
путешественника и дипломата Ричарда Бэртона,
проникшего в Мекку в 1853 году под видом афганского
шейха, голландского востоковеда и колониального чинов-
J Цит. по: И. Ю. К р а ч к о в с к и й. Арабская географическая
литература. — Избр. соч. Т. IV, М.~Л., 1957, с. 73.
29
ника Христиана Снук-Хюргронье, совершившего хаджж
с караваном паломников из Индонезии и под видом
изучающего Коран мусульманина Абд аль-Джаффара
прожившего в Мекке шесть месяцев в 1885 году.
В XX веке европейцы, годами живущие в Мекке или
других городах Аравии и описывающие ее (как,
например, англичанин Джон Филбя), — лица, большей ча*
стью принявшие ислам; последнее, конечно, не мешает
тем из них, которые служат империалистическим кру*
гам государств Запада, выполнять волю и задания сво*
их заокеанских хозяев*
Ф. Мухаммадиев реалистично рисует трудности
хаджжа для паломников наших дней, В пути из Мекки
и Медины еще в Саудовской Аравии «разнесся слух,
что позавчера в аэропорту святой Джидды скончалось
пятьдесят паломников. Столько же хаджи отдали богу
души и в морском порту города. Некоторые говорили,
,что началась чума и это ее первые жертвы. Другие
утверждали, что они умерли от солнечного удара. Людей,
ожидавших самолеты и корабли, так много, что не всем
нашлась защита от иссушающих мозг лучей солнца.
На лицах моих подопечных, — автор ведет рассказ
от имени уже упомянутого доктора Курбана, —
запечатлен траур.» В святой долине Мина (на окраине Мек*
ки* ~ JIt К.) до нас ежедневно доходили вести о
смерти одного или нескольких паломников. Тогда мои
спутники утверждали, что «счастливчик тот, кто умер; верх
счастья умереть на пороге благословенной Мекки или
лучезарной Медины»* Сейчас это известие ни у кого
не вызывало радости. Видимо, они не очень-то спешили
расстаться с жизнью во славу Аллаха».
Известно, что в прошлом смертность среди палом*
ников нередко была чрезвычайно высока. Часто также
хаджи страдали от отсутствия охраны в пути, обира«
лись таможенниками, становились добычей налетчиков.
Так было и в годы правления тех халифов, которых
некоторые авторы и теперь идеализируют, изображают
правителями, пекшимися о процветании ислама и его
«священных городов». Швейцарский исследователь
средневековой арабской литературы Адам Мец A869—
1917) не случайно отметил, что фраза «он умер во
время хаджжа» «до ужаса часто повторяется в
биографиях».
И Мецг со ссылками на соответствующие страницы
30
арабских источников, приводя даты по лунному му*
сульманскому и солнечному общепринятому календ^*
рю, добавил* «В 395/1004 г» караван паломников на об*
ратном пути испытывал такой острый недостаток в во*
де, что люди мочились в пригоршню и пили эту жид*
кость, В 402/1011 <ч бурдюк воды стоил 100
дирхемов2, В 403/1012 i\ бедуины спустили воду из водо*
емов, расположенных вдоль дорЬги паломйичёйгва, а в
колодцы набросали горьких колючек. В результате
15 тыс. паломников погибли или были взяты в плен..,
В 405/1014 г* вновь погибли 20 тыс, паломников, а 6 тыс.,
спаслись только потому, что пили верблюжьей мочу и
ели верблюжье мясо»*
Лишения и ужасы, переживавшиеся паломниками,
получили" отражение и во многих произведениях
художников слова из мусульман, которые не раз остерегали
читателей от совершения хаджжа. Так, еще в XIV веке
выдающийся персидский поэт-сатирик Низамаддин
Обейд Закани в своих «Определениях» заключал, что
хаджи «** это «ТОТ) кого обманули в Каабе»* А в
своих «Советах» он же, приводя моральные доводы,
предупреждал: «Не совершайте хаджжа»3*
О том, что хаджж не служит добру, что он не
воспитает в человеке благородства, говорится и в много*
численных пословицах стран распространения ислама,
Так, старая туркменская пословица гласит: «Хотя ты в
Каабу ходил, но глаза у тебя прежние». То же и чечен*
екая пословица отмечает: «Хоть в Мекку повези, остро*
та чеснока не пройдет». А мудрость афганцев
остерегает: «Осел, если и до Мекки дойдет, — останется все
тем же ослом».
" Метко сказано в пословице, записанной на языке
хинди, и о ханжестве богомольцев: «УйичтожиЙ
девятьсот 1^ышей, кошка отправилась для паломниче*
ства в Мекку», А турецкая мудрость поучает* «Бойся
хаджи, топчущего песок, я ходжи4, лижущего чернила»,
2 Дирхем — серебряная монета достоинством около 50 ко-»
пеек.
3 Обейд Закани. Веселая книга. М., 1965, с. 53 и 63.
4 X о д ж а — титул лиц, ведущих свою действительную или
мнимую родословную от одного из трех первых арабских хали«
фов — Абу Бекра, Омара, Османа, правивших в 632—656 годах
и почитаемых мусульманами-суннитами. В просторечии слово «ход*
жа» («худжа») употреблялось в значении «господин», «хозяин», В
данном случае имеется в виду чиновник, письмоводитель.
В!
Очень давно замечено, что хаджж воспитывает в
людях не гуманные, а эгоистические чувства, так же,
очевидно, как и всякое религиозное учение о личном
«спасении», или возможности приобретения своего рода
«индульгенции» (то же: духовного титула хаджи!),
того, что якобы обеспечит верующему снисхождение со
стороны «высшей силы» и почет.среди единоверцев*
Один из наблюдательнейших арабских писателей,
аль-Джахиз. из Басры G75—868) отметил в «Книге о
скупых» (Китаб аль-бухала):
«Я сам видел, как погонщики ослов, хорасанцы, чис«
лом около 50 человек, обедали на огородах близ
деревни аль-Араб на пути в Куфу (город в Ираке. —
77. К.) — они как раз отправлялись в паломничество в
Мекку. И я не видал из всей полусотни и двух человек,
которые ели бы вместе, хотя все они и сидели при этом
близко друг от друга, а некоторые даже разговаривали
между собой. Ничего поразительнее этого я не видел
среди людей!»5
В произведениях выдающихся поэтов и мыслителей
Востока содержатся и другие зарисовки с натуры, до-»
полняющие наблюдение Джахиза. Так, стяжавший мй*
ровую славу поэт Саади (ок. 1184—1291), раз
пятнадцать бывший в Мекке, в своем сочинении «Гулистан»
рассказывает, как «однажды среди пеших паломников,
совершавших хаджж, завязалась ссора. Я тоже был
пешим паломником в этом путешествии, — сообщает
Саади.— Мы вцеплялись друг другу в волосы, царапа*
ли лицо, всячески ругались и дрались. И вот я слышу,
как один из ехавших в паланкине говорит своему
товарищу:
— Удивительно! Когда костяная пешка дойдет до
края шахматной доски, она делается ферзем, то есть
становится лучше, чем была, а пешие паломники,
идущие в Мекку, пройдя пустыню, сделались хуже,
О друг мой, передай хаджи, который обижает бедных,
Бранится, оскорбляет всех и будоражит весь народ:
«Хаджи не ты, а твой верблюд — бедняга терпелив и скромен,
Одни колючки только ест и ношу, не ропща, несет...»6
Саади, как видим, не разделял взгляда мусульман^
ских богословов, считавших, на основе 91-го стиха 3-й
5 Аль-Джахиз. Книга о скупых. М., 1965, с. 36.
6Мушрифаддин Саади. Гулистан. Розовый сад. М.„
1957, с. 243.
32
главы Корана, что хаджж для бедных не обязателен.
Этот взгляд был развит в написанном за 176 лет до
«Гулистана» своеобразном мусульманском «домострое»
«Кабус-намэ», утверждавшем, что аллах — «творец
обоих миров нищих в дом свой (Каабу. — Л. К.) не
звал. Ведь если нищий совершает хаджж, он подвергает
себя опасности, ибо нищий, совершающий дело
богатых, подобен больному, совершающему дело здорового,,
и рассказ, о нем точь-в-точь похож на рассказ о двух
хаджи, одном богатом, другом бедном».
Рассказ этот таков: «Слыхал я, что однажды правил
тель Бухары задумал посетить дом божий. Человек он
был крепко богатый, и в караване том не было никого
его богаче. Больше ста верблюдов было под его
вьюками, а (сам) он сидел на носилках и ехал по пустыне,
покачиваясь и нежась, со всеми припасами (и утварью,
что бывает и дома). Много народу, нищих и богатых,
шло вместе с ним.
Когда доехал он до Арафата (до горы близ
Мекки. — Л. /(.), попался ему навстречу нищий дервиш7,
босоногцй, терзаемый жаждой и голодом. Все ноги у
него были покрыты пузырями. Увидел он правителя
Бухары в такой неге и довольстве, обратился к нему и
сказал: «В день воздаяния будет награда мне и тебе
одна и. та же, ты же едешь в таком богатстве, а я в
таких мучениях».
Правитель Бухары ответил ему: «Избави боже,
чтобы награда моя была равна твоей награде! Если бы я
знал, что меня и тебя уравняют, никогда бы не выехал
я в пустыню».
Дервиш спросил: «Почему?»
Тот ответил: «Я выполняю приказ господа
всевышнего, а ты нарушаешь его. Меня звали и я — гость, а
ты прихлебатель. Разве может сравниться
прихлебатель с почетом званого гостя? Господь всевышний при«
гласил богачей, а беднякам сказал: «И не ввергайте
сами себя в (опасность) погибели». Ты без приказа
господа в нищете и голоде пришел в пустыню, подверг
себя опасности и не послушался приказа божьего.
Зачем же ты хочешь равняться с послушными приказу?»
i ; \
7 Дервиш — мусульманский мистик, обычно принадлежащий
к одному из «братств», орденов; в переносном смысле — бедняк,
нищий, бродяга.
33
И автор «Кабус-намэ» добавлял* «А для хаджжа
нужно наличие пяти условий: власть, богатство, свобод*
ное время, почет и безопасность, и спокойствие»8.
Рассказ в «Кабус-намэ» красноречиво выявляет
неравенство, существовавшее в средние века между муу
сульманами-паломниками, и то пренебрежение, которое
проявлялось правителями к бедным, даже если они
были дервишами. Рассказ 'был правдив, и его злободнев*
насть не проходила с веками. Не случайно в сжатом
виде он был повторен в сборнике анекдотов и
блестящих рассказов писателя начала XIII века Мухаммеда
Ауфи в его «Джавами аль-хикаят ва лавами ар-рива*
ят». Характерно также, что бухарский правитель у
Ауфи назван садром, то есть лицом высшего духовного
звания. В годы жизни Ауфи в Бухаре правили садры,
причем садра Мухаммеда, совершившего во главе
большого богатого каравана хаджж в Мекку, народ
прозвал вместо садр-и джахан (столп мира) — садр-и
джаханнам — столп ада, геенны. Отсюда ясно, что,
включая в свой сборник этот рассказ, Ауфи
откликался на социально важную для его времени тему.
Суждение о хаджже ка# религиозной обязанности,
установленной для ублаготворения одних богатых, од^
нако, расходилось как с практикой, так и с учением му-*
сульманских мистиков (суфиев, дервишей) о тавакку-
ле — «уповании на бога». Согласно таваккулю отправ«
ляться в хаджж не имея средств — «уповая на милость
Аллаха» — считалось благостным. Если
нищенствующий паломник даже умирал не дойдя до Мекки,
говорили, что такой смертью он заслужил место в раю.
Но не все причастные к мусульманскому мистициз*
Му — суфизму, дервишизму, разделяли принцип тавак-
куля. Очень рано в суфизме возникло течение,
сторонники которого держались мнения о необязательности
хаджжа. В упоминавшемся нами биографическом
словаре писателей Иакута указано, что в конце X века
суфием и мутазилитом9 Абу Хайяном ат-Таухиди была
написана «Книга об умственном хаджже (хаджж акли),
когда предусмотренный законом хаджж слишком обре-*
менителен». А автор известного суфийского труда «Рас-
8 Кабус-намэ. М., 1953, с. 20, 21.
9 Мутазилиты — сторонники
умеренно-рационалистического течения в исламе, отвергавшие догмат о предопределении и в
противовес ему державшиеся взгляда о свободе человеческой воли,
34
крытие скрытого за завесой» (Кяшф аль-махджуб)
Абу-ль-Хасан аль-Джулляби из Газны (современный
Афганистан) в XI веке писал: «Совершенно
безразлично, быть ли в Мекке без Аллаха или дома без Аллаха,
также как безразлично, быть ли дома с Аллахом или
в Мекке с Аллахом».
Но у мусульманских Мистиков этот взгляд, как
правило, был связан с выдвижением местных культов
святых и с обычаем посещения их гробниц — мазаров,
турбе. Посещения эти — зиараты, — как стали поучать,
заменяют хаджж. Характерен в связи с этим рассказ
о почитаемом шейхе IX века Баязиде (Бу-Язиде)
Вистами, одном из ранних суфиев Хорасана, содержащийся
в «Месневи» поэта и основателя дервишского ордена
мевлеви Джелаладдина Руми,
Баязид, отправившись в хаджж, по дороге в Мекку
заехал к другому суфийскому шейху, считавшемуся
ариф'ом, то есть «постигшим божественную истину». И
тот посоветовал Баязиду: «Вместо того, чтобы ехать в
далекую Мекку и семикратно обходить Каабу, можешь
обойти тут, вокруг меня, семь раз! Если Кааба —
святой храм, то ведь сердце человеческое — обиталище
божье, вместилище его тайн* Кааба сердца достойнее
Каабы здания».
По словам идеолога хорасанского суфизма Абу-ль-
Хасана Харакани, так относились и к посещению
самого Баязида Вистами, В книге Харакани «Свет наук»
(Hyp аль-'улум) читаем: «Некий великий муж пришел
к Бу-Язиду на поклон. Уходя, он сказал одному из му-
ридов (учеников, послушников. — Л, К.) шейха: «Это
посещение я сравню с обычаем хаджжа покорности».
Другой раз он пришел на поклон и сказал тому же му-
риду: «Ты передал эти слова ходже или нет?» Ответил:
«Нет». Он одобрил, говоря: «Эти мои слова были
ошибкой, ибо для обычая хаджжа можно найти сравнение,
а созерцание» «друга божьего» ни с чем сравнивать
нельзя»10. Близко к этому и не раз находимое у
Дж. Руми требование совершения хаджжа не в Каабу
камня в Мекке, а в Каабу своего сердца, «если у тебя
есть сердце». -
Таким образом, критика хаджжа суфиями была
ограниченной и непоследовательной. Она исходила из ин-
10 Hyp аль-улум. — В кн.: Иран. Т. III. Л., 1929» персидск.
текст — с, 188, перевод ~ с, 216,
сб
тересов выдвижения местных культов святых, как
правило, поддерживавшихся феодалами в их
экономических и политических интересах. Нелишне напомнить,
что в старину и на Руси почти каждый удельный 1(нязь
старался обзавестись своими местными святынями —
скитами, монастырями с праведниками, чудотворными
иконами и мощами, неоднократное посещение которых
приравнивали к паломничеству ко «гробу господню» в
Иерусалиме и т. п.
Практика ислама и, в частности, хаджжа не
представляла в этом исключения. Видными богословами
ислама устанавливалось, сколько раз нужно посетить
ту или другую почитаемую мечеть или гробницу, чтобы
эти посещения заменили паломничество в Мекку.
Подмена хаджжа посещением «святынь» в другом месте не
раз происходила и по политическим мотивам. Было
также установлено, что состоятельный мусульманин, для
которого хаджж обязателен, при желании может не
затруднять себя поездкой в Мекку: ему дано право
нанять поверенного, векиля, который за мзду совершит
паломничество на благо пославшего его богача.
Таким образом, если критика хаджжа у мистиков в
какой-то мере расшатывала некоторые установления
ортодоксального ислама, то она никогда не
поднималась до той ясной и принципиальной позиции, которую
встречаем как в фольклоре, так и у виднейших поэтов
и вольнодумцев тех же веков.
Напомним замечательные стихи поэта и философа
XI века Абу-ль-Аля аль-Ма'арри из его сборника
стихов «Обязательность необязательного» («Лузум ма ля
йалзам», или, короче, «Лузумият»), где он высказал об
^установлениях ислама глубокие мысли. Поэт смотрел
на ислам, как'на одну из религий, которые возникают
с развитием общества и затем сменяют друг друга или
продолжают существовать одна подле, другой. Намног-о
поднявшись над нетерпимостью к людям другой веры,
прививаемой религиями, — по учению каждой из них
«божественная истина» принадлежит только ей одной, —
он с удивительной проникновенностью и простотой
подверг критике религиозные заблуждения своих
современников — христиан, иудеев, зороастрийцев и
мусульман. Абу-ль-Аля писал:
Твердят христиане: «Всесилен Христос».
Ну, как не дивиться той силе!
об
Какой бы всесильный безропотно снес,
Когда его смертные били!
Нам хвалят евреи свое божество,
О добром твердят Иегове.
Он добрый? Как странно! Тогда отчего
Он требует жертвенной крови?!
Обряды персидские дико смешны.
Царю удивляюсь Хосрову11:
Ведь, чтобы «очиститься», персы должны
Умыться... мочою коровы.
Разумностью, логикой веры своей
И ты не хвались, мусульманин!
В дороге пройдя мимо сотен камней,
Лишь в Мекке целуешь ты камень.
Религия хитрым сплетением слов
Силки для людей расставляет.
Различны силки -т- неизменен улов:
Глупец в них всегда попадает.
Мысли, высказанные Абу-ль-Аля, сохраняют сзое
значение и в наше время, когда, несмотря на огромный
прогресс науки и техники, порой еще удерживаются
пережитки древних культов, в их числе связанные с
почитанием камней и других фетишей. Конечно, теперь
эти культы часто вуалируются новыми истолкованиями,
но все же их первоначальная суть ясно себя
обнаруживает. А это как раз та старая основа, которая прежде
всего вызывала критическое к себе отношение. Даже
халифу Омару I приписывают следующее изречение, с
которым он якобы обратился к «черному камню» —
аль-хаджар аль-асвад, теперь вмурованному на $ысоте
полутора метров в нишу в восточном углу Каабы: «Мне
хорошо известно, что ты — только камень, который не
может приносить ни пользы, ни вреда. Если бы я не
видел, что тебя целовал пророк, то я бы никогда не
целовал тебя».
Этот «черный камень» — кусок лавы или базальта
метеоритного происхождения — в исламе выдается за
чудесно спущенного из рая окаменевшего ангела, кото^
рый-де в день Страшного суда предстанет в роли
заступника целовавших его верующих. Уже в 683 году, во
время оеады Мекки войсками омейядского халифа Абд
аль-Мелика, этот камень раскололся от пламени
случившегося тогда пожара. В 930 году, в день хаджжа,
перебив и захватив в плен немало паломников, «черный
11 Имеется в виду, очевидно, -древнеиранский шах Хосров II
Парвиз, правивший в 590—628 годах.
37
камень» выломали из Каабы мусульмане-карматы,
осуждавшие поклонение ему и Каабе как
идолопоклонство. Разбив «черный кам§нь» на два куска, они
увезли их в свою столицу на Бахрейне, Только через
двадцать лет за большие деньги они ^огласились вернуть
куски «черного камня» в Мекку. После этого на
«черный камень» не раз сыпались удары палок «еретиков»,
они отбивали от него осколки, считая, что его надо
уничтожить как остаток многобожия. Затем, в 1803
году, «черный камень», как и некоторые другие меккай-
ские святыни, пострадал от временно захвативших
Мекку мусульман-ваххабитов, также считавших, что это
пережитки многобожия, язычества. '
Все это привело к тому, что теперь «черный камень»
состоит из трех больших кусков и нескольких осколков,
скрепленных серебряным обручем.
«Хранителем святых городов» Мекки и Медины с
1926 г. стали светские и духовные главы ваххабитов,
которые еще в начале двадцатых годов нашего века
разрушили в них многие памятники мусульманского
культа. Правда, еще до этого вождь ваххабитов король
Ибн-Сауд (он умер в 1953 г.) высказался о так
называемом «культурном ваххабизме», допускающем
возможность сосуществования с ним других течений,
толков и направлений ислама.
До конца тридцатых годов XX века, когда
Саудовская Аравия стала получать отчисления от
предоставленных ею американским нефтепромышленникам
концессий, хаджж приносил ей львиную долю доходов;
поступления от паломников составляли в отдельные годы
более 90 процентов бюджета Саудовского королевства.
Ныне Саудовская Аравия «— второй в
капиталистическом мире производитель и первый экспортер нефти.
Правящий клай Саудовской Аравии — это около
четырех тысяч пятисот принцев, из них многие миллионеры
и мультимиллионеры, тесно сросшиеся с монополистами
Запада, особенно США, в банки которых они
поместили колоссальные суммы* Они известны также своими
выступлениями против национально-освободительного
движения и прогрессивных режимов на юге
Аравийского полуострова, а также в Восточной Африке.
Сохраняя в своей стране древние пережитки,
отсталость, неграмотность, правители и духовная элита Са*
удовской Аравии любят рекламировать себя как люд,ей,
38
наследующих простоту и скромность пророка Аллаха*
На деле же они обставляют себя роскошью, тратят на
нее баснословные суммы. Например, по сообщению
Д. Зураби в парижской «Демэн л'Африк», заказанный
в 1977 году «для короля Саудовской Аравии в США»
специальный самолет «Боинг», «отделанный с немысли-»
мой роскошью — с ваннами, госпиталем, троном... обо*
шелся Эр-Рияду в «каких-нибудь» 52,6 миллиона дол-»
ларов» 12,
И в новых условиях хаджж остается источником
дохода, не говоря уже о его использовании в «духовных»
интересах. В шестидесятые годы, освещенные в повести
Ф. Мухаммадиева, доход от хаджжа, по
публиковавшимся данным, составлял свыше 100 млн. долларов.
Наживались от хаджжа и американские монополии, нала«
дившие перевозку паломников самолетами и
автотранспортом. Для организации и проведения хаджжа, на
который в отдельные годы съезжается много сотен тысяч
мусульман из разных стран, привлечены сотни специ-*
алистов разных профилей.
Причудливые контрасты современного хаджжа зор-*
ко подмечены таджикским писателем.
Настал день жертвоприношения. «Паломники
приводили купленных на базаре овец и баранов на
площадь жертвоприношений. В несколько рядов
параллельно друг другу здесь были выкопаны длинные и
глубокие рвы. Специально назначенные на дни праздника
мясники, стоя возле рвов, принимали овец и баранов у
ждущих очереди правоверных и за мзду, величина
которой зависела от щедрости паломника, резали
животных. Кто хотел, мог взять мяса сколько угодно. В
первой половине дня желающих попользоваться
бесплатным мясом было много, но теперь, по-видимому, все
уже нахватались и возле мясников за короткое время
выросли такие горы туш, что мясникам пришлось пере^
двинуться на свободное место». Заполнив тушами всю
территорию «вдоль одного рва, мясники переходили к
другому, и тогда американский бульдозер, ждущий т>
одаль с незаглушенным мотором, подъезжал и сгребал
в ров эти груды мяса. Второй^ бульдозер засыпал
заполненный ров землей». Но и это не помогало. «После по-
12 Саудовская Аравия — богатый слуга империалистических
господ. — «За рубежом», 1978, № 28, с, 15»
39
лудня ...шоссе, обочины, все окрест было завалено
шкурами, головами, внутренностями зарезанного скота*
В воздухе стояло тяжелое зловоние, от которого,
казалось, вот-вот остановится сердце. Однако никто не
ударил палец о палец для очистки дорог. Лишь изредка
встречались люди в военной форме, с каким-то
аппаратом, похожим на миномет, который изрыгал дезинфици*
рующий дым на людей, харчевни и чайханы. Единствен^
ная польза от такой поверхностной дезинфекции
состояла, видимо, лишь в том, что она служила кому-то
успокоением». \
Для советского врача, попавшего на хаджж в
Мекку, естественно, не могли не казаться удивительными
как эти широко рекламируемые «профилактические»
меры, так и обряды, совершаемые паломниками. Вот,
например, святой обряд «побиения шайтана»
камешками, для которого годится не каждый камешек, а лишь
тот, что «не меньше горошины и не больше финиковой
косточки». Этот обряд, позаимствованный исламом из
религии древних мекканцев, еще и в средние века
вызывал иронические замечания передовых людей
Востока. Теперь же, как пишет Ф. Мухаммадиев, «побиение
шайтана являло собой довольно грустное зрелище.
Такое же чувство, наверное, испытывает человек, видя су^
дорожные подергивания знакомого, внезапно
потерявшего рассудок». И все же это был приступ массового
фанатизма, особенно при первом «побиении шайтана»:
«Белый каменный столб, якобы олицетворяющий
дьявола, окружен каменной стеной в рост человека.,
Собравшаяся вокруг ограды толпа человек в пятьсот
забрасывает монумент сатаны камнями. Часть
паломников, швырнув семь камешков, деловито переходила
ко второму монументу, другие же, войдя в раж, как это
случается со свихнувшимися заклинателями, исступ*
ленно хватали валявшиеся под ногами камни и
забрасывали ими шайтана. Но и этого им казалось мало:
срывая с ног чувяки, они швыряли и их. Стоящие
впереди колотили по ограде ногами, кулаками и даже
локтями и головой, изливая на монумент весь свой запас
проклятий и ругательств. Время от времени
приближались солдаты и оттаскивали в сторону наиболее рьяных
правоверных».
Но прилива ярости и у этих исступленных хватило
ненадолго, «Третье и последнее побиение шайтана пр0-
40
шло без прежнего энтузиазма. Видимо, силы у
правомерных иссякли. Или до сознания некоторых дошла
наконец смехотворность этого деяния».
Странно было слышать советским людям на хадж-
же, когда именитые местные дельцы Мекки упоминали
о своих рабах. Но Саудовская Аравия длительное
время являлась крупным рабовладельцем, рабство в ней
официально/было отменено лишь в ноябре 1962 года.
И после этого, как неоднократно отмечалось в
зарубежной печати, в ней еще сохранялись невольничьи
рынки, разные формы домашнего рабства.
Многие существенные стороны хаджжа подмечены в
повести Ф. Мухаммадиева. Читая ее, невольно вновь и
шювь возвращаешься к классикам художественной
литературы Востока, понимаешь глубину чувств, которые
ими выражены. Так, уже упомянутый нами великий
прабоязычный поэт Абу Нувас писал: «Я желаю, чтобы
мне дозволялось все, что запрещает закон и религия, и
чтобы бог превратил меня в собаку. Я сел бы в меккан-
еком храме и стал бы кусать ноги всех пилигримов». А
через триста лет Омар Хайям обобщил свои впечатлен
пия в таком рубаи-четверостишии:
Кааба и кабак — оковы рабства.
Азан 13 и звон церковный — зовы рабства.
Михраб, и храм, и четки, и кресты —
На всем на этом знак суровый рабства.
И в нашей стране хаджж приводил людей проница^
тельных, овладевавших знаниями, к духовному про^
зрению. Так, в XIX веке азербайджанский поэт и
просветитель Сеид Азим Ширвани, вернувшись из Мекки,
Неджефа и других центров ислама, отказался от
духовного звания и стал решительным врагом клерикал
лизма, отсталости, мракобесия. Таким образом, у Ис-
рафила, героя повести Ф. Мухаммадиева, были
прототипы в реальной жизни.
Исрафил, как рассказывает Ф. Мухаммадиев,. —*
духовное лицо из Башкирии, сын которого отверг путь
веры и стал ученым-физиком, он живет в Ленинграде*
И вот, испытав прелести «того света», отец советского
физика начинает сознавать, на чьей стороне правда, он
решает избавиться от заблуждений, которым служил,
а свое знание арабского языка отдать на благо науки
«в самой большой библиотеке Ленинграда...»,
13 А з а н — призыв к молитве с минарета мечети,
41
«Путешествие на тот свет, или Повесть о великом
хаджже» Ф. Мухаммадиева — произведение,
показывающее широкие возможности современной
реалистической таджикской прозы, в частности, успешное соеди*
нен-ие в ней документальности и психологического ана*
лиза. С расширением и углублением изображенного в
повести конфликта все яснее становится мужественная
идейно-непримиримая материалистическая и атеистиче*
екая позиция автора*
«ДЕНЬ СТРАШНОГО СУДА»
Для советской художественной литературы, отли*
чающейся своей идейностью, реалистичностью,
подлинно народной основой, характерно развитие
прогрессивных традиций классики, а также устного
поэтического творчества. Эта черта отличает и произведения
писателей советского Востока, их стихи и прозу,
освещающих прошлое и настоящее своей родины и других
стран, в их числе стран распространения ислама, быт и
духовную жизнь людей, процесс рождения новых
отношений между ними, преодоления религиозных
верований.
Сатира «День Страшного суда» («Киямат») узбек-*
ского писателя Абдуррауфа Фитрата A886—1939) —
одно из ранних произведений советской художественной
прозы.
Впервые рассказ опубликован отдельной книжкой в
Москве в 1923 году, затем, в тридцатых годах,
несколько раз издавался по-узбекски и по-таджикски (автор
писал на обоих языках) в Ташкенте, Душанбе и
Ленинграде. Тогда же появились его первые переводы на
другие языки народов нашей страны. Как справедливо
отметил Дарвиш в кратком вступительном слове к
изданию 1923 года на узбекском языке1, этот рассказ
Фитрата представляет значительный интерес.
«День Страшного суда» — это прежде всего
знаменательный документ эпохи, красноречивое
свидетельство перемен в общественном сознании национальной
интеллигенции, вызванных торжеством Великой Ок-
1 Фитрат. Киямат. М., 1923, с. 6. Предисловие Дарвиша.
"(Арабск. шрифтом). «Дарвиш*, по-видимому, псевдоним
профессора Н. Тюрякулова.
42
тябрьской социалистической революции. Видный
литератор из среды мусульман Бухары, никогда ранее не
поднимавшийся до осуждения религиозных верований,
открыто выступил со смелой, разящей критикой учений
ислама, на признании святости и незыблемости кото*
рых он сам был воспитан.
В рассказе о фантастическом сне бедняка Рузикула
(Ризакула) подвергнуты уничтожающему осмеянию
пера в рай и ад, воскресение мертвых, Страшный суд, то
есть положения догматики ислама, безоговорочное при*
знание которых обязательно, согласно мусульманским
богословам, для каждого прововерного.
Конечно, это выступление Фитрата, если
рассматривать его в широкой исторической перспективе, не было
фактом исключительным. Критика каждой религии
зародилась раньше всего среди ее приверженцев. Еще в
XI веке арабский поэт Абу-ль-Аля в «Послании об ан^
телах» (Рисалат аль-мала'ика) и «Послании о
прощении» (Рисалат аль-гуфран) высмеял мусульманские
представления о загробной жизни и ангелах. Абу-ль-Аля
не верил ни в ад, ни в рай, ни в день Страшного суда.
Однако в его век за неверие преследовали, казнили.
Поэтому он был вынужден скрывать свои передовые
взгляды, излагая их в первом из названных посланий
под видом трактата о грамматических особенностях
арабского языка. Более откровенно по этим вопросам
писали вольнодумцы и атеисты стран Азии и Африки,
жившие в близкое нам время. Особенно значителен
вклад литераторов и мыслителей народов Востока XIX
и XX веков, в своем творчестве связанных с передовой
общественной мыслью России, Восточной и Западной
Европы.
В 1907 году в издававшемся в Тифлисе на
азербайджанском языке прогрессивном сатирическом журнале
«Молла Насреддин» известный азербайджанский
писатель Абдуррагим Ахвердов A870—1933) начал печатать
«Письма из ада»3, в которых выставил на суд
читателей целую галерею «грешников», отрицательных типов
того времени, и выступил с критикой мусульманского
учения о загробном ^воздаянии». Издавая эти «Пись-
2 Буквально: «Хортданын джаханнам мектублары», то есть
«Письма Хортдана из ада». Хортдан (Вурдалак) — псевдоним
А. Ахвердова в журнале «Молла Насреддин».
43
ма» в дополненном виде отдельной книгой в Советском
Азербайджане (Баку, 1930), Ахвердов в предисловии
отметил, что приведенное в них «описание ада,
названия его отделений, виды наказаний^ которым
подвергаются осужденные, — все это не выдумка автора, а по^
заимствовано» из сочинений богословов. Если, писал
Ахвердов, рассказываемое и фантазия, то измышленная
не им, а высшими мусульманскими духовными лицами
и ими же изложенная в книгах, выдаваемых за
священные. «Разумеется, и самый ад — выдумка»3, —
язвительно добавлял он.
Подобное замечание могло быть предпослано и
«Дню Страшного суда» Фитрата. При всей сказочности
«загробных» приключений и странствий его героя Ру-
зикула-Почомира в их основе — мусульманские
верования, религиозные представления, содержащиеся в
священной книге ислама Коране, а также в «Мирадж-
намэ», или, иначе, «Книге восхождения пророка
Мухаммеда на седьмое небо и к престолу Аллаха» и иной
богословской литературе.
Столетиями мусульманское духовенство запугивало
верующих днем Страшного суда, кияматом, о котором
в стихах и прозе богословами написано немало книг,
разных «Ахыр заман китаби» (Книга последнего
времени), сеявших невежество и вздорные слухи. Поэт Ма«
жит Гафури вспоминал о своей юности: «...В то время
в нашей семье книгой, которая больше всего читалась,
был «Ахыр заман», не было недели, когда бы ее не
читали. Как только начиналось чтение, в наших сердцах
рождалось чувство страха, который все нарастал. И
когда доходили до места, описывавшего приближение
киямата, нас бросало в дрожь»4.
Вот на этот киямат Фитрат и написал сатиру...
Абдуррйуф Фитрат родился и вырос в Бухаре, в
городе с большими культурными традициями. Но в конце
прошлого века Бухара, бывшая столицей ханства,
являлась и средоточием феодального гнета, темноты и
невежества. Возвеличивая власть бухарских эмиров и
обманывая верующих, мусульманские схоласты в
крайнем самомнении и тупости распространяли нелепый
3 Ахвердов. Письма из ада. Избр. произв., М.4 1960, с. 97.
4 М. Гафури. Тэржемэи хэлем. — Эсэрлэре. Казань, 1941,
с. 162.
44
слух, будто «если во всем мире свет падает на землю
сверху», то в Бухаре, по причине ее величия и
святости похороненных в ней мужей ислама, «он исходит из
земли»! Фитрат, учившийся в одной из медресе, хорошо
знал всю эту «премудрость». В Бухаре же Фитрат
подвергся влиянию либерального
буржуазно-националистического движения джадидов, одним из идеологов
которого он затем стал. На формирование взглядов
Фитрата в этот период большое влияние оказала по*
ездка для продолжения учения в Стамбул, где он
пробыл с 1909 по 1913 год. Как известно, позднее, по
примеру буржуазно-националистического младотурецкого
движения, представители бухарских джадидов часто
назывались младобухарцами.
Являясь выразителями интересов молодой
буржуазии, стесненной в условиях вассального Бухарского
ханства, где веками господствовали феодальные
отношения, джадиды выступали с проектами некоторых
реформ, в том числе в области просвещения и
мусульманского культа. Предложения таких реформ содержались
и в книгах Фитрата «Муназара» («Спор») и «Байанат-и
сайях-и хинди» («Рассказы индийского
путешественника»), впервые изданных в Стамбуле на персидском
языке.
Фитрат осуждал положение, при котором школа в
Бухаре оказалась полностью во власти схоластического
богословия, он выступал за включение в школьные
программы некоторых общеобразовательных предметов.
В «Рассказах индийского путешественника» он
писал, имея в виду богословов Бухары: «...общество
ученых, которое захватило в свои руки все пути к нашему
благоденствию... какие может дать нам знания? А вот
какие: из области законоведения: всякий, кто
во время омовения высморкается пальцами своей левой
руки или станет мыть ноги не с правой стороны, будет
в продолжение семидесяти тысяч лет гореть в аду;
всякий, кто, хотя бы один раз, не произнесет приветствия
кому-либо из улемов5, будет кафиром6; всякий, кто
пройдёт, хотя бы один раз, по той улице, которой
когда-нибудь коснулась нога улема, будет независимо от
6 Улемы (единственное число — 'алим) — мусульманские
богословы, или законоведы
6 То есть неверным, немусульмашшом.
45
одела его грехов и без мучений пропущен в рай...; из
области верований: на четвертом небе есть
некий ангел, у которого семьдесят тысяч голов, у каждой
головы семьдесят тысяч ртов, в каждом рту семьдесят
тысяч языков, и каждый рот может говорить на
семидесяти тысячах наречий...»7,
Фитрат отрицательно относился и к некоторым
сторонам мусульманского культа. Так, рассказывая о
паломничестве к мазару (гробнице) основателя
распространенного в бухарском ханстве суфийского ордена
йакшбандийя Бахауддина Накшбанда A318—1389), он
осуждал то, что около этой гробницы лежали бараньи
рога и висели волосяные кисти из лошадиных хвостов.
Фитрату tie нравились эти явные признаки связи
культа мусульманского святого с фетишизмом, с обрядами,
восходящими к доисламским верованиям. Между тем
он видел, как ходжи, распоряжавшиеся в этом святом
месте, «взяв за ворот деревенских паломников и
приговаривая; «идти на паломничество к рогам пира!»8,
заставляют Целовать эти jbora и за это берут с них
Деньги. Бедные простолюдины, с полной покорностью
поцеловав эти рога, трут ими себя по глазам!».
Фитрат возражал против таких обрядов и действий
ходжей, но его доводы не имели тогда ничего общего с
подлинным знанием, атеизмом. Ему не нравилось, что
верующие молитвенно прикасались к древку знамени,
стоящего у мазара, терли о него свои глаза, подолгу
приклонив к древку голову, униженно просили
«исполнения своих многолетних нужд», Но причиной его
недовольства не было стремление избавить народ от
принижения, от неправильного и унизительного взгляда,
будто обеспеченная и счастливая жизнь возможна не в
результате созидательного труда, а дается людям как
некая «милость», «чудо» святого, потусторонней сильь
Нет, Фитрат сокрушался лишь о том, что эта палка —
древко у мазара, ставшая предметом поклонения, — не
«осталась от самого Бахауддина». Вообще же Фитрат
поддерживал культ Бахауддина, в течение столетий
Служивший укреплению и освящению эксплуататорской
7Абд-ур-Рауф (Фитрат). Рассказы индийского
путешественника. (Бухара, как она есть). Самарканд, 1913, с. 26.
8 П и р —»¦ старец, глава религиозной общины; здесь — почи*
таемое место, гробница^ в числе реликвий которой находились
бараньи рога.
46
власти эмиров Бухары. «Да, — писал он тут же, — если
паломничество к мазарам предпринимается с целью
вспомнить о смерти и Страшном суде, то это доброе
дело...»
Итак, Фитрат в своих сочинениях дореволюционного
времени выступал с предложениями «очищения»
ислама, устранения из него того, что якобы нарушало его
мнимую первоначальную «чистоту». Его критика была
в то время очень осторожной, с определенной оглядкой
и боязнью, как бы не подрубить сук, на котором
зиждилось благополучие как духовенства, так и феодалов и
не окрепшей еще бухарской буржуазии.
Ограниченные буржуазно-националистические
взгляды проявлялись Фитратом и позднее, на что обращала
внимание советская печать Узбекистана и Таджикистан
на. Однако нельзя не отметить и значительность
перемен, происшедших в суждениях писателя в
послереволюционные годы. В этом отношении характерен «День
Страшного суда», где Фитрат занимает уже явно
атеистические позиции.
В кратком, но весьма емком рассказе обращает на
себя внимание, прежде всего, глубоко реалистический
подход к изображению главного героя — Рузикула-По-
чомира, бедняка, батрачившего у набожного и самого
алчного в Бухаре, бая Ахмеда.
Сбрасывая снег, постаревший Рузикул упал с
крыши и сломал ногу. Богомольный бай; непрерывно
молившийся о загробном блаженстве «для всех правовер-
ных», тотчас прогнал Рузикула. И Рузикул, двадцать
лет безотказно работавший на бая, оказался на улице
без всяких средств к существованию. Так он попал в
кукнар-хану — заведение, где пили зеленый чай с
кукнаром — наркотическим веществом в виде сиропа,
приготовленного из сухих головок мака. Невеселое,
нехорошее это было место. Но в эмирской Бухаре лучшего
прибежища для обездоленного Рузикула не нашлось.
Здесь он целыми днями строгал деревянные зубочистки
и жил на деньги, вырученные за них.
" Тяжелая жизнь привела в кукнар-хану не только
Рузикула. Были там сказочники и чтецы, читавшие,
помимо «Книги восхождения на небо», любимые народом
сказания о славном богатыре, защитнике народа и
родной земли Рустамеиоб отваге Абу Муслима, борца
против владычества чужеземной династии Омейядов. Оце*
47
нив веселый и общительный характер Рузикула,
меткость и содержательность1 его острот, эти люди
прозвали его «Почомиром», что дословно означает зять или
шурин правителя области, округа, района: у
завсегдатаев кукнар-ханы было принято давать такое прозвище
тому, кто пришелся им особенно по сердцу, кого они
считали своим старостой.
Правдиво нарисованное пером талантливого
узбекского писателя изображение кукнар-ханы
противостояло картинам разного рода восточных курилен опиума,
гашиша и других наркотиков, в которых буржуазные
писатели Запада обычно стремились найти щекочущие
нервы экзотические «тайны». Замечание же писателя,
что бай Ахмед, вымаливавший райские утехи «для всех
правоверных», выгнал на улицу мусульманина, верно
служившего ему много лет и ставшего инвалидом,
выявляло действительную цену рассуждений духовенства
о «братстве» мусульман и якобы отсутствии среди них
классов и классовых противоречий. В «Дне Страшного
суда» этот момент явился особенно красноречивым, ибо
для бухарских джадидов игра на религиозных чувствах
была характерной — свои буржуазные интересы они
выдавали за общемусульманские.
Сила художественного изображения в этом
рассказе Фитрата заключается в том, что, критикуя мусуль-<
манские представления, писатель отправляется от прав-!
ды жизни, как бы передает подслушанное в народе.
Вот пример, В кукнар-хане читали «Книгу
восхождения». Место, где описаны реки рая, на дне которых
«вместо глины и камней — золото и жемчуг», вызвало
замечания слушателей:
«— Вот^это да! Ну и богатство! Чем бросать его в
реку, лучше"бы нам подкинули.
— Дорога туда, наверное, очень длинная, —
пошутил Почомир.
— Не беспокойся, если бы и близко было, всё
равно не нам, а баю Ахмеду досталось бы.
— А мы чем хуже его?
— Да ведь бог тоже судит по одежке»9.
Не по душе простым людям упоминание о богатствах
9Абдуррауф Фитрат. День Страшного суда. Рассказ-
сатира. М., 1965, с. 6—7. Есть и другие издания и переводы.
Подробнее см.: Л. И. Климович. Наследство и современность. М.,
1975, с. 142—156.
48
райской обители, когда сами они жили впроголодь, не
имея ни крова, ни хлеба, ни свежей воды.
Беспросветно тяжелая жизнь учила их, что нет и не может быть
равенства между богатыми и бедными, баями и
,батраками, хотя бы те и другие были мусульманами. Не эта
ли мысль выражена в современной арабской народной
пословице: «Тот, у кого есть деньги, будет даже в
адском огне есть мороженое»?
Не верят эти люди и утверждению, будто в раю
«каждому — семьдесят пять тысяч девушек,
именуемых гуриями... семьдесят пять тысяч мальчиков,
именуемых гильманами».
«Постой-ка, — прерывают они чтеца, — семьдесят
пять тысяч девушек и семьдесят пять тысяч
мальчиков -т- это для мужчин. А женщинам что?» Но они не
только обижены за «обделенных» женщин: они не
хотят и для себя многоженства. Им известно, что не
бывает порядка и мира в доме, где несколько жен. Даже
«у двоеженца, — как гласит старая пословица, — дом
всегда не подметен!». А в раю им обещаны многие
десятки тысяч...
Фитрат убедительно шжазывает, что учение о
загробном воздаянии расходится с нормами семейной
жизни простого человека и оно нелогично, ибо его
нельзя примирить со здравым смыслом. Действительно,
согласно мусульманским представлениям, все поступки
человека предопределены богом да еще записаны. Зачем
же тогда ангелы-истязатели Мункар и Накир,
вооруженные дубинками, являются в могилу и свирепо
допрашивают каждого умершего мусульманина? А ведь по
обычаю, чтобы «подсказать» умершему ответы на
вопросы этих жестоких ангелов, и теперь мулла
задерживается у могилы верующего после того, как остальные
провожавшие покойника уходят.
Вопросы, поднятые в рассказе Фитрата, видимо,
занимали тогда многих не в одной Бухаре, и
муллы-приспособленцы пытались как-то отвлечь от них внимание
верующих, «очистить ислам» от этих представлений.
Так, в 1925 году в решениях Четвертого областного
дискуссионного съезда мусульманского духовенства и
верующих Адыгейско-Черкесской автономной области
был записан такой пункт: «Признать доводы старого
духовенства о загробной жизни, существовании
ангельских душ, судов в могиле над умершим мусульманином,
49
оживлении умершего в гробу после похорон и чтение
молитв ни на чем не обоснованными и (что они)
являются выдумкой других религий. Таковых впредь не
допускать и, особенно начиная с сегодняшнего дня, уп*
разднить» 10.
Но, конечно, одно дело записать такое решение и
совсем другое — провести в жизнь. Духовенство в
последнем не было заинтересовано, и эти представления
и обряды поддерживаются им еще и теперь.
Автор «Дня Страшного суда», однако, не
ограничился разоблачением несоответствия учения ислама о
предопределении (такдир) с допросом покойников
ангелами Мункаром и Накиром. Герой рассказа Почомир,
очутившись в загробном мире, резонно спрашивает: раз
богу все заранее известно и он сам определяет все
человеческие поступки, то к чему не только допрашивать
умерших, но и взвешивать на весах в день Страшного
суда их «дела», а затем, взвесив, еще заставлять их
переехать через особый мост Сырат, который тоньше
волоса и острее меча, на баранах, зарезанных этими
мусульманами на праздник жертвоприношения —
курбан-байрам?!
«— Подожди, братец! — возразил Почомир ангелу,
приведшему ему худшего из зарезанных баранов. ^
Весы поставили, очередь создали, паспорт на руки
выдаете! Да еще в могиле каждого опрашивали! Так
зачем же вы теперь сажаете несчастных людей на бара-*
нов и заставляете их мучиться на мосту? Как в
игрушки играете!»
Не согласен Почомир и с тем «паспортом», с той за«
писью, что вручили ему в день Страшного суда. В этой
записи «к добрым делам» были отнесены смирение и
покорность при побоях и оскорблениях, доставшихся
Почомиру от хозяина, а также безропотное выполнение
самой тяжелой* работы. И наоборот, такие поступки,
как отпор хозяину, когда Почомир не желал молча
сносить оплеухи и брань или отказывался от непосильной
работы, оказались среди «грехов»*
Писатель, используя Коран и сочинения мусульман*
ского богословия, разъяснял классовую природу исла«
i
10 Дискуссионный съезд мусульманского духовенства и верующ
щих Адыгейско-Черкесской автономной области. Майкоп, 192$,
с. 27.
50
ма, по которому эксплуататорское общество с
характерным для него классовым гнетом, социальным
неравенством — божественное установление. «Мы, —
говорится от лица бога в 31-м стихе 43-й главы Корана, —
разделили среди них (людей. — Л. /С.) их пропита^
иие... и возвысили одних степенями над другими, чтобы
одни из вас брали других в услужение». И еще в 73-м
стихе 16-й главы Корана читаем: «Аллах дал вам
преимущество одним перед другими в жизненном уделе.
Но те, кому дано преимущество, не вернут своей доли
тем, кем овладела их десница (то есть тем, кто стал их
слугой, невольником. — Л. /С.), чтобы они оказались в
этом равными. Неужели они отрицают милость
Аллаха?»
Такая «милость» была непонятна батраку Рузикулу-
Почомиру, и он ее отвергал.
С неподдельным юмором Фитрат рассказывает, как
несколько лет ожидания, волнений и мытарств
пришлось претерпеть Почомиру и его другу Джуме для того,
чтобы при порядках, принятых в мусульманском
загробном царстве, добраться наконец до уготованного
правоверным фантастического рая.
Что же их там ожидало?
Прежде всего, и в paiq» полтора года Почомир по-
тратил на розыск отведенного ему жилища, с много-
численными гуриями и гильманами — райскими
девами и юношами. Искал Почомир это жилище вместе с
Джумой и, конечно, после долгого пути решил
пригласить того к себе в гости. Но оказалось, это не
разрешено по райским порядкам. Гостеприимство, добрая
национальная традиция узбеков и таджиков, не принято в
раю!
Только неделю пробыл в своем райском доме
Почомир, и стало ему без дела скучно. Подошел к ручью, в
котором текло вино, решил попить, да оказалось, что
«это вино не опьяняет» (так о райском вине сказано
в Коране!). «Кому нужно такое вино? — вышел из себя
Почомир. Настроение у него совсем испортилось. —
Куда деваться? Чем занять себя? Опять сидеть без
дела в четырех стенах?»
Так и не нашел ничего для себя интересного в
мусульманском раю Рузикул-Почомир. Картина рая, соз^
данная * воображением духовенства, чужда людям
труда,
51
Существенные черты: критики представлений о рае
и аде, содержавшиеся в «Дне Страшного суда»,
получили развитие и в других, художественных произведем
ниях, в том числе зарубежных. Так, в написанной
примерно через восемь лет после «Киямата» сатирической
пьесе для театра марионеток «Легенда о сотворении
мира» («Афсанейе афаринеш») видного персидского
писателя Садека Хедаята A903—-1951)~ герой пьесы
Адам, изгнанный из рая, рассказывает Еве о своих
земных переживаниях: «Хотя жизнь здесь полна.* суеты
и борьбы, но все же она лучше пресной и
однообразной жизни в раю. Я в раю чуть не задохся. Безделье,
бесконечная еда, сон утомляют еще больше. Не знаю,
как это ангелы живут в раю!» Ева соглашается с ним,
добавляя: «Как хорошо, что нас изгнали из рая. По
крайней мере здесь нет надсмотрщиков, и мы можем
спокойно любить друг друга»11. Эта атеистически
окрашенная пьеса впервые была поставлена в Париже в
1946 году.
Широкую известность на арабском Востоке имело
большое стихотворение видного поэта, курда по
происхождению Джамиля Сыдки аз-Захави A863—1936)
«Ас-Саура фи ль-джахим» (Революция в аду). В этом
произведении, пронизанном революционными и
атеистическими мотивами, поэт в известной мере продолжил
традиции уже названных посланий "' об ангелах и о
прощении Абу-ль-Аля аль-Ма'арри. Обитатели ада в
произведении аз-Захави не выдерживают мучений и
поднимают грандиозное восстание. Во главе
восставших Абу-ль-Аля и выдающиеся мыслители, ученые,
изобретатели всех эпох и народов; бесстрашно они
побеждают ангелов и тех, кто несправедливо пробрался
в рай.
Изображение непокорности обитателей ада
характерно и для уже называвшихся «Писем из ада»
азербайджанского писателя Абдуррагима Ахвердова,
которые им были завершены в 1930 году. В последнем из
эпизодов он рассказывает, как внезапно «обитатели ада
переполошились и стали так орать, что ад чуть не про^
валился от их криков...
Мы прошли немного и увидели, что все
пространство ада, которое можно охватить взглядом, полно
народу. И все неистово кричат:
u С а дек Хедаят, Избр. произв. М., 1969, с. 400.
52
— Не желаем, не хотим! Мы их не пустим сюда...
Они и здесь не дадут нам покоя!
Так кричало большинство, заглушая
немногочисленные голоса тех, кто пытался возражать.
— Пускай идут, какое вам дело? Они не смогут
никого здесь притеснять. Ведь они идут сюда так же
гореть в огне, как и мы.
— Не хотим! Пусть идут в какой угодно другой ад,
а в свой мы их не пустим.
Среди тех, кто уговаривал возмущенных грешников,
я увидел беков, аристократов, ахундов и вероучителей
других религий, выстроившихся в ряд в ожидании
новых гостей, которых не хотели впустить в ад его
обитатели.
— В чем дело? Что случилось? — обратились мы к
одному из грешников.
— В ад идет русский царь со своими
приближенными. Теперь нам остается одно — бежать отсюда.
И мы увидели шествовавших в ад русских
жандармов, полицейских, офицеров и генералов.
Ахунды вскинули руки, священники подняли кресты
и стали молиться за новых обитателей ада. Беки и
дворяне отвешивали им глубокие поклоны.
— Смирно! — скомандовал какой-то генерал. —
Его императорское величество Николай Второй,
самодержец всероссийский, изволил пожаловать в ад.
— Братец! — шепнул я привратнику. — Дайте мне
возможность выбраться отсюда поскорее... Никак не
могу оставаться здесь — у меня нет паспорта...»
Так писатели разных народов и различных эпох
стран распространения ислама критически относились
к мусульманским учениям о рае и аде, одновременно
освещая важнейшие социальные вопросы.
По сообщениям арабской печати, в 1977 году
издательство «Дар аль-Марифа» в Тунисе выпустило пьесу
современного арабского поэта и драматурга Иззаддина
аль-Мадани «Прощение», в основе которой названное
«Послание о прощении» Абу-ль-Аля. По убеждению
ряда исследователей, именно под воздействием этого
послания Абу-ль-Аля, написанного в 1033 году, Данте
создал «Божественную комедию». Произведения Абу-ль-
Аля были в числе настольных и у упомянутого Мажи-
та Гафури. Таковы реальные пути вольнодумной и
атеистической мысли, интернациональной с давних времен!
5,1
«ЗЕМЛЯ, ПРЕОБРАЖУ ТЕБЯ Я В РАЙ...*
ГТисал выдающийся татарский поэт Хади Такташ
< А A901 —1931) в стихотворении «Строят»,
опубликованном в 1922 году в татарской газете «Эшче»
(«Рабочий»).
Молодые годы Такташа прошли в старой Бухаре,
куда он вынужден был уехать тринадцатилетним
мальчишкой на заработки. Вернувшись в 1918 году в родную
деревню Сыркыды (ныне Торбеевский район
Мордовской АССР), он вскоре проявил себя как журналист и
поэт, выступивший глашатаем новых отношений между
людьми, свободных от иссушающих все живое
религиозной схоластики и лицемерия. Этим пронизаны его
стихотворения того времени, трагедия в стихах
«Сыновья земли» A923).
Очень верно писала татарский литературный критик
и переводчик Р, Фаизова; «Протест против ислама,
впервые высказанный в стихотворении «В пустынях
Туркестана», затем все нарастает в творчестве
Такташа. С именем аллаха на устах обманывают вокруг него
народ. С именем аллаха угнетают, убивают людей. И
ненависть ко всему, что благословляется исламом,
выливается в произведениях первых лет творчества
Такташа в буйное отрицание власти неба над землей.
Наивысшее выражение мятежного духа, богоборчества у
Такташа мы и находим в его трагедии «Сыновья
земли» К
Для Хади Такташа борьба с отсталостью и
мракобесием никогда не была отвлеченной, и в его поэзии
она связана о основной Задачей -^ открытием и
утверждением нового мира, созданного трудящимися нашей
страны в результате революционного переустройства,
уничтожения национального и социального гнета. Это
определяет и характер Обращения поэта от имени мо«
лодого рабочего к природе, искусству, всему его окру*
жающему:.
Природа! Не враждуй со мной, дружи!
Искусство, я творец твой. Мне служи!
Земля, преображу тебя я в рай.
Пустыни покорю, сотру межи!
Так говорит рабочий молодой.
* * * \
1 «Литературная газета», 1957, № 61'.!
54
В своей активной общественной и эстетической
позиции Хади Такташ не был одинок. Она стала
характерной для передовых писателей России еще в пору
революции 1905—1907 годов и вызванного ею подъема
национально-освободительного движения, когда рушились
старые устои и складывались невиданные до того
отношения личности и общества.
Вышедший из глубин народа классик татарской
поэзии Габдулла Тукай A886—1913) осознавал
несправедливость и обреченность строя, где господствует
капитал и человек угнетает человека. В ноябре 1906
года в статье «Условия» (Шартлар) он писал, что тот,
кто «доволен этой действительностью, тот не
правоверный, и не мусульманин, и не человек». Тукай не хотел
мириться с тем, чтобы люди оставались безмолвными,
слепыми, бездумно подчинялись насилию. Он
восставал против всего, что порождает в человеке
безропотность, смиренье, покорность, тянет назад к временам,
когда, поддаваясь дурману, люди в бесплодных
молитвах топили свои лучшие чувства, стремление к свету
и добру* Не ограничиваясь критикой исповедания
веры — шахада (ташаххуда) — доводами здравого
смысла (как-де «свидетельствовать не видевши»),
приводившимися еще в одной из сатир Абу Нуваса, он в
стихотворении «Гнет» («Золым»), обращаясь к
мусульманам, писал:
Кто незрячему смиренью-и бездумью научил,
Кто оружие незнанья в руки слабые вложил?
Ты «свидетельствуешь» миру, а чего свидетель ты,
Что ты знаешь, что ты видел? Век в невежестве ты жил!
О бедняк, вздохнуть свободно нам мешает эта ложь.
От молений постоянных толку нету ни на грош.
Твой иман — одно насилья, тяжек суеверья гнет.
Что ты знаешь? Может, завтра ты, брат, с голоду умрешь!
Первым сочинением выступившего в те же годы в
печати Галимджана Ибрагимова был трактат «Коран
от бога или нет?», подвергавший сомнению один из
главных догматов веры. Это сочинение оказалось в
числе причин, поставивших молодого Ибрагимова вне'стен
уфимского медресе «Галия», в котором он учился.
Впрочем, он не был этим обескуражен и как бы в ответ
написал рассказ «Изгнание Заки-шакирда из медресе».
Подготовивший его к печати Фатих Амирхан
прозорливо предсказал I?.. Ибрагимову большую жизнь в
литературе.
55
Еще в дореволюционных рассказах Ибрагимов
изображает людей, не желавших мириться со своим
неравноправным, угнетенным положением, и осуждает тех,
кто, ссылаясь на пророков и посланников, призывает к
терпению и покорности. В рассказе «Пастухи» сын
старого пастуха, сломленного тяжелым трудом и
умершего в нищете, в чужом хлеву, гневно обращается к
пророкам и посланникам бога — Мусе (Моисею), Гай-
се (Иисусу) и Мухаммеду, сулившим счастье таким
обездоленным труженикам, как веривший им
несчастный старик. «Где это обещанное ими счастье? —
возмущенно спрашивает он, добавляя: — Страдальцы...
взывают к ответу!»
Хотя до Октябрьской революции Ибрагимову
пришлось не только учиться, но и преподавать в медресе, в
том числе в новометодном, он остался чужд доводов
реформаторов, пытавшихся модернизировать ислам. В
реалистическом, окрашенном в мягкие тона рассказе
«Дети природы», описывающем тяжелый труд косарей,
изобличается жестокость требования соблюдения
условий по^та месяца рамазана, по которому верующим в
течение тридцати дней от зари до зари полагалось не
только не есть, но и не пить и не купаться.
Давно лрошли те времена, и читатель наших дней
едва ли воспримет всю остроту изображаемой
ситуации. Но уместно отметить, как далеко отстояла ее
трактовка у Ибрагимова от того, что содержалось у
модернизаторов ислама, в частности у петербургского
богослова Мусы Бигеева, издавшего в 1912 году в
Казани на татарском языке книгу «Пост в длинные дни»
(«Узун гюнлердэ рузэ»), вызвавшую немало шума и
кривотолков. Бигеев отстаивал это установление,
предлагая лишь в годы, когда ураза приходилась на лето,
на жару, переносить ее на прохладное время года.
В ряде рассказов и в романах Г. Ибрагимов создал
яркие образы женщин, бесстрашно вступающих в
борьбу за свое человеческое достоинство.
На протяжении веков женщина-мусульманка
принижалась, была неравноправна в обществе, в семье, быту,
И, естественно, интересы социального развития
поставили перед прогрессивными писателями вопрос о ее
эмансипации, о борьбе против женского
затворничества, ношения вредных ритуальных покрывал — чад*
ры, паранджи tf чачвана, яшмака, чапана и т. п,
56
Не случайно эти одеяния были прозваны «мешками
рабства». Хорошо ответил их защитникам татарский
писатель Фатих Амирхан в рассказе «Праздники», на*
писанном еще в 1908 году: «Вот вы говорили о совести.
Интересная это штука, совесть. Вы считаете
бесстыдством, если женщина не прячет своего лица. А я счи*
таю постыдным, что один человек прячется • от
другого, покрыв голову уродливым чапаном и кутаясь, даже
когда жарко, в теплую шаль. Вы считаете неприличным
то, что я не брею голову и отпускаю волосы, а я
стыжусь ходить с бритой головой. Интересно, не правда
ли?» —
А персидский поэт Мирзаде Эшки в поэме «Черный
саван» писал в 1916 году:
Я верю, женщина в конце концов
Расстанется с позорным покрывалом,
Поднимет к свету гордое лицо.
Пока чадру носить она повинна —
Вся нация мертва наполовину!
На советском Востоке уже в первое десятилетие
после победы Октября возникло широкое движение за
снятие паранджи и чачвана, чадры и других
ритуальных покрывал, в Средней Азии получившее название
«Худжум» — «Наступление». Десятки и сотни тысяч
узбечек, таджичек, женщин разных национальностей
навсегда сбросили ритуальные покрывала, этот «позор
Востока».
Основоположник узбекской советской литературы
Хамза Хаким-заде Ниязи A889—1929) в «Песне
свободных женщин» писал:
Подруги-женщины, идите к нам скорей.
Когда все вместе мы, то песня веселей.
В пылающий костер бросайте паранджу,
И станет мир вокруг нарядней и светлей.
Хамза и один из зачинателей азербайджанской
советской литературы Джафар Джабарлы A899—1934)
написали пьесы, постановка которых имела
действенное значение в борьбе за раскрепощение женщин. Было
немало случаев, когда под влиянием просмотра пьес
женщины узбечки и азербайджанки в
театре'сбрасывали чачван и паранджу или чадру, навсегда расстава-»-
лись с этими «саванами живых». Это — примеры
активного вторжения литературы в.жизнь. Севиль, Алмас и
другие вымышленные имена положительных геров их
57
пьес стали любимыми в народе, ими охотно называют
детей.
Художники слова выступали лротив попыток
подновления, модернизации обветшавших установлений
ислама, например, объявления тех же ритуальных
покрывал «психологической вуалью осторожности», или
сохранения религиозных запретов, как некой
«нравственной» узды, тоже реформы конфессиональных школ
и т. п. Одним из наиболее значительных произведений
в этом отношении явился роман видного турецкого
писателя Решада Hyp и Гюнтекина A889—1956),
написанный с позиций критического реализма. На большом и
своеобразном материале событий 1908—1923 годов в
романе впечатляюще описаны трудности, стоявшие на
пути борцов за подлинный прогресс в условиях
тогдашней Турции, прц огромном влиянии духовенства, в том
числе консервативного. Главный герой романа
народный учитель Шахин идет сложным, но верным путем,
приведшим его к атеизму. Он смел, образован,
проницателен, однако на пути еще очень много преград,
препятствующих его свободному полету (Шахин —
по-турецки «сокол»). Оценивая своих «духовных»
противников, он учитывает отсталость консерваторов, однако
большую угрозу видит со стороны тех, кто
приспосабливается к изменяющимся условиям и кого он называет
обновленцами.
Шахин говорит: «Идеи обновленчества и вся эта
любовь к новшествам... пугают меня гораздо более, чем
слепой фанатизм его противников. Когда я слышу о
реформах в медресе, меня охватывает страх... Бессильных,
выживших из ума стариков софт (т. е. выучеников и
защитников консервативных духовных школ. —Л. К.)
я считаю безвредными и так боюсь обновленцев»2.
В предисловии к русскому переводу «Зеленой ночи»
основоположник турецкой революционной поэзии На-
зым Хикмет писал: «Я думаю, что этот роман может
оказаться весьма полезным для атеистической
пропаганды там, где еще пережитки прошлого,
мусульманские обряды и обычаи мешают строить новую жизнь».
Важной стороной произведений писателей Востока
на освещаемые темы является растущее внимание к
нравственной и философской стороне, к социальной
2 Решад Hyp и Гюнтекин. Зеленая ночь. М., 1963,
с. 70, 72.
56
сущности религии. Интересен в связи с этим рассказ
Назыма Хикмета о том, что заставило порвать с
исламом, как и со всякой религией, Ахмеда — главного
героя его автобиографического романа «Романтика».
«После окончания школы-интерната — там молитвы
и соблюдение поста были обязательными — я бросил и
намаз и пост. Да и Коран-то никогда толком не мог
прочесть... Но я был набожным. Говоря точнее, я даже
и не думал о том, что бог может и не существовать.
Потом однажды я подумал, что верующие совершают
благие дела лишь в надежде на награду от господа
бога, в надежде на то, что они попадут в рай, обретут
бессмертие. А грехов они избегают потому, что боятся
наказания, боятся угодить в ад. Меня, словно сам я
никогда не*был верующим, поразила эта неволя, на
которую обрекает себя каждый верующий, поразил их
эгоизм.
С тех пор по сей день Ахмед старался делать все
свои дела, не заботясь о награде и не опасаясь
наказания»3.
Наиболее проникновенно эта эгоистическая суть
религии раскрыта в большом философском романе совре^
менного югославского писателя Меши .Селимовича
«Дервиш и смерть». Роман вышел в русском переводе
с сербскохорватского уже двумя изданиями (М., 1969,
1978). Это едва ли не наиболее обширное,
композиционно слаженное и глубокое по психологическому
анализу произведение, в котором разоблачены
антигуманная суть дервишизма ордена мевлеви, его
эгоистические начала. Роман заслуживает отдельного разговора,
отмечу лишь, что в нем изображена сложная судьба
шейха дервишской обители — текии — в горной Боснии
в XVII веке, когда она являлась самой далекой
западной провинцией Османской империи, население которой
в своем большинстве было обращено в ислам. С
доскональным знанием истории родной ему Боснии и
ордена дервишей мевлеви, что имели текию в Сараеве, и,
главное, с всесторонним анализом психологии и
убеждений своих персонажей, автор рисует неизбежный
трагический конец главного героя — шейха Ахмеда.
Вероучение, которое он проповедовал и которым
руководствовался, оказалось и для него гнилым посохом..*
Назым Хикмет. Романтика. М., 1964, с. 11.
59
Неизменно писатели разных стран и народов, среди
которых был распространен ислам, обращались к
вопросу об общественном идеале, даже рисовали черты
отношений между людьми, которые им казались идеаль-*
ными, высшей целью человечества. И хотя Коран и
авторы таких нравоучительных произведений, как нам
известное «Кабус-намэ», пытались воспитать людей в
уверенности, что общество, основанное на неравенстве,
классовом антагонизме, — единственно реальное
установление аллаха, создателям ряда художественных
произведений человеческий идеал мыслился совершенно
другим.
Вот пример. В «Кабус-намэ» читаем: «Господь
всевышний предопределил, чтобы одни были нищими, а
другие богатыми. Ведь он мог всех сотворить
богатыми, но все же создал два разряда из них, чтобы
выявился сан и почет рабов (божьих) и высшие отделились от
низших». А через сто лет после «Кабус-намэ»
гениальный поэт Низами Гянджеви A141 —1209) во второй
части своей грандиозной поэмы «Искендер-намэ» (в
«Икбал-намэ» — «Книге счастья») создал картину
«города счастливых», как общества, где нет богатых и
бедных, нет эксплуатации человека человеком.
Старейшины из горожан, радушно встретив Искендера —
главного героя поэмы Низами (в основе его образа
выдающийся полководец и государственный деятель древнего
мира Александр Македонский, почитаемый в исламе в
качестве пророка), рассказывают, что живут в доволь*
стве, помогая друг другу советом и имуществом:
Если кто-то из нас в недостатке большом
Или малом, и если мы знаем о том,
Всем поделимся с ним. Мы считаем законом,
Чтоб никто и ни в чем не знаком был с уроном.
Мы имуществом нашим друг другу равны.
Равномерно богатства всем нам вручены.
В этой жизни мы все одинаково значим,
И у нас не смеются над чьим-либо плачем.
Мы не знаем воров; нам охрана в горах
Не нужна. Перед чем нам испытывать страх?
Страна счастливых Низами — это общество, где
повседневный совместный труд и основанные на нем
простые, честные отношения составляют основу
благополучия людей и их законную гордость. На их полях
одно зерно рождает семьсот полновесных зерен; они не
знают не только бедности и воровства, но и болезней;
60
умирая в глубокой старости, не жалеют о прожитом.
Они довольны жизнью и, не зарясь на чужие
богатства, чистосердечны и скромны, во всем соблюдают
достойную меру. Характерно также, что Низами,
описывая это общество, даже упоминая о «творце»,
умалчивает о духовенстве и религиозном культе, храмах. И
этим социальная утопия Низами высоко поднималась
над господствовавшей феодально-исламской
идеологией.
Познакомившись с этой счастливой страной, Искен-
дер решает, что он достиг цели своих стремлений. Ни
о чем лучшем он не слыхал и не читал. Он признается;
О звериный мой нрав! Был я в пламени весь.
Научусь ли тому, что увидел я здесь?
Если б ведать я мог о народе прекрасном,
Не кружил бы по миру в стремленье напрасном.
Учение об идеальном обществе Низами во многом
предвосхитило социалистические утопии позднего
средневековья.
Если сравнить жизнеутверждающую утопию
Низами с содержащейся в «Кабус-намэ» и ее источниках
защитой неравенства, рабства и угнетения или с
упадочническими взглядами мусульманских мистиков, то
нетрудно понять, кто из них выражал подлинные
народные мечты; Взлет мысли, характеризующий утопию
Низами, отражает мечты и чаяния народных масс, не раз
в истории родного поэту Азербайджана и других стран
Востока поднимавшихся против своих угнетателей.
В антифеодальных народных движениях
неоднократно выдвигались идеи уравнительного коммунизма. Так
было и во время крестьянского восстания в Турции в
начале XV века, во главе которого стояли шейх Бед-
реддин и его ученик Берклюдже Мустафа. Их образы
воспел Назым Хикмет в «Поэме о шейхе Бедреддине
Симави, сыне кадия города Симавне», — последнем
произведении турецкого поэта, опубликованном при его
жизни в Турции:
За то, чтоб вместе всем одним дыханьем петь,
чтоб вместе всем тянуть с уловом сеть,
за то, чтоб сообща поля пахать,
чтоб из железа кружева ковать,
чтоб вместе всем срывать плоды с ветвей и
есть инжир медовый в общем доме,
61
чтоб вместе быть всегда и всюду —
кроме,
как у щеки возлюбленной своей, —
из десяти их восемь тысяч пало.
Передавая предание, услышанное от турецких
крестьян, Назым Хикмет подчеркнул, что идеалы, за кото-*
рые боролись повстанцы Бедреддина, живы и в его
время. «Мы, воины Бедреддина, — говорил меднобородый
крестьянин, — не верим в воскресение из мертвых, не
верим в конец света. Поэтому мы не верим и в то, что
оживет рассыпавшееся, ставшее прахом тело. И если
мы говорим, что Бедреддин снова придет, то мы
говорим, что оживет среди нас его слово, взгляд, дыхание».
В результате исторического прогресса, развития
революционного и национально-освободительного
движения, с рождением и распространением в мире
марксистско-ленинского учения идеалы угнетенных о светлой и
справедливой жизни на земле обрели реальную почву.
Новый материал, привлекаемый современными
историками и философами к освещению общественной
мысли стран и народов Востока, показывает, что
решающее значение для углубления вольнолюбивых и
атеистических мотивов в художественной литературе в
XIX и начале XX века имели
национально-освободительная и классовая борьба, успехи науки и техники,
широкое распространение революционных идей,
марксизма-ленинизма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДД ы рассказали лишь об очень немногом из истории
литературы Востока, созданной на
азербайджанском, арабском, башкирском, курдском, персидском,
Сербскохорватском, таджикском, татарском, турецком,
туркменском, узбекском и других восточных языках.
Но и это немногое дает возможность понять, что
свободомыслие, атеизм — явление интернациональное,
опирающееся на наблюдение и опыт, здравый смысл и
науку, высокие нравственные требования и гуманизм.
Как видим, в числе созданного вольнодумцами и
атеистами Востока —* многие произведения непреходящего
Художественного значения, обогатившие сокровищницу
мировой культуры. Идейные истоки этих сочинений не
наносны, а подлинно народны, они возникли и окрепли
62
на своей родной национальной почве, колорит которой
и передают. Эти стихи и проза обнаруживают полную
несостоятельность и злобность измышлений расистов,
колонизаторов и неоколонизаторов, изображающих
людей Востока как неких «неполноценных» — неизменных
фанатиков, фаталистов и мистиков.
Произведения, в которых высказаны вольнодумные
и атеистические взгляды, разнообразны не только в
силу разности талантов их создателей, но и неодинаково-*
сти условий, в которых они работали, особенностей их
творческого метода, личных пристрастий, классовой
позиции. Вместе с тем и при недостаточной изученности
этой сложной проблемы можно отметить определенную
преемственность в доводах и исходных позициях мно->
гих авторов таких сочинений, даже если они работали в
разных странах, на различных языках и в разные века.
Национальные и языковые границы для художников
слова стран Востока, как, впрочем, и Запада, —
вопреки человеконенавистничеству тех, кто хотел бы
поссорить людей по признаку их веры, нации и цвету кожи,—*
никогда не были непроходимой преградой. С древней*
ших времен люди разных стран и народов
обменивались мыслями и своими художественными
ценностями, — стихами и прозой, .— и этот обмен служил делу
дружбы народов, их взаимному обогащению.
Выдающиеся художественные произведения, в
которых отражены вольнодумные и атеистические взгляды,
отличаются глубиной анализа, искрящимся
оптимизмом, остроумием и жизнерадостностью; их пафос, юмор
и сатира обращены против рутины и мракобесия. Это —
золотой фонд всемирной передовой литературы. Авто^
ры таких произведений — люди, смело и мужественно
отдающие свое дарование во имя торжества человеч',
ности, мира и прогресса.
I
СОДЕРЖАН И Е
Жизнерадостное наследство
«Повесть о великом хаджже»
«День Страшного суда»
«Земля, преображу тебя я в рай.
Заключение ...
26
42
54
62
Люциан Ипполитович КЛИМОВИЧ
ПИСАТЕЛИ ВОСТОКА ОБ ИСЛАМЕ
Гл. отраслевой редактор 3. Каримова
Ст. научный редактор К. Г а б о в а
Мл. редактор О. П р о ц е и к о
Художник Н. Константинова
Худож. редактор Т. Егорова
Техн. редактор А. Красавина
Корректор Р. Колокольчиков а
ИБ № 1243
А 04428. Индекс заказа 91112. Сдано в набор 9.10.78 г.
Подписано к печати 30.10.78 г. Формат бумаги 84Х108'Аз2. Бумага
типографская № _,3. Бум. л. 1. Печ. л. 2. Усл. печ. л. 3,36. Уч.-изд.
л. 3,42. Тираж 52 510 экз. Издательство «Знание». 101835, Москва,
Центр, проезд Серова, д. 4. Заказ 1706. Типография
Всесоюзного общества «Знание», Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.
Цена 11 коп.
11 коп.
Ими к( ММ17Г1