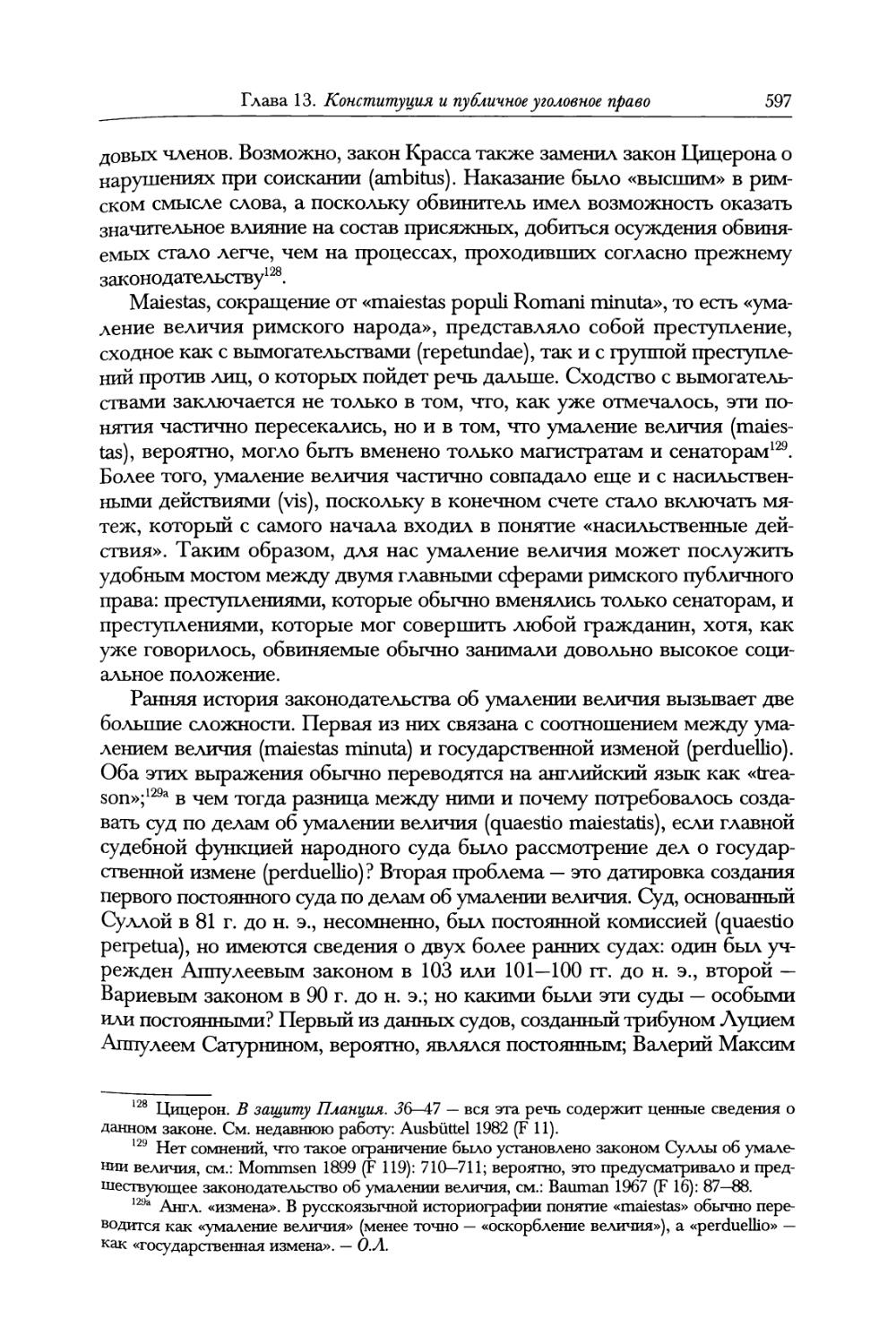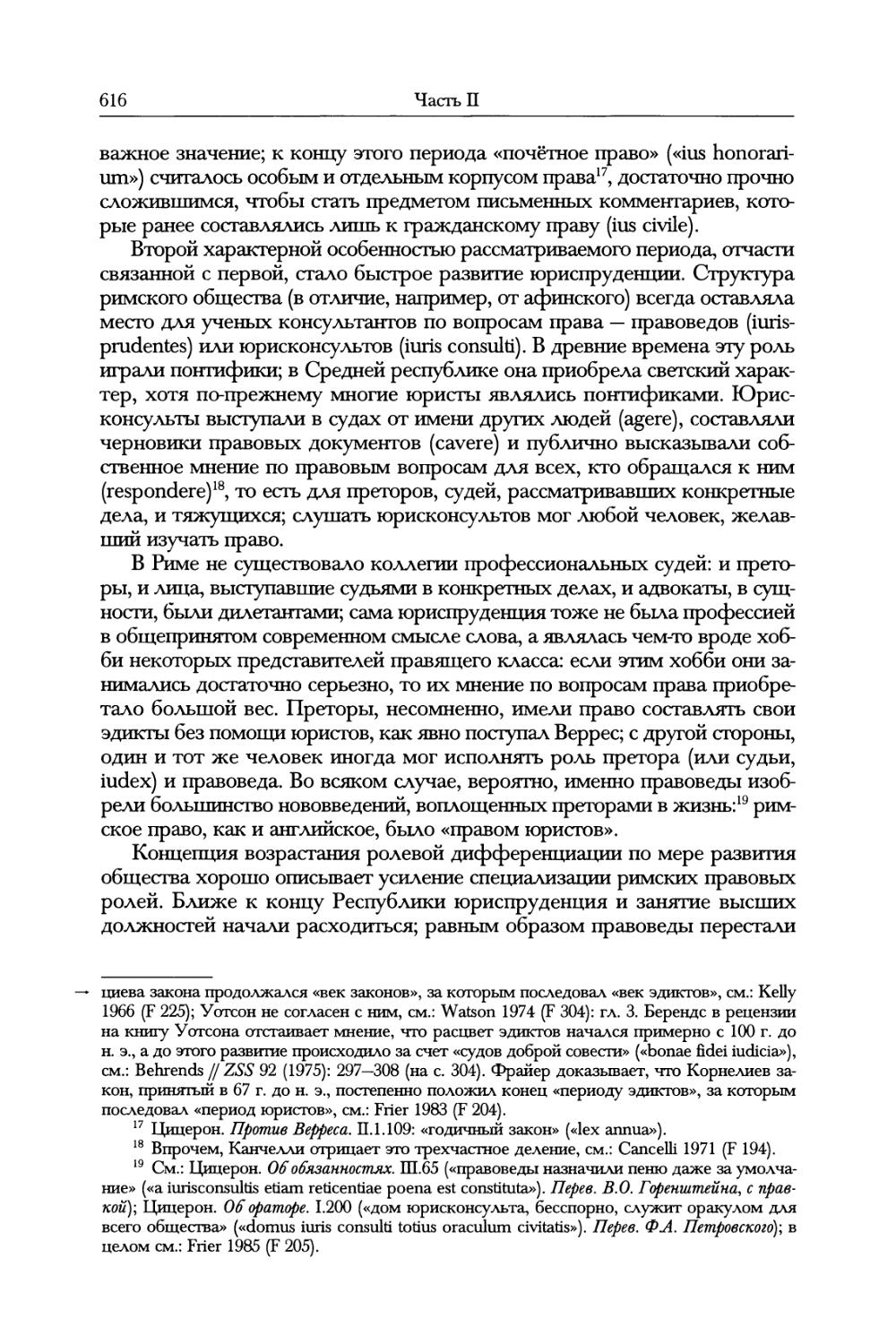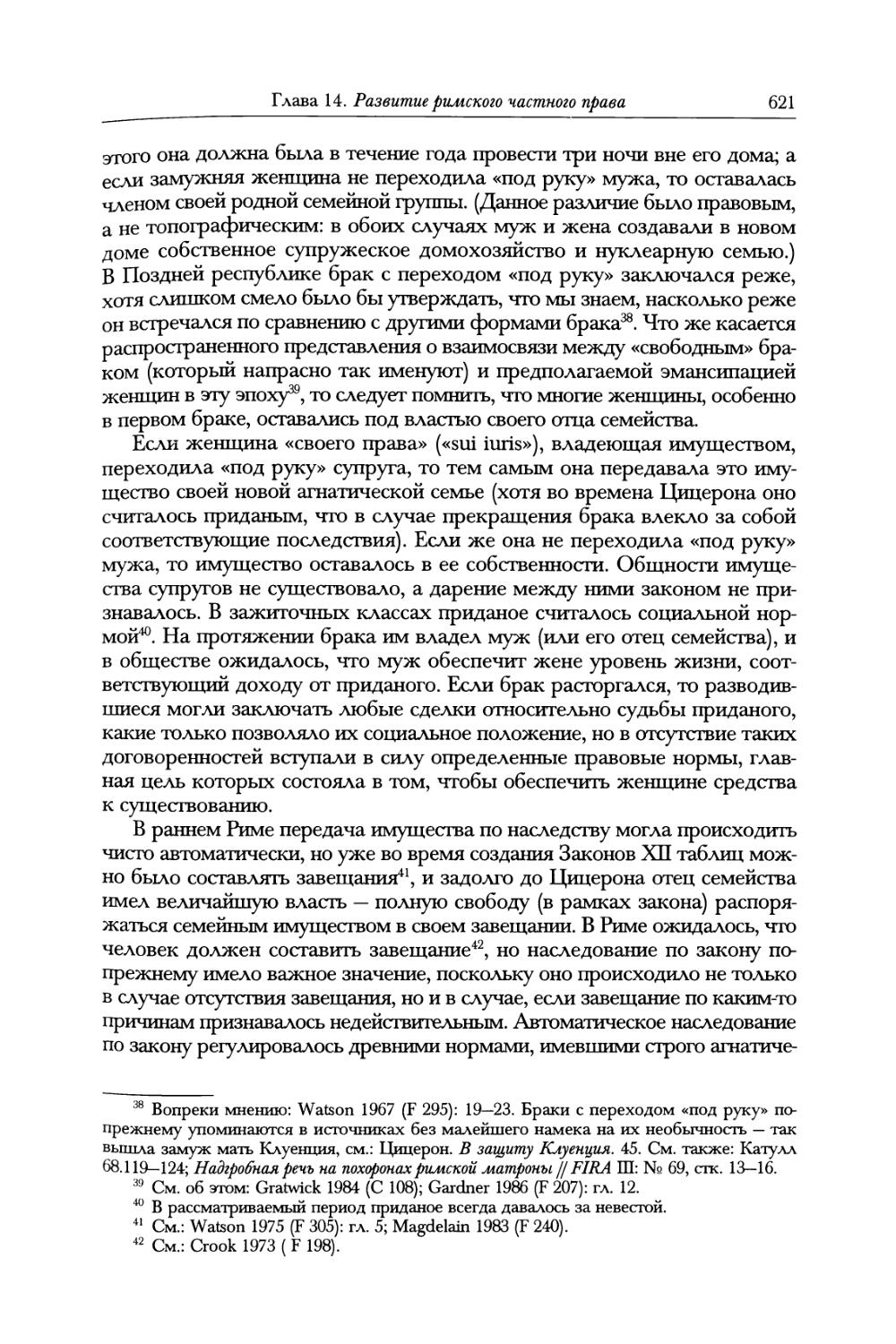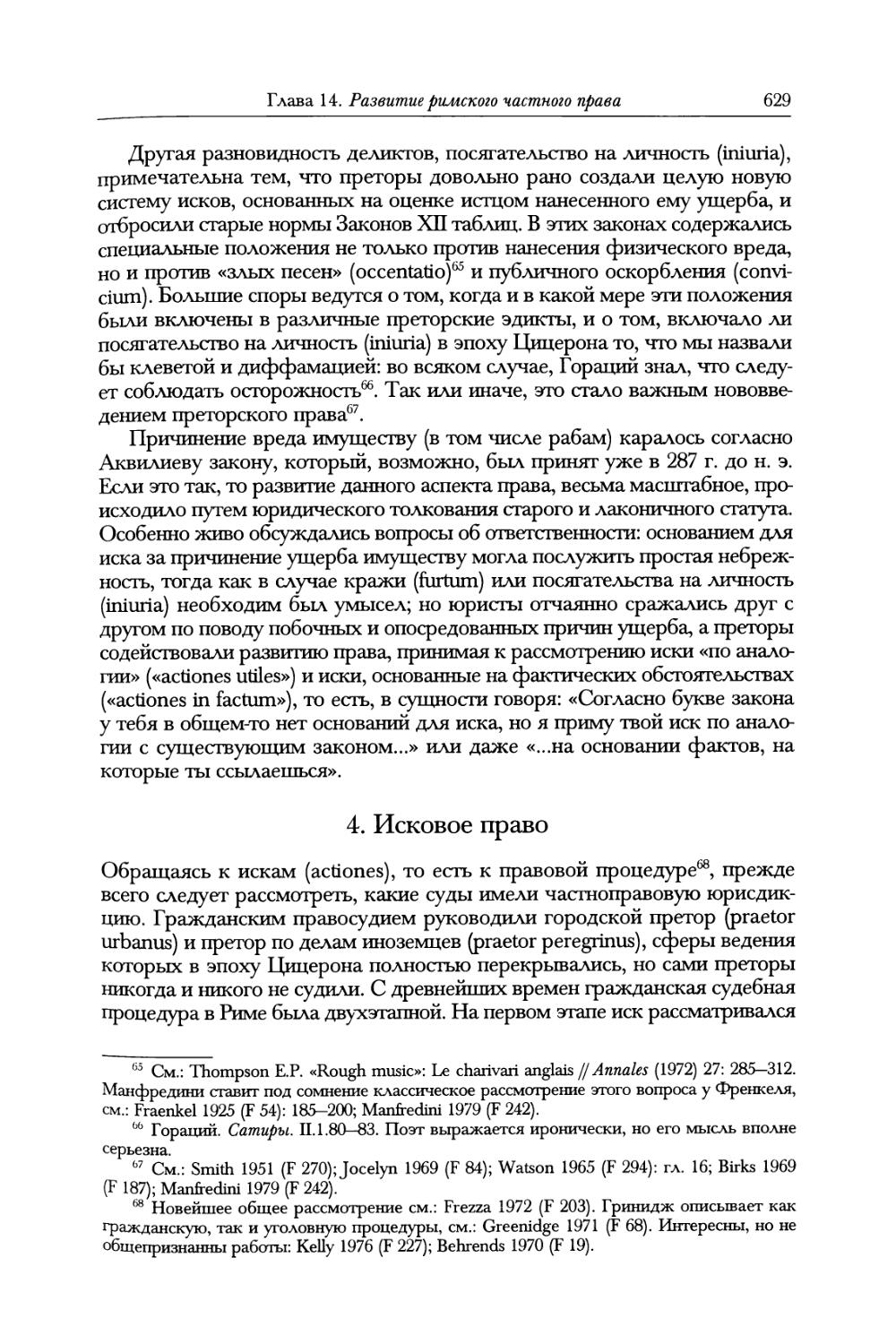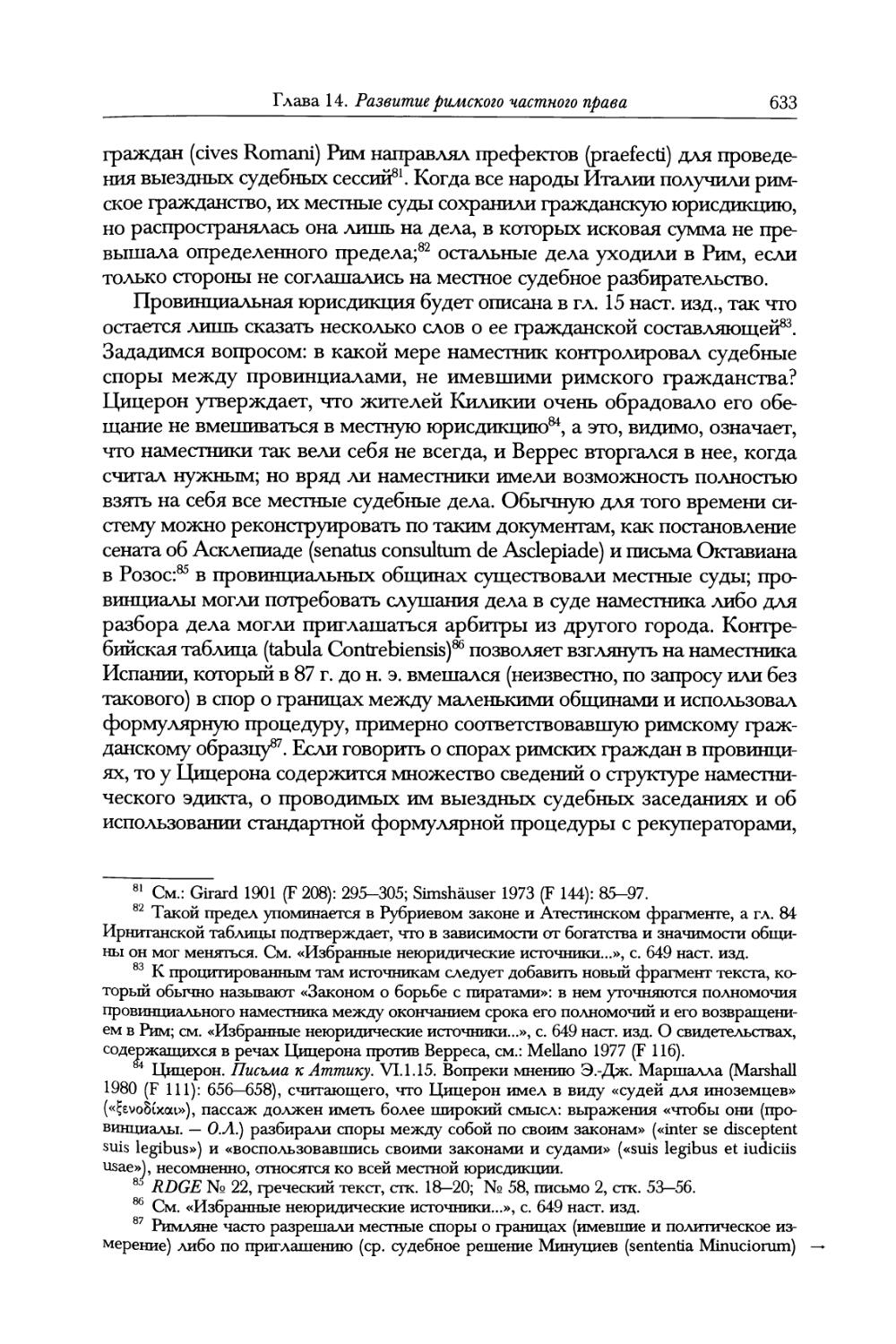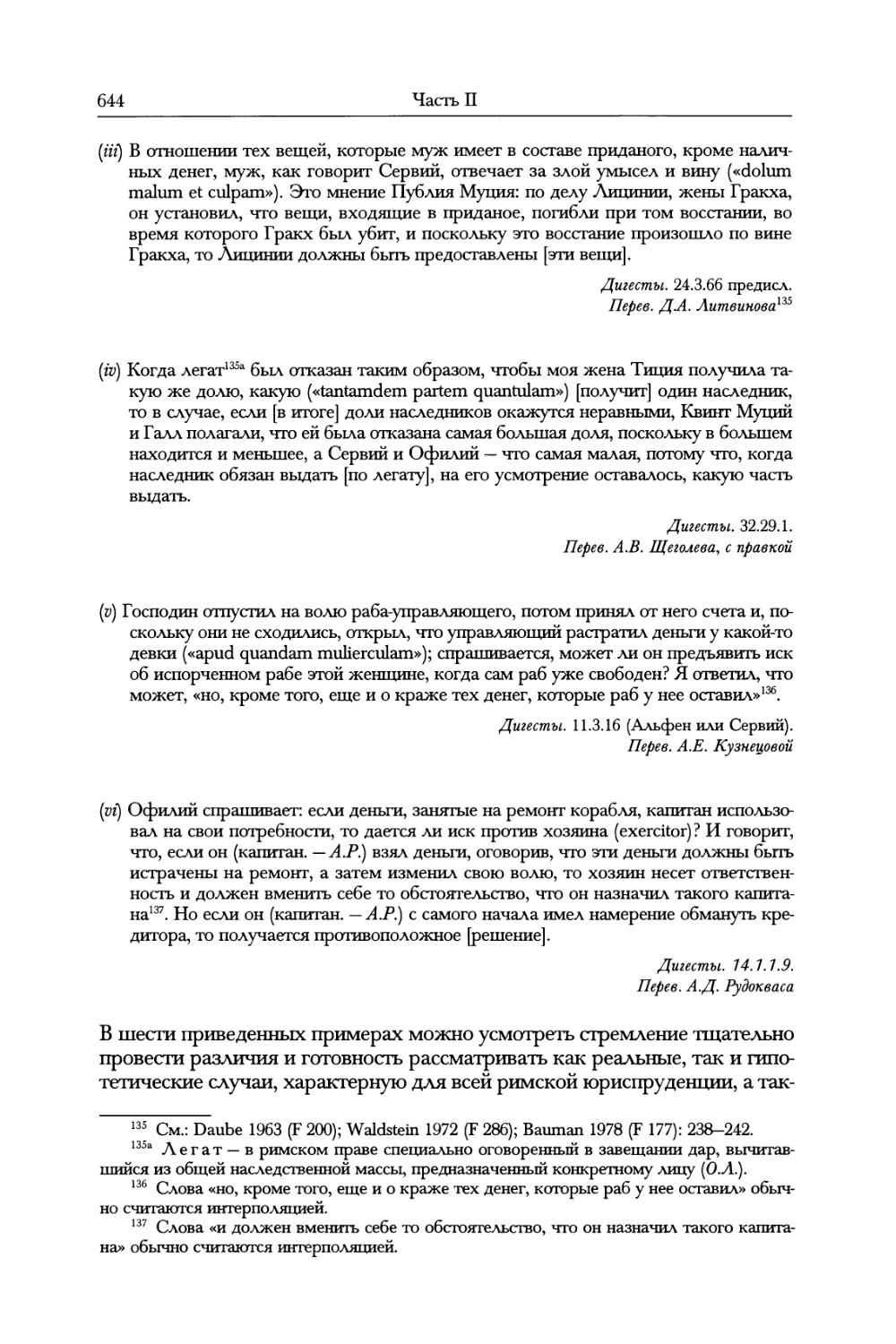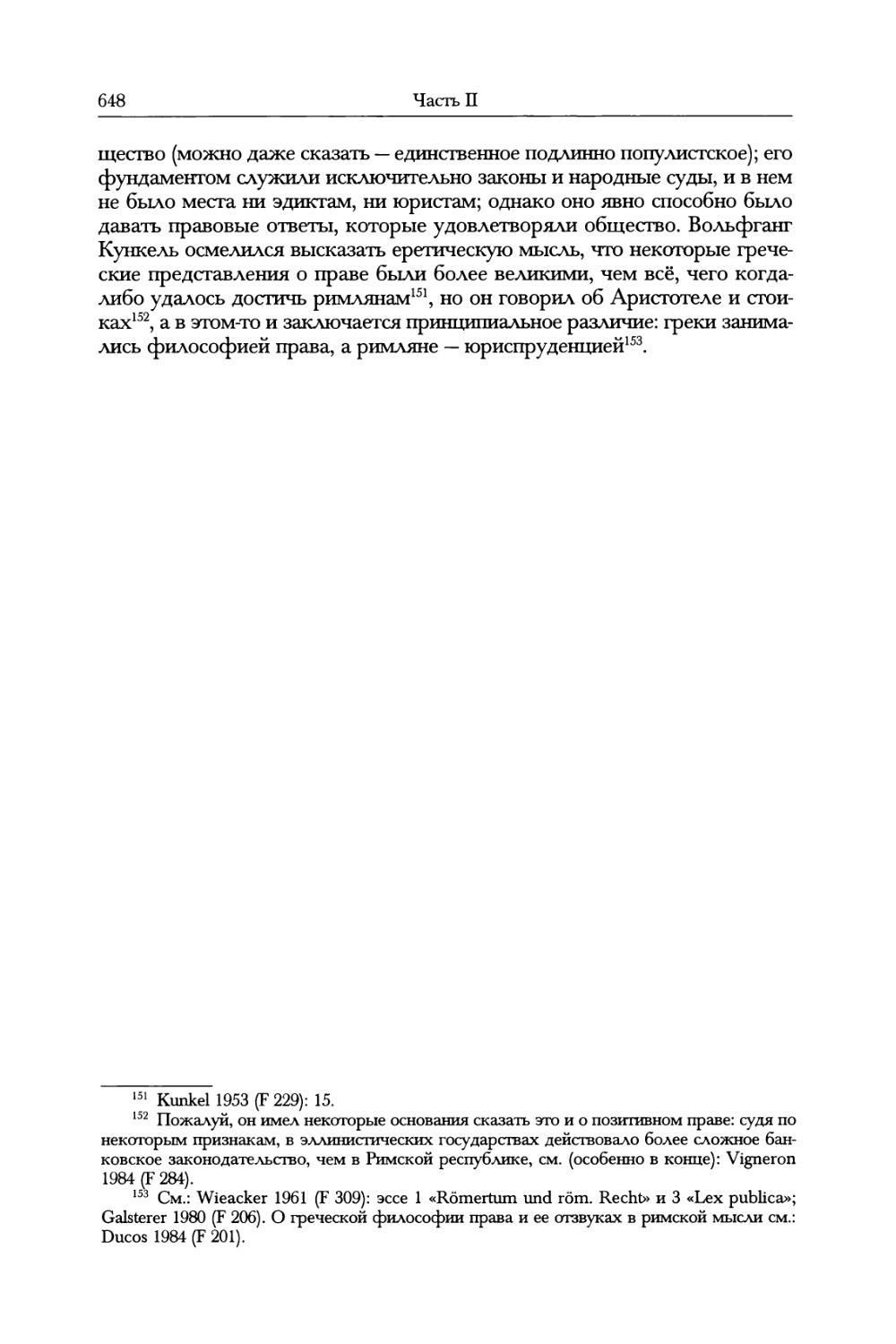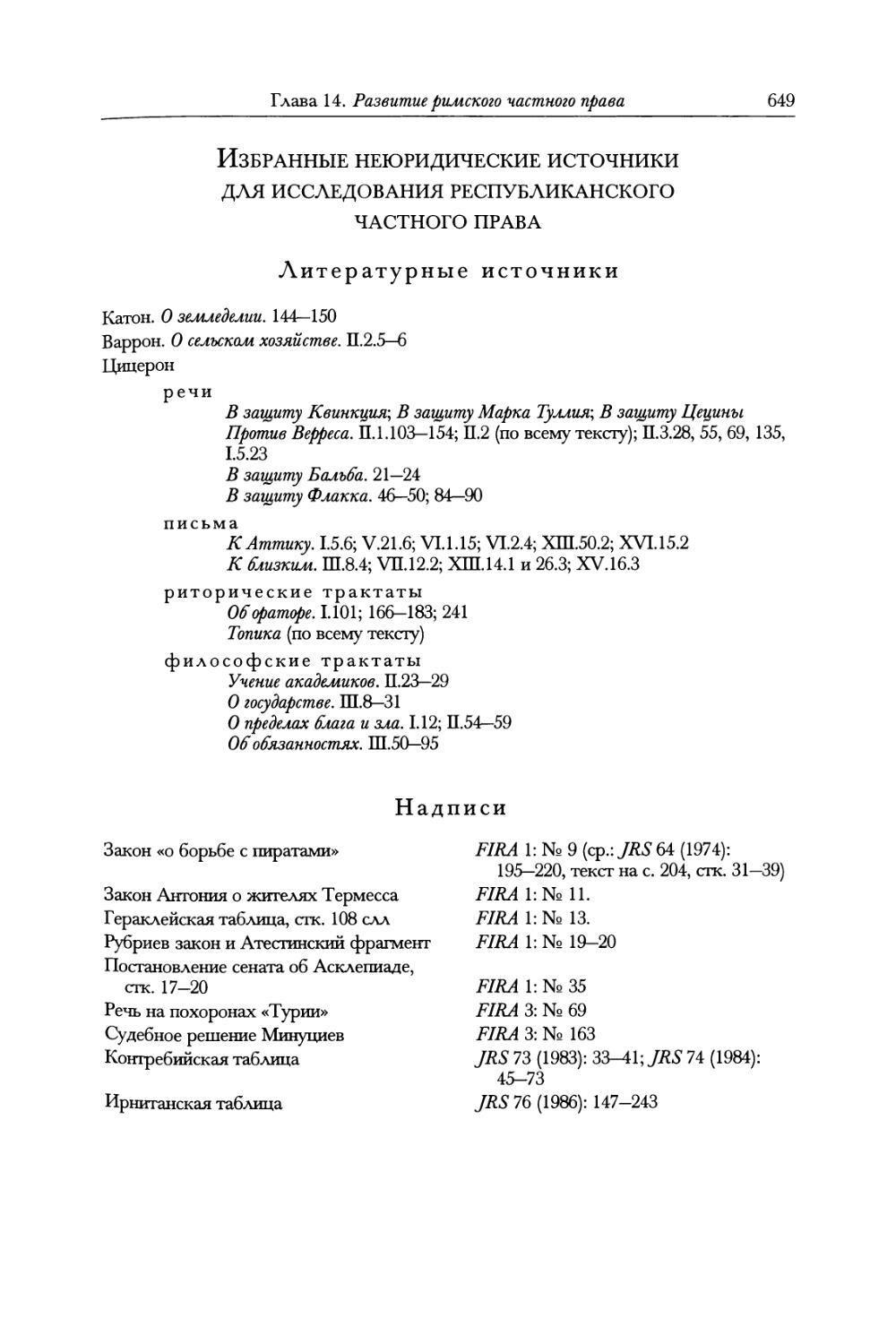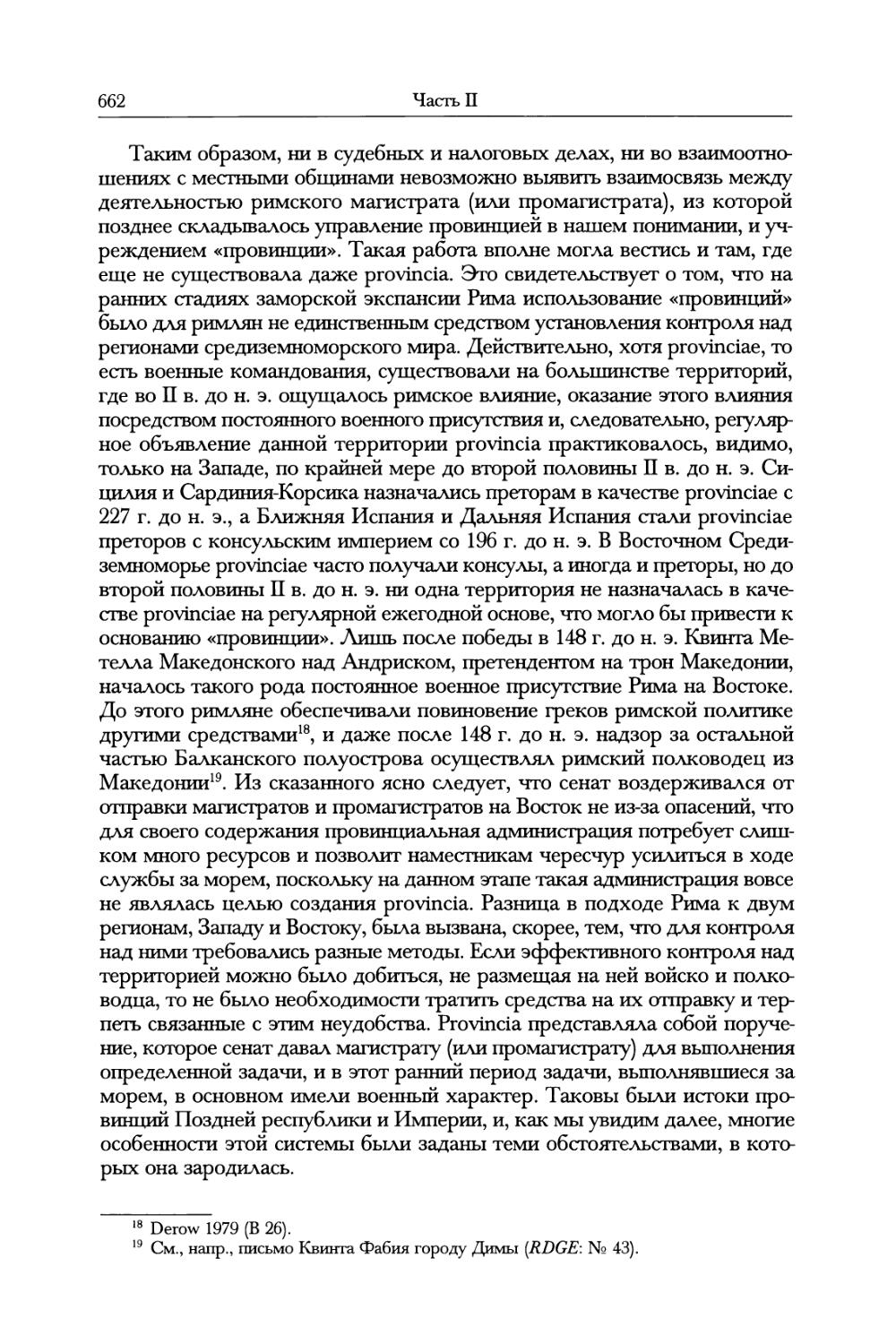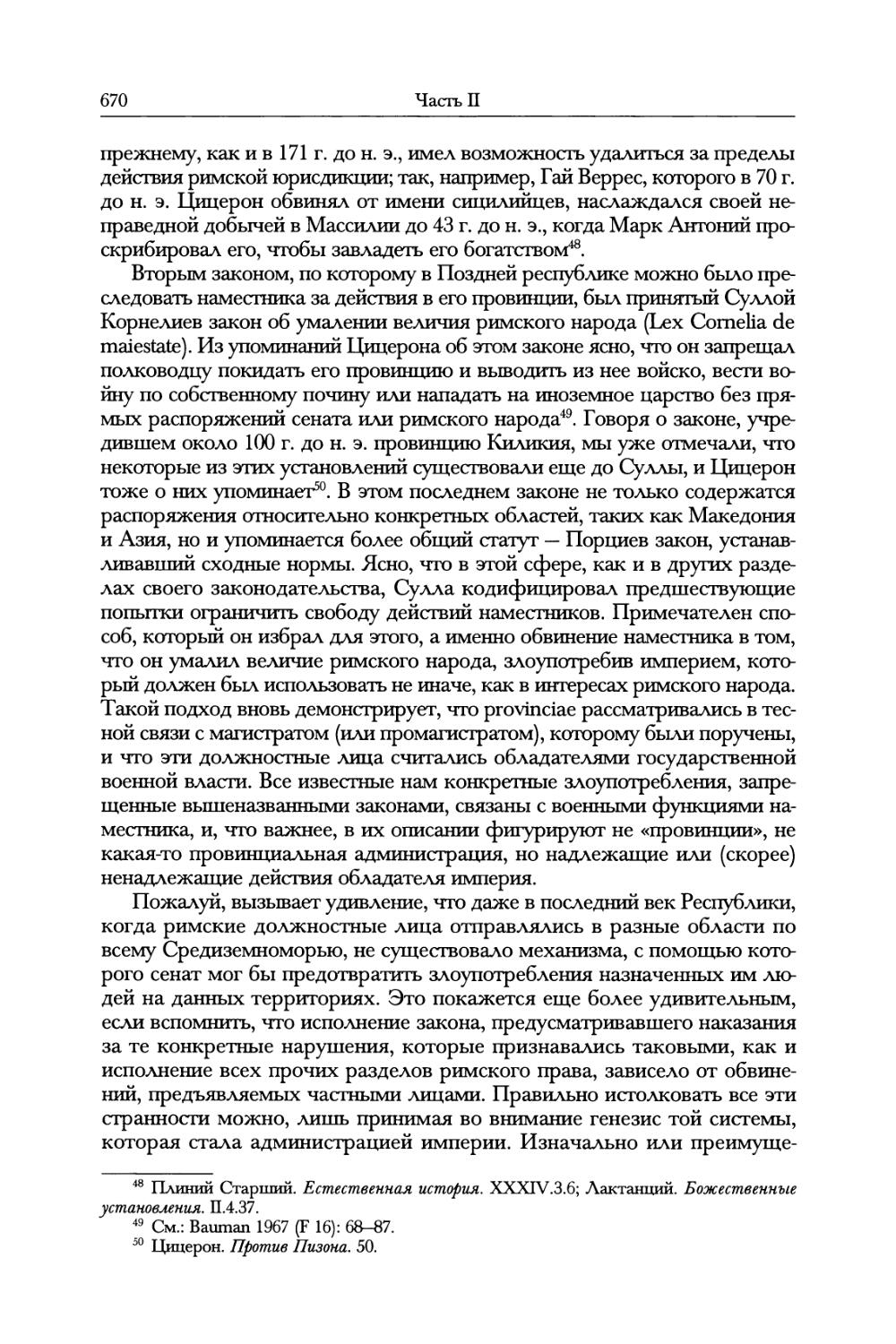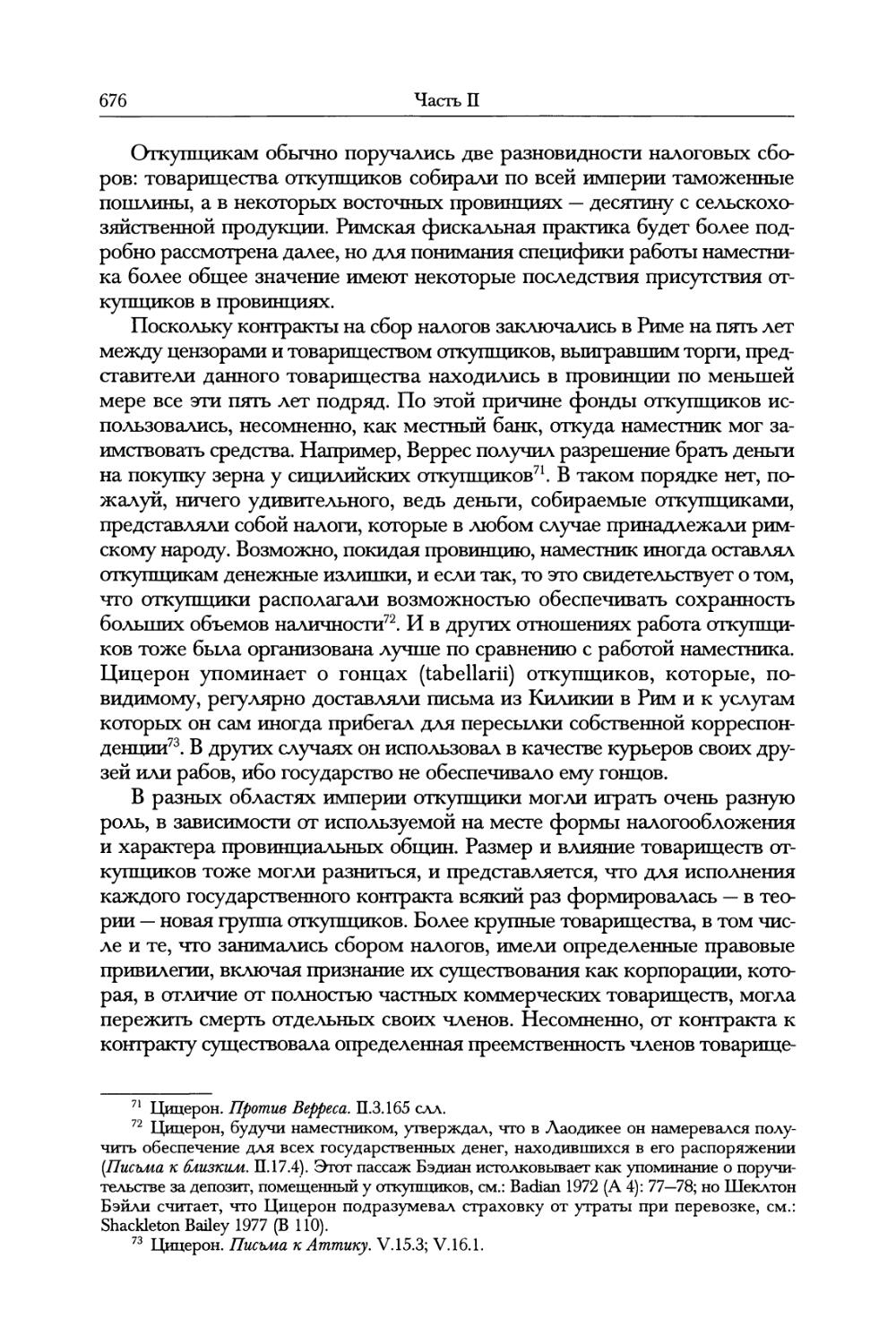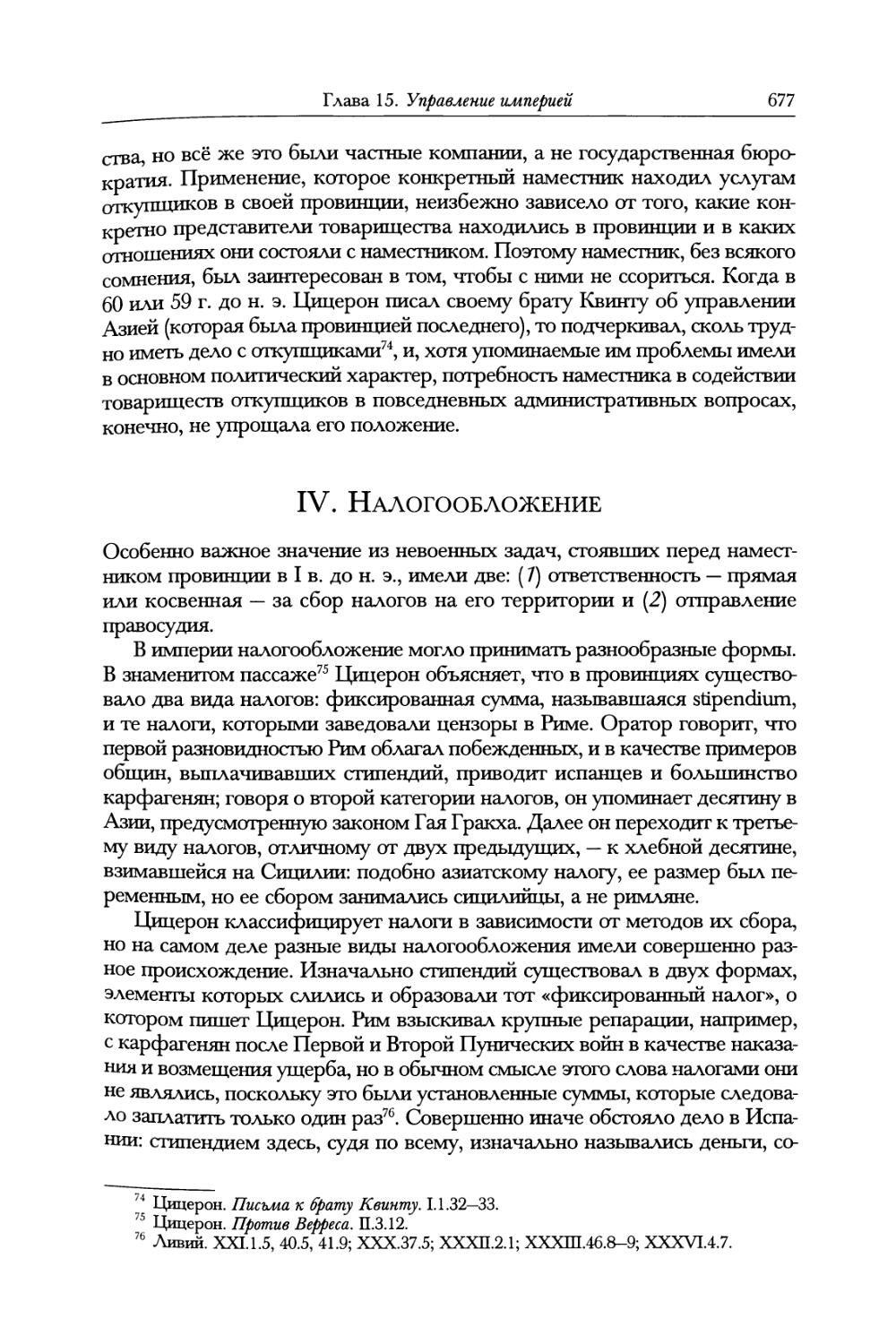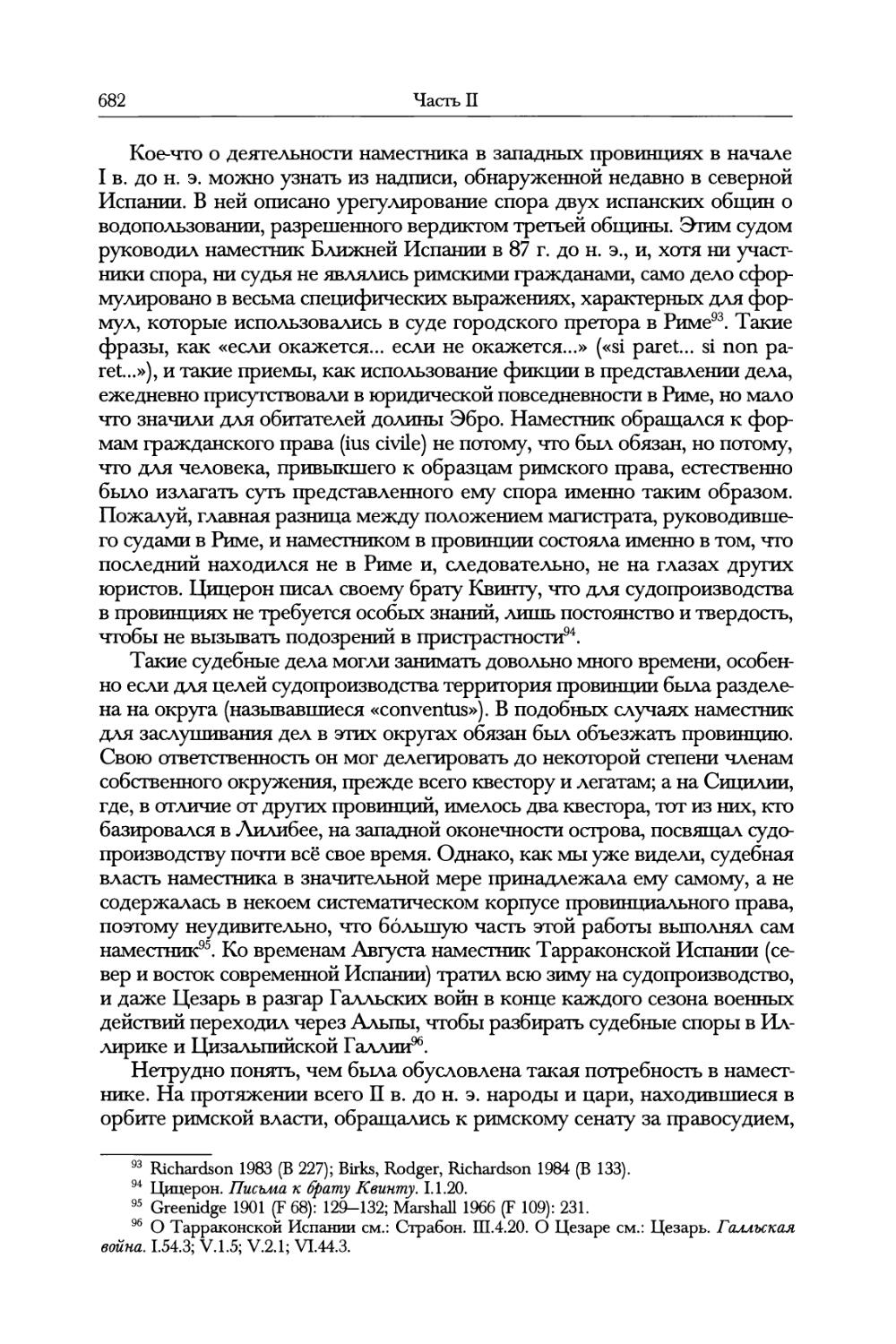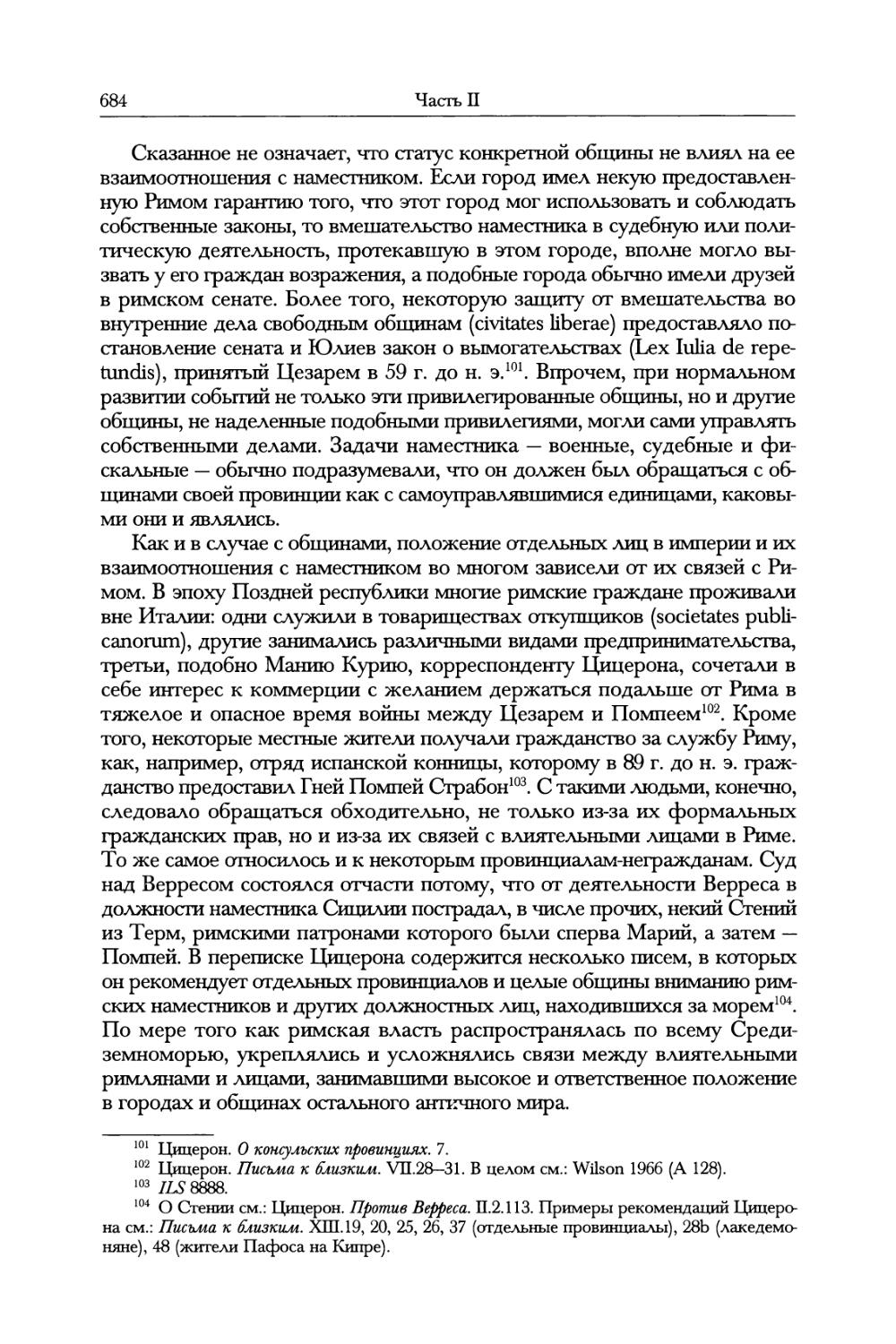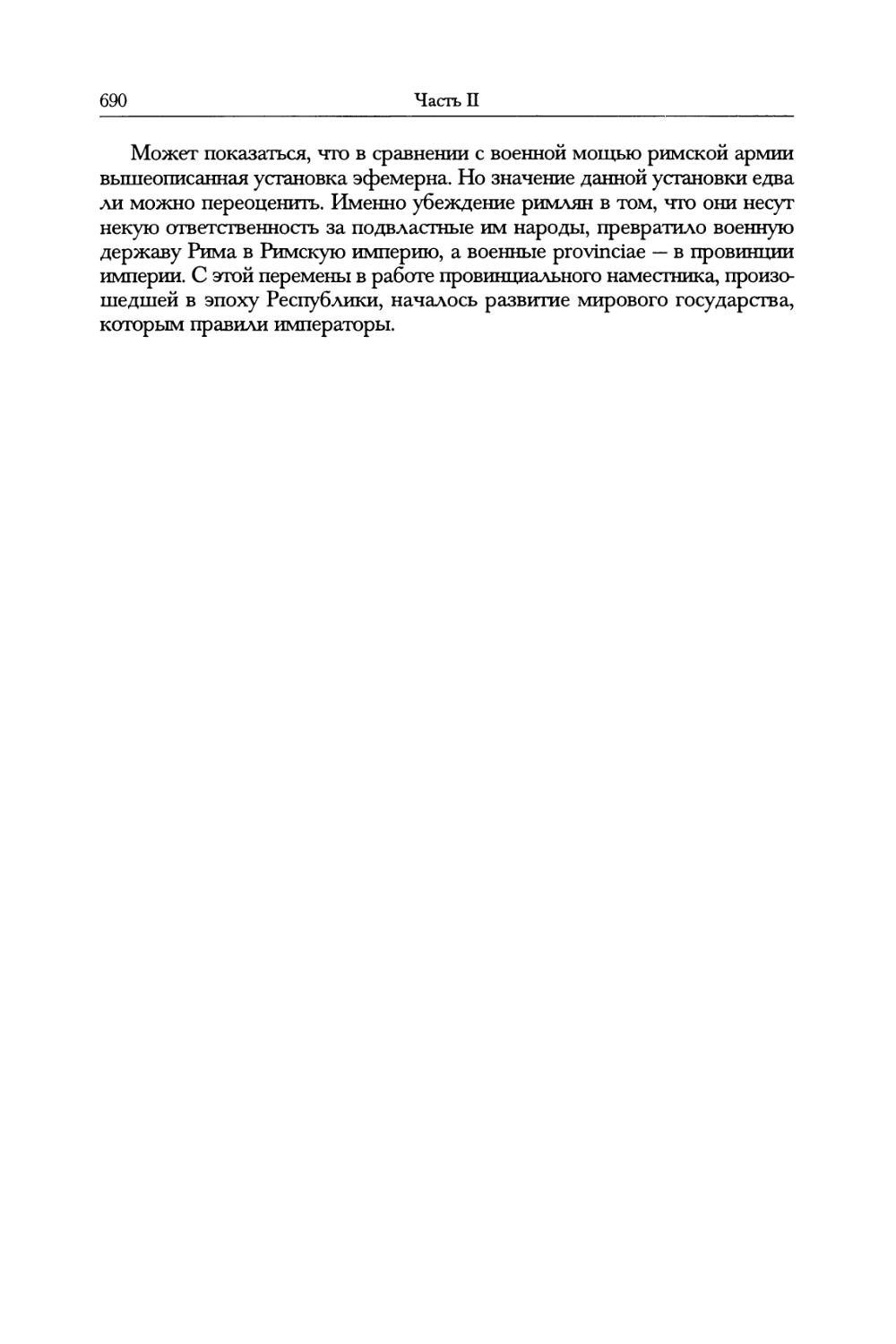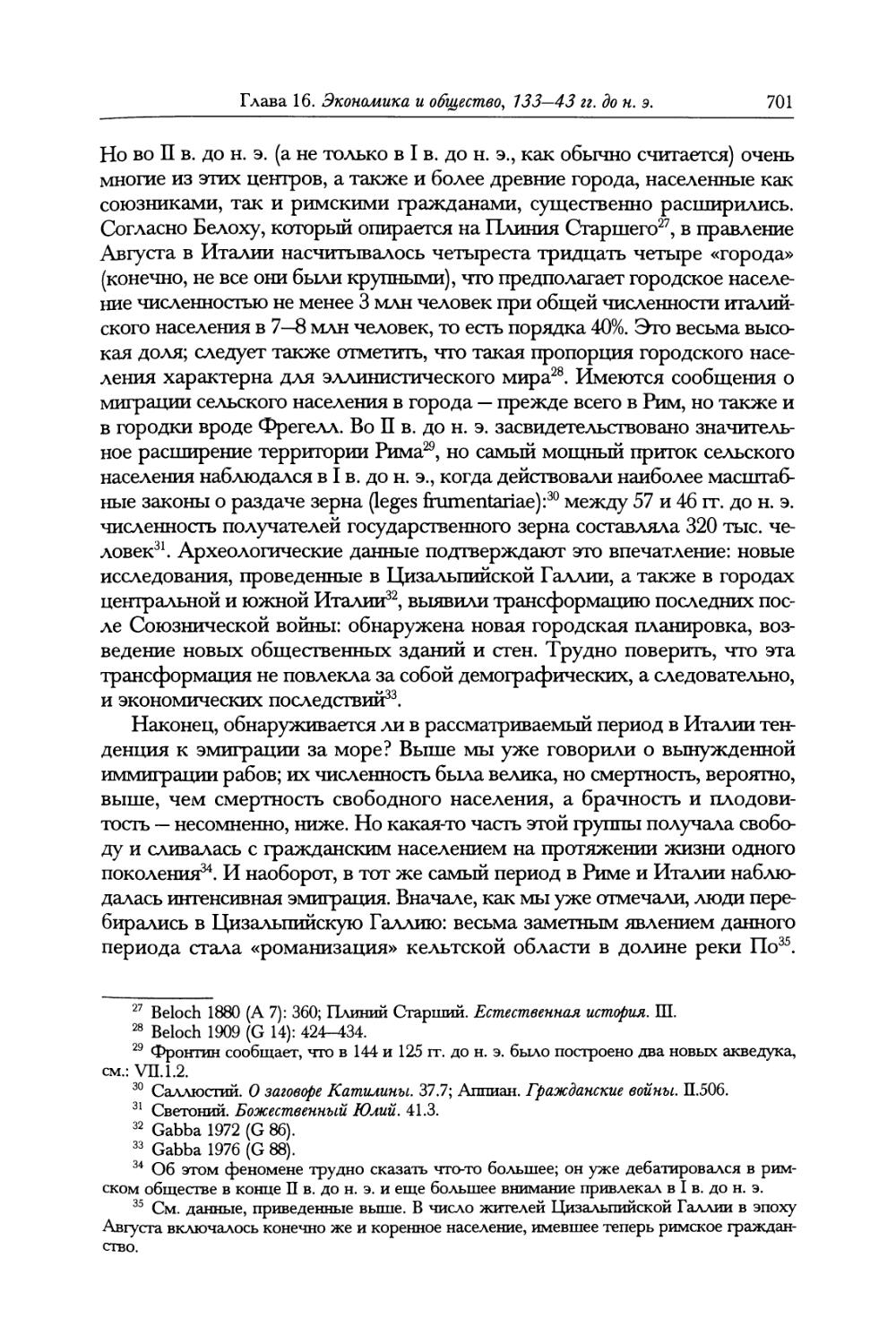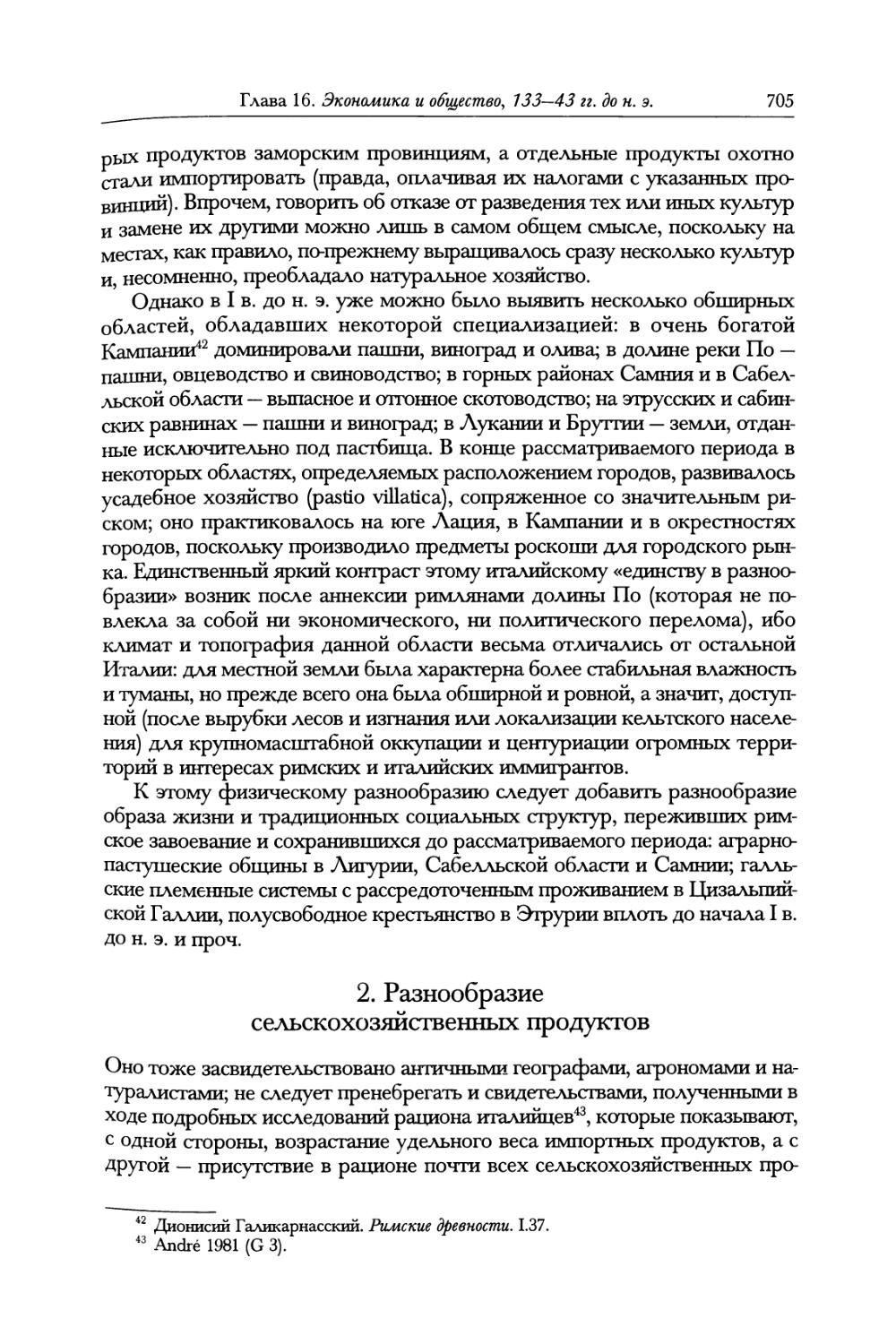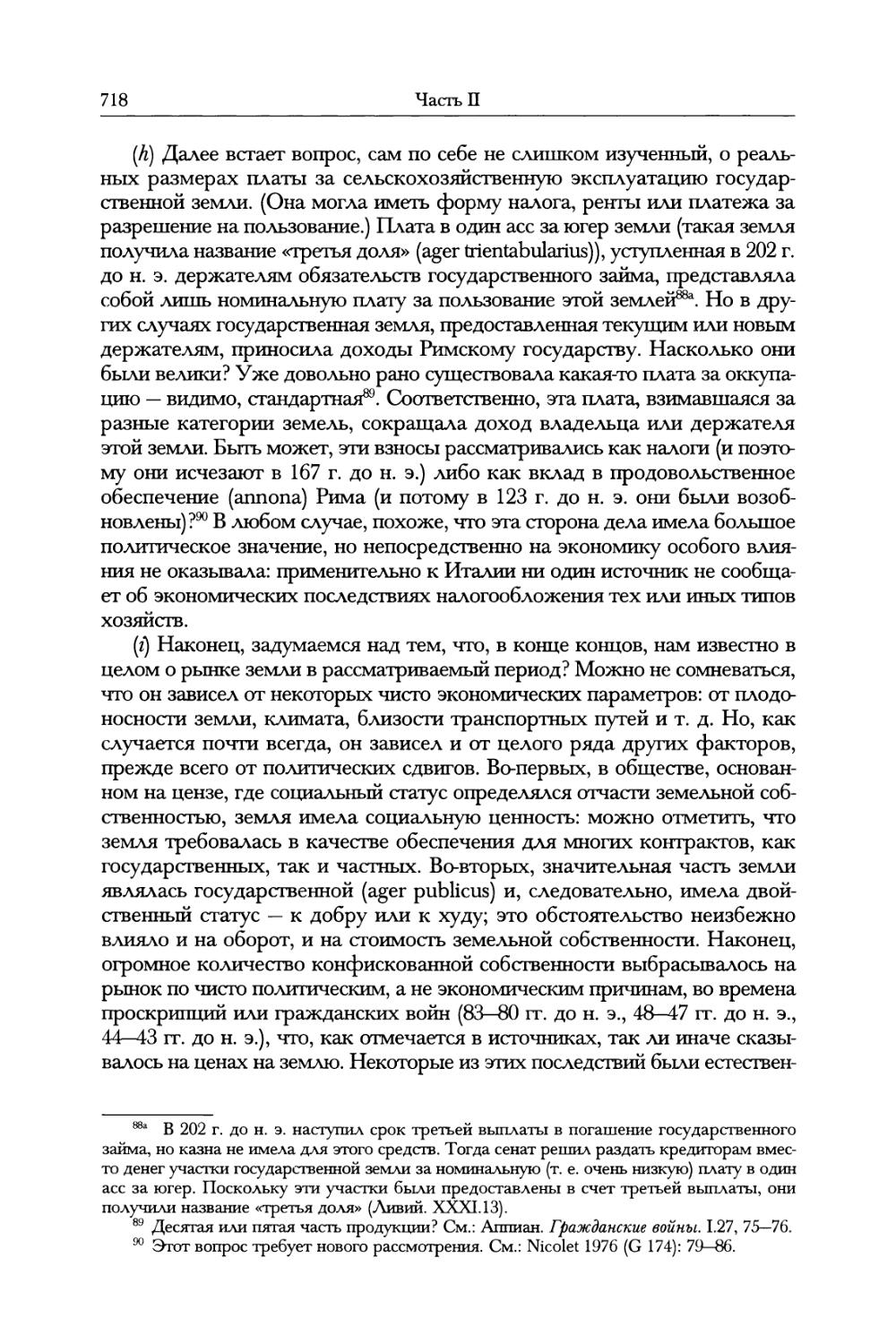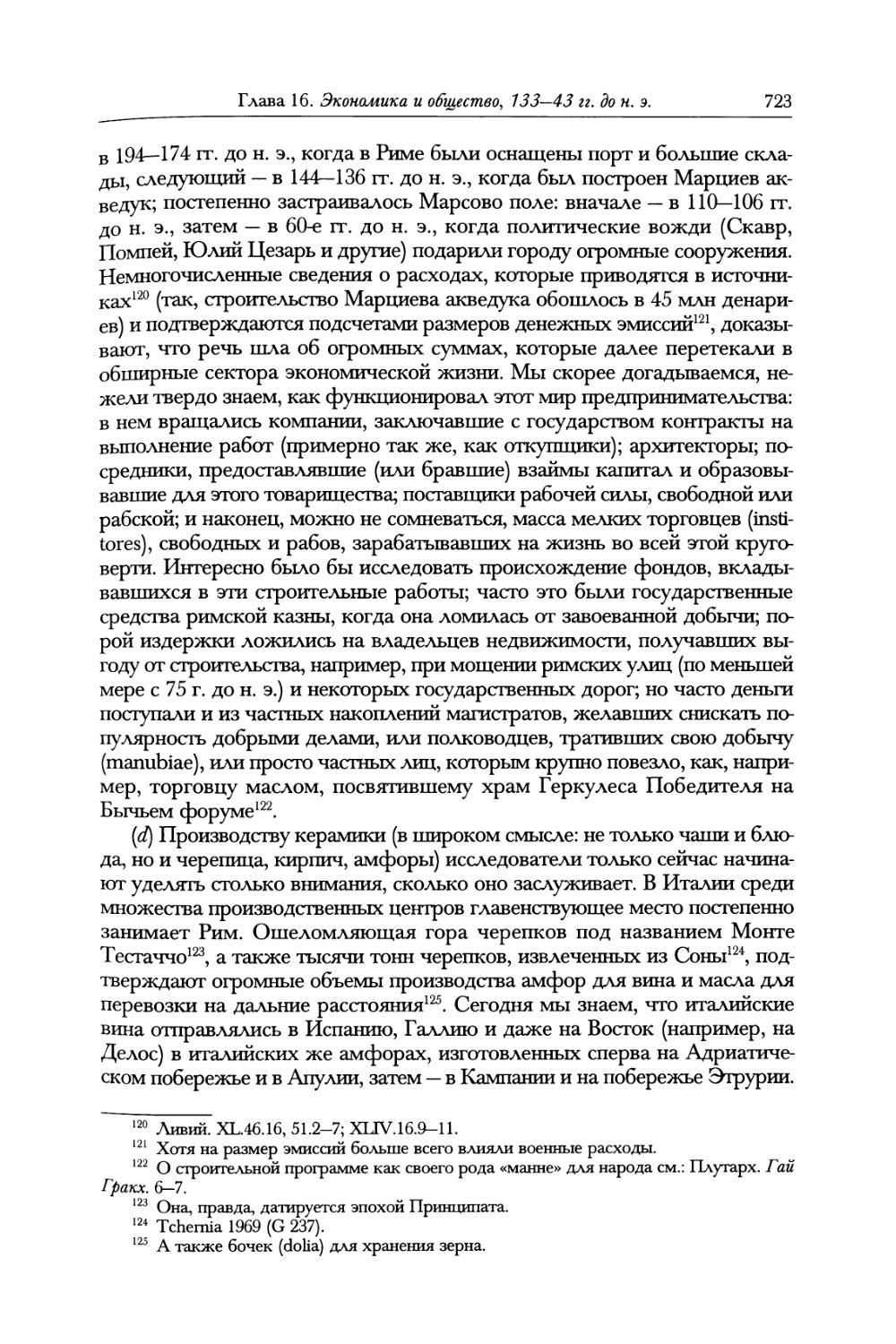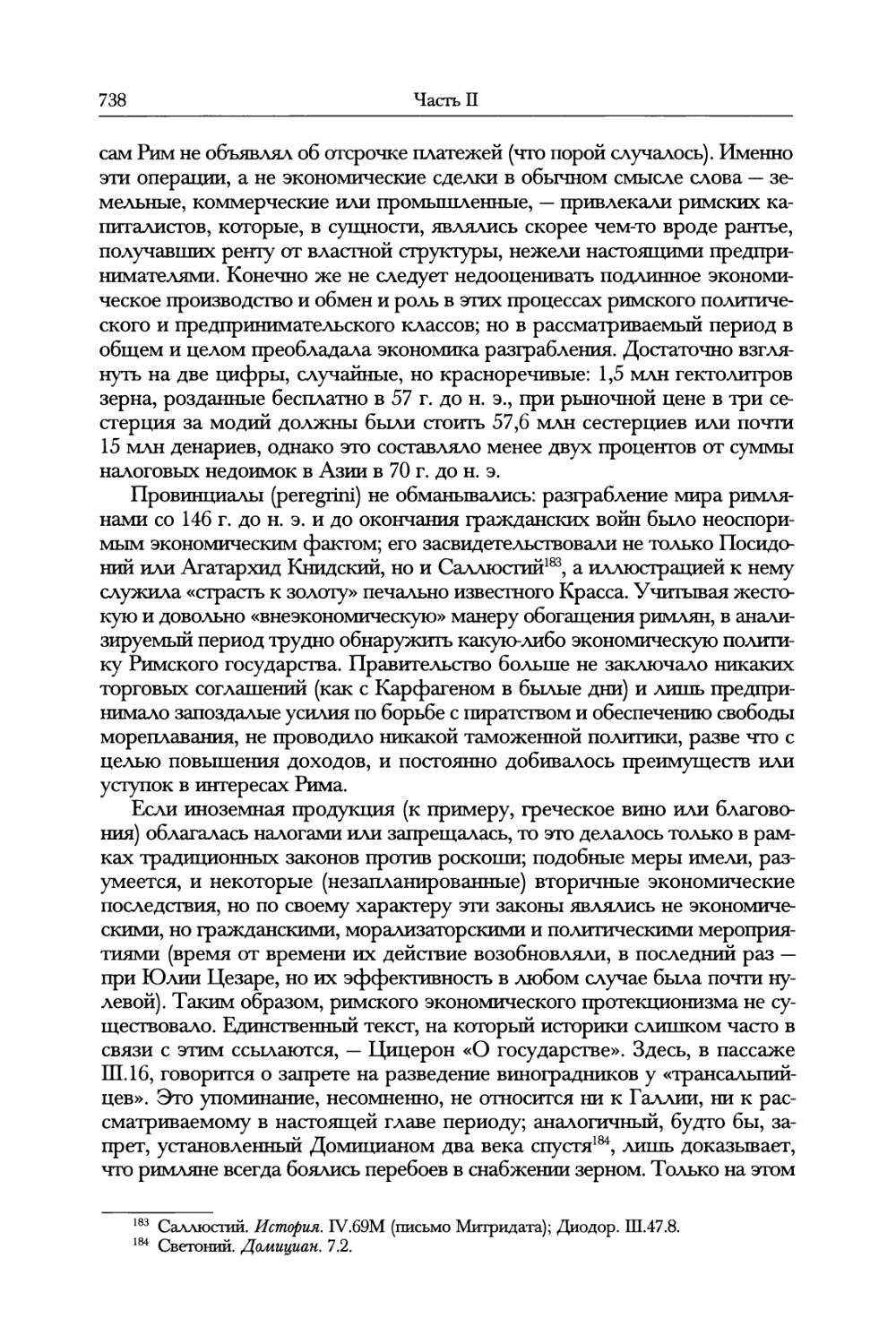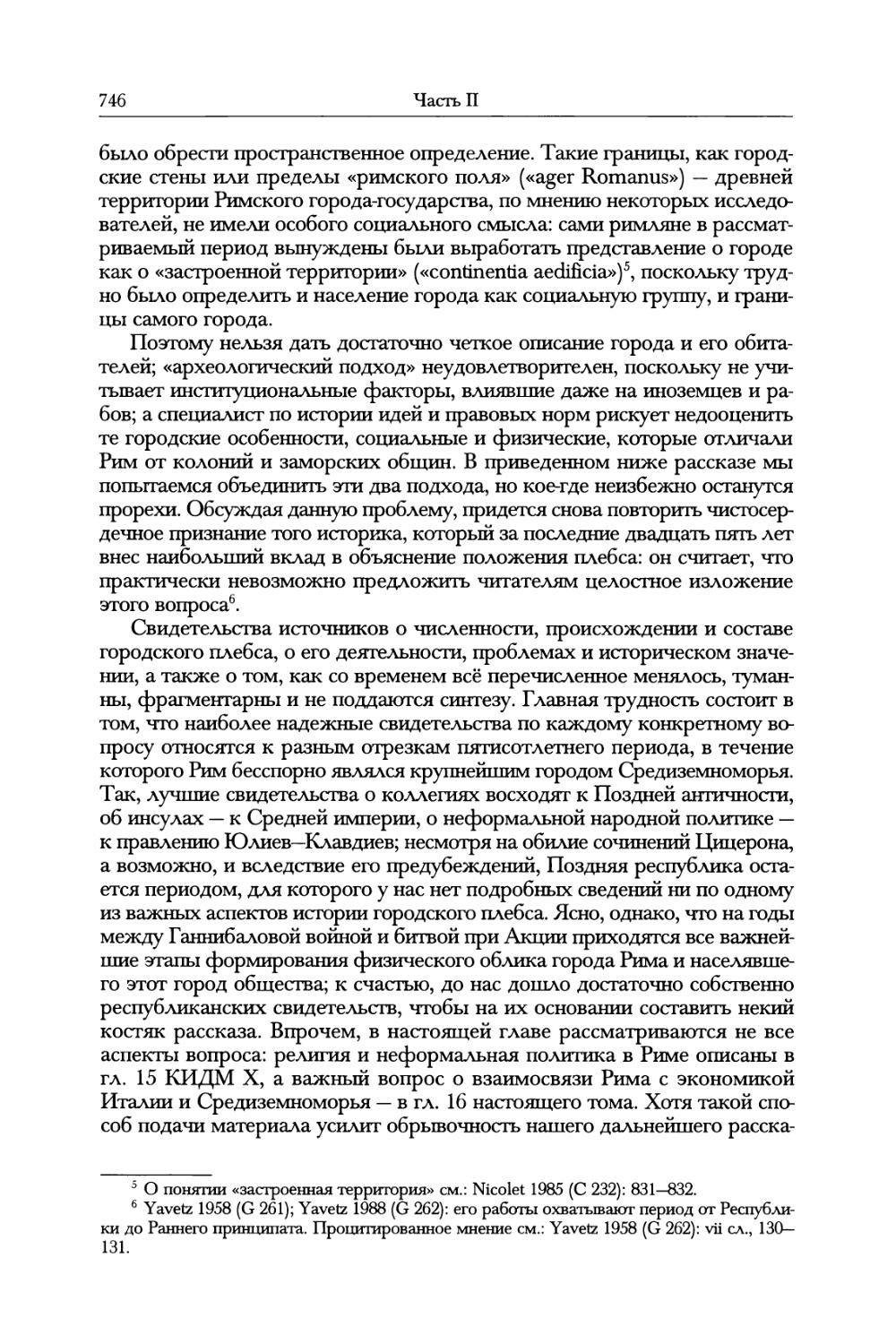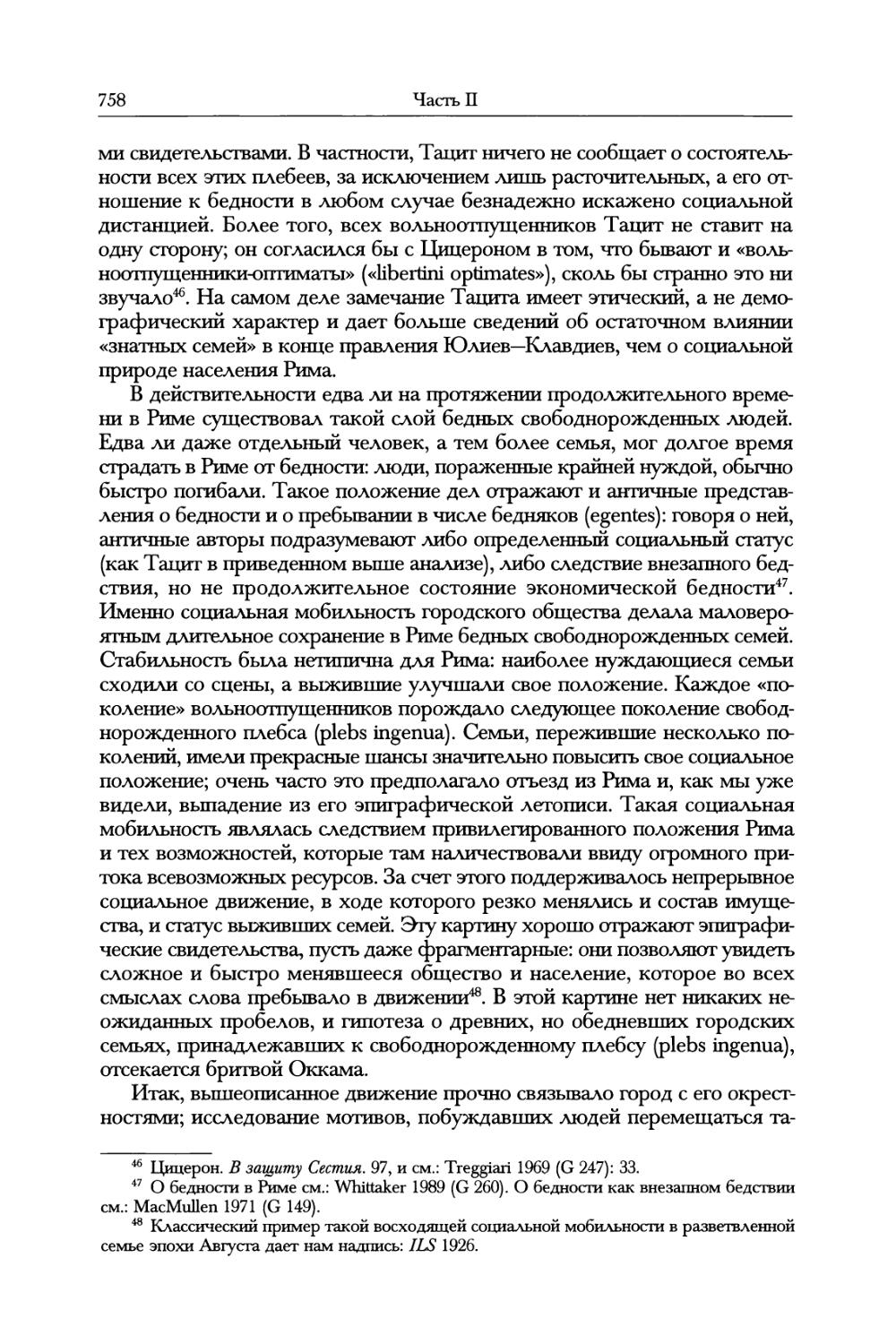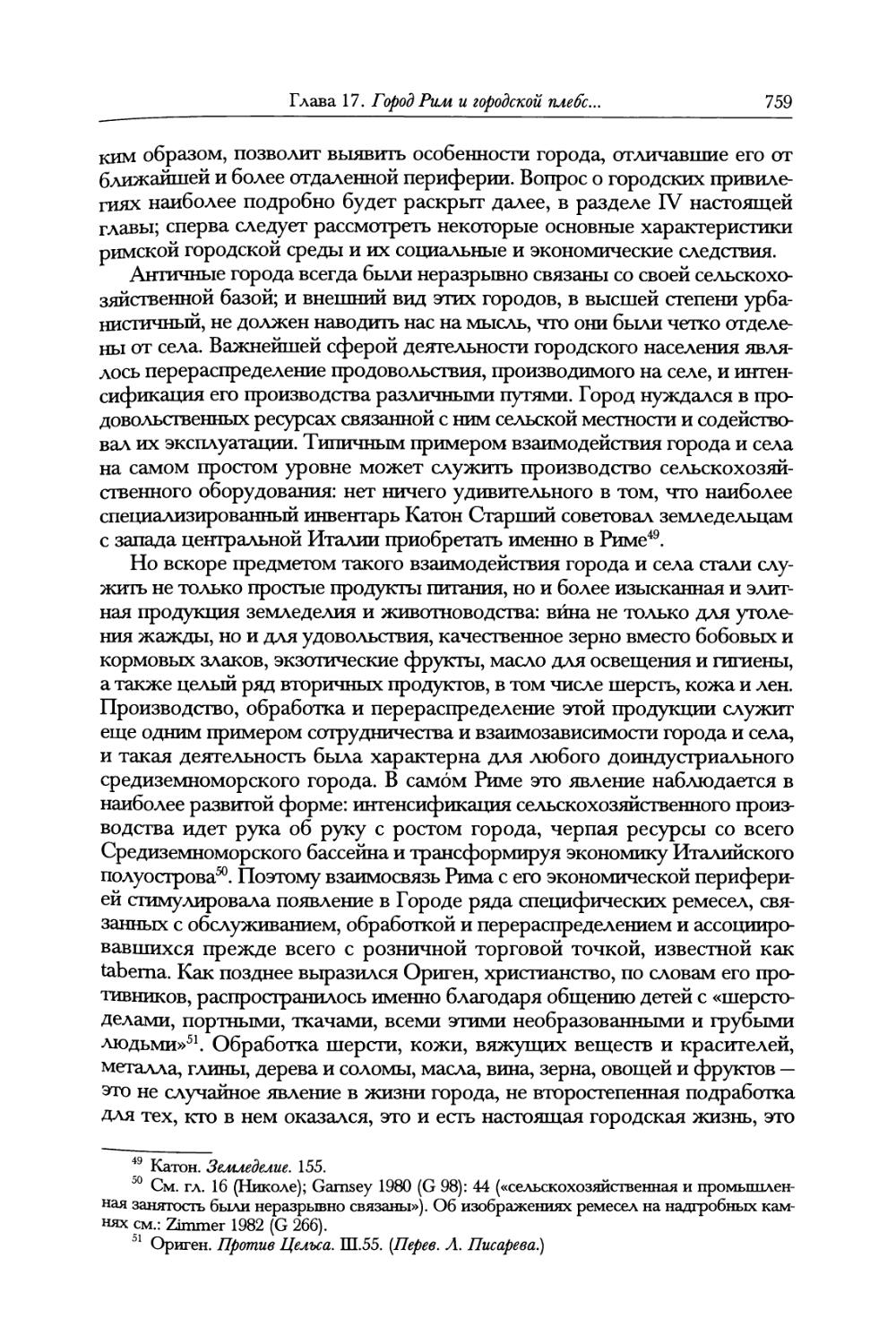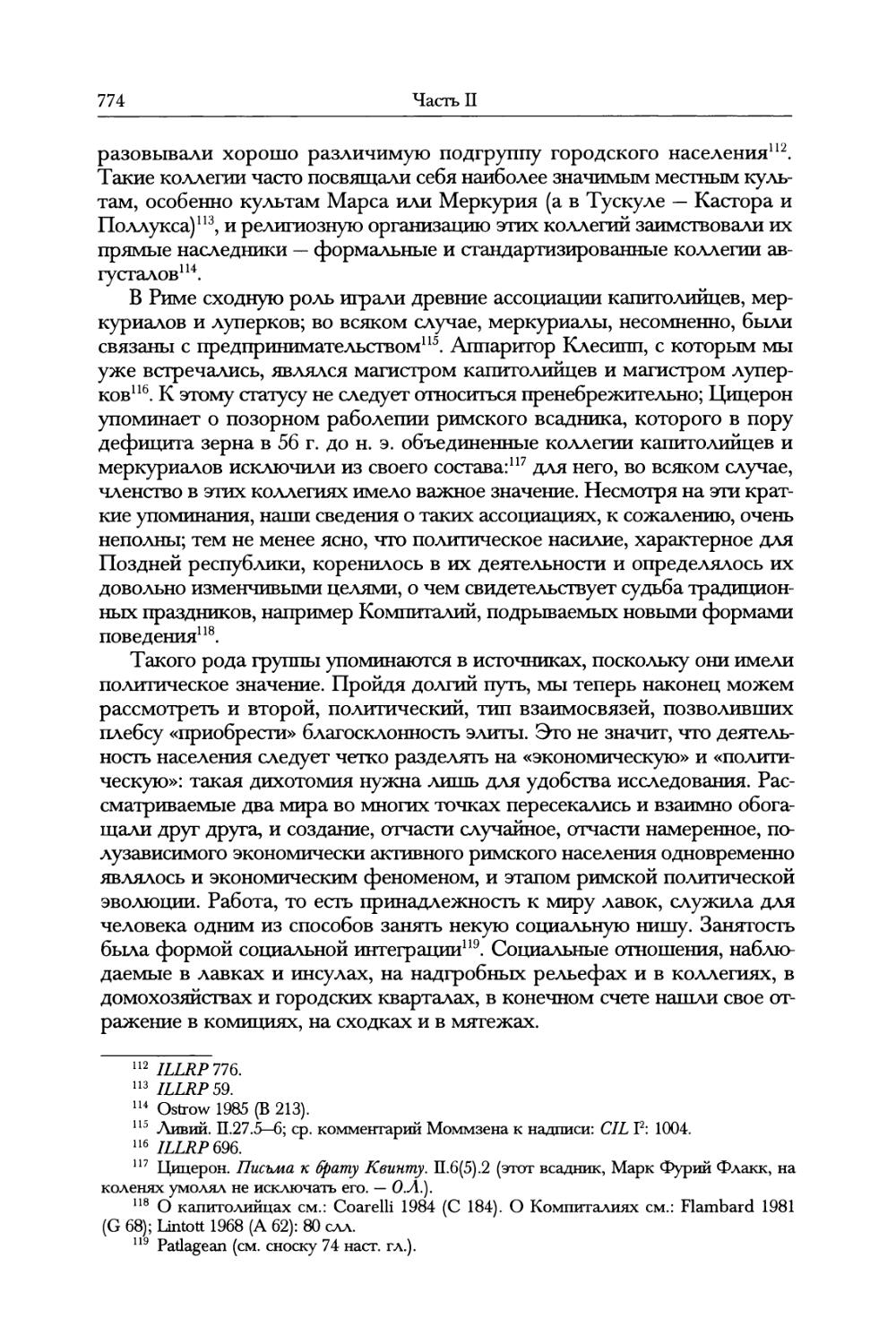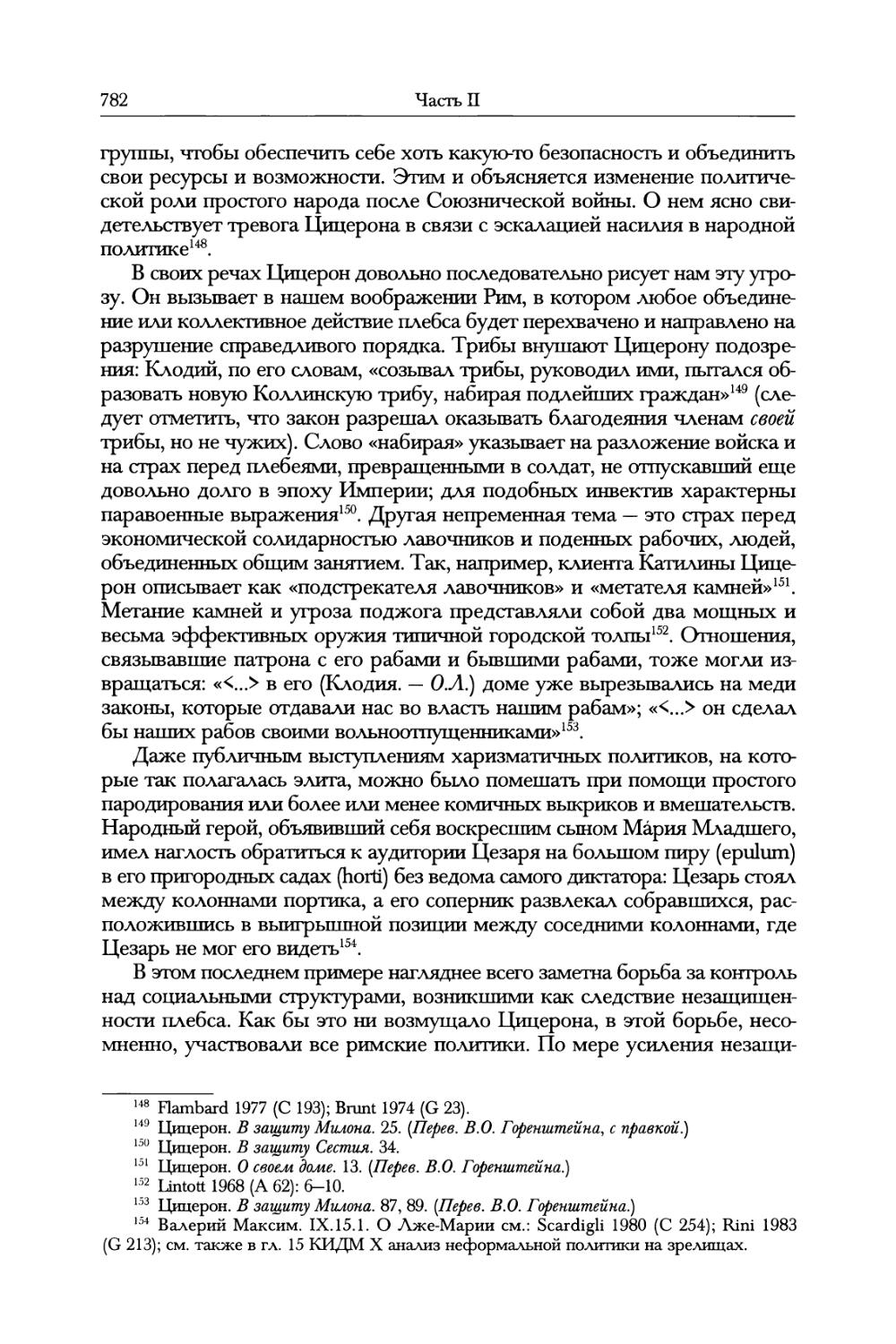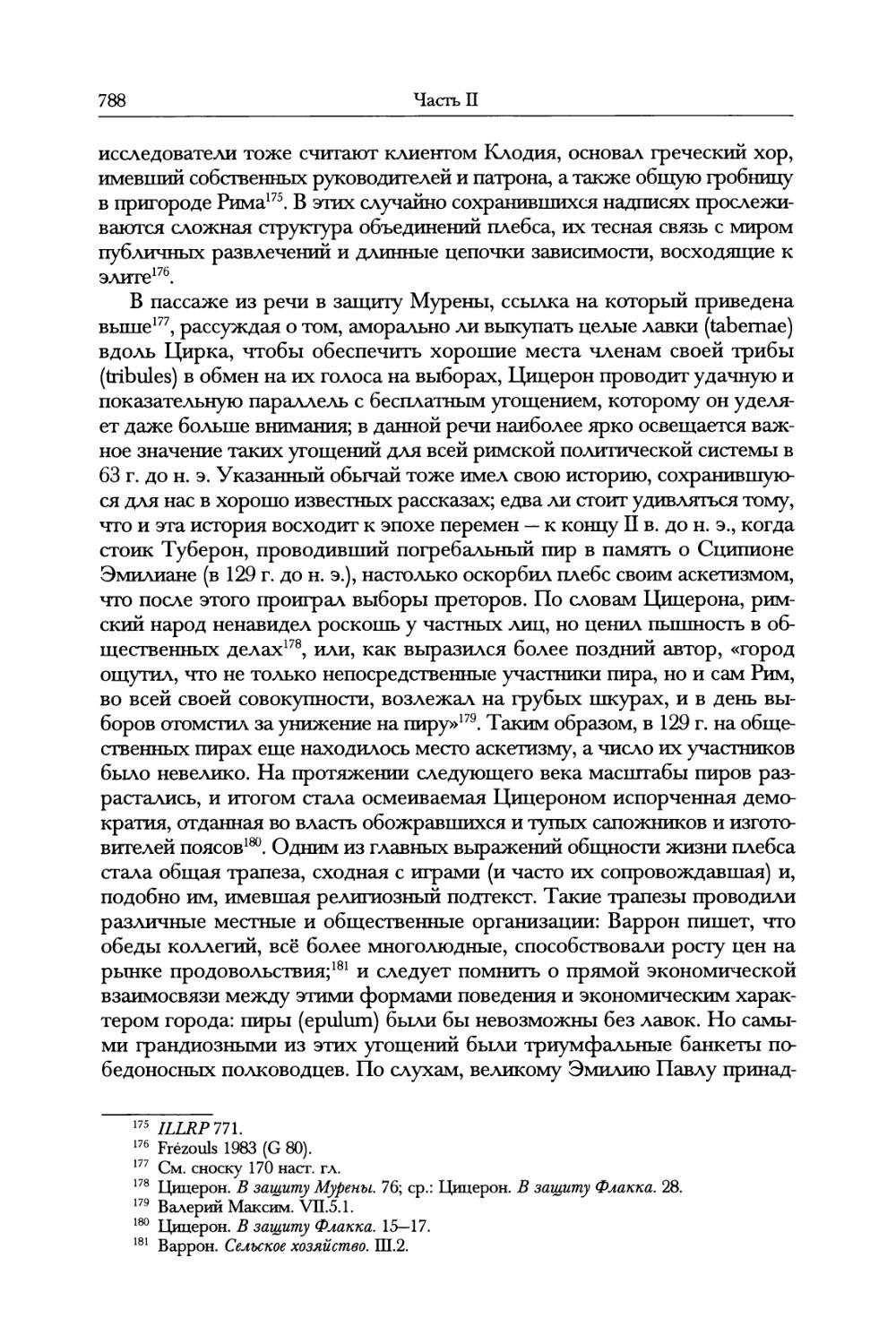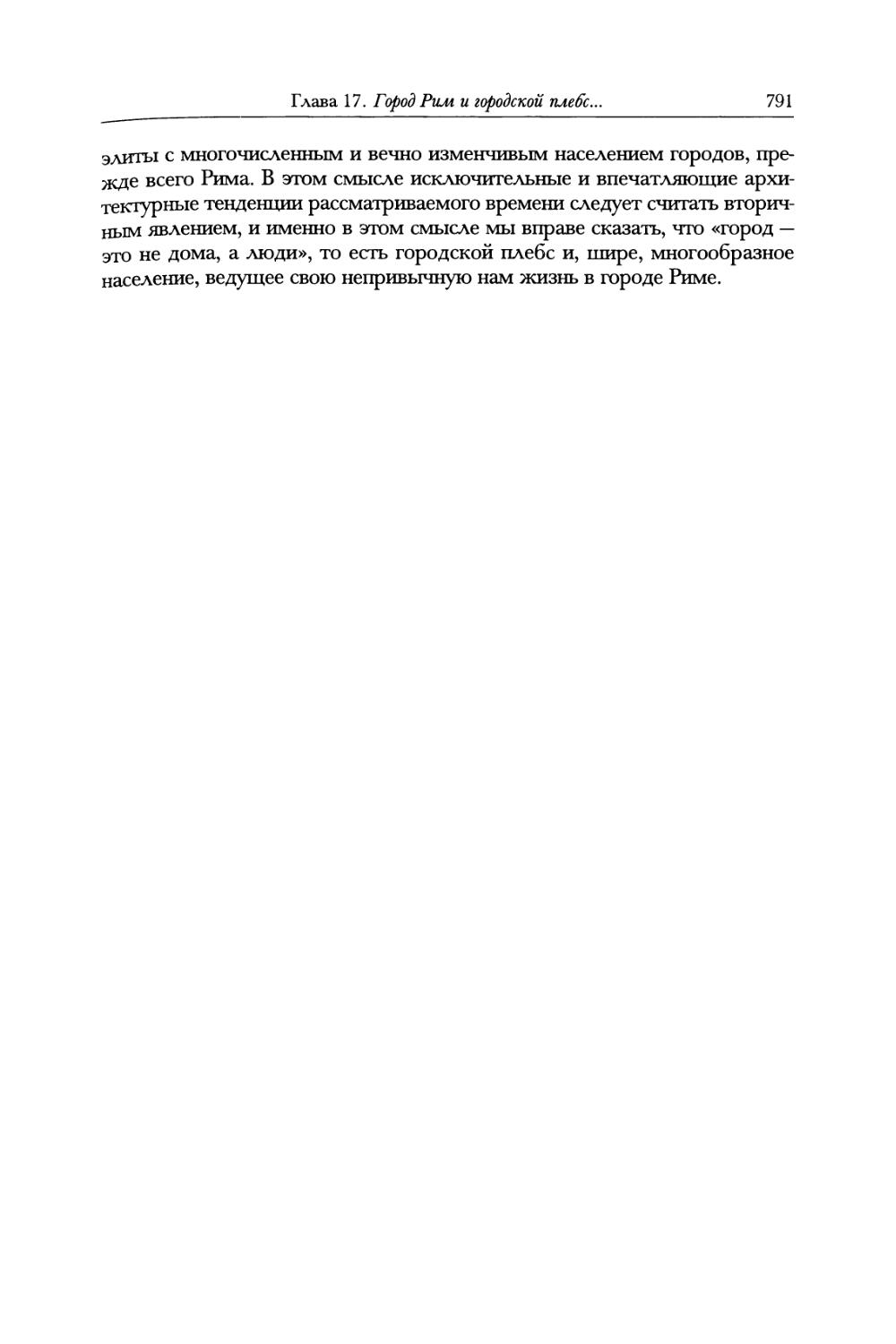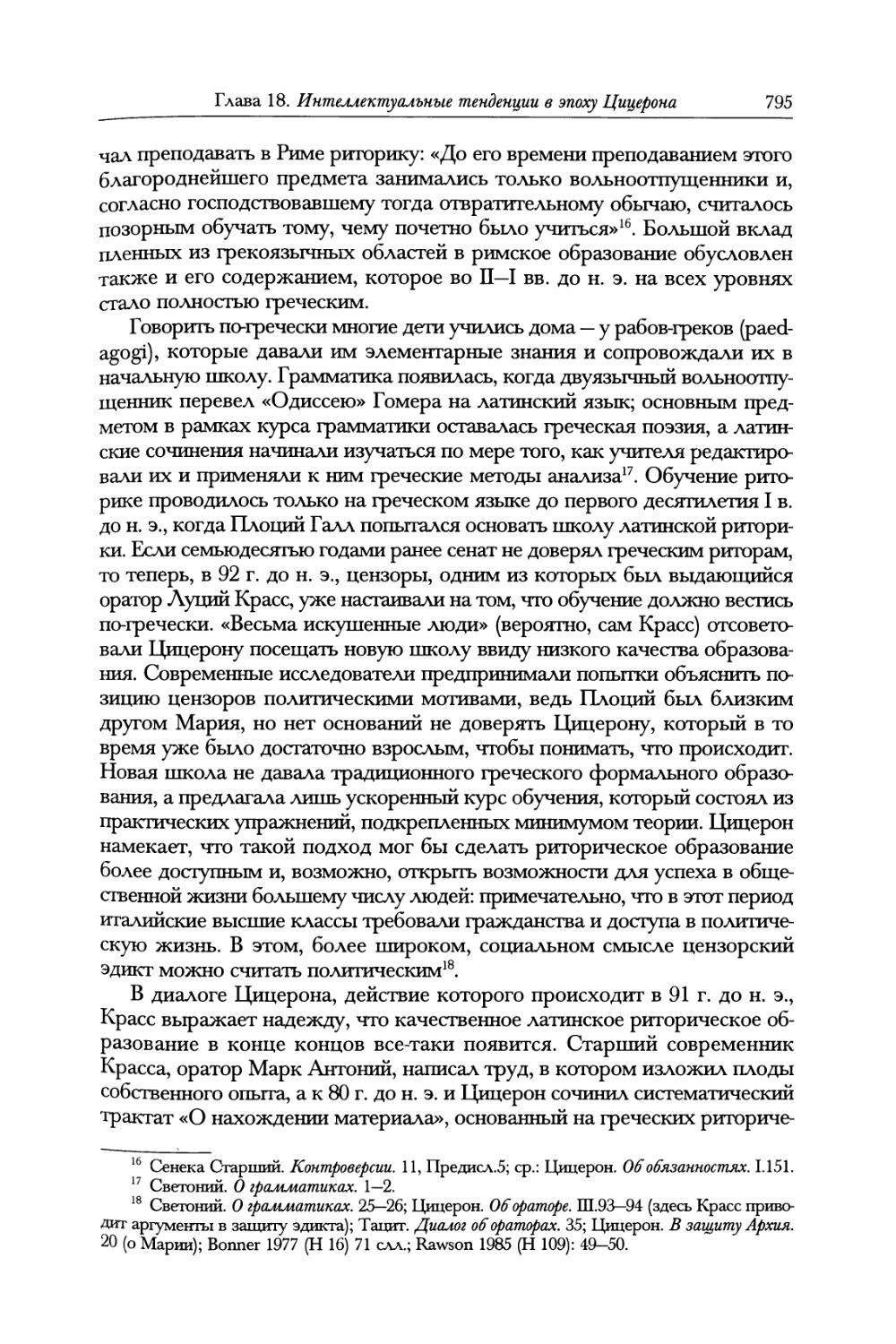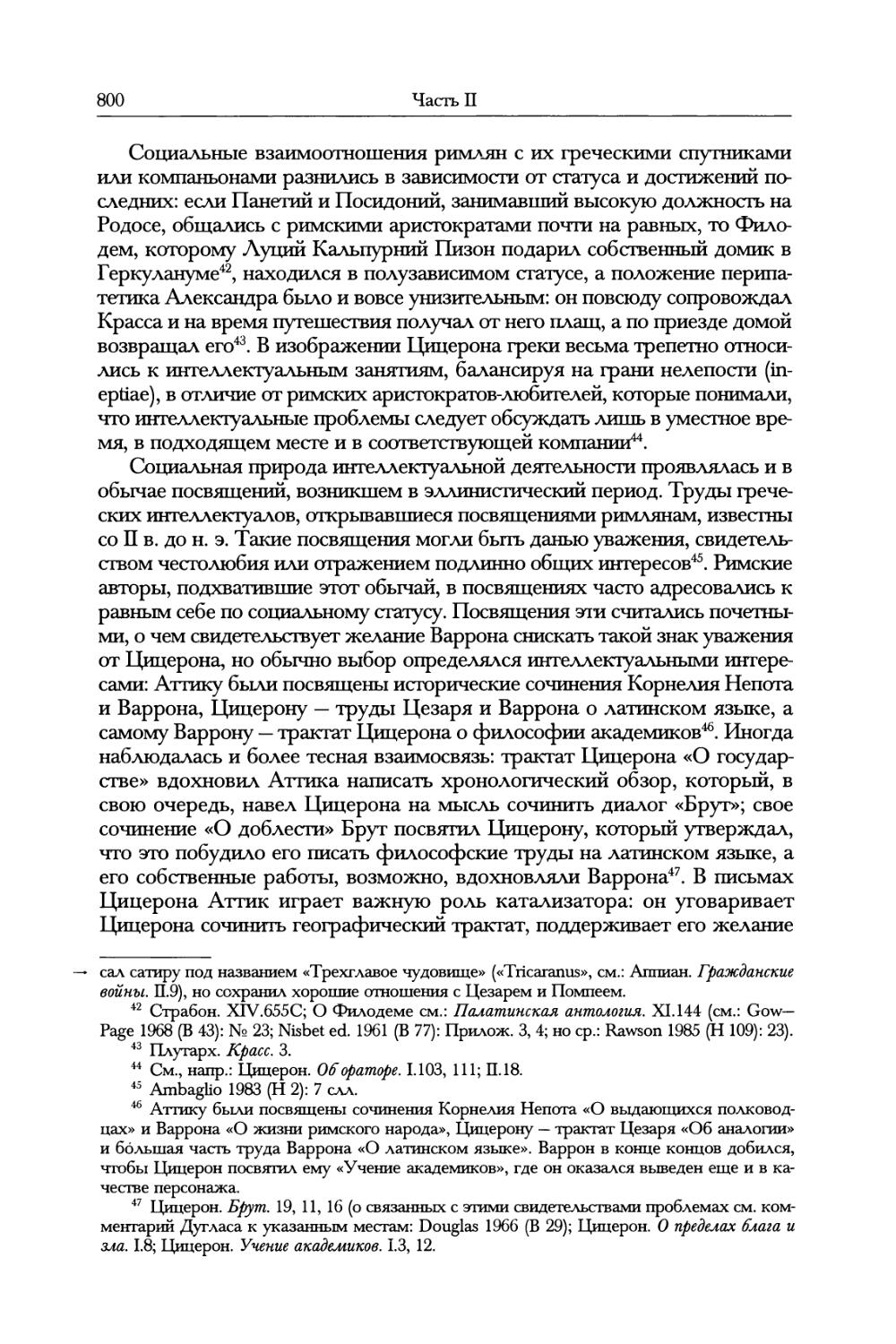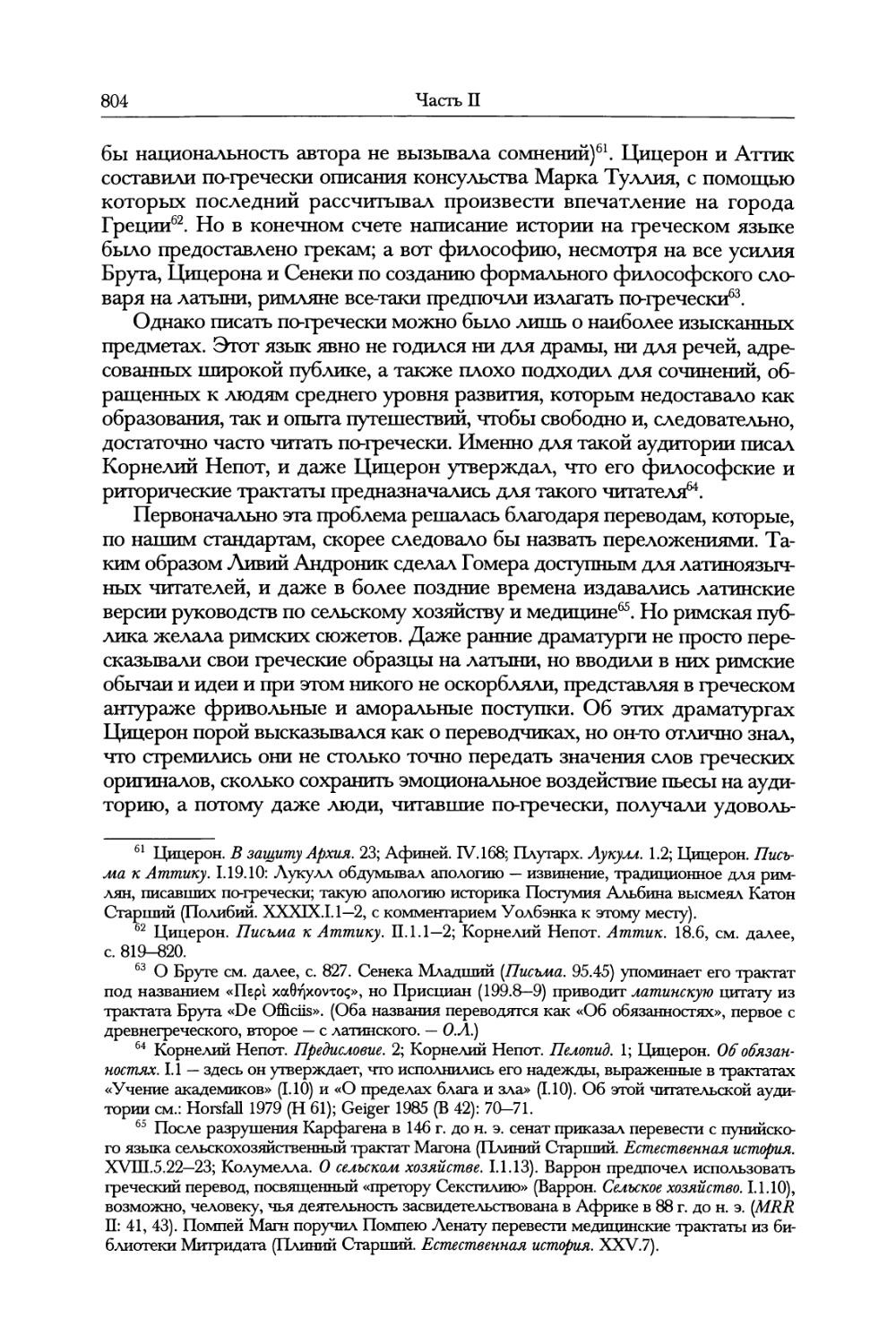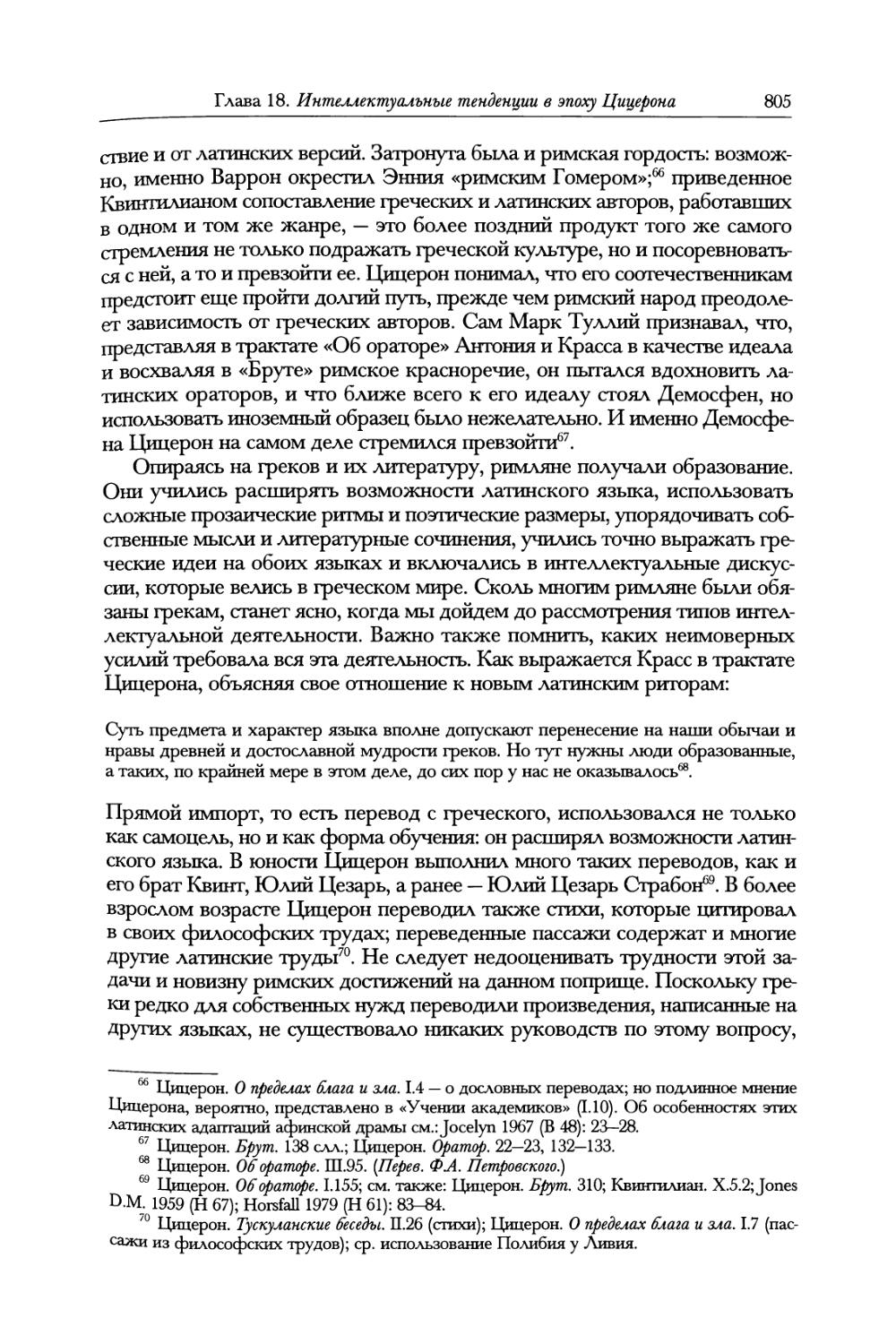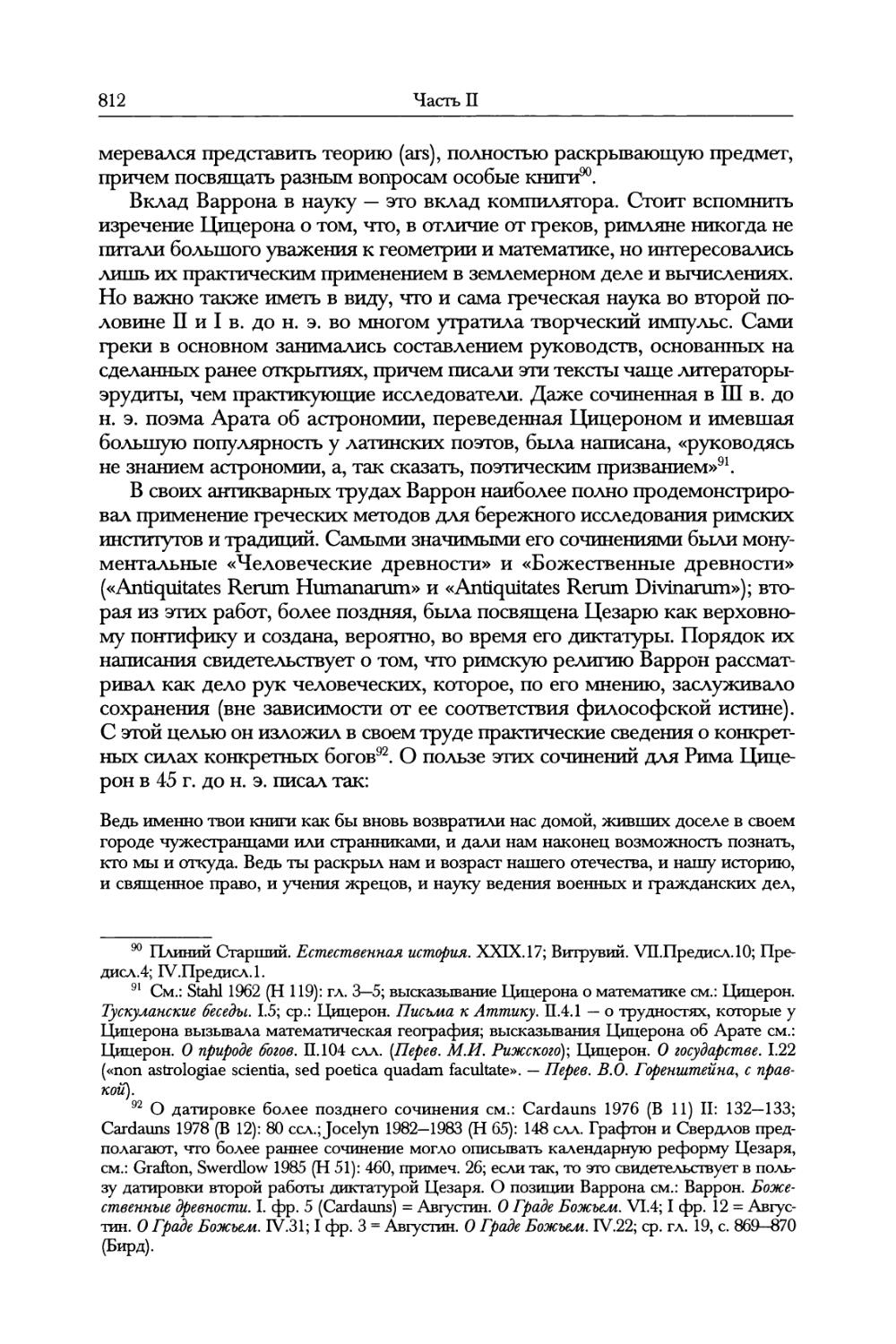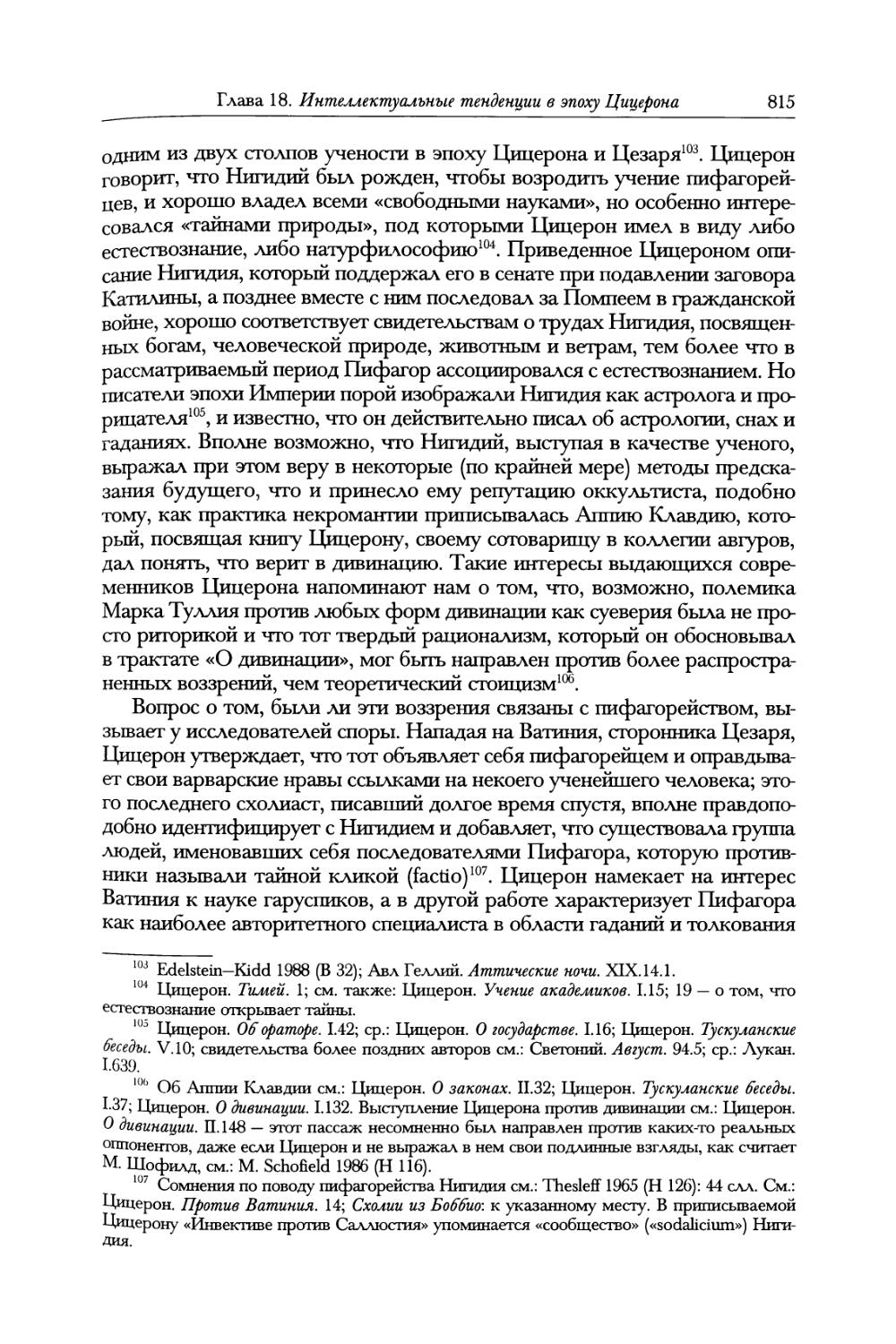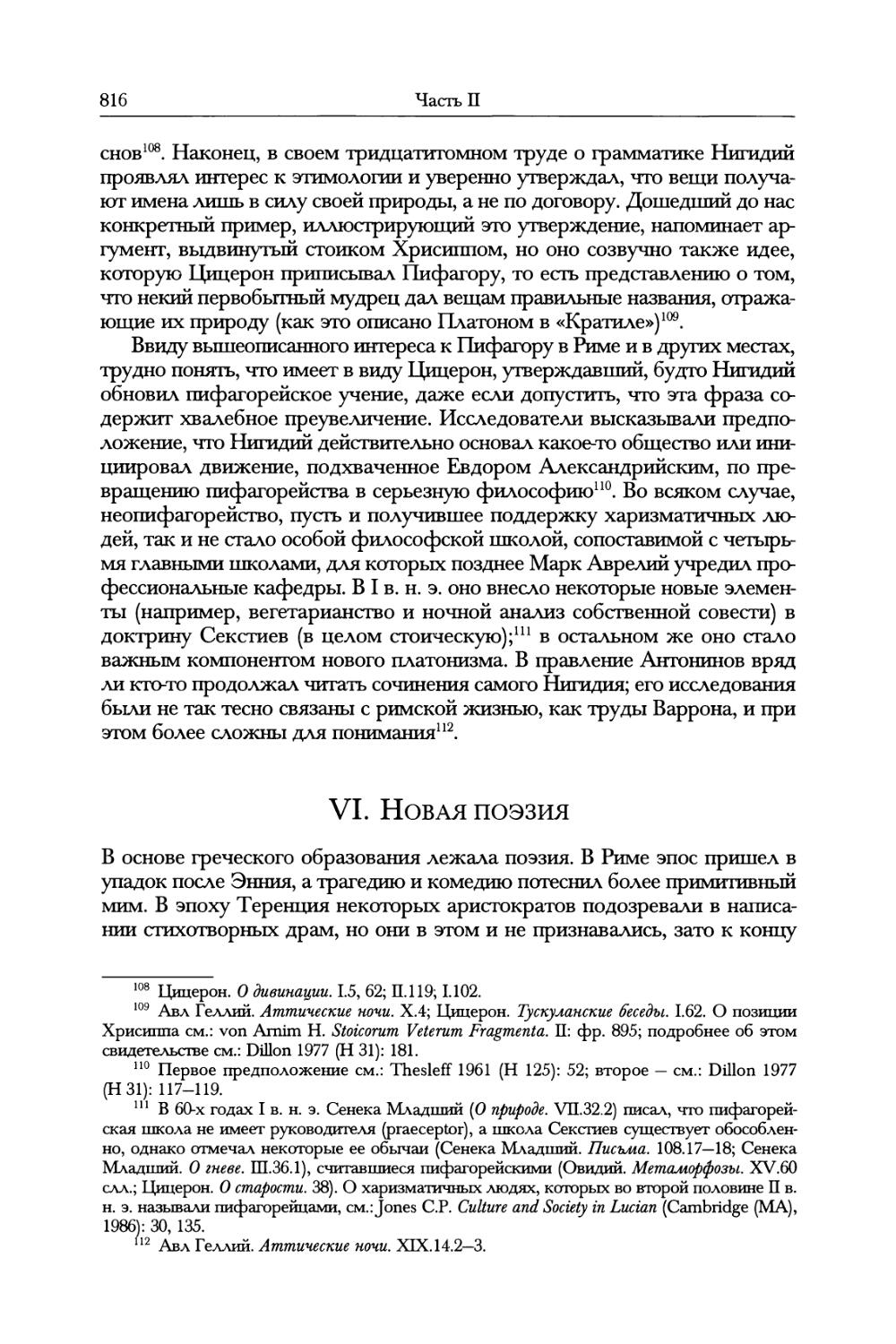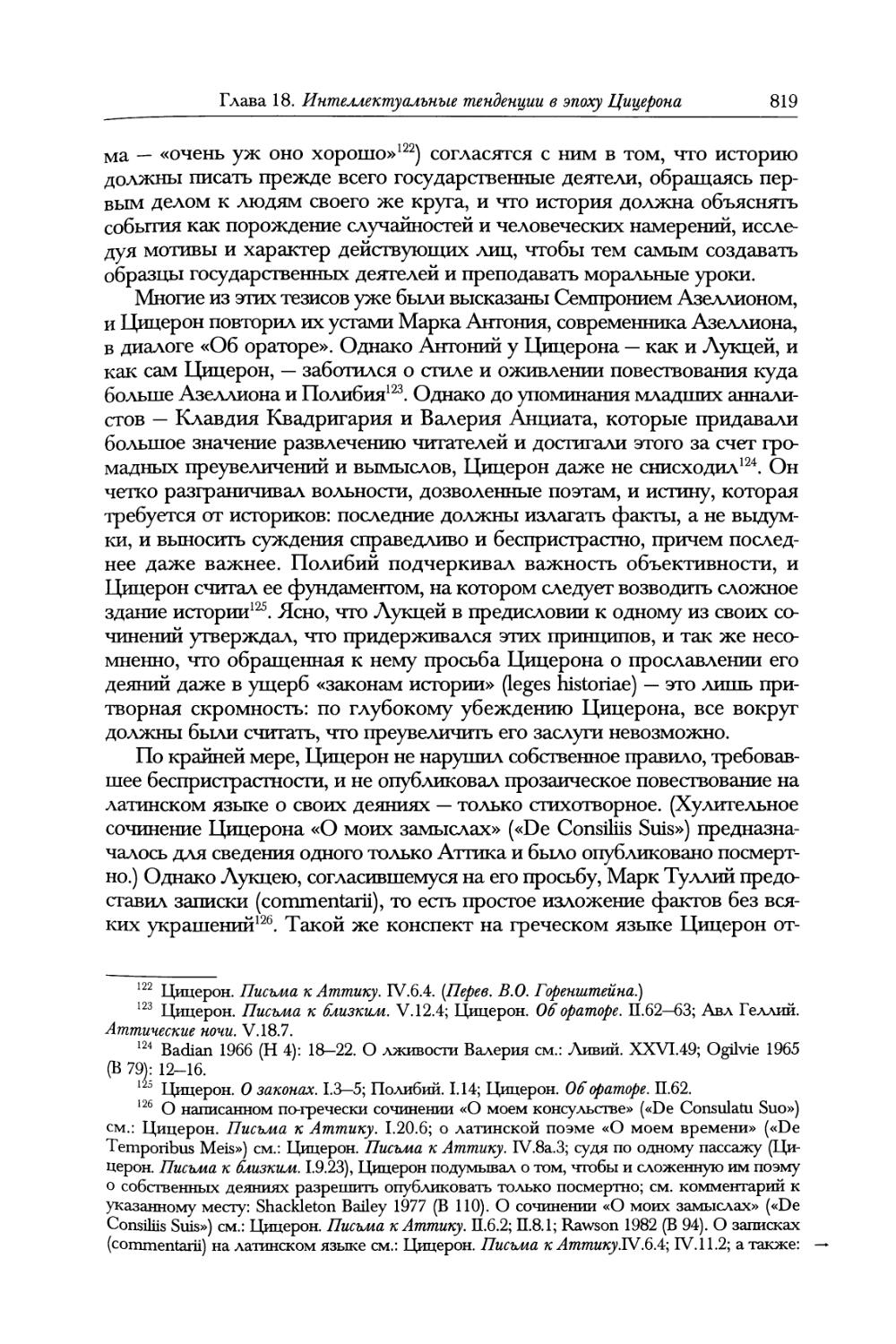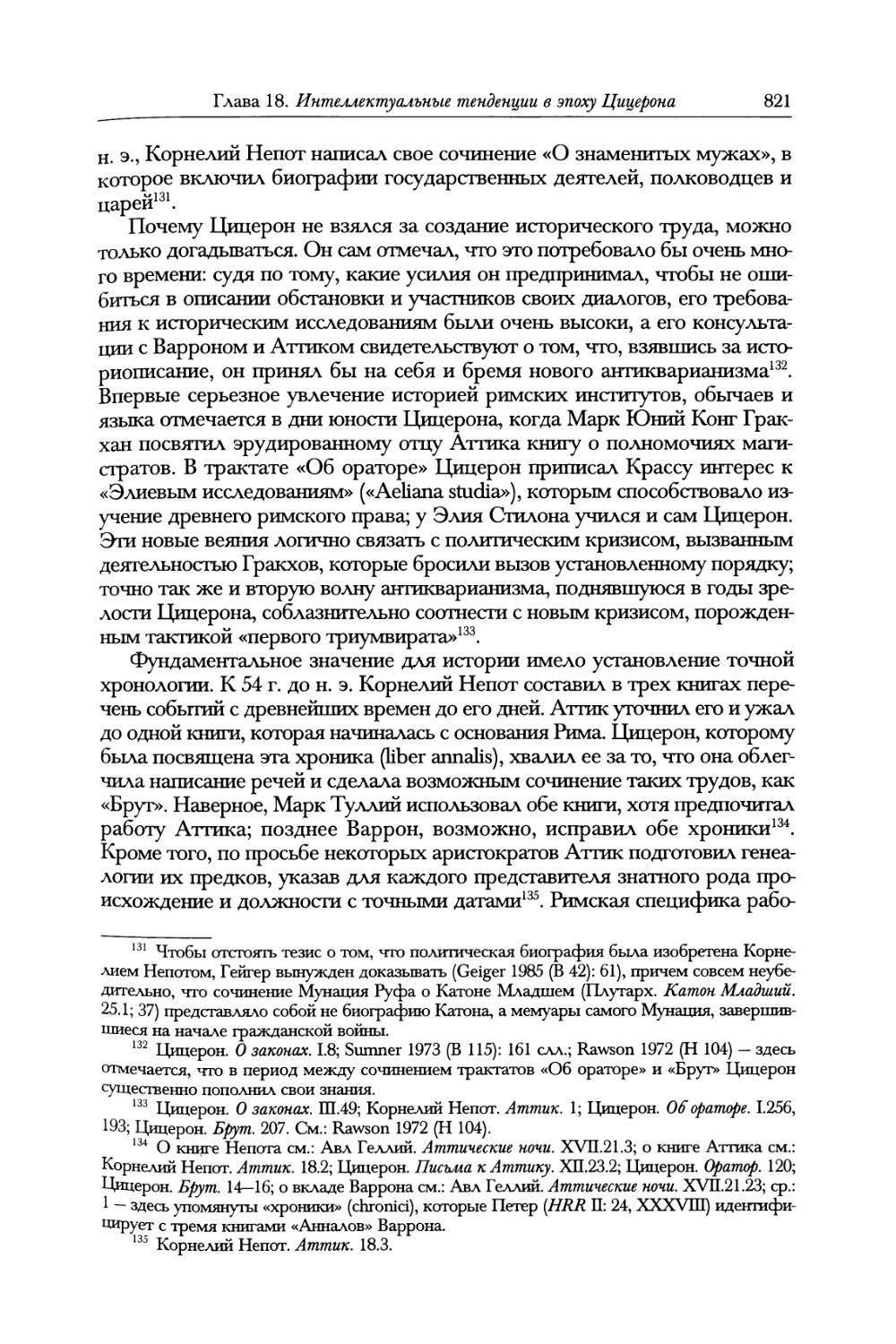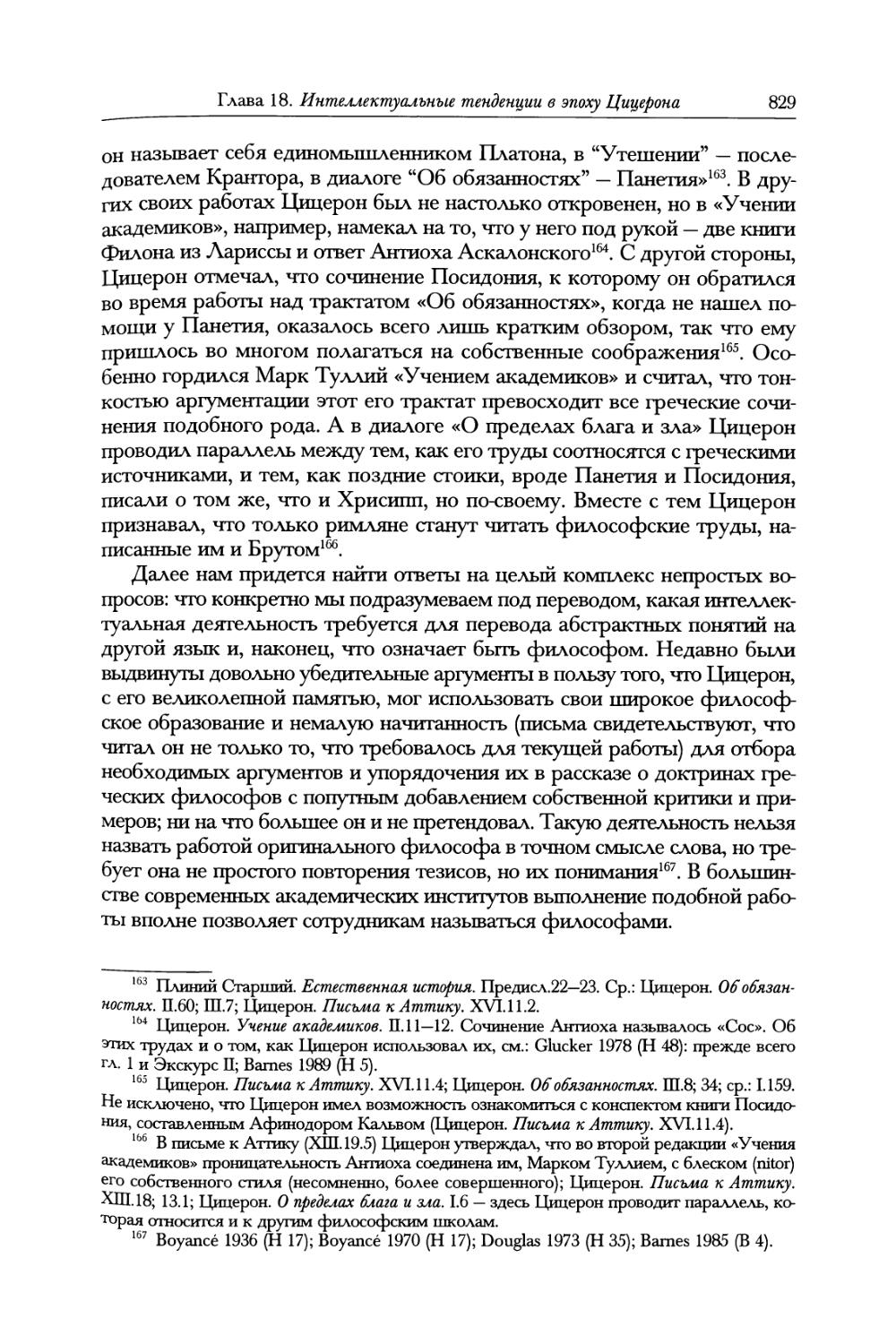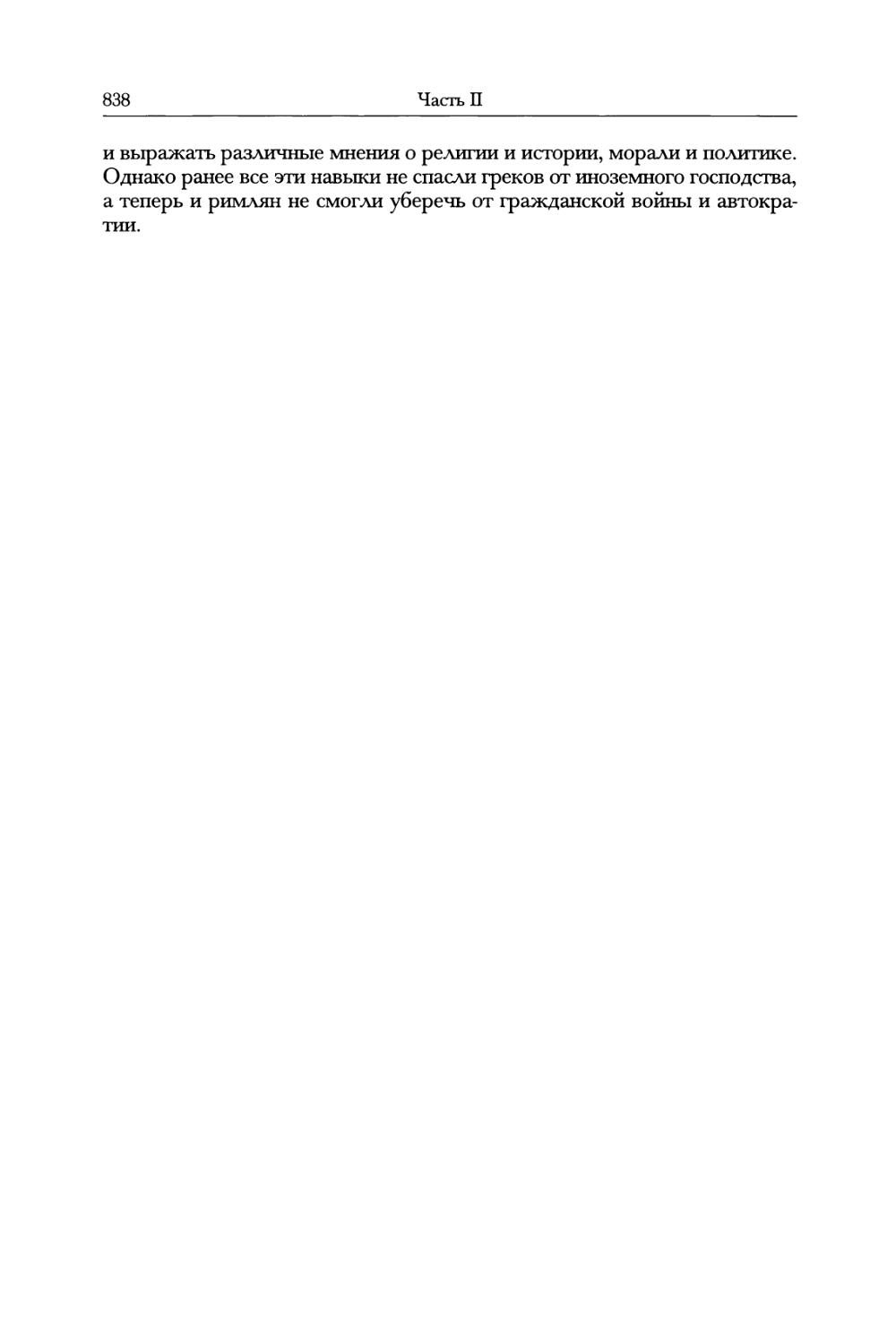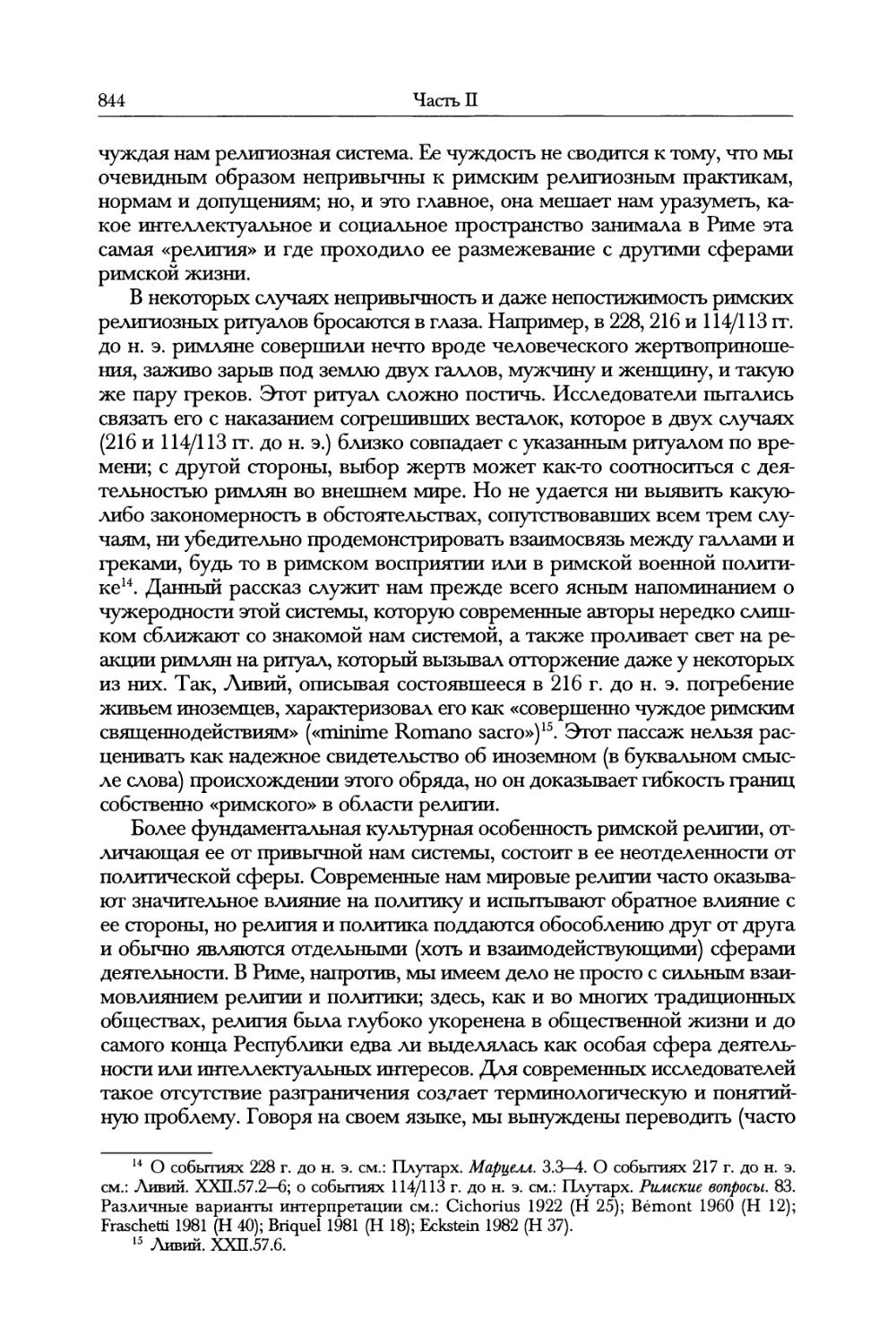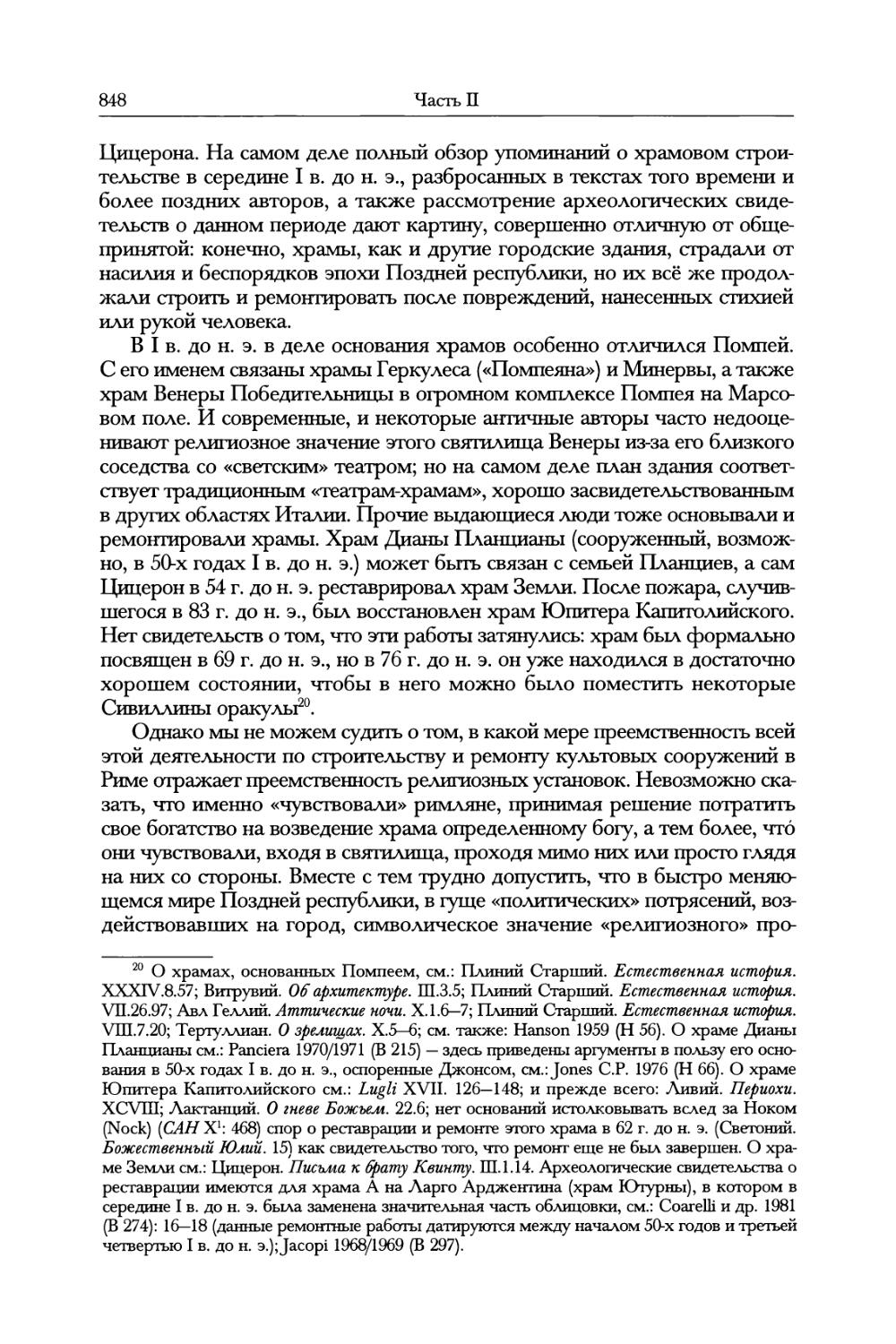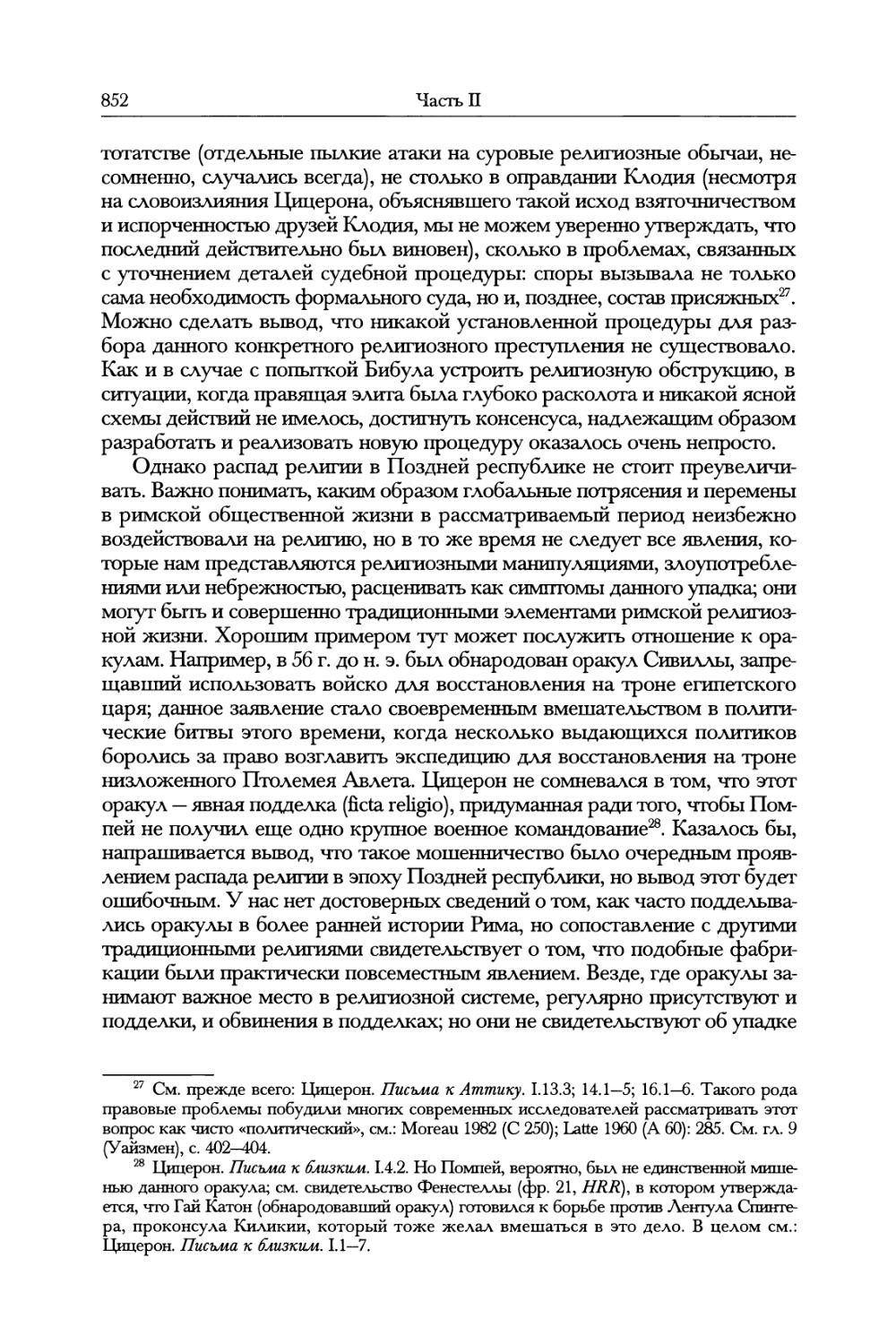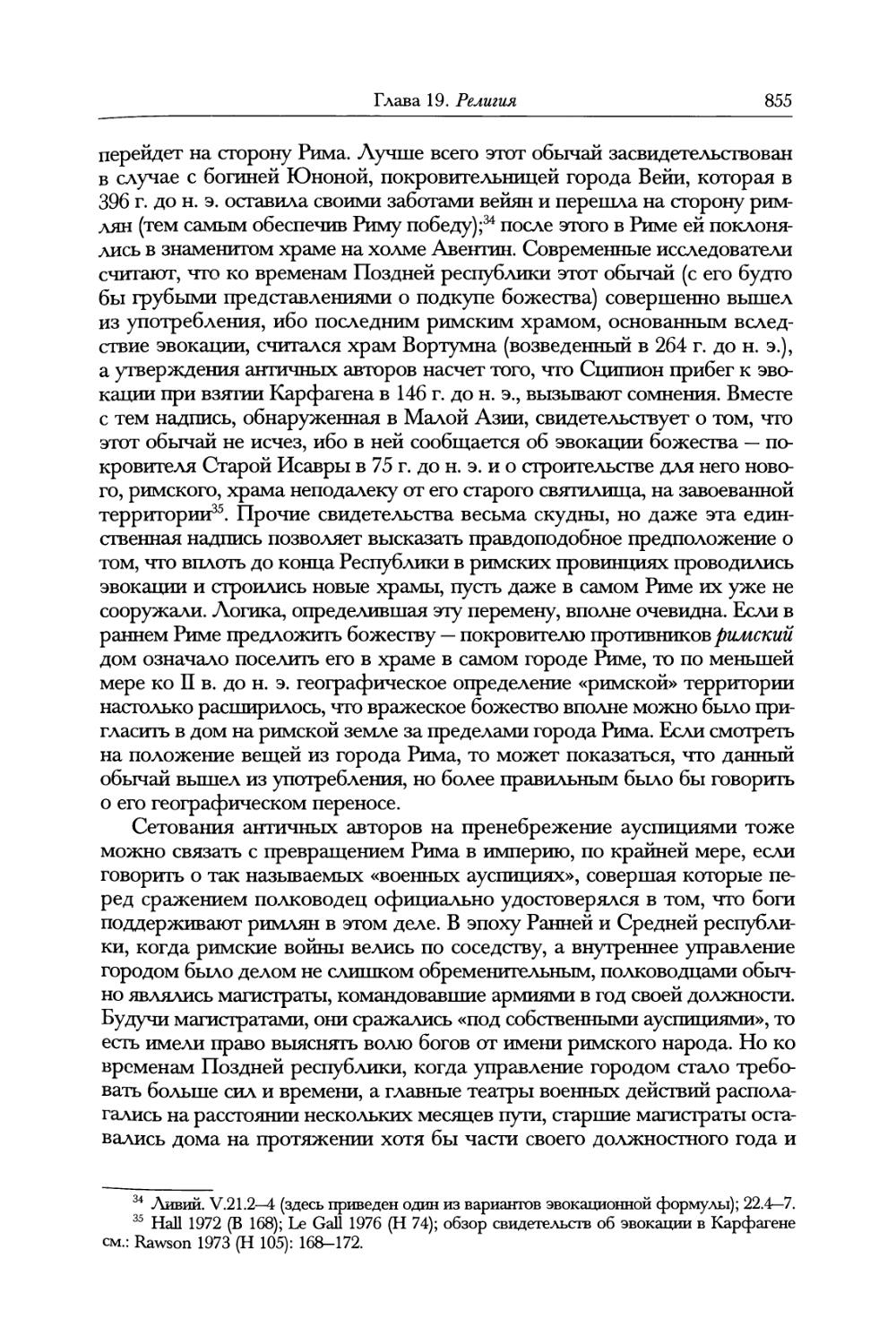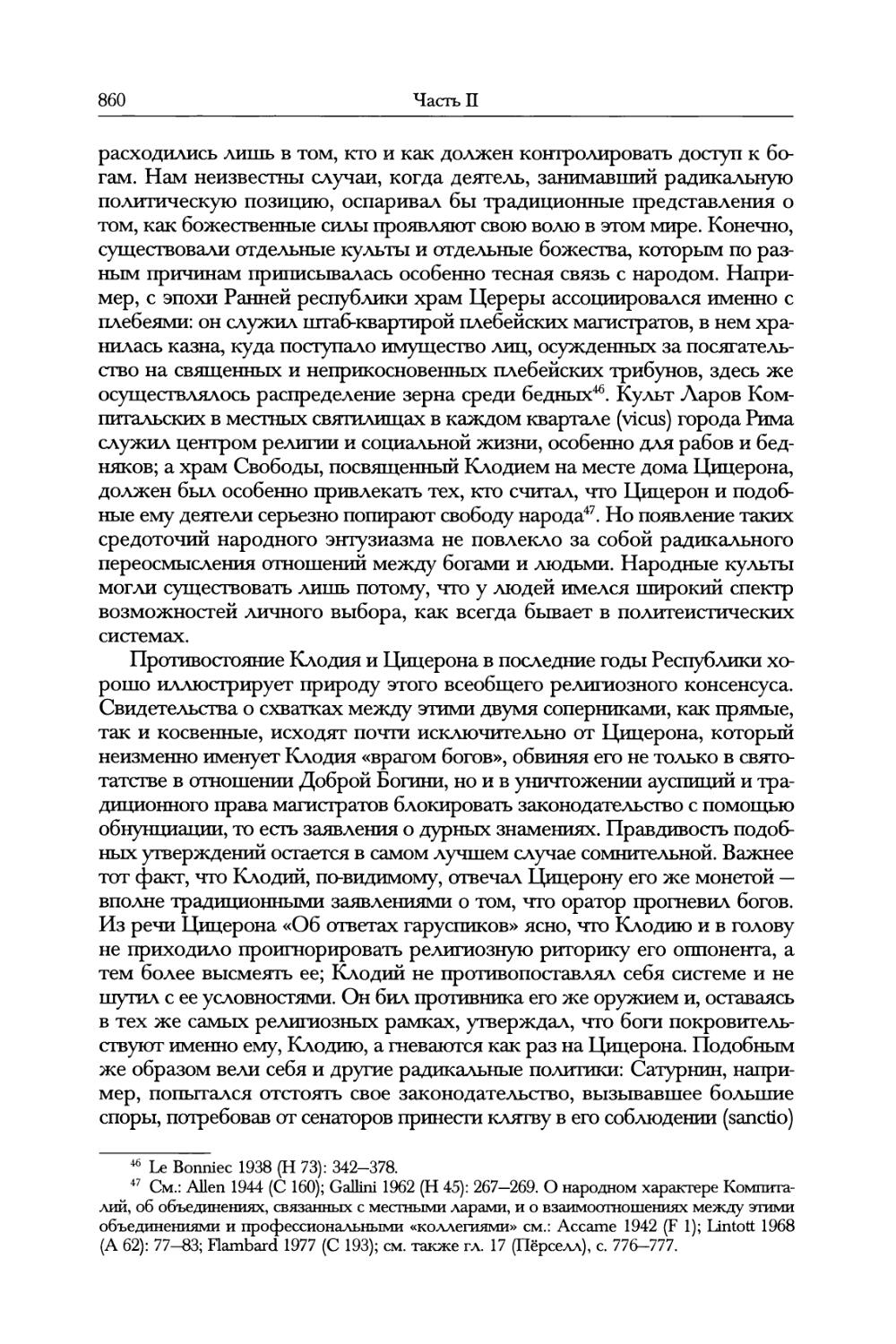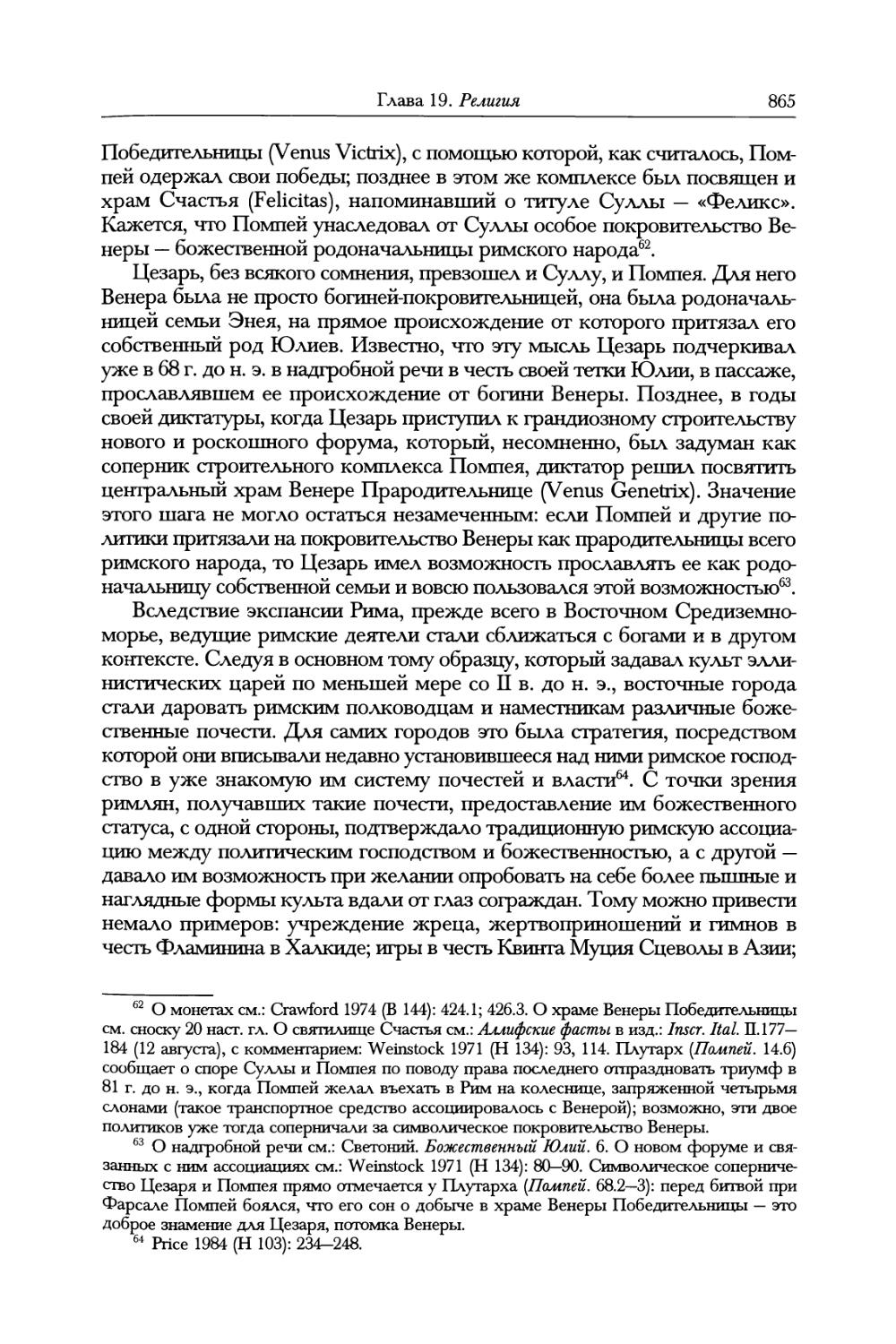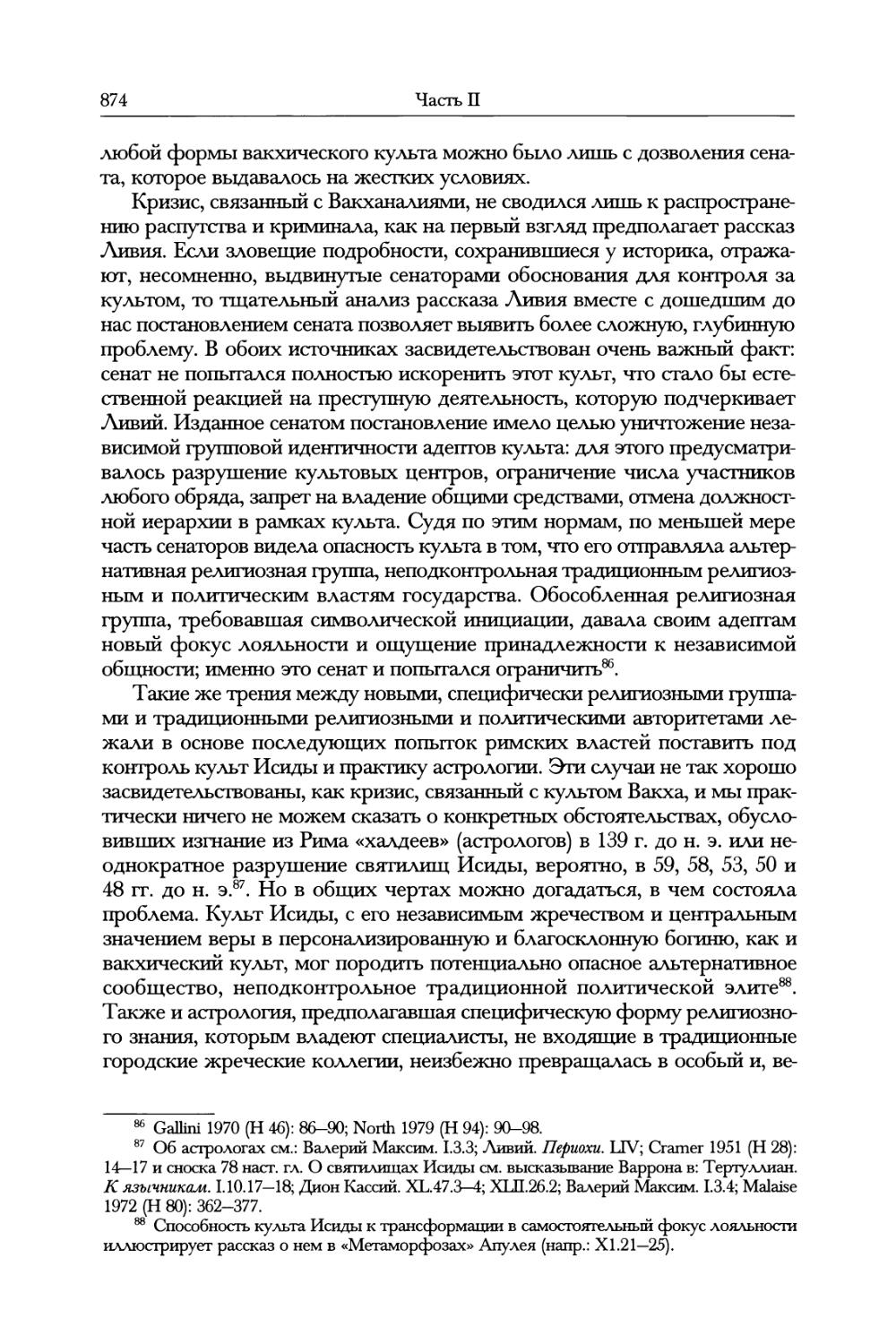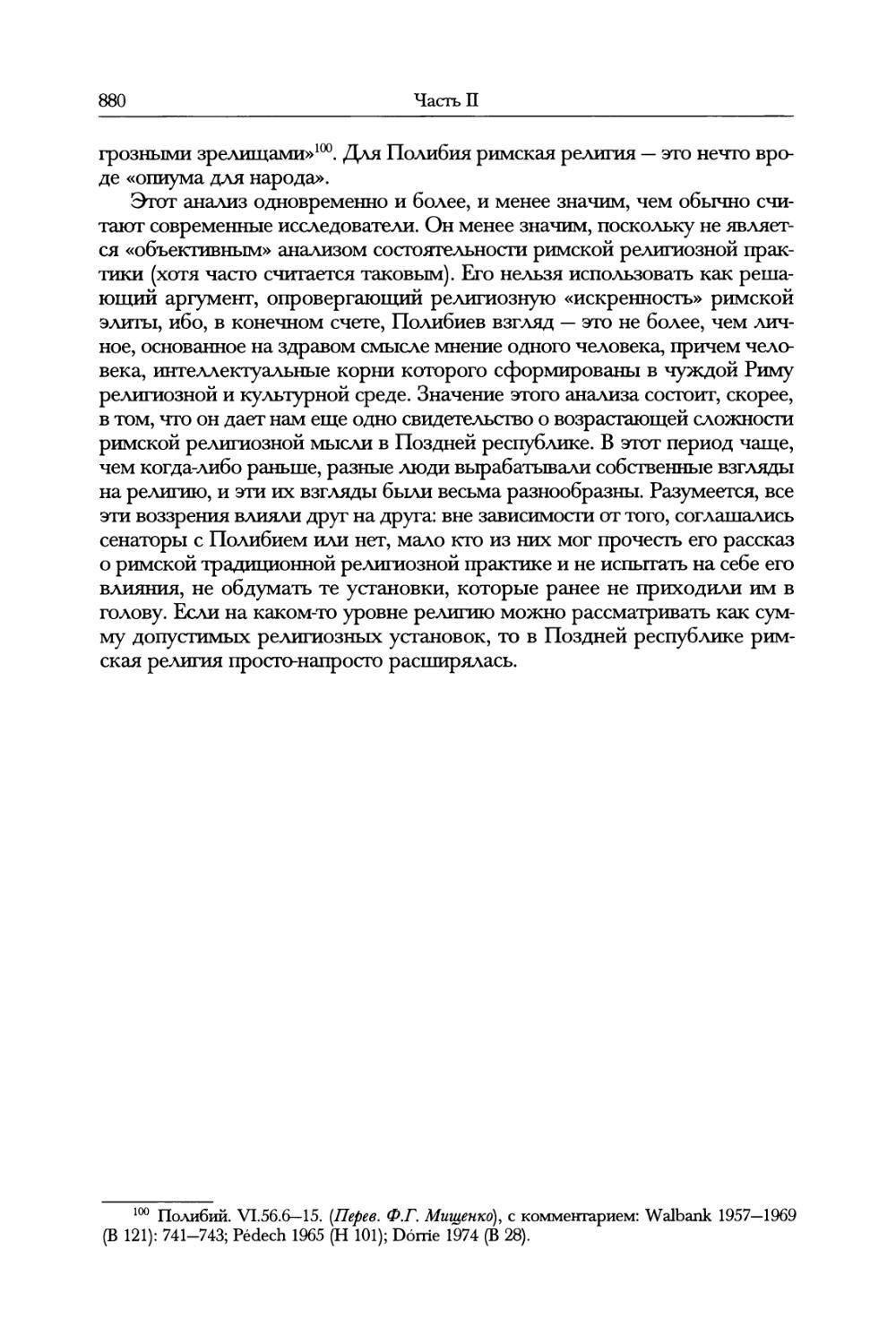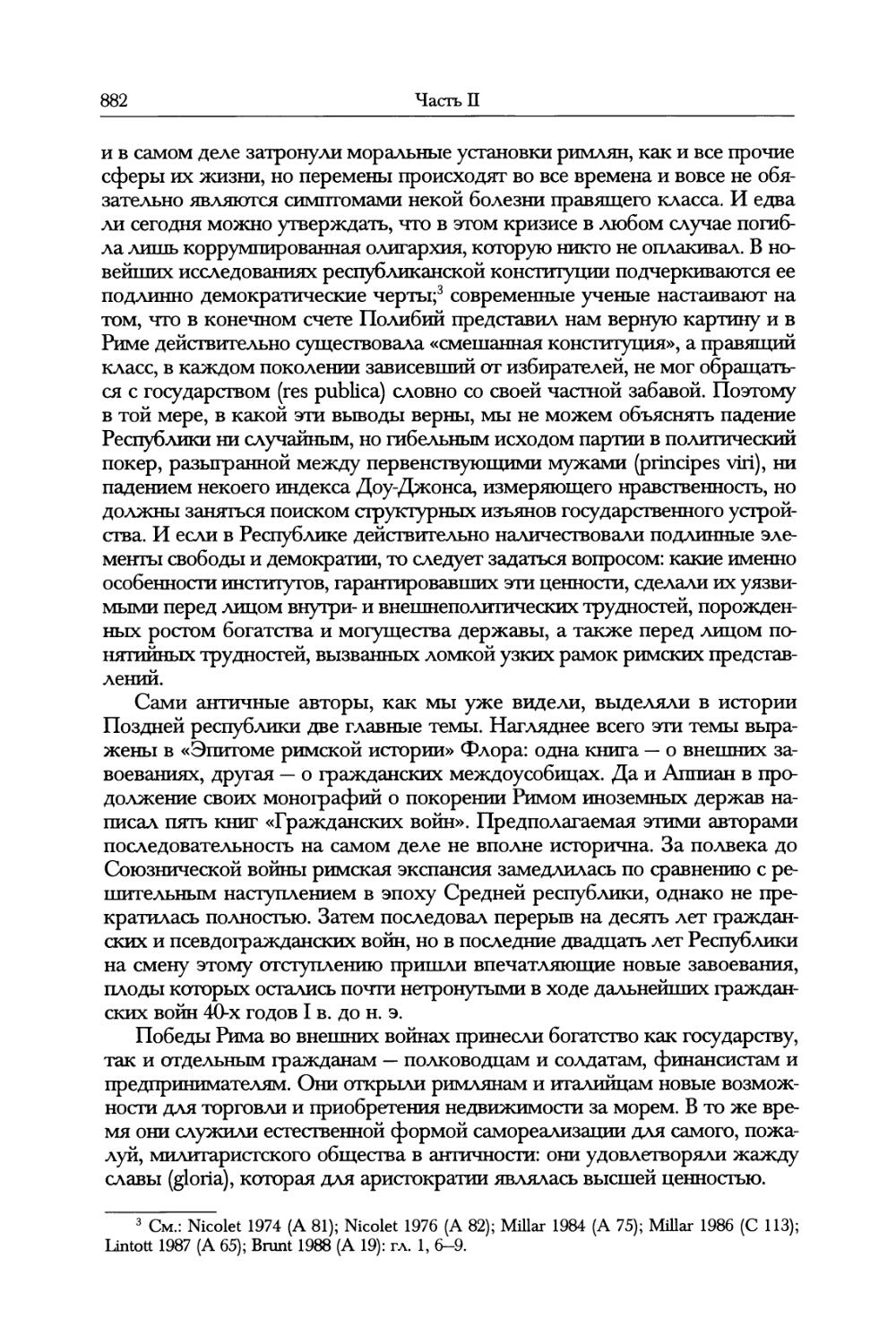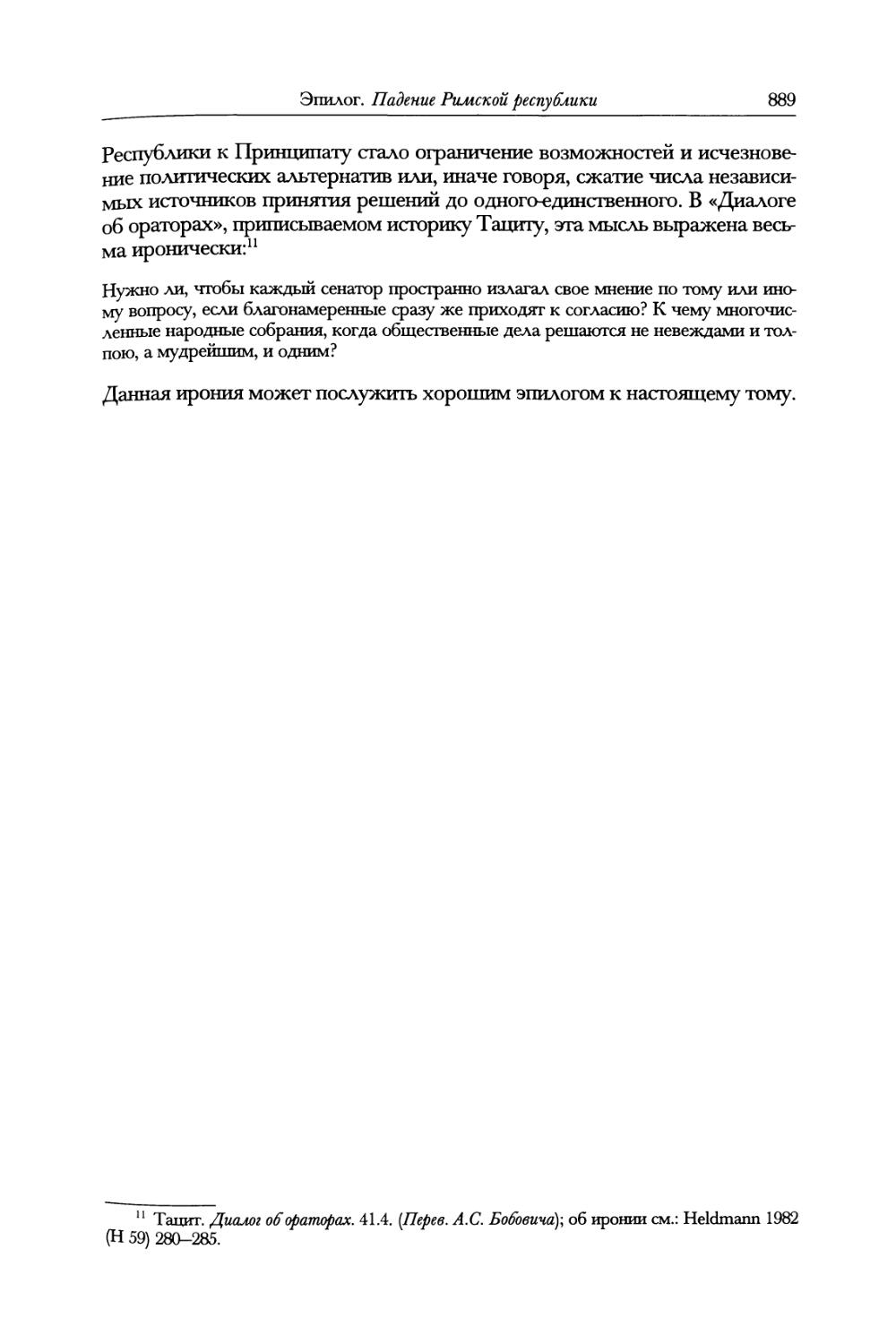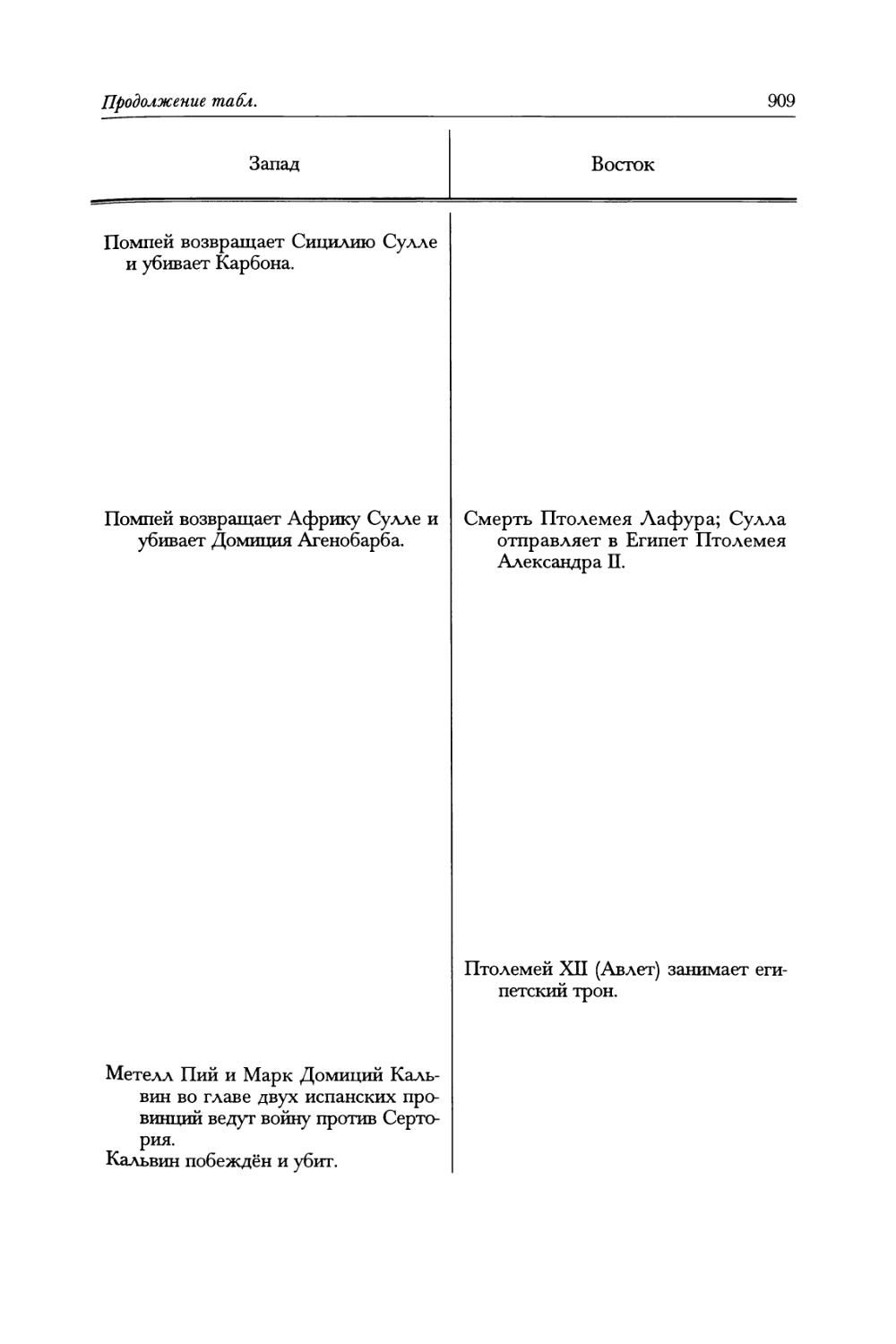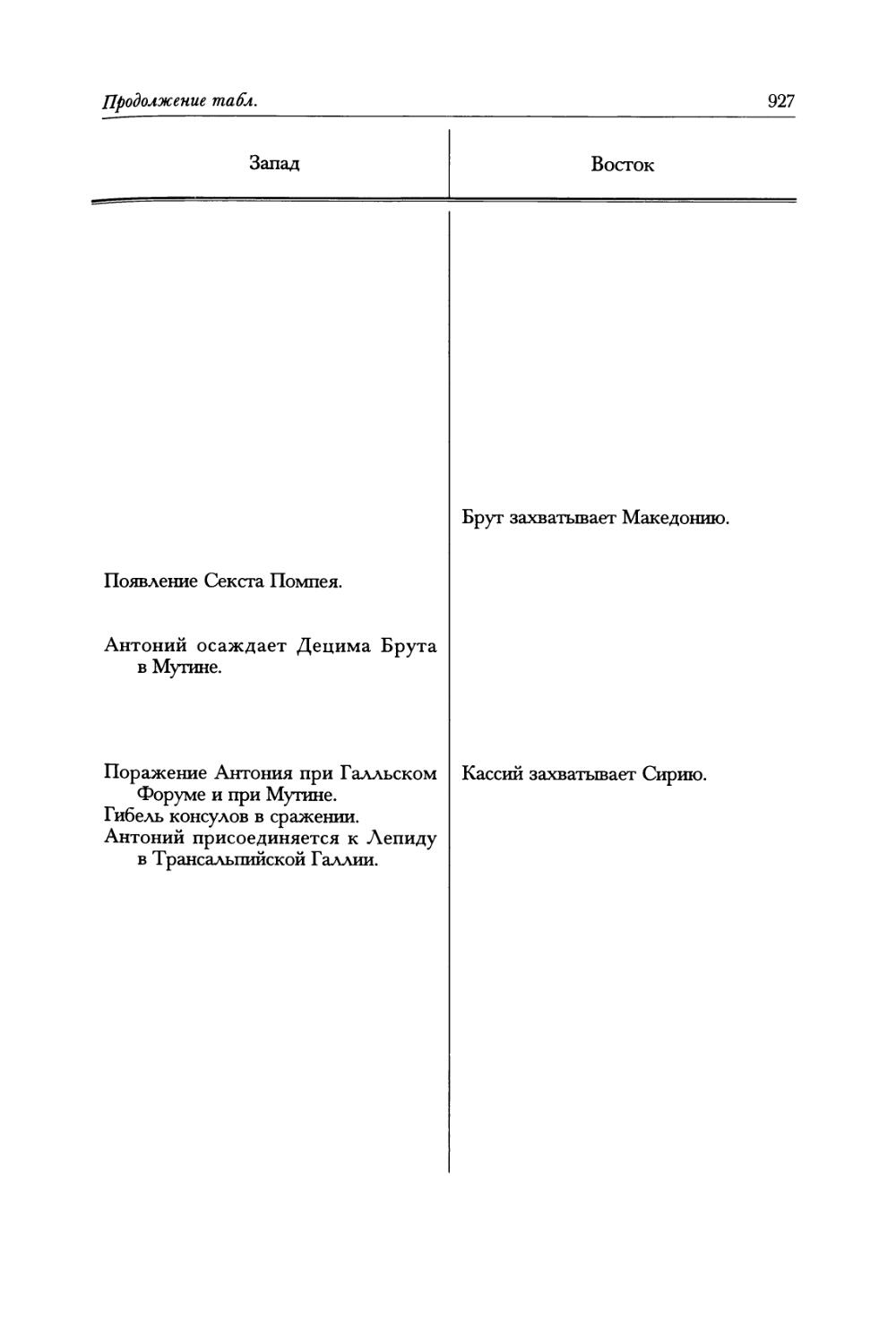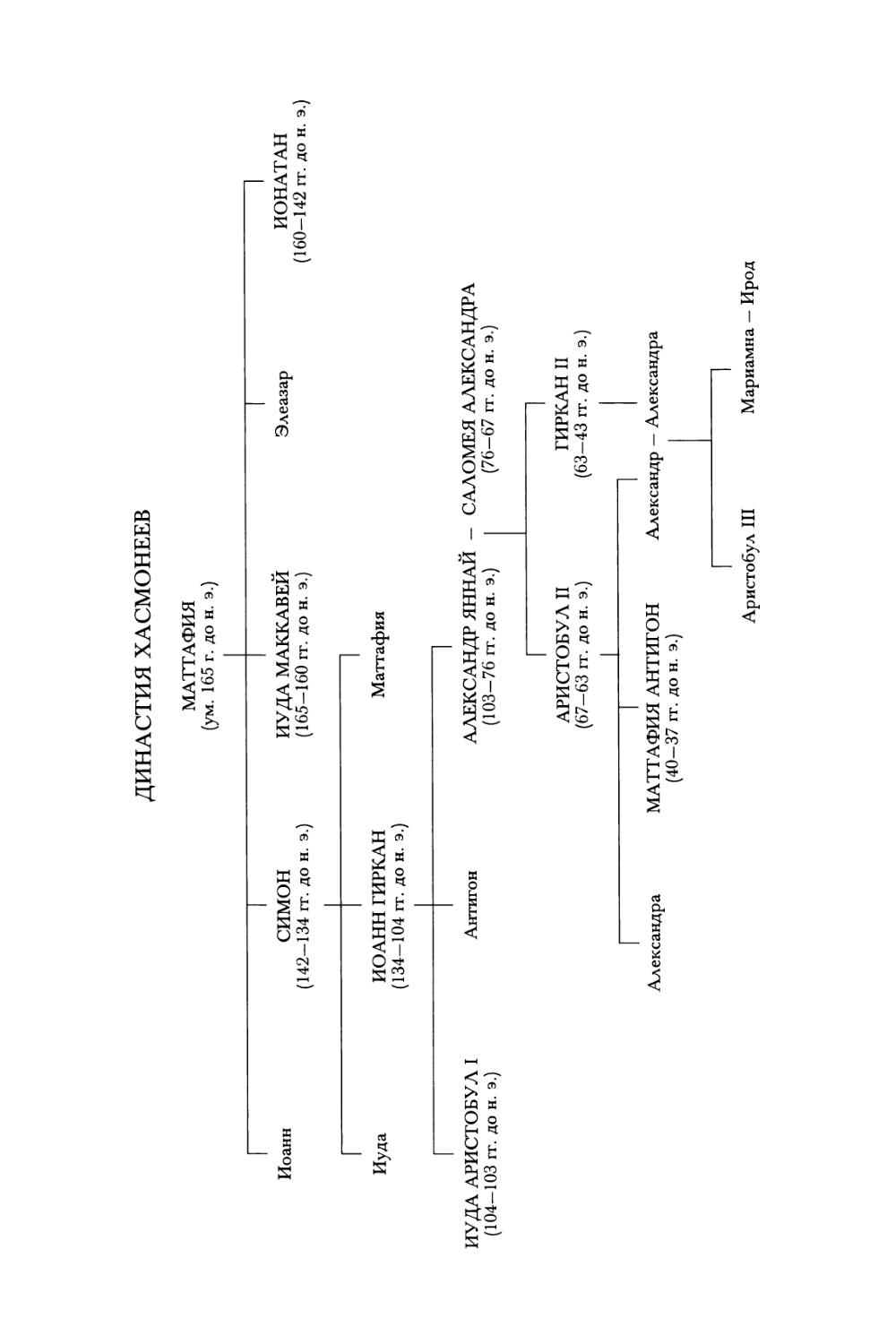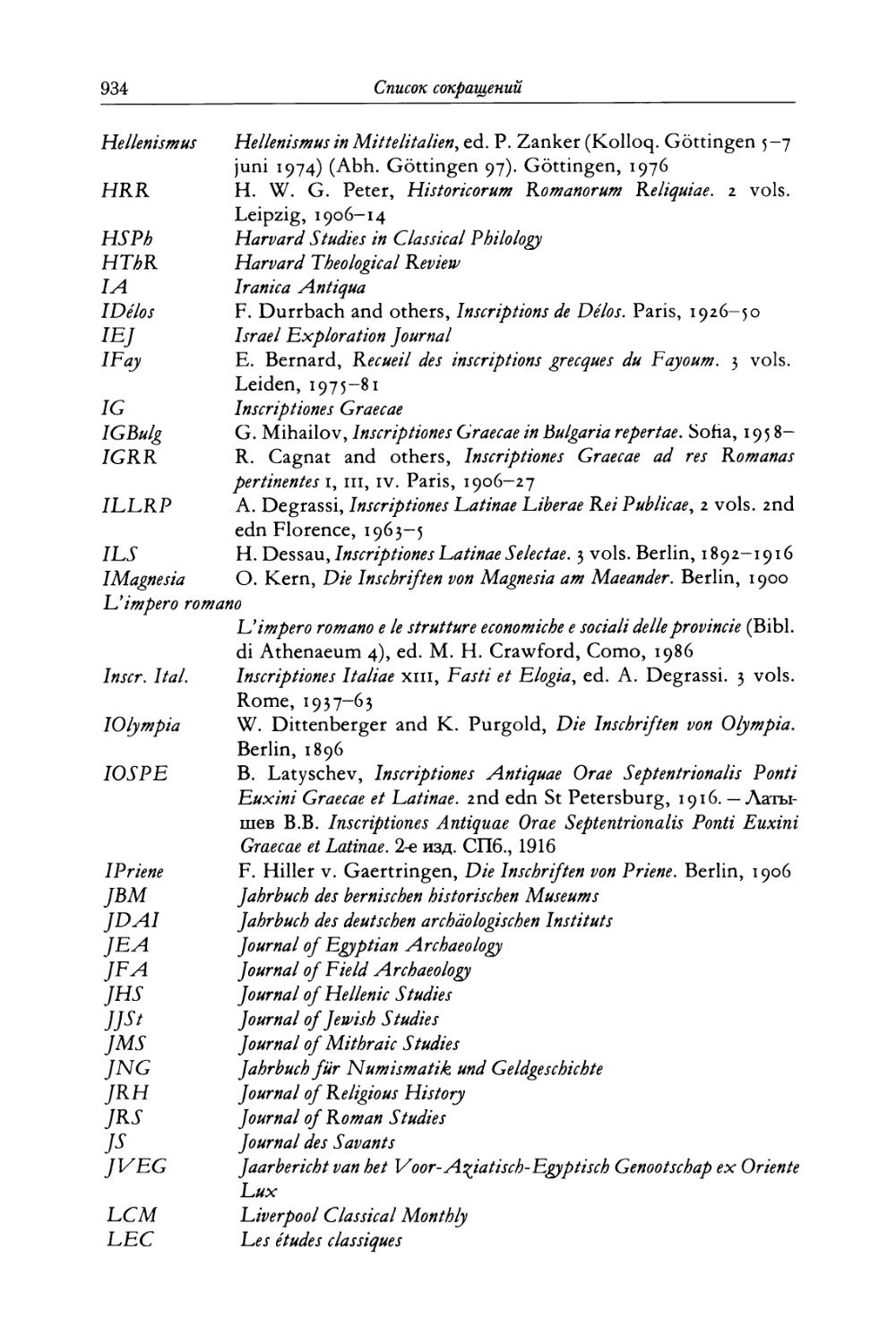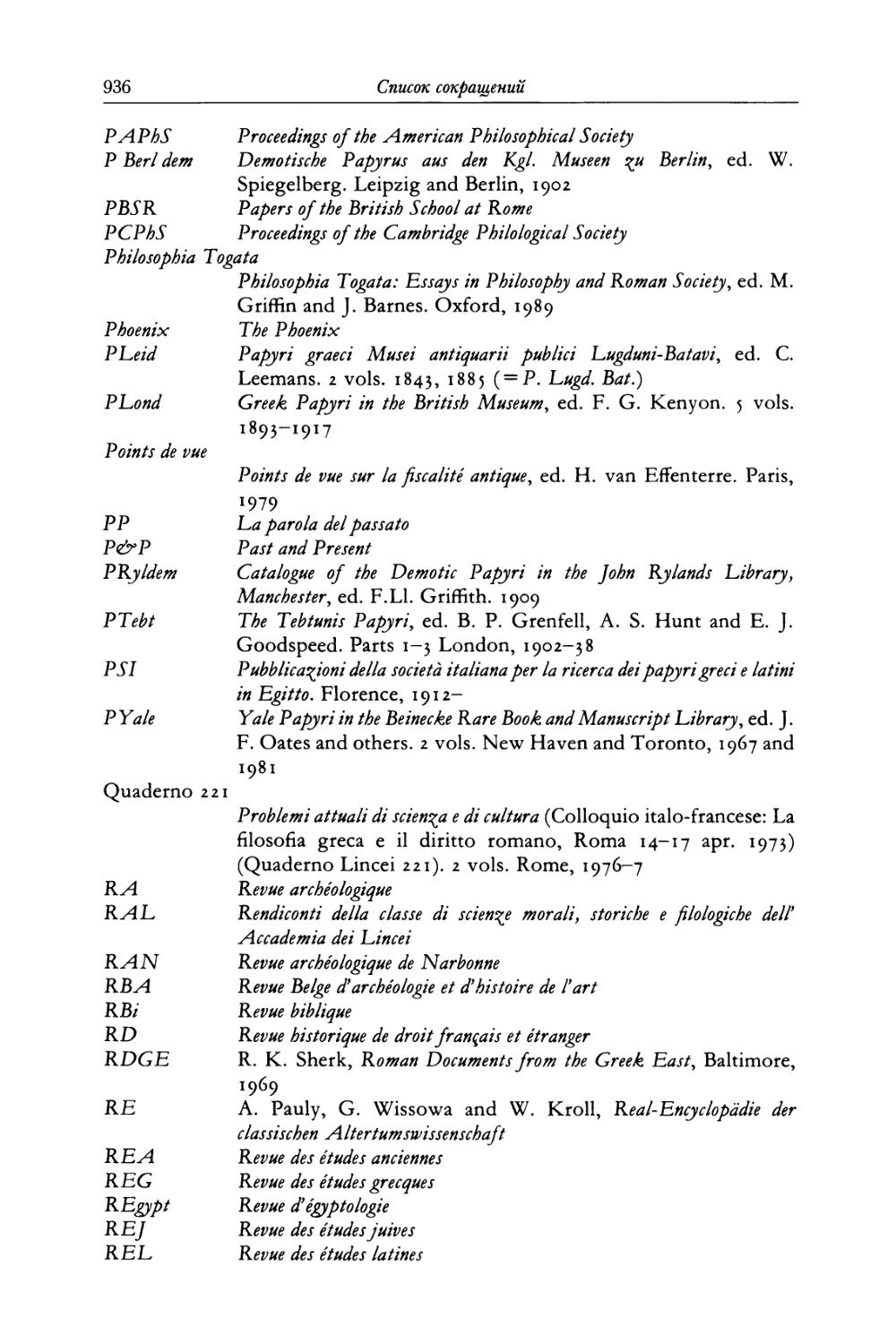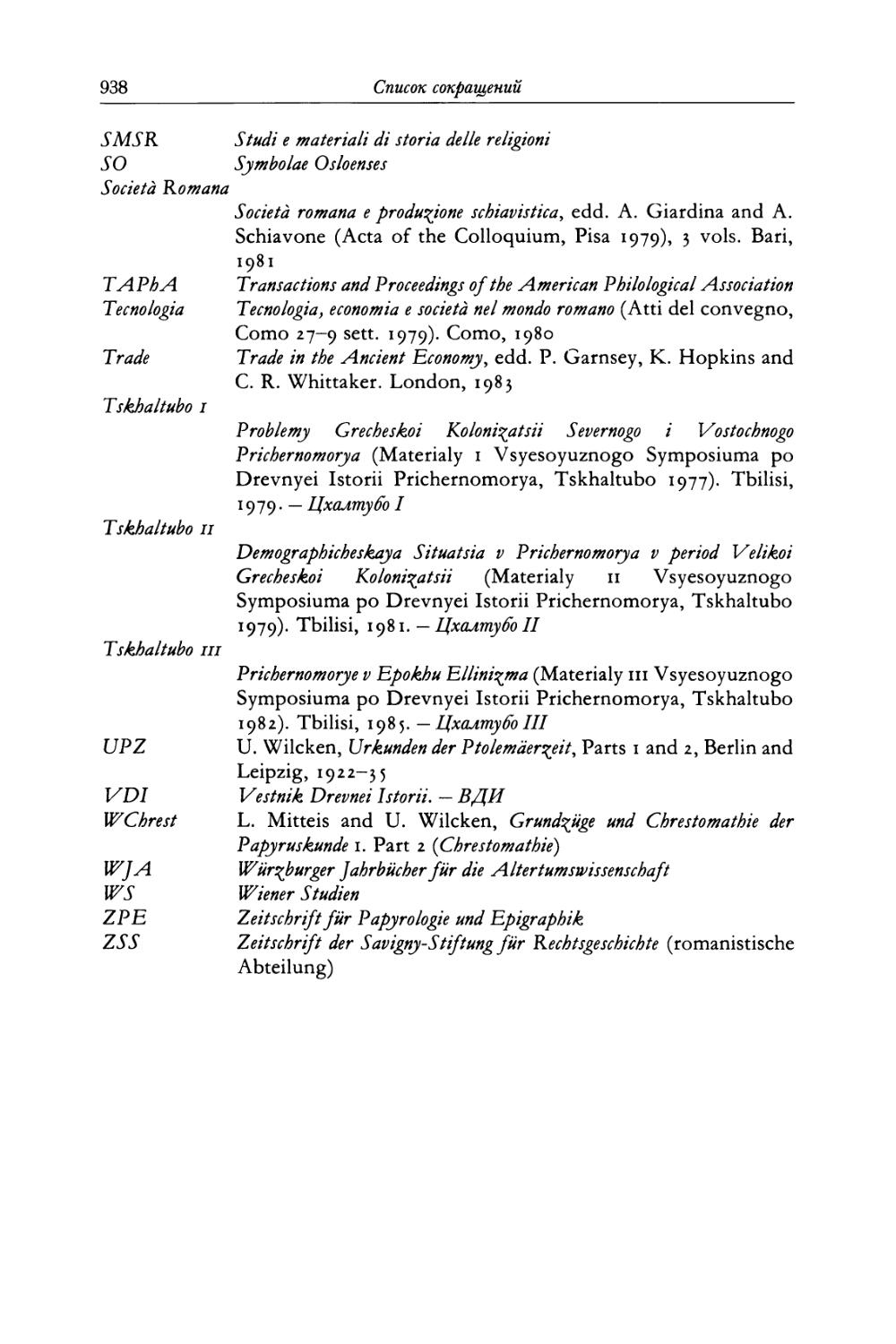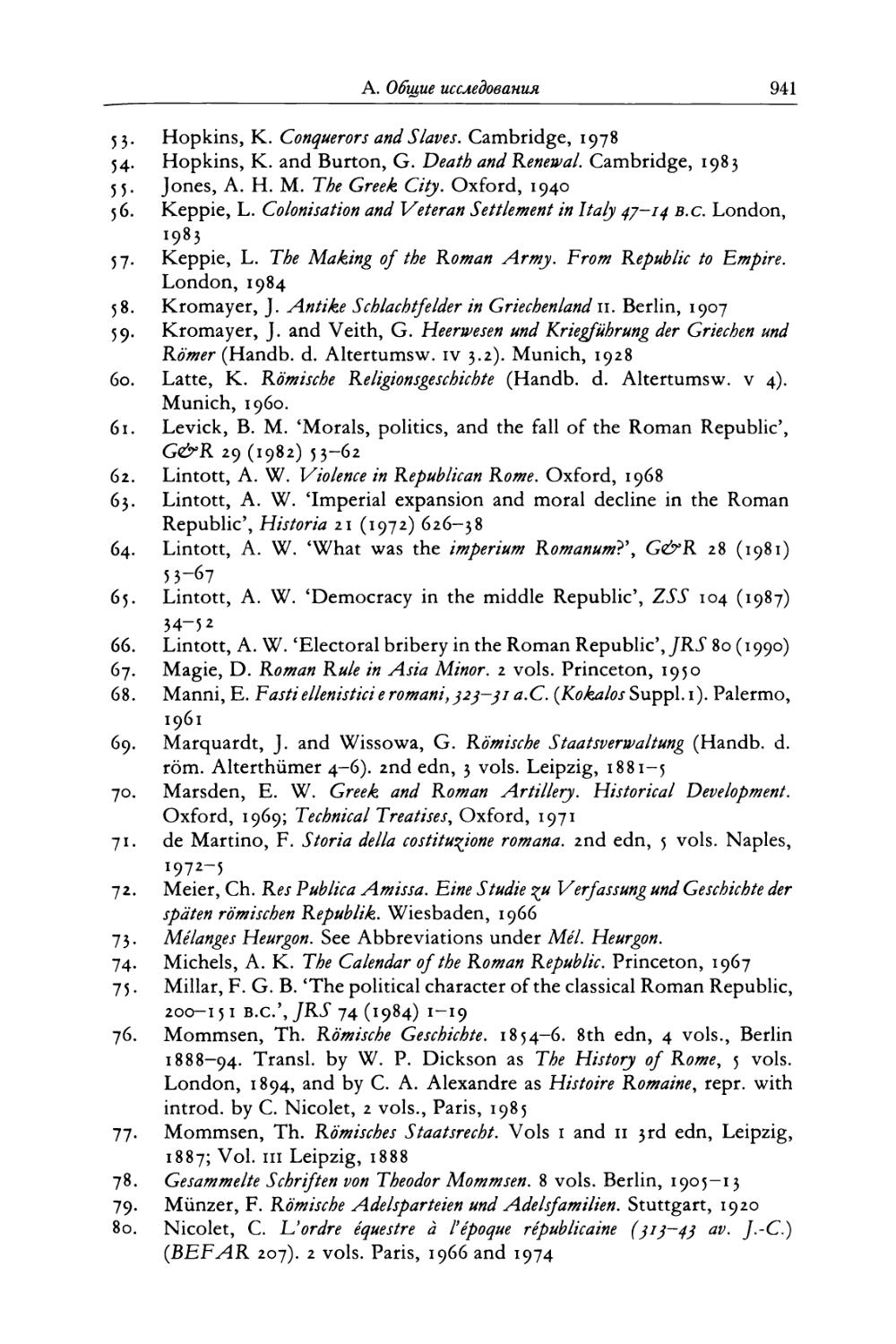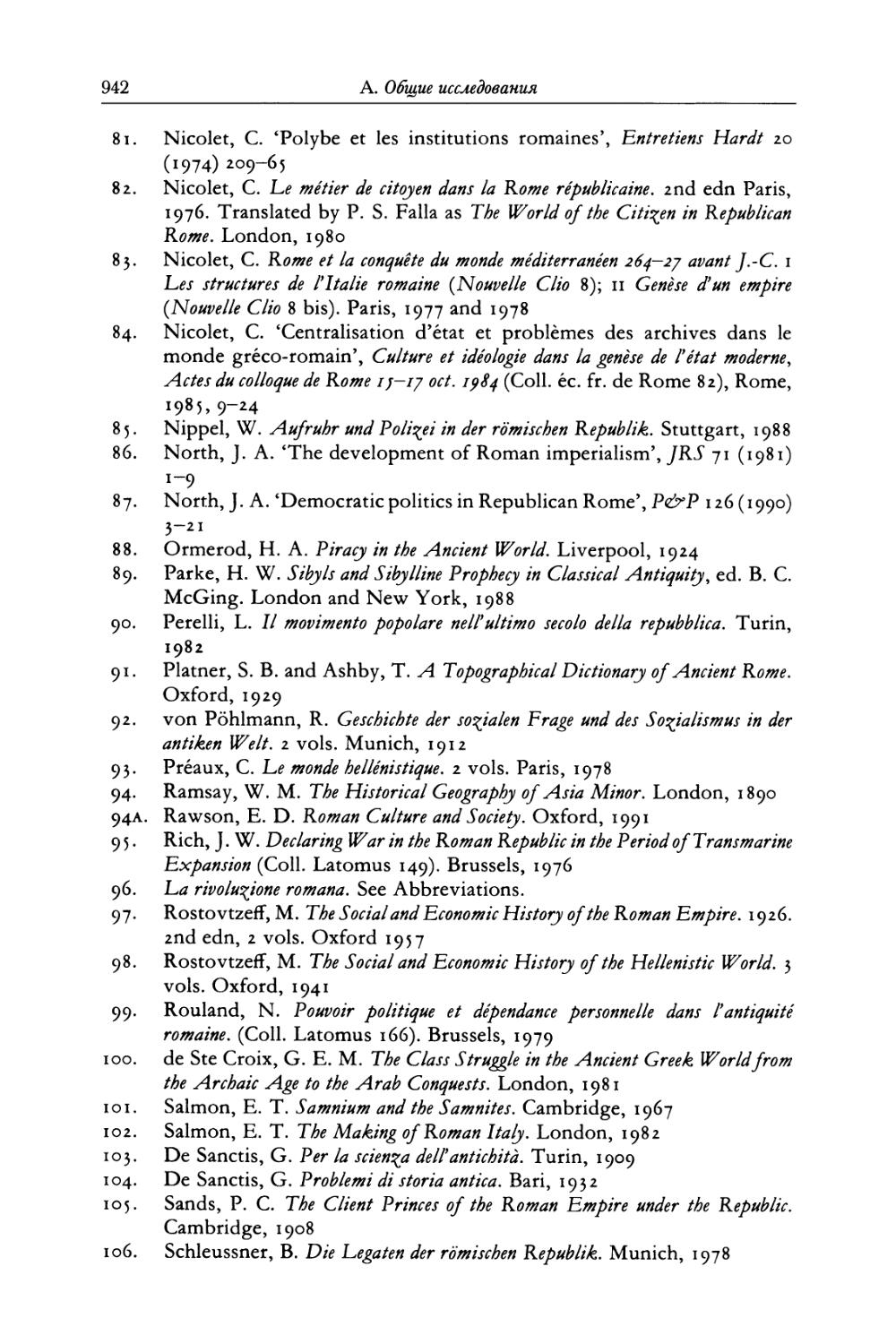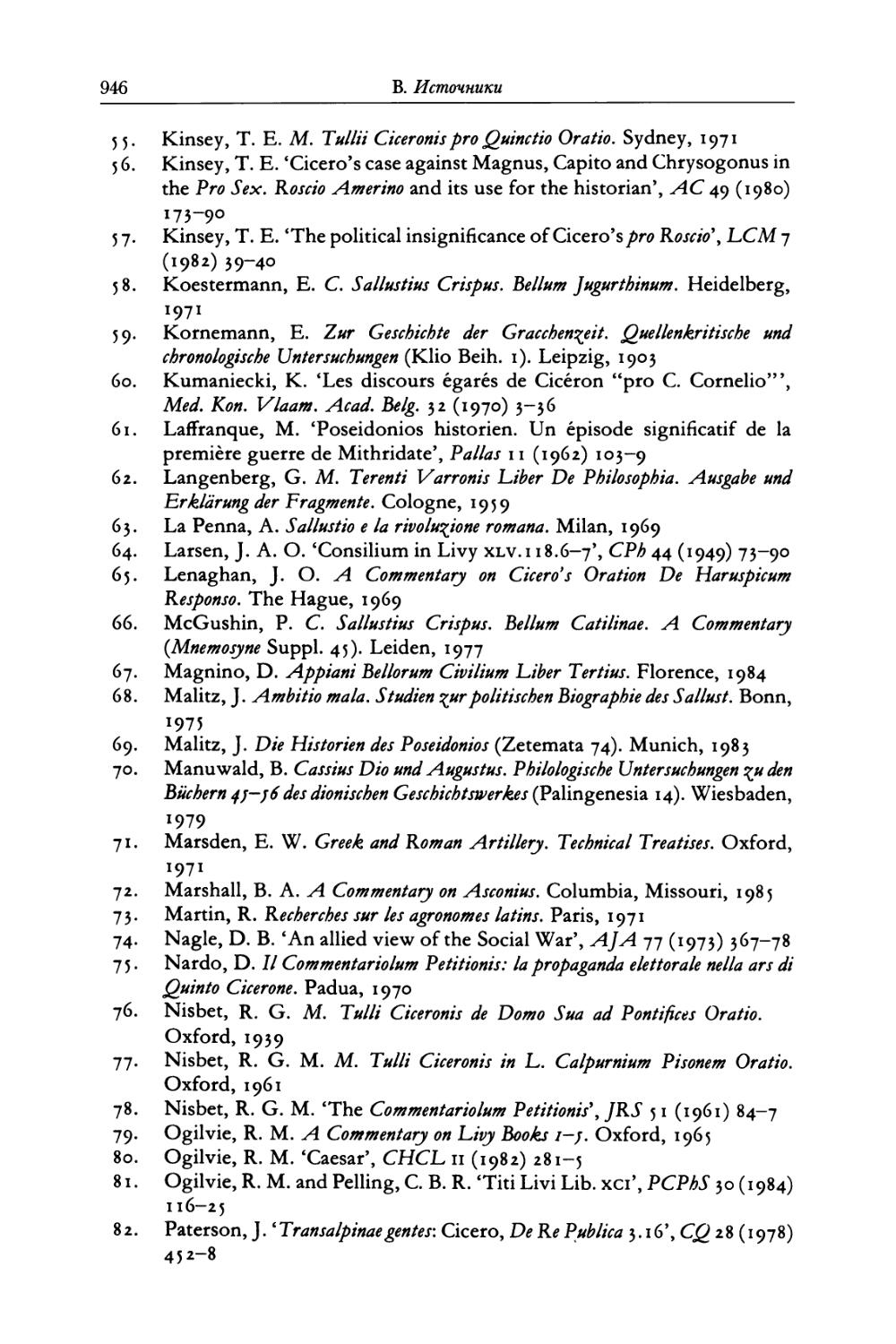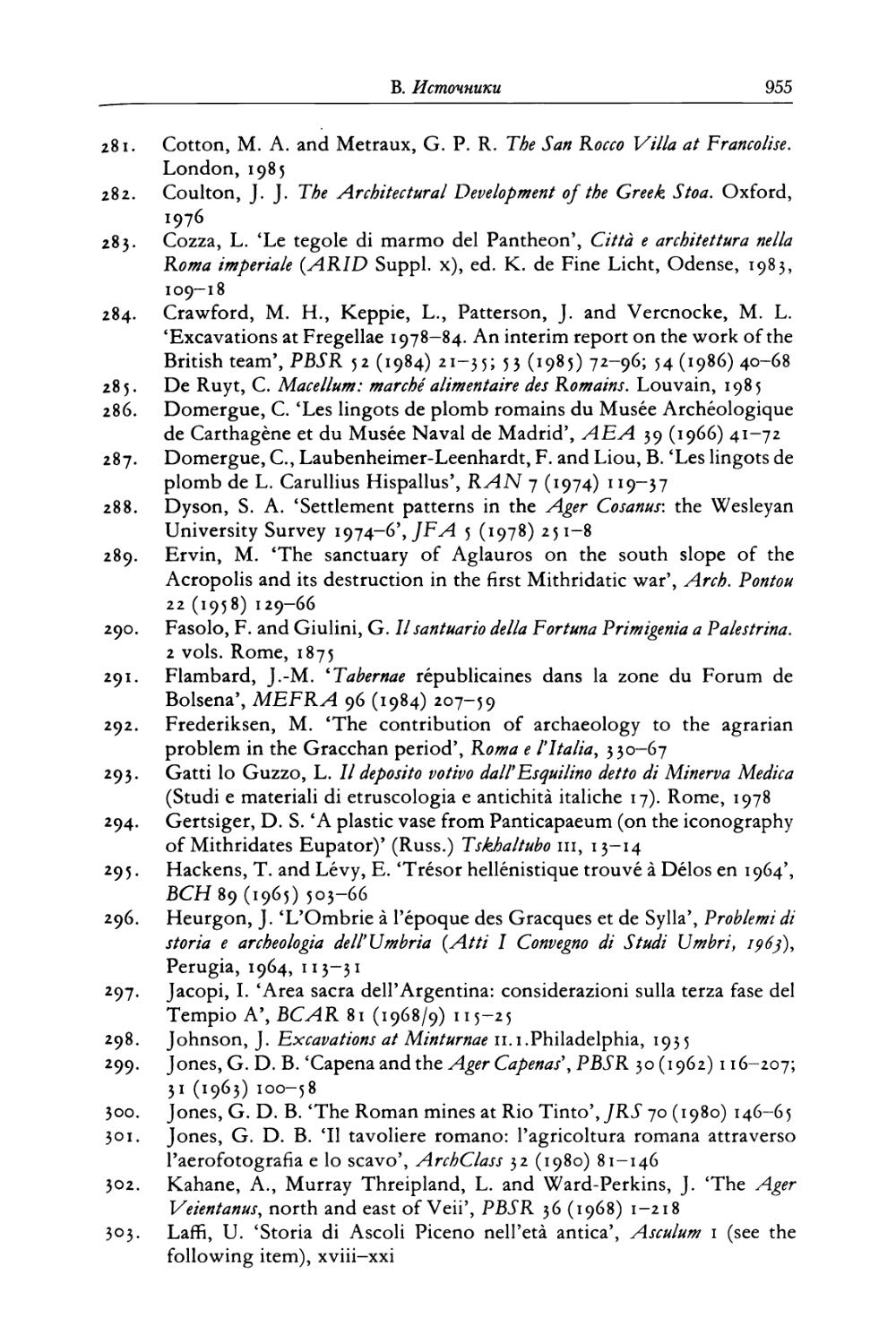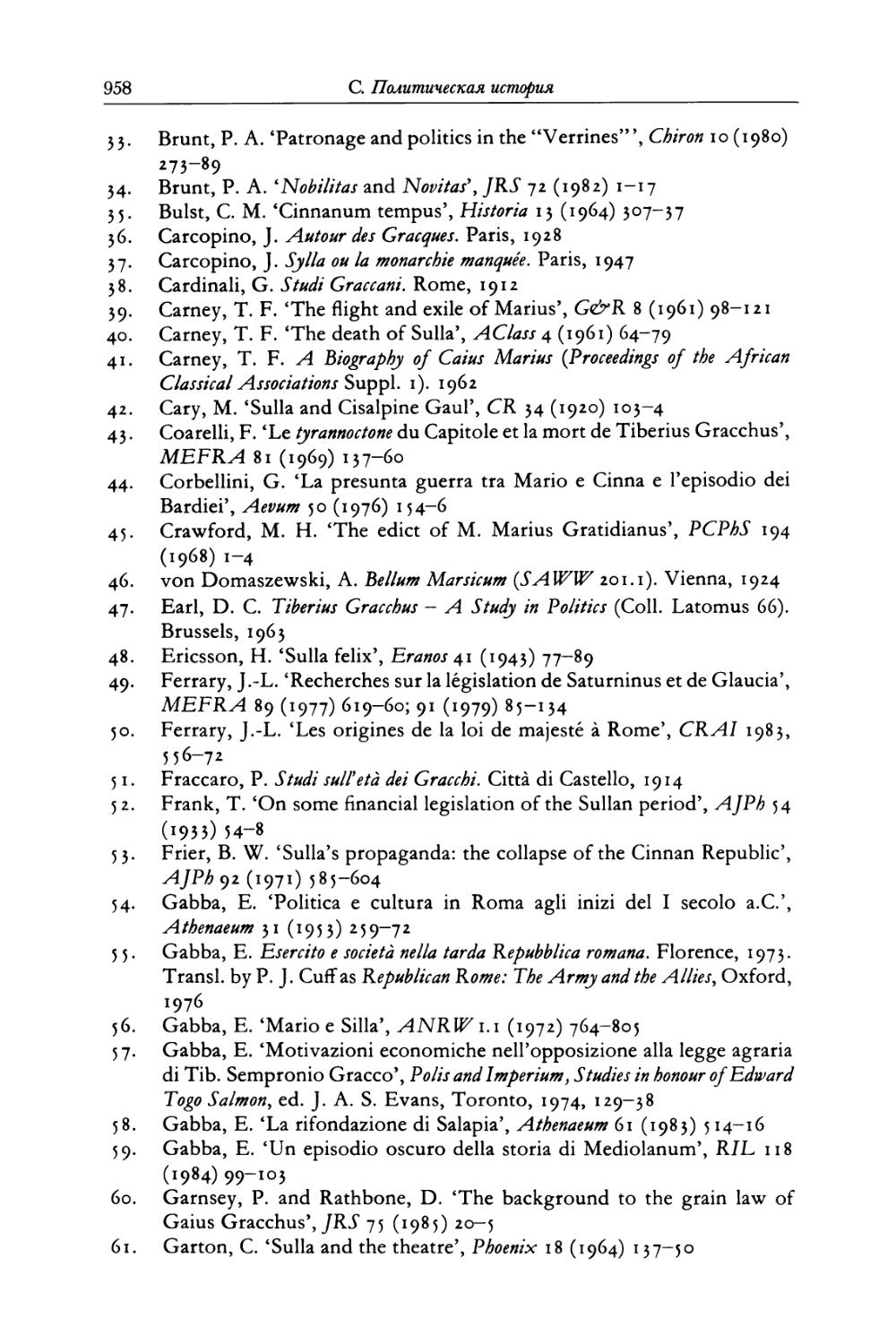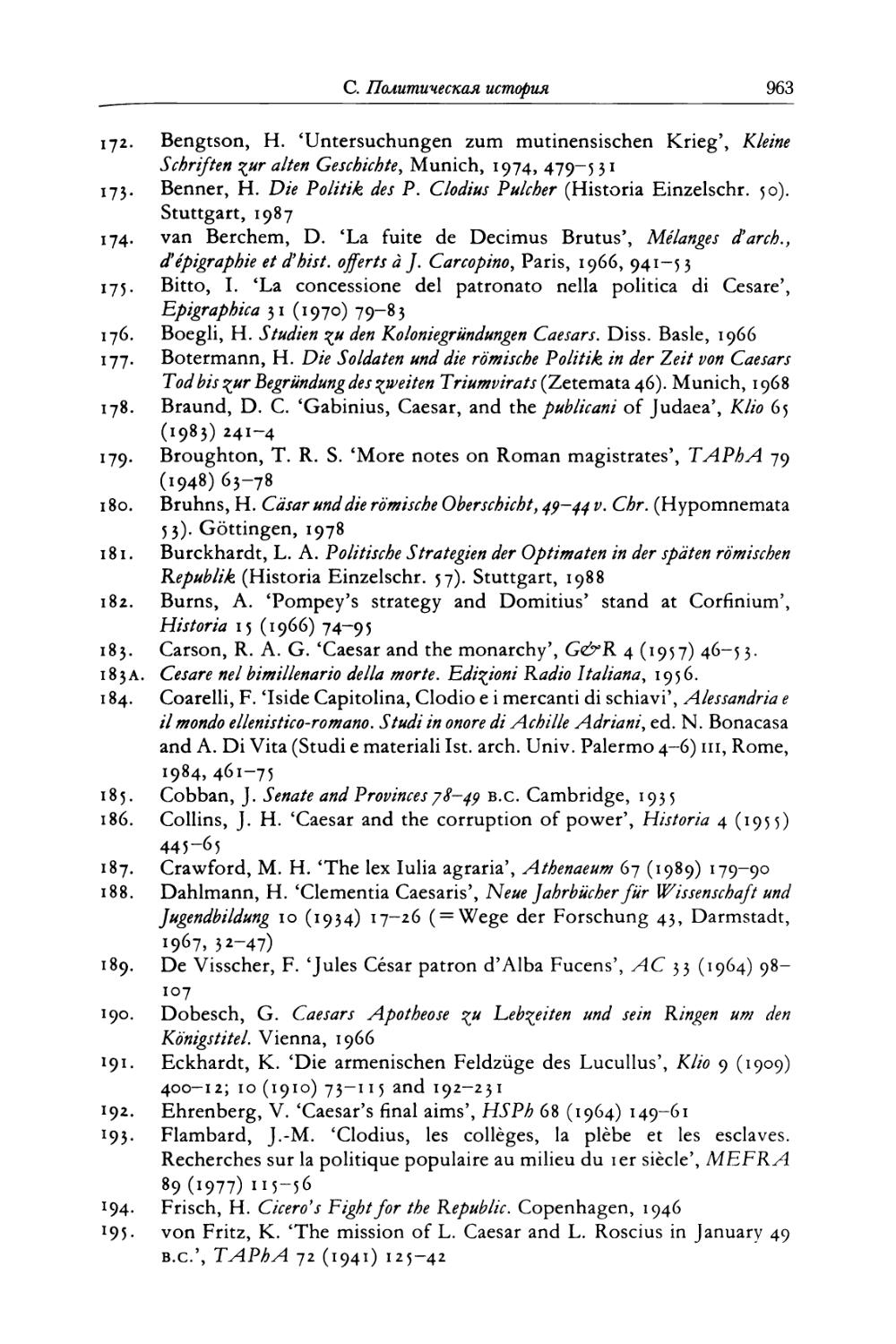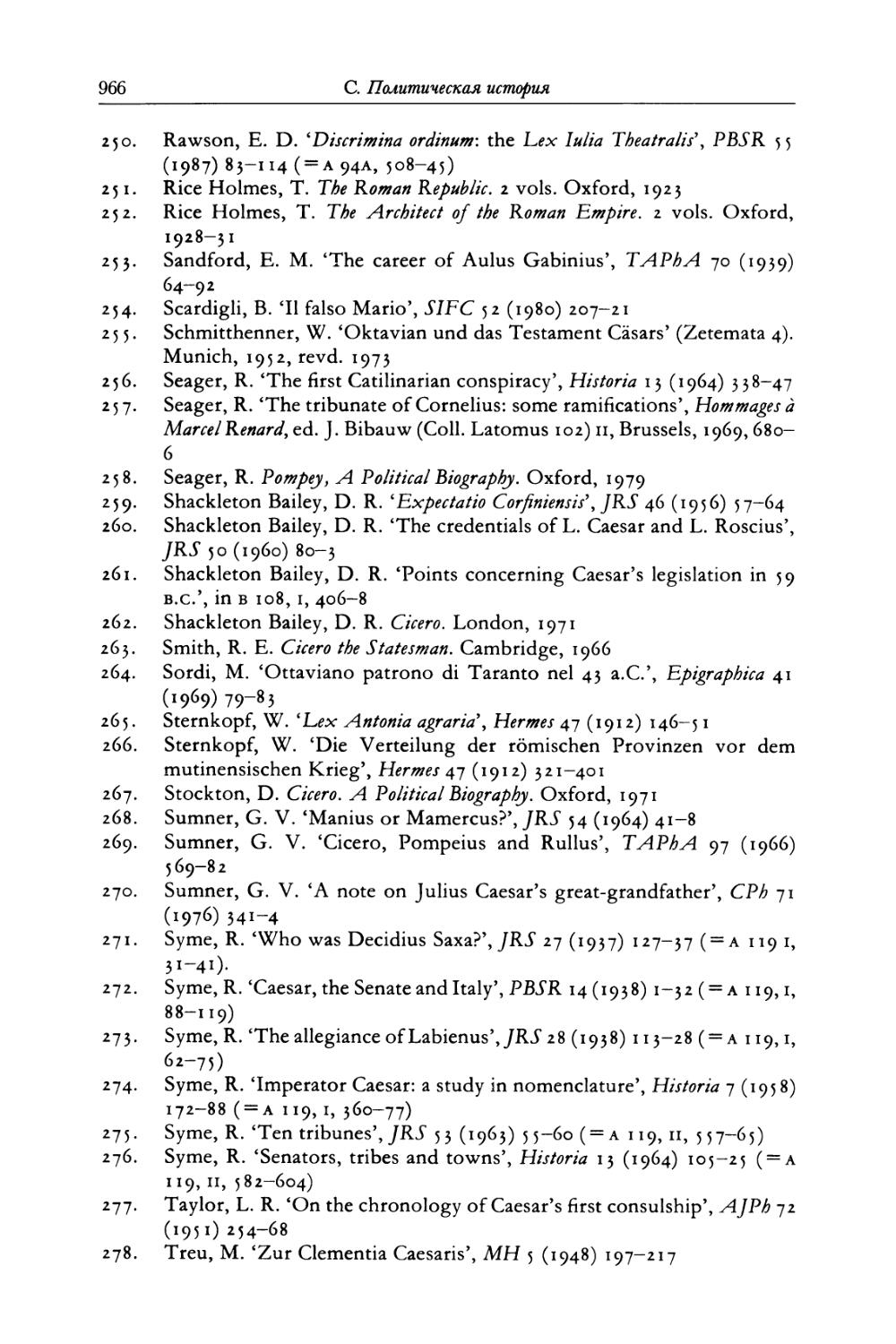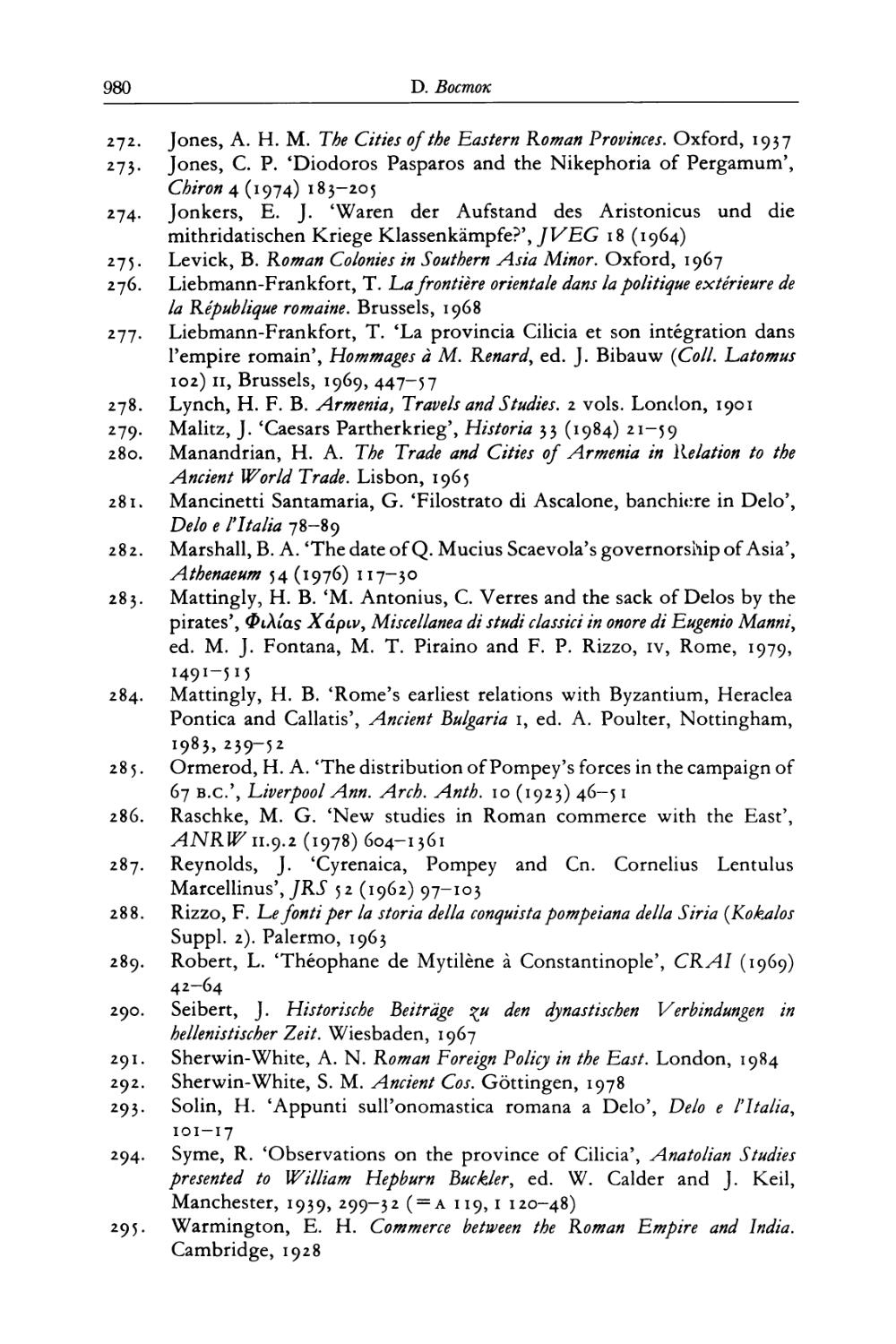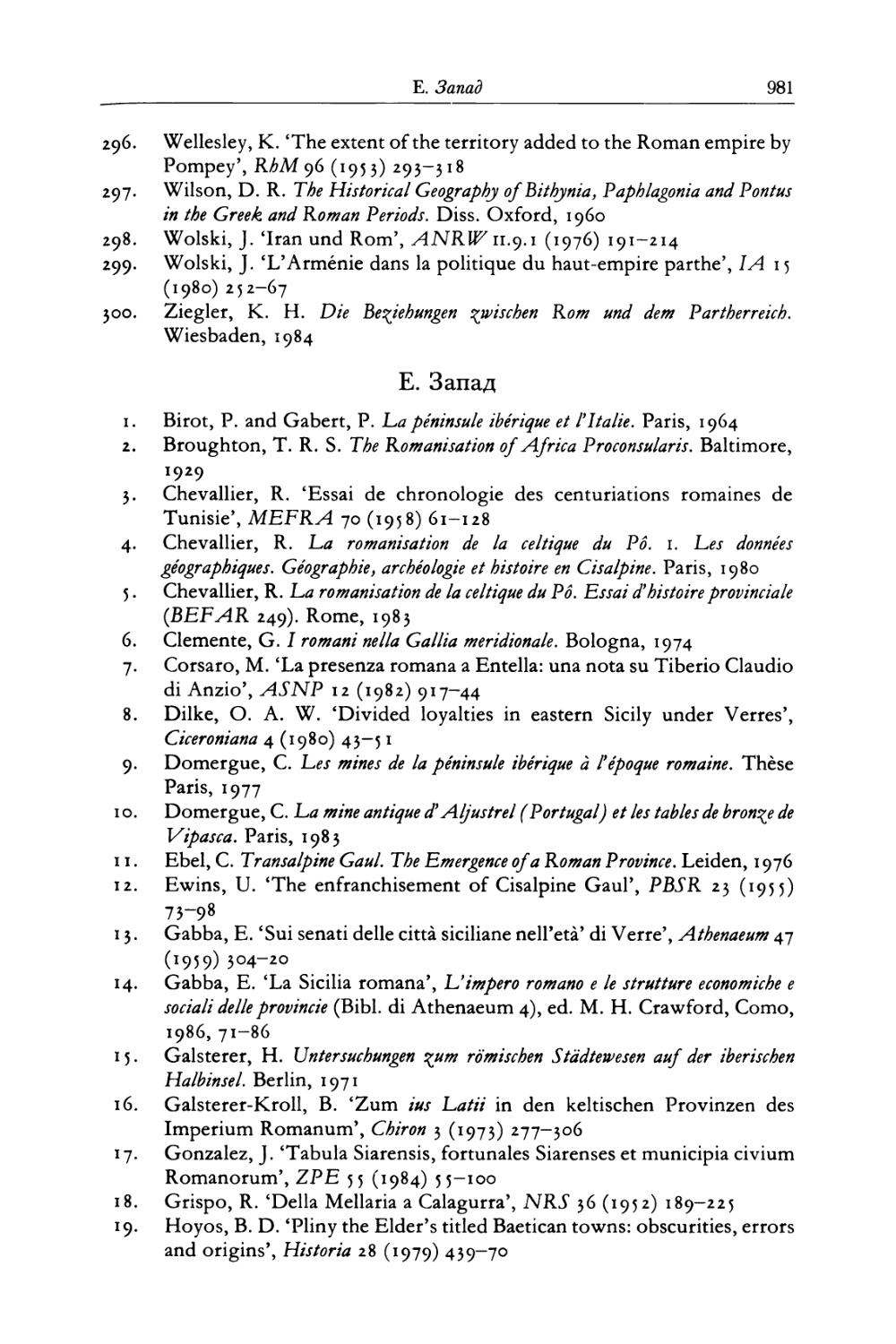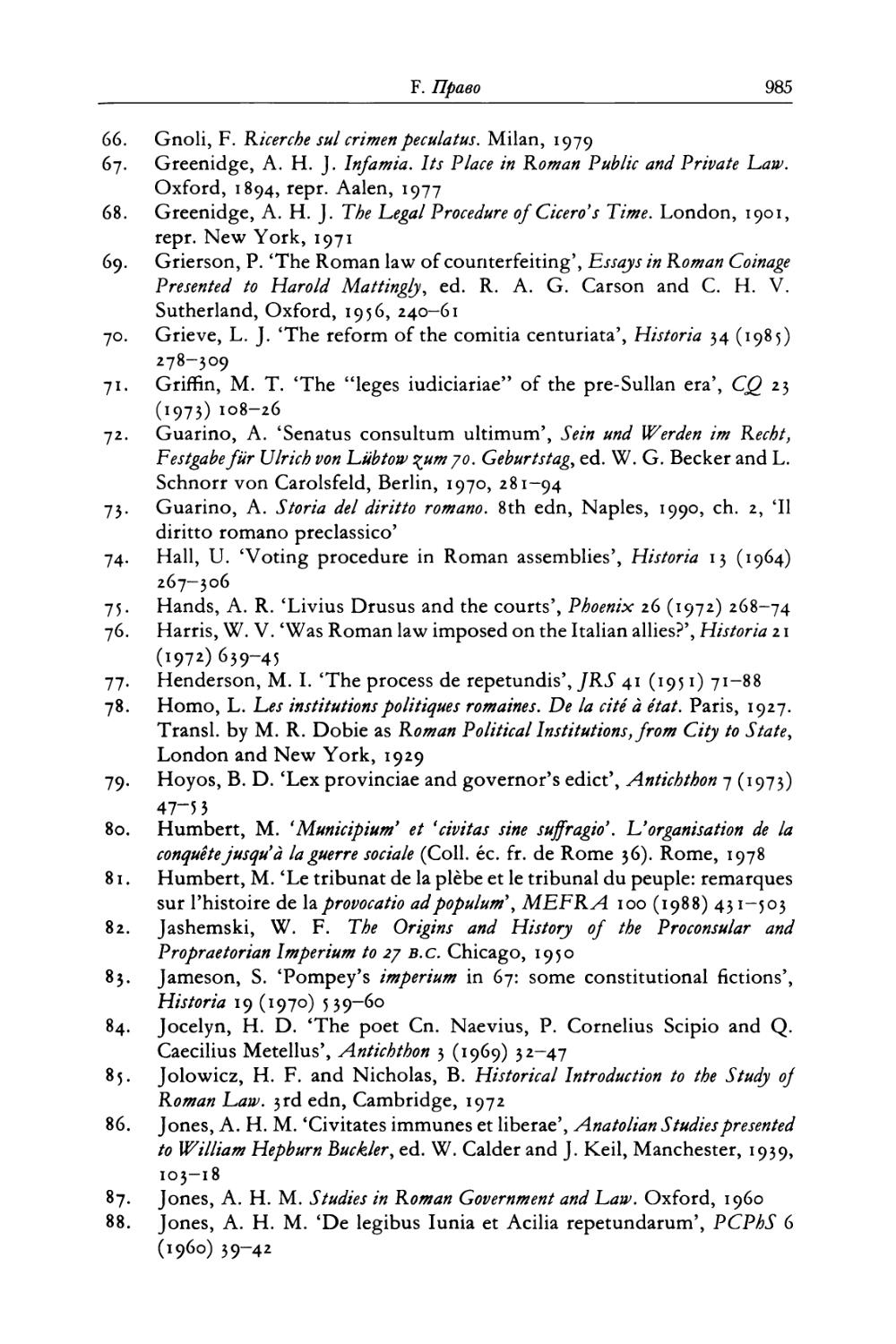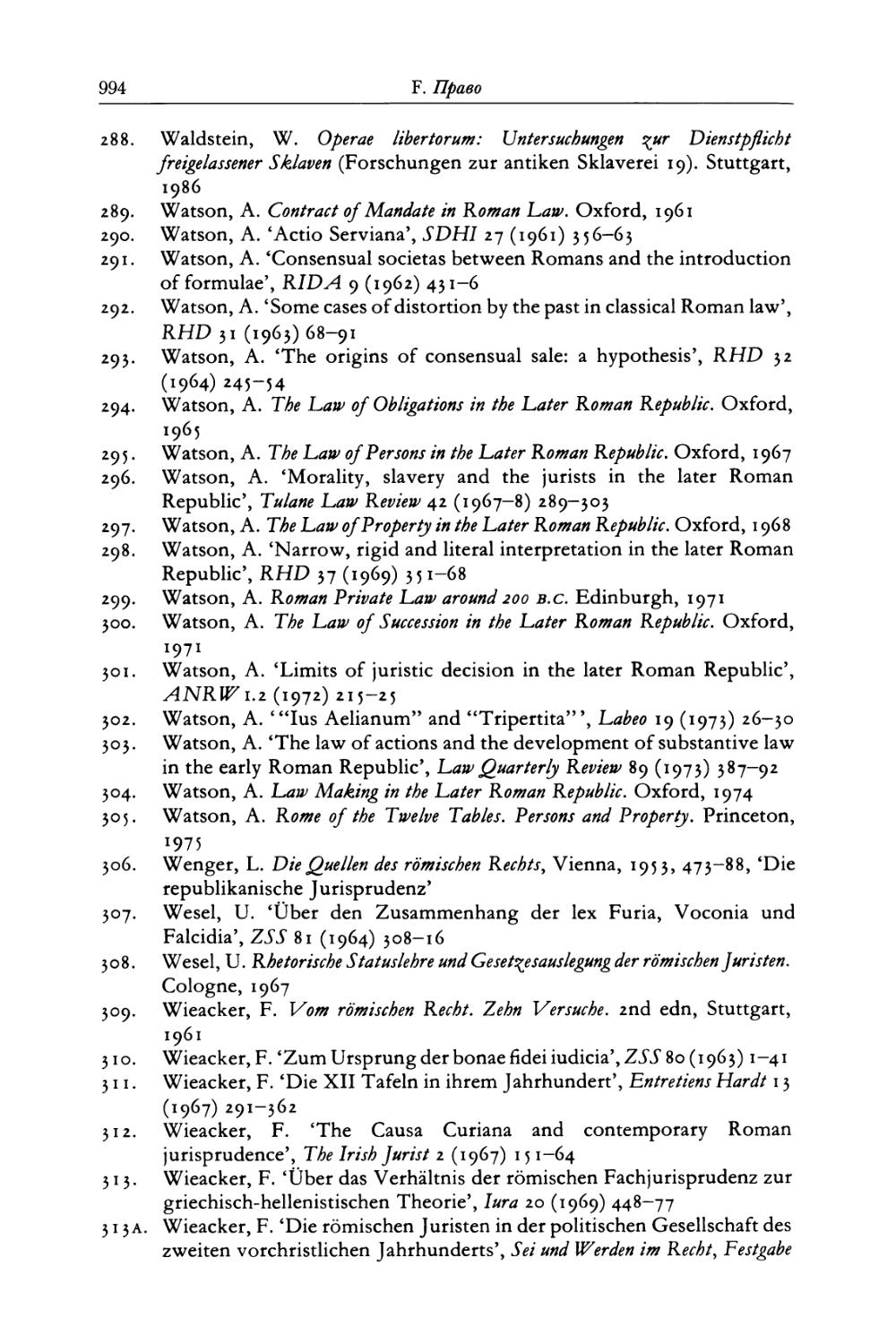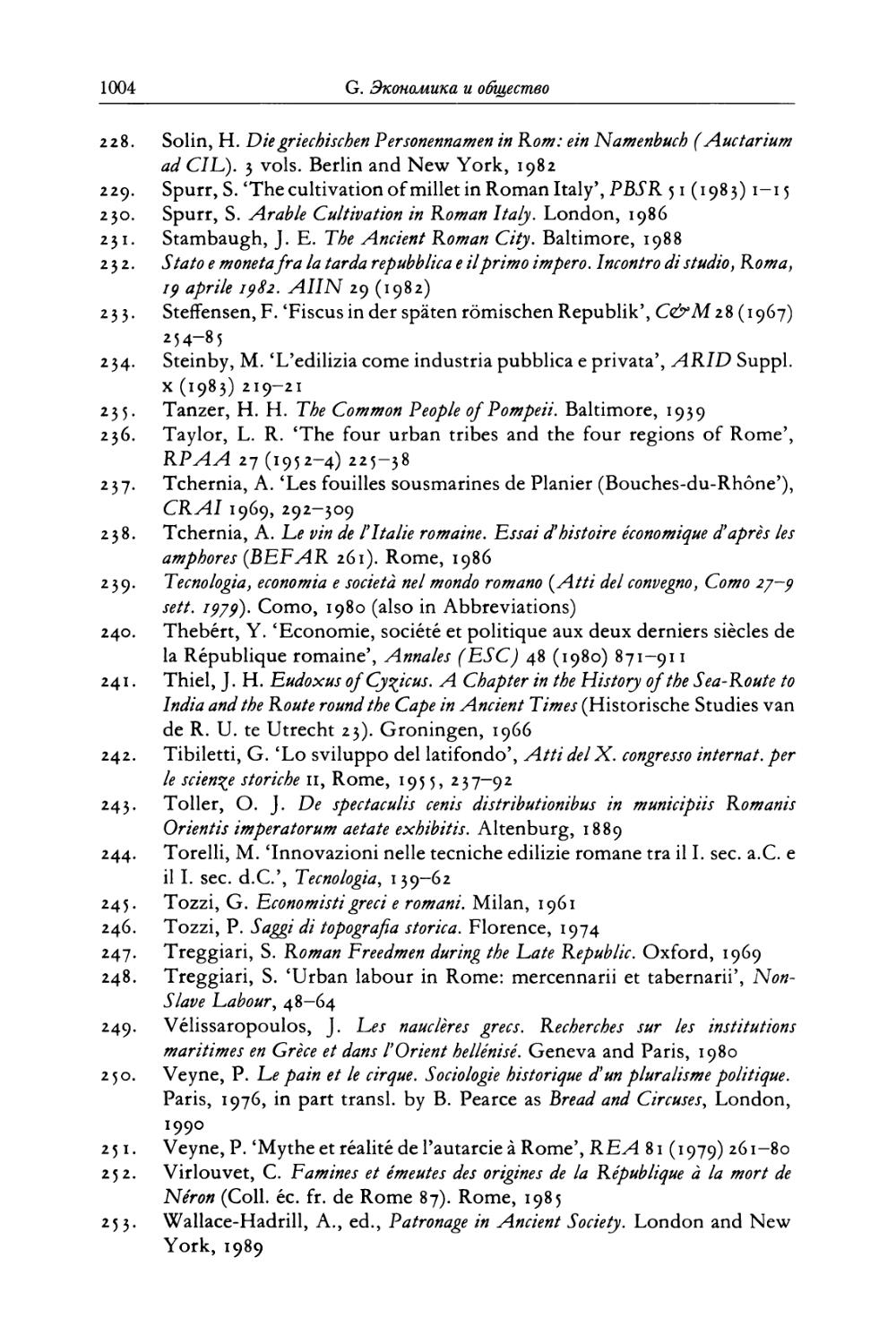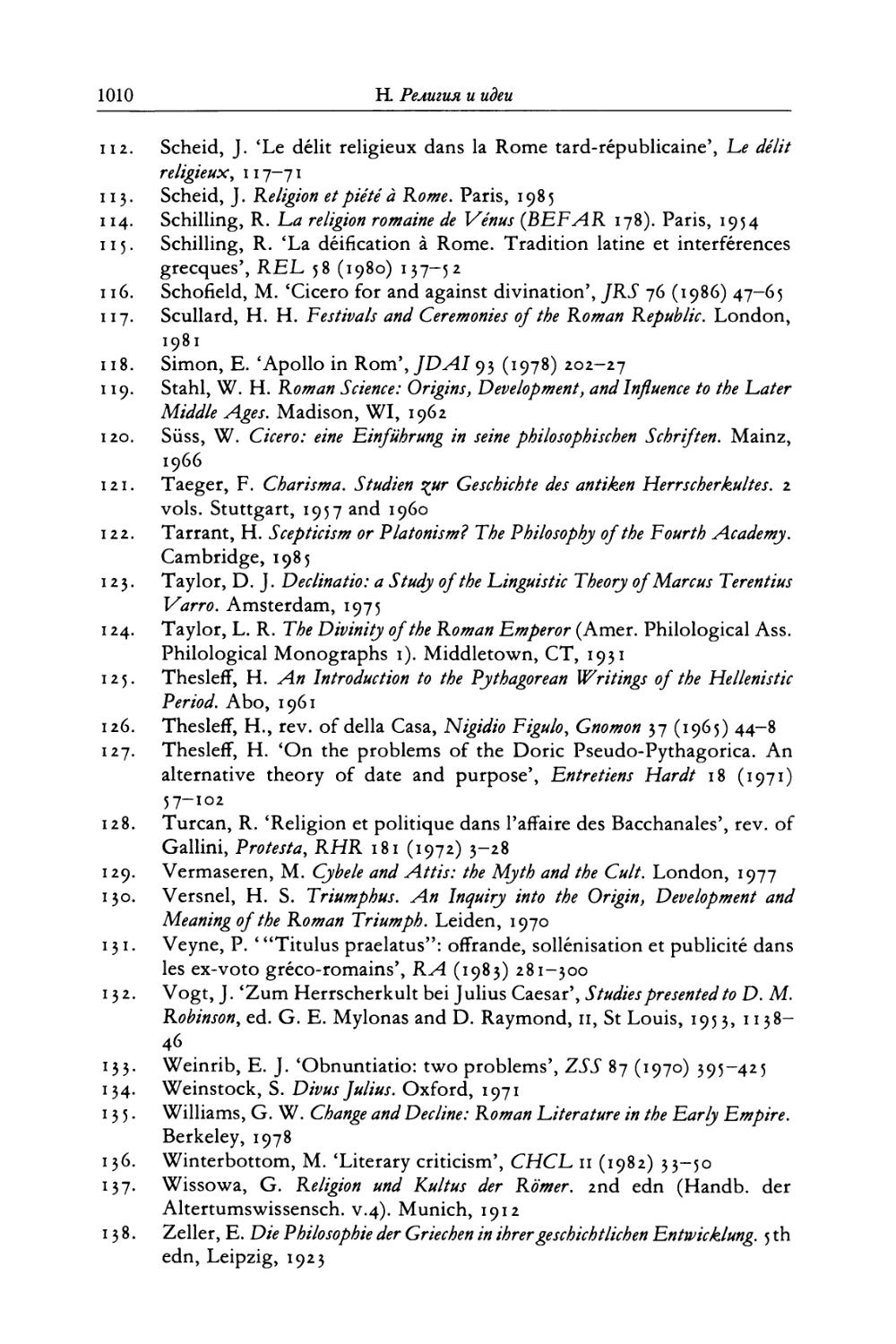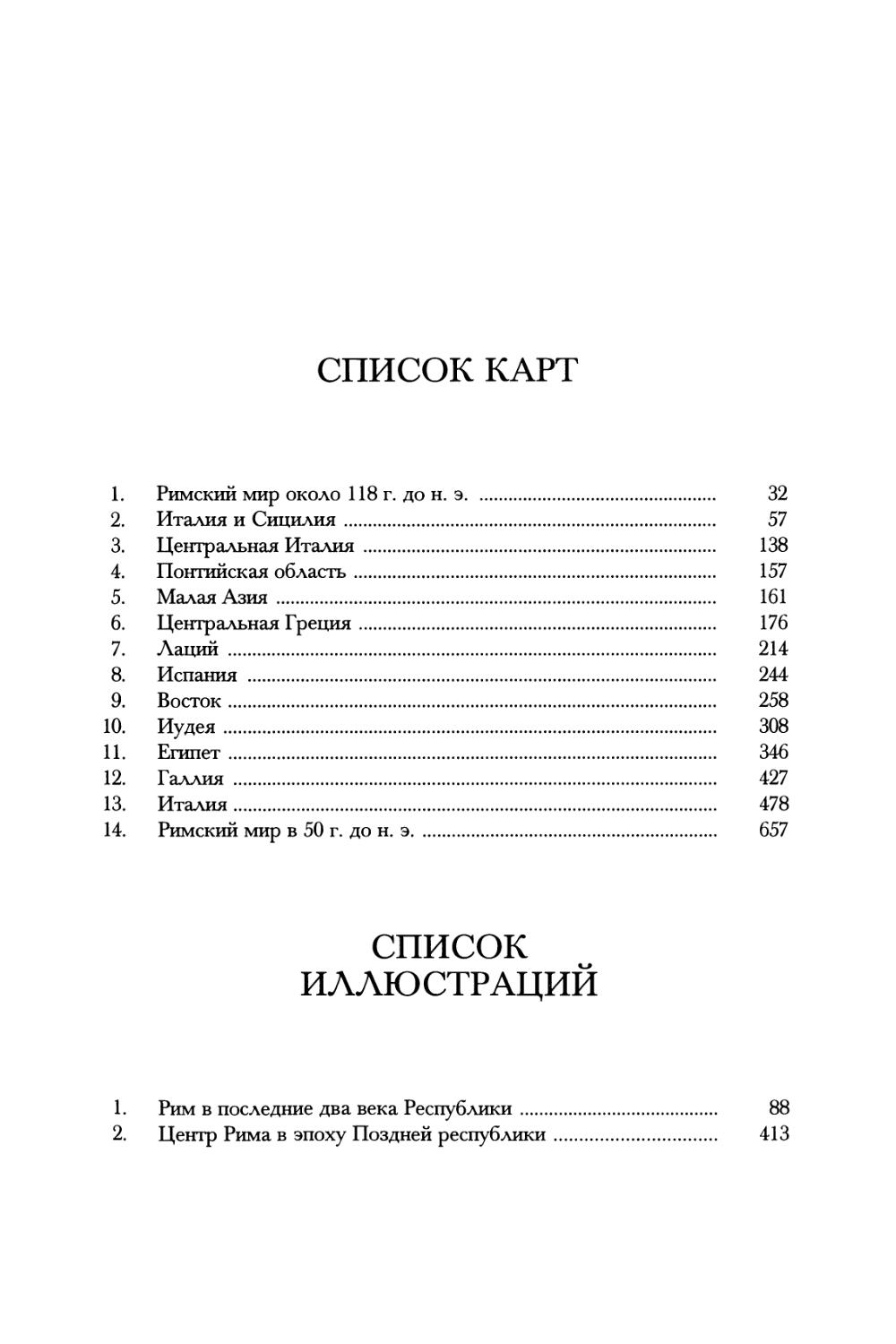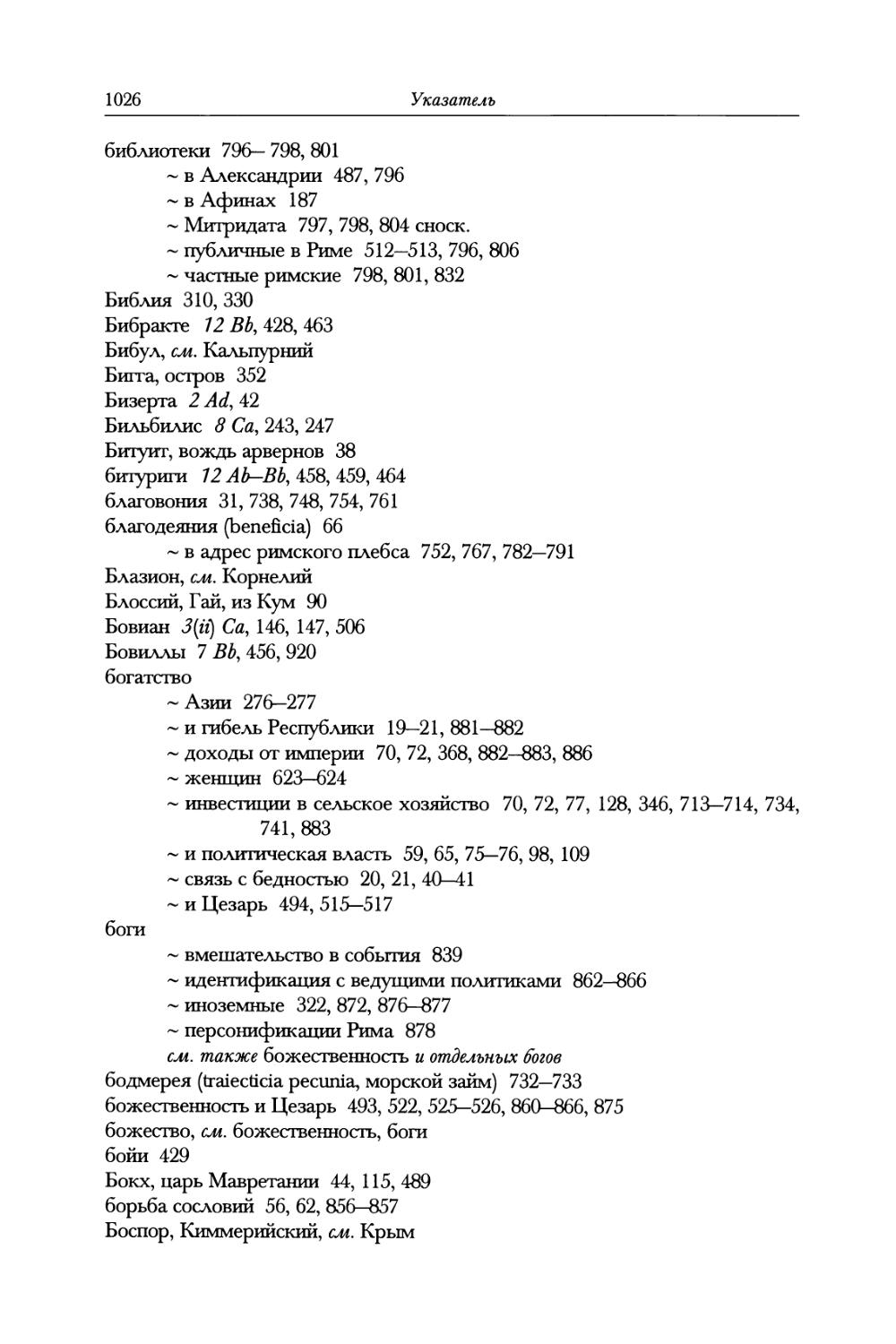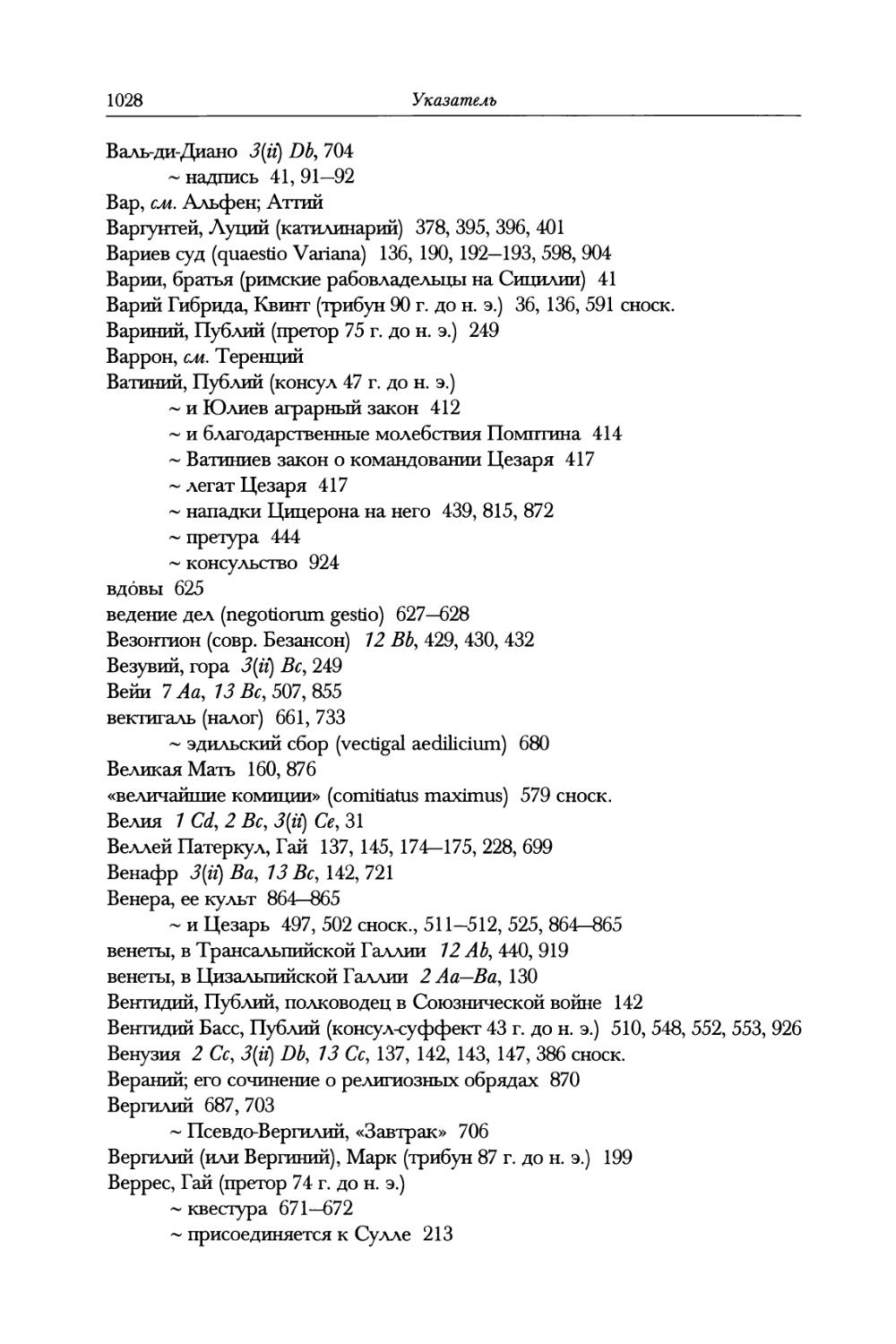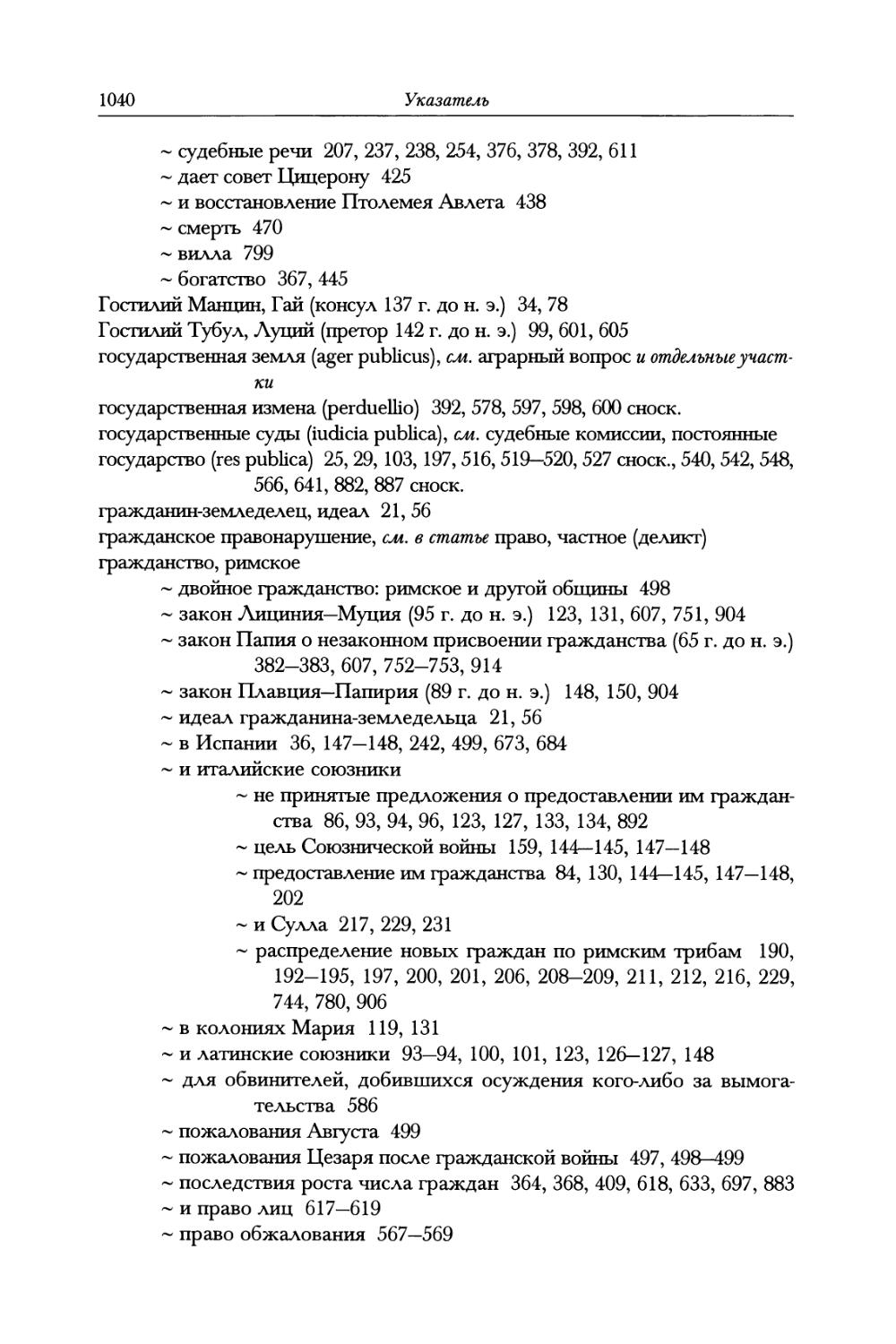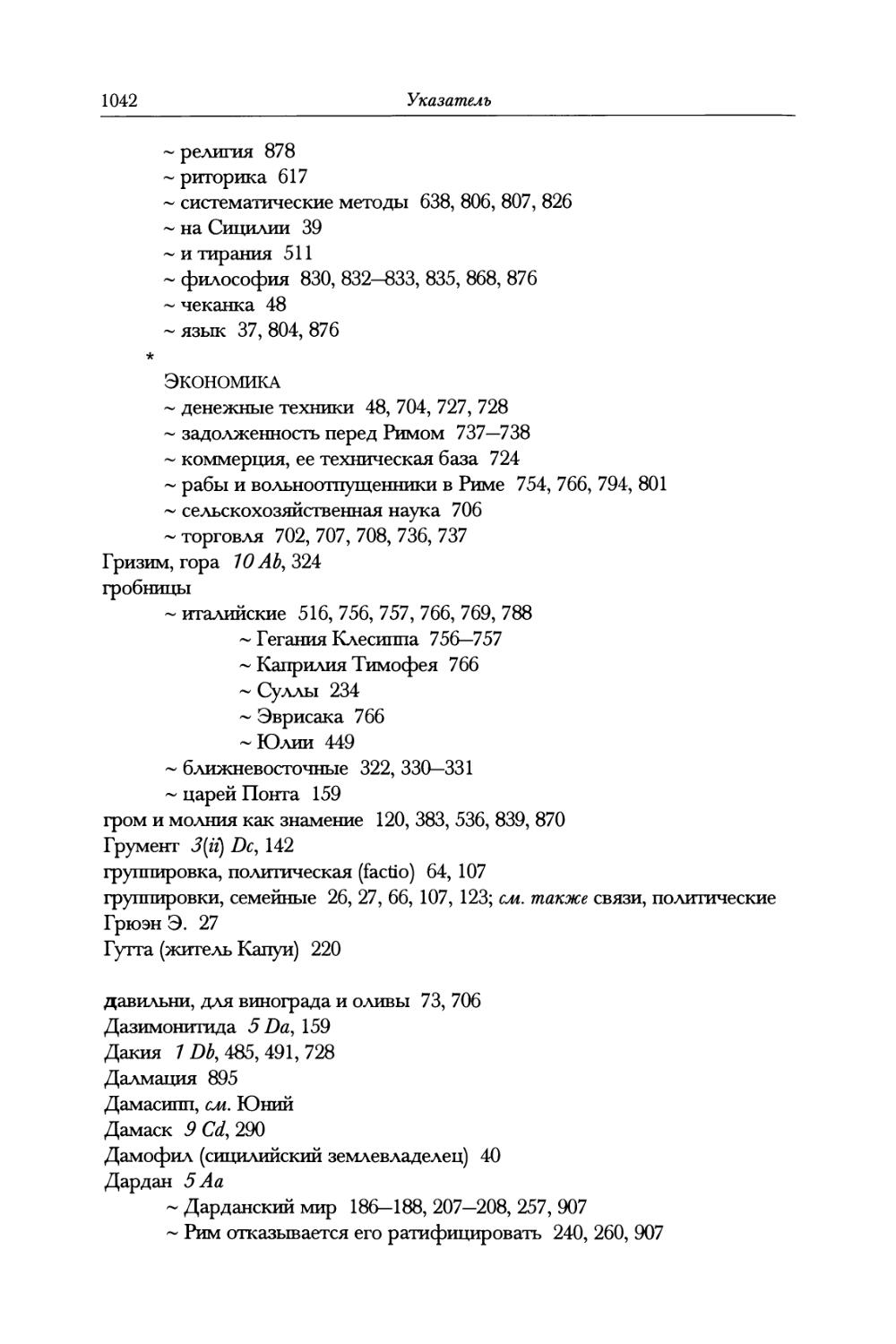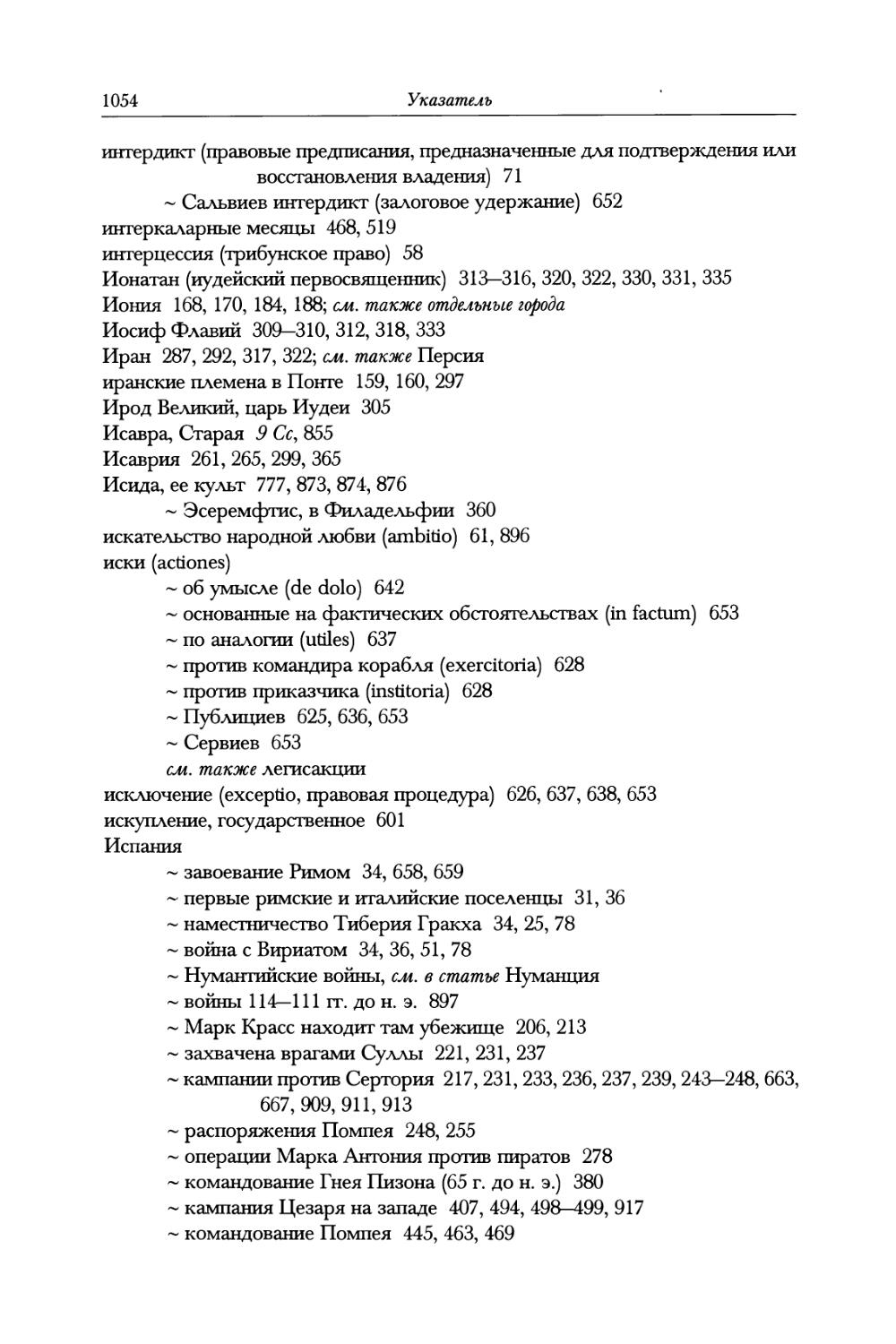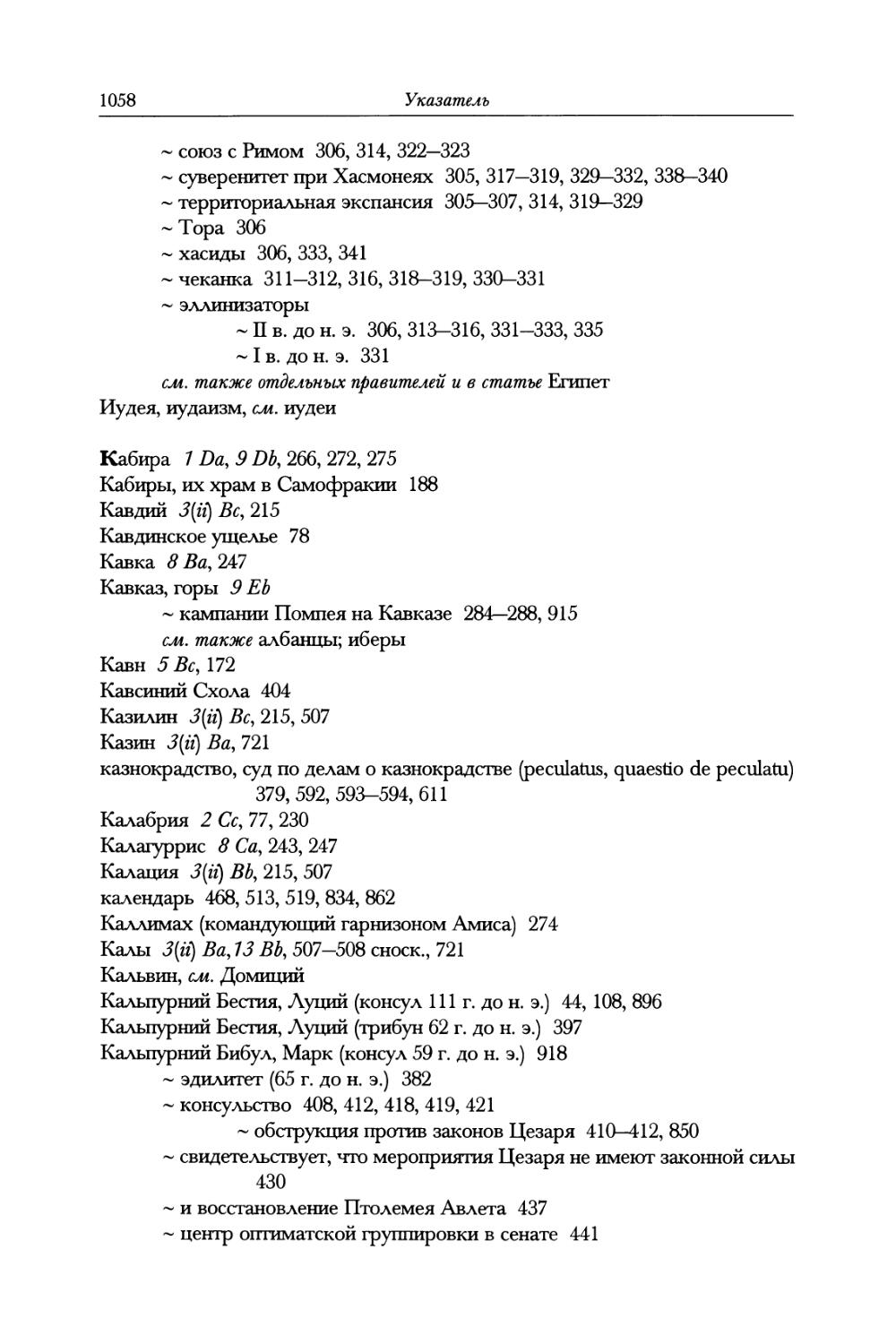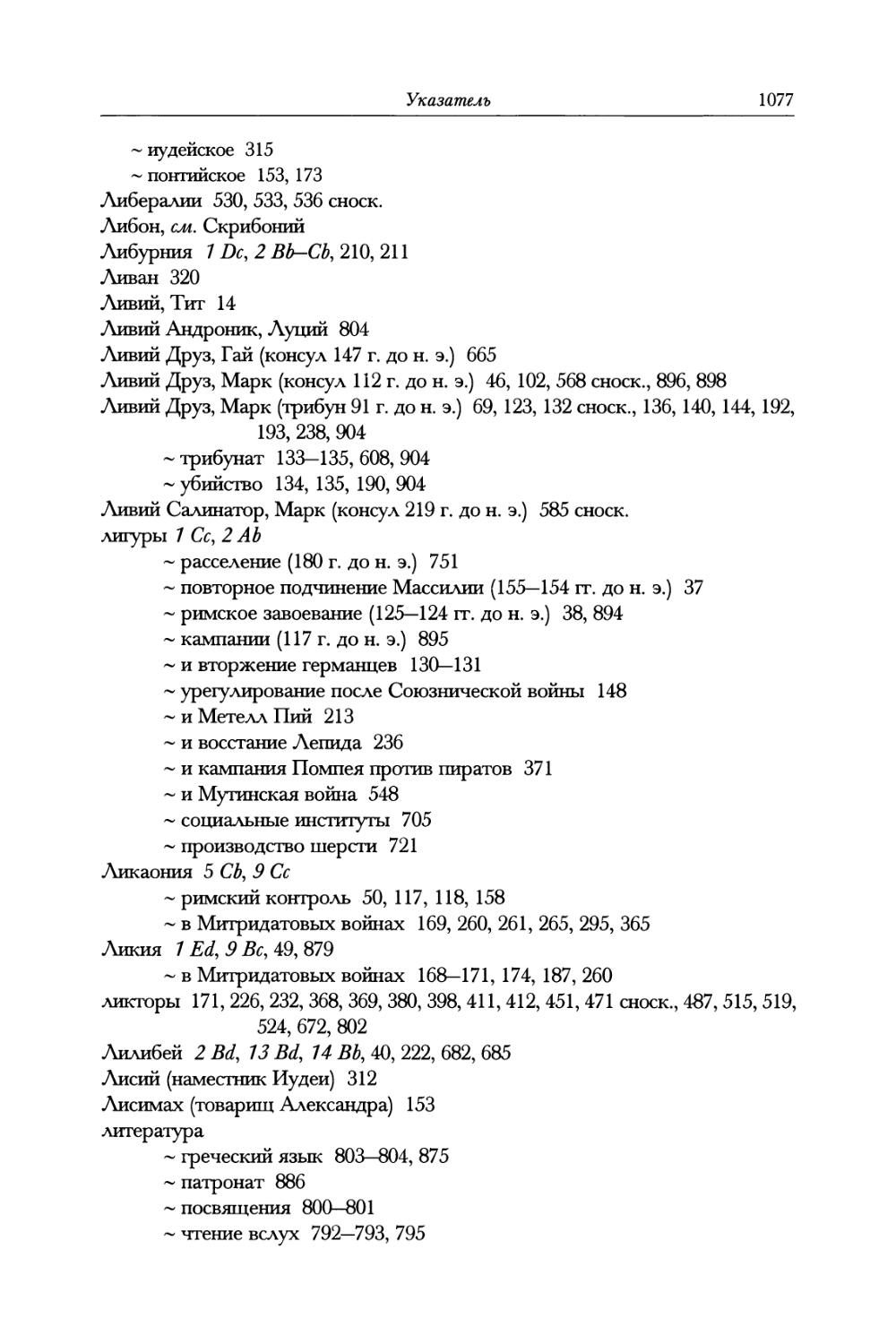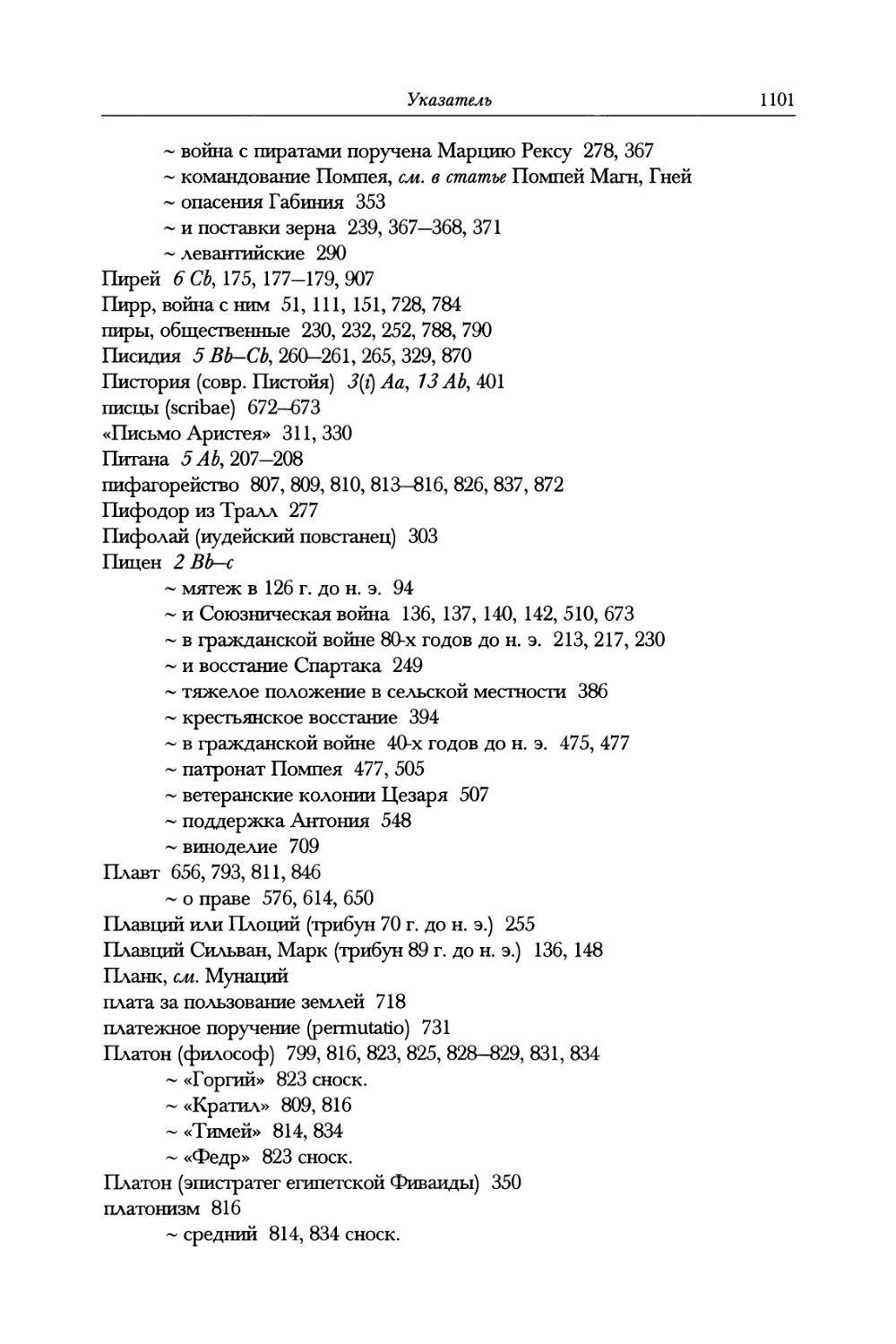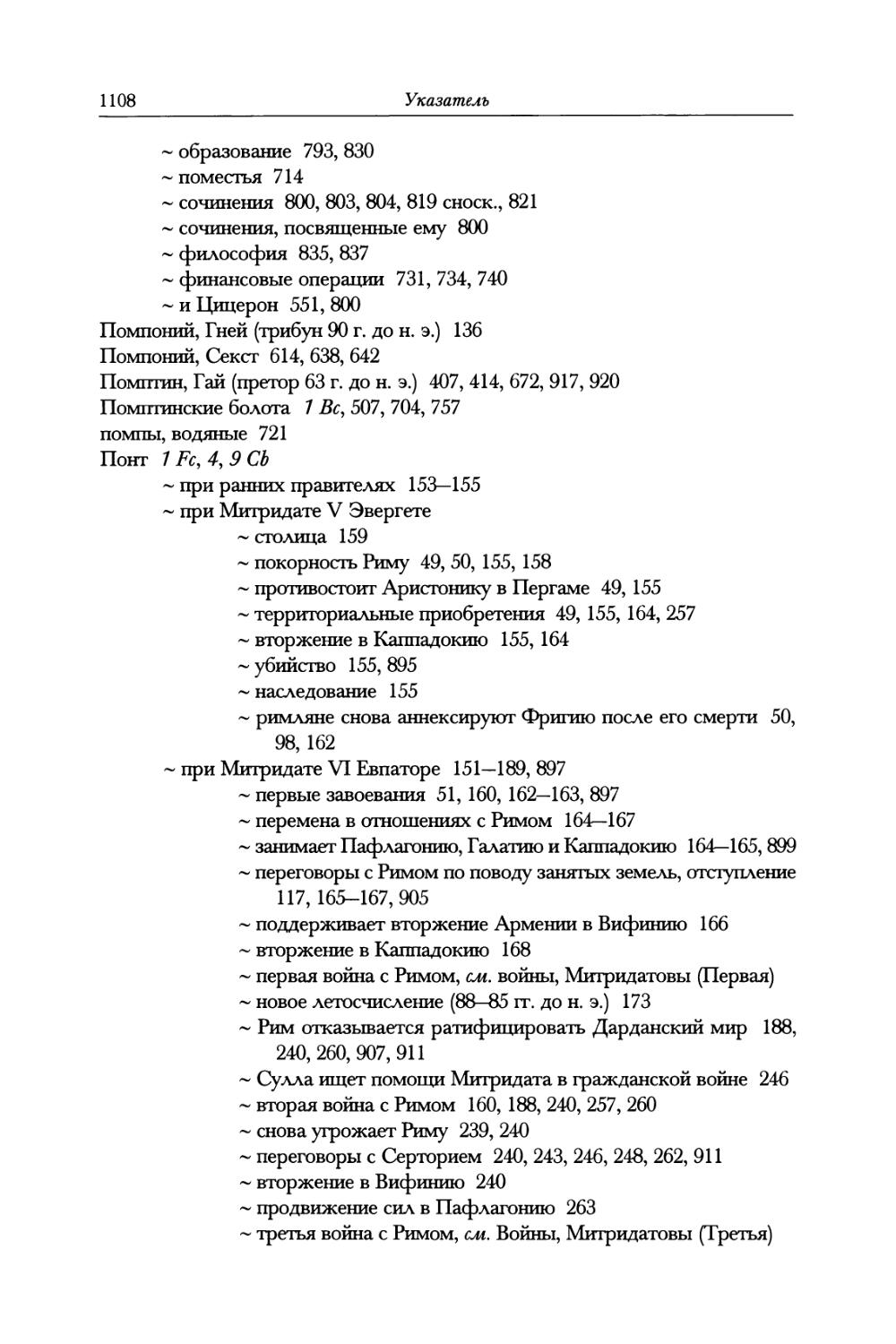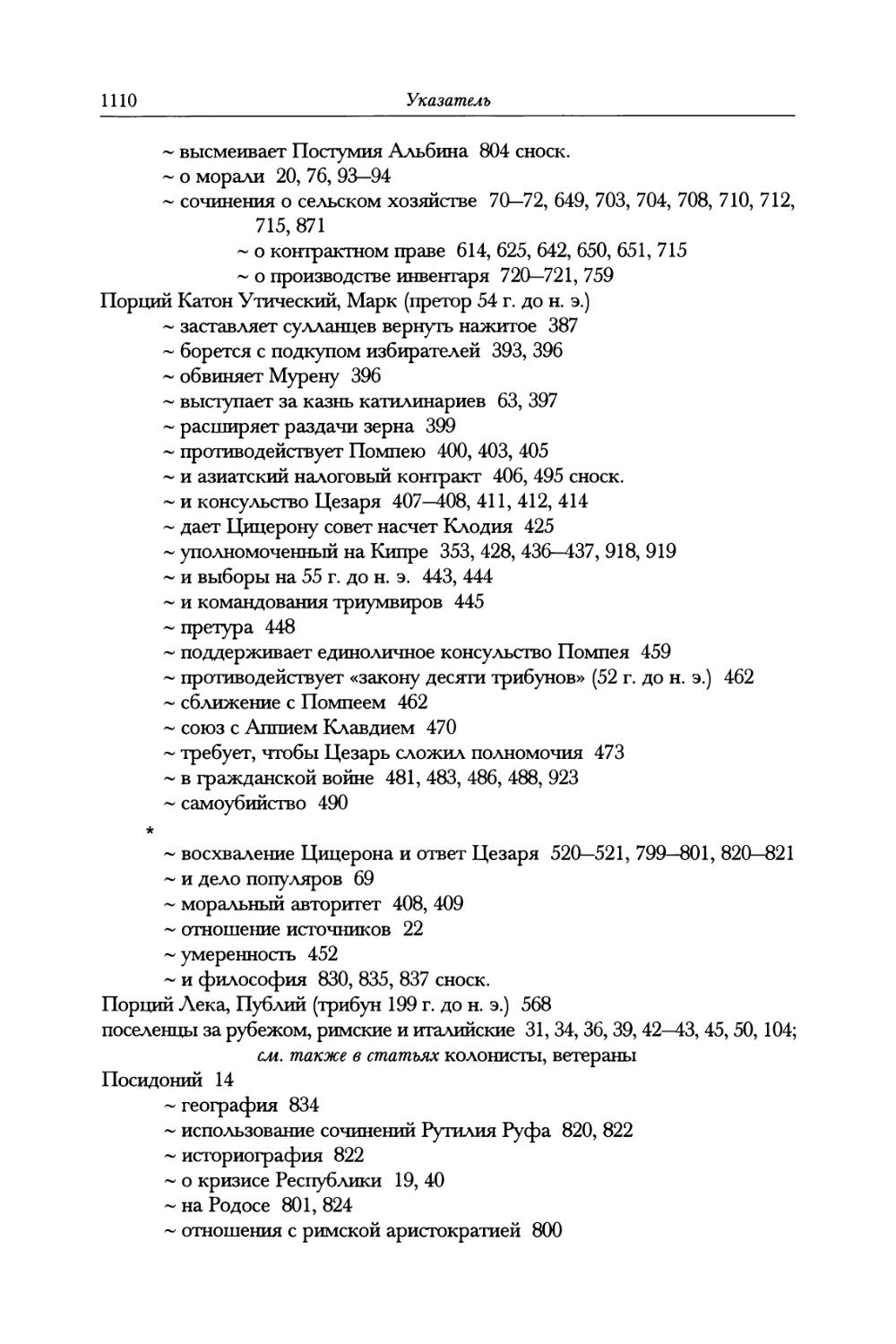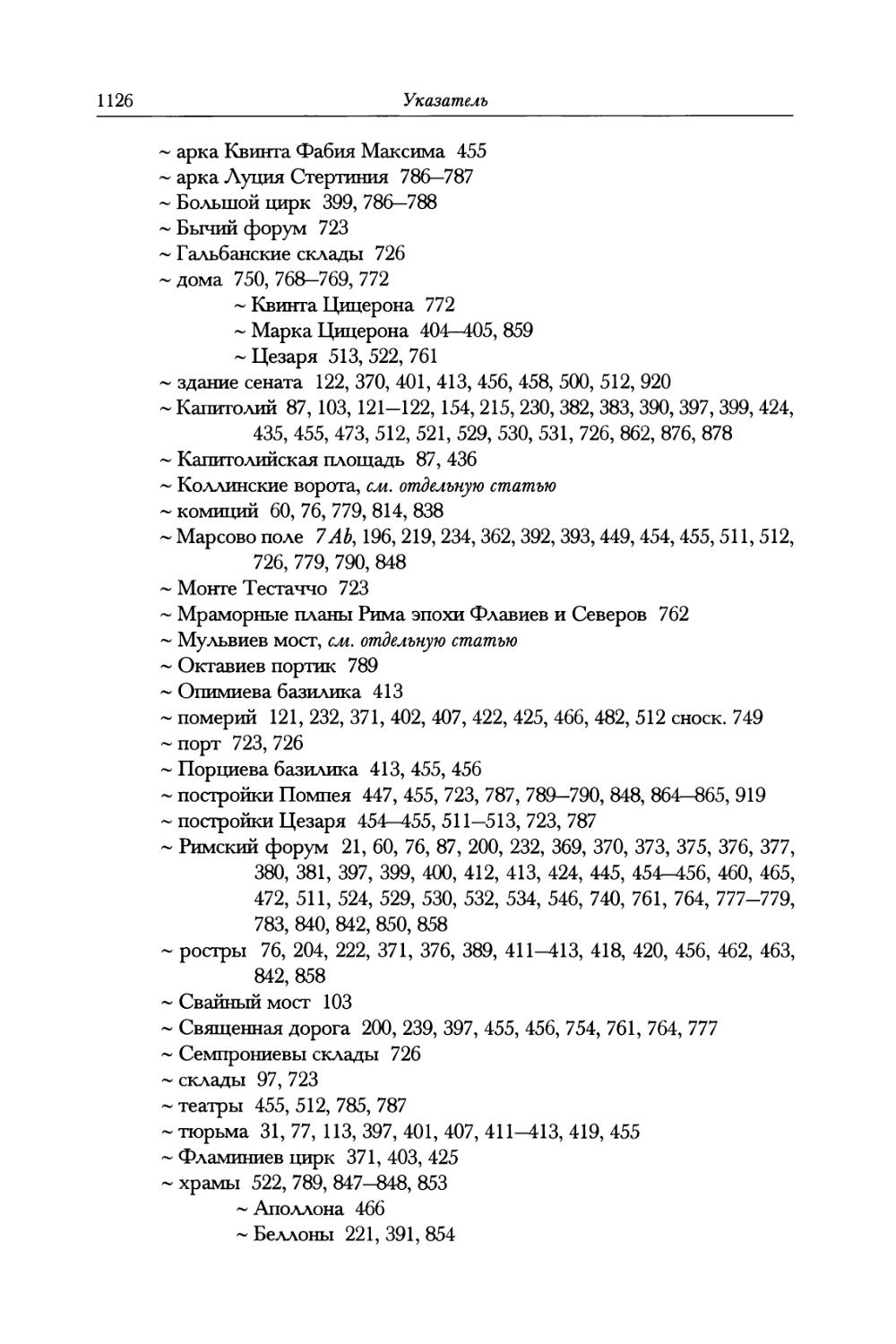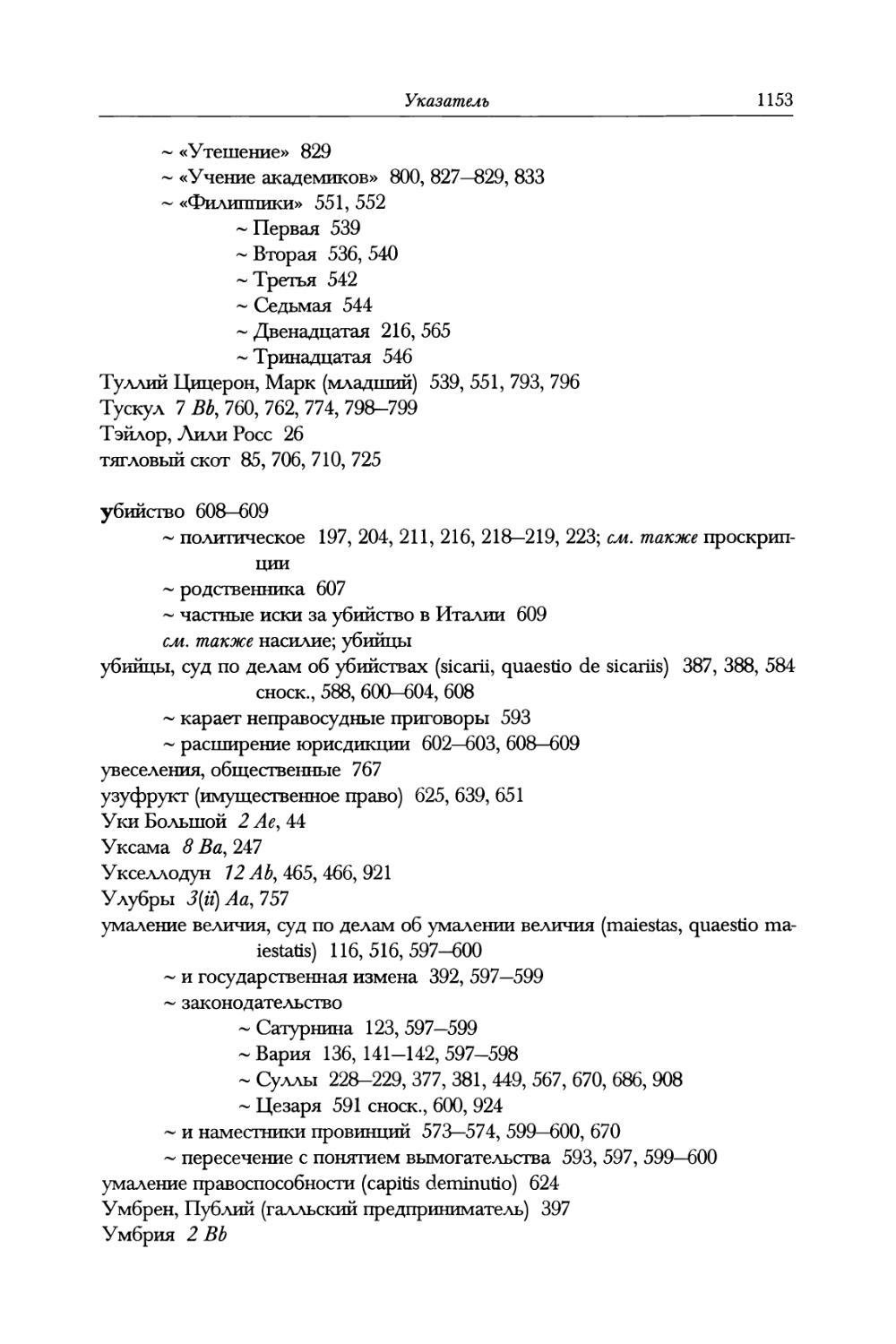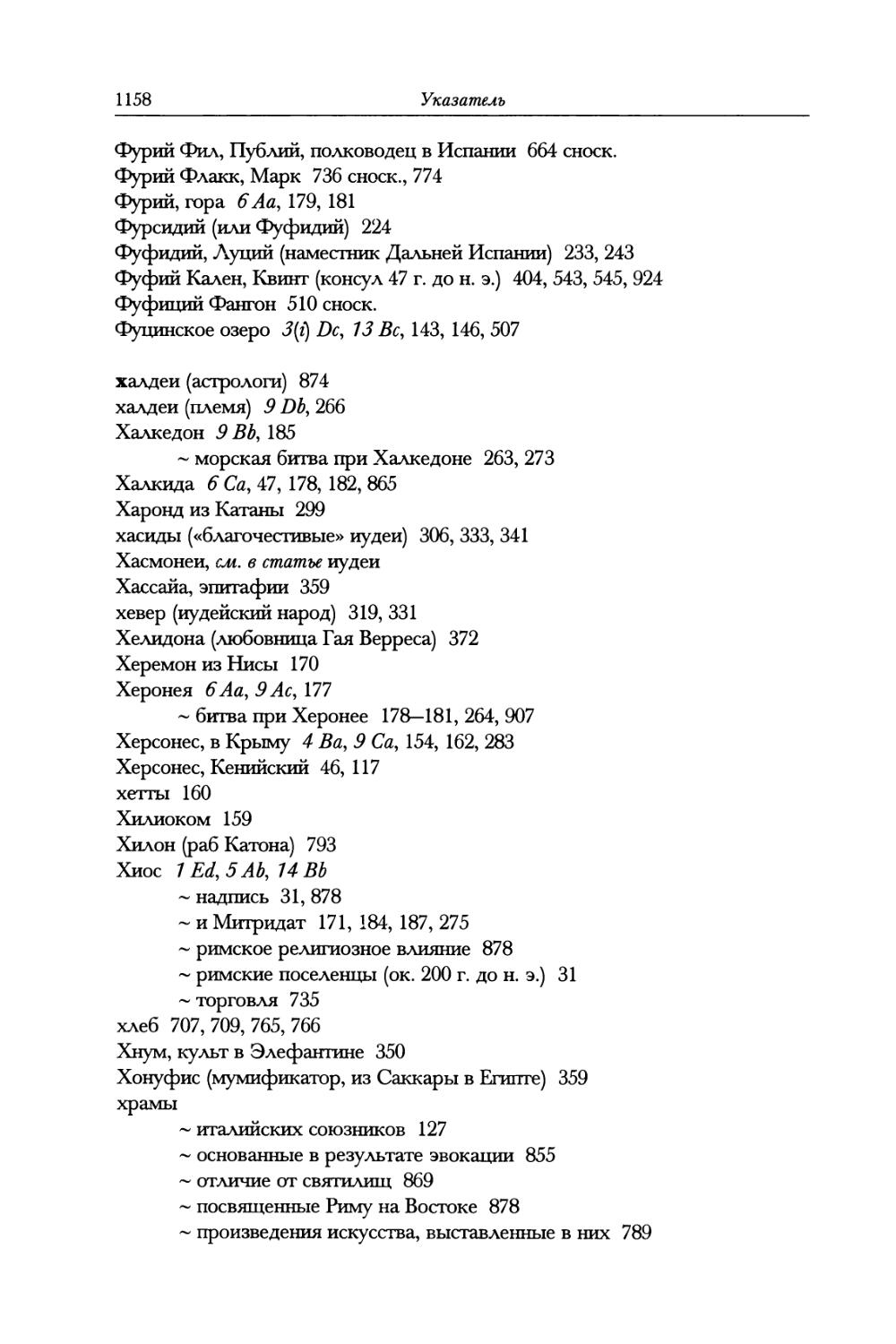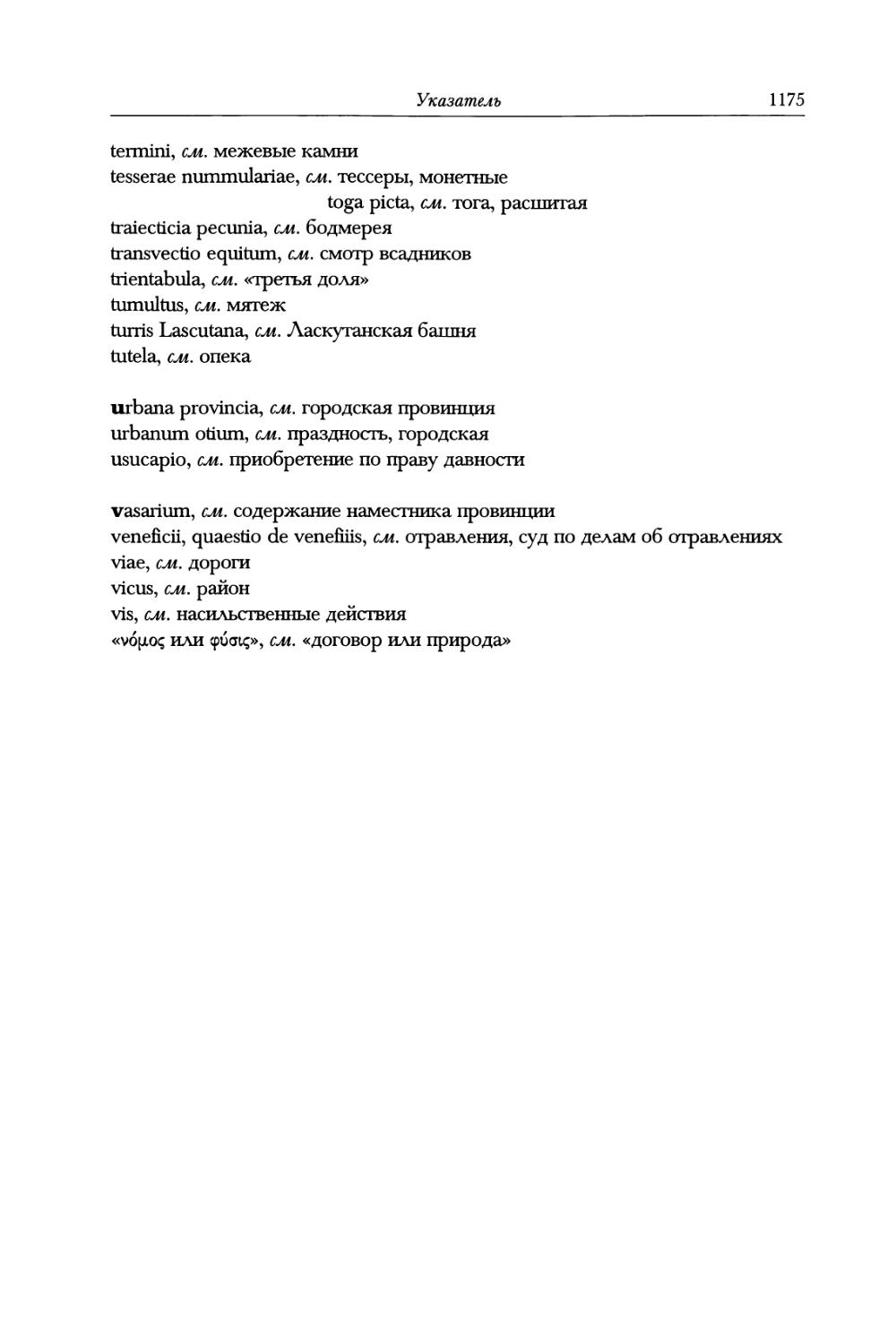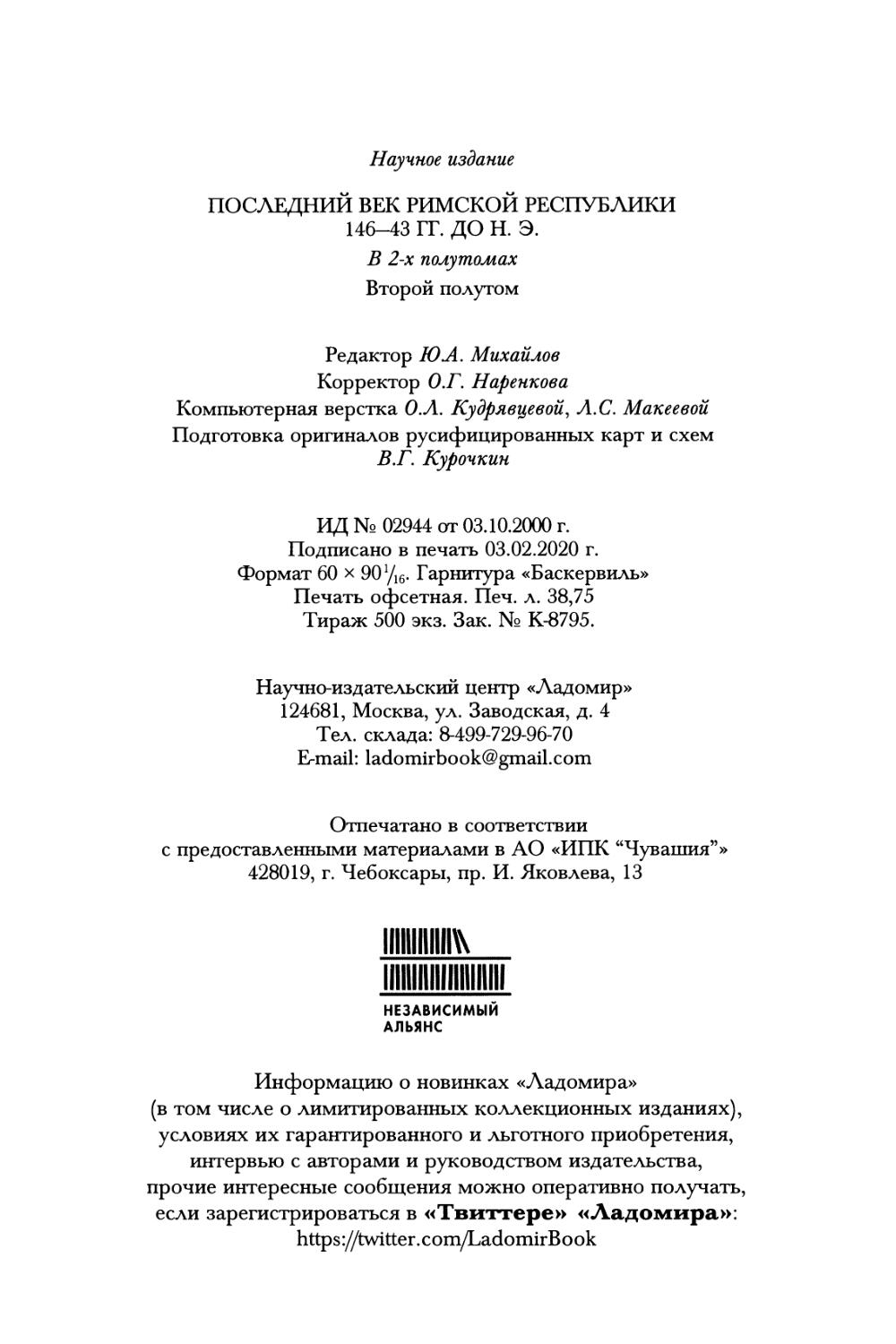Автор: Линтотт Э. Роусон Э. Крук Дж. А.
Теги: история кембриджская история древнего мира
ISBN: 978-5-86218-587-4
Год: 2020
Похожие
Текст
КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
ТОМ IX Второй полутом
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY
SECOND EDITION VOLUME IX
THE LAST AGE OF THE ROMAN REPUBLIC 146-43 B.C.
Edited by
J.A. CROOC Fellow of St John’s College
and Emeritus Professor of Ancient History, Cambridge
ANDREW ΠΝΤΟΤΤ Fellow and Tutor in Ancient History,
Worcester College, Oxford
The late
ELIZABETH RAWSON Formerly Fellow and Tutor in Ancient History, Corpus Christi College, Oxford
КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
TOMIX
Второй полутом
ПОСЛЕДНИЙ век РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 146-43 ГГ. ДО Н. Э.
Под редакцией
ДЖ.-А. КРУКА, Э. ЛИНТОТТА,
Э. РОУ СОН
ЛАДОМНр
Научно-издательский центр «Ладомир»
Москва
Перевод
О.В. Любимовой
ISBN 978-5-86218-587-4 ISBN 978-5-86218-589-8 (пД 2)
© Cambridge University Press, 1994.
© Любимова О.В. Перевод, 2020 © Таривердиева С.Э. Перевод, 2020. © НИЦ «Ладомир», 2020.
Репродуцирование (<воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательствам запрещается
Часть вторая
Глава 13
Д. Клауд
КОНСТИТУЦИЯ И ПУБЛИЧНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО
I. Римская конституция
В каком смысле можно говорить о «римской конституции»? Ясно, что в Риме не было писаной конституции, наподобие той, что впервые в современном мире появилась в 1787 г. в Соединенных Штатах, но имелась ли в Риме конституция в широком смысле слова, который мы используем, говоря о британской конституции? Ответ будет «и да, и нет». В 1734 г. Бо- лингброк («Рассуждение о партиях», письмо 10, в начале) предложил рабочее определение:
Под конституцией мы подразумеваем, выражаясь правильно и точно, ту совокупность законов, институтов и обычаев, восходящих к определенным установленным принципам рассуждения в отношении определенных установленных объектов общественного блага, составляющих общую систему, в соответствии с которой (совокупностью) сообщество соглашается быть управляемым.
Поразительно, что Цицерон, рассматривая вопросы, которые мы назвали бы «конституционными», ссылался на «совокупность», если использовать термин Болингброка, которая была бы вполне понятна и этому последнему, и его читателям. Например, когда в марте 43 г. до н. э. оратор желал доказать, что Марк Лепид, будущий триумвир, управлявший тогда Нар- бонской Галлией и Ближней Испанией, не мог командовать войском, полагаясь лишь на собственное усмотрение, то сказал:
Никому не дозволено вести войско против своего государства, если под дозволенным мы понимаем (si licere id dicimus) то, что разрешено законами (legibus) и обычаями и установлениями наших предков (more maiorum institutisque)1.
Цицерон. Филиппики. ХШ.14.
566
Часть Π
Иногда Цицерон добавлял понятие «ius», означающее нечто вроде «права» или «справедливости». Так, например, нападки Луция Аврелия Котгы на Клодия за то, что последний добился изгнания Цицерона недопустимыми средствами, оратор характеризовал в целом следующим образом:
Луций Котта <...> сказал <...> что всё предпринятое против меня было сделано вопреки праву (iure), обычаю предков, законам; никто не может быть удален из среды граждан без суда; только в центуриатских комициях возможно, не говорю уже — вынесение приговора, но даже предложение законов о лишении гражданских прав. Но в ту пору господствовало насилие <...>2.
Еще один элемент, входивший в состав, как сказали бы мы, конституционных рассуждений, — это прецедент (exemplum): Цицерон осуждал Габи- ния, наместника Сирии, за оккупацию им Александрии, поскольку последнее воспрещали обычаи предков (mos maiorum), прецеденты (exempla) и законы, предусматривавшие суровейшие наказания3.
Во всех этих случаях Цицерон, как представляется, рассматривал конституционные вопросы в чисто британской манере. Но существует одно глубокое различие: Цицерон не употреблял слова «конституция»; в латинском языке не существует однозначного синонима этого слова. Слово «respublica», которое иногда переводят как «конституция», на самом деле ближе к понятиям «государство» и «сообщество», о чем свидетельствуют выражения «e re publica» и «contra rem publicam», означающие, соответственно, «сообразно интересам государства» и «вопреки интересам государства». Конечно, в некоторых случаях может возникнуть соблазн перевести выражения «iure» или «more maiorum» как «конституционно», но всегда следует помнить, что «ius» и «mos maiorum» — лишь составляющие всеобъемлющего понятия «конституция», которым пользуемся мы, но не пользовались римляне. Греческие слова «πολιτεία» и «πολίτευμα», которые могут иметь значение «форма правления», легче перевести термином «конституция», и, несомненно, рассуждения о римской конституции кажутся нам столь естественными именно потому, что эти греческие слова Полибий использовал в своем знаменитом рассказе об организации Римского государства (VI. 11—18). Однако если мы хотим понять, как римляне воспринимали право и управление, нам следует научиться мыслить как римляне. А это будет иметь некоторые последствия.
Во-первых, как мы уже видели, Цицерон, рассматривая «конституционные» вопросы, обычно включал в список базовых понятий обычаи 1уйли установления предков. Но, когда правит обычай, нововведение по опреде¬
2 Цицерон. В защиту Сестия. 73 [Перев. В.О. Горенштейна, с правкой). Перевод выражения «de civitate tolli» как «удален из среды граждан» подтверждается следующими пассажами Цицерона: В защиту Росция Америйского. 3; В защиту Клуенция. 79; В защиту Сестия. 42; О консульских провинциях. 46. Мне не удалось найти случаев, где выражение «de civitate tollere» использовалось бы в значении «лишить гражданства», как толкуют его переводчики серий «Bude» и «Loeb».
3 Цицерон. Против Пизона. 50.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
567
лению вызывает подозрения. Поэтому, для того чтобы конституционная реформа вызывала уважение, она должна быть представлена как возвращение к некой норме, действовавшей у предков; если в исторических хрониках такую норму найти нелегко, то в подходящий контекст приходится помещать прецеденты из далекого республиканского прошлого или выдумывать весь контекст вместе с прецедентом. Примечательно, что два важных «конституционных» нововведения, относящихся к рассматриваемому в данной главе периоду, — Семпрониев закон о правах гражданина (lex Sempronia de capite civis) и чрезвычайное постановление сената (senatus consultum ultimum), — были снабжены вымышленными родословными, восходящими к эпохе Ранней республики4.
Отсутствие у римлян сколько-нибудь четкого понятия конституции создает вторую проблему, а именно: что именно включать в это понятие? Преступления, совершенные Габинием и задуманные Лепидом, на самом деле представляли собой нарушения Корнелиева закона об умалении величия (lex Cornelia maiestatis) и Юлиева закона о вымогательствах (lex Iulia repetundarum); законы о насилии (leges de vi) карали целый ряд преступлений, нацеленных на воспрепятствование работе магистратов или сената. С точки зрения римлян, такого рода деяния нарушали публичное право (ius publicum), и к концу рассматриваемого здесь периода разбором подобных правонарушений занимались несколько постоянных уголовных судов (quaestiones perpetuae). Такие преступления мы обсудим в следующем разделе данной главы, здесь же займемся некоторыми «конституционными» институтами или установлениями, не предполагавшими обращения к постоянным уголовным судам. Почти все они затрагивали caput гражданина — это слово в данном контексте можно перефразировать примерно как «жизнь и гражданские права», а главный вопрос состоял в том, в какой мере жизнь гражданина является священной и неприкосновенной. Буквальное значение слова «caput» — «голова». «Голова» как самая важная часть тела стала означать «жизнь», а затем уже — «гражданские права», ибо лишенный их гражданин переставал существовать как гражданин. Слово «caput» могло означать даже «статус свободного человека». Этот комплекс значений засвидетельствован для II в. до н. э.5 и, вероятно, возник в ходе естественного развития языка. Утрата caput вызывала эмоции, но эмоции вполне определенные. Абсурдно было бы приписывать римлянам, жившим в рассматриваемый период, тотальный ужас перед убийством вообще и даже перед убийством римских граждан. Но при этом эмоции накалялись, если с гражданином обращались как с рабом. Магистрат, обладавший высшими судебными полномочиями (соег-
4 См. эпизод, придуманный, чтобы бросить тень на обычай сената учреждать чрезвычайные суды для разбора преступлений, караемых смертной казнью: Ливий. IV.50—51 (414—413 гг. до н. э.); более яркую историю, сочиненную отчасти в защиту этого обычая, см.: Ливий УШ.18 (331 г. до н. э.).
5 «Caput» в значении «жизнь» см.: Теренций. Девушка с Андроса. 677; возможно, также: Плавт. Ослы. 132; caput в значении «гражданские права» см.: Плавт. Псевдол. 1232; caput в значении «статус свободного человека» см.: Плавт. Купец. 153.
568
Часть Π
citio), на основании последних мог приказать высечь или казнить раба, но ни того, ни другого не мог сделать — без надлежащего судебного процесса — с гражданином, вероятно, даже в том случае, если этот гражданин состоял на действительной военной службе6. Такая защита от произвольного применения власти магистратом называлась обжалованием перед народом («provocatio ad populum»). Вслед за Моммзеном мы привыкли думать об обжаловании как об апелляции к верховному суду, в данном случае — к центуриатным комициям. Но это слишком формальное представление об обжаловании; нет никаких свидетельств о том, что кто-либо из граждан «апеллировал» к комициям против магистрата, приговорившего этого гражданина к бичеванию или смерти. Право гражданина на обжалование представляло собой требовательное напоминание каждому магистрату, попытавшемуся высечь или казнить гражданина без суда, о том, что такие действия оскорбляют само понятие римского гражданства. Обычно забота о собственной репутации (existimatio) и страх перед насилием сочувственно настроенной толпы — «народа», к которому взывал гражданин в опасности и который временами готов был его поддержать7, — останавливал тиранически настроенного магистрата; но если наместник, подобный Верресу, решительно игнорировал толпу и казнил римского гражданина, как Веррес казнил Публия Гавия из Козы, то ему невозможно было помешать и невозможно было покарать его за это. Тем не менее понятие обжалования (provocatio) всё же несло достаточно весомую эмоциональную нагрузку, чтобы обосновать гиперболы Цицерона8. Однако вряд ли в рассматриваемый в настоящем томе период принимались какие-либо законы об обжаловании перед народом; знаменитый Порциев закон (Lex Porcia) был проведен либо Катоном Старшим в 195 г. до н. э., либо трибуном 199 г. до н. э. Публием Порцием Лекой9.
Не только отдельные лица могли поставить под угрозу caput гражданина. Когда Гай Гракх провел свой закон о правах гражданина (de capite
6 Ливий. Х.9.4. В 122 г. до н. э. Ливий Друз предложил предоставить латинам, даже состоящим на военной службе, право апелляции к народу (provocatio) для защиты от бичевания (Плутарх. Гай Гракх. 9), а значит, римляне тем более уже имели такую защшу от смертной казни и порки во время военной службы. О других свидетельствах см.: Jones А.Н.М. 1972 (F 89): 23—25. Но, судя по тому, что в I в. до н. э. римские солдаты часто подвергались децимации (см.: Плутарх. Красе. 10; Светоний. Август. 24.2; Дион Кассий. XLI.35), к этому времени их право апелляции практически обесценилось, а при Августе было формально отменено Юлиевым законом о насилии (Lex Iulia de vi; Павел. Сентенции. V.26.2).
7 Ливий (П.55) впечатляюще описывает, какой реакции тиранический магистрат мог ожидать от окружающих людей, сочувствовавших его жертве.
8 В трактате «Об ораторе» (П.199) он характеризует обжалование как «опору общины и защиту свободы» («patronam illam civitatis ас vindicem libertatis». Перев. ФА. Петровского).
9 Скудные свидетельства указывают на то, что автором этого закона был Катон Цензор; выражения Ливия (Х.9.4) перекликаются с фрагментом речи Катона Старшего (Фест. С. 266 Lindsay). С другой стороны, знаменитый денарий, отчеканенный около 110 г. до н. э. Публием Порцием Лекой (см.: Crawford 1974 (В 144): 313—314), подкрепляет гипотезу о том, что автором Порциева закона был его тезка, трибун 199 г. до н. э. Не исключено и то, что существовало два закона.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
569
civis), устанавливавший, что гражданин не может быть приговорен к смерти без санкции народа, этот правовой акт не стал еще одним законом о обжаловании, ибо был направлен не против деспотичного магистрата, но против чрезвычайных судов, самостоятельно создававшихся сенатом без санкции народного собрания;10 этот институт стал неоднозначно восприниматься в обществе, после того как в 132 г. до н. э. подобная комиссия была учреждена для наказания и казни сторонников Тиберия Гракха, брата Гая. Семпрониев закон (Lex Sempronia) усложнил процедуру создания чрезвычайных судов и тем самым, возможно, дал толчок развитию регулярных уголовных судов, которые являются главным предметом настоящей главы; ведь такие суды учреждались статутами, принимаемыми в народном собрании, и не противоречили гракханскому закону. Однако, согласно общепринятой сегодня и правдоподобной интерпретации событий, опти- маты обратились в ответ к другому обычаю (mos) — к традиции, согласно которой в чрезвычайной ситуации консулы должны были обеспечить безопасность государства11. Действительно, в 133 г. до н. э. сенат призвал консула Публия Муция Сцеволу защищать государство с помощью вооруженной силы, но тот отказался, и Сципион Назика расправился с Тиберием Гракхом самочинно. В аналогичных обстоятельствах в 121 г. до н. э. консул Луций Опимий откликнулся на призыв сената, что привело к гибели Гая Гракха и множества его сторонников. Такое решение сената, уполномочивающее консулов защитить государство в условиях чрезвычайного положения, сегодня известно как чрезвычайное постановление сената («senatus consultum ultimum», далее: SCU). Вероятно, в эпоху Республики это выражение никогда не было техническим термином; оно подразумевает строгую процедуру и формулировку, о чем нет свидетельств в античных источниках; формулировки SCU отличаются как числом, так и статусом магистратов, которых сенат призывал действовать. Начиная с 88 г. до н. э. определенные лица обычно поименно объявлялись врагами государства (hostes), но не в SCU, а в особых постановлениях сената. Например, в 63 г. до н. э., когда назревал заговор Каталины, SCU было принято в октябре, но постановление об объявлении Каталины и его военачальника Манлия врагами государства — лишь в следующем месяце. Иногда сенат объявлял военное положение (tumultus), а иногда предписывал провести военный набор граждан12. Тем не менее все случаи чрезвы¬
10 См.: Stockton 1979 (С 137): 117—121, а также приведенные на указанных страницах ссылки.
11 См.: Lintott 1968 (А 62): 159-168; Strachan-Davidson 1912 (F 150) 1: 240-245.
12 В 77 г. до н. э. SCU было адресовано интеррексу, проконсулу и другим обладателям империя (Саллюстий. История. I.77.22M). Такое же SCU было принято и в 52 г. до н. э. (Асконий. 34С). В 121 г. до н. э. сенат обратился только к консулу (Цицерон. Филиппики. \ТП.14). Военное положение (tumultus) было объявлено в 77 г. до н. э. (Саллюстий. История. I.69M; Ш.48.9М), в 63 г. до н. э. (Дион Кассий. XXXVTL31.1), в 49 г. до н. э. (Дион Кассий. ХЫ.З.З) и в 43 г. до н. э. (Цицерон. Филиппики. УШ.2—3; XIV.2). О военном наборе в 43 г. до н. э. см.: Цицерон. Филиппики. \ТП.32; по-видимому, набор проводился и в 63 г. до н. э. (Дион Кассий. ХХХУП.ЗЗ.З, 40.2; Цицерон. Против Катилины. IV. 17). См. также ссылки в сноске 19 насг. гл.
570
Часть Π
чайного постановления сената имеют достаточно заметное родовое сходство, и аббревиатуру SCU вполне можно использовать как удобное сокращение. В первый раз SCU было принято в 121 г. до н. э., в последний — в 43 г. до н. э.13.
Не имеет особого смысла задаваться вопросом о том, являлось ли SCU «конституционным» инструментом. Ибо, если считать обжалование (provocatio), учрежденное Порциевым законом, конституционным правом римского гражданина, то в 121 г. до н. э. Опимий, несомненно, его нарушил и, будучи привлечен за это к суду народа, заслуживал осуждения. Тем не менее Опимий был оправдан14. Гораздо продуктивнее говорить о конфликте двух римских традиций: право гражданина на судебное разбирательство в делах, затрагивающих его caput, и право общины принимать любые меры для самозащиты от разрушения. Второе право имело более фундаментальный характер, вот почему командир имел право без суда казнить гражданина, состоящего на военной службе (militia), невзирая на право обжалования. Но, поскольку эти «права» представляли собой скорее внутренние ощущения, нежели конституционные гарантии, одно и то же действие могло сегодня считаться легитимным, а спустя несколько лет, когда общественные настроения менялись, — преступным, как на собственном горьком опыте убедился Цицерон. Следует сделать два замечания относительно SCU. Во-первых, формально оно не давало консулам или любым другим названным в нем должностным лицам никаких полномочий, которыми они ранее не обладали15, но давало им нечто большее, чем просто моральную поддержку для принятия наиболее суровых мер. К моральной поддержке SCU не сводилось по двум причинам: при его принятии, во- первых, сенат как верховный государственный совет признавал, что налицо чрезвычайное положение; во-вторых, выступая в своей традиционной роли совета (consilium) при высших магистратах, сенат оказывал сильнейшее давление на этих магистратов, требуя от них действовать в соответствии с суждением сената («de consilii sentential»). Ибо, как мы далее увидим, обычно считалось, что лица, обращающиеся за консультацией к совету (consilium), должны последовать его рекомендации.
Второе замечание, которое следует упомянуть, заключается в том, что SCU принималось таким образом, чтобы позволить магистратам казнить граждан по суду или без суда. Граждане, приговоренные к смертной казни, крайне редко расставались с жизнью: они утрачивали свою гражданскую личность, поскольку им запрещалось возвращаться в отечество (что фактически было равносильно изгнанию), и принимали гражданство какой-либо другой общины16, но физически их никто не умерщвлял,
13 Перечень SCU см.: Greenidge 1971 (F 68): 400—406. Еще одним примером может быть судьба Квинта Сальвидиена Руфа в 40 г. до н. э. (Веллей Патеркул. П.76.4) (ср.: Дион Кассий. ХУШ.ЗЗ.З. — О.Л).
14 Ливий. Периохи. 61; Цицерон. В защиту Сестия. 140.
15 Это убедительно показал Ласт (САН IX1: 84—85), на которого ссылается Линтотт (Iintott 1968 (А 62): 156-157).
16 Цицерон. В защиту Цецины. 100; Цицерон. О своем доме. 78.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
571
что отмечается в речи, которую Саллюстий вложил в уста Цезаря в изложении дебатов о судьбе сообщников Каталины17. Гораздо более приемлемой считалась казнь врагов государства (hostis publicus); когда гражданина объявляли таковым, его приравнивали не просто к гражданину иноземного государства (как происходило с римлянами, лишенными права вернуться в Рим), но к гражданину открыто враждебного государства. Данную мысль иллюстрируют проскрипции Суллы (82—81 гг. до н. э.) и триумвиров (43—42 гг. до н. э.). При введении в действие этих проскрипций соответствующий закон или триумвиры в силу предоставленных им полномочий18 не просто лишили проскрибированных гражданской личности и собственности, но и объявили их врагами государства (hostes publici), то есть эта люди были казнены именно в силу того, что получили статус врагов. Несомненно, именно ввиду указанного отношения к казни врагов государства сенат, начиная с 88 г. до н. э., обычно дополнял SCU решением об объявлении определенных лиц врагами (hostes); возможно, этим же объясняется и поведение Цицерона, который во время дебатов 5 декабря 63 г. до н. э. как можно формальнее обращался к сенату как к своему совету (concilium); ибо к тому времени объявление определенных лиц врагами настолько вошло в обычай, что могло показаться, будто тех, чьи имена не прозвучали, сенат считал не столь гнусными негодяями, как поименованных18а. Более того, тогда в числе потенциальных жертв SCU впервые оказался консуляр, а именно Публий Лентул Сура, консул 71 г. до н. э.19.
Обратимся теперь к немногочисленным переменам, затронувшим римские магистратуры. Большинство из тех нововведений связано с Сул- лой. В 82 г. до н. э. Сулла возродил диктатуру в новой форме, несколько отличной от той диктатуры, которая в последний раз наблюдалась в Риме в 202 г. до н. э.; ранее максимальная продолжительность этой должности составляла шесть месяцев, но диктатура Суллы не имела временных ограничений. С другой стороны, если верить довольно правдоподобному рассказу Аппиана20, новая диктатура имела и нечто общее со старой — определенную цель: «<...> для проведения законопроектов, которые сочтет нужным, и для упорядочения государственного строя» («έπί... καταστάσει τής πολιτείας»). Это греческое выражение Аппиана — явная попытка перевести традиционный латинский титул «диктатор для составления закона и обустройства государства» («dictator legibus scribundis et reipublicae con-
17 Саллюстий. О заговоре Катилины. 51.22.
18 В случае Суллы это был Валериев закон (lex Valeria, см.: Цицерон. В защиту Росция Америйского. 125); полномочия триумвиров были регламентированы Тициевым законом (lex Titia), принятым в 43 г. до н. э.
18а Цицерон опасался, что если он в условиях SCU казнит арестованных сторонников Катилины, которых сенат не объявил врагами, то его действия будут сочтены неправомерными и впоследствии он может подвергнуться судебному преследованию.
19 Об объявлении Катилины и Манлия врагами см.: Саллюстий. О заговоре Катилины. 36.2; о попытках Цицерона распространить статус врага и на Публия Корнелия Лентула Суру см.: Цицерон. О заговоре Катилины. IV. 10, 22.
20 Аппиан. Гражданские войны. 1.99.
572
Часть Π
stituendae»), а поскольку Сулла действительно издал множество законов и упорядочил государство, Аппиан, вероятно, прав относительно характера диктатуры Суллы. Сулла ближе, чем любой другой законодатель, за исключением, пожалуй, Августа, подошел к созданию римского уголовного кодекса, но активно действовал и в той сфере, которую мы сегодня назвали бы конституционным правом: он увеличил число квесторов с восьми до двадцати, сделал квестуру обязательной для тех, кто желал занять высшие должности, и, вероятно, установил минимальный возрастной порог для занятия должности квестора — тридцать лет21. Число квесторов Сулла нарастил, чтобы обеспечить регулярный приток свежей крови в сенат. Часто утверждается, что Сулла упразднил цензуру, но единственное свидетельство в пользу этого — тот факт, что между 82 и 70 гг. до н. э. цензоры не избирались. Однако предполагать, что Сулла ликвидировал цензуру полностью, было бы несколько опрометчиво. Диктатуру он использовал как своего рода суперцензуру; он обеспечил регулярное пополнение сената, но не предусмотрел механизмов ни для изгнания тех, кто проявил себя недостойным этого сословия, ни для проведения периодических переписей населения; видимо, эти функции по- прежнему должны были выполнять цензоры. Исследователи также пишут, что Сулла увеличил число преторов с шести до восьми22, как предполагается, ради того, чтобы председателями постоянных уголовных судов (quaestiones perpetuae), которые он создал или реорганизовал, становились лишь граждане, пользовавшиеся авторитетом в обществе. Сулла резко ограничил права трибунов;23 в 70 г. до н. э. их права были восстановлены, но их бессилие на протяжении десятилетия имело один долговременный эффект: постоянные судебные комиссии (quaestiones perpetuae), учрежденные Суллой, фактически заменили народное собрание в качестве уголовного суда. Хотя в 70 г. до н. э. трибуны вновь обрели право возбуждать уголовные обвинения в народном собрании, они делали это, судя по всему, редко.
Последняя «конституционная» тема, требующая некоторых разъяснений, — это империй (imperium). Поздняя Республика столкнулась с двумя потенциально несовместимыми потребностями: с одной стороны, ей требовалось адаптировать для нужд империи институты, приспособленные для управления городом-государством, ведь, учитывая отношение римлян к нравам и установлениям предков (mos и instituta maiorum), здесь неиз¬
21 Об увеличении числа квесторов и цели этого мероприятия см.: Тацит. Анналы. XI.22; о квестуре как обязательном этапе должностной карьеры (cursus honorum) см.: Аппиан. Гражданские войны. 1.100. Вывод о том, что Сулла установил минимальный возраст квестуры в тридцать лет, сделан на основании свидетельства Цицерона [Филиппики. V.46). См., однако, мнение Р. Сигера в гл. 6, с. 228.
22 Свидетельства об этом мероприятии Суллы являются косвенными и неоднозначными (см.: Cloud 1988 (F 37)).
23 Судя по всему, Сулла лишил трибунов права созывать сенат (хотя источники прямо этого не сообщают), ограничил их право интерцессии (Цицерон. Против Берреса. П. 1.155) и лишил их права законодательной инициативы (Ливий. Периохи. 89; в защиту этого свидетельства см.: Keaveney 1982 (С 88): 186—187 примеч. 3; Ferrary 1985 (F 52): 440-442).
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
57 3
бежно следовало ожидать адаптации, а не нововведений; с другой стороны, необходимо было найти какие-то средства, препятствующие чрезмерно могущественным магистратам, промагистратам и частным лицам ниспровергнуть республиканскую систему правления путем какого-либо переворота. Первая проблема решалась двумя путями: во-первых, отдельным лицам предоставлялся империй (imperium, административная власть высших магистратов) для определенной цели и на определенной территории; так, например, Марк Антоний в 74 г. до н. э. и Помпей в 67 г. до н. э. получили империй, охватывавший всё Средиземноморское побережье, а в случае Помпея — и сушу на пятьдесят миль вглубь от моря, чтобы разделаться с пиратами. Однако их империй не был выше, чем империй любого провинциального наместника, чьи полномочия пересекались с ними; он лишь покрывал более обширную географическую территорию. В свое консульство без коллеги Помпей обладал высшим империем по сравнению с остальными магистратами, но консульство, во всяком случае, было ограничено одним годом, и продлить высшую власть Помпея сверх этого срока было невозможно без использования законодательных инструментов.
Гораздо более спорным оказалось второе решение этой проблемы, предложенное Суллой и Цезарем, то есть диктатура, ибо империй диктатора превосходил империй всех остальных магистратов и диктатура Сул- лы, предоставленная на неопределенный срок, противоречила традициям; однако, поскольку она была предоставлена ради определенных и традиционных целей, а именно проведения законов и упорядочения государства, предполагалось, во всяком случае, что, когда Сулла выполнит эти задачи, он сложит с себя диктатуру, что в действительности и произошло. Однако в сравнении с диктатурой Суллы последние две диктатуры Цезаря были еще более нетрадиционными и, следовательно, еще более неприемлемыми с точки зрения нравов и обычаев предков (mos maiorum): третья диктатура Цезаря, предоставленная ему после битвы при Тапсе в 46 г. до н. э., не имела определенных задач и должна была продлиться десять лет, что шло вразрез с традициями (хотя, по-видимому, она должна была ежегодно возобновляться); четвертая диктатура, предоставленная ему в 44 г. до н. э., пошла еще дальше: она не только имела общий характер, но и должна была продлиться пожизненно. Это последнее новшество давало Цезарю власть дореспубликанского царя и, таким образом, в совокупности с другими его мерами, проанализированными в другой главе настоящего тома, бросало вызов всей республиканской традиции; именно поэтому тираноубийство — само по себе традиционное понятие — показалось его противникам подходящим выходом.
Поздняя Республика не справилась со второй проблемой — всемогуществом магистратов, промагистратов и частных лиц. Более того, меры, описанные в предыдущем абзаце, лишь усугубили ее. Принимая во внимание карьеры Суллы и Цезаря, парадоксальным выглядит то, что они оба пытались ужесточить законы, регулирующие поведение наместников провинций (законы об умалении величия римского народа (maiestatis) и о вы¬
574
Часть Π
могательствах (repetundarum)), а Сулла вновь подтвердил старые нормы, регулировавшие порядок занятия магистратур24. Но изобретать методы решения этой проблемы выпало на долю Августу, и его методы успешно работали на протяжении целого века.
II. Публичное право (ius publicum)
Здесь нас поджидает трудность, противоположная той, которую мы встретили в начале данной главы: если у римлян не было слова, точно соответствующего нашему понятию «конституция», то у нас нет слова, эквивалентного римскому выражению «ius publicum». Цицерон часто использовал это выражение, но не давал ему определения25. Из пассажа в одном из его риторических трактатов можно сделать несколько заключений:26 во- первых, публичное право противопоставляется частому, которое, в свою очередь, фактически приравнивается к гражданскому праву; во-вторых, сфера публичного права определяется интересами, функциями и устройством государства. На практике публичное право (ius publicum) состояло из конституционного, административного и уголовного права. Оно могло включать даже религиозное право27. Таким образом, оно не эквивалентно нашему статутному право, ибо религиозное право редко бывало результатом деятельности законодателей. Для британского историка это представляет проблему: мало того, что в английском выражение «public law» звучит странно, и неудивительно, что его французского или итальянского аналога (вроде «droit public» либо «diritto pubblico») не существует, но не существует и термина, обозначающего нарушение публичного права. Когда римские юристы ощутили потребность в таком термине, они стали использовать слово «crimen» (в постцицероновой латыни оно действительно означает «преступление») и однокоренные ему слова28.
Главной особенностью римского публичного права в рассматриваемый в настоящей главе период стало учреждение ряда постоянных судов (quaestiones perpetuae), юрисдикция которых включала преимущественно уголовные преступления, хотя один из этих судов полностью, а два отчасти занимались нарушениями конституции. Так или иначе, далее мы
24 Сулла, скорее всего, подтвердил существующие правила, которые устанавливали минимальный возраст для занятия курульных должностей (тридцать шесть лет — для эдилитета, тридцать девять — для претуры и сорок два — для консульства) и предписывали двухлетний интервал между отправлением этих должностей и десятилетний интервал перед повторным занятием одной и той же должности (Аппиан. Гражданские войны. 1.100).
25 Цицерон. В защиту Бальба. 34, 64; Цицерон. Брут. 222, 267, 269; Цицерон. О своем даме. 33, 34, 128, 136; Цицерон. Письма к близким. IV.4.3, 14.2; VI. 1.5; Цицерон. Об ответах гаруспиков. 14; Цицерон. В защиту Милона. 70; Цицерон. Об обязанностях. 1.64; Цицерон. Об ораторе. 1.201, 256; Цицерон. О государстве. 1.3; Цицерон. Против Ватиния. 18.
26 Цицерон. Об ораторе. 1.201.
27 См. прежде всего: Цицерон. О своем доме. 136.
28 Об этой практике ранних юристов см.: Schulz 1946 (F 268): 72—74. «Crimen» в значении «преступление» см.: Кодекс Феодосия. 1.12; Дигесты. 48.1.1.39.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
575
будем называть их «уголовными судами», а сферу их ведения — «уголовными преступлениями», поскольку эти термины применимы к основной части их деятельности (так принято в англоязычных исследованиях данного вопроса2821). Первый из этих постоянных судов был учрежден в 149 г. до н. э., но, поскольку преступления начались гораздо раньше, первым делом следует кратко рассмотреть, каким образом римская община карала тяжкие противоправные деяния — до того, как ими занялись постоянные суды.
В 149 г. преступления могли караться пятью разными способами.
1. Юрисдикция,
основанная на власти отца семейства (patria potestas)
Самой примитивной и, пожалуй, самой живучей формой правосудия была домашняя власть отца семейства (pater familias). С древнейших времен мужчина, являвшийся главой семьи, обладал абсолютной отцовской властью (patria potestas) не только над своими рабами и вольноотпущенниками, но и над всеми подвластными ему сыновьями и дочерьми. Эти права отца семейства были старше законов и проистекали из нравов и обычаев предков (mos maiorum);29 поэтому не совсем корректно говорить о домашнем «суде» отца семейства или его «юрисдикции». Тем не менее его разбирательство в случаях, когда один из членов его расширенного домохозяйства (familia) подозревался в совершении преступления (в большинстве случаев, но далеко не всегда, — против другого члена домохозяйства30), обычно принимало форму неофициального судебного процесса. Как правило, он приглашал друзей выступить в роли совета (consilium) и, как правило, следовал их рекомендациям. То и другое от него ожидалось, но необходимо подчеркнуть, что окончательное решение оставалось за ним; он не был безусловно обязан созвать совет или принять его рекомендацию словно окончательный вердикт присяжных.
2. Уголовные триумвиры (Шуш capitales)
Обращаясь далее к примерам юрисдикции в строгом смысле слова, мы обнаруживаем еще один институт, сосуществовавший с постоянными уголовными судами, — институт уголовных триумвиров (Шуш capitales). Эти
28а В английском языке, соответственно, «criminal courts» и «crime». — О.Л.
29 Дионисий Галикарнасский (Рижские древности. П.26) утверждал, что Ромул предоставил отцу семейства власть над жизнью и смертью («ius vita necisque»), а Папиниан (Сопоставление законов Моисеевых и римских. IV.8.1) полагал, что эти права были предоставлены законом царского времени. Римляне явно считали, что власть отца семейства — институт едва ли не столь же древний, как сам Рим. См.: Lacey 1986 (F 231); Harris 1986 (F 212).
30 Во П—I вв. до н. э. отцы семейства разбирали дела не только об инцесте с мачехой (Валерий Максим. V.9.1) и попытке отцеубийства (Сенека О милосердии. 15.1), но и о вымогательствах в Македонии (Валерий Максим. V.8.3).
576
Часть Π
младшие магистраты, чьей главной задачей был надзор за тюрьмами и казнями, обладали юрисдикцией в отношении рабов и имели право приговаривать их к смерти31. Также не вызывает сомнений, что они обладали какой-то уголовной юрисдикцией в отношении граждан; Цицерон описывает случай, когда триумвир произвел первичное расследование в отношении гражданина, подозреваемого в убийстве32. Поскольку в рассказе Цицерона триумвир прекратил за взятку следствие, трудно сказать, как далеко могла зайти эта процедура, если бы он решил ее продолжить, но еще одно свидетельство предполагает, что в определенных обстоятельствах триумвир имел полную уголовную юрисдикцию в отношении граждан. Варрон сообщает, что в деле борьбы с преступностью (maleficia) триумвиры взяли на себя функции, ранее выполнявшиеся квесторами по делам об отцеубийстве33. Эти квесторы карали уголовные преступления, совершенные гражданами против граждан, прежде всего убийства; отсюда и название должности — квестор по делам об отцеубийстве34. Сменившие квесторов триумвиры обладали аналогичной юрисдикцией в отношении граждан. Однако крайне маловероятно, чтобы эти младшие магистраты могли судить граждан, имевших хотя бы мало-мальски значимое положение в обществе, в том упрощенном порядке, который подразумевается у Плавта35, особенно если вспомнить об уже отмечавшемся трепетном отношении римлян к caput и его утрате. Видимо, следует сделать вывод — который подтверждается еще одним свидетельством, пусть и не слишком надежным36, — что триумвиры, по всей видимости, имели право выносить приговоры в упрощенном порядке только в отношении граждан из низших слоев (а также в отношении рабов). Если так, то становится понятнее одна загадочная особенность постоянных судов, а именно: судя по имеющимся у нас свидетельствам, даже в судах, занимавшихся преступлениями, не знающими классовых барьеров, такими как убий¬
31 У Плавта [Ослы. 131) персонаж угрожает привлечь хозяйку публичного дома вместе с дочерью к суду триумвиров за уголовное преступление. Предполагается, что хозяйка и ее дочь — рабыни, как и повар, которому в «Кладе» (416) в шутку угрожают судом триумвиров за ношение оружия (всего лишь кухонного ножа), тоже, должно быть, раб. Вопреки мнению Моммзена (Mommsen 1899 (F 119): 180 примеч. 1), у нас нет надежных свидетельств о том, что триумвиры имели гражданскую юрисдикцию; само их название подразумевает, что их компетенция касалась уголовной сферы.
32 Цицерон. В защиту Клуещия. 38—39.
33 Известна лишь приблизительная дата учреждения этого триумвирата: об этом сообщается в XI периохе Ливия в контексте, предполагающем датировку около 290—288 гг. до н. э.
34 И Помпоний (Дигесты. 1.2.2.23), и Гай (Лид. О магистратах. 1.26) прямо утверждают, что по делам об отцеубийстве квесторы имели юрисдикцию в отношении граждан; это же подразумевается и у Феста (Parricidi Quaestores. Р. 247 Lindsay). (Латинское слово «parricidium» означало убийство не только отца, но и любого близкого родственника; в широком смысле оно использовалось для обозначения особо тяжких преступлений — убийств граждан, государственной измены и проч. — Ο.Λ.)
35 К ссылкам в сноске 31 наст. гл. следует добавить: Плавт. Амфитрион. 155.
36 Псевдо-Асконий. Комментарий к «Дивинации против Цецилия». 50 (= Р. 201 Stangl) — здесь предполагается упрощенное судопроизводство триумвиров в отношении граждан (cives); в целом см.: Kunkel 1962 (F 92): 71—79.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
577
ства и насильственные действия, почти никогда не упоминаются обвиняемые из низших сословий, а редкие исключения из этого правила могут объясняться политической значимостью вменяемого им преступления37. Эта загадка может объясняться тем, что постоянные суды (quaestiones perpetuae) обычно не рассматривали преступления, совершенные лицами низкого звания, — ими занимались уголовные триумвиры.
3. Народные собрания
Во П в. до н. э. существовала еще одна форма уголовного судопроизводства — народные собрания. В последние пятьдесят лет роль народных собраний вызывает у исследователей жаркие споры; в центре дебатов стоят, во-первых, процедура и роль народного суда, во-вторых, перечень преступлений, рассматриваемых этим судом, и, в-третьих, различие ролей, которые играли разные типы собраний. Если процедура выполнялась в полном объеме, то процесс мог продолжаться несколько месяцев38. Магистрат обвинял ответчика на трех неформальных сходках (contiones), а затем — перед народным собранием. Есть некоторые основания считать, что тремя предварительными сходками при необходимости можно было пренебречь;39 источники допускают также возможность (это не более чем возможность, вопреки мнению Моммзена40) того, что если процедура выполнялась полностью, то за третьим обвинением следовал приговор магистрата и обжалование его приговора перед народом («provocatio ad populum»). Возражая против мнения Моммзена, можно указать на полное отсутствие каких-либо упоминаний об обжаловании в рассказах об исторических уголовных процессах, а также в описании четырех слушаний в речи Цицерона «О своем доме», в которой упоминается приговор, но не обжалование. Напротив, поскольку Цицерон говорит о четвертом слушании как об обвинении, а не обжаловании, он не может думать о народном собрании как о суде второй инстанции (как предлагает Моммзен), а о приговоре (iudicium) — как о реальном приговоре. Если обжалование (provocatio) все-таки связывала третье слушание с четвертым, то эта связь имела чисто процедурный характер. Вполне возможно, что эта система так и работала: в трактате «О законах», в котором Цицерон пытался описать судебную систему, напоминающую традиционную, характерную для П в. до н. э., он отвел обжалованию (provocatio) важную, хотя и не вполне яс¬
37 Политические причины, видимо, оказались определяющими, напр., для процессов Марка Сауфея, приспешника Милона, участвовавшего в 52 г. до н. э. в стычке в Бовиллах, повлекшей за собой смерть Клодия; за это Сауфей был обвинен в насильственных действиях (de vi) и в чрезвычайном суде, учрежденном Помпеем, и в регулярном суде.
38 Когда Публий Клодий, будучи в должности курульного эдила, привлек Милона к суду за насильственные действия (vis), первое слушание (accusatio) состоялось 2 февраля, четвертое — 7 мая (Цицерон. Письма к брату Квинту. П.3.1—2; 6(5) .4).
39 Ср., напр., процессы Марка Посгумия из Пирг в 212 г. до н. э. (Ливий. XXV.3) и Гая Клавдия Пульхра в 169 г. до н. э. (Ливий. ХЫП.16).
40 Mommsen 1899 (F 119): 163-174.
578
Часть Π
ную, роль в народном суде, а Ливий, описывая процедуру, будто бы восходящую к царским временам, упоминал обжалование решений магистратов под названием «дуумвиры по делам о государственной измене» («llviii perduellionis»), которые имели право выносить смертные приговоры. Возможно, это лишь подтверждает, что в I в. до н. э. обжалование (provocatio) смертных приговоров было предметом серьезных споров, но может также предполагать, что оно имело еще и какие-то процедурные функции41. В рассматриваемый в настоящей главе период магистраты, которые предъявляли такого рода обвинения, обычно были трибунами. Упоминаются также обвинения, инициированные эдилами и квесторами42.
Подавляющее большинство засвидетельствованных обвинений в народном собрании связаны с «perduellio»; это слово обычно переводится как «измена» или «государственная измена», но, возможно, такой перевод слишком узок. Рассказ Ливия о Горации43 свидетельствует о том, что и источник Ливия, и сам Ливий полагали, что убийство родственника может образовывать perduellio, если это убийство угрожает интересам государства, в данном случае — навлекает гнев богов на общину, представителем которой является Гораций. В этом античные авторы, вероятно, правы; нет сомнений в том, что основная масса обвинений была связана с государственной изменой в той или иной форме, но в принципе, а иногда и на практике, основания для обвинения в народном суде порой давали и другие деяния, которые можно было представить как угрозу благополучию общины44.
Моммзен считал, что начиная с 449 г. до н. э. единственным легитимным судом по делам, предусматривавшим смертную казнь, были центури- атные комиции, а две разновидности собраний триб — трибушые комиции народа (comitia populi tributa) и собрание плебса (concilium plebis) — рассматривали дела, в которых магистрат требовал штрафа45. Такое разграничение подразумевается в Законах ХП таблиц46, но, поскольку Гортензиев
41 Цицерон. О своем доме. 45; Цицерон. О законах. Ш.6, 12, 27; Ливий. 1.26 — описываемая здесь процедура, возможно, вымышлена ради создания прецедента для инспирированного Цезарем обвинения Гая Рабирия в 63 г. до н. э.
42 О роли трибунов в народном суде см.: Giovannini 1983 (F 63). Варрон цитирует руководство с описанием процедуры квесторского обвинения (О латинском языке. VI.90—92), и это доказывает, что в определенных обстоятельствах квесторы могли предъявлять обвинения, возможно связанные с их финансовыми обязанностями.
43 Ливий. 1.26; см. сноску 41 наст. гл.
44 Наилучшей иллюстрацией здесь может служить описанное Ливием (XXV.2.9) обвинение в аморальном поведении (sturpum), которое в 213/212 г. до н. э. плебейские эдилы предъявили нескольким матронам (аутентичность этих сведений безупречна). Валерий Максим (VI. 1.7) описывает суд, состоявшийся, несомненно, в конце III в. до н. э., когда курульный эдил предъявил обвинение трибуну Гаю Скантинию Капитолину, предложившему его сыну вступить в гомосексуальную связь; в своей основе этот рассказ, несомненно, аутентичен, даже если Валерий и допустил ошибку относительно магистратуры Скантиния.
45 Mommsen 1888 (А 77) Ш.1: 357-358; Mommsen 1899 (F 119): 168.
46 Двенадцать таблиц. 9.1 (Bruns) — здесь утверждается, что рассматривать обвинения против граждан, предполагающие смертную казнь, вправе лишь «величайшие комиции»
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
579
закон (Lex Hortensia) 287 г. до н. э. придал плебисцитам, принятым собраниями плебса (concilium plebis), ту же силу, что и законам, принятым в центуриатных комициях, следовало бы ожидать, что с этого времени оба собрания должны были обладать не только равными законодательными правами, но и равной юрисдикцией. В рассказе Ливия о процессе Марка Посгумия из Пирг, состоявшемся в 212 г. до н. э., судя по всему, изображено рассмотрение дела, предусматривавшего смертную казнь, в собрании плебса (concilium plebis)47. Предложенная Моммзеном дихотомия — это в лучшем случае традиция, а не твердое правило.
Судебные процессы в народном собрании, которые в современной историографии называют народными судами (iudicia populi)48, по-видимому, возбуждались с прежней частотой до начала 80-х годов I в. до н. э., после чего стали редкостью49. Можно предположить четыре причины этого упадка: во-первых, в 81 г. до н. э. Сулла учредил или реорганизовал несколько постоянных судов, покрывающих широкий спектр уголовных, конституционных и административных правонарушений, ввиду чего обвинения в народном собрании оказались невостребованы. Интересно, что единственный неполитический процесс в народном собрании после 80-х годов I в. до н. э. связан с проступком, который не только являлся грубым нарушением нравов и обычаев (mos), но и не был предусмотрен ни одним из законов вплоть до принципата Августа: это подкуп замужней женщины с целью побуждения ее к прелюбодеянию50. Во-вторых, при наличии альтернатив чрезвычайная громоздкость народного суда говорила не в его пользу; процесс был слишком медленным — как мы видели, в 56 г. до н. э. он тянулся четыре месяца. Более того, народное собрание должно было выполнять также законодательные и избирательные функции; гражданам не платили за посещение комиций, и работающие граждане вряд ли желали постоянно отлучаться с работы. Когда гражданство было предоставлено почти всей Италии, прибытие в Рим для голосования стало вызывать очевидные логистические трудности, и вполне могло утвердиться мнение, что расширенное народное собрание должно заниматься только теми де¬
(«comitiatus maximus», ср.: Цицерон. О законах. Ш.44, 11); Цицерон полагал, что «величайшие комиции» — это устаревшее название центуриатных комиций (comitia centuriata).
47 См.: Ливий. XXV.3.
48 Как отмечает Линтотт (Lintott 1972 (F 102): 246—249), античные свидетельства о выражении «iudicium populi» как техническом термине скудны, хотя Цицерон, возможно, пытался ввести этот термин в оборот в трактате «Брут» (106).
49 Цицерон указывает [Брут. 106), что после введения тайного голосования в народном суде> предусмотренного Кассиевым законом 137 г. до н. э., у судебных защитников стало больше работы. Это означает, что после 137 г. до н. э. такие процессы оставались важной пастью судебной системы.
50 Валерий Максим. VI. 1.8. Здесь всё зависит от того, с кем идентифицировать Квинта Метелла Целера (обвинителя) и считать ли его трибуном или эдилом. Один Металл был консулом в 80 г. до н. э., другой — в 60 г. до н. э. Эти варианты требуют датировать обвинение, соответственно, либо 90—83 гг. до н. э., либо 72—64 гг. до н. э. Прецедентами служат процессы, упомянутые в сноске 44 наст. гл. (Консулом 80 г. был Квинт Металл Пий, а не Целер, и он не может быть идентичен обвинителю. Квинт Метелл Целер-старший был плебейским трибуном в 90 г. до н. э.; консульства он так никогда и не достиг. — О.Л.)
580
Часть Π
лами, в которых его никто заменить не может: избранием магистратов, принятием законов и решением важнейших политических вопросов. Четвертой причиной упадка народного суда могли стать ограничения, наложенные Суллой на власть трибунов, которые до 81 г. до н. э. чаще всего инициировали такие процессы51. Хотя в 70 г. до н. э. полномочия трибунов были восстановлены, одиннадцати лет оказалось достаточно, чтобы новые уголовные суды прочно заняли место главного органа для разбора подобных дел.
4. Частный уголовный иск
Представляется, что в период до появления постоянных уголовных судов существовал и какой-то другой способ наказания неполитических преступлений, прежде всего убийств, совершенных гражданами: народные собрания и триумвиры просто не сумели бы справиться с таким объемом дел. Если раба или безвестного гражданина можно было притащить к триумвиру за ношение оружия52, то невероятно, чтобы прочих граждан невозможно было привлечь к суду за убийство. Кункель показал, что с архаических времен в Риме существовал частный уголовный иск, и если он удовлетворялся, то осужденный преступник выдавался ближайшему кровному родственнику убитого53. В примитивном Риме приговоренного, несомненно, приносили в жертву манам покойного53а, но в рассматриваемый в настоящей главе период он становился крепостным агната жертвы примерно так же, как должник-неплательщик становился крепостным (addictus) кредитора54. Учреждение судов, занимавшихся делами об убийствах, к концу П в. до н. э. должно было привести к исчезновению этой разновидности судебного преследования55.
5. Особые суды
Последний тип уголовного суда, существовавший в середине II в. до н. э., — это особые суды или особые комиссии, которые в современной литературе именуются «чрезвычайными» («extra ordinem» или «extraordinaria»), хотя античные источники не дают для этого бесспорных основа¬
51 См. сноску 23 наст. гл.
52 См. сноску 31 наст. гл.
53 Kunkel 1962 (F 92): 40—45, со ссылкой прежде всего на Сервия [Комментарии к «Эклогам». IV.43).
53а М а н ы — духи умерших предков, которые почитались как божества; считалось, что они покровительствовали своему роду. — О.Л.
54 Kunkel 1962 (F 92): 97—130 (прежде всего: 104—105) и примеч. 386. В пользу реконструкции Кункеля свидетельствуют Ливий (ХХШ. 14.2—3) в сочетании с Валерием Максимом (VII.6.1).
55 Kunkel 1962 (F 92): 98—104. Детская игра, в которую, согласно Плутарху [Катон Младший. 2.6), играл Катон Младший, родившийся в 95 г. до н. э., — видимо, последнее упоминание о личной зависимости как наказании для убийцы.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
581
ний. Во II в. до н. э. настала пора их расцвета, но их использование начинается уже во второй половине П Пунической войны и продолжается до 43 г. до н. э.56. Обычно такие суды использовались для расследования преступлений, совершенных группами лиц, — как убийств в Сильском лесу в 138 г. до н. э. или многочисленных отравлений в 184 г. до н. э.57. Полибий считал, что такие особые комиссии, учреждавшиеся сенатом, занимались прежде всего преступлениями, совершенными в Италии и, таким образом, находившимися вне юрисдикции городских магистратов; и действительно, значительное число известных нам инцидентов, расследуемых такими комиссиями, произошло за пределами ближайших пригородов Рима58. Сперва сенат нередко учреждал такие комиссии единолично, без санкции народного собрания, и это не вызывало никакого недовольства59. Однако в 132 г. до н. э. постановлением сената (senatus consultum) была учреждена комиссия, цель которой состояла в наказании смертной казнью сторонников Тиберия Гракха, и это породило вопросы об обоснованности существования подобных комиссий, так что Гай, брат Тиберия, как уже отмечалось, своим законом о правах гражданина (lex de capite civis) запретил учреждать такие суды без санкции народа60. После того как Гай ввел этот новый обязательный барьер, учреждение таких особых комиссий стало менее привлекательным вариантом действий. Однако время от времени они всё же использовались для расследования множественных преступлений, прежде всего совершенных вне Рима, таких как стычка в Бовиллах в январе 52 г. до н. э., закончившаяся убийством Публия Клодия61, или проступков, не предусмотренных ни одним законом, таких как присутствие мужчины, переодетого в женское платье, на чисто женских религиозных обрядах в честь Доброй Богини
56 Самые ранние случаи датируются 206 г. до н. э. (Ливий. ХХУШ. 10.4—5) и 204 г. до н. э. (Ливий. XXIX.36.10—12). В последний раз особый суд был учрежден Педиевым законом в 43 г. до н. э. для наказания убийц Цезаря.
57 Об убийствах в Сильском лесу см.: Цицерон. Брут. 85—88; об отравлениях в 184 г. до н. э. см.: Ливий. XXXIX.41.5—6.
58 Кроме примеров, указанных в предыдущем примечании, ср. также: Ливий. XL.37.4; ХЫП.2—3. Полибий (VI. 13.4) утверждает, что сенат имел право карать преступления, совершенные в Италии; я полагаю, что выражение «δημοσία έπίσκεψις» («государственное следствие») относится к расследованию, проводимому особой комиссией.
09 Нет никаких упоминаний о плебисците или законе, учредившем особую комиссию для расследования тайного культа вакханалий в 186 г. до н. э., или комиссии по делам об отравлениях в 184, 181, 180, 179 и 167 гг. до н. э. (см.: Jones 1972 (F 89): 27—28, со ссылками на источники).
60 Цицерон. В защиту Рабирия, обвиненного в государственной измене. 12; Цицерон. Против Катилины. IV. 10; Цицерон. О своем доме. 82. Такая интерпретация Семпрониева закона, предложенная Сграчан-Дэвидсоном (Strachan-Davidson 1912 (F 150) 1: 239—245), является сегодня общепринятой.
61 Помпей имел и иные причины для учреждения особого суда: он желал получить суд, который не поддастся ни подкупу, ни красноречию адвокатов, не ограниченных в выступлениях по времени и потому не пренебрегавших возможностью пускаться в разглагольствования о вещах, не относящихся к делу. Отсюда строгость в отборе присяжных и ограничение продолжительности речей; см. прежде всего введение Аскония к комментарию к речи «В защиту Милона» (35—42С).
582
Часть Π
в 61 г. до н. э.62. Следует отметить еще одну особенность этих чрезвычайных судов, которая отличает их от неформального «суда» отца семейства (pater familias) и от совета (consilium) при наместнике провинции и сближает их с постоянными уголовными судами, которые отчасти пришли им на смену: похоже, что магистрат являлся лишь председателем суда и члены комиссии выносили решение путем голосования63.
III. Постоянные судебные комиссии (quaestiones perpetuae)
Для ранней истории постоянных уголовных судов (quaestiones perpetuae) решающее значение имеет пассаж из «Брута» Цицерона:
[Гай Папирий Карбон] считался лучшим адвокатом своего времени; а как раз в то время, когда он царил на форуме, число судебных разбирательств стало возрастать. Во-первых, это объясняется тем, что во времена его юности были учреждены постоянные уголовные суды (quaestiones perpetuae), которых до этих пор не существовало; ведь плебейский трибун Луций Пизон первым принял закон о вымогательстве в провинции (de pecuniis repetundis) в консульство Цензорина и Манилия [= 149 г. до н. э.]...64
Трактат «Брут» хорошо изучен, и у Цицерона здесь нет причин искажать реальность, поэтому можно исходить из того, что он говорит правду. Если так, то отсюда вытекает несколько следствий: во-первых, Пизон учредил первую постоянную судебную комиссию (quaestio perpetua), и следует отказаться от теорий о том, что они существовали и до 149 г. до н. э.65. Во- вторых, учрежденный Пизоном суд должен быть в том или ином смысле постоянной комиссией (quaestio perpetua), поэтому едва ли можно согласиться с теорией о том, что первым настоящим постоянным судом стала комиссия по делам о вымогательствах (repetundae), учрежденная Гаем
62 Главный источник — письма Цицерона к Аттику (1.12—14, 16). Примечательно, что сенат обратился к понтификам за консультацией по поводу этичности этого поступка, и только когда они объявили его кощунством (nefas; Цицерон. Письма к Аттику. 1.13.3), была учреждена особая комиссия. (Комиссия была учреждена в 61 г. до н. э., но само преступление было совершено в декабре 62 г. до н. э. — О.Л.)
63 У Цицерона упоминается дело, слушание которого дважды откладывалось «согласно решению совета» («de consilii sententia», Цицерон. Брут. 86); обвиняемые тогда сменили своего адвоката Лелия на Гальбу, поскольку тот «умел говорить живее и горячее» («quod is in dicendo atrocior acriorque esset». — Там же), и последний сыграл на эмоциях судей с помощью «многократных и трогательных призывов к милосердию» («multis querelis multaque miseratione adhibita». — Ibid. 88. Перев. И.П. Стрельниковой); вероятно, это дело решил вердикт не председательствующего магистрата, а присяжных.
64 Цицерон. Брут. 106 {Дерев. И.П. Стрельниковой, с правкой).
65 Поэтому не может быть прав Фашоне, датирующий первую постоянную комиссию по делам о нарушениях на выборах (quaestio ambitus) 159 г. до н. э., см.: Fascione 1984 (F 49): 44-51.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
583
Гракхом66. В-третьих, во времена юности Карбона, судя по всему, были учреждены и другие постоянные суды; фраза Цицерона «hoc adulescente» может означать и более длительный период времени, чем предполагает вышеприведенный перевод, поскольку понятие «adulescentia» подразумевает диапазон от 18—19 до 40 лет, но, поскольку Карбон родился около 160 г. до н. э., а умер в 119 г. до н. э., всё же невозможно допустить, что до самого конца П в. до н. э. в Риме существовал один только суд по делам о вымогательстве (repetundae), и крайне маловероятно, что до трибуната Гая Гракха работала только одна постоянная комиссия (quaestio perpetua)67. Имеется и еще одно основание считать, что по меньшей мере к 120 г. до н. э. в Риме действовало несколько постоянных судов. Таковым служит упоминание Цицерона о том, что сразу после эпохи Гракхов появляются профессиональные обвинители:68 ведь в народных собраниях адвокаты могли защищать подсудимых, но обвинять имели право лишь магистраты. Следовательно, Цицерон здесь говорит о постоянных судах, или «государственных судах» (iudicia publica), если использовать обычное выражение, которым обозначались такие суды и процессы в них69, поскольку одна из их отличительных особенностей состояла в том, что почти во всех этих судах обвинителем мог выступать любой добропорядочный гражданин70. Таким образом, появление профессиональных обвинителей свидетельствует о существовании нескольких постоянных судов, в которых они могли оттачивать свои навыки.
В суде, который учредил Пизон, революционным новшеством стало то, что он имел определенную сферу ведения и был всегда доступен; в 171 г. до н. э. вымогательство денег, совершенное наместниками испанских провинций, стало предметом особого судебного разбирательства, но в 149 г. до н. э. впервые был основан постоянный суд, рассматривавший дела по мере их возникновения. В других отношениях это был вполне традиционный институт. Вполне возможно, что он защищал интересы лишь римских граждан, проживавших в провинциях, но не провинциалов-неримлян71. Обвинение в новом суде, учрежденном Пизоном, требовалось начинать с сакраментальной легисакции (legis actio sacramento) — процедуры, харак¬
66 См.: Eder 1969 (F 46): 101—119 — здесь высказано мнение, что закон 149 г. до н. э. был хитроумной уловкой Пизона, не оказавшей никакого влияния на постоянные суды более позднего времени.
67 Вопреки мнению Джонса, см.: Jones А.Н.М. 1972 (F 89): 54—55.
68 Цицерон. Брут. 130 — здесь упоминаются Марк Брут и Луций Цезулен.
69 Как указывает Джонс, в эпоху Поздней республики римляне использовали выражение «iudicium publicum» также для обозначения менее формальных трибуналов, созданных для конкретных случаев (Jones А.Н.М. 1972 (F 89)).
70 Любой добропорядочный гражданин мог выступать обвинителем во всех постоянных комиссиях, за исключением догракханского суда по делам о вымогательствах (repetundae) и сулланского суда по делам о посягательстве на личность (quaestio de iniu- rüs) — или же того суда, где разбирались дела об уголовном посягательстве на личность (ср. далее, с. 606-607. — О Л).
71 Так считает Ричардсон, см.: Richardson 1987 (F 130). О событиях 171 г. до н. э. см. текст Ричардсона в гл. 15 насг. тома, с. 668—669.
584
Часть Π
терной для гражданских судов72, а она была доступна только римским гражданам. Однако, принимая во внимание прецедент 171 г. до н. э. и нерушимую традицию, согласно которой законы о вымогательствах (repetundae) принимались в интересах провинциалов, более вероятным, несмотря на некоторые трудности, выглядит предположение о том, что выгоду из закона Пизона должны были извлечь не только римские граждане, населявшие провинции, но и провинциалы и что, как и в 171 г. до н. э., для представления на слушаниях лиц и общин, не имевших гражданства, назначались римские граждане. Самым очевидным кандидатом на роль такого представителя (patronus) был патрон, уже имевшийся у каждой общины и защищавший ее интересы в Риме. Гракханский закон о вымогательствах (repetundae) отменил процедуру легисакции, и пострадавшие провинциалы получили право лично выступать обвинителями. Далее, согласно закону Пизона, обвиняемый в случае осуждения должен был всего лишь возместить ущерб — приговор не подразумевал штрафа. О присяжных мы знаем лишь то, что они должны были отбираться из сословия сенаторов73. Вероятно, жюри присяжных имело небольшую численность, как и последующие сенаторские жюри;74 но вовсе не очевидно, что оно состояло всего из пяти рекуператоров, задействованных в некоторых гражданских судебных делах75. Другие особенности процедуры, впервые засвидетельствованные в гракханском законе о вымогательствах (repetundae)76, а именно отсрочка судебного решения (ampliatio) в случае, если при вынесении приговора больше трети жюри выражало мнение, что «[Дело] неясно» («Non Liquet»), то есть воздерживалось, и метод оценки ущерба (litis aestimatio), вполне могут восходить к Кальпурниеву закону.
Почему же в 149 г. до н. э. римляне сочли нужным учредить новую форму суда? Его полное название — «по делам о вымогательстве денег» («de pecuniis repetundis») — да и само наказание предполагает, что суд был
72 См.: Закон о вымогательствах на таблице Бембо (Bruns: No 10; FIRA 1:7), далее — Закон о вымогательствах), 23. Историю законов о вымогательствах см.: lintott 1981 (F 104).
73 Все источники о судебной реформе Гая Гракха (за исключением, возможно, Тацита (Анналы. XII.60)) по меньшей мере предполагают, что он либо отменил, либо сократил присутствие сенаторов в составе присяжных; Диодор (XXXV.25) и Веллей Патеркул (П.32) прямо утверждают, что до гракханского законодательства в судах заседали сенаторы.
74 Сразу после Суллы, когда присяжными могли быть только сенаторы, жюри были маленькими; Цицерон (Против Верреса. 1.30) подразумевает, что в суде по делам о вымогательстве (repetundae) заседало немногим более восьми присяжных; это число, несомненно, занижено, но свидетельство Цицерона исключает возможность многочисленного жюри. Жюри, судившее Оппианика в 74 г. до н. э., насчитывало тридцать два человека (Цицерон. В защиту Клуещия. 74). Нет оснований считать, что жюри, создаваемые согласно Кальпурниеву закону, были крупнее.
75 Некоторые исследователи предполагают, что жюри состояло из рекуператоров, поскольку в 171 г. до н. э. претор, которому предстояло управлять Испанией, назначил рекуператоров для разбора жалобы испанских послов на лихоимство некоторых предыдущих римских наместников, что послужило ближайшим прецедентом для закона ГГизона; но в источниках, указанных в сноске 73 насг. гл., не предполагается никаких принципиальных различий между догракханскими и постгракханскими жюри, кроме сословного.
76 Закон о вымогательствах. 47 (отсрочка), 58 слл. (оценка ущерба).
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
585
создан ради обеспечения постоянного механизма, позволявший провинциалам или, во всяком случае, римским гражданам, проживавшим в провинциях, вернуть обратно деньги или получить денежное возмещение за имущество, украденное у них наместниками и сопровождавшими их лицами77. В том же году, когда Пизон провел свой закон, была предпринята неудачная попытка учредить особый суд, чтобы привлечь к нему Сервия Сульпиция Гальбу, убившего или обратившего в рабство некоторых лузи- тан, просивших мира. Закон Пизона мог быть реакцией, пусть и слабой, на этот инцидент, а также на жалобы на вымогательство, ибо хоть этот закон и был бесполезен для провинциалов, испытавших судьбу лузнган, но, по крайней мере, мог послужить предостережением для людей вроде Гальбы о том, что сенат намерен внимательно следить за поведением наместников. О неэффективности подобной меры свидетельствует тот факт, что нам известно о четырех оправданиях, считавшихся скандальными78, и лишь об одном предположительном осуждении по закону Пизона:79 патрон общины вовсе не обязательно был ее самым убедительным адвокатом. Но не следует считать, что закон Пизона был всего лишь циничной уловкой, задуманной, чтобы надуть провинциалов с помощью изначально бесполезного института и позволить наместникам и дальше их обирать80. Сатирик Луцилий, видимо, называл закон жестоким (saeva)81, и даже сенаторы могли проявлять недовольство в связи со злоупотреблениями некоторых своих коллег82.
Следующим в ряду законов о вымогательствах (repetundae) стал Юни- ев закон (Lex Iunia), от которого нам осталось лишь название, а после него был принят тот закон о вымогательствах, от которого до нас дошли довольно крупные фрагменты на одной из сторон «таблицы Бембо», сохранившейся в обломках. Датировка и авторство этого закона вызывают у исследователей споры; Моммзен идентифицировал его с Ацилиевым законом о вымогательствах (Lex Acilia repetundarum), упомянутым у Цицерона [Против Верреса. 1.51), и считал его частью законодательной программы Гая Гр акха. Предпринимались попытки датировать этот закон более
77 Цицерон. Против Верреса. П.4.17; Ливий. ХЫП.2; о Гальбе и лузитанах см.: Ливий. Периохи; Ливий. Оксиринхские nepuoxu. XT JX; Валерий Максим. УШ.1. Оправдания. 2; Цицерон. Брут. 89; Цицерон. Об ораторе. 1.227; о Лигурии в 173 г. до н. э. см.: Ливий. XIJI.8—9, 10.9-11.
78 В «Гражданских войнах» (1.22) Аппиан упоминает об оправдании Луция Аврелия Копы, Ливия Салинатора и Мания Аквилия; в «Иберийско-римских войнах» (79) он добавляет к этому перечню Квинта Помпея.
79 Валерий Максим (VI.9.10) сообщает об осуждении Луция Корнелия Лентула Лупа (консула 156 г. до н. э.) по «Цецилиеву закону о вымогательствах» («lege Caecilia repetundarum»). Моммзен (Mommsen 1899 (F 119): 708 примеч. 3) почти наверняка прав в том, что эта фраза написана по ошибке вместо «Кальпурниева закона» («lege Calpurnia»), хотя иного мнения придерживается Бауман (Bauman 1983 (F 178): 205 и примеч. 369).
80 Таково мнение Эдера, см.: Eder 1969 (F 46): 58—101.
81 Фр. 573 (Marx).
82 Ср. реакцию сената и родного отца на поведение Децима Юния Силана по отношению к провинциалам Македонии, о чем сообщает Валерий Максим (V.8.3).
586
Часть Π
поздним временем, но Моммзен, несомненно, прав, относя его к 123 или 122 гг. до н. э.; однако в том, что автором закона был Маний Ацилий Глабрион, современные исследователи уже не так уверены; далее я буду называть его гракханским законом о вымогательствах83. В целом новый статут был жестче Кальпурниева закона; в качестве наказания он предусматривал не простое, а двойное возмещение стоимости незаконно присвоенного имущества. Отныне неграждане могли самостоятельно инициировать обвинение; закон даже поощрял их к этому, ибо в случае успеха они могли по своему выбору получить римское гражданство или право обжалования. Судебная процедура упростилась: легисакция, предназначенная для граждан и, следовательно, недоступная для союзников и провинциалов, была отменена, и с этих пор обвинители просто излагали свои претензии к обвиняемому перед претором (что называлось «nominis delatio»): изложение сведений перед председательствующим судьей стало стандартной процедурой для обвинений в судебной комиссии (quaestio). Членство в жюри присяжных перестало быть привилегией сенаторов; из несенаторов был сформирован список численностью в четыреста пятьдесят человек, из которого отбирались пятьдесят присяжных, необходимых для процесса.
Две цели нового закона о вымогательствах, по сути, самоочевидны. Во-первых, Гракх желал защитить латинов, союзников (socii), друзей и подданных римского народа от эксплуатации со стороны обладателей империя, сенаторов и их семей; ясно, что если прежнее законодательство задумывалось как помощь провинциалам и римским гражданам, проживавшим в провинции, то оно не работало — делегаты из провинций во всеуслышание жаловались на то, что оправдания куплены за взятки84.
Второй целью этого закона, видимо, было ослабление положения сената. Вымогательство (repetundae) было преступлением, совершить которое мог только сенатор, и наказание за него было ужесточено. Далее, включая в список присяжных несенаторов вместо сенаторов, Гракх по меньшей мере выражал вотум недоверия сенаторским судам. Возможно, он желал всего лишь более надежно гарантировать провинциалам справедливое рассмотрение, на которое они вряд ли могли рассчитывать, когда обвиняемых судили члены их же сословия. Если так, то даже сенаторы могли считать, что сокращение власти сената компенсируется стабилизацией, которая ожидалась в провинциях. Складывается явное впечатление, что гракханский суд по делам о вымогательствах и новый состав присяжных не вызвал больших разногласий в обществе, ибо, несмотря на свирепую антигракханскую реакцию, вылившуюся в убийство трибуна и множества его сторонников, закон не был отменен.
Исследователи высказывают и более радикальное предположение о том, что Гай Гракх намеревался превратить всадническое сословие в
83 Аргументы см.: Stockton 1979 (С 137): 230—235; lintott 1981 (F 104): 182—185.
84 Аппиан. Гражданские войны. 1.22.1.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
587
альтернативный, пусть и более слабый, центр политической власти и таким образом ослабить власть сената в более конкретном смысле85. Чтобы дать оценку этому предположению, необходимо рассмотреть требования, предъявляемые к членам списка присяжных для гракханского суда по делам о вымогательстве, а также оценить однородность всаднического сословия. Присяжные должны были являться всадниками (equites) в каком-то смысле этого слова — по-видимому, в одном из двух его смыслов, бытовавших в эпоху Цицерона: (7) лица, владевшие капиталом от 400 тыс. сестерциев и выше; [2] лица, владевшие таким капиталом и принадлежавшие к восемнадцати центуриям граждан, имевших право на государственного коня86. Самый простой вывод отсюда заключается в том, что вторая группа — это всадники в узком смысле слова, а первая — в широком. Это может объяснять, почему Цицерон порой считает эрар- ных трибунов (tribuni aerarii), из которых, согласно Аврелиеву закону 70 г. до н. э., набиралась треть присяжных (остальные две трети набирались из сената и всадников), особым «сословием» (ordo), отдельным от всаднического, а иногда — частью всаднического сословия:87 эрарные трибуны владели капиталом в 400 тыс. сестерциев, но не имели права на государственного коня. Поэтому можно считать несколько более вероятным предположение, что гракханские присяжные должны были иметь государственного коня.
Более важное значение имеет вопрос о том, образовывали ли гракханские присяжные более или менее однородную социальную или политическую категорию, имелась ли в их составе группа, чьи интересы противоречили интересам сенаторского сословия (если допустить, что само сенаторское сословие было однородным). К счастью, на этот вопрос можно ответить достаточно уверенно: всадническое сословие в широком смысле слова не являлось однородной группой влияния. В верхнем общественном слое можно обнаружить таких всадников, как Гай Луцилий, и таких сенаторов, как Марк Целий и сам Цицерон, имевших родственников в другом сословии; существовали всадники-землевладельцы и сенаторы, осторожно занимавшиеся коммерцией88. Далее, лишь между 106 и 70 гг. до н. э. контроль над судами стал предметом политической борьбы; литературные источники связывают недовольство сенаторскими судами прежде всего с тем, что они легко позволяли себя подкупить, особенно в делах о вымогательстве, тогда как недовольство всадническими судами было связано с
85 См. гл. 3, с. 100.
86 О всаднике (eques) как человеке, имевшем право на государственного коня, см. прежде всего: Цицерон. Филиппики. VI. 13; VTL16—17; о всаднике как обладателе имущественного ценза см.: Цицерон. В защиту актера Росция. 42, 48; Гораций. Послания. 1.1.57; см. также материал в сноске 87 наст. гл.
87 Цицерон включил эрарных трибунов в число всадников в речах «В защиту Фон- тея» (36), «В защиту Клуенция» (121), «В защиту Флакка» (4, 96) и в других местах, но рассматривает эрарных трибунов как отдельное сословие в речи «Против Каталины» (П.16; IV. 15) и в других речах. См.: Brunt 1988 (А 19): 210—211.
88 См.: Beard, Crawford 1985 (А 6): 47 и примеч. 19.
588
Часть Π
деятельностью откупщиков (publicani), собиравших налоги с провинций в интересах правительства89. Ясно, что их интересы не всегда совпадали с интересами наместника, ибо откупщики стремились максимизировать свою прибыль, а наместник желал спокойствия в провинции. Но, судя по сведениям источников — конечно, очень скудным, — такое столкновение интересов отмечается почти исключительно в 90-х годах I в. до н. э., а в 80-х годах I в. до н. э., в условиях борьбы Суллы с марианцами и циннан- цами и Митридатовой войны, мир и стабильность обрели для обеих партий куда большее значение, чем расхождение интересов.
Таким образом, радикальная теория, согласно которой Гай Гракх желал сделать всадническое сословие новым политическим центром силы, конкурировавшим с сенатом, основана на непонимании природы всаднического сословия. В целом его представители, будучи зажиточными гражданами, разделяли интересы сенаторов, однако при разборе дел о вымогательствах могли занять более беспристрастную позицию, ибо это преступление всадники по определению не способны были совершить. Проецируя на 120-е годы до н. э. ту ситуацию, которая сложилась двадцатью годами позже, исследователи приписывают Гракху не только невероятную прозорливость, но и беспричинную злобу. Зачем было спасать провинциалов от алчных наместников и их подчиненных и одновременно отдавать их во власть более систематической алчности откупщиков? Конечно, гракхан- ский закон о вымогательствах позволял откупщикам мстить наместникам, слишком энергично защищавшим провинциалов от их собственных вымогательств, но не следует путать намерения с результатом. К этому времени уже возникли (или возникали) другие постоянные судебные комиссии:90 вероятно, к концу 120-х годов до н. э. уже существовал суд, каравший профессиональных вооруженных убийц (inter sicarios), а возможно, и суды по делам об отравлениях (de veneficiis) и о нарушениях на выборах (ambitus). Высказывалось предположение, что, согласно закону Гракха, присяжные для этих судов набирались из числа сенаторов и всадников вперемежку, но более вероятно, что в данных судах, как и в суде по делам о вымогательстве, присяжными были только несенаторы91. Мнение Плутарха, которое высказывается им и в другом месте, а также звучит и у эпитоматора Ливия92, о том, что Гракх ввел триста (согласно Плутарху)
89 О взяточничестве в сенаторских судах во П в. до н. э. см.: Аппиан. Гражданские войны. I. 22; о периоде между 80 и 70 гг. до н. э. см.: Gruen 1974 (С 209): 30—34. О недовольстве всадническими судами до (а также и после) процесса Рутилия Руфа см.: Веллей Патеркул. П.13; после 92 г. до н. э. см.: Цицерон в: Асконий. В защиту Скавра. 21С; Флор. П.5; Ливий. Периохи. 70; Аппиан. Гражданские войны. 1.35.7.
90 О датировке см. далее, с. 593 сл.
91 Цицерон. Против Берреса. 1.38; Тацит. Анналы. ХП.60. См. также: Аппиан. Гражданские войны. 1.22.2; Диодор. XXXV.25; Флор. П.1; Веллей Патеркул. П.6.3, 13.2, 32.3; косвенно их подтверждает Плиний Старший (Естественная история. ХХХШ.34). Против: Плутарх. Сопоставление Агида и Клеожена с Гракхами. 2, и всё же свидетельство Цицерона, подкрепленное данными Тацита, должно иметь решающий вес.
92 Ливий. Периохи. LX; Плутарх. Гай Гракх. 5.1.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
589
или шестьсот (согласно эпитоматору) всадников в сенат и набирал присяжных из этого смешанного списка, — вероятно, анахронизм. Если же сообщение Плутарха отражает аутентичную традицию, то смешанные суды могли являться переходной стадией между сенаторскими и всадническими (возможно, их учредил Юниев закон)93 либо проектом, который трибун задумывал, но затем отбросил, предпочтя ему более радикальный план, воплощенный в эпиграфическом «Законе о вымогательствах».
С появлением других судебных комиссий значимость суда по делам о вымогательствах снизилась; к 81 г. до н. э. он стал лишь одним судом из нескольких, и, как мы далее увидим, обвинения в убийстве стали предъявляться гораздо чаще. Однако, скорее ради полноты изложения, нежели ввиду особой значимости, мы можем проследить историю законодательства о вымогательствах до последнего статута, принятого в 59 г. до н. э.
Закон Сервилия Цепиона, проведенный в 106 г. до н. э., исследователи иногда называют законом о вымогательствах (lex repetundarum), но античные авторы называют его просто судебным законом. Два источника, вероятно восходящих к эпитоме Ливия, утверждают, что консул Квинт Серви- лий Цепион провел закон об учреждении смешанных судов из сенаторов и всадников94. Другие античные авторы либо утверждают, либо подразумевают, что Цепион возвратил суды сенату95. Оба варианта возможны, но второй более вероятен по двум причинам: во-первых, эпитоматоры Ливия славятся как не слишком надежные источники по римской конституционной истории; во-вторых, упоминания Цицерона о горячей ненависти всадников к этому закону96 становятся понятнее, если считать, что законом Цепиона всадники были полностью исключены из состава присяжных; более того, Цицерон цитирует отрывок из речи в поддержку законопроекта Цепиона, в котором присяжные-всадники и профессиональные обвинители названы людьми, чья жестокость могла быть утолена лишь кровью сенаторов;97 такие выражения были бы не только слишком резкими, но и бестактными, если бы всадникам предстояло по-прежнему формировать половину каждого жюри. С другой стороны, еще один Сервилиев закон, проведенный Гаем Сервилием Главцией, несомненно был одновременно и судебным законом, и законом о вымогательствах; законом о вымогатель¬
93 Так считает Джонс, см.: Jones 1960 (F 88): 39-42; данную альтернативу «без особой уверенности» принимает Стоктон, см.: Stockton 1979 (С 137): 142; всестороннее рассмотрение этой проблемы см. на с. 138—153 этого труда, со ссылками.
94 Сегодня это мнение является общепринятым; оно восходит к «Хронике» Кассиодо- ра и Обсеквенту (41). Последний, несомненно, использовал эпитому Ливия; почти идентичные Обсеквенту выражения Кассиодора указывают на то, что он пользовался той же эпи- томой. Однако свидетельство Цицерона (.В защиту Бальба. 54) может указывать на то, что закон Цепиона был законом о вымогательствах; см.: Ferrary 1977 (С 49): 85—91.
95 Тацит (Анналы. ХП.60) утверждает это прямо, а у Цицерона (В защиту Клуещия. 140; Об ораторе. П.199) это подразумевается. См. также пассажи, указанные в следующих сносках наст. гл.
96 Цицерон. О нахождении материала. 1.92; Цицерон. Об ораторе. П.199.
97 Цицерон. Об ораторе. 1.225.
590
Часть Π
ствах (lex repetundarum) называет его Асконий, вполне надежный источник, Цицерон же свидетельствует о том, что этим законом было введено обязательное разделение процессов по делам о вымогательствах на две сессии (actiones); данный механизм получил название «comperendinatio»98. Если мы верно оцениваем первый Сервилиев закон как судебный, а не касающийся именно вымогательств, то следует сделать вывод, что Сервилиев закон, согласно которому виновными в вымогательствах стали признаваться не только лица, незаконно взыскавшие деньги, но и те, к кому эти деньги поступили, был принят Главцией99. Вместе с тем нет оснований сомневаться в том, что Главция также отменил закон Цепиона и вернул всадникам контроль над всеми судами100. В каком году был принят закон Главции, точно не известно, поскольку проблематична датировка его трибуната; это может быть любая дата между 106 г. до н. э. и 100 г. до н. э., когда Главция был претором. Утверждение Цицерона о том, что судьи набирались из всаднического сословия на протяжении почти полувека101, то есть со 122 по 81 г. до н. э., предполагает скорее более раннюю, нежели более позднюю датировку закон Главции. Чем дольше оставался в силе закон Цепиона, тем менее правдивым становится это утверждение, и, таким образом, из двух наиболее вероятных дат, 104 г. до н. э. и 101 г. до н. э., первая предпочтительнее.
В Поздней республике было принято еще два закон о вымогательствах: один из них провел Сулла в 81 г. до н. э., второй — Цезарь в 59 г. до н. э. Нет возможности доказать, что в предыдущий закон Сулла внес какие-то изменения, за исключением того, что вернул суд под контроль сенаторов; его закон о вымогательствах стал одним из ряда статутов об учреждении или преобразовании постоянных судов и по содержанию вполне мог не отличаться от закона Главции. Свидетельство о законе Цезаря о вымогательствах дает Цицерон — он упоминает статью, содержавшуюся во всех трех законах102. Однако упоминание Цицерона о процессе, проводившемся согласно Корнелиеву закону около 70 г. до н. э., предполагает, что в законе произошли два изменения: Публий Септимий Сцевола был обвинен в каких-то правонарушениях, совершенных в Апулии, и в получении взятки на процессе Оппианика в 74 г. до н. э. Обвинитель пытался добиться ужесточения приговора: не только возмещения ущерба, но и высшей меры наказания103. Этот случай доказывает, что отныне понятие «вымогательства» («repetundae») включало не только злоупотребления в провинциях, но и судебную коррупцию, и что в определенных случаях вымогательство каралось высшей мерой наказания.
98 Асконий 21C; Цицерон. Против Верреса. П.1.26.
99 Цицерон. В защиту Рабирил Постума. 8—9. Структура комментариев Цицерона также указывает на закон Главции.
100 Это подразумевается у Цицерона [Брут. 224; В защиту Скавра. 2).
101 Цицерон. Против Верреса. 1.38. О датировке закона Главции см.: Ferrary 1977 (С 49): 101-105.
102 См. пассаж, ссылка на который приведена в сноске 99 наст. гл.
103 Цицерон. В защиту Клуенция. 115-116.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
591
Понятие «высшая (capitalis) мера наказания» в римском публичном праве имело довольно специфический смысл; выше уже отмечалось, что существительное «caput», от которого образовано это прилагательное, в буквальном смысле — «голова», означает и «гражданские права», и «жизнь»; было сказано и о том, что в Поздней республике гражданин из высших классов, присужденный народным собранием или постоянной комиссией (quaestio perpetua) к высшей мере наказания, практически никогда не расставался с жизнью104. Он уходил в изгнание. Закон или плебисцит, принимаемый собранием плебса (concilium plebis) — по-видимому, ежегодно, — запрещал подобным изгнанникам возвращаться домой: они поименно лишались огня и воды («interdictio aquae et ignis»). В конце концов, вероятно, наказание за все уголовные преступления формально стало определяться как лишение огня и воды105. Известно, что наказание в форме лишения огня и воды Цезарь установил в двух других судебных комиссиях106, и логично предположить, что то же самое он сделал в своем законе, принятом в 59 г. до н. э., и для суда по делам о вымогательстве. Закон Цезаря о вымогательствах (repetundae) включал квазиконституционные ограничения полномочий наместника, и некоторые из них — например, запрет на ведение войны или вступление в союзное царство без разрешения сената и народа — дублировали материал из закона Суллы о государственной измене. Закон Цезаря также ограничивал право наместника реквизировать имущество и выдавать документы на бесплатный проезд (diplomata). Видимо, он был еще и более всеобъемлющим в отношении судебной и административной коррупции, чем любой из предшествующих законов107. Закон Цезаря стал последним в ряду статутов, начавшихся с Кальпурниева закона 149 г. до н. э., и в эпоху Империи заложил основу для судебных разбирательств, связанных с вымогательствами.
Суд по делам о вымогательствах оставался нетипичной постоянной комиссией в двух отношениях. Во-первых, необычной была его судебная процедура: разделение процесса на две сессии (actiones) встречалась, по¬
104 В рассматриваемый в настоящем томе период известно только два случая, когда лица, присужденные к высшей мере наказания, действительно были казнены: это Публи- ций Маллеол в 101 г. до н. э. (Риторика для Геренния. 1.23; Цицерон. О нахождении материала. П.149) и, вероятно, Квинт Варий Гибрида в 89 г. до н. э. (Цицерон. Брут. 306; Цицерон. О природе богов. Ш.81). Обстоятельства смерти Вария загадочны; Маллеол был осужден за убийство матери, а лица, виновные в лишении жизни близкого родственника (parricidium), могли быть казнены.
10э Вопреки мнению Левика, см.: Levick 1979 (F 99); об этом свидетельствует прямое утверждение Улышана в «Сопоставлении законов Моисеевых и римских» (ХП.5.1) и пассаж, указанные далее в сноске 106 насг. изд. Свидетельство Цицерона (Против Берреса. П.2.100) предполагает, что изгнанники, лишенные огня и воды, перечислялись в ежегодном эдикте трибунов поименно.
106 Цицерон (Филиппики. 1.23) упоминает о законах Цезаря, которые устанавливают (iubent), что лица, осужденные за насильственные действия (vis) или умаление величия римского народа (maiestas), должны быть лишены воды и огня («aqua et igni interdici»).
107 Пожалуй, лучшим античным источником на эту тему является речь Цицерона «Против Пизона» (особенно 61, 87 и 90), но ценные сведения содержатся и в его речи «В защиту Флакка» (13, 21 и 27).
592
Часть Π
жалуй, только здесь, а оценка ущерба (litis aestimatio) — здесь и в суде по делам о казнокрадстве (quaestio peculatus). Во-вторых, до эпохи Августа это, вероятно, был единственный суд, каравший как преступления, предусматривавшие высшую меру наказания, так и проступки, ее не предполагавшие. Во всем прочем это была типичная судебная комиссия. Она появилась с целью разрешения определенного круга проблем: жалоб граждан, а также, вероятно, и союзников, на наместников и их подчиненных, прежде всего в Испании, где недовольство способствовало продолжению войны, которую римляне, казалось, неспособны были выиграть. Вторая задача этого суда приобрела особую значимость с течением времени и в конце концов нашла отражение в новых статьях Юлиева закона: это необходимость регламентировать действия наместника и его штаба. Учреждение судебных комиссий наглядно показывает, что нравы и обычаи предков (mos maiorum) уже не соответствовали новому положению Рима, который трансформировался из небольшого города-государства в могущественную столицу империи. Некоторые комиссии были созданы вследствие эрозии средств социального контроля108, но суд по делам о вымогательствах породила ситуация, не предусмотренная нравами и обычаями предков.
Наконец, в I в. до н. э. для законов о вымогательствах характерна еще одна особенность — нелогичность. Поскольку понятие «вымогательства» («repetundae») было связано прежде всего со злоупотреблениями наместников, легко понять, почему это преступление включало и «конституционные» проступки, например, вывод армии за пределы провинции без надлежащих руководящих указаний из Рима; но каким образом оно стало включать получение взяток судьями? Ответ, несомненно, кроется в том обстоятельстве, что судебные комиссии учреждались каждая в отдельности, и для некоторых целей их оказалось слишком много. Предположим, что обвинитель желал уличить нарушителя в нескольких уголовных преступлениях; теоретически ему следовало привлечь его к каждому из соответствующих судов. Так время от времени и происходило109, но это было слишком утомительно. Чтобы решить проблему множественных преступлений, обвинители затрагивали вопросы, строго говоря, не имеющие отношения к предъявляемому ими обвинению110. Законодатели же решали эту проблему, объединяя преступления, часто сопровождавшие друг друга. Например, суд по делам о вымогательствах был особенно сильно поражен
108 Очевидными примерами являются законы о насильственных действиях (vis) и закон, принятый Крассом в 55 г. до н. э., о наказании организаторов политических клубов.
109 Напр., в 52 г. до н. э. Милон был осужден сперва за насильственные действия (vis), а затем за нарушения при соискании должности (ambitus).
110 В 56 г. до н. э. Марк Целий предстал перед судом за насильственные действия (vis), но два вменяемых ему преступления — участие в мятеже (seditio) в Неаполе и организация нападения на александрийских послов в Путеолах, — хоть и, без всякого сомнения, являлись насильственными действиями, но были совершены не в Риме, а потому, вероятно, оказались вне компетенции суда; с другой стороны, вменяемые ему убийство Диона и попытка отравления Клодии произошли в Риме, и, строго говоря, относились к юрисдикции суда по делам об убийствах и отравлениях (quaestio de sicariis et veneficiis).
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
593
коррупцией, поскольку решал вопросы об удержании крупных денежных сумм или эквивалентных им ценностей. Поэтому закон о вымогательствах стал включать получение взятки за оправдательный или обвинительный приговор111. С другой стороны, судебная комиссия по делам об убийствах (quaestio de sicariis) из всех судебных злоупотреблений занималась только теми, которые привели к присуждению невиновного к высшей мере наказания, что вполне понятно, поскольку такие злоупотребления представляли собой убийство с использованием судебных процедур112. Точно также пересекались понятия «вымогательство» («repetundae») и «государственная измена» («maiestas»). Вывод войска за пределы провинции или вступление в войну без разрешения римского народа и сената представляли собой «конституционные» преступления как согласно закону Суллы о государственной измене, так и согласно закону Цезаря о вымогательствах113 114.
Любой рассказ о римских уголовных судах неизбежно будет бессистемным ввиду того, что сферы их ведения пересекались, но далее имеет смысл рассмотреть группу судов, которые, как и суд по делам о вымогательствах, занимались преступлениями, совершенными сенаторами при исполнении ими обязанностей, и, вероятно, существовали еще до 81 г. до н. э., когда Сулла провел свое всеобъемлющее уголовное законодательство. Ближе всего к вымогательствам (repetundae) стоят казнокрадство (peculatus), то есть незаконное присвоение государственных денег, и святотатство (sacrilegium), то есть кража священных предметов из храмов,
114.
включавшаяся в понятие казнокрадства .
Нет сомнений, что в 81 г. до н. э. Сулла учредил или реформировал суд по делам о казнокрадстве (quaestio peculatus)115. Помпей был обвинен в казнокрадстве в 86 г. до н. э., но рассказ Плутарха об этом настолько туманен, что невозможно определить, где именно происходило разбирательство — в постоянной судебной комиссии (iudicium publicum) или в народном суде (iudicium populi). Поскольку председательствовал на этом процессе претор и маловероятно, что это была особая судебная комиссия, первый вариант выглядит предпочтительнее, а если так, то мы можем проследить историю суда по делам о казнокрадстве (quaestio peculatus) с 86 г. до н. э., но не раньше116. Этот суд не имел даже легендарной истории:
111 Цицерон. Против Пизона. 87.
112 Цицерон. В защиту Клуенция. 148.
113 Цицерон. Против Пизона. 50.
114 Так что не всегда даже ясно, о каком из двух преступлений — вымогательство или казнокрадство — сообщает греческий источник, см., напр.: Плутарх. Лукулл. 1.2. Слово «κλοπή» могло означать и то, и другое, хотя в данном случае, вероятно, имеется в виду вымогательство.
1Ь Этот суд существовал в 66 г. до н. э., см.: Цицерон. В защиту Клуенция. 147. В отношении сулланского суда решающим является свидетельство Цицерона: О природе богов. Ш.74. Время действия этого диалога — 77—75 гг. до н. э., и упоминание о «новом законе» («nova lege») может относиться только к сулланскому законодательству 81 г. до н. э., тем более что рядом в тексте упоминаются суд по делам об убийствах (quaestio de sicariis) и суд по делам о подделке завещаний и денег (quaestio testamentaria nummaria), первый из которых, несомненно, был реформирован, а второй — основан Суллой.
116 Плутарх. Полтей. 4.
594
Часть Π
сообщается, что около 390 г. до н. э. Камилл был обвинен перед народным собранием в присвоении военной добычи — примерно в тех же обстоятельствах, что и Помпей в 86 г. до н. э., — но слово «peculatus» в связи с этим не используется в источниках117. Следующее преступление — ambitus — получило гораздо более длинную родословную.
Понятие «ambitus» непереводимо: в целом оно обозначало нарушения кандидата при соискании симпатий избирателей, чаще всего подкуп. Однако оно включало и другие происки. Цицерон свидетельствует о существовании в 66 г. до н. э. суда по делам о нарушениях при соискании (quaestio ambitus)118, учрежденного, видимо, Кальпурниевым законом 67 г. до н. э., который ужесточил наказание, предусмотрев бессрочный запрет на занятие должностей вместо десятилетнего119. Однако суд по делам о нарушениях при соискании существовал и до Кальпурниева закона; Плутарх сообщает, что Марий был привлечен к суду по этому обвинению, когда добивался претуры в 116 г. до н. э. Как обычно, в своем рассказе Плутарх пренебрегает скрупулезным описанием формальностей, но одна деталь, несомненно, доказывает, что процесс происходил в постоянной судебной комиссии (quaestio perpetua), а не в народном собрании: Марий был оправдан, поскольку голоса судей разделились поровну120. Этого не могло бы произойти в народном собрании, где голоса подавались блоками — центуриями или трибами, — и даже если бы все эти блоки проголосовали, их нечетное число (сто девяносто три центурии, тридцать пять триб) не допускало равенства голосов. Но разделение голосов поровну было всё же возможно, и случалось такое в судебных комиссиях121. Когда именно был учрежден суд по делам о нарушениях при соискании, можно только догадываться; это, несомненно, произошло после основания в 149 г. до н. э. первого постоянного суда по делам о вымогательствах; закон Корнелия—Бебия, принятый в 181 г. до н. э., и закон Корнелия—Фульвия, принятый в 159 г. до н. э., свидетельствуют о том, что нарушения при соискании вызывали в обществе тревогу, но (вопреки мнению Фашоне) не доказывают, что в 159 г. до н. э. был учрежден постоянный суд по этим делам122. Уже отмечалось, что Цицерон весьма определенно сообщал о существовании нескольких постоянных уголовных судов около 120 г. до н. э. Мы можем лишь утверждать, что суд по делам о нарушениях при соискании был учрежден между 149 и 120 гг. до н. э.
Между изначальным законом о создании этого суда и Кальпурниевым законом 67 г. до н. э., вероятно, был принят закон Суллы. В пользу этой
117 Плиний Старший. Естественная история. XXXIV. 13; Плутарх. Камилл. 12.1—3; см. также: Mommsen 1899 (F 119): 765 примеч. 5.
118 Цицерон. В защиту Клуенция. 147.
119 Схолия из Боббио к речи Цицерона «В защиту Суллы». 17 (р. 78 Stangl).
120 Плутарх. Марий. 5.5.
121 Напр., когда в 51 г. до н. э. Марк Сервилий был обвинен в вымогательстве (Цицерон [Целий]. Письма к близким. ΥΙΠ.8.3).
122 О законе Корнелия—Бебия см.: Ливий. XL.19.il; о законе Корнелия—Фульвия см.: Ливий. Периохи. XLVIL В обоих пассажах сообщается лишь о принятии закона о нарушениях при соискании (lex ambitus), см.: Fascione 1984 (F 49): 44—56.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
595
точки зрения свидетельствует тот факт, что во всех остальных случаях, когда нам точно известно о существовании досулланских судебных комиссий — в частности суда по делам об умалении величия (quaestio maiestatis), об убийствах (quaestio de sicariis), о вымогательствах (quaestio de repetundis), — известно и то, что Сулла преобразовал эти суды в 81 г. до н. э., поэтому можно предположить, что аналогичным образом он поступил и с судом по делам о нарушениях при соискании (quaestio ambitus); более того, в схолиях к речи Цицерона «В защиту Суллы» (17) упоминается Корнелиев закон, принятый «в прежние времена» («superioribus temporibus») и запрещавший лицам, осужденным за нарушения при соискании, добиваться должностей в течение десяти лет после этого123. Дальнейшее законодательство свидетельствует о том, что предвыборные злоупотребления по-прежнему вызывали тревогу; схолиаст сообщает, что Туллиев закон, принятый самим Цицероном, предусматривал десятилетний запрет на проживание в Риме и Италии. В 52 г. до н. э. Помпей изменил процедурные нормы, чтобы обвинителю проще было добиться осуждения; вероятно, и запрет на проживание в Риме и Италии Помпей сделал пожизненным124. Однако эти меры могли быть временными, ибо не исключено, что Помпей просто учредил особый суд, занимавшийся предвыборными злоупотреблениями, имевшими место в 53 и 52 гг. до н. э.; его суд по делам о насильственных действиях (quaestio de vi), очевидно, был чрезвычайным.
Суды по делам о нарушениях при соискании упоминаются в Поздней республике довольно часто; даже в 90-е годы I в. до н. э., свидетельства о которых во всех отношениях скудны, известно два или три примера125. Для 60-^Ю-хх годов I в. до н. э. засвидетельствовано множество судебных дел126. Большое количество законов о нарушениях при соискании в любом случае позволяет сделать вывод, что злоупотребления на выборах вызывали всё большее беспокойство.
Если мы хотим глубже проанализировать причины, вызвавшие к жизни законы о нарушениях при соискании, следует рассмотреть два упоминания Ливия о раннем законодательстве, регулировавшем этот вопрос: один из ранних законов, датируемый 432 г. до н. э., явно вымышлен (Ли¬
123 Схолия из Боббио. р. 78 Stangl. Схолиаст комментирует Кальпурниев закон 67 г. до н. э., и в этом контексте странным выглядит выражение «superioribus temporibus», если имеется в виду закон Суллы. Однако мнение о том, что Сулла реорганизовал этот суд, вероятно, справедливо, а Фашоне ошибается, считая, что речь идет о законе Корнелия— Фульвия.
124 Асконий. Коллментарий к речи за Милона. 39С.
120 Процесс Марка Антония в 97 г. до н. э. (Цицерон. Об ораторе. П.274); процесс Лу- Дия Марция Филиппа в 92 г. до н. э. (Флор. П.5.5); процесс Публия Секстя, дата которого точно не известна, но, вероятно, около 91 г. до н. э. (Цицерон. Брут. 180).
126 Особо печальную известность приобрели дела Публия Автрония и Публия Суллы в 66 г. до н. э., см.: Цицерон. В защиту Суллы. 1, 49—50, 88—90; Саллюстий. О заговоре Ка- тилины. 18.2 и др. Суд над Луцием Муреной, обвиненным в нарушениях при соискании, хорошо задокументирован (Цицерон. В защиту Мурены). В 54 г. до н. э. это же обвинение было предъявлено всем четырем кандидатам в консулы (Цицерон. Письма к Аттику. IV.17.5, 18.3).
596
Часть Π
вий. IV.25.9—14), а второй, Петелиев закон 358 г. до н. э., возможно, историчен (Ливий. Vn.15.12—13). Важна мотивация, приводимая источниками Ливия. Поскольку в распоряжении этих авторов был лишь минимум информации, им приходилось полагаться на собственное воображение, и они, вероятно, воспроизвели мотивацию, породившую законы их собственного времени. Закон 432 г. до н. э. объяснялся тем, что кандидаты-плебеи не могли добиться избрания на должности консулярных трибунов из-за нечестных приемов и угроз патрициев; это сообщение, вероятно, отражает жалобы популяров на давление, которое оптиматы оказывали на избирателей во Π-Ι вв. до н. э., чтобы не допустить чужаков к курульным должностям. Принятие Петелиева закона объясняется совершенно другими мотивами, что не может не наводить на размышления: по словам Ливия, этот закон был направлен против «новых людей» («novi homines») — то есть тех, чьи предки не занимали курульных должностей, — пытавшихся заручиться голосами сельских избирателей. Трудно не связать эту мотивацию с обвинением, предъявленным Марию в 116 г. до н. э., поскольку Марий был типичным «новым человеком» и, более того, происходил из сельской местности — из муниципия Арпин. Текст Ливия позволяет выявить два мотива, обусловивших принятие законов и возбуждение обвинений по делам о нарушениях при соискании: стремление, во-первых, предотвратить злоупотребления аристократических кандидатов и, во-вторых, не допустить к должностям «новых людей». Богатство и доходы от империи негативно влияли на функционирование системы клиентелы, в рамках которой ожидалось, что в благодарность за оказанную помощь клиенты будут голосовать за своего патрона или его кандидата; финансовые стимулы могли побудить клиента поддержать другого нобиля или даже нового человека; несмотря на скудость источников, имеются свидетельства о том, что во П в. до н. э. оживление на выборах возрастало. Это предполагает разрушение системы, если она вообще хоть когда-либо обеспечивала тот плавный и гладкий взаимообмен услугами, о котором говорят некоторые исследователи;127 этим отчасти и обусловлен поток законов о нарушениях на выборах.
Подразделом законодательства о нарушениях при соискании (ambitus) стал закон, проведенный Крассом в 55 г. до н. э., — Лициниев закон о сообществах (Lex Licinia de sodaliciis). Этот статут был направлен против тех, кто создавал сообщества (sodalicia, sodalitates) для обеспечения избрания кандидата путем подкупа избирателей. Клодий весьма успешно использовал коллегии (collegia) — торговые гильдии и религиозные и социальные клубы — в свой трибунат в 58 г. до н. э., но сообщества (sodalitates), организованные на базе триб и имевшие признанных руководителей, явно служили более удобным инструментом подкупа. Закон был направлен против организаторов, но не против самих сообществ и не против их ря¬
127 О событиях 185 г. до н. э. см.: Ливий. XXXIX.32.5—14; о событиях 166 г. до н. э. см.: Обсеквент. 12. О функционировании клиентелы см.: Brunt 1988 (А 19): 382-442.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
597
довых членов. Возможно, закон Красса также заменил закон Цицерона о нарушениях при соискании (ambitus). Наказание было «высшим» в римском смысле слова, а поскольку обвинитель имел возможность оказать значительное влияние на состав присяжных, добиться осуждения обвиняемых стало легче, чем на процессах, проходивших согласно прежнему законодательству128.
Maiestas, сокращение от «maiestas populi Romani minuta», то есть «умаление величия римского народа», представляло собой преступление, сходное как с вымогательствами (repetundae), так и с группой преступлений против лиц, о которых пойдет речь дальше. Сходство с вымогательствами заключается не только в том, что, как уже отмечалось, эти понятия частично пересекались, но и в том, что умаление величия (maies- tas), вероятно, могло быть вменено только магистратам и сенаторам129. Более того, умаление величия частично совпадало еще и с насильственными действиями (vis), поскольку в конечном счете стало включать мятеж, который с самого начала входил в понятие «насильственные действия». Таким образом, для нас умаление величия может послужить удобным мостом между двумя главными сферами римского публичного права: преступлениями, которые обычно вменялись только сенаторам, и преступлениями, которые мог совершить любой гражданин, хотя, как уже говорилось, обвиняемые обычно занимали довольно высокое социальное положение.
Ранняя история законодательства об умалении величия вызывает две большие сложности. Первая из них связана с соотношением между умалением величия (maiestas minuta) и государственной изменой (perduellio). Оба этих выражения обычно переводятся на английский язык как «treason»;129'1 в чем тогда разница между ними и почему потребовалось создавать суд по делам об умалении величия (quaestio maiestatis), если главной судебной функцией народного суда было рассмотрение дел о государственной измене (perduellio)? Вторая проблема — это датировка создания первого постоянного суда по делам об умалении величия. Суд, основанный Суллой в 81 г. до н. э., несомненно, был постоянной комиссией (quaestio perpetua), но имеются сведения о двух более ранних судах: один был учрежден Аппулеевым законом в 103 или 101—100 гг. до н. э., второй — Бариевым законом в 90 г. до н. э.; но какими были эти суды — особыми или постоянными? Первый из данных судов, созданный трибуном Луцием Аппулеем Сатурнином, вероятно, являлся постоянным; Валерий Максим
128 Цицерон. В защиту Плащия. 36—47 — вся эта речь содержит ценные сведения о данном законе. См. недавнюю работу: Ausbüttel 1982 (F 11).
129 Нет сомнений, что такое ограничение было установлено законом Суллы об умалении величия, см.: Mommsen 1899 (F 119): 710—711; вероятно, это предусматривало и предшествующее законодательство об умалении величия, см.: Bauman 1967 (F 16): 87—88.
129а Англ, «измена». В русскоязычной историографии понятие «maiestas» обычно переводится как «умаление величия» (менее точно — «оскорбление величия»), a «perduellio» — как «государственная измена». — Ο.Λ.
598
Часть Π
называет его «publica quaestio»129b. Между 96 и 91 гг. до н. э. в нем был обвинен Гай Норбан; следовательно, в этот период данный суд еще действовал130. Как и в других постоянных судах того времени, присяжными в нем были всадники131. Эти аргументы не являются решающими: дело в том, что особые суды могли иметь присяжных-всадников и особые суды могли работать дольше года132, к тому же Валерий Максим мог оказаться не совсем точен. Тем не менее, особые суды обычно занимались какими-то определенными событиями, и если популяр Сатурнин учредил особый суд с какой-то конкретной целью, то вряд ли оптиматы смогли бы использовать его для нападения на популяров вроде Норбана! Итак, более вероятно, что суд, основанный Сатурнином, был постоянным.
Бариев закон, принятый в 90 г. до н. э. (или, возможно, на исходе 91 г. до н. э.), тоже представляет собой загадку; его считают законом об умалении величия (maiestas), поскольку согласно этому закону Марк Эмилий Скавр был обвинен в предательстве (proditio)133, но выглядит странным, что Цицерон использует слово «proditio», а не «maiestas». Источники сходятся в том, что данный закон был направлен против тех, чья помощь и советы побудили союзников взяться за оружие против Рима в Союзнической войне134. Ввиду специфичности этой задачи представляется несколько более вероятным, что Бариев закон учредил особую судебную комиссию, работавшую на протяжении Союзнической войны135, но не исключена возможность и того, что Барий просто добавил статью о предательстве (proditio) к закону Сатурнина и расширил компетенцию его суда.
Вернемся к первой, более сложной, проблеме: какими мотивами руководствовался Сатурнин, учреждая суд по делам об умалении величия (quaestio maiestatis)? Конечно же он не стремился ввести «с нуля» представление о новом преступлении. Весьма вероятно, что умаление величия римского народа уже являлось формой или составной частью государственной измены (perduellio)136, и в любом случае понятие «perduellio», включавшее диапазон преступлений от государственной измены до причинения ущерба государству, было настолько широким, что могло бы легко включать в себя и умаление величия (maiestas). Если ответ кроется не в характере преступления, то искать его следует в характере суда. В от¬
12уь Ср. выше, с. 583 наст. изд.
130 См.: Валерий Максим. VTH.5.2 — о выражении «publica quaestio» и о процессе Гая Норбана в данном суде; об обвинении Норбана согласно Аппулееву закону ср. также: Цицерон. 06 ораторе. П.107.
131 См.: Цицерон. 06ораторе. П.199.
132 О присяжных-всадниках см.: Цицерон. Брут. 128; об особом суде, работавшем со 182 по 181 г. до н. э., см.: Ливий. XL. 19.9—10.
133 Цицерон в: Асконий. В защиту Скавра. 22С; Асконий. В защиту Корнелия. 73С.
134 Асконий. 22С, 73С.
135 Цицерон. Брут. 304
136 Бауман отмечает несколько случаев, когда и до принятия Аппулеева закона источники упоминают о лицах, обвиненных перед народным судом в умалении величия: это Клавдия — в 246 г. до н. э., отец Фламинина — в 232-м и сам Фламинин — в 193-м, см.: Bauman 1967 (F 16): 31.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
599
личие от народного суда, в постоянных комиссиях (quaestio perpetua) присяжными тогда были только всадники. В отличие от особых судов, постоянные были под рукой в любое время. Высказывалось мнение, что на Сатурнина произвел впечатление успех Мамилиевой комиссии, учрежденной в 109 г. до н. э. для преследования сенаторов, которые преступно поддерживали антиримскую деятельность Югурты: эта комиссия осудила по меньшей мере пять сенаторов;137 когда ранее, в 111 г. до н. э., трибун Гай Меммий попытался предпринять такое же судебное преследование в ко- мициях, ему преградило путь вето коллеги138. Однако Сатурнин не просто охотился за головами бездарных полководцев, подобных Квинту Цепиону (на котором лежала часть ответственности за катастрофическое поражение при Араузионе в 105 г. до н. э.), хотя прецедент Мамилиева суда (quaestio Mamilia) как будто указывает на это. Два несомненных и еще два предполагаемых судебных процесса, состоявшихся в соответствии с законом Сатурнина, были связаны с таким преступлением, как мятежные действия трибуна или квестора139, поэтому представляется вероятным, что по меньшей мере одной из целей Сатурнина была борьба с мятежами, хотя тот факт, что позднее его судебная комиссия использовалась против его сотоваршцей-популяров, предполагает некую размытость ее компетенции. В историографии высказывалось меткое соображение, что эта неопределенность крылась в понятии «римский народ» («populus Romanus»); Сатурнин желал, чтобы его закон защищал народных лидеров, подобных ему самому, которые в качестве популяров (populares) воплощали собой народ (populus), но его противники-оптиматы понимали под народом (populus) всю общину целиком, руководимую сенатом140. Поэтому закон Сатурнина с такой легкостью использовался для достижения целей, которые его самого ужаснули бы. Понятие «умаление величия» («imminuta maies- tas») было печально известно своей расплывчатостью141.
Меньше известно о сулланском законе об умалении величия (lex maiestatis); подобно остальным Корнелиевым законам, он почти наверняка имел общий характер, консолидировал элементы предыдущего законодательства142 и добавлял (или просто уточнял) нормы, регулировавшие поведение наместника провинции, в частности запрет вести войну или выводить армию из провинции без указаний сената и народа — нор¬
137 Саллюстий. Югуртинская война. 40; Цицерон. Брут. 128.
138 Саллюстий. Югуртинская война. 30—34.
139 См.: Bauman 1967 (F 16): 45—48: обвиняемыми были Норбан (трибун), младший Це- пион (квестор) и, возможно, Тиций и Аппулей Дециан, сторонники Сатурнина (трибуна).
140 См.: Ferrary 1983 (С 50): 568-571.
141 Вся дискуссия на процессе Норбана, изложенная в трактате Цицерона «Ор ораторе» (П. 107—109) устами Марка Антония, защитника обвиняемого, выглядела бы абсурдной, если бы в законе содержалось определение понятия «умаление величия» («imminuta maiestas»).
142 Бауман почти наверняка ошибается, утверждая, что закон Суллы не содержал заимствованных положений, см.: Bauman 1967 (С 50): 68—90. Если бы Бауман был прав, то данный закон резко отличался бы от всех остальных консолидационных законов Суллы, о которых у нас имеются свидетельства.
600
Часть Π
мы, содержавшиеся также в Юлиевом законе о вымогательствах (Lex Iulia de repetundis)143. Закон Суллы, как и закон Сатурнина, не содержал точного определения понятия «умаление величия римского народа»;144 вероятно, так же обстояло дело и с Юлиевым законом об умалении величия (Lex Iulia maiestatis), который провел Цезарь145 146, поскольку расплывчатость этого понятия широко использовалась в эпоху Принципата. Возможно, Юлиев закон всего лишь формально отменил смертную казнь, заменив ее лишением огня и воды.
Короче говоря, ясно, что законодательство об умалении величия (maiestas) имело две главные цели: защитить республиканские институты от ниспровержения, ибо полагаться на нравы предков (mos) в этом отношении было уже невозможно, и удержать чрезмерно могущественных наместников и полководцев от «неконституционной» деятельности. Ни одна из этих целей не была достигнута.
Обратимся теперь к группе судов, разбиравших преступления, которые не ассоциировались исключительно или преимущественно с сенаторским сословием. Одним законом, а именно Корнелиевым законом об убийцах и отравлениях (Lex Cornelia de sicariis et veneficiis), Сулла объединил два суда, ранее существовавших обособленно: один из них карал отравления (veneficia), второй — профессиональных убийц (sicarii). Убийства были популярным «развлечением». Однако прежнее различие между судами сохранялось, видимо, даже после их слияния — такое случалось, по крайней мере, тогда, когда в судебных делах царило оживление и нескольким судам приходилось заседать одновременно, разбирая случаи насильствен- ных смертей140.
Происхождение и история суда по делам об отравлениях (quaestio de veneficiis) представляют меньше проблем. Самое раннее упоминание о нем содержится в надписи147 Гая Клавдия Пульхра, консула 92 г. до н. э., который председательствовал в суде по делам об отравлениях около 98 г. до н. э. С другой стороны, ряд особых комиссий, занимавшихся между 184 и 152 гг. до н. э. именно отравлениями, свидетельствуют о том, что римляне были одержимы страхом перед отравлениями, особенно массовыми или предпринятыми ради избавления от знатных супругов148.
143 Цицерон. Против Пизона. 50.
144 Из рассказа Аскония о процессе Корнелия и комментария Аскония к утраченной речи Цицерона очевидно, что указанное понятие оставалось неоднозначным.
145 См.: Цицерон. Филиппики. 1.21—23; Bauman 1967 (С 50): 157—158.
146 См.: Цицерон. В защиту Клуенция. 147, 148 — о событиях 66 г. до н. э. На основании того, насколько часто убийства и государственная измена (perduellio/maiestas), иногда в сочетании друг с другом, упоминаются в «Риторике для Геренния» — руководстве для ораторов, написанном почти наверняка до Суллы, — можно предположить, что именно убийства и государственная измена доставляли римским адвокатам основные средства к существованию еще до судебного законодательства Суллы. (О средствах к существованию автор пишет, судя по всему, иронически, поскольку Цинциев закон запрещал ораторам принимать вознаграждение от подзащитных. — О.Л.)
147 CIL VI: 1283.
148 Ливий. XXXIX.38.3 (184 г. до н. э.); XL.37, 43.2 (180 г. до н. э.); XL.44.6; Ливий. Периохи. ХЬУШ (152 г. до н. э.).
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
601
Однако, как нередко бывает, вымышленный случай, отнесенный к 331 г. до н. э., более показателен, чем реальные149 *. В этой истории участвуют знатные жертвы и множество матрон-убийц: сто девяносто женщин были либо казнены, либо отравились собственными смертоносными зельями; упоминается также чума и искупительный гвоздь, вбитый в стену храма Юпитера Наилучшего Величайшего. Общегосударственное значение преступления подчеркивается через упоминание вбитого гвоздя: отравление первенствующих граждан (primores civitatis) их женами вполне могло вызвать гнев богов. В 152 г. до н. э. обвинены были всего две мужеубийцы
1 кл
из высшего сословия , и легко понять, почему кто-то счел, что проще будет иметь под рукой постоянный суд по делам об отравлениях (quaestio de veneficiis) и избавиться от неудобств, связанных с регулярным учреждением особых судов для разбора таких преступлений. Постоянный суд мог быть основан в любой момент между 149 и 98 гг. до н. э., но в пользу того, что это произошло до 120 г. до н. э., можно привести те же аргументы, какие уже озвучивались в связи с судом по делам о нарушениях при соискании (quaestio ambitus).
Дата и цель создания первого постоянного суда по делам об убийствах (quaestio de sicariis) вызывает больше споров. Упоминания об этом суде мы можем проследить начиная с 80-х годов I в. до н. э. или немного раньше151. Однако у Цицерона встречается претор Луций Тубул, руководивший судом по делам об убийствах (quaestio de sicariis) в 142 г. до н. э.; он был обвинен в получении взяток и, чтобы не предстать перед особой судебной комиссией, отправился в изгнание 152. Нет никакой возможности точно определить, о каком суде по делам об убийствах говорит Цицерон — постоянном или особом. В пользу первого варианта свидетельствует тот факт, что в других местах, говоря о постоянном суде, Цицерон всегда использует выражение «quaestio inter sicarios», и его же он употребляет в рассказе о Тубуле; в пользу второго варианта — тот факт, что больше нигде и никогда Цицерон не говорит о председателе постоянного суда как о получателе взятки «ob rem iudicandam» (что примерно можно перевести как «за вынесение неправедного приговора»), ибо в постоянном суде приговор выносили присяжные, а не председатель. Мнения исследователей разделились;153 можно отметить лишь прямое утверждение Цицерона о том, что Тубул должен был предстать перед особым судом, а это может подразумевать, что сам Тубул руководил постоянным.
149 Ливий. νΐΠ.18.
ьо Ливий. Периохи. XLVTH; Валерий Максим. VI.3.8.
ы Даже если описанный в пассаже Цицерона (О нахождении материала. П.59—60) случай является вымышленным, он доказывает существование суда по делам об убийствах (quaestio de sicariis) во время написания Цицероном своей книги (начало 80-х годов I в. до н· э.). Другой пассаж Цицерона (В защиту Росция Америйского. 64) свидетельствует о том, что к 80 г. до н. э. интересующий нас суд работал уже несколько лет.
Ь2 Цицерон. О пределах блага и зла. П.54.
ьз Напр., Джонс считает этот суд особым (Jones А.Н.М. 1972 (F 89): 54), Кункель — постоянным (Kunkel 1962 (F 92): 45).
602
Часть Π
Сходная проблема связана с Луцием Кассием Лонгином, председательствовавшим в суде по делам об убийствах (quaestio de sicariis). Аско- ний сообщает, что Кассий не раз бывал руководителем суда (quaesitor), расследовавшего смерти, а фраза автора «Риторики для Геренния» позволяет предположить, что Кассий председательствовал в какой-то постоянной комиссии (quaestio perpetua), хоть и не уточняется, в какой154. Если Кассий когда-либо руководил судом по делам об убийствах (quaestio de sicariis), то это было до 130 г. до н. э. — даты его претуры, ибо, в отличие от особых комиссий, председателями постоянных уголовных судов никогда не бывали лица по рангу старше претора, а судом по делам об убийствах (по крайней мере, позднее) обычно руководили лица более низкого ранга.
Важно не переводить выражение «quaestio de sicariis» как «murder- court», хотя так часто делают: в республиканской латыни слово «sicarius» означало не просто убийцу, но профессионального киллера, вооруженного кинжалом (sica)154a. Имеется свидетельство о том, что ношение оружия (telum) было самым первым преступлением, упомянутым в законе Сул- лы155. Известен случай (имевший место еще до Суллы), когда член вооруженной группировки, в драке отрезавший руку римскому всаднику, считал, что его могут привлечь к суду inter sicarios156. Кроме того, закон Суллы — и, вероятно, предшествовавший ему закон — судя по всему, применялся только в отношении преступлений, совершенных в пределах одной римской мили от города Рима: такое ограничение выглядело бы странным, касайся закон прежде всего бытовых убийств157. Бесспорно, убийство упоминалось в первой главе закона, и позднее, возможно, к концу рассматриваемого здесь периода158, lex de sicariis стал считаться законом об убийствах вообще, но ввиду имеющихся в нашем распоряжении свидетельств представляется вероятным, что изначально это был статут, кото¬
154 Асконий. 45С; Риторика для Геренния. IV.41.
154а В русском языке понятие «убийство» шире и включает не только «murden> (убийство по личным мотивам или ради личной выгоды), но и «assassination» (убийство по политическим или идеологическим мотивам, заказное убийство). Словарный перевод латинского слова «sicarius» — «убийца», поэтому выражение «quaestio de sicariis» («inter sicarios») здесь переведено как «суд по делам об убийствах», хотя указанный в тексте нюанс необходимо иметь в виду. — О.Л.
155 Во всяком случае, оно стоит первым в тексте, который представлен как первая глава закона Суллы (Сопоставление законов Моисеевых и рижских. 1.3.1).
156 Цицерон. О нахождении материала. П.59—60.
157 Сопоставление законов Моисеевых и римских. 1.3.1 — здесь указано ограничение в одну милю. Возможно, существовала еще одна (не сохранившаяся) глава, относившаяся к убийствам за пределами Рима; однако трудно предположить, зачем могло бы понадобиться такое разделение, и нет ни одного бесспорного примера, когда человек был бы привлечен inter sicarios за преступления, совершенные исключительно вне Рима.
158 Так, несомненно, обстояло дело к середине I в. н. э. (см.: Сенека Младший. О благодеяниях. V.14.2; Ш.6.2 — здесь понятие «homicidium» используется в выражениях, где подразумеваются sicarii, а значит, словоупотребление бесспорно изменилось). Но и Цицерон в письме, написанном в 44 г. до н. э. [Письма к близким. ХП.3.1), использует слово «sicarii» как синоним слова «homicidae».
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
603
рый предназначался прежде всего для борьбы с вооруженными группировками, орудовавшими в Риме, и стал первой попыткой устранить проблему, для решения которой впоследствии были приняты более детально прописанные Плавциев закон о насильственных действиях (Lex Plautia de vi) и Лициниев закон о сообществах (Lex Licinia de sodaliciis). Sicarii несколько раз упоминаются в речи Цицерона в защиту Росция Америйского в связи с убийством отца Росция и незаконным присвоением поместий оного159. Это означает, что sicarii были не настолько политизированы, как коллегии и сообщества (sodalitates), для борьбы с которыми принимались репрессивные постановления сената и в 55 г. до н. э. — закон Красса. Опять же отряды Клодия, организованные для достижения политических целей, отличались от наемных убийц, которых якобы использовал Каталина160 и которые могли зарабатывать на жизнь гладиаторскими боями или просто разбоем, когда не были заняты запугиванием избирателей или политических противников. Иными словами, суд, которым в 142 г. до н. э. руководил Тубул, мог карать не тех, кто занимался запугиванием в политических целях, а тех, кто зарабатывал себе на жизнь насилием. Это не решает вопроса о том, был ли суд Тубула в 142 г. до н. э. регулярным или особым, но свидетельство Цицерона в «Бруте» указывает на то, что к 130-м годам до н. э. существовало больше одного постоянного суда (quaestio perpetua)161, а суд по делам об убийствах (quaestio de sicariis) — единственный, о котором мы слышим в этот период, не считая суда по делам о вымогательствах (quaestio de repetundis).
О Корнелиевом законе об убийцах и отравлениях (Lex Cornelia de sicariis et veneficiis) известно больше, чем о любом из остальных республиканских уголовных законов. У нас имеются две выдержки из него (Цицерон. В защиту Клуенция. 151, 154), а также две речи («В защиту Росция Америйского» и «В защиту Клуенция»), произнесенные Цицероном в суде, который был учрежден этим законом. Поскольку последний заложил основу соответствующего раздела права эпохи Империи, об этом законе сохранилось довольно много сведений в «Дигестах» и других правовых источниках162. Известно, что он карал ношение оружия с целью убийства или грабежа, само убийство, поджог и подстроенное осуждение невиновного за уголовное преступление (последняя статья была заимствована из
Ь9 Наиболее подробно sicarii освещены в гл. 93 данной речи, но см. также ее гл. 80, ЮЗ, 151 и 152.
160 О постановлениях сената о запрете коллегий см.: Асконий 7 (в 64 г. до н. э.) и 75С (позднее); об использовании Каталиной наемных убийц см.: Цицерон. Против Катилины. П.7, 22; Цицерон. В защиту Мурены. 49.
161 Цицерон. Брут. 106.
162 Особую ценность представляет «Сопоставление законов Моисеевых и римских» (1.3.1), где будто бы приводятся подлинные слова первой главы этого закона; анализ их языка показывает, что, хотя текст и подвергся некоторой адаптации, в целом подтверждается правомерность его притязания на подлинность. В «Дигестах» (48.8.1 и 3) тоже содержится ценный аутентичный материал; даже в «Сентенциях» Павла (V.23), возможно, наличествует материал, восходящий к 81 г. до н. э.
604
Часть Π
гракханского закона, который обычно называют Законом против судебных злоупотреблений... (lex ne quis iudicio circumveniretur или circumveniatur)103. В главах, посвященных отравлению, закон карал не только непосредственного отравителя, но и всех его сообщников, например, изготовителя яда или заказчика преступления.
Два обстоятельства наводят на мысль о том, что к этому суду могли привлекаться обвиняемые, занимавшие более низкое социальное положение, чем сенаторы и всадники, о процессах которых нам известно из источников. Во-первых, известно, что в 66 г. до н. э. потребовались три суда, чтобы рассмотреть все дела, подпадающие под действие этого закона* 164, и маловероятно, что в сословиях сенаторов и всадников нашлось столько кровожадных личностей, чтобы загрузить их делами три суда. Во-вторых,
А.-Х.-М. Джонс отметил, что, в отличие от всех прочих известных нам судов, за исключением суда по делам о насильственных действиях (quaestio de vi), в суде по делам об убийствах (quaestio de sicariis) обычно председательствовал эдилиций, а не претор; отсюда английский историк обоснованно делает вывод, что данный суд имел более низкий статус165. Указанный низкий статус определялся не наказанием, которое было более суровым, чем в некоторых других судах, руководимых преторами (например, в суде по делам о нарушениях при соискании (ambitus) — на протяжении большей части его истории), и не его общей непрестижностью — об обратном говорит то обстоятельство, что в свою претуру Цицерон руководил судом по делам о вымогательствах (repetundae)166 и при этом не погнушался взяться за дело Клуенция. Поэтому низкий статус суда определялся, по-видимому, статусом обвиняемых.
Аргументация Джонса применима также и к quaestio de vi. В конце речи в защиту Целия167 Цицерон поминает суд по делам о насильственных действиях (vis), учрежденный Лутациевым законом, вероятно, в 78 г. до н. э., для наказания мятежников. Все остальные, весьма многочисленные республиканские свидетельства отсылают нас к Плавциеву (или Плоциеву) закону. Самый ранний известный нам случай судебного обвинения по данному закону можно датировать 63 г. до н. э.168. Без сомнения, он был принят между 81 и 63 гг. до н. э., поскольку дублировал или расширял Корнелиев закон об убийцах (Lex Cornelia de sicariis), принятый в 81 г. до н. э. Сегодня большинство исследователей датирует Плавциев закон 70-м г. до н. э.169. Невозможно установить, как он соотносился с таинственным Лутациевым законом. Статут Квинта Лутация Катула, несомненно,
1(33 Цицерон. В защиту Клуенция. 151.
164 Цицерон. В защиту Клуенция. 147.
165 Jones А.Н.М. 1972 (F 89): 58-59
166 Цицерон. В защиту Клуенция. 147.
167 Цицерон. В защиту Целия. 70.
168 Имеется в виду попытка обвинения Каталины (Саллюстий. О заговоре Каталины. 31.4).
169 Вероятно, 70 г. до н. э. датируются Плавциев закон о возвращении сторонников Аепида (Lex Plautia de reditu Lepidanorum) и Плавциев земельный закон (Lex Plautia
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
605
был внесен для предотвращения угрозы гражданской войны, которую создавали действия второго консула, Марка Эмилия Лепида, но остается лишь догадываться, что именно учредил его закон — особую комиссию, прекратившую свою работу после подавления восстания, или постоянный суд, занимавшийся исключительно мятежами (seditio), юрисдикцию которого впоследствии расширил Плавциев закон.
Благодаря Цицерону и его античным комментаторам мы довольно много знаем о задачах Плавциева закона: он карал лиц, которые препятствовали сенату собираться на заседание, запугивали его во время дебатов, угрожали магистратам и судьям или нападали на них, срывали судебные заседания, занимали вооруженными отрядами тактически важные позиции, поджигали или повреждали общественные здания, носили оружие в общественных местах, покупали или тренировали гладиаторов, рабов либо других лиц с целью поджога, убийства или мятежа. Возможно, закон карал также тех, кто запасал оружие в пагубных целях170. В гл. 9 и 10 наст, тома подробно разъяснена необходимость принятия подобного закона; из них очевидна также его неэффективность.
Особый суд по делам о насильственных действиях (de vi), учрежденный Помпеем, уже упоминался. Закон Цезаря о насильственных действиях171, возможно, лишь заменил формальную высшую меру наказания на обязательное лишение огня и воды172.
Следует кратко упомянуть еще два момента, связанных с насильственными действиями (vis). Во-первых, после Суллы насильственные действия представляли интерес не только для уголовного права; они порождали также бурную деятельность в сфере гражданского права173. Правотворчество затрагивало преимущественно сельскую местность, а не город, и имело целью защитить законных владельцев от всякого рода нападений. Эти преторские решения были вызваны, по-видимому, сельскими беспорядками, усилившимися после расселения ветеранов Суллы в италийских хозяйствах. Во-вторых, политическое насилие 50-х годов I в. до н. э. знаменовало крах всех средств социального контроля в Риме. Римское общество всегда требовало, чтобы его члены при необходимости применяли силу для защиты собственных интересов — конечно, не выходя за определенные рамки. В легендарных примерах из римской истории народ защищает невин¬
agraria). Можно привести аргументы в пользу немного более поздней его датировки, однако нежелательно постулировать существование еще одного, более ничем не известного, Плавция, занимавшего магистратуру в другое время.
170 Основные источники: Цицерон. В защиту Целия. 1; Цицерон. О своем доме. 54; Цицерон. В защиту Милона. 73; Цицерон. В защиту Сестия. 75, 76, 84, 95; Цицерон. В защиту Суллы. 15, 54; Цицерон. Против Ватиния. 34; Саллюстий. О заговоре Катилины. 27.2; [Саллюстий.] Инвектива против Цицерона. 3; Асконий. 49С.
171 Цицерон. Филиппики. 1.23.
172 Юлиевы законы, рассмотренные в Дигестах (48.6, 7), принадлежат Августу: в этих законах (или законе) содержался раздел о праве обжалования (provocatio), но Ливий в кн. X (9.4) по-прежнему называет главным законом об обжаловании Порциев закон. Следовательно, статут, упомянутый в «Дигестах», был принят Августом, а не Цезарем.
173 См.: Frier 1983 (F 204); Frier 1985 (F 205): 51-56.
606
Часть Π
ных и хватает и даже карает виновных174. «Vim vi repellere», «силу отражать силой» — эта максима поведения считалась бесспорной175. Поэтому если бы сдерживающее воздействие нравов и обычаев предков (mos maiorum) дало где-то слабину, то с наибольшей вероятностью трения должны были возникнуть вокруг отношения к насилию (vis), так как в этом вопросе особенно трудно было найти баланс. И именно здесь они и возникли.
Сулла учредил новый суд, занимавшийся преступлениями, связанными с подделкой монет и завещаний. Предысторию решения о криминализации изготовления фальшивых денег изложить несложно: эдикт Мария Гратидиана (86 или 85 г. до н. э.) и его популярность свидетельствуют о том, что общество было озабочено порчей монеты176. Можно предположить, что данный закон был направлен прежде всего против нечистоплотных монетариев. Что касается подделки завещаний, приписок к ним и подписей, то побудить Суллу объявить ее преступлением мог какой-либо знаменитый инцидент. Законом о подделке завещаний и монет (lex testamentaria nummaria) предусматривалась кара — лишение огня и воды.
Особенно сложную загадку представляет собой Корнелиев закон о посягательствах на личность (Lex Cornelia de iniuriis). Понятие «iniuria» служило общим названием для целого ряда преступлений, прежде всего для оскорбления словом и действием, которые могли послужить предметом гражданского иска. Известно, что закон Суллы карал за нападения, совершенные при отягчающих обстоятельствах и за вторжение в жилище, не исключено, что и за диффамацию177. Можно практически не сомневаться, что он предусматривал разбирательство в судебной комиссии (quaestio)178. Но в относительно подробных республиканских источниках нет никаких упоминаний о суде по делам о посягательстве на личность (quaestio de iniuriis), а к тому времени, когда составлялись правовые источники, то есть ко П—Ш вв. н. э., эта судебная комиссия уже исчезла (если она вообще когда-либо существовала). Налицо — два варианта, не обязательно взаимоисключающих: (7) возможно, посягательство на личность (iniuria) не заслуживало собственной судебной комиссии (quaestio),
174 Классические примеры см.: Ливий П.55; Ш.56. Подробное рассмотрение этого вопроса см.: Lintott 1968 (А 62): 6—21; Lintott 1972 (F 102): 228—231.
175 Гай Кассий Лонгин, юрист I в. н. э., даже считал данную максиму законом природы, см.: Дигесты. 42.16.1.27.
176 Об эдикте Мария Гратидиана см.: Цицерон. 06обязанностях. Ш.80; Плиний. Естественная история. ХХХШ.132; XXXIV.27; Сигер в гл. 6, с. 206 наст. изд.
177 Вопрос о том, включал ли закон Суллы диффамацию, является спорным: в «Диге- стах» (47.10.5.9, Ульпиан) диффамация упомянута в комментарии к Корнелиеву закону. Но другой пассаж «Дигест» (47.10.5 Предисл. (Ульпиан)) предполагает, что даже после толкований юристов закон распространялся только на случаи физического посягательства.
178 Ульпиан (Дигесты. 47.10.5 Предисл) перечисляет родственников истца, ни один из которых не может быть судьей (iudex) в судебном иске по Корнелиеву закону (ex lege Cornelia). Параллели для такого перечня можно найти для присяжных в судебной комиссии (quaestio), но не для единственного судьи и не для весьма малочисленных рекуператоров, назначаемых претором для каждого конкретного иска о посягательстве на личность (iniuria).
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
607
но разбиралось в одной из других комиссий, например, в суде по делам об убийствах (quaestio de sicariis);179 (2) возможно, вторжение в жилище было простонародным преступлением, которое игнорировали античные авторы, принадлежавшие исключительно к высшим классам180. Что касается нескольких упоминаний о диффамации в эпоху Республики, то они предполагают, что, когда один сенатор порочил другого, этот конфликт решался своего рода словесной дуэлью, которая называлась «sponsione provocare» («бросить вызов» или «предложить пари»). На простонародный характер посягательства на личность (iniuria) указывает и тот факт, что обвинителем по этому закону мог стать только пострадавший или его представитель181. Конечно, не исключено, что изначально этой нормы не существовало и она была введена позднее, когда преследование за посягательство на личность (iniuria) в судебной комиссии (quaestio) вышло из обычая; а сделано это было, чтобы согласовать процедуру с обычной процедурой гражданских исков; но если данное правило существовало изначально, то оно свидетельствует о том, что в представлении Суллы его судебная комиссия по делам о посягательстве на личность (quaestio de iniuriis) походила на трибунал гражданского права больше, чем остальные его судебные комиссии, где обвиняемые обычно являлись выдающимися лицами. В современных руководствах по римскому праву утверждается, что наказанием был крупный штраф, но в правовых источниках о наказании вообще ничего не говорится; более того, оно могло быть даже высшей мерой182.
Известен еще один постоянный суд, учрежденный Папиевым законом 65 г. до н. э. для разбора споров, связанных с римским гражданством; аналогичный суд, основанный в 95 г. до н. э. законом Лициния—Муция, несомненно, был чрезвычайным (extra ordinem). Фабиев закон о похитителях людей (Lex Fabia de plagiariis), принятый до 63 г. до н. э., но, видимо, после Суллы, по-видимому, устанавливал высшую меру наказания для некоторых разновидностей похищения людей. Вероятно, в 55 г. до н. э. Помпей провел закон de parricidiis, вносивший некоторые поправки в законодательство об убийцах близких родственников183.
179 Понятия посягательства на личность и убийства пересекались, что делает данную гипотезу довольно убедительной (см.: Цицерон. О нахождении материала. П.59—60). Она может объяснить также, почему в 66 г. до н. э. функционировало сразу три суда.
180 С другой стороны, оскорбление действием — по крайней мере, в эпоху Империи, — было своего рода аристократической забавой; ср. ночные развлечения Нерона (Тацит. Анналы. ХШ.25; Светоний. Нерон. 26.1) и великосветского буяна у Ювенала (Сатиры. Ш. 278-300).
181 О «sponsione provocare» см.: Crook 1976 (F 199); о праве на обвинение см. свидетельства Павла (Дигесты. 3.3.42.1) и Ульпиана (Дигесты. 47.10.5.6—8).
182 Пересечение сфер регулирования законов об убийцах (de sicariis) и о посягательстве на личность (de iniuria) уже отмечалось в сноске 159 наст. гл. Было бы парадоксальным, если бы один человек лишился гражданских прав (caput) за обычное посягательство (iniuria), а другой, признанный виновным в опасном посягательстве согласно Корнелиеву закону (iniuria atrox ex lege Cornelia), отделался бы штрафом.
188 О Папиевом законе см.: Цицерон. В защиту Бальба. 52; Цицерон. Письма к Атти- КУ- IV. 18.4; Цицерон. В защиту Архия. 10; Цицерон. Об обязанностях. Ш.47; Валерий Мак¬
608
Часть Π
Судебные законы
Исследователи считают, что Сулла увеличил число преторов до восьми ради того, чтобы каждой из его судебных комиссий (quaestiones) руководил претор. Если цель действительно состояла в этом, то она не была достигнута отчасти из-за создания новых судов после его смерти, отчасти из-за необходимости одновременной работы нескольких судов по делам об убийствах и отравлениях (sicariis et veneficiis); ведь и этими судами, и, по крайней мере, иногда, судом по делам о насильственных действиях (de vi) руководили эдилиции. Сулла также передал суды от всаднического сословия сенаторскому, введя сперва в сенат триста всадников184. Мы уже отмечали, что в Риме звучали жалобы на продажность присяжных-сена- торов; да и сами присяжные находили свою службу обременительной185 — несомненно, потому что списки присяжных были маленькими, а значит, каждому отдельному сенатору приходилось часто исполнять обязанности присяжного. В 70 г. до н. э. Луций Аврелий Котта учредил смешанные суды, что, видимо, собирался сделать еще Друз в 91 г. до н. э.; как мы уже видели, Аврелиев закон ввел в списки присяжных равное число сенаторов, всадников и эрарных трибунов186. Судебный закон Котты был не радикальной мерой, но компромиссом, и, хотя Цезарь, Антоний и Август кое- что подправляли, принцип набора присяжных из нескольких сословий сохранился до эпохи Империи187.
Насильственные действия (vis) и убийства, совершаемые в Италии
В наших познаниях о борьбе с убийствами и насильственными действиями (vis) зияет одна лакуна: нам неизвестно, как обычно карались такие преступления, совершенные в Италии, за пределами пригородов Рима. В провинции они разбирались в суде наместника; иногда, особенно во П в. до н. э., как уже было показано, италийские преступления такого рода расследовали особые судебные комиссии. Обвиняемые, совершившие часть своих преступлений в Риме (подобно Оппианику в 74 г. до н. э. и Целию в
сим. Ш.4.5; Дион Кассий. XXXVII.9.5. О Лициниевом законе см.: Цицерон. В защиту Балъ- 6а. 48; об обоих этих законах см.: Badian 1973 (С 164); о Фабиевом законе см.: Цицерон. В защиту Рабирия, обвиненного в государственной измене. 8 (речь произнесена в 63 г. до н. э.). О законе de parricidiis см.: Дигесты. 48.9.1 и 9 ПредислЛ.
184 Аппиан. Гражданские войны. 1.100; также: Веллей Патеркул. П.32; Тацит. Анналы. XI.22; Цицерон. Против Берреса. 1.37.
185 Цицерон. Против Берреса. П.1.22; Цицерон. В защиту Целия. 1.
186 См. выше, с. 587.
187 Об Аврелиевом законе см.: Асконий. Против Пизона. 17С; Схолия из Боббио. 94 Stangl; он же подразумевается в пассаже: Цицерон. Письма к Аттику. 1.16.3. Цезарь упразднил панель эрарных трибунов (Светоний. Божественный Юлий. 41.2); Антоний вновь учредил третью панель, которую Цицерон характеризует в весьма оскорбительных выражениях (Филиппики. 1.20), однако, это, вероятно, были эрарные трибуны.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
609
56 г. до н. э.), представали перед соответствующей постоянной судебной комиссией (quaestio perpetua) в Риме. Но, несомненно, оставалось еще множество муниципальных убийств, совершенных людьми, которые ограничили свою активность Италией и не настолько прославились, чтобы заслужить разбирательство в особом суде. Как их наказывали? Ни один ответ на этот вопрос не свободен от трудностей. Можно предполагать, что их судили в Риме, поскольку даже гражданская юрисдикция муниципальных магистратов была ограничена188. И под чью юрисдикцию попал бы подозреваемый в убийствах, совершенных и в Аквине, и в Арпине? Но против этого решения свидетельствует не только прямое утверждение в «Сопоставлении законов Моисеевых и римских» (1.3.1) о том, что юрисдикция суда по делам об убийствах (quaestio de sicariis) заканчивалась на расстоянии одной римской мили от Рима, но и отсутствие надежных свидетельств о процессах чисто муниципальных убийц в суде по делам об убийствах (quaestio de sicariis), и, с другой стороны, тенденция объединять неправдоподобные обвинения в преступлениях, совершенных в Риме, с гораздо более правдоподобными обвинениями в преступлениях, совершенных за пределами города. Остается возможность, что существовал второй суд, занимавшийся убийствами, совершенными вне Рима, хотя в источниках он и не засвидетельствован. Но всё же не исключено, что уголовные преступления, совершенные в муниципиях римскими гражданами, расследовались на месте, как предполагает одно из толкований Оскского закона Банцийской таблицы189. Не исключено, что в Италии родственникам римских граждан по-прежнему был доступен частный уголовный иск, о котором говорилось выше. Если не обнаружится какой-то новый муниципальный устав, который раскроет истину, любое решение этой проблемы останется лишь предположительным.
Оценка постоянных судебных комиссий (quaestiones perpetuae)
Из приведенного выше рассказа о постоянных судебных комиссиях (quaestiones perpetuae) вытекает, что они выполняли две основные функции: (7) наказание за преступления, особенно повлекшие за собой массовые беспорядки и совершенные и организованные выдающимися лицами, и (2) контроль над деятельностью магистратов и сенаторов. Данные функции суды выполняли неэффективно, но тому есть некоторые оправдания. До середины П в. до н. э. в управлении Римом было задействовано крайне мало правовых институтов, поскольку обычай предписывал самодисци¬
188 Текст Рубриева закона (Bruns: No 16, кол. 21) свидетельствует о том, что в Цизальпийской Галлии магистраты обязаны были передавать в Рим иски о возврате заемных Денег на сумму свыше 15 тыс. сестерциев. Они также не имели права вводить кого-либо во владение имуществом (missio in possessionem).
189 Bruns: No 8, 8-9, 14.
610
Часть Π
плину, а если дисциплина нарушалась — по крайней мере, уважение к магистратам. В 186 г. до н. э. консулы при некоторой помощи эдилов и уголовных триумвиров сумели задержать значительное число мужчин и женщин, обвиненных в участии в вакханальном заговоре, и казнить многих из них (Ливий. XXXIX. 14.17—18). Особая комиссия, руководимая консулами, не была уполномочена народом, и в своем распоряжении они имели очень мало подчиненных для проведения расследования и арестов. Однако, когда их позиция была представлена на народной сходке (contio), она снискала поддержку; консулы получили полезные сведения и, несомненно, активное содействие; в итоге в Риме и окрестностях культ Вакханалий был подавлен. Сравним это с событиями 67 г. до н. э.: консул Гай Кальпурний Пизон попытался, опершись на свой авторитет, заставить одного трибуна подчиниться запрету другого, но консула забросали камнями, а его фасции — сломали190. Едва ли стоит удивляться, что поначалу римлянам нелегко было приспособиться к столь резкому изменению отношения к законной власти.
Если рассматривать уголовные суды как средство наказания лиц, виновных в определенных преступлениях, то несложно увидеть, в чем заключались слабости постоянных комиссий (quaestiones perpetuae). Во-первых, система, основанная на том, что один член общества должен был взять на себя инициативу и привлечь к суду другого, с большой вероятностью окажется довольно непредсказуемой. И прежде всего это относится к системе, оказывающей обвинителю весьма слабую помощь при подготовке обвинения. Ему потребуется сильная мотивация: личное участие в событиях, возможности для собственного продвижения или перспектива финансовой выгоды191. В таких обстоятельствах нетрудно себе представить ситуацию, когда осторожный или популярный преступник мог и вовсе избежать судебного преследования.
Во-вторых, как только обвиняемый привлекался к суду, чаша весов склонялась на его сторону. Ошибки правосудия, выливавшиеся в осуждение невиновных, скорее всего, людей, таких, как Рутилий Руф в 92 г. до н. э., случались редко. Поразительный случай имел место в 52 г. до н. э. Особый суд Помпея по делам о насильственных действиях (de vi) осудил Милона за участие в стычке в Бовиллах, но оправдал Марка Сауфея — предводителя его банды, который нес личную ответственность за смерть Клодия192. Сам Цицерон хвастался, что нагнал туману на присяжных, защищая Клуенция193. Иногда оправдательные приговоры выносились вследствие подкупа, но, как свидетельствует дело Клуенция, заплатить
190 Асконий. 58С.
191 В последнем случае требовалась осторожность, ибо Цинциев закон 204 г. до н. э. запрещал платить гонорар судебным представителям; однако этот закон обходили (Тацит. Анналы. XI.7), и всегда существовала возможность оставить завещательный отказ. См. также: Alexander 1985 ( F 3).
192 Асконий. 54—55С.
193 Квинтилиан. Риторические наставления. П. 17.21.
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право
611
можно было за вынесение не только оправдательного, но и обвинительного приговора. Более важную роль играло воздействие кодекса поведения римлян высших классов на качество судебной защиты. Предполагалось, что римлянин должен преследовать своих врагов — как частных, так политических, — вне зависимости от своих ораторских дарований, но обвиняемый, естественно, приглашал на роль защитников самых красноречивых и влиятельных своих друзей. Так, в 56 г. до н. э. трибуниция Публия Сестия обвинял в насильственных действиях (de vi) Марк Туллий Альби- нован, подставное лицо, а защищали Гортензий и Цицерон, лучшие адвокаты своего времени, а также Марк Красе. Позднее, в том же году, Марка Целия обвинили в насильственных действиях семнадцатилетний юноша, который вел с ним семейную вендетту, и два ничтожных человека; Целий же, сам оратор не из последних, позвал на помощь Цицерона и Красса.
В третьих, не существовало правил доказательства. Мы уже видели, что такое положение дел можно было использовать в интересах справедливости, чтобы добиться разоблачения злодейств, но опытный оратор мог воспользоваться им, чтобы вызвать у слушателей предубеждение, не имеющее отношения к делу. Например, в речи «В защиту Клуенция» Цицерон обыграл неестественную ненависть Сассии (женщины, стоявшей за обвинением Авла Клуенция) к собственному сыну и якобы совершенные ею в прошлом убийства* 190 * * * 194. Даже если эта история правдива, она не имеет практически никакого отношения к обвинениям, выдвинутым против Клуенция. Таким образом, преимущество получал обладатель более выдающегося ораторского таланта, будь то обвинитель или защитник.
Наконец, как мы уже отмечали, система раздельных судов была неуклюжей и неудобной, как и система заранее установленных наказаний (если не считать оценки ущерба (litis aestimatio) в судах по делам о вымогательствах (repetundae) и казнокрадстве (peculatus)). Несомненно, присяжные испытывали соблазн оправдать подсудимого при наличии смягчающих обстоятельств, если альтернативой в случае осуждения являлось изгнание; третья возможность — вердикт «Неясно» («Non Liquet») — позволяла обойти эту проблему, но такие вердикты, видимо, никогда не поощрялись законодателями, а в 70 г. до н. э., вероятно, были упразднены Аврелиевым законом195.
В конце концов рассудительные римляне осознали, по крайней мере частично, указанные недостатки судебной системы: об этом свидетельствует не только постепенная замена судебных комиссий (quaestiones) юрис¬
194 О неестественной ненависти к сыну см.: Цицерон. В защиту Клуенция. 17—18, 192— 195; о прошлых убийствах см.: Цицерон. В защиту Клуенция. 11—17.
190 Цицерон (В защиту Клуенция. 76), рассказывая в 66 г. до н. э. о процессе Оппиани-
ка, состоявшемся в 74 г. до н. э., говорит, что некоторые присяжные «в соответствии с тем
старым порядком судопроизводства» («ex vetere illa disciplina iudiciorum»), проголосовали
на том процессе «Неясно» («Non Liquet»). Это последнее упоминание о вердикте «N.L.»,
поэтому вероятно, что в 70 г. до н. э. его отменил Аврелиев закон. Однако такой вердикт
не одобрялся уже в гракханском законе о вымогательствах (Bruns'. Nq 10: стк. 48).
612
Часть Π
дикцией префекта города (praefectus urbi) в эпоху Принципата, но и развитие других форм уголовной юрисдикции, по крайней мере, той, что предполагала в некоторых случаях активное участие магистрата в расследовании196. Таким образом, главные недостатки судебных комиссий были хотя бы отчасти исправлены. Однако их самым долговечным наследием стало учреждавшее их законодательство: эти статуты, принятые прежде всего Суллой, Цезарем и Августом, легли в основу правоведческо- го анализа преступлений, против которых они были направлены, и сохраняли влияние везде, где имело влияние римское право.
196 Судебные дела разбирал сам принцепс; делал это и сенат.
Глава 14
Дж.-А. Крук
РАЗВИТИЕ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
I
Право многогранно, и в историческом повествовании ни одну из его граней нельзя игнорировать. Право можно рассматривать как набор правил поведения, подкрепленных санкциями, как инструмент социальной инженерии, как механизм разрешения споров или как способ аргументации и образ мышления. В каждый момент времени оно может быть созвучно желаниям и обычаям общества или дисгармонировать с ними, и по одному только праву нельзя судить обо всех нормах поведения в обществе, ибо всегда существуют не менее, а то и более сильные социальные и экономические ограничения, и в полной мере понять право можно только во взаимосвязи с ними.
Данная глава посвящена частному праву1. При проведении границы между этой и другими категориями права могут возникать понятийные затруднения, но для целей данной главы достаточно иметь общее представление о различии между современным частным правом (которое английские юристы называют гражданским) и уголовным правом2. Суды, куда люди приходили с частными исками, отличались от тех, что описаны в предыдущей главе, и это позволяет провести границу на практике, но бывали и двойственные и пограничные случаи. Конечной точкой повествования в общем и целом служит смерть Цицерона; что касается начальной точки, то рассмотрение частного права ограничится его развитием после
1 Определения латинских терминов, приведенные без достаточно полного учета их контекста, см.: Berger 1953 (F 23). «Tolowicz» далее означает ссылку на работу: Tolowicz, Nicholas 1972 (F 85)
2 См., напр., изложение Клауда в гл. 13 наст, изд., с. 580. Следует отметить одно важное отличие: в Риме кража относилась к области частного, а не уголовного права.
614
Часть Π
издания Законов XII таблиц, но о периоде до окончания Ганнибаловой войны трудно утверждать что-то определенное3.
Если не говорить о методе экстраполяции «классического» права эпохи Принципата на более ранние времена, — о методе, который, несмотря на свои очевидные недостатки, остается незаменимым4, — свидетельства о республиканском частном праве содержатся в основном не в юридических текстах: сохранилось сравнительно мало устных или письменных высказываний республиканских юристов. Необходимо особо упомянуть одну более позднюю работу5 — сохранившийся в «Дигестах» Юстиниана длинный фрагмент «Однотомного пособия» (liber singularis enchiridii) юриста Помпония, написанного в середине П в. н. э.6. Этот пассаж делится на три части: первые две посвящены развитию того, что мы назвали бы «источниками права», и юрисдикционных магистратур, о большинстве из которых имеются куда более подробные источники. Но третья часть — это исторический перечень великих юристов, который представляет собой уникальное свидетельство. Определенное значение имеют несколько республиканских надписей7, в остальном приходится обращаться к литературе более общего характера. Плавт и Теренций дают свидетельства, позволяющие датировать некоторые правовые учреждения;8 в сельскохозяйственных трактатах Катона и Варрона содержатся упоминания о типовых контрактах;9 Валерий Максим и антиквары Авл Геллий и Фест приводят дефиниции и любопытные случаи; но самым главным источником служит Цицерон: почти все жанры, в которых он творил, дают нам важные сведения о развитии юриспруденции10.
Существует важное различие между, так сказать, «материальным правом», то есть нормами, устанавливающими права и обязанности людей, и «процессуальным», или «исковым», правом, определяющим процедуру, в соответствии с которой люди могут воззвать к закону, чтобы их права и обязанности воплотились на практике. Второе не менее важно, чем первое,
3 Такое определение конечной точки произвольно исключает из рассмотрения Треба- ция Тесту и Марка Антистия Лабеона — юристов, деятельность которых относится в основном к периоду триумвирата и правлению Августа. В целом о развитии частного права после издания Законов ХП таблиц см.: Jolowicz: 191—304. Начальная точка исключает «пон- тификальный период» юриспруденции, см.: Schulz 1953 (F 268): 5—32; WolfJ.G. 1985 (F 318); Wieacker 1988 (F 171): 310-340.
4 Попытки отделить «доклассическое» право от «классического» см. прежде всего в работах: Watson (F 294; F 295; F 297; F 299; F 300): по всему тексту.
0 А также, конечно, «Институции» Гая, в которых содержатся исторические сведения о «законных исках» (legis actiones, легисакции) и различных статутах.
6 Дигесты. 1.2.2. См.: Bretone 1971 (F 190): 111—135; Nörr 1976 (F 250): прежде всего 512 слл.; Schiller 1978 (F 264): 119.
7 См. «Избранные неюридические источники...» на с. 649. Ирнитанская таблица (Tabula Imitana) датируется более поздним временем, но позволяет сделать некоторые обоснованные выводы о Поздней республике.
8 Впрочем, данные свидетельства трудно оценить, поскольку указанные авторы могут излагать и греческие законы. О критериях оценки см.: Watson 1965 (F 294): 46—47; di Salvo 1979 (F 261): 24-28.
9 См. «Избранные неюридические источники...» на с. 649.
10 См. «Избранные неюридические источники...» на с. 649.
Глава 14. Развитие римского частного права
615
и для римского республиканского права характерно, что материальное право развивалось в основном за счет подвижек в процессуальном.
В Риме материальное право состояло не только из статутов, то есть законов (leges) и плебисцитов (plebiscita). Источниками права, то есть документами, создающими правовые нормы, считались также «постановления сената» («senatus consulta»)11 и эдикты преторов и курульных эдилов, а некоторые из самых базовых норм, например семейное право отцовской власти (patria potestas) и всё, что с ней связано, не основывались на каких- то конкретных постановлениях, а просто являлись частью права (ius), иными словами, включались в древнюю «структуру римской правовой жизни»12. У римлян не существовало правового кодекса; хоть они и относились с почтением к XII таблицам, однако даже составители последних, вероятно, не задумывали их как полноценный кодекс, и ни эти, ни какие- либо иные правовые установления никогда не считались настолько укоренившимися, чтобы их невозможно было изменить13. Однако в эпоху Республики статутов частного права было мало (хотя некоторые из них имели важное значение14), да и постановления сената не использовались тогда для создания норм частного права, поэтому главным двигателем его развития являлась власть городского претора (praetor urbanus) и претора по делам иноземцев (praetor peregrinus), а в одной специфической области (торговое право) — власть курульных эдилов. Эти магистраты не имели полномочий творить гражданское право (ius civile), закрепленное в древних нормах — Законах ХП таблиц и процессуальной системе, известной как легисакции. Но преторы руководили судами и обладали империем, исполнительной властью; они принимали иски к рассмотрению или отклоняли их, устанавливали запреты и процессуальные требования, одним предоставляли право владения имущества, а другим запрещали на него посягать, восстанавливали законный статус-кво, если кто-то становился жертвой обмана, и таким образом, используя средства судебной защиты, постепенно создавали новое материальное право. Папиниан пишет, что преторское право (ius praetorium), или почётное право (ius honorarium), было введено «для содействия гражданскому праву или для его дополнения или исправления»15. Разделение этого процесса на этапы вызывает у исследователей много споров16, но в рассматриваемый период он приобрел
11 Современные исследователи обычно считают постановления сената просто рекомендациями для магистратов, но см.: Crifo 1968 (F 40); противоположное мнение см.: Watson 1974 (F 304): гл. 2.
12 Такое выражение использовано в: Horak 1969 (F 214): 117, что позволяет избежать термина «обычай» и споров о его значении, о чем см.: Norr 1972 (F 249); Schiller 1978 (F 264): 253 слл. О понятии «ius» см.: Kaser 1973 (F 221): 527.
13 С этим не согласны: Ferenczy 1970 (F 50); Ducos 1984 (F 201): 178—182. См.: Pugliese 1951 (F 258).
14 Некоторые из наиболее значимых перечислены в «Хронологических указаниях...» на с. 650-654.
ь Дигесты. 1.1.7.1.
16 В целом о «почётном праве» («ius honorarium») см.: Jolowicz: 97—101; Kaser 1984 (F 223); von Lubtow 1983 (F 237). Келли доказывает, что с 200 г. до н. э. до принятия Эбу-
616
Часть Π
важное значение; к концу этого периода «почётное право» («ius honorarium») считалось особым и отдельным корпусом права17, достаточно прочно сложившимся, чтобы стать предметом письменных комментариев, которые ранее составлялись лишь к гражданскому праву (ius civile).
Второй характерной особенностью рассматриваемого периода, отчасти связанной с первой, стало быстрое развитие юриспруденции. Структура римского общества (в отличие, например, от афинского) всегда оставляла место для ученых консультантов по вопросам права — правоведов (iuris- prudentes) или юрисконсультов (iuris consulti). В древние времена эту роль играли понтифики; в Средней республике она приобрела светский характер, хотя по-прежнему многие юристы являлись понтификами. Юрисконсульты выступали в судах от имени других людей (agere), составляли черновики правовых документов (cavere) и публично высказывали собственное мнение по правовым вопросам для всех, кто обращался к ним (respondere)18, то есть для преторов, судей, рассматривавших конкретные дела, и тяжущихся; слушать юрисконсультов мог любой человек, желавший изучать право.
В Риме не существовало коллегии профессиональных судей: и преторы, и лица, выступавшие судьями в конкретных делах, и адвокаты, в сущности, были дилетантами; сама юриспруденция тоже не была профессией в общепринятом современном смысле слова, а являлась чем-то вроде хобби некоторых представителей правящего класса: если этим хобби они занимались достаточно серьезно, то их мнение по вопросам права приобретало большой вес. Преторы, несомненно, имели право составлять свои эдикты без помощи юристов, как явно поступал Веррес; с другой стороны, один и тот же человек иногда мог исполнять роль претора (или судьи, iudex) и правоведа. Во всяком случае, вероятно, именно правоведы изобрели большинство нововведений, воплощенных преторами в жизнь:19 римское право, как и английское, было «правом юристов».
Концепция возрастания ролевой дифференциации по мере развития общества хорошо описывает усиление специализации римских правовых ролей. Ближе к концу Республики юриспруденция и занятие высших должностей начали расходиться; равным образом правоведы перестали
циева закона продолжался «век законов», за которым последовал «век эдиктов», см.: Kelly 1966 (F 225); Уотсон не согласен с ним, см.: Watson 1974 (F 304): гл. 3. Берендс в рецензии на книгу Уотсона отстаивает мнение, что расцвет эдиктов начался примерно с 100 г. до н. э., а до этого развитие происходило за счет «судов доброй совести» («bonae fidei iudicia»), см.: Behrends // ZSS 92 (1975): 297—308 (на с. 304). Фрайер доказывает, что Корнелиев закон, принятый в 67 г. до н. э., постепенно положил конец «периоду эдиктов», за которым последовал «период юристов», см.: Frier 1983 (F 204).
17 Цицерон. Против Берреса. П. 1.109: «годичный закон» («lex annua»).
18 Впрочем, Канчелли отрицает это трехчасшое деление, см.: Cancelli 1971 (F 194).
19 См.: Цицерон. 06обязанностях. Ш.65 («правоведы назначили пеню даже за умолчание» («a iurisconsultis etiam reticentiae poena est constituta»). Перев. B.O. Горенштейна, с правкой)', Цицерон. 06 ораторе. 1.200 («дом юрисконсульта, бесспорно, служит оракулом для всего общества» («domus iuris consulti totius oraculum civitatis»). Перев. ФА. Петровского); в целом см.: Frier 1985 (F 205).
Глава 14. Развитие рижского частного права
617
заниматься составлением документов (cavere), и эта работа отошла к менее важным лицам. Перестали юрисконсульты и выступать в судах (agere), поскольку под влиянием греческой риторики эта деятельность стала более специализированной и занялись ею другие люди, вроде Цицерона20, а также в силу того, что благодаря росту числа постоянных судов (quaestiones) адвокатская практика получила огромное развитие21. Тем самым юридическая «профессия» превратилась в две «профессии» (не следует забывать, что адвокатура оставалась важнейшим компонентом законного порядка).
II
Далее неизбежно следует краткий очерк главных институтов частного права по состоянию на конец рассматриваемого периода22. В разделе Ш данной главы будет предпринята попытка рассмотреть некоторые из путей, приведших право к этому положению.
1. Право лиц
В праве лиц23 можно выделить три направления: «свобода» (libertas), «гражданство» (civitas) и «семья» (familia); эти понятия были укоренены в римском обществе.
СВОБОДА (libertas). Все люди делились на свободных и рабов. В раннем Риме рабы, по-видимому, являлись скромными слугами, а не движимым имуществом (как на закате Республики), но римские завоевания сопровождались массовым ввозом рабов и содействовали понижению их статуса и превращению их в собственность; как бы то ни было, в эпоху Поздней республики раб представлял собой парадоксальную правовую комбинацию: он одновременно являлся и вещью (res), то есть имуществом, находящимся в собственности (dominium), и лицом, пребывающим под властью (potestas). Рабов покупали и продавали, закладывали, отправляли на работу, в том числе опасную или унизительную, на пытку и на смерть; рабы не имели прав, а обязанности несли только перед своим хозяином (dominus). Однако убийство чужого раба считалось именно убийством, а не только
20 О деле Курия («causa Curiana»), в котором один адвокат, Сцевола, был «красноре- чивейшим из всех правоведов» («iuris peritorum eloquentissimus»), а второй, Луций Красе, — «искушеннейшим в праве из всех ораторов» («eloquentium iuris peritissimus»), см. сноску 128 наст. гл. Цицерон (Топика. 51) сообщает, что юрист Аквилий Галл говорил о вопросах, связанных с фактами: «Это относится не к праву, но к Цицерону!» («nihil hoc ad ius: ad Ciceronem»). Перев. EA. Кузнецова).
21 Цицерон. Брут. 106.
22 Нормы частного права будут рассматриваться в том «институциональном» порядке, в каком они изложены в «Институциях» Гая, хотя в республиканский период ни эта, ни какая-либо иная система еще не стала канонической. См.: Stein 1983 (F 275).
23 В целом см.: Watson 1967 (F 295).
618
Часть Π
«причинением ущерба имуществу»;24 поскольку раб способен был играть в обществе много различных ролей, которые его владельцы не желали брать лично на себя, были разработаны правовые механизмы, позволявшие использовать раба (или рабыню) в этих ролях. Владельцы (domini) могли освобождать своих рабов25 либо посредством прижизненных распоряжений (включая их в списки граждан во время ценза или освобождая «с помощью жезла» (vindicta) перед магистратом), либо в завещании26. Раб, освобожденный таким образом, становился римским гражданином (civis Romanus), хотя и являлся вольноотпущенником (libertinus), на которого возлагались обязанности, неисполнение каковых давало основания для судебного иска перед претором27, а именно: послушание (obsequium) по отношению к освободившему его хозяину и его детям (liberi)28, дневные отработки (operae), если они были обещаны в уплату за свободу, и автоматическое право бьюшего хозяина и его детей (liberi) наследовать часть имущества вольноотпущенника, умершего без потомков.
ГРАЖДАНСТВО (civitas). «Римские граждане» (cives Romani) представляли собой единственную группу лиц, к которой применялось римское право, если только сами римляне не принимали решение предоставить его другим лицам. Большинство свободных людей в орбите римского мира всё еще составляли иноземцы (peregrini), то есть неграждане29, хотя после 49 г. до н. э. все италийцы, по крайней мере, являлись римскими гражданами. Во времена Цицерона еще существовали разделы римского права, не распространявшиеся на иноземцев. За ними не признавалась ни власть собственника (dominium), ни власть отца семейства (potestas), они не могли владеть римской землей и наследовать имущество римлян, а гражданство могли получить только в силу государственного акта, то есть, например, иноземец не мог быть усыновлен римским гражданином. Это отражалось и на детях от смешанных браков, которые не признавались законными браками (iustae nuptae), имеющими полную силу в рамках римского права: если один из родителей являлся иноземцем, то и их ребенок оказывался иноземцем30. А вот всё римское торговое право распространялось на ино-
24 Дигесты. 48.8.1.2 — здесь изложен Корнелиев закон 81 г. до н. э.
25 В целом см.: Fabre 1981 (G 65). Хозяева конечно же могли потребовать от рабов плату.
26 Если завещательное освобождение раба требовало выполнения каких-то условий, например, «если он передаст моему наследнику верные отчеты», то до их выполнения раб назывался статулибером (statuliber); в республиканское время этот статус вызывал много споров, см.: Watson 1967 (F 295): гл. 17.
27 Watson 1967 (F 295): 227-236.
28 Понятие «liberi» включало только детей бывшего хозяина (хозяйки), но не его (ее) наследников, если они были посторонними.
29 О латинах, праве брака (conubium) и праве торговли (commercium) в целом см.: Jolowicz: 58—62.
30 Данную норму установил Минициев закон, датировка которого неизвестна; вероятно, он был принят до Союзнической войны; иное мнение см.: Watson 1967 (F 295): 27 при- меч. 4. До его принятия ребенок римской гражданки и иноземца, не имеющего права брака (conubium), являлся римским гражданином. См.: Luras chi 1976 (F 238).
Глава 14. Развитие римского частного права
619
земдев, которые могли обращаться в римские суды и подпадали под действие римского права, регулировавшего деликты (гражданские правонарушения), причем для рассмотрения таких дел иногда использовалась юридическая фикция, в рамках которой иноземцы рассматривались как граждане.
СЕМЬЯ (familia). «Семья» — это расплывчатое понятие; в зависимости от контекста у римлян, как и у нас, оно могло означать различные группы, более или менее узкие. Но главным значением этого слова в римском праве было агнатическое родство, то есть родство по мужской линии, определяющей чертой которого была «patria potestas» — пожизненная власть старшего предка по мужской линии над всеми его агнатическими потомками31. Она включала право предать подвластного смерти32. Лица, находившиеся под властью («in potestate»), то есть «сыновья семейства» и «дочери семейства» (filii и filiae familas), не могли ничем владеть, а все их приобретения автоматически поступали в собственность отца семейства (pater familias). Он мог по своей воле заключать и расторгать браки подвластных ему детей. При желании он мог освободить их от своей власти, совершив эманципацию (emancipatio); сохранившихся свидетельств недостаточно, чтобы определить, насколько распространена была эманципа- ция взрослых и состоявших в браке детей, во всяком случае, совершалась она не всегда; имеются упоминания об использовании эманципации в качестве наказания33. Во всяком случае, не во всех сферах жизни преобладала агнатическая структура. Возможно, это был пережиток ушедшей эпохи, когда преобладали расширенные семьи, но в Поздней республике римляне из высших классов жили в нуклеарных, а не расширенных семьях34. Агнатическое родство определяло отцовскую власть и порядок наследования без завещания, но для других сфер семейной и общественной жизни не меньшее значение имело кровное родство и даже родство через брак35. Агнатическое родство могло расторгаться либо путем эманципации, либо в случае перехода дочери «под руку» мужа (этот институт будет
31 Агнация — это происхождение по мужской линии: человек (мужчина или женщина) состоит в агнатическом родстве со своим отцом, его отцом, своими братьями и сестрами и братьями и сестрами отца, но не со своей матерью и ее родственниками, не со своей женой и ее родственниками, а женщина не имеет агнатического родства и с собственными детьми (если только она не состоит в браке «под рукой» («manus»)). Это правовое, а не кровное родство, поэтому оно может создаваться путем усыновления или принятия «под руку».
32 О том, требовалось ли для совершения такого акта голосование домашнего совета (domesticum consilium), см.: Jolowicz: 119; противоположное мнение см.: Watson 1975 (F 305): 42-44. В целом см.: Harris 1986 (F 212); Y.-Р. Thomas 1984 (F 282).
33 Также есть основания думать, что большинство отцов не доживало до женитьбы своих сыновей, см.: Sailer 1986 (G 220): прежде всего 15.
34 Известно одно или два исключения, которые источники уверенно объясняют бедно- этих семейств. В целом см.: Crook 1967 (F 196); Sailer 1986 (G 220).
3о Так, в домашнем совете (domesticum consilium), где рассматривались проступки Жены, имели право участвовать обе семьи, даже если жена состояла «под рукой» мужа. См. также: Дигесты. 2.8.2.2; 2.4.4.1—2; Закон о вымогательствах [lex repetundarum // FIRA 1:
620
Часть Π
рассмотрен далее) и создаваться путем усыновления, осуществлявшегося в двух формах: адрогации (adrogatio), то есть усыновления лиц, не состоявших под чьей-либо властью36, и ад опции (adoptio), то есть усыновления подвластных лиц. Усыновлять могли только мужчины; в результате этого акта усыновленный поступал под власть усыновителя или отца его семейства.
Даже лица «своего права» («sui iuris»), то есть не состоявшие под чьей- либо властью, могли находиться под опекой (tutela): мальчики — до совершеннолетия, женщины — всю свою жизнь. Изначально цель опеки заключалась в том, чтобы агнаты защитили семейное имущество (и это было в их интересах), но отец семейства мог назначить опекуном своих детей или своей жены, состоящей «под рукой», не агната, а постороннее лицо, и во времена Поздней республики считалось, что опека, по крайней мере отчасти, предназначена для защиты уязвимых37. Часто отмечается противоречие между существованием опеки над женщинами («tutela mulierum») и независимостью некоторых женщин в эпоху Цицерона: опека быстро стала беззубой (кроме случаев, когда ее осуществляли агнаты), опекуны могли меняться по желанию женщины и т. д.
Аномальное положение дел, когда взрослые люди, находящиеся под властью отца семейства, не могли владеть имуществом или заключать сделки, смягчал институт пекулия (peculium), доступный, кстати, не только сыновьям и дочерям семейства, но и рабам. С разрешения отца семейства (paterfamilias) или господина (dominus) они могли иметь средства, считавшиеся их особым фондом, и распоряжаться ими в собственных интересах. В состав пекулия могло входить любое имущество: земля, рабы, деньги. Однако отец семейства или хозяин раба не обязан был давать разрешение на создание такого фонда, и неясно, насколько часто сыновья и дочери семейства имели пекулий, хотя, насколько нам известно, лишь таким способом женатый сын мог управлять собственным нуклеар- ным домохозяйством или оплачивать себе политическую карьеру (впрочем, к этому времени многие уже становились лицами «своего права»).
Римляне были строго моногамны и высоко чтили брак, хотя и не считали его священным, поэтому можно было как вступить в брак, так и расторгнуть его без всяких правовых затруднений. В раннем Риме брак обычно (а изначально, скорее всего, всегда) сопровождался переходом «под руку» (manus): женщина покидала собственную агнатическую семью и входила в агнатическую семью своего мужа. Этот институт был схож с усыновлением, с той лишь разницей, что постоянное сожительство создавало его даже без каких-либо формальностей. Но уже Законы ХП таблиц позволяли жене избегать автоматического перехода «под руку» мужа: для
No 7): стк. 20; Дигесты. 47.10.5.предисл. Этому вопросу посвящена немалая часть работы: Dixon 1985 (G 57); а также: Salier 1986 (G 220).
36 О некоторых критериях, применявшихся при адрогации, см.: Цицерон. О своем доме. 34—38 (хотя оратор здесь может умышленно искажать картину), с комментарием: Watson 1967 (F 295): 82-88.
37 Так считает Уотсон, см.: Watson 1967 (F 295): гл. 9.
Глава 14. Развитие римского частного права
621
этого она должна была в течение года провести три ночи вне его дома; а если замужняя женщина не переходила «под руку» мужа, то оставалась членом своей родной семейной группы. (Данное различие было правовым, а не топографическим: в обоих случаях муж и жена создавали в новом доме собственное супружеское домохозяйство и нуклеарную семью.) В Поздней республике брак с переходом «под руку» заключался реже, хотя слишком смело было бы утверждать, что мы знаем, насколько реже он встречался по сравнению с другими формами брака38. Что же касается распространенного представления о взаимосвязи между «свободным» браком (который напрасно так именуют) и предполагаемой эмансипацией женщин в эту эпоху39, то следует помнить, что многие женщины, особенно в первом браке, оставались под властью своего отца семейства.
Если женщина «своего права» («sui iuris»), владеющая имуществом, переходила «под руку» супруга, то тем самым она передавала это имущество своей новой агнатической семье (хотя во времена Цицерона оно считалось приданым, что в случае прекращения брака влекло за собой соответствующие последствия). Если же она не переходила «под руку» мужа, то имущество оставалось в ее собственности. Общности имущества супругов не существовало, а дарение между ними законом не признавалось. В зажиточных классах приданое считалось социальной нормой40. На протяжении брака им владел муж (или его отец семейства), и в обществе ожидалось, что муж обеспечит жене уровень жизни, соответствующий доходу от приданого. Если брак расторгался, то разводившиеся могли заключать любые сделки относительно судьбы приданого, какие только позволяло их социальное положение, но в отсутствие таких договоренностей вступали в силу определенные правовые нормы, главная цель которых состояла в том, чтобы обеспечить женщине средства к существованию.
В раннем Риме передача имущества по наследству могла происходить чисто автоматически, но уже во время создания Законов ХП таблиц можно было составлять завещания41, и задолго до Цицерона отец семейства имел величайшую власть — полную свободу (в рамках закона) распоряжаться семейным имуществом в своем завещании. В Риме ожидалось, что человек должен составить завещание42, но наследование по закону по- прежнему имело важное значение, поскольку оно происходило не только в случае отсутствия завещания, но и в случае, если завещание по каким-то причинам признавалось недействительным. Автоматическое наследование по закону регулировалось древними нормами, имевшими строго агнатиче-
38 Вопреки мнению: Watson 1967 (F 295): 19—23. Браки с переходом «под руку» по- прежнему упоминаются в источниках без малейшего намека на их необычность — так вышла замуж мать Клуенция, см.: Цицерон. В защиту Клуенция. 45. См. также: Катулл 68.119—124; Надгробная речь на похоронах римской матроны // FIRA Ш: № 69, стк. 13—16.
39 См. об этом: Gratwick 1984 (С 108); Gardner 1986 (F 207): гл. 12.
40 В рассматриваемый период приданое всегда давалось за невестой.
41 См.: Watson 1975 (F 305): гл. 5; Magdelain 1983 (F 240).
42 См.: Crook 1973 ( F 198).
622
Часть Π
ский характер: первоочередное право на имущество имели «свои наследники» («sui heredes»);43 если таковых не было, то наследовали агнаты покойного ближайшей степени родства; если и таковых не оказывалось, то имущество переходило к роду (gens) покойного44. Таким образом, от наследования отстранялись все дети, вышедшие из-под отцовской власти, все когнаты и супруг (или супруга); а женщины, не имевшие отцовской власти (potestas), не имели и «своих наследников», и их дети не являлись для них агнатами (если только их мать не перешла «под руку» отца), поэтому в случае отсутствия завещания не могли им наследовать. Общество ощущало, что наследование по закону отстраняет от имущества слишком многих людей, а наследование по завещанию, наоборот, слишком многих людей к нему допускает: например, отец семейства имел право лишить наследства всех своих детей и отказать его своему другу или политическому покровителю. Поэтому в эпоху Цицерона многие нормы были изменены посредством инструментов преторского права (ius honorarium). Когда кто- либо притязал на наследство, претор разрешал ему вступить во владение имуществом (bonorum possessio), а если другой претендент считал, что имеет больше прав на наследство, то должен был подать иск (hereditatis petitio) против нового владельца. Новация состояла в том, что в случае отсутствия завещания преторы начали предоставлять владение имуществом, руководствуясь списком, составленным ими самими: сперва всем детям, как находившимся под властью отца, так и не находившимся; если таковых не было, то агнатам всех степеней родства после первой; если и таковых не оказывалось, то когнатам; и, наконец, даже супругам, которые, таким образом, стали наследовать друг за другом («inter se»). Сперва такое разрешение имело лишь временный характер («без вещи», «sine re»), то есть если появлялся человек, имевший право на наследование по старой гражданской норме, то претор не мог отказать ему в иске45 (хотя если таковой не появлялся, то владелец сохранял за собой имущество). Однако настал момент, когда преторы начали предоставлять владение имуществом «с вещью» («bonorum possessio cum re»), то есть отклонять иск претендента, имевшего право наследования согласно гражданской норме, поданный против владельца, избранного претором; видимо, этот переломный момент наступил только в самом конце рассматриваемого здесь периода (хотя для имущества вольноотпущенников, возможно, и раньше)46. Также и в случаях, когда завещание существовало, преторы начали предо¬
43 Имеются в виду лица обоего пола, находившиеся под властью (potestas) или «под рукой» (manus) покойного на момент его кончины и ставшие с его смертью лицами «своего права» («sui iuris»).
44 То есть к большой агнатической группе, по отношению к которой семья являлась лишь ветвью. О том, что родовое наследование по-прежнему существовало во времена Цицерона, см.: Watson 1971 (F 300): 180—181.
45 Впрочем, выданное разрешение на владение имуществом, вероятно, в дальнейшем всё-таки исключало переход этого имущества к роду (gens), иначе такое разрешение не имело бы смысла.
46 См.: Jolowicz: 253-254; Watson 1971 (F 300): 183.
Глава 14. Развитие римского частного права
623
ставлять владение имуществом «против завещания», то есть лицам, не упомянутым в завещании; и даже если завещатель прямо лишал кого-либо наследства, в Поздней республике преторы стали принимать «жалобы на завещания, нарушавшие долг» («querela inofficiosi testament»), то есть иски родственников, заявлявших, что их несправедливо лишили наследства, против одного или нескольких «названных наследников». Это было серьезное посягательство на власть отца семейства.
В Риме существовало важное различие между наследством и завещательным отказом: имущество переходило к наследнику, но при этом было обременено завещательными отказами. Юристы вели большие споры по поводу того, что должно включаться в такое наследство, как, скажем «мое хозяйство со всем инвентарем» или «домашние пожитки»; но самую сложную правовую проблему представляли случаи, когда имущество было настолько сильно обременено завещательными отказами, что наследникам не оставалось почти ничего и принимать наследство не имело смысла — а если они от него отказывались, то всё завещание, включая отказы, теряло силу. Не слишком успешной попыткой разрешить эту коллизию стал Фальцидиев закон, принятый в 40 г. до н. э.: он гарантировал наследникам не менее четверти наследуемого имущества.
В случае отсутствия завещания женщины, в принципе, наследовали в том же порядке, что и мужчины, но в наследовании по завещанию возникла асимметрия: Вокониев закон, принятый в 169 г. до н. э., запретил представителям высшего цензового класса назначать наследницами женщин. (Этот закон продолжал сохранять силу в правление Августа, но в эпоху Поздней республики были придуманы различные пути его обхода, а когда прекратились цензы, он практически перестал применяться.) Затем, по аналогии с Вокониевым законом, ограничение было введено для женщин и в случае наследования без завещания: в классе «агнаты ближайшей ступени» наследовать могли только сестры покойного. Одна процедура, возможно, зародилась как средство обойти Вокониев закон; это «доверительное наследование» (фидеикомисс, «fideicommissum hereditatis»): завещатель оставлял имущество лицу, имевшему право его принять, и просил, чтобы получатель добросовестно передал это имущество кому-то другому, то есть дочери или иноземцу, которые не вправе были бы принять наследство напрямую. Во времена Цицерона фидеикомисс еще не пользовался исковой защитой против доверенного лица, и отдельные неразборчивые люди охотно принимали имущество и игнорировали поручение, тем более что при этом они имели возможность представить себя как защитников закона47.
Распространенное представление о том, что в эпоху Республики женщины не имели права составлять завещания, ошибочно. Для этого им требовалось подвергнуться формальному «умалению правоспособности»
47 Предостерегающие рассказы см.: Цицерон. Против Берреса. П. 1.123—124; Цицерон. О пределах блага и зла. П.55, с комментариями: Watson 1971 (F 300): 35—39.
624
Часть Π
(«capitis deminutio»)47a и получить согласие своего опекуна (tutor), но нет оснований считать, что это представляло непреодолимые сложности; женщины определенно завещали имущество, особенно матери — своим дочерям. В римском обществе женщины имели и богатство, и власть, проистекавшую из права им распоряжаться.
2. Имущественное право
Имущественное право включает в себя нормы, регулирующие собственность и другие права на недвижимое и движимое имущество (res)48. В римском праве имелось абстрактное и всеобъемлющее понятие собственности — «собственность по квиритскому праву» («dominium ex iure Quiri- tum»);49 ему соответствует английское понятие «title». Таким правом собственности могли обладать только римские граждане («cives Romani»). Об абстрактности этого понятия свидетельствует полное отсутствие взаимосвязи между ним и владением (possessio), то есть законным контролем: лица, не являвшиеся собственниками, могли законно владеть чем-либо, а в некоторых случаях даже сохранять за собой это имущество, несмотря на притязания собственника50. Но даже понятие владения (possessio) имело абстрактную составляющую: оно не было равнозначно законному распоряжению каким-либо имуществом; так, например, арендатор земли не имел даже права владения (possessio) ею, но — лишь право держания (detentio), то есть не обладал каким-либо имущественным правом («ius in rem»). Естественно, передать другому лицу право собственности не мог тот, кто сам не обладал им. В некоторых случаях передача права собственности тоже требовала формального акта. Существовало древнее различие между манципируемыми вещами («res mancipi»: земля, рабы, некоторый скот и «сервитуты сельских поместий») и неманципируемыми вещами («res nec mancipi»: всё остальное имущество): право собственности на ман- ципируемые вещи могло передаваться только с помощью одного из двух формальных актов: манципации (mancipatio) либо судебной уступки («in iure cessio»); переход права собственности на другие вещи совершался просто при их передаче, при условии существования для этого согласованного и законного основания (causa), такой как продажа, подарок или предоставление приданого. Эти различия и связанные с ними ограничения были весьма прочными. Отчасти их смягчил принцип приобретения по праву давности (usucapio), согласно которому законное владение (possessio) иму-
47а В данном случае под «умалением правоспособности» понимается эманципация, т. е. освобождение от власти отца семейства, сопровождавшееся разрывом агнатических связей и утратой прав наследования. Традиционно в ходе данной процедуры освобождаемый человек формально трижды продавался в рабство. — О Л.
48 В целом см.: Watson 1968 (F 297).
49 По поводу мнения Казера о том, что в раннем Риме содержание этого понятия было иным, см.: Jolowicz: 142, а также приведенные в этой работе ссылки. Пересмотренное мнение Казера см.: Kaser 1985 (F 224).
50 Для защиты владения как такового, независимо от права собственности, претором издавались «интердикты о владении», см.: Jolowicz: 259—263.
Глава 14. Развитие римского частного права
62 5
ществом непрерывно в течение двух лет (для земли) или одного года (для остальных вещей) автоматически давало право собственности на него. Преторы учредили важную разновидность исков — Публициев иск («actio Publiciana»), который мог подать человек, лишенный владения до истечения срока приобретательной давности (и не имеющий возможности судиться за него как собственник, поскольку еще не стал собственником); такой иск предполагал фикцию, подразумевавшую, что приобретение собственности по праву давности уже состоялось. Обычно считается, что Публициев иск существовал уже в Поздней республике, хотя недавно были высказаны сомнения по этому поводу51.
Для сельского хозяйства особенно важное значение имели «сервитуты», являвшиеся, таким образом, древним правовым институтом: собственник мог уступить часть прав на свое имущество владельцу соседнего участка. Сюда включались, например, право прохода и водопользования, а в городе — право на беспрепятственный доступ дневного света52. Некоторые сходные права не зависели от существования сервитута, но ими обладало всякое лицо, оказавшееся в соответствующем соседстве, особенно право требовать от соседа отведения его паводковых вод или поддержания его строений в надлежащем состоянии, чтобы они не нанесли ущерб чужой собственности.
Еще одним неполным правом на чужую собственность был узуфрукт, личное право использовать и брать себе плоды (fructus) чего-либо, находящегося в чужой собственности, сроком на несколько лет, часто — пожизненно. Часто высказывается предположение, что узуфрукт возник как обеспечение для вдов: дети наследуют имущество, но вдова получает с него плоды.
«Вещественное обеспечение долга» (то есть залог движимого или недвижимого имущества), которое тоже является правом на чужую вещь, в эпоху Поздней республики уже было хорошо развито, хотя, в отличие от современной экономики, главной целью таких сделок не являлось получение заёмного капитала для коммерческой деятельности. Залог существовал в двух формах: fiducia, когда кредитор получал полное право собственности на вещь с обязательством ее вернуть (после выплаты долга. — О.Л.), и pignus, когда кредитор получал только право владения (possessio); впрочем, уже в сельскохозяйственных контрактах Катона встречается право залогового удержания (такая форма залога предполагает, что кредитор вообще не владеет объектом залога, но имеет право завладеть им, если долг не будет выплачен), хотя большие споры вызывает вопрос о том, появились ли уже в столь раннее время стандартный интердикт и исковая защита для права залогового удержания, существовавшие затем в классическом праве53.
01 См.: Watson 1968 (F 297): 104—107; Jolowicz: 265 и примеч. 4; Frier 1983 (F 204): 229 и примеч. 34.
52 Сервитуты были не просто предусмотренными договором разрешениями, а относились к категории имущественных прав («in rem»). В целом см.: Grosso 1972 (F 210).
03 См.: Jolowicz: 304.
626
Часть Π
3. Обязательственное право
Римские юристы делили обязательства (obligationes)54 на возникающие из контрактов и возникающие из деликтов.
Римское договорное право занимает большое место в современных работах — пожалуй, непропорционально большое55, — поскольку представляет интерес для сравнения. В рассматриваемый в данной главе период самое главное изменение в договорном праве сводилось к следующему. Старинный римский устный контракт, стипуляция (stipulatio) (сводившийся к формуле «“Обещаешь ли X?” — “Обещаю”»), отличался восхитительной гибкостью и мог применяться практически в любой законной сделке, но был односторонним (то есть создавал обязательства только для одной стороны — той, что давала обещание), требовал реального произнесения формулы и, следовательно, одновременного присутствия обеих сторон и являлся сделкой строгого права («stricti iuris»), а это означало, что если по поводу данной сделки подавался судебный иск и ее заключение не вызывало сомнений, то судья по этому делу не вправе был принимать во внимание никакие оправдания (например, ошибку, принуждение или договоренность не подавать в суд) и никакие встречные требования, если только претор в виде исключения (exceptio) специально не разрешал выдвигать эти аргументы. Поэтому был изобретен ряд «консенсуальных» контрактов, то есть сделок, заключаемых путем соглашения двух сторон, в каких бы словах оно ни выражалось и где бы ни было достигнуто; такие контракты являлись двусторонними (то есть порождали права и обязанности для обеих сторон) и основанными на «доброй совести» («bonae fidei»), а это означало, что судье (iudex) не требовались особые указания претора, чтобы принимать во внимание все заявления обеих сторон56. К консенсуальным контрактам относились продажа, сдача внаём, товарищество и поручение. Консенсуальная купля-продажа («emptio venditio») существовала по меньшей мере уже в Поздней республике57 *. Существовала и сдача внаём («locatio conductio»), включавшая в себя различные экономические соглашения, которые сегодня странно видеть соседствующими в одной категории: от аренды земли и жилых помещений до приемки вещей в чистку и ремонт и найма рабочих либо прислуги. Правовые дебаты по поводу сдачи внаём велись вокруг вопроса о том, отвечает ли «хранитель» (лицо, у которого находится чужое имущество) за утрату
54 См. в целом: Watson 1965 (F 294).
°5 О сравнительной редкости судебных дел, связанных с договорами, см.: Kelly 1976 (F 227): 84.
56 Существовали также контракты реальные (те), такие как беспроцентный заем и передача на хранение, и литтеральные (litteris), возникавшие из записей в счетных книгах. О литтеральных контрактах см.: Watson 1965 (F 294): гл. 3, с Приложением; Thilo 1980 (F 279): прежде всего 276—318.
57 А возможно, и гораздо раньше, если сельскохозяйственные контракты Катона подразумевают консенсуальную куплю-продажу, но это спорный вопрос. См.: Jolowicz: 288—
291; Watson 1965 (F 294): 40—41; Labruna 1971 (F 230).
Глава 14. Развитие рижского частного права
627
имущества или нанесенный ему ущерб, а также вокруг его обязанности платить ренту. Сделка купли-продажи вызывала у юристов другие споры — о гарантиях беспрепятственного владения купленной вещью и о выявлении в ней скрытых дефектов, то есть о том, каким путем приобретатель может получить возмещение, если подлинный полноправный собственник (dominus), о котором приобретателя никто не предупредил, вдруг решил изъять у него купленное имущество? Считать ли нарушением контракта сокрытие продавцом сведений об известных ему дефектах товара?58 Курульные эдилы в своем эдикте применяли очень жесткую норму, согласно которой работорговцы (а немного позднее и торговцы скотом) обязаны были публично гарантировать отсутствие у рабов определенных изъянов, а в случае, если такой изъян обнаруживался (даже если торговец не знал о нем), вернуть деньги покупателю. Эдикт применялся только к сделкам, заключаемым на рынке; позднее он приобрел общее действие, но вряд ли это произошло в рассматриваемый здесь период59. Много споров, естественно, вызывал вопрос о том, что относить к дефектам, а что не относить.
Товарищество (societas), как считается, возникло в раннем Риме как институт правовых взаимоотношений между «своими наследниками» («sui heredes»), сообща владеющими наследствами, и отчасти сохранило свой изначальный «дружеский» характер60. Даже к концу рассматриваемого здесь периода данный институт едва ли приспособился к миру рыночной коммерции: принцип, согласно которому один товарищ являлся прямым агентом второго, еще не развился (за исключением товарищества банкиров (argentarii)), а понятию ограниченной ответственности так и не суждено было возникнуть, как и понятию юридического лица; единственными компаниями, в которых можно было владеть отчуждаемыми долями, являлись товарищества откупщиков (publicani).
Поручение61 представляло собой контракт, согласно которому одно лицо прямо поручало другому заключить законную сделку от своего имени. Были учреждены иски, с помощью которых одна из сторон могла получить возмещение за сделанное, а вторая — компенсацию ущерба, если что-то было совершено неправильно. Быть может, более важное значение имел «квазиконтракт» (в сущности, вообще не контракт) «ведения дел» («negotiorum gestio»), в рамках которого А делал нечто от имени В без прямых указаний со стороны последнего. В эпоху медленных коммуникаций этот институт играл большую роль для людей, вынужденных выехать за границу, и служил законным основанием для деятельности «прокуратора отсутствующего» («procurator absentis»), который выступал генераль¬
08 Рассмотрение этих вопросов с моральной точки зрения см. у Цицерона: 06 ораторе. i· 178; 06 обязанностях. Ш.55, 65—67. О средствах судебной защиты в Поздней республике см.: Stein 1958 (F 271): 7. й9 См.: Jolowicz: 293—294.
60 Такое отношение к делу явно прослеживается в речах Цицерона «За Квинкция» и «За актера Росция».
61 В целом см.: Watson 1961 (F 289).
628
Часть Π
ным представителем человека, находящегося в отъезде62. Случаи, когда представителем свободного человека выступал другой свободный человек, римлянам казались трудными для понимания, и такого рода представительство развивалось медленно. Рабам институт пекулия давал возможность вступать в коммерческие сделки в качестве представителей своих хозяев, ибо закон позволял судиться с хозяином по поводу обязательств его раба, причем сумма иска не могла превышать размер пекулия этого раба (в данном случае ограниченная ответственность существовала!); и к концу рассматриваемого периода потребности рынка стимулировали возникновение новых исков: их можно было предъявить господину, который поручил некому лицу, рабу или свободному, заведование кораблем или предприятием, по поводу заключенных этим лицом сделок (в первом случае иск назывался «actio exercitoria» («иск против командира корабля»), во втором — «actio institoria» («иск против приказчика»)).
Часто отмечается, что «реальные» гарантии (залог и тому подобное) были менее распространены, чем «личные» гарантии, то есть представление поручителя. Такими поручителями могли выступать спонсор (sponsor) и фидеипромиссор (fidepromissor), но лишь в случае стипуляции: они «обещали то же самое» и, следовательно, могли быть привлечены к суду вместо главного должника. Время от времени данный институт подвергался правовому регулированию при помощи законов, а не преторского права (ius honorarium)63.
Вторую часть обязательств (obligationes) составлял «деликт» (правонарушение в сфере частного, но не уголовного права; соответствующим английским термином будет «tori»). Необходимо рассмотреть три вида деликтов: кражу (furtum), посягательство на свободное лицо (iniuria) и причинение вреда имуществу («damnum iniuria datum»). Во всех трех случаях римская правовая процедура была чрезвычайно сложной. Первые две разновидности деликта восходили к Законам ХП таблиц, предусматривавшим смертную казнь или обращение в рабство за «явную кражу» (упрощенно говоря, когда вора ловили с поличным), но задолго до Цицерона физические наказания уступили место денежным штрафам: «явный вор» должен был возместить четырехкратную стоимость похищенного, «неявный» — двойную. В Поздней республике понятие «кража» получило куда более широкое определение, чем то, что используем мы: не просто похищение, но любое использование чужой вещи без разрешения собственника или даже изъятие своей собственной вещи у того, кто имеет на нее законное право владения (possessio), например, залога — у кредитора. С другой стороны, несмотря на разногласия, среди юристов возобладало мнение, что кража земли неосуществима64.
62 См.: Jolowicz: 298.
63 Watson 1965 (F 294): 6—9. Уотсон утверждает, что фидеиюссоры (fideiussor), т. е. поручители, способные гарантировать любое обязательство, не засвидетельствованы в эпоху Республики; но последний из законов, регулировавших поручительство, распространялся на все три вида поручителей и назывался Корнелиевым, а следовательно, должен был быть принят Суллой.
64 Дигесты. 41.3.38.
Глава 14. Развитие римского частного права
629
Другая разновидность деликтов, посягательство на личность (iniuria), примечательна тем, что преторы довольно рано создали целую новую систему исков, основанных на оценке истцом нанесенного ему ущерба, и отбросили старые нормы Законов ХП таблиц. В этих законах содержались специальные положения не только против нанесения физического вреда, но и против «злых песен» (occentatio)65 и публичного оскорбления (convicium). Большие споры ведутся о том, когда и в какой мере эти положения были включены в различные преторские эдикты, и о том, включало ли посягательство на личность (iniuria) в эпоху Цицерона то, что мы назвали бы клеветой и диффамацией: во всяком случае, Гораций знал, что следует соблюдать осторожность66. Так или иначе, это стало важным нововведением преторского права67.
Причинение вреда имуществу (в том числе рабам) каралось согласно Аквилиеву закону, который, возможно, был принят уже в 287 г. до н. э. Если это так, то развитие данного аспекта права, весьма масштабное, происходило путем юридического толкования старого и лаконичного статута. Особенно живо обсуждались вопросы об ответственности: основанием для иска за причинение ущерба имуществу могла послужить простая небрежность, тогда как в случае кражи (furtum) или посягательства на личность (iniuria) необходим был умысел; но юристы отчаянно сражались друг с другом по поводу побочных и опосредованных причин ущерба, а преторы содействовали развитию права, принимая к рассмотрению иски «по аналогии» («actiones utiles») и иски, основанные на фактических обстоятельствах («actiones in factum»), то есть, в сущности говоря: «Согласно букве закона у тебя в общем-то нет оснований для иска, но я приму твой иск по аналогии с существующим законом...» или даже «...на основании фактов, на которые ты ссылаешься».
4. Исковое право
Обращаясь к искам (actiones), то есть к правовой процедуре68, прежде всего следует рассмотреть, какие суды имели частноправовую юрисдикцию. Гражданским правосудием руководили городской претор (praetor urbanus) и претор по делам иноземцев (praetor peregrinus), сферы ведения которых в эпоху Цицерона полностью перекрывались, но сами преторы никогда и никого не судили. С древнейших времен гражданская судебная процедура в Риме была двухэтапной. На первом этапе иск рассматривался
05 См.: Thompson Е.Р. «Rough music»: Le charivari anglais //Annales (1972) 27: 285—312. Манфредини ставит под сомнение классическое рассмотрение этого вопроса у Френкеля, см.: Fraenkel 1925 (F 54): 185-200; Manfredini 1979 (F 242).
66 Гораций. Сатиры. II. 1.80—83. Поэт выражается иронически, но его мысль вполне серьезна.
67 См.: Smith 1951 (F 270); Jocelyn 1969 (F 84); Watson 1965 (F 294): гл. 16; Birb 1969 (F 187); Manfredini 1979 (F 242).
68 Новейшее общее рассмотрение см.: Frezza 1972 (F 203). Гринидж описывает как гражданскую, так и уголовную процедуры, см.: Greenidge 1971 (F 68). Интересны, но не общепризнанны работы: Kelly 1976 (F 227); Behrends 1970 (F 19).
630
Часть Π
перед претором, «в суде» («in iure»). Стороны являлись на слушания к претору, делали свои заявления, в которых определялась суть дела, и претор передавал это дело в форме краткой инструкции одному или нескольким частным лицам, которые затем, на второй стадии, называвшейся «перед судьей» («apud iudicem»), выносили решение по иску69. Эти лица, принимавшие решение по иску, могли образовывать три типа судов:70 состоявшие из единственного судьи (iudex) (или арбитра (arbiter)), из маленькой группы рекуператоров (recuperatores)71 или из большого жюри центумви- ров (centumviri), выносившего вердикт большинством голосов. В историографии ведутся споры о происхождении и роли последних двух типов и о том, имели ли они исключительную компетенцию в определенных сферах. Во всяком случае, можно уверенно говорить о том, что центумвиры разбирали в основном крупные наследственные тяжбы, включая жалобы на завещания, нарушавшие долг («querela inofficiosi testamenti»): от каждой трибы избиралось по три центумвира, по-видимому (как ни странно), вне зависимости от принадлежности к имущественному классу. Рекуператоры отбирались по жребию из списка судей (album iudicum), составленного изначально для уголовного суда по делам о вымогательствах (de repetundis), с возможностью их отвода тяжущимися сторонами; такая же процедура отбора могла применяться и по отношению к единственному судье (unus index), но единственный судья мог быть назначен и самими тяжущимися (если они приходили к соглашению) совершенно произвольно72. И преторы, и судьи вполне могли не обладать никакими специальными юридическими познаниями, но они имели возможность консультироваться с юристами, и ожидалось, что они ею воспользуются. По итогам слушаний перед претором (in iure) ответчик мог апеллировать с просьбой о вмешательстве к высшему магистрату или плебейским трибунам, а если претор отказывал истцу в иске, то тот мог попытать удачи перед другим претором; но приговор судьи (apud iudicem) не подлежал апелляции, и вторично подать тот же самый иск было невозможно. Все приговоры были денежными (pecuniaria), то есть предполагали выплату определенной суммы денег, но не прямой возврат вещи истцу и не прямое исполнение ответчиком договора73. Исполнительные органы власти не предоставляли истцу никаких государственных средств принуждения, чтобы заста¬
69 Распространенное утверждение, будто судья (iudex) должен был вынести решение только о фактических обстоятельствах дела, ошибочно: он рассматривал как факты, так и законы.
70 Ради краткости оставим в стороне децемвиров для разрешения тяжб (Xviri stlitibus judicandis), рассматривавших важные дела о личной свободе (causae liberales), см.: Jolowicz: 199.
71 Речи Цицерона «В защиту Туллия» и «В защиту Цецины» были произнесены перед рекуператорами. См.: Bongert 1952 (F 189); Schmidlin 1963 (F 265).
72 Напр., в деле о краже (actio furti) судьей (iudex) мог выступать вольноотпущенник, см.: Цицерон. В защиту Клуенция. 120. Свободу выбора судьи подтверждают статьи 86 и 87 Ирнитанской таблицы (tabula Imitana).
™ Такой точки зрения придерживается: Jolowicz: 204—205; о ключевой роли «произвольной оговорки» («clausula arbitraria»), позволявшей добиться возврата вещи, см.: de Zulueta 1953 (В 130) П: 263-264.
Глава 14. Развитие римского частного права
631
вить противника явиться в суд или провести в жизнь вынесенный приговор; более того, если одна из сторон не присутствовала на слушаниях перед претором (in iure), то рассмотрение дела перед судьей (iudicium) не могло состояться. Однако предусматривались санкции: человек, пренебрегавший защитой своего дела, подвергался опасности, поскольку его противнику претор автоматически предоставлял право владения (bonorum possessio) всем его имуществом; такие же санкции применялись и к лицам, которые не повиновались вынесенному приговору и отказывались выплатить присужденные деньги. Описанное поведение приводило также к «гражданскому бесчестью» (infamia), которое имело губительные последствия для социального статуса провинившегося и лишало его доступа к государственным должностям. Обвинительный приговор по всем искам, связанным с деликтами (за исключением ущерба, нанесенного имуществу), и многим другим искам, прямо связанным с доверием, также влек за собой гражданское бесчестье74.
Исследователи придают огромное значение возникновению в римской гражданской процедуре «формулярной системы»75. Самая ранняя форма гражданской процедуры — «законные иски» («legis actions», легисакции), начиная с сакраментальной легисакции («legis actio sacramento») — отличалась строгими процедурами выступления перед претором («in iure»), предполагавшими оперирование четко зафиксированными словесными конструкциями («certa verba»), к которым истец должен был приспособить свое исковое требование. В «Институциях» Гая содержится знаменитый рассказ76 о том, какими проблемами оборачивалась эта строгость; но сомнительно, что автор попал здесь в точку, ибо на практике можно было предъявить любой гражданский иск при условии, что знатоки дали истцу хорошие рекомендации относительно формулировок, да и время от времени создавались новые легисакции; главная же проблема состояла в том, что легисакции не допускали комплексной защиты и инноваций, модифицирующих гражданское право (ius civile). Однако Гай прав в том, что решение было найдено: Эбуциев закон (lex Aebutia), дополненный двумя Юлиевыми законами (leges Iuliae), принятыми при Августе, учредил новую систему рассмотрения дел перед претором (in iure) — посредством составленных формул («per formulas conceptas») вместо воспроизведения точно установленных фраз («per certa verba»); формулы обладали большей гибкостью и легче поддавались адаптации к требованиям обеих сторон; постепенно они вытеснили старую систему. Датировка Эбуциева закона неизвестна, хотя большинство исследователей относит его ко второй половине П в. до н. э. Ко временам Цицерона уже имелись «формулы на все случаи»77, несмотря на то, что легисакции еще существовали (за ис¬
74 См.: Greenidge 1977 (F 67); прочую библиографию см.: Crook 1967 (F 41): 303 примем. 77.
75 В целом см.: Jolowicz: 199—225.
76 Гай. Институции. IV.11, 30; ср.: Watson 1973 (F 303): 389—391.
77 См.: Jolowicz: 218—225; Цицерон. В защиту Квинта Росция-актера. 24 («Есть формулы, под которые могут быть подведены всякого рода преступления, вследствие чего
632
Часть Π
ключением так называемой кондикции). Содержание и последствия Эбуциева закона тоже бесконечно обсуждаются в историографии. Если формулярный иск должен был иметь равную силу с легисакцией, то его вчинение, как и в случае с легисакцией, явно должно было исключать дальнейшие судебные споры; возможно, сущность Эбуциева закона и состояла в том, что этому «эффекту поглощения» он придал законную силу. На практике формулярная система позволяла преторам придавать законную силу заявлениям ответчиков, предусматривая особые условия (exceptiones) в ходе слушаний, а также создавать новые иски в рамках претор- ского права (ius honorarium): например, в условиях легисакций были бы невозможны иски, основанные на фактических обстоятельствах («actiones in factum»).
Фундаментальной характеристикой римской гражданской процедуры (помимо принципиального отсутствия профессионального специалиста в роли советчика) был ее состязательный характер, сближающий ее с английским правом: это было состязание78, исход которого определялся свидетельствами и доводами79, причем одна сторона выигрывала, а вторая — проигрывала. В самом сердце состязательной системы всегда лежит убеждение и переубеждение, поэтому адвокатская деятельность была не менее важна, чем юриспруденция. Однако, в отличие от английского права, в Риме адвокат не был независимым экспертом (amicus curiae): его единственная обязанность состояла в том, чтобы сделать всё возможное для клиента, используя все доступные ему средства убеждения, а поскольку профессиональных судей, способных обобщить и изложить закон, не существовало, в суде нередко заправляли адвокаты. Такое положение дел часто критикуют, но следует помнить, что состязательная система дает обеим сторонам равные шансы сделать всё возможное и даже невозможное.
5. Италия и провинции
Необходимо сказать несколько слов об отправлении гражданского правосудия вне Рима и прежде всего в Италии.
До принятия законов 90/89 г. до н. э. и, затем, 49 г. до н. э. большая часть Италии считалась иноземной территорией, и иноземные общины имели собственные судебные системы80. В некоторые муниципии римских
не может быть ошибки ни в их классификации, ни в их подсудности» («sunt formulae de omnibus rebus constitutae, ne quis aut in genere iniuriae aut in ratione actionis errare possit»). Перев. Ф.Ф. Зелинского)). О формуле как триумфе профессиональной юриспруденции см.: Wieacker 1988 (F 171): 452-453.
78 См.: Thomas Y.-P. 1978 (F 281): 98; Frier 1985 ( F 205): 233-234, 246-250.
79 Либо, что было столь же важно, присягой. Если одна сторона предлагала другой присягу, а та должным образом ее приносила, то иск немедленно завершался удовлетворением требований присягнувшей стороны, см.: Дигесты. 12.2.
80 См.: Harris 1972 (F 76).
Глава 14. Развитие римского частного права
633
граждан (cives Romani) Рим направлял префектов (praefecti) для проведения выездных судебных сессий81. Когда все народы Италии получили римское гражданство, их местные суды сохранили гражданскую юрисдикцию, но распространялась она лишь на дела, в которых исковая сумма не превышала определенного предела;82 остальные дела уходили в Рим, если только стороны не соглашались на местное судебное разбирательство.
Провинциальная юрисдикция будет описана в гл. 15 наст, изд., так что остается лишь сказать несколько слов о ее гражданской составляющей83. Зададимся вопросом: в какой мере наместник контролировал судебные споры между провинциалами, не имевшими римского гражданства? Цицерон утверждает, что жителей Киликии очень обрадовало его обещание не вмешиваться в местную юрисдикцию84, а это, видимо, означает, что наместники так вели себя не всегда, и Веррес вторгался в нее, когда считал нужным; но вряд ли наместники имели возможность полностью взять на себя все местные судебные дела. Обычную для того времени систему можно реконструировать по таким документам, как постановление сената об Асклепиаде (senatus consultum de Asclepiade) и письма Октавиана в Розос:85 в провинциальных общинах существовали местные суды; провинциалы могли потребовать слушания дела в суде наместника либо для разбора дела могли приглашаться арбитры из другого города. Контре- бийская таблица (tabula Contrebiensis)86 позволяет взглянуть на наместника Испании, который в 87 г. до н. э. вмешался (неизвестно, по запросу или без такового) в спор о границах между маленькими общинами и использовал формулярную процедуру, примерно соответствовавшую римскому гражданскому образцу87. Если говорить о спорах римских граждан в провинциях, то у Цицерона содержится множество сведений о структуре наместнического эдикта, о проводимых им выездных судебных заседаниях и об использовании стандартной формулярной процедуры с рекуператорами,
81 См.: Girard 1901 (F 208): 295-305; Simshäuser 1973 (F 144): 85-97.
82 Такой предел упоминается в Рубриевом законе и Атестинском фрагменте, а гл. 84 Ирнитанской таблицы подтверждает, что в зависимости от богатства и значимости общины он мог меняться. См. «Избранные неюридические источники...», с. 649 наст. изд.
83 К процитированным там источникам следует добавить новый фрагмент текста, который обычно называют «Законом о борьбе с пиратами»: в нем уточняются полномочия провинциального наместника между окончанием срока его полномочий и его возвращением в Рим; см. «Избранные неюридические источники...», с. 649 наст. изд. О свидетельствах, содержащихся в речах Цицерона против Берреса, см.: Mellano 1977 (F 116).
Цицерон. Письма к Аттику. VI. 1.15. Вопреки мнению Э.-Дж. Маршалла (Marshall 1980 (F 111): 656—658), считающего, что Цицерон имел в виду «судей для иноземцев» («ξενοδίκοα»), пассаж должен иметь более широкий смысл: выражения «чтобы они (провинциалы. — О.Л.) разбирали споры между собой по своим законам» («inter se disceptent suis legibus») и «воспользовавшись своими законами и судами» («suis legibus et iudiciis usae»), несомненно, относятся ко всей местной юрисдикции.
8 RDGE Ne 22, греческий текст, стк. 18—20; № 58, письмо 2, стк. 53—56.
86 См. «Избранные неюридические источники...», с. 649 наст. изд.
87 Римляне часто разрешали местные споры о границах (имевшие и политическое измерение) либо по приглашению (ср. судебное решение Минуциев (sententia Mimiciorum)
634
Часть Π
избранными по жребию;88 но эти процедуры могли и не соблюдаться, ибо сообщается также о делах, в которых Веррес проводил личное расследование (cognitio), то есть сам разбирал весь спор, и, хотя Цицерон использует эти случаи для очернения Верреса, однако он не объявляет его приговоры недействительными. Видимо, существовала возможность (особенно для людей со связями) добиться переноса в Рим слушания гражданского дела89, но приговор, вынесенный в провинции, имел столь же окончательный характер, что и в Риме90.
III
Таковы в общих чертах были нормы частного права. Теперь обратимся к механизмам их развития и к идеям, стимулировавшим этот процесс. Что касается хронологии, то в конце настоящей главы будет предпринята попытка свести в таблицу первые упоминания о некоторых нововведениях, но читателю следует иметь в виду, что многие свидетельства не датированы и спорны и что конкретный институт частного права может впервые упоминаться в источниках спустя долгое время после его возникновения. Представляется, что в период от Гракхов до Каталины перемены происходили особенно быстро, в том числе издавались новые эдикты с целью противодействия запугиванию и насилию91.
Говоря о механизмах развития права, первым делом следует отметить, что некоторые новшества вводились не преторами, а законами. Попытки исследователей дать этому явлению чисто хронологическое объяснение (законы — это более ранний способ модификации права, вмешательство преторов — более поздний) вызывают определенные возражения92, попытки же других ученых доказать, что законы использовались для развития только одного раздела права, то есть для социальных преобразований, не позволяют удовлетворительно объяснить всю совокупность этих законов93. Причинение вреда имуществу (damnum) регулировалось законом, посягательство же на личность (iniuria) — только преторскими эдиктами. Но почему? Возможно, Аквилиев закон (как и Петелиев закон о долговом рабстве (Lex Poetelia de nexu) и Цинциев закон о подарках (Lex Cincia de donis)) действительно был принят до начала активной деятельности пре-
— в «Избранных неюридических источниках...», с. 649 наст, изд.), либо по собственному почину, но здесь впервые (насколько нам известно) использовалась процедура, основанная на формулярной системе.
88 См.: Hoffinan 1976 (F 213).
89 См.: Jones А.-Н.-М. 1960 (F 87): Ί5-ΊΊ.
90 Хотя был ли окончательным приговор, вынесенный магистратом по итогам собственного расследования (cognitio), — это большой вопрос.
91 См.: Frier 1985 (F 204): 221.
92 См. сноску 16 наст. гл.
93 Данное мнение отстаивают Виаккер и Бляйкен, см.: Wieacker 1961 (F 309): 61—88; Wieacker 1988 (F 171): 411—421; Bleicken 1975 (F 28): 141—145; но в конечном счете их аргументы не более убедительны, чем аргументы Шульца, см.: Schulz 1936 (F 267): 10.
Глава 14. Развитие рижского частного права
635
торов94. И, несомненно, законы использовались для социальных преобразований:95 с этой точки зрения можно рассматривать Цинциев закон, Воко- ниев закон, Леториев закон, защищающий интересы несовершеннолетних, Минициев закон и все законы против роскоши и об ограничении процентной ставки по кредитам. В крайнем случае к этому перечню можно добавить Корнелиев закон, придавший силу завещаниям умерших в плену, и Атилиев закон, регулировавший назначение опекунов (tutores), а возможно, даже законы, устанавливавшие правила поручительства. Но в эту схему не вписываются, например, Атиниев и Скрибониев законы о правилах приобретения по праву давности (usucapio). Что касается Эбуциева закона, то он повлек за собой огромный прорыв в гражданском праве (ius civile), который, пожалуй, просто выходил за рамки допустимого претор- ского вмешательства
Однако основные направления развития определили преторы, каждый из которых в своем эдикте («постоянный эдикт», «edictum perpetuum») устанавливал, какие именно судебные иски он будет принимать в течение года своей должности. Следует лишь отметить, что, хотя принятие иска или отказ в нем, восстановление в первоначальном положении (in integrum restitutio), введение во владение имуществом (missio in bona) и тому подобные решения претора96 в некоторых случаях прямо предусматривались в эдикте, но преторы, по крайней мере в рамках формулярной системы, могли применять их по своему усмотрению. Корнелиев закон 67 г. до н. э., гласивший, «что преторы должны вершить суд в соответствии с собственными постоянными эдиктами» («ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent»), вероятно, знаменовал важный этап развития. Обычно исследователи рассматривают его просто как реакцию на произвол преторов, подобных Берресу, который в середине срока своей должности вводил ситуативные новшества (по словам Цицерона, в своих личных интересах); но недавно было высказано предположение, что этот закон запрещал преторам издавать в середине срока своей должности не ситуативные распоряжения, а настоящие новые нормы, и тем самым замедлил развитие права, которое казалось слишком стремительным97.
Право народов (ius gentium), Естественное право (ius naturale), Греческие ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ. Контакты с внешним миром побудили римлян выйти за рамки собственного гражданского права (ius civile) и породили у них представление о праве народов (ius gentium);98 иногда это
94 См.: de Zulueta // САН IX1: гл. 21, с. 844.
95 См.: Wieacker 1961 (F 309): 66: «социальное законодательство» («eine Wohlfahrtsgesetzgebung»). Впоследствии именно таким образом законы использовал Август.
96 Об отказе в иске («denegatio actionis») см.: Metro 1972 (F 246) и Ankum 1985 (F 175); о восстановлении в первоначальном положении («in integrum restitutio») и прочих «претор- ских средствах воздействия» см.: Thomas J.-A.-C. 1976 (F 280): 111—117.
97 См.: Metro 1972 (F 246); Frier 1983 (F 204): 221-222.
98 В целом см.: Jolowicz: 102-107; Schiller 1978 (F 264): 525 слл.; Wieacker 1988 (F 171):
444.
636
Часть Π
представление служило предметом философских рассуждений, но для римлян оно сводилось прежде всего к судебной практике и представляло собой совокупность норм (особенно торговых и коммерческих, но не только их), используемых другими народами и признаваемых римлянами в отношении как граждан (cives), так и иноземцев (peregrini). Греческие философы права рассуждали о «естественном праве», имеющем силу для всех народов, и римляне вполне способны были заимствовать их жаргон, но сохранили свой прагматичный подход и не стали включать в свое позитивное право те институты, которые их не устраивали; так, например, иноземцам пришлось остаться за пределами системы семейного права и наследования. Что касается рабства, то римлянам было удобно обозначить его как часть права народов и настаивать на том, что оно есть у всех. Вопрос о том, в каком объеме римляне эпохи Республики заимствовали в Греции материальное право (если рассматривать его обособленно от толкований и принципов упорядочения правовых норм), вызывает много споров. Само понятие «ХП таблиц», как и различные частности, некоторые источники называют греческим; «bona fides» возводилось к «πίστις», «iniuria» — к «ύβρις»98 99*, и некоторые разделы торгового права считались заимствованиями. С другой стороны, отмечается, что сходство (иногда преувеличенное) не доказывает происхождения, и представление о зрелой общегреческой правовой системе как источнике заимствований сегодня вышло из моды.
ФИКЦИЯ, ПЕРЕНОС И АНАЛОГИЯ. Мы уже видели, что для рассмотрения в римском суде дел с участием иноземцев могла использоваться фикция, согласно которой иноземец (или иноземка) являлся римским гражданином. Эта конкретная фикция упоминается только в связи с деликтными исками о краже и нанесении вреда имуществу, но она иллюстрирует излюбленный прием римских юристов: чтобы избежать процедурных сложностей, «считать», что X — это Υ". Другими примерами фикций могут служить фикция истекшего срока давности (usucapio) в Публи- циевом иске, фикция, согласно которой наследник по преторским нормам является наследником по гражданскому праву (для притязаний на владение имуществом), и фикция, согласно которой непонятный текст в завещании «будто бы и не написан»; еще одна искусная новая фикция обнаружилась в Контребийской таблице100. Перенос — это другая разновидность того же приема: формальный юридический акт, используемый для достижения совершенно иных целей. Так, манципация (mancipatio), то есть формальная передача права собственности на манципируемую вещь
98а Bona fides [лат) — «добрая совесть, «добросовестность»; πίστις (греч.) — «верность, ручательство, честное слово, доказательство»; iniuria (лат.) — «правонарушение, обида, притеснение, вред, ущерб»; ύβρις (греч.) — «бесчинство, оскорбление, насилие» (О.Л.)
99 Гай. Институции. IV.34—38. Виаккер показал, что этот конкретный правовой прием мог быть порожден заботами и, следовательно, образом мыслей понтификов, см.: Wieacker 1986 (F 316).
100 См. «Избранные неюридические источники...», с. 649 наст. изд.
Глава 14. Развитие рижского частного права
637
(«res mancipi»), использовалась для совершения эманципации (emancipatio), то есть освобождения человека от чужой власти (potestas); а отпуск рабов на волю представлял собой фиктивную «тяжбу о свободе» в интересах раба, в которой его хозяин (dominus) не защищал свои интересы. Третьей разновидностью этого приема была аналогия: претор принимал к рассмотрению иск, как если бы дело вполне подпадало под действие закона; иски по аналогии назывались «actiones utiles». И, наконец, процедуры могли использоваться как формальности, после того как утрачивали свою изначальную практическую функцию. Например, некогда манципация была реальной продажей, а затем превратилась в формальность, обеспечивавшую переход права собственности; а обычное завещание «с использованием меди и весов» («testamentum per aes et libram») возникло как реальная прижизненная передача поместья другу, но превратилось в символическую передачу, вступавшую в силу только после смерти завещателя.
«ДОБРАЯ СОВЕСТЬ» («bona fides»), «СПРАВЕДЛИВОЕ И ДОБРОЕ» («aequum et bonum»), «СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Эти понятия сыграли важную роль в развитии римского права; лучше всего рассматривать их чисто прагматически, как практические инструменты, позволявшие уравновесить определенность и предсказуемость «строгого права» («strictum ius»), гласившего «не важно, что подразумевалось; сделанное имеет такие-то и такие-то правовые последствия», и придать ему разумную гибкость в отношении намерений и общего чувства справедливости101. Всё преторское право («ius honorarium») представляло собой «римскую справедливость»: например, исключения (exceptiones) и возражения (replicationes) служили в формулярной системе элегантным и справедливым средством, дававшим сторонам возможность предложить на этапе рассмотрения дела перед претором («in iure») желательные для себя модификации «строгого права» («strictum ius»), которые затем надлежало принять во внимание судье (iudex). Что касается понятия «добрая совесть» («bona fides»), то его сложные предпосылки рассматривались во многих современных исследованиях102 и иногда трактуются весьма загадочно103. Его функционирование на практике лучше всего видно на примере «судов доброй совести» («bonae fidei iudicia»)104. Все модификации, которые в «строгом праве» можно было получить только благодаря исключению (exceptio), в «судах доброй совести» предоставлялись с помощью столь же элегантного и справедливого средства — «добрая совесть» вписывалась в формулу, предназначенную для судьи: «Всё, что по этому делу следовало бы дать
101 См.: Schüler 1978 (F 264): 551 слл.; Wieacker 1988 (F 171): 506-509.
102 См.: Lombardi 1961 (F 234); Waldstein 1976 (F 287): 66-78.
103 Шульц изложил этот вопрос слишком обобщенно, см.: Schulz 1936 (F 267): гл. 11; каждый народ склонен считать, что обладает монополией на добрую совесть.
104 Возникавших по поводу, напр., консенсуальных контрактов, см. в целом: Wieacker 1963 (F 310).
638
Часть Π
или сделать Нумерию Негидию для Авла Агерия по доброй совести...»105 («quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona»). Но использование этого понятия для обеспечения справедливого рассмотрения дела лучше рассмотреть на другом примере, связанным с приобретением по праву давности (usucapio). Изначально для приобретения собственности по праву давности не требовалось, чтобы в момент вступления во владение владелец действовал добросовестно (ибо usucapio было институтом «строгого права», «stricti iuris»), но ко временам Цицерона «добрая совесть» («bona fides») возобладала, и добросовестность владельца стала требоваться с самого начала владения106. Более того, всё развитие института восстановления изначального положения («in integrum restitutio»), а также исключения (exceptio) и иска (actio) о злом умысле («dolus malus») основывалось на представлении о том, что «строгое право» («strictum ius») не должно позволять людям использовать закон в неблаговидных целях.
ИСТОЛКОВАНИЕ107. Наконец мы переходим к юристам, которые, формулируя свои ответы (responsa), должны были давать толкования закона, то есть, к примеру, решать, подразумевается ли в словах закона или завещания одно или другое, дает ли представленный набор фактов основания для таких-то притязаний, составляет ли некое действие такое-то нарушение; именно под влиянием таких толкований преторы и развивали описанные выше механизмы. Кроме того, юристы породили крупнейшую в Риме отрасль специальной литературы — правовые сочинения. Рассматриваемая в настоящей главе стадия развития римской юриспруденции совпала с апогеем греческого влияния на римские идеи, и Шульц называет ее «эллинистическим веком римской правовой науки». Действительно, страдая от убежденности в греческом культурном превосходстве, римляне стремились превратить любой предмет в науку (ars), в логическую систему, основанную на расчленении и разделении на роды и виды108. И Помпей, и Юлий Цезарь планировали кодифицировать римское право; Цицерон мечтал о правовой науке (ars)109, а Квинт Муций, консул 95 г. до н. э., по словам Помпония, стал первым юристом, организовавшим гражданское право «по родам» («generatim»)110. Но важно раз¬
105 В сущности, такой же характер имели и формулы с выражением «сколько денег... представляется добрым и справедливым» и тому подобные варианты, с чем не согласен Сиюле, см.: Ciulei 1972 (F 195).
106 См.: Watson 1968 (F 297): 54.
107 В целом см.: Watson 1974 (F 304): гл. 9; Schiller 1978 (F 264): 373—383; Frier 1985 (F 205) 160-168, 190-194; Wieacker 1988 (F 171): 519-675.
10® Цицерон. 06ораторе. 1.186—189; Цицерон. Брут. 152—153; Watson 1974 (F 304): гл. 15; Rawson 1985 (Н 109): гл. 14.
109 См. (с осторожностью): Polay 1965 (F 255); Polay 1965 ( F 256); d’Ippolito 1978 (F 217): 93—98; и, вновь с осторожностью: Bauman 1985 (F 179): 78—83. О Цицероне см. также: von Lübtow 1944 (F 235).
110 Об оригинальности Квинта Муция см.: Frier 1985 (F 205): 160—163.
Глава 14. Развитие римского частного права
639
граничивать организацию и систематизацию, пусть даже это разделение будет слегка искусственным. Систематизация позитивного права в некоторых отношениях проводилась весьма банально. Например, можно усомниться в том, что число «видов» кражи или опекунства имело какое- то значение, тем более что среди юристов не было консенсуса; и, хотя узуфрукт и сервитуты в конце концов (спустя долгое время после окончания рассматриваемого здесь периода) были осмыслены как два подвида «прав на чужую вещь» («iura in re alienam»)111, однако регулирующие их позитивные нормы, к счастью, были разработаны, когда никто еще и не помышлял о логической взаимосвязи этих институтов. Напротив, организацию права можно оценить не столь негативно. Право (как английское, так и римское) проходит фазы чисто эмпирического развития, за которыми следуют фазы, когда лучшие умы понимают, что кругом царит «хаос судебных дел», и ищут общие принципы, на основании которых решения могут приниматься посредством дедукции112. Однако, как напоминают нам современные авторы, право не является замкнутой логической системой. Анализ критериев решения («rationes decidendi») в дошедших до нас ответах (responsa) юристов республиканского периода (в случаях, когда юристы вообще называли эти критерии, а не просто ссылались на авторитет предшественников) свидетельствует о том, что они использовали все методики логической аргументации (основанной на здравом смысле) в зависимости от рассматриваемой проблемы;113 но под поверхностью очевидной логики правовых рассуждений скрывается казуистический процесс сопоставления разных дел между собой, что вполне закономерно114. Поэтому, какое бы влияние ни оказали греческие идеи на организацию римского права в рассматриваемый в данной главе период, развитие позитивного права происходило за счет отдельных ответов (responsa) юристов, и с этой точки зрения далеко не так очевидно утверждение о том, что возрастающее усложнение права имело специфически «эллинистический» характер115.
В рамках концепции, согласно которой интерпретационное мышление римских юристов испытало на себе греческое влияние, еще недавно
111 Дигесты. 7.1.1.
112 Дж.-М. Ригг пишет, что лорд Хартвик, лорд-канцлер XVTH в., «превратил справедливость из хаоса прецедентов в научную систему», см.: Rigg J.M. // Dictionary of National Biography. ЬХШ: 350; а многолетний член Верховного суда США Оливер Уэнделл Холмс- младший (1841—1935) сформулировал свой знаменитый афоризм «Жизнь права заключается не в логике, а в опыте», когда он призывал к усилению генерализации правовой мысли, см.: Holmes O.W., jr., The Common Law (Boston 1881; repr. (ed. M. de W. Hare): Harvard 1963; repr.: 1968) I. См. также: Stein 1974 (F 273): 437-441.
113 В целом CM.: Horak 1969 (F 214); Schiller 1978 (F 264): 382; Seidl 1966 (F 269): 360 и по всему тексту.
114 См.: Wieacker 1971 (F 314); Wieacker 1976 (F 315); Bund 1971 (F 192): 573-579.
115 О тонкостях древней понтификальной юриспруденции см.: Wolf 1985 (F 318): пре- Жде всего 1 («...durchdachte Zweckschöpfungen einer rationalen Rechtskunde» («хорошо продуманное целенаправленное создание рациональной юриспруденции»)). См. также: Wieac- ker 1986 (F 316); Wieacker 1988 (F 171): 310-340.
640
Часть Π
специалисты придерживались двух направлений, а сегодня появилось и третье116. Первое направление выросло из наблюдения, что величайшей наукой (ars) рассматриваемого времени, которой обучались все римляне высших сословий, была риторика, дававшая своим адептам отборный арсенал обобщенных топосов, категорий и различий — например, разных типов споров (στάσεις) в правовой аргументации (прежде всего «выражения (scriptum) против намерений (sententia)»). Некоторые наработки исследователей, принадлежавших к этому направлению, представляют ценность, но тезис о влиянии риторов на юристов (в отличие от их влияния на адвокатов) никогда не пользовался особой поддержкой117. Второе направление представляет Шульц, питавший отвращение к риторике, по мнению которого «прометеевым огнем», «превратившим римскую юриспруденцию в систематическую науку», стала греческая диалектика, основанная Платоном и Аристотелем, то есть логическая философия, а также искусство определения и разделения;118 выше уже было приведено, пожалуй, достаточно соображений, заставляющих усомниться в этой теории. Третье направление считает движущей силой для ответов (responsa) юристов не риторику и не диалектику, а греческую правовую и моральную философию, с которой тоже до некоторой степени знакомились все римляне высших классов. Автор самой поразительной концепции119 усматривает не только важные расхождения между теми направлениями стоицизма, которые повлияли на юристов, окружавших Сципиона Эмилиана, с одной стороны, и Гракхов — с другой, но и пропасть, отделяющую весь этот стоицизм от предполагаемого прагматизма (восходящего к Карнеаду) современников Цицерона начиная с Аквилия Галла. Философские основания этой теории вызывают вопросы, не в последнюю очередь потому, что интерес римлян к философии был сравнительно распространённым и неконкретным явлением. Меньше споров вызывают исследования, в которых просто обосновывается общее значение стоицизма как источника влияния на римскую правовую мысль120. По крайней мере, вполне можно согласиться с тем, что в принципах, на основании которых юристы толковали право,
116 В целом см.: Wieacker 1969 (F 313); Schiller 1978 (F 264): 373 слл. Виаккер рисует более позитивную картину греческого влияния, нежели та, что описана в настоящей главе, см.: Wieacker 1988 (F 171): 347-352, 618-675.
117 О риторе, сыгравшем наиболее важную роль для развития юриспруденции, Герма- горе из Темноса, см.: Kennedy G. The Art of Persuasion in Greece (Princeton, 1963): 303—321. Первую теорию с энтузиазмом принимает: Kunkel 1953 (F 229): 14; но отвергают: Watson 1974 (F 304): 194-195; Wesel 1967 (F 308): 137-139; Wieling 1972 (F 317): 56; с оговорками принимает: Bund 1971 (F 192): 578; реанимирует: Thomas Y.-P. 1978 (F 281); недавно обращается к ней: Wieacker 1988 (F 171): 662—675.
118 Schulz 1953 (F 268): 62—69; см. также: Stein 1966 (F 272): 33—48. Более негативную оценку см.: Talamanca 1976—1977 (F 278): 211 слл., прежде всего 258—261; Wieacker 1988 (F 171): 618—639, прежде всего 638—639.
110 Имеется в виду Берендс, развивающий ее во многих работах, прежде всего: Behrends 1976 (F 180); Behrends 1977 (F 181); Behrends 1980 (F 21). Критику см.: Horak 1978 (F 215): 402—414. Ключевыми фигурами он считает Антипатра из Тарса и Блоссия из Кум.
126 Напр.: Bund 1980 (F 193); в целом: Wieacker 1988 (F 171): 639-661.
Глава 14. Развитие римского частного права
641
наблюдается изменение, вне зависимости от того, было ли оно мотивировано греческой философией121.
В историографии существует и ещё одно течение, перехлестывающееся с только что описанным, представители которого настаивают на том, что юристы участвовали в политических событиях, входили в состав политических группировок, а также влияли на идеологию своей эпохи122. Историк может только приветствовать такой подход, ибо существование совершенно автономной римской юриспруденции с исторической точки зрения невероятно. Однако рассуждения сторонников данного подхода звучат не слишком уверенно, когда они оперируют понятием «политическая группировка» и конструируют спекулятивные просопографические комбинации, что считается уже устаревшей методологией, а также пускаются в предвзятые рассуждения, чтобы защитить уважаемых ими деятелей от обвинений в политически мотивированной непоследовательности123. В любом случае, этот подход позволяет осветить роль юристов в развитии скорее государственного, чем частного права, ибо главный вопрос, который решается в рамках данного подхода, состоит в том, какую роль играли юристы в продвижении (или даже в составлении) законов, принятых при их жизни; согласие в этом вопросе пока не достигнуто. Тем не менее, стоит напомнить о том, что интересы этих далеко не ничтожных людей не замыкались сферой частного права. Примерно до эпохи Суллы правоведы являлись представителями чрезвычайно политизированного правящего класса, строили карьеру и наряду с прочими политиками участвовали во всех делах государства (res publica).
Изменилась ли их роль в эпоху Цицерона и свидетельствует ли это об изменении подхода к толкованию права? Теория Вольфганга Кункеля (1902—1981)124 об изменении классового состава юристов, среди которых поначалу преобладали лица сенаторского, аристократического происхождения, а затем — всадники и выходцы из италийских муниципиев (municipales homines), что имело определенные последствия для содержания развиваемого ими права, не слишком хорошо согласуется с недавним смещением исторических акцентов. Несмотря на все оговорки Кункеля, сегодня уже невозможно согласиться с его трактовкой всадников как делового класса с определенной идеологией; и неизвестно, как он вписал бы в свою теорию важное для современных историков представление о том, что сама аристократия не представляла собой родовую знать, но в каждом поколе¬
121 См., однако, критические замечания Баумана: Bauman 1985 (F 179): 7—12.
122 См.: Wieacker 1970 (F 313А); Bretone 1971 (F 190); Schiavone 1976 (F 263); d’Ippolito 1971 (F 216); d’Ippolito 1978 (F 217); Bauman 1983 (F 178); Bauman 1985 (F 179). О греческом политическом влиянии см. также: Nicolet 1965 (С 115).
123 См., напр.: Guarino 1981 (С 70); Bauman 1978 (F 177); Bauman 1983 (F 178): 274. Аргументы против см.: Gruen 1965 (С 67).
124 Kunkel 1967 (F 228): 50-61. См. также: Frier 1985 (F 205): 252-260; Rawson 1985 (Η 109): 89—90. Критику см.: Bauman 1985 (F 179): 10—11; однако теорию Кункеля принимает: Wieacker 1988 (F 171): 595-596, 614-615.
642
Часть Π
нии должна была сражаться за должности. Более того, любого юриста несенатского происхождения Кункель относит к категории «всадников»125, что создает ложное впечатление, поскольку все эти юристы в конце концов сделали сенаторские карьеры. Конечно, некоторые юристы (как и неюристы) были «новыми людьми» («novi homines»); но этого недостаточно, чтобы приписывать им какую-то определенную правовую идеологию, и уж точно не «деловую». В любом случае, теория Кункеля может быть применима только к самому концу рассматриваемого здесь периода, поскольку на всем его протяжении вплоть до Офилия и Требация Тесты не существовало ни одного выдающегося юриста вне сенаторского сословия, и до этого времени ни один выдающийся юрист не являлся выходцем из муниципия («municipalis homo»). Перемены в области права современники объясняли торжеством специализации, ввиду чего становилось всё труднее совмещать юриспруденцию с политической карьерой126.
Помпоний перечисляет великие имена, а свидетельства Цицерона позволяют добавить этим теням немного плоти. Секст Элий Пет Кат (Catus — «Искусный, Хитроумный»), консул 198 г. до н. э. и друг Энния, написал первый значимый правовой трактат «Трехчастие» («Tiipertita»); в нем перечислялись статьи Законов ХП таблиц и для каждой приводилась соответствующая легисакция и комментарий. Основателями гражданского права (ius civile) стали Марк Юний Брут, претор 142 г. до н. э., Маний Манилий, консул 149 г. до н. э., и Публий Муций Сцевола, консул 133 г. до н. э., причем последние двое являлись и «создателями законов для Тиберия Гракха» («Ti. Graccho auctores legum»);127 Манилий составил также книгу примеров, из которой Катон и Варрон заимствовали стандартные формы сельскохозяйственных контрактов. Но самую выдающуюся роль в развитии права сыграл другой Муций Сцевола — Квинт Муций, консул 95 г. до н. э. Его правовые сочинения, трактат о гражданском праве (ius civile), организованный по родам (generatim), и книга о различиях (χοροί) использовались как основа для комментариев в «классическую» эпоху; его эдикт для провинции Азия стал образцовым; он участвовал в судебном деле Курия (causa Curiana), самом знаменитом частном судебном споре, который позднее рассматривали как историческое событие128. Друзьями и современниками Цицерона были юристы: Гай Аквилий Галл, претор 66 г. до н. э., придумавший «иск об умысле» («actio de dolo») и Аквилиеву сти-
125 Вероятно, в нее попал бы и Цицерон, если бы, по мнению Кункеля, заслуживал называться юристом.
126 Цицерон. Письма к Аттику. 1.1.1 («Аквилий отстранился [от консульских выборов], сказался больным и сослался на свое судебное царство» («illud suum regnum iudiciale»). Перев. В.О. Горенштейна).
127 Цицерон. Учение академиков. П.13. (Цицерон здесь говорит не о Сцеволе и Мани- лии, а о Сцеволе и Крассе Муциане, консуле 131 г. до н. э. — О.Л.)
128 См. сноску 20 насг. гл. Это дело славили как торжество справедливости над «строгим правом» («strictum ius»), см.: Цицерон. 06ораторе. 1.180; П. 140—141; Цицерон. Брут. 144—145; Цицерон. Топика. 44; Цицерон. О нахождении материала. П. 121—123. Огромную библиографию см.: Wieacker 1967 (F 312); Watson 1971 (F 300): 44, 53—55, 94—96; Watson 1974 (F 304): 129-130; Wieling 1972 (F 317): 9-15, 65-66; Bauman 1983 (F 178): 344-351.
Глава 14. Развитие римского частного права
643
пулядию («stipulatio Aquiliana»), и Сервий Сульпиций Руф, консул 51 г. до н. э.129, наиболее выдающийся систематизатор. Наконец, следует назвать протеже Юлия Цезаря — Публия Альфена Вара, консула-суффекта 39 г. до н. э.130 (некоторые из сохранившихся его описаний судебных дел имеют ценную для нас особенность: в них излагается не только ответ (responsum), но и приводятся все факты131), и Авла Офилия, составившего первый серьезный комментарий к преторскому эдикту132.
Несмотря на ограничения, связанные с передачей информации (сведения могут оказаться нерепрезентативными, искаженными при неточном цитировании или подвергшимися интерполяции), лучше всего умы этих людей видны в их работе. Приведем шесть примеров.
[г) Что же, первые люди нашего государства будут вести споры о том, следует ли считать ребенка рабыни собственностью арендатора (а именно так полагают Публий Сцевола и Маний Манилий, Марк же Брут возражает им)?
Цицерон. О пределах блага и зла. 1.12.
Перев. НА. Фёдорова, с правкой
За этой мыслью Цицерона следует Ульпиан:
Был старый вопрос: принадлежит ли извлекающему плоды ребенок [рабыни] ? Но одержало верх мнение Брута: ребенок не принадлежит извлекающему плоды, ибо человек не может быть плодом человека.
Дигесты. 7.1.68 предисл. Перев. М.Д. Соломатина133
(и) Если женщина[-рабыня] или кобыла выкинет, поскольку ты ударил ее кулаком, то, по словам Брута, применяется Аквилиев закон, словно о rumpere.
Дигесты. 9.2.27.22. Перев. ТА. Бобровниковой134
129 Для Сайма юрист Сульпиций и оратор Сульпиций — это разные лица, см.: Syme 1981 (F 277); хотя Помпоний явно их идентифицировал: «в судебных речах Сервий Сульпиций занимал первое или, несомненно, второе место после Марка Туллия» («in causis orandis primum locum aut pro certo post M. Tullium»). Перев. Л.А. Кофанова). О юристе см.: Bauman 1985 (F 179): гл. 1; о его «модернизме» см.: Wieacker 1988 (F 171): 603.
130 Если эклоги I и IX Вергилия содержат автобиографические сведения, возможно, именно этот человек, вместе с Поллионом и Корнелием Галлом, вернул поэту его поместье.
131 В «Дигесгах» Альфен часто приводит не свои собственные ответы (responsa), а ответы своего учителя Сервия, и нередко невозможно понять, чье решение излагается.
132 См.: d’Ippolito 1978 (F 217): гл. 5. Об Аквилии Галле, Альфене Варе и Офилии см. также: Bauman 1985 (F 179): гл. 2.
133 См.: Kaser 1958 (F 219); Watson 1967-1968 (F 296); Watson 1968 (F 297): 215-216; Behrends 1980 (F 183): 68—79. Некоторые исследователи считают, что приведенное обоснование является интерполяцией или, по крайней мере, принадлежит Ульпиану, а не Бруту.
134 Слово «rumpere» в тексте закона, вероятно, означало прямой физический перелом конечности. См.: Watson 1965 (F 294): 244—245.
644
Часть Π
(iit) В отношении тех вещей, которые муж имеет в составе приданого, кроме наличных денег, муж, как говорит Сервий, отвечает за злой умысел и вину («dolum malum et culpam»). Это мнение Публия Муция: по делу Лицинии, жены Гракха, он установил, что вещи, входящие в приданое, погибли при том восстании, во время которого Гракх был убит, и поскольку это восстание произошло по вине Гракха, то Лицинии должны быть предоставлены [эти вещи].
Дигесты. 24.3.66 предисл.
Перев. ДА. Литвинова135
(iv) Когда легат135а был отказан таким образом, чтобы моя жена Тиция получила такую же долю, какую («tantamdem partem quantulam») [получит] один наследник, то в случае, если [в итоге] доли наследников окажутся неравными, Квинт Муций и Галл полагали, что ей была отказана самая большая доля, поскольку в большем находится и меньшее, а Сервий и Офилий — что самая малая, потому что, когда наследник обязан выдать [по легату], на его усмотрение оставалось, какую часть выдать.
Дигесты. 32.29.1. Перев. А.В. Щеголева, с правкой
(v) Господин отпустил на волю раба-управляющего, потом принял от него счета и, поскольку они не сходились, открыл, что управляющий растратил деньги у какой-то девки («apud quandam mulierculam»); спрашивается, может ли он предъявить иск об испорченном рабе этой женщине, когда сам раб уже свободен? Я ответил, что может, «но, кроме того, еще и о краже тех денег, которые раб у нее оставил»136.
Дигесты. 11.3.16 (Альфен или Сервий).
Перев. А.Е. Кузнецовой
(vi) Офилий спрашивает: если деньги, занятые на ремонт корабля, капитан использовал на свои потребности, то дается ли иск против хозяина (exercitor)? И говорит, что, если он (капитан. — А.Р.) взял деньги, оговорив, что эти деньги должны быть истрачены на ремонт, а затем изменил свою волю, то хозяин несет ответственность и должен вменить себе то обстоятельство, что он назначил такого капитана137. Но если он (капитан. — А.Р) с самого начала имел намерение обмануть кредитора, то получается противоположное [решение].
Дигесты. Ί4.Ί.Ί.9. Перев. АД. Рудокваса
В шести приведенных примерах можно усмотреть стремление тщательно провести различия и готовность рассматривать как реальные, так и гипотетические случаи, характерную для всей римской юриспруденции, а так¬
135 См.: Daube 1963 (F 200); Waldstein 1972 (F 286); Bauman 1978 (F 177): 238-242.
135a A e г a T — в римском праве специально оговоренный в завещании дар, вычитавшийся из общей наследственной массы, предназначенный конкретному лицу (О.Л).
136 Слова «но, кроме того, еще и о краже тех денег, которые раб у нее оставил» обычно считаются интерполяцией.
137 Слова «и должен вменить себе то обстоятельство, что он назначил такого капитана» обычно считаются интерполяцией.
Глава 14. Развитие римского частного права
645
же отсутствие у этих юристов всякого интереса к обобщениям. Но данные примеры иллюстрируют также изменение характера правового мышления138. С одной стороны, у юристов старшего поколения рассматриваемой здесь эпохи мы видим пространные толкования, испытавшие влияние и стоических взглядов на право как человеческий аналог естественной справедливости, свойственной вселенной (по крайней мере, это влияние отмечают некоторые исследователи), и патерналистского и покровительственного отношения к собственному обществу, характерного для представителей правящего класса. С другой стороны, мы наблюдаем позитивистское мышление современников Цицерона — нового поколения более узких специалистов (испытавших, быть может, влияние скептической Академии), считавших право не проекцией природы, а самостоятельной наукой, которая должна выводить свои правила и исключения из собственных независимых аксиом. Возможно, такое противопоставление является преувеличением, но оно верно передает траекторию развития.
IV
Оценку частного права эпохи Республики следует начать с рассмотрения некоторых характеристик, которыми оно ещё не обладало, а также тех, которые римское право так никогда и не обрело139.
Рассматривая право Поздней республики на фоне последующих процедурных реформ, можно отметить отсутствие гражданской апелляции: до появления принцепса иерархия судов была невозможна, так как собрание римского народа не играло никакой роли в гражданской юрисдикции140. Судебные решения о непосредственном возврате имущества (в противоположность денежному присуждению, «condemnatio pecuniaria») тоже стали выноситься лишь после того, как императорское следствие (cognitio) начало вытеснять формулярную систему; тогда же начало применяться и взятие под арест отдельных единиц имущества вместо примитивного предоставления истцу владения всем имуществом лица, проигравшего иск («bonorum possessio»)141. В рассматриваемый в данной главе период не существовало почти никаких признаков административного права;142 оно появилось лишь с развитием при Августе налоговых требований и интереса казны к невостребованным и недействительным наслед¬
138 См.: Watson 1969 (F 298); Watson 1972 (F 301). Хорошие примеры правового мышления юристов предшествующих поколений см.: Wieacker 1988 (F 171): 572—590.
Ы См.: Watson 1974 (F 304): 111-112.
140 См.: Jones А.-Н.-М. 1960 (F 87): 77-83.
141 О том, как арест имущества пришел на смену «bonorum possessio», см.: Crook 1967 (F 197): 366-367.
142 Пассаж в «Дигестах» (1.2.2.44), где Помпоний, как представляется, сообщает, что Офилий первым написал книгу «О законах, касающихся двадцатой части» («de legibus vicesimae», т. е. о пятипроцентном налоге на наследство, введенном Августом. — О.Л.), исправил Хушке, см.: Lenel О. Palingenesia iuris civilis (Iipsiae, 1889) I: 798 примеч. 3. Однако Бауман отстаивает рукописное чтение, см.: Bauman 1985 (F 179): 83—85.
646
Часть Π
ствам. В сфере права лиц Август провел законы, изменившие положение и перспективы рабов и вольноотпущенников, а благодаря изобретенному Августом лагерному пекулию («peculium castrense»), включавшему всё имущество, приобретенное «сыном семьи» («filius familias») на военной службе или в связи с ней, «сын семьи» впервые обрел фонд, бесспорно принадлежавший ему и только ему. В дальнейшем правила наследования без завещания подверглись новым изменениям в пользу кровных родственников. Если говорить о сфере контрактного права, то трактаты по «классическому» праву содержали разделы о «пактах» и «безымянных контрактах», свидетельствующие о постепенном правовом признании различных типов соглашений, не вписывавшихся в республиканское понятие контракта; крупные изменения предстояли также в связи с переуступкой долга и борьбой с неосновательным обогащением143.
Традиционно отмечается медленное развитие римского трудового права, и здесь мы переходим к правовым понятиям, которые так и не были (или были едва) разработаны римлянами. Сдача внаём («locatio conductio») в трудовой сфере так никогда и не вышла из употребления:144 правила и условия найма рабочей силы занимали лишь малый уголок в огромном поле совершенно различных, с социальной точки зрения, договоренностей, и никто не видел смысла и необходимости защищать работника как более слабую сторону сделки. Столь же общим местом является и наблюдение, что римляне так и не разработали общей теории контрактов145, но лишь затыкали дыры там, где они причиняли им неудобства. Римлянам так и не удалось преодолеть трудности, связанные с осмыслением понятия поручения (хотя юристы эпохи Принципата изобрели множество дополнительных хитростей, чтобы добиться сходного эффекта). Как мы уже видели, ввиду некоторых особенностей права и общества это было не так уж необходимо: сыновья, находившиеся под властью (in potestate), и рабы автоматически являлись прямыми агентами своего отца семейства (paterfamilias) или господина (dominus), приобретая для него объекты имущества, а институт пекулия (peculium) позволял им до какой- то степени играть роль агентов при создании обязательств, связывающих отца семейства или господина. Всё это — лишь проявления того факта, что римская экономика оставалась доиндустриальной и докапиталистической, и рабство в ней было само собой разумеющимся явлением. Но институты, которые римляне не отменили, производят не менее поразительное впечатление, чем те, до которых они не додумались: такие институты, как власть отца семейства (patria potestas), опека (tutela), полноправная собственность (dominium) и владение (possessio), манципируемая и неман- ципируемая вещь («res manicipi» и «nec mancipi»), нельзя было изменить, и приходилось придумывать всё более изощренные способы их обхода: таков был римский уклад.
143 В целом см.: Nicholas 1962 (F 248): 189, 200, 231.
144 Вопреки мнению Льюиса, см.: Lewis 1973 (F 232). Не так уж преуспели римляне в систематизации!
145 См.: Nicholas 1962 (F 248): 165.
Глава 14. Развитие римского частного права
647
Римским частным правом часто восхищаются как единственным независимым творением римского гения146, и эпоха Поздней республики стала апогеем этого вида творчества. В частности, характер права стал определяться деятельностью юристов, и эта парадигма перешла по наследству потомству, поэтому данная эпоха по-прежнему представляет интерес для современных исследователей права147. В настоящей главе была предпринята попытка выяснить, что входило в данную парадигму и насколько она способствовала или не способствовала творчеству. Историк должен смотреть на римское право трезвыми глазами, не для того, чтобы его очернить (ибо за четыре сотни лет, отделяющих Законы ХП таблиц от Цицерона, римляне преодолели гигантское расстояние — без стимула в виде промышленной и научной революций), но для того, чтобы поместить его в исторический контекст, не забывая о том, что современные правовые системы точно так же могут быть подвергнуты критике, как и римское право. Очень часто римское право критикуют за то, что оно было творением зажиточного класса и тем самым отражало его интересы и освящало его ценности. Например, возникает вопрос, в какой мере человек с улицы имел доступ ко всем этим замечательным состязательным процедурам; в сущности, это вопрос о ценах, расстояниях и покровительстве (gratia)148. Можно отметить, что контракт считался сделкой между сторонами, обладающими равным влиянием, и основное внимание уделялось имуществу, завещаниям и наследованию. Арендатор не обладал никакими имущественными правами («ius in rem»), а раб считался движимым имуществом: по этим особенностям римского права можно судить о ценностях, связанных с представлениями о собственности; значение клятвы на судебном процессе и важность гражданского бесчестия (infamia) как санкции служат свидетельствами о социальных ценностях. Но историк должен избегать преувеличений: как показывают документальные источники149, сравнительно скромные люди явно рассчитывали на то, что правовая система во всех своих деталях не только существует в теории, но и доступна на практике и может быть использована как в их интересах, так и против них; ответы же на вопросы о стоимости обращения к правовой системе и тому подобных трудностях не настолько прискорбны, как иногда считается. Римское право не было обманом. Но оно, бесспорно, воспринималось как система, предназначенная для «благородных людей», и действительно эффективно обеспечивало им равенство перед законом150.
Право классических Афин представляет собой полную противоположность данной системе. Оно обслуживало гораздо более популистское об-
146 Впрочем, кое-кто считает, что большую часть права римляне заимствовали из Греции.
147 См.: Frier 1985 (F 205): 193.
148 См. прежде всего (хотя и с осторожностью): Kelly 1966 (F 226).
149 Они относятся к I и П вв. н. э., но это не снижает их важности. Масса релевантного материала собрана в: FIRA Ш.
150 См. об этом: Mette 1974 (F 247); также: Watson 1974 (F 304): 60 примеч. 2; Frier 1985 (F 205): 192.
648
Часть Π
щесгво (можно даже сказать — единственное подлинно популистское); его фундаментом служили исключительно законы и народные суды, и в нем не было места ни эдиктам, ни юристам; однако оно явно способно было давать правовые ответы, которые удовлетворяли общество. Вольфганг Кункель осмелился высказать еретическую мысль, что некоторые греческие представления о праве были более великими, чем всё, чего когда- либо удалось достичь римлянам151, но он говорил об Аристотеле и стоиках152, а в этом-то и заключается принципиальное различие: греки занимались философией права, а римляне — юриспруденцией153.
151 Kunkel 1953 (F 229): 15.
152 Пожалуй, он имел некоторые основания сказать это и о позитивном праве: судя по некоторым признакам, в эллинистических государствах действовало более сложное банковское законодательство, чем в Римской республике, см. (особенно в конце): Vigneron 1984 (F 284).
ьз См.: Wieacker 1961 (F 309): эссе 1 «Römertum und röm. Recht» и 3 «Lex publica»; Galsterer 1980 (F 206). О греческой философии права и ее отзвуках в римской мысли см.: Ducos 1984 (F 201).
Глава 14. Развитие рижского частного права
649
Избранные неюридические источники
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Литературные источники
Катон. О земледелии. 144—150 Варрон. О сельском хозяйстве. П.2.5—6 Цицерон
речи
В защиту Квинкция; В защиту Марка Туллия; В защиту Цецины Против Верреса. П.1.103—154; П.2 (по всему тексту); П.3.28, 55, 69, 135, 1.5.23
В защиту Бальба. 21—24 В защиту Флакка. 46—50; 84—90
письма
К Аттику. 1.5.6; V.21.6; VL1.15; VI.2.4; ХШ.50.2; XVL15.2 К близким. Ш.8.4; УП.12.2; ХШ.14.1 и 26.3; XV. 16.3
риторические трактаты
Об ораторе. 1.101; 166—183; 241 Топика (по всему тексту)
философские трактаты
Учение академиков. П.23—29 О государстве. Ш.8—31 О пределах блага и зла. 1.12; П.54—59 Об обязанностях. Ш.50—95
Надписи
Закон «о борьбе с пиратами»
FIRA 1: № 9 (cp.: JRS 64 (1974):
Закон Антония о жителях Термесса Гераклейская таблица, стк. 108 слл Рубриев закон и Атестинский фрагмент Постановление сената об Асклепиаде,
195—220, текст на с. 204, стк. 31—39) FIRA 1: No 11.
FIRA 1: No 13.
FIRA 1: No 19-20
Речь на похоронах «Турин» Судебное решение Минуциев Контребийская таблица
стк. 17—20
FIRA 1: № 35 FIRA 3: No 69 FIRA 3: № 163
JRS 73 (1983): 33-41; JRS 74 (1984):
45-73
Ирнитанская таблица
JRS 76 (1986): 147-243
650
Часть Π
Хронологические указания,
СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА В ЭПОХУ РЕСПУБЛИКИ
До 200 г. до н. э.
326 г. до н. э. Петелиев закон о долговом рабстве (de nexu).
? ок. 287 г. до н. э. Аквилиев закон о причинении вреда имуществу (de damno).
до 241 г. до н. э. Плеториев закон о судопроизводстве (de iurisdictione).
? 210 г. до н. э. Атилиев закон об опекунах (de tutoribus).
204 г. до н. э. Цинциев закон о подарках (de donis).
Ок. 200—150 гг. до н. э.
Секст Элий, консул 198 г. до н. э., дает ответ по вопросу о продаже (консенсуальной?) (Дигесты. 19.1.38.1).
? Упоминание о посягательстве на личность (iniuria) в преторском эдикте (Плавт. Ослы. 371).
Ок. 200—190 гг. до н. э. Леториев закон о малолетних (de minoribus).
Процедура разбирательства согласно Леториеву закону (Плавт. Псевдол.
303; Канат. 1380—1382).
Разные виды залога: fiducia и pignus (Плавт. Эпидик. 697—699).
Пакт о «доброй совести» и залоге («de fide et fiducia») (Плавт. Три монеты.
117).
169 г. до н. э. Вокониев закон о завещаниях в пользу женщин (de mulieribus instituendis).
161 г. до н. э. Упоминание об интердик- ционной процедуре ^Теренций. Евнух. 319).
Глава 14. Развитие рижского частного права
651
? Катону уже известны:
Сервиев иск (actio Serviana) о залоговом удержании (Катон. О земледелии. 149.2);
эдикт эдилов о рабах (Дигесты.
21.1.10.1).
Ок. 150-100
«Древние» (veteres) спорят об узуфрукте (Цицерон. О пределах влага и зла. 1.12)
129 г. до н. э. Интердикт «поскольку владеете» («uti possidetis») (время действия диалога Цицерона «О государстве» (1.20)).
123 и 115 гг. до н. э. Иски по поводу поручения [Риторика к Гереннию. П.19), а также упоминания Луцилия и Акция об исках по поводу посягательства на личность (iniuria).
Ок. 118 г. до н. э. (не позднее) Эдикт Публия Рутилия Руфа об обязанностях вольноотпущенников. 111111 г. до н. э. Упоминания о прокураторе [Аграрный закон, см.: FIRA 1: № 8, стк. 69), приобретателе имущества должника («bonorum emptor») и т. д. (Там же: стк. 56).
\ до н. э.
Эбуциев закон о формулах (de formulis).
Ок. 100—80 гг. до н. э.
Не позднее Союзнической войны — Минициев закон о детях (de liberis).
Квинт Муций, консул 95 г. до н. э., знает все виды консенсуальных контрактов, а также договор ссуды (commodatum).
87 г. до н. э. Контребийская таблица, использование формул в Испании.
Корнелиевы законы, в том числе Корнелиев закон о посягательстве на личность (de iniuriis).
Не позднее 81 г. до н. э. (дата произнесения Цицероном речи «В защиту Кви- нкция»)
предоставление владения имуще-
652
Часть Π
сгвом («bonorum possessio»), принадлежащего лицам, не явившимся в суд (latitantes).
Ок. 80—70 гг. до н. э.
80 или 79 г. до н. э. Октавиева формула (formula Octaviana) о действиях под влиянием страха (metus).
? 76 г. до н. э. Сальвиев интердикт (interdictum Salvi anum) о залоговом удержании.
76 г. до н. э. Эдикт Марка Лукулла о насилии, совершенном с участием вооруженных людей («vi hominibus armatis»).
В речах Цицерона против Верреса упоминаются:
предоставление владения имуществом, ранее принадлежавшим лицу, умершему без завещания («bonorum possessio ab intestato»), как неимущественного права («sine re»), практикующееся уже давно (П. 1.114); предоставление владения имуществом на основании завещания («bonorum possessio secundum tabulas») как неимущественного права («sine re»), уже к тому времени традиционное (translaticium) (П. 1.117); предоставление владения имуществом вопреки завещанию («bonorum possessio contra tabulas») как имущественного права («cum re») в отношении имущества вольноотпущенника (П.1.125).
формула для виндикации с произвольной оговоркой («clausula arbitraria») (П.2.31).
К моменту произнесения речи Цицерона «За актера Росция» существовали «формулы на все случаи».
71 г. до н. э. Интердикт Метелла о вооруженном насилии («de vi armata»).
Глава 14. Развитие римского частного права
653
Не позднее 70 г. до н. э. Отказ (denega- tio) в иске лицу, имеющему право на наследство согласно гражданскому праву (iure civili) (Валерий Максим. УП.7.5)
Ок. 70—60 до н. э.
? 67 г. до н. э. Публициев иск (actio Publiciana).
Нововведения Аквилия Галла: исключение (exceptio) и иск об умысле (actio doli).
Аквилиева стипуляция (stipulatio Aquiliana).
? 65 г. до н. э. Сервиев иск (actio Servia- па); но ср. выше о Катоне.
Ок. 60—50 гг. до н. э.
Сервий Сульпиций комментирует иски против командира корабля и против приказчика (actiones exercitoria и institoria), а также иск о пекулии (actio de peculio).
? 56 г. до н. э. Скрибониев закон о приобретении сервитутов на основании давности («de usucapione servitutum»).
Первые иски, основанные на фактических обстоятельствах (actiones in factum).
Не позднее 52 г. до н. э. Жалоба на завещание, нарушающее долг («querela inofficiosi testamenti») (Валерий Максим. Vn.7.2).
После 50 г. до н. э.
Рубриев закон регулирует угрозу ущерба («damnum infectum»).
В Атестинском фрагменте упоминаются бесчестящие иски («actiones famosae»).
654
Часть Π
Не позднее 44 г. до н. э. Интердикт о вводе во владение наследством («quorum bonorum») (Цицерон. Письма к близким. Vn.21).
В «Топике» Цицерона упоминаются: иск по поводу ведения дел («actio negotiorum gestorum»), иск об имуществе жены («actio rei uxoriae»).
Глава 15
Дж. Ричардсон
УПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРИЕЙ
В последние три века до н. э. распространение власти города Рима на весь средиземноморский мир привело к превращению Рима в господствующую военную и экономическую державу данного региона. Оно также обусловило необходимость разработать методы управления столь обширной и многообразной территорией. Сегодня созданные римлянами схемы управления обычно называют провинциальной администрацией империи, и нет сомнений в необходимости некоего общего обозначения для методов, использовавшихся государственными чиновниками для контроля над общинами и отдельными лицами, с которыми они вступали в контакт. Однако с самого начала важно понимать, что у римлян не существовало понятия «провинциальная администрация», по крайней мере в эпоху Республики, когда сформировалась территориальная империя. I.I. Провинции и provinciae:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ
Хотя слово «провинция» явно происходит от лат. «provincia», значения этих терминов вовсе не идентичны. Провинция — это территория, выделяемая для административных целей, как в конституционном смысле (например, современные провинции Ольстер или Онтарио), так и в церковном (например, провинции Кентербери и Иорк). Однако изначально слово «provincia» означало, видимо, задание, возложенное на определенного римского магистрата или промагисграта, для исполнения которого он должен был применять империй, предоставленный ему в силу избрания или назначения. Это задание вполне могло заключаться в применении империя (исполнительной власти римского народа) для военного командования в пределах определенной географической области, но так было не всегда. V Ливия в качестве консульской provincia несколько раз выступает какое- либо италийское племя, а в его рассказе о Второй Пунической войне роль
656
Часть Π
provincia играет флот и война против Ганнибала1. Точно так же казну называли «квесторской provincia», а выражение «urbana provincia» означало отправление гражданского правосудия в городе Риме. У Плавта и Теренция, сочинявших комедии во П в. до н. э.1 2, а также и у Цицерона3 это слово имеет смысл, сходный с его второстепенным значением в современном английском языке: чье-либо дело или сфера влияния. Когда в начале каждого консульского года сенат назначал provinciae различным магистратам и промагистратам, это было скорее определение их компетенций, нежели возглавляемых ими территориальных образований.
Этот момент очень важен для понимания того, что собой представляла «провинциальная администрация». Изначально магистраты, получавшие provinciae за пределами города Рима, отправлялись на соседние земли на войну с врагами Рима. В Ш—П вв. до н. э., когда магистратам и промаги- сгратам назначались заморские provinciae, они выезжали туда как полководцы. Поскольку главная обязанность человека, чья provincia находилась на указанной сенатом территории, состояла в командовании расквартированной там армией, он по умолчанию должен был выполнять многие функции, характерные для провинциального администратора в современном смысле слова. Однако решение сената о назначении некой территории в качестве provincia не было равнозначно притязанию на обладание данной территорией. Хотя вопрос о том, в чем именно выражалась аннексия какой-либо области Римским государством в первый период распространения его власти на средиземноморский мир, остается спорным4, одного только назначения этой области в качестве provincia определенно было недостаточно. Например, Македония впервые была назначена как provincia консулу Публию Сульпицию Гальбе в 211 г. до н. э., и это решение означало, что сенат желал, чтобы консул командовал там армией и вел войну против Филиппа V, но не подразумевало, что сенат намерен присоединить эту территорию к Римской империи на постоянной основе. Македония продолжала назначаться как provincia каждый год до 205 г. до н. э., когда заключение мира в Фенике положило конец Первой Македонской войне. Во П в. до н. э. Македония была консульской provincia во время Второй и Третьей Македонских войн. После победы над Персеем в 168 г. до н. э. Луций Эмилий Павел, посовещавшись с сенатской комиссией децемвиров, издал для Македонии законы, предусматривавшие упразднение царства и его замену на четыре якобы независимые государства, облагаемые налогами, пусть и более низкими по сравнению с теми, что
1 Ливий. Ш.25.9: «командование войском» («exercitum ducere»); VL30.3: «вольски»; XXVII.22.2: «саллентины»; XLIV.1.3: «флот» («classis»); XXTV.44.1: «война против Ганнибала» («bellum cum Hannibale»).
2 Плавт. Пленники. 156, 158, 474; Плавт. Касина. 103; Плавт. Хвастливый воин. 1159; Плавт. Псевдол. 148, 158; Плавт. Стих. 698—699; Плавт. Три монеты. 190; Теренций. Само- истязатель. 516; Теренций. Формион. 72.
3 Цицерон. В защиту Целил. 26.63; Цицерон. О пределах блага и зла. 1.20 (о падении атомов).
4 См., напр.: Harris 1979 (А 47); а также рецензию на эту работу: History of Political Thought (1980) 1: 340-342.
Карта Ί4. Римский мир в 50 г. до н.
658
Часть Π
ранее взимали цари. Этот порядок вполне можно рассматривать как следствие решения об аннексии Македонии, и действительно, поздний эпито- матор «Истории» Ливия оценивает деятельность Павла словами, характерными для императорского периода: «Македония обращена в провинцию» («Macedonia in provinciae formam redacta»)5. Однако Македония уже являлась provincia Павла с прошлого года, когда была назначена ему сенатом; мало того, когда Павел уехал оттуда, эта территория перестала быть provincia до тех пор, пока в 149 г. до н. э. претор Публий Ювенций не был направлен туда для борьбы с Андриском, претендентом на трон македонских царей.
И действительно, аннексию Македонии обычно датируют 148 г. до н. э., когда она была поручена в качестве provincia Квинту Метеллу, преемнику Ювенция, и в более поздних документах этот год служит началом провинциального летосчисления6. Однако даже на этом этапе нет никаких признаков создания каких-либо типичных «провинциальных» институтов. Четыре государства, основанных Павлом, упоминаются в документах эпохи Поздней республики и Ранней империи, и, судя по случайному замечанию Ливия, при его жизни законы Павла, кажется, еще оставались в силе7. В 148 г. до н. э. изменилось лишь одно: сенат стал регулярно, каждый год, назначать Македонию в качестве provincia, а значит, в этом регионе постоянно присутствовал римский полководец с римской армией.
Данный пример свидетельствует о том, что обозначение какой-то территории словом «provincia» необязательно приводило к ее немедленной аннексии. Столь же неоднозначная схема наблюдается и в случае испанских provinciae. В 218 г. Испания в качестве provincia была поручена консулу Публию Корнелию Сципиону, но, как и в случае с первым назначением Македонии, нет никаких оснований расценивать это назначение как притязание на власть над данной территорией. Непосредственно в тот момент Риму требовалось отразить угрозу со стороны Ганнибала, а позднее — помешать Ганнибалу получать подкрепления с карфагенских баз в Испании. В течение десяти лет после того, как в 206 г. до н. э. сын Сципиона, впоследствии прозванный Африканским, успешно изгнал карфагенян с полуострова, сенат, видимо, сомневался в том, следует ли вообще сохранять римское военное присутствие в Испании. Тем более не наблюдается никаких признаков создания «провинциальной администрации». Со 196 г. до н. э. ежегодно избиралось два дополнительных претора для отправки в Испанию, но на протяжении почти тридцати лет не сложилось даже никакой системы отношений с местными общинами. Известно о нескольких случаях взимания налогов и судопроизводства, но эти мероприятия явно проводились от случая к случаю и были обусловлены срочными потребностями войска, расквартированного в стратегически важной зоне8.
0 Ливий. Периохи. 45 [Перев. МЛ. Гаспарова).
6 См.: Larsen Ц ES AR 4: 303.
7 Ливий. XLV.32.7.
8 См.: Richardson 1986 (Е 25): прежде всего гл. 3—5.
Глава 15. Управление империей
659
Конечно, подробное рассмотрение этих двух примеров — Испании и Македонии — не призвано доказать, что римляне вообще никогда не присоединяли никаких территорий или, тем более, что они в каком-либо смысле вели себя мирно и неагрессивно по отношению к другим государствам региона. В данный период направление армий и полководцев во все части средиземноморского мира было нормой для римской внешней политики; ранее, в конце IV — начале Ш в. до н. э., Рим точно так же посылал войска в разные регионы Италии. Но эти примеры показывают, что провинцией (provincia) Рим объявлял территорию вовсе не с целью создания там институтов провинциальной администрации; по крайней мере, так обстояло дело в Ш — начале П в. до н. э., когда эта система еще только формировалась. Для создания этих институтов необязательно было иметь provincia и, наоборот, provincia могла существовать на какой-то территории задолго до окончательного формирования указанных институтов. Это становится наиболее очевидным, если рассмотреть, какие сферы ответственности обычно возлагались на наместника провинции в эпоху Поздней республики. Подробнее эти сферы мы рассмотрим далее, но для исследования их происхождения достаточно просто разделить их на три категории: политические и военные контакты, налогообложение и судопроизводство.
Политическое взаимодействие с общинами, входившими в географические рамки provincia, явно было важной частью работы римского военачальника. Ведение войны требовало заключения и поддержания союзов, и, хотя в разных областях это означало разные вещи, определенную роль всегда играл военачальник, находившийся непосредственно на месте событий. Ясно, что такого рода деятельность требовала присутствия магистрата (или промагистрата), а следовательно, как само собой разумеющееся — существования provincia. Однако статус «provincia» вовсе не обязательно должен был сохраняться на постоянной основе. Как уже говорилось, необходимость сохранения испанских provinciae вызывала в Риме большие сомнения, по крайней мере до 196 г. до н. э., когда было принято решение ежегодно посылать туда преторов. Но уже в 206 г. до н. э. младший Публий Сципион основал для раненых солдат из своего войска в Италике (совр. Сантипонсе) поселение к северу от современной Севильи, откуда открывался прекрасный вид на долину Гвадалквивира. Это решение тем более примечательно, что оно, видимо, не было согласовано с сенатом (как, впрочем, и многие другие решения полководцев, действовавших в то время в отдаленной Испании), а после реализации этого решения сенат не обратил на него особого внимания, судя по тому, что до конца республиканского периода Италика, кажется, не имела официального римского статуса9. Такая безучастность сената гораздо реже наблюдается в Восточном Средиземноморье, где разветвленные контакты сената с греческими городами и масштабные реорганизации, предпринятые в первой половине П в. до н. э. после войн с царями Македонии и Сирии, породили
9 Galsterer 1971 (Е 15): 12.
660
Часть Π
обычай направлять сенатские комиссии из десяти легатов для оказания помощи полководцу при заключении соглашений и установлении взаимоотношений Рима с различными государствами. Но даже в таких случаях внесение серьезных изменений в статус разных общин на конкретной территории и определение их положения в отношениях с Римом необязательно приводили к тому, что сегодня можно квалифицировать как основание провинции. Такой пример, как урегулирование дел в Македонии и Иллирии, предпринятое Павлом в 167 г. до н. э., уже упоминался, но то же самое верно и для распоряжений Тита Фламинина в 196 г. до н. э. относительно материковой Греции, а также для тех условий Апамейского мира, заключенного в 188 г. до н. э. после победы над Антиохом IV, которые касались Малой Азии. Недавно обнаруженные документы из Энтеллы на западе Сицилии, возможно, свидетельствуют об участии римского должностного лица в повторном основании этого города в середине Ш в. до н. э., что вновь иллюстрирует, каким образом Рим мог вмешиваться в дела неримской общины задолго до «провинциализации»10.
Если взаимосвязь между политическим участием Рима в делах общин, расположенных на определенной территории, и превращением этой территории в римскую провинцию в современном смысле слова выглядит довольно туманной (по крайней мере, в Ш—П вв. до н. э.), то это же относится и к взиманию налогов Римским государством. В хорошо известном пассаже11 Цицерон отмечает, что в империи существуют совершенно разные формы налогообложения, и ясно, что во многих регионах Рим просто заимствовал у предшествующих режимов методы сбора денег. Самый известный пример такого подхода — это взимание хлебной десятины на Сицилии, которое регулировалось «законом Гиерона» (Lex Hieronica), названным так в честь царя Сиракуз: тот применял его в подвластных ему областях восточной Сицилии12. Более того, хотя ввиду присутствия римской армии постоянно требовалось взыскивать с местного населения наличность и провиант, нередко проходили еще долгие годы, прежде чем Рим начинал взимать деньги и продовольствие на регулярной и систематической основе, что только и можно признать налогообложением. В Испании, начиная еще с Ганнибаловой войны, полководцы требовали с населения зерно и деньги для выплаты жалованья войску, но регулярные поставки хлеба и серебра начались, вероятно, только в 170-х годах до н. э.13. Даже в богатой provincia Азия, куда римляне отправили полководцев во исполнение завещания Аттала Ш, скончавшегося в 133 г. до н. э., налогообложение было организовано, видимо, на местной основе вплоть до принятия в 123 г. до н. э. знаменитого закона Гая Гракха14. С другой стороны, Рим мог собирать деньги и на территориях, не являвшихся даже
10 Эти документы и посвященные им статьи см.: ASNP (1982) 12: 771—1103.
11 Цицерон. Против Берреса. П.3.12—15.
12 См.: Carcopino 1914 (G 34); Pritchard 1971 (С 120).
13 Richardson 1976 (E 24).
14 Sherwin-White 1977 (D 75): 66—70; о завещании Аттала см.: Braund 1983 (А 13): 21—23.
Глава 15. Управление империей
661
provinciae, то есть тех, где официально вообще не было ни римских войск, ни римских магистратов. После Первой и Второй Пунических войн с Карфагена в качестве репарации был взыскан stipendium14a, а во исполнение распоряжений Павла, отданных в 167 г. до н. э., железные и медные рудники Македонии отправляли в Рим регулярные вектигали.
Даже судопроизводство, позднее занимавшее столь важное место в работе провинциальных наместников, во П в. до н. э. не находилось в прямой взаимосвязи с существованием римской provincia. Например, в ответ на запрос о разрешении судебного спора между двумя греческими городами Малой Азии сенат мог направить туда претора для расследования дела и вынесения решения, даже если спорившие города не входили в состав provincia этого претора, да и вообще какого-либо римского магистрата15. В каком-то смысле эту деятельность можно расценивать скорее как арбитраж, нежели как судопроизводство, но постановление сената, содержавшее инструкцию для претора, на основании которой он должен был решить вопрос, явно составлялось по образцу формул, использовавшихся в суде городского претора, который разбирал споры между римскими гражданами по вопросам частного права. Известны примеры судебных решений, вынесенных в начале П в. до н. э. полководцами на территориях, которые входили в состав их provinciae, но определенно еще не являлись провинциями. В письме жителям Дельф, датируемом, вероятно, началом 190-х годов до н. э., проконсул Маний Ацилий Глабрион, которому была поручена provincia Греция, указывал, какую землю он «отдает» богу Аполлону и городу Дельфы, поручал адресатам позаботиться о соблюдении его распоряжений в будущем и обещал им помощь в случае, если фессалийцы или кто-либо другой отправит посольство в сенат16. В этом случае Глабрион на основании собственных полномочий, хотя и, несомненно, с общего одобрения сената, вынес судебное решение относительно города, который на данном этапе определенно не считался частью Римской империи. О сходном решении сообщается в надписи, датируемой, вероятно, следующим годом, где приводится декрет Луция Эмилия Павла о предоставлении земли, принадлежащей народу Гасты (города в долине реки Бетис, совр. Гвадалквивир), рабам (servi) гастийцев, проживавшим в «башне Ласкута», а также об их освобождении, если это одобрят народ и сенат Рима17. И снова проконсул явно принимает решения о правовом статусе и имуществе иноземной общины без согласования с сенатом. Постоянство или непостоянство римского военного присутствия, которое мы используем как один из критериев для определения, является ли provincia провинцией, в этих двух случаях явно не играло никакой роли.
14а Об этом понятии подробнее см. далее, с. 677—678. — О Л.
ь Sherk // RDGE: No 7; другой пример см.: RDGE: No. 14; в целом см.: Marshall AJ. 1980 (Fill).
16 RDGE: № 37.
17 FIRA I2: Ns 51.
662
Часть Π
Таким образом, ни в судебных и налоговых делах, ни во взаимоотношениях с местными общинами невозможно выявить взаимосвязь между деятельностью римского магистрата (или промагистрата), из которой позднее складывалось управление провинцией в нашем понимании, и учреждением «провинции». Такая работа вполне могла вестись и там, где еще не существовала даже provincia. Это свидетельствует о том, что на ранних стадиях заморской экспансии Рима использование «провинций» было для римлян не единственным средством установления контроля над регионами средиземноморского мира. Действительно, хотя provinciae, то есть военные командования, существовали на большинстве территорий, где во П в. до н. э. ощущалось римское влияние, оказание этого влияния посредством постоянного военного присутствия и, следовательно, регулярное объявление данной территории provincia практиковалось, видимо, только на Западе, по крайней мере до второй половины П в. до н. э. Сицилия и Сардиния-Корсика назначались преторам в качестве provinciae с 227 г. до н. э., а Ближняя Испания и Дальняя Испания стали provinciae преторов с консульским империем со 196 г. до н. э. В Восточном Средиземноморье provinciae часто получали консулы, а иногда и преторы, но до второй половины П в. до н. э. ни одна территория не назначалась в качестве provinciae на регулярной ежегодной основе, что могло бы привести к основанию «провинции». Лишь после победы в 148 г. до н. э. Квинта Ме- телла Македонского над Андриском, претендентом на трон Македонии, началось такого рода постоянное военное присутствие Рима на Востоке. До этого римляне обеспечивали повиновение греков римской политике другими средствами18, и даже после 148 г. до н. э. надзор за остальной частью Балканского полуострова осуществлял римский полководец из Македонии19. Из сказанного ясно следует, что сенат воздерживался от отправки магистратов и промагистратов на Восток не из-за опасений, что для своего содержания провинциальная администрация потребует слишком много ресурсов и позволит наместникам чересчур усилиться в ходе службы за морем, поскольку на данном этапе такая администрация вовсе не являлась целью создания provincia. Разница в подходе Рима к двум регионам, Западу и Востоку, была вызвана, скорее, тем, что для контроля над ними требовались разные методы. Если эффективного контроля над территорией можно было добиться, не размещая на ней войско и полководца, то не было необходимости тратить средства на их отправку и терпеть связанные с этим неудобства. Provincia представляла собой поручение, которое сенат давал магистрату (или промагистрату) для выполнения определенной задачи, и в этот ранний период задачи, выполнявшиеся за морем, в основном имели военный характер. Таковы были истоки провинций Поздней республики и Империи, и, как мы увидим далее, многие особенности этой системы были заданы теми обстоятельствами, в которых она зародилась.
18 Derow 1979 (В 26).
19 См., напр., письмо Квинта Фабия городу Димы (RDGE: Nq 43).
Глава 15. Управление империей
663
II. Основа
И ПРЕДЕЛЫ ВЛАСТИ НАМЕСТНИКА
Поскольку и истоком, и основой провинции оставалась provincia, наместник провинции всегда обладал империем, то есть являлся магистратом или промагистратом. Магистраты занимали должность в силу их избрания народом, то есть в случае консулов и преторов, отправлявшихся за море в provinciae, — центуриатными комициями20. Империем они обладали в силу занимаемой должности. Положение промагистрата (проконсула или пропретора) было несколько иным. В Поздней республике промагисграт — это обычно человек, который ранее занимал претуру или консульство и получил разрешение действовать так, словно после окончания срока своей должности он остается магистратом в силу продления его империя постановлением сената. Строго говоря, он более не являлся магистратом и не мог, к примеру, применять свой империй в пределах священной границы города Рима, но, несмотря на свой статус частного лица, он имел право командовать римскими войсками и выполнять другие обязанности магистрата в своей provincia21. Предоставление таких полномочий (обычно — в силу постановления сената) оказалось крайне полезным способом продлить за пределы годичной магистратуры срок командования на войне. Этот метод предоставления власти — проконсульского или пропреторско- го империя (imperium pro consule или pro praetore) — лицам, не занимающим магистратуру, можно было использовать даже в случаях, когда получатель не занимал в прошлом году магистратуру и еще не обладал империем. Между 210 и 196 гг. до н. э. римскими войсками в Испании командовали полководцы с проконсульским империем, который предоставлялся им либо центуриатными, либо трибутными комициями;22 сходным образом в 77 г. до н. э. Помпей получил командование в войне против мятежника Марка Лепида, а позднее, в том же году, — проконсульский империй и войско, которое Помпей должен был отвести в Испанию на помощь Метеллу Пию в войне против Сертория.
В таких случаях обладателю империя поручалась provincia. Если рассуждать строго логически, то provincia начинала существовать лишь в тот момент, когда поручалась кому-либо подобным образом, хотя в эпоху Поздней республики представление о provincia как географической территории настолько глубоко укоренилось в умах римлян, что в 50 г. до н. э. Цицерон писал о provinciae, остававшихся без империя (sine imperio) вследствие того, что трибун Курион постоянно налагал запрет на их рас¬
20 См. выше, с. 655, а также: КИДМ УШ: 248—249.
21 О статусе проконсула как частного лица см.: Ливий. ХХХУШ.42.10; Mommsen 1888 (А 77) I3: 642.
22 В 210 г. до н. э. — Сципион (Ливий. XXVI. 18-20); в 206 г. до н. э. — Луций Корнелий Лентул и Луций Манлий Ацидин (Ливий. XXVTH.38.1); в 201 г. до н. э. — Гай Корнелий Цетег (Ливий. ХХХ.41.4—5; XXXI.49.7); в 199 г. до н. э. — Гней Корнелий Блазион и Луций Стертиний (Ливий. XXXI.50.11).
664
Часть Π
пределение23. Из речи Цицерона о консульских провинциях, произнесенной в сенате в 56 г. до н. э., складывается впечатление, что для выполнения своих обязанностей каждый консул должен был иметь provincia24, и то же самое можно сказать о любом обладателе империя.
В нормальных обстоятельствах провинции магистратам и промагисгра- там назначал сенат. На протяжении Ш и большей части П в. до н. э. это, видимо, происходило на первом заседании сената в каждом консульском году. Провинции не распределялись отдельным магистратам поименно; сенат определял, какие территории следует отдать под командование преторов, а какие — консулов, а затем распределял их между соответствующими магистратами либо по жребию (sortitio), либо на основании взаимных договоренностей (comparatio). Последний метод могли использовать только консулы, хотя имеются свидетельства того, что в распределение преторских провинций порой вмешивались консулы, вероятно, незаконными и аморальными методами25. И лишь крайне редко сенат поручал командование определенному лицу без жребия (extra sortem).
Промагисграты занимали иное положение — несомненно, поскольку их империй, как и их провинция, обычно определялись постановлением сената, и, следовательно, их командование можно было продлить или видоизменить просто еще одним постановлением. Конечно, когда сенат делал кого-то промагистратом, чтобы отправить его в заранее установленную провинцию, то сначала называл территорию, а затем уже человека, который направлялся туда; и лишь в редких случаях вопрос о том, кто из двух промагистратов получит определенную провинцию, решался жребием26, но эти исключения лишь подтверждают обычное правило.
В последний век существования Республики порядок назначения в провинции магистратов и промагистратов претерпел несколько изменений. Они явились следствием возрастания с середины П в. до н. э. важности заморских командований. В 123 или 122 г. до н. э. трибун Гай Гракх предложил закон, согласно которому сенат должен был определить консульские провинции до избрания консулов27. В результате оказалось невозможно поручить определенное командование определенному консулу, поскольку на момент принятия решения о провинциях консулы следующего года были еще неизвестны. Примерно пятнадцать лет спустя появился более радикальный способ наделения конкретного человека конкретным командованием. В 107 г. консулом был избран Гай Марий, который в ходе предвыборной кампании резко критиковал Квинта Метелла и его методы ве¬
23 Цицерон. Письма к Аттику. VH7.5.
24 Цицерон. О консульских провинциях. 37.
25 См., напр.: Цицерон. Письма к близким. V.2.3—4.
26 В 173 г. до н. э. Публий Фурий Фил и Гней Сервилий Цепион, возвращавшиеся, соответственно, из Ближней и Дальней Испании, должны были по решению сената бросить жребий, чтобы определить, кто из них заменит Нумерия Фабия Бутеона, претора, назначенного в Ближнюю Испанию, но скончавшегося по дороге в свою провинцию (Ливий. Х1Л.4.2—3).
27 Цицерон. О своем доме. 24; также см. выше текст Аинтотта, гл. 3, с. 98.
Глава 15. Управление ижперией
665
дения войны с Югуртой; однако сенат принял постановление о продлении командования Метелла, и Марий понял, что ему уже не удастся получить provincia Нумидию. Тогда Марий решил побудить трибуна Тита Манлия Манцина предложить закон, который бы прямо предоставлял Марию данное командование. Ранее народное собрание крайне редко использовалось для предоставления provinciae. В 206 г. до н. э., когда казалось, что сенат откажется поручать Африку консулу Публию Сципиону, тот пригрозил получить ее от народа с помощью трибунов, но в конце концов самой этой острастки оказалось достаточно, чтобы переубедить сенат28. В 167 г. до н. э. претор Маний Ювенций Тальна собирался внести в народное собрание закон об объявлении войны родосцам и избрании одного из магистратов текущего года для командования флотом в этой войне. Однако ему воспрепятствовало двое трибунов, заявивших, что наложат вето на этот законопроект29. До 107 г. до н. э. единственный прецедент, когда подобное предприятие увенчалось успехом, имел место в 147 г. до н. э. В тот раз (согласно Аппиану)30 трибуны предложили народу законопроект о поручении Африки Сципиону Эмилиану без жребия (extra sortem), несмотря на сопротивление Гая Ливия Друза, его коллеги по консульству.
После 107 г. до н. э., в последние десятилетия Республики, известен целый ряд случаев, когда применялся подобный метод назначения. В 88 г. до н. э. Марий снова попытался получить командование путем принятия трибунского закона: Публий Сульпиций внес предложение отправить против Митридата Мария, а не Суллу, но последний привел в Рим войско и отменил этот закон31. Помимо знаменитых законов, предоставлявших командование Помпею против пиратов (закон Габиния в 67 г. до н. э.) и Цезарю, Помпею и Крассу в 50-х годах до н. э. (закон Ватиния — в 59 г. до н. э., закон Помпея—Лициния и закон Требония — в 55 г. до н. э.), имеются и другие примеры, касающиеся данного периода, когда консулы получали свои provinciae подобным способом. Провинция Вифиния и Понт была предоставлена Манию Ацилию Глабриону, консулу 67 г. до н. э., другим законом трибуна Габиния, а сам Авл Габиний, став консулом в 58 г. до н. э., и его коллега Луций Кальпурний Пизон получили свои провинции благодаря принятию законов, предложенных трибуном Публием Кло- дием. Вполне возможно, что были и другие подобные случаи, не упомянутые в источниках. Недавно на Книде была найдена надпись, копия которой, обнаруженная в Дельфах, известна уже давно; в ней приводится трибунский закон, который был принят в последние годы П в. до н. э. и, среди прочего, предусматривал учреждение преторской провинции Киликии32. Этот закон, проведенный, вероятно, группой популяров, в которую
28 Ливий. XXVTII.45.1—7.
29 Ливий. XLV.21.1—8
30 Аппиан. События в Ливии. 112.533.
31 Аппиан [Гражданские войны. 1.63.283) утверждает, что после этого Сулла и его коллега Квинт Помпей Руф получили свои provinciae от народа, но, по всей видимости, это не соответствует действительности.
32 Hassall, Crawford, Reynolds 1974 (В 170).
666
Часть Π
входили Сатурнин и Главция, иллюстрирует, каким образом можно было обойти обычные сенатские механизмы.
Хотя лицам, направляемым в провинции, время от времени предоставлялся проконсульский империй, базовой моделью для заморских командований в эпоху Республики оставались городские магистратуры, особенно претура. И в самом деле, в некоторых случаях Цицерон, говоря о наместниках вообще, употребляет слово «praetor»33. Первым шагом к восприятию провинциального наместничества как особой магистратуры стал Помпеев закон о провинциях (Lex Pompeia de provinciis), принятый в 52 г. до н. э.34. Этот закон, которому годом ранее предшествовало постановление сената со сходными условиями35, предусматривал обязательный пятилетний интервал между занятием претором или консулом магистратуры и принятием им на себя заморского командования. Вероятно, данный закон предназначался для того, чтобы кандидаты на магистратуры перестали тратить огромные суммы на свои предвыборные кампании в надежде возместить их за счет эксплуатации провинции, по крайней мере, в такой обстановке было принято постановление сената 53 г. до н. э. В итоге закон оказался недолговечным, поскольку в 50 г. распределению провинций помешал запрет трибуна Куриона, а в 40-м процедура была нарушена из-за начала гражданской войны36. Однако, поскольку этот закон отделял контроль над провинциями от городских магистратур, он предвещал ту схему, которую позднее создал Август, реформировавший структуру командования в Империи. Но лишь позднее, в эпоху расцвета Империи, когда для обозначения наместников провинций в целом стало использоваться выражение «презид провинции» («praeses provinciae»), названия этих должностей отделились от названий городских магистратур37.
Несомненно, именно тем, что провинция и ее наместник вели происхождение от магистратур (прежде всего военных магистратур) города Рима, объясняется неадекватность и неуместность средств контроля и ограничений, которым был подчинен наместник. На практике полководца невозможно было постоянно контролировать из Рима; более того, вся связанная с империем традиция, восходящая к эпохе царей, благоприятствовала независимости его обладателей. Эти люди действовали как представители избравшего их римского народа, а не как слуги государства, и на практике это выражалось в том, что в принятии решений они обладали значительной свободой, а разработка эффективных средств ее сдерживания потребовала очень много времени.
33 Наир.: Цицерон. Против Берреса. П.3.125; Цицерон. Письма к брату Квинту. 1.1.22.
34 Дион Кассий. XL.56.1. См.: Marshall 1972 (F 110).
35 Дион Кассий. XL.46.2.
36 См. выше, гл. 10, с. 469.
37 Слово «praeses» начинает появляться в официальном контексте в начале П в. н. э. (напр.: Тацит. Анналы. VI.41; Траян в: Плиний. Письма. Х.44) и в начале Ш в. н. э. становится общепринятым термином (Макр. Дигесты. 1.18.1). Уже в I в. н. э. использовались обобщенные выражения вроде «те... кто руководили в провинциях» («eos... qui in provincis praessent». — Сиарийская таблица: кол. П(Ь), стк. 26 (19 г. н. э.)).
Глава 15. Управление империей
667
В обычных обстоятельствах роль сената в ведении провинциальных дел сводилась к тому, что он отправлял наместника в провинцию, снаряжал его и при необходимости в начале каждого года возобновлял его полномочия в провинции. Это, конечно, имело огромное значение для наместников и вполне могло повлиять на их поведение. Наместники помнили об этом, когда сообщали сенату о своих мероприятиях и о положении дел на своей территории, по крайней мере, о военной обстановке. Примечательно, что оба письма, которые Цицерон отправил в 51 г. до н. э. «магистратам и сенату» из Киликии, полностью посвящены военным делам, хотя из остальной его переписки мы знаем, что сфера его деятельности была куда обширнее38. Судя по всему, Цицерон исходил из того, что сенат желает получить сведения именно о его военных кампаниях и о том, насколько подконтрольная ему территория готова к тому, чтобы отразить вторжение противника. В других случаях полководцы писали сенату, дабы информировать его о победах или поражениях, запросить новые поставки продовольствия, снаряжения или наличных денег для продолжения проводившихся военных операций. Например, в 215 г. до н. э. два Сципиона в письме сенату из Испании просили выделить им деньги и провиант; в предыдущем году такой же запрос направил Авл Корнелий Мам- мула, обладавший пропреторским империем на Сардинии, а в 74 г. до н. э. — Помпей, сражавшийся против Сертория в Испании39. В 209 г. до н. э. Публий Сципион-сын, позднее прозванный Африканским, сообщил сенату о взятии Нового Карфагена, а в первые десятилетия П в. до н. э., для которых у нас имеется рассказ Ливия о ежегодных сенатских заседаниях, в сенат непрерывно шел поток донесений о военной обстановке — как из давно существующих западных provinciae (прежде всего из двух Испаний), так и от полководцев, направленных в provinciae греческого мира.
Свидетельств об участии сената в других сферах деятельности магистрата (или промагистрата) в провинции последнего на удивление мало. Иногда сенат требовал уточнить границы территории, находящейся в ведении наместника. Например, в 196 г. до н. э., когда два претора впервые были направлены в две испанские провинции, сенат поручил им провести демаркацию границ своих областей; в самом конце П в. до н. э. закон, учредивший претор скую провинцию Киликию, одновременно поручал следующему полководцу, который отправится в Македонию, заняться еще и уточнением границ своей провинции по итогам новых завоеваний Тита Дидия40. Этот же закон предписывал данному должностному лицу отдать те распоряжения, какие он сочтет нужным, относительно сбора государственных доходов с новой территории и проводить на ней не менее шестидесяти дней в году в течение всего времени своего пре¬
38 Цицерон. Письма к близким. XV. 1, 2.
39 Об Испании см.: Ливий. XXIII.48.4—49.4. О Сардинии см.: Ливий. ХХШ.21.4. О Помпее см.: Саллюстий. История. Фр. 2.98; Плутарх. Помпей. 20.1.
40 Об Испании см.: Ливий. ХХХП.28.11. О Македонии см.: Hassall, Crawford, Reynolds 1974 (В 170): 204; Книдская копия, кол. IV, стк. 25—31 (в провинцию Македония требовалось включить Кенийский Херсонес).
668
Часть Π
бывания в должности наместника провинции. Столь точные инструкции выглядят необычно; возможно, они обусловлены стремлением автора этого закона (который в любом случае регулировал вопросы, обычно находившиеся в ведении сената) поставить магистратов и промагистратов под более строгий контроль. Но даже в этом случае в дошедшей до нас части надписи содержится очень мало ограничений, налагаемых на действия различных наместников (назначенных этим законом или упомянутых в нем) в пределах их провинций. Это особенно удивительно ввиду того, что данный закон запрещал наместнику покидать свою провинцию с войском либо без него, а далее описывал полномочия, сохранявшиеся за преторами Азии и Македонии после их отъезда из своих областей, прежде всего в правовой сфере41.
Как и следовало ожидать, при назначении провинции сенат обычно давал наместнику лишь довольно обобщенные инструкции, а во время его наместничества интересовался в основном военными делами. После того как наместник покидал территорию своего командования, его империй автоматически утрачивал силу, и теперь наместнику требовались более определенные полномочия, чтобы выполнять те функции, которые он выполнял, находясь у себя в провинции. С помощью обычных административных или судебных средств было практически невозможно предотвратить злоупотребления наместника, а если он допускал их — наказать его, пока он находился в своей провинции и обладал империем. Теоретически наместника можно было лишить империя, но на практике столь суровая мера применялась лишь в исключительных обстоятельствах. В 136 г. до н. э. Марк Эмилий Порцина, проконсул Ближней Испании, не только напал на племя ваккеев в нарушение прямого распоряжения сената, доставленного ему гонцом, но и потерпел катастрофическое поражение; вследствие этого он был лишен империя42. Но даже в таком случае Порцину вряд ли постигла бы столь тяжкая участь, если бы свой проступок он не совершил одновременно с обсуждением в сенате вопроса о расторжении мирного договора с нумантийцами, заключенного Манцином43. Обычно против наместника не предпринималось никаких мер в течение срока его полномочий, даже если он истреблял и обращал в рабство жителей своей провинции, как поступал Сервий Сульпиций Гальба с лузитанами в 150 г. до н. э., или безжалостно их эксплуатировал, как, по словам Цицерона, поступал Веррес в 70-х годах I в. до н. э.
Но, когда наместник возвращался в Рим, многое менялось. Уже в 171 г. до н. э. провинциальные общины имели возможность подать жалобу на наместников провинции, хотя процедура ее рассмотрения была, по- видимому, скорее дипломатической, нежели судебной. В том году в Рим явились посольства с протестом против жадности и высокомерия троих наместников, направленных в две испанские провинции за последние
41 Книдская копия, кол. Ш, стк. 32—39; кол. IV, стк. 32—39.
42 Аппиан. Иберийско-римские войны. 81.351 — 83.358.
43 См. выше текст Линтотта, гл. 2, с. 34; а также: КИДМ УШ: 172.
Глава 15. Управление империей
669
шесть лет. Сенат распорядился, чтобы претензии были заслушаны коллегией рекуператоров, специально назначенных для этой цели, и чтобы послы выбрали в качестве своих представителей четырех выдающихся римлян. В источниках сообщается, что наместники были явно виновны в незаконном присвоении денег, однако все трое обвиняемых остались, судя по всему, безнаказанными: один был оправдан после длительных разбирательств, а двое других уклонились от римского правосудия, переселившись в Тибур и Пренесту44. Хотя исход дела оказался неудовлетворительным и поговаривали, что претор, разбиравший это дело, вступил в сговор с обвиняемыми, сенат, по крайней мере, продемонстрировал, что готов прислушиваться к подобным жалобам со стороны провинциалов.
Во второй половине П в. до н. э. была прописана регулярная процедура рассмотрения таких жалоб. В 149 г. до н. э. плебейский трибун Луций Кальпурний Пизон Фруги провел закон об учреждении постоянного суда для разбора дел магистратов или промагисгратов, обвиненных в незаконном вымогательстве денег (quaestio de repetundis). Об этом законе не известно почти никаких деталей, но ясно, что к 123 г. до н. э., когда Гай Гракх предложил свой собственный законопроект на ту же тему, провинциалы имели возможность предъявить в Риме наместнику провинции такое обвинение45. Более того, для неримлян подобное обвинение стало основным и единственным официальным способом получить возмещение ущерба, причиненного им римскими должностными лицами, вот почему суд по делам о вымогательствах (quaestio de repetundis) Цицерон описывает как защиту союзников от подобных грабежей46. Сулла, по-видимому, расширил сферу действия закона о вымогательствах, а Цезарь в свое консульство в 59 г. до н. э. вновь его дополнил. Упоминания Цицероном о законе Цезаря в письмах, написанных им в должности наместника Киликии в 51 г. до н. э., свидетельствуют, что данный закон по меньшей мере сдерживал определенные формы эксплуатации. Однако в качестве защиты провинциалов суд по делам о вымогательствах имел некоторые очевидные слабости. Как уже упоминалось, к суду можно было привлечь лишь наместника, вернувшегося в Рим, и лишь в том случае, если провинциалы могли позволить себе значительные издержки, связанные с возбуждением обвинения в самом Риме. На практике на успех могли рассчитывать лишь те из провинциалов, кто обладал значительным богатством и, что еще важнее, имел в Риме высокопоставленных друзей, а такие провинциалы в любом случае могли использовать свое влияние менее формальными путями, чтобы заранее предотвратить угрожающие им действия наместника. Даже если обвинение выиграло суд, это еще не означало, что истец получит обратно свои деньги, невзирая на тщательно продуманную процедуру возмещения ущерба, которую предусмотрел Гай Гракх47. Обвиняемый по-
44 Ливий. ХЫП.2.1—2.
40 Об истории суда по делам о вымогательствах (quaestio de repetundis) см.: Balsdon 1938 (F 12); Lintott 1981 (F 104). О законе Гракха см.: Sherwin-White 1982 (С 133).
46 Цицерон. Дивинация против Цецилия. 17—18.
4/ Закон о вымогательствах [FIRA Р: Nq 7): стк. 57 слл.
670
Часть Π
прежнему, как и в 171 г. до н. э., имел возможность удалиться за пределы действия римской юрисдикции; так, например, Гай Веррес, которого в 70 г. до н. э. Цицерон обвинял от имени сицилийцев, наслаждался своей неправедной добычей в Массилии до 43 г. до н. э., когда Марк Антоний про- скрибировал его, чтобы завладеть его богатством48.
Вторым законом, по которому в Поздней республике можно было преследовать наместника за действия в его провинции, был принятый Суллой Корнелиев закон об умалении величия римского народа (Lex Cornelia de maiestate). Из упоминаний Цицерона об этом законе ясно, что он запрещал полководцу покидать его провинцию и выводить из нее войско, вести войну по собственному почину или нападать на иноземное царство без прямых распоряжений сената или римского народа49. Говоря о законе, учредившем около 100 г. до н. э. провинцию Киликия, мы уже отмечали, что некоторые из этих установлений существовали еще до Суллы, и Цицерон тоже о них упоминает50. В этом последнем законе не только содержатся распоряжения относительно конкретных областей, таких как Македония и Азия, но и упоминается более общий статут — Порциев закон, устанавливавший сходные нормы. Ясно, что в этой сфере, как и в других разделах своего законодательства, Сулла кодифицировал предшествующие попытки ограничить свободу действий наместников. Примечателен способ, который он избрал для этого, а именно обвинение наместника в том, что он умалил величие римского народа, злоупотребив империем, который должен был использовать не иначе, как в интересах римского народа. Такой подход вновь демонстрирует, что provinciae рассматривались в тесной связи с магистратом (или промагистратом), которому были поручены, и что эти должностные лица считались обладателями государственной военной власти. Все известные нам конкретные злоупотребления, запрещенные вышеназванными законами, связаны с военными функциями наместника, и, что важнее, в их описании фигурируют не «провинции», не какая-то провинциальная администрация, но надлежащие или (скорее) ненадлежащие действия обладателя империя.
Пожалуй, вызывает удивление, что даже в последний век Республики, когда римские должностные лица отправлялись в разные области по всему Средиземноморью, не существовало механизма, с помощью которого сенат мог бы предотвратить злоупотребления назначенных им людей на данных территориях. Это покажется еще более удивительным, если вспомнить, что исполнение закона, предусматривавшего наказания за те конкретные нарушения, которые признавались таковыми, как и исполнение всех прочих разделов римского права, зависело от обвинений, предъявляемых частными лицами. Правильно истолковать все эти странности можно, лишь принимая во внимание генезис той системы, которая стала администрацией империи. Изначально или преимуще¬
48 Плиний Старший. Естественная история. XXXIV.3.6; Лактанций. Божественные установления. П.4.37.
49 См.: Bauman 1967 (F 16): 68-37.
о0 Цицерон. Против Пизона. 50.
Глава 15. Управление илтерией
671
ственно (во всяком случае в республиканский период) магистрат (или промагистрат) в заморской provincia не управлял определенной частью римской территории, но командовал римским войском за границей. Важно было, чтобы он не ухудшал там без особой надобности обстановку, грабя местных жителей, и чтобы он не превратил государственное войско в частную армию, выйдя за пределы территории, предоставленной ему сенатом. Но в этих весьма широких рамках магистрат (или промагистрат) обладал необходимой каждому полководцу свободой применять по своему усмотрению власть, предоставленную ему сенатом и римским народом: именно это и подразумевал империй.
III. Наместник за работой
Заморские provinciae появились со времени, когда Рим стал посылать армии за пределы Италии, и постепенно трансформировались в территориальную империю, когда в определенных частях средиземноморского мира такие командования стали постоянными. Учреждения, которые можно назвать «провинциальной администрацией», стали появляться по мере накопления обязанностей, проистекавших из присутствия римских войск и их полководцев на этих территориях. Чтобы увидеть, как это происходило, проще всего исследовать деятельность людей, отправлявшихся в провинции империи в середине I в. до н. э., и ресурсы, которыми они располагали.
1. Наместник и его штаб
Персонал, окружавший наместника, в зависимости от способа назначения на должности можно разделить на три группы. Состав первой части штаба наместника определялся сенатом. Особое место в ней занимал квестор, который и сам являлся магистратом римского народа и занимал должность в силу избрания. Следовательно, как и всем прочим магистратам, ему требовалась provincia, и, по крайней мере, в конце П и в I в. до н. э. такие provinciae обычно распределялись по жребию после принятия соответствующего постановления сената, хотя, как и другие магистраты, квесторы порой могли напрямую назначаться в провинцию постановлением сената51. Главные обязанности квестора были финансовыми, и в конце срока своей должности он обязан был отчитаться перед казной в Риме за расходование выданных ему денег. После принятия в 59 г. до н. э. Юлиева закона о вымогательствах (Lex Julia de repetundis) квестор должен был оставлять копии своего отчета в двух главных городах провинции52. Цицерон нападал на Берреса за то, что тот после своей квестуры у консула
01 Ульпиан датирует обычную процедуру 138 или 137 г. до н. э. (Дигесты. 1.13.1.2), хотя, несомненно, к жребию прибегали и раньше.
02 Цицерон. Письма к близким. V.20.2.
672
Часть Π
Гнея Карбона в 84 г. до н. э. представил бессодержательный отчет53. Этот последний, несомненно, был весьма неудовлетворителен в том смысле, что не отражал движение денег, за которые отвечал Веррес, зато нам он позволяет составить представление о задачах, возложенных на квестора. Веррес фиксировал выплату жалованья и обеспечение консульской армии провиантом, а также расходы его штаба. Для человека, только начинающего карьеру, это было серьезное дело, чем, несомненно, отчасти содержатся представление римлян о том, что отношения между старшим магистратом (или промагистратом) и прикомандированным к нему квестором обычно напоминали отношения отца и сына54. Без всякого сомнения, квестор полагался в значительной мере на финансовый опыт собственного штата служителей (apparitores), о которых подробнее мы поговорим далее, а также аналогичных служителей самого наместника.
Помимо квестора, наместник брал с собой также несколько человек постарше, обычно сенаторского ранга, в качестве легатов. Они тоже назначались сенатом, хотя имеется немало свидетельств тому, что последний учитывал пожелания наместника относительно легатов, и ими нередко становились его родственники, друзья и близкие55. В 51 г. до н. э. Цицерон сделал своими легатами собственного брата Квинта Цицерона, а также Гая Помптина, Марка Аннея и некоего Луция Туллия. Все они, кроме последнего, имели военный опыт, и хорошо известно, что всем четверым Цицерон поручал военные задачи56. Видимо, это и было основным предназначением легатов, и их положение и полномочия являлись производными от положения и полномочий самого наместника.
Прочие лица, сопровождавшие наместника, не назначались сенатом, подобно квестору и легатам. Например, у него было некоторое количество аппариторов, составлявших вторую часть его штаба. Аппариторами называлась довольно разнородная группа служителей, исполнявших обязанности, напрямую связанные с работой соответствующих магистратов и промагистратов57. В Риме эти люди были организованы в коллегии, известные как декурии (decuriae), которые к правлению Августа уже имели довольно сложную структуру и иерархию, а в эпоху Республики занимали официальное положение и пользовались определенными привилегиями58. В их число входили ликторы и прочее сопровождение магистратов, а также писцы (scribae), которые вели счета и занимались другими записями для квесторов. Хотя до нас не дошло эпиграфических свидетельств о писцах, служивших при консулах или преторах, они входили в состав штаба провинциальных наместников, так, например, в Киликии Цицерон имел
53 Цицерон. Против Верреса. П.1.36.
54 Ср. отношения Марка Антония и Гая Норбана ок. 95 г. до н. э.: Цицерон. 06ораторе. П.198.
55 О легатах см.: Schleussner 1978 (А 106): 101—240.
36 Цицерон. Письма к близким. XV.4.8.
57 В целом см.: Jones А.Н.М. 1949 (G 130); Purcell 1983 (G 199).
58 Так свидетельствует Корнелиев закон о двадцати квесторах (Lex Cornelia de XX quaestoribus. — FIRA P: Nq 10).
Глава 15. Управление империей
673
при себе писца по имени Туллий, который, вероятно, был вольноотпущенником из собственного домохозяйства Цицерона59. Данный пример указывает на то, что, хотя в эпоху Ранней империи писцы квесторов назначались по жребию, в Поздней республике наместники могли ставить на эту должность кого хотели, что подтверждается и язвительным рассказом Цицерона о писце, служившем Берресу, когда последний занимал должности легата, претора и пропретора60. Подобные люди играли важную роль, ибо в каком-то смысле принадлежали к профессиональному сообществу, но ясно, что даже они не обладали специальными познаниями о тех областях, куда отправлялись в штате провинциального наместника или его квестора: как и прочие члены штаба наместника, они выезжали вместе с ним из Рима, отправляясь к новому месту службы. Вероятно, они отличались от остальной свиты наместника более низким социальным статусом: хотя писцы могли быть всадниками, вряд ли они входили в тот слой всадников, который ближе всего стоял к сенаторскому сословию и откуда порой набирались сенаторы61.
Третья группа, также набираемая наместником без согласования с сенатом, — это его «когорта друзей» («cohors amicorum»), то есть собрание сотоварищей наместника, не имевших никакого официального статуса, но получавших от сената денежное довольствие на пребывание в провинции. Они не только получали ценный опыт и использовали широкие возможности зарубежной поездки, но и выполняли важную другую задачу: вместе с квестором и легатами играли роль совета (consilium) при наместнике. Для нормальной работы любого римского должностного лица, особенно в судебной сфере, он должен был принимать решения только после совещания с другими людьми, даже если не было сомнений в том, что лицо, принимавшее решение, обладало всеми необходимыми для этого полномочиями62. Цицерон обвинял Берреса в том, что тот рассматривал судебное дело без обвинителя, выносил решение без привлечения к обсуждению совета (consilium), объявлял приговор, не выслушав защитника;63 это свидетельствует о сложившейся практике проведения такой консультации для правильного ведения дел. Даже когда консулы в Риме рассматривали спор между жителями беотийского города Ороп и группой откупщиков (publicani) по поводу статуса священного участка, они сперва выслушали свой совет (consilium) и только затем дали рекомендацию о том, какое постановление следует издать сенату. Точно так же и консул Гней Помпей Страбон, предоставляя гражданство отряду испанских конников во время военной кампании в Пицене в 89 г. до н. э., принял во внимание рекомендацию своего совета (consilium), состав которого он привел в декрете64.
09 Purcell 1983 (G 199): 128; Цицерон. Письма к близким. V.20.1, с примечанием: Shackleton Bailey 1977 (В 110).
60 Плиний Младший. Письма. 4.12; Цицерон. Против Верреса. П.3.187.
61 О писцах-всадниках в эпоху Империи см.: Komemaim Е. // RE ПА: 853.62.
62 Crook J. Consilium Principis (Cambridge, 1955): гл. 1.
63 Цицерон. Против Верреса. П.5.23.
64 Об Оропе см.: FIRA Г2: Nq 36; о Помпее см.: ILS 8888.
674
Часть Π
Такого рода списки свидетельствуют о том, что в советы (consilia) входили люди совершенно разного возраста, при этом часть из них имела тесные связи с магистратом (или промагистратом), которого они консультировали. Например, Помпей Страбон включил в свой совет сына (в будущем — великого Помпея) и еще тридцать два молодых человека, а также двадцать два человека более высокого статуса. Возможно, численность совета (consilium) Страбона была необычайно велика, но данный список в целом подтверждает свидетельства источников о типовом составе группы «друзей» (comites или amici) наместника провинции, сопровождавших его к месту службы. Например, в 57 г. до н. э. поэт Катулл, которому, несомненно, не исполнилось еще и тридцати лет, отправился в Вифинию вместе с Гаем Меммием, занимавшим в прошлом году претуру65.
«Друзья» (amici) наместника, аналогично квесторам и легатам, получали от казны содержание, и эти деньги включались в сумму, которая выдавалась квестору в начале его срока должности. Окружение Цицерона явно ожидало, что он разделит между ними неизрасходованную часть этой суммы — миллион сестерциев, оставшийся к концу времени его наместничества в Киликии, но, как он объясняет в письме к Аттику, для него такой поступок был бы невозможен не только из-за его аморальности, но и из-за того, что необходимо было держать строгий отчет перед казной за потраченные средства66. И это содержание, и деньги, выдававшиеся самому наместнику на его собственные нужды (они назывались «vasarium»), могли составлять очень крупные суммы. Цицерон утверждает, что, когда в 58 г. до н. э. Луций Пизон был назначен проконсулом Македонии, он получил vasarium в размере 18 млн сестерциев (сумма, эквивалентная довольно крупному частному состоянию) и заложил его в Риме под проценты67. Правда это или нет, но, скорее всего, наместник и в самом деле не отчитывался по истечении своих полномочий за vasarium (в отличие от довольствия, находившегося в ведении квестора).
Имеются довольно подробные сведения и еще об одном мероприятии сената для обеспечения деятельности наместника и его штаба. Перед отъездом в провинцию наместник получал определенную финансовую субсидию для приобретения зерна для себя и своего штаба, при этом сенат устанавливал цену, по которой данное зерно следовало покупать. Затем наместник мог заставить земледельцев в провинции продать ему указанное количество зерна (у него было специальное название: «frumentum in cellam», «зерно в кладовой», или «frumentum aestumatum», «оцененное зерно») по этой фиксированной цене. Хотя данная схема, несомненно, была изобретена для того, чтобы защитить представителей римского народа от спекуляций со стороны провинциалов, она, как и все попытки установить
60 Катулл. 10, 28. Подробнее см.: Marquardt, Wissowa 1881—1885 (А 69) I2: 531—533.
66 Цицерон. Письма к Аттику. VII. 1.6.
67 Цицерон. Против Пизона. 86. С этим можно сопоставить состояние Плиния Младшего — наверное, порядка 16 млн сестерциев (Duncanjones R. The Economy of the Roman Empire (2nd edn., Cambridge 1982): гл. 1).
Глава 15. Управление империей
675
на товар цену, отличную от сложившейся продажной цены, вела к злоупотреблениям. Если установленная цена была выше текущей рыночной, то наместник мог положить разницу себе в карман, а если она была ниже, то земледельцы могли даже попытаться дать ему взятку, только бы он приобрел зерно у кого-то другого. Даже если фиксированная цена находилась примерно на том же уровне, что и текущая рыночная, нечистоплотный наместник мог потребовать доставить зерно в отдаленную часть провинции за счет земледельца и тем самым вынудить его откупиться. Во всех этих ухищрениях Цицерон обвинял Верреса, а тот, определенно, не первым придумал этот род вымогательства68.
Присутствие перечисленных групп людей в окружении наместника официально признавалось (во всяком случае, римская казна оплачивала приобретавшееся для них продовольствие), но, помимо них, наместника сопровождали и члены его личного домохозяйства. Квинт, брат Цицерона, служивший в 62—58 гг. до н. э. наместником Азии, имел при себе раба Стация, которого, вопреки совету Цицерона, освободил, находясь в провинции. Судя по всему, этот невольник имел большое влияние на Квинта, так что Цицерон даже упрекал брата в том, что тот прислушивался к Стацию больше, чем следовало бы, и сетовал, что несколько человек попросило его написать для них рекомендательные письма к Стацию69. Наместник, располагавший сравнительно маленьким штатом помощников- администраторов, неизбежно должен был обращаться за помощью к тем, кто выполнял для него сходные поручения по управлению домашним хозяйством, но неудивительно, что это часто вызывало кривотолки и недовольство.
2. Откупщики (publicani)
Помимо наместника и его штаба, в провинции присутствовали и другие люди, действовавшие в интересах римского народа, — это представители товариществ откупщиков (societates publicanorum)70. Данные организации, состоявшие из пайщиков и во многом сходные с современными акционерными обществами, выполняли для государства те работы, которые требовали крупных инвестиций. К таким работам относилось строительство римских водопроводов, снабжение войска и сбор определенных налогов и пошлин. Именно в последнем вопросе наместник чаще всего имел дело с откупщиками, хотя следует помнить, что если в его провинции проводились военные операции, то ему приходилось взаимодействовать с откупщиками и для обеспечения поставок.
68 Цицерон. Против Верреса. П. 3.188 слл. Сходные проблемы возникали в Испании до 171 г. до н. э. (Ливий. ΧΙΧΠ-2.Ϊ2) и по-прежнему давали о себе знать в Британии, когда Агрикола прибыл туда в 78 г. н. э. (Тацит. Агрикола. 19.4).
69 Цицерон. Письма к Аттику. П.19.1; Цицерон. Письма к брату Квинту. 1.2.1—3.
70 Об откупщиках (publicani) см.: Badian 1972 (А 4): (прежде всего) гл. 4; Nicolet (G 175): (прежде всего) 70—82; а также гл. 16 наст, изд., с. 732—734.
676
Часть Π
Откупщикам обычно поручались две разновидности налоговых сборов: товарищества откупщиков собирали по всей империи таможенные пошлины, а в некоторых восточных провинциях — десятину с сельскохозяйственной продукции. Римская фискальная практика будет более подробно рассмотрена далее, но для понимания специфики работы наместника более общее значение имеют некоторые последствия присутствия откупщиков в провинциях.
Поскольку контракты на сбор налогов заключались в Риме на пять лет между цензорами и товариществом откупщиков, выигравшим торги, представители данного товарищества находились в провинции по меньшей мере все эти пять лет подряд. По этой причине фонды откупщиков использовались, несомненно, как местный банк, откуда наместник мог заимствовать средства. Например, Беррес получил разрешение брать деньги на покупку зерна у сицилийских откупщиков71. В таком порядке нет, пожалуй, ничего удивительного, ведь деньги, собираемые откупщиками, представляли собой налоги, которые в любом случае принадлежали римскому народу. Возможно, покидая провинцию, наместник иногда оставлял откупщикам денежные излишки, и если так, то это свидетельствует о том, что откупщики располагали возможностью обеспечивать сохранность больших объемов наличности72. И в других отношениях работа откупщиков тоже была организована лучше по сравнению с работой наместника. Цицерон упоминает о гонцах (tabellarii) откупщиков, которые, по- видимому, регулярно доставляли письма из Киликии в Рим и к услугам которых он сам иногда прибегал для пересылки собственной корреспонденции73. В других случаях он использовал в качестве курьеров своих друзей или рабов, ибо государство не обеспечивало ему гонцов.
В разных областях империи откупщики могли играть очень разную роль, в зависимости от используемой на месте формы налогообложения и характера провинциальных общин. Размер и влияние товариществ откупщиков тоже могли разниться, и представляется, что для исполнения каждого государственного контракта всякий раз формировалась — в теории — новая группа откупщиков. Более крупные товарищества, в том числе и те, что занимались сбором налогов, имели определенные правовые привилегии, включая признание их существования как корпорации, которая, в отличие от полностью частных коммерческих товариществ, могла пережить смерть отдельных своих членов. Несомненно, от контракта к контракту существовала определенная преемственность членов товаршце-
71 Цицерон. Против Верреса. П.3.165 слл.
72 Цицерон, будучи наместником, утверждал, что в Лаодикее он намеревался получить обеспечение для всех государственных денег, находившихся в его распоряжении [Письма к близким. П.17.4). Этот пассаж Бэдиан истолковывает как упоминание о поручительстве за депозит, помещенный у откупщиков, см.: Badian 1972 (А 4): 77—78; но Шеклтон Бэйли считает, что Цицерон подразумевал страховку от утраты при перевозке, см.: Shackleton Bailey 1977 (В 110).
73 Цицерон. Письма к Аттику. V.15.3; V.16.1.
Глава 15. Управление империей
677
ства, но всё же это были частные компании, а не государственная бюрократия. Применение, которое конкретный наместник находил услугам откупщиков в своей провинции, неизбежно зависело от того, какие конкретно представители товарищества находились в провинции и в каких отношениях они состояли с наместником. Поэтому наместник, без всякого сомнения, был заинтересован в том, чтобы с ними не ссориться. Когда в 60 или 59 г. до н. э. Цицерон писал своему брату Квинту об управлении Азией (которая была провинцией последнего), то подчеркивал, сколь трудно иметь дело с откупщиками74, и, хотя упоминаемые им проблемы имели в основном политический характер, потребность наместника в содействии товариществ откупщиков в повседневных административных вопросах, конечно, не упрощала его положение.
IV. Налогообложение
Особенно важное значение из невоенных задач, стоявших перед наместником провинции в I в. до н. э., имели две: (7) ответственность — прямая или косвенная — за сбор налогов на его территории и (2) отправление правосудия.
В империи налогообложение могло принимать разнообразные формы. В знаменитом пассаже75 Цицерон объясняет, что в провинциях существовало два вида налогов: фиксированная сумма, называвшаяся stipendium, и те налоги, которыми заведовали цензоры в Риме. Оратор говорит, что первой разновидностью Рим облагал побежденных, и в качестве примеров общин, выплачивавших стипендий, приводит испанцев и большинство карфагенян; говоря о второй категории налогов, он упоминает десятину в Азии, предусмотренную законом Гая Гракха. Далее он переходит к третьему виду налогов, отличному от двух предыдущих, — к хлебной десятине, взимавшейся на Сицилии: подобно азиатскому налогу, ее размер был переменным, но ее сбором занимались сицилийцы, а не римляне.
Цицерон классифицирует налоги в зависимости от методов их сбора, но на самом деле разные виды налогообложения имели совершенно разное происхождение. Изначально стипендий существовал в двух формах, элементы которых слились и образовали тот «фиксированный налог», о котором пишет Цицерон. Рим взыскивал крупные репарации, например, с карфагенян после Первой и Второй Пунических войн в качестве наказания и возмещения ущерба, но в обычном смысле этого слова налогами они не являлись, поскольку это были установленные суммы, которые следовало заплатить только один раз76. Совершенно иначе обстояло дело в Испании: стипендием здесь, судя по всему, изначально назывались деньги, со¬
74 Цицерон. Письма к брату Квинту. 1.1.32—33.
75 Цицерон. Против Берреса. П.3.12.
76 Ливий. XXI. 1.5, 40.5, 41.9; ХХХ.37.5; ХХХП.2.1; ХХХШ.46.8-9; XXXVI.4.7.
678
Часть Π
биравшиеся в основном с не вполне надежных союзников Рима для выплаты жалованья расквартированным на этой территории солдатам77. Собственно, первым значением слова «stipendium» как раз и являлось «солдатское жалованье». Обе эти формы взысканий, репарации и военное довольствие, в конце концов были упорядочены и превратились в фиксированные ежегодные платежи. После разрушения Карфагена в 146 г. до н. э. данная область была обложена подушным и поземельным налогом, и, судя по надписи, датируемой 111 г. до н. э., это налогообложение также называлось стипендием. Из той же надписи следует, что лица, обязанные выплачивать стипендий, вносились в государственный реестр78. Методы сбора стипендия, несомненно, сильно различались в зависимости от региона. Например, стипендий, взимавшийся в Испании во время Ганнибаловой войны для выплаты жалованья войскам, собирали племенные вожди79, и, несомненно, эта задача нередко возлагалась на местные общины. В Испании и в других провинциях римляне, по-видимому, сами учредили стипендий, но в некоторых местах они превратили в стипендий налоги, взимавшиеся предыдущими режимами. Когда после битвы при Пидне в 168 г. до н. э. Луций Эмилий Павел реорганизовал Македонию, он учредил стипендий, который составлял половину налогов, ранее уплачиваемых царям, а следовательно, образцом для данной формы налогообложения послужила та, что уже была в силе80.
Эта склонность римлян учитывать в системе налогообложения империи фискальные практики, обнаруженные ими в тех областях, куда они прибывали, становится еще более заметной, когда речь заходит о налогах, взимавшихся в интересах государства третьими лицами. Соответствующее право последние получали по итогам торгов, которые раз в пять лет проводили цензоры в Риме или (как это было с сицилийской десятиной) раз в год — наместник провинции81. В таких случаях важную роль играли города провинции. Если фиксированный стипендий, как представляется, уплачивался напрямую римским должностным лицам, управлявшим провинцией, то налоги второго и третьего типов согласно классификации Цицерона, представлявшие собой процент от неких величин, взимались откупщиками, базировавшимися в Риме (или, как в случае Сицилии, — самими сицилийцами). Величина сбора, который в итоге должен был образоваться, не поддавалась точному прогнозу, и эта неопределенность, несомненно, служила одной из причин, в силу которой данные налоги сдавались на откуп частным сборщикам — последние, по сути, гарантировали доход, который должен был поступить цензорам. На торгах откупщики приобретали право собирать причитавшиеся с провинциалов суммы и обычно заключали собственные договоры с городами провинции о сборе
77 См.: Richardson 1976 (Е 24): 147—149.
78 Аппиан. События в Ливии. 135.641; Аграрный закон (FIRA Р: N° 8): стк. 77—82.
79 Ливий. XXVTH.25.6 слл.; 34.11.
80 Ливий. XLV.29.4. В то время Македония не являлась постоянной provincia.
81 См.: Carcopino 1914 (G 34): 77-107.
Глава 15. Управление империей
679
налогов на местном уровне. Часто здесь сохранялась та же форма налогообложения, какая существовала до прихода римлян, как это произошло, например, с сицилийской десятиной. На Сицилии и в других местах обнаруживается и другая форма налогообложения — пастбищный сбор (scriptura). Базой для его расчета служила численность выпасаемого скота, принадлежащего плательщику; этот налог, по-видимому, являлся дополнением к хлебной десятине. Его тоже собирали откупщики.
Такая же адаптация предшествовавших порядков наблюдается и в сфере таможенных сборов (portoria), которые тоже собирались откупщиками и основывались на сборах, практиковавшихся ранее в разных частях Средиземноморья, где римляне основали теперь провинции. Данное обстоятельство со всей очевидностью вытекает из того факта, что таможенные границы не совпадали с границами провинций, и между купцами и откупщиками даже возникали споры о том, в однократном или двукратном размере облагается пошлиной груз, последовательно прибывший в два порта одной и той же провинции82.
Такое разнообразие и отсутствие общей системы предполагают то, что свою империю римляне не рассматривали как фискальную единицу. Несомненно, они стремились извлечь из нее побольше денег, насколько это было возможно, и, когда в 67 г. до н. э. Цицерон выступал за назначение Помпея на Восток, одним из аргументов оратора было важное значение доходов, поступавших из восточных провинций, прежде всего из Азии83. Не вызывает сомнений и то, что налоги, взимаемые римлянами на Востоке, имели огромное влияние на торговые и экономические тренды во всем Средиземноморье84. Но это вовсе не свидетельствует, что римляне добивались такого эффекта сознательно или что они обосновались в различных областях ради извлечения из них крупных доходов. В только что процитированном пассаже Цицерон утверждает, что Азия — это единственная провинция, окупающая расходы по ее обороне, и, хотя это вполне может быть преувеличением, с помощью которого оратор пытается склонить на свою сторону народное собрание, по крайней мере, некоторые слушатели должны были счесть его правдоподобным. С другой стороны, государство, несомненно, получало доход от налогообложения, возраставший по мере роста самой империи, особенно после того как Помпей завоевал и реорганизовал Восток. В последний век Республики, тогда же, когда provincia стала рассматриваться как провинция в современном смысле слова, римляне стали считать этот доход важнейшим преимуществом империи.
Следует также понимать, что финансовые требования, предъявляемые к провинциальным общинам, не ограничивались вышеописанными налогами. Постой римских войск мог обходиться дорого, и принятый в
82 S. De Laet 1949 (G 141): прежде всего гл. 5.
83 Цицерон. О предоставлении империя Гнею Помпею. 6.14—16.
84 Crawford 1977 (G 46); Hopkins 1980 (G 124); см. далее гл. 16, прежде всего с. 735—739.
680
Часть Π
59 г. до н. э. Юлиев закон о вымогательствах (Lex Julia de repetundis), ограничивший постой, имел важное значение; до его принятия освобождение от расходов на постой служило наградой для особенно заслуженных союзников. Другие полуофициальные требования к провинциалам могли исходить от сенаторов и римских магистратов. В свое консульство 63 г. до н. э. Цицерон попытался отменить обычай, согласно которому сенаторам предоставлялось право отправляться в провинции по своим частным делам, и сумел ограничить срок подобных «свободных посольств» («liberae legationes») одним годом. По-видимому, в Юлиевом законе это ограничение было воспроизведено. Цицерон также хвалил своего брата Квинта за то, что тот запретил брать с провинциальных общин Азии взносы на игры, устраиваемые римскими эдилами (такие вклады назывались «vectigal aediliciium»), что разгневало некоторых членов римской политической элиты85. Кроме того, наместники могли требовать с городов своей провинции — в знак их расположения — якобы добровольные платежи: эта практика тоже была ограничена Юлиевым законом86. Наконец, следует помнить и о тех денежных суммах, которые наместник и его штаб, как и откупщики, взыскивали совершенно незаконно. Обвинения, которые Цицерон предъявлял Берресу, могут быть чрезмерными, но нет сомнений в том, что подобные вымогательства случались. Наместничество в провинции являлось одним из этапов политической карьеры, а в Поздней республике политическая карьера обходилась очень дорого. В 53 г. до н. э. сенат принял постановление, согласно которому между занятием магистратуры и получением провинции требовался пятилетний интервал87. Это решение, как и закон Помпея, содержавший такое же условие и проведенный в следующем году, было обусловлено тем, что в 50-х годах I в. до н. э. кандидаты тратили огромные денежные суммы на подкуп избирателей, рассчитывая, что наместничество в богатой провинции вскоре позволит им возместить потери.
V. Отправление правосудия
Во многих провинциях большую часть времени наместник тратил на судопроизводство. Это может показаться удивительным, ведь римский магистрат был уполномочен применять римское гражданское право (ius civile), которое, как следует из его названия, обеспечивало римским гражданам соблюдение их прав и возмещение понесенного ими ущерба; но если бы наместник разбирал только споры между римскими гражданами, то
85 О «свободных посольствах» см.: Цицерон. О законах. Ш.5; Цицерон. Письма к Аттику. XV. 11.4. О сборе в пользу эдилов см.: Цицерон. Письма к брату Квинту. 1.1.26.
86 О Юлиевом законе см.: Цицерон. Против Пизона. 90. О свободе от постоя в качестве награды см.: Антониев закон о жителях Термесса [FIRA Р: No 11): кол. П, стк. 6—17.
87 Дион Кассий. XL.46.2.
Глава 15. Управление империей
681
был бы куда меньше загружен88. Имея дело с негражданами (составлявшими большинство населения в провинциях), римский наместник мог издавать собственные распоряжения — хотя и в определенных рамках.
Не вполне ясно, на чем основывалась эта составляющая судебных полномочий наместника. Большинство исследователей считает, что для каждой территории существовал определенный закон — lex provinciae, — определявший пределы полномочий наместника, в том числе и его юрисдикцию89. Действительно, в некоторых провинциях существовал такого рода устав, который обычно назывался законом (lex), хотя народное собрание в Риме его, вероятно, не принимало, а издавал полководец (иногда по рекомендации комиссии из десяти сенаторов) и впоследствии ратифицировал сенат. На Сицилии Рупилиев закон (Lex Rupilia) устанавливал, при каких условиях наместник мог разбирать споры между жителями острова, не имевшими римского гражданства90. Однако для многих провинций нет никаких свидетельств существования провинциального устава, и даже на Сицилии Рупилиев закон датируется лишь 132 г. до н. э., когда консул Публий Рупилий покончил с рабским восстанием, опустошавшим остров. Но какие-то споры, несомненно, и до 132 г. до н. э. представлялись на суд наместника; и нет оснований считать, что он не вправе был разбирать их из-за отсутствия провинциального устава. На самом деле такие законы принимались, вероятно, не для того, чтобы уполномочить наместника на отправление правосудия, но для того, чтобы ограничить типы судебных дел, которые он вправе был разбирать, чтобы провинциалы не слишком загружали его местными тяжбами. Как свидетельствует случай Берреса, искусное использование права назначать судей или заслушивать судебные дела давало наместнику огромную власть над жителями его провинции.
Таким образом, провинциальный устав (если он существовал на данной территории) мог устанавливать пределы полномочий наместника. К I в. до н. э. свободу действий последнего ограничивало также его собственное заявление о намерениях, издаваемое в форме эдикта в начале срока его полномочий: в нем устанавливались основания для исков, которые он намеревался принимать к рассмотрению. Этот эдикт неизбежно составлялся по образцу эдикта городского претора и, таким образом, основывался на базовых формах гражданского права (ius civile), но его конкретное содержание могло меняться по желанию каждого нового наместника91. Цицерон сделал дополнения к эдикту своего предшественника Аппия Клавдия Пульхра и многое заимствовал из эдикта Квинта Муция Сцеволы, изданного в бытность того наместником Азии в 90-х годах I в. До н. э. и считавшегося классикой жанра92.
88 О судебной деятельности наместников см.: Marshall 1966 (F 109).
89 Stevenson 1939 (F 149): 68, 82-84; Hoyos 1973 (F 79).
90 Цицерон. Против Верреса. П.2.32; Mellano 1977 (F 116).
91 О провинциальном эдикте см.: Greenidge 1901 (F 68): 119—129; Marshall 1964 (F 108).
92 Цицерон. Письма к близким. Ш.8.4; Цицерон. Письма к Аттику. VI. 1.5.
682
Часть Π
Кое-что о деятельности наместника в западных провинциях в начале I в. до н. э. можно узнать из надписи, обнаруженной недавно в северной Испании. В ней описано урегулирование спора двух испанских общин о водопользовании, разрешенного вердиктом третьей общины. Этим судом руководил наместник Ближней Испании в 87 г. до н. э., и, хотя ни участники спора, ни судья не являлись римскими гражданами, само дело сформулировано в весьма специфических выражениях, характерных для формул, которые использовались в суде городского претора в Риме93. Такие фразы, как «если окажется... если не окажется...» («si paret... si non paret...»), и такие приемы, как использование фикции в представлении дела, ежедневно присутствовали в юридической повседневности в Риме, но мало что значили для обитателей долины Эбро. Наместник обращался к формам гражданского права (ius civile) не потому, что был обязан, но потому, что для человека, привыкшего к образцам римского права, естественно было излагать суть представленного ему спора именно таким образом. Пожалуй, главная разница между положением магистрата, руководившего судами в Риме, и наместником в провинции состояла именно в том, что последний находился не в Риме и, следовательно, не на глазах других юристов. Цицерон писал своему брату Квинту, что для судопроизводства в провинциях не требуется особых знаний, лишь постоянство и твердость, чтобы не вызывать подозрений в пристрастности94.
Такие судебные дела могли занимать довольно много времени, особенно если для целей судопроизводства территория провинции была разделена на округа (называвшиеся «conventus»). В подобных случаях наместник для заслушивания дел в этих округах обязан был объезжать провинцию. Свою ответственность он мог делегировать до некоторой степени членам собственного окружения, прежде всего квестору и легатам; а на Сицилии, где, в отличие от других провинций, имелось два квестора, тот из них, кто базировался в Лилибее, на западной оконечности острова, посвящал судопроизводству почти всё свое время. Однако, как мы уже видели, судебная власть наместника в значительной мере принадлежала ему самому, а не содержалась в некоем систематическом корпусе провинциального права, поэтому неудивительно, что большую часть этой работы выполнял сам наместник95. Ко временам Августа наместник Тарраконской Испании (север и восток современной Испании) тратил всю зиму на судопроизводство, и даже Цезарь в разгар Галльских войн в конце каждого сезона военных действий переходил через Альпы, чтобы разбирать судебные споры в Ил- лирике и Цизальпийской Галлии96 *.
Нетрудно понять, чем была обусловлена такая потребность в наместнике. На протяжении всего П в. до н. э. народы и цари, находившиеся в орбите римской власти, обращались к римскому сенату за правосудием,
93 Richardson 1983 (В 227); Birks, Rodger, Richardson 1984 (В 133).
94 Цицерон. Письма к брату Квинту. 1.1.20.
95 Greenidge 1901 (F 68): 129-132; Marshall 1966 (F 109): 231.
96 О Тарраконской Испании см.: Страбон. Ш.4.20. О Цезаре см.: Цезарь. Галльская
война. 1.54.3; V.1.5; V.2.1; VI.44.3.
Глава 15. Управление империей
683
и в тех случаях, о которых сохранились документальные свидетельства, сенат откликался на эти просьбы, используя ту же комбинацию дипломатии и гражданского права (ius civile), какая позднее наблюдалась в деятельности наместников97. В обоих случаях неримляне прибегали к такому способу разрешения спора потому, что владычество Рима в средиземноморском мире было неоспоримо. При необходимости Рим, несомненно, мог применить силу, чтобы обеспечить исполнение решения, принятого римским должностным лицом или судьей, назначенным этим должностным лицом. Однако вряд ли подобная причина обращения к римской юрисдикции могла озвучиваться открыто. Само по себе превосходство Рима порождало как ожидания, так и обязательства, которые римляне вполне готовы были выполнять, вне зависимости от того, кто именно — сенат или магистраты и промагистраты — выносил судебное решение. И, как часто бывает, использование подобного влияния неизбежно вело к его расширению.
VI. Provinciae и провинциалы
Как provincia изначально не рассматривалась как территориальная или административная единица, так и жители provinciae не считались единой категорией. С правовой точки зрения, эти люди были либо римскими гражданами (cives), либо негражданами (peregrini) и оставались таковыми вне зависимости от того, на территории ли провинции они пребывали или нет. На уровне международных отношений неграждане могли описываться как союзники или как лица, находящиеся «под контролем, под влиянием, под властью или в дружбе» с римским народом98, и этот статус тоже не зависел от существования provincia. Такой же разнобой наблюдается и в статусах, предоставляемых общинам. Исследователи утверждают, что общины, не имевшие римского гражданства, являлись либо государствами, заключившими договор с Римом (civitates foederatae), или свободными государствами (civitates liberae), либо государствами, «платящими стипендий», то есть регулярный налог Риму (civitates stipendiariae)99. Это верно в том смысле, что общины любого из этих типов могли существовать в пределах любой провинции, но было бы заблуждением считать, что данная классификация являлась частью провинциальной системы. Общины различного статуса имелись как в пределах постоянных провинций, так и за их пределами, в частности в Греции, и их разделение на типы относится не к системе провинциальной администрации, а к дипломатическим отношениям между государствами100.
97 См., напр., арбитраж между Магнезией и Приеной (FIRA Ш: N° 162). См. сноску 16 наст. гл.
98 Закон о вымогательствах (FIRA Р: No 7): стк. 1.
99 См., напр.: Stevenson 1939 (F 149): 81—82.
100 О происхождении этих терминов см.: Sherwin-White 1975 (F 141): гл. 6.
684
Часть Π
Сказанное не означает, что статус конкретной общины не влиял на ее взаимоотношения с наместником. Если город имел некую предоставленную Римом гарантию того, что этот город мог использовать и соблюдать собственные законы, то вмешательство наместника в судебную или политическую деятельность, протекавшую в этом городе, вполне могло вызвать у его граждан возражения, а подобные города обычно имели друзей в римском сенате. Более того, некоторую защиту от вмешательства во внутренние дела свободным общинам (civitates liberae) предоставляло постановление сената и Юлиев закон о вымогательствах (Lex Iulia de repetundis), принятый Цезарем в 59 г. до н. э.101. Впрочем, при нормальном развитии событий не только эти привилегированные общины, но и другие общины, не наделенные подобными привилегиями, могли сами управлять собственными делами. Задачи наместника — военные, судебные и фискальные — обычно подразумевали, что он должен был обращаться с общинами своей провинции как с самоуправлявшимися единицами, каковыми они и являлись.
Как и в случае с общинами, положение отдельных лиц в империи и их взаимоотношения с наместником во многом зависели от их связей с Римом. В эпоху Поздней республики многие римские граждане проживали вне Италии: одни служили в товариществах откупщиков (societates publicanorum), другие занимались различными видами предпринимательства, третьи, подобно Манию Курию, корреспонденту Цицерона, сочетали в себе интерес к коммерции с желанием держаться подальше от Рима в тяжелое и опасное время войны между Цезарем и Помпеем102. Кроме того, некоторые местные жители получали гражданство за службу Риму, как, например, отряд испанской конницы, которому в 89 г. до н. э. гражданство предоставил Гней Помпей Страбон103 104. С такими людьми, конечно, следовало обращаться обходительно, не только из-за их формальных гражданских прав, но и из-за их связей с влиятельными лицами в Риме. То же самое относилось и к некоторым провинциалам-негражданам. Суд над Верресом состоялся отчасти потому, что от деятельности Верреса в должности наместника Сицилии пострадал, в числе прочих, некий Стений из Терм, римскими патронами которого были сперва Марий, а затем — Помпей. В переписке Цицерона содержится несколько писем, в которых он рекомендует отдельных провинциалов и целые общины вниманию рим-
104.
ских наместников и других должностных лиц, находившихся за морем . По мере того как римская власть распространялась по всему Средиземноморью, укреплялись и усложнялись связи между влиятельными римлянами и лицами, занимавшими высокое и ответственное положение в городах и общинах остального античного мира.
101 Цицерон. 0 консульских провинциях. 7.
102 Цицерон. Письма к близким. VÜ.28—31. В целом см.: Wilson 1966 (А 128).
103 ILS 8888.
104 О Стении см.: Цицерон. Против Верреса. П.2.113. Примеры рекомендаций Цицерона см.: Письма к близким. ХШ.19, 20, 25, 26, 37 (отдельные провинциалы), 28Ь (лакедемоняне), 48 (жители Пафоса на Кипре).
Глава 15. Управление империей
685
VII. Provinciae, провинции и империя: начало нового ВОСПРИЯТИЯ
В начале П в. до н. э. provincia, в сущности, оставалась частью системы военных магистратур, лежавшей в основе римской конституции, и такая предыстория во многом объясняет очевидную слабость «провинциальной администрации», наблюдаемую во Π—I вв. до н. э.
Для наместника заморской провинции время, проведенное вне Рима, было важной, но не всегда желательной частью политической карьеры. Данное положение наместник занимал вследствие избрания на должность, а после возвращения в Рим снова включался в политическую жизнь города. Хотя назначение Цицерона наместником Киликии было нетипичным и состоялось на гораздо более позднем этапе карьеры, чем обычно, его огорчение из-за отъезда из Рима, скорее всего, было знакомо и другим наместникам. Из военного лагеря в своей провинции он пишет Целию Руфу: «В Риме, в Риме оставайся, мой Руф, и живи в этом городе света. Всякое странствование (к этому мнению я пришел еще в юности) — мрак и ничто для тех, чья настойчивость, проявленная в Риме, может быть славной»105.
Такому отношению вряд ли стоит удивляться, если вспомнить, как мало интересовалась римская элита тем, что происходило в остальной империи. В речи, произнесенной примерно за три года до отъезда в Киликию, Цицерон жаловался на то, что поток событий, происходящих в столице, захватывает с головой, и в итоге никому нет дела до того, как идут дела за морем, и в качестве иллюстрации приводил забавный рассказ о том, как он, совсем молодой и гордый своими достижениями в сицилийском Лилибее, откуда он только что вернулся после пребывания там в качестве квестора, был потрясен, обнаружив, что первый встречный в Италии даже не знает, из какой провинции он прибыл106.
В условиях, когда римляне были так равнодушны к событиям в заморских провинциях, а должность наместника — так тесно связана с магистратурами в Риме, благосостояние провинциалов неизбежно отходило на задний план среди приоритетов тех, кто прибывал из Рима. По словам Цицерона, Веррес открыто хвастал тем, что он не собирался присваивать себе всю прибыль, полученную на Сицилии, но срок своего наместничества разделил на три периода: один — для себя, второй — для своих патронов и защитников на суде, третий (самый прибыльный) — для подкупа присяжных107. Не все римские должностные лица вели себя столь хищнически, как Веррес в изображении Цицерона, но греческий историк Аппиан, писавший о событиях П в. до н. э. примерно триста лет спустя, отмечал, что некоторые ожидали получить от своего наместниче¬
105 Цицерон. Письма к близким. П.12.2 (Перев. В.О. Горенпггейна).
106 Цицерон. В защиту Планция. 64—65.
107 Цицерон. Против Верреса. 1.40.
686
Часть Π
ства славу, прибыль или триумф, но вовсе не благо для Римского государства108. Для мировоззрения римской знати индивидуальные достижения имели огромное значение, а значит, установки, описанные Аппианом, были совсем не редкостью.
Это, в свою очередь, объясняет, почему в I в. до н. э. провинциальные наместники испытывали всевозможное давление со стороны разных людей, находившихся как в Риме, так и в провинциях и способных повлиять на их политическое продвижение. Хорошо известно, что Цицерон, управляя Киликией, вынужден был отбиваться не только от своего друга Целия Ру фа, который занимал должность эдила и требовал от него пантер для игр, но и от агента Марка Брута, который добивался от Цицерона военной поддержки, чтобы взыскать долг, причитавшийся с совета города Саламин на Кипре109. Решив разобраться в этом деле, Цицерон обнаружил, что сам этот заем был предоставлен при весьма странных обстоятельствах, не говоря уже о предполагаемом методе его взыскания. Помимо обращений из самого Рима, на последующую карьеру наместника вполне могли воздействовать могущественные откупщики и высокопоставленные провинциалы, поэтому они имели возможность оказывать на него серьезное давление в собственных интересах. Цицерон признавал, что злоупотребления Берреса в провинции вовсе не были исключением из правила; по словам обвинителя, последнего отличало то, что он был коррумпирован еще до своего отъезда в провинцию110.
Провинции Римской империи выросли из provinciae магистратов и промагистратов, а потому даже во времена Цицерона «управление провинциями», как мы называем это, фактически сводилось к мероприятиям наместника. По этой причине, а также потому, что мероприятия наместника отчасти определялись конкретной обстановкой на подчиненной ему территории, в разных провинциях наблюдалась совершенно разная картина. Единственные общие правила, действовавшие во всех провинциях, можно было найти в Корнелиевом законе об умалении величия, принятом Суллой, и в Юлиевом законе о вымогательствах, принятом Цезарем. Эти законы представляли собой не наборы административных инструкций, разработанные каким-то римским аналогом Министерства по делам колоний, но разделы уголовного законодательства, определявшие перечень уголовных обвинений, которые можно было предъявить отдельным обладателям империя. Более того, в случаях, когда по этим законам — как и по любым римским уголовным законам — возбуждалось судебное дело, обвинителем могло стать только частное лицо. Государство как таковое не имело отношения к обеспечению этих мер безопасности. Управление провинцией являлось, по-видимому, в целом ответ¬
108 Аппиан. Иберийско-римские войны. 80.349.
109 О пантерах см.: Цицерон. Письма к близким. УШ.4.5, 9.3, 8.10, 6.5; П.11.2. О Бруте см.: Цицерон. Письма к Аттику. V.21.10—13; VI. 1.3—7.
110 Цицерон. Против Верреса. П.2.39.
Глава 15. Управление империей
687
ственностью отдельного наместника, а ограничения на него накладывались посредством судебного разбирательства.
Всё вышесказанное может навести на мысль, что даже в эпоху Поздней республики в римском сознании империя представляла собой всего лишь ряд обособленных военных командований. В этом есть доля правды, но такой вывод не учитывает изменение отношения к империи, произошедшее во Π—I вв. до н. э., в результате которого provinciae начали превращаться в провинции империи. Ощущение, что за благосостояние провинциалов отвечает наместник, пожалуй, лучше всего выражено в знаменитых строках Вергилия:
Римлянин! Ты научись народами править державно (imperio), —
В этом искусство твое! — налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных!111
Несомненно, поэт эпохи Августа желал создать впечатление, что, несмотря на ужасы гражданской войны, римский народ имеет славную судьбу, но сходные взгляды встречаются и в эпоху Республики. В письме Цицерона к брату Квинту, которое представляет собой трактат о надлежащем поведении наместника провинции, содержится резюме о том, как следует действовать Квинту после двух лет, проведенных в провинции Азия:
Со всей душой и старанием следуй тому образу мыслей, которому ты следовал до сих пор: люби, защищай по своему крайнему разумению и стремись сделать возможно более счастливыми тех, кого римский сенат и народ поручили и доверили твоей честности и власти112.
Конечно, оба этих автора рисуют идеализированную картину взаимоотношений между Римом и жителями провинций, но примечательно, что в основе этого идеала лежит ощущение ответственности, по своей сути почти патерналистское. То же самое чувство обнаруживается и в жалобах на злоупотребления провинциальных наместников, звучавших время от времени в эпоху Поздней республики. Не стоит считать людей, которых Цицерон обвинял в суде по делам о вымогательствах (quaestio de repetundis), типичными наместниками, и в любом случае рассказ Цицерона о них явно предвзят. Однако в 66 г. до н. э., убеждая народ принять Манилиев закон о предоставлении Помпею командования против Митридата, Цицерон настаивал, что трудно описать, насколько сильно иноземные народы ненавидят римлян за похоть и несправедливость людей, прибывающих в провинции с империем113. И снова мы видим явное убеждение, что провинциями следует управлять справедливо и ответственно.
111 Вергилий. Энеида. VL851—853 (Перев. СА. Ошерова).
112 Цицерон. К брату Квинту. 1.1.27 [Перев. В.О. Горенштейна, с правкой).
113 Цицерон. О предоставлении империя Гнею Помпею. 65
688
Часть Π
Это смешение патернализма и эгоизма особенно ясно видно в письмах Цицерона из Киликии, написанных в течение года его наместничества начиная с июля 51 г. до н. э. Цицерон часто заявляет о своей неприязни к этому делу в письмах не только к своим друзьям Целию и Аттику, но и к Аппию Клавдию Пульхру114, своему предшественнику на должности наместника; при этом Цицерон осознаёт обязанности, сопряженные с его должностью, и, по крайней мере до некоторой степени, получает от них удовольствие. После победы над крепостью вечно беспокойного горного племени на границе между Киликией и Сирией Цицерон писал Аттику, что ни от чего в жизни он не получал такого удовольствия, как от собственной честности, которую требуют проявлять обязанности наместника. Военное искусство, ловкость в разрешении деликатной и нестабильной ситуации в союзных царствах на границах его провинции и прежде всего осознанная порядочность во взаимоотношениях с провинциалами явно приносили ему наслаждение, которое не сводилось к радости от приобретения доброй славы115. Более того, он даже считал себя вправе заявить, что его щепетильность, выразившаяся в том, что он не только не брал у провинциалов денег, причитавшихся ему по закону, но и того же требовал от своего окружения, принесла римлянам преимущества в критический момент. Когда в Сирии угрожала разгореться война с парфянами, Цицерон писал Катону в Рим, что его собственная умеренность обеспечила Риму поддержку провинциальных общин116.
Почти невозможно установить, что в действительности думали провинциалы о римском присутствии. Прибыв в Киликию, Цицерон сокрушался о плачевном состоянии провинции и объяснял беды провинциалов грабежами Аппия Клавдия, но, по крайней мере, некоторые города отправили в Рим посольства с благодарностями за наместничество Аппия, а одна община, возможно, даже собиралась построить храм в его честь117. На фоне жалоб Цицерона и почестей, предоставленных Аппию самими киликийцами, трудно установить, в какой мере провинциалы считали проконсульство Аппия выгодным для себя, а в какой традиции и подобострастие побудили их скрыть искреннее недовольство за проявлением формальной благодарности. Даже в рассказе Цицерона о его собственном наместничестве в провинции, которое он явно намеревался сделать образцовым, имеются указания на то, что отношение римлян к грекам раздражало и оскорбляло последних. Еще до прибытия в свою провинцию Цицерон писал Аттику, что его очень огорчает поведение его свиты в Афинах, неизменная грубость, глупость и высокомерие этих людей и на сло-
114 Обращение к Целию см. выше, сноска 105 наст, гл.; обращение к Аттику см.: Цицерон. Письма к Аттику. V.10.3; обращение к Аппию Клавдию см.: Цицерон. Письма к близким. Ш.2.1.
115 Цицерон. Письма к Аттику. V.20.6.
116 Цицерон. Письма к близким. XV.3.2.
117 Жалобы Цицерона см.: Цицерон. Письма к Аттику. V.16. О посольствах см.: Цицерон. Письма к близким. Ш.10.6. О храме (?) см.: Цицерон. Письма к близким.. Ш.7.2—3.
Глава 15. Управление империей
689
в ах, и на деле118. Точно так же и исполненное благих намерений вмешательство Цицерона во внутренние дела городов его провинции, когда он карал коррумпированное управление местных магистратов или когда заставлял во время голода богатых граждан обеспечивать бедных зерном, должно было вызывать недовольство у тех, кто гордился независимостью своего города119. В противоположность Аппию, Цицерон прямо запретил провинциалам выражать себе благодарность иначе, чем на словах; тем самым он рассчитывал избавить города от расходов, но при этом лишил их одной из немногих свобод, оставленных им римлянами120. Судя по тону писем Цицерона, он явно был убежден в том, что ему прекрасно известно, в чем состоит благо для вверенных ему общин, и свой долг видел в том, чтобы действовать соответственно.
В Риме развитие этой установки, пожалуй, лучше всего заметно в судах, разбиравших дела о вымогательствах (de repetundis). Хотя механизм контроля за злоупотреблениями оставлял желать много лучшего, он, по крайней мере, существовал и мог использоваться для судебного преследования бывших наместников. Наиболее примечательной особенностью этой процедуры было то, что ко времени принятия закона Гая Гракха в Риме по меньшей мере существовал суд, в котором неримлянин мог подать иск против человека, ранее избранного на одну из высших должностей в Римском государстве. В сущности, для целей этого закона обвинитель воспринимался судом так, словно он имел римское гражданство. Если в начале П в. до н. э. жалобы такого рода можно было адресовать лишь сенату, который затем при желании мог инициировать какое-то расследование, то к концу П в. до н. э. данный вопрос уже мог рассматриваться в суде. Дело, ранее являвшееся внешнеполитическим вопросом, отныне стало предметом судебного разбирательства.
Такая установка, конечно, не появилась исключительно по доброй воле римлян. По мере роста империи возникала всё более насущная потребность заручиться поддержкой хотя бы наиболее влиятельной в местных общинах части населения121. Более того, самим провинциалам тоже пришлось чем-то пожертвовать ради этих преимуществ. По сути, провинциалы перестали считаться гражданами иностранных государств, управляющими своими делами самостоятельно, а взамен получили патерналистское отношение державы, господствовавшей в Средиземноморском регионе. Даже государства, которым Рим гарантировал неприкосновенность их законов, сохраняли за собой это право лишь благодаря милости и благосклонности римского народа122.
118 Цицерон. Письма к Аттику. V.10.3.
119 О коррупции см.: Цицерон. Письма к Аттику. VL2.5. О голоде см.: Цицерон. Письма к Аттику. V.21.8.
120 Цицерон. Письма к Аттику. V.21.7.
121 Порождением классовых и прочих барьеров иногда становились проримские и антиримские партии, как это было, когда Митридат завоевал запад Малой Азии, см. гл. 5, с. 172-173.
122 См., напр.: Антониев закон о жителях Термесса [FIRA Р: No 11): кол. 1, стк. 5—10.
690
Часть Π
Может показаться, что в сравнении с военной мощью римской армии вышеописанная установка эфемерна. Но значение данной установки едва ли можно переоценить. Именно убеждение римлян в том, что они несут некую ответственность за подвластные им народы, превратило военную державу Рима в Римскую империю, а военные provinciae — в провинции империи. С этой перемены в работе провинциального наместника, произошедшей в эпоху Республики, началось развитие мирового государства, которым правили императоры.
Глава 16
К. Николе
ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО, 133-43 ГГ. ДО Н. Э.
Если определять экономику в практической плоскости как производство, обмен и потребление товаров (не только материальной продукции, но и так называемых услуг), то рассмотрение этих трех элементов во всем средиземноморском мире, пусть даже только в период, затрагиваемый в настоящем томе, по своему объему значительно превысит одну главу. Поэтому придется как-то ограничить предмет исследования. Первое ограничение относится к пространству: на историю мы будем смотреть в основном из Италии и из ее политического центра — Рима1. Второе ограничение относится ко времени: к 133 г. до н. э. экономика римской Италии уже имела долгое прошлое, но ее ранние структуры и тенденции мы принимаем здесь как данность и затрагиваем лишь кратко, а основное внимание уделяем переменам, произошедшим между 133 и 43 гг. до н. э., — благодаря современным исследованиям они весьма значительны и лучше известны. Третье ограничение связано с подходом. Оно наиболее интересно, но труднее всего поддается объяснению. Невозможно исследовать античную (как и любую другую) экономику вне связи с тем типом общества и той политической структурой, в рамках которых она развивалась. В античном обществе люди были не только производителями и потребителями, не только получателями ренты и наемными работниками: они были свободными и рабами, римлянами и «союзниками»2, имели социальный статус, определявшийся не только их местом в экономике, но и прежде всего их ролью (наследственной или приобретенной) в упорядоченной общине. Статус строго регулировался законом, подразумевал определенные привилегии и ограничения и представлял собой скорее социальное, нежели экономическое явление (хотя, естественно, его могли определять
1 Средиземноморская экономика еще не стала единой: Восточная Азия, Сирия, Гал- ЛИя и Египет интегрировались в нее лишь в I в. до н. э.
2 По меньшей мере до 89 г. до н. э. «союзники» в Италии считались подданными.
692
Часть Π
и некоторые экономические факторы, например, имущество). Но статус, в свою очередь, прямо влиял на экономику: хорошим примером здесь может послужить контроль государства над доступом к недвижимому имуществу, либо недопущение отдельных статусных групп (высших сословий) к некоторым видам экономической деятельности, либо зависимость доступности рабского труда от римских завоеваний. Поэтому, описывая и анализируя римские экономические условия и перемены, мы постараемся отмечать взаимосвязь между экономикой и статусом там, где она наблюдается3.
Чтобы охарактеризовать рассматриваемый период, необходимо сделать одно предварительное замечание. На протяжении столетия от Гракхов до Цезаря в Риме почти постоянно происходили потрясения, сменяли друг друга «кризисы» и «революции»: аграрный кризис 133—121 гг. до н. э., военные перевороты и гражданские войны в 103—100, 88—80, 78, 73—71, 63,49—44 гг. до н. э., восстание италийцев в 90—88 гг. до н. э., войны с рабами в 136, 106, 73 (а также в 47 и 36) гг. до н. э. Описывая каждое из этих событий, античные авторы всякий раз акцентируют внимание на социальном измерении: «богатые» против «бедных», «нобили» {так}), или «лучшие люди» (optimates), против «плебса», или «народа», или «низших классов». Даже на чисто нарративном уровне политическая история всегда укоренена в социальном и структурном контекстах (как, собственно, и следовало ожидать). Но и помимо этого для эпохи «революций» более, чем для предшествующего периода, характерны чисто экономические кризисы:4 дефицит продовольственного снабжения Рима в 124—123 гг. до н. э. (периодически повторяющийся вплоть до правления Августа); финансовые кризисы, поставившие под угрозу денежное обращение и кредит в 89—88, 66—63, 48—47 гг. до н. э.; кризисы государственных финансов, связанные с войнами и поражениями в ходе завоеваний; кризисы, связанные с монетной чеканкой, — от неравномерности монетных эмиссий до манипуляций с деноминациями и их соотношением — в 88, 82, 63—61, 45-44 гг. до н. э. Можно даже говорить о кризисах — а быть может, и об успехах — в определенных сферах экономической деятельности: например, о расширении италийского виноградарства или о строительстве (связанном, среди прочего, и с урбанизацией), на которое теперь проливает новый свет археология, подтверждая и иллюстрируя литературные источники. Мы не станем утверждать на этом основании, что в рассматриваемый в настоящем томе период экономика играла более важную роль, чем ранее, но сам факт, что она лучше засвидетельствована и лучше известна, оправдывает предпринятую здесь попытку изложить ее историю.
3 Это не равнозначно поиску неуловимой «античной экономики»: такого рода взаимосвязь не является уникальной для какого-то одного исторического периода и столь же хорошо наблюдается и в «современных» экономиках.
4 Впрочем, сперва необходимо ответить на важнейший вопрос, в какой мере это впечатление определяется составом источников, дошедших до нас по воле случая.
Глава 16. Экономика и общество, Ί33—43 гг. до н. э.
693
I. КОНТЕКСТ:
ГЕОГРАФИЯ И ДЕМОГРАФИЯ
Экономику определяют потребности людей в товарах и услугах. Поэтому фундаментальное значение имеют данные о численности населения — не абсолютные цифры, но их соотношение с ресурсами территории. Однако в исследованиях античного мира понятие «территория» более коварно, чем сегодня, поскольку унитарных территориальных государств в то время не существовало: для периода до 89 г. до н. э. дефиниция «римская Италия» вообще является обманчивым. Формально из состава последней следует исключить Цизальпийскую Галлию к северу от линии «Пиза — Римини»: даже после 89 г. до н. э. она оставалась провинцией5. В отличие от остального полуострова, население Цизалышны частично состояло из галлов, однако римляне и италийцы очень рано ее колонизировали, и она испытывала глубокие демографические и экономические перемены наряду со всей Италией. Цизальпийская Галлия стала первой целью италийских эмигрантов. Поэтому ее следует рассматривать вместе с остальной Италией. С другой стороны, даже полуостровная Италия в узком смысле слова примерно до 90—60 гг. до н. э. обладала лишь относительным политическим единством и демонстрировала еще более яркое культурное и экономическое разнообразие. Италия представляла собой крупную федерацию — формально «союз» — нескольких дюжин народов (populi), делившихся, в свою очередь, на сотни более или менее автономных «городов», которые подчинялись римской власти лишь в военных и, в меньшей степени, налоговых вопросах. А разнообразию политических структур этих городов, более или менее тесно связанных с Римом, соответствует и разнообразие правовых статусов как самих городов, так и населявших их людей, что оказывало сильное влияние на экономические отношения, определяя тот или иной вид права собственности на недвижимость, свободу или несвободу смены места жительства, возможность или невозможность экономических сделок друг с другом или с Римом (commercium).
Таким образом, в пределах античной Италии ни отдельные люди, ни народы не были ни вполне свободны, ни вполне равны, и их демография, производство и обмен зависели не только от их численности. Политическое, налоговое и военное неравенство влияло не только на экономические отношения, но и на миграцию населения.
Для начала рассмотрим перемещение населения по территории Италии. Рим, господствующий город, владел удаленными землями в областях союзников или аннексировал эти земли и создавал на них (этот процесс шел на протяжении жизни нескольких поколений, но направлялся и контролировался римским правительством) сельскохозяйственные поселения (coloniae), куда направлялись организованные группы или отдельные лица; многие такие колонии стали зародышами новых городов. Рим контролировал часть италийской земли, конфискованной по праву
0 Административно она была присоединена к Италии только Августом при учреждении регионов, вероятно, около 7 г. до н. э.
694
Часть Π
завоевания, и в ходе социальных и экономических конфликтов главная битва велась за доступ к владению или пользованию этой землей. Миграция италийского населения никогда не была совершенно спонтанной, по крайней мере до 89—75 гг. до н. э., и даже позднее правительство, руководствуясь как политическими, так и социально-экономическими соображениями, старалось ее контролировать, например, с помощью «колонизаций» при Сулле, Юлии Цезаре и Августе.
Рассмотрим теперь внутренние перемещения населения. По вполне очевидным военным и фискальным причинам античные города неустанно заботились о своем «многолюдстве» и старались его поддерживать (в определённых рамках, как мы далее увидим). Периодически они пытались точно подсчитать численность своего населения: переписи красной нитью проходят через их историю и нередко играли важную роль для их законодательных установлений. Переписи отражают два доминировавших полярных опасения: страх от нехватки человеческих ресурсов (прежде всего солдат) и их недостатка перед лицом потенциальных противников и, наоборот, страх перед наплывом чужеземцев, свободных или рабов, способных подорвать экономический, социальный или политический баланс в общине. Несомненно, мы составили бы гораздо более верное представление об античной демографии, если бы располагали статистическими записями, хранившимися в античных архивах. Но, даже если бы мы располагали всеми демографическими данными об античном обществе, они всё равно могли бы ввести нас в заблуждение. Ибо на них всегда влияло деление общества на группы с разными правовыми категориями, и степень точности этих данных весьма различалась бы в зависимости от того, что именно они отражали — численность полноправных римских граждан или численность латинов и союзников, численность свободных людей или численность несвободных6.
Исключительная важность и незаурядная сложность этих вопросов становятся очевидными, если вспомнить о том, что в рассматриваемый в настоящей главе период несколько раз менялись принципы организации переписей в Риме и Италии. Первоначально перепись, несомненно, предполагала физическое присутствие гражданина в политическом центре его города и его личную явку к должностным лицам. Вероятно7, с Ш в. до н. э. для многих римских граждан без права голосования (sine suffragio) ценз производился в местных общинах, как и для жителей латинских колоний (coloniae Latinae); итоговые результаты8 отсылались в Рим и там обобщались. Так или иначе, но после Союзнической войны9 всё население Италии проходило перепись в своих городах; древняя процедура, предполагавшая личную явку, сохранялась (по крайней мере, до диктатуры Юлия Цезаря) только для жителей Рима.
6 Не говоря уже об огромных погрешностях, обусловленных недостатками коммуникации, транспорта и самой администрации.
7 Humbert 1978 (F 80): 310 сл.
8 Которые вполне могли являться неадекватными, поскольку были получены в соответствии с местными правилами ценза.
9 О чем свидетельствует Гераклейская таблица, датируемая между 75 и 45 гг. до н. э.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
695
1. Численность населения
Для оценки численности населения Италии и ее изменений мы имеем лишь тридцать девять итоговых цифр римских цензов (отражающих численность граждан — «capita civium») для периода между 508 г. до н. э. и 14 г. н. э., то есть около 38% от общего количества этих данных; этого должно быть достаточно, чтобы выявить тенденции развития10. Но для рассматриваемого в настоящей главе периода пробелы объясняются не случайной утратой источников, а несомненным коллапсом административной машины вследствие политических и экономических трудностей I в. до н. э. Кроме того, рукописное чтение дошедших до нас цифр порой ненадежно, а их интерпретация вызывает у исследователей много споров. Сегодня большинство специалистов считает, что до 28 г. до н. э., за одним или двумя исключениями, в переписи учитывались только взрослые мужчины, в том числе и беднейшие слои (с разной степенью точности), но женщины и дети исключались.
Итоги римских цензов
508 г. до н. э.
130 000
Дионисий. V.20
503 г. до н. э.
120 000
Иероним. Олимпиада 69.1
498 г. до н. э.
150 700
Дионисий. V.75
493 г. до н. э.
110 000
Д ионисий. VI.96
474 г. до н. э.
103 000
Дионисий. IX.36
465 г. до н. э.
104 714
Ливий. Ш.З
459 г. до н. э.
117 319
Ливий. Ш.24; Евтропий. 1.16
393/392 г. до н. э.
152 573
Плиний Старший. Естественная история. ХХХШ.16
340/339 г. до н. э.
165 000
Евсевий. Олимпиада 110.1 (ср.: Beloch 1886 (А 8): 340, примеч. 9)
ок. 323 г. до н. э.
150 000
Орозий. V.22.2; Евтропий. V.9; цифру «250 000» в рукописях Ливия (IX. 19) следует исправить, как и цифру «130 000» у Плутарха (326с). Ср.: Beloch 1886 (А 8): 341.
294/293 г. до н. э.
262 321
Ливий. Х.47; варианты см.: Beloch 1886 (А 8): 343
289/288 (?) г. до н. э.
272 000
Ливий. Периохи. 11
280/279 г. до н. э.
287 222
Там же. 13
276/275 г. до н. э.
271 224
Там же. 14
См. приведенную далее таблицу.
10
696
Часть Π
265/264 г. до н. э.
292 234 (или 292 334. В периохе 16 Ливия фигурирует цифра «382 233»)
Евтропий. П.18; а также греческий перевод
252/251 г. до н. э.
297 797
Ливий. Периохи. 18
247/246 г. до н. э.
241 712
Там же. 19
241/240 г. до н. э.
260 000
Иероним. Олимпиада 134.1 (в армянском переводе «Хроники» Евсевия (Олимпиада 134.3) фигурирует цифра «250 000», cp.: Beloch 1886 (А 8): 344 примеч. 2).
234/233 г. до н. э.
270 713
Ливий. Периохи. 20
209/208 г. до н. э.
137 108 (вероятно, скорее: 237 108)
Ливий. XXVn.36; то же — в периохе
204/203 г. до н. э.
214 000
Ливий. XXLX.37; а также периоха
194/193 г. до н. э.
143 704 (вероятно, скорее: 243 704)
Ливий. XXXV.9
189/188 г. до н. э.
258 318 (в периохе 38 Ливия фигурирует цифра «258 310»)
Ливий. ХХХУШ.36
179/178 г. до н. э.
258 794
Ливий. Периохи. 41
174/173 г. до н. э.
269 015 (в периохе 42 Ливия фигурирует цифра «267 231»)
Ливий. XIЛТ. 10
169/168 г. до н. э.
312 805
Ливий. Периохи. 45
164/163 г. до н. э.
337 022 (Плутарх [Эмилий Павел. 38) приводит цифру «337 452»)
Там же. 46
159/158 г. до н. э.
328 316
Там же. 47
154/153 г. до н. э.
324 000
Там же. 48
147/146 г. до н. э.
322 000
Евсевий (армянский перевод). Олимпиада 158.3
142/141 г. до н. э.
327 442
Ливий. Периохи. 54
136/135 г. до н. э.
317 933
Там же. 56
131/130 г. до н. э.
318 823
Там же. 59
125/124 г. до н. э.
394 736 (? 294 336)
Там же. 60
115/114 г. до н. э.
394 336 (?)
Там же. 63
86/85 г. до н. э.
463 000 (или, если исправлять, 963 000)
Иероним. Олимпиада 173.4
70/69 г. до н. э.
910 000
Флегонт (.FGrH: Na 257). Фр. 12.6. В периохе 98 Ливия приводится цифра «900 000».
28 г. до н. э.
4 063 000
Деяния Божественного Августа. 8.2
8 г. до н. э.
4 233 000
Там же. 8.3
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
697
14 г. н. э.
4 937 000
Там же. 8.4. В Остийских фастах приводится цифра «4 100 900» (Ehrenberg V., Jones А.Н.М. Documents Illustrating Reigns of Augustus and Tiberius (Oxford, 1955): No 40).
Публ. по изд.: Brunt P.A.
Italian Manpower 225 B.C. —A.D. Ί4 (1971 (A 16)): 13—14.
С другой стороны, итоги цензов 28 и 8 гг. до н. э., а также 14 г. н. э. можно объяснить лишь исходя из того, что они включали всё население (опять- таки с разными уровнями погрешности). Ввиду этого базового различия невозможно говорить о долгосрочном естественном приросте населения (то есть приросте за счет рождаемости). Кроме того, мы всегда должны учитывать предоставление гражданства отдельным лицам и группам, которые ранее его не имели: например, только этим может объясняться прирост населения с 395 тыс. до 910 тыс. человек между 115/114 и 70/69 гг. до н. э. Но даже для того времени, когда всё свободное население Италии было включено в число римских граждан (а произошло это не ранее 60-х годов I в. до н. э.), цифры дают нам очень приблизительное представление о населении: сколько насчитывалось женщин и детей и, главное, сколько было рабов, игравших столь важную роль в экономике? Об этом можно лишь строить осторожные гипотезы.
Далее, какую часть населения Италии в первой половине рассматриваемого периода (между 133 и 70—60 гг. до н. э.) составляли неримляне? Об этом у нас имеются лишь расплывчатые и неточные свидетельства, связанные в основном с теми контингентами, которые «союзники» должны или способны были отправлять в римское войско. Например, цифры, относящиеся к 225 г. до н. э.11, позволяют, пожалуй, прийти к выводу о том, что общая численность римских граждан составляла примерно 923 тыс. человек, а численность латинов и союзников, вместе взятых, достигала 1,829 млн человек12. Такое соотношение, 1 к 2, должно было сохраняться до конца П в. до н. э.: оно приблизительно соответствовало доле италийских контингентов в римской армии, которая временами достигала 60%. Но в этих расчетах не учтены целые области Италии — вся южная часть полуострова. Тем не менее, оценка численности свободного населения Италии около 225 г. до н. э. в 3 млн человек выглядит достаточно правдоподобной. Ко временам Августа в Италии (включавшей к этому времени Цизальпийскую Галлию) проживало примерно 4,5 млн свободных людей.
Важнейшим остается вопрос о численности рабов13. О ней мы можем судить лишь по очень косвенным данным. Имеются сведения о военно¬
11 Полибий. 11.24; Диодор. XXV. 13; Плиний. Естественная история. Ш.138; Ливий. Периохи. 20.
12 Эти цифры соответствуют исправленным сведениям о числе взрослых мужчин: 300 тыс. римлян и 575,6 тыс. латинов и союзников.
13 А также менее значимый вопрос о численности неримлян, прибывших из-за моря.
698
Часть Π
пленных, ввезенных в Италию во Π—I вв. до н. э.: в 167 г. до н. э. — 150 тыс. жителей Эпира, в 58—52 гг. до н. э. — возможно, миллион галлов14. Источники сообщают о том, что в конце П — начале I в. до н. э. важную роль, в основном в плане экспорта в Италию, играл рынок рабов на Делосе, а также о том, что по меньшей мере между 177 и 57 гг. до н. э. вопрос о включении вольноотпущенников в цензорские списки вызывал яростные политические споры, а это, несомненно, доказывает, что их численность была довольно велика. Брант15 дает осторожную оценку численности рабов при Августе в 3 млн при общей численности населения в 7,5 млн человек; но, возможно, даже такая оценка завышена. Некоторые обстоятельства мы знаем точно. Во-первых, на исходе П в. до н. э. по сравнению с его началом численность рабов, несомненно, возросла, а в I в. до н. э. увеличилась еще больше. Во-вторых, если «войны с рабами» можно рассматривать как свидетельство о немалой численности последних, а также об их использовании в сельском хозяйстве и об ухудшении качества их жизни, то апогеем стали войны на Сицилии и в Кампании в 136—132 гг. до н. э., на Сицилии — в 106 г. до н. э. и на юге Италии — в 73—70 гг. до н. э.; но рабы продолжали играть важную или даже решающую роль в гражданских войнах 63 и 47 гг. до н. э., а особенно — в войске Секста Помпея в 46—36 гг. до н. э. В-третьих, рост числа рабов в Италии в рассматриваемый период был вызван в основном вынужденной иммиграцией. Это повлияло на экономическое потребление, и вовсе не потому, что рабы потребляли больше, чем производили (ведь большинство рабов по определению находилось на самом дне экономической иерархии), но потому, что рабы не выбирали, чем заниматься, и использовались в производстве продуктов, которые могли вообще не потреблять: например, в скотоводстве, разведении винограда и оливок, сфере услуг; в долгосрочной перспективе всё это могло способствовать возникновению дефицита продовольствия. Наконец, рабство было, пожалуй, более временным состоянием, чем мы привыкли думать, и достаточно большая доля рабов — возможно, около трети — вполне могла рассчитывать на освобождение. А в Риме вольноотпущенник становился римским гражданином, поэтому гражданское население Италии или, во всяком случае, Рима всегда включало значительную долю вольноотпущенников и их семей16.
Дабы эти гипотетические общие цифры имели хоть какой-то смысл, их следует рассматривать в контексте сведений о населении всего Средиземноморья. Согласно Диодору и Иосифу Флавию17, в Египте, «самой многолюдной стране», проживало от 7 до 7,5 млн человек, не считая жи¬
14 Об Эпире см.: Полибий. XXX. 14; Ливий. XLV.34.5—6. О Галлии см.: Плутарх. Цезарь. 15; Аппиан. О войнах с кельтами. 2.
15 Brunt 1971 (А 16): 124-125.
16 Видимо, между 58 и 45 гг. до н. э. в Риме находилось 200 тыс. вольноотпущенников (ввиду чего сильно возросло число получателей государственного зерна) при общей численности городского населения в 600—800 тыс. человек.
17 Диодор. 1.31; Иосиф Флавий. Иудейская война. П.16.4.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
699
телей Александрии. Недавно проведенные подсчеты18 показали, что общая численность населения трех Галлий18а и Нарбонской Галлии составляла порядка 5 млн человек. Несмотря на героические усилия, предпринятые в прошлом веке Белохом19, о населении Испании, Африки и Малой Азии нельзя сказать ничего определенного. Но похоже, что Италия была одним из наиболее густонаселенных регионов средиземноморского мира; учитывая ее площадь, по плотности населения она могла занимать второе место после Египта20. Это, несомненно, было одной из причин римских завоеваний, но и одним из их следствий — ввиду вынужденной иммиграции рабов.
2. Распределение и миграция населения
Можно ли обнаружить какие-то глобальные закономерности в распреде- лении и миграции населения? Похоже, что за два столетия общее население Италии, включая рабов, возросло почти на 50%. В среднем это составляет 0,25% в год, то есть крайне мало. Если бы мы могли точно оценить иммиграцию, это позволило бы подсчитать вклад естественного прироста населения; но придется ограничиться лишь парой подсказок. Для рассматриваемого здесь периода, особенно между 90 и 28 гг. до н. э., характерны внешние и гражданские войны, в ходе которых в армию было призвано не меньше, а то и больше солдат, чем во время Второй Пунической войны21. Но оказали ли потери столь же большое влияние на демографию, как в том противостоянии? Можно ли доверять сведениям Веллея22 о том, что в Союзнической войне погибло целых 300 тыс. человек? Это вызывает сомнения. Однако, если вспомнить, сколь долго порой продолжалась военная служба, представляется весьма вероятным, что конфликты I в. до н. э. по меньшей мере сказались притормаживающим образом на потенциальном росте населения. Даже если утверждения Тиберия Гр акха, Юлия Цезаря и Августа о сокращении численности населения (и их жалобы на эту тенденцию) между 133 и 18 гг. до н. э. относятся только к римским гражданам и, не исключено, что только к высшим классам, эти свидетельства всё же встречаются слишком часто и не могут не отражать некую реальную тенденцию, усматривавшуюся современниками. В чем же она состояла? Нам почти ничего не известно о демографическом поведении людей вообще или каких-то определенных социальных групп в рассматриваемый период; мы не можем измерить показатели брачности, естественной пло¬
18 HarmandJ. Les Celtes аи second äge du fer (Paris, 1970): 61—65.
18a Имеются в виду три провинции, на которые при Августе была разделена Дальняя Галлия, завоеванная Цезарем, а именно: Лугдунская Галлия, Аквитания и Бельгика. — О Л.
19 Beloch 1886 (G 13).
20 Как указывает Страбон (XV.I.13.690C), Египет был особым миром, своего рода «средиземноморской Индией».
21 В 42 г. до н. э. в армии служило 25% всех iuniores (мужчины в возрасте от 17 до 46 лет. - О.Л.), см.: Brunt 1971 (А 16): 512.
22 Веллей. П.15.
700
Часть Π
довитости или смертности. Снижение численности граждан («capita civium») между 164 и 136 гг. до н. э. с 337 тыс. до 317 тыс. человек, менее чем на тысячу человек в год, дает абсолютную убыль в 6% в год. Но между 136 и 115 гг. до н. э. численность граждан вновь взлетает до 395 тыс. человек, то есть на 24%, что никак не может объясняться естественным приростом: это явление должно было быть вызвано либо предоставлением гражданства иноземцам, либо массовым освобождением рабов (о чем в источниках не осталось никаких упоминаний), либо, что более вероятно, новой системой подсчета при проведении ценза — и, несомненно, гракханским распределением земли.
К сожалению, приведенные цифры ничего не говорят о плодовитости социальных групп. Тиберий Гракх опасался, что бедные граждане не смогут содержать своих детей до момента их взросления, но не утверждал, что больше они их не рожают23. Тем не менее, вполне возможно, что такая тенденция всё же предполагалась, но привести она должна была к снижению численности будущих, а не наличных взрослых граждан, иначе откуда бы новые граждане взялись в 115 г. до н. э.? Следует ли считать, что довольно низкие итоговые цифры цензов П в. до н. э. включали только асси- дуев, то есть владельцев хотя бы какой-то собственности, считавшихся лучшими солдатами? Меж тем бедные обычно не освобождались от участия в цензе, а снижение числа богатых (очень незначительное) вряд ли так уж обеспокоило бы политическую элиту. Как бы то ни было, следует помнить, что в рамках общих итогов ценза существовало несколько цензовых классов, но сведений по каждому классу у нас нет и мы практически ничего не знаем о фактическом распределении частной собственности и о том, как оно менялось24.
О распределении населения по разным областям, а также в целом между городом и селом мы знаем немного больше. «Обезлюдение» сельской местности в Италии, которое так часто упоминается в источниках по рассматриваемому периоду25, вероятно, затронуло лишь некоторые области и некоторые социальные классы (точнее — свободных земледельцев). Но археологические свидетельства, которым исследователи недавно стали придавать огромное значение, не могут полностью опровергнуть столь единодушные свидетельства литературных источников. Следует подчеркнуть рост урбанизации в Италии в рассматриваемый период. Конечно, большинство многолюдных колоний было основано в конце Ш — начале П в. до н. э.; изначально эти поселения имели ограниченные размеры и не могли уместить всех новых колонистов в пределах своих городских стен26.
23 Аппиан. Гражданские войны. 1.30, 40; Плутарх. Тиберий Гракх. 8; Rich 1983 (С 121): 300 слл.
24 Впрочем, некоторые сведения о сельском хозяйстве см. далее.
25 От Цицерона [Письма к Аттику. 1.19.4) до Ливия (VI. 12 — здесь речь идет по меньшей мере о Лации); Плутарх. Тиберий Гракх. 8 (о побережье Этрурии); Аппиан. Гражданские войны. 1.7.
26 Tozzi 1974 (G 246), Frederiksen 1976 (G 79).
Глава 16. Экономика и общество, 133—43 гг. до н. э.
701
Но во П в. до н. э. (а не только в I в. до н. э., как обычно считается) очень многие из этих центров, а также и более древние города, населенные как союзниками, так и римскими гражданами, существенно расширились. Согласно Белоху, который опирается на Плиния Старшего27, в правление Августа в Италии насчитывалось четыреста тридцать четыре «города» (конечно, не все они были крупными), что предполагает городское население численностью не менее 3 млн человек при общей численности италийского населения в 7—8 млн человек, то есть порядка 40%. Это весьма высокая доля; следует также отметить, что такая пропорция городского населения характерна для эллинистического мира28. Имеются сообщения о миграции сельского населения в города — прежде всего в Рим, но также и в городки вроде Фрегелл. Во П в. до н. э. засвидетельствовано значительное расширение территории Рима29, но самый мощный приток сельского населения наблюдался в I в. до н. э., когда действовали наиболее масштабные законы о раздаче зерна (leges fmmentariae):30 между 57 и 46 гг. до н. э. численность получателей государственного зерна составляла 320 тыс. человек31. Археологические данные подтверждают это впечатление: новые исследования, проведенные в Цизальпийской Галлии, а также в городах центральной и южной Италии32, выявили трансформацию последних после Союзнической войны: обнаружена новая городская планировка, возведение новых общественных зданий и стен. Трудно поверить, что эта трансформация не повлекла за собой демографических, а следовательно, и экономических последствий33.
Наконец, обнаруживается ли в рассматриваемый период в Италии тенденция к эмиграции за море? Выше мы уже говорили о вынужденной иммиграции рабов; их численность была велика, но смертность, вероятно, выше, чем смертность свободного населения, а брачность и плодовитость — несомненно, ниже. Но какая-то часть этой группы получала свободу и сливалась с гражданским населением на протяжении жизни одного поколения34. И наоборот, в тот же самый период в Риме и Италии наблюдалась интенсивная эмиграция. Вначале, как мы уже отмечали, люди перебирались в Цизальпийскую Галлию: весьма заметным явлением данного периода стала «романизация» кельтской области в долине реки По35.
27 Beloch 1880 (А 7): 360; Плиний Старший. Естественная история. Ш.
28 Beloch 1909 (G 14): 424-434.
29 Фронтин сообщает, что в 144 и 125 гг. до н. э. было построено два новых акведука, см.: VII.1.2.
30 Саллюстий. О заговоре Катилины. 37.7; Аппиан. Гражданские войны. П.506.
31 Светоний. Божественный Юлий. 41.3.
32 Gabba 1972 (G 86).
33 Gabba 1976 (G 88).
34 Об этом феномене трудно сказать что-то большее; он уже дебатировался в римском обществе в конце П в. до н. э. и еще большее внимание привлекал в I в. до н. э.
35 См. данные, приведенные выше. В число жителей Цизальпийской Галлии в эпоху Августа включалось конечно же и коренное население, имевшее теперь римское гражданство.
702
Часть Π
Переезжали они и за море: во П и I вв. до н. э. в Испании, Нарбонской Галлии, на Сицилии и в Африке засвидетельствовано множество римских общин. В других областях, прежде всего в Греции и Малой Азии, селилось множество «деловых людей» (а также некоторое количество землевладельцев): сообщается, что в 88 г. до н. э. Митридат уничтожил 80 тыс. римлян и италийцев. Эта эмиграция отчасти поощрялась государством, которое выводило колонии и селило отдельных лиц на конфискованной земле, а отчасти шла спонтанно и очевидным образом была связана с римскими завоеваниями. Общую численность римских граждан за пределами Италии Брант оценивает в 370 тыс. человек в 69 г. до н. э., 450 тыс. человек — в 49 г. до н. э. и 1,25 млн человек — в 28 г. до н. э.
Подведем итоги. Со 133 по 43 г. до н. э. совокупное население Италии, по-видимому, постоянно росло с достаточно большой скоростью, чтобы обеспечить успешное ведение войн в Африке, Греции, Азии и Галлии, невзирая на гражданские вооруженные столкновения, оборачивавшиеся большими жертвами. Резкого падения численности населения не наблюдалось, не было ни жестокого голода36, ни эпидемий, но активно шла эмиграция. В этот период Италия в широком смысле слова, вероятно, имела наивысшую плотность населения во всем Средиземноморье и являлась крупнейшей в мире городской агломерацией, центром власти, а теперь и товарообмена. Более того — и это имело огромное значение в мире, где человек мог полноценно существовать, лишь будучи членом какой-то общины, — Италия представляла собой единое территориальное образование в разобщенном мире, поскольку примерно с 60 г. до н. э. всё ее свободное население имело римское гражданство. Столь радужная оценка, несомненно, затеняет кризисы, неравенство и внутренние сдвиги, которые мы можем ощущать в принципе, но не можем описать в деталях; однако в целом картина была именно такой. От распространенного представления о резком «обезлюдении» Италии следует отказаться37.
II. Италийское сельское хозяйство
Привести в краткой главе полное описание италийского сельского хозяйства невозможно, тем более что большинство современных исследователей отмечают его разнообразие, не только географическое, но и социальное и экономическое, поскольку с течением времени разные продукты и даже разные «способы производства» сменяли друг друга в одном и том
36 Разве что периодические «продовольственные кризисы» в Риме, и это вовсе не то же самое.
37 В I в. н. э. численность населения продолжала возрастать. В ходе ценза, проведенного при Клавдии в 48 г. н. э., было насчитано 5 млн 984 тыс. граждан (cives), т. е. на миллион больше, чем в 14 г. н. э.; все эти люди не могли быть вольноотпущенниками либо иноземцами, получившими римское гражданство, и многие из них должны были постоянно проживать в Италии. См.: Тацит. Анналы. XI.25.
Глава 16. Экономика и общество, 133—43 гг. до н. э.
703
же месте или сосуществовали в одно и то же время в разных местах. Наши источники информации тоже разнообразны и делятся на три типа. Во-первых, это технические сочинения, написанные в течение нескольких веков агрономами: Катоном (ок. 180—150 гг. до н. э.), Варроном (ок. 57— 37 гг. до н. э.) и Колумеллой (ок. 50 г. н. э.), а также натуралистами (например, разделы «Естественной истории» Плиния Старшего о растениях и деревьях, написанные ок. 60 г. до н. э.). К их примерам, цифрам и рекомендациям следует относиться очень критически, но сегодня у нас, по крайней мере, есть для критического анализа хорошие пособия38. К этому же типу источников относятся сочинения, в которых излагается теория и практика работы землемеров (gromatici): они дают важнейшие свидетельства о правовом и фискальном статусе земли и о процедурах разграничения земельных угодий и формирования ландшафта. Источники второго типа — это конкретные высказывания историков или современников событий по экономическим вопросам; при оценке такого рода суждений тоже требуется осторожность ввиду их непоследовательности и предвзятости их авторов. В-третьих, по следам первопроходцев — Белоха, Пайса, Фраккаро, — но особенно после Второй мировой войны мы получаем всё новые результаты археологических исследований: проводится широкомасштабное обследование поселений и практики разведения сельскохозяйственных культур; всё новые и новые сведения о производимых продуктах, по крайней мере о вине и масле, и о маршрутах товарообмена поступают благодаря изучению распространенности керамики. Все эти исследования вносят в общую картину бесконечное множество новых элементов, хотя порой их трудно интерпретировать и еще труднее обобщить.
1. Географическое разнообразие
Перечитав труды Г.-Й. Ниссена (род. 1935), Э.-Ч. Семпл (1863—1932), М. Кэ- ри (1881—1958) или энциклопедические обзоры, наподобие сочинения Р. Альмаджи (1884—1962) и Э. Мильорини (1902—1988), мы лишь получим подтверждение восторгов античных авторов — Варрона, Страбона, Витрувия, Вергилия, Плиния Старшего, — рассказывающих о разнообразном, но всегда умеренном климате Италии, о богатстве ее ресурсов, о благодатности ее земли, подходящей для всех видов сельского хозяйства, включая и животноводство. Хотя до Агриппы и Августа39 римские познания об этнографии и статистике, а также средства измерения и картография оставляли желать много лучшего, римляне всё же владели своей землей во всех смыслах этого слова и потребляли всё более широкий набор продуктов, а потому были прекрасно знакомы с разнообразием и взаимодополняемостью своей земли. Ясно, что в рассматриваемый в настоя¬
38 Наир.: White 1967 (G 257); Capogrossi Colognesi 1969/1976 (G 30); Martin 1971 (В 73); a также новые качественные научные издания Варрона, Катона и Плиния Старшего.
39 В правление Августа всё изменилось.
704
Часть Π
щей главе период Италия, где еще только зарождалось политическое объединение под властью Рима, не была единой в сельскохозяйственном отношении. Во П в. до н. э. географические горизонты Катона не простирались дальше Лация и Кампании; век спустя Варрон в своем сочинении уже рассматривал весь полуостров, включая Цизальпийскую Галлию (которая географически даже не является частью средиземноморской системы).
Области Апеннинского полуострова сильно отличаются друг от друга рельефом, климатом и почвой. Но климатические условия в широком смысле слова (относительная засушливость с характерным для Средиземноморья режимом распределения осадков) предопределяли преобладание в региональном сельском хозяйстве злаков и древесных культур (виноград и оливы), в то время как для разведения кормовых трав и бобовых требовалось орошение. Но не менее важное значение имел контраст между возвышенностями (центральной горной цепью, плато и холмами — единственными италийскими областями, где летом сохраняется растительный покров, достаточный для выпаса скота) и прибрежными равнинами, которые пригодны для возделывания на протяжении всего года, а зимой способны также служить пастбищами. Лесной покров, несомненно, гораздо более плотный, чем сегодня, даже на юге Италии, в Бруттии (Сильский лес), обеспечивал дополнительные возможности для выпаса некоторых видов скота, особенно свиней, а также давал древесину40. Но и каждая область Италии имела свои внутренние сельскохозяйственные контрасты, наиболее очевидные при сопоставлении холмистых районов с долинами или интенсивно возделывавшимися бассейнами рек, такими как Валь-ди- Кьяна в Этрурии, низменность Фолиньо—Сполето в Умбрии, Валь-ди- Диано в Аукании.
Дренаж играл важную роль на всех прибрежных равнинах Италии, а также до некоторой степени в долине реки По, которая во П в. до н. э. заселялась и романизировалась. Греки и этруски уже очень рано, в VIII— УП вв. до н. э., начали прибегать в местах своего обитания к сложным дренажным приемам, без обращения к которым эти области оказались бы слишком заболоченными и непригодными для развития сельского хозяйства. Одна из важных исторических проблем сводится к вопросу, не связаны ли депопуляция и упадок некоторых областей, наблюдаемые в рассматриваемый период (в Лации — с IV в. до н. э., на прибрежной равнине Этрурии — со П в. до н. э., Помптинские болота и т. д.), с отказом от использования дренажных систем?
Разнообразие ландшафтов в пределах крупных областей позволяет объяснить, почему, невзирая на огромные перемены в общей картине сельского хозяйства, произошедшие в рассматриваемый период, Италия так и осталась «землей, возделанной словно сад», как выразился Варрон41, и продолжала процветать, хотя италийцы и уступили производство некото-
40 Toynbee 1965 (А 121) П: 595-598.
41 Варрон. Сельское хозяйство. 1.2.6.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
705
pbix продуктов заморским провинциям, а отдельные продукты охотно стали импортировать (правда, оплачивая их налогами с указанных провинций). Впрочем, говорить об отказе от разведения тех или иных культур и замене их другими можно лишь в самом общем смысле, поскольку на местах, как правило, по-прежнему выращивалось сразу несколько культур и, несомненно, преобладало натуральное хозяйство.
Однако в I в. до н. э. уже можно было выявить несколько обширных областей, обладавших некоторой специализацией: в очень богатой Кампании42 доминировали пашни, виноград и олива; в долине реки По — пашни, овцеводство и свиноводство; в горных районах Самния и в Сабел- льской области — выпасное и отгонное скотоводство; на этрусских и сабинских равнинах — пашни и виноград; в Аукании и Бруттии — земли, отданные исключительно под пастбища. В конце рассматриваемого периода в некоторых областях, определяемых расположением городов, развивалось усадебное хозяйство (pastio villatica), сопряженное со значительным риском; оно практиковалось на юге Лация, в Кампании и в окрестностях городов, поскольку производило предметы роскоши для городского рынка. Единственный яркий контраст этому италийскому «единству в разнообразии» возник после аннексии римлянами долины По (которая не повлекла за собой ни экономического, ни политического перелома), ибо климат и топография данной области весьма отличались от остальной Италии: для местной земли была характерна более стабильная влажность и туманы, но прежде всего она была обширной и ровной, а значит, доступной (после вырубки лесов и изгнания или локализации кельтского населения) для крупномасштабной оккупации и центуриации огромных территорий в интересах римских и италийских иммигрантов.
К этому физическому разнообразию следует добавить разнообразие образа жизни и традиционных социальных структур, переживших римское завоевание и сохранившихся до рассматриваемого периода: аграрнопастушеские общины в Лигурии, Сабелльской области и Самнии; галльские племенные системы с рассредоточенным проживанием в Цизальпийской Галлии, полусвободное крестьянство в Этрурии вплоть до начала I в. до н. э. и проч.
2. Разнообразие
сельскохозяйственных продуктов
Оно тоже засвидетельствовано античными географами, агрономами и натуралистами; не следует пренебрегать и свидетельствами, полученными в ходе подробных исследований рациона италийцев43, которые показывают, с одной стороны, возрастание удельного веса импортных продуктов, а с Другой — присутствие в рационе почти всех сельскохозяйственных про¬
42 Дионисий Галикарнасский. Римские древности. 1.37.
43 Andre 1981 (G 3).
706
Часть Π
дуктов, производимых в самой Италии. Уже с довольно ранней эпохи в рационе италийцев, даже сельчан, ведущих в сравнении с жителями Рима более изолированную жизнь, наблюдается большое разнообразие: овощи, всевозможные фрукты, специи, птица; чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть «Завтрак» Псевдо-Вергилия. Но если оставить в стороне эти важные дополнения, то древние италийцы питались в основном злаками, оливками, овощами, свининой и соленой рыбой и пили вино; а для приготовления пищи (а также для освещения и в медицине) использовалось оливковое масло. Всё это сыграло определяющую роль в развитии италийского сельского хозяйства.
3. Методы ведения сельского хозяйства
Сельское хозяйство велось преимущественно вручную, с использованием труда человека и животных. Другие источники энергии, известные в античности (то есть, в сущности, только водяная мельница), появились намного позже рассматриваемого здесь периода. Орудия труда, которые применялись в то время, были придуманы еще в железном веке и продолжают использоваться в наши дни, впрочем, следует отметить преобладание серпа над косой при жатве. Италийский плуг по-прежнему оставался в данный период беспередковым44 и безотвальным, хотя его металлический сошник вполне мог эффективно вспахивать рыхлую почву. Единственными сельскохозяйственными машинами были давильни для винограда и оливок, описанные Катоном и имевшие, вероятно, достаточно мощные приводные механизмы. Не следует недооценивать техническую эффективность подобного сельского хозяйства. При условии наличия достаточной рабочей силы она вполне подходила для италийской почвы и климата, как для расчистки и подготовки земли, так и для пахоты, выращивания, сбора урожая и его хранения. (Более серьезную трудность представляла малая проходимость наземного транспорта.) Начиная со П в. до н. э. традиционные методы ведения сельского хозяйства совершенствовались благодаря обучению греческой сельскохозяйственной науке: отбор и селекция видов, прививки и скрещивание, внедрение новых сортов зерна, фруктов и винограда, удобрение почвы. Севооборот был известен, но не трехпольный: обычно земля оставалась под паром раз в два года. С другой стороны, процветали некоторые традиционные типы междурядной культивации, например, совместное разведение двух древесных культур (виноградные лозы на тополях в Кампании; италийский виноград произрастает на возвышенностях, что требует более крупных инвестиций) или высевание зерна между рядами олив, так что после сбора урожая оливок среди деревьев паслись овцы.
44 Исключение составляли только плуги, использовавшиеся к началу Принципата к северу от Альп.
Глава 16. Экономика и общество, 133—43 гг. до н. э.
707
4. Основные виды сельскохозяйственной продукции
В рассматриваемый период в Италии существовало четыре основных вида сельскохозяйственной продукции (производившейся как на продажу, так и для потребления), и во Π—I вв. до н. э. их развитие обусловило перемены, порой быстрые и глубокие, которые, наряду со многими чисто экономическими и политическими факторами, придали истории италийского сельского хозяйства напряженность и даже драматизм.
[а) Первый, и основной, вид сельскохозяйственной продукции — это злаки. Данная самая простая и самая распространенная продукция производилась в том «крестьянском», или «натуральном», хозяйстве, которому столь много внимания уделяется в современных исследованиях;45 главными пищевыми продуктами служили злаки (изначально — ячмень, затем — пшеница с просом в качестве резерва), из которых обычно варили каши (puls). Поэтому встречаются они почти во всех типах сельскохозяйственных предприятий, хотя, несомненно, имели довольно скромную урожайность (в среднем три-четыре зерна на одно посеянное). Если земельный участок или хозяйство были слишком малы, то выживание земледельца можно объяснить только наличием у него дополнительных источников дохода: сада, общественного пастбища или подработки. Кроме того, в злаковых всегда нуждались города, что для античного Средиземноморья являлось серьезной проблемой. Поэтому они выращивались и на землях, не подходивших для этого, например, в Римской Кампании;45"1 этим объясняются нехватка зерна и голод в Риме, периодически возникавшие начиная с V в. до н. э., когда зерно приходилось доставлять из Этрурии, Кампании или с Сицилии.
В Ш—П вв. до н. э. происходили значительные перемены (в данном случае их общие очертания видны яснее, чем подробности). Во-первых, вследствие урбанизации (расширение Рима началось в Ш в. до н. э. и ускорилось во П в. до н. э.) и возрастания потребностей войска увеличился спрос на зерно. Во-вторых, менялись пищевые привычки богатых людей и городских жителей: на смену каше приходил хлеб, для приготовления которого требовалось больше зерна46. Во П в. до н. э. рос импорт зерна; ввозилось оно от случая к случаю, для государственных раздач, но в его поставки, несомненно, был вовлечен и рынок частных производителей. Зерно импортировалось с Сицилии, из Греции, с Сардинии, из Испании и Африки; свою роль здесь играли и завоевания, и политические факторы; вскоре (особенно после 123 г. до н. э.) часть регулярно импортируемого зерна начала поступать в форме налогов. Указывают ли все эти факты на
45 Frayn 1979 (G 75); Evans 1981 (G 64).
4оа Имеется в виду равнина, окружающая город Рим, которую не следует путать с упомянутой ниже Кампанией — областью южной Италии, на побережье Тирренского моря. — О.Л.
46 Плиний Старший. Естественная история. ХУШ.107—108, Плавт. Ослы. 200.
708
Часть Π
«кризис» или крупный сдвиг в продукции италийского сельского хозяйства? Нет, ибо импортное зерно поступало исключительно на городской рынок (правда, не исключено, что он обеспечивал до 40% населения Италии), а злаковые по-прежнему требовались, чтобы прокормить работников, в том числе и занятых на территориях, отданных под другую продукцию. Поэтому, скорее всего, их выращивали повсюду, за исключением нескольких районов, для которых имеются надежные свидетельства о том, что земля была заброшена или отдана под разведение винограда или олив. Если в Римской Кампании и некоторых областях южной Италии (побережье Тарентского залива) зерно больше не выращивалось, то Кампания, несмотря на свои знаменитые виноградники, оставалась «житницей» по меньшей мере до 63 г. до н. э., и это объяснялось прежде всего тем, что Италия в целом производила недостаточно зерна. В этом и состояла подлинная причина быстрого развития крупномасштабной торговли зерном на большие расстояния (одновременно с его поставками в качестве налога), и именно благодаря импорту было достигнуто равновесие, пусть даже хрупкое и нарушаемое «хлебными кризисами» 154, 124,115 гг. до н. э., достигшими пика, пожалуй, в 66 и 57 гг. до н. э. Коммерческий импорт больших объемов зерна всегда был сопряжен с большим риском: во времена дефицита он приносил огромную прибыль, но вмешательство государства в любой момент могло его подорвать. Однако в источниках ни разу не упоминаются ни упадок производства зерна в Италии, ни резкое падение цен на него на внутреннем рынке, ни даже конкуренция с ценами на внешнем рынке.
(Ь) Второй вид сельхозпродукции — это разведение древесных пород, то есть всевозможных фруктовых садов, но прежде всего, конечно, олив и винограда. Обе эти культуры имели глубокие корни в Италии, обе были ввезены сюда еще в древности, вероятно, из Греции. Но, оставляя в стороне климатические ограничения, не позволявшие разводить оливу в Цизальпийской Галлии, бурное развитие этих культур в анализируемый здесь период было обусловлено появлением новых рынков сбыта и новых систем управления поместьем. Примечательно, что из шести разных поместий, рассматриваемых Катоном в его в высшей степени практическом сочинении, два самых известных и значимых — это виноградник и плантация олив площадью, соответственно, 100 и 240 югеров. Учитывая, что какие-то земли необходимо было отвести под прокорм работников, такие хозяйства требовали крупных вложений начального капитала: эти культуры не приносили немедленного урожая, предполагали посадки в шахматном порядке и достаточно интенсивного труда. Во времена Катона и Варрона Италия славилась качественным оливковым маслом, но к концу Республики в Рим и остальную Италию в огромных объемах начала поступать продукция из Испании и Африки.
Больше споров и интереса вызывают превратности, испытанные италийским виноделием; сегодня мы узнаём о них всё больше и больше, прежде всего благодаря систематическому исследованию амфорных клейм,
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
709
хотя его результаты лишь подтверждают то, что и так должно быть ясно при непредубежденном прочтении античных текстов.
В IV—Ш вв. до н. э. практически все местные италийские виноградники производили вино не слишком высокого качества, не имевшее экспортного потенциала. В городах, прежде всего в Риме, множество зажиточных людей создавало спрос на вино, но удовлетворялся он за счет импорта из Греции47. В начале II в. до н. э. произошли глубокие перемены, италийцы сами начали производить качественные вина в большом количестве; следы последних обнаруживаются в самых разных местах: сперва — на Адриатическом побережье между Пиценом и дельтой По, затем — в Апулии. В середине П в. до н. э. процесс ускоряется: первым достопамятным новшеством становится появление элитных италийских виноградников, упоминаемых в литературе, в рассматриваемый период все они концентрируются в южной Италии и Кампании (фалернское вино); затем вследствие изменения пищевых привычек (переход к хлебу) и увеличения благосостояния правящего класса и даже (в некоторой степени) плебса, получавшего зерно по сниженным ценам, растет потребление вина в Риме и других городах. Таким образом Рим стал коммерческим рынком сбыта как для вин массового производства из Лация и чуть более отдаленных мест, так и для качественных вин из Кампании и Апулии. Для конца I в. до н. э. потребление вина в Риме оценивается более чем в миллион гектолитров в год — гораздо больше, чем в Париже XVHI в.48. Однако еще сильнее бросается в глаза рост экспорта вина, который приобрел огромные масштабы — сотни тысяч гектолитров в год; быть может, первоначально он предназначался для удовлетворения потребностей солдат и римских эмигрантов в Испании и Галлии, но сегодня обнаруживаются свидетельства о мощном потоке экспорта как на восток, где центром торговли служил рынок на Делосе, так и на запад, в центральную Галлию (Аквитания и долина Роны)49. Вино производилось на виноградниках Кампании и побережья Этрурии; конечные точки экспорта часто обнаруживаются в горнодобывающих районах Галлии, и это подтверждает, что его потребителями были не только римские солдаты, как иногда считается50. Превращение Италии в крупнейший центр потребления, производства и экспорта вина, произошедшее между началом П в. до н. э. и концом I в. до н. э., имело важнейшее историческое значе¬
47 Этот импорт засвидетельствован с середины П в. до н. э. (Макробий. Сатурналии. Ш.16.14) вплоть до эпохи Горация и даже позднее; указанные свидетельства подтверждаются родосскими амфорами, которые обнаруживаются по всей Италии.
48 Tchemia 1969 (G 237).
49 По мнению Чернии, на протяжении века в одну только Галлию ежегодно экспортировалось свыше 100 тыс. гектолитров.
о0 Обнаружена и раскопана примечательная, но, конечно, не единственная в своем роде вилла в Сеттефинестре, датируемая I в. до н. э., амфоры которой, принадлежавшие, несомненно, владельцам поместья — Сессиям, упомянутым у Цицерона, — иллюстрируют взаимосвязь между производством и коммерциализацией. См.: Manacorda 1978 (В 309); Rathbone 1981 (G 207); Carandini 1985 (В 267).
710
Часть Π
ние; а относительный «кризис» винного рынка наступил только в I—П вв. н. э., с развитием виноградников Испании и Галлии.
[с) Третий вид сельскохозяйственной продукции — это скот. Римские агрономы, быть может, неосознанно продолжая доисторическое противостояние скотоводов и земледельцев, порой говорили о нем довольно сдержанно; тема «упадка» земледелия, вызванного ростом скотоводства, была для них весьма болезненной, поскольку пробуждала старые страхи перед голодом51. Впрочем это не помешало римским агрономам, от Катона до Плиния Старшего52, объявлять скотоводство самым прибыльным сельскохозяйственным занятием. Вопрос о его развитии приводит нас ко многим хорошо известным проблемам: размер поместий (проблема латифундий), статус земли (проблема общественной земли, ager publicus), тип используемого труда.
Прежде всего, несомненно, следует разграничить два вида скотоводства. Первый из них всегда наличествует в любом типе земельного хозяйства, ведется интенсивно, но играет вспомогательную роль. Крупный рогатый скот в Италии разводили как тягловую силу, ради кожи и мяса (но не ради молока или навоза), овец — ради шерсти, основного сырья для римских тканей. Следует отметить немалое значение коз (хотя оно и вызывает споры) и крупномасштабное разведение лошадей и мулов для обеспечения транспорта — частного и государственного, но особенно военного. Кроме того, стоит упомянуть53, что в большинстве римских колоний, устройство которых, несомненно, рассматривалось как своего рода эталон землепользования, весьма малый размер земельных участков, отводившихся для обработки, можно объяснить лишь с помощью предположения о существовании общих и государственных пастбищ, обычно на периферии, в болотистой или холмистой местности.
Однако в начале П в. до н. э. в различных областях Италии возникает второй тип скотоводства, весьма отличный от первого: это крупномасштабное отгонное животноводство, связавшее зимние пастбища на прибрежных равнинах с летними горными пастбищами в центральных Апеннинах54. В это время (если не раньше) появляются специальные скотопрогонные дороги (calles), которыми заведовали откупщики, взимавшие пастбищный сбор (scriptura). Речь идет о перегоне сотен тысяч голов скота в сопровождении армии пастухов, что постоянно вызывало конфликты с земледельцами, мимо чьих участков эти дороги пролегали55.
Нет сомнений в том, что многие из этих экстенсивных скотоводческих хозяйств возникли на государственной земле (ager publicus), оккупированной хозяевами скота в силу или с использованием их привилегированного положения, что вызывало сопротивление, даже если захватчики задей¬
51 Варрон. Сельское хозяйство. П. Предисл.; Колумелла. Предисл. 4—5.
52 Цицерон. 06 обязанностях. П.89; Плиний Старший. Естественная история. ХУШ.29.
53 Вслед за Тибилетти и Габбой, см.: Tibiletti. 1955 (G 242); Gabba 1978 (G 90).
54 Варрон. Сельское хозяйство. П.1.16
55 Варрон. Сельское хозяйство. П.10.1—11; Цицерон. В защиту Клуенция. 161.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
711
ствовали также арендованную государственную землю — например, в горах. Поэтому неудивительно, что «аграрный вопрос» оказался довольно тесно связан с этим экстенсивным скотоводством56. Однако не следует забывать, что перегон скота на большие расстояния засвидетельствован в Италии еще в доисторические времена57. Как бы то ни было, несмотря ни на какое сопротивление, крупномасштабное скотоводство процветало до конца Республики58.
Наряду с пастбищами эксплуатировались и леса. Например, именно благодаря своим лесам, где откармливались свиньи, Цизальпийская Галлия могла снабжать Италию продуктами из свинины вплоть до I в. н. э.59. Леса в древности (а в Италии, как и на севере Балкан, их было весьма много) служили источником не только дров для обогрева, не только древесины для судостроения и строительства в целом (следует отметить, что в Ш—I вв. до н. э. в Риме активно велось строительство), но и дополнительных ресурсов, необходимых для скотоводства, а также смолы и дегтя; остро требовались лесоматериалы и для развития виноградарства60.
(d) Наконец, рассмотрим более специализированную продукцию нового рискованного сельского хозяйства, появившегося лишь в I в. до н. э. и нацеленного на обслуживание городских рынков, прежде всего римского; это — «виллы» и даже просто небольшие хозяйства, целиком отданные под откорм птицы, в том числе элитных видов, разведение молочных коз (чем занималось усадебное хозяйство (pastio villatica), описанное у Варрона) или выращивание элитных растений — цветов, фруктов и овощей. Примечательно, что именно такие предприятия, согласно Варрону, приносили наибольшую прибыль.
5. Сельскохозяйственные структуры и их эволюция
Под «структурами» могут пониматься размеры и характер как объектов недвижимости, так и объектов управления. Нам предстоит рассмотреть взаимосвязь двух главных форм хозяйствования: с одной стороны, прямое управление землей с его различными подвидами, с другой — сдача земли в аренду на условиях ренты или издольщины. Далее следует заняться вопросами статуса рабочей силы — рабов (различного рода) или свободных наемных работников (занимающих, в свою очередь, разные статусы). Наконец, мы затронем очевидную для анализируемого периода взаимо¬
э6 См. элогий из Поллы: CIL Р: 638 = ILLRP 454.
57 Radmilli 1974 (G 205): 20; Gabba, Pasquinucci 1979 (G 95): 87 сл.
°8 Домиций Агенобарб набрал во флот своих пастухов, см.: Цезарь. Гражданская война. 1.57; а при Августе Гай Цецилий Исидор имел 7,2 тыс. голов крупного рогатого скота и 257 тыс. овец, см.: Плиний Старший. Естественная история. ХХХШ.134.
59 Полибий. П.15.2; Страбон. V.1.12.
60 Meiggs 1982 (G 157); Giardina 1981 (G 103).
712
Часть Π
связь между социальными и политическими вопросами: например, использование государственной земли (ager publicus), аграрное законодательство, разные типы колонизации, а также влияние гражданских войн и экономических проблем на сельское хозяйство.
Вышеописанные перемены в основных секторах производства сопровождались глубокими изменениями структур сельского хозяйства (впрочем, следует помнить о его немалом разнообразии); литературные источники сообщают об этом примерно одно и то же, и, хотя археология может немного модифицировать представленную в них картину, полностью отвергать ее было бы бессмысленно. Первым фактом, неоспоримым на глобальном уровне, стал рост числа, площади и стоимости «крупных поместий», наблюдающийся уже во П в. до н. э., но особенно — в I в. до н. э., после Союзнической войны и диктатуры Суллы. Хотя слово «латифундия» («latifundium») появится только в эпоху Империи, само это явление60"1 или нечто на него похожее уже засвидетельствовано множеством источников61. Но какой размер должно иметь поместье, чтобы его можно было назвать «обширным»: четыреста югеров, как в пассаже из трактатов землемеров62, или, как предусматривало аграрное законодательство П в. до н. э., пятьсот югеров плюс двести пятьдесят югеров на каждого ребенка плюс (согласно расчетам Тибилетти) 1800 югеров для выпаса скота — итого шестьсот двадцать пять гектаров, или тысяча пятьсот сорок пять акров? Это, несомненно, уже довольно крупные угодья: поместья, описанные Катоном, имели площадь сто и двести сорок югеров (хотя хозяин, конечно, мог иметь и другую земельную собственность, отданную под иные посевы), а отдельные участки, выделявшиеся при выведении римских или латинских колоний или при распределении земли, всегда были намного меньше, даже в Цизальпийской Галлии63. Но нам известно, прежде всего благодаря просопографическим исследованиям64, что большинство сенаторских и даже всаднических земельных угодий было гораздо обширнее. Около 80 г. до н. э. Квинт Росций из Америи владел в долине Тибра тринадцатью поместьями общей стоимостью 6 млн сестерциев, и такое его состояние описывается как скромное. Уже в конце П в. до н. э. Публий Красе Муциан владел, видимо, 100 тыс. югеров земли;65 процесс укрупнения земельных угодий продолжался в I в. до н. э., и состояния Марка Красса66, Лукулла, Помпея и многих других были еще крупнее. Наилучшие иллюстрации столь впечатляющей концентрации земельной собственности дают уже упомянутый Цецилий Исидор и Луций Домиций
ω& Лат. latifundium переводится как «обширное поместье», «крупное земельное владение». — О.Л.
61 White 1967 (G 257).
62 Сочинения землемеров. С. 157 Lachm.; Evans 1980 (G 63): 24, но смысл этого пассажа вызывает сомнения.
63 В 181 г. до н. э. в Аквилее всадники получали по сто сорок югеров, но это было исключением.
“ Shatzman 1975 (А 112); Nicolet 1974 (А 80): 285-313; Rawson 1976 (G 209).
6э Его состояние превышало 10 млн денариев, см.: Цицерон. О государстве. Ш.17.
66 Стоимость одной только земли составляла 200 млн сестерциев.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
713
Агенобарб, который в 49 г. до н. э. имел возможность пообещать нескольким тысячам своих солдат земельные участки площадью по четыре — десять гектаров и укомплектовать флот своими арендаторами, вольноотпущенниками и рабами-пастухами67. Если учесть при этом то обстоятельство, что римский высший класс (сенаторы и многие всадники) владел также обширными угодьями в провинциях68, то остается констатировать появление крупных хозяйств и усиление этой тенденции в I в. до н. э.
Возникает вопрос: чем была вызвана эта тенденция и как следовало бы ее охарактеризовать в экономических понятиях? Читая римских агрономов, трудно себе представить, что прибыль от сельского хозяйства, даже в передовых секторах в эпоху экспансии (например, качественного вина во П в. до н. э.), могла обеспечить существенное расширение поместий, ибо дохода в 6—7% годовых с вложенного капитала для этого недостаточно. Ответ дает политическая история: разрастание поместий началось как следствие империализма — захватнического либо мирного. Сперва, в IV—Ш вв. до н. э., государственная земля (ager publicus, обычно это была земля, конфискованная у побежденных врагов) накапливалась постепенно, затем произошел скачок, когда после Ганнибаловой войны Рим завладел обширными территориями на юге Италии. Именно здесь обычно и происходил самовольный захват государственной земли (occupatus ager), превышавший допустимую норму или даже просто незаконный, который различные аграрные законы пытались ограничить участками по 500 югеров (на практике эти участки были гораздо больше); и именно этой землей «спекулировали», по словам их противников, авторы земельных законопроектов, подобных закону Рулла, предложенному в 63 г. до н. э. Следующим фактором стало непосредственное воздействие завоеваний или гражданских войн на римский политический класс: в I в. до н. э. самые баснословные состояния приобрели победоносные полководцы, друзья власть предержащих (вроде Хрисогона, нажившегося на проскрипциях) и др. Римские земельные магнаты, по сути, стали порождением правящей власти. Наконец, в ряде случаев крупные или даже очень крупные угодья могли представлять собой инвестиционные вложения свободных средств, вырученных от коммерческих и финансовых операций, иногда не слишком приглядных, вроде работорговли. Известны один или два таких случая69, но многие, судя по всему, остались не засвидетельствованы70.
Однако концентрация собственности, даже когда в одних руках находились огромные территории, необязательно влекла за собой единство управления. Не вызывает сомнений, что очень крупные римские собственники (как и Плиний спустя некоторое время), даже из числа муниципалы
67 См. сноску 58 наст. гл.
68 Подобно друзьям Варрона, животноводам из Эпира, см.: Варрон. Сельское хозяйство. П. Предисл. 7; Цицерон. Письма к Аттику. 1.5.7. Ср., однако, выше, с. 364 (Уайзмен), 503 (Роусон).
9 Цицерон. В защиту Цецины. 11 (о Фульцинии); Цицерон. Об обязанностях. 1.151.
70 См., однако, недавние исследования Пренесты, напр.: Bodei Giglioni 1977 (G 17).
714
Часть Π
ной знати и всадников, то ли из осторожности, то ли в силу склонности предпочитали иметь не одно громадное хозяйство, а много отдельных поместий (fundi); известно несколько таких случаев, от Помпея до Аттика и самого Варрона. Поэтому весьма вероятно, что одно состояние могло включать в себя несколько более мелких хозяйств совершенно разного типа71.
Но главный вопрос состоит в том, что же всё-таки произошло в Италии с мелкими и средними хозяйствами? Обычно считается, что с начала П в. до н. э. они испытывали тяжелый упадок, по крайней мере во многих районах, и им на смену приходили либо большие рабовладельческие виллы, либо аграрно-скотоводческие латифундии. Ясно, что говорить о полном исчезновении мелких хозяйств не следует (хотя слишком часто и слишком поспешно говорят именно об этом), разве что в свете государственных мер, предпринятых для борьбы с данным явлением — колонизации и распределения земли; ясно также, что в пределах одной и той же географической территории крупное землевладение и крупная рабовладельческая вилла вполне могли соседствовать с традиционными мелкими хозяйствами. Однако не следует перегибать палку и, в частности, приписывать археологии выводы, которых она сделать не может. Если на такой- то территории в такую-то эпоху обнаруживаются следы рассредоточенных сельских жилищ (при условии, что они вообще поддаются датировке), то дает это очень мало точных сведений о подлинных масштабах сельскохозяйственной деятельности и вообще ничего не говорит о способе управления: эти жилища могли принадлежать арендаторам, издольщикам, даже проживавшим обособленно рабам. Точно так же и вполне логичные оценки численности свободных работников, необходимой для функционирования рабовладельческой виллы, описанной Катоном и Варроном, несомненно, корректны с демографической точки зрения, но не позволяют понять, из кого именно состояла эта вспомогательная рабочая сила: это могли быть мелкие землевладельцы, проживавшие по соседству и нанимавшиеся на работу; соседи, сдававшие внаём своих рабов; свободные люди, не владевшие землей и не арендовавшие ее, но нанимавшиеся на работу; группы работников (свободных или рабов), сдававшиеся внаём поставщиком сезонных рабочих; арендаторы или издольщики владельца виллы и т. д. Ввиду вышеизложенного необходимо соблюдать осторожность в выводах, но в настоящей главе мы в общем и целом принимаем72 свидетельства литературных источников о том, что начиная со П в. до н. э. мелкие хозяйства римских граждан (а также, несомненно, латинов и союзников) быстро приходили в упадок по целому ряду причин: многие землевладельцы погибли или разорились в ходе Ганнибаловой войны; ежегодный набор в армию для службы за морем сокращал численность свободного населения сельской местности; богатые соседи оказывали давление на бедных, поскольку могли себе позволить покупать их участки по высокой цене или,
71 То есть управляемых разными способами, о чем сейчас и пойдет речь.
72 Наряду с Габбой и вопреки мнению Фредериксена, Гарней, Рэтбоуна, Эванса.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
715
воспользовавшись отсутствием главы семьи, захватывать их незаконно; наконец, мелкие землевладельцы просто покидали свои участки и уезжали в Рим в поисках работы или пропитания. Не вызывает сомнений, что, какие бы дополнительные ресурсы ни приносило «крестьянское хозяйство» или право на общее пастбище на территории колоний, судьба мелких землевладельцев во Π—I вв. до н. э. неизменно, за редкими исключениями, была сопряжена с высокими рисками, и они (мелкие землевладельцы) устремлялись в города, в армию и за море столь массово, что государство неоднократно пыталось тем или иным способом остановить их; но распределение маленьких земельных участков между нуждавшимися зачастую позволяло лишь отодвинуть черный день73.
Следует принимать во внимание не только землевладельцев. Широкое распространение имели аренда земли за плату и издольщина74. К сожалению, у нас нет возможности составить географическую или хронологическую таблицу, но Катон, а еще чаще Варрон и Колумелла упоминали договоры аренды, рассматривали (с точки зрения землевладельца) сравнительные преимущества этих двух систем и приходили к выводу, что всё зависело от размера, местоположения и типа хозяйства. Возможно, существовал даже класс «благородных арендаторов»75, но в основном это были люди незначительные: арендаторы, повиновавшиеся призывам Помпея и Домиция Агенобарба, могли быть только их клиентами (в той или иной мере). Среди колонов встречались даже жившие обособленно рабы76.
И здесь мы переходим к самому известному новшеству в италийском сельском хозяйстве — к рабовладельческому поместью, будь то смешанное хозяйство с совместным разведением нескольких культур, или специализированная вилла с виноградниками и полупромышленной организацией производства, или огромная скотоводческая ферма. Было бы опрометчиво просто взглянуть на Косанское поле (ager Cosanus)77 и заявить, что такой тип виллы появляется лишь в I в. до н. э. Это обессмыслило бы всё сочинение Катона, как и прочих агрономов I и П вв. до н. э., вроде Сазерны. Виллы и крупные скотоводческие хозяйства с армиями пастухов, несомненно, начали развиваться во П в. до н. э.78, поэтому их появление следует связывать с масштабными облавами на людей, устроенными римлянами в том столетии, апогеем которых стал рынок рабов на Делосе, и с восстаниями рабов на Сицилии и в Италии со 136 по 73 г. до н. э. Поэтому вполне очевидно, что в определенное время, на определенных территориях и на определенном уровне действительно возник новый и специфиче¬
73 Агашан. Гражданские войны. 1.7, 30, 40; Плутарх. Тиберий Гракх. 8; Саллюстий. Югур- шинская война. 4L
71 Их общим названием было «locatio conductio»; слово «colonus», по крайней мере в I в. до н. э., означало оба типа арендаторов.
7о Наир., колон, упомянутый Цицероном в речи «В защиту Клуенция» (175).
7(> Дигесты. 15.3.16; 40.7.14 (Альфен Вар); 33.7.12.3 (Лабеон).
77 Там находилась приморская вилла (villa maritima) Сестиев, целиком отданная под виноградники.
78 Gabba 1977 (G 89); Gabba 1982 (G 92); Gabba 1979 (G 95).
716
Часть Π
ский «способ производства»79. Констатировав это, бессмысленно задаваться вопросом, явился ли рабовладельческий «способ производства» причиной или следствием завоеваний: здесь сыграло роль множество факторов — например, существование города Рима как крупного рынка сбыта. Однако там, где наблюдался новый «способ производства», он, в свою очередь, порождал новые факторы — и очень тревожные. Благодаря ему в население Италии влилось множество неиталийских элементов; нарушилась традиционная и очень важная взаимосвязь между собственностью на землю и жизнью, правами и обязанностями римского гражданина (civis Romanus); несмотря на весь патернализм Варрона и Колумеллы80, хозяина отделила от работников целая иерархия надсмотрщиков, которая обходилась очень дорого и порой провоцировала опустошительные восстания. Таким образом, рабовладельческий «способ производства» (в долгосрочной перспективе неустойчивый, несмотря на свои очевидные преимущества), несомненно, сыграл важную роль в описываемых здесь процессах; но повлиял он далеко не только на экономику (как может ошибочно показаться из подсчетов Колумеллы81), ибо каждый компонент сельского хозяйства всегда тесно связан с гражданским обществом, политикой и мифологией, и именно поэтому в Римском государстве вокруг него велись такие ожесточенные баталии.
6. «Аграрный вопрос»
Здесь нет возможности подробно описывать эти знаменитые схватки82. Остается лишь обратить внимание на некоторые факты, которые часто не замечают или толкуют превратно.
(a) Распределение земли, колониальное или индивидуальное, затрагивало лишь государственную землю (ager publicus), которая формально оставалась таковой (хотя в 133 г. до н. э. право народа (populus) на некоторые участки этой земли было негласно аннулировано). Распределение частой земли (причём права собственности на такую землю нередко тоже восходили к оккупации) производилось лишь во время гражданских войн 83—80 и 44—36 гг. до н. э. Принцип неприкосновенности частной собственности оставался неизменным, и аграрное законодательство его даже укрепляло.
(b) Колонизация, кульминация которой пришлась на начало П в. до н. э., представляла собой создание мелких и средних хозяйств в аграрных зонах, то есть этот процесс происходил в сельской местности83, хотя в долгосрочной перспективе и создал новую географию городов Италии.
79 Это вовсе не отменяет того факта, что рабство в целом было более широко распространенным явлением и продлилось гораздо дольше.
80 Колумелла. Сельское хозяйство. 1.8.20.
81 Там же. 1.7-8.
82 См. о них в нескольких главах Части I наст. изд.
Tibiletti 1955 (G 242); Tozzi 1974 (G 246).
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
717
(с) Недостаточно хорошо изучен порядок проведения колонизации. Когда речь идет о военных колониях, то есть о колониях ветеранов, мы примерно представляем себе их жителей, но при индивидуальном наделении землей (как до, так и после Гракхов) критерии отбора получателей известны гораздо хуже84, как и реальная процедура поселения людей на земельных участках, затраты на эти мероприятия и проч.
[<£) Даже в случаях, когда проводились «раздел и наделение» («divisio et assignatio»), руководившие магистраты имели абсолютное право «придержать» какие-то участки земли для себя и своих сторонников85. Это могло послужить одним из источников возникновения крупных земельных владений.
(е) Недостаточно хорошо изучены правовые нормы и практические процедуры, в соответствии с которыми цензоры заключали контракты на операции с государственными доходами, а граждане получали право оккупировать, то есть занимать и возделывать, государственную землю (ager publicus)86, которое, как сообщается, было ограничено догракханским законодательством и Семпрониевым законом. Где заключались такие контракты? Как? На каких условиях? Подробное исследование этих вопросов должно пролить дополнительный свет на концентрацию крупных земельных владений, занятых самовольно, и на характер конфликтов, вызванных гракханскими законами.
(/) Если бы не происходило накопления «крупных поместий» площадью более 120 гектаров (и намного более), то к 133 г. до н. э. не возникла бы социально-политическая проблема; но она не возникла бы и в том случае, если бы еще оставалась свободная государственная земля (ager publicus), доступная для распределения87. К 133 г. до н. э. резервы земли — во всяком случае, италийской — явно были исчерпаны.
(§) Тексты источников с упоминаниями о деятельности аграрной комиссии в 129 и 123—119 гг. до н. э., а также археологические данные о центу- риации и межевых камнях (cippi) подтверждают, что Семпрониев закон оставался в силе по меньшей мере до 111 г. до н. э. Иной вопрос — это количественная оценка его эффективности, то есть число людей, получивших землю, и площадь распределенной земли. Оценка Бранта и Николе88, согласно которой численность получателей принимается равной 75 тыс. человек, что дает площадь распределенной земли в 562,5 тыс. гектаров (более 1,25 млн акров), вполне достоверна; она эквивалентна площади квадрата со стороной 75 км.
84 Исключение составляет лишь свидетельство Светония (Божественный Юлий. 20.3) об аграрном законе 59 г. до н. э.
80 Сочинения землемеров. С. 153, 157 Lachm.
86 Следует ли под этим понимать своего рода долгосрочную аренду (emphyteusis) ? (См.: Buckland W.W. Text Book of Roman Laut? (London, 1963): 275: «<...> земля <...> предоставлялась на постоянной основе на длительный срок за натуральную ренту».)
87 Как то было в начале П в. до н. э., когда население колоний сокращалось.
88 Brunt 1971 (А 16): 75-80; Nicolet 1978 (А 83): 132-133.
718
Часть Π
(А) Далее встает вопрос, сам по себе не слишком изученный, о реальных размерах платы за сельскохозяйственную эксплуатацию государственной земли. (Она могла иметь форму налога, ренты или платежа за разрешение на пользование.) Плата в один асе за югер земли (такая земля получила название «третья доля» (ager trientabularius)), уступленная в 202 г. до н. э. держателям обязательств государственного займа, представляла собой лишь номинальную плату за пользование этой землей88"1. Но в других случаях государственная земля, предоставленная текущим или новым держателям, приносила доходы Римскому государству. Насколько они были велики? Уже довольно рано существовала какая-то плата за оккупацию — видимо, стандартная89. Соответственно, эта плата, взимавшаяся за разные категории земель, сокращала доход владельца или держателя этой земли. Быть может, эти взносы рассматривались как налоги (и поэтому они исчезают в 167 г. до н. э.) либо как вклад в продовольственное обеспечение (annona) Рима (и потому в 123 г. до н. э. они были возобновлены)?90 В любом случае, похоже, что эта сторона дела имела большое политическое значение, но непосредственно на экономику особого влияния не оказывала: применительно к Италии ни один источник не сообщает об экономических последствиях налогообложения тех или иных типов хозяйств.
(г) Наконец, задумаемся над тем, что, в конце концов, нам известно в целом о рынке земли в рассматриваемый период? Можно не сомневаться, что он зависел от некоторых чисто экономических параметров: от плодоносности земли, климата, близости транспортных путей и т. д. Но, как случается почти всегда, он зависел и от целого ряда других факторов, прежде всего от политических сдвигов. Во-первых, в обществе, основанном на цензе, где социальный статус определялся отчасти земельной собственностью, земля имела социальную ценность: можно отметить, что земля требовалась в качестве обеспечения для многих контрактов, как государственных, так и частных. Во-вторых, значительная часть земли являлась государственной (ager publicus) и, следовательно, имела двойственный статус — к добру или к худу; это обстоятельство неизбежно влияло и на оборот, и на стоимость земельной собственности. Наконец, огромное количество конфискованной собственности выбрасывалось на рынок по чисто политическим, а не экономическим причинам, во времена проскрипций или гражданских войн (83—80 гг. до н. э., 48—47 гг. до н. э.,
44—43 гг. до н. э.), что, как отмечается в источниках, так ли иначе сказывалось на ценах на землю. Некоторые из этих последствий были естесгвен-
ш В 202 г. до н. э. наступил срок третьей выплаты в погашение государственного займа, но казна не имела для этого средств. Тогда сенат решил раздать кредиторам вместо денег участки государственной земли за номинальную (т. е. очень низкую) плату в один асе за югер. Поскольку эти участки были предоставлены в счет третьей выплаты, они получили название «третья доля» (Ливий. XXXI. 13).
89 Десятая или пятая часть продукции? См.: Аппиан. Гражданские войны. 1.27, 75—76.
90 Этот вопрос требует нового рассмотрения. См.: Nicolet 1976 (G 174): 79—86.
Глава 16. Экономика и общество, Ί33—43 гг. до н. э.
719
ными, некоторые возникали вследствие всякого рода мошенничества, но обычно цены резко снижались.
С другой стороны, приток наличных денег в результате завоеваний, расширенных денежных эмиссий и прочего оказывал противоположное воздействие и способствовал повышению цен. В законы рынка вмешивались и другие, более неуловимые, факторы: угроза гражданской войны, как в 63 г. до н. э., или аграрный законопроект могли повысить или снизить стоимость какой-то конкретной земли. Подробная история этих флуктуаций на определенной территории в какой-то мере поддается изучению. Обнаружить какую-либо общую тенденцию довольно сложно, но, пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что в рассматриваемый период земельная собственность в римском обществе оставалась инвестицией, приносившей долгосрочную стабильность и социальный престиж.
III. Промышленность и производство
Мы уже обращали внимание на обилие и плодородие италийских пашен, виноградников, оливковых рощ и пастбищ. Многие продукты италийской земли (сюда стоит включить и камень) имели важное значение также для
Q1
промышленного производства: например, шерсть — для производства одежды, древесина — для строительства, судостроения, отопления и освещения91 92, камень — для строительства и скульптуры, глина — опять-таки для строительства и гончарного дела. Эти ресурсы в изобилии обнаруживаются по всей Италии, и в этом плане прежде всего следует напомнить, что в античности значительная (возможно, большая) часть промышленного производства была широко рассредоточена, обнаруживаясь почти повсюду, и основана на использовании сырья (в том числе минералов), доступного везде, пусть даже в небольших количествах. Историю производства на таком, чисто местном, уровне написать невозможно. Однако античность пережила ряд промышленных революций. Они происходили, во-первых, когда в каком-то региональном центре спрос на определенную продукцию превышал местное предложение и требовал ее всё возраставшего импорта из всё более отдаленных мест: в таких случаях в зависимости от типа почвы, удобства транспорта, доступности рабочей силы появлялись особые «производственные зоны», возникала география сырья со своими рынками и центры, где оно превращалось во вторичный продукт. Во-вторых, промышленные революции происходили в случаях, когда в определенной области какие-то редкие ресурсы отсутствовали (или практически отсутствовали). Прежде всего это рудники и металлы: с доисторических времен история контактов между географически удаленными друг
91 Конечно, понятие «промышленность» использовано здесь в смысле, применимом к античности.
92 А также, как уже отмечалось на с. 711 наст, изд., важное значение имели смола и Дёготь.
720
Часть Π
от друга частями Средиземноморья определялась в основном поиском металлов (золота, серебра, меди, олова и, в меньшей степени, железа), а расположение их месторождений зависело от геологических факторов, хотя рудники тоже имели свою историю: они обнаруживались, разрабатывались, истощались, а иногда снова открывались. Металлургия — от производства железных орудий, необходимых для любого труда (а также для войны), до обработки бронзы для повседневного и эксклюзивного потребления — развивалась очень активно, была широко распространена и при этом сконцентрирована в определенных районах, что следует постоянно иметь в виду. А когда возникло и распространилось монетное обращение с триметаллической системой (золото, серебро и бронза), обеспечение доступа к этим металлам стало первоочередной задачей любого правительства: вполне возможно, что производство металлов и металлургия предопределили весьма глубокие исторические перемены, особенно в рассматриваемый здесь период.
И с этой точки зрения Италия находилась в аномальном положении, не имея практически никаких месторождений золота и серебра93. В греческий архаический и классический периоды считалось, что в италийских областях Великой Греции и Этрурии имеются богатые запасы меди и железа, но в рассматриваемую в настоящей главе эпоху все эти рудники уже истощились и закрылись, за исключением железных рудников на Эльбе94, активная разработка которых продолжалась даже в конце I в. до н. э. Так же обстояло дело и с месторождениями в Цизальпийской Галлии и Альпах, разработка которых началась позднее, во П в. до н. э.; сперва они испытали наплыв частных предпринимателей95, а затем эксплуатировались откупщиками96, но вскоре были либо закрыты властями97, либо заброшены, поскольку продуктивностью уступали рудникам Галлии и Испании98. В любом случае, крупные центры добычи металлов находились в других местах: на Востоке и на Балканах99, но прежде всего, конечно, в Испании, месторождения которой эксплуатировали с начала П в. до н. э. до конца I в. н. э. сперва Карфаген, а затем Рим. В самом конце рассматриваемого периода на рынок вышли также Галлия и Британия.
Исчезновение добывающей промышленности не привело к прекращению производства изделий из металла, сырьем для которого служили импортируемые металлические слитки; такие предприятия встречались по всей Италии и хорошо засвидетельствованы вокруг Арреция в эпоху Второй Пунической войны100, а также в знаменитом пассаже, где Катон
93 За исключением Альпийской области.
94 Диодор. V.13; Страбон. V.2.6.
90 Страбон. IV.6.12, со ссылкой на Полибия.
96 Страбон. IV.6.7; Плиний Старший. Естественная история. ХХХШ.78.
97 Плиний Старший. Естественная история. Ш.138.
98 Страбон. V.1.12.
99 Лаврийские месторождения продолжали разрабатываться в 136—133 гг. до н. э., а железные и серебряные рудники Македонии сохраняли важную роль еще в 167 и 158 гг. до н. э.
100 Ливий. ΧΧΥΙΠ.45.16.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
721
перечисляет места производства (а иногда называет и имена производите“ лей) сельскохозяйственного инвентаря: Рим, Калы, Венафр, Помпеи, Капуя, Нола, Суэсса, Казин101. Важная роль металлургической промышленности подтверждается упоминанием об оружейных мастерских в Италии в 100 и 90 гг. до н. э.102.
Как и в рассказе о сельском хозяйстве, следует кратко отметить, что технологии производства имели крайне традиционный и узкоприкладной характер, производство было мелкосерийным и велось в основном с использованием человеческой и животной тяги, но при этом (как и в случае с сельским хозяйством) нельзя недооценивать эффективность, часто отмечаемую как античными, так и современными авторами, и даже удивительную успешность некоторых достижений: продвинутые технологии добычи металлов, особенно в Испании; мастерство медного литья и работы по золоту, использование машин, деревянных и металлических, таких как помпы для откачки воды из рудников и промывания руды103 и другие сложные гидравлические сооружения104, технологический прогресс в производстве амфор, прежде всего в соотношении их веса и емкости. Исследователи придают слишком большое значение «технически узким местам» в античности, например, в сфере транспорта; изучение литературных источников под углом технологий и материальной культуры позволяет скорректировать эти чересчур поспешные выводы. Однако интересующие нас перемены в характере и масштабах производства проявились прежде всего в области организации труда и диверсификации использования рабочей силы; пожалуй, нагляднее всего это дало о себе знать в строительных технологиях105.
Рассмотрим вкратце несколько основных секторов производства.
[a) О деревообрабатывающей, текстильной и кожевенной промышленности имеются лишь косвенные и мимолетные упоминания: «портик лесоторговцев» в порту Рима в 192 г. до н. э.;106 шерсть из долины реки По и Лигурии, в которую, по словам Страбона, «одевается вся Италия»;107 экипировка для римской армии, поступившая с Сицилии в 90 г. до н. э.;108 Рим как крупный центр текстильного производства около 150 г. до н. э. и около 53 г. до н. э.109.
(b) Гораздо больше сведений имеется о рудниках Италии и Испании: до нас дошли знаменитые описания Полибия, Диодора, Страбона и Плиния Старшего. Крупномасштабная металлодобыча велась в Испании; началась она в первые десятилетия П в. до н. э. на территории вокруг Нового
101 Катон. Земледелие. 135.
102 Цицерон. В защиту Рабирия, обвиненного в государственной измене. 20; Цицерон. Против Пизона. 87.
103 Healy 1978 (G 115): рис. 28.
104 Напр., римские водопроводы, о которых см.: Фронтин. Об акведуках.
105 ТогеШ 1980 (G 244); СоагеШ 1977 (G 42).
106 Ливий. XXXV.41.10.
107 Страбон. V. 1.12.
108 Цицерон. Против Берреса. П.2.5.
109 Катон. Земледелие. 135; Цицерон. В защиту Рабирия Постума. 40.
722
Часть Π
Карфагена (среброносный свинец)110. Полибий сообщает, что в данной области еще во времена господства карфагенян трудилось 40 тыс. рабочих;111 он же пишет, что эти рудники приносили римлянам (то есть между 200 и 150 гг. до н. э.) доход в 25 тыс. драхм ежедневно112. Археологические исследования рудников, а также слитков, найденных на месте изготовления или на затонувших судах113, показывают, что разработка рудников в центральной и юго-западной Испании началась только во П в. до н. э. и достигла расцвета примерно в конце I в. до н. э. Важно отметить, что эксплуатацию осуществляли иммигранты из Италии114 и Рима, вне зависимости от фискального и концессионного режимов, в которых она велась115. Таким образом, Италия являлась крупным импортером металла для чеканки монет и производства металлоизделий, но при этом прямо или косвенно владела рудниками по праву завоевания, так что они служили для нее источником богатства, а не статьей расходов.
(г:) Третий важнейший сектор промышленности — это строительство, в том числе государственное. Оно связано с ростом городов, особенно Рима, начавшимся с первых десятилетий П в. до н. э., и общей урбанизацией Италии в конце П в до н. э. и в течение I в. до н. э.116. Эти процессы неизбежно породили огромный спрос на жилье; дома в большинстве своем были непрочными, и постоянные обрушения и пожары открывали новые возможности для строительства, которое нередко вели такие дельцы, как Марк Красе, использовавший для этого множество рабочих, как рабов, так и свободных117. Расширение городов и увеличение массовой потребности в жилье сопровождалось ростом спроса на роскошные резиденции: под влиянием эллинистической моды аристократия возводила себе особняки (aedes) и сельские виллы118. В источниках хорошо засвидетельствована «строительная мания» сенаторов и всадников, даже нуворишей вроде солдат и центурионов Суллы, которые, получив сельские наделы, желали жить в городе и «строить»119. Очевидно, что вся эта деятельность обусловила быстрое развитие транспорта для доставки стройматериалов в Рим, а также появление специализированных предприятий и крупных строительных отрядов, состоявших из рабов и свободных. К частному строительству следует добавить и государственное: оно процветало на протяжении Π—I вв. до н. э. Первый строительный «взрыв» случился, пожалуй,
110 Золотые рудники Лузитании и северо-западной Испании оказались доступны римлянам только в правление Августа.
111 У Страбона: Ш.2.10. Впрочем, вероятно, не все они были рудокопами.
112 Драхму можно приравнять к денарию.
113 Из двухсот пятидесяти обнаруженных слитков двести датируются эпохой Республики.
114 Диодор. V.36.3.
1Ь См. далее, с. 732.
116 Витрувий. П.8.17; Цицерон. 06аграрном законе. П.96; Фронтин. 06 акведуках. 1.7.
117 Плутарх. Красе. 2.5.
118 СоагеШ 1976 (G 41).
119 Цицерон. Против Каталины. П.20; примеры таких сенаторов см. в работе: Shatz- man 1975 (А 112).
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
723
в 194—174 гг. до н. э., когда в Риме были оснащены порт и большие склады, следующий — в 144—136 гг. до н. э., когда был построен Марциев акведук; постепенно застраивалось Марсово поле: вначале — в 110—106 гг. до н. э., затем — в 60-е гг. до н. э., когда политические вожди (Скавр, Помпей, Юлий Цезарь и другие) подарили городу огромные сооружения. Немногочисленные сведения о расходах, которые приводятся в источниках120 (так, строительство Марциева акведука обошлось в 45 млн денариев) и подтверждаются подсчетами размеров денежных эмиссий121, доказывают, что речь шла об огромных суммах, которые далее перетекали в обширные сектора экономической жизни. Мы скорее догадываемся, нежели твердо знаем, как функционировал этот мир предпринимательства: в нем вращались компании, заключавшие с государством контракты на выполнение работ (примерно так же, как откупщики); архитекторы; посредники, предоставлявшие (или бравшие) взаймы капитал и образовывавшие для этого товарищества; поставщики рабочей силы, свободной или рабской; и наконец, можно не сомневаться, масса мелких торговцев (institores), свободных и рабов, зарабатывавших на жизнь во всей этой круговерти. Интересно было бы исследовать происхождение фондов, вкладывавшихся в эти строительные работы; часто это были государственные средства римской казны, когда она ломилась от завоеванной добычи; порой издержки ложились на владельцев недвижимости, получавших выгоду от строительства, например, при мощении римских улиц (по меньшей мере с 75 г. до н. э.) и некоторых государственных дорог; но часто деньги поступали и из частных накоплений магистратов, желавших снискать популярность добрыми делами, или полководцев, тративших свою добычу (manubiae), или просто частных лиц, которым крупно повезло, как, например, торговцу маслом, посвятившему храм Геркулеса Победителя на Бычьем форуме122.
(d) Производству керамики (в широком смысле: не только чаши и блюда, но и черепица, кирпич, амфоры) исследователи только сейчас начинают уделять столько внимания, сколько оно заслуживает. В Италии среди множества производственных центров главенствующее место постепенно занимает Рим. Ошеломляющая гора черепков под названием Монте Тесгаччо123, а также тысячи тонн черепков, извлеченных из Соны124, подтверждают огромные объемы производства амфор для вина и масла для перевозки на дальние расстояния125. Сегодня мы знаем, что италийские вина отправлялись в Испанию, Галлию и даже на Восток (например, на Делос) в италийских же амфорах, изготовленных сперва на Адриатическом побережье и в Апулии, затем — в Кампании и на побережье Этрурии.
120 Ливий. XL.46.16, 51.2-7; XUV.16.9-11.
121 Хотя на размер эмиссий больше всего влияли военные расходы.
122 О строительной программе как своего рода «манне» для народа см.: Плутарх. Гай Гракх. 6—7.
123 Она, правда, датируется эпохой Принципата.
124 Tchemia 1969 (G 237).
125 А также бочек (dolia) для хранения зерна.
724
Часть Π
Не важно, кто именно мастерил их — владельцы виноградников, или соседние гончары, или городские ремесленники; в любом случае амфоры должны были приносить немалую прибыль. Еще более выгодным было изготовление элитной керамики («кампанской», римской, наконец, в эпоху Августа, аррецинской), которая в больших количествах производилась для экспортных рынков, где, пожалуй, приходилась по вкусу скорее италийским эмигрантам (как гражданским, так и военным), чем местным уроженцам. И в этой сфере новейшие исследования позволяют теперь выявить организацию торговли и рабочей силы126.
IV. Торговля и деньги
Таким образом, в эпоху римских завоеваний во Π—I вв. до н. э. в италийском сельском хозяйстве и промышленности наблюдаются значительные перемены и рост. Эти процессы можно понять только во взаимосвязи с обусловившими их методами и каналами обмена. Рим, несомненно, стал центром производства и обмена гораздо раньше, чем обычно считается, — с конца IV в. до н. э.; но с середины П в. до н. э. «торговля» и «финансы» (каковы бы ни были их специфические особенности и характеристики) наряду с завоеваниями стали настоящим фирменным знаком, по которому чужаки узнавали римлян и италийцев. В Рим приезжали торговцы и предприниматели, чтобы вести там свои общественные и частные дела; римские банкиры, деловые люди, откупщики отправлялись в Испанию, Нарбонскую Галлию, Иллирию, на Делос или в Азию (а вскоре даже в Египет): всё это свидетельствует о возрастании масштабов и радиуса торговли, как и, несомненно, ее объемов. Эти количественные изменения, связанные с мировыми завоеваниями, сопровождались также глубокими качественными переменами. Впервые процессы обмена начали объединять людей по всему тогдашнему миру и даже за его пределами на основе общей валюты, общей налоговой системы и общего правопорядка: конечно, в рассматриваемый период этот процесс только начинался, и потребовались столетия, чтобы после многих превратностей он набрал ход; тем любопытнее обнаружить некоторые из жизненно важных для него факторов в момент их зарождения.
1. Техническая база
Развитие коммерции всегда предполагает наличие адекватной технической базы — материальной (транспорт, дороги, грузовые повозки, порты, суда и т. д.) и нематериальной (деньги, счетоводство, коммерческое право и т. д.). Во всех этих сферах Италия и Рим в значительной мере следовали греческой и эллинистической практике, ибо к середине П в. до н. э. именно греки Восточного Средиземноморья довели эти техники до высочайшего
126 Pucci 1973 (G 198); Delplace 1978 (G 55).
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
725
уровня эффективности. Поэтому следует сразу оговорить, что римские суда, гавани, монетная чеканка, финансовые и правовые структуры не имели фундаментальных отличий от греческих и являлись не более, чем их вариациями. Когда в дальнейшем изложении будут подчеркиваться различия, то подразумеваться будут различия в деталях, но именно они и имеют важное значение. Поэтому некоторые общие моменты достаточно изложить лишь вкратце.
В эпоху Империи римская дорожная система считалась истинным символом римского мира (pax Romana)127. Во П в. до н. э. в своей основе она уже существовала: в Италии это были дороги на юг, в Брундизий и на север, к долине реки По, а в провинциях — Домициева дорога (via Domitia) в Галлии и Эгнациева дорога (via Egnatia) из Диррахия до Гебра. Вполне вероятно, что дороги способствовали выходу отдельных областей из изоляции и завязыванию более тесных контактов, но в первую очередь они по-прежнему служили стратегическим и государственным целям128. Для наземных перевозок вьючные животные использовались чаще, чем повозки, поскольку несовершенная упряжь служила одним из главных препятствий для развития античной экономики: наземные перевозки по- прежнему были медленными и дорогими, поэтому использовались в основном для военных операций, а торговля практически целиком велась с помощью морского транспорта, что в любом случае хорошо соответствовало средиземноморской географии. В этом отношении в рассматриваемый период особого прогресса не наблюдалось. В отличие от эллинистических монархов римляне никогда не страдали мегаломанией в судостроении. Однако сегодня мы узнаём, что в реальности торговые суда были больше, прочнее и маневреннее, чем считалось ранее, и это подтверждается расширением сети маршрутов: они вели вдоль Тирренского побережья, побережья Галлии и Испании, из Брундизия в Диррахий, на Делос и в Азию, на Родос и в Египет; теперь римское судоходство уже не сводилось к простому каботажу. (Правило о прекращении мореплавания зимой, разумеется, по-прежнему соблюдалось, а большие караваны судов — «александрийский флот»129 — появились лишь позднее.) Множество свидетельств дают затонувшие корабли, обнаруженные подводными археологами:130 во Π—I вв. до н. э. число судов основательно возросло131. Чтобы перевезти 50—100 тыс. гектолитров италийского вина, ежегодно экспортировавшегося в Галлию в 150—50 гг. до н. э., требовалось сто — двести рейсов в год132. Так же и зерно, как поставлявшееся в качестве налогов, так и продававшееся на свободном рынке, импортировалось в Рим и Путеолы во всё возраставших объемах начиная по меньшей мере со 123 г. до н. э.:
127 Плиний Старший. Естественная история. XXVTL3.
128 Цицерон. О консульских провинциях. 31.
129 Светоний. Август. 98.2.
130 Имеются в виду те, кто ведет работы преимущественно в Западном Средиземноморье.
131 Parker 1984 (G 187).
132 Tchemia 1969 (G 237): 70.
726
Часть Π
сперва с Сицилии, Сардинии и из Испании133, затем — из Африки, Азии и, наконец, из Египта; для этих перевозок тоже требовались немалые торговые флоты; государственное регулирование таких перевозок впервые началось в 57 г. до н. э., когда Помпею было поручено попечение о продовольствии (cura annonae), затем финансирование этих перевозок стало возрастать, а организация — совершенствоваться.
Далее мы еще вернемся к собственно экономической организации этого морского транспорта, а пока следует лишь отметить, что государственная политика, и особенно политика Рима, обеспечивала данным средствам доставки две важные и необходимые технические опоры: новые гавани и свободу мореплавания.
Если говорить о гаванях, то бросается в глаза развитие порта Рима, расположенного у подножия Капитолия, Палатина и Авентина, начиная с первых десятилетий П в. до н. э., но особенно в 193—174 гг. до н. э.; в конце концов порт стал простираться более чем на два километра в длину по обоим берегам реки. Товарные склады имели огромные размеры, так, например, длина Эмилиева портика (Porticus Aemilia) составляла 487 м, а ширина — 60 м; вместительными были и первые римские продовольственные склады (horrea), к примеру, Гальбанские, или Сулышциевы, склады, Семпрониевы склады (Horrea Galbana, или Sulpicia, Horrea Sempronia) и др. Римский порт, конечно, был связан с остийским; во Π—I вв. до н. э. этот последний еще оставался речным портом, в который могли войти корабли вместимостью до 3 тыс. амфор;134 не исключено, что они могли даже подниматься до самого Рима. Но, вероятно, уже в конце П в. до н. э. Остии начали угрожать речные наносы, из-за которых пересечение отмели стало представлять опасность135. В остальной части Италии в рассматриваемый период произошли две глубокие перемены: упадок Тарента и Неаполя, подъем Брундизия и, особенно, Путеол. В Брундизии заканчивалась Ап- пиева дорога и производилась морская переправа в Диррахий и на Эгна- циеву дорогу, «изобретенная» Римом;136 в Путеолах в 194 г. до н. э. была учреждена колония, а в 199 г. до н. э. — таможня. Полибий, Луцилий и Диодор137 называют Путеолы «главным портом Италии», «маленьким Делосом», а контакты этой гавани с Тиром и Александрией засвидетельствованы уже во П в. до н. э., как и связи с Испанией и Сицилией138. Путеолы выиграли от упадка Делоса после 88 г. до н. э., особенно за счет работорговли и торговли зерном; последняя, судя по всему, была главным занятием путеоланцев в эпоху Цицерона139.
133 Цицерон. О предоставлении империя Гнею Помпею. 30.
134 Дионисий Галикарнасский. Ш.44.
135 Страбон. V.3.231—232.
136 Зонара. УШ.7.3.
137 Полибий. Ш.91.4; Луцилий. Ш.123; Диодор. V.13.2.
138 Об Испании см.: Страбон. Ш.2.6, 144С; о Сицилии см.: Цицерон. Против Берреса. П.5.154.
139 Об Авианиях см.: Цицерон. Учение академиков. П.80.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
727
Решить проблему «свободы мореплавания» оказалось сложнее. Дело в том, что пиратство, весьма распространенное в те годы, по крайней мере в некоторых областях — в Иллирии, на Крите и в Киликии, — не только создавало препятствия для нормальной торговли, ввиду чего с ним боролись заинтересованные державы, прежде всего Родос140. Так уж вышло, что порой пираты являлись главными поставщиками весьма востребованного товара — рабов, поэтому в определенных пределах пиратов иногда терпели и, несомненно, — в периоды военных конфликтов или роста спроса на рабов. Только около 100 г. до н. э. и затем, более решительно, в 74-66 гг. до н. э. Рим решил всерьез заняться критскими, а затем и киликийскими пиратами; последних уничтожил Помпей в ходе масштабной и успешной кампании; но на это Рим пошел лишь после того, как пиратская угроза стала совершенно невыносимой и достигла берегов самого Ладия. И даже спустя годы Октавиан имел возможность представить войну с Секстом Помпеем в 41—36 гг. до н. э. как «пиратскую войну». Полная свобода мореплавания была достигнута только при Августе, и рабы стали поступать из других источников — из Галлии и придунайских областей.
2. Деньги
Но по меньшей мере с VI в. до н. э. самой важной опорой торговли служили, конечно, деньги141. Римская денежная система сложилась довольно поздно; она, несомненно, была преобразована в 212/211 г. до н. э., когда был учрежден серебряный денарий, эквивалентный десяти бронзовым ассам, и в основе своей оставалась биметаллической (за исключением редкой чеканки золотых монет в 212/211 г. до н. э. и при Сулле) вплоть до Юлия Цезаря. Детали ее истории — постепенное снижение веса асса, колебания веса и чистоты денариев, эпизодическая чеканка серебряных сестерциев (всегда во время войны) — весьма разнообразны, сложны и не могут быть здесь изложены142. Укажем лишь несколько чисто экономических характеристик, признавая, впрочем, что гипотезы здесь уместнее уверенных утверждений.
Римляне, как и большинство италийских народов, начали с бронзовой чеканки: именно в бронзовых денежных единицах выражались цензовые требования к имущественным классам и, вероятно, уплачивались самые первые налоги. Серебряные монеты римляне стали использовать, а затем
140 Этот остров «дал морю свои законы», называвшиеся родосскими вплоть до правления Антонинов, см.: Дигесты. 14.2.9 (Волузий Медиан).
141 Античный мир, по меньшей мере с Аристотеля, прекрасно осознавал, сколь огромную роль сыграло для перехода от обмена к купле-продаже изобретение денег как меры стоимости. Хотя деньги были металлическими и, следовательно, имели собственную рыночную ценность, государственная чеканка превратила их в гарантированное конвенционное средство выражения обменной ценности других вещей. См.: Аристотель. Политика. 1257а.34; Дигесты. 18.1.1 (Павел), а также Nicolet 1984 (G 177): 105 сл.
142 См.: Crawford 1974 (В 144).
728
Часть Π
и самостоятельно чеканить, литтть во времена войны против Пирра, чтобы оплачивать военные расходы на юге Италии (то есть в греческом мире). Только около 212/211 г. до н. э. было установлено соотношение серебряной монеты — денария, более или менее эквивалентного драхме, — с бронзовой монетной системой; после чего вес и чистота денария оставались на удивление стабильными (за исключением временных кризисов, например, в 91—85 гг. до н. э.), а вес бронзовых монет постоянно снижался, так что в конце концов они превратились в мелкие разменные монеты для повседневного использования: асе, служивший единицей измерения и еще в 218 г. до н. э. весивший один фунт, около 91 г. до н. э. стал весить всего пол-унции. Крупные сделки, официальные выплаты и составление баланса производились в серебре, обычно — в денариях, но иногда и в виктори- атах (на закате Республики — половина денария) и сестерциях (четверть денария), которые обращались, как правило, на определенных территориях, вроде Цизальпийской Галлии, или в особых обстоятельствах, например, во время войны. Но следует всё же отметить, что, для того чтобы уплатить наличными стоимость аристократического особняка, скажем, 4 млн сестерциев (нормальная цена для I в. до н. э.), потребовалось бы четыре тонны серебра. Поэтому важную роль играли золотые слитки как резервы казны и частных лиц, позволявшие совершать действительно крупные платежи143.
Для рассматриваемого периода характерно два крупномасштабных явления. Во-первых, это распространение римского денария по всему средиземноморскому миру, прежде всего в Греции и Азии, но даже и за границами Римской империи, например, в Дакии144. Сперва оно происходило медленно, но в начале I в. до н. э. ускорилось. Сестерций, римская счетная единица, тоже стал использоваться повсюду. Конечно, повсеместно сохранилась независимая местная чеканка, даже в Италии, где некоторые города обладали этой привилегией; но многие такие выпуски были ориентированы на римские метрологические стандарты. Вполне очевидную связь с фискальной и денежной системой Рима имели и другие выпуски, отчеканенные римскими наместниками (например, кистофоры в Азии и македонские монеты). Также весьма вероятно, что когда римляне завладевали обширными территориями, то сперва использовали в собственных целях деньги, чеканившиеся на местах, — монетные выпуски испанских городов, Массилии, Афин, Родоса и т. д.145. Но некоторые территории еще оставались за рамками римской денежной системы: прежде всего Сирия и Египет, но также и некоторые провинции империи — Сицилия, Греция и Азия; обмен валюты сохранял прежнюю важность для торговли на дальние расстояния. Но унификация денежных систем Средиземноморья уже
143 Цицерон. В защиту Клуещия. 179; Цицерон. В защиту Рабирия Постума. 47; Цицерон. Филиппики. Ш.10; Цицерон. Письма к Аттику. ХП.6.1.
144 Была ли эта тенденция обусловлена ростом работорговли в Дакии около 67—50 гг. до н. э.?
145 Это гипотеза Кроуфорда.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
729
началась, и по меньшей мере часть монет, находившихся в обращении, та часть, что требовалась для государственных расходов и уплаты налогов, всё больше и больше стандартизировалась.
Второе важное явление рассматриваемого периода, очевидное и неоспоримое, — это рост общего числа римских монет в обращении. Следует признать, что существующие методы его оценки неточны: исследуется лишь число штемпелей на выпуск, но какому числу монет соответствует один штемпель? Предпринимаются также попытки определить количество монет в обращении, исходя из оценок совокупных годовых расходов государства. Тем не менее, общая тенденция не вызывает сомнений: в отдельные годы объем римской чеканки превышал объем всей афинской чеканки «второго стиля», выпущенной в обращение между 170 и 70 гг. до н. э.14€, и хотя в 167—157 гг. до н. э. римская чеканка была приостановлена (несомненно, вследствие притока добычи в казну), со 140—130 по 90 г. до н. э. ее годовой объем увеличился более чем в пять раз146 147 и оставался очень высоким в последующие тридцать лет. Это непрерывное вливание новых монет не могло не повлечь за собой экономических последствий, но многое еще остается неясным. Чеканка монет, очевидно, была связана с потребностями государственной казны (aerarium) и явно предназначалась для покрытия государственных расходов, прежде всего военных (хотя и не только: после 123 г. до н. э., а затем после 58 г. до н. э. следует принимать во внимание снабжение Рима зерном, сперва субсидируемым, а затем и вовсе бесплатным; не следует забывать и о государственных строительных работах). Но всегда ли государство расплачивалось новыми монетами? И что именно поступало в казну? Ответы на эти вопросы вовсе не очевидны, идет ли речь о поступлениях от регулярного налогообложения (в каких монетах уплачивались налоги?), о военной добыче или о доходах от рудников в Македонии или Испании (отправляли ли они в Рим металлы в слитках или выплачивали денежный эквивалент?) Мы знаем, что дела с казной могли вести частные лица, но лишь в связи с уплатой налогов или государственными работами, поскольку государство никогда не брало и не давало в долг. Могли ли частные лица вести дела с монетным двором? Частная чеканка монет определенно не велась, но можно ли было отдать деньги на сохранение на монетный двор?148 Можно ли было разместить там слитки? Это очень сомнительно, хотя, несомненно, можно было обменять бронзу на серебро по официальному курсу. Во всяком случае, одно можно сказать с уверенностью: даже если денежные эмиссии, решение о которых принимало правительство совместно с эрарием, предназначались в основном для покрытия государственных расходов, эти деньги очень быстро переходили в широкое обращение и, перетекая в экономику, оживляли ее.
146 Crawford 1985 (В 145).
147 Hopkins 1980 (G 124): 109.
148 Цицерон. Письма к Аттику. УШ.7.3; XV. 15.1 — смысл этих пассажей не вполне ясен.
730
Часть Π
В историографии высказывались вполне справедливые сомнения в том, что римское правительство когда-либо имело точное представление о «монетарных потребностях экономики», и в том, что чеканка когда-либо имела какие-то иные цели, кроме покрытия государственных расходов. Тем не менее, принятые (либо не принятые) государством решения о весе и чистоте монет или об официальном курсе серебра и бронзы могли оказывать огромное влияние на коммерцию и на экономическую и социальную жизнь империи в целом. Все эти проблемы иногда накладывались друг на друга в моменты денежных кризисов, порой совпадавших с кризисами политическими, как это было в 92—86 гг. до н. э.: к этому периоду относятся создание полуунциального асса, Ливиев закон 91 г. до н. э. о сплаве драгоценных металлов149 и эдикт Мария Гратидиана, который, вероятно, установил твердое соотношение серебра и бронзы вместо прежнего плавающего;150 данные меры представляли угрозу, по крайней мере в Риме, для надежности крупных финансовых сделок. Очевидно также, что долговая проблема, о которой подробнее будет еще сказано, имела специфически монетарные аспекты: тот факт, что должниками могли быть крупные землевладельцы, свидетельствует о дефиците ликвидных фондов в обращении. Впрочем, поскольку общий объем чеканки возрастал, но, насколько нам известно, особой инфляции в конце П в. до н. э. и в I в. до н. э. не наблюдалось, отсюда, видимо, следует, что в данный период производство и обмен шли более или менее в ногу друг с другом, хотя история ценообразования известна не настолько хорошо, чтобы утверждать это с полной уверенностью.
Во всяком случае, манипуляции с деньгами в анализируемый период стали важным социально-экономическим явлением, которое, без всякого сомнения, было связано и с развитием финансовых интересов в целом. Именно в конце П в. до н. э. появляются монетные тессеры (tesserae nummulariae) — печати с датами и именами, которые удостоверяли проверку специалистами (рабами) содержимого мешочков с монетами1503, принадлежавших частным лицам или компаниям. Имеются свидетельства о том, что такие лица или группы лиц владели или распоряжались крупными денежными суммами, а имена на тессерах можно связать с именами италийских предпринимателей на Делосе и на Востоке, служащих монетного двора и крупных землевладельцев151. В то же самое время появляются свидетельства о различных профессионалах, имевших дело с наличностью:152 менялы (nummularii) в Пренесте и, конечно, в Риме; собственно
149 Если только его содержание действительно было таково, см.: Плиний Старший. Естественная история. ХХХШ.132.
150 Crawford 1968 (С 45); гл. б, с. 206 (Сигер).
150а После такой проверки запечатанные мешочки могли использоваться как платежное средство, т. е. ими можно было расплатиться, не вскрывая их и не пересчитывая монеты, просто по весу. — О.Л.
ш Herzog 1919 (G 119); Herzog 1937 (G 120); Andreau 1987 (G 6).
ь2 Скрупулезную дифференциацию таких специалистов по профессиональным группам см.: Andreau 1987 (G 6).
Глава 16. Экономика и общество, 133—43 гг. до н. э.
731
банкиры (argentarii), принимавшие вклады и дававшие деньги в долг; аукционисты (продажи с торгов получили широкое распространение), достаточно богатые, чтобы предоставлять краткосрочные займы мелким предпринимателям. Но самой характерной чертой всего общества был крупный денежный оборот между представителями высших классов — сенаторами и всадниками в Риме и куриалами в муниципиях. Практически все брали или давали в долг, закладывали, покупали и продавали недвижимость; и размеры задействованных сумм возрастали по мере роста частных состояний. Нет необходимости подробно анализировать цели этих сделок: поскольку речь идет о высших классах, большинство из них, несомненно, предназначалось для поддержания необходимого уровня жизни, обремененного бесчисленными социальными обязательствами и требовавшего показной роскоши — необходимо было покупать рабов и особняки, иметь политические фонды, оказывать благодеяния. Но, как мы еще увидим, иногда эти финансовые сделки преследовали и чисто экономические цели.
Существовало ли в рассматриваемый период такое явление, как «римское банковское дело», и если да, то какую роль оно играло? Прежде всего, его ограничивало несовершенство инструментальной базы и «смирительная рубашка» правовых норм. Переводы кредитов на другое лицо существовали: можно было заплатить третьей стороне через своего банкира или через личного друга, у которого ты разместил деньги или который предоставил тебе кредит. Можно было избежать перевозки наличных денег через Средиземное море, составив письменное платежное поручение (permutatio), но векселем оно не являлось153. Перевод долгов, числящихся по учетным книгам (novatio и delegatio), был делом сложным и дорогим, поскольку требовал времени154. Поэтому не существовало никакого рынка денежных средств (хотя, конечно, если одновременно разорялось несколько крупных ростовщиков, как это случилось в 85 и 66 гг. до н. э. и чуть не произошло в 63 г. до н. э., то опасность могла распространиться и угрожать «всему форуму»)155. В источниках, тем не менее, упоминаются «банкиры» на Делосе, в Сиракузах, Регии, Волатеррах, Путео- лах, Риме. Но их экономическая роль неясна. Клиентами заимодавцев из числа правящего класса, вроде Консидия или Аттика156, несомненно, были не только знатные сенаторы, но и торговцы и ремесленники. Но в каком соотношении? Для Рима была характерна индивидуальная, а не корпоративная финансовая деятельность, что обусловливалось действовавшими правовыми нормами. Насколько нам известно, крупных банковских товариществ (societates) не существовало, как и государственного банка157. Но их отсутствие компенсировалось наличием финансистов из высшего клас¬
153 И не существовало ни расчетных дней, ни банковских комиссий.
154 Цицерон. Письма к Аттику. ХП.З, 12; ХШ.46.4.
Ьэ Цицерон. О предоставлении империя Гнею Помпею. 17—20.
156 Его порядочность вызывала большое уважение, каковым не мог похвастаться его Дядя Квинт Цецилий.
157 Такой банк имелся в некоторых греческих государствах.
732
Часть Π
са: хотя и закон, и общество не одобряли извлечение прибыли (quaestus), а тем более предоставление займов под проценты, хотя римская элита инвестировала деньги в основном в землю и занималась прежде всего военной и государственной деятельностью, представляется158, что римский правящий класс являлся вместе с тем одновременно финансовым классом банкиров, ростовщиков и работорговцев, который отличала от корыстолюбивых аристократов Карфагена или Венеции лишь дымовая завеса лицемерия.
3. Экономические структуры торговли и промышленности
Римлянам, как и грекам, было знакомо товарищество (societas) — объединение людей с целью получения прибыли159. Гражданское право постепенно устанавливало нормы, регулировавшие функционирование товарищества, но они оставались негибкими и сдерживающими. Срок существования товарищества был ограниченным, поскольку в случае смерти одного из партнеров оно автоматически распускалось (если только всё товарищество формально не воссоздавалось); а принцип ограниченной ответственности еще не изобрели, так что по обязательствам товарищества каждый партнер отвечал в полной мере — всем своим имуществом. Закон устанавливал также определенные права партнеров. Например, во времена Сер- вия Сулышция Руфа примечательным новшеством стала возможность получения неравной доли прибыли и убытка тем партнером, который не вкладывал в товарищество деньги, а вел деятельность в его интересах160. Многие известные нам товарищества, даже созданные для разработки испанских рудников, состояли всего из двух или трех партнеров, нередко связанных узами родства или клиентелы (вольноотпущенник и его бывший хозяин, два вольноотпущенника одного хозяина и т. д.), что, естественно, ограничивало их финансовые возможности. Однако существовало два важных исключения из этого правила.
[а) Во-первых, товарищества, создававшиеся для ведения морской торговли. Одни из них владели судами (либо арендовали их) и эксплуатировали их; другие, представляющие для нас больший интерес с формальной точки зрения, занимались бодмереей160"1 (traiecticia pecunia, faenus nauticum), то есть заключали своеобразные договоры, нечто среднее между пассивным партнерством и страхованием. Несколько человек могло страховать один и тот же груз либо разделять свою долю между несколькими судами. Известно, что Катон заключал договора бодмереи уже около
ь8 Хотя полной уверенности в этом нет.
ь9 Товарищество могло иметь практически любую законную цель, например, управление начальной школой, см.: Дигесты. 17.2.71 предисл.
160 Дигесты. 17.2.50; Гай. Ш.149; Кодекс Юстиниана. 5.25.
1б0а Договор ссуды под залог судна с грузом. — О.Л.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
733
160 г. до н. э.161. Судами могли владеть сенаторы и всадники162. Обычно они доверяли управление ими командиру корабля (exercitor), хотя ничто не мешало им осуществлять это самостоятельно. Но в республиканскую эпоху деятельность товариществ, создаваемых с целью покупки и снаряжения судов и приобретения грузов, регулировалась теми же правилами, которые накладывали ограничения (требование персональной ответственности и краткий срок существования партнерства) на обычные коммерческие товарищества.
[Ь) Вторым важным исключением являлись товарищества откупщиков (societates publicanorum), самые крупные финансовые организации в римском мире, а возможно, и в целом в античности. Конечно, их деятельность и их статус определялись прежде всего их взаимосвязью с государственными финансами и системой налогообложения, но их наполовину частный (по определению) характер имел некоторые специфичные экономические последствия. Во-первых, такие товарищества оперировали действительно огромными суммами: капитал, который требовалось собрать заранее (либо чтобы обеспечить гарантию (ибо откупщики брали на себя обязательство выплатить правительству вперед ту сумму налога, которую они намеревались собрать), либо, в случае государственных строительных работ или военных поставок, чтобы получить разрешение на выполнение контракта), намного превышал любое частное состояние. Этим и объясняется создание товариществ уже с довольно ранних времен: в 215 г. до н. э. снабжением войска в Испании занималось девятнадцать человек, объединенных в пять товариществ163. Первоначально товарищества откупщиков имели, вероятно, обычную правовую форму, но примерно в конце П в. до н. э. по инициативе правительства характер и масштабы некоторых из них (а именно товариществ, занимавшихся сбором вектигалей и разработкой рудников) изменились. Изменение характера состояло в том, что такие товарищества стали «анонимными» и назывались просто в соответствии с направлением своей деятельности («таможенные сборы на Сицилии», «рудники Гиспалиса», «десятина в Азии» и так далее), получив, таким образом, коллективное бытие, независимое от бытия отдельных партнеров; а также в том, что они стали «постоянными», то есть существовали на протяжении всего срока государственного контракта и в случае смерти одного из партнеров не распускались. Вероятно, в таких товариществах проще было владеть отчуждаемыми долями (partes), чем в обычных164. Изменение масштабов состояло в том, что отныне товарищества откупщиков имели сложную и замысловатую структуру и напоминали государство в миниатюре (ad speciem rei publicae) с общей кассой, представителем для
161 Плутарх. Катон Старший. 21.
162 Напр., Сеспш из Косы; Домиций Агенобарб (возможно), Рабирий Постум. О Клавдиевом законе (Lex Claudia) см.: D’Arms 1981 (G 50): 31—39.
163 Ливий. ХХШ.49.1.
164 Вопрос о том, могли ли такие доли быть предметом сделки, является дискуссионным.
734
Часть Π
взаимодействия с государством (manceps, actor), руководителями (magistri) и управляющими в провинциях (promagistri), общим собранием165, рабами, наемными служащими, вооруженными отрядами, зданиями в Риме166 и в провинциях, кораблями, курьерами и т. д. Правда, между одним цензорским люстром и другим такие товарищества могли закрываться, вновь открываться, сливаться167, но, как правило, они просто продолжали свою работу168. И всё же, как бы ни были богаты всадники, которые обычно и являлись пайщиками и руководителями этих компаний, но, когда требовалось гарантировать государству на пятилетний срок расчетный доход от налогов с целой провинции, такой как Азия или Вифиния, для этого требовалась аккумуляция громадных ресурсов, так что товариществам приходилось заимствовать (легально или нелегально) средства многих других людей: землевладельцев, купцов, даже сенаторов (через подставных лиц). Но обращаться к заемным средствам было бы бесполезно, не приноси деятельность откупщиков значительной прибыли, пусть и ограниченной государством. Кроме того, откупщики, как компании, так и частные лица, занимались и побочной финансовой и коммерческой деятельностью: принимали банковские депозиты от частных клиентов (в том числе и от наместников провинций), торговали рабами и предметами роскоши169, предоставляли в долг местным общинам под ростовщические проценты те деньги, которые эти общины должны были уплатить в качестве налогов (весьма распространенная деятельность), брали на откуп местные налоги и т. д. (Отказ Аттика от подобной деятельности представлял собой исключение.) Если только последующие исследования не обнаружат иной картины, можно считать, что вышеописанная финансовая деятельность, полу- государственная и связанная с плодами завоеваний, ввиду своей высокой прибыльности и огромных масштабов операций, более или менее соответствовавших всему бюджету Римской республики, обычно поглощала значительную часть ресурсов римского правящего класса. На ней можно было зарабатывать гораздо больше, чем на обычной торговле или промышленном производстве (хотя состоятельные римляне ими конечно же не пренебрегали). Но не следует забывать о воздействии правовых и общественных предубеждений: откупщиками не имели права быть ни сенаторы (как и, вероятно, всадники, не проживавшие в Риме), ни вольноотпущенники170, поэтому вполне естественно, что первые посвящали себя землевладению, а вторые — торговле и производству. Тем не менее, показательно, что единственные «крупные коммерческие предприятия» в античном мире принадлежали именно сборщикам государственных налогов.
165 Цицерон. Против Берреса. П.2.173.
166 Витрувий. VL5.2.
167 Цицерон. Письма к близким. ХШ.9.
168 Цицерон. О предоставлении империя Гнею Помпею. 18.
169 Подобно Рабирию Постуму в Египте в 54 г. до н. э.
170 Цицерон. В защиту Планция. 23; Тацит. Анналы. IV.6.3.
Глава 16. Экономика и общество, 133—43 гг. до н. э.
73 5
4. Подведение итогов
Попытаемся резюмировать те изменения в сфере торговли и перемещения ресурсов (ибо о балансе платежей говорить нельзя), которые повлекло за собой завоевание Средиземноморья Римом.
Первый неоспоримый факт — это возникновение совершенно новой карты производства, потребления и обмена вследствие быстрой интеграции территорий, ранее политически обособленных (например, Африки и Галлии, сперва Нарбонской, а затем и остальной), и установления органических связей между Италией и Эгеидой, Азией и, наконец, Египтом. Данный процесс совпал с новым и жизненно важным открытием: около 116 г. до н. э. Эвдокс из Кизика, греческий капитан на службе у Птолемеев, открыл путь в Индию и, возможно, муссоны171. На севере тоже появились новые маршруты: благодаря завоеванию Галлии на рынок стало пощупать британское олово, а италийское вино и керамика отправились из Аквилеи на север — в альпийские области, богатые железом (Норик).
В самом средиземноморском бассейне тоже возникли новые маршруты и новые связи. В Путеолы и Рим на западном побережье Италии и в Брундизий на ее восточном побережье прибывали товары и люди из Греции, Азии, с Востока, из Египта. Большинство прежних портов назначения изменилось: Карфаген и Коринф были безжалостно уничтожены в 146 г. до н. э. как по политическим, так и по экономическим мотивам, что прямо заявляет Цицерон;172 вопреки утверждениям Полибия173 *, Родос не подвергся в 167 г. ни разрушению, ни систематическому разорению, но ему пришлось вступить в ожесточенную конкуренцию с Делосом. Последний же со 167 г. до н. э. снова попал под власть Афин, однако был объявлен свободным портом и между, скажем, 130 и 88 гг. до н. э., достиг неслыхан-
174.
ного процветания, засвидетельствованного как литературными , так и археологическими и эпиграфическими источниками. Делос служил транзитным складом и водоворотом, где селились и объединялись в могущественные гильдии люди со всех концов света: прежде всего италийцы и римляне175, но также, например, сирийцы, финикийцы, александрийцы. В первую очередь Делос служил центром работорговли, масштабы которой ошеломляли даже современников. Впрочем, это не единственный эгейский порт, где засвидетельствована концентрация такого бизнеса: то же самое известно о Хиосе, Эфесе, Тасосе. Но до своего разрушения в 88 г. до н. э. (за которым последовала лишь призрачная реставрация около 58—50 гг. до н. э.) Делос был царем всех этих портов, во всяком случае, в
171 Страбон. П.3.4, 99С.
172 Цицерон. Об аграрном законе. П.87.
173 Полибий. ХХХ.31.
17* Страбон. XIV.5.2.
170 Не только италийские греки.
736
Часть Π
сфере работорговли176, и подлинная аристократия этого порта, включавшая в себя банкиров и купцов со всего мира, имела плодотворные связи, деловые и политические, с городами Италии. Развитие указанных новых торговых путей определялось перемещением людей, которое предшествовало перемещению товаров или сопровождало его. Римские и италийские купцы, банкиры, предприниматели расселились по всему Средиземноморью, разумеется, к выгоде для Римской державы. Едва ли это переселение имело когда-либо столь крупные масштабы, чтобы где-то, кроме Цизальпийской и Нарбонской Галлии и Испании, образовалось целое новое население, но римская диаспора обладала немалым могуществом, тем более что это была диаспора правящего народа: на Западе она существовала в Новом Карфагене, Нарбоне, Цирте, Утике, на Востоке — в Дирра- хии, Патрах, Фессалонике, Митиленах, Эфесе, даже в Александрии177. Многие «италийцы» Делоса прибыли из Рима или старого Лация, но кампанцы из Путеол и Нуцерии, вроде Анниев или знаменитого Публия Ситтия, тоже были влиятельными фигурами в деловом мире. Подобно англичанам в XVIII—XIX вв., римские предприниматели следовали за армией или даже предшествовали ей.
Мы уже описали основные статьи торговли: Италия-завоевательница импортировала отовсюду, из всё более и более отдаленных мест всё более и более дорогие товары, прежде всего предметы роскоши: греческие вина, специи, александрийскую стеклянную посуду, восточные ткани, произведения искусства (в денежном выражении последние составляли крупную статью импорта). Но во Π—I вв. до н. э. Италия импортировала прежде всего два специфических товара: во-первых, рабов, плененных на войне или купленных у работорговцев (venaliciarii) и ввозившихся отовсюду — из Малой Азии, Вифинии, Каппадокии, Сирии, с Балкан и, наконец, из Галлии; во-вторых — зерно (особенно после 123 г. до н. э.) в качестве хлебного налога, которое по понятным причинам не оплачивалось государством, а также зерно, продававшееся на свободном рынке; одной из наиболее важных задач правительства было обеспечение регулярного снабжения Рима зерном. Объемы импорта зерна возрастали по мере того, как италийское сельское хозяйство переключалось на виноградарство и скотоводство, и достигали огромных размеров: например, только для бесплатных хлебных раздач (frumentatio) в 58—45 гг. до н. э. требовалось около 1,5 млн гектолитров зерна в год178. Центром импорта зерна, по-видимому, был сам Рим179 и Путеолы, ведь именно к путеольским купцам, в числе прочих, обратился Помпей в 57 г. до н. э., когда ему было поручено попечение о продовольствии (annona). Как мы уже говорили, Италия экспортировала
176 «Агора италийцев», вероятно, была одним из тех рынков рабов (stataria), которые римляне нередко возводили в Азии и в других местах в качестве благодеяний.
177 ILS 7273.
178 60 модиев ( = 4,8 гектолитров) х 320 тыс. получателей.
179 О Фурии ФлаКке, члене коллегии капитолийцев и меркуриалов, см.: Цицерон. Письма к брату Квинту. П.5.2.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
737
и товары: вино в больших количествах вывозилось в Испанию и Галлию, а также (как мы недавно узнали) на Делос и на Восток, керамика и масло — на Делос и в Грецию.
Но каковы были общие условия обмена? Не имея никакой таможенной статистики, из которой мы могли бы исходить180, невозможно составить подробный баланс; но самое главное нам известно достаточно хорошо: баланс обмена был «фавным, поскольку во многом он обусловливался военными и политическими завоеваниями, а между правящим народом (а к концу рассматриваемого периода им стали все италийцы) и его подданными по определению всегда существует неравенство, поддерживаемое намеренно. Неравенство имело место в фискальной и денежной сферах: именно провинции, взятые в целом, без учета, разумеется, множества исключений и особых случаев, несли почти всё бремя налогообложения. Налогообложение возникло и, в теории, существовало по-прежнему как натуральный налог на сельскохозяйственное богатство, но оно, пусть и медленно, трансформировалось в денежные обязательства: на Сицилии при Верресе эти перемены еще не завершились, как и в других «хлебных» провинциях, даже в 58—57 гг. до н. э. Само собой разумеется, изъятие такого количества зерна из общего объема продукции влияло на «свободный рынок». То же самое относится и к поставкам металлов для монетной чеканки: римский монетный двор кормился не за счет торгового баланса, не за счет платежей, а за счет налогов, установленных римлянами. Конечно, в эпоху мира и порядка именно такая система могла обеспечить некое экономическое равновесие, ибо провинциям, чтобы уплачивать налоги, требовалось добывать наличность путем ведения экономической деятельности181. Но в период, рассматриваемый в настоящей главе, этот механизм не работал: в эту эпоху еще продолжались активные завоевания, усугублявшиеся внешними и гражданскими войнами и бесконтрольными вымогательствами римских магнатов. Между 90 и 31 гг. до н. э. Греция и Азия испытывали огромное налоговое и финансовое давление, которое не могло не исковеркать нормальные механизмы производства и обмена. Источники свидетельствуют, что в первой половине I в. до н. э. задолженность Греции и, особенно, Азии по платежам, в одностороннем порядке навязанным Римом, стала тяжелейшей экономической катастрофой: в 70 г. до н. э. эта задолженность составляла 120 тыс. талантов, то есть 720 млн денариев, под сложные проценты182. Поэтому (что тоже хорошо засвидетельствовано) провинциалы вынуждены были брать в долг под ростовщические проценты у собственных кредиторов, то есть у римских откупщиков и банкиров, пока не разорялись окончательно или пока
180 Италийские портовые сборы (portoria) просуществовали до 60 г. до н. э. и вновь были введены в 45 г. до н. э., по крайней мере, на некоторые «иноземные товары», см.: Светоний. Божественный Юлий. 43.1.
181 Вероятно, именно так эта система будет функционировать в эпоху Империи, см.: Hopkins 1980 (G 124).
182 Плутарх. Лукулл. 20.
738
Часть Π
сам Рим не объявлял об отсрочке платежей (что порой случалось). Именно эти операции, а не экономические сделки в обычном смысле слова — земельные, коммерческие или промышленные, — привлекали римских капиталистов, которые, в сущности, являлись скорее чем-то вроде рантье, получавших ренту от властной структуры, нежели настоящими предпринимателями. Конечно же не следует недооценивать подлинное экономическое производство и обмен и роль в этих процессах римского политического и предпринимательского классов; но в рассматриваемый период в общем и целом преобладала экономика разграбления. Достаточно взглянуть на две цифры, случайные, но красноречивые: 1,5 млн гектолитров зерна, розданные бесплатно в 57 г. до н. э., при рыночной цене в три сестерция за модий должны были стоить 57,6 млн сестерциев или почти 15 млн денариев, однако это составляло менее двух процентов от суммы налоговых недоимок в Азии в 70 г. до н. э.
Провинциалы (peregrini) не обманывались: разграбление мира римлянами со 146 г. до н. э. и до окончания гражданских войн было неоспоримым экономическим фактом; его засвидетельствовали не только Посидоний или Агатархид Книдский, но и Саллюстий183, а иллюстрацией к нему служила «страсть к золоту» печально известного Красса. Учитывая жестокую и довольно «внеэкономическую» манеру обогащения римлян, в анализируемый период трудно обнаружить какую-либо экономическую политику Римского государства. Правительство больше не заключало никаких торговых соглашений (как с Карфагеном в былые дни) и лишь предпринимало запоздалые усилия по борьбе с пиратством и обеспечению свободы мореплавания, не проводило никакой таможенной политики, разве что с целью повышения доходов, и постоянно добивалось преимуществ или уступок в интересах Рима.
Если иноземная продукция (к примеру, греческое вино или благовония) облагалась налогами или запрещалась, то это делалось только в рамках традиционных законов против роскоши; подобные меры имели, разумеется, и некоторые (незапланированные) вторичные экономические последствия, но по своему характеру эти законы являлись не экономическими, но гражданскими, морализаторскими и политическими мероприятиями (время от времени их действие возобновляли, в последний раз — при Юлии Цезаре, но их эффективность в любом случае была почти нулевой). Таким образом, римского экономического протекционизма не существовало. Единственный текст, на который историки слишком часто в связи с этим ссылаются, — Цицерон «О государстве». Здесь, в пассаже Ш.16, говорится о запрете на разведение виноградников у «трансалышй- цев». Это упоминание, несомненно, не относится ни к Галлии, ни к рассматриваемому в настоящей главе периоду; аналогичный, будто бы, запрет, установленный Домицианом два века спустя184, лишь доказывает, что римляне всегда боялись перебоев в снабжении зерном. Только на этом
183 Саллюстий. История. IV.69M (письмо Митридата); Диодор. Ш.47.8.
184 Светоний. Домициан. 7.2.
Глава 16. Экономика и общество, 733—43 гг. до н. э.
739
элементарном уровне можно обнаружить «экономическую политику» такого государства, как Рим: оно стремилось обеспечить средства к существованию, облегчить доступ к необходимым продуктам («необходимое» определялось в зависимости от класса) и поддерживать тот уровень общей безопасности — при минимальном вмешательстве, — который подобало иметь правящему народу185.
V. Экономика и общество
Если так выглядела экономическая база, то какое воздействие она оказывала на социальные структуры и отношения? Для полного раскрытия этого вопроса потребовалась бы отдельная глава, здесь же мы можем лишь вкратце осветить некоторые аспекты, характерные для римского мира в целом и для рассматриваемого периода в частности.
Во-первых, это проблема, которую традиционно именуют долговой (хотя на самом деле она включает в себя сложный комплекс явлений). Римская анналистическая традиция относит ее к очень ранней эпохе и всегда связывает с насильственными политическими и социальными конфликтами. В те ранние дни данная проблема имела, вероятно, структурный характер, поскольку долговое рабство и самопродажа в рабство за долги были тесно связаны с особенностями земледельческого труда. Но ко П в. до н. э. она уже обрела более «современный» и специфически экономический характер, то есть заимствование денег во всех формах. Попытаемся провести некоторые разграничения. Как мы уже видели, существовала [а) сельская задолженность мелких землевладельцев или арендаторов, сыгравшая важную роль в истории «сельскохозяйственного кризиса» и вызвавшая двоякие последствия: либо новые формы зависимости колонов от землевладельцев, либо уход земледельцев с участков и включение последних в обширные поместья. Существовала также [Ь] городская задолженность. Ростовщичество (faenus) слишком часто упоминается в политических речах и частных документах со времен по меньшей мере Катона Старшего и до Юлия Цезаря, чтобы можно было усомниться в том, что оно было встроено в структуру общества. Да и в историографии уже давно отмечается, что с долговой проблемой сталкивался (во всяком случае, время от времени, например, в 66—63 гг. до н. э. и в 47 г. до н. э.) сам правящий класс, богатые люди, землевладельцы и кредиторы, которые, в свою очередь, были обременены долгами, взятыми, как правило, не ради экономических целей, но для поддержания статусного уровня жизни, строительства, политической деятельности и т. д. Объяснялось ли это нехваткой наличных денег в экономике? Или слишком низкой доходностью сельской и городской недвижимости? Или ростом цен на товары, пользовавшиеся спросом в этих кругах, вроде произведений искусства и 18 *18э Более широкий взгляд на вещи, который, возможно, предвещал Цицерон, появил¬
ся только при Августе, см.: Nicolet 1988 (G 179): гл. 2, 3.
740
Часть Π
экзотических предметов роскоши? В данной области необходимы глубокие исследования. Во всяком случае, можно уверенно утверждать, что ростовщичество приносило прибыль не только некой специализированной группе: крупные ростовщики (faeneratores) принадлежали к тому же самому высшему классу (хотя их индивидуальное поведение могло разниться в зависимости от личного морального выбора, как различалось, скажем, поведение Аттика и Марка Красса). Однако, если бы подобное движение денег затрагивало только малочисленные высшие слои, оно не имело бы тех катастрофических последствий, которые наблюдались в ряде случаев: в 92—88 гг. до н. э. долговая проблема породила законодательство о денежном обращении, мятежи в судах и новые долговые правила; в 66—63 гг. до н. э. долговой кризис шел рука об руку с политическими травмами, связанными с войной против Каталины (bellum Catilinae); в 48-47 гг. он, можно сказать, привел к гражданской войне. Поэтому долговая проблема, несомненно, затрагивала не только аристократию, но и другие социальные группы и категории: например, на низшем уровне — уровне очень скромных городских плебеев, которые попадали в долги, когда не могли внести арендную плату за свое жилье и мастерские; поэтому в 47 г. до н. э. Юлию Цезарю пришлось сперва установить мораторий на выплату долгов, а затем создать систему контроля. Но заемный капитал требовался прежде всего мелким предпринимателям, ремесленникам, лавочникам. Мы уже видели, какую роль (более распространенную, чем обычно считается) в текущих мелких торговых операциях играл краткосрочный кредит, получаемый у аукционистов: когда происходили политические потрясения, сопровождавшиеся войнами, затруднениями для мореплавания и т. д., задолженность класса мелких предпринимателей, который, судя по археологическим и эпиграфическим данным, был многочисленным и разнородным, могла иметь очень болезненные последствия. Отсюда парадоксальное на первый взгляд сотрудничество этих скромных и очень уязвимых горожан-должников с некоторыми крупными должниками, использовавшими их для достижения собственных честолюбивых целей. Так экономические кризисы сливались с политическими, примером чего может служить деятельность Мария Гратидиана, Каталины, Целия Руфа (в 48 г. до н. э.) и Луция Антония (трибуна в 44 г. до н. э.)186. Но кем были заимодавцы, занимавшиеся такого рода кредитованием (или ростовщичеством)? Мы видим, что в 89 г. до н. э. эта люди убили претора187, в 48 г. до н. э. боролись против Целия188, в 44 г. до н. э. оказали почести Луцию Антонию189; это были «денежные люди», обосновавшиеся на Форуме, «у среднего Януса» («in Iano medio»), и объединенные в своего рода гильдии. Они не являлись ни крупными капиталистами, ни банкирами (argentarii) в точном смысле слова, ни агентами великих магнатов, которые тем вре¬
186 Вплоть до 33 г. до н. э. это был эндемичный для Рима структурный феномен; позднее громадная власть и богатство принцепса позволили найти другие решения.
187 Ливий. Периохи. 74; Аппиан. Гражданские войны. 1.54.
188 Цезарь. Гражданская война. Ш.21.
189 Nicolet 1985 (С 232).
Глава 16. Экономика и общество, 133—43 гг. до н. э.
741
менем брали и давали друг другу в долг целые состояния. Интересующие нас люди имели, видимо, иной социальный статус, чем римляне в провинциях, которые предоставляли кредиты (опять же совсем в иных масштабах) провинциальным городам и общинам. Являлись ли эти люди своего рода классом? Именно им, и только им, Цицерон приписывает в трактате «Об обязанностях» владение мастерством «приобретать и вкладывать деньги»190. Впрочем, не вызывает сомнений, что Катон, Красе, Аттик, Публий Ситтий, Помпей и Брут владели данным мастерством ничуть не хуже!
Вопрос о том, являлось ли римское общество сословным или классовым, то есть играли ли в нем основополагающую роль социальные или экономические структуры, представляет собой ложную дихотомию: римское общество, как и практически любое другое, функционировало в нескольких измерениях. Официальная социальная иерархия определялась правовыми статусами и, в принципе, была основана на способности конкретного человека играть те или иные общественные роли; следовательно, римское общество, по определению, было сословным, и его элита являлась функциональной аристократией (патрициат, нобилитет, сенат, всадники). Но одновременно существовала и иерархия собственности, поскольку сословия базировались и на имущественных критериях. В прошлом, по меньшей мере до 218 г. до н. э., действовали некоторые ограничения, вследствие которых функциональная аристократия не допускалась к «стяжательской» деятельности, за исключением лишь сельского хозяйства. Но этот запрет, скорее этический, чем правовой, был не абсолютным: например, он не препятствовал торговле сельскохозяйственной продукцией или сдаче в аренду земли либо жилья. Кроме того, он нередко переставал соблюдаться, и его приходилось возобновлять, как правило, довольно безрезультатно. Поэтому можно обнаружить (и недавно исследователи обнаружили), особенно в I в. до н. э., множество сенаторов, занимавшихся торговлей (нередко они продавали собственную продукцию, но не всегда), извлекавших прибыль из строительства или гончарного дела, владевших складами (horrea), что приносило им огромные барыши. Даже «первенствующие мужи» («principes viri») — Крассы, Помпеи и Домиции — не гнушались подобным заработком, подобно герцогу Орлеанскому, которого Людовик XVI называл «лавочником Пале-Ροяля»; владельцев обширных виноградников в Италии, огромного поголовья скота в Апулии или Эпире, судов в Александрии, рудников в Испании вполне можно считать коммерсантами. Но при этом они являлись сенаторами, магистратами, полководцами; к этим позициям их подталкивала вовсе не предпринимательская деятельность, а, напротив, желание занять свое место в единственной социальной иерархии, существовавшей в то время. Конечно, часто для продвижения собственных коммерческих интересов (пользуясь, например, «свободным посольством» (libera legatio), что в общем случае не разрешалось) они использовали «связи», то есть легитимные возможности своего
190 Цицерон. Об обязанностях. П.87.
742
Часть Π
статуса (например, сенаторского), но от этих коммерческих интересов их статус не зависел. В рассматриваемый здесь период данный статус не сводился к одному лишь титулу, но предполагал выполнение вполне реальных военных, политических и социальных функций, так что экономическая деятельность обычно не разрушала старое сословное общество, а встраивалась в него, а сословное общество191, в свою очередь, адаптировалось к новым экономическим реалиям. На протяжении всей римской истории оно так никогда и не было разрушено.
191 Которое Август даже возродил.
Глава 17
Н. Пёрселл
ГОРОД РИМ И ГОРОДСКОЙ ПЛЕБС (PLEBS URBANA)
В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Ибо город — это люди, а не безлюдные дома, портики и площади.
Дион Кассий. LVL5.3. Перев. подред. А.В. Махлаюка
По слухам, Калигула однажды в раздражении заявил, что желал бы, чтобы у римского народа была одна-единственная шея. А историческая проблема, которой займемся мы, заключается в том, что римский народ имел единую коллективную идентичность и очень сильно ее ощущал. Во все века городское население страдало от того, что его воспринимали коллективно — как демос, большинство, толпу, простонародье, массы; за этими словами явственно ощущается презрение, и дегуманизация при помощи коллективных обозначений во все эпохи использовалась в политических целях. Для ситуации в Древнем Риме указанная трудность особенно значительна. Во-первых, население города было весьма велико (хотя по ряду причин, которые мы рассмотрим ниже, его численная оценка представляет серьезную проблему, и не только из-за нехватки источников). Во-вторых, римская элита имела множество резонов, чтобы разработать целый лексикон презрительных эпитетов в отношении масс, а ведь именно от нее исходят почти все имеющиеся у нас сведения. В-третьих, в некоторых отношениях римский плебс (plebs Romana) и в самом деле представлял собой корпоративную общность и был объединен в коллектив, так что, даже если сделать поправку на пренебрежение античных аристократов, мы в своем анализе, прежде чем описывать и объяснять Дифференциацию римского населения, всё равно должны будем проникнуть за институциональный фасад.
744
Часть Π
В настоящей главе нас будет интересовать прежде всего постоянное население города Рима, но существовало еще и два особых сообщества, которые необходимо выделить. Первое из них, городской плебс (plebs urbana), являлось подмножеством городского населения; оно включало римских граждан, постоянно проживавших в городе и не входивших в сенаторскую или всадническую цензовые категории, и не включало рабов и иноземцев (peregrini). Второе сообщество, римский народ (populus Romanus), представляло собой совокупность всех римских граждан любого статуса, проживавших где угодно.
В Раннем Риме понятия «римский народ» и «городской плебс» обозначали почти одно и то же, но, по мере того как Рим разворачивал активную деятельность в очень отдаленных регионах, а в его политический класс включались новые граждане, проживавшие за его пределами, содержание этих понятий начало всё сильнее расходиться. Римский народ (populus Romanus) с самого начала занимал важное положение в Римском государстве, как в теории, так и на практике, благодаря чему римское государственное устройство могло считаться замечательным примером смешанной конституции1. Но в нормальных условиях совокупность рядовых римлян могла выполнять политические функции только в Риме, а ввиду логистических проблем регулярно приезжать в Рим для голосования было неудобно, а то и невозможно, поэтому конституционная роль народа (populus) в значительной мере перешла к городскому плебсу (plebs urbana), ввиду чего он обрел довольно выраженное самосознание и чувство сплоченности. Таким образом, параллельно с расширением римского народа, которое здесь нет возможности рассматривать подробно, происходило превращение городского плебса как такового в значимую конституционную, социальную и политическую общность. В настоящей главе нас интересуют поздние стадии этого процесса, со П в. до н. э. и до установления единовластия Августа.
Конституционные истоки положения римского народа, а следовательно, и плебса, нашли отражение в некоторых важнейших особенностях его организации. Во-первых, это «зарегистрированносгь», которая плодотворно подчеркивается в последних научных дискуссиях по этому вопросу, то есть система записи, регистрации и оценки точного места каждого гражданина в общей имущественной и статусной иерархии. Базовой единицей городского плебса был зарегистрированный гражданин, и сами римляне порой считали точность регистрации, производимой в ходе ценза, одним из важных своих отличий от других государств. Во-вторых, гражданин выступал как член различных народных собраний: прежде всего — законодательного собрания триб (которые ранее являлись территориальными подразделениями) и избирательного собрания, основанного на центуриат-
1 О месте плебса в римской конституции см.: Millar 1984 (А 75); Millar 1986 (С 113); спорные наблюдения см.: Finley 1983 (А 32): 56—58, 89. О смешанной конституции см.: von Fritz 1954 (А 36). См. также: Hoffinan-Siber 1957 (G 122); Prugni 1987 (G 197); Raaflaub К A. (ed.). Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Struggle of the Orders (Berkeley, 1986): 1-51.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
745
ной, по сути военной, организации. Хотя по демократическим меркам положение отдельного гражданина в собраниях обоих типов в силу различных причин было не слишком влиятельным, устройство этих собраний вызывало жаркие политические споры. Еще в Ш в. до н. э. в результате крупной реформы центуриатного собрания влияние плебса в нем усилилось; но принадлежность к трибам, когда речь заходила о включении в них новых граждан, по-прежнему вызывала споры2.
Наряду с этими политическими собраниями важную роль играли народные сходки (contiones), на которых магистраты обращались к гражданам, а также военные сборы и собрания граждан с целью проведения религиозных церемоний. Гражданин, проживавший постоянно в Риме, неизбежно приобретал разнообразный опыт участия в общественной жизни, и постепенно в Городе наблюдается переход от народных собраний, являвшихся частью государственной машины, к менее формализованным проявлениям народной воли. Лишь сравнительно недавно исследователи начали уделять должное внимание неформальной политике римской «толпы» — наглядному отражению двойственности городской жизни: с одной стороны, данная политическая активность была отличительной характеристикой городского плебса в строгом смысле слова (то есть римских граждан, проживавших в столице); с другой стороны, в ней принимала участие и совсем другая социальная общность — городское население в целом, включавшее (ко временам Поздней республики) огромное множество рабов и иноземцев3.
Барьер между гражданином и негражданином, между городским плебсом и остальным населением города отчасти размывался и затуманивался ввиду неоднозначности статуса новых граждан, как вольноотпущенников, так и иноземцев, получивших гражданские права; учет особенностей поведения этой двойственной социальной категории чрезвычайно важен для правильного понимания городской жизни в Поздней республике. Цицерон подчеркивает это обстоятельство, когда разграничивает городское население, запятнанное раболепием и бедностью, и римский народ (populus Romanus), занимающий почтенное место в политической идеологии: «Или ты думаешь, что римский народ составляют те люди, которых нанимают за плату? <...> Этот сброд, сборище рабов, наймитов, преступников, нищих!»4
Другой барьер, отделявший городской плебс от прочих граждан низкого звания, составлявших римский народ, иначе говоря, географическая граница, тоже размывался вследствие того, что городу Риму сложно
2 Общую характеристику конституционного положения гражданина см. в работе: Ni- colet 1980 (А 82): прежде всего гл. 7. О функционировании народных собраний см.: Taylor 1966 (F 157). О реформе центуриатных комиций в Ш в. до н. э. см.: Grieve 1985 (F 70). О числе голосовавших граждан см.: MacMullen 1980 (G 150). О трибах см.: Taylor 1952— 1954 (G 236); Taylor I960 (F 156); Nicolet 1985 (С 232).
3 Первое серьезное исследование неформальной политики плебса см.: Brunt 1974 (П 23). Последующие важные работы см.: Lintott 1968 (А 62); Veyne 1976 (G 250): 201—261; Vanderbroeck 1987 (С 279).
4 Цицерон. О своем доме. 89.
746
Часть Π
было обрести пространственное определение. Такие границы, как городские стены или пределы «римского поля» («ager Romanus») — древней территории Римского города-государства, по мнению некоторых исследователей, не имели особого социального смысла: сами римляне в рассматриваемый период вынуждены были выработать представление о городе как о «застроенной территории» («continentia aedificia»)5, поскольку трудно было определить и население города как социальную группу, и границы самого города.
Поэтому нельзя дать достаточно четкое описание города и его обитателей; «археологический подход» неудовлетворителен, поскольку не учитывает институциональные факторы, влиявшие даже на иноземцев и рабов; а специалист по истории идей и правовых норм рискует недооценить те городские особенности, социальные и физические, которые отличали Рим от колоний и заморских общин. В приведенном ниже рассказе мы попытаемся объединить эти два подхода, но кое-где неизбежно останутся прорехи. Обсуждая данную проблему, придется снова повторить чистосердечное признание того историка, который за последние двадцать пять лет внес наибольший вклад в объяснение положения плебса: он считает, что практически невозможно предложить читателям целостное изложение этого вопроса6.
Свидетельства источников о численности, происхождении и составе городского плебса, о его деятельности, проблемах и историческом значении, а также о том, как со временем всё перечисленное менялось, туманны, фрагментарны и не поддаются синтезу. Главная трудность состоит в том, что наиболее надежные свидетельства по каждому конкретному вопросу относятся к разным отрезкам пятисотлетнего периода, в течение которого Рим бесспорно являлся крупнейшим городом Средиземноморья. Так, лучшие свидетельства о коллегиях восходят к Поздней античности, об инсулах — к Средней империи, о неформальной народной политике — к правлению Юлиев—Клавдиев; несмотря на обилие сочинений Цицерона, а возможно, и вследствие его предубеждений, Поздняя республика остается периодом, для которого у нас нет подробных сведений ни по одному из важных аспектов истории городского плебса. Ясно, однако, что на годы между Ганнибаловой войной и битвой при Акции приходятся все важнейшие этапы формирования физического облика города Рима и населявшего этот город общества; к счастью, до нас дошло достаточно собственно республиканских свидетельств, чтобы на их основании составить некий костяк рассказа. Впрочем, в настоящей главе рассматриваются не все аспекты вопроса: религия и неформальная политика в Риме описаны в гл. 15 КИДМ X, а важный вопрос о взаимосвязи Рима с экономикой Италии и Средиземноморья — в гл. 16 настоящего тома. Хотя такой способ подачи материала усилит обрывочность нашего дальнейшего расска¬
0 О понятии «застроенная территория» см.: Nicolet 1985 (С 232): 831—832.
6 Yavetz 1958 (G 261); Yavetz 1988 (G 262): его работы охватывают период от Республики до Раннего принципата. Процитированное мнение см.: Yavetz 1958 (G 262): vii сл., 130— 131.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
747
за, этот подход всё же следует предпочесть ложному синтезу, который затемнил бы перемены, наверняка произошедшие за пять веков весьма многоплановой истории.
В настоящей главе мы не ставим перед собой задачу осуществить такой синтез, но предлагаем модель, которая продемонстрирует место Рима в более широком социальном контексте и позволит истолковать яркие особенности его роли в римской истории в целом. Ранее исследователи объясняли нестабильность жизни рядовых обитателей Рима их политическим бессилием, скученностью, скверными условиями проживания, продовольственными кризисами, манипуляциями со стороны элиты. Мы же попытаемся продемонстрировать, что в основе всех этих явлений лежал один и тот же феномен. Попросту говоря, дело в том, что невероятные успехи римской элиты обусловили непрерывный рост и развитие в городе социальных групп и их экономической деятельности, и при этом трения, вызванные адаптацией или взаимопоглощением этих групп, спорами о принадлежности к ним, борьбой людей за социальные позиции, обеспечивавшие выживание и процветание, порождали те кризисы и беспорядки, о которых рассказывается в источниках, а также множество других подобных событий, сведения о которых не дошли до нас. Трудности, с которыми столкнулся Рим, явились следствием его успеха7.
I
Городской плебс был весьма многочисленным. Население города, взятое в целом, являлось, по античным меркам, громадным, и в рассматриваемый период город Рим превратился в пристанище самого крупного социального организма, самой большой городской общины в средиземноморском мире. Этот факт часто констатируется в исторических трудах, но попытки произвести количественные подсчеты (заведомо обреченные на неудачу), к сожалению, отвлекают исследователей от его качественных последствий. Географы хорошо знают, что, когда город стоит на вершине иерархии других поселений, выстроенной в зависимости от их размеров, он нередко намного превосходит все остальные поселения; но географы, в отличие от антиковедов, пытаются также объяснить это явление с точки зрения социальной мобильности и экономического поведения. Огромные размеры Рима часто обсуждаются в научных работах, но их авторы почти не пытаются выяснить, как и в силу каких причин эти размеры менялись между 150 г. до н. э. и 350 г. н. э.; мало внимания уделяется и тому обстоятельству, что крупнейший из городов с большой вероятностью должен был породить сложнейшее общество. Точные цифры, даже если бы они имелись у нас, представляют здесь не такой уж большой интерес, а спекуляции о реальной численности населения Рима довольно бесплодны8.
7 См. гл. 16 наст. изд.
8 Лучшее изложение см.: Brunt 1971 (А 16): 376—383; см. также: Hermansen 1978 (G 118).
748
Часть Π
Из всех доступных нам статистических данных по-настоящему ценным (и интересным также с другой точки зрения) является число взрослых мужчин, участвовавших в раздачах: 320 тыс. получателей бесплатного хлеба — в 46 г. до н. э., 150 тыс. — в том же году после реформы, 200 тыс. — во 2 г. до н. э.; а также 320 тыс. человек, которым Август выплатил денежные подарки в 5 г. н. э.9. Колебания в диапазоне 53% сразу вызывают сомнения в репрезентативности этих цифр, и весьма вероятно, что приведенные данные отражают просто ожидаемое число людей, регулярно бывавших в центре города. Цезарь и Август попытались ограничить число получателей лишь теми, кто имел в Риме постоянное место жительства (domicilium); для этого составлялись списки получателей по топографическим кварталам города (vici) и устанавливалась фиксированная квота получателей, а вакансии в списках заполнялись путем жеребьевки (subsortitio). Если эта система всё же заработала (не следует недооценивать огромные проблемы, связанные с регистрацией), то квоты в 150 и 200 тыс. получателей позволяют примерно оценить численность взрослых мужчин, постоянно проживавших в Риме, что дает оценку общей численности граждан — около 500 тыс. человек. Однако возникают две проблемы. Во-первых, эти квоты могут отражать ту численность получателей, которую государство стремилось значительно сократить; во-вторых, неизвестны ни границы территории, рассматриваемой как «постоянное место жительства в Риме» («domicilium Romae»), ни допустимый срок отсутствия на этой территории, по истечении которого более нельзя было считаться постоянным жителем Рима. Если в диктатуру Цезаря взрослый сын приказчика, проживавшего в селении Красные Скалы9а, восемь месяцев в году торговал благовониями в Путеолах, то имел ли этот приказчик право получать двойную долю зерна?
В любом случае нет никакой уверенности, что до 46 г. до н. э. право на получение бесплатного хлеба как-то зависело от места жительства (domicilium) или места рождения (origo). Требовалось некое более общее участие в столичной жизни. Никакие критерии туг не были нужны: зерно предоставлялось всей собравшейся в Риме на момент выдачи зерна части римского народа, причем всем социальным слоям, а не только плебсу. Никакой проверки статуса, а тем более дохода, не проводилось. Феномен хлебных раздач (frumentatio) следует рассматривать не как средство изучения «подлинного» населения города, а как один из главных факторов, определивших появление в самом сердце гражданского коллектива — вне зависимости от социальных реалий — привилегированной и обширной социальной группы, сосредоточенной в городе Риме. Хлебные раздачи учредил Гай Гракх, и вполне естественно, что этот процесс начался в ту эпоху, когда город Рим и в других отношениях тоже превращался из города-государства, ведущего завоевательные войны, в столицу империи. В прежнем Риме снабжение зерном имело преимущественно утилитарный харак¬
9 Деяния Божественного Августа. 15.4; 15.2.
9а Оно находилось в 14 км к северу от Рима по Фламиниевой дороге. — О.Л.
Глава 17. Город Рим и городской плеве...
749
тер; со 123 г. до н. э. Гай Гракх искусно превратил удовлетворение этой потребности в символ высокого статуса как части населения, так и того города, где она проживала10.
Второй подход, в рамках которого численность населения Рима оценивается на основании площади территории, доступной для проживания в центре города, не дает надежных результатов, так как мы не знаем, где именно и сколь долго обитали люди11. Даже если принять, что «постоянное место жительства в Риме» («domicilium Romae») предполагало проживание в пределах померия (священной границы Рима), мы всё равно ничего не сможем сказать о средней длительности такого проживания в пределах продолжительности жизни отдельных людей. Вообще говоря, понятие «население города Рима» ускользает от оценки и не приносит особой пользы. Уже пора перестать думать о городском населении как об огромной массе горожан, на протяжении всей жизни проживавших в Риме, периметр которого можно очертить четкой границей. Не следует выстраивать в городе эпохи Республики условную стену Аврелиана, отделяющую город от села, а воображаемое скопление переполненных инсул — от пустынной аграрной периферии. Не следует считать, что в Риме проживали все те, кто использовал его возможности; не следует думать, что люди оставались в Риме на протяжении всей своей жизни. Тщетны попытки подсчитать общую численность населения города Рима, словно из поколения в поколение оно оставалось стабильным, как в средневековом городе. Дошедшие до нас цифры отражают происходящие в Риме события, но не могут считаться его демографической статисткой. Поэтому «городское население» — это не более, чем люди, находившиеся в Риме в конкретный момент времени. Рим следует оценивать так же, как его некогда воспринимали: день за днем. В состав населения Рима входили не только люди, проживавшие в одном и том же су6урском11а доме уже тридцать лет, а, к примеру, пренестинец, торговавший на рынке, га- лат, приехавший к своему патрону, вольноотпущенник магистрата из Вольсиний, прибывший в город по делу, солдат-бруттиец, поступавший на военную службу. Не следует даже исходить из предположения, что постоянные жители составляли большинство. Примечательно, что античные авторы не упоминают постоянных жителей города Рима как некую группу: они не делят людей в зависимости от их постоянного места жительства. Атмосфера средневекового города с его бюргерскими династиями вовсе не характерна для античного города, тем более для величайшей столицы.
Такое положение дел объясняется прежде всего демографией крупных доиндустриальных городов. Эти рассадники болезней и антисанитарии
10 О снабжении зерном см.: Rickman 1979 (G 212) (о праве на получение доли см. с. 175—178 указанного издания)). См. также: Gamsey 1988 (G 100): 167—270.
11 О плотности населения см.: von Gerkan 1940 (G 102); Castagnoli 1980 (G 37); Packer 1967 (G 184).
lla Субура — район в Риме между Виминалом и Эсквилином, населенный преимущественно бедняками. — О.Л.
750
Часть Π
непрерывно поглощали население. По оценкам исследователей, в начале ХУЛ в. Лондону требовался ежегодный приток в 2,7 тыс. человек, чтобы численность его населения сохранялась на уровне около 200 тыс. человек. Однако оно росло быстрыми темпами, ибо притягательность столицы была столь велика, что жителем Лондона побывал каждый пятый англичанин того времени12. Как показало недавнее исследование, в античном Риме условия жизни были не лучше13. Вызвано это было тем, что жизнь в городе неизбежно влекла за собой болезни; уже на раннем этапе, в 175— 174 гг. до н. э., засвидетельствована огромная смертность вследствие эпидемии14. Но это свойственно всем доиндустриальным городам; выгодная особенность Рима состояла в том, что некоторые условия городской жизни здесь были лучше: вряд ли Рим смог бы выжить без благотворного воздействия реки и водопроводов. По меркам XX в. условия жизни в Риме были ужасными, но оценивать их следует на фоне современных ему аналогов, куда более удручающих. Повышенную демографическую опасность для жителей Рима создавала не столько недоступность повседневных удобств, сколько внезапные бедствия — обрушения, пожары, наводнения и эпидемии. Демографическая стабильность в Риме была недостижима, и огромнейшей агломерацией он оставался так долго только потому, что в него непрерывным потоком вливались люди. Эта иммиграция оставила множество следов в литературных источниках.
Вначале рассмотрим приток в Рим свободнорожденных. Здесь следует вспомнить, что, по мнению самих римлян, их город возник как смешение людей безродных, изгнанных и отчаявшихся (легенда о том, что Рим появился как убежище (Asylum), имела древние корни):15 такой миф об основании города многое говорит о поддерживавшем этот миф обществе, если вспомнить, сколь сильно он мог дискредитировать Рим в мире, где высшим благом считалась автохтонность — проживание народа на одном и том же месте с глубокой древности. В исторические времена из всех не- римлян легче всего (как в правовом, так и в культурном отношении) в Римское государство вливались латины, и в 182—172 гг. до н. э. имел место поразительный эпизод, когда власти латинских городов стали жаловаться в римский сенат на снижение численности населения своих общин, вызванное эмиграцией в Рим. Сообщается, что в 187 г. до н. э. таких эмигрантов было 12 тыс. человек; они прибыли с территории площадью всего лишь 500—800 кв. км. Свидетельство Ливия говорит не только о неэффективности мер, принятых сенатом против эмиграции, но и о том, что граждане Ардеи или Ланувия на самом деле не отвернулись от своих родных городов, а просто перенесли в Рим центр собственной деятельности, поскольку они завязывали семейные и профессиональные связи по всему
12 Finlay R. Population and Metropolis, the Demography of London, 1580—1650 (Cambridge, 1981).
13 Об условиях жизни см.: Scobie 1986 (G 223). Демографические подсчеты численности населения Рима в эпоху Принципата см.: Frier 1982 (G 83); см. также: САН XI2.
14 Ливий. ХЫ.21.6.
15 Ливий. 1.8.5—6.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
751
региону16. Чтобы верно представлять себе обстановку в окружающей Рим области (regio Romana) в эпоху Цицерона, следует учесть, что в течение полувека после Ганнибаловой войны Рим стал новым домом для многих жителей Пренесты, Вей или Тускула, и с тех пор социальная география на западе центральной Италии изменилась навсегда.
Весь П в. до н. э. народы Италии находились в движении. Рим отправлял своих подданных в далекие земли — в военные походы либо для основания новых поселений. Римляне и италийцы начали появляться по всему Средиземноморью17. Римское правительство всё чаще стало прибегать к политике переселений: после Ганнибаловой войны — в отношении изменивших союзников, в 180 г. до н. э. — в отношении лигуров, незадолго до 177 г. до н. э. — в отношении самнитов18. И наоборот, могущество Рима на Востоке возрастало, и в город разными путями стало стекаться всё больше греков19. Хотя нет сомнений в том, что число иноземцев (peregrini) и лати- нов в городе нередко бывало очень велико, последствия их присутствия мы можем наблюдать лишь в случаях, когда государство принимало меры против нежелательных явлений, прежде всего против незаконного присвоения римского гражданства, особенно права голосования. В условиях проживания в Риме сравнительно небольшого числа приезжих его ранние государственные институты приобрели неплохой запас прочности, да и сама цензовая регистрация граждан была заточена под данные условия: «Институт ценза предполагал существование небольшого территориального государства, а также гражданского коллектива, разделявшего общие моральные и политические ценности, обладавшего развитой гражданской лояльностью и не имевшего чрезмерной социальной дифференциации»20. Но прибытие огромных масс всякого рода иноземцев неизбежно несло угрозу стабильности Римского государства. Мероприятий таких политиков, как Пенн (126 г. до н. э.), Фанний (122 г. до н. э.), Красе и Сцевола (95 г. до н. э.), которые изгоняли иноземцев из города (вероятно, лишь на время) или карали их за присвоение не принадлежавших им прав, оказалось совершенно недостаточно для решения проблемы, что и неудивительно21. Однако сами эти мероприятия косвенно указывают на то, что в определенные периоды приезжие оказывали особенно сильное давление, и под¬
16 Ливий. XXXIX.3.4—6, прежде всего б — хорошее свидетельство о более общем контексте латинской миграции: «<...> таков уже тогда был наплыв иммигрантов в столицу» («iam tum multitudine alienigenarum urbem onerante». — Перев. Э.Г. Юнца); XLI.8.6—12; 9.9— 12; XLJI. 10.3. Об иммиграции в последующие годы (на основании анализа имен с окончанием «-anus») см.: Hübner 1875 (G 125). О праве миграции (ius migrandi) латинов на «Римское поле» («ager Romanus»), если не в сам Рим, см.: Brunt 1965 (С 31); Brunt 1971 (А 16): 70, 380—381; Brunt 1988 (А 19): 240—245; Hopkins 1978 (А 53): 64—74. О переселении в Рим римлян из сельских триб см.: Lintott 1968 (А 62): 86.
17 Wilson 1966 (А *128).
18 Ливий. XXVI. 16 (о нереализованных планах); XL.38.2; XL.41.3—4.
19 Salmon 1982 (А 102): 118—119. О продолжении этой тенденции в эпоху Принципата см.: La Piana G. Foreign Groups in Rome during the First Centuries of the Empire (Cambridge (MA), 1927); САН XI2.
20 Gabba 1984 (G 93): 193.
21 См. выше, гл. 3, с. 94, 123; гл. 4, с. 131—132.
752
Часть Π
тверждается это законами, принятыми в середине П в. до н. э. (Элиев и Фуфиев законы) и предназначавшимися для того, чтобы поставить под контроль приток в Рим даже римских граждан во время принятия законопроектов.
Как бы ни была серьезна эта проблема, она несравнима с тем хаосом, который последовал за предоставлением гражданства италийцам после Союзнической войны. Возможно, переселение новых граждан в Рим происходило бы не так стремительно, не мани их всё более ценные политические преимущества столичной жизни; как отмечал Саллюстий, «юношество, скудно жившее в деревне трудом своих рук и привлеченное в Рим подачками от частных лиц и государства, уже давно неблагодарному труду своему предпочло праздность в Городе»22. К упомянутому Саллюстием понятию «городской праздности» («urbanum otium») мы еще вернемся в разделе IV настоящей главы. Самые красноречивые свидетельства о разрастании населения Рима относятся к периоду кризиса Республики, и, пожалуй, вполне можно утверждать, что между 89 г. до н. э. и 31 г. до н. э. показатели притока в город новых жителей были самыми высокими и, вероятно, намного превосходили всё, что наблюдалось ранее. Аппиан, возможно, цитируя республиканский источник, выразился еще резче Саллюстия: «Мероприятие [слово «χορηγούμενον», употребленное здесь Аппианом, ставит хлебные раздачи в один ряд со зрелищами], имевшее место только в Риме, — публичные раздачи хлеба (annona) — привлекало в Рим бездельников, попрошаек и плутов со всей Италии»23. По мнению Варрона (с которым солидаризируется и Ливий, когда комментирует проблему латинов, возникшую в начале II в. до н. э.), трудности создавали прежде всего отцы семейств (patres familias), пробиравшиеся в город, чтобы занимать свои руки не садовым ножом и не плугом, но аплодисментами в театре и цирке24. Варрон явно считал, что иммиграции способствовала государственная политика в сфере содержания и снабжения города, и Август тоже так полагал25. Подобные воззрения являются слишком упрощенными, но всё же не приходится спорить с тем, что становившаяся более масштабной благотворительность имперской элиты создала условия для расширения Рима и не позволила этому расширению его погубить.
В Рим приезжали далеко не только те люди, которым это позволял их гражданский статус. Как в Риме, так и в италийских муниципиях, многие, конечно, пытались присвоить этот статус, порой успешно, и в 65 г. до н. э., чтобы положить этому предел, был принят суровый Папиев закон (Lex Papia)26. Но для рассматриваемой нами темы важнее то, что данный закон предусматривал изгнание из Рима всех жителей, не имевших италийского
22 Саллюстий. О заговоре Катилины. 37.7. {Дерев. В.О. Горенштейна.)
23 Аппиан. Гражданские войны. П.120. Дерев. М.С. Альтмана, с правкой.)
24 Варрон. Сельское хозяйство. П. Предисл.З.
25 Светоний. Август. 42.3.
26 Цицерон. В защиту Архия. 10; Цицерон. В защиту Бальба. 52.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
753
происхождения27. Бросающаяся в глаза ксенофобия этой меры ставит ее в один ряд с периодически проводившимся изгнанием различных групп, подозрительных с идеологической точки зрения, которое уже давно превратилось в отличительную черту римской политики и отражало постоянную тревогу за сохранность римской идентичности; Папиев закон, цели которого вовсе не сводились к поддержанию порядка при голосовании, служит красноречивым свидетельством масштабов присутствия неиталий- цев в Риме.
Более того, хотя движение свободнорожденного населения в Рим и из Рима не следует недооценивать, в источниках ему уделяется куда меньше внимания, чем скоплению населения, явившемуся следствием института рабства. Начиная с Ганнибаловой войны значительная часть порабощенных жертв римских побед использовалась для поддержания комфортной жизни городской элиты в Италии, и прежде всего в Риме. Кое-что о жизни этих членов городских домохозяйств (familiae urbanae) можно узнать из римской комедии, свидетельства которой предполагают, что городские рабы занимали вполне определенное место в экономической и социальной жизни на римских улицах, особняки (domus) не служили для рабов тюрьмами. Надписи эпохи Поздней республики и еще в большей степени Ранней империи дают нам некоторые сведения о мелком рабовладении в семьях, куда хуже обеспеченных, нежели элита28. Сделать количественную оценку не представляется возможным, но весьма вероятно, что в множестве маленьких* 283 фамилий состояло больше рабов, чем в огромных, но малочисленных хозяйствах элиты.
Свободнорожденные, прежде всего представители элиты, враждебно относились к скверне рабства, пятнавшей не только раба, но и вольноотпущенника (libertinus) и даже ребенка последнего (а порой и последующие поколения). Римские рабовладельцы освобождали огромное множество рабов, и каждый год римское гражданство получали, по-видимому, многие тысячи бывших невольников. Начиная с Ганнибаловой войны мы можем проследить по источникам целый ряд законодательных мер, влиявших на их статус и политические права, и, пожалуй, вполне можно сделать вывод, что рост числа вольноотпущенников более или менее соответствовал расцвету работорговли. Достичь согласия в вопросе о том, какое место должны занимать вольноотпущенники в политической системе, римлянам оказалось непросто, поэтому бывшие рабы воспринимались неоднозначно и стали маргинальной группой в жизни Рима, хотя вследствие своей огромной численности и прочных уз, связывавших их с патронами, обладали немалым влиянием. Наряду с рабами и иноземцами они образовали подмножество городского населения (которое, впрочем, пересекалось с множеством городского плебса, поскольку свободный вольноотпущенник формально обладал гражданством), оказывавшее в эпоху Поздней респуб¬
^Дион Кассий. XXXVII.9.5.
28 О рабе бедного клиента см.: Плутарх. Марш. 44.
283 В плане числа рабов, принадлежавших семье; в целом эту совокупность (семья + ее рабы) принято называть фамилией. — О.Л.
754
Часть Π
лики глубокое воздействие на город Рим29. Презрение римлян к рабам смешивалось с их недоверием к иноземцам. Новые рабы поступали в основном из-за пределов Италии, и во П в. до н. э. римские политики в ходе дебатов уже приказывали закрыть рот «тем, для кого Италия — лишь мачеха»30.
Таким образом, Рим стал городом, «образованным от стечения племен»31, и едва ли можно сомневаться в том, что численность его населения поддерживалась именно за счет иммиграции. Однако не следует, вслед за античными критиками, преувеличивать культурную чужерод- ность вольноотпущенников. Вне зависимости от своего происхождения, они вполне были способны быстро усваивать культуру городского общества и даже играть определенную роль в передаче его нравов (mores) следующим поколениям. Правда, если судить по надписям, то подавляющее большинство вольноотпущенников составляли греки, но новые и более подробные исследования этого феномена показывают, что во многих случаях греческие имена свидетельствуют скорее о культуре, чем об этническом происхождении, и в городских фамилиях взаимоотношения свободных и вольноотпущенников были куда сложнее, чем некогда считалось32. Неясно также, в какой мере всё греческое автоматически считалось иноземным. Однако и надписи, и литературные тексты подтверждают, что история населения города Рима не была непрерывной; феномен рабов и вольноотпущенников в Риме может служить прекрасным примером того, какие проблемы может создать включение в состав общины многочисленных, но нежелательных иммигрантов.
Вольноотпущенники устремлялись не только в Рим. Конечно, из примерно двух миллионов вольноотпущенников, присутствовавших в римском мире в любой момент времени, очень значительная доля людей ради удовлетворения экономических и политических потребностей своих патронов в какой-то момент своей жизни побывала в Риме, но с той же самой целью они очень часто и покидали Рим. Так, в 35 г. до н. э. раб — торговец благовониями (unguentarius) со Священной дороги, принадлежавший хорошо известной кампанской семье, оставил надпись на глиняной табличке на острове Итака:33 он был типичным представителем «населения Рима», и мы должны помнить, что данное выражение употребляется исследователями лишь ради удобства при обозначении агломерации, которая менялась день ото дня34. Статичные модели социальной истории
29 Treggiari 1969 (G 247): 6—52; о том, что термином «libertines» обозначали всех, кто недавно получил гражданство, см.: Cels-Saint-Hilaire 1985 (G 38). О численности вольноотпущенников см.: Нагрет 1972 (G 113).
30 Валерий Максим. VI.2.3; сходное описание плебса, а также его продажности см.: Петроний. Сатирикон. 122.
31 Наставления по соисканию. 54.
32 Tenney Frank 1915—1916 (G 73); Taylor 1961 (В 248). О новом подходе см.: Huttunen 1974 (G 127); Solin 1982 (G 228). Об аккультурации, сопряженной с восходящей мобильностью, см.: Jongman 1988 (G 133): гл. 6.
33 ILLRP 826.
34 О пенсиях для вольноотпущенников см.: Rawson 1976 (G 209): 93—94.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
755
города следует заменить моделью, в которой найдется место для мобильности отдельных людей, подвижности и изменчивости социальных групп и недолговечности структур семьи и домохозяйства.
Время от времени миграция из Рима принимала большие масштабы. Римляне, что неудивительно, испытывали ужас от осознания, что население их города становится неслыханно огромным, причем образуют его не граждане-солдаты, которыми гордилось бы любое античное государство, но люди, чья принадлежность к гражданскому коллективу вызывает сомнения, а то и вовсе персоны более низкого статуса. Римляне привыкли избавляться от больших групп населения путем их переселения и использовали достаточно надежную систему регистрации (как свидетельствует вышеописанное изгнание латинов), обеспечивавшую возможность отбора, поэтому, естественно, периодически они «вычерпывали» (так говорит Цицерон о расселении, предложенном Руллом в 63 г. до н. э.35) население, скопившееся в городе. Главным прецедентом для этого послужили римские и латинские колонии, цель которых изначально состояла в облегчении военного набора, и римское правительство проявило как щедрость, так и благоразумие, позволив вольноотпущенникам становиться колонистами. По крайней мере, Филипп V, царь Македонии, считал, что именно в подобном использовании вольноотпущенников состоял секрет необычайного богатства Рима людскими ресурсами (εύανδρία)36, а недавно обнаруженное свидетельство о колонии Ш в. до н. э. в Пестуме говорит нам, что Филипп не так уж и ошибался37. Но число вольноотпущенников, отправившихся в колонии в эпоху Средней республики, оценить сложно, да и общее количество колонистов в то время было довольно скромным. Кроме того, рабы в этот период поступали из областей, расположенных ближе к Риму, поэтому вольноотпущенники могли казаться не такими уж чужаками, как это выглядело в Поздней республике.
В последние десятилетия Республики и проблема, и ее решение приобрели куда более значительные масштабы. Возможно, прототипом стала колония Урбана, основанная Суллой в Кампании. Затем, в 63 г. до н. э., Рулл планировал поселить многочисленных городских бедняков (egentes) на Кампанском поле (ager Campanus)38, но на практике для расселения городских вольноотпущенников больше всех сделал Юлий Цезарь. В частности, местом для основания одной такой колонии он избрал Коринф, потому, видимо, что этот древний город ассоциировался с коммерцией;39 данное решение Цезаря служит редким примером уважения к плебейской морали, к рассмотрению которой мы обратимся дальше. Но вольноотпущенники отправлялись также в колонии, созданные
35 Цицерон. Об аграрном законе. П.70 (в указанном месте Цицерон приписывает это выражение, оскорбительное для римского плебса, авторам законопроекта, но в другом и сам его употребляет, см.: Цицерон. Письма к Аттику. 1.19.4. — О.Л.).
36 SIG 543.31-34
37 Pedley 1990 (Е 21А): гл. 7.
38 Brunt 1971 (А 16): 312-313.
39 Страбон. УШ.6.23.
756
Часть Π
Цезарем в Африке и в других местах, а устав его колонии, основанной в Урсоне, свидетельствует, что в подобных поселениях не действовали обычные конституционные ограничения прав вольноотпущенников. С этим можно сопоставить мероприятия, проводившиеся в Ранней империи, но имевшие ярко выраженный республиканский характер: голод, разразившийся в б г. н. э., побудил Августа изгнать (вероятно, на время) из Рима рабов и иноземцев, за исключением учителей и врачей, а вспыхнувшее тогда же Паннонское восстание вынудило императора набрать вольноотпущенников в регулярную армию40. В 19 г. н. э. Тиберий, желая прекратить городские беспорядки, выслал четыреста иудеев-вольноотпу- щенников на Сардинию, что можно рассматривать как своеобразное выведение колонии41. Вообще в эпоху Поздней республики римляне относились к низшему слою свободного населения неоднозначно: этот слой презирали, но считали полезным, его оскорбляли, но с ним считались. В античных источниках постоянно встречаются насмешки над вольноотпущенниками, их положение причиняло множество неудобств, но на этом основании не следует делать вывод, что римляне относились к вольноотпущенникам в целом абсолютно негативно.
Не следует также пренебрегать мобильностью отдельных людей; в совокупности она, вероятно, намного превосходила групповую мобильность, обусловленную впечатляющими переселениями, которые описаны выше. Уже упоминавшийся раб, оставивший надпись на Итаке, вовсе не являлся исключением. Для вольноотпущенников была характерна особенно высокая мобильность, поскольку они обслуживали интересы своих патронов, но и некоторые свободнорожденные люди тоже путешествовали довольно далеко. По всему средиземноморскому миру эпитафии увековечивают память о людях, которые в какой-то момент своей жизни принадлежали к городскому плебсу42. Но чаще люди переезжали не на другой конец империи, а на небольшое расстояние, на периферию, плотно населенную и удобную для проживания: либо в предместья Рима, либо в городки Ла- ция, Кампании и Этрурии, служившие «спальными районами» или курортами. Такие перемещения населения могли иметь и сезонный характер, когда люди, способные себе это позволить, бежали от обжигающей летней жары Рима, взяв с собой всю свою свиту и служащих, или когда на полях и в портах возникали возможности для сезонной подработки. Такие переезды представляли меньше трудностей для свободнорожденных людей, и этим может объясняться сравнительная скудость надгробных надписей с упоминанием свободнорожденного плебса (plebs ingenua); погребения свободнорожденных людей следует искать в Номенте и Сетии, в Габиях и Аавинии. Классический пример можно найти в мире вольноотпущенников: Геганий Клесипп, аппаритор римских магистратов, связанный, как
40 Светоний. Август. 42.3; Орозий. УП.З.б.
41 Тацит. Анналы. П.85.
42 Напр., Музик, императорский раб из Галлии, скончавшийся в Риме в правление Тиберия и оплаканный шестнадцатью другими рабами из своего окружения, см.: ILS 1514; САН XI2.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
757
сообщает случайное свидетельство, с древним патрицианским родом, отправился в свой последний путь из Рима и был похоронен в огромной гробнице в Улубрах, возвышавшейся над Помптинскими болотами43. О тесных связях между Римом и его окрестностями свидетельствуют также гробницы многих других представителей того же слоя, что и Клесипп.
Таким образом, тесная взаимозависимость Рима и окружающей его области и миграция населения между ними — это ключ к старой проблеме численного соотношения свободных и вольноотпущенных жителей города44. Данная проблема обусловлена доступными нам данными о тысячах римлян, известных по эпитафиям, а это означает, что данные сведения в любом случае относятся к составу плебса в эпоху Империи, поскольку республиканские надписи встречаются гораздо реже. Доля тех римлян, которые несомненно являлись вольноотпущенниками, по отношению к тем, которые наверняка были свободнорожденными (ingenui), необычайно велика, а упоминавшийся выше вывод о корреляции между греческим когноменом и рабским происхождением еще больше усиливает кажущийся дисбаланс. Но теперь, когда исследователи проводят тщательное изучение когноменов и принимают во внимание родственные связи, упомянутые на надгробиях, а также и сами имена на них, складывается мнение, что свободнорожденных в данной совокупности свидетельств представлено больше, чем считалось ранее; но главной причиной дисбаланса является мобильность свободнорожденных, которых хоронили за пределами городского ядра, а потому их эпитафии не попали в т. VI «Корпуса латинских надписей» («Corpus inscriptionum latinarum»), четко очерченные рамки которого куда больше, чем даже Аврелиановы стены, содействовали созданию ошибочной, изоляционистской, картины социальной жизни в Риме.
При всем этом следует также учитывать теоретическую возможность, что в эпоху Поздней республики существовала социальная группа свободнорожденных римлян, «слишком бедных, чтобы поставить даже самые простые эпитафии», постепенно сокращавшаяся группа «римлян из Рима», бедных, честных, гордых семей, которые проживали в городе с незапамятных времен, боролись за сохранение добрых нравов эпохи Ромула и с каждым поколением всё больше уступали рабскому отребью и численностью, и состоятельностью. Эта точка зрения основана главным образом на пассаже Тацита, который делил народ (populus) на «честных людей из простонародья, связанных со знатными семьями», и «подлую чернь, привыкшую к циркам и театрам»45, и пояснял, что в первую группу входили клиенты казненных или изгнанных по политическим мотивам, а вторая группа тесно примыкала к «худшим из рабов и тем, кто давно растратил свое состояние». Подробное рассмотрение данного пассажа было бы более уместно в одном из следующих томов, но достаточно его просто процитировать, чтобы увидеть, насколько трудно соотнести его с эпиграфически- * 4043 ILLRP 696; см. также: Purcell 1983 (G 199): 140-141; Bodel 1989 (G 18). и См. выше, сноска 32.
40 Тацит. История. 1.4. (Перев. Г.С. Кнабе.)
758
Часть Π
ми свидетельствами. В частности, Тацит ничего не сообщает о состоятельности всех этих плебеев, за исключением лишь расточительных, а его отношение к бедности в любом случае безнадежно искажено социальной дистанцией. Более того, всех вольноотпущенников Тацит не ставит на одну сторону; он согласился бы с Цицероном в том, что бывают и «воль- ноотпущенники-оптиматы» («libertini optimates»), сколь бы странно это ни звучало46. На самом деле замечание Тацита имеет этический, а не демографический характер и дает больше сведений об остаточном влиянии «знатных семей» в конце правления Юлиев—Клавдиев, чем о социальной природе населения Рима.
В действительности едва ли на протяжении продолжительного времени в Риме существовал такой слой бедных свободнорожденных людей. Едва ли даже отдельный человек, а тем более семья, мог долгое время страдать в Риме от бедности: люди, пораженные крайней нуждой, обычно быстро погибали. Такое положение дел отражают и античные представления о бедности и о пребывании в числе бедняков (egentes): говоря о ней, античные авторы подразумевают либо определенный социальный статус (как Тацит в приведенном выше анализе), либо следствие внезапного бедствия, но не продолжительное состояние экономической бедности47. Именно социальная мобильность городского общества делала маловероятным длительное сохранение в Риме бедных свободнорожденных семей. Стабильность была нетипична для Рима: наиболее нуждающиеся семьи сходили со сцены, а выжившие улучшали свое положение. Каждое «поколение» вольноотпущенников порождало следующее поколение свободнорожденного плебса (plebs ingenua). Семьи, пережившие несколько поколений, имели прекрасные шансы значительно повысить свое социальное положение; очень часто это предполагало отъезд из Рима и, как мы уже видели, выпадение из его эпиграфической летописи. Такая социальная мобильность являлась следствием привилегированного положения Рима и тех возможностей, которые там наличествовали ввиду огромного притока всевозможных ресурсов. За счет этого поддерживалось непрерывное социальное движение, в ходе которого резко менялись и состав имущества, и статус выживших семей. Эту картину хорошо отражают эпиграфические свидетельства, пусть даже фрагментарные: они позволяют увидеть сложное и быстро менявшееся общество и население, которое во всех смыслах слова пребывало в движении48. В этой картине нет никаких неожиданных пробелов, и гипотеза о древних, но обедневших городских семьях, принадлежавших к свободнорожденному плебсу (plebs ingenua), отсекается бритвой Оккама.
Итак, вышеописанное движение прочно связывало город с его окрестностями; исследование мотивов, побуждавших людей перемещаться та¬
46 Цицерон. В защиту Сестия. 97, и см.: Treggiari 1969 (G 247): 33.
47 О бедности в Риме см.: Whittaker 1989 (G 260). О бедности как внезапном бедствии см.: MacMullen 1971 (G 149).
48 Классический пример такой восходящей социальной мобильности в разветвленной семье эпохи Августа дает нам надпись: ILS 1926.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
759
ким образом, позволит выявить особенности города, отличавшие его от ближайшей и более отдаленной периферии. Вопрос о городских привилегиях наиболее подробно будет раскрыт далее, в разделе IV настоящей главы; сперва следует рассмотреть некоторые основные характеристики римской городской среды и их социальные и экономические следствия.
Античные города всегда были неразрывно связаны со своей сельскохозяйственной базой; и внешний вид этих городов, в высшей степени урба- нистичный, не должен наводить нас на мысль, что они были четко отделены от села. Важнейшей сферой деятельности городского населения являлось перераспределение продовольствия, производимого на селе, и интенсификация его производства различными путями. Город нуждался в продовольственных ресурсах связанной с ним сельской местности и содействовал их эксплуатации. Типичным примером взаимодействия города и села на самом простом уровне может служить производство сельскохозяйственного оборудования: нет ничего удивительного в том, что наиболее специализированный инвентарь Катон Старший советовал земледельцам с запада центральной Италии приобретать именно в Риме49.
Но вскоре предметом такого взаимодействия города и села стали служить не только простые продукты питания, но и более изысканная и элитная продукция земледелия и животноводства: вйна не только для утоления жажды, но и для удовольствия, качественное зерно вместо бобовых и кормовых злаков, экзотические фрукты, масло для освещения и гигиены, а также целый ряд вторичных продуктов, в том числе шерсть, кожа и лен. Производство, обработка и перераспределение этой продукции служит еще одним примером сотрудничества и взаимозависимости города и села, и такая деятельность была характерна для любого доиндустриального средиземноморского города. В самом Риме это явление наблюдается в наиболее развитой форме: интенсификация сельскохозяйственного производства идет рука об руку с ростом города, черпая ресурсы со всего Средиземноморского бассейна и трансформируя экономику Италийского полуострова50. Поэтому взаимосвязь Рима с его экономической периферией стимулировала появление в Городе ряда специфических ремесел, связанных с обслуживанием, обработкой и перераспределением и ассоциировавшихся прежде всего с розничной торговой точкой, известной как taberna. Как позднее выразился Ориген, христианство, по словам его противников, распространилось именно благодаря общению детей с «шерсто- делами, портными, ткачами, всеми этими необразованными и грубыми людьми»51. Обработка шерсти, кожи, вяжущих веществ и красителей, металла, глины, дерева и соломы, масла, вина, зерна, овощей и фруктов — это не случайное явление в жизни города, не второстепенная подработка Для тех, кто в нем оказался, это и есть настоящая городская жизнь, это
*9 Катон. Земледелие. 155.
°° См. гл. 16 (Николе); Gamsey 1980 (G 98): 44 («сельскохозяйственная и промышленная занятость были неразрывно связаны»). Об изображениях ремесел на надгробных камнях см.: Zimmer 1982 (G 266).
01 Ориген. Против Целъса. Ш.55. (Перев. Λ. Писарева.)
760
Часть Π
деятельность, без которой город не мог бы существовать и в лучшем случае превратился бы в символическое место собраний элиты.
Такая розничная торговля (καπηλεία) была характерна и для греческих городов, и довольно рано ее стали считать грязной работой, исходя из простой экономической логики: лавочник может кормиться с перепродажи только за счет прибавления произвольной суммы к изначальной «подлинной» цене товара, а такая прибавка по природе своей лжива и бесчестна. Эту идею Цицерон излагает в римском контексте: сельское хозяйство заслуживает уважения, но «в мастерской невозможно встретить порядочного человека» («neque quicquam ingenuum habere potest officina»)52. Ремесленники считались непригодными к военной службе53. Лавка (taberna) воспринималась как нечто чуждое всякому изяществу и цивилизованности54. Античным мыслителям, по-видимому, и в голову не приходило, что труд лавочника, связанный с перераспределением продукции, — это услуга, заслуживающая заработной платы; да и сама зарплата считалась чем-то постыдным и вовсе не являлась нейтральной социальной ценностью.
В лавке (taberna) велась не только розничная торговля, но разнообразная смежная деятельность, например, оказание различных услуг и продажа готовой еды. В рассматриваемый нами период лавка занимала центральное место в жизни италийского города и в структуре городского населения, поэтому есть все основания посвятить ей весь следующий раздел.
II
Камилл вошел в город и увидел, что двери открыты и в оттертых лавках всё выложено на виду, а усердные ремесленники заняты, каждый, своим делом, и школы оглашаются голосами учеников, и улочки полны людей, и среди прочей толпы дети и женщины спешат кто туда, кто сюда, кому куда надобно55.
Это описание счастливого Тускула, не опасающегося осады, настолько хрестоматийно, что его можно применить к любому римскому городу, но прежде всего к самому Риму. И наиболее характерной особенностью ландшафта римского города здесь является лавка — taberna. Рим был городом лавок, а римский народ — нацией лавочников.
Исследователи уже отмечали важную роль лавок, но, как правило, продолжают считать их случайным и побочным явлением, тогда как на самом деле они определяли внешний вид города и дают нам ключ к пониманию его социальной структуры. Экономическое значение лавок конечно же не сводилось к тому, что значительная часть населения (не только мужчины, но и женщины, ибо некоторые минтурнские коллегии были женскими) занималась перераспределением продуктов первичной дея¬
°2 Цицерон. 06 обязанностях. 1.150—151; Treggiari 1969 (G 247): 89.
03 Ливий. VIII.20.4.
54 Плиний Старший. Естественная история. ХХХШ.49.
55 Ливий. VI.25.9. [Перев. Н.Н. Казанского.)
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
761
тельности, прежде всего сельского хозяйства56. Но прежде, в греческом мире, понятие «καπηλεία» обозначало розничную торговлю без лавок, то есть деятельность, которая могла вестись где угодно и по самой своей природе была мобильной. Обычно ею занимались во временных палатках, которые являлись отличительной чертой афинской агоры в V—IV вв. до н. э.57. Появление лавок (tabernae), иными словами постоянных, обычно прямоугольных помещений, предназначенных для хранения и торговли, а также для частной жизни лавочника (tabernarius), и их систематическое обустройство по всему городу стало важным этапом развития античной городской архитектуры. Возможно, впервые они возникли в зданиях, предназначенных для особо важной или значимой экономической деятельности (вроде афинского монетного двора), которые стали строиться в греческих городах на исходе V в. до н. э. Сперва появились ряды лавок, пристроенных вдоль общественных зданий — эллинистических портиков (στοαί) и предшественников первых римских базилик; параллельно с сооружением таких лавок, но немного позже, в южной Италии стали возводиться специализированные продовольственные рынки (macella), которые затем, через Кампанию и Рим, распространились по всему римскому миру58. Предтечей позднереспубликанских лавок можно считать также Сепла- сию — пресловутую торговую улицу в Капуе Ш в. до н. э., где продавались предметы роскоши, прежде всего благовония59. Появление и распространение этого типа заведений следует прямо связывать с ростом объемов и разнообразия дорогих предметов роскоши в структуре средиземноморской торговли между VI и Ш вв. до н. э.: сколько бы в Риме ни презирали лавки, они неизменно ассоциировались там с дорогими товарами (Священная дорога всегда была рыночной улицей с лавками, предлагавшими элитную продукцию, и, вероятно, во многом напоминала Сепласию), и, думая о мире розничной торговли, римляне сразу вспоминали лавки, где меняют деньги или продают ювелирные украшения, дорогие ткани и благовония60. Недавно проведенное археологическое исследование Форума показывает, что ко времени Ганнибаловой войны в Риме уже появились лавки, торговавшие предметами роскоши; у Ливия описан пожар, случившийся в 192 г. до н. э. между Тибром и Бычьим рынком, в котором «сгорели все лавки с товарами, стоившими больших денег»61.
Взяв начало из таких истоков, мир лавок стремительно разросся. Свидетельства об этом совершенно недвусмысленны: как хрестоматийные
56 О лавках см.: Loane 1938 (G 147); Staccioli 1959 (В 318); Yavetz 1970 (G 263): 144-146. О женщинах см.: Kämpen 1981 (G 136). См. также: Skydsgaard 1976 (G 226).
07 Демосфен. 18 («О венке»). 169.
58 О портиках см.: Coulton 1976 (В 282): 9—11, 85—88. Они тоже появились в конце V в. до н. э. См. также: СоагеШ 1985 (В 277): 146; De Ruyt 1985 (В 285).
09 Асконий. Против Пизона. ЮС.
60 Iipinsky 1961 (G 146); Panciera 1970 (В 214).
61 Ливий. XXXV.40; СоагеШ 1977 (G 42). В то время государство, преимущественно в лице цензоров, само обеспечивало условия для подобной торговли; это новое отношение долго не продержалось и исчезло, когда деятельность плебеев начала вызывать тревогу, но вновь возродилось в эпоху Принципата.
762
Часть Π
пассажи, вроде описания Тускула у Ливия, так и археологические данные, а именно — тысячи лавок на Мраморных планах Рима эпохи Флавиев и Северов и на улицах Помпей, Остии и других городов. Более того, следует упомянуть и другие заведения, тесно связанные с лавками (tabernae), — это мастерские (officinae). В римском сознании они ассоциировались с работой мастеров или ремесленников, иными словами, с производством, которое мы осторожно можем назвать «промышленностью». Соответствующим понятием в греческом языке было «έργαστέριον», и огромное множество римских лавок и мастерских произвело столь сильное впечатление на автора II в. н. э., что он восславил Рим как «всемирную мастерскую (έργαστέρι,ον)»62. Имелась в виду работа ремесленников, которая упоминается в «Сельском хозяйстве» Катона и которая служила характерной чертой античного средиземноморского города.
Неуклонный рост средиземноморской торговли и постепенное обогащение италийского общества, несомненно, содействовали процветанию вышеописанных лавок с дорогими товарами, но ни тот, ни другой процесс не позволяют удовлетворительно объяснить, каким образом сама лавка как специфическое явление получила столь повсеместное распространение, что стала символом римского урбанизма63. С одной стороны, имеется вид деятельности, обеспечивавший самые базовые потребности античного города, а с другой — традиция утилитарного строительства, предполагающая защиту наиболее утонченной формы этой деятельности, то есть накопления и перераспределения среди высших слоев элиты товаров, необходимых для поддержания роскошного образа жизни и высокого статуса. Не существовало никаких неизбежных предпосылок ни для того, чтобы мастера первого рода — например, дубильщики или красильщики — работали в таких же физических условиях, как и мастера второго рода, ни для того, чтобы установились тесные социальные связи между людьми, занимавшимися в городе самой приземленной работой, и теми, кто обслуживал более элитный рынок.
Однако в последние дни Республики слово «лавочники» («tabernarii») стало практически синонимом городского населения. Когда в хаосе 40-х годов I в. до н. э. они закрывали лавки и бойкотировали суды на форуме, это было равнозначно официальному протесту против действий триумвиров и означало, что город более не функционирует64. Элита не симпатизировала лавочникам65 и уподобляла их отбросам Рима. В пассаже, который доказывает незначительный удельный вес в Риме якобы благонамеренного, стойкого и приверженного традициям, но бедного свободнорожденного плебса (plebs ingenua), Цицерон объясняет слишком слабую поддержку, которую сам он встретил в час изгнания. По мнению Марка Туллия, всё дело — в зломыслии римского народа (populus Romanus), мобилизованного в городе его противниками: «<...> население, которое можно было со¬
62 Элий Аристид. Похвала Риму. 11.
63 Boethius 1960 (В 264): гл. 2, 4.
64 Аппиан. Гражданские войны. V.18.
65 Yavetz 1970 (G 263): 144-146.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
763
брать, только приказав запереть лавки». Но, продолжал Цицерон, подлинный римский народ, которому по праву принадлежит мировое господство и который поддержал бы оратора, следует собирать, закрывая не лавки, а муниципии66. Примеры подобной враждебности элиты к лавочникам легко можно умножить. Но Цицерон свидетельствует и о двойственном отношении элиты к лавкам. Из его знаменитого письма к Аттику67 выясняется, что Цицерон владел рядами лавок в Путеолах, которые грозили обрушиться, но не опасался убытков, поскольку рассчитывал, что местный агент, занимавший довольно высокое положение в городе, достаточно тщательно и разумно их перестроит. Выходит, лавочная торговля распространялась при действенной поддержке римского высшего класса.
Примирить отвращение оратора с энтузиазмом инвестора можно было с помощью вольноотпущенников. Как мы уже видели, римляне переняли у греков пренебрежение ко многим видам городской деятельности, исконно присущим урбанизму античного Средиземноморья. Они презирали заработную плату, прибыль, гонорары и жалованье. Плиний Старший отмечал, что разведение марены и мыльнянки для получения красильных веществ, применявшихся в текстильном производстве, приносило огромную прибыль, что и неудивительно в окрестностях такого города, как Рим, и поэтому об этих растительных культурах никто ничего не знал, за исключением «подлой черни»;68 Варрон тоже заявлял, что коммерческим рыбоводством занимается плебс69 (хотя рыбные садки обычно считались атрибутом роскошных вилл). Хрестоматийный образ честного ремесленника был неизвестен в Древнем Риме: как свидетельствует приведенный выше пассаж из речи Цицерона «О своем доме», здесь считалось, что, нанимаясь на поденную работу, человек непременно превращается в злодея. Такие занятия воспринимались как удел рабов, и действительно, в ранний период истории города их выполняли рабы в рамках отдельных домохозяйств. В последние три века до н. э. происходила постепенная эмансипация городского производителя от домохозяйства — несомненно, прежде всего вследствие резкого роста территории города Рима, численности его населения и прибылей богатых римлян; но от позорного клейма этот производитель так и не освободился.
Таким образом, римская элита (участники борьбы за власть и крупные землевладельцы) вносила вклад в развитие и деятельность лавок, оставаясь на заднем плане и используя институт манумиссии (вместе с тем не следует забывать и о роли других свободных клиентов). История римских вольноотпущенников (libertini) — это и есть история городского плебса (plebs urbana), а также социальная, экономическая и культурная история самого города. Возрастание относительной независимости вольноотпущенников — это центральная глава в повести об освобождении городской жизни из плена домохозяйств элиты; в ходе этого процесса бывшие рабы по¬
66 Цицерон. О своем доме. 89—90.
67 Цицерон. Письма к Аттику. XIV.9.1.
68 Плиний Старший. Естественная история. XIX.47.
69 Варрон. Сельское хозяйство. Ш.17.
764
Часть Π
степенно, шаг за шагом (вспомним, к примеру, решение претора Рутилия, вынесенное им около 118 г. до н. э., о сокращении формальных обязательств (operae) вольноотпущенника перед патроном70), приобрели к I в. н. э. весьма значительную свободу действий, о чем наглядно свидетельствует архив одной путеольской фирмы, найденный в Агро Муречине вблизи Помпей: в нем мы видим, как вольноотпущенник берет на себя ответственность за очень крупные торговые операции71. Дело было не только в том, что, освобождая раба, патрон избавлялся от необходимости кормить его в старости и получал средства для покупки другого раба. Новые, более неформальные, экономические взаимоотношения между господином и бывшим рабом существенно расширяли возможности для извлечения разнообразной прибыли (в качестве примера можно привести вольноотпущенника консульской семьи, вероятно, принадлежавшего прежде консулу 106 г. до н. э., который продавал жемчуг на Священной дороге на Форуме:72 начальный капитал, необходимый для открытия лавки в таком дорогом районе, должно быть, вложил патрон, а не клиент). Любопытный парадокс состоит в том, что, допуская и поощряя постепенную эмансипацию вольноотпущенников от формальных связей с бывшим хозяином, римский рабовладельческий класс (а его не следует идентифицировать со свободнорожденной элитой, ибо многие вольноотпущенники владели множеством рабов) приобрел гораздо больше, чем потерял. Впрочем, эта тенденция имела и нежелательные последствия: вольноотпущенники стремились еще больше повысить свой статус, и это вполне объяснимо; хотя государство готово было принимать меры для облегчения их бремени, оно активно противодействовало их восхождению по социальной лестнице73. Такая непоследовательность, характерная для Поздней республики, серьезно усугубляла социальную нестабильность.
В эпоху Республики и Ранней империи типичный вольноотпущенник, обитатель мира лавочников, по-прежнему нес на себе рабское клеймо, ассоциировавшееся с его родом занятий, а вместе с ним сохранялось и детальное распределение обязанностей, характерное для рабовладельческих домохозяйств. Поэтому в Риме наблюдалось интенсивное разделение труда: в случайно сохранившихся надписях засвидетельствовано сто шестьдесят профессий, хотя в гораздо лучше изученных западноевропейских городах эпохи Позднего Средневековья их было всего сто; данный показатель следует расценивать не столько как экономический феномен, сколько как отражение социальных истоков мира лавок74. Сами римляне тоже осознавали, что в начале Ш в. до н.э. в Риме не существовало ника¬
70 Дигесты. 38.2.1.1 (Ульпиан); Watson 1967 (F 295): 228.
71 Bove 1979 (В 135).
72 ILLRP 797; Hopkins 1978 (А 53): 115-131; Gamsey 1980 (G 98); Gamsey 1981 (G 99) - о соотношении между ремесленным трудом рабов и свободных; D’Arms 1984 (G 51).
73 Treggiari 1969 (G 247); Fabre 1981 (G 65); Waldstein 1986 (F 288).
74 О разделении труда см.: Hopkins 1978 (G 123); Treggiari 1980 (G 248); Patlagean E. Pauvrete economique et pauvrete sociale ä Byzance (The Hague, 1976); Park 1975 (G 186); Maxey 1975 (G 155). Хотя многие свидетельства относятся к эпохе Империи, их экстраполяция на
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
765
ких лавочников, кроме цирюльников, и приблизительно знали, в какой момент хлебопечение из домашней работы превратилось в ремесло75. Здесь мы снова наблюдаем не просто перенос рабского занятия из его первоначальной обстановки в лавку, но и расширение рынка сбыта продукции. Примерно с эпохи Ганнибаловой войны произошло революционное изменение рациона городского плебса: распространение высококачественного хлеба содействовало значительному росту потребления вина, а к этому можно добавить интенсификацию сельского хозяйства на периферии города, что привело к появлению и расширению пояса садов, в которых выращивалась продукция для продажи76.
Значение этой перемены для жизни плебса не сводится к одному только потреблению (хотя ее следует рассматривать как повышение уровня жизни, чему мы еще уделим внимание в разделах Ш и IV наст. гл.). Экономика виноделия с его сезонным спросом на рабочие руки давала много возможностей для поденщика; когда количество стало цениться выше качества, даже в очень маленьком хозяйстве появилась возможность вырастить хотя бы одну виноградную лозу. Лавочники могли сами производить собственную продукцию; лавка (taberna) стала составной единицей нового сельского хозяйства, а не только новой сети розничной торговли и производства: некоторым образом это слово стало обозначать особую взаимосвязь между трудом и производством, более или менее связанным с сельским хозяйством. Так же обстояло дело и с садами, ориентированными на рынок: жизнь людей, которые их арендовали или владели ими и продавали продукцию в лавках (tabernae), на рынках (macella) и в других торговых точках, была очень похожа на жизнь тех, кого они кормили, но кто в основное время занимался ремеслом или оказанием услуг. Поэтому неудивительно, что со П в. до н. э. и до начала эпохи Империи неуклонно росло интенсивное садоводство, приносившее огромные прибыли упомянутым у Плиния хозяевам красильных культур; неудивительно и то, что в этом процессе тоже участвовали владельцы крупных состояний. Цицерон писал своему вольноотпущеннику Тирону:
Склоняй Паредра, чтобы он сам снял сад. Так ты побудишь этого огородника пошевеливаться. Негоднейший Геликон давал тысячу сестерциев, когда не было ни открытого для солнца сада, ни сточной канавы, ни изгороди, ни хижины. И этот человек готов смеяться надо мной после столь большого расхода? Разожги его, как я — Мофо- на. Поэтому у меня и в изобилии венки77.
эпоху Республики обоснована свидетельствами о торговле в Капуе (Frederiksen 1984 (А 35): гл. 13), Минтурнах (Johnson 1935 (В 298)) и Пренесге (ILLRP 101—110). Высказанное здесь мнение основано на предположениях Сюодсгорда, см.: Skydsgaard 1976 (G 226). См. также: Jongman 1988 (G 133): 184—186.
75 О цирюльниках см.: Плиний Старший. Естественная история. VU.211; ср.: Варрон. Сельское хозяйство. П. 11.10. О пекарях см.: Плиний Старший. Естественная история. ХШ.107.
76 О вине см: Tchemia 1986 (G 238). Об ориентированном на рынок садоводстве см.: Carandini 1988 (G 33) — впрочем, автор подчеркивает элитарность данного вида хозяйствования. См. также гл. 16 (Николе), с. 711.
77 Цицерон. Письма к близким. XVI. 18. [Дерев. В.О. Горенштейна, с правкой.)
766
Часть Π
Венки для праздников и церемоний, составлявших неотъемлемую часть жизни римских плебеев, производились и продавались сетью мелких лавок; вольноотпущенники неустанно конкурировали друг с другом, а подстрекателями в этой борьбе нередко выступали, как в данном случае, самые влиятельные люди Рима.
Как и следовало ожидать, местом реализации новых пищевых привычек стали именно лавки. По мере того, как хлеб, испеченный булочником, и вино становились всё более важной частью обыденной жизни римских горожан, эта пищевая революция происходила и в мире лавок78, которые стали главным источником продуктов повседневного потребления: «<...> хлеб и вино — из лавки, прямо из кувшина»79. В лавках находились также харчевни, питейные дома, гостиницы, так что именно эти функции стали ассоциироваться со словом «taberna» («таверна»), когда оно перешло в постклассические языки. Прибыль от этих низменных занятий в конечном счете тоже пополняла кошельки элиты.
Едва ли удивительно, что освобожденные рабы служили связующим звеном между рабскими, но доходными занятиями, характерными для античного города, и высокими моральными стандартами знати, извлекавшей из этих занятий барыши; учитывая отмеченные выше парадоксы, положение вольноотпущенников было весьма двусмысленным: с одной стороны, элита отзывалась о них с отвращением (мы уже цитировали высказывания Цицерона и Плиния), с другой — сам Цицерон признавал, что даже среди вольноотпущенников встречаются «хорошие люди» («optimates libertini»); в источниках упоминается также (в покровительственном, но не враждебном тоне) довольно умилительный тип «деятельного вольноотпущенника» («navus libertinus»)80. Распространенные в среде лавочников слабости вызывали насмешки: самым распространенным греческим когноме- ном у римских вольноотпущенников было имя Филаргир — «сребролюб»81. Поведение самих вольноотпущенников тоже было двусмысленным: иногда они даже испытывали извращенную гордость за свои постыдные ремесла и открыто прославляли их на своих надгробных камнях, подобно крупному пекарю-подрядчику Эврисаку или, за пределами Рима, Капри- лию Тимофею, который разбогател, меняя вино на рабов, и нисколько этого не стыдился82.
Надгробный камень Тимофея напоминает нам о том, что мир лавок существовал не только в Риме. Мало того, что мы уже раньше встречали их в Кампании (где обнаружены самые ранние надгробные камни лавочников); лавка служит символом соответствующего комплекса экономических и социальных отношений по всему Средиземноморью, где только они встречаются. По дороге на Итаку, где поставил свою надпись парфюмер
78 Kleberg 1957 (G 137).
79 Цицерон. Против Пизона. 67.
80 Цицерон. В защиту Светил. 97; Наставления по соисканию. 29.
81 Solin 1982 (G 228): 755.
82 Об Эврисаке см.: /LLÄP805. О Тимофее см.: Duchene 1980 (В 149).
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
767
(unguentarius)83, располагалась цепь процветавших портов Эпирского побережья, и республиканские надписи в таких городах, как Бутрот, очень напоминают римские надписи84. Все эти лавочники устремлялись в экономические центры Востока: в Коринф, который в конце Республики получил новую жизнь, когда Цезарь поселил туда вольноотпущенников, а ранее — на Делос. Такую же атмосферу можно обнаружить и на Западе, в Новом Карфагене и Нарбоне85. Но наиболее выраженно она ощущается в Риме; без него у многих других общин не было бы модели поведения, не смогли бы функционировать и центральные звенья в экономических цепочках, в которые эти общины были включены. Более того, именно в Риме жизнь лавок (tabernae) и мастерских (officinae), харчевен и публичных домов породила климат общественного смятения, оказавший сильное влияние на неформальную политику рассматриваемого периода; определяющая особенность Рима состояла в том, что здесь было выработано отличительное и усложненное социальное поведение людей низкого социального статуса, которое можно назвать образом жизни низших классов86.
Античные авторы, негодовавшие по поводу распространенной в обществе аморальности, сознавали, что в конечном счете объяснялась она господствовавшим положением Рима и являлась статусным символом, пусть даже отвратительным, города, покорившего весь мир. Во-первых, город можно рассматривать как огромное домохозяйство, громадную совокупность операций, нацеленных на поддержание роскошного образа жизни элиты: эту потребность удовлетворяли лавки с дорогими товарами. Во- вторых, как следствие, благодаря существованию лавок и их продукции аристократия имела возможность заниматься своей типичной деятельностью — оказанием благодеяний. Если бы в Риме не было продуктового рынка (macellum) и мастерских (officinae), как римский магнат смог бы устроить роскошный триумфальный пир (epulum) или провести зрелищные игры в свой эдилитет? В-третьих, и тоже как следствие, подобно тому, как розничная торговля и производство эмансипировались от домохозяйства и обрели собственную жизнь, так и распространение мира лавок и его преимуществ, в результате чего лавки стали обслуживать не только элиту, но и более широкие и бедные слои, оказалось своего рода незапланированным общим благодеянием (или «литургией») богатых и расточительных людей в отношении привилегированной городской общины, к которой они принадлежали. Преимущества жизни римлянина в столице включали в себя доступность неплохого вина, качественного и дешевого хлеба, раз¬
83 См. выше, сноска 33 наст. гл.
84 Об Эпире см.: Purcell 1987 (G 201); о Бутроте см.: Cabanes 1986 (В 139): 151 — в надписях упоминаются культы Матери Статы (т. е. «Матери-Останавливающей» — богини, защищавшей дома от пожара. — О.Л.) и компитальных ларов (т. е. божеств — покровителей домов, примыкавших к конкретному перекрестку. — О.Л).
85 О географии этих социально-экономических феноменов см.: Fabre 1981 (G 65): карты. Она отражена также в распределении монетных тессер (tesserae nummulariae), см.: ILLRP 987-1063; см. выше, гл. 16 (Николе), с. 730.
86 О неформальной политике см. т. KF, гл. 15.
768
Часть Π
влечений в харчевнях, услуг цирюльников, сапожников, красильщиков, сукновалов, торговцев дешевой одеждой и т. д.
Таким образом, распространение лавок было органически связано с другими аспектами городской жизни: с обеспечением субсидируемого или бесплатного зерна (которое, в свою очередь, содействовало развитию сети лавок, так как способствовало освобождению рабов)87, с увеличением числа зрителей и зрелищ и ростом стоимости последних, с огромными инвестициями во всё более смелые и дорогостоящие архитектурные проекты городского благоустройства. Но, пожалуй, наибольший интерес представляет изменение стоимости жилья (а также, в какой-то мере, и погребения). Повсеместное распространение многоэтажных и многоквартирных домов (insulae), как и в случае с лавками, было сопряжено с систематическим извлечением прибыли из тех явлений, которые развивались естественным образом по мере роста города; расцвет инсул и лавок (а также длинных домов, соединявших в себе элементы того и другого и имевших в Италии очень долгую историю), пожалуй, следует рассматривать как параллельные и взаимосвязанные урбанистические тенденции, вместо того чтобы искать, что было причиной, а что — следствием. Упорядоченные ряды продуманно устроенных лавок — это не какое-то изначальное или очень древнее явление в Риме: и лавки, и инсулы зародились в хаотичных лабиринтах хижин и лачуг, которые были характерны для Рима в эпоху Средней республики, но в дни Варрона стали всего лишь воспоминанием: Фест пишет, что
слово «adtibemalis» означает жильца одной из лавок (tabernae) в ряду; эти лавки были одним из древнейших типов жилья в Риме, о чем свидетельствует тот факт, что иноземные народы до сих пор живут в зданиях из досок (aedificia tabulata). Поэтому и в военных лагерях сооружения называются «tabernacula», даже если сделаны из кожи88.
Лавка оставалась не только рабочим местом, но и жильем89.
В инсулах, как и в лавках, плебеи комплексно и в полной мере интегрировались в социальную структуру всего города, ибо инсула представляла собой дорогое и технически сложное сооружение, и арендатор должен был платить ренту, нередко очень высокую90. Не следует считать квартиры в инсулах ужасающими трущобами. Инсулы задумывались как продолжение относительно прочных и удобных особняков богатых людей и нередко примыкали к ним. Да, порой инсулы строились на скорую руку или доводились до ужасающего состояния, но это, пожалуй, еще не означает, что жить в них было неприятнее, чем в сельских жилищах бедняков; по крайней мере, инсулы имели то преимущество, что находились в городе, и это давало их жителям доступ к статусным привилегиям и благотворительности. Несомненно, уже в эпоху Империи (по меньшей мере) такие жилые блоки не являлись заповедниками бедноты. Не следует их
87 Дионисий Галикарнасский. Римские древности. IV.24.5; Дион Кассий XXXIX.24.1.
88 Festus с. 11L. См.: Boethius 1960 (В 264): гл. 4; КИДМХ: гл. 15.
89 Варрон. О латинском языке. V.160; Гораций. Оды. 1.4.
90 Frier 1980 (G 82): 39-47; Frier 1977 (G 81); Hermansen 1978 (G 118).
Глава 17. Город Рим и городской плеве...
769
рассматривать как новый способ размещения людей, проживавших ранее в других условиях: как лавки служили рабочими местами для новой социальной группы, а не для вольноотпущенников, выполнявших работу, которой некогда занимались свободные бедняки, ныне обездоленные, так и инсулы служили жильем для нового социального слоя и не имели никаких прототипов в прежнем Риме. В мире мертвых параллелью инсулам служат широко распространившиеся надгробные рельефы и другие формы предсмертного самовыражения91. Примечательно, что все эти явления развивались рука об руку друг с другом в последние годы Республики: рельефы и надгробные камни, сохранившие для нас мир лавок, распространяются из Кампании в эпоху Цицерона, и именно в этот период мы впервые слышим о крупных инвестициях в лавки и инсулы92.
Вся эта система, в которой переплелись различные интересы, перепродажа, патронат, прибыль, рента, подарки, торговля, где слились воедино миры дома, работы, отдыха и смерти, связывала всех жителей Рима, элиту и зависимых людей (можно говорить о том, что уже в эпоху Сципиона Эмилиана существовали «honestiores» и «humiliores»92a), в интегрированное общество, где каждый занимал свое место. В этих местах и социальных нишах можно было встретить обладателей широчайшего диапазона статусов и престижа: от сенатора до раба93.
Только описываемая нами взаимозависимость могла породить столь спаянную систему, в которой не было классов в любом понимании этого слова, не было крупных независимых и отчужденных друг от друга групп. Непривычные к такому обществу исследователи тщетно ищут признаки существования в Риме жестко стратифицированной системы; этим объясняются большие проблемы, связанные с интерпретацией плебса: его бедные слои ведут себя не так, как положено низшим классам; о среднем классе говорить просто невозможно, а часто постулируемая группа потомственных римских плебеев, сильно обедневших, как мы видели, является мифом.
Что за цемент скреплял эту систему? Что за спайки создавали описанные нами взаимоотношения? Из тех связей, что уже упоминались, самую важную роль играли связи между рабом и его господином (или бывшим господином), со всеми обязанностями и обязательствами, предусмотренными законам о рабстве и манумиссии;94 но имелось и еще два значимых типа взаимосвязей. Первый из них, — по сути, экономический, второй можно назвать в основном политическим.
В рассматриваемый период в Риме взаимоотношения высших с низшими никогда не сводились к одним только социальным обязательствам:
91 Zänker 1975 (В 262); РигсеИ 1987 (G 202).
92 Frier 1980 (G 82): 121—126. Следует отметить пассаж Диодора (XXXI. 18.2), свидетельствующий о том, что дорогие квартиры предлагались в аренду уже в середине П в. до н. э.
92а Позднее, в правление Антонинов, эти понятия («почтенные» и «низшие») стали обозначать правовые категории населения. — О.Л.
93 Purcell 1983 (G 199).
94 Treggiari 1969 (G 247): 68-91.
770
Часть Π
экономический аспект имел не меньшее значение. Важнейшей смазкой для таких отношений между двумя свободнорожденными, между свободнорожденным и вольноотпущенником и даже между свободнорожденным и рабом служили деньги. Вот почему лавка и инсула имели такое значение: они служили физическим выражением целого ряда экономических по сути отношений. Простейшее из них — это, разумеется, плата за оказанные услуги: либо заработная плата, либо (чаще) плата по договору. Нарисованная Ювеналом картина праздного населения, которое интересуют только хлеб и зрелища (panem et circenses), — это совершенно ненадежная основа для реконструкции жизни римского плебса в любой период времени: массы желали покупать продукты и нуждались в них, и государство должно было обеспечить им эту возможность93 * 95. Такое положение дел отражается в мире лавок: римские бедняки работали, чтобы прокормиться, и большую часть необходимых денег зарабатывали трудом; щедрость государства и влиятельных людей не преследовала никаких практических целей и лишь облегчала бремя бедных, но не освобождала их от необходимости добывать себе пропитание. Поэтому в городе, где имелось множество разнообразных рабочих мест, мужчины и женщины зарабатывали часть тех денег, которые аккумулировала у себя политическая элита империи.
У тебя было восемь занятий, а осталось еще шестнадцать: ты содержал трактир, торговал глиной, продавал соленую рыбу, пек хлеб, пахал землю, мастерил мелочи из меди, торговал вразнос, а сейчас продаешь горшки. Если станешь ублажать баб в постели, то испробуешь всё!96
Этот перечень снова напоминает нам, что характерной чертой мира лавок и мастерских было производство. Представление о том, что Рим был «исполинским наростом», паразитом, пожиравшим всё вокруг, основано только на слишком буквальном толковании слогана «Хлеба и зрелищ!» и плохо стыкуется с образом Рима как «всемирной мастерской». Жители Рима производили весьма значительные объемы готовых товаров, и, хотя экономические и социальные условия их труда не могли так уж сильно отличаться от условий мануфактурного производства, зародившегося в Европе в начале Нового времени, мы не должны забывать, что (во всяком случае, если говорить об экономике запада центральной Италии) Рим потреблял продукцию не безвозмездно97.
93 Тацит. История. IV.38; Светоний. Веспасиан. 18; Brunt 1980 (G 26); Le Gall 1971
(G 145).
96 Граффито: NSA 1958: 128 No 268 (перевод смягчен) из владений Юлии Феликс
(Praedia Iuliae Felicis, П, VE, 10) в Помпеях.
97 Представление о Риме как о «городе-потребителе» восходит к А. Зомбарту и Максу Веберу, см.: Finley 1973 (А 31): гл. 5; Hopkins 1978 (G 123); Gamsey Р., Salier R.P. The Roman Empire, Economy, Society and Culture (Berkeley, 1987): 58—59. Альтернативное представление о Риме как о составной части гораздо более сложной экономики, как локальной, на западе Центральной Италии, так и мировой, будет подробнее рассмотрено в САН XI2.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
771
Но мы не намерены придавать слишком большое значение продуктивности труда вольноотпущенников (plebs libertina). Как и следовало ожидать, учитывая их рабские корни, многие из них занимались тем, что мы назвали бы «оказанием услуг». В этом контексте следует помнить о городских домохозяйствах (familiae urbanae) богатых людей и их периферии, состоящей из вольноотпущенников: все они составляли определенную и, пожалуй, значительную часть плебса, и в эпоху Поздней республики их размеры и влияние возрастали по мере того, как главы великих политических домов обретали власть и статус во всё более элитарной политической игре. Кульминацией этого процесса стали огромные домохозяйства вельмож эпохи Августа (и, уже за пределами периода, который нас здесь интересует, сама фамилия Цезаря (familia Caesaris))98. Поскольку многие вольноотпущенники и вольноотпущенницы, по крайней мере формально, обязаны были выполнять определенные работы или услуги (operae) для своих патронов или патрон, связи бывших рабов с домохозяйством не разрывались и могли существенно ограничивать их независимость. Такая урезанная свобода делала вольноотпущенника прекрасным агентом своего патрона, надежным и ответственным за свои действия, но не настолько тесно связанным с патроном, чтобы запятнать его позором своего низменного труда. Поэтому вольноотпущенники участвовали в предпринимательстве, торговле и финансовых делах, разумеется, не только в городе Риме, но и по всему Средиземноморью, в зависимости от географии экономических интересов римской элиты. И в этом отношении перемены, тоже коренные, произошли в годы после реформы, проведенной Рути- лием в 118 г. до н. э.99.
По разным причинам авторитет патрона мог быть ограничен или вообще отсутствовать; в некоторых обстоятельствах вольноотпущенник мог не иметь патрона или утратить его100. Поэтому в какой-то степени вольноотпущенники вели свою экономическую деятельность в собственных интересах, и не весь мир римских тружеников приводился в действие жадностью элиты, хотя она и была важной движущей силой. Ясно, что на самом низшем уровне в Риме существовал обширный рынок труда: людей можно было нанимать в качестве разнорабочих, и поденная работа (diurnae operae) встречалась в повседневной жизни очень часто. Для свободного человека положение наемного рабочего (conducticius) считалось весьма унизительным, что свидетельствует о его распространенности101.
Из всех занятий этих тружеников жителям постиндустриального мира проще всего упустить из виду быструю доставку, доступную по первому требованию, которая служила настоящим пульсом такого огромного города, как Рим, где, кроме всего прочего, большинство улиц было слишком узкими или крутыми для транспортных средств (а начиная с эпохи
98 См.: Roddaz, Fabre 1982 (G 214).
99 Garnsey 1981 (G 99); Fabre 1981 (G 65): прежде всего карты 1—3; D’Arms 1984 (G 51).
100 Garnsey 1981 (G 99).
101 Treggiari 1980 (G 248).
772
Часть Π
Поздней республики транспорт допускался в город только ночью102). Курьерская доставка и перевозки на лодках по реке — эта деятельность, порождаемая городом, составляла важную часть его повседневной жизни.
Кроме того, в Риме непрерывно велись работы по поддержанию его инфраструктуры — один из наиболее типичных видов деятельности в античном городе; самовозобновление было заложено в его природе. Поэтому огромное значение имели профессии, связанные со строительством103. Зависимость городского населения от такого рода труда лучше всего засвидетельствована для более позднего периода, но эти данные, пожалуй, вполне можно экстраполировать и на эпоху Республики. Примечательно, что подрядчик строительства палатинского дома Квинта Цицерона работал слишком медленно, поскольку ему мешала политическая агитация Клодия104. То или иное строительство велось постоянно, но два вида работ следует отметить особо. Во-первых, возведение огромных общественных зданий, финансируемое высшими классами, требовало множества рабочих рук; до нас не дошло конкретных цифр, относящихся к античному городу, но в XVI в. одна только реставрация небольшой части древней водопроводной сети Рима, получившей новое название Аква Феличе, потребовала загрузки 2 тыс. человек на протяжении трех лет, а временами число работников достигало 4 тыс.105. Некоторые исследователи считают, что периодические взрывы недовольства плебса происходили в моменты спада спроса на такой труд, и, действительно, регулярность проведения крупных строительных работ обращает на себя внимание106. Во-вторых, распространение особых форм частного строительства (возведение больших особняков (domus) и пригородных поместий (suburbana) богатых людей и инвестиционное строительство лавок и инсул) обеспечивало еще одно звено в цепи городской жизни, поскольку позволяло поддерживать высокий уровень занятости в периоды спада государственного строительства. Постепенно все эти здания, общественные и частные, становились прочнее и за декорациями внешней отделки обретали структурное единство, что свидетельствует о слаженности работы строителей; ими были далеко не только рабы, но и свободные италийские горожане107. Архитектура, характерная для городской Италии с эпохи Гракхов и вплоть до революционного появления обожженного кирпича в правление Нерона, отражала специфические черты современного ей городского общества и была порождена оживлявшими последнее экономическими силами.
102 Гераклейская таблица: Bruns 18: стк. 56—61 (FIRA I: N° 13).
103 См. выше, гл. 16 (Николе), с. 722—723.
104 Цицерон. Письма к брату Квинту. П.2.2.
105 Delumeau J. Vie economique et sociale de Rome dans la seconde moitii du XVIe siecle (Paris, 1959).
106 Coarelli 1977 (G 42); Thornton M.KJulio-Claudian building programs //Historia (1986) 35: 28—44; см. также выше, гл. 16 (Николе), с. 722—723.
107 Торелли считает, что в эпоху Поздней республики эти новые подходы к строительству, наряду с характерными переменами в сельском хозяйстве, внесли свой вклад в общие и очень важные сдвиги в производственных отношениях, см.: ТогеШ 1980 (G 244).
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
773
Римляне считали, что объединение строителей (collegium fabrorum) принадлежало к числу древнейших коллегий, поэтому в последние годы Республики оно, вероятнее всего, получило иммунитет от действия законов, посредством которых обеспокоенные власти пытались обуздать подобные могущественные ассоциации108. Данная коллегия служит ярчайшим примером того явления, когда типичные объединения городского населения порождались базовыми условиями функционирования города. Но в целом древние римские коллегии мало упоминаются в исторических свидетельствах о Поздней республике, хотя можно предполагать, что по мере эволюции городской жизни во П в. до н. э., особенно в его последнем десятилетии, эти коллегии стали играть новые роли и приобрели новое значение. Больше сведений имеется о параллельном развитии менее формальных ассоциаций экономически активного плебса, прежде всего вольноотпущенников. Как и в случае с надгробными рельефами и архитектурными формами, самые ранние проявления этих новых тенденций отмечаются в Кампании, и, по-видимому, можно заключить, что там они и зародились. Истоки развития новых социальных форм, соответствовавших новым городским условиям, можно наблюдать на примере организаций магистров-вольноотпущенников в Капуе, а также на примере аналогичной, но более профессиональной и чуть более поздней ассоциации в Минтурнах;109 в Капуе их возникновению способствовало отсутствие в этом городе со времен Ганнибаловой войны традиционных политических институтов, которые могли бы помешать расцвету новых форм поведения. Действительно, бросается в глаза, что поведение членов коллегий являлось околополитическим: вольноотпущенники объединялись в квазиполитические организации и подражали действиям элиты, посвящая общественные здания и передавая их под покровительство традиционных богов общины. Хуже согласовывалась с традициями социальная открытость вольноотпущенников и ее потенциально подрывной характер: в Капуе, давней сопернице Рима, теперь загубленной (urbs trunca), эвер- гетизм коллегий, пусть и не нарушавший законов, явился смелым жестом неповиновения; в Минтурнах коллегии магистров включали рабов, а в некоторых случаях и женщин (мир лавок принадлежал не только мужчинам)110. В I в. до н. э. подобные институты, связанные с кварталами (vici) и перекрестками (compita), стали появляться и в других италийских городах, например в Помпеях;111 в Сене Галльской рабочие (opifices) 06-
108 Об обеспокоенности властей см.: Асконий. Против Пизона. 6—7С. Однако своего расцвета коллегия строителей достигла только в эпоху Принципата, см.: Pearse 1980 (В 217); более подробное рассмотрение см.: САН ХР. Об эпохе Республики см.: Gabba 1984
109 ILLRP 724—746 — аналогичные надписи найдены и в Пренесте, см.. Frederiksen 1984 (А 35): гл. 13; о Минтурнах см.: Johnson 1935 (В 298). Сбалансированную точку зрения ° том, что такие организации занимали среднее положение между публичными и частными, см.: Flambard 1983 (G 69).
110 О женской занятости см.: Kämpen 1981 (G 136): 130—137.
111 ILLRP 763.
774
Часть Π
разовывали хорошо различимую подгруппу городского населения112. Такие коллегии часто посвящали себя наиболее значимым местным культам, особенно культам Марса или Меркурия (а в Тускуле — Кастора и Поллукса)113, и религиозную организацию этих коллегий заимствовали их прямые наследники — формальные и стандартизированные коллегии ав- густалов114.
В Риме сходную роль играли древние ассоциации капитолийцев, мер- куриалов и луперков; во всяком случае, меркуриалы, несомненно, были связаны с предпринимательством115. Аппаритор Клесипп, с которым мы уже встречались, являлся магистром капитолийцев и магистром луперков116. К этому статусу не следует относиться пренебрежительно; Цицерон упоминает о позорном раболепии римского всадника, которого в пору дефицита зерна в 56 г. до н. э. объединенные коллегии капитолийцев и меркуриалов исключили из своего состава:117 для него, во всяком случае, членство в этих коллегиях имело важное значение. Несмотря на эти краткие упоминания, наши сведения о таких ассоциациях, к сожалению, очень неполны; тем не менее ясно, что политическое насилие, характерное для Поздней республики, коренилось в их деятельности и определялось их довольно изменчивыми целями, о чем свидетельствует судьба традиционных праздников, например Компиталий, подрываемых новыми формами поведения118.
Такого рода группы упоминаются в источниках, поскольку они имели политическое значение. Пройдя долгий путь, мы теперь наконец можем рассмотреть и второй, политический, тип взаимосвязей, позволивших плебсу «приобрести» благосклонность элиты. Это не значит, что деятельность населения следует четко разделять на «экономическую» и «политическую»: такая дихотомия нужна лишь для удобства исследования. Рассматриваемые два мира во многих точках пересекались и взаимно обогащали друг друга, и создание, отчасти случайное, отчасти намеренное, полузависимого экономически активного римского населения одновременно являлось и экономическим феноменом, и этапом римской политической эволюции. Работа, то есть принадлежность к миру лавок, служила для человека одним из способов занять некую социальную нишу. Занятость была формой социальной интеграции119. Социальные отношения, наблюдаемые в лавках и инсулах, на надгробных рельефах и в коллегиях, в домохозяйствах и городских кварталах, в конечном счете нашли свое отражение в комициях, на сходках и в мятежах.
112 ILLRP776.
113 ILLRP59.
114 Ostrow 1985 (В 213).
1Ь Ливий. П.27.5—б; ср. комментарий Моммзена к надписи: CIL I2: 1004.
116 ILLRP696.
117 Цицерон. Письма к брату Квинту. П.6(5).2 (этот всадник, Марк Фурий Флакк, на коленях умолял не исключать его. — О.Л).
118 О капитолийцах см.: СоагеШ 1984 (С 184). О Компиталиях см.: Flambard 1981 (G 68); Lintott 1968 (А 62): 80 слл.
119 Patlagean (см. сноску 74 наст. гл.).
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
775
III
В знаменитом пассаже «Наставлений по соисканию», которые якобы являются письмом Квинта Цицерона брату с советами по проведению предвыборной кампании 64 г. до н. э., неизвестный нам автор описывает сложные организации, которые объединяли городской плебс и от которых зависело исполнение надежд соискателя должности120. Имеющиеся у нас сведения об этих социальных коллективах не позволяют утверждать, что их существование и политическое поведение прослеживаются с глубокой древности, хотя многие из них упоминаются в литературных источниках, имеющих преимущественно антикварный характер, то есть посвященных в первую очередь загадочным обычаям и необъяснимым ритуалам. Может показаться, что такие обычаи, как принесение в жертву октябрьского коня (equus October), празднество Семи холмов (Septimontium) и устройство святилищ аргеев, восходят к древним традициям, но даже в этих случаях не следует поддаваться искушению считать, что «необычное» равнозначно «старинному»121, ибо и в религии, и в политике инновации вполне естественны. По мере того как происходили описанные выше перемены, менялись и формы, размеры, состав и относительная значимость городских районов. Бесчисленные древние территориальные единицы (кварталы (vici), округа (pagi), холмы (montes) разных форм и размеров), подобно древним коллегиям122, предоставляли новые возможности политикам конца Республики — например, Клодию, а затем, в более крупных масштабах, Августу: они оба весьма искусно построили новые институциональные формы на традиционном фундаменте. Например, курии, очень древние подразделения плебса, сохранились до времен Августа: хотя их члены уже не понимали, что такое курия, они всё же ощущали некое чувство общности123.
Вне зависимости от того, являлись ли все эти «холмы» («montes») и «округа» («pagi») прямыми наследниками первых сельских общин, существовавших на вершинах холмов еще до превращения Рима в город, в I в. до н. э. некоторые из них обрели новую жизнь: они распоряжались своей собственностью, получали благодеяния и устанавливали надписи, словно автономные политические общности124. Это были настоящие «не¬
120 Наставления по соисканию. 30. Более вероятно, что это не подлинное письмо, а риторическое упражнение, но, судя по всему, основано оно на надежных позднереспубликанских источниках, см.: Henderson 1950 (В 44); David и др. 1973 (В 25).
121 North 1976 (Н 93); а также гл. 19 наст. изд.
122 Оспаривая мнение Вальцинга, Фламбар подчеркивает, что vici, как и pagi и montes, по сути являлись коллегиальными объединениями, см.: Flambard 1981 (G 68); Waltzing 1895—1900 (G 254). См. также: Crook 1986 (В 20) — о патанах и монтанах («pagani» и «montani», букв.: «сельские жители» и «жители холмов», хотя и те и другие проживали в Риме. — О.Л.), имевших отношение к новому устройству городской инфраструктуры, которая испытывала возрастающую нагрузку: они каким-то образом следили за распределением водопроводной воды.
123 Овидий. Фасты. П.527—532.
124 ILLRP 698-699.
776
Часть Π
большие собрания и как бы советы» («conventicula, quasi concilia»), упомянутые в речи Цицерона «О своем доме»125 и занимавшие видное место в той раздробленной общине, которая представлена в «Наставлениях по соисканию».
Указанная раздробленность стала естественным следствием вышеописанных социальных и экономических условий. Высокая мобильность римского городского населения превратила его подразделения в столь же преходящие ассоциации, которые сравнительно часто создавались и распускались, меняли свой характер и значение. Ассоциации людей, более или менее случайно оказавшихся рядом друг с другом, играли важнейшую роль: они позволяли населению, находившемуся в постоянном движении, обрести социальную — и политическую — идентичность («lieux de passage, d’interation progressive ä la cite officielle»)126. Эти ассоциации были не просто «обществами взаимопомощи», но социальными структурами, принадлежность к которым служила единственным средством защиты от рисков, связанных с жизнью среди безымянных толп, в опасной городской среде.
Поэтому сама тяга людей к объединению была куда важнее, нежели те конкретные формы, разумеется очень неустойчивые, которые она принимала. Новую жизнь получили древнейшие, судя по всему, «холмы» (montes) и «округа» (pagi). «Кварталы» (vici), еще один тип объединений плебса («части городской общины, ограниченные районом или улицей ради удобства», как называл их Фест127), видимо, впервые обрели политическое влияние в ходе смуты 80-х годов I в. до н. э., и оно оказалось слишком велико, так что в 60-х годах I в. до н. э. правительство сочло необходимым запретить их главную форму самовыражения — «игры на перекрестках» («ludi compitalicii»). Важное значение этих кварталов (vici) было обусловлено тем, что они играли роль двигателей, запускавших коллективную политическую деятельность, и их не следует рассматривать ни как «административные районы» вроде приходов в западноевропейских средневековых городах, ни как переместившиеся в город, но неспособные к смешению деревни, которые образовали ячеистую структуру исламских столиц128. По своему характеру кварталы больше походили на другие ассоциации, хуже поддававшиеся топографической идентификации, — на коллегии, объединявшие людей, которые отправляли один и тот же культ или занимались одним и тем же ремеслом; многие из этих коллегий естественным образом возникли из экономики лавок, как кварталы, «округа» и «холмы» — из топографии города. Коллегии, как и следовало ожидать, служили средством выражения недовольства, но главной целью их существования была идентификация постоянно менявшихся социальных групп, о чем ясно свидетельствует яростная борьба коллегий против ре¬
125 Цицерон. О своем доме. 74.
126 Flambard 1981 (G 68): 166; см. также сноску 118 наст. гл. («Места перехода, постепенной интеграции в официальный город». — О Л)
127 Фест 502L.
128 О значениях слова «vicus» см.: Frederiksen 1976 (G 79).
Глава 17. Город Рим и городской плеве...
777
прессий, угрожавших их сплоченности, вроде попытки властей искоренить культ Исиды, имевший важнейшее значение для капитолийцев129. Стремление к образованию новых ассоциаций можно наблюдать на примере культа Матери Сгаты, учрежденного в честь статуи, уцелевшей во время опустошительного пожара в начале I в. до н. э.; по имени этого культа получил название целый квартал, что наглядно отражает постоянный страх городских жителей перед пожарами130. Автор «Наставлений по соисканию» демонстрирует необоснованную уверенность в своих силах: подобные ассоциации объединяли всё простонародье, а не только плебс, и отнюдь не являлись пешками в шахматной партии элиты.
В этом потоке плебс и элита неразделимо перемешались. Хотя при строительстве своих особняков аристократы отдавали предпочтение одним районам перед другими ввиду их политической значимости (Форум либо Священная дорога) или природного удобства (берег Тибра либо вершины холмов), город всё же не был разделен на бедные и богатые кварталы. Состоятельные люди всегда жили в окружении бедных и даже нищих, поскольку неизбежно были окружены своими многочисленными рабами, и участие богачей в той плотной социальной сети, которая описана в разделе П настоящей главы, также требовало постоянных контактов с миром лавок. Роскошные дома были окружены помещениями, сдававшимися внаем. Вследствие такого топографического соседства особняки элиты занимали определенное место в городских районах, а обитатели тех и других вступали в определенные отношения друг с другом. Соседство богачей с людьми низкого статуса играет ключевую роль для понимания связывавших их вертикальных структур — патроната и экономической и социальной заинтересованности, а также проистекавшего отсюда политического поведения131.
Характер объединений плебса отчасти определялся их связями с целым рядом патронов: в коллегии такие связи могли быть преимущественно экономическими, в квартале (vicus) они могли определяться имущественными отношениями или топографией; в некоторых обстоятельствах связующим звеном служила манумиссия, как в случае с Суллой и самыми молодыми и здоровыми рабами его жертв — десятью тысячами «Корнелиев», которых он освободил и которых было «так много, что они даже образовали коллегию»132, или в случае с огромными домохозяйствами в правление Августа. Что бы ни лежало в основе этих взаимоотношений, они не были ни пассивными, ни статичными. Политическая активность плебеев в комициях, на сходках и во время мятежей являлась неотъемлемой частью городской жизни и, как и все прочие стороны жизни городского населения, всегда мотивировалась необходимостью соблюдать лояльность тем, кто находился на более высоких этажах патроната. Насильственные вмешательства плебса в общественные события обычно
129 СоагеШ 1984 (С 184).
130 Фест 317L.
131 Veyne 1979 (G 251): 273-274.
132 Асконий. В защиту Корнелия. 75С.
778
Часть Π
имели политическую цель, как и собственно политические демонстрации; вспомним весьма показательную реакцию плебса на оскорбление, которое нанес Лукуллу его клиент — всадник Квинт Цецилий, не упомянувший его в завещании: толпа сорвала похороны Цецилия133. Политики, пострадавшие от коллективных акций городского простонародья, нередко вещали об угрозе крушения всякого порядка в государстве (вольноотпущенников часто обвиняли в поджогах и вообще в устройстве беспорядков), но на деле римское городское общество оказалось на удивление стабильным; насилие в римской политике порождали скорее действия политиков, нежели какая-то народная идеология классовой вражды134. Однако в бурные годы Поздней республики социальные группы стали еще более нестабильными и легче поддавались манипуляциям, поэтому Август потратил много сил на придание народным объединениям определенной формы, чтобы они имели летосчисление, патронов, правовой статус: принцепс постарался ввести этот поток в какое-то русло и снизить его политическую разрушительность.
Этот взрывоопасный потенциал можно было заметить уже в 142 г. до н. э., когда Аппий Клавдий Пульхр столкнулся на выборах цензоров со Сципионом Эмилианом, который «явился на форум в сопровождении нескольких вольноотпущенников и людей темного происхождения, но горластых площадных крикунов, легко увлекавших за собой толпу и потому способных коварством и насилием достигнуть чего угодно»135. Пульхр воззвал к тени отца Эмилиана, заявив, что тот пришел бы в ужас, видя постыдное поведение сына, который полагается на поддержку глашатая (praeco) Эмилия и откупщика (publicanus) Лициния Филоника; такой упрек объясняется тем, что подобное поведение было пока еще новшеством. Дело не в том, что Эмилий и Филоник были самыми презренными бедняками; здесь мы наблюдаем хороший пример искажения, обусловленного большой дистанцией: в восприятии высшей аристократии социальный статус плебеев всегда был занижен. Но в данном случае самое важное значение имеет толпа, которую названные люди способны были контролировать; постоянный рост населения Рима повлек за собой политические последствия, повлиявшие на всех и каждого. Вовсе не случайно именно в это время, после долгого перерыва, «появляются свидетельства о том, что трибуны всё более охотно брали на себя роль популяров»136. Несомненно, отчасти эти новые политические явления объясняются несправедливостью военных наборов и тяготами, от которых бедняки страдали и в Италии, и за морем; но главной причиной перемен стала потенциальная мощь возраставшего населения и его связи с элитой. В любом случае, как мы вскоре увидим, оба этих объяснения тесно связаны.
133 Валерий Максим. VII.8.5.
134 Hahn 1975 (С 112); Lintott 1968 (А 62): прежде всего гл. 12; Brunt 1974 (G 23); Vanderbroeck 1987 (С 279).
135 Плутарх. Эмилий Павел. 38.4. [Перев. С.П. Маркиша); см. также: Плутарх. Наставления о государственных делах. 14 (Моралии. 810В).
136 Brunt 1971 (А 17): 65.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
779
В тот же самый период были сняты территориальные ограничения на формальное участие народа (populus) в римской политике, воплощенные в древнем круглом комиции перед зданием сената. Со 145 г. до н. э. принятие законов, со 142 г. до н. э. регулярные выборы магистратов, а со времен Гая Гракха и сходки проводились в более просторных местах: принятие законов и сходки — на главной площади Форума, которая теперь благодаря деятельности цензоров начала П в. до н. э. имела довольно величественное архитектурное окружение, а выборы магистратов — на Марсовом поле137. Очевидным предлогом для этих перемен послужила просто необходимость обеспечить место для большего числа людей, но трудно представить, что инициировавшие их политики-популяры не осознавали потенциал нового рода демократии. Подобные инновации трансформировали формальную власть разросшегося населения и активно стимулировали рост его неформального могущества, что хорошо понимал Пульхр.
Усложнившаяся организационная структура плебса сопротивлялась прежним средствам социального контроля, характерным для эпохи Средней республики, а новые социальные отношения вырабатывались медленно. К концу П в. до н. э. стало ясно, что полагаться на прежние формы принуждения (coercitio) больше невозможно, а те формы, которым предстояло прийти им на смену, тогда лишь зарождались138. Тем временем народ превратился в политическую силу нового рода и оставался ею еще в эпоху Империи (как будет показано в гл. 16 КИДМ X). Несмотря на все параллели, проводившиеся в те дни политически чуткими историками и искушенными в истории политиками, новая народная политика была весьма отлична от той, что восторжествовала в эпоху борьбы сословий139. Рим более не являлся городом-государством. Это отразилось на численности участников борьбы: во времена Гракхов едва ли был возможен уход плебса из Рима в знак протеста, успешно применявшийся в ранней истории. На свет появился описанный в разделе П настоящей главы экономический и социальный мир, более запутанный и изменчивый, чем общество V—IV вв. до н. э. Противоречия, возникшие во П в. до н. э., подробно описаны в других главах данного тома. Тиберий и Гай Гракхи, Сервилий Главция и Аппулей Сатурнин, несомненно, воспользовались преимуществами складывавшейся в обществе обстановки, чтобы добиваться усиления демократических элементов в римской конституции. Предлагавшиеся реформы затрагивали базовые институты Римского государства. Настроения в последней трети П в. до н. э. существенно отличались от тех, что царили на протяжении полувека после Союзнической войны, и, хотя политики-популяры П в. до н. э. служили прецедентами для популяров эпохи Цицерона и Цезаря, а народ как раз во П в. до н. э. обрел
137 СоагеШ 1985 (В 277): 11-21.
138 Nippel 1988 (А 85); Lintott 1968 (А 62): гл. 7.
139 Вопреки мнению Унгерн-Штернберга, несмотря на то, что он приводит много свидетельств о реальной преемственности между более ранней борьбой и более поздней народной политикой, см.: Ungem-Stemberg 1986 (F 164).
780
Часть Π
новые устремления и уверенность в своих силах, послужившие необходимым фундаментом для его последующего самоутверждения, всё же эти две эпохи следует разграничивать. В эпоху Ранней империи, а возможно, уже к началу правления Августа считалось, что только после Союзнической войны аристократия ослабла, а могущество плебса возросло, о чем якобы возвещало знамение, когда из двух миртовых кустов перед храмом Квирина патрицианский засох, а плебейский расцвел140.
Впервые резкое возрастание народной энергии наблюдалось в ходе гражданских смут в 80-е годы I в. до н. э. В этот период насильственными средствами было достигнуто включение новых италийских граждан в римские трибы и, несомненно, значительно возросла миграция в Рим и из Рима, что знаменовало укрепление новых социальных моделей. История Мария Гратидиана показывает, к каким жестоким и насильственным мерам прибегали династы: этот человек, «который был как никто дорог плебсу», встретил мучительную смерть141. Ранее плебс впечатляюще откликнулся на меры Гратидиана, предпринятые для облегчения долгового бремени, которое после Союзнической войны и неприятностей на Востоке стало невыносимым, что свидетельствует об экономических трудностях, испытываемых простым народом. Голосующие трибы посвятили статуи Гратидиана в каждом квартале (vicus) (здесь мы впервые узнаём о подобной акции триб или о политическом значении кварталов города142), и эти статуи стали объектами культа, с возлияниями, возжиганием фимиама и свечей, подобно тому, как ранее народ начал чтить статуи Гракхов и места их гибели. Одержав победу в гражданской войне, Сулла подверг Гратидиана ужасной показательной казни, и это зверство, как и жестокость более знаменитых Мариев (отца и сына), является частью истории публичных зрелищ и институционализации насилия. Отвратительная публичная казнь считалась подобающим наказанием для политиков-популя- ров, и такое отношение было продиктовано культурой простонародья, а не навязано сверху143.
Политика городского плебса определялась отчасти им самим. Она не была чистой доской, на которой сенатские интриганы могли написать всё что угодно. Культура и социальные структуры масс не являлись искусным творением аристократии: сами массы тоже их создавали. Даже если Цицерон, Саллюстий и Плутарх не желали этого признавать, мы не должны повторять их ошибки. В основе народной культуры лежала общая для всего плебса незащищенность, обусловленная его маргинальностью: городское население объединяла шаткость его положения.
140 Плиний Старший. Естественная история. XV. 120—121; Richard 1986 (В 97); Lintott 1987 (А 65): 50-51.
141 Цицерон. 06 обязанностях. Ш.80.
142 Плиний Старший. Естественная история. XXXTV.27.
143 О жестокости римской общественной жизни см.: Wiseman 1985 (В 127): 5—10; Lintott 1968 (А 62): гл. 3; ср.: Foucault М. Discipline and Punish. The Birth of the Prison / trans. A. Sheridan (Harmondsworth, 1977): 32—69. О проскрипциях см.: Hinard 1985 (A 52): прежде всего 40-51.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
781
Плебс страдал от неблагоприятных последствий тех самых обстоятельств, которые и обусловили его формирование. Во-первых, само по себе скопление народа, особенно в столь топографически сложном месте, как Рим, подвергало его таким опасностям, как наводнения, пожары, болезни и нехватка продовольствия144. Во-вторых, социальные структуры мира лавок и инсул, складывавшиеся на протяжении П в. до н. э., порождали новые проблемы: эта система приводилась в движение деньгами, что превратило долговую проблему в страшное бедствие. Каждый кредитный кризис, каждое обесценивание денег имели ужасные последствия для римского городского общества: эти последствия можно наблюдать во времена Гратидиана, в эпоху Цицерона, а также во время волнений конца 20-х годов до н. э. и во второй половине правления Тиберия145. Само пребывание в городе стоило денег. Одним из самых очевидных примеров может служить плата за жилье: как мы отмечали выше, обитатели абстрактной ин- сулы вовсе не обязательно были бедняками (хотя они могли платить арендную плату и поденно), но порой они оказывались в отчаянном положении. В 7 г. до н. э., как тогда считалось, должники устроили крупный пожар, рассчитывая на то, что ввиду их огромных потерь им спишут долги146. Задолженность не вела к разорению до тех пор, пока кредитор не требовал уплаты долга. Обычно несостоятельность влекла за собой устрашающие притеснения; городские плебеи, несомненно, становились жертвами насилия не реже, чем вершили его. Угроза потери статуса и всех средств к существованию была весьма реальной: бедность в Риме воспринималась как несчастье, которое наступает внезапно, а не длится продолжительное время; точно так же и надежда на неожиданную прибыль постоянно скрашивала повседневную жизнь общества. Вслед за бедностью, выводившей людей из строя, им грозила опасность обращения в рабство, что, несомненно, существенно сокращало ряды бедняков147. Незащищенность и риски являлись прямыми следствиями функционирования системы, которая объединяла плебс и связывала его с элитой, служившей главным источником финансирования, поступавшего из-за пределов городской территории.
Люди жили в опасной обстановке, в обществе, где их личный статус постоянно подвергался угрозам, где многие тысячи им подобных боролись за выживание и улучшение своего положения. И вполне естественно, что в таких условиях они объединялись в более или менее стабильные
144 О наводнениях см.: Le Gall 1953 (G 144): 27—35; о пожарах, обрушениях, болезнях см.: Scobie 1986 (G 223); о нехватке продовольствия см.: Gamsey 1988 (G 100); Virlouvet 1985 (С 252).
140 О долговой проблеме см.: Frederiksen 1966 (G 78); Rodewald С. Money in the Age of Tiberius (Manchester, 1976); Yavetz 1970 (G 263). см. также гл. 16 (Николе), с. 739—741.
146 Дион Кассий. LV.8.6.
147 В эпоху Поздней республики долговое рабство было незаконным; но свободные люди нередко оказывались в тюрьмах для рабов (ergastula), если не могли отстоять свою свободу; в Риме такая опасность была весьма серьезной, особенно в эпоху гражданских потрясений. О добровольной самопродаже в рабство с целью поправить собственные дела см.: Crook 1967 (F 41): 59-60.
782
Часть Π
группы, чтобы обеспечить себе хоть какую-то безопасность и объединить свои ресурсы и возможности. Этим и объясняется изменение политической роли простого народа после Союзнической войны. О нем ясно свидетельствует тревога Цицерона в связи с эскалацией насилия в народной политике14в.
В своих речах Цицерон довольно последовательно рисует нам эту угрозу. Он вызывает в нашем воображении Рим, в котором любое объединение или коллективное действие плебса будет перехвачено и направлено на разрушение справедливого порядка. Трибы внушают Цицерону подозрения: Клодий, по его словам, «созывал трибы, руководил ими, пытался образовать новую Коллинскую трибу, набирая подлейших граждан»148 149 (следует отметить, что закон разрешал оказывать благодеяния членам своей трибы, но не чужих). Слово «набирая» указывает на разложение войска и на страх перед плебеями, превращенными в солдат, не отпускавший еще довольно долго в эпоху Империи; для подобных инвектив характерны паравоенные выражения150. Другая непременная тема — это страх перед экономической солидарностью лавочников и поденных рабочих, людей, объединенных общим занятием. Так, например, клиента Каталины Цицерон описывает как «подстрекателя лавочников» и «метателя камней»151. Метание камней и угроза поджога представляли собой два мощных и весьма эффективных оружия типичной городской толпы152. Отношения, связывавшие патрона с его рабами и бывшими рабами, тоже могли извращаться: «<...> в его (Клодия. — О.Л) доме уже вырезывались на меди законы, которые отдавали нас во власть нашим рабам»; «<...> он сделал бы наших рабов своими вольноотпущенниками»153.
Даже публичным выступлениям харизматичных политиков, на которые так полагалась элита, можно было помешать при помощи простого пародирования или более или менее комичных выкриков и вмешательств. Народный герой, объявивший себя воскресшим сыном Мария Младшего, имел наглость обратиться к аудитории Цезаря на большом пиру (epulum) в его пригородных садах (horti) без ведома самого диктатора: Цезарь стоял между колоннами портика, а его соперник развлекал собравшихся, расположившись в выигрышной позиции между соседними колоннами, где Цезарь не мог его видеть154.
В этом последнем примере нагляднее всего заметна борьба за контроль над социальными структурами, возникшими как следствие незащищенности плебса. Как бы это ни возмущало Цицерона, в этой борьбе, несомненно, участвовали все римские политики. По мере усиления незащи-
148 Flambard 1977 (С 193); Brunt 1974 (G 23).
149 Цицерон. В защиту Милона. 25. [Перев. В.О. Горенштейна, с правкой.)
ьо Цицерон. В защиту Сестия. 34.
101 Цицерон. О своем доме. 13. [Перев. В.О. Горенштейна.)
152 Lintott 1968 (А 62): 6-10.
ьз Цицерон. В защиту Милона. 87, 89. [Перев. В.О. Горенштейна.)
Ь4 Валерий Максим. IX. 15.1. О Лже-Марии см.: Scardigli 1980 (С 254); Rini 1983 (G 213); см. также в гл. 15 КИДМ X анализ неформальной политики на зрелищах.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
783
^ценности, лежавшей в основе всех ассоциаций и объединений римской городской жизни, расширялись возможности ее использования и возрастали ожидаемые награды. Цезарь одержал победу над Лже-Марием и воплотил многое из того, что не удалось Клодию;155 Август пошел еще дальше — он учредил новые организации в рамках триб, новые праздники, новые паравоенные структуры для коллегий, новые параполитические должности на всех уровнях городской жизни. Но в основе всего этого процесса, начавшегося в Средней республике, когда формировались специфические социальные и экономические структуры Рима, протекавшего в напряженный и кризисный период и продолжавшегося в эпоху Империи, лежали те самые блага, за которые боролись незащищенные плебеи, и те самые приманки, на которые их ловила элита. Как выражался Цицерон156, Рим был своего рода испорченной демократией, где можно было добиться преданности глупых и невежественных людей, объединившихся в группы, предоставив им досуг и комфорт, где политические решения принимали сапожники и изготовители поясов, набившие брюхо на общественных пирах. В следующем разделе мы рассмотрим, скрывалась ли за этими приманками какие-то реальные блага.
IV
В 309 г. до н. э. диктатор Папирий Курсор передал позолоченные щиты самнитов (племени, над которым он отпраздновал триумф) владельцам банкирских лавок (tabernae argentariae) на Форуме. Ливий сообщает, что именно тогда возникла традиция украшать центр города по особым случаям:157 ясно, что эти трофеи должны были выставляться на будущих празднествах. Появление данного обычая стало важным этапом развития системы, в рамках которой на проводившихся в городе публичных торжествах в честь побед выдающихся людей плебс выступал в качестве действующей силы и участника происходящего. Благодарным плебеям триумфатор предоставлял возможности для увековечения своего величия; в этой простой формуле заключен весь секрет взаимоотношений между элитой и городским населением. Такой обмен производился гораздо чаще, чем принимались меры для социальной защиты населения, и именно он приводил Рим в постоянное движение: не будь его, следующее поколение не прибыло бы в город, а предыдущему поколению следовало бы покинуть столицу. Концентрируя слишком много внимания на явлениях, которые отвратительны нам в античном Риме — на шуме, грязи, вони, невозможности уединения, опасностях, болезнях, мы не можем понять, как смотрели на дело сами римляне: практически непостижимый для нас на- * 161ээ О взаимоотношениях Цезаря с чужими вольноотпущенниками см.: Дион Кассий.
XL. 60.4.
1о6 Цицерон. В защиту Флакка. 15—17. (Данное описание относится у Цицерона к форме демократии, сложившейся в греческих полисах Азии. — О.Л.)
Ь7 Ливий. IX.40.16.
784
Часть Π
бор благ, обозначаемый выражением «городская праздность» («urbanum otium»), уравновешивал в расчетах римлян низкое качество жизни, бедность и страхи158. Вместо инициирования новых исследований очевидных городских проблем следует обратить внимание на такое явление, как повышение статуса городских жителей, и на другие преимущества, а также на то, каким образом массированные благодеяния властителей Средиземноморья до некоторой степени «арисгократизировали» простой народ Рима159.
Идеология благодеяний конечно же не была уникальным для Рима явлением. Другие города уже давно извлекали преимущества из устремлений своей аристократии, которая, дабы продемонстрировать собственное великолепие, благородство и удачу, тратила деньги на улучшение положения большинства своих сограждан. Вполне естественно, что такое улучшение достигалось за счет приближения простых людей по шкале материальных благ к роскошному образу жизни богачей, а успех этих начинаний определялся местом, которое занимали на данной шкале общие для всего города сооружения. К началу императорского периода Рим предоставил нам яркий пример описанной тенденции. Остается выяснить, как это произошло.
Отправной точкой исследования должно послужить осознание самих римлян, что начиная с войны против Пирра материальный комфорт и роскошь городской жизни неуклонно возрастали160. Античные авторы отмечают и некоторые вехи на этом пути. Важно отметить, что указанное осознание относилось ко всему городу: в литературных источниках упоминаются некоторые распущенные персоны, но в целом речь в них идет о широко распространенной порче нравов, вызванной излишней роскошью. В частности, Плиний Старший проводит наиболее подробные сведения о том, когда, как считалось, в Риме появились те или иные вещи, характер ные для богатого образа жизни: качественные продукты и вино, бани, хорошие строительные материалы, одежда, обычаи, зрелища и удобства. Этот перечень, который сам по себе является феноменом римского самосознания, хорошо согласуется с описанной выше эволюцией взаимоотношений бывшего раба и свободнорожденного.
Хотя и этруски, и греки, и жители Востока, по мнению античных авторов, могли предложить богачам многие атрибуты роскошной жизни, однако особенно важную роль для распространения роскоши в Риме сыграла та область, где встречались все три народа, — Кампания. Вопрос о том, каким образом роскошь возникла в самой Кампании, выходит за пределы рассматриваемой темы, однако представляется, что природные ресурсы данной области обусловили очень высокую плотность населения и его феноменальное благосостояние. Роскошь Капуи вошла в поговорку и являлась тем более исключительной, что очень широко распространи-
158 О последних см.: Ramage 1983 (G 206); Scobie 1986 (G 223).
159 Veyne 1990 (G 250): 201-261.
160 Об отношении римлян к этому процессу и его воздействию на мораль см.: Levick 1982 (А 61).
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
785
лась в городском обществе (как ранее — в Сибарисе). Поэтому именно в Кампании впервые на Западе возникли сооружения, выстроенные в великолепном стиле эллинистической архитектуры, именно здесь, у природных горячих источников на побережье, были возведены общественные бани, именно здесь был изобретен амфитеатр как средство допустить толпу к эксклюзивным развлечениям богачей, именно здесь появилась экономика, нацеленная на обслуживание всего перечисленного, а вместе с ней сложилось и некое политическое самосознание простого народа161.
Хорошим примером этого процесса могут служить игры в амфитеатре. Согласно источникам, впервые гладиаторские бои как часть зрелищ, проведение которых повышало реноме как устроителя-аристократа, так и зрителей, были представлены на похоронах Децима Юния Брута Перы в 264 г. до н. э., когда сражалось три пары гладиаторов. В 216 г. до н. э. их было уже двадцать две пары, в 200 г. до н. э. — двадцать пять, в 183 г. до н. э. — шестьдесят, в 174 г. до н. э. — семьдесят четыре, хотя в этом же году проводились и другие, не столь впечатляющие зрелища162. Возрастание масштабности гладиаторских боев вполне очевидно, но происходило оно довольно медленно; в эпоху Гракхов плебеи знали, что подобные развлечения появились сравнительно недавно. В первой четверти I в. до н. э. наиболее влиятельные люди государства весьма способствовали расширению этой деятельности: в частности, после учреждения игр в честь победы Суллы устройство великолепных общественных развлечений стало чуть ли не обязанностью любого первенствующего мужа (princeps).
Кроме того, Сулла прославился своей дружбой с сочинителями, актерами и актрисами, вращавшимися во все более разношерстных театральных кругах города, которые расширялись по мере повышения социального положения театральной аудитории163. В 155 г. до н. э. в Риме была выдвинута инициатива ставить спектакли в постоянном каменном театре, какие уже имелись во многих италийских городах; и снова мы наблюдаем взаимосвязь архитектуры и интересов плебса. Но консул и верховный понтифик Сципион Назика добился сноса этого здания: не в последний раз аристократ счел необходимым бескомпромиссно воспротивиться желаниям плебса. Но, несмотря на это и несколько других поражений, театральная жизнь во всем ее разнообразии процветала и постепенно превратилась в неотъемлемую часть повседневной жизни плебса и способ его самовыражения, а также в один из краеугольных камней его новой политической активности. «Театральная политика» — это весьма характерное для рассматриваемого периода явление: сперва она распространилась по каналам средиземноморской экономики среди коммерческих классов южной Италии, а затем укоренилась в мире вольноотпущенников и в новом городском обществе Рима164.
161 Frederiksen 1984 (А 35): гл. 14; Gros 1978 (G 109).
162 Ливий. XU.28.10.
163 Weber 1983 (G 256): гл. 6, 8; Garton 1964 (С 61).
164 Wiseman 1985 (В 128).
786
Часть Π
Чтобы понять причины роста популярности гладиаторских игр, следует рассмотреть место игр вообще (ludi) в римском городском обществе. Во многих отношениях игры развивались параллельно тем характерным социальным структурам, которые уже рассмотрены в настоящей главе. Игры глубоко коренились в общинной религиозности городского населения и представляли собой акты богопочитания, в которых должна была участвовать значительная часть жителей Рима: римляне украшали свои дома и кварталы и исполняли множество личных ритуалов, а также участвовали и в групповой деятельности на самих играх. То есть в основе великих празднеств, финансируемых государством и должностными лицами, лежали «игры на перекрестках», а также различные развлечения плебса, вроде праздника Анны Перенны165. Аристократия впервые начала зрелищно отмечать эти плебейские праздники в Ш в. до н. э.; некоторые исследователи разграничивают зрелища для высших классов — Мега- лезийские игры, учрежденные в 204 г. до н. э., — и ответные мероприятия, ориентированные на плебс, — Плебейские игры, которые теперь были формализованы и проводились за счет плебейских эдилов; возможно, непосредственной реакцией на Мегалезийские игры стали и игры в честь Цереры, которые тоже ассоциировались с плебсом. Не исключено, что какое-то отношение к этим трениям имеет акция Клодия, который с применением насилия сорвал Мегалезийские игры. Достаточно очевидно, что по меньшей мере в последней четверти П в. до н. э. значимость игр в Риме существенно возросла, и эта тенденция продолжилась и в следующем поколении. С одной стороны, религиозные обряды, проводившиеся в годы кризиса, укрепили связи Рима с богами, с другой — ввиду быстрого расширения римского городского общества и его дестабилизации потребовались новые формы выражения солидарности и принадлежности к группе, особенно перед лицом серьезной военной угрозы извне. Примечательно, что следующий период, когда было увеличено число дней, посвященных играм, и учреждены новые игры, приходится на эпоху Суллы; с той поры началась куда более бурная инфляция феномена празднования, наблюдавшаяся в Империи. К моменту смерти Цезаря римское население наслаждалось великими играми на протяжении пятидесяти пяти дней в каждом году166. Этот процесс распространения привилегий на плебс кратко резюмирован в одной фразе, написанной в I в. н. э.: «<...> людям официально предоставлено право на наслаждения» («<...> ius luxuriae publice datum est)167.
Улучшались и физические условия проведения зрелищ. Цензоры 204 г. до н. э. обустроили подступы к обширной долине в южной части города — Большому цирку, где традиционно проводились многие древние игры; в 196 г. до н. э. Луций Стертиний посвятил в Большом цирке мону¬
165 Овидий. Фасты. V.523—542.
166 О развитии и природе игр см.: Scullard 1981 (Н 117); Rawson 1981 (G 210).
167 Сенека Младший. Письма. 18.1.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
787
ментальную арку в честь своих побед в Испании168. Этого следовало ожидать: поскольку памятники в честь победоносных полководцев ставились в этом районе уже на протяжении века, вполне логично было перейти к украшению сцены зрелищ. В конце 190-х годов до н. э. распределение зрительских мест было законодательно упорядочено; в 174 г. до н. э. цензоры заключили контракт на крупные строительные работы, связанные с проведением игр; со 169 г. до н. э. начинают устраиваться экзотические звериные травли169 *. Политическое значение, приобретенное играми столетием позже, ясно иллюстрирует тот факт, что в эпоху Цицерона могущественные люди старались обеспечить своим клиентам зрительские места в каких-то зданиях, выходивших на долину Большого цирка, теперь за- полненную толпой, υ но следует учитывать, что сопротивление новым обычаям несколько замедляло этот процесс (вспомним о древнем постановлении сената, запрещавшем проводить звериные травли; для его отмены пришлось принимать трибунский закон)171. И если первые постоянные театры и амфитеатры в Риме построили Помпей и деятели эпохи Августа, то Большому цирку придал его монументальный облик (напоминающий гигантскую шпильку) Цезарь в конце Республики.
Впрочем, элита не обладала монополией на устройство игр. В надписях упоминаются игры, проведенные руководителями скромных объединений плебса, рассмотренных выше, и характерно, что самый ранний датированный случай (в 108 г. до н. э.) имел место именно в Кампании, где игры организовали магистры Капуи;172 в Риме была найдена немного более поздняя надпись о «магистрах Геркулеса (magistri Herculis), предварительно назначенных голосованием округа (pagus)», которые тоже устроили подобные игры173. Последний эпиграфический документ одновременно свидетельствует о новых должностных лицах, демократической организации плебса и распространении игр. Здесь, скорее всего, речь идет о сценических играх — ludi scaenici (а в минтурнской надписи это указано прямо): только в правление Августа, когда появляются свидетельства о вольноотпущенниках, устраивающих гладиаторские игры (munera) в италийских городах, люди низкого статуса стали организовывать более престижные зрелища. Но и сценическими играми городское население тоже восхищалось; во П в. до н. э. в Амитерне раб некоего Клелия описывал себя как «славного мима, который снова и снова доставлял народу (populus) легкое и приятное развлечение»;174 а позднее одноименный приспешник Клодия способствовал политической деятельности своего патрона, устраивая игры на перекрестках. Распорядитель (dissignator) Декум, которого отдельные
168 Ливий. ХХХШ.27.4.
169 О развитии Большого цирка см.: Humphrey 1986 (G 126): 60—75.
1/0 Цицерон. В защиту Мурены. 73.
171 Плиний Старший. Естественная история. VIII.64.
172 ILLRP727.
173 ILLRP701.
174 ILLRP 804.
788
Часть Π
исследователи тоже считают клиентом Клодия, основал греческий хор, имевший собственных руководителей и патрона, а также общую гробницу в пригороде Рима175. В этих случайно сохранившихся надписях прослеживаются сложная структура объединений плебса, их тесная связь с миром публичных развлечений и длинные цепочки зависимости, восходящие к элите176.
В пассаже из речи в защиту Мурены, ссылка на который приведена выше177, рассуждая о том, аморально ли выкупать целые лавки (tabernae) вдоль Цирка, чтобы обеспечить хорошие места членам своей трибы (tribules) в обмен на их голоса на выборах, Цицерон проводит удачную и показательную параллель с бесплатным угощением, которому он уделяет даже больше внимания; в данной речи наиболее ярко освещается важное значение таких угощений для всей римской политической системы в 63 г. до н. э. Указанный обычай тоже имел свою историю, сохранившуюся для нас в хорошо известных рассказах; едва ли стоит удивляться тому, что и эта история восходит к эпохе перемен — к концу П в. до н. э., когда стоик Туберон, проводивший погребальный пир в память о Сципионе Эмилиане (в 129 г. до н. э.), настолько оскорбил плебс своим аскетизмом, что после этого проиграл выборы преторов. По словам Цицерона, римский народ ненавидел роскошь у частных лиц, но ценил пышность в общественных делах178, или, как выразился более поздний автор, «город ощутил, что не только непосредственные участники пира, но и сам Рим, во всей своей совокупности, возлежал на грубых шкурах, и в день выборов отомстил за унижение на пиру»179. Таким образом, в 129 г. на общественных пирах еще находилось место аскетизму, а число их участников было невелико. На протяжении следующего века масштабы пиров разрастались, и итогом стала осмеиваемая Цицероном испорченная демократия, отданная во власть обожравшихся и тупых сапожников и изготовителей поясов180. Одним из главных выражений общности жизни плебса стала общая трапеза, сходная с играми (и часто их сопровождавшая) и, подобно им, имевшая религиозный подтекст. Такие трапезы проводили различные местные и общественные организации: Варрон пишет, что обеды коллегий, всё более многолюдные, способствовали росту цен на рынке продовольствия;181 и следует помнить о прямой экономической взаимосвязи между этими формами поведения и экономическим характером города: пиры (epulum) были бы невозможны без лавок. Но самыми грандиозными из этих угощений были триумфальные банкеты победоносных полководцев. По слухам, великому Эмилию Павлу принад¬
175 ILLRP771.
176 Frezouls 1983 (G 80).
177 См. сноску 170 наст. гл.
178 Цицерон. В защиту Мурены. 76; ср.: Цицерон. В защиту Флакка. 28.
179 Валерий Максим. УП.5.1.
180 Цицерон. В защиту Флакка. 15—17.
181 Варрон. Сельское хозяйство. Ш.2.
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
789
лежало изречение: «Тот, кто умеет в войне победить, сумеет и пир задать, и устроить зрелища»182. Угощения, организованные Цезарем, были особенно масштабными: он высоко поднял планку состязания и дал образец для подражания другим городам Италии и провинций. Со времен Цезаря не только гладиаторские бои начали устраивать люди низкого социального статуса, но и угощения с вином и сладкой выпечкой прочно вошли в муниципальную жизнь183.
Такие пиры наряду со многими другими проявлениями величия (magnificentia), которых плебс ожидал от элиты, породили новую общественную архитектуру Поздней республики. Витрувий отмечает, что в доме государственного деятеля должны быть огромные залы и просторные колоннады, ибо по долгу службы он вынужден принимать множество посетителей184; в том же направлении развивалась и общественная архитектура города. Наряду с храмами, которые традиционно служили памятниками успехам элиты, неподалеку от них всё чаще стали появляться места, где широкая публика могла вкусить плодов от счастья аристократов. Портики храмов расширились, а сами они теперь были окружены священными участками. В колоннадах, окружавших эти участки, можно было полюбоваться произведениями искусства, которые являлись либо военной добычей, либо последующими приобретениями полководцев. Архитектура становилась всё более пышной, и аристократы стали показывать народу не только статуи и картины, ранее услаждавшие взгляды иноземных властителей, но и редкие растения и животных, которые символизировали власть дарителей над самой природой185.
В распространении подобных зданий начиная с середины П в. до н. э. (первым из них стал Октавиев портик, построенный в 168 г. до н. э.) отражено возрастание взаимозависимости между аристократическими деятелями и городской аудиторией. Но действующими лицами этой истории являлись и плебеи: ведь на портиках, стенах и памятниках они писали, среди письменных и визуальных посланий элиты, собственные тексты с требованиями земли для неимущих186. Поворотным пунктом стал огромный архитектурный комплекс Помпея, возведенный в 55 г. до н. э. (возможно, в подражание Сулле): Помпей поместил храм над зрительскими рядами (cavea) громадного театра, нарушив тем самым древний запрет на строительство постоянных театров; а за сценой протянул широкий портик, плотно засаженный садами и украшенный знаменитыми картинами (на¬
182 Полибий. XXX. 14; см. также: Ливий. XLV.32.il. (Перев. О.Л. Левинской.)
183 О пирах для народа см.: Toller 1889 (G 243); Mrozek 1972 (G 169); Purcell 1985 (G 200). Свидетельство о бесплатном распределении в начале П в. до н. э. напитка, который, по-видимому, сильно напоминал современный вермут (mulsum rutatum), см.: Плиний Старший. Естественная история. XIX.45. См. также: Валерий Максим. П.4.2 — о пире (epiüum) в 183 г. до н. э.
184 Витрувий. VL5.2.
18д Об экзотических выставках в столь изысканной обстановке см.: Rawson 1976 (G 209).
186 Плутарх. Тиберий Гракх. 8.
790
Часть Π
пример, работами Антифила «Кадм» и «Европа»). Таким образом Помпей превзошел фантастическое великолепие эдилитета Скавра в 58 г. до н. э., который тоже считался поворотным пунктом в игре, связывавшей щедрые благодеяния и популярную политику187. Тесная взаимосвязь между зрелищами и другими формами благодеяний вполне очевидна.
Именно в подобных зданиях и происходили многолюдные общественные пиры, хотя похожие строения возводились и в частных владениях. Предваряя советы Варрона, выдающиеся деятели Поздней республики возводили портики в своих городских и пригородных особняках. Юлий Цезарь даже объявил в завещании свои знаменитые сады (horti) за Тибром общественным участком, вроде тех участков, чш находились на Марсовом поле188. Именно в них случился инцидент с Лже-Марием, свидетельствующий не только о дерзости агитатора, но и о действиях самого Цезаря, и о том, как они вписывались в архитектуру его садов.
Значительная часть позднереспубликанской роскоши была рассчитана на то, чтобы произвести должный эффект на публику. Образ жизни выдающихся людей вносил свой вклад в «аристократизацию граждан», которую мы уже отмечали. И даже двойной вклад, поскольку этот образ жизни не только предполагал благодеяния в адрес простого люда, но и способствовал развитию мастерских и лавок, игравших столь важную роль в городском обществе. Благодеяния и зрелища, организуемые успешной элитой, не сводились к оказанию милостей пассивному простонародью не только потому, что именно эти акции и породили мир лавок, но и потому, что в ходе довольно болезненного процесса это самое простонародье обрело собственную активную роль и собственную идеологию, отражавшую его стремление к привилегиям (commoda)189. «Commoda» — это ключевое понятие в мировоззрении римских городов. Оно занимает центральное место в системе ценностей, укреплявшей идентичность нестабильных социальных групп. Эти ценности находили и физическое выражение в сравнительном единообразии архитектурных вкусов, декоративного репертуара и строительных техник Поздней республики190. Террасированные здания великих святилищ и портики на виллах и форумах быстро и равномерно распространились по всему западу центральной Италии. Исследователи справедливо связывают это распространение с пристрастиями римской элиты, но лучше воспринимать его как отражение социальной системы. А еще лучше осознавать, что эти перемены были обусловлены не обычаями огромных рабовладельческих хозяйств, не преобладанием высокодоходных латифундий, но уникальной и непрочной взаимосвязью
187 О Скавре см.: Плиний. Естественная история. VHI.96. В целом см.: Millar 1984 (А 75); СоагеШ 1983 (G 43А) — автор исследует взаимосвязь дома, театра и храма как сцены для общественных празднеств с политическим подтекстом.
188 Цицерон. Филиппики. П.109; Дион Кассий. XLIV.35.
189 О понятии «commoda» см.: Nicolet 1985 (С 232).
190 Ward-Perkins 1977 (G 255); Gros 1978 (G 109); Boethius 1960 (В 264): гл. 2; Torelli 1980 (G 244).
Глава 17. Город Рим и городской плебс...
791
элиты с многочисленным и вечно изменчивым населением городов, прежде всего Рима. В этом смысле исключительные и впечатляющие архитектурные тенденции рассматриваемого времени следует считать вторичным явлением, и именно в этом смысле мы вправе сказать, что «город — это не дома, а люди», то есть городской плебс и, шире, многообразное население, ведущее свою непривычную нам жизнь в городе Риме.
Глава 18
М. Гриффин
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭПОХУ ЦИЦЕРОНА
Рассматривая степень интенсивности и характер интеллектуальной деятельности в римском обществе, мы вынуждены заострять внимание прежде всего на культуре римских и италийских высших классов1. Особенности источников таковы, что они позволяют оценить скорее степень владения этих кругов греческим языком, нежели уровень грамотности населения в целом. Можно отметить, что законодатели П в. до н. э. уже исходили из того, что их законы будут читать жители всего полуострова, и требовали публично выставлять эти тексты на всеобщее обозрение; граффити в Помпеях свидетельствуют о том, что в I в. н. э. в процветавшем городе значительная часть населения умела читать и, вероятно, писать, хотя и не очень хорошо2. Но такие свидетельства почти ничего не говорят о численности и роде людей, которые могли и желали читать сложную латинскую прозу и стихи. Здесь самым важным фактором должна была являться доступность образования. Однако следует с самого начала отметить один момент — важное значение устной культуры. Для восприятия не только драмы (одного из самых ранних жанров античной литературы), но и ораторского искусства, ключа к пониманию общественной жизни и вместе с тем интеллектуального и художественного продукта, достигшего в рассматриваемый период наивысшей утонченности и отделки, чтение не требовалось. Политические и судебные речи на форуме представляли собой разновидность общественных развлечений, вроде драматических постановок, и Цицерон свидетельствует о восприимчивости простонародной аудитории к порядку слов и использованию метра или прозаического ритма3. Другие литературные произведения тоже периодически зачитывались
1 См.: Rawson 1985 (Н 109) — здесь приведен обзор всего материала, за исключением трудов Цицерона. Ценность по-прежнему представляет работа: Kroll 1933 (Н 70): гл. 8, И.
2 Напр., «Фрагмент из Тарента» (Lintott 1982 (В 191): 131 (гл. 14); cp.: FIRA I: 9, стк. 25-26); Harris 1983 (Н 58).
3 Цицерон. 06 ораторе. Ш. 195—196, 198; Цицерон. Оратор. 173.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
793
публично; серьезное исследование латинской литературы началось в середине П в. до н. э., когда ученые начали готовить произведения Невия и Энния для публичных чтений4.
I. Образование
Цицерон с одобрением отмечал, что римское образование, в противоположность греческому, не регулировалось и не стандартизовывалось государством5. Платные начальные школы появились в Риме, вероятно, в середине Ш в. до н. э. и стали, по-видимому, распространенным явлением, хотя, за исключением намеков в комедиях Плавта, прямых свидетельств о них довольно мало6. Многие дети по-прежнему обучались грамоте и основам арифметики дома или, вместе с другими детьми, у соседей, имевших специально обученного раба, такого как Хилон у Катона7. Во второй половине П в. до н. э. быстро развивалось среднее образование, выстроенное по греческому образцу. После визита в Рим знаменитого ученого Кратета из Малла изучение греческих и латинских языков и литературы (grammatica) стало настолько популярно, что в начале I в. до н. э. в Риме насчитывалось больше двадцати школ, предлагавших такие услуги8. В этот же период хорошо засвидетельствована и институционализация риторики, следующей ступени образования; цензорский эдикт 92 г. до н. э. объявлял, что новые латинские риторические школы уступают греческим, учрежденным «нашими предками», но в постановлении сената, принятом в 161 г. до н. э. и направленном против философов и риторов, риторические школы еще не упоминаются9. Однако высшие классы нередко предпочитали более домашнюю обстановку. Так, Цицерон и его брат вместе со своими кузенами и другими подростками, включая Аттика, учились в доме консуляра и оратора Луция Лициния Красса, а в следующем поколении уже сам Цицерон следил за обучением своих сына и племянника у специалистов по грамматике и риторике10.
4 Светоний. О гралшатиках. 2. Грамматику (grammatica) Варрон определял как исследование трудов поэтов, историков и ораторов с целью прочтения (вслух), объяснения, исправления и оценки этих текстов (GRF: No 235—236).
5 Цицерон. О государстве. IV.3.
6 Bonner 1977 (Н 16): 34 слл.
7 Плутарх. Катон Старший. 20.3.
8 Светоний. О гралшатиках. 2—3.4.
9 Светоний. О гралшатиках. 25.1; Авл Геллий. Аттические ночи. XV. 11; см. также: Цицерон. 06ораторе. П.133 (время действия — 91 г. до н. э.): «<...> этих учителей, которым мы поручаем своих детей» («<...> istorum magistrorum ad quos liberos nostros mittimus». — Перев. ФА. Петровского).
10 Цицерон. 06 ораторе. П.2; Корнелий Непот. Аттик. 1.4; Цицерон. Письма к брату Квинту. П.4.2, 13(12).2; Ш.3.4; Цицерон. Письма к Аттику. VI. 1.12; ср.: Светоний. О грамматиках. 7.2 — о Марке Антонии Гнифоне, который начал свою преподавательскую деятельность в доме Юлия Цезаря.
794
Часть Π
Для более глубокого освоения риторики и права, имевших важное значение для государственной карьеры, нередко использовалось менее формальное обучение: так, Цицерон вместе с другими учениками посещал Квинта Муция Сцеволу Авгура, который в ответ на запросы граждан высказывал собственные суждения по вопросам права; Марк Туллий слушал также знаменитых ораторов своего времени и подражал им11. В эпоху юности Цицерона появился обычай отправляться за море для продолжения образования у греческих философов и риторов12. Но уже веком ранее этот род образования и развлечения начали позволять себе римляне, отправляющиеся на Восток по государственным делам13, а в аристократических домах в Риме и в свитах магистратов за морем стали появляться греческие интеллектуалы, способные содействовать научным изысканиям римлян, если те имели такое желание14.
Таким образом, римское образование носило преимущественно домашний характер и не было институционализировано, а это неизбежно означало, что большинство населения располагало лишь малой долей возможностей, имевшихся у богатых, тем более что девочки обычно обучались дома. Но такое соответствие между социальным классом и возможностями для получения образования наблюдалось не везде: важное исключение составляли, по крайней мере в Риме, рабы и вольноотпущенники, которые вовсе не находились в самом низу образовательной лестницы. Образованные грекоязычные пленные обучали детей, а также и других рабов в доме своего хозяина, чтобы повысить их ценность. Некоторые из них в награду за свои таланты получали свободу и открывали школы. Образование могло служить средством социальной мобильности как для таких рабов, так и, в некоторых случаях, для свободных бедняков, вроде Орбилия, учителя Горация, который в детстве получил образование, а затем осиротел и остался без средств к существованию, но позднее занялся преподаванием и обрел на этом поприще если не состояние, то славу15. Отчасти это объяснялось некоторым презрением римлян к чисто интеллектуальным занятиям: вот как отзывается Сенека Старший о первом римском всаднике, который в правление Августа на¬
11 Цицерон. Брут. 306, 304—305.
12 Цицерон. Брут. 315—316; Цицерон. О пределах блага и зла. V.1 слл.; Цицерон. Учение академиков. 1.12 (о Варроне и Бруте); Светоний. Божественный Юлий. 4.1 (о Цезаре). См. также: Цицерон. Об обязанностях. 1.1; Цицерон. Письма к близким. XVL21 (о сыне Цицерона).
13 Цицерон. Об ораторе. Ш.74—75; 1.45 (о Луции Лицинии Крассе, консуле 95 г. до н. э.); 1.82 (о Марке Антонии, консуле 100 г. до н. э.); Ш.68 (о Метелле Нумидийском, консуле 109 г. до н. э.). Свидетельства о следующем поколении см.: Цицерон. Учение академиков. П.11 (о Лукулле); Страбон. XI. 1.6; Плиний Старший. Естественная история. УП.112; Плутарх. Помпей. 42.4; 75.3—4 (о Помпее); Цицерон. Брут. 250 (о Марке Клавдии Марцелле в изгнании).
14 Перечень таких интеллектуалов см.: Balsdon 1979 (А 5): 54 слл.
15 См., напр.: Плутарх. Катон Старший. 20.3; Плутарх. Красе. 2.6; Корнелий Непот. Аттик. 13.3; Светоний. О грамматиках. 9. Bonner 1977 (Н 16): 37 слл.; 58 слл.; Treggiari 1969 (G 247): НО слл.; Forbes 1955 (Н 39).
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
795
чал преподавать в Риме риторику: «До его времени преподаванием этого благороднейшего предмета занимались только вольноотпущенники и, согласно господствовавшему тогда отвратительному обычаю, считалось позорным обучать тому, чему почетно было учиться»16. Большой вклад пленных из грекоязычных областей в римское образование обусловлен также и его содержанием, которое во Π—I вв. до н. э. на всех уровнях стало полностью греческим.
Говорить по-гречески многие дети учились дома — у рабов-греков (paedagogi)’ которые давали им элементарные знания и сопровождали их в начальную школу. Грамматика появилась, когда двуязычный вольноотпущенник перевел «Одиссею» Гомера на латинский язык; основным предметом в рамках курса грамматики оставалась греческая поэзия, а латинские сочинения начинали изучаться по мере того, как учителя редактировали их и применяли к ним греческие методы анализа17. Обучение риторике проводилось только на греческом языке до первого десятилетия I в. до н. э., когда Плоций Галл попытался основать школу латинской риторики. Если семьюдесятью годами ранее сенат не доверял греческим риторам, то теперь, в 92 г. до н. э., цензоры, одним из которых был выдающийся оратор Луций Красе, уже настаивали на том, что обучение должно вестись по-гречески. «Весьма искушенные люди» (вероятно, сам Красе) отсоветовали Цицерону посещать новую школу ввиду низкого качества образования. Современные исследователи предпринимали попытки объяснить позицию цензоров политическими мотивами, ведь Плоций был близким другом Мария, но нет оснований не доверять Цицерону, который в то время уже было достаточно взрослым, чтобы понимать, что происходит. Новая школа не давала традиционного греческого формального образования, а предлагала лишь ускоренный курс обучения, который состоял из практических упражнений, подкрепленных минимумом теории. Цицерон намекает, что такой подход мог бы сделать риторическое образование более доступным и, возможно, открыть возможности для успеха в общественной жизни большему числу людей: примечательно, что в этот период италийские высшие классы требовали гражданства и доступа в политическую жизнь. В этом, более широком, социальном смысле цензорский эдикт можно считать политическим18 * 20.
В диалоге Цицерона, действие которого происходит в 91 г. до н. э., Красе выражает надежду, что качественное латинское риторическое образование в конце концов все-таки появится. Старший современник Красса, оратор Марк Антоний, написал труд, в котором изложил плоды собственного опыта, а к 80 г. до н. э. и Цицерон сочинил систематический трактат «О нахождении материала», основанный на греческих риториче¬
16 Сенека Старший. Контроверсии. 11, Предисл.5; ср.: Цицерон. 06обязанностях. 1.151.
17 Светоний. О граллматиках. 1—2.
18 Светоний. О граллматиках. 25—26; Цицерон. 06 ораторе. Ш.93—94 (здесь Красе приво¬
дит аргументы в защиту эдикта); Тацит. Диалог об ораторах. 35; Цицерон. В защиту Архия.
20 (о Марии); Bonner 1977 (Н 16) 71 слл.; Rawson 1985 (Н 109): 49—50.
796
Часть Π
ских руководствах19. Цицерон мечтал (и приписывал эту мечту также Крассу) о широком образовании, в котором не только греческая риторическая теория, но и изучение истории и философии соединялись бы с римским опытом. Данный идеал поддерживали еще Квинтилиан и Тацит, но на деле, как ясно дают понять все три автора, риторическое образование, как греческое, так и латинское, становилось всё более узким и техническим. Сформулированный Цицероном идеал восходил к рассуждениям Исократа, а до него — софистов, но в самой Греции эта традиция уже давно прервалась. Главной составляющей риторического обучения стали упражнения, которыми в юности занимался и сам Цицерон. Своему сыну и племяннику Марк Туллий пытался обеспечить более теоретическое образование, чем мог дать их греческий учитель риторики, но ни эти юноши, ни другие их современники не разделяли любви Цицерона к декламациям на абстрактные философские темы20. Это и неудивительно. Сам Цицерон объясняет популярность риторического образования в Риме тем, что оно давало определенные преимущества: репутацию, богатство и влияние. Он также отмечает, что к тому времени, как специализация была заимствована Римом, она уже глубоко укоренилась в греческой интеллектуальной традиции19 20 21.
II. Социальная среда
Римскую интеллектуальную жизнь, как и римское образование, до самого падения Республики не обслуживали никакие институты, имевшие государственное финансирование, вроде библиотек эллинистических царств. В свою диктатуру Цезарь планировал построить в Риме первую публичную библиотеку, назначив ее первым руководителем выдающегося ученого Марка Теренция Варрона, автора трактата «О библиотеках». Но препятствием для реализации этого проекта, возможно, стал случившийся в 47 г. до н. э. пожар в Александрийской библиотеке, откуда могли бы поступить некоторые греческие книги, и к моменту смерти Цезаря тремя годами спустя, видимо, еще ничего не было сделано22.
Тем временем римские полководцы привозили в Рим с Востока греческие библиотеки, захваченные в качестве добычи или приобретенные на средства от ее продажи. Так, библиотека Персея, царя Македонии, досга-
19 Цицерон. 06 ораторе. 1.94, 206, 208; Цицерон. Брут. 163. Роусон считает, что в тот же период, когда был написан трактат «О нахождении материала», были сделаны первые римские попытки организовать риторику как науку (ars), основанную на формальных греческих принципах, см.: Rawson 1978 (Н 107).
20 Цицерон. О нахождении материала. 1.1 слл.; Цицерон. 06ораторе. 1.22; Ш.131; Цицерон. К брату Квинту. Ш.3.4.
21 Цицерон. 06 ораторе. 1.22; Ш.131—136.
22 Светоний. Божественный Юлий. 44.2. В 39 г. до н. э. Азиний Поллион открыл общественную библиотеку в построенном им Атрии Свободы (Плиний Старший. Естественная история. VII.115; Овидий. Скорбные элегии. Ш. 1.71—72), и его примеру последовал Август (Светоний. Август. 29.3).
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
797
лась сыновьям Эмилия Павла, библиотека Лукулла, богатая греческими книгами, являлась частью его понтийской добычи, а Помпей взял себе медицинские трактаты, принадлежавшие ранее Митридату23.
Но самым фантастическим приобретением мог похвастаться Сулла: он захватил библиотеку Апелликонта из Теоса, замешанного в антирим- скую деятельность в Афинах. Это собрание включало в себя библиотеку Аристотеля. Об этом сообщает современник, философ Посидоний, а Страбон и Плутарх добавляют дополнительные детали: библиотека, содержавшая книги Аристотеля и Теофраста, случайно попала в руки невежественных людей, которые спрятали ее под землей, чтобы скрыть от агентов пергамского царя; книги были сильно повреждены; Апелликонт восстановил их, но неумело; и, пока Сулла не привез книги в Рим, а Ти- раннион не поработал над ними, перипатетики вынуждены были обходиться без сочинений Аристотеля и его преемника; Тираннион же передал копии этих книг Андронику Родосскому, который опубликовал их и составил к ним указатели24. Хотя можно усомниться в том, что труды, о которых идет речь, действительно не были известны в Греции и что перипатетическая школа и в самом деле оказалась в таком застое, но есть все основания доверять сообщению о том, что эти книги оказали огромное влияние на развитие философии и что важную роль в этом процессе сыграл Тираннион, у которого учился Страбон — один из наших источников. В письмах Цицерона Тираннион упоминается как выдающийся ученый и наставник, помогавший Марку Туллию с обустройством его библиотеки в Анции25.
Благодаря книжным коллекциям Суллы и Лукулла греческие исследователи теперь получили возможность полноценно работать в Риме — хотя это практиковалось и раньше: Полибий впервые встретил Сципиона, сына Эмилия Павла, когда пришел взять на время некоторые книги из библиотеки Персея. В библиотеке Лукулла имелись колоннады и кабинеты, где собирались ученые греки, проживавшие в Риме. Тираннион уже прославился как грамматик, когда попал в плен к римлянам; Мурена отпустил его на свободу, но Лукулл, командир последнего, счел этот поступок неуважением к ученому, поскольку он подразумевал, что Тираннион побывал рабом. Грамматик, несомненно, мог бы вернуться на Восток, но предпочел наслаждаться богатством и почетом в Риме. Точно так же и великий врач Асклепиад отказался переезжать из Рима ко двору Митридата, хотя царь располагал обширным собранием медицинских трудов26.
23 Плутарх. Эмилий Павел. 28; Исидор. Начала. VI.5.1; Плутарх. Лукулл. 42; Цицерон. О пределах блага и зла. Ш.7; Плиний Старший. Естественная история. XXV.7.
24 Афиней. V.214d (= Посидоний в изд.: Edelstein-Kidd 1988 (В 32): F253.145 слл.); Страбон. ХШ.608—609С; Плутарх. Сулла. 26.
25 Страбон. ХП.548С; Цицерон. Письма к Аттику. IV.4a.l. О перипатетиках и Андронике Родосском см., напр.: Donini 1982 (Н 33): 81 слл.
26 Полибий. XXXI.23.4; Плутарх. Лукулл. 42; 19.7 (о Тираннионе); об Асклепиаде см.: Плиний Старший. Естественная история. XXV.6; XXVI. 12.
798
Часть Π
В эпоху Цицерона и он сам, и его друзья собирали собственные библиотеки, пусть и не такие большие. Книготорговля находилась в зачаточном состоянии, и обученные рабы-переписчики требовались не только для того, чтобы копировать новые труды, но и для того, чтобы пополнять собрания уже существующих27. Некоторые из проблем, возникающих в связи с приобретением книг, живо описаны Цицероном, к которому его брат Квинт обратился за помощью в расширении своей домашней библиотеки. Латинские книги, имевшиеся в продаже, были испорчены и ненадежны; для приобретения хороших греческих книг требовалась консультация специалиста, а Тираннион на сей раз был занят28. Такие обстоятельства, несомненно, побуждали ученых людей заниматься подготовкой авторитетных изданий текстов. Цицерон упоминает также о возможности обменяться с кем-то книгами или их дубликатами или позаимствовать книгу на время, чтобы скопировать ее. За актуальностью такой библиотеки требовалось постоянно следить. Чтобы получить в свое распоряжение книгу Посидония, Цицерону пришлось посылать за ней в Афины, хотя он имел доступ к превосходному собранию сочинений стоиков в библиотеке Лукулла29.
Об огромном значении книг для цивилизованного досуга в данный период свидетельствует одно замечание Цицерона: после того как Тираннион обустроил его библиотеку, Марк Туллий почувствовал, что его дом обрел душу30. Несомненно, нередко возникала необходимость заимствовать книги у друзей, тем более что у таких людей, как Цицерон, собрания книг были разбиты на несколько частей, и в итоге своя библиотека имелась на каждой вилле и в каждом городском особняке31. В конечном счете интеллектуальная жизнь неизбежно становилась по своему характеру социальной, что мы видим в трактате «Топика», в котором Цицерон, его автор, и Требаций ведут, каждый свои, исследования в библиотеке Цицерона в Тускуле, или в сочинении последнего «О пределах блага и зла», в котором Цицерон встречает Катона, обложившегося сочинениями стоиков, на соседней вилле Лукулла32.
Письма Цицерона подтверждают ту картину, которая изображена в его диалогах: для правящего класса исследования являлись формой досуга и ассоциировались с сельской местностью и виллами. В некоторых областях, например, в Тускуле, Анции и Неаполитанском заливе, концентрация таких вилл была очень высокой. Например, известно, что в Туску-
27 О переписчиках (librarii) Цицерона см.: Цицерон. Письма к Аттику. XII. 14.3; ХШ.21а.1; о переписчиках Аттика см.: Цицерон. Письма к Аттику. ХШ.13.1; ХШ.21а.1; ХП.40.1; Корнелий Непот. Аттик. 13.3. О прочих переписчиках см.: Rawson 1985 (Н 109): 43-44.
28 Цицерон. Письма к брату Квинту. Ш.4.5; Ш.5.6.
29 Цицерон. Письма к Аттику. XVI. 11.4; Цицерон. О пределах блага и зла. Ш.7.
30 Цицерон. Письма к Аттику. IV.8.2.
31 Цицерон имел библиотеки по меньшей мере в Тускуле (Цицерон. О дивинации. П.8; Цицерон. Топика. 1), Анции (Цицерон. Письма к Аттику. П.6.1; ГУ.4а.1) и Асгуре (ХП.13.1), а благодарный клиент подарил ему библиотеку, ранее принадлежавшую грамматику Сер- вию Клодию (Светоний. О грамматиках. 3; Цицерон. Письма к Аттику. 1.20.7; П.1.12).
32 Цицерон. Топика. 1; Цицерон. О пределах блага и зла. Ш.7.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
799
ле находились виллы Цицерона, Гортензия, Лукулла и Варрона, а в предшествующем поколении Квинт Муций Сцевола, Луций Лициний Красе и Марк Эмилий Скавр проводили дни отдыха неподалеку друг от друга33. Если в диалогах Платона сельская обстановка является исключением, то в диалогах Цицерона — правилом34.
Конечно, пребывание на вилле нельзя назвать простой сельской жизнью. Напротив, из диалогов и писем Цицерона видно, что это была весьма утонченная светская жизнь, требовавшая соблюдения социального этикета и изысканных манер. Сообщается об обедах с участием римских друзей или представителей местной аристократии, на которых запрещалось вести деловые разговоры и допускались только литературные беседы или чтение вслух35. При этом соблюдались определенные формальности. Полагалось направлять друг другу приветственные письма и наносить краткие визиты; за неожиданное посещение следовало извиниться; остаться в гостях можно было только по приглашению;36 младшие должны были проявлять почтение к старшим;37 споры велись со всей возможной вежливостью и учтивостью38.
В какой-то мере мы здесь говорим об идеале, который чрезмерно щепетильный Цицерон лишь пытался воплотить в жизнь. Непрошеные гости просто сваливались ему на голову; молодые Брут и Кальв порой критиковали его резко и бестактно, да и сам Цицерон, если его провоцировали, мог писать не менее жестко39. Но обычно Цицерон старался проявлять любезность40, и Цезарь разделял его принципы поведения и симпатизировал им: они оба горячо восхваляли сочинения друг друга о Катоне, хотя этого человека Цицерон прославлял, а Цезарь — осуждал41.
33 Цицерон. 06ораторе. П.60 (о досуге), 10 (о деревне и досуге (rus и otium)); Цицерон. О судьбе. 28 (о Гортензии); Цицерон. Учение академиков. П.148 (о Лукулле); Цицерон. Письма к близким. IX.2.1 (о Варроне); Цицерон. Об ораторе. 1.265 (о Сцеволе), 24 (о Крассе), 214 (о Скавре). См. недавнюю работу: Lmderski 1988 (G 145А).
34 В этом отношении исключением являются диалоги Платона «Федр», а также «Законы»; «сельское» место действия последнего диалога особо упоминается в качестве параллели к диалогу Цицерона «О законах» (1.15). Авл Геллий [Аттические ночи. 1.2.1) подражает скорее Цицерону, чем Платону.
30 Цицерон. Об ораторе. 1.27 (об обходительности (humanitas)); ср.: Цицерон. Письма к Аттику. ХШ.52.2 — о тягостном для Цицерона визите диктатора Цезаря: «мы казались людьми» («homines visi sumus». — Перев. В.О. Горенштейна). Правила поддержания разговора Цицерон приводит в диалоге «Об обязанностях» (1.132 слл.). О чтении вслух см.: Корнелий Непот. Аттик. 14.1.
36 Цицерон. Об ораторе. П.13—14; П.27; ср.: Цицерон. Письма к Аттику. IV.10.2; ХШ.9.1.
37 Цицерон. Об ораторе. 1.163; П.3, см. также: Плутарх. Цицерон. 45; Цицерон. Письма к Бруту. 1.17.5 (почтительность Октавиана, пожалуй, была несколько преувеличенной).
38 Цицерон. Об ораторе. 1.262; Цицерон. Учение академиков. П.61; Цицерон. Об обязанностях. 1.136—137; Цицерон. Письма к близким. УП.18; XV.21.4.
39 Цицерон. Письма к Аттику. ХШ.ЗЗа.1; Тацит. Диалог об ораторах. 18.4; 26; см. также: Цицерон. Письма к Аттику. VI. 1.7; Цицерон. Письма к близким. УП.27.
40 См. ответ Цицерона надменному Квинту Металлу Целеру: Цицерон. Письма к близким. V.1, 2.
41 Цицерон. Письма к Аттику. ХШ.40.1, 46.2, 50.1; ср.: Светоний. Божественный Юлий. 73 — об обхождении Цезаря с молодыми Кальвом и Катуллом. В 59 г. до н. э. Варрон напи-
800
Часть Π
Социальные взаимоотношения римлян с их греческими спутниками или компаньонами разнились в зависимости от статуса и достижений последних: если Панетий и Посидоний, занимавший высокую должность на Родосе, общались с римскими аристократами почти на равных, то Фило- дем, которому Луций Кальпурний Пизон подарил собственный домик в Геркулануме42, находился в полузависимом статусе, а положение перипатетика Александра было и вовсе унизительным: он повсюду сопровождал Красса и на время путешествия получал от него плащ, а по приезде домой возвращал его43. В изображении Цицерона греки весьма трепетно относились к интеллектуальным занятиям, балансируя на грани нелепости (ineptiae), в отличие от римских арисгократов-любителей, которые понимали, что интеллектуальные проблемы следует обсуждать лишь в уместное время, в подходящем месте и в соответствующей компании44.
Социальная природа интеллектуальной деятельности проявлялась и в обычае посвящений, возникшем в эллинистический период. Труды греческих интеллектуалов, открывавшиеся посвящениями римлянам, известны со П в. до н. э. Такие посвящения могли быть данью уважения, свидетельством честолюбия или отражением подлинно общих интересов45. Римские авторы, подхватившие этот обычай, в посвящениях часто адресовались к равным себе по социальному статусу. Посвящения эта считались почетными, о чем свидетельствует желание Варрона снискать такой знак уважения от Цицерона, но обычно выбор определялся интеллектуальными интересами: Аттику были посвящены исторические сочинения Корнелия Непота и Варрона, Цицерону — труды Цезаря и Варрона о латинском языке, а самому Варрону — трактат Цицерона о философии академиков46. Иногда наблюдалась и более тесная взаимосвязь: трактат Цицерона «О государстве» вдохновил Аттика написать хронологический обзор, который, в свою очередь, навел Цицерона на мысль сочинить диалог «Брут»; свое сочинение «О доблести» Брут посвятил Цицерону, который утверждал, что это побудило его писать философские труды на латинском языке, а его собственные работы, возможно, вдохновляли Варрона47. В письмах Цицерона Аттик играет важную роль катализатора: он уговаривает Цицерона сочинить географический трактат, поддерживает его желание
с ал сатиру под названием «Трехглавое чудовище» («Tricaranus», см.: Аппиан. Гражданские войны. П.9), но сохранил хорошие отношения с Цезарем и Помпеем.
42 Страбон. XIV.655C; О Филодеме см.: Палатинская антология. XI. 144 (см.: Gow— Page 1968 (В 43): Nq 23; Nisbet ed. 1961 (В 77): Прилож. 3, 4; но cp.: Rawson 1985 (Н 109): 23).
43 Плутарх. Красе. 3.
44 См., напр.: Цицерон. 06ораторе. 1.103, 111; П.18.
45 Ambaglio 1983 (Н 2): 7 слл.
46 Аттику были посвящены сочинения Корнелия Непота «О выдающихся полководцах» и Варрона «О жизни римского народа», Цицерону — трактат Цезаря «Об аналогии» и большая часть труда Варрона «О латинском языке». Варрон в конце концов добился, чтобы Цицерон посвятил ему «Учение академиков», где он оказался выведен еще и в качестве персонажа.
47 Цицерон. Брут. 19, 11, 16 (о связанных с этими свидетельствами проблемах см. комментарий Дугласа к указанным местам: Douglas 1966 (В 29); Цицерон. О пределах блага и зла. 1.8; Цицерон. Учение акаделшков. 1.3, 12.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
801
написать похвалу Катону, убеждает его вывести Варрона в качестве действующего лица философского диалога и посвятить этот диалог опять же Варрону. В историографии высказывалось убедительное предположение, что аналогичное влияние Аттик оказывал и на своего друга Корнелия Непота48.
В диктатуру Цезаря этим социальным обычаям стала грозить деформация. Если в 46 г. до н. э. Цицерон боялся оскорбить Цезаря своим «Катоном», по-видимому, не больше, чем обидеть Варрона своим «Учением академиков»49, то в 45 г. до н. э., когда друзья Цезаря отсоветовали Цицерону направлять диктатору письмо с советами, Цицерон счел, что теперь имеет дело с тираном, который ожидает лести и в случае разочарования может отомстить не только словами50.
III. Эллинизация
Какова была интеллектуальная продукция этого общества? Одна ее основополагающая особенность уже очевидна из сказанного об образовании, путешествиях, библиотеках и присутствии греков в римских домохозяйствах: в I в. до н. э. усилился процесс эллинизации. До некоторой степени его можно связать с развитием римского империализма, ибо в связи с восточными войнами, дипломатической деятельностью и приобретением новых провинций всё больше римлян посещало грекоязычные земли по официальным делам и всё больше пленных и беженцев прибывало в Рим. Первая масштабная волна такой иммиграции случилась после битвы при Пидне, вторая — вслед за Митридатовыми войнами. Во время Первой Митридатовой войны Филон из Лариссы, глава Академии, бежал из Афин в Рим, философ-стоик Посидоний и, возможно, ритор Аполлоний Молон прибыли в качестве послов с Родоса, а Александр Полигистор попал в Рим как военнопленный51. Лукулла, который в Первой Митридатовой войне служил квестором, а в Третьей — командовал, сопровождали в походах поэт Архий и философ-академик Антиох Аскалонский. Когда в 60-х годах I в. до н. э. Лукулл вернулся домой, то привез в Рим не только библиотеку, глобус и статуи, в том числе одну работы Стения, но и военнопленных — грамматика Тиранниона из Амиса и поэта Парфения из Никеи, оказавших немалое влияние на римскую культурную жизнь52.
48 Цицерон. Письма к Аттику. П.6.1; ХП.4.2; IV. 16.2; ХШ.12. См.: Geiger 1985 (В 42): 98
слл.
49 О Цезаре см.: Цицерон. Письма к Аттику. ХП.4.2; позднее Цицерон писал, что опасался мщения, см.: Цицерон. Письма к Аттику. ХШ.28.3. О Варроне см.: Цицерон. Письма к Аттику. ХШ.22.1, 24.2, 25.3.
э0 Цицерон. Письма к Аттику. ХП.51.2; ХШ.2: «<...> я забыл о всякой обходительности» («<...> humanitatem omnem exuimus»), ср. сноску 35 наст, гл; ХШ.27.1; ХШ.28.3.
01 Цицерон. Брут. 306; Плутарх. Марий. 45.4; Цицерон. Брут. 305.
02 Цицерон. В защиту Архия. 11. Об Антиохе см.: Цицерон. Учение академиков. П.4, 11, 61; Плутарх. Лукулл. 42.3—4; о глобусе см.: Страбон. ХП.546С; о статуях см.: Страбон.
802
Часть Π
Когда Помпей возвратился в Рим после окончательной победы над Митридатом, его сопровождал историк и политик Теофан из Митилен.
Эти новые контакты с греческими интеллектуалами, стремившимися заслужить благодарность теперешних хозяев мира в собственных интересах и интересах своих общин, вылились в льстивые греческие повествования о римских деяниях. Архий описал в стихах кампании Лукулла, а Теофан и, возможно, Посидоний сделали то же самое для Помпея в прозе53. Но не следует преувеличивать ни влияние этих греков на римскую политику54, ни даже их вклад в эллинизацию Рима, которая отныне обрела собственную движущую силу — греческое образование и присутствие греков в домохозяйствах.
Внешняя эффектность и даже легковесность греческой культуры использовалась в аристократической конкуренции. В частности, общественные деятели могли привлекать к себе интерес народа, выставляя на всеобщее обозрение греческую живопись и скульптуру, воздвигая огромные общественные здания в греческом стиле, устраивая представления и состязания греческого типа. Однако претенциозность и демонстративность римских высших классов не могут до конца объяснять их тягу к греческой культуре, особенно в ее менее визуальных и публичных проявлениях55. В конце концов, что придавало всем перечисленным вещам их престижность, если не некое внутреннее осознание их ценности? И это осознание, судя по всему, было достаточно сильным, чтобы преодолеть негативные установки, которые всё еще сохранялись, пусть и в более утонченной форме, нежели прежде, в поколении Катона Старшего. Теперь греческая культура окончательно стала культурой покоренного народа, и многие римляне считали постыдным учиться у иноземцев наукам, которые, как они подозревали, во многом предопределили поражение греков56 * *. Поэтому излишняя эллинизация вызывала насмешки, в чем на собственном горьком опыте убедился Тит Альбуций. В юности он учился в Афинах и стал горячим приверженцем эпикурейства и вообще греческого языка и культуры — до такой степени, что Квинт Муций Сцевола Авгур, посетивший Афины около 119 г. до н. э. на пути в свою провинцию Азию, приказал всей своей свите, ликторам и прочим, иронически приветствовать Альбу-
— ХП.546С; Плутарх. Лукулл. 23.4; о библиотеке и Тираннионе см. сноску 26 наст, гл.; Словарь Суды: под словом «Parthenius».
53 Об Архии см.: Цицерон. В защиту Архия. 21; Цицерон. Письма к Аттику. 1.16.15; о Теофане см.: Цицерон. В защиту Архия. 24; Плутарх. Помпей. 42. Страбон (ХШ.617—618С), вероятно, преувеличивает влияние Теофана на Помпея, см.: Crawford 1978 (Н 29): 203—204; ср.: Anderson 1963 (Н 3): 35—41. О спорном свидетельстве Страбона (XI.492C) относительно Посидония см.: Malitz 1983 (В 69): 70—74.
54 Gruen 1984 (А 43) П: напр., 271; Ferrary 1988 (А 30): 223 слл.
55 На это различие Цицерон намекал в речи «В защиту Бальба» (14—15).
56 Дед Цицерона считал, что, чем лучше римлянин знает греческий язык, тем он более порочен (Цицерон. 06ораторе. П.265). О том, что именно греки писали о доблестях, к которым сами были неспособны, см.: Цицерон. В защиту Целия. 40; о презренном характере
современных греков, который объясняется длительным рабством, см.: Цицерон. Письма к
брату Квинту. 1.1.16.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
803
ция по-гречески, хотя и сам Сцевола учился у греческого философа Пане- тия, а поэт Луцилий, обессмертивший этот эпизод в стихах, в других своих произведениях демонстрировал глубокое знание греческой литературы и ученых трудов57. Выглядеть человеком, слишком серьезно воспринимающим подобные материи, было невыгодно, и существовали разные способы сокрытия интереса к ним. Так, Цицерон сообщает о двух выдающихся ораторах предыдущего поколения, Марке Антонии и Луции Лицинии Крассе: первый делал вид, что незнаком с греческой культурой, а второй — что презирает ее, когда сравнивает с римскими достижениями. Сам Цицерон прибегал к обоим видам притворства58.
Мы знаем, что в эпоху Поздней республики в основе римского образования лежал греческий язык и греческая литература. Но всё же не вполне ясно, насколько хорошо даже самые образованные люди говорили по- гречески или понимали сложные литературные тексты, ибо достижения выдающихся римлян в этом отношении сдобрены притворством, причем двойным. В формальных дипломатических отношениях должностные лица, как и сегодня, предпочитали использовать родной язык, чтобы избежать недопонимания и поддержать национальную гордость59. С другой стороны, грек Плутарх, рассказывая о том, как хорошо его римские персонажи знали греческий язык, может выдавать желаемое за действительное или просто льстить римлянам60. Вместе с тем нет оснований сомневаться в том, что на Аполлония произвело впечатление умение Цицерона декламировать по-гречески, и Цицерон с Аттиком были не единственными, кто писал литературные произведения на этом языке.
Если Фабий Пиктор и его продолжатели, работавшие во П в. до н. э., сочиняли историю на греческом языке потому, что не существовало никакой традиции латинской историографии, которой они могли бы следовать, то более поздние авторы писали по-гречески либо для того, чтобы продемонстрировать свои умения, либо потому, что желали полностью или частично охватить огромную аудиторию читателей, включавшую весь Средиземноморский бассейн, для которого греческий являлся языком межэтнического общения («лингва-франка»). Так, когда Рутилий Руф проживал в Малой Азии, он написал историю на греческом языке, доведя ее до своего времени, а Лукулл написал по-гречески историю Марсийской войны (причем утверждал, что намеренно включил туда варваризмы, чго-
07 Цицерон. О пределах блага и зла. 1.8-9; Цицерон. Брут. 131; Цицерон. Об ораторе. 1.75 (о Сцеволе и Панетии). Об образовании Луцилия см.: Gratwick 1982 (Н 52): 167 слл.
08 Цицерон. Об ораторе. П.4, ср.: Цицерон. Против Берреса. П.4.5 (притворное невежество); Цицерон. В защиту Мурены. 63; Цицерон. В защиту Архия. 2 (выдержанные в покровительственном тоне извинения за обсуждение всех этих вопросов).
°9 См.: Horsfall 1979 (Н 61): 79 слл. О дипломатии см.: Валерий Максим. П.2.2, в подобных случаях Эмилий Павел говорил по-латыни и использовал римских переводчиков (Ливий. XLV.29.3), хотя способен был обратиться к Персею по-гречески (Полибий. XXIX.20; Ливий. XLV.8.5—б).
60 Напр.: Плутарх. Лукулл. 1.2; Плутарх. Брут. 2.3; Плутарх. Флалшнин. 5.6 (в официальном письме Фламинина на греческом языке содержатся ошибки, см.: RDGE 199); Плутарх. Цицерон. 4.4.
804
Часть Π
бы национальность автора не вызывала сомнений)61. Цицерон и Аттик составили по-гречески описания консульства Марка Туллия, с помощью которых последний рассчитывал произвести впечатление на города Греции62. Но в конечном счете написание истории на греческом языке было предоставлено грекам; а вот философию, несмотря на все усилия Брута, Цицерона и Сенеки по созданию формального философского словаря на латыни, римляне все-таки предпочли излагать по-гречески63.
Однако писать по-гречески можно было лишь о наиболее изысканных предметах. Этот язык явно не годился ни для драмы, ни для речей, адресованных широкой публике, а также плохо подходил для сочинений, обращенных к людям среднего уровня развития, которым недоставало как образования, так и опыта путешествий, чтобы свободно и, следовательно, достаточно часто читать по-гречески. Именно для такой аудитории писал Корнелий Непот, и даже Цицерон утверждал, что его философские и риторические трактаты предназначались для такого читателя64.
Первоначально эта проблема решалась благодаря переводам, которые, по нашим стандартам, скорее следовало бы назвать переложениями. Таким образом Ливий Андроник сделал Гомера доступным для латиноязычных читателей, и даже в более поздние времена издавались латинские версии руководств по сельскому хозяйству и медицине65. Но римская публика желала римских сюжетов. Даже ранние драматурги не просто пересказывали свои греческие образцы на латыни, но вводили в них римские обычаи и идеи и при этом никого не оскорбляли, представляя в греческом антураже фривольные и аморальные поступки. Об этих драматургах Цицерон порой высказывался как о переводчиках, но он-то отлично знал, что стремились они не столько точно передать значения слов греческих оригиналов, сколько сохранить эмоциональное воздействие пьесы на аудиторию, а потому даже люди, читавшие по-гречески, получали удоволь-
61 Цицерон. В защиту Архия. 23; Афиней. IV. 168; Плутарх. Лукулл. 1.2; Цицерон. Пись- ма к Аттику. 1.19.10: Лукулл обдумывал апологию — извинение, традиционное для римлян, писавших по-гречески; такую апологию историка Поспумия Альбина высмеял Катон Старший (Полибий. ΧΧΧΙΧ.Ι.1—2, с комментарием Уолбэнка к этому месту).
°2 Цицерон. Письма к Аттику. П.1.1—2; Корнелий Непот. Аттик. 18.6, см. далее, с. 819-820.
63 О Бруте см. далее, с. 827. Сенека Младший [Письма. 95.45) упоминает его трактат под названием «Περί καθήκοντος», но Присциан (199.8—9) приводит латинскую цитату из трактата Брута «De Officiis». (Оба названия переводятся как «Об обязанностях», первое с древнегреческого, второе — с латинского. — О.Л)
64 Корнелий Непот. Предисловие. 2; Корнелий Непот. Пелопид. 1; Цицерон. 06 обязанностях. 1.1 — здесь он утверждает, что исполнились его надежды, выраженные в трактатах «Учение академиков» (1.10) и «О пределах блага и зла» (1.10). Об этой читательской аудитории см.: Horsfall 1979 (Н 61); Geiger 1985 (В 42): 70—71.
65 После разрушения Карфагена в 146 г. до н. э. сенат приказал перевести с пунийско- го языка сельскохозяйственный трактат Магона (Плиний Старший. Естественная история. ХУШ.5.22—23; Колумелла. О сельском хозяйстве. 1.1.13). Варрон предпочел использовать греческий перевод, посвященный «претору Сексгилию» (Варрон. Сельское хозяйство. 1.1.10), возможно, человеку, чья деятельность засвидетельствована в Африке в 88 г. до н. э. [MRR П: 41, 43). Помпей Магн поручил Помпею Ленату перевести медицинские трактаты из библиотеки Мигридата (Плиний Старший. Естественная история. XXV.7).
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
805
сгвие и от латинских версий. Затронута была и римская гордость: возможно, именно Варрон окрестил Энния «римским Гомером»;66 приведенное Квинтилианом сопоставление греческих и латинских авторов, работавших в одном и том же жанре, — это более поздний продукт того же самого стремления не только подражать греческой культуре, но и посоревноваться с ней, а то и превзойти ее. Цицерон понимал, что его соотечественникам предстоит еще пройти долгий путь, прежде чем римский народ преодолеет зависимость от греческих авторов. Сам Марк Туллий признавал, что, представляя в трактате «Об ораторе» Антония и Красса в качестве идеала и восхваляя в «Бруте» римское красноречие, он пытался вдохновить латинских ораторов, и что ближе всего к его идеалу стоял Демосфен, но использовать иноземный образец было нежелательно. И именно Демосфена Цицерон на самом деле стремился превзойти67.
Опираясь на греков и их литературу, римляне получали образование. Они учились расширять возможности латинского языка, использовать сложные прозаические ритмы и поэтические размеры, упорядочивать собственные мысли и литературные сочинения, учились точно выражать греческие идеи на обоих языках и включались в интеллектуальные дискуссии, которые велись в греческом мире. Сколь многим римляне были обязаны грекам, станет ясно, когда мы дойдем до рассмотрения типов интеллектуальной деятельности. Важно также помнить, каких неимоверных усилий требовала вся эта деятельность. Как выражается Красе в трактате Цицерона, объясняя свое отношение к новым латинским риторам:
Суть предмета и характер языка вполне допускают перенесение на наттти обычаи и нравы древней и достославной мудрости греков. Но тут нужны люди образованные, а таких, по крайней мере в этом деле, до сих пор у нас не оказывалось68.
Прямой импорт, то есть перевод с греческого, использовался не только как самоцель, но и как форма обучения: он расширял возможности латинского языка. В юности Цицерон выполнил много таких переводов, как и его брат Квинт, Юлий Цезарь, а ранее — Юлий Цезарь Страбон69. В более взрослом возрасте Цицерон переводил также стихи, которые цитировал в своих философских трудах; переведенные пассажи содержат и многие другие латинские труды70. Не следует недооценивать трудности этой задачи и новизну римских достижений на данном поприще. Поскольку греки редко для собственных нужд переводили произведения, написанные на других языках, не существовало никаких руководств по этому вопросу,
66 Цицерон. О пределах блага и зла. 1.4 — о дословных переводах; но подлинное мнение Цицерона, вероятно, представлено в «Учении академиков» (1.10). Об особенностях этих латинских адаптаций афинской драмы см.: Jocelyn 1967 (В 48): 23—28.
67 Цицерон. Брут. 138 слл.; Цицерон. Оратор. 22—23, 132—133.
68 Цицерон. 06ораторе. Ш.95. [Перев. ФА. Петровского.)
69 Цицерон. 06 ораторе. 1.155; см. также: Цицерон. Брут. 310; Квинтилиан. Х.5.2; Jones D.M. 1959 (Н 67); Horsfall 1979 (Н 61): 83-84.
70 Цицерон. Тускуланские беседы. П.26 (стихи); Цицерон. О пределах блага и зла. 1.7 (пассажи из философских трудов); ср. использование Полибия у Ливия.
806
Часть Π
которыми могли бы пользоваться римские авторы. Сами греки, как указывал Цицерон, создавали новые слова, чтобы выражать новые понятия, греческие философы старались разработать профессиональную терминологию; латинским переводчикам приходилось учитывать особенности обоих языков, сохранять свою самобытность и при этом в полной мере раскрывать собственный потенциал71.
IV. Гуманитарные и точные науки
Расширение контактов с греческой культурой и греческими интеллектуалами способствовало разрушению предубеждений высших классов против исследования и описания предметов, не относящихся непосредственно к римской общественной жизни или традиционному практическому обучению. В сферах, наиболее тесно связанных с формальным образованием, гуманитарными и точными науками, самую выдающуюся роль сыграл Марк Теренций Варрон, которого и современники, и потомки считали ученейшим римлянином своего века72. Варрон был немного старше Цицерона, имел сходное социальное происхождение и политические симпатии и тоже активно делал политическую карьеру, но после победы Цезаря решил удалиться в частную жизнь и в следующие двадцать лет написал несколько весьма объемных трудов о латинском языке и литературе, о римских древностях и о философии. Цезарь предложил Вар- рону заведовать первой общественной библиотекой, а Поллион поставил бюст Варрона в свою библиотеку еще при его жизни, так что Марк Теренций стал единственным, кто удостоился такой чести73. Его непростые отношения с Цицероном, вероятно, объясняются разной расстановкой приоритетов: Варрон придавал меньше значения как политике, так и стилистической отделке своих трудов74. Поэтому сочинений Цицерона дошло до нас гораздо больше. Но книги Варрона оказали огромное влияние на ученую поэзию и романтическую историю эпохи Августа и на последующих антикваров и Отцов Церкви. Вполне закономерно, что Цицерон не пережил Республики, а Варрон, вероятно, дожил до 27 г. до н. э., и, конструируя дух нового режима, Август опирался на представление Варрона о Риме.
Два сохранившихся труда Варрона позволяют судить о некоторых главных особенностях его исследований, хотя более легкий для понимания
п См. выше, сноска 65 наст, гл., о переводе трактата Магона, выполненном Кассием Дионисием (имеется в виду греческий перевод; латинский выполнил Децим Силан. — О.Л.); Цицерон. О пределах блага и зла. Ш.З—4; Цицерон. Учение академиков. 1.24—25; cp.: Sedley 1973 (В 107): 21 слл.
72 Цицерон. Учение академиков. I, фр. 36 Reid = Августин. О Граде Божьем. VI.2; Дионисий Галикарнасский. Римские древности. П.21.2; Квинтилиан. Х.1.95; Апулей. Апология. 42; Dahlmann 1935 (В 22); Dahlmann 1973 (В 23).
73 Плиний Старший. Естественная история. УП.115.
74 Kumaniecki 1962 (Н 72).
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
807
трактат «Сельское хозяйство» («De Re Rustica»), опубликованный в 37 г. до н. э., когда Варрону шел уже восьмидесятый год, вероятно, отличается от его более весомых трудов тем, что в нем использована диалоговая форма, позволяющая придать живости специализированному обсуждению сельского хозяйства. Помимо тяжеловесного юмора, с которым Варрон сперва выбирает участников диалога с сельскохозяйственными именами, а затем еще и подчеркивает это обстоятельство, самой характерной чертой этого сочинения является забота автора об изложении своего предмета в соответствии с правилами греческой науки (ars или τέχνη). Много внимания уделяет Варрон определениям, классификации тем по упорядоченным подразделениям и двум функциям — пользе и удовольствию7 * * * * 75. Варрон заявляет, что желает дать своей жене и соотечественникам руководство по практическому ведению сельского хозяйства, однако представленный им материал недостаточно подробен и недостаточно специализирован не только для практикующих земледельцев, но даже для инвесторов вроде самого Варрона, составлявших его аудиторию, хотя сами по себе сведения выглядят в принципе достоверными. Трактат «Сельское хозяйство», скорее, представляет собой теоретическую работу, и анализ в ней нередко является самоцелью, как и в других сочинениях Варрона. В этом труде такой предмет, как скотоводство, подразделяется на восемьдесят один параграф, пусть даже в этом есть элемент автопародии; в трактате «О философии» Варрон выделял двести восемьдесят восемь возможных философских школ76. Он особенно привержен делению на четыре части, поскольку считает такую схему естественной и укорененной в космосе; однако заимствовал он ее у греков и возводил к пифагорейскому разделению вещей на противоположные пары77.
Столь же типичны для прочих работ Варрона и повышенное внимание к ссылкам на авторитетные источники, особенно неуместным в «Сельском хозяйстве», которое представлено как якобы импровизированная дискуссия, и определенная небрежность в вопросах литературного представления и адаптации к контексту его источников. Такая неаккуратность и неудивительна, учитывая скорость работы Варрона: по его собственным словам, к семидесяти семи годам он написал четыреста девяносто томов
7о Варрон. Сельское хозяйство. 1.2.9; П.4.1 — эта работа посвящена жене автора, вероятно, потому, что ее звали Фундания (ср. лат. fundus — «земельное владение, поместье». —
О.Л.); 1.1.11; 1.3—4.1; 1.5.1, см. также свидетельство Кассиодора (Grammatici Latini /Rec. Н. Keil (1880) VII: 213). Об именах и о литературных особенностях этого труда см.: Lin¬
derski 1988 (G 145А): 112 слл.
76 Варрон. Сельское хозяйство. П.1.12; 25—28; Августин. О Граде Божьем. XIX. 1—3; фраг¬
менты труда Варрона «О философии» изданы Аангенбергом, см.: Langenberg 1959 (В 62).
См., однако: Spurr 1986 (G 230): х—xiii — здесь отстаивается мнение, что схематизация
Варрона вполне совместима с практическим реализмом.
77 Варрон. Сельское хозяйство. 1.5.3; Варрон. О латинском языке. V.12; IX.31; V.11 (о Пифагоре). Согласно Августину (О Граде Божьем. VI.3 = Варрон. Божественные древности. I фр.4 (Cardauns)), такое разделение было свойственно и обеим частям «Древностей» Варрона (см. далее, с. 812) и встречалось также в других его сочинениях (Авл Геллий. Аттические ночи. XIV.7; ХШ.11.3).
808
Часть Π
и до самого дня своей смерти продолжал творить, выпуская в свет по несколько трудов одновременно78. Но его неаккуратность обусловлена также и методами компиляции, которые использовали античные ученые: поскольку находить ссылки в папирусном свитке было сложно, им приходилось полагаться на выписки, а проверкой точности слов и адекватности контекста часто пренебрегать79.
Конечно, больше всего сожалений вызывает утрата тех трудов Варрона, в которых он мог полагаться на собственный опыт, точно так же, как наиболее ценными частями «Сельского хозяйства» мы считаем те его разделы, где Варрон пишет о собственных поместьях и о практиковавшихся в его время сельскохозяйственных методах. Варрон написал два руководства для своего друга Помпея: одно — о процедуре сенатских заседаний (оно понадобилось, когда в 70 г. до н. э. Помпей, не занимая ранее никаких низших должностей, в должности консула впервые вошел в сенат), а второе — о морском деле: в 70-х годах I в. до н. э. Варрон служил легатом Помпея в Испании и во время кампании против пиратов в 67 г. до н. э., когда был награжден морским венком80. Но непререкаемым авторитетом для последующих поколений Варрона сделало применение греческих систематических методов к каждому предмету и, особенно, к прошлой и настоящей римской жизни.
В «Сельском хозяйстве» Варрон рассуждает прежде всего об италийском земледелии и животноводстве. В кн. I он восхваляет Италию, в кн. II — с одобрением отзывается о древнем образе жизни и осуждает греческие усовершенствования на римских виллах (а заодно и греческие названия этих нововведений) как признак отказа от полезных обычаев прошлого. Варрон следует «Жизни Греции» Дикеарха, описывая сперва сменяющие друг друга, а затем существующие одновременно собирательство, скотоводство и земледелие, и с уважением отзывается о скотоводстве, заслуживающем особой книги, но тем не менее бранит своих соотечественников за то, что они превращают пахотные земли в пастбища. При этом он имеет в виду не только возрастающую зависимость Рима от импорта зерна, но и упадок традиционных римских добродетелей. Невозможно сформулировать римскую дилемму более четко: греки дали римлянам интеллектуальную основу для понимания исторического развития и текущего состояния италийского сельского хозяйства, но они же принесли и нововведения, разрушающие традиционную италийскую жизнь81.
78 Авл Геллий. Аттические ночи. Ш.10.17; Валерий Максим. УШ.7.3.
79 Skydsgaard 1968 (В ИЗ): гл. 7.
80 О руководстве по сенатской процедуре см.: Авл Геллий. Аттические ночи. XIV.7.2: Помпею требовалось знать, «что ему необходимо делать и говорить, когда он совещается с сенатом» («quid facere dicereque deberet cum senatum consuleret»); о «Морских заметках» («Ephemeris navalis») см.: Dahlmann 1935 (В 22): 1252—1253; о службе Варрона под командованием Помпея см.: Варрон. Сельское хозяйство. П.Предисл.6; Плиний Старший. Естественная история. VII.115; XVI.7.
81 Варрон. Сельское хозяйство. 1.2.3—8; П.Предисл.2-4; П.1.3—6.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
809
Любопытной особенностью «Сельского хозяйства» является постоянное использование этимологии как инструмента объяснения. В сельскохозяйственном контексте это не более чем украшение текста, но в исследованиях Варрона, посвященных древностям, данный прием играл более важную роль. Изучение латинского языка, которому посвящена вторая из его сохранившихся книг, было страстью всей его жизни. Известно, что кроме трактата «О латинском языке» в двадцати пяти книгах, от которых до нас дошло только шесть, причем в плохом состоянии, Варрон написал в течение полувека по меньшей мере еще девять работ по этому вопросу82. Интересовался он не только литературным языком, но и языком обыденной речи, как самим по себе, так и языком как ключом к культурной, религиозной и социальной истории83.
В трактате «О латинском языке», написанном в 40-х годах I в. до н. э.84, Варрон по завершении вступительной книги переходит к подробному рассмотрению трех вопросов: как слова связываются с вещами (этимология), как возникают разные формы слова (словообразование и изменение форм слова) и какова логика соединения слов в предложения (синтаксис) (Vni.l). До нас дошли три последние книги, посвященные этимологии, где рассматривается ее применение на практике, и три первые книги о словообразовании и изменении форм слова, в которых излагается теория. Разделение на теоретическую и практическую части применялось Варроном ко всем трем предметам. Ввиду утраты первых книг трудно понять, какую теорию принял Варрон для объяснения происхождения языка; возможно, в этом плане следует упомянуть его загадочный «четвертый уровень» науки этимологии (V.7—9). Однако имеются некоторые основания считать, что он склонялся к «естественной» теории языка (VI.3), принимающей стоическую идею о том, что около тысячи элементарных слов (primigenia) отражают природу обозначаемых ими вещей (VI.37); не исключено, что Варрон признавал и модное в его время пифагорейство с его представлением о том, что изначально слова были придуманы мудрыми людьми (VIIL7).
Эта проблема восходила к поставленной в V в. до н. э. дилемме «договор либо природа» («νόμος либо φύσις»). В диалоге «Кратил» Платон рассматривает вопрос о том, в силу чего, договора или природы, определенные слова обозначают определенные предметы, действия и качества; вопрос этот неизменно продолжал вызывать споры на протяжении столетий. Поэт Лукреций, современник Варрона, в своей творческой реконструкции примитивной человеческой жизни представил точку зрения Эпикура о
82 Его ранняя работа «Об истории алфавита» («De Antiquitate Litterarum») посвящена Луцию Акцию, который умер ок. 84 г. до н. э.; «Науки» («Disciplinae»), написанные в 34— 33 гг. до н. э., содержали книгу о грамматике (Плиний Старший. Естественная история. XXIX.65).
83 Варрон. О латинсколл языке. V.8—9.
84 В 47 г. до н. э. Варрон пообещал Цицерону посвятить эту работу ему (Цицерон. Письма к Аттику. ХШ.12.3); летом 45 г. до н. э. Цицерон еще ждал исполнения этого обещания (Цицерон. Письма к близким. DC.8).
810
Часть Π
происхождении языка, согласно которой каждая группа людей давала вещам имена, инстинктивно и стихийно реагируя на ту окружающую среду, в которой она находилась. Однако Лукреций не стал принимать во внимание последующее уточнение Эпикура, согласно которому на более поздней стадии договор все-таки сыграл определенную роль в рационализации языка. Взгляды Нигидия Фигула, еще одного их современника, видимо, как и воззрения Варрона, базировались на стоицизме, возможно, с неким налетом пифагорейства85.
В кн. VTQ—X трактата «О латинском языке» Варрон погружается в тонкости эллинистической дискуссии о морфологии языка, подробно ее рассматривает и показывает, как она применима к латинскому языку. Согласно Варрону, сторонники пергамской школы грамматиков, главой которой являлся Кратет из Малла, под влиянием стоиков продвигали теорию об отсутствии регулярности (то есть определенных правил словоизменения и словообразования. — О Л.) в языке (теорию «аномалии»), поскольку она, по их мнению, была обоснована повсеместным использованием аномальных форм, отражающим естественное развитие языка. Однако сторонники александрийской школы считали, что разговорный язык следует исправлять в направлении большей регулярности и что слова должны образовываться и изменяться в строгом соответствии с принципом «аналогии». В рассматриваемый период эта дискуссия продолжала вызывать большой интерес. В ней участвовали не только грамматики-вольноотпущенники, вроде Антония Гнифона, учителя Цезаря, и Стаберия Эрота, но и сам Цезарь, сочинивший во время путешествия через Альпы в 54 г. до н. э. трактат в защиту позиции аналогистов, которую поддерживал его старый наставник. Об этой дискуссии упоминает и Цицерон в своих работах, написанных примерно в одно время с сочинением Варрона «О латинском языке»86.
Варрон отмечал, что и аналогисты, и аномалисты приводили в свою пользу весомые аргументы87. Он приходил к выводу, что существует естественная регулярность, или аналогия, которая проявляется в языковых формах склонения и спряжения (УШ.23). Этим нормам должны следовать как все носители языка в целом, так и отдельные лица, за исключением случаев, когда отклонение от нормы распространено и вошло в обычай (Х.74), хотя поэты способны подтолкнуть узус в направлении аналогии (IX. 17). Однако в словообразовании люди могут следовать собственным пожеланиям (Х.53), хотя даже производные формы подвержены некото-
85 См.: Sedley 1973 (В 107) о более поздней, уточненной позиции Эпикура, представленной у Диогена Лаэртского (Х.75; ср.: Лукреций. V.1041 слл.), и о том, что ранее этот философ был чистым конвенционалисгом, а затем — преимущественно натуралистом. О Ниги- дии Фигуле см.: с. 814—816 и сноску 110 наст. гл.
86 О Гнифоне см.: Светоний. О грамматиках. 7 — здесь упоминается его сочинение «О латинской речи» («De Latino Sermone») и слухи о том, что он учился в Александрии; свидетельство Квинтилиана (1.6.23) доказывает, что Гнифон был аналогистом; о Стаберии Эроте см.: Присциан. 385.1, см. также: Квинтилиан. 1.6.3. О Цезаре см.: Светоний. Божественный Юлий. 56.5; о Цицероне см.: Цицерон. Оратор. 155 слл.; Цицерон. Брут. 258—259.
87 Варрон. О латинском языке. Х.1; IX.1—3, 113—114; Taylor 1975 (Н 123).
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
811
рьш «естественным» (в варроновском смысле слова) ограничениям (IX.37). Варрон утверждал, что сформулировал основные принципы, управляющие словообразованием и словоизменением, чего до него еще никто не делал (Х.1), то есть свой вклад в изучение вопроса он представлял лишь как систематизацию знаний, но не открытие.
Рассуждая о латинской литературе и поэзии, Варрон следовал в основном своему учителю Луцию Элию Стилону, который на рубеже Π—I вв. до н. э. впервые вывел «грамматические» исследования за рамки практических нужд преподавания. Цицерон, слушавший лекции Элия, хвалил его за глубокое понимание греческой и латинской литературы, старых римских авторов и римских древностей. Варрон ссылался на авторитет Элия, утверждая, что, если бы музы пожелали говорить на латыни, они говорили бы подобно Плавту, но охотно исправлял ошибки своего наставника в этимологии. Устанавливая перечень подлинных пьес Плавта, Варрон расходился во мнениях со вторым своим главным предшественником — Акцием, и, хотя не занимался критическим изучением текста в современном понимании этого процесса, предполагал, что некоторые другие пьесы ввиду «формы и остроумия речи» тоже могут быть подлинными88.
Вершиной Варроновой систематизации стали «Науки» («Disciplinae») — труд, в котором, опираясь на греческую традицию общего образования (εγκύκλιος παιδεία), он создал специфически римский продукт — энциклопедию (encyclopaedia), то есть обобщенный свод базовых знаний. В I в. до н. э. римляне вслед за греками стали считать грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку занятиями, подобающими свободному гражданину (artes liberales) и способными подготовить его к занятиям философией. И вот теперь Варрон предложил канон из девяти предметов, прибавив к этим семи «свободным наукам» две практические: медицину и архитектуру. Таким образом, средневековые тривиум, состоявший из трех подготовительных предметов (грамматика, диалектика и риторика), и квадривиум, включавший математические предметы, являлись наследием Варрона, которое модифицировал св. Августин, исключив из него два практических предмета89. Медицина, как теоретическая, так и практическая, вернулась в ведение греков, но архитектура, если судить по единственному дошедшему до нас латинскому трактату, сохранила на себе несомненный отпечаток влияния Варрона. Витрувий, архитектор-практик, руководивший по поручению Августа ремонтом военных машин, в старости написал десять книг «Об архитектуре», в которых настаивал на важной роли архитекторов в обучении «свободным наукам», приводил длинный перечень авторитетных источников (прежде всего греческих, но в нем фигурировал и Варрон) и критиковал некоторых своих предшественников за бессистемное изложение материала; сам же он на¬
88 Цицерон. Брут. 205; Квинтилиан. Х.1.99; Авл Геллий. Аттические ночи. 1.18.1; 3; Ш.З. (■Иерее. А.Б. Егорова); см. сноску 82 наст. гл. См.: Winterbottom 1982 (Н 136).
89 Адо ставит под сомнение последующее влияние Варрона и существование данного канона из семи предметов до Ш в. н. э., когда его сформулировал Порфирий, см.: Hadot 1984 (Н 57); но см. рецензию на эту работу: Rawson 1987 (Н 110).
812
Часть Π
меревался представить теорию (ars), полностью раскрывающую предмет, причем посвящать разным вопросам особые книги90.
Вклад Варрона в науку — это вклад компилятора. Стоит вспомнить изречение Цицерона о том, что, в отличие от греков, римляне никогда не питали большого уважения к геометрии и математике, но интересовались лишь их практическим применением в землемерном деле и вычислениях. Но важно также иметь в виду, что и сама греческая наука во второй половине П и I в. до н. э. во многом утратила творческий импульс. Сами греки в основном занимались составлением руководств, основанных на сделанных ранее открытиях, причем писали эти тексты чаще литераторы- эрудиты, чем практикующие исследователи. Даже сочиненная в Ш в. до н. э. поэма Арата об астрономии, переведенная Цицероном и имевшая большую популярность у латинских поэтов, была написана, «руководясь не знанием астрономии, а, так сказать, поэтическим призванием»91.
В своих антикварных трудах Варрон наиболее полно продемонстрировал применение греческих методов для бережного исследования римских институтов и традиций. Самыми значимыми его сочинениями были монументальные «Человеческие древности» и «Божественные древности» («Antiquitates Rerum Humanarum» и «Antiquitates Rerum Divinarum»); вторая из этих работ, более поздняя, была посвящена Цезарю как верховному понтифику и создана, вероятно, во время его диктатуры. Порядок их написания свидетельствует о том, что римскую религию Варрон рассматривал как дело рук человеческих, которое, по его мнению, заслуживало сохранения (вне зависимости от ее соответствия философской истине). С этой целью он изложил в своем труде практические сведения о конкретных силах конкретных богов92. О пользе этих сочинений для Рима Цицерон в 45 г. до н. э. писал так:
Ведь именно твои книги как бы вновь возвратили нас домой, живших доселе в своем городе чужестранцами или странниками, и дали нам наконец возможность познать, кто мы и откуда. Ведь ты раскрыл нам и возраст нашего отечества, и нашу историю, и священное право, и учения жрецов, и науку ведения военных и гражданских дел,
90 Плиний Старший. Естественная история. XXIX. 17; Витрувий. УП.Предисл.10; Пре- дисл.4; 1У.Предисл.1.
91 См.: Stahl 1962 (Н 119): гл. 3—5; высказывание Цицерона о математике см.: Цицерон. Тускуланские беседы. 1.5; ср.: Цицерон. Письма к Аттику. П.4.1 — о трудностях, которые у Цицерона вызывала математическая география; высказывания Цицерона об Арате см.: Цицерон. О природе богов. П.104 слл. (Перев. М.И. Рижского); Цицерон. О государстве. 1.22 («non astrologiae scientia, sed poetica quadam facultate». — Перев. B.O. Горенштейна, с правкой).
92 О датировке более позднего сочинения см.: Cardauns 1976 (В 11) II: 132—133; Cardauns 1978 (В 12): 80 сел.; Jocelyn 1982—1983 (Н 65): 148 слл. Графтон и Свердлов предполагают, что более раннее сочинение могло описывать календарную реформу Цезаря, см.: Grafton, Swerdlow 1985 (Η 51): 460, примеч. 26; если так, то это свидетельствует в пользу датировки второй работы диктатурой Цезаря. О позиции Варрона см.: Варрон. Божественные древности. I. фр. 5 (Cardauns) = Августин. О Граде Божьем. VI.4; I фр. 12 = Августин. О Граде Божьем. IV.31; I фр. 3 = Авгусшн. О Граде Божьем. IV.22; ср. гл. 19, с. 869-870 (Бирд).
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
813
ты дал нам описание всех местностей и городов, истолковал название, род и смысл всех обычаев, касающихся дел божественных и человеческих93.
Эти слова подводят нас к самоидентификации римлян, которая лежит в основе различных римских реакций (как позитивных, так и негативных) на греческую культуру, наблюдаемых в данный период. Римляне заимствовали у греков и аналитические инструменты, и материал для сравнения, необходимые для самопостижения.
Данная функция сочинений Варрона становится особенно наглядной на примере его любопытной книги под названием «Седмицы» («Hebdomades») — первого иллюстрированного издания в Риме94. В пятнадцати томах, изданных в 39 г. до н. э., он привел портреты (с краткими подписями) семисот греков и римлян, свершивших выдающиеся деяния в разных сферах: интеллектуальной, политической и религиозной. Это сопоставление греков и римлян вдохновило Корнелия Непота на сочинение параллельных книг «О знаменитых мужах», а Плутарха — на создание «Жизнеописаний». Рассказывая об иноземных и римских полководцах, Непот прямо утверждал, что задача этой двойной серии состояла в том, чтобы читатели могли судить о том, чьи полководцы были более выдающимися, хотя в предисловии упоминалась и менее тенденциозная цель: показать, что о поведении людей следует судить по меркам их общества95.
V. Пифагорейство
В первой книге «Седмиц» Варрон говорил о важном значении числа семь в устройстве небесных тел, в рождении и развитии человеческих существ и в исторической традиции и прибавлял к этому, что он вступил в двенадцатую седмицу лет и что написал он семьдесят седмиц книг96. Этот интерес Варрона к взаимосвязи между природой и числом, проявившийся и здесь, и в других местах, был явно обусловлен возрождением интереса к Пифагору, чьи исследования в области астрономии и акустики привели к развитию суеверной нумерологии. Сообщается, что Варрон был даже похоронен по «пифагорейскому обычаю» — в листьях мирта, оливы и черного тополя97.
Свидетельства Цицерона позволяют увидеть, каким уважением пользовался в его дни Пифагор. Цицерон настаивает на том, что пифагорей¬
93 Цицерон. Учение академиков. 1.9. (Перев. НА. Федорова.)
94 Плиний Старший. Естественная история. XXXV. 11; Симмах. Письма. 1.2.2; 1.4.1, 2; Авсоний. Моземш. 305—307.
95 Корнелий Непот. Ганнибал. 13.4; Предисловие. 3. Хотя Варрон, вероятно, работал над «Седмицами» уже в 44 г. до н. э. (Цицерон. Письма к Аттику. XVI. 11.3, с комментарием Шеклтона Бэйли к этому месту: Shackleton Bailey 1965—1970 (В 108)), а некоторые из более поздних жизнеописаний Корнелия Непота датируются между 35 и 32 гг. до н. э., Гейгер высказывает сомнения в приоритете Варрона, см: Geiger 1985 (В 42): 81.
96 Авл Геллий. Аттические ночи. Ш.10.
97 Плиний Старший. Естественная история. XXXV. 160.
814
Часть Π
ские общины, существовавшие на юге Италии с VI по IV в. до н. э., несомненно повлияли на институты раннего Римского государства, а Плиний Старший даже сообщает, что в IV в. до н. э. в римском комиции стояла статуя Пифагора98. В 181 г. до н. э. в Риме были обнаружены под землей «книги Нумы» — греческие тома, которые в самых ранних повествованиях об этой находке, написанных спустя менее пятидесяти лет после события, идентифицированы как пифагорейская философия. Такая идентификация была основана на легенде о том, что Нума являлся учеником Пифагора, но Цицерон и его ученые друзья Аттик, Варрон и Корнелий Непот справедливо отвергали это предание ввиду хронологических нестыковок99. И всё же Цицерон подчеркивал, что пифагорейцы издавна оказывали влияние на Рим: ему нравилось думать, что римский интерес к греческой философии восходил к древним временам и к италийскому источнику100.
Однако это пифагорейское возрождение не было специфически римским явлением. Здесь, как и в других сферах, римские интеллектуалы следовали более общей тенденции. Например, мнение Цицерона, разделяемое и Варроном, о том, что догматическое учение Платона восходит к его контактам с пифагорейцами на Западе, напоминает о том, что Посидоний возводил к Пифагору теории Платона о душе и страстях. Кроме того, в рассматриваемый здесь период Александр Полигистор написал книгу о пифагорейских принципах и включил пифагорейцев в свою «Историю философских школ»101. Более того, сегодня исследователи считают, что тексты, приписывавшиеся древним пифагорейцам, в том числе сочинения, написанные на дорийском диалекте Италии и Сицилии, на самом деле были составлены во Π—I вв. до н. э., вероятно, не позднее середины I в. до н. э.102.
Наряду с этой тягой к пифагорейству в Риме наблюдалось и увлечение «Тимеем» Платона, толкование к которому написал Посидоний и который для средних платоников стал ключевым диалогом. Цицерон перевел на латинский язык часть этой работы, и до нас дошло его введение, написанное в 45 г. до н. э. В нем Цицерон отдает должное недавно усопшему Ниги- дию Фигулу, которого более поздний антиквар считал, наряду с Варроном,
98 Цицерон. Тускулапские беседы. IV.2 слл.; Плиний Старший. Естественная история. XXXIV.26. Некоторые свидетельства в пользу утверждений Цицерона см.: Jocelyn 1976— 1977 (Н 64).
99 Ливий. XL.29.3—14; Плиний Старший. Естественная история. ХШ.84 слл.; Полибий. VL59.2 — последнему автору, вероятно, следовали Цицерон и его друзья (ср.: Цицерон. О государстве. П.27).
100 Цицерон. Об ораторе. П.154; Цицерон. О государстве. П.28; ср.: Цицерон. Тускулапские беседы. IV.5 — здесь говорится о давнем интересе римлян к философии.
101 Цицерон. О государстве. 1.15—16; Цицерон. О пределах блага и зла. V.87; Варрон в: Августин. О Граде Божьем. УШ.З; Посидоний: Edelstein—Kidd 1988 (В 32): Т95; ср.: Цицерон. Тускуланские беседы. IV. 10; 1.39; Александр Полигистор: FGrH: Nq 273, фр. 94, 93. См.: Burkert 1965 (Н 22); Rawson 1985 (Н 109): 291—293 — о возможном римском влиянии на греческий интерес к пифагорейству.
102 Thesleff 1961 (Н 125); Burkert 1971 (Н 23); Thesleff 1971 (Н 127); Dillon 1977 (Н 31) 117 слл.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
815
одним из двух столпов учености в эпоху Цицерона и Цезаря103. Цицерон говорит, что Нигидий был рожден, чтобы возродить учение пифагорейцев, и хорошо владел всеми «свободными науками», но особенно интересовался «тайнами природы», под которыми Цицерон имел в виду либо естествознание, либо натурфилософию104. Приведенное Цицероном описание Нигидия, который поддержал его в сенате при подавлении заговора Каталины, а позднее вместе с ним последовал за Помпеем в гражданской войне, хорошо соответствует свидетельствам о трудах Нигидия, посвященных богам, человеческой природе, животным и ветрам, тем более что в рассматриваемый период Пифагор ассоциировался с естествознанием. Но писатели эпохи Империи порой изображали Нигидия как астролога и прорицателя105, и известно, что он действительно писал об астрологии, снах и гаданиях. Вполне возможно, что Нигидий, выступая в качестве ученого, выражал при этом веру в некоторые (по крайней мере) методы предсказания будущего, что и принесло ему репутацию оккультиста, подобно тому, как практика некромантии приписывалась Аппию Клавдию, который, посвящая книгу Цицерону, своему сотоварищу в коллегии авгуров, дал понять, что верит в дивинацию. Такие интересы выдающихся современников Цицерона напоминают нам о том, что, возможно, полемика Марка Туллия против любых форм дивинации как суеверия была не просто риторикой и что тот твердый рационализм, который он обосновывал в трактате «О дивинации», мог быть направлен против более распространенных воззрений, чем теоретический стоицизм106.
Вопрос о том, были ли эти воззрения связаны с пифагорейством, вызывает у исследователей споры. Нападая на Ватиния, сторонника Цезаря, Цицерон утверждает, что тот объявляет себя пифагорейцем и оправдывает свои варварские нравы ссылками на некоего ученейшего человека; этого последнего схолиаст, писавший долгое время спустя, вполне правдоподобно идентифицирует с Нигидием и добавляет, что существовала группа людей, именовавших себя последователями Пифагора, которую противники называли тайной кликой (factio)107. Цицерон намекает на интерес Ватиния к науке гаруспиков, а в другой работе характеризует Пифагора как наиболее авторитетного специалиста в области гаданий и толкования
103 Edelstein—Kidd 1988 (В 32); Авл Геллий. Аттические ночи. XLX.14.1.
104 Цицерон. Тиллей. 1; см. также: Цицерон. Учение акаделликов. 1.15; 19 — о том, что естествознание открывает тайны.
1(ь Цицерон. 06 ораторе. 1.42; ср.: Цицерон. О государстве. 1.16; Цицерон. Тускуланские беседы. V.10; свидетельства более поздних авторов см.: Светоний. Август. 94.5; ср.: Лукан.
106 Об Агаши Клавдии см.: Цицерон. О законах. 11.32; Цицерон. Тускуланские беседы. 1*37; Цицерон. О дивинации. 1.132. Выступление Цицерона против дивинации см.: Цицерон. О дивинации. П.148 — этот пассаж несомненно был направлен против каких-то реальных оппонентов, даже если Цицерон и не выражал в нем свои подлинные взгляды, как считает М. Шофилд, см.: М. Schofield 1986 (Н 116).
107 Сомнения по поводу пифагорейства Нигидия см.: Thesleff 1965 (Н 126): 44 слл. См.: Цицерон. Против Ватиния. 14; Схолии из Боббио: к указанному месту. В приписываемой Цицерону «Инвективе против Саллюстия» упоминается «сообщество» («sodalicium») Нигидия.
816
Часть Π
снов108. Наконец, в своем тридцатитомном труде о грамматике Нигидий проявлял интерес к этимологии и уверенно утверждал, что вещи получают имена литтть в силу своей природы, а не по договору. Дошедший до нас конкретный пример, иллюстрирующий это утверждение, напоминает аргумент, выдвинутый стоиком Хрисиппом, но оно созвучно также идее, которую Цицерон приписывал Пифагору, то есть представлению о том, что некий первобытный мудрец дал вещам правильные названия, отражающие их природу (как это описано Платоном в «Кратиле»)109.
Ввиду вышеописанного интереса к Пифагору в Риме и в других местах, трудно понять, что имеет в виду Цицерон, утверждавший, будто Нигидий обновил пифагорейское учение, даже если допустить, что эта фраза содержит хвалебное преувеличение. Исследователи высказывали предположение, что Нигидий действительно основал какое-то общество или инициировал движение, подхваченное Евдором Александрийским, по превращению пифагорейства в серьезную философию110. Во всяком случае, неопифагорейство, пусть и получившее поддержку харизматичных людей, так и не стало особой философской школой, сопоставимой с четырьмя главными школами, для которых позднее Марк Аврелий учредил профессиональные кафедры. В I в. н. э. оно внесло некоторые новые элементы (например, вегетарианство и ночной анализ собственной совести) в доктрину Секстиев (в целом стоическую);111 в остальном же оно стало важным компонентом нового платонизма. В правление Антонинов вряд ли кто-то продолжал читать сочинения самого Нигидия; его исследования были не так тесно связаны с римской жизнью, как труды Варрона, и при этом более сложны для понимания112.
VI. Новая поэзия
В основе греческого образования лежала поэзия. В Риме эпос пришел в упадок после Энния, а трагедию и комедию потеснил более примитивный мим. В эпоху Теренция некоторых аристократов подозревали в написании стихотворных драм, но они в этом и не признавались, зато к концу
108 Цицерон. О дивинации. 1.5, 62; П.119; 1.102.
109 Авл Геллий. Аттические ночи. Х.4; Цицерон. Тускуланские беседы. 1.62. О позиции Хрисиппа см.: von Arnim Н. Stoicorum Veterum Fragmenta. Π: φρ. 895; подробнее об этом свидетельстве см.: Dillon 1977 (Н 31): 181.
110 Первое предположение см.: Thesleff 1961 (Н 125): 52; второе — см.: Dillon 1977 (Н 31): 117-119.
111 В 60-х годах I в. н. э. Сенека Младший (О природе. УП.32.2) писал, что пифагорейская школа не имеет руководителя (praeceptor), а школа Секстиев существует обособленно, однако отмечал некоторые ее обычаи (Сенека Младший. Письма. 108.17—18; Сенека Младший. О гневе. Ш.36.1), считавшиеся пифагорейскими (Овидий. Метаморфозы. XV.60 слл.; Цицерон. О старости. 38). О харизматичных людях, которых во второй половине П в. н. э. называли пифагорейцами, см.: Jones С.Р. Culture and Society in Lucian (Cambridge (MA), 1986): 30, 135.
112 Авл Геллий. Аттические ночи. XIX. 14.2—3.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
817
П в. до н. э. консуляр Квинт Катул был лишь одним из нескольких работавших вполне открыто сочинителей латинских эпиграмм в духе грече- ской моды113.
Хотя сам Цицерон прославлял свое консульство не только в прозе, но и в стихах, люди его социального круга, видимо, писали стихи в основном для развлечения, когда их особенно одолевала скука. Так, Цезарь сочинил поэму по дороге из Рима в Испанию, а Квинт Цицерон, состоя на службе в штабе Цезаря в Галлии, написал четыре трагедии за шестнадцать дней. Однако Варрон в молодости писал менипповы сатиры, сочетавшие в себе прозу и стихи, и, по-видимому, считал их своего рода популярной философией114.
В следующем поколении, возможно, под влиянием Парфения, в моду вошел изысканный стиль греческой поэзии, и Катулл и те, кого Цицерон называет «новыми поэтами» (neoteroi), искали вдохновения у Каллимаха и Эвфориона. Хотя здесь нет возможности рассматривать литературную моду как таковую115, стоит отметить ее взаимосвязь с общими тенденциями интеллектуального развития. Эта «неотерическая» поэзия была ученой поэзией, предназначалась для элиты и требовала знания не только греческой литературы и гуманитарных исследований, но и греческих естественных; наук, прежде всего астрономии, хотя бы в пределах поэмы Арата. Даже Лукреций, который выглядит изолированной фигурой, тоже является порождением своего времени, поскольку демонстрирует греческую ученость, включая знание астрономии Арата, интерес к истории цивилизации (который разделяли Посидоний и Варрон), решимость завоевать новую провинцию для латинского языка и поэтическую изобретательность и утонченность, вполне достойные его современников-неотериков116.
VII. История и смежные исследования
В двух знаменитых пассажах, написанных в середине I в. до н. э., Цицерон сожалел о том, что не существует латинских историков, равных великим историкам Греции117. Хотя предшествующую латинскую историографию он критиковал в основном за плохой стиль, однако и из этих, и из других его пассажей мы многое узнаём о том, какими в его дни виделись задачи историка.
113 Цицерон. Брут. 132; Авл Геллий. Аттические ночи. XIX.9—10.
114 О поэме Цезаря «Путь» см.: Светоний. Божественный Юлий. 56.5; о сочинениях Квинта Цицерона см.: Цицерон. Письма к брату Квинту. 111.5(6).7; о Варроне см.: Цицерон. Учение академиков. П.18.7.
115 См. о ней новую работу: Clausen 1982 (Н 26).
116 Dalzell 1982 (В 24): 210; Grimal 1978 (Н 54) (гипотезы Грималя о содержащихся в поэме отсылках к современной Лукрецию политике неубедительны).
117 Цицерон. Об ораторе. П.51 слл.; Цицерон. О законах. 1.5 слл. Йозднее Марк Туллий утверждал, что отклонил просьбы своего брата и Аттика, желавших, чтобы он сам взялся за написание исторического труда.
818
Часть Π
Цицерон полагал, что перед историком стоит выбор: либо рассказывать о современных ему событиях, либо начинать «с Ромула и Рема». Самые первые римские анналисты, принадлежавшие к сенаторскому сословию, начинали повествование с зарождения римской истории; но с последней трети П в. до н. э. этот род исторических сочинений стал уделом людей более низкого звания, а сенаторы стали описывать историю своего времени, сочиняя повествования, посвященные отдельным вопросам118. (Исключением стал Лициний Макр, который в 70-х годах I в. до н. э. вернулся к истокам, чтобы изложить историю древних времен в популярском духе и прославить деяния собственных предков.)
На рубеже Π—I вв. до н. э. Луций Целий Антипатр составил историю Ганнибаловой войны, а Семпроний Азеллион описал события, свидетелем и активным участником которых был сам119. Самым знаменитым историком этого направления стал Луций Корнелий Сизенна, один из наиболее доверенных сторонников Суллы, изложивший историю Союзнической войны и гражданских войн с точки зрения Суллы. Хотя Саллюстий воздал Сизенне должное тем, что свою историю начал с момента, на котором тот остановился, Цицерон считал Сизенну лишь менее слабым автором, чем все остальные. Среди прочего Марк Туллий не одобрял его своеобразный слог, полный неологизмов и необычных словоформ, ибо Сизенна был приверженцем «аналогии», но, в отличие от Цезаря, не способен был к суровому самоограничению и стремился исправить и реформировать укоренившееся словоупотребление120.
Луций Лукцей, корреспондент Цицерона, писал о том же самом предмете, что и Сизенна, возможно, для того, чтобы рассказать об этих событиях более взвешенно121. Письмо Цицерона к Лукцею с просьбой сочинить исторический трактат о роли самого Марка Туллия в кризисе, связанном с Каталиной, и последующих событиях, дает нам важные сведения о том, как сам оратор и его современники воспринимали историописание. Цицерон считал, что римские историки и их читатели должны быть знакомы с греческой исторической традицией, о чем свидетельствуют прецеденты, на которые он сослался в письме к Лукцею, и его упреки в адрес Сизенны за то, что тот читал одного только Клитарха. Римляне получили возможность ближе познакомиться с указанной традицией благодаря великому труду Полибия. Цицерон ожидал, что Лукцей (и другие читатели его пись¬
118 Высказывалось мнение, что причиной этой перемены стала публикация «Великих анналов» («Annales maximi»), см.: Badian 1966 (Η 4); Ogilvie 1965 (В 79): 7 слл.; Роусон склонна объяснять ее, скорее, влиянием текущих событий и Полибия, см.: Raws о η 1985 (Н 109): 218.
119 Цицерон. 06ораторе. П.54; Авл Геллий. Аттические ночи. П.13.
120 Саллюстий. Югуртинская война. 95.3; Цицерон. О законах. 1.7; Цицерон. Брут. 228; 260—261. О сочинении Сизенны см.: Badian 1966 (Н 4): 25—26; Rawson 1979 (Н 108).
121 Цицерон. Письма к близким. V. 12.1—2. Возможно, к этому сочинению Лукцея относятся слова Цицерона в трактате «О законах» (1.7), написанном ок. 52 г. до н. э., о тех авторах, чьи работы еще не опубликованы, ибо в 55 г. до н. э., когда Цицерон писал вышеуказанное письмо, он видел часть исторического труда Лукцея, который еще не был завершен.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
819
ма — «очень уж оно хорошо»122) согласятся с ним в том, что историю должны писать прежде всего государственные деятели, обращаясь первым делом к людям своего же круга, и что история должна объяснять события как порождение случайностей и человеческих намерений, исследуя мотивы и характер действующих лиц, чтобы тем самым создавать образцы государственных деятелей и преподавать моральные уроки.
Многие из этих тезисов уже были высказаны Семпронием Азеллионом, и Цицерон повторил их устами Марка Антония, современника Азеллиона, в диалоге «Об ораторе». Однако Антоний у Цицерона — как и Лукцей, и как сам Цицерон, — заботился о стиле и оживлении повествования куда больше Азеллиона и Полибия123. Однако до упоминания младших анналистов — Клавдия Квадригария и Валерия Анциата, которые придавали большое значение развлечению читателей и достигали этого за счет громадных преувеличений и вымыслов, Цицерон даже не снисходил124. Он четко разграничивал вольности, дозволенные поэтам, и истину, которая требуется от историков: последние должны излагать факты, а не выдумки, и выносить суждения справедливо и беспристрастно, причем последнее даже важнее. Полибий подчеркивал важность объективности, и Цицерон считал ее фундаментом, на котором следует возводить сложное здание истории125. Ясно, что Лукцей в предисловии к одному из своих сочинений утверждал, что придерживался этих принципов, и так же несомненно, что обращенная к нему просьба Цицерона о прославлении его деяний даже в ущерб «законам истории» (leges historiae) — это лишь притворная скромность: по глубокому убеждению Цицерона, все вокруг должны были считать, что преувеличить его заслуги невозможно.
По крайней мере, Цицерон не нарушил собственное правило, требовавшее беспристрастности, и не опубликовал прозаическое повествование на латинском языке о своих деяниях — только стихотворное. (Хулительное сочинение Цицерона «О моих замыслах» («De Consiliis Suis») предназначалось для сведения одного только Аттика и было опубликовано посмертно.) Однако Лукцею, согласившемуся на его просьбу, Марк Туллий предоставил записки (commentarii), то есть простое изложение фактов без всяких украшений126. Такой же конспект на греческом языке Цицерон от¬
122 Цицерон. Письма к Аттику. IV.6.4. [Перев. В.О. Горенштейна.)
123 Цицерон. Письма к близким. V.12.4; Цицерон. 06 ораторе. П.62—63; Авл Геллий. Аттические ночи. V.18.7.
124 Badian 1966 (Н 4): 18—22. О лживости Валерия см.: Ливий. XXVI.49; Ogilvie 1965 (В 79): 12-16.
l2° Цицерон. О законах. 1.3—5; Полибий. 1.14; Цицерон. 06 ораторе. П.62.
126 О написанном по-гречески сочинении «О моем консульстве» («De Consulatu Suo») см.: Цицерон. Письма к Аттику. 1.20.6; о латинской поэме «О моем времени» («De Temporibus Meis») см.: Цицерон. Письма к Аттику. IV.8a.3; судя по одному пассажу (Цицерон. Письма к близким. 1.9.23), Цицерон подумывал о том, чтобы и сложенную им поэму о собственных деяниях разрешить опубликовать только посмертно; см. комментарий к указанному месту: Shackleton Bailey 1977 (В 110). О сочинении «О моих замыслах» («De Consiliis Suis») см.: Цицерон. Письма к Аттику. П.6.2; П.8.1; Rawson 1982 (В 94). О записках (commentarii) на латинском языке см.: Цицерон. Письма к Аттику.IV.6.4; IV. 11.2; а также:
820
Часть Π
правил в 60 г. до н. э. Посидонию в надежде, что тот внесет свой вклад в его прославление. Когда выдающийся историк уклонился от этой задачи под тем лестным для Цицерона предлогом, что страшится за нее браться ввиду величия свершений Марка Туллия, последний распространил свой конспект в Греции. И сам Цицерон, и другие римляне в подобных же выражениях отзывались об ошеломляющем великолепии записок Цезаря о завоевании Галлии, которые будто бы задумывались как заготовка для историков127.
Эти два искусных сочинителя нашли тонкое решение проблемы, которая стояла перед честолюбивыми политиками того времени, испытывавшими естественное желание прославить свои свершения и дать собственное толкование событиям, в которых они принимали участие. Действительно, политические смуты Поздней республики не породили классических исторических трудов (ни описания текущих событий, ни анналов), на которые рассчитывал Цицерон: лишь после его смерти Саллюстий и Ливий взялись за эту задачу, но выполнили ее не так, как он себе представлял128. Вместо желанных Цицерону исторических трактатов появились, с одной стороны, литература, отражавшая господство могущественных деятелей, а с другой — исследования, которые прославляли гибнувший строй.
Записки (commentarii) Цицерона, по-видимому, стояли в одном ряду с «Книгой о моем консульстве и моих деяниях» («Liber de consulatu et de rebus gestis suis») Квинта Лутация Катула (консула 102 г. до н. э.), но куда больший вес имели автобиографии («De vita sua») Марка Эмилия Скавра (консула 115 г. до н. э.), Публия Рутилия Руфа и диктатора Суллы. Если первых двух авторов игнорировало уже следующее поколение читающей публики, то сочинения Рутилия и Суллы оказали большое влияние на традицию: сведения Рутилия дошли до Плутарха через Посидония129. Предвзятость доблестного Рутилия хорошо засвидетельствована: он очернял Мария и отца Помпея; предвзятость Суллы оставила неизгладимый отпечаток на интерпретации римлянами собственной истории. В отличие от колебавшегося Цицерона, Варрон решился написать автобиографию в трех книгах: он пережил эпоху триумвирата, и ему было что рассказать130.
Примерно в то же время под влиянием этой автобиографической традиции и перипатетической традиции литературного жизнеописания и отчасти вдохновляясь «Седмицами» Варрона, а также элогиями и инвективами, начало которым положила смерть Катона Младшего в 46 г. до
Цицерон. Письма к близким. V. 12.10; о сочинениях, которые в 60 г. до н. э. Цицерон намеревался написать (Цицерон. Письма к Аттику. 1.19.10), ничего больше не известно.
127 Цицерон. Письма к Аттику. П.1.2; cp.: 1.19.10; см. выше, с. 804; Цицерон. Брут. 262, с комментарием к указанному месту: Douglas 1966 (В 29); Гирций. Записки о Галльской войне. УШ.Предисл.4—5.
128 Syme 1964 (В 116): гл. 5; Rawson 1972 (Н 104): 42-43.
129 Цицерон. Брут. 112, 132.
130 Об автобиографии Варрона см.: HRR П: xxxviiii—хххх; возможно, к ней восходят некоторые сведения о карьере Варрона у Плиния Старшего (напр.: Естественная история. ΥΠ.115; XVL7).
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
821
н. э., Корнелий Непот написал свое сочинение «О знаменитых мужах», в которое включил биографии государственных деятелей, полководцев и царей131.
Почему Цицерон не взялся за создание исторического труда, можно только догадываться. Он сам отмечал, что это потребовало бы очень много времени: судя по тому, какие усилия он предпринимал, чтобы не ошибиться в описании обстановки и участников своих диалогов, его требования к историческим исследованиям были очень высоки, а его консультации с Варроном и Аттиком свидетельствуют о том, что, взявшись за исто- риописание, он принял бы на себя и бремя нового антикварианизма132. Впервые серьезное увлечение историей римских институтов, обычаев и языка отмечается в дни юности Цицерона, когда Марк Юний Конг Грак- хан посвятил эрудированному отцу Аттика книгу о полномочиях магистратов. В трактате «Об ораторе» Цицерон приписал Крассу интерес к «Элиевым исследованиям» («Aeliana studia»), которым способствовало изучение древнего римского права; у Элия Столона учился и сам Цицерон. Эти новые веяния логично связать с политическим кризисом, вызванным деятельностью Гракхов, которые бросили вызов установленному порядку; точно так же и вторую волну антикварианизма, поднявшуюся в годы зрелости Цицерона, соблазнительно соотнести с новым кризисом, порожденным тактикой «первого триумвирата»133.
Фундаментальное значение для истории имело установление точной хронологии. К 54 г. до н. э. Корнелий Непот составил в трех книгах перечень событий с древнейших времен до его дней. Аттик уточнил его и ужал до одной книги, которая начиналась с основания Рима. Цицерон, которому была посвящена эта хроника (liber annalis), хвалил ее за то, что она облегчила написание речей и сделала возможным сочинение таких трудов, как «Брут». Наверное, Марк Туллий использовал обе книги, хотя предпочитал работу Аттика; позднее Варрон, возможно, исправил обе хроники134. Кроме того, по просьбе некоторых аристократов Аттик подготовил генеалогии их предков, указав для каждого представителя знатного рода происхождение и должности с точными датами135. Римская специфика рабо¬
131 Чтобы отстоять тезис о том, что политическая биография была изобретена Корнелием Непотом, Гейгер вынужден доказывать (Geiger 1985 (В 42): 61), причем совсем неубедительно, что сочинение Мунадия Ру фа о Катоне Младшем (Плутарх. Катон Младший. 25.1; 37) представляло собой не биографию Катона, а мемуары самого Мунадия, завершившиеся на начале гражданской войны.
132 Цицерон. О законах. 1.8; Sumner 1973 (В 115): 161 слл.; Rawson 1972 (Н 104) — здесь отмечается, что в период между сочинением трактатов «Об ораторе» и «Брут» Цицерон существенно пополнил свои знания.
133 Цицерон. О законах. Ш.49; Корнелий Непот. Аттик. 1; Цицерон. 06 ораторе. 1.256, 193; Цицерон. Брут. 207. См.: Rawson 1972 (Н 104).
134 О книге Непсгга см.: Авл Геллий. Аттические ночи. XVD.21.3; о книге Аттика см.: Корнелий Непот. Аттик. 18.2; Цицерон. Письма к Аттику. ХП.23.2; Цицерон. Оратор. 120; Цицерон. Брут. 14—16; о вкладе Варрона см.: Авл Геллий. Аттические ночи. XVII.21.23; ср.: 1 — здесь упомянуты «хроники» (chronici), которые Петер [HRR П: 24, ХХХУШ) идентифицирует с тремя книгами «Анналов» Варрона.
135 Корнелий Непот. Аттик. 18.3.
822
Часть Π
ты Аттика видна и в составленном им сборнике портретов с подписями, на создание которого его вдохновили «Седмицы» Варрона: в отличие от последнего, Аттик прославлял должности и свершения только великих римлян136.
«Хроника» Корнелия Непота стала первой в римской историографии работой, в которой рассматривалась не только римская и италийская история. Этот труд базировался на стихотворной хронике Аполлодора, афинского исследователя П в. до н. э.; важное место в сочинении Непота занимали синхронизмы греческой и римской истории; таким образом, он стал предтечей всеобщих историй, написанных в эпоху Августа137. Полибий первым обратил внимание на то, что Римскую империю следует рассматривать в историческом сочинении, охватывающем весь известный мир, но в эпоху Республики примеру этого грека не последовал никто, кроме Посидония, продолжившего труд Полибия со 146 г. до н. э. до 80-х годов I в. до н. э. Сочинение Посидония отличалось широтой охвата, этнографическими экскурсами и пониманием массовой психологии, но римская политическая история в нем оказалась проникнута некритичным поклонением предкам, которое отличало его римские источники, и особенно искажена политическими предубеждениями Рутилия Руфа. Если в 60-е годы до н. э. исторический труд Посидония уже был известен, то, возможно, именно это подтолкнуло Цицерона обратиться к его автору за восхвалением, однако саму эту работу Цицерон ни разу не упоминает138.
Плутарх сообщает, что в свою римскую историю Цицерон намеревался включить греческий материал, но сочинения, в которых он ближе всего подступил к историческим предметам, это «О государстве» и «Брут». Однако введение к кн. Ш трактата «Об ораторе» дает нам некоторое представление о том, как мог бы выглядеть исторический нарратив Цицерона139. Верный Корнелий Непот, писавший уже после Саллюстия и, быть может, как раз в год смерти последнего, сказал, что только Цицерон мог бы дать латинской литературе исторический труд, достойный греков, и добавил, что именно красноречие Цицерона придало блеск римскому ораторскому искусству и утонченность — латинской философии, которые прежде были грубыми и примитивными140.
VIII. Теоретические труды Цицерона
Сочинения, о которых говорил Непот, были написаны Цицероном на закате жизни. Они свидетельствуют о том, как Марк Туллий представлял себе наилучшее применение своих талантов на службе отечеству и соб¬
136 Корнелий Непот. Аттик. 18.5—6; см. выше, с. 813.
137 Geiger 1985 (В 42): 68-72; Momigliano 1984 (Н 86).
138 Об «Истории» Посидония см.: Malitz 1983 (В 69). Посидоний умер в 50-х годах I в. до н. э., а его работа могла быть написана в конце его жизни.
139 Плутарх. Цицерон. 41; Rawson 1972 (Н 104): 43—44.
140 Корнелий Непот. Фр. 3.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
823
ственной репутации, когда его влияние в политике снижалось (как в 50-е годы I в. до н. э.) или сводилось к нулю (как в 40-е годы I в. до н. э., до убийства Цезаря).
«Имя Цицерона уже не человека, а самое красноречие означать стало» («Non hominis nomen sed eloquentiae») — так отозвался Квинтилиан о Цицероне. Пресловутую оценку, данную Цицероном некоторым его сочинениям, которая прозвучала в его письме к Аттику («Это переписанное: оно создается с меньшим трудом; я только привожу слова, которые у меня в изобилии»), не следует воспринимать буквально, но она подчеркивает, что Цицерон считал себя прежде всего красноречивым человеком141. Его непревзойденное владение латинским языком признавали современники, посвящая ему труды по языковедению; вероятно, именно в трактате «Об аналогии» Цезарь написал: «Ты добыл себе славы больше всех триумфов, ибо настолько расширить границы римского духа — более значительное достижение, чем раздвинуть пределы империи»142.
Концентрация Цицерона во всех его зрелых риторических трудах на понятии «идеального оратора», а также прозрачный намек в конце «Брута» свидетельствуют о том, что он осознавал свое первенство в области красноречия и считал возможным поделиться с читателями кое-чем из собственного опыта. Риторические трактаты Цицерон включал в число своих философских сочинений, ибо основные принципы ораторского искусства заложили Аристотель и Теофраст, а идеалом Цицерона была философская риторика Аристотеля и Исократа. Сама форма диалога заимствована Марком Туллием у Платона и Аристотеля143. Более того, Цицерон настаивал на том, что его риторические труды — это далеко не технические руководства, и хоть и считал их полезными для юношества, но выступал как критик, а не как наставник. Он имел в виду не только то, что мастерство (ars) не достигается простым чтением специальной литературы и обучаться этому мастерству следует у профессионала-грека, а не у римского аристократа-исследователя, но и то, что, по его убеждению, эллинистические риторы до сих пор слишком узко смотрели на свой пред¬
141 Квинтилиан. X. 1.112. (Перев. А. Никольского); Цицерон. Письма к Аттику. ХП.52.3. [Персе. В.О. Горенштейна.) Неясно, к какому из тех философских трудов, над которыми Цицерон работал в июне 45 г. до н. э., относится это оценочное замечание. Подразумеваемое сравнение касается либо других его сочинений, либо труда Варрона.
14^ Плиний Старший. Естественная история. VII.117. (Перев. А.Н. Маркина, с правкой.) См. также лестную цитату из того же сочинения Цезаря (упомянутого под латинским названием «О правилах латинской речи» («De Ratione Latine Loquendi»)) в трактате Цицерона «Брут» (253—255).
14* Цицерон. О дивинации. П.4; Цицерон. Письма к близким. 1.9.23: «<...> учение об ораторском искусстве Аристотеля и Исократа» («<...> Aristoteliam et Isocratiam rationem oratoriam»). В пассаже 1.28 трактата «Об ораторе», а также в финальном пророчестве о Гортензии налицо явные аллюзии на «Федра» Платона, тогда как предмет трактата имеет много общего с диалогом «Горгий» (ср.: Ш. 128—129). Цицерон полагал, что избранная им форма трактата «Об ораторе» — это диалог в духе Аристотеля (Цицерон. Письма к близким. 1.9.23), но еще лучше данной традиции соответствует «Брут», поскольку главное действующее лицо в нем — сам Цицерон (Цицерон. Письма к Аттику. ХШ.19.4).
824
Часть Π
мет144. Поэтому он постарался отодвинуть на задний план рассмотрение тем, составлявших главный предмет подобных руководств, а также затронуть те вопросы, которые обычно в них не включались: например, прозаический ритм и абстрактные философские темы для декламаций, известные как «тезисы» («θέσεις»)145.
Знакомство Цицерона с научными проблемами его времени обнаруживается уже в трактате «Об ораторе», написанном в 55 г. до н. э., в котором автор демонстрирует хорошее знание как греческой культуры, так и римского образования и интеллектуальных запросов по состоянию на 91 г. до н. э. (время действия диалога). Затем, в «Бруте», Цицерон опирается на появившиеся у него хронологические справочники для создания нового литературного жанра — исторического обзора в форме диалога. Серия жизнеописаний интеллектуалов в греческом духе, составленная Непотом, — это проявление той же тенденции146, характерной в то время не только для Рима; греческие философы-академики, у которых учился Цицерон, интересовались в конечном счете историей философских доктрин, и этот интерес нашел отражение в трактате Цицерона «Об ораторе» (Ш.60 слл.), где затрагивается история философии.
Риторические трактаты Цицерона вносят вклад в старое соперничество риторики и философии, которое в них прямо упоминается. Время действия диалога «Об ораторе» вынудило Цицерона остановить свой рассказ на дебатах в Афинах, о которых слышали Красе и Антоний и на нововведении философа Филона, который стал рассматривать не только абстрактные темы для декламаций (θέσεις), но и более конкретные прения (controversiae);147 к моменту написания этого диалога споры так и не утихли. Всего шестью годами ранее Посидоний на Родосе произнес речь перед Помпеем, в которой от лица философии оспаривал тезис в защиту риторики, выдвинутый влиятельным во П в. до н. э. ритором Гермагором, согласно которому общие вопросы философского характера должны относиться к сфере ведения оратора. Двадцатью годами ранее Цицерон высмеял идею Гермагора, но теперь попытался использовать ее в интересах предлагаемого им самим идеального риторического образования148.
В «Бруте» и «Ораторе», написанных Цицероном в 45 г. до н. э., на первый план выходит более недавний римский спор. Некоторые из молодых ораторов, протестуя против авторитета Гортензия и Цицерона, стали пред¬
144 Цицерон. 06 ораторе. 1.111, 165; П.10; Цицерон. Оратор. 117, 112, 123, 43. О молодежи см.: Цицерон. 06ораторе. П.4; ср.: Цицерон. Письма к близким. 1.9.23; о римлянах-люби- телях см.: Цицерон. 06ораторе. 1.115, 138; о греческих риторах см.: Цицерон. 06ораторе. Ш.70.
145 Цицерон. 06ораторе. Ш.188; 108—109. См.: Barwick 1963 (Н 6).
146 О «Бруте» см.: Douglas 1966 (В 29): xxii—xxiii; о Непоте см.: Fanthain 1981 (В 34): 7-17; Geiger 1985 (В 42): 23.
147 Цицерон. 06 ораторе. 1.47; 75; 83 сл. Ш.10; Цицерон. Тускуланские беседы. П.9.
148 Плутарх. Помпей. 42.5; о различных источниках об этом эпизоде и его интерпретациях см.: Malitz 1983 (В 69): 25—27; позднее речь Посидония была опубликована. Цицерон. О нахождении материала. 1.6.8; Цицерон. 06 ораторе. Ш. 106—107; 120; Цицерон. Оратор. 125. Об оригинальности Цицерона в данном вопросе см.: Grube 1965 (Н 55): 174—175.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
82 5
почитать более строгий стиль и именовать себя аттицистами, то есть приверженцами чистого красноречия классических Афин и противниками многословного и цветистого «азианского» стиля, развившегося в греческой диаспоре149 150. Лидером этого движения был, видимо, Гай Лициний Кальв, и, как и в случае с новой поэзией, представителем которой Кальв также являлся, протест принял форму подражания греческим авторам, ранее не пользовавшимся большим успехом в Риме, а в данном случае — оратору Лисию. В ответ Цицерон, познакомившись с творчеством Лисия ближе, доказывал, что на самом деле величайшим «аттическим» оратором был Демосфен, который открыл новый этап в истории риторики и мастерски владел не одним-единственным, а всеми тремя ораторскими стилями (высокий, средний и простой)130. Из слов Цицерона следует, что движение аттицистов, расцветшее в конце 50-х годов I в. до н. э., к 45 г. до н. э. уже пошло на спад, поскольку его приверженцы, враждебные самому Цицерону, владевшему полным арсеналом ораторских приемов, освоить который они оказались не в состоянии, не учли тот факт, что красноречие — это популярное искусство151.
После диалога «Об ораторе», но еще оставаясь до какой-то степени «у руля государства», Цицерон сочинил трактат «О государстве» и начал писать труд «О законах», который так и не завершил. Здесь, как и в трактате «Об ораторе» очевидно влияние Платона, но его идеи трансформированы: Цицерон дает римский ответ Платону, представляя римский идеал, укорененный в мудрости предков152. Если идеальный оратор у Цицерона — это римский государственный деятель, сведущий во всех областях знаний, но лишь настолько, насколько это полезно для дела, то идеальное государство у Марка Туллия — это не абстрактная конструкция, но Римское государство, которое в работах Цицерона представлено как держава со смешанной конституцией (понятие из греческой теории) и очищено до некоего идеализированного прошлого состояния, то есть изображено таким, каким оно могло бы стать, управляй им люди с твердыми принципами и должным образованием, подобные идеальному оратору, которого описал Цицерон153.
149 Цицерон. Брут. 50; 67—68; 325 и Douglas 1966 (В 29): xii сл. О возможных симпатиях Брута к движению аттицистов см.: Douglas 1966 (В 29): xiii—xiv.
150 Цицерон. Брут. 284 сл.; 35; 185; Цицерон. Оратор. 23 сл.; 75; 234. О том, что между написанием диалога «Об ораторе» и других риторических трудов знания Цицерона о греческом красноречии расширились, см.: Douglas 1966 (В 29): xiv—xvi и 1973 (Н 35): 103—106.
101 Цицерон. Тускуланские беседы. П.З.
Ь2 Цицерон. О государстве. 1.65; П.З, 22, 51; IV.4—5; Цицерон. О законах. П.14. Замечание Цицерона (О государстве. 1.16) о том, что Платон приписывал Сократу собственные идеи, предостерегает нас от того, чтобы слишком всерьез воспринимать рассказ самого Цицерона о познаниях и интересах описанного им «Сципионова кружка».
ьз Намек на возможность реставрации древнего уклада см.: Цицерон. О государстве. V.2; Цицерон. О законах. Ш.29. Марк Туллий явно считает, что в одно и то же время может существовать параллельно более одного «управителя государства» («rector rei publicae»), см.: Цицерон. О государстве. П.67; Цицерон. Об ораторе. 1.211); о важности образования см.: Цицерон. О законах. Ш.29. См.: Coleman 1964 (Н 27): 13—14 — о взаимосвязи «управителя государства» из трактата «О государстве» с пассажем (П.63) из диалога «Об
826
Часть Π
Во всех работах Цицерона наглядно отражены интеллектуальные интересы его эпохи. Говоря об истории римской монархии и Ранней республики, он критически использовал труды римских анналистов и исследования Варрона, а работая над диалогом «О законах», сверялся со старыми постановлениями сената, а для реконструкции давних социальных обычаев использовал этимологический анализ154. Представленный им каркас правового кодекса, который начинается с определения понятия закона и исследования его природы и далее включает систематически разработанное божественное, религиозное и светское право, напоминает проект превращения римского гражданского права (ius civile) в науку (ars) в греческом смысле слова, приписанный Цицероном Крассу в диалоге «Об ораторе». Но в трактате «О законах» Марк Туллий ставит само римское право, которое рассматривается им как наиболее достойное интеллектуальное занятие для римского государственного деятеля, в более широкий контекст человеческой природы и естественной справедливости, который, на его взгляд, является продуктом философии. Наконец, трактат «О государстве», прежде всего «Сон Сципиона», соответствующий пифагорейскому «Мифу об Эре», изложенному у Платона, изобилует модными в эпоху Цицерона нумерологией и астрономией, которые ассоциировались с именем Пифагора155.
В период вынужденного досуга во время диктатуры Цезаря Цицерон сочинил те свои работы, которые считал наиболее серьезными. В них он рассматривал философские доктрины эллинистических школ156. Философией Цицерон интересовался всю жизнь, а в этот период у него были и эмоциональные причины для занятий ею, в частности, смерть любимой дочери в 45 г. до н. э.157, но, судя по всему, его привлекла и сложность задачи, ведь излагать философию на латыни было очень трудно. Правда, эта почва уже не была целиной. Первыми на нее вступили эпикурейцы — Амафиний, Рабирий, Каций и другие; они, по собственному признанию, писали, не располагая формальной терминологией, определениями и классификацией настоящей науки (ars). Цицерон утверждал, что не претендовали они и на изящество литературного стиля, поэтому могли заинтересовать лишь своих единомышленников или необразованных людей158. Хотя Цицерон отмечал, что такой простой тип изложения годился разве что
ораторе» и представлениями Цицерона о его собственных достоинствах (О государстве. 1.6, 13; О законах. Ш.14, в конце).
154 Rawson 1972 (Н 104): 36—38. Об использовании трудов Варрона см.: Цицерон. Письма к Аттику. IV. 14.1; но см. комментарий к этому месту: Shackleton Bailey 1965—1970 (В 108).
105 Цицерон. О законах. П.18 слл.; Цицерон. 06 ораторе. 1.190; Цицерон. О пределах блага и зла. 1.12; Цицерон. О законах. 1.16—17. О пифагорействе см.: Coleman 1964 (Н 27).
156 Цицерон. О дивинации. П.1—7; Цицерон. Оратор. 148.
157 Цицерон. О природе богов. 1.9; Цицерон. О дивинации. П.3 — из этого пассажа следует, что на философские изыскания Цицерона повлияла и смерть Катона, образцового стоика, в 46 г. до н. э. Ранее в том же году, когда Катон возглавлял республиканские силы в Африке, Цицерон сочинил «Парадоксы стоиков», имея Катона в виду (1 слл.).
158 Цицерон. Учение академиков. 1.5; Цицерон. О пределах блага и зла. Ш.40; Цицерон. Тускуланские беседы. 1.6; П.7. В этих пассажах не упомянут эпикуреец Луций Сауфей, друг
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
827
для столь же незамысловатой философии, Кассий жаловался и на «сельских стоиков» («rustici Stoici»)159.
Возможно, Цицерон читал поэму Лукреция, но поэт, естественно, иначе подходил к изложению философии и не мог столь же свободно изобретать и объяснять технические термины. Пожалуй, Цицерон не слишком многому у него научился160. Более важный пример подал Марку Туллию Брут, чей трактат «О доблести» («De Virtute») был написан до этических трудов Цицерона; Квинтилиан ставил Брута на второе место после Цицерона161. Но суждение Квинтилиана о Бруте («читая его, видиттть, что он подлинно чувствовал сам, о чем говорил») наводит на мысль о страстном стиле изложения у последнего, который не подошел бы для рассудительных сочинений Цицерона, в которых взвешенно излагаются философские взгляды, рассматриваются греческие термины и проблемы перевода. Современные исследователи нередко сожалеют о том, что Цицерон, желая облегчить восприятие своих текстов, не всегда последовательно придерживался избранных им вариантов перевода терминов, но для Сенеки и Квинтилиана он уже стал непререкаемым авторитетом по части философского лексикона, а для св. Августина — «началом и концом (originator и perfector) всей латинской философии»162.
Написание философских трудов, должно быть, привлекало Цицерона еще и потому, что Варрон по-прежнему сторонился этих занятий. Действительно, во втором издании «Учения академиков», которое Цицерон переписал, чтобы сделать Варрона одним из участников диалога, тот возражал против написания философии на латыни, полагая, что для тех, кто не способен понять ее по-гречески, она и на латинском языке окажется слишком трудна, причем неизбежно потребует создания новой терминологии (1.5—6). Затем Варрон (в изображении Цицерона) опровергал собственное утверждение: он излагал философское учение, которое одобрял, вводя неологизмы и обосновывая их (1.24). Варрон-персонаж Цицерона говорит о философских рассуждениях, которые он сам включил в свои «Менипповы сатиры», надгробные речи и предисловия к своим «Древно¬
Аттка (Корнелий Непот. Аттик. 12.3; Цицерон. Письма к Аттику. VTL1; IV.6), который тоже писал на философские темы (Цицерон. Письма к Аттику. 1.3.1) на латинском (?) языке; см.: Rawson 1985 (Н 109): 9.
159 Цицерон. Письма к близким. XV. 19.1 (Латинское прилагательное «rusticus» могло означать и «сельский, крестьянский», и «простой, незатейливый», и «грубый, неуклюжий». — О.Л). В комментарии к указанному месту Шеклтон Бэйли признаёт, что контекст предполагает упоминание здесь латинских авторов, но всё же полагает, что эти «сельские стоики» писали по-гречески (Shackleton Bailey 1977 (В ПО)); однако в пассаже Цицерона в «Тускуланских беседах» (TV. 6) говорится только, что на латыни вообще мало кто писал. Роусон напоминает также о стоиках, которых высмеивал Гораций, см.: Rawson 1985 (В 109): 49, 284-285.
160 Цицерон. Письма к брату Квинту. П.9.3.
161 Цицерон. О пределах блага и зла. 1.8; Квинтилиан. X. 1.123. [Перев. А. Никольского); см. также сноску 63 наст. гл.
162 Августин. Против академиков. 1.8. [Перев. Киевской духовной академии); Сенека Младший. Письма. 58.6; Квинтилиан. П.14.4; Плутарх. Цицерон. 40. Однако в отличие от Цицерона [О пределах блага и зла. 1.10; О природе богов. 1.8) Сенека сетовал на скудость латинского языка.
828
Часть Π
стям» (1.8), но дело в том, что в реальности писать серьезные философские труды Варрон начал лишь после публикации «Учения академиков» Цицерона; в их число вошла «Книга о философии» («Liber de Philosophia»), в которой, доведя до крайности идею Карнеада о классификации возможных философских систем в зависимости от их представлений о высшем благе, автор в конце концов склонялся к «Старой Академии» Антиоха Аскалонского. Варрон сочинял также «Аогисторики», диалоги (с двухуровневыми заголовками) на определенные философские темы более общего и практического характера, в стиле диалогов Цицерона «Катон, или О старости» и «Лелий, или О дружбе».
В области философии энциклопедистом был именно Цицерон. На протяжении трех лет он рассмотрел все три сферы, на которые философские школы после Аристотеля обычно делили свой предмет: логика представлена Марком Туллием в «Учении академиков», этика очерчена в трактате «О пределах блага и зла», а физике посвящен диалог «О природе богов». К двум последним предметам Цицерон еще вернется позднее — в трудах, относящихся к конкретным, практическим вопросам, где его взгляды найдут более откровенное выражение; последним из этих текстов стал трактат «Об обязанностях», в котором Цицерон, рекомендуя свои философские сочинения сыну, утверждал, что они послужили развитию латинского языка даже больше, чем изучению предмета философии (1.1—2). Далее он называл имена стоиков, академиков и перипатетиков, которых считал почтенными учителями жизни, и утверждал, что в данном трактате следовал стоикам, но не просто выступал их переводчиком, а, как обычно, отбирал материал из источников по своему усмотрению (1.5—6).
На основании этого и других сходных пассажей у исследователей сложилось и долгое время преобладало мнение о философских сочинениях и философских представлениях Цицерона, которое можно упрощенно суммировать следующим образом: высокий темп написания этих сочинений Марком Туллием объясняется тем, что он просто-напросто воспроизводил аргументы, обнаруженные им в трудах греческих философов, адаптируя их для своей социальной среды и украшая их римскими примерами и отступлениями; его не волновала систематичность его философских воззрений, и он механически следовал взглядам разных школ по разным вопросам; хотя греки продолжали писать и спорить по поводу абстрактных проблем разделов эллинистической философии, всем этим он не занимался — Цицерон, как и его соотечественники, интересовался исключительно практической этикой. Такое представление о нем, возникшее в XIX в., сегодня серьезно пересматривается. Стоит поговорить о разных его составляющих по отдельности.
Цицерон не скрывал, что пользовался греческими источниками. Плиний Старший, отмечая склонность даже самых уважаемых из новых авторов дословно переписывать предшественников без ссылок на них, даже выделял Цицерона за его честность: «В трактате “О государстве”
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
829
он называет себя единомышленником Платона, в “Утешении” — последователем Крантора, в диалоге “Об обязанностях” — Панетия»163. В других своих работах Цицерон был не настолько откровенен, но в «Учении академиков», например, намекал на то, что у него под рукой — две книги филона из Лариссы и ответ Антиоха Аскалонского164. С другой стороны, Цицерон отмечал, что сочинение Посидония, к которому он обратился во время работы над трактатом «Об обязанностях», когда не нашел помощи у Панетия, оказалось всего лишь кратким обзором, так что ему пришлось во многом полагаться на собственные соображения165. Особенно гордился Марк Туллий «Учением академиков» и считал, что тонкостью аргументации этот его трактат превосходит все греческие сочинения подобного рода. А в диалоге «О пределах блага и зла» Цицерон проводил параллель между тем, как его труды соотносятся с греческими источниками, и тем, как поздние стоики, вроде Панетия и Посидония, писали о том же, что и Хрисипп, но по-своему. Вместе с тем Цицерон признавал, что только римляне станут читать философские труды, написанные им и Брутом166.
Далее нам придется найти ответы на целый комплекс непростых вопросов: что конкретно мы подразумеваем под переводом, какая интеллектуальная деятельность требуется для перевода абстрактных понятий на другой язык и, наконец, что означает быть философом. Недавно были выдвинуты довольно убедительные аргументы в пользу того, что Цицерон, с его великолепной памятью, мог использовать свои широкое философское образование и немалую начитанность (письма свидетельствуют, что читал он не только то, что требовалось для текущей работы) для отбора необходимых аргументов и упорядочения их в рассказе о доктринах греческих философов с попутным добавлением собственной критики и примеров; ни на что большее он и не претендовал. Такую деятельность нельзя назвать работой оригинального философа в точном смысле слова, но требует она не простого повторения тезисов, но их понимания167. В большинстве современных академических институтов выполнение подобной работы вполне позволяет сотрудникам называться философами.
163 Плиний Старший. Естественная история. Предисл.22—23. Ср.: Цицерон. Об обязанностях. П.бО; Ш.7; Цицерон. Письма к Аттику. XVI. 11.2.
164 Цицерон. Учение академиков. П.11—12. Сочинение Антиоха называлось «Сое». Об этих трудах и о том, как Цицерон использовал их, см.: Glucker 1978 (Н 48): прежде всего ГЛ. 1 и Экскурс П; Barnes 1989 (Н 5).
160 Цицерон. Письма к Аттику. XVI. 11.4; Цицерон. 06обязанностях. Ш.8; 34; cp.: 1.159. Не исключено, что Цицерон имел возможность ознакомиться с конспектом книги Посидония, составленным Афинодором Кальвом (Цицерон. Письма к Аттику. XVI. 11.4).
166 В письме к Аттику (ΧΪΠ.19.5) Цицерон утверждал, что во второй редакции «Учения академиков» проницательность Антиоха соединена им, Марком Туллием, с блеском (nitor) его собственного стиля (несомненно, более совершенного); Цицерон. Письма к Аттику. ХЩ.18; 13.1; Цицерон. О пределах блага и зла. 1.6 — здесь Цицерон проводит параллель, которая относится и к другим философским школам.
167 Воуапсе 1936 (Н 17); Воуапсе 1970 (Н 17); Douglas 1973 (Н 35); Bames 1985 (В 4).
830
Часть Π
IX. Цицерон
и РИМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Цицерона часто называют «эклектиком». Например, он принимал взгляды стоиков на этику и на божественное провидение, но отвергал эпистемологию стоиков и, видимо, их воззрения на судьбу. Марк Туллий идеально подходил на свою роль энциклопедиста, ибо в юности слушал учителей всех философских школ168. Другие его современники, в частности Аттик и Брут, находясь в Афинах, тоже посещали разных учителей, а некоторые, подобно Катону, имели «домашних философов», принадлежавших к различным школам169. Даже в предыдущем поколении известен Аврелий Опилл — ученый раб, который был отпущен на свободу хозяином-эпику- рейцем, преподавал «философию» (какого направления — не уточняется), а затем последовал в изгнание за стоиком Рутилием Руфом170. Уже этот пример напоминает нам о том, что мы рассматриваем философские взгляды не только римских дилетантов-потребителей из высших классов. Сама греческая философия рассматриваемого периода часто характеризуется как «эклектичная», и расцвет таких жанров, как комментарии, толкования и истории философских учений, свидетельствует об интересе ученых к исследованию различных доктрин171. Кризис, вызванный Мигридатовыми войнами, в ходе которых Академия и Ликей как физические институты прекратили свое существование, и афинские философы рассеялись по другим интеллектуальным центрам, не способствовал организованным дискуссиям разных школ172.
Однако термин «эклектика» имеет несколько значений. Обычно так называют соединение доктрин разных школ на основе личных предпочтений, а не какого-то прямо сформулированного или убедительного обоснования. В этом смысле исследователи не используют сегодня данный термин для характеристики философских представлений эпохи Поздней республики, поскольку он слишком уничижителен и не позволяет понять, как сами философы данного периода воспринимали собственную деятельность173.
168 Стоик Диод от жил и умер в доме Цицерона (Цицерон. Брут. 309); Марк Туллий слушал Филона из Лариссы в Риме в 88 г. до н. э. (Цицерон. Брут. 306), Антиоха Аскалон- ского — в Афинах (Цицерон. Брут. 316; Цицерон. О пределах блага и зла. V.1; Цицерон. Ту- скуланские беседы. V.22; Плутарх. Цицерон. 4), эпикурейцев Федра и Зенона — тоже в Афинах, в 79 и 78 гг. до н. э. (Цицерон. Письма к близким. ХШ.1.2; Цицерон. О пределах блага и зла. 1.16) и Посидония — на Родосе (Плутарх. Цицерон. 4; Цицерон. О природе богов. 1.6).
169 Цицерон. О пределах блага и зла. V.1; Плутарх. Брут. 24; Плутарх. Катон Младший. 65.5; ср.: Плутарх. Брут. 12.3.
170 Светоний. О грамматиках. 6.
171 Donini 1982 (Н 33): 36-39; Tarrant 1985 (Н 122): 127-128.
172 Glucker 1978 (Н 48); Lynch J.P. Aristotle's School·. A Study of a Greek Educational Institution (Berkeley, 1972).
173 Когда античные авторы называют философов «эклектиками», они имеют в виду членов особой и вполне узнаваемой философской школы, которая придерживалась определенных догматов, заимствованных у нескольких других школ, по-видимому, каким-то
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
831
Цицерон вел себя как последовательный сторонник «Новой Академии» не только тогда, когда воздерживался от суждений, как и подобало скептику, но и тогда, когда после всестороннего рассмотрения проблемы соглашался с учением той или иной школы, оценивая его, по крайней мере в данном случае, как правдоподобное. В конце концов, если Карнеад и сформулировал какую-то доктрину, то она требовала именно того подхода, какой исповедовал Марк Туллий, что же касается правдоподобия, то Филон, учитель Карнеад а, подчеркивал, что оно вполне может служить разумной основой для последующих действий174. Однако Антиох Аскалон- ский, пытавшийся направить Академию в более догматическое русло, совершенно иначе обосновывал переплетение в своем учении теорий Платона, Аристотеля и Стой. Антиох и его сторонники придерживались собственных воззрений на историю философии, согласно которым Платон отказался от подхода своего учителя Сократа (который подвергал сомнению все точки зрения, а сам ничего не утверждал) и передал ученикам вполне согласованную и стройную доктрину. Эта философия была модифицирована Аристотелем, а стоики переработали ее терминологию, но ее сущность оставалась неизменной до тех пор, пока Аркесилай и Карнеад не начали отрицать возможность точного знания. Эту амальгаму Антиох представил как учение «Старой Академии»175, и вполне возможно, что сходных взглядов на историю философии, согласно которым Стоя являлась улучшенной версией Академии, придерживался Панетий, в важных вопросах обращавшийся к учению Платона и Аристотеля. Его уважение к воззрениям этих философов унаследовал и Посидоний176.
Даже эпикурейство, самая консервативная философская школа, тоже изменялось, чтобы ответить на возражения оппонентов. Так, Филодем, приехавший в Италию в 70-х годах I в. до н. э. и вошедший в близкое окружение Луция Кальпурния Пизона, видимо, смягчил идею Эпикура о том, что поэзия искажает язык, а потому враждебна истине. Вслед за своим учителем Зеноном Сидонским Филодем, очевидно, приписывал Эпикуру (наперекор мнению эпикурейцев, работавших не в Афинах) идею о том, что софистическая риторика — это наука (τέχνη), а следовательно, существует мастерство чистого стиля, которому можно учить. Популярность эпикурейства в высших классах в эпоху Цицерона хорошо засвидетельствована и отчасти может объясняться личными контактами Фило-
образом согласованных между собой (Диоген Лаэртский. 1.21; см. также: Гален. XIV.684K; ΧΙΧ.353Κ). О различных античных и современных смыслах этого слова (безотносительно Цицерона) см.: Donini 1988 (Н 34).
174 Цицерон. О нахождении материала. П.10; Цицерон. Тускуланские беседы. 1.17; П.5; V.82; Цицерон. Учение академиков. П.8; Цицерон. Об обязанностях. П.7—8; Ш.20, 33.
170 Цицерон. Учение академиков. 1.15—18; Цицерон. О пределах блага и зла. V.93—95. Такое искажение представляется нам очень значительным, но не исключено, что так только кажется, ибо мы не знакомы с устным учением Платона и трудами его преемника Полемо- на, см.: Dillon 1977 (Н 31) 11, 57-58; Donini 1982 (Н 33): 74.
176 Панетий: фр. 57 van Straaten, с. 17; Цицерон. О пределах блага и зла. IV.79; Цицерон. Тускуланские беседы. 1.79, см.: Glucker 1978 (Н 48): 28 слл. Посидоний: Edelstein—Kidd фр. 150а, 151, 157.
832
Часть Π
дема и его интересом к поэзии и риторике, которые до Зенона Сидонского не ассоциировались с этой школой. Даже высмеивая Пизона, патрона Филодема, Цицерон высоко отзывался об изящных стихах самого философа, примеры которых сохранились в «Греческой антологии». Конечно, взгляды Филодема (насколько их можно реконструировать на основании обуглившихся остатков геркуланских папирусов) не могли понравиться ни Варрону, ни Цицерону, поскольку он отрицал моральное содержание поэзии (которую считал правомерной формой развлечения) и ораторского искусства и даже не считал политическое и судебное красноречие искусством, которое можно преподавать177. Тем не менее, Зенон и Филодем применяли эпикурейские установки к актуальным областям интеллектуальных интересов, господствовавших в Риме, таким, как взаимосвязь философии и риторики, классификация разных типов стиля и критерии оценки уровня поэзии.
Некоторые римские эпикурейцы, вроде Пизона, могли интересоваться данными тенденциями, хотя, к примеру, Лукреций ничем не проявлял свое знакомство с указанной философской полемикой и переменами в эпикурейском учении. Похоже, что современники считали его скорее поэтом, нежели философом, но его поэма, как нам представляется, согласуется с греческими эпикурейскими текстами из библиотеки с виллы Пизона в Геркулануме178. Пожалуй, не слишком надуманным будет предположение о том, что, принимая так близко к сердцу проблему поэзии, Лукреций самой своей поэмой неявно отвечал Филодему. Ибо, подчеркивая важное значение получения удовольствия от поэзии в целом (V.1450-451) и от его собственной поэзии (1.28; IV. 1—25), Лукреций всё же утверждал, что для достижения эпикурейской цели, то есть наслаждения, необходимо ко всему прочему еще и знание Вселенной, которое он старался передать своим читателям. Далее, в поэме «О природе вещей» Лукреций пренебрегает проводимым Филодемом различием между правильным использованием поэзии для развлечения и неправильным ее использованием для наставления179.
Это подводит нас к очень сложному общему вопросу: были ли римляне осведомлены о наиболее глубоких и специализированных аспектах современной им греческой философии? Цицерон свидетельствовал, что не только Луций Красе, но и его собственные современники настаивали на
177 Цицерон. О пределах блага и зла. 1.71—72; Цицерон. Против Пизона. 28, 68—70; Grube 1965 (Н 55): 193 слл.; Rawson 1985 (Н 109): 23-24, 59-60, 280-281.
178 Hurley 1978 (Н 45). Цицерон. Письма к брату Квинту. П.10.3; Корнелий Непот. Аттик. 12.4 (упоминает Лукреция наряду с Катуллом, как позднее и Веллей Патеркул — П.36.2); но ср.: Витрувий. ЕХ.Предисл.17 — поэма Лукреция интересовала этого автора как продукт мудрости (sapientia). Клеве утверждает, что идентифицировал строки из кн. I, Ш, IV и V Лукреция на плохо сохранившихся папирусах, и предполагает, что поэма Лукреция вдохновила Филодема на защиту эпидейктического красноречия, см.: Kleve К. Lucretius in Herculaneum // Cronache Ercolanesi (1989) 19: 5—27.
179 О взаимосвязи поэзии Лукреция с его эпикурейством см., напр.: Dalzell 1982 (В 24): 216; Kenney 1977 (В 53): И.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
833
том, что являются лишь любителями, но если человек не чванится своими познаниями, это еще не делает его невеждой. Цицерон признавал, что в первой редакции «Учения академиков» его действующие лица, Катул, Лукулл и Гортензий, выходили за рамки своей компетентности; но этот труд содержит более сложный материал, чем большинство остальных работ Цицерона, и неосведомленность участников диалога автор противопоставляет образованности более подходящих на эту роль Катона, Брута и Варрона. Более того, хотя в прологах к первой редакции, которые ввели в заблуждение Плутарха, Цицерон настаивал на познаниях действующих лиц, в конце концов он все-таки переписал этот диалог и использовал вместо них себя и Варрона180.
Цицерон явно не рассчитывал, что его читатели поверят в реальность описанных им дискуссий. Они знали об «условности диалогов» («mos dialogorum»)181. Но можем ли мы точно так же отвергнуть утверждение, приписанное Цицероном Крассу, о дискуссиях последнего с афинскими философами о границах риторики и философии, или рассказ, вложенный Цицероном в уста Лукулла, о том, как двое римлян, оказавшихся в Александрии, впервые сообщили Антиоху о революционном содержании лекций Филона, которые тот прочитал в Риме в 80-х годах до н. э., и о возражениях старшего Катула на новые теории Филона?182 Сам Цицерон явно понимал все тонкости конфликта между Филоном и Антиохом и представил в «Учении академиков» собственную точку зрения, более скептическую, чем позиция Филона в «Римских книгах»183. Если в этом своем труде Цицерон изложил дебаты времен его юности, это еще не означает, что он не следил за последующими тенденциями, ибо со смертью Антиоха в начале 60-х годов I в. до н. э. в Академии, судя по всему, начался застой: многие ее приверженцы утратили к ней интерес, и Цицерон изобразил лагерь скептиков как покинутый — даже в Греции184.
Едва ли можно отрицать, что для римлян с их практичностью и развитым нравственным чувством наиболее привлекательна была этика, но
180 В трактате «О пределах блага и зла» (V.8) Цицерон приписывает Марку Пупию Пизону (консулу 61 г. до н. э.) слова о том, что ему и в голову не приходило разглагольствовать «как философ». Цицерон. Письма к Аттику. ХШ.12.3; 19.5; 18.1; 16.1. Ошибка Плутарха, см.: Плутарх. Лукулл. 42.4.
181 Цицерон. Письма к близким. IX.8.1. См. также намеки: Цицерон. Об ораторе. 1.97; П.13, 22; Цицерон. О государстве. 1.15.
182 Цицерон. Об ораторе. 1.57; Цицерон. Учение академиков. П.12, 11. Двое римлян привезли в Александрию копию лекций Филона («Римские книги»).
183 Цицерон. Учение академиков. П.64 слл. По мнению Глюкера, Цицерон принял точку зрения, изложенную в последующих трудах Филона, см.: Glucker 1978 (Н 48): 413 слл.; по мнению Террента, Цицерон, руководствуясь собственным здравым смыслом, смягчил взгляды Филона, сформулированные в «Римских книгах», см.: Tarrant 1985 (Н 122): 42—43.
184 Цицерон. Учение академиков. П.11 (время действия — 63—61 гг. до н. э.); Цицерон. О природе богов. 1.6 (ср.: 11). Энесидем, видимо в первых десятилетиях I в. до н. э., посвятил свой труд «Пирроновы рассуждения» другу Цицерона (Цицерон. В защиту Аигария. 21) Луцию Элию Туберону как академику того же самого, т. е. скептического, направления (αίρεσις), что и он сам (Фотий. Библиотека. 212, 169633), см.: Tarrant 1985 (Н 122): 60; 140 примеч. 4; Barnes 1989 (Н 5): Приложение С.
834
Часть Π
натурфилософия хорошо представлена в трудах Лукреция и Кадия, писавших «о природе вещей» («de rerum natura»)185, Нигидия Фигула и Цицерона, который не только перевел Арата и частично «Тимея», но явно интересовался вопросами, связанными с судьбой и дивинацией, он не только написал диалоги на эти темы, но и любил щегольнуть своим знакомством с трудами Варрона186. Географией Цицерон действительно не пожелал заниматься, но следует помнить, что и для греческих философов рассматриваемого периода нехарактерна та широта научных интересов, которая наблюдается у Посидония187.
Здесь было бы не к месту рассматривать вопрос о том, насколько сходство римских философских интересов и интересов греческих школ в данный период объясняется стараниями греков угодить своим римским господам188, но следует ненадолго вернуться к ранее поднятому вопросу о значимости интеллектуальных интересов для представителей римской элиты.
В рассматриваемый период известно несколько римлян, всецело посвятивших себя исследованиям, но, вероятно, не один Цицерон считал, что для людей, имеющих доступ к государственной карьере, такой выбор мог быть оправдан лишь исключительными научными дарованиями189. В целом хрестоматийное представление о том, что римляне не интересовались теорией ради теории, вполне верно. Автором астрономических трактатов и вычислений, на которых базировалась календарная реформа Цезаря, был грек Сосиген, а Крассу Цицерон приписывал слова о том, что люди, занятые общественной жизнью, способны приобрести необходимые познания в философии и прочих науках быстро и без особых усилий190. Цицерон нередко высказывался в том смысле, что учение академиков и перипатетиков он предпочитал потому, что, в отличие от Стой и Сада Эпикура, обучение у них шло на пользу красноречию;191 по мнению Цицерона,
185 Квинтилиан. Х.1.24. В 54 г. до н. э. Цицерон поставил поэму Лукреция выше «Эм- педоклеи» Саллюстия (Цицерон. Письма к брату Квинту. П.10.3), а это предполагает, что поэма Саллюстия тоже затрагивала физику и, возможно, опиралась на сочинение Эмпедокла «О природе», см.: Rawson 1985 (Н 109): 285.
186 Цицерон. Письма к близким. IX.4.1 (46 г. до н. э.). Сегодня едва ли можно с уверенностью утверждать, что в трактате «О судьбе» Цицерон следовал одному-единственному греческому источнику, см.: Воуапсе 1936 (Н 17); Воуапсе 1970 (Н 17); Barnes 1985 (В 4).
187 См. выше, с. 812. По-видимому, ни средние платоники (Dillon 1977 (Н 31): 49), ни Филодем (Rawson 1985 (Н 109): 295) не интересовались естественнонаучной частью натурфилософии. Но Страбон, ученик Посидония, продолживший его «Историю», критиковал римских географов за то, что они ограничились простым переводом греческих коллег (Ш.166С).
188 Этот взгляд разделяют: Williams 1978 (Н 135): 116—118; Momigliano 1975 (Н 85): 65—66, 121—122, а особенно резко отвергает его: Rawson 1985 (Н 109): 54—65.
189 Секст Помпей, дядя Помпея Магна, посвятил себя геометрии, другие — диалектике и праву (Цицерон. Об обязанностях. 1.19) либо стоической философии (Цицерон. Об ораторе. 1.67; Ш.87).
190 Плиний Старший. Естественная история. ХУШ.210; Rawson 1985 (Н 109): 112; Цицерон. Об ораторе. Ш.86—88.
191 Цицерон. Об ораторе. Ш.80, 64 слл.; Цицерон. Брут. 120; 332; см. также: Квинтилиан. ХП.2.25—29.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
835
римская конституция, подсказанная самой практической жизнью, превосходила конституции, разработанные отдельными греческими законодателями, а римские традиции и опыт управления следовало предпочесть греческой книжной премудрости192.
Греческие авторы нередко утверждали, что греческая культура оказала благотворное влияние на политическое поведение и мораль римлян. Так, Посидоний писал о Публии Сципионе Назике (консуле 111 г. до н. э.), что, «следуя философии в своей жизни, а не только на словах, он поддерживал семейные традиции и наследственные доблести»193. Отчасти желаемое здесь выдается за действительное, но такие римляне, как Цицерон, Катон и Варрон, утверждали, что свою жизнь они строили в соответствии со своими философскими убеждениями, а друг и биограф Аттика объяснял его несклонность к гневу философскими принципами194. Убеждение в том, что философия влияет на поведение людей, имело и оборотную сторону, о чем свидетельствует враждебность некоторых римлян к греческим учениям за их разлагающее влияние, которое, мол, отвлекает молодежь от традиционных занятий, уводит их из публичной жизни и внушает им неприменимые на практике взгляды. Поэтому в 161 г. до н. э. философы были изгнаны из Рима, а греческое посольство 155 г. до н. э. было встречено довольно враждебно. В Поздней республике одного грамматика сочли нежелательным лицом в публичной школе из-за его эпикурейских убеждений (ему пришлось уйти на покой и заняться написанием истории); осуждение Рутилия Руфа вполне обоснованно использовалось как доказательство того, что стоическая приверженность бесстрастному ораторскому стилю может оказаться губительной, ибо в суде Рутилий защищал сам себя именно в этой манере — и проиграл дело195.
Однако античные источники подтверждают распространенное сегодня мнение о существовании глубокой дихотомии между представлениями, которые римлянин высшего класса перенимал у греков, и его римскими стандартами поведения, так что интерес к интеллектуальным вопросам был для него просто модным увлечением. Поэтому люди, называвшие себя эпикурейцами, делали государственную карьеру; понтифику Гаю Аврелию Котге Цицерон приписывает как веру в традиционную римскую религию, так и утверждение о том, что никакие доказательства существования богов, никакие рассуждения об их природе не могут удовлетворить
192 Цицерон. О государстве. П.2.
193 FGrH: No 87, фр. 112 = Диодор. XXXTV/XXXV.33; ср.: Плутарх. Катон Старший. 23; Плутарх. Цицерон. 4.2 — здесь утверждается, что Цицерон даже подумывал о том, чтобы посвятить свою жизнь философии, но сам он нигде об этом не обмолвился, см: Цицерон. Брут. 314—316.
194 Цицерон. О природе богов. 1.7; Цицерон. Учение академиков. 1.7 (здесь сказано о Вар- роне; вероятно, этот яркий и непростой человек описан здесь верно); Цицерон. Письма к близким. XV.4.16 (о Катоне); об Аттике см.: Корнелий Непот. Аттик. 17.3; ср.: Цицерон. Письма к Аттику. XVI. 11.3; XV.2.4.
195 Плутарх. Катон Старший. 23; Светоний. О граллллатиках. 8; Цицерон. Брут. 113 слл.; Цицерон. Об ораторе. 1.227 слл.; ср.: Диоген Лаэртский. ΥΠ.122.
836
Часть Π
его как последователя Академии196. Имеется также множество свидетельств о том, что римляне были до неприличия небрежны в интеллектуальных вопросах. Мы уже отмечали, что они упрямо называли себя любителями и старались избегать греческих «нелепостей» (ineptiae). Цицерон рассказывает о том, как наместник Азии по пути в свою провинцию остановился в Афинах, собрал всех философов и призвал их разрешить свои споры, используя его как посредника197. Утонченные римские эпикурейцы свысока взирали на торжественную ортодоксию своих греческих наставников. Когда Дион, домашний философ Папирия Пета, попытался начать со своим патроном философскую дискуссию и предложил ему поставить вопрос, этот гурман ответил, что в действительности весь день его мучит только один вопрос: кто пригласит его на ужин?198
Неубедительные попытки исследователей установить прямую взаимосвязь между интеллектуальными интересами и политической деятельностью лишь запутывают данный вопрос. Так, обращение Кассия в эпикурейство иногда связывают с его участием в убийстве Цезаря, однако это обращение имело место за четыре года до данного убийства и в письмах Кассия к Цицерону ассоциируется со стремлением к миру и согласием терпеть старого и милосердного господина199. В историографии «Древности» Варрона напрямую связывались с приверженностью автора диктатору Цезарю и его программе моральных и религиозных реформ200. Однако уже в трактатах Цицерона «О государстве» и «О законах», задуманных в 50-х годах I в. до н. э., просматривается забота о сохранении и укреплении традиционных институтов, а проект упорядочения гражданского права (ius civile), за который в конце концов взялся Цезарь, в 54 г. до н. э. был предзнаменован Цицероном в трактате «Об ораторе», затем рассмотрен им же
196 Об эпикурейцах см.: Цицерон. Тускуланские беседы. V.108; Цицерон. О пределах блага и зла. П.76; о Когте см.: Цицерон. О природе богов. Ш.6—7.
197 См. выше, с. 800. Цицерон. О законах. 1.53. Здесь важно отметить, что Цицерон и другие римляне (обоснованно или нет) считали предложение наместника шуткой; см.: Badian 1976 (D 4): 126, примеч. 46 — о возможных политических последствиях данного инцидента.
198 Цицерон. О природе богов. П.74; в трактате «О законах» (1.21; Ш.1) Цицерон приписывает Аттику насмешки над эпикурейской ортодоксией; ср. подначки Цицерона в письме к Аттику (Vn.2.4). О Пете см.: Цицерон. Письма к близким. IX.26.3 — использованное здесь слово «простак» («baro»), хоть и не исключительное достояние эпикурейцев (см. Цицерон. О пределах блага и зла. П.76), часто встречается в подобном контексте (напр.: Цицерон. Письма к Аттику. V.11.6).
199 Momigiiano 1941, 1960 (Н 84): 151 слл.; Цицерон. Письма к близким. XV.16.3 (ср.: Shackleton Bailey 1977 (В 110) П: 378, под словом «nuper»); XV. 15.1, 19.2 и 4.
200 Хорсфолл признаёт, что, даже если обе части «Древностей» были написаны в дик- татуру Цезаря, значительный объем работы был проделан, видимо, раньше, см.: Horsfall 1972 (Н 60). Даже если пассаж из «Божественных древностей» (I фр.20 (Cardauns)) относится к притязанию Цезаря на божественное происхождение, он не является однозначно льстивым, поскольку содержит оговорку «даже если это и неправда» («etiamsi falsum sit», см. комментарий: Cardauns 1976 (В 11): 149). Скептицизм в отношении аргументов Хорсфолла см.: Jocelyn 1982/19833 (Н 65) — автор полагает, что «Божественные древности» были написаны в 50-е годы I в. до н. э., но см. сноску 92 наст. гл.
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
837
в утраченном сочинении и, возможно, разработан Сульпицием Руфом до 46 г. до н. э.201. Легко предположить, что мы здесь имеем дело со сходными тревогами, которые испытывали умные люди, наблюдая вокруг себя политический распад.
Полезнее сконцентрировать внимание на менее заметном влиянии интеллектуальных тенденций на римскую жизнь, а именно — на появлении новых способов мышления и выражения мыслей. Мы уже отмечали, каким образом римляне использовали новые знания и навыки для определения собственной идентичности. Мы видим, что размышления Варрона по любым вопросам во многом определялись пифагорейской нумерологией и греческими методами анализа; интерес Цезаря к аналогии заметно повлиял на стиль его прозы202. Возможно, мало кто из римлян, подобно Цицерону, ощущал, что философия очень тесно связана с поведением людей, а потому не следует полностью отдаваться греческим доктринам, несовместимым с верой в традиционную римскую мораль;203 но такая взаимосвязь наблюдается и в выборе Аттика, который предпочел эпикурейство, явно подходившее его отстраненному и безмятежному характеру203, и в выборе Цицерона, который примкнул к учению, отражавшему его собственную широту взглядов и любовь к спорам204. Когда Цицерон подвергает анализу «методом Сократа» спектр возможных политических стратегий, или накануне гражданской войны просит одолжить ему греческий трактат о согласии, или на греческом и латинском языке обсуждает ряд философских тем (θέσεις), связанных с тиранией, мы видим, что философия проникла в самые глубины его души205. О том же свидетельствует и его переписка, да и его друзья шутили на философские темы и, естественно, прибегали к тем же методам анализа, пытаясь выработать и обосновать собственные решения206.
На закате Республики римляне располагали сложным интеллектуальным инструментарием, с помощью которого могли формулировать теории
201 Светоний. Божественный Юлий. 44; Цицерон. 06 ораторе. 1.190; Авл Геллий. Аттические ночи. 1.22.7; Квинтилиан. ХП.3.10; Цицерон. Брут. 152—153.
202 См. выше, с. 806-809; Ogilvie 1982 (В 80): 283-284.
203 Эпикурейство Аттика хорошо засвидетельствовано, см.: Цицерон. О законах. 1.21, 54; Ш.1; Цицерон. Письма к Аттику. IV.6.1; ср.: Цицерон. О пределах блага и зла. 1.16 — о юности Аттика. В своих диалогах Цицерон не вводит Аттика как защитника эпикурейства, возможно, потому, что ироничному Аттику не понравилось бы выступать в роли оратора, излагающего некую систему (см. также сноску 198 насг. гл.). О том, чш и Непот не упоминает эпикурейство Аттика, см.: Griffin 1989 (Н 53): 18.
204 Приоритет личной оценке и критическому суждению перед слепым следованием авторитету Цицерон демонстрировал и в своей первой работе (О нахождении материала. П.4.5), и в последней [06обязанностях. П.8).
2(ь Цицерон. Письма к Аттику. П.3.3 (60 г. до н. э.); УШ.11.7 (49 г. до н. э.); IX.4 (49 г. до н. э.).
206 Напр., Варрон: Цицерон. Письма к близким. IX.4; Фадий Галл: Цицерон. Письма к близким. VQ.26; Требаций: Цицерон. Письма к близким. VII. 12; Кассий: Цицерон. Письма к близким. XV. 16; Сервий Сульпиций Руф: Цицерон. Письма к близким. IV.3; Аппий Клавдий Пульхр: Цицерон. Письма к близким. Ш.7.5, 8.5; Катон: Цицерон. Письма к близким. XV.4, 5.
838
Часть Π
и выражать различные мнения о религии и истории, морали и политике. Однако ранее все эти навыки не спасли греков от иноземного господства, а теперь и римлян не смогли уберечь от гражданской войны и автократии.
Глава 19
М. Бирд
РЕЛИГИЯ
I. Постоянные величины
Римская религия была выстроена вокруг политики, войны и общественной жизни. Боги Римского государства вместе с его политическими лидерами обеспечивали безопасность, процветание и военные победы Рима; люди же, со своей стороны, надлежащим образом соблюдали ритуалы и выполняли связанные с культом обязанности, что обеспечивало городу неизменное покровительство небожителей. Религия мало затрагивала частную мораль, этику или поведение отдельного римского гражданина.
По мнению римлян, боги прямо и активно содействовали благополучию Рима. Они не просто издалека одобряли действия римских политических и военных предводителей, но и непосредственно вмешивались в события в интересах Рима. Иногда такое вмешательство происходило, подобно явлениям греческих богов, в разгар сражения: так, согласно легенде, Кастор и Поллукс пришли на помощь римлянам в битве при Регилльском озере в 449 г. до н. эА В других случаях отмечалось вмешательство богов во внутреннюю политику государства. Так, Цицерон в письмах Аттику утверждал, что боги участвовали в подавлении заговора Каталины; а удар грома или иные дурные знамения во время народного собрания считались прямыми свидетельствами того, что боги не одобряют обсуждаемое предложение1 2.
1 Цицерон. О природе богов. П.6; Ливий. П.20.12.
2 О заговоре Каталины см.: Цицерон. Письма к Аттику. 1.16.6 (возможно, здесь имеется в виду божественное знамение в виде пламени, вспыхнувшего во время проведения в Доме Цицерона ритуалов в честь Доброй Богини, что побудило Марка Туллия принять решительные меры против заговорщиков, см.: Плутарх. Цицерон. 19.3—4; 20.1—2). О дурных знамениях см.: Обсеквент. 46; Плутарх. Катон Младший. 42.4 (хотя к стереотипному предположению Плутарха, что знамение было сфабриковано, следует относиться с осторожностью).
840
Часть Π
Когда дела в государстве шли плохо, римляне объясняли это тем, что боги отвернулись от него. Главные аксиомы государственной религии имели и прямую, и обратную силу: благополучие Рима определялось содействием богов, которое, в свою очередь, зависело от надлежащего исполнения ритуалов; следовательно, беды Рима в конечном счете являлись следствием осознанных или неосознанных погрешностей при исполнении культовых обязанностей. Эту логику подкрепляла целая серия назидательных примеров, например, рассказ о Публии Клавдии Пульхре, флотоводце во время Первой Пунической войны: цыплята, содержавшиеся на его корабле с целью гаданий, никак не хотели давать благоприятное знамение для начала сражения, и Пульхр, раздраженный этим, выкинул их за борт; в результате римляне потерпели сокрушительное поражение3. По-видимому, та же логика применялась и для печально известной римской ритуальной казни. Шесть весталок постоянно поддерживали пламя в священном очаге города, расположенном в храме Весты на Форуме; они давали обет целомудрия, а за нарушение этого обета весталок живыми зарывали в землю. В 216 и 114—113 гг. до н. э. несколько весталок были казнены по обвинению в нарушении целомудрия. Сегодня мы не можем выяснить, насколько правдивы были эти обвинения, но можем обнаружить важную закономерность: в обоих случаях весталки были казнены, когда государству угрожал военный кризис: в 216 г. до н. э. это были поражения во Второй Пунической войне, а в 114—113 гг. до н. э. — угроза нашествия кимвров и тевтонов с севера и гибель армии Гая Порция Катона во Фракии. Соблюдение весталками обета целомудрия имело жизненно важное значение для благополучия Рима; когда же государство оказывалось в опасности, это заставляло усомниться и в целомудрии весталок4.
Римские политические и военные лидеры не только напрямую сотрудничали с богами, но и управляли каналами коммуникации между миром людей и миром богов. В речи, обращенной к одной из главных жреческих коллегий — к понтификам, — Цицерон ясно дал понять, что не видел никаких персональных различий между «религиозными» и «светскими» властями города:
— Среди многочисленных правил, понтифики, по воле богов установленных и введенных нашими предками, наиболее прославлен их завет, требующий, чтобы одни и те же лица руководили как служением бессмертным богам, так и важнейшими государственными делами, дабы виднейшие и прославленные граждане, хорошо управляя государством, оберегали религию, и, с другой стороны, мудро истолковывая требования религии, оберегали благополучие государства5.
3 Цицерон. О природе богов. П.7; Светоний. Тиберий. 2.2.
4 О событиях 216 г. до н. э. см.: Ливий. ХХП. 57.2—3; о событиях 114—113 гг. до н. э. см.: Ливий. Периохи. 63; Асконий. В защиту Милона. 45—46С. См.: Cornell 1981 (F 38): 28; Fraschetti 1981 (Η 41).
5 Цицерон. О своем доме. 1. (Перев. В.О. Горетитейна, с правкой.)
Глава 19. Религия
841
Государственная религия находилась в руках тех же людей, которые определяли государственную политику.
Главным религиозным авторитетом являлся сенат. Современные исследователи часто рассматривают его как чисто политический орган, однако сенат играл важнейшую религиозную роль, поскольку служил посредником между людьми и богами: к примеру, он контролировал обращения людей к богам, разрешал или запрещал новые формы культа и принимал решения о том, какие из аномальных событий, о которых ему сообщали каждый год (например, кровавые дожди или потеющие статуи), следует считать подлинными знамениями богов (prodigia). Сенат имел более обширную религиозную власть, чем любой другой орган6.
Жреческие коллегии в Риме следует рассматривать во взаимосвязи с сенатом как центры не столько религиозной власти, сколько религиозных знаний и экспертизы. В частности, три главные жреческие коллегии — понтифики (pontifices), авгуры (augures) и квиндецемвиры священнодействий («XVviri sacris faciundis», ранее — децемвиры священнодействий, «decemviri sacris faciundis») — консультировали сенат в рамках своей компетенции: например, к коллегии квиндецемвиров обращались за разъяснениями по поводу пророчеств, содержавшихся в Сивиллиных книгах, которые находились на попечении данной коллегии. Эти и другие, более второстепенные, жреческие коллегии также выполняли определенные роли в государственных ритуалах: септемвиры эпулоны (Vllviri epulonum) устраивали пиры для богов, салии исполняли ритуальные танцы на улицах Рима в марте и октябре (в раннем Риме это соответствовало началу и концу сезона военных действий). Но, несмотря на столь специализированные роли, римские жрецы в большинстве своем не являлись профессионалами «на полной ставке». Это были мужчины, представители римской элиты, занимавшие жречества (обычно после вступления в должность они сохраняли ее пожизненно) наряду с магистратурами. Наиболее яркими исключениями из этого правила были женщины-весталки, а также жрец Юпитера (flamen Dialis). Должность этого служителя появилась в незапамятные времена, а его жизнь ограничивали столь строгие запреты (например, он не имел права проводить более трех ночей подряд вне своей постели), что политические должности были ему фактически недоступны. Представления о том, что общественная жизнь римского аристократа должна иметь и политическое, и религиозное измерение, были чрезвычайно сильны;7 так, даже некоторые фламины Юпитера пытались отстоять свои права на политическую карьеру или по меньшей мере традиционную привилегию (о которой, впрочем, нередко забывали) — возможность войти в сенат.
6 Beard 1989 (Н 10).
7 О жречесгвах в целом см.: Beard 1989 (Н 10); Gordon 1989 (Н 50); Scheid 1984 (F 139); Szemler 1972 (F 154): 21—46. О Сивиллиных книгах см. далее, с. 876. О запретах, окружавших жреца Юпитера, см.: Авл Геллий. Аттические ночи. Х.15. На место в сенате в 209 г. до н. э. притязал фламин Юпитера Гай Валерий Флакк (Ливий. XXVII.8.7—10), который позднее занимал эдилитет и претуру (Ливий. XXXI.50.7; XXXIX.45.2, 4).
842
Часть Π
В Риме религиозную сферу непросто отделить от политической; их пересечение не сводилось к общим кадрам и к простой тождественности жрецов и политиков. Большинство политических событий происходило в пространстве, погруженном в религиозный контекст: сенат всегда собирался в templum, то есть на «инавгурированном участке», специально обозначенном и напрямую связанном с богами; во время народного собрания на Форуме магистрат обращался к народу с платформы (ростр), которая тоже являлась templum; выступая перед римскими гражданами, убеждая их принять то или иное политическое решение, магистрат находился в публично очерченном религиозном пространстве8.
Римская религия была сфокусирована на политике, но это не исключало и личной религиозной веры, и частных культов — в рамках одного дома, одной семьи или среди людей одного круга. Характерной особенностью любой политеистической религиозной системы, в том числе и римской, является то, что таковая подразумевает приверженность отдельных людей или социальных групп — женщин, солдат, рабов, бедняков — определенным культам или божествам, ибо особое внимание к какой-то одной составляющей религиозной системы или к одной части религиозного спектра не воспринимается как отречение от всей этой системы: в рамках римского политеизма подобные выборы не считались чем-то неприемлемым. Так, например, множество свидетельств о частных культах дают терракотовые изображения разных частей человеческого тела (ладони, ступни, глаза и т. д.), обнаруженные в ходе раскопок в Риме и в сельских святилищах Италии; надо полагать, что такие вотивные подношения богам или богиням делали больные в надежде на исцеление;9 в помпейских домах обнаруживаются также остатки ларариев (lararia) — семейных святилищ, посвященных домашним богам10, а в самом Риме, как ясно свидетельствуют литературные источники, среди низших сословий городского населения особую популярность имел, скажем, культ Цереры11. Конечно, для разных людей такие культы могли иметь разное значение: для одних личная преданность одному конкретному божеству могла означать неявное отторжение официального пантеона, для других она являлась лишь одной из многих форм поклонения богам. В целом, для рассматриваемого периода почти нет свидетельств о том, что возможность различных выборов в рамках римской религиозной системы ставила под угрозу центральные аксиомы этой системы12.
8 Ростры прямо охарактеризованы как templum в следующих источниках: Цицерон. Против Ватиния. 18, 24; Цицерон. В защиту Сестия. 75; Ливий. УШ.14.12. О сложном процессе создания templum и о различных типах templa см.: Linderski 1986 (F 101): 2256—2296.
9 См., напр.: Mysteries of Diana 1983 (Η 89); Pensabene et al. 1980 (В 313); Gatti lo Guzzo 1978 (B 293).
10 Boyce 1937 (В 137). Свидетельства о частных культах италийской колонии на Делосе см.: Bulard 1926 (Н 21); Bruneau 1970 (Н 19): 585-620.
11 Le Bonniec 1938 (Η 73): 342-378.
12 Но ср. далее, с. 873—874, о том, как в начале П в. до н. э. римляне узрели такую угрозу в вакхическом культе.
Глава 19. Религия
843
Ясное представление о богатстве индивидуальных и групповых культов очень важно для понимания римской религии во всей ее полноте и пестроте, в том числе ее способности порождать всевозможные частные религиозные толкования и, как мы может догадываться, удовлетворять самые разнообразные культовые потребности. Но не следует преувеличивать значение указанного изобилия для понимания центрального ядра римской религии. Необходимо учитывать два важных фактора. Во- первых, идеологически римская религия как система относилась к публичной, а не частной сфере; везде, где только было возможно, те проявления богопочитания, которые мы сочли бы наиболее частными, выдвигались в публичную сферу и трактовались как неотъемлемая составляющая публичного, общественного религиозного церемониала. Яркой иллюстрацией здесь может послужить римский обычай публично приносить частные жертвы богам: во всяком случае, когда кто-то совершал важное частное посвящение, то в процессии проходил через город, направляясь к месту ритуала, причем перед жертвователем несли плакат (titulus), сообщавший о поводе для жертвоприношения. Таким образом, посвящение, которое могло быть «всего лишь» частным, становилось эпизодом общественной жизни города13.
Второй фактор, ограничивающий общее значение частного богопочитания, — это статус личной веры. Современная иудео-христианская традиция приписывает решающую роль личной приверженности верующего (или верующей) его (или ее) Богу; в мире, где многие вообще отвергают религию, именно личная вера отличает религиозного адепта. Такое внимание к личной вере побуждает современных исследователей преувеличивать значимость тех сфер религиозной жизни, где, по их мнению, личная приверженность проявляется наиболее ярко: индивидуальные обеты и жертвоприношения в частных храмах. Но религиозный мир языческой античности сильно отличался от современного мира сомнений и неопределенности. До самого конца рассматриваемого здесь периода для подавляющего большинства римлян боги (а также мировой порядок, который они представляли) — существовали просто-напросто как нечто само собой разумеющееся. Люди могли совершать разные выборы и изобретать какие угодно толкования в общих рамках религиозной системы, но главные аксиомы, изложенные выше, были незыблемой частью мироустройства. Именно в этом свете и следует рассматривать указанные аксиомы, а не с точки зрения веры и убеждений.
Тесная взаимосвязь римской религии и римской политики, казалось бы, может навести на мысль, что римский государственный культ следует рассматривать как своего рода современную «официальную религию», то есть религию, используемую, по крайней мере отчасти, для легитимации либо поддержки установленного политического режима. Но такое смешение современного мира с античностью будет грубой ошибкой. Невозможно переоценить важность того факта, что римская религия — это всё-таки
Veyne 1983 (Н 131).
13
844
Часть Π
чуждая нам религиозная система. Ее чуждость не сводится к тому, что мы очевидным образом непривычны к римским религиозным практикам, нормам и допущениям; но, и это главное, она мешает нам уразуметь, какое интеллектуальное и социальное пространство занимала в Риме эта самая «религия» и где проходило ее размежевание с другими сферами римской жизни.
В некоторых случаях непривычность и даже непостижимость римских религиозных ритуалов бросаются в глаза. Например, в 228, 216 и 114/113 гг. до н. э. римляне совершили нечто вроде человеческого жертвоприношения, заживо зарыв под землю двух галлов, мужчину и женщину, и такую же пару греков. Этот ритуал сложно постичь. Исследователи пытались связать его с наказанием согрешивших весталок, которое в двух случаях (216 и 114/113 гг. до н. э.) близко совпадает с указанным ритуалом по времени; с другой стороны, выбор жертв может как-то соотноситься с деятельностью римлян во внешнем мире. Но не удается ни выявить какую- либо закономерность в обстоятельствах, сопутствовавших всем трем случаям, ни убедительно продемонстрировать взаимосвязь между галлами и греками, будь то в римском восприятии или в римской военной политике14. Данный рассказ служит нам прежде всего ясным напоминанием о чужеродности этой системы, которую современные авторы нередко слишком сближают со знакомой нам системой, а также проливает свет на реакции римлян на ритуал, который вызывал отторжение даже у некоторых из них. Так, Ливий, описывая состоявшееся в 216 г. до н. э. погребение живьем иноземцев, характеризовал его как «совершенно чуждое римским священнодействиям» («minime Romano sacro»)15. Этот пассаж нельзя расценивать как надежное свидетельство об иноземном (в буквальном смысле слова) происхождении этого обряда, но он доказывает гибкость границ собственно «римского» в области религии.
Более фундаментальная культурная особенность римской религии, отличающая ее от привычной нам системы, состоит в ее неотделенности от политической сферы. Современные нам мировые религии часто оказывают значительное влияние на политику и испытывают обратное влияние с ее стороны, но религия и политика поддаются обособлению друг от друга и обычно являются отдельными (хоть и взаимодействующими) сферами деятельности. В Риме, напротив, мы имеем дело не просто с сильным взаимовлиянием религии и политики; здесь, как и во многих традиционных обществах, религия была глубоко укоренена в общественной жизни и до самого конца Республики едва ли выделялась как особая сфера деятельности или интеллектуальных интересов. Для современных исследователей такое отсутствие разграничения создает терминологическую и понятийную проблему. Говоря на своем языке, мы вынуждены переводить (часто
14 О событиях 228 г. до н. э. см.: Плутарх. Марцелл. 3.3—4. О событиях 217 г. до н. э. см.: Ливий. ХХП.57.2—6; о событиях 114/113 г. до н. э. см.: Плутарх. Римские вопросы. 83. Различные варианты интерпретации см.: Cichorius 1922 (Н 25); Bemont 1960 (Н 12); Fraschetü 1981 (Н 40); Briquel 1981 (Н 18); Eckstein 1982 (Н 37).
15 Ливий. ХХП.57.6.
Глава 19. Религия
845
довольно неуклюже) римские культурные понятия в наши собственные термины; античную религию мы осмысливаем ценой размывания или переопределения античных категорий. Например, мы говорим о том, что сенат как государственный орган выполнял и религиозные, и политические функции, но для римлянина эпохи Республики понятие «сенат» вызывало сложную смесь ассоциаций, в числе которых были также политика и религия (в нашем понимании). Такие, как указано чуть выше, переводы, разумеется, неизбежны, но данную проблему необходимо ясно осознавать и формулировать.
И. Источники
И ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ
Римскую религию эпохи Поздней республики следует рассматривать на фоне давних религиозных традиций города Рима; но в этом традиционном контексте необходимо выявить те элементы, которые определяли особенности религии в рассматриваемый период. Выполнить такой план действий труднее, чем кажется на первый взгляд, ввиду проблем, связанных с источниками и возникающих при сопоставлении одного периода с другим. Во-первых, анализ затрудняют существенные различия в количестве и качестве дошедших до нас источников о религии в эпоху Цицерона, с одной стороны, и в более ранние и поздние периоды — с другой; в историографии часто преувеличивается своеобразие (и особенно распад) религии во времена Поздней республики, просто потому, что сведения источников об эпохе Цицерона сильно отличаются от данных о предшествующем и последующем периодах. Во-вторых, попытки исследователей доказать, что религия Поздней республики развивалась непрерывно, тоже могут ввести читателей в заблуждение, ибо, если в это время продолжали соблюдаться религиозные обряды, существовавшие ранее, это еще не означает, что они сохраняли прежнее символическое значение и прежнее место в религиозной системе в целом. Обе эти проблемы можно прояснить, если кратко рассмотреть общий характер дошедших до нас свидетельств о религии, начиная с эпохи Средней республики и до правления Августа, а также проанализировать один особенно спорный пример религиозной преемственности — строительство и восстановление храмов в I в. до н. э.
Эпоха Цицерона стала первым периодом римской истории, для которого мы можем анализировать функционирование религии, опираясь на относительное обилие современной событиям литературы, прежде всего сочинений самого Цицерона, но также работ Саллюстия, Цезаря, позднереспубликанских поэтов и сохранившихся частей энциклопедического труда Варрона. Говоря о более ранних периодах, сегодняшние историки должны полагаться в основном на Ливия и других римских историков последующих веков, предлагавших ретроспективный взгляд на более ранние стадии истории своего города (в том числе и религиозной истории).
846
Часть Π
Вне зависимости от того, насколько точно эти поздние римские авторы сообщали подробности религиозной истории, их точка зрения неизбежно имела сильные отличия от точки зрения Цицерона и его современников. Например, Ливий, оглядываясь назад, упорядочивал и структурировал ход событий, которые непосредственному наблюдателю могли казаться вполне непредсказуемыми и даже хаотичными. Выборы жрецов, сообщения о знамениях и действия, предпринятые для их искупления, занимают в анналистической структуре истории Ливия строго отведенное им место, а религиозные кризисы, такие как подавление Вакханалий в 186 г. до н. э.16, описаны с выгодной позиции человека, знающего, чем они закончатся и уже осознавшего их важность. Бросается в глаза контраст со свидетельствами Цицерона. Марк Туллий — очевидец событий, для которого едва ли представляло интерес размеренное течение религиозной и политической жизни; его внимание привлекали религиозные отклонения или кризисы, с которыми он сталкивается в своей жизни, — события еще не осознанные и не осмысленные, занимавшие мысли людей и имевшие для них непосредственное значение, хотя в долгосрочной перспективе, возможно, и второстепенные. На основании таких свидетельств складывается впечатление, что позднереспубликанская религия была подвижна и дезорганизована, а то и вовсе хаотична; но механически сравнивать это впечатление с ретроспективным взглядом Ливия на религию Ранней и Средней республики было бы огромным упрощением.
Даже когда позднереспубликанские источники можно сопоставить со свидетельствами очевидцев предшествующего и последующего периодов, трудности не исчезают, ибо любое лобовое соотнесение дает искаженную картину не только потому, что от разных периодов сохранился неодинаковый объем современных событиям свидетельств, но и потому, что сами эти свидетельства различны по характеру. Такое положение дел не вызывает сомнений для плохо задокументированной эпохи Средней республики, ибо вымышленный греко-римский мир Плавта и Теренция представляет очевидные (но непреодолимые) трудности для исследования чисто «римской» религии; но оно почти столь же верно и для эпохи триумвирата, и для правления Августа. Несмотря на изобилие источников времен Августа, ни один из них не содержит таких ежедневных репортажей, какие обнаруживаются у Цицерона. Те источники, которые имеют самое непосредственное отношение к религии (например, отдельные части «Деяний» Августа или некоторые оды Горация), содержат демонстративные и порой пропагандистские утверждения о благочестии этого века — благочестии, которое, в соответствии с традиционными аксиомами римской религии, непременно рассматривалось как спутник политической и религиозной реставрации Августа. Здесь, как и в ретроспективном обзоре ранней римской истории у Ливия (написанном тоже с августовской точки зрения), не нашли отражения актуальные тревоги, сомнения, спорные решения, столь заметные в основных позднереспубликанских источниках.
16 См. далее, с. 873-874.
Глава 19. Религия
847
Хорошим примером трудностей, возникающих при сопоставлении религиозного характера Поздней республики с другими периодами, может служить строительство и реставрация храмов в городе Риме. На первый взгляд кажется, что в последние десятилетия Республики культовым сооружениям уделялось куда меньше внимания и заботы, чем в предшествующие и последующие десятилетия. С одной стороны, для первой половины I в. до н. э. у нас отсутствует перечень построенных и посвящённых храмов, который в сохранившемся тексте Ливия доведен только до середины П в. до н. э. В сочинениях Цицерона, например, ремонт храмов упоминается либо невзначай, либо в связи с какими-то особыми инцидентами, как, например, мошенничество, якобы совершенное Берресом при реставрации храма Кастора, или случайное разрушение храма Нимф во время беспорядков 57 г. до н. э.17. С другой стороны, в нескольких классических пассажах августовской литературы подчеркивается не только строительство и реставрация храмов при Августе (согласно «Деяниям», в свое шестое консульство Август восстановил восемьдесят два храма), но и нерадивость предыдущих поколений, вследствие которой эта реставрация и потребовалась:
За грех отцов ответчиком, римлянин,
Безвинным будешь, храмов пока богам,
Повергнутых, не восстановишь,
Статуй, запятнанных черным дымом18.
Легко понять, почему на основании таких свидетельств современные историки стали считать, что в эпоху Поздней республики римляне не питали уважения к религиозным сооружениям города Рима и пренебрегали заботой о них, да и вообще уделяли мало внимания религиозным ритуалам; но более внимательное изучение источников показывает всю ошибочность этого представления. Свидетельства Ливия, который регулярно включает в свой рассказ упоминания об основании храмов, нельзя напрямую сопоставлять со свидетельствами Цицерона о I в. до н. э., в которых строительство и ремонт храмов упоминаются лишь в случаях, так или иначе связанных с чем-то необычным или каким-то образом отвечающих непосредственным задачам Цицерона как оратора19. Точно так же и парад благочестия в литературе эпохи Августа (с очевидными преувеличениями и намеренным созданием выигрышного контраста с нечестивостью позднереспубликанской эпохи, предполагаемой авторами этих текстов) нельзя рассматривать как надежное свидетельство о религиозном климате века
17 Цицерон. Против Берреса. П. 1.129—154; Цицерон. В защиту Милона. 73; Цицерон. Парадоксы стоиков. 31.
18 Гораций. Оды. Ш.6.1^1. (Перев. Н.С. Гинцбурга); Деяния Божественного Августа. 20.4. См. также: КИДМХ: гл. 16 (Прайс).
19 Противоположное мнение см.: СоагеШ 1976 (G 41) — здесь утверждается, что после 70 г. до н. э. (после которого написано подавляющее большинство произведений цицероновского корпуса) свидетельства о строительной активности опять становятся сопоставимы с периодом, описанным в истории Ливия.
848
Часть Π
Цицерона. На самом деле полный обзор упоминаний о храмовом строительстве в середине I в. до н. э., разбросанных в текстах того времени и более поздних авторов, а также рассмотрение археологических свидетельств о данном периоде дают картину, совершенно отличную от общепринятой: конечно, храмы, как и другие городские здания, страдали от насилия и беспорядков эпохи Поздней республики, но их всё же продолжали строить и ремонтировать после повреждений, нанесенных стихией или рукой человека.
В I в. до н. э. в деле основания храмов особенно отличился Помпей. С его именем связаны храмы Геркулеса («Помпеяна») и Минервы, а также храм Венеры Победительницы в огромном комплексе Помпея на Марсовом поле. И современные, и некоторые античные авторы часто недооценивают религиозное значение этого святилища Венеры из-за его близкого соседства со «светским» театром; но на самом деле план здания соответствует традиционным «театрам-храмам», хорошо засвидетельствованным в других областях Италии. Прочие выдающиеся люди тоже основывали и ремонтировали храмы. Храм Дианы Планцианы (сооруженный, возможно, в 50-х годах I в. до н. э.) может быть связан с семьей Планциев, а сам Цицерон в 54 г. до н. э. реставрировал храм Земли. После пожара, случившегося в 83 г. до н. э., был восстановлен храм Юпитера Капитолийского. Нет свидетельств о том, что эти работы затянулись: храм был формально посвящен в 69 г. до н. э., но в 76 г. до н. э. он уже находился в достаточно хорошем состоянии, чтобы в него можно было поместить некоторые Сивиллины оракулы20.
Однако мы не можем судить о том, в какой мере преемственность всей этой деятельности по строительству и ремонту культовых сооружений в Риме отражает преемственность религиозных установок. Невозможно сказать, что именно «чувствовали» римляне, принимая решение потратить свое богатство на возведение храма определенному богу, а тем более, что они чувствовали, входя в святилища, проходя мимо них или просто глядя на них со стороны. Вместе с тем трудно допустить, что в быстро меняющемся мире Поздней республики, в гуще «политических» потрясений, воздействовавших на город, символическое значение «религиозного» про-
20 О храмах, основанных Помпеем, см.: Плиний Старший. Естественная история. XXXTV.8.57; Витрувий. 06 архитектуре. Ш.3.5; Плиний Старший. Естественная история. VII.26.97; Авл Геллий. Аттические ночи. X. 1.6—7; Плиний Старший. Естественная история. УШ.7.20; Тертуллиан. О зрелищах. Х.5—6; см. также: Hanson 1959 (Н 56). О храме Дианы Планцианы см.: Panciera 1970/1971 (В 215) — здесь приведены аргументы в пользу его основания в 50-х годах I в. до н. э., оспоренные Джонсом, см.: Jones С.Р. 1976 (Н 66). О храме Юпитера Капитолийского см.: Lugli XVII. 126—148; и прежде всего: Ливий. Периохи. ХСУШ; Лактанций. О гневе Божьем. 22.6; нет оснований истолковывать вслед за Ноком (Nock) (САН X1: 468) спор о реставрации и ремонте этого храма в 62 г. до н. э. (Светоний. Божественный Юлий. 15) как свидетельство того, что ремонт еще не был завершен. О храме Земли см.: Цицерон. Письма к брату Квинту. Ш.1.14. Археологические свидетельства о реставрации имеются для храма А на Ларго Арджентина (храм Ютурны), в котором в середине I в. до н. э. была заменена значительная часть облицовки, см.: СоагеШ и др. 1981 (В 274): 16—18 (данные ремонтные работы датируются между началом 50-х годов и третьей четвертью I в. до н. 3.);Jacopi 1968/1969 (В 297).
Глава 19. Религия
849
странства Рима (вне зависимости от его топографической преемственности) могло оставаться прежним. Возможные масштабы произошедшего перелома хорошо иллюстрирует трансформация идеологии, лежавшей в основе одного якобы консервативного римского ритуала. Насколько нам известно, на протяжении всего периода Республики праздник Парилий неизменно отмечался примерно одинаково: в апреле каждого года римляне возносили молитвы малоизвестной богине Палее и прыгали через костры21. Однако основное культовое «значение» этих обрядов претерпело большие перемены: если в раннем Риме данный праздник был связан прежде всего с благополучием общинного скота, то в городском обществе Поздней республики он стал ассоциироваться (в равной или даже большей степени) с днем рождения города Рима, а при Цезаре — с торжествами в честь его победы при Мунде22. За поверхностной преемственностью (будь то консерватизм ритуалов или поддержание в порядке храмов) могут скрываться глубокие различия и новые тенденции религиозной идеологии в меняющемся мире.
В настоящей главе предпринята попытка, насколько это возможно, установить отличительные характеристики римской религии между 146 и 44 гг. до н. э. и сопоставить их с давно сложившимися в Риме традиционными религиозными нормами. В данной главе не ставилась задача представить нарративную историю религиозных событий этого периода либо дать всеобъемлющий обзор религиозных традиций на расширявшейся римской территории в Италии и за морем; на этих страницах читателю будет предложено исследование старых и новых элементов, которые, сложившись вместе, образовали особую модель позднереспубликанской религии. Для такого исследования требуется не просто очертить спектр между полюсами «старое» и «новое». Необходимо также понять, каким образом удавалось обеспечивать преемственность религиозных установок за счет модификации религиозных обрядов и их приспособления к новым обстоятельствам, и наоборот, как консервативные и внешне неизменные религиозные обычаи оперативно инкорпорировали важные перемены в основах религиозной идеологии и фундаментальных представлениях. Главная тема данной главы — это живая и сложная взаимосвязь между старыми и новыми религиозными элементами.
III. Политический и религиозный распад
Дестабилизация политической и социальной жизни в Риме в эпоху Поздней республики неизбежно повлекла за собой и распад религии. В обществе, где религия была глубоко укоренена в общественной жизни в целом, перемены и потрясения в политической сфере не могли не повли¬
21 Овидий. Фасты. IV.735—782.
22 Beard 1987 (Н 9); КИДМХ: гл. 16 (Прайс).
850
Часть Π
ять на религиозную сферу. Это влияние принимало различные формы, но наиболее громкие и скандальные неприятности случались, когда беспрецедентные политические события Поздней республики порождали проблемы, не предусмотренные традиционными религиозными ритуалами. Эту мысль можно проиллюстрировать на примере событий 59 г. до н. э., когда консул Бибул попытался заблокировать законодательство своего коллеги Цезаря, заявляя о дурных знамениях.
В должности консула 59 г. до н. э. Цезарь внес в народное собрание спорное законодательство (в том числе законопроект о перераспределении Кампанской земли), которому резко воспротивился его коллега Марк Кальпурний Бибул. В начале года Бибул, судя по всему, неоднократно блокировал голосование по предложениям Цезаря, выдвигая религиозно мотивированные возражения так, как это было тогда принято, то есть в соответствии с процедурой, известной как обнунциация (obnuntiatio):23 Бибул являлся на Форум и заявлял председательствующему магистрату, что видел дурные знамения, препятствовавшие принятию законов. Однако со временем беспорядки в городе, вызванные этим противостоянием, только усиливались, и Бибул подвергся грозным атакам, ввиду чего предпочел укрыться в своем доме и ограничиться публикацией уведомлений о том, что он постоянно наблюдает за небесами в ожидании знамений. Однако, несмотря на эти уведомления, народные собрания проводились и законы одобрялись; позднее противники критиковали эти законы как принятые с нарушением религиозного права, но никто их так и не отменил24.
Данный инцидент исследователи рассматривают как свидетельство о неуправляемом хаосе, в который погрузилась традиционная религиозная система в I в. до н. э.: абсолютное господство партийных политических интересов над религиозными соображениями; вопиющее пренебрежение религиозными обязанностями, препятствовавшими светским амбициям; беспечное презрение к религиозным нормам, некогда воспринимавшимся вполне серьезно. На первый взгляд такая интерпретация кажется привлекательной, однако она представляет собой серьезное упрощение, ибо историю, лежащую в ее основе, как и другие подобные эпизоды, можно рассматривать как серию настойчивых попыток применить традиционные религиозные нормы в беспрецедентной проблемной ситуации, для которой эти нормы не предусматривают никакого очевидного решения.
Правомерность возражений Бибула против законодательства Цезаря вызывала сомнения, поскольку избранная Бибулом стратегия порождала
23 Это предположение основано на довольно путаном пассаже Светония [Божественный Юлий. 20.1). О спорах исследователей по поводу законов, регулировавших практику обнунциадии (законы Элия и Фуфия), и проведенной Клодием в 58 г. до н. э. реформы этого законодательства см.: Weinstock 1937 (F 170); Balsdon 1957 (F 13); Sumner 1963 (F 152); Astin 1964 (F 7); Weinrib 1970 (H 133); Mitchell 1986 (H 83).
24 Цицерон. Письма к Аттику. П.16.2; 19.2; 20.4; 21.3—5; Taylor 1951 (С 277); Shackleton Bailey 1965 (С 261). Критику религиозного статуса этих законов см.: Цицерон. О своём доли. 39—41; Цицерон. 06 ответах гаруспиков. 48; Цицерон. О консульских провинциях. 45—46. См. также выше, гл. 10, с. 411—414 (Уайзмен).
Глава 19. Религия
851
проблемы, не имевшие параллелей в прежней религиозной практике. На протяжении почти всего своего консульства Бибул утверждал, что наблюдает за небесами, но при этом не следовал надлежащей процедуре объявления о дурных знамениях. Его действия можно было толковать двояко. С одной стороны, можно было сказать (и, несомненно, так и говорили), что, раз Бибул заперся в своем доме и просто уведомляет общественность, что «наблюдает за небесами», то его возражения не имеют силы, ибо в Риме дурные знамения препятствовали ведению политических дел лишь в случае, если их очевидец лично объявлял об этом в том самом народном собрании, которого они касались25. С другой стороны, можно было утверждать, что из-за разгоревшегося в городе насилия Бибул не имеет возможности прийти в народное собрание, однако это не лишает его возражения некой религиозной силы, пусть даже надлежащая процедура и не была выполнена во всех деталях, а значит, его наблюдение за небесами должно лишить законы Цезаря правовой силы26. Непросто решить, какое из этих двух мнений верно. Установленные религиозные обычаи в этой сфере сформировались в период, когда невозможно было предусмотреть затянувшееся насилие, охватившее город в эпоху Поздней республики, а в атмосфере разобщённости и конфликта, царящей в правящей элите, было особенно трудно достичь согласия в вопросе о том, как в данном случае должны применяться обычаи. В дошедших до нас источниках нет указаний на то, что потенциальная религиозная значимость действий Бибула просто игнорировалась; напротив, юридическая сила законов Цезаря вызывала споры именно вследствие связанной с ними религиозной неопределенности. Распад религиозной системы выражался в том, что в беспрецедентных обстоятельствах эту неопределённость невозможно было устранить в соответствии с традиционными правилами.
В других эпизодах эпохи Поздней республики обнаруживаются сходные проблемы; распад часто был вызван трудностями, возникавшими при применении традиционных религиозных норм. Именно так, несомненно, обстояло дело на знаменитом суде 62—61 гг. до н. э. по делу о вторжении мужчины — как считалось, Публия Клодия Пульхра (трибуна 58 г. до н. э.), — на церемонию в честь Доброй Богини, куда традиционно допускались только женщины. За этим святотатством последовала корректная, очевидно, реакция сената, который обратился в соответствующую жреческую коллегию с просьбой расследовать это святотатство, а затем поручил консулам составить законопроект об учреждении формального суда по данному делу. Но ясно также, что религиозная система испытывала большое давление. Причем это давление выражалось не столько в самом свя¬
25 Linderski 1965 (F 100): 425—426; Lintott 1968 (А 62): 144—145. Митчелл в целом придерживается тех же взглядов, но предполагает, что только после реформы Клодия в 58 г. до н. э. в законодательстве было прямо прописано требование лично объявлять о дурных знамениях, см.: Mitchell 1986 (Н 83).
26 Даже те, кто был согласен с содержанием законов Цезаря, ощущали, что лучше было бы провести их заново, при надлежащих ауспициях, см.: Цицерон. О консульских провинциях. 46.
852
Часть Π
тотатстве (отдельные пылкие атаки на суровые религиозные обычаи, несомненно, случались всегда), не столько в оправдании Клодия (несмотря на словоизлияния Цицерона, объяснявшего такой исход взяточничеством и испорченностью друзей Клодия, мы не можем уверенно утверждать, что последний действительно был виновен), сколько в проблемах, связанных с уточнением деталей судебной процедуры: споры вызывала не только сама необходимость формального суда, но и, позднее, состав присяжных27. Можно сделать вывод, что никакой установленной процедуры для разбора данного конкретного религиозного преступления не существовало. Как и в случае с попыткой Бибула устроить религиозную обструкцию, в ситуации, когда правящая элита была глубоко расколота и никакой ясной схемы действий не имелось, достигнуть консенсуса, надлежащим образом разработать и реализовать новую процедуру оказалось очень непросто.
Однако распад религии в Поздней республике не стоит преувеличивать. Важно понимать, каким образом глобальные потрясения и перемены в римской общественной жизни в рассматриваемый период неизбежно воздействовали на религию, но в то же время не следует все явления, которые нам представляются религиозными манипуляциями, злоупотреблениями или небрежностью, расценивать как симптомы данного упадка; они могут быть и совершенно традиционными элементами римской религиозной жизни. Хорошим примером тут может послужить отношение к оракулам. Например, в 56 г. до н. э. был обнародован оракул Сивиллы, запрещавший использовать войско для восстановления на троне египетского царя; данное заявление стало своевременным вмешательством в политические битвы этого времени, когда несколько выдающихся политиков боролись за право возглавить экспедицию для восстановления на троне низложенного Птолемея Авлета. Цицерон не сомневался в том, что этот оракул — явная подделка (ficta religio), придуманная ради того, чтобы Помпей не получил еще одно крупное военное командование28. Казалось бы, напрашивается вывод, что такое мошенничество было очередным проявлением распада религии в эпоху Поздней республики, но вывод этот будет ошибочным. У нас нет достоверных сведений о том, как часто подделывались оракулы в более ранней истории Рима, но сопоставление с другими традиционными религиями свидетельствует о том, что подобные фабрикации были практически повсеместным явлением. Везде, где оракулы занимают важное место в религиозной системе, регулярно присутствуют и подделки, и обвинения в подделках; но они не свидетельствуют об упадке
27 См. прежде всего: Цицерон. Письма к Аттику. 1.13.3; 14.1—5; 16.1—6. Такого рода правовые проблемы побудили многих современных исследователей рассматривать этот вопрос как чисто «политический», см.: Moreau 1982 (С 250); Latte 1960 (А 60): 285. См. гл. 9 (Уайзмен), с. 402-404.
28 Цицерон. Письма к близким. 1.4.2. Но Помпей, вероятно, был не единственной мишенью данного оракула; см. свидетельство Фенесгеллы (фр. 21, HRR), в котором утверждается, что Гай Катон (обнародовавший оракул) готовился к борьбе против Лентула Спинте- ра, проконсула Киликии, который тоже желал вмешаться в это дело. В целом см.: Цицерон. Письма к близким. 1.1—7.
Глава 19. Религия
853
самой системы29. Поэтому предположение о том, что подобная практика подтверждает кризис или распад религии в какой-либо период римской истории, страдает излишним этноцентризмом. В разных обществах водоразделы между «надлежащим» и «ненадлежащим» религиозным поведением и использованием религии проходят по-разному. То, что в одной культуре считается «злоупотреблением», в другой — «традиция».
IV. Небрежение и адаптация
Отличительной чертой позднереспубликанской религии стало отмирание некоторых традиционных религиозных обычаев и кажущееся небрежение отдельными элементами культа, некогда занимавшими центральное место в религиозной системе. Современные исследователи часто подчеркивают эту особенность рассматриваемого периода и порой слишком легко (как и в случае с якобы заброшенностью городских храмов) говорят об упадке римского религиозного благочестия в век Цицерона. Но и античные авторы тоже упоминали об исчезновении каких-то отдельных религиозных ритуалов. Например, сам Цицерон сетовал на деградацию авгурской науки в его дни, а другие авторы отмечали, что с 87 г. до н. э. на протяжении почти семидесяти лет древняя должность фламина Юпитера (flamen Dialis) оставалась вакантной30.
С одной стороны, небрежение — это многогранный феномен, а с другой — ностальгия античных авторов с трудом поддается оценке. Некоторые сожаления о древнем благочестии были тенденциозными: представление о том, что наши предки вели себя более безупречно, чем мы сами, в античности было не менее заманчиво, чем в современном мире. Но другие сетования отражают реальные перемены в религиозной практике, которые (в наиболее острой форме) могут быть связаны опять-таки с неупорядоченностью общественной жизни в целом. Ввиду этих потрясений в городе сложилась ситуация, когда невозможно было делать то, что раньше всегда делалось.
Хорошим примером небрежения, вызванного потрясениями, является отсутствие жреца Юпитера на протяжении последних сорока лет Республики, а также и в последующие десятилетия. Несомненно, это упущение объясняется несколькими факторами. Например, отчасти оно могло быть вызвано недавно возникшим или усилившимся нежеланием представителей римской элиты терпеть обременительные запреты, связанные с этой конкретной должностью. Но по меньшей мере важным катализатором, способствовавшим паузе в назначении фламинов, стали потрясения
29 См., напр.: Evans-Pritchard Е.Е. Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (Oxford, 1937): 359-374.
Об авгурской науке см.: Цицерон. О законах. П.ЗЗ; Цицерон. О дивинации. 1.25 (здесь эти слова приписаны персонажу трактата — Квинту Цицерону); Цицерон. О природе богов. П.9 (высказывание персонажа трактата — Бальба). О фламине Юпитера см.: Тацит. Анналы. Ш.58; Дион Кассий. LIV.36.1.
854
Часть Π
эпохи Суллы. В период господства Цинны и Мария, в 87-м или начале 86 г. до н. э., на должность фламина Юпитера был назначен молодой Юлий Цезарь, ставший преемником Луция Корнелия Мерулы, покончившего с собой, когда Марий захватил город. Но еще до официального вступления Цезаря в эту должность Рим снова попал в руки Суллы, который отменил все решения своих врагов и все произведенные ими назначения31. Сегодня невозможно установить, как римская элита воспринимала вакантный фла- минат или формальное положение Цезаря в отношении этой жреческой должности, ведь можно было сказать, что он всё же успел ее занять. Ясно лишь, что решение Суллы о смещении Цезаря с этой должности, принятое в хаосе гражданской войны, стало первым шагом к временной отмене фламината Юпитера: эта должность оставалась вакантной вплоть до 11 г. до н. э., когда нового фламина назначил Август, а связанные с ним ритуалы в этот вакантный период исполняла коллегия понтификов32.
Другие примеры небрежения имели и более позитивные стороны. Римская религия адаптировалась к переменам в социальной и политической жизни и, особенно, к превращению Рима в империю. Конечно, в эпоху Поздней республики религия не могла оставаться той же, какой она была тремя или четырьмя веками ранее. В ней появлялись новые элементы, а старые, как водится, отмирали. Утраты, а равно и приобретения, были неотъемлемой частью живой и менявшейся римской религии.
В основе некоторых наиболее поразительных утрат и изменений в римской религиозной системе лежит географическое распространение власти Римской державы. Различные ритуалы, возникшие в те времена, когда Рим воевал с соседями и захватывал Италийский полуостров, стали неуместны, когда он начал заморскую экспансию. Пожалуй, наиболее очевидным примером такой перемены может послужить ритуал объявления войны жрецами-фециалами. Согласно традиции, фециалы должны были явиться на границу между землями римлян и врагов и метнуть на вражескую территорию ритуальное копье — первый символ надвигающейся войны. Но когда враги Рима больше не являлись его соседями и нередко проживали на расстоянии сотен километров от Италии, этот ритуал стал невыполним и сохранился лишь в остаточной форме: участок земли в самом Риме, возле храма Беллоны, был объявлен — с использованием юридической фикции — вражеской землей, и именно туда фециалы метали свое копье33.
Куда более комплексное изменение претерпел обряд эвокации (evocatio). Согласно традиции, римский полководец должен был всеми средствами добиваться преимуществ в войне и с этой целью предложить божеству — покровителю противника более роскошный храм и более благочестивый культ в Риме, если оно покинет своих прежних подопечных и
31 Taylor 1941 (С 140): 113-116; Leone 1976 (Н 76).
32 Тацит (Анналы. Ш.58) ясно свидетельствует о том, что кажущееся небрежение этой должностью не повлекло за собой небрежение к связанным с ней ритуалам.
33 Точные хронологические рамки, в которых обряды фециалов менялись, приходили в упадок и возрождались, неясны. См.: Rich 1976 (А 95): 56—58, 106, 127.
Глава 19. Религия
8 55
перейдет на сторону Рима. Лучше всего этот обычай засвидетельствован в случае с богиней Юноной, покровительницей города Вейи, которая в 396 г. до н. э. оставила своими заботами вейян и перешла на сторону римлян (тем самым обеспечив Риму победу);34 после этого в Риме ей поклонялись в знаменитом храме на холме Авентин. Современные исследователи считают, что ко временам Поздней республики этот обычай (с его будто бы грубыми представлениями о подкупе божества) совершенно вышел из употребления, ибо последним римским храмом, основанным вследствие эвокации, считался храм Вортумна (возведенный в 264 г. до н. э.), а утверждения античных авторов насчет того, что Сципион прибег к эвокации при взятии Карфагена в 146 г. до н. э., вызывают сомнения. Вместе с тем надпись, обнаруженная в Малой Азии, свидетельствует о том, что этот обычай не исчез, ибо в ней сообщается об эвокации божества — покровителя Старой Исавры в 75 г. до н. э. и о строительстве для него нового, римского, храма неподалеку от его старого святилища, на завоеванной территории35. Прочие свидетельства весьма скудны, но даже эта единственная надпись позволяет высказать правдоподобное предположение о том, что вплоть до конца Республики в римских провинциях проводились эвокации и строились новые храмы, пусть даже в самом Риме их уже не сооружали. Логика, определившая эту перемену, вполне очевидна. Если в раннем Риме предложить божеству — покровителю противников рижский дом означало поселить его в храме в самом городе Риме, то по меньшей мере ко П в. до н. э. географическое определение «римской» территории настолько расширилось, что вражеское божество вполне можно было пригласить в дом на римской земле за пределами города Рима. Если смотреть на положение вещей из города Рима, то может показаться, что данный обычай вышел из употребления, но более правильным было бы говорить о его географическом переносе.
Сетования античных авторов на пренебрежение ауспициями тоже можно связать с превращением Рима в империю, по крайней мере, если говорить о так называемых «военных ауспициях», совершая которые перед сражением полководец официально удостоверялся в том, что боги поддерживают римлян в этом деле. В эпоху Ранней и Средней республики, когда римские войны велись по соседству, а внутреннее управление городом было делом не слишком обременительным, полководцами обычно являлись магистраты, командовавшие армиями в год своей должности. Будучи магистратами, они сражались «под собственными ауспициями», то есть имели право выяснять волю богов от имени римского народа. Но ко временам Поздней республики, когда управление городом стало требовать больше сил и времени, а главные театры военных действий располагались на расстоянии нескольких месяцев пути, старшие магистраты оставались дома на протяжении хотя бы части своего должностного года и
34 Ливий. V.21.2—4 (здесь приведен один из вариантов эвокационной формулы); 22.4—7.
35 Hall 1972 (В 168); Le Gall 1976 (Η 74); обзор свидетельств об эвокации в Карфагене см.: Rawson 1973 (Н 105): 168-172.
856
Часть Π
нередко принимали на себя военное командование уже позже, как промагистраты. Поскольку в строгом смысле слова они уже не являлись магистратами и не имели официального права обращаться к богам от имени Рима, теперь они были не вправе, как прежде, совершать военные ауспиции перед сражением36. В данном случае кажущееся пренебрежение религиозным обычаем на самом деле объясняется тщательным соблюдением традиционных религиозных норм.
В период Поздней республики некоторые традиционные религиозные обычаи вышли из употребления. Причины тому были разные, и очевидцы по-разному оценивали значимость этих перемен. Некоторые, несомненно, были к ним абсолютно равнодушны, другие же, суровые традиционалисты, сожалели о любых отклонениях. А с точки зрения современного наблюдателя, стоит отметить два довольно разных аспекта этой тенденции: с одной стороны, небрежение религиозными обычаями, несомненно, отчасти являлось следствием смятения и потрясений Поздней республики, с другой — данное небрежение было вызвано необходимой адаптацией религиозной системы к эволюции той общины, в рамках которой она существовала. Такой процесс, в ходе которого утраты сопровождались приобретениями, происходил во все времена и продолжался вплоть до конца язычества. Как это ни парадоксально, в какой-то мере указанное небрежение было традиционным, поскольку позволяло религии сохранять свой смысл в меняющемся обществе.
V. Соперничество, сопротивление
и РЕЛИГИЯ ПОПУЛЯРОВ
Поскольку религия являлась частью римской общественной жизни, ее всегда затрагивали политическая борьба и раздоры в городе. Споры, которые, с нашей точки зрения, касались политической власти и контроля над государством, в Риме всегда были связаны с соперничеством в области религиозной компетенции и притязаниями на привилегированный доступ к богам. По крайней мере, так смотрели на дело сами римляне, которые воспринимали политические раздоры эпохи Ранней республики в том числе и как борьбу против патрицианской монополии на религиозное знание и доступ к божественному. Например, Ливий приводит яркий рассказ о принятии в 300 г. до н. э. Огульниева закона, который стал последним крупным событием так называемой «борьбы сословий»: он наконец предоставил плебеям право занимать должности в коллегиях понтификов и авгуров. По словам Ливия, патриции считали, что такой закон оскверняет религиозные ритуалы и может навлечь бедствия на государство, плебеи же рассматривали его как кульминацию своих усилий по завоеванию
36 Это отмечает сам Цицерон (О дивинации. П.76—77).
Глава 19. Религия
8 57
гражданских и военных должностей37. Полноценное политическое участие в управлении Римом требовало также полноценного участия во взаимодействии людей с богами. С точки зрения римлян, не имело смысла требовать политической власти, не претендуя одновременно на религиозный авторитет и компетенцию.
Из рассказов о политической борьбе эпохи Поздней республики и нарастании соперничества между отдельными лицами и группами еще отчетливее заметно, что политические противоречия в Риме неизбежно имели религиозное измерение. Мало того, что отдельные политические выступления (по поводу конкретных политических решений или конкретных действий политических лидеров) часто содержали апелляции к воле богов или к божественному одобрению той или иной политики; по мере того как политические споры (по крайней мере отчасти) сконцентрировались вокруг противостояния оптиматов и популяров, последние начали всё активнее бороться против жесткого контроля оптиматов над жреческими должностями и добиваться передачи не только политической, но и религиозной власти в руки народа как такового. Например, Саллюстий влагает в уста Гая Меммия (трибуна 111 г. до н. э.) яростные нападки на господство нобилей, которые «у вас (народа. — Ред.) на глазах шествуют во всем своем блеске, бахвалясь своими жречествами и консулатами, а кое-кто и своими триумфами, словно всё это — свидетельство оказанного им почета, а не их добыча»38. Сопоставление жречества и консульства здесь не случайно. Люди, недовольные незаконной монополией узкой группы нобилей на власть, непременно должны были добиваться, чтобы народ контролировал как религиозные, так и политические должности, то есть держал в своих руках как отношения с богами, так и отношения с людьми.
Хорошим примером установления народного контроля над религией может служить законодательство о выборах членов главных жреческих коллегий, особенно Домициев закон 104 г. до н. э. Традиционно большинство коллегий пополнялось путем кооптации: после смерти жреца его коллеги сами выбирали ему преемника. Впервые (насколько нам известно) эта процедура была поставлена под вопрос в 145 г. до н. э., когда Гай Лициний Красе внес законопроект об избрании жрецов в народном собрании. Провести этот закон не удалось, но в 104 г. до н. э. такое же предложение выдвинул Гней Домиций Агенобарб (консул 96 г. до н. э.), и оно увенчалось успехом: жрецы четырех главных коллегий (понтифики, авгуры, квиндецимвиры и септемвиры) сохранили за собой право выдвигать кандидатов на жреческие должности, но выбирать одного из выдвинутых кандидатов должно было особое народное собрание — семнадцать из тридцати пяти голосующих римских триб; такой метод применялся на выборах верховного понтифика уже с Ш в. до н. э. В итоге жрецы утратили полный контроль над членством в своих коллегиях39.
37 Ливий. Х.б. 1—9.2.
38 Саллюстий. Югуртинская война. 31.10. (Перев. В.О. Горенштейна с правкой.)
39 О Гае Лицинии Крассе см.: Цицерон. О дружбе. 96. О Гнее Домиции Агенобарбе см.: Цицерон. Об аграрном законе. П.18—19; Светоний. Нерон. 2.1.
858
Часть Π
В дошедших до нас античных источниках содержатся разные интерпретации данной меры. Светоний подчеркивает личные мотивы Домиция: когда тому не удалось добиться кооптации в коллегию понтификов, он от обиды решил изменить сам метод ее пополнения40. Сегодня мы не можем определить, насколько правдивы подобные утверждения; свою роль в этих событиях могли сыграть любые личные и узкополитические мотивы. Однако мы можем отметить, что реформа жреческих выборов вписывается в общую модель, в рамках которой велось политическое и религиозное сопротивление господству традиционной элиты и отстаивался народный контроль над всеми государственными должностями. Например, сообщалось, что первый инициатор данного предложения, Гай Лициний Красе, бросил символический вызов авторитету сената, когда, выступая с ростр, первым повернулся к народу, толпившемуся на форуме, а не к элите, собравшейся в Комиции перед зданием сената41. Дальнейшая история законодательства о жреческих выборах подтверждает, что оно являлось составной частью более глубоких конфликтов в Риме: Сулла отменил Домициев закон, восстановив традиционный сенаторский контроль над составом жреческих коллегий, но в 63 г. до н. э. трибун Аабиен, известный радикал и друг Цезаря, восстановил выборы жрецов42. Политики, выступавшие за дело народа, выступали тем самым и за контроль народа над отношениями людей с богами.
Еще одно нападение на традиционные религиозные авторитеты имело место в 114—113 гг. до н. э., когда несколько весталок были признаны виновными в нарушении целомудрия и казнены. В 114 г. до н. э. дочь римского всадника, скакавшая на коне, была убита молнией, и этрусские гаруспики истолковали это знамение как указание на скандал с участием дев и всадников. В итоге в декабре 114 г. до н. э., в соответствии с традиционной процедурой, три весталки, обвиненные в нарушении целомудрия, предстали перед судом коллегии понтификов, но только одна из них была признана виновной и приговорена к погребению заживо. Возмущенный оправданием остальных двух весталок Секст Педуцей, трибун ИЗ г. до н. э., провел через народное собрание закон об учреждении нового суда — на сей раз с присяжными-всадниками и специально назначенным дознавателем, которым стал консуляр Луций Кассий Лонгин. Повторный суд закончился осуждением и казнью всех трех весталок43. Таким образом, была поставлена под вопрос компетентность понтификов в их традиционной сфере ведения — в поддержании надлежащих отношений с богами, и
40 Светоний. Нерон. 2.1; в таком же ключе Асконий [В защиту Скавра. 21C) пишет, что Домиций от обиды за то, что его, Домиция, не кооптировали в коллегию авгуров, привлек Марка Эмилия Скавра к суду за небрежение священнодействиями. См.: Rawson 1974 (Н 106); Scheid 1981 (Н 112): 124-125, 168-171.
41 Цицерон. О дружбе. 96.
42 Дион Кассий. XXXVn.37.l-2.
43 См. сноску 4 насг. гл. Выводы о народном контроле над религией см.: Rawson 1974 (Н 106): 207-208.
Глава 19. Религия
859
утверждено право народа отменять решения жреческой коллегии и контролировать поведение государственных жрецов.
В других случаях соперничество отдельных политиков за привилегированный доступ к богам становилось центром политических дебатов; политик мог доказывать обоснованность своей политической позиции, утверждая, что именно он, а не его противник, выполняет волю богов. Именно так обстояло дело в 56 г. до н. э., когда Цицерон и Клодий вступили в публичный спор о толковании знамения: в сельской местности неподалеку от Рима люди слышали таинственный шум, и за разъяснением этого необычного явления сенат обратился к гаруспикам. В своем пространном ответе те лишь намекнули на причины божественного гнева, знаком которого служило это знамение: осквернение игр (ludi), профанация священных мест, убийство ораторов, нарушение клятв, огрехи при исполнении древних и тайных ритуалов44. Однако многое оставалось туманным и неясным. В последующих дебатах о точном значении ответа гаруспиков Цицерон и Клодий предложили более подробные разъяснения с противоположным смыслом: Клодий заявил в народном собрании, что «профанацию священных мест» совершил Цицерон, когда разрушил храм Свободы, построенный им, Клодием, на месте дома Марка Туллия во время изгнания последнего; Цицерон же в дошедшем до нас выступлении в сенате приписывал «осквернение игр» Клодию, сорвавшему Мегалезий- ские игры (проводившиеся в честь Кибелы), и утверждал, что под «огреш- но исполненными древними и тайными ритуалами» следует понимать таинства в честь Доброй Богини, будто бы сорванные Клодием несколько лет назад45. Данный спор — не просто серия беспринципных воззваний к ответу гаруспиков, туманность которого пришлась весьма кстати, и не просто искусное использование религиозных обычаев для нанесения (политического) ущерба политическому оппоненту. Настаивая на безошибочности собственной, разумеется пристрастной, интерпретации знамения, и Цицерон, и Клодий пытались утвердиться в положении привилегированных толкователей воли богов. Божественное покровительство имело важное значение для римского политика. И, без всякого сомнения, в политических бурях середины 50-х годов до н. э. было совершенно невозможно разобраться, кому именно боги покровительствуют. Поэтому политики постоянно подчеркивали и выдвигали на передний план как собственные связи с богами, так и гнев богов на своих противников.
В основе этих глубоких расхождений в вопросах о контроле над религией и доступе к божественному покровительству лежало удивительное единство религиозной идеологии. Видимо, обе стороны политических дебатов, и оптиматы, и популяры, публично поддерживали традиционное понимание взаимоотношений богов с людьми. Политические противники
44 Цицерон. 06 ответах гаруспиков; «реконструированный текст» заявления гаруспиков см.: Wissowa 1912 (Н 137): 545, примеч. 4.
45 Цицерон. 06 ответах гаруспиков. 9, 22—29, 37—39. О преувеличениях в утверждениях Цицерона см.: Lenaghan 1969 (В 65): 114-117; Wiseman 1974 (С 285): 159-169.
860
Часть Π
расходились лишь в том, кто и как должен контролировать доступ к богам. Нам неизвестны случаи, когда деятель, занимавший радикальную политическую позицию, оспаривал бы традиционные представления о том, как божественные силы проявляют свою волю в этом мире. Конечно, существовали отдельные культы и отдельные божества, которым по разным причинам приписывалась особенно тесная связь с народом. Например, с эпохи Ранней республики храм Цереры ассоциировался именно с плебеями: он служил пггаб-квартирой плебейских магистратов, в нем хранилась казна, куда поступало имущество лиц, осужденных за посягательство на священных и неприкосновенных плебейских трибунов, здесь же осуществлялось распределение зерна среди бедных46. Культ Ларов Ком- питальских в местных святилищах в каждом квартале (vicus) города Рима служил центром религии и социальной жизни, особенно для рабов и бедняков; а храм Свободы, посвященный Клодием на месте дома Цицерона, должен был особенно привлекать тех, кто считал, что Цицерон и подобные ему деятели серьезно попирают свободу народа47. Но появление таких средоточий народного энтузиазма не повлекло за собой радикального переосмысления отношений между богами и людьми. Народные культы могли существовать лишь потому, что у людей имелся широкий спектр возможностей личного выбора, как всегда бывает в политеистических системах.
Противостояние Клодия и Цицерона в последние годы Республики хорошо иллюстрирует природу этого всеобщего религиозного консенсуса. Свидетельства о схватках между этими двумя соперниками, как прямые, так и косвенные, исходят почти исключительно от Цицерона, который неизменно именует Клодия «врагом богов», обвиняя его не только в святотатстве в отношении Доброй Богини, но и в уничтожении ауспиций и традиционного права магистратов блокировать законодательство с помощью обнунциации, то есть заявления о дурных знамениях. Правдивость подобных утверждений остается в самом лучшем случае сомнительной. Важнее тот факт, что Клодий, по-видимому, отвечал Цицерону его же монетой — вполне традиционными заявлениями о том, что оратор прогневил богов. Из речи Цицерона «Об ответах гаруспиков» ясно, что Клодию и в голову не приходило проигнорировать религиозную риторику его оппонента, а тем более высмеять ее; Клодий не противопоставлял себя системе и не шутил с ее условностями. Он бил противника его же оружием и, оставаясь в тех же самых религиозных рамках, утверждал, что боги покровительствуют именно ему, Клодию, а гневаются как раз на Цицерона. Подобным же образом вели себя и другие радикальные политики: Сатурнин, например, попытался отстоять свое законодательство, вызывавшее большие споры, потребовав от сенаторов принести клятву в его соблюдении (sanctio)
46 Le Bonniec 1938 (Η 73): 342-378.
47 См.: Allen 1944 (С 160); Gallini 1962 (Η 45): 267—269. О народном характере Компита- лий, об объединениях, связанных с местными ларами, и о взаимоотношениях между этими объединениями и профессиональными «коллегиями» см.: Ассате 1942 (F 1); Lintott 1968 (А 62): 77—83; Flambard 1977 (С 193); см. также гл. 17 (Пёрселл), с. 776—777.
Глава 19. Религия
861
именем главных богов общины — Юпитера и Пенатов;48 Каталина держал у себя дома серебряного орла в святилище, будто бы в знак того, что его, Каталины, незаконному восстанию покровительствует орел, который традиционно хранился в официальном святилище военного лагеря49. По- видимому, все римляне были согласны с тем, что боги сотрудничают с римскими политическими лидерами; оставался лишь один вопрос: с какими именно лидерами?
VI. Политическое господство и обожествление:
БОЖЕСТВЕННЫЙ СТАТУС ЦЕЗАРЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ К ТОМУ
Почести, предоставленные Юлию Цезарю незадолго до его убийства и вскоре после него, предполагают, что он достиг божественного статуса: уже при жизни он получил право иметь жреца (flamen) своего культа и демонстрировать всевозможные символы своей божественности (фронтон над домом, словно над храмом, изображение в торжественных процессиях богов), а вскоре после смерти он был наделен и другими знаками божественного статуса, такими как алтари, жертвоприношения, храм и официальное постановление о его обожествлении50. Эта почести, прежде всего те, что были предоставлены Цезарю при его жизни, вызвали у исследователей много споров о том, каким должен быть правильный римский ответ на вопрос: «Цезарь является богом или нет?», если бы его задали до мартовских ид 44 г. до н. э.51. Непрекращающиеся споры исследователей вкупе с явной неоднозначностью античных источников позволяют предположить, что такая постановка вопроса не может считаться верной. Важным и бесспорным фактом является то, что, по крайней мере в некоторых отношениях, Цезарь еще при жизни был уподоблен богам.
Это уподобление Цезаря богам можно понимать по-разному: и как новый или иноземный элемент политического и религиозного кругозора римской элиты, и как элемент, давно и глубоко укорененный в римских представлениях о божественности и об отношениях политических лидеров с богами. С одной стороны, некоторые из божественных почестей Цезаря
48 Riccobono // FIRA 1.6.3 [Латинский закон на Банцийской таблице); аргументы в пользу того, что это закон Сатурнина, см.: Hinrichs 1970 (В 172): 473—486. Ср.: Riccobono //FIRA 1.9, кол. 13; Hassan, Crawford, Reynolds 1974 (В 170): 205 (стк. 13-15), 216.
49 Цицерон. Против Катилины. 1.24. Следует отметить еще одну символическую ассоциацию: этот орел служил знаменем одного из легионов, воевавших под командованием Мария против кимвров и тевтонов, см.: Саллюстий. О заговоре Катилины. 59.3.
50 Цицерон. Филиппики. П.110; Светоний. Божественный Юлий. 76.1; Дион Кассий. XLVn. 18-19.
01 Классическое исследование см.: Weinstock 1971 (Н 134) (с рецензией: North 1975 (Н 92)). Другие мнения см.: Taylor 1931 (Н 124): 58—77; Adcock 1932 (С 152): 718—735; Vogt 1953 (Н 132); Taeger 1960 (Н 121) П: 3-88; Ehrenberg 1964 (С 192); Gesche 1968 (Н 47). Полную библиографию см.: Dobesch 1966 (С 190).
862
Часть Π
могли быть заимствованы с греческого Востока и из культа эллинистических царей. Например, государственное празднование дня рождения Цезаря и переименование в его честь календарного месяца и трибы, несомненно, находят прецеденты среди почестей, которых удостаивались отдельные эллинистические монархи52. С другой стороны, некоторые составляющие божественного статуса Цезаря можно истолковать как развитие в традиционных римских представлениях и обычаях ранее сформировавшихся тенденций. В римском язычестве граница между богами и людьми никогда не была такой четкой, как в современной иудео-христианской традиции: римская мифология включала и людей, ставших богами, например, Ромула; в римском ритуале триумфа победоносный полководец выступал как воплощение бога; в римском культе мертвых покойные члены общины (или отдельной семьи) в какой-то степени наделялись божественностью. Божественное и человеческое не являлись строго противоположными полюсами, а плавно переходили друг в друга53. В эпоху Поздней республики статус успешного политика всё больше смыкался с божественным. Цезарь олицетворяет собой лишь кульминацию этой тенденции.
Римские политические и военные лидеры всегда поддерживали тесные связи с богами. В основе многих политических демонстраций и дебатов, рассмотренных в предыдущих разделах настоящей главы, лежало представление о том, что магистраты и боги сотрудничают друг с другом во благо Рима, а благополучие государства определяется общностью целей его смертных и бессмертных предводителей. Эта логика имела и обратную силу: политические и военные успехи неизбежно сближали людей с богами. Это уподобление наиболее очевидно в традиционной церемонии триумфа, когда победоносный полководец в одеянии Юпитера Наилучшего Величайшего проезжал через город в торжественной процессии, чтобы вознести благодарственные молебствия на Капитолии: его лицо, подобно культовой статуе Юпитера, было выкрашено в красный цвет, на нем был пурпурный плащ и венок этого бога, а в руке он держал его золотой скипетр. Полководец одерживал свои победы совместно с богами, а во время празднования этих побед занимал, всего на один день, место бога54.
Однако изменение принципов занятия политических должностей повлияло и на принципы уподобления людей богам. Временная в сущности идентификация человека с богом в ходе триумфальной церемонии соответствовала столь же временным политическим полномочиям предсгави-
52 Дион Кассий. XLIV.4.4 (cp.: Weinstock 1971 (Н 134): 206-209); XLIV.5.2 (ср.: Weinstock 152—162).
03 О традициях, связанных с Ромулом, и их заимствовании Цезарем см.: Weinstock 1971 (Н 134): 175—199; о триумфе см.: Weinstock 60—79 (ср. также сноску 54 наст. гл.). Некоторые исследователи усматривают в почестях, предоставленных Цезарю, наследие этрусско-римских царей, см., напр.: Kraft 1952/1953 (С 215). Иной подход к «латинским» традициям обожествления см.: Schilling 1980 (Н 115).
04 См.: Versnel 1970 (Н 130) — здесь выявляются и божественные, и царские ассоциации, связанные с традиционной церемонией триумфа.
Глава 19. Религия
863
телей римской элиты в эпоху Ранней и Средней республики. Срок занятия должности был ограничен, поэтому долговременное уподобление человека 6oiy было невозможно. В Поздней республике сложилась совершенно иная модель политического господства. По мере того как великие династы этой эпохи находили всё новые способы удерживать власть на протяжении продолжительного времени (с помощью повторного занятия либо продления магистратур, а также учреждения чрезвычайных командований), они стали притязать и на долговременное уподобление богам или на идентификацию с ними. Посредством триумфальной символики либо других знаков близости к божественному они представляли себя любимцами богов и, в какой-то мере, самими богами; остальные люди обращались с ними соответственно. В мире, где политические мероприятия рассматривались как совместные действия богов и людей, где границы между человеческой и божественной сферой не были четко очерчены, такие тенденции не должны были вызывать удивление.
Уже к концу Ш или началу П в. до н. э. влиятельным политикам и военным явно начинали приписывать божественное величие. Например, Сципион Африканский демонстрировал тесные связи с богами. Легенда о его божественном происхождении от Юпитера, несомненно, возникла после смерти Сципиона, но имеются надежные свидетельства о том, что при жизни он подчеркивал свою близость с Юпитером и рассказывал, что перед началом каждого нового предприятия тайно общался с богом в его Капитолийском храме55. Немного позднее Эмилий Павел, одержавший в 168 г. до н. э. победу при Пидне, снискал не только триумф, но и право носить триумфальное одеяние на всех цирковых играх56. Данное решение представляло собой важный и символичный отказ от временного характера традиционной триумфальной почести: Павлу, который стал появляться на играх в одеянии Юпитера Наилучшего Величайшего, было дозволено продлить и даже узаконить свою идентификацию с богом. В 63 г. до н. э. такую же почесть предоставили Помпею, а позднее, в расширенном виде, — Цезарю: диктатору было разрешено носить такое одеяние на всех публичных мероприятиях57.
Выдающиеся деятели постгракханской эпохи демонстрировали еще более явные знаки уподобления богам или же народная любовь наделяла их этими знаками. Например, политическому господству Мария, семикратного консула, триумфатора, победителя Югурты и германцев, соответствовало его религиозное возвеличение. Он позволил себе прийти в сенат в триумфальном одеянии (впрочем, от этой демонстрации религиозного и политического превосходства над другими сенаторами ему пришлось отказаться), а после его победы над вторжением с севера благодарный народ стал посвящать ему яства и делать возлияния наравне с богами
См.: Walbank 1967 (В 122).
06 О знаменитых людях. 56.5.
07 О Помпее см.: Дион Кассий. XXXVIL21.4; Веллей Патеркул. П.40.4 (здесь утверждается, что Помпей лишь раз воспользовался этой почестью); Цицерон. Письма к Аттику. 1.18.6. О Цезаре см.: Дион Кассий. XLDI.43.1; Аппиан. Гражданские войны. П.106.442.
864
Часть Π
(άμα τοίς θεοίς)58. Такой всплеск народной любви к популярному политическому лидеру (несомненно, временный и неформальный) не был беспримерным; еще ранее некий культ отправлялся в тех местах, где были убиты братья Гракхи59. Но Марий, как представляется, первым получил такой культ уже при жизни. Двадцать лет спустя претор Марий Гратидиан издал очень популярный эдикт о подтверждении привычной стоимости римского денария, и народ вознаградил его тем, что «во всех городских кварталах ему воздвигли статуи, перед которыми сжигались благовония и горели восковые светильники». Примечательно, что, согласно Цицерону, такой народной любви Гратидиан добился благодаря тому, что издал эдикт от собственного имени, без упоминания о своих коллегах60 61. По- видимому, божественный статус шел рука об руку с политическим господством или притязаниями на таковое.
Сближение с богами можно было демонстрировать через связи не только с Юпитером-триумфатором, но и с другими божествами. Особенно важное значение для карьеры нескольких династов I в. до н. э. сыграла Венера, родоначальница семьи Энея (и, следовательно, всех римлян); Цезарь и Помпей соперничали, стараясь, в частности, продемонстрировать как можно более тесную связь с этой богиней.
В начале I в. до н. э. Сулла утверждал, что в Италии ему покровительствует Венера, а на Востоке — Афродита (которую обычно считали греческим «эквивалентом» италийской богини). Эти ассоциации диктатор подчеркивал на своих монетах, основал храм Венеры, а после того как богиня явилась ему во сне, посвятил секиру в главное святилище Афродиты в Афродисиаде, городе Малой Азии; более того, притязания Суллы на ее божественное покровительство отразились и в его титулах. В греческом мире он официально именовался Луцием Корнелием Суллой Эпафроди- том, а на западе принял дополнительный когномен «Феликс»(Юа, который указывал на его удачу, ниспосланную богами, в данном случае почти наверняка Венерой?1. Помпей последовал его примеру. Демонстрируя свои связи с богами, Помпей проявил больше уважения к традициям, чем Сулла (во всяком случае, в Риме), но он тоже придавал большое значение своей близости к Венере, о чем ясно свидетельствуют монеты, отчеканенные его сторонниками, а также его собственные, весьма роскошные, строительные проекты: к примеру, центром огромного театрально-храмового комплекса, посвященного Помпеем в 55 г. до н. э., служил храм Венеры
58 Плутарх. Марий. 27.9; Валерий Максим. УШ.15.7.
59 Плутарх. Гай Гракх. 18.2.
60 Цицерон. 06обязанностях. Ш.80. [Перев. В.О. Горенштейна); ср.: Плиний Старший. Естественная история. ΧΧΧΙΠ.132 (предоставление почестей объясняется здесь одной только популярностью данной меры); ср. гл. 6 (Сигер), с. 206.
^ Греческий титул Суллы переводится как «Любимец Афродиты», латинский — как «Счастливый». — О. А.
61 Плутарх. Сулла. 19.9; 34.4—5; Аппиан. Гражданские войны. 1.97.451—455, с комментарием: Schilling 1954 (Н 114): 272—295. Иное мнение, согласно которому Сулла ассоциировал себя с греческой Афродитой, но не с римской Венерой, и библиографию предшествующих работ см.: Balsdon 1951 (С 18).
Глава 19. Религия
865
Победительницы (Venus Victrix), с помощью которой, как считалось, Помпей одержал свои победы; позднее в этом же комплексе был посвящен и храм Счастья (Felicitas), напоминавший о титуле Суллы — «Феликс». Кажется, что Помпей унаследовал от Суллы особое покровительство Венеры — божественной родоначальницы римского народа62.
Цезарь, без всякого сомнения, превзошел и Суллу, и Помпея. Для него Венера была не просто богиней-покровительницей, она была родоначальницей семьи Энея, на прямое происхождение от которого притязал его собственный род Юлиев. Известно, что эту мысль Цезарь подчеркивал уже в 68 г. до н. э. в надгробной речи в честь своей тетки Юлии, в пассаже, прославлявшем ее происхождение от богини Венеры. Позднее, в годы своей диктатуры, когда Цезарь приступил к грандиозному строительству нового и роскошного форума, который, несомненно, был задуман как соперник строительного комплекса Помпея, диктатор решил посвятить центральный храм Венере Прародительнице (Venus Genetrix). Значение этого шага не могло остаться незамеченным: если Помпей и другие политики притязали на покровительство Венеры как прародительницы всего римского народа, то Цезарь имел возможность прославлять ее как родоначальницу собственной семьи и вовсю пользовался этой возможностью63.
Вследствие экспансии Рима, прежде всего в Восточном Средиземноморье, ведущие римские деятели стали сближаться с богами и в другом контексте. Следуя в основном тому образцу, который задавал культ эллинистических царей по меньшей мере со П в. до н. э., восточные города стали даровать римским полководцам и наместникам различные божественные почести. Для самих городов это была стратегия, посредством которой они вписывали недавно установившееся над ними римское господство в уже знакомую им систему почестей и власти64. С точки зрения римлян, получавших такие почести, предоставление им божественного статуса, с одной стороны, подтверждало традиционную римскую ассоциацию между политическим господством и божественностью, а с другой — давало им возможность при желании опробовать на себе более пышные и наглядные формы культа вдали от глаз сограждан. Тому можно привести немало примеров: учреждение жреца, жертвоприношений и гимнов в честь Фламинина в Халкиде; игры в честь Квинта Муция Сцеволы в Азии;
62 О монетах см.: Crawford 1974 (В 144): 424.1; 426.3. О храме Венеры Победительницы см. сноску 20 наст. гл. О святилище Счастья см.: Аллифские фасты в изд.: Inscr. Ital. П.177— 184 (12 августа), с комментарием: Weinstock 1971 (Н 134): 93, 114. Плутарх [Помпей. 14.6) сообщает о споре Суллы и Помпея по поводу права последнего отпраздновать триумф в 81 г. до н. э., когда Помпей желал въехать в Рим на колеснице, запряженной четырьмя слонами (такое транспортное средство ассоциировалось с Венерой); возможно, эти двое политиков уже тогда соперничали за символическое покровительство Венеры.
63 О надгробной речи см.: Светоний. Божественный Юлий. 6. О новом форуме и связанных с ним ассоциациях см.: Weinstock 1971 (Н 134): 80—90. Символическое соперничество Цезаря и Помпея прямо отмечается у Плутарха [Помпей. 68.2—3): перед битвой при Фарсале Помпей боялся, что его сон о добыче в храме Венеры Победительницы — это доброе знамение для Цезаря, потомка Венеры.
64 Price 1984 (Н 103): 234-248.
866
Часть Π
несколько храмов, обетованных Цицерону на Востоке (от которых он, впрочем, отказался)6 * 65. Но наиболее поразительный спектр божественных почестей получил Помпей на Востоке, когда был наделен там обширными полномочиями: в числе его привилегий были статуи, культ, посвящения, переименование месяцев в его честь, возможно, даже храмы. Хотя в самом Риме Помпей поддерживал имидж традиционалиста и не добивался новых божественных почестей, на Востоке статус этого героя-завоева- теля был не менее сакрализованным, чем позднее статус Цезаря в столице. Иными словами, Цезарь в конечном счете обрел в Риме ту степень обожествления, какой его былой противник достиг вне Италии66.
Для каждого отдельного случая нам не известны мотивы ни тех, кто даровал божественные почести, ни тех, кто их получал. Наивно было бы полагать, что некоторые влиятельные римляне не получали удовольствия от перспективы сравниться с богами, не считали это полезным политическим преимуществом перед соперниками и не планировали и не добивались целенаправленно расширения собственных почестей. Столь же наивно было бы полагать, что люди, предоставлявшие эти божественные почести, не рассчитывали, что такая инициатива принесет им пользу; община могла получить определенные выгоды, если именно она (а не другой город, расположенный, к примеру, в нескольких милях ниже по реке) посвятит римскому наместнику жертвоприношения и великолепный храм. Но в основе всех этих разнородных (и недоступных для исследования) мотивов лежала неизменная логика римской политики и религии: осуществление политической власти в обязательном порядке порождало тесные связи с богами. Лишь с учетом этой традиционной римской логики можно понять возвышение крупных политических фигур в Поздней республике.
VII. Обособление религии
1. Скептицизм, профессионализм и магия
Развитие римской религии в Поздней республике следует рассматривать как составную часть не только политического, но и интеллектуального и культурного развития данного периода. Выше в настоящей главе основное внимание было уделено интеграции религии в политическую жизнь, а также религиозным переменам, явившимся прямыми следствиями политических перемен во Π—I вв. до н. э. Но религия является также частью
6э Плутарх. Фламинин. 16.7; IOlympia 327; Цицерон. Письма к брату Квинту. 1.1.26;
Цицерон. Письма к Аттику. V.21.7 (хотя следует отметить пышные почести, оказанные
разным членам семьи Цицерона на Самосе, см.: Dömer, Gruber 1953 (Η 32)).
66 См., напр.: IGRR IV: 49—55; IG ХП.2: 59 сгк. 18 (с комментарием: Robert 1969 (D 289): 49 примеч. 8); SIG 749А, В; о спорном свидетельстве о храме в честь Помпея см.: Аппиан. Гражданские войны. П.86.361; Дион Кассий. LXIX.11.2. О божественных почестях, оказанных Помпею и послуживших прецедентами для Цезаря, см.: Weinstock 1971 (Н 134).
Глава 19. Религия
867
мира идей и разума. Рассматривая тенденции развития религии, необходимо учитывать и смену образа мыслей в Поздней республике, и новые способы восприятия и классификации человеческого опыта. Нельзя сказать, что эти факторы не зависели от материальной, экономической или политической жизни Рима, но и взятые сами по себе (просто для ясности) они позволяют пролить новый свет на новые явления в этом сложном и комплексном сплаве.
Одной из самых поразительных перемен в Поздней республике стал процесс «структурной дифференциации». По мере того как римское общество усложнялось, многие области деятельности, ранее не выделенные или, во всяком случае, распределенные среди широкого круга традиционных социальных и семейных групп, впервые обрели собственное лицо, особые правила и относительную самостоятельность от прочих занятий и институтов. Например, риторика стала особым искусством, которому обучали профессионалы, тогда как ранее это было просто умение, которое римляне осваивали дома или в ходе практики на форуме; точно так же и в сфере уголовного и гражданского права появились эксперты, сведущие в законах, чьи навыки существенно отличались от навыков адвокатов и ораторов67. Стадии и причины этих изменений трудно воссоздать со всей точностью; сложно также оценить, какую роль в них сыграло внутреннее развитие Рима, а какую — расширение римских контактов с миром греческих государств, отличавшимся сложной социальной структурой. Но последствия указанной нами дифференциации были вполне очевидны: к концу Республики в Риме появился целый ряд новых специализированных занятий, а вместе с ними — и новые специализированные дискурсы и области профессиональных знаний.
Частью этого процесса стало вычленение религии. Традиционно религия была глубоко укоренена в римских политических институтах: политическая элита контролировала и отношения людей с богами; сенат был центром и «религиозной», и «политической» власти. Во многих отношениях для конца Республики такая картина столь же верна, как и двумя или тремя веками ранее. Но при этом на протяжении по меньшей мере I в. до н. э. мы можем проследить первые этапы обособления религии как самостоятельной сферы человеческой деятельности, с собственными нормами и особым дискурсом. Этот процесс имел три наиболее ярких проявления: развитие скептицизма в отношении традиционной религиозной практики; появление специалистов в области религии, а также ее горячих приверженцев; установление более жестких границ между различными типами религиозного опыта: между дозволенным и недозволенным, между религией и магией.
Самые ранние труды, в которых подробно обоснована скептическая позиция в отношении давних традиций римской религии, это философские трактаты Цицерона. Особо следует отметить вторую книгу его диа¬
67 О риторике см.: Hopkins 1978 (А 53): 76—80; Rawson 1985 (Н 109): 143—155. О праве см. гл. 14, с. 616—617.
868
Часть Π
лога «О дивинации», написанную в 44—43 гг. до н. э., в которой содержатся пространные нападки на римское птицегадание, смысл знамений и общепринятое толкование оракулов. Всевозможными насмешками осыпаны легковерные люди, считающие, например, что кукареканье петухов перед сражением предвещает победу одной из сторон, а отсутствие сердца среди внутренностей жертвенного животного служит знаком надвигающейся катастрофы. «Рациональный» философ доказывал, что петухи кукарекают слишком часто, чтобы это могло хоть что-то означать, а животное просто физически неспособно жить без сердца. Столь безжалостному «логическому» рассмотрению были подвергнуты все без исключения элементы римской дивинации68.
Изложение таких аргументов в работе Цицерона еще не означает, что в римских высших классах преобладало глубоко скептическое мировоззрение. Даже в трактате «О дивинации» вторую книгу, наполненную всякого рода сомнениями, предваряет первая книга, уравновешивающая ее: в духе греческой стоической философии в ней изложены доводы в пользу дивинации, при том, что о взглядах самого Цицерона, «за» он или «против» этого обычая, читатель вряд ли может судить со всей однозначностью. Важнейшее значение подобных философских трактатов о римской религии состоит скорее в том, что в рассматриваемое время можно было выдвигать скептические аргументы относительно традиционных религиозных обычаев. Религия становилась самостоятельной сферой интересов и как таковая подвергалась критическому рассмотрению69.
Такая степень обособления религии в Риме наблюдается впервые лишь в эпоху Цицерона. Вызвана она была не только усложнением римского общества, служившим общим контекстом для разнообразных процессов структурной дифференциации, но и постепенным ознакомлением римлян с греческой философией. Конечно, их контакты с философскими традициями греческого мира начались значительно раньше середины I в. до н. э. Уже в начале П в. до н. э. Энний перевел на латинский язык сочинение Эвгемера о человеческом происхождении богов; для Π—I вв. до н. э. имеется множество свидетельств изложения греческих философских учений на латинском языке70. Но, насколько можно судить по сохранившимся источникам, лишь в эпоху Цицерона и его современников греческая теория до такой степени интегрировалась в римскую практику, что начала влиять на определение и выделение новых дискурсов, причем специфически римских, а не переведенных с греческого языка. Даже высказывания
68 См., напр.: Цицерон. О дивинации. П.36—37, 56.
69 Beard 1986 (Н 8); Schofield 1986 (Н 116). Скептицизм трактата Цицерона подчеркивается в работах: Linderski 1982 (Н 78); Momigliano 1987 (Н 87).
70 О римских знатоках философии см.: Цицерон. Брут. 94 (Спурий Муммий, середина П в. до н. э.); Цицерон. Брут. 114; Цицерон. 06ораторе. 1.227 (Публий Рутилий Руф, консул 105 г. до н. э.); Цицерон. Брут. 131 (Тит Альбуций, претор ок. 105 г. до н. э.). О латинских трактатах см.: Цицерон. Тускуланские беседы. IV.6 (сочинение Амафиния, начало I в. до н. э.?); Цицерон. Учение академиков. 1.5 (Рабирий); Цицерон. Письма к близким. XV. 16.1; 19.1 (Каций).
Глава 19. Религия
869
знаменитого Муция Сцеволы (консула 95 г. до н. э.) о государственной религии, приведенные св. Августином и вроде бы предвещавшие утонченную философию Цицерона, едва ли могут рассматриваться как ранний пример более поздней тенденции: недавно была обоснована гипотеза о том, что Августин цитировал не «настоящего» Сцеволу, а Сцеволу — персонажа диалога Варрона, современника Цицерона. Интеллектуальные рассуждения о религии как устойчивое явление возникли лишь в самом конце Республики71.
Углубляющееся обособление религии не сводилось к развитию негативного или скептического отношения к ней; выражалось оно и в том, что религия стала областью антикварных исследований, а также в том, что в Риме появились горячие поклонники религии или самозваные эксперты. В диалоге Цицерона «О дивинации» содержатся сведения о множестве потоков в процессе обособления римской государственной религии и об использовании греческих философских аргументов как для критики, так и для защиты ее традиций; другие, более фрагментарные, свидетельства даже более ярко высвечивают возрастание профессионализма и любознательности в сфере религиозных знаний, что предопределило самобытность религии Поздней республики.
Самым всеобъемлющим и прославленным антикварным трактатом по римской религии была энциклопедия Варрона в шестнадцати книгах о богах и религиозных установлениях Города («Божественные древности», «Antiquitates Rerum Divinarum»). Ее полный текст не дошел до нас, но сохранилось достаточно отрывков (в основном цитаты, приведенные Августином в трактате «О Граде Божьем»), чтобы составить некоторое представление о структуре и содержании данного трактата. Отчасти это была классификационная работа: она содержала пять главных разделов (жречества, священные места, праздники, ритуалы и боги), которые, в свою очередь, состояли из подразделов в зависимости от рода богов и институтов: например, святилища (sacella) рассматривались отдельно от храмов (aedes sacrae); боги, связанные непосредственно с человеком (скажем, покровительствующие рождению или браку), помещались в иную категорию, нежели боги, отвечающие за пищу или одежду. Но, кроме того (и даже в большей степени), «Древности» представляли собой компиляцион- ную работу, в которой были собраны сведения о традиционной римской религии, нередко трудные для понимания: объяснения, почему фламин Юпитера носит определенный головной убор; значение праздника Лупер- калий; различие в сферах ответственности бога Либера и богини Цереры72. Известны и другие антикварные, объяснительные сочинения, хотя от них сохранилось еще меньше, чем от труда Варрона, да и изначально они были не слишком объемными. Например, Граний Флакк посвятил Цезарю
71 Beard 1986 (Н 8): 36—41. О Муции Сцеволе см.: Августин. О Граде Божьем. IV.27, с комментарием: Cardauns 1960 (В 10). Другие исследователи считают, что Августин цитировал «подлинного» Сцеволу, см.: Rawson 1985 (Н 109): 299—300.
72 Cardauns 1976 (В 11). Сведения о древностях см., напр., фр. 51, 76, 260. См. также гл. 18 (Гриффин), с. 812—813.
870
Часть Π
сочинение «О молитвенных формулах» («De Indigitamentis»), то есть о формулах, которые использовали понтифики при обращении к городским богам; примерно в это же время некий Вераний написал несколько работ о ритуалах авгуров и понтификов. Если не ограничиваться Римом, то Авл Цецина, еще один современник Цицерона и Цезаря, потомок знатных этрусков, изложил на латинском языке этрусскую науку о молниях и их религиозном толковании73.
Подобные сочинения — феномен последних десятилетий Республики. Нельзя сказать, что до этого времени не создавалось никаких трудов, связанных с римской религией; коллегии понтификов и авгуров уже давно вели записи о ритуальных предписаниях и различных аспектах религиозного права74. Однако позднереспубликанские сочинения отличались от традиционных работ подобного рода, ибо являлись не внутрисистемными рассуждениями жрецов в рамках религии, а комментариями о религии с позиции внешнего наблюдателя. В отличие от так называемых «жреческих книг», данные сочинения существовали обособленно от традиционной религиозной практики, определяя религию как объект научного интереса. Причины такого развития довольно сложны. Сам Варрон представлял свой антикварный трактат как необходимую попытку спасти от забвения самые древние компоненты римской религиозной традиции, приводя довольно вычурное сравнение с Энеем, спасшим домашних богов из пожара Трои75. Йо отсюда еще не следует, что весь этот антикварианизм был просто реакцией на небрежение религией в Поздней республике. В конце концов, в любой исторический период найдутся основания считать, что древним знаниям грозит опасность забвения. Гораздо важнее тот факт, что и обоснование, которое Варрон дал своему начинанию, и сами его труды свидетельствуют о том, что отныне религия определялась как независимый и самостоятельный предмет, вне зависимости от того, нуждалась она в спасении или нет.
Некоторые авторы антикварных трактатов о римской или этрусской религии относятся к разряду увлеченных людей, для которых религия в той или иной форме стала предметом личного интереса. Примером может служить Аппий Клавдий Пульхр (консул 54 г. до н. э.). Мало того, что он был страстным защитником практики и принципов авгурской науки — столь горячим, что современники прозвали его Писидийцем в честь жителей Писидии, известных своей приверженностью птицегаданиям; он еще и построил здания в Элевсине и последовал совету, полученному от Дельфийского оракула76. Нигидий Фигул (претор 58 г. до н. э.) больше
73 О Гранин и Верании см.: GRF 429—435. О Цецине см.: Rawson 1985 (Н 109): 304—305.
74 Regeü 1878 (В 95); RegeU 1882 (В 95); Preibisch 1874 (В 89); Preibisch 1878 (В 89); Rohde 1936 (Н 111); Norden 1939 (Н 91). Анализ роли письменных трудов в римской религии см.: Gordon 1989 (Н 50); Beard 1991 (Η 10А).
75 Варрон. Божественные древности. Фр. 2а; Cardauns 1976 (В 11).
76 Об авгурской науке см.: Цицерон. О дивинации. 1.105. О Дельфийском оракуле см.: Валерий Максим. 1.8.10. Об Элевсине см.: ILLRP 401; Цицерон. Письма к Аттику. VI. 1.26, 6.2.
Глава 19. Религия
871
известен своим пристрастием к магии и астрологии, но он с энтузиазмом относился и к традиционной дивинации, как римской, так и этрусской77. Современные исследователи рассматривают подобных людей как закоренелых консерваторов, защитников древних традиций римской религии, с которыми полемизировали более радикальные религиозные скептики. С такой точкой зрения едва ли можно согласиться: и энтузиасты, и скептики стали новым явлением в эпоху, когда религия впервые начала восприниматься не просто как часть политической и социальной жизни общины, но и как самостоятельный предмет, к которому можно было выработать личное отношение. Энтузиазм и скептицизм были двумя сторонами одной и той же медали.
Интерес Нигидия Фигула к «магии» иллюстрирует еще одно направление институционализации религии в Поздней республике, а именно — установление всё более четких границ между различными типами религиозной деятельности, между подлинной религией и ее нелегитимными вариациями. Отчасти это членение отражало возрастание разнообразия религиозных практик и расширение спектра возможностей во взаимоотношениях человека с богами; но в равной или даже большей степени оно возникло потому, что римляне стали более тонко классифицировать и определять религиозное поведение. Многие практики, считавшиеся в Поздней республике магическими, несомненно, всегда были частью римской религиозной деятельности; новаторским стало лишь выделение магии в особую категорию78.
История развития в Риме понятия «магия» в целом неплохо известна. Имеется множество свидетельств о магических практиках (в современном западном понимании) и их запрете в эпоху Ранней и Средней республики. В трактате Катона о земледелии содержится хороший пример магического (с нашей точки зрения) заклинания для исцеления растяжений и переломов, а Законы ХП таблиц, принятые в V в. до н. э., включают знаменитую статью: «Пусть никто не заговаривает чужой урожай»79. Но современники Катона и Законов ХП таблиц не считали, что такие советы и запреты относятся к особой категории «магического». Заклинание исцеления Катон, видимо, ставил в один ряд с «научными» лекарствами, упомянутыми в его работе, а законодательный запрет на заговаривание урожая практически наверняка был направлен против результатов подобных действий (то есть ущерба для имущества), а не против методов причинения этого ущерба. Лишь в эпоху Поздней республики, и то лишь расплывчато, магия была определена как особая, извращенная разновидность религии.
п Две засвидетельствованные работы Нигидия были озаглавлены «О частном птице- гадании» («De augurio privato») и «О гадании по внутренностям» («De extis»), см. фр. 80, 81 (Swoboda). О магии и астрологии см.: Rawson 1985 (Н 109): 509—512.
78 Garosi R. Magia: Studi di storia delle religioni in memoria di Raffaela Garosi (ed. P. Xella. Rome, 1976); North 1980 (Η 95); полную библиографию см.: Le Glay 1976 (Η 75).
79 Катон. Земледелие. 160; Сенека Младший. О природе. IV.7.2; Плиний Старший. Естественная история. ХХУШ.4.17—18.
872
Часть Π
Самую четкую и самую раннюю римскую теорию магии, дошедшую до нас, предложил Плиний Старший (23/24 — 79 гг. до н. э.) в своей «Естественной истории» (прежде всего в кн. XXVTH и XXX). Он приводит последовательный рассказ о «происхождении» магических практик (которые возникли в Персии и распространились в Греции и Италии) и определяет магию, соотнося ее с наукой и религией. Например, он указывает на чудовищность магии (адепты которой приносят людей в жертву или пьют человеческую кровь) и на характерное для нее использование заклинаний, заговоров и заклятий. В целом считалось, что магия нарушает нормальные правила человеческого поведения и традиции римской религии80. Столь тщательного анализа магии не дал ни один позднереспубликанский автор, но некоторые сочинения середины I в. до н. э., по крайней мере, предвещают элементы обобщающего рассказа Плиния. Так, например, Катулл, желая уязвить Геллия, излюбленный объект своих нападок, утверждал, что от кровосмесительной связи Геллия с собственной матерью родится маг (magus), и намекал при этом на персидское происхождение магических практик81. Цицерон, оскорбляя своего противника Ватиния, обвинял того в различных чудовищных деяниях, которые Плиний характеризовал как «магические»: под прикрытием так называемого «пифагорейства» Ватиний якобы вызывал души мертвых и приносил мальчиков в жертву богам подземного мира82. Достаточно очевидно, что магия уже начала восприниматься как нечто чуждое традиционной римской религии.
Многие факторы повлияли на формирование категории «магия». Несомненно, определенную роль сыграло иноземное влияние. В частости, комфортные представления о том, что «истоки» магии лежат где-то за пределами цивилизованного мира (в варварской Персии), вполне могли восходить к греческим определениям магии и греческой антиперсидской полемике83. Но в целом, как и в случае с другими темами, рассмотренными в настоящем подразделе, в основе углублявшегося разграничения (в данном случае между дозволенным и недозволенным использованием религии) лежало усложнение римского общества и превращение религии в самостоятельную область человеческой деятельности.
2. Появление религиозных групп
Институционализация религии в Поздней республике проявлялась также в развитии «религиозных групп» — сообществ, создаваемых со специфически религиозной целью и часто поклонявшихся одному конкретному божеству или группе божеств. Культовые практики в группах, больших
80 См., напр.: Плиний Старший. Естественная история. XXVIII.2.4—5; 4.19—21; ХХХ.4.13, с комментарием: Koves-Zulauf 1978 (Н 69): 256—266.
81 Катулл. 90.
82 Цицерон. Против Ватиния. 14.
83 Плиний Старший. Естественная история. XXX.2.3—11, с учетом: Garosi. Magia (см. сноску 78 наст, гл.): 30—31.
Глава 19. Религия
873
или малых, не были в Риме новшеством: частные религиозные обряды традиционно отправлялся в семье; римские коллегии (торговые гильдии, погребальные товарищества или политические организации) часто имели «религиозное» измерение и особое божество-покровителя. Новшеством стало то, что в Поздней республике появились группы, главной и определяющей целью деятельности которых являлась религия.
Такие группы вполне могли восприниматься как угроза традиционным религиозным порядкам, сложившимся в Риме, преимущественно неразделенному сплаву религии и политики и, конкретнее, контролю городской политической элитой отношений людей с богами. Мало того что многие из этих групп поклонялись явно «иноземным» божествам (например, Дионису или Исиде), но само их существование подразумевало альтернативный центр религиозной власти в государстве — альтернативный по отношению к сенату и традиционным политическим лидерам. Этот оппозиционный оттенок, неявно присущий новым религиозным сообществам, вполне объясняет периодические попытки запретить их культы, изгнать их адептов из города или, по крайней мере, поставить их обряды под надзор.
Лучше всего засвидетельствованный пример появления религиозной группы и ее последующего подавления обнаруживается в истории вакхического культа в Италии в начале П в. до н. э.; в 186 г. до н. э. сенат издал постановление, строго регламентировавшее его дальнейшее отправление. К счастью, до нас дошел не только рассказ Ливия об обнаружении этого культа римскими властями, но и вырезанная в бронзе копия постановления сената, где во всех подробностях приводятся ограничения, наложенные на этот культ и его адептов. Данные источники дают нам сравнительно полное представление о природе вакхических групп и о кризисе, который они породили в Риме84. Историю религиозных групп во второй половине Π—I в. до н. э. и причины периодических репрессий против них можно проанализировать лишь в рамках модели, построенной на основе единственного хорошо засвидетельствованного инцидента.
Ливий приводит яркий рассказ о появлении в Италии этой конкретной формы вакхического культа и о его обнаружении сенатом. Он сообщает, что «оргиастические культы» были завезены из Греции сперва в Этрурию, а затем и в сам Рим, а вместе с ними распространилась и невоздержность, и всевозможные злодейства: лжесвидетельство, разврат и убийства85. Но, согласно Ливию, несмотря на столь тяжкие преступления, о происходящем римские власти узнали лишь после того, как по совету своей любовницы и своей тетки молодой кандидат в адепты выложил все сведения консулу Постумию. Тогда сенат решил прекратить отправление данного культа и разрушить места поклонения Вакху, продолжать же отправление
84 ILLRP 51; Ливий. XXXIX.8-19. См.: Gallini 1970 (Н 46): 11-96; Turcan 1972 (Н 128); North 1979 (Н 94). Археологические свидетельства о характере вакхических святилищ и об их разрушении см.: Paülier 1976 (Н 98): 739—742; Paillier 1983 (Н 100).
85 Ливий. XXXLX.8.5—8.
874
Часть Π
любой формы вакхического культа можно было лишь с дозволения сената, которое выдавалось на жестких условиях.
Кризис, связанный с Вакханалиями, не сводился лишь к распространению распутства и криминала, как на первый взгляд предполагает рассказ Ливия. Если зловещие подробности, сохранившиеся у историка, отражают, несомненно, выдвинутые сенаторами обоснования для контроля за культом, то тщательный анализ рассказа Ливия вместе с дошедшим до нас постановлением сената позволяет выявить более сложную, глубинную проблему. В обоих источниках засвидетельствован очень важный факт: сенат не попытался полностью искоренить этот культ, что стало бы естественной реакцией на преступную деятельность, которую подчеркивает Ливий. Изданное сенатом постановление имело целью уничтожение независимой групповой идентичности адептов культа: для этого предусматривалось разрушение культовых центров, ограничение числа участников любого обряда, запрет на владение общими средствами, отмена должностной иерархии в рамках культа. Судя по этим нормам, по меньшей мере часть сенаторов видела опасность культа в том, что его отправляла альтернативная религиозная группа, неподконтрольная традиционным религиозным и политическим властям государства. Обособленная религиозная группа, требовавшая символической инициации, давала своим адептам новый фокус лояльности и ощущение принадлежности к независимой общности; именно это сенат и попытался ограничить86.
Такие же трения между новыми, специфически религиозными группами и традиционными религиозными и политическими авторитетами лежали в основе последующих попыток римских властей поставить под контроль культ Исиды и практику астрологии. Эти случаи не так хорошо засвидетельствованы, как кризис, связанный с культом Вакха, и мы практически ничего не можем сказать о конкретных обстоятельствах, обусловивших изгнание из Рима «халдеев» (астрологов) в 139 г. до н. э. или неоднократное разрушение святилищ Исиды, вероятно, в 59, 58, 53, 50 и 48 гг. до н. э.87. Но в общих чертах можно догадаться, в чем состояла проблема. Культ Исиды, с его независимым жречеством и центральным значением веры в персонализированную и благосклонную богиню, как и вакхический культ, мог породить потенциально опасное альтернативное сообщество, неподконтрольное традиционной политической элите88. Также и астрология, предполагавшая специфическую форму религиозного знания, которым владеют специалисты, не входящие в традиционные городские жреческие коллегии, неизбежно превращалась в особый и, ве¬
86 Gallini 1970 (Н 46): 86-90; North 1979 (Н 94): 90-98.
87 Об астрологах см.: Валерий Максим. 1.3.3; Ливий. Периохи. LTV; Cramer 1951 (Η 28): 14—17 и сноска 78 наст. гл. О святилищах Исиды см. высказывание Варрона в: Тертуллиан. К язычникам. 1.10.17—18; Дион Кассий. XL.47.3—4; XLII.26.2; Валерий Максим. 1.3.4; Malaise 1972 (Н 80): 362-377.
88 Способность культа Исиды к трансформации в самостоятельный фокус лояльности иллюстрирует рассказ о нем в «Метаморфозах» Апулея (напр.: Х1.21—25).
Глава 19. Религия
875
роятно, конкурирующий центр религиозной власти. Правда, она не предлагала социальной альтернативы, то есть группового членства, но представляла иную форму религиозного обособления, угрожавшую нерасчле- ненному сплаву традиционной римской практики.
Отношение римского сената и сенаторов ко всем этим проблемам было непростым. Сказать, что сенат решительно противился тому, что мы воспринимаем как обособление религии, было бы чрезмерным упрощением. В конце концов, сенаторы и сами испытывали на себе эту тенденцию, и, как мы видели в предыдущем подразделе, некоторые из них могут служить классическими примерами, иллюстрирующими обособление религии, то есть развитие специфически религиозного дискурса или религиозного энтузиазма. Упрощением было бы и утверждение, что существовала лишь одна какая-то причина, побуждавшая сенаторов бороться с новыми культами и религиозными практиками. Сенаторов, искренне опасавшихся преступлений вакхантов или искренне протестовавших против абсурдности астрологии, несомненно, было не меньше, чем тех, кто видел опасность в становлении независимых религиозных групп или в формировании новых видов религиозных знаний. Тем не менее внутренняя логика периодического регулирования или подавления новых культов и религиозных групп в Поздней республике определялась прежде всего столкновением традиционных и обособленных форм религиозной организации и опыта.
VIII. Римская религия и внешний мир
Главным фактором, определившим изменения в характере религии Поздней республики, стала римская имперская экспансия. Почти в каждом разделе настоящей главы затрагивались религиозные последствия расширения Римской империи: отмирание ритуала объявления войны, традиционно проводившегося фециалами; религиозные почести, предоставляемые римским завоевателям на греческом Востоке; воздействие ширившихся контактов с греческими интеллектуальными течениями на развитие религиозного дискурса в Риме. В настоящем, последнем, подразделе рассматриваются еще три аспекта религиозных изменений в контексте расширения Римской империи: импорт «иноземных» культов в Риме, экспорт традиционных римских религиозных порядков во внешний мир и развитие иноземных представлений о римской религии, по мере того как чужестранцы, особенно греки, начали осваивать религиозные практики своих завоевателей.
В последнем веке Республики в Риме стали во множестве появляться иноземные божества и культы. Новизну этого явления не следует преувеличивать: римская религия, как и большинство политеистических систем, всегда импортировала и включала в себя внешние элементы. Столь значимые для римского пантеона боги, как Аполлон и Кастор с Поллуксом,
876
Часть Π
в начале V в. до н. э. были заимствованы из греческого мира89, а Сивил- лины оракулы, хранившиеся на Капитолии, согласно римской легенде, еще с правления последнего царя Тарквиния, были написаны по-гречески и, несомненно, происходили из неримского источника90. Отличительной чертой Поздней республики стало не столько количество заимствований (если на то пошло, в Шв. до н.э. их было больше), сколько то обстоятельство, что они прибывали издалека и не так глубоко инкорпорировались в традиционные религиозные порядки города.
Переломный момент наступил еще в 205 г. до н. э., когда после консультации с Сивиллиными оракулами сенат решил перевезти в Рим культ Кибелы и даже культовое изображение богини (большой черный камень) из ее храма в Пессинунте в Малой Азии91. В каком-то смысле это предприятие можно поставить в один ряд с учреждением во второй половине Ш в. до н. э. серии других новых культов, стимулом для чего послужила потребность римлян в божественной поддержке в ходе кризисов Второй Пунической войны. Но в некоторых отношениях заимствование культа Кибелы (или Великой Матери (Magna Mater), как ее обычно называли) отличалось от того, что случалось ранее. Во-первых, эта богиня происходила не из центральных областей греко-римского мира, что свидетельствует о том, насколько далеко распространилось влияние римлян и расширились их познания. Во-вторых, хотя инициатива учреждения этого культа в Риме принадлежала сенату, последний не позволил римским гражданам участвовать в его оргиастических ритуалах. Культ Кибелы оставался явственно «иноземным» элементом религиозной жизни Рима92.
В последние годы Республики религиозные заимствования в целом следовали образцу, заданному культом Кибелы. Новые божества (например, Исида и Сер апис или Митра, который, вероятно, появился в Италии еще в эпоху Республики) происходили из более отдаленных стран (Египет и Персия) и, хотя ко времени прибытия в Италию эти божества уже в какой- то мере эллинизировались, однако, по-прежнему воспринимались как иноземные и не вписывались в традиционный римский культ93. Эту перемену отчасти следует связывать с тенденцией к дифференциации религиозных групп, рассмотренной в предыдущем разделе, но отчасти она обусловлена
89 О Касторе и Поллуксе см.: Ливий. П.20.12; Weinstock 1960 (В 257): 112.14; Castagnoli 1959 (В 268); Castagnoli 1975 (В 269). Об Аполлоне см.: Ливий. IV.25.3-4; Gage 1955 (Н 44): 19-68; Simon 1978 (Н 118).
90 Авл Геллий. Аттические ночи. 1.19; Дионисий Галикарнасский. Римские древности. IV.62. О роли Сивиллиных книг при внедрении нововведений см.: North 1976 (Н 93): 9; в целом см.: Parke 1988 (А 89).
91 Ливий. XXIX. 10.4- 11.8; 14.5-14.
92 «Иноземные» элементы наиболее очевидны в визуальных свидетельствах об этом культе; см.: Vermaseren 1977 (Н 129): прежде всего вкл. 44, 64—68. О двойственном отношении римских властей к полноценному участию римлян в культе Кибелы и о запрете для римских граждан становиться жрецами-евнухами Кибелы см.: Вошег 1964 (Н 14).
93 Обзор и анализ ранних этапов развития митраизма см.: Gordon 1977/1978 (В 166); Beck 1984 (Н И): 2002—2115; Плутарх. Помпей. 24.7. О египетских культах см.: Malaise 1972 (Н 80); Dunand 1980 (Н 36); СоагеШ 1984 (С 184).
Глава 19. Религия
877
и продолжением территориальной экспансии Рима. Даже традиционный римский политеизм, при всей его открытости, не мог так просто включить в себя всё более чуждые религиозные порядки, с которыми римляне сталкивались за морем или в своем всё более многонациональном городе. В Поздней республике понятие «религия в Риме» стало отличаться от понятия «римская религия».
Религиозное взаимодействие Рима с окружающим миром велось и в противоположном направлении. Если многообразные культуры Римской империи и внешних областей привносили новые элементы в религию города Рима, то и Римская держава, в свою очередь, оказывала влияние на религию римских земель в Италии и за морем. В этом смысле в эпоху Поздней республики «римскую» религию без труда можно было обнаружить не только в самом городе Риме.
Самым наглядным примером прямого экспорта римских религиозных порядков может служить учреждение и регулирование религиозной практики в колониях римских граждан, основанных в Италии, а иногда (по крайней мере, со времен Гракхов) и на территории провинций, для расселения ветеранов и бедняков. Традиционно выведение этих колоний, как и всех новых римских поселений, сопровождалось религиозным ритуалом, который, как считалось, воспроизводил обряд, проведенный Ромулом при основании Рима; а религиозное устроение этих поселений было смоделировано по образцу метрополии. Это хорошо видно из дошедшего до нас устава колонии Юлия Цезаря в Урсоне на юге Испании. В нескольких статьях устанавливаются правила назначения и службы жрецов общины — понтификов и авгуров:
И да будет священно и неприкосновенно освобождение от военной службы и общественных повинностей тех понтификов и авгуров, которые будут в каждой коллегии, и их детей, как у римского понггифика, в настоящем и будущем, и да будет вся их военная служба считаться пройденной. Относительно ауспиций и о том, что касается этого дела, да будут юрисдикция и суждение принадлежать авгурам. Пусть будут у этих понтификов и авгуров власть и право иметь претексты на всех общественных играх, которые устраивают магистраты, и когда эти понтифики и авгуры совершают общественные священнодействия колонии Генетивы Юлии94, и пусть будут у этих понтификов и авгуров власть и право смотреть игры и гладиаторские бои на местах декурионов95.
Следует особо отметить, что в колониальном уставе упоминается религиозная практика самого Рима. Речь идет не о смутном и случайном сходстве между религиями колонии и метрополии. Основание новой общины римских граждан, будь то в Италии или в более далеких землях, предполагало систематическое и осознанное воспроизводство религиозных порядков города Рима.
Более того, распространение римской власти побуждало провинциальные общины — при прямом поощрении Рима или без оного — внедрять
94 То есть Урсона.
95 FIRA I: 21.66 (с. 181); Hardy 1912 (В 169): 29. [Перев. ЕМ. Штаермащ с правкой.)
878
Часть Π
определенные религиозные порядки, символизировавшие прямое признание римского господства или даже заимствованные непосредственно из римской религии. Наиболее известная из подобных тенденций, засвидетельствованная с начала П в. до н. э., это распространение по всему греческому миру культов обожествленной персонификации Рима — «богини Ромы», или, например, «римского народа», или «Рима и римских благодетелей». На Востоке несколько общин посвятили храмы Риму: в частности, Смирна (уже в 195 г. до н. э.), Алабанда в Карии и Милет. Во многих других общинах имелись жрецы богини Ромы, проводились праздники и жертвоприношения в ее честь. Так, например, в особенно показательной надписи П в. до н. э. из Милета подробно перечисляются жертвы, которые следовало приносить Роме и римскому народу, причем жрецы или магистраты должны были это делать не только по особым случаям, но даже регулярные политические события городской жизни (такие как вступление в должность магистратов) следовало отмечать жертвоприношениями персонификациям Рима и римского народа96. В самом Риме такого культа Ромы не существовало до правления Адриана97, так что здесь речь не идет о греческом подражании римским обычаям: эти культы, как и обожествление отдельных римских наместников или полководцев, являются, скорее, частью процесса, в ходе которого восточные города инкорпорировали римскую власть в собственный религиозный, культурный и символический мир; религиозная репрезентация Рима развивалась параллельно римскому господству.
Однако другие тенденции, напротив, свидетельствуют о том, что города греческого мира также заимствовали элементы традиционного римского символизма и даже выказывали лояльность Риму в религиозном центре самого Рима. Надпись с острова Хиоса дает особенно наглядный, хоть и исключительный, пример римского символизма в греческом контексте. В ней засвидетельствовано учреждение (вероятно, в начале П в. до н. э.) процессии, жертвоприношения и игр в честь Ромы; но наряду с этими достаточно стандартными элементами в ней упоминается также посвященная Роме скульптура с изображением волчицы, выкармливающей Ромула и Рема, — классическая сцена римского мифа в греческом культовом контексте98. В самом городе Риме серия надписей с Капитолийского холма, в которых засвидетельствованы посвящения, сделанные различными восточными общинами в благодарность за римские благодеяния или помощь, показывает нам еще одну грань греческой ассимиляции римских культурных форм. Оригинальные тексты (некоторые из них дошли до наших дней лишь в виде повторных посвящений сулланского времени или копий
96 О Смирне см.: Тацит. Анналы. IV.56. Об Алабанде см.: Ливий. Х1ЛТГ.6.5. О Милете см.: Sokolowski 1969 (В 245): 49. В целом см.: Melior 1975 (Н 82); Fayer 1976 (Н 38); Price 1984 (Н 103).
97 Melior 1975 ( Н 82): 201; BeaujeuJ. La religion romaine ä Fapogee de F empire (Paris, 1955): 128-136.
98 Bull. ep. 1980: 353; Moretti 1980 (H 88); Derow, Forrest 1982 (B 148) — здесь обоснована датировка надписи ок. 190—188 гг. до н. э.
Глава 19. Религия
879
в рукописях эпохи Возрождения) датировались началом П — серединой I в. до н. э.; в них упоминаются посвящение ликийцами статуи Ромы Юпитеру Капитолийскому и римскому народу, а также подношения Митридата Филопатора (середина П в. до н. э.) и Ариобарзана Каппадокийского (начало I в. до н. э.), вероятно, тоже посвященные Капитолийскому богу". Важнейшее значение этих текстов, как и хиосского посвящения, состоит в том, что они служат свидетельством постепенной «романизации» религии в городах греческого мира. По мере расширения Римской державы римские религиозные порядки начинали чтить жители всё более отдаленных земель, а культовые места в самом городе Риме стали рассматриваться восточными общинами как надлежащее место для их собственных религиозных посвящений.
Имперская экспансия Рима повлияла не только на религиозную практику, но и на религиозную мысль. В предыдущих разделах мы уже отмечали, как расширение контактов с греческой философией повлияло на интеллектуальные воззрения римлян, на их собственную религиозную систему. Конечно, такие контакты имели и оборотную сторону: греческие интеллектуалы, вынужденно ознакомившись с римским миром, впервые начали формулировать собственные взгляды на римскую религию и культовую практику. Начиная со П в. до н. э. в нескольких греческих сочинениях появился анализ характера традиционной римской религии; это важные свидетельства о ней современников, но не коренных адептов, а чужестранцев.
Самый ранний и самый знаменитый из дошедших до нас греческих рассказов о римской религии, написанных в эпоху Республики, принадлежит перу Полибия. Он был уроженцем Ахайи, но жил в Риме (сперва в качестве заложника, затем — по собственной воле) на протяжении долгого времени: со 170 г. до н. э. и до своей смерти в последние годы П в. до н. э.; в этот период он написал историю восхождения Рима к власти над Средиземноморьем. В ней содержалось рассмотрение римских политических институтов и краткий (по крайней мере, в дошедшем до нас тексте) обзор римской религии. Анализ Полибия остроумен и оригинален. По мнению автора, римляне превосходили все прочие народы своей религиозностью, которой была необычайно глубоко проникнута вся их государственная и частная жизнь; но, словно для того, чтобы поставить под сомнение эту кажущуюся набожность римлян, Полибий утверждал, что главенствующее значение религии определялось потребностью римской элиты в контроле над массами. Занимая философскую позицию, известную в Греции по меньшей мере с V в. до н. э. и имеющую очень долгую историю, Полибий доказывал, что, «поскольку всякая толпа легкомысленна и преисполнена нечестивых вожделений, неразумных стремлений, духа насилия, то только и остается обуздывать ее таинственными ужасами и 9999 Республиканские тексты см.: ILLRP 174—181. Полный текст и обсуждение см.: Degrassi 1951—1952 (Н 50). Обзор споров о датировке и типе памятника, с которого происходят эти тексты, см.: Melior 1975 (Н 82): 203—206.
880
Часть Π
грозными зрелищами»100. Для Полибия римская религия — это нечто вроде «опиума для народа».
Этот анализ одновременно и более, и менее значим, чем обычно считают современные исследователи. Он менее значим, поскольку не является «объективным» анализом состоятельности римской религиозной практики (хотя часто считается таковым). Его нельзя использовать как решающий аргумент, опровергающий религиозную «искренность» римской элиты, ибо, в конечном счете, Полибиев взгляд — это не более, чем личное, основанное на здравом смысле мнение одного человека, причем человека, интеллектуальные корни которого сформированы в чуждой Риму религиозной и культурной среде. Значение этого анализа состоит, скорее, в том, что он дает нам еще одно свидетельство о возрастающей сложности римской религиозной мысли в Поздней республике. В этот период чаще, чем когда-либо раньше, разные люди вырабатывали собственные взгляды на религию, и эти их взгляды были весьма разнообразны. Разумеется, все эти воззрения влияли друг на друга: вне зависимости от того, соглашались сенаторы с Полибием или нет, мало кто из них мог прочесть его рассказ о римской традиционной религиозной практике и не испытать на себе его влияния, не обдумать те установки, которые ранее не приходили им в голову. Если на каком-то уровне религию можно рассматривать как сумму допустимых религиозных установок, то в Поздней республике римская религия просто-напросто расширялась.
100 Полибий. VL56.6—15. [Перев. Ф.Г. Мищенко), с комментарием: Walbank 1957—1969 (В 121): 741-743; Pedech 1965 (Н 101); Dome 1974 (В 28).
Эпилог
Дж.-А. Крук,
9. Линтотт, Э. Роусон
ПАДЕНИЕ
РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В начале настоящего тома вниманию читателей был предложен краткий обзор мнений, бытовавших в разные века, о причинах падения Республики; теперь, ознакомившись с фактами, читатели могут составить собственное мнение по этому вопросу. Однако они вправе ожидать, что ответственные редакторы настоящего тома изложат и свою позицию. Как подвести итоги этого смутного времени1 и, прежде всего, существуют ли какие-либо интегральные понятия, позволяющие связать политический и военный нарратив первой части с последующими главами о праве и обществе, экономике, религии и идеях?
Здесь можно проследить некоторые параллели с дебатами по поводу падения Римской империи. В нашем случае неплохой отправной точкой может послужить бесхитростный вопрос: «Республика пришла в упадок или была уничтожена?» И всё же вопрос этот придется несколько переформулировать и дать на него весьма изощренный ответ. Итак: пришло ли политическое устройство, известное нам как Римская республика, в упадок или же было разрушено? Крылись ли причины его падения в нем самом или же оно могло пережить перемены, происходившие в римском обществе, не скажись на нем трагически честолюбие отдельных династов (прежде всего Помпея и Цезаря, Антония и Октавиана)?
Как опыт двадцати столетий, так и совершенствование современных исторических методов не позволяют нам удовольствоваться стандартным ответом, который давали на этот вопрос сами римляне, считавшие, что политический порядок разрушился вследствие морального упадка, вызванного ростом богатства, жадности и стремления к роскоши2. Перемены
1 Такое подведение итогов, правда, в более крупных масштабах, чем в настоящем эпилоге, см.: Brunt 1988 (А 19): гл. 1.
2 История знает достаточно обществ, в которых богатство и прагматизм сопутствовали не упадку, а расцвету.
882
Часть Π
и в самом деле затронули моральные установки римлян, как и все прочие сферы их жизни, но перемены происходят во все времена и вовсе не обязательно являются симптомами некой болезни правящего класса. И едва ли сегодня можно утверждать, что в этом кризисе в любом случае погибла лишь коррумпированная олигархия, которую никто не оплакивал. В новейших исследованиях республиканской конституции подчеркиваются ее подлинно демократические черты;3 современные ученые настаивают на том, что в конечном счете Полибий представил нам верную картину и в Риме действительно существовала «смешанная конституция», а правящий класс, в каждом поколении зависевший от избирателей, не мог обращаться с государством (res publica) словно со своей частной забавой. Поэтому в той мере, в какой эти выводы верны, мы не можем объяснять падение Республики ни случайным, но гибельным исходом партии в политический покер, разыгранной между первенствующими мужами (principes viri), ни падением некоего индекса Доу-Джонса, измеряющего нравственность, но должны заняться поиском структурных изъянов государственного устройства. И если в Республике действительно наличествовали подлинные элементы свободы и демократии, то следует задаться вопросом: какие именно особенности институтов, гарантировавших эти ценности, сделали их уязвимыми перед лицом внутри- и внешнеполитических трудностей, порожденных ростом богатства и могущества державы, а также перед лицом понятийных трудностей, вызванных ломкой узких рамок римских представлений.
Сами античные авторы, как мы уже видели, выделяли в истории Поздней республики две главные темы. Нагляднее всего эти темы выражены в «Эпитоме римской истории» Флора: одна книга — о внешних завоеваниях, другая — о гражданских междоусобицах. Да и Аппиан в продолжение своих монографий о покорении Римом иноземных держав написал пять книг «Гражданских войн». Предполагаемая этими авторами последовательность на самом деле не вполне исторична. За полвека до Союзнической войны римская экспансия замедлилась по сравнению с решительным наступлением в эпоху Средней республики, однако не прекратилась полностью. Затем последовал перерыв на десять лет гражданских и псевдогр ажданских войн, но в последние двадцать лет Республики на смену этому отступлению пришли впечатляющие новые завоевания, плоды которых остались почти нетронутыми в ходе дальнейших гражданских войн 40-х годов I в. до н. э.
Победы Рима во внешних войнах принесли богатство как государству, так и отдельным гражданам — полководцам и солдатам, финансистам и предпринимателям. Они открыли римлянам и италийцам новые возможности для торговли и приобретения недвижимости за морем. В то же время они служили естественной формой самореализации для самого, пожалуй, милитаристского общества в античности: они удовлетворяли жажду славы (gloria), которая для аристократии являлась высшей ценностью.
3 См.: Nicolet 1974 (А 81); Nicolet 1976 (А 82); Millar 1984 (А 75); Millar 1986 (С 113); Lintott 1987 (А 65); Brunt 1988 (А 19): гл. 1, 6-9.
Эпилог. Падение Римской республики
883
Вместе с тем завоевания подпитывали внутреннюю борьбу, а империя предъявляла к римлянам новые, обременительные требования. Если войска одерживали победы, то в Рим поступало богатство: сперва — в качестве добычи, затем — в качестве регулярных податей. Но комплектовать необходимое количество легионов римскими гражданами становилось всё труднее: возрастал дисбаланс между военной активностью и ресурсами. Традиционно легионерами становились сельские, а не городские жители, и вокруг земли разгорелась жаркая борьба: богатые желали надежно инвестировать в земельные активы свои капиталы, являвшиеся преимущественно доходами, извлеченными на территории империи, крестьянство же стремилось сохранить свои традиционные земельные участки, что было необходимым условием наличия достаточного числа призывников321. Вот почему в центре конфликта так часто находились аграрные законы; и некоторые выдающиеся граждане сочли, что и их собственному политическому положению, и государству в целом пойдет на пользу, если они поддержат аграрные реформы. Но что же случилось далее, когда доступная земля закончилась? Не стоит утверждать, что главной причиной гражданских войн была потребность сельских призывников в земле, однако попытки удовлетворить эту потребность регулярно вызывали политические кризисы, и в конечном итоге в ходе гражданских войн, которыми заканчивается наш рассказ, войска уже прямо начали вести с властью торговлю за землю. А чтобы раздать землю в Италии, не прибегая к ее покупке у местного населения, требовалось отобрать ее у него.
Расширение империи не только давало первенствующим гражданам новые возможности, но и обременяло их и вводило в соблазн. По мере расширения горизонтов Римской державы их устремления росли: и Помпея, и Цезаря манил призрак Александра Великого. Новые длительные командования, предоставленные народным собранием или сенатом и нередко включавшие обширные и удаленные области, благоприятствовали независимым предприятиям полководцев, а иногда их даже требовали: обладателям империя недоставало терпения, чтобы консультироваться с правительством в Риме, когда они видели необходимость в незамедлительных и решительных действиях. Приобретенные таким образом привычки подталкивали полководцев к поиску легких путей во внутриполитической сфере, чтобы добиться целей, которые они считали легитимными. Порой они прибегали к насилию и подкупу, но это еще не означает, что они непременно желали стать диктаторами.
В римском обществе существовали глубокие различия между рабами и свободными, богатыми и бедными, гражданами и негражданами; но ни одно из таких различий не могло стать непосредственной причиной падения Республики. Восстания рабов, происходившие в рассматриваемый период, оказались довольно разрушительными, но в долгосрочной перспективе не расшатали римское общество, как и восстание селян, связанное в источниках с заговором Каталины. Во время конфликта с италий¬
За Поскольку в армию призывались только граждане, обладавшие определенным имущественным цензом. — О.Л.
884
Часть Π
скими союзниками (socii) Рим оказался на грани гибели, однако же уцелел; впрочем, закончился этот конфликт предоставлением гражданства союзникам, что послужило одной из важных, хоть и косвенных, причин краха Республики. Перемены происходили медленно; сменилось поколение, прежде чем италийцы достигли равенства с римлянами в объединенном Римском государстве. Но эволюция уже началась и повлекла за собой по меньшей мере одно существенное последствие: римский народ (populus Romanus) стал гораздо более многочисленным и обширным коллективом, нежели раньше, и население города Рима более не могло считаться его главным элементом с правом решающего голоса. С одной стороны, далеко не все заботы прежнего, ограниченного, римского народа представляли интерес для нового, обширного, гражданского коллектива, с другой — городское население, значительную часть которого составляли вольноотпущенники, презираемые высшими социальными классами, постепенно образовало самостоятельную политическую общность (разумеется, не в конституционном смысле слова), опять-таки при поддержке заинтересованных в этом политиков.
В эпоху Поздней республики популяры побуждали сельских и городских бедняков (но преимущественно последних, что и имело наиболее серьезные последствия) отстаивать собственные права и криком, голосованиями и, в конце концов, силой поддерживать мероприятия, отвечавшие их интересам. Кульминацией этого процесса стала анархия 50-х годов I в. до н. э., когда вследствие разгула насилия, отягченного подкупом, город порой становился неуправляемым, и магистраты не могли исполнять базовые конституционные функции, например, проведение выборов. Все античные демократии и олигархии (за исключением лишь Афин в определенный период) страдали от одного и того же структурного дефекта: крупные политические конфликты в них можно было разрешать лишь посредством гражданских столкновений (στάσις). Римляне же сверх того в рамках своего права и политики допускали использование силы (например, для самозащиты, и порой символической силы, а не реальной), так что граница между нормальным политическим конфликтом и насилием (vis) была расплывчатой. Вместе с тем, несмотря на терпимость римского общества к разрешению конфликтов силовым путем, в нем сильна была традиционная дисциплина и почтение к авторитету (auctoritas) первенствующих граждан (principes viri); но в условиях, когда сами эти первенствующие граждане боролись между собой и охотно поддерживали насилие на форуме и в народном собрании, эти традиционные механизмы теряли эффективность4.
Однако упомянутый фактор насилия еще не доказывает, что вся римская правящая элита прогнила, а история Поздней республики — это всего лишь борьба за власть друг с другом горстки эгоистичных политических боссов. Следует признать, что в крупных конфликтах по поводу аграрных
4 См.: Lintott 1968 (А 62); Nippel 1988 (А 85) — в некоторых отношениях взгляды этих авторов противоположны.
Эпилог. Падение Римской республики
885
законов, гражданских прав, вымогательств (repetundae) и продления или расширения военной власти серьезные люди пытались найти и воплотить в жизнь различные решения проблем своего времени. И само существование конфликта между радикалами и консерваторами, все эти страсти, судебные обвинения, демонстрации, запреты и обструкции свидетельствуют о том, что римская общественная жизнь была здоровой, а не больной. Как любые политики во все времена, первенствующие граждане Поздней республики руководствовались личным честолюбием; но это не означает, что они были чужды гражданским чувствам либо политическим идеям. Сатурнин и Клодий имели свои стратегические цели, свои представления о государстве (species reipublicae), пусть даже значительное место в этих представлениях занимали они сами; то же самое относится и к их против- никам-оптиматам, пытавшимся сохранить порядок и статус-кво в условиях народной агитации. Даже Сулла, предвестник катастрофы, доблестно отказался от диктатуры.
Сулла попытался диагностировать структурные слабости Римского государства и определил их как чрезмерное могущество слишком влиятельных персон по сравнению с сенатом и чересчур широкие права трибунов, позволявшие им подстрекать сопротивление (которое ввиду отсутствия всякого представления о ценности оппозиции рассматривалось, разумеется, как смута (στάσις)). По меньшей мере первая часть этого диагноза была верна, но предложенные Суллой лекарства оказались слишком слабы, поскольку его собственная карьера служила примером его честолюбивым преемникам: требовалось каким-то образом деполитизировать армию. Что же касается трибуната, то меры, предпринятые против него Суллой, демонстрируют еще одну общую слабость римской политической системы: римляне (как и все античные народы) представляли себе политические перемены к лучшему исключительно как перевод стрелок часов назад, как возвращение к некоему более совершенному положению вещей, якобы имевшему место в прошлом. Во всех сферах римской жизни происходили быстрые перемены, и надо было пережить эти перемены, а не мечтать об избавлении от них; требовалось адаптироваться к новшествам, а не просто объявлять их вне закона. Мы никогда не сможем сказать, могла ли Республика реформировать свои политические институты и при этом остаться Республикой, но проблема в том, что она и не предпринимала сколько-нибудь серьезных попыток измениться.
Последний век Республики был эпохой перемен, но ни в коем случае не упадка. На страницах настоящего тома был решительно опровергнут стереотип (разделяемый и многими римлянами), согласно которому мерилом предполагаемого упадка служило небрежение к традиционной религии. Сегодня можно уверенно говорить о его ошибочности как в отношении фактов, так и в отношении их интерпретаций. В религиозной сфере, несомненно, происходили и перемены, и столкновения между старыми и новыми представлениями, структурно связанные, разумеется, с новыми политическими трениями. Эти процессы не знаменовали упадка, но, несомненно, увеличивали нестабильность.
886
Часть Π
Что же касается экономической, культурной и интеллектуальной сферы, то в рассматриваемый период в этих областях наблюдались немалые достижения и быстрое развитие. Возрастание богатства политического класса, обусловленное в большой степени расширением империи, стимулировало экономический спрос и культурные запросы. Рост численности рабов и экономическое давление на крестьянство в сельских областях Италии подпитывали глубокие социальные конфликты, хотя, как уже говорилось выше, ни то, ни другое не являлось непосредственной причиной падения Республики. Более прямое воздействие на ее разрушение оказала, пожалуй, другая серьезная проблема этой эпохи — долговая проблема, затронувшая все общественные слои, хоть и каждый по-своему. В частности, круговорот заимствования и кредитования под залог земли в правящем классе с целью поддержания высокого уровня жизни приносил политикам престиж в глазах избирателей и позволял им финансировать политические манипуляции, однако не только вынуждал их жертвовать политической независимостью, но и служил мощным дестабилизирующим фактором в моменты политических кризисов.
С другой стороны, традиционная состязательность (ambitio) высшего класса, разрушительный потенциал которой всё увеличивался по мере возрастания ресурсов, имела и свою положительную сторону: первенствующие граждане покровительствовали искусствам, философии, науке и литературе. В культурной сфере повсюду обнаруживалось стремление сравниться с греческими достижениями, с которыми римляне теперь познакомились. И в последние двадцать лет Республики римляне начали ощущать, что в некоторых областях способны соперничать со своими интеллектуальными наставниками. Читатели Цицерона, Катулла, Саллюстия и Лукреция вполне могут с этим согласиться, и следует помнить, что знаменитые авторы эпохи Августа, за исключением Овидия, сформировались до начала правления Августа и что существовали различные салоны патроната — как до появления кружка Мецената, так и наряду с ним.
Еще одним порождением имперских завоеваний и честолюбия знати стала общественная архитектура; причем с городским комфортом и великолепием Рим познакомился не только в самой Греции, но и благодаря посредству италийских союзников: в эти годы благосостояние союзников возрастало, строились прекрасно отделанные, монументальные городские центры с архитектурными комплексами форумов, каменными театрами и амфитеатрами.
В истории нередко случалось, что искусства и науки процветали в тяжелые времена. В Риме так обстояло дело с правом. Уголовное право, начинавшееся с очень скудных истоков, разрасталось по мере того, как правительство пыталось — не всегда успешно — поддерживать разрушавшийся, как представлялось, социальный порядок; а гражданское право переживало наиболее плодотворный период своего развития, реагируя на социальные потребности и формируя свою внутреннюю логику и последовательность.
Эпилог. Падение Римской республики
887
Но все эти культурные тенденции (в том числе профессионализация права) порождали в Поздней республике тревогу. Нравы и обычаи предков (mos maiorum) подвергались постоянным атакам со всех направлений, и слишком много вех и опор было сметено этим потоком5. Исследователи не раз высказывали мнение, что Август не являлся архитектором «Римской революции» и даже не знаменовал ее апогей; напротив, как только он достиг единоличной власти, то положил конец этой революции. Он затормозил общество, которое стремительно мчалось новыми путями, и Принципат вернул Риму стабильность ценой замедления развития и, в конечном итоге, ценой стагнации идей и затухания социальных новаций.
Тем не менее с приходом Принципата изменились (или были им изменены) и воззрения римлян. И это было неизбежно, ибо в обширном мире, которым теперь владел Рим — по праву завоевания и с целью эксплуатации, — большинство населения мыслило иначе, нежели римляне прошлых времен, а потому сохранение прежнего республиканского государственного устройства было бы бессмысленным. Справедливость этой мысли становится тем более очевидна, чем большее значение мы придаем той степени свободы и равенства, которую обеспечивал (только для свободнорожденных римских граждан) традиционный римский политический порядок, основанный на личном участии. Такой вывод может показаться банальным, но некое глубокое преобразование той Римской республики, которую знал Сципион Эмилиан и перед которой благоговел Цицерон, исторически было совершенно неизбежно, хотя ее институты вызывали такое почтение, что позднее были использованы для маскировки нового порядка, пришедшего ей на смену. Вопрос о том, был ли настолько же неизбежен именно такой новый порядок, уже слишком сложен, чтобы дать на него определенный ответ.
Остался последний вопрос, ответить на который несколько легче (хотя тоже не так-то просто): что выиграли и что проиграли римляне от падения Республики? Конечно, свобода и равенство республиканской эпохи в прежней форме были необратимо утрачены;6 что же касается «верховенства закона», то опасения, которые Цицерон высказывал в письме к Папи- рию Пету в 46 г. до н. э., хорошо отражают не только его насущное беспокойство по поводу Юлия Цезаря, но и страхи, таившиеся в среде римской аристократии (даже в спокойные периоды, при «добрых императорах») в эпоху Принципата: «Всё ненадежно, так как отошли от законности,
0 После убийства Цезаря Цицерон в замешательстве писал Аттику (в письме XIV.4.1. — О.Л.): «Мы вернули свободу (libertas), но не восстановили вместе с ней государственный строй (res publica)». Он надеялся на возвращение к старым порядкам: в 43 г. до н. э., незадолго до первого похода Октавиана на Рим, Марк Туллий готовился к претор- ским выборам — точно так же, как готовился к ним до гражданских войн, см.: Цицерон. Письма к близким. Х.25.2; XI. 16.2, 17.
6 В мае и августе 44 г. до н. э. Брут и Кассий писали Антонию: «Мы <...> не стремились ни к чему иному, кроме общей свободы»; «<...> мы желаем, чтобы ты был великим и почитаемым в свободном государстве (respublica), не призываем тебя ни к какой вражде, но все-таки ценим свою свободу дороже, чем твою дружбу» (Цицерон. Письма к близким. XI.2.2, 3.4. — Перев. В.О. Горенштейна).
Часть Π
и ни за что нельзя поручиться, ибо всё зависит от доброй воли, чтобы не сказать прихоти, другого»7. На первый взгляд кажется, что это замечание не относится к системе, созданной Августом: в ней верховенство закона было восстановлено, что стало одним из секретов успеха Августа, а доктрина, согласно которой император считался освобожденным от действия законов (legibus solutus), упрочилась лишь спустя длительное время. Тем не менее, верховенство закона существовало лишь потому, что правитель считал нужным его поддерживать на практике, причем в той мере, в какой он считал это нужным, и в периоды кризисов это своевластие обнаруживалось.
С другой стороны, можно с некоторым скептицизмом воспринять горестные вопли об утрате свободы, равенства и верховенства закона, которые мы слышим от людей, представлявших себе эти ценности как продолжение традиционного господства своего сословия в государстве: при императорах социальное и экономическое положение более скромных свободнорожденных граждан, как и вольноотпущенников, вероятно, улучшилось, бывшие союзники вступили в свои права, а провинциальные высшие классы постепенно влились в ряды правящей элиты империи. Ибо некоторые из перемен, наиболее характерных для последнего века Республики, заложили основу имперского миропорядка, хотя республиканская система и не годилась для управления изменившимся миром. Предоставление гражданства всей Италии и распространение римских граждан (и римского гражданства) в провинциях постепенно обеспечило императорам весьма многочисленный правящий класс, на который они могли опираться, а к концу Республики римляне обнаружили, что империей необходимо управлять. Благодаря появлению длительной военной службы и зарождению профессиональной армии8 Августу оказалось сравнительно нетрудно создать войско, отвечавшее потребностям обширной территориальной империи; а новые командования и длительные полномочия первенствующих граждан (principes viri), порожденные проблемами Поздней республики, послужили образцом для командований и полномочий новых принцепсов (principes) — императоров и их коллег (collegae imperii)9. Наконец, что, пожалуй, важнее всего, в рассматриваемый период были сделаны (по необходимости) первые шаги к интеграции городских правительств в Италии и на Западе в систему муниципального и центрального управления, которая позднее нашла более широкое применение10. Римскую империю не пришлось создавать на пустом месте: почву для нее подготовили многие перемены, описанные в настоящем томе.
И всё же, если в конце концов вернуться к политике и государственному устройству, к принятию решений о целях общества и выбору средств для их достижения, то главным долгосрочным следствием перехода от
7 Цицерон. Письма к близким. IX.16.3. [Перев. В.О. Горенштейна, с правкой)
8 Smith 1958 (А 114А).
9 См. фрагмент надгробной речи Августа в честь Агриппы: PKöln 1.10.
10 Хороший обзор (главный тезис которого, впрочем, остается спорным) см.: Galsterer 1987 (F 60).
Эпилог. Падение Римской республики
889
Республики к Принципату стало ограничение возможностей и исчезновение политических альтернатив или, иначе говоря, сжатие числа независимых источников принятия решений до одного-единсгвенного. В «Диалоге об ораторах», приписываемом историку Тациту, эта мысль выражена весы ма иронически:11
Нужно ли, чтобы каждый сенатор пространно излагал свое мнение по тому или иному вопросу, если благонамеренные сразу же приходят к согласию? К чему многочисленные народные собрания, когда общественные дела решаются не невеждами и толпою, а мудрейшим, и одним?
Данная ирония может послужить хорошим эпилогом к настоящему тому.
11 Тацит. Диалог об ораторах. 41.4. (Перев. А.С. Бобовича); об иронии см.: Heldmann 1982 (Н 59) 280-285.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ
Годы до н. э.
Фасты:
консулы и цензоры
Рим и Италия
133
Консулы:
Публий Муций Сцевола Луций Кальпурний Пизон Фруги
Трибунат Тиберия Гракха.
Его аграрные законы и комиссия.
Его предложение использовать казну царства Атталидов. Низложение Октавия.
Смерть Гракха.
Трибунал Попиллия.
132
Консулы:
Публий Попиллий Ленат Публий Рупилий
Триумфы:
Цублий Корнелий Сципион Эмилиан — за Нуманцию. Децим Юний Брут — над калла- иками и лузитанами (возможно, в 133 г. до н. э.).
131
Консулы:
Публий Лициний Красе Му- циан
Луций Валерий Флакк
Папириев закон о тайном голосовании (Lex Papiria tabellaria).
Цензоры 131—130 гг. до н. э: Квинт Цецилий Метелл Македонский, консул 143 г. до н. э.
Луций Валерий Флакк, консул 141 г. до н. э.
Речь цензора Метелла «об умножении потомства» (de prole augenda).
По итогам ценза насчитано 318 823 гражданина.
130
Консулы:
Луций Корнелий Лентул (? умер в должности) Марк Перперна Суффект:
Аппий Клавдий Пульхр
129
Консулы:
Гай Семпроний Тудитан Маний Аквилий
Смерть Сципиона Эмилиана. Триумф:
Гай Семпроний Тудитан — над япидами, 1 октября.
128
Консулы:
Гней Октавий Тит Анний Руф
ТАБЛИЦА
Запад
Восток
Разрушение Нуманции; окончание войны Сципиона в Испании. Продолжается Первая Сицилийская война с рабами.
Смерть и завещание Аттала Пергам- ского.
Победа Рупилия и окончание Первой Сицилийской войны с рабами. Рупилиев закон (Lex RupiHa) для Сицилии.
Начало восстания Аристоника в Азии.
Затухание династических раздоров в птолемеевском Египте.
Поражение и смерть Публия Лици- ния Красса в Азии.
Птолемей Эвергет П (Фискон) бежит на Кипр.
Марк Перперна осаждает Аристоника в Стратоникее и берет его в плен; Аристоник казнен в Риме Возвращение Птолемея Фискона в Мемфис.
Смерть Марка Перперны; мероприятия по организации провинции Азия продолжает Маний Акви- лий (до 126 г. до н. э.)
892
Продолжение табл.
Годы до н. э.
127
126
125
124
123
Фасты:
консулы и цензоры
Консулы:
Луций Кассий Лонгин Равил- ла
Луций Корнелий Цинна Консулы:
Марк Эмилий Лепид Луций Аврелий Орест
Консулы:
Марк Плавтий Гипсей Марк Фульвий Флакк
Цензоры 125—124 гг. до н. э.:
Гней Сервилий Цепион, консул 141 г. до н. э.
Луций Кассий Лонгин Равил- ла, консул 127 г. до н. э.
Консулы:
Гай Кассий Лонгин
Гай Сексгий Кальвин
Консулы:
Квинт Цецилий Метелл (Балеарский)
Тит Квинкций Фламинин
Рим и Италия
Юниев закон об иноземцах (Lex Iunia de peregrinis) проведен Марком Юнием Пенном.
Триумф:
Маний Аквилий — за Азию, ноябрь.
Законопроект Фульвия Флакка о предоставлении гражданства и права обжалования (provocatio) не принят.
Восстание Фрегелл.
По итогам ценза насчитано 394 736 граждан.
Первый трибунат Гая Гракха. 123—122 гг. до н. э., основные мероприятия Гракха:
• закон о правах граждан (lex
de capite civium);
• аграрный закон (lex agraria);
• хлебный закон (lex frumen¬
taria);
• закон о провинции Азия (lex
de provincia Asia);
• закон против судебных злоу¬
потреблений (lex ne quis iudicio circumveniretur);
• закон о консульских провин¬
циях (lex de provinciis consularibus);
• закон о вымогательствах (lex
de repetundis).
Законопроект о гражданских правах (rogatio de civitate).
Продолжение табл.
893
Запад
Восток
Кампании Аврелия Ореста на Сардинии.
Начало Галльских войн; просьба Мас- силии о помощи против саллюви- ев.
Примирение египетской династии.
Балеарские кампании:
основание Метеллом Пальмы и Полленции.
894
Продолжение табл.
Годы
до н. э.
122
121
120
119
118
117
Фасты:
консулы и цензоры
Консулы:
Гней Домиций Агенобарб Гай Фанний
Консулы:
Луций Опимий Квинт Фабий Максим (Ал- лоброгский)
Консулы:
Публий Манилий Гай Папирий Карбон
Цензоры:
Квинт Цецилий Метелл Балеарский, консул 123 г. до н. э.
Луций Кальпурний Пизон Фруги, консул 133 г. до н. э.
Консулы:
Луций Цецилий Метелл (Далматийский)
Луций Аврелий Котта
Консулы:
Марк Порций Катон Квинт Марций Рекс
Консулы:
Луций Цецилий Метелл Диа- демат
Квинт Муций Сцевола «Авгур»
Рим и Италия
Рубриев закон об Африке (lex Rubria de Africa).
Триумф:
Марк Фульвий Флакк — над лигурами и др.
Второй трибунат Гая Гракха. Продолжение его законодательной деятельности.
Триумфы:
Гай Секстий Кальвин — над ли- гурами.
Луций Аврелий Орест — за Сардинию, декабрь.
Чрезвычайное постановление сената (SCU) и смерть Гая Гракха.
Триумфы:
Квинт Цецилий Метелл — за Балеарские острова.
Триумфы в 120—117 гг. (точные даты неизвестны):
Квинт Фабий Максим — над ал- лоброгами и царем арвер- нов.
Гней Домиций Агенобарб — над арвернами.
Трибунат Гая Мария; его закон об избирательной процедуре. Ториев (?) аграрный закон (Lex Thoria agraria), прекративший работу земельной комиссии.
Триумфы:
Луций Цецилий Метелл Далматийский — над далматами.
Квинт Марций Рекс — над лигу- рами-стенами, декабрь.
Продолжение табл.
895
Запад
Восток
Войны с аллоброгами и арвернами, 122—120 гг. до н. э.
Основание Акв Секстиевых.
Ок. 121 г. до н. э.: убийство Митри- дата V Понтийского.
Основание провинции Трансальпийская (Нарбонская) Галлия.
Многолетние войны в Македонии и Фракии.
Основана колония Нарбон Марсов.
28 апреля: птолемеевский царский указ об амнистии.
Далматийские и лигурийские кампании.
896
Продолжение табл.
Годы
до н. э.
Фасты:
консулы и цензоры
Рим и Италия
116
115
114
113
112
111
110
Консулы:
Гай Лициний Гета
Квинт Фабий Максим Эбурн
Консулы:
Марк Эмилий Скавр Марк Цецилий Метелл
Цензоры 115—114 гг. до н.э.:
Луций Цецилий Метелл Диа- демат, консул 117 г. до н. э.
Гней Домиций Агенобарб, консул 122 г. до н. э.
Консулы:
Маний Ацилий Бальб
Гай Порций Катон
Консулы:
Гай Цецилий Метелл Капра- рий
Гней Папирий Карбон
Консулы:
Марк Ливий Друз Луций Кальпурний Пизон Цезонин
Консулы:
Публий Корнелий Сципион Назика Серапион Луций Кальпурний Бестия
Консулы:
Марк Минуций Руф Спурий Посгумий Альбин
Триумф:
Марк Эмилий Скавр над кар- нами.
Тридцать два человека исключены из сената.
Запрещены сценические представления.
По итогам ценза насчитано 394 336 граждан.
Педуцеев закон (Lex Peducaea) о суде над весталками.
Аграрный закон (Lex agraria).
Начало трибунской активности, связанной с ведением Югур- тинской войны.
Триумфы:
Марк Цецилий Метелл — за Сардинию.
Гай Цецилий Метелл — за Фракию, в тот же день.
Триумф:
Марк Ливий Друз — над скор- дисками и македонянами, май.
Продолжение табл.
897
Запад
Восток
Начинаются проблемы, связанные с Югуртой: в Нумидию направлена комиссия из трех легатов.
Июнь: смерть Птолемея Фискона. 116—107 гг. до н. э.: правление Клеопатры П и Птолемея Сотера. Птолемей Александр — на Кипре. Птолемей Апион — в Кирене.
114—111 гг. до н. э.:
Испанские войны.
113—101 гг. до н. э.:
Кимврские войны.
Папирий Карбон разбит кимврами под Нореей.
Резня в Цирте.
111—105 гг. до н. э.:
Югуртинская война.
Югурта сдается Бестии и отправляется в Рим.
Югурта убивает Массиву.
Войско Альбина сдается Югурте.
Ок. 113 г. до н. э.: Митридат VI захватывает власть в Синопе и начинает завоевывать территорию своей будущей Черноморской империи (или 115 г. до н. э.).
Продолжение табл.
Годы
до н. э.
Фасты:
консулы и цензоры
Рим и Италия
109
108
107
106
105
Консулы:
Квинт Цецилий Метелл (Нумидийский)
Марк (Юний) Силан
Цензоры:
Марк Эмилий Скавр, консул
115 г. до н. э.
Марк Ливий Друз, консул 112 г. до н. э.
Консулы:
Сервий Сульпиций Гальба ? Луций Гортензий (осуждён) Суффект:
Марк Аврелий Скавр Цензоры:
Квинт Фабий Максим Эбурн, консул 116 г. до н. э.
Гай Лициний Гета, консул
116 г. до н. э.
Консулы:
Луций Кассий Лонгин Гай Марий
Консулы:
Квинт Сервилий Цепион Гай Атилий Серран
Консулы:
Публий Рутилий Руф Гней Маллий Максим
Цензор Друз умер, Скавр а вынудили отказаться от должности.
Мамилиев суд (quaestio Mamiliana) по делам о злоупотреблениях во время Югуртинской войны.
Целиев закон о тайном голосовании (Lex Coelia tabellaria).
Триумф:
Квинт Сервилий Цепион — за Дальнюю Испанию, октябрь.
Сервилиев закон о вымогательствах (Lex Servilia de repetundis).
Триумфы:
Квинт Цецилий Метелл Нумидийский над нумидийцами и царём Югуртой.
Марк Минуций Руф над скор- дисками и фракийцами, август.
Продолжение табл.
899
Запад
Восток
Метелл принимает командование в войне против Югурты.
Поражения римлян в Галлии.
Построена Эмилиева дорога.
Ок. 108—107 гг. до н. э.: раздел Пафлагонии между Митридатом и Никомедом.
Марий принимает командование в войне с Югуртой.
Галлы побеждают Кассия Лонгина при Толозе.
Цепион берёт Толозу и захватывает также «толозское золото».
Октябрь 107 — 101 гг. до н. э.: Клеопатра III правит Египтом совместно с Птолемеем Александром. Птолемей Сотер правит на Кипре.
Пленение Югурты.
Кимвры побеждают Цепиона и Мал- лия при Араузионе.
900
Продолжение табл.
Годы
до н. э.
Фасты:
консулы и цензоры
Рим и Италия
104
103
102
101
100
Консулы:
Гай Марий П
Гай Флавий Фимбрия
Консулы:
Гай Марий Ш Луций Аврелий Орест
Консулы:
Гай Марий IV Квинт Лутаций Катул Цензоры 102—101 гг. до н. э.: Квинт Цецилий Метелл Ну- мидийский, консул 109 г. до н. э.
Гай Цецилий Метелл Капра- рий, консул 113 г. до н. э.
Консулы:
Гай Марий V Маний Аквилий
Консулы:
Гай Марий VI Луций Валерий Флакк
Триумф:
Гай Марий — над нумидийцами и царем Югуртой, 1 января.
Кассиев закон о сенате (Lex Cassia de senatu).
Домициев закон о жречествах (Lex Domitia de sacerdotiis).
Первый трибунат Сатурнина.
Распределение земли в Африке между ветеранами Мария.
Аппулеев закон об умалении величия (Lex Appuleia de maiestate) (возможно, 100 г. до н. э.).
Сервилиев закон о вымогательствах (lex Servilia de repetundis) проведен Сервилием Глав дней (возможно, 104 г. до н. э.). «Закон о борьбе с пиратами». Триумфы:
Гай Марий — над кимврами и тевтонами.
Квинт Катул — над кимврами.
Второй трибунат Сатурнина. Земельный закон (lex frumentaria), закон об основании колоний (de coloniis deducendis), закон о Галльском поле (de agro Gallico).
Чрезвычайное постановление сената (SCU) и расправа над Глав- цией и Сатурнином.
? Триумфы:
Марк Антоний — над пиратами.
Тит Дидий — за Македонию.
Продолжение табл.
901
Запад
Восток
Кимврские кампании Мария, 104— 101 гг. до н. э.
Вторая Сицилийская война с рабами, 104—101 гг. до н. э.
Лузитанская война, 103—102 гг. до н. э.
Победа над тевтонами при Аквах Секстиевых.
Кампании Марка Антония против киликийских пиратов.
Кампании Тита Дидия во Фракии.
Победа над кимврами при Верцеллах
Смерть Клеопатры Ш, царицы Египта.
902
Продолжение табл.
Годы до н. э.
99
98
97
96
95
94
93
Фасты:
консулы и цензоры
Консулы:
Марк Антоний Авл Постумий Альбин
Консулы:
Квинт Цецилий Метелл Не- пот
Тит Дидий
Консулы:
Гней Корнелий Лентул Публий Лициний Красе Цензоры 97—96 гг. до н. э.:
Луций Валерий Флакк, консул 100 г. до н. э.
Марк Антоний, консул 99 г. до н. э.
Консулы:
Гней Домиций Агенобарб Гай Кассий Лонгин
Консулы:
Луций Лициний Красе Квинт Муций Сцевола
Консулы:
Гай Целий Кальд Луций Домиций Агенобарб
Консулы:
Гай Валерий Флакк Марк Геренний
Рим и Италия
Закон Цецилия—Дидия (Lex Caecilia—Didia).
Триумф:
Луций Корнелий Долабелла — за Дальнюю Испанию и Лузитанию, январь.
Закон Лициния—Муция (Lex Licinia—Mucia).
Триумфы:
Тит Дидий (И) — за Испанию, над кельтиберами, 10 июня. Публий Лициний Красе — над лузитанами, 12 июня.
Продолжение табл.
903
Зал ад
Восток
98—93 гг. до н. э.: Кельтиберские войны.
Тигран I становится царем Армении.
Птолемей Апион завещает Кирену Риму.
Птолемей Александр завещает Египет Риму1.
Между 97/96 и 93/92 гг. до н. э.: Сул- ла в должности проконсула Киликии вынуждает Митридата удалиться из Каппадокии и встречается с парфянскими послами на Евфрате.
Смерть Никомеда Эвергета, царя Вифинии.
1 Вопрос о том, кто из египетских царей составил это завещание, является спорным, но если это был Птолемей X Александр I, то его завещание должно относиться к 88 г. до н. э., а если Птолемей XI Александр П — то к 81 г. до н. э. — О.Л.
904
Продолжение табл.
Годы Фасты:
до н. э. консулы и цензоры
Рим и Италия
92
91
90
89
Консулы:
Гай Клавдий Пульхр Марк Перперна
Цензоры:
Гней Домиций Агенобарб, консул 96 г. до н. э. Луций Лициний Красе, консул 95 г. до н. э.
Консулы:
Луций Марций Филипп Секст Юлий Цезарь
Консулы:
Луций Юлий Цезарь Публий Рутилий Луп (убит в должности, суффект не избран)
Консулы:
Гней Помпей Страбон Луций Порций Катон (убит в должности)
Цензоры 89—88 гг. до н. э.:
Публий Лициний Красе, консул 97 г. до н. э.
Луций Юлий Цезарь, консул 90 г. до н. э.
Консулы:
Луций Корнелий Сулла (Феликс)
Квинт Помпей Руф
Цензорский эдикт против латинских риторов.
Трибунат Марка Ливия Друза. Его предложения: аграрный закон, хлебный закон (lex frumentaria), включение всадников в сенат и реформа судов (приняты, но аннулированы); предоставление гражданства союзникам.
Убийство Друза.
Начало Союзнической войны: резня в Аскуле.
Бариев суд (quaestio Variana).
11 июня: сражение Мария и Ру- тилия против Веттия Скатона.
Юлиев закон о предоставлении гражданства (Lex Iulia de civitate danda).
Победы Помпея Страбона, Суллы и др. в Союзнической войне.
Расправа над Авлом Семпронием Азеллионом.
Закон Плавция—Папирия (Lex Plautia—Papiria).
Помпеев закон о транспаданцах (Lex Pompeia de Transpadanis).
Триумф:
Гней Помпей Страбон — за Ас- кул, 27 декабря.
Трибунские законопроекты Публия Сулышция, прежде всего о распределении новых граждан по всем трибам и о предоставлении Марию командования против Митридата.
Продолжение табл.
905
Запад
Восток
Тигран занимает Каппадокию, Мит- ридат занимает Вифинию.
Маний Аквилий возглавляет уполномоченных для восстановления прежнего положения дел; они провоцируют нападения на Понт.
Начало Первой Митридатовой войны.
Истребление римлян в Азии. Отпадение Афин.
Осада Родоса.
Архелай в Греции: захват Делоса.
906
Продолжение табл.
Годы до н. э.
87
86
85
84
83
Фасты:
консулы и цензоры
Консулы:
Гней Октавий (убит в должности)
Луций Корнелий Цинна (объявлен врагом)
Суффект вместо Цинны:
Луций Корнелий Мерула
Консулы:
Луций Корнелий Цинна П
Гай Марий VII (умер 13 января)
Суффект:
Луций Валерий Флакк
Цензоры 86—85 гг. до н. э.
Луций Марций Филипп, консул 91 г. до н. э.
Марк Перперна, консул 92 г. до н. э.
Консулы:
Луций Корнелий Цинна Ш
Гней Папирий Карбон
Консулы:
Гней Папирий Карбон П
Луций Корнелий Цинна IV (убит; суффект не избран)
Консулы:
Луций Корнелий Сципион Азиатский
Гай Норбан
Рим и Италия
Сулла захватывает Рим.
? Некоторые из Корнелиевых законов (Leges Corneliae).
Марий бежит в Африку.
Триумф:
Публий Сервилий Ватия, сентябрь (место командования неизвестно).
Сулла отправляется на Восток. Законопроект Цинны о распределении новых граждан по всем трибам.
«Октавиева война» («Bellum Octavianum»).
Осада и взятие Рима.
Финансовый эдикт Марка Мария Гратидиана (или 85 г. до н. э.). Флакк назначен на смену Сулле.
По итогам ценза насчитано 463 000 граждан.
Постановление сената о распределении новых граждан по всем трибам.
Весна: Сулла высаживается в Италии.
Претор Серторий бежит в Испанию.
Продолжение табл.
907
Запад
Восток
Птолемей Александр изгнан александрийцами; его место занимает Птолемей Сотер (Лафур).
Сулла в Греции: осада Афин и Пирея.
Падение Афин.
Битвы при Херонее и Орхомене. Фимбрия убивает Флакка в Азии. Переговоры Суллы и Архелая.
Кампании Фимбрии в Азии. Дарданский мир (не ратифицирован в Риме).
Сулла в Эфесе реорганизует Азию.
«Вторая Митридатова война»: кампании Луция Мурены против Мит- ридата в 83—82 гг. до н. э.
908
Продолжение табл.
Годы Фасты:
до н. э. консулы и цензоры
Рим и Италия
Консулы:
Гай Марий (младший)
Гней Папирий Карбон Ш Интеррекс:
Луций Валерий Флакк, консул 100 г. до н. э.
Диктатор:
Луций Корнелий Сулла Феликс, консул 88 г. до н. э.
Начальник конницы:
Луций Валерий Флакк
Диктатор:
Луций Корнелий Сулла Феликс
Начальник конницы:
Луций Валерий Флакк Консулы:
Марк Туллий Декула Гней Корнелий Долабелла
Консулы:
Луций Корнелий Сулла Феликс П
Квинт Цецилий Метелл Пий Консулы:
Публий Сервилий Ватия (Исав- рийский)
Аппий Клавдий Пульхр
Битва при Сакрипорте, истребление пленных самнитов по приказу Суллы.
Осада Пренесты.
Битва при Коллинских воротах, 1 ноября.
Проскрипции.
Падение Пренесты.
Оба консула убиты на войне.
Триумфы:
Луций Корнелий Сулла Феликс — над Митридатом, январь.
Гней Помпей Магн, март2. Луций Лициний Мурена — над Митридатом.
Луций Валерий Флакк — над кельтиберами и галлами. Главные мероприятия Суллы:
• зачисление всадников в се¬
нат;
• ограничение трибунской влас¬
ти (tribunicia potestas);
• систематизация постоянных
судебных комиссий (quaestiones perpetuae);
• законы об умалении величия
(maiestas);
• упорядочение магистратур. Падение Нолы.
Суд над Росцием Америйским.
Падение Эзернии и Волатерр. Триумф:
Гней Помпей Магн (П) за Африку, март3
2 Помпей праздновал триумф за Африку. — О Л.
3 Ошибочное указание: первый триумф за Африку Помпей отпраздновал в марте 81г. до н. э., второй триумф за Испанию — в декабре 71 г. до н. э., ср. выше и ниже. — О.Л.
Продолжение табл.
909
Запад
Восток
Помпей возвращает Сицилию Сулле и убивает Карбона.
Помпей возвращает Африку Сулле и убивает Домиция Агенобарба.
Смерть Птолемея Лафура; Сулла отправляет в Египет Птолемея Александра П.
Метелл Пий и Марк Домиций Кальвин во главе двух испанских провинций ведут войну против Серто- рия.
Кальвин побеждён и убит.
Птолемей XII (Авлет) занимает египетский трон.
910
Продолжение табл.
Годы Фасты:
до н. э. консулы и цензоры
Рим и Италия
Консулы:
Марк Эмилий Лепид Квинт Лутаций Катул Консульские выборы не проведены
Интеррекс:
Аппий Клавдий Пульхр, консул 79 г. до н. э.
Консулы:
Децим Юний Брут Мамерк Эмилий Аепид Ли- виан
Консулы:
Гней Октавий
Гай Скрибоний Курион
Консулы:
Луций Октавий Гай Аврелий Котта
Смерть Суллы, его погребение за государственный счет.
Консул Лепид поднимает восстание.
Триумф:
Гней Корнелий Долабелла — за Македонию (или 77 г. до н. э.).
Предоставление чрезвычайного империя Помпею: совместно с Катулом он подавляет восстание Лепида, а также убивает Марка Юния Брута.
Помпей получает командование в Испании и чрезвычайный империй.
Трибунская агитация Сициния за восстановление полномочий плебейских трибунов.
Эдикт претора Марка Лукулла о насилии с участием вооруженных людей («de vi hominibus armatis»).
Закон Аврелия Копы о восстановлении права трибунов занимать последующие должности.
74
73
Консулы:
Луций Лициний Лукулл Марк Аврелий Копа
Консулы:
Марк Теренций Варрон Лукулл
Гай Кассий Лонгин
Трибунская агитация Луция Квин- кция.
Суд над Оппиаником.
Лукулл и Копа получают командование против Митридата, а Марк Антоний — против пиратов.
Триумф:
Публий Сервилий Ватия (Исав- рийский) — над исаврами.
Трибунская агитация Гая Лициния Макра.
Закон Теренция—Кассия о снабжении зерном.
Начало восстания Спартака.
Продолжение табл.
911
Запад
Восток
По дороге в Испанию Помпей подавляет восстание в Трансальпийской Галлии.
Осада Лаврона Серторием.
Метелл побеждает Гиртулея в Италике.
Кампании Публия Сервилия Ватии в «Киликии», 78—75 гг. до н. э. Митридат пытается добиться ратификации Дарданского мира.
Битва при Сеговии: гибель Гиртулеев. Битвы при Сукроне и Сегонции. Переговоры Сертория с Митридатом (возможно, весной 74 г. до н. э.).
Рим аннексирует Кирену.
Никомед, царь Вифинии, завещает свое царство Риму (возможно, начало 74 г. до н. э.).
Помпей и Метелл начинают брать верх в Испании.
Кампании Марка Антония против пиратов4.
73—71 гг. до н. э.: наместничество Берреса на Сицилии.
Начало «Третьей Митридатовой войны».
Луций Лукулл освобождает от осады Кизик. Битва при Риндаке.
4 В 74—73 гг. до н.э. Марк Антоний вел операции против пиратов на Западе и только в 72 г. до н. э. перенес их на Восток. — О.Л.
912
Продолжение табл.
Годы Фасты:
до н. э. консулы и цензоры
Рим и Италия
Консулы:
Луций Геллий Попликола Гней Корнелий Лентул Кло- диан
Консулы:
Публий Корнелий Лентул Сура
Гней Ауфидий Орест
Консулы:
Гней Помпей Магн Марк Лициний Красе
Цензоры 70—69 гг. до н. э.
Гней Корнелий Лентул Кло- диан, консул 72 г. до н. э.
Луций Геллий Попликола, консул 72 г. до н. э.
Консулы:
Квинт Гортензий Гортал
Квинт Цецилий Метелл (Критский)
Закон Геллия—Корнелия о гражданстве (de civitate).
Спартак побеждает обоих консулов.
Марк Лициний Красе получает командование против Спартака.
? Триумф:
Гай Скрибоний Курион — над дар- данами.
Поражение и смерть Спартака. Овация:
Марк Лициний Красе — над Спартаком.
Триумфы:
Марк Теренций Варрон Лукулл — над бессами.
Квинт Цецилий Метелл Пий — за Испанию (т. е. над Серто- рием).
Гней Помпей Магн (П) — за Испанию (т. е. над Серторием).
Закон Помпея—Лициния о полном восстановлении прав трибунов.
Аврелиев судебный закон (Lex Aurelia Cottae iudiciaria), принятый Коттон
? Плавциев закон о насилии (Lex Plautia de vi).
Суд над Берресом.
Цензоры исключают из сената шестьдесят четыре человека. По итогам ценза насчитано 910 000 граждан.
Триумфы:
? Луций Афраний.
Марк Пупий Пизон Фруги — за Испанию.
Продолжение maL·.
913
Запад
Восток
Убийство Сертория; Помпей казнит Марка Перперну.
Победы Лукулла в Понте.
Митридат бежит в Армению, там его удерживает Тигран.
Взятие Синопы и Амиса.
Мероприятия Лукулла для облегчения положения провинции Азия. Тигран отказывается выдать Мит- ридата.
Вторжение Лукулла в южную Армению.
Октябрь: битва при Тигранокерте.
914
Продолжение табл.
Годы до н. э.
Фасты:
консулы и цензоры
Рим и Италия
68
67
66
65
Консулы:
Луций Цецилий Метелл (умер в должности)
Квинт Марций Рекс Суффект (умер до вступления в должность):
...Ватия
Следующий суффект не избран Консулы:
Гай Кальпурний Пизон Маний Ацилий Глабрион
Консулы:
Маний Эмилий Лепид Луций Волкаций Тулл
Консулы:
Луций Аврелий Котта Луций Манлий Торкват
Цензоры (отказались от должности, не завершив ценза):
Трибунат Гая Корнелия: законопроекты о нарушениях при соискании должностей (ambitus), о предоставлении займов иноземным государствам, об освобождении от действия законов (privilegia); Корнелиев закон, обязывавший преторов придерживаться их постоянного эдикта (edictum perpetuum).
Трибунат Авла Габиния: Габиниев закон о предоставлении Помпею империя против пиратов.
Трибунат Луция Росция Отона: Росциев театральный закон (Lex Roscia theatralis)
Манилиев закон, проведенный трибуном Гаем Манилием, предоставляет Помпею командование против Митридата.
(«Первый заговор Каталины».)
Избранные консулы Публий Корнелий Сулла и Публий Автро- ний Пет лишены должностей из-за подкупа избирателей.
Папиев закон об иноземцах (Lex Papia de peregrinis) (возможно, 64 г. до н. э.).
Суды над Гаем Манилием (осужден) и над Гаем Корнелием (оправдан).
Каталина оправдан от обвинения в вымогательствах (repetundis).
Предложения Красса об аннексии Египта и «транспаданский манифест» этого цензора.
Продолжение табл.
915
Запад
Восток
Кампания Лукулла в северной Армении.
Взятие Нисибиса.
Возвращение Митридата в Понт. Кампания Квинта Метелла на Крите против пиратов.
Прибытие преемников Лукулла. Митридат наносит римлянам поражение при Зеле.
Тигран возвращает себе Каппадокию.
Кампания Помпея против пиратов.
Договор Помпея с Парфией.
Помпей наносит поражение Митри- дату и принимает капитуляцию Армении.
Митридат бежит в Крым. Кампании Помпея на Кавказе.
916
Продолжение табл.
Годы Фасты:
до н. э. консулы и цензоры
Рим и Италия
64
63
62
61
Квинт Лутаций Катул, консул 78 г. до н. э.
Марк Лициний Красе, консул 70 г. до н. э.
Консулы:
Луций Юлий Цезарь Гай Марций Фигул Цензоры (отказались от должности):
Луций Аврелий Котта Неизвестный
Консулы:
Марк Туллий Цицерон Гай Антоний Гибрида
Консулы:
Децим Юний Силан Луций Лициний Мурена
Консулы:
Марк Пупий Пизон Фруги Кальпурниан
Марк Валерий Мессала Нигер Цензоры:
Луций Юлий Цезарь, консул 64 г. до н. э.
Неизвестный
Постановление сената о коллегиях («senatus consultum de colle- güs»).
Сервилиев законопроект (rogatio Servilia), внесённый Руллом. Суд над Рабирием.
Туллиев закон о нарушениях при соискании (Lex Tullia de ambi-
ч
Юлии Цезарь избран верховным понтификом.
Триумф:
Луций Лициний Лукулл — за Понт и Армению.
Октябрь: заговор Каталины; принятие чрезвычайного постановления сената (SCU).
Закон Юния—Лициния, требовавший помещать тексты законопроектов в казну (aerarium). Смерть Каталины.
Триумф:
Квинт Цецилий Метелл Критский — за Крит (то есть над пиратами).
Суд над Публием Клодием по обвинению в святотатстве. Триумф:
Гней Помпей Магн (Ш) над пиратами, Мнгридатом и Тиграном, сентябрь.
Продолжение табл.
917
Зал ад
Восток
Помпей — в Сирии; аннексия Сирии Римом.
Октябрь: взятие Иерусалима Пом- пеем.
Смерть Митридата.
62—61 гг. до н. э.: кампании Гая Помп- тина против аллоброгов в Трансальпийской Галлии.
«Восточное урегулирование» Помпея. Декабрь: Помпей возвращается в Рим.
61—60 гг. до н. э.: кампании Юлия Цезаря в западной Испании.
918
Продолжение табл.
Годы до н. э.
60
59
58
57
56
55
Фасты:
консулы и цензоры
Консулы:
Квинт Цецилий Метелл Це- лер
Луций Афраний
Консулы:
Гай Юлий Цезарь Марк Кальпурний Бибул
Консулы:
Луций Кальпурний Пизон Цезо- нин
Авл Габиний
Консулы:
Публий Корнелий Лентул Спинтер
Квинт Цецилий Метелл Непот
Консулы:
Гней Корнелий Лентул Мар- целлин
Луций Марций Филипп Интеррекс:
Марк Валерий Мессала Нигер
Рим и Италия
Аграрный законопроект Луция Флавия.
«Первый триумвират» Помпея, Красса и Цезаря.
Юлиевы законы:
• о публикации протоколов за¬
седаний сената (de acta senatus);
• аграрные законы;
• закон о вымогательствах.
Ратификация восточных распоряжений Помпея и пересмотр контрактов на откуп азиатских налогов.
Ватиниев закон о предоставлении Юлию Цезарю командования в Галлии.
Перевод Публия Клодия в плебеи.
Смерть Метелла Целера.
Трибунат Публия Клодия, законы о правах граждан (de capite civium), о коллегиях, хлебный закон и др.
Бегство Цицерона.
Цезарь отправляется в Галлию, Катон — на Кипр.
Публий Лентул получает поручение восстановить Птолемея ХП, но оно заблокировано.
Возвращение Цицерона.
Хлебный кризис: Помпею поручено попечение о продовольствии (cura annonae).
Пятнадцатидневные благодарственные молебствия в честь побед Цезаря в Галлии.
Апрель: «совещание в Луке».
Трибуны блокируют консульские выборы, чтобы обеспечить второе консульство Помпею и Крассу.
Требониев закон о предоставлении командований Помпею и Крас-
Продолжение табл.
919
Запад
Восток
Ариовист наносит поражение эдуям. 60—59 гг. до н. э.: гельветы угрожают Галлии.
Признание Птолемея XII (Авлета) «другом и союзником римского народа» («socius et amicus populi Romani»).
Кампании Цезаря против гельветов и Ариовиста.
Бегство Птолемея Авлета в Рим (или 57 г. до н. э.).
Катон реорганизует Кипр.
Кампании Цезаря против белтов и не- рвиев.
Проконсульство Габиния в Сирии; кампания в Иудее.
Кампании Цезаря против венетов и моринов.
Вторая иудейская кампания Габиния.
Кампании Цезаря против узипетов и тенктеров, затем — в Британии.
Габиний возвращает Птолемея Авлета в Египет.
920
Продолжение табл.
Годы Фасты:
до н. э. консулы и цензоры
Рим и Италия
Консулы:
Гней Помпей Магн П
Марк Лициний Красе П Цензоры 55—54 гг. до н. э.
Марк Валерий Мессала Нигер, консул 61 г. до н. э.
Публий Сервилий Ватия Исав- рийский, консул 79 г. до н. э.
Консулы:
Луций Домиций Агенобарб Аппий Клавдий Пульхр
Интеррексы (известные):
Марк Валерий Мессала Нигер, консул 61 г. до н. э.
Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика Консулы (с июля):
Гней Домиций Кальвин Марк Валерий Мессала Руф
Интеррексы (известные):
Марк Эмилий Лепид Марк Валерий Мессала Нигер, консул 61 г. до н. э.
Сервий Сулыпщий Консулы:
Гней Помпей Магн Ш (сначала без коллеги)
Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика (с августа)
Консулы:
Сервий Сулышций Руф Марк Клавдий Марцелл
су; закон Помпея—Лициния о продлении командования Цезаря.
Лициниев закон о сообществах (Lex Licinia de sodaliciis).
Помпеев закон о судах (lex Pompeia de iudicibus).
? Закон Мамилия—Росция и т. д.
Посвящение театра Помпея.
Двадцатидневные молебствия в честь побед Цезаря.
Ноябрь: Красе отправляется в Сирию.
Смерть Юлии.
Триумф:
Гай Помптин — над аллоброга- ми.
Предвыборный скандал с участием консулов; консульские выборы в этом году не проведены.
Беспорядки, организованные Кло- дием и Милоном.
Многочисленные игры (ludi).
Выборы проведены только после возвращения Помпея в Рим.
Но на 52 г. магистраты снова не избраны.
Беспорядки: в январе «сражение при Бовиллах» и гибель Кло- дия.
Сожжение курии и принятие чрезвычайного постановления сената (SCU).
Законы Йомпея, в том числе законы о насилии (de vi) и о провинциях (de provinciis).
«Закон десяти трибунов».
Двадцатидневные молебствия в честь победы Цезаря под Алезией.
Начало споров о назначении преемника Юлию Цезарю в Галлии («Rechtsfrage»).
Продолжение табл.
921
Запад
Восток
Третья иудейская и набатейская кампании Габиния.
Вторая кампания Цезаря в Британии.
Цезарь в Галлии начинает обороняться и несет потери в землях эбуро- нов.
Зима 53/52 г. до н. э.: великий галльский союз под командованием Верцингеторига.
Битва при Герговии.
Взятие Алезии.
Поражение и гибель Красса при Каррах.
Кампания Цезаря против белловаков. Взятие Укселлодуна.
Смерть Птолемея XII (Авлета): египетский престол наследуют Птолемей ХШ и Клеопатра VII.
922
Продолжение табл.
Годы до н. э.
Фасты:
консулы и цензоры
Рим и Италия
50
49
48
Консулы:
Луций Эмилий Лепид Павел Гай Клавдий (сын Гая, внук Марка) Марцелл
Цензоры 50—49 гг. до н. э.: Аппий Клавдий Пульхр, консул 54 г. до н. э.
Луций Кальпурний Пизон Це- зонин, консул 58 г. до н. э.
Консулы:
Гай Клавдий (сын Марка, внук Марка) Марцелл Луций Корнелий Лентул Крус Диктатор (11 дней):
Гай Юлий Цезарь, консул 59 г. до н. э.
Консулы:
Гай Юлий Цезарь П Публий Сервилий Исаврий- ский
Диктатор (с октября на год):
Гай Юлий Цезарь П Начальник конницы:
Марк Антоний
Триумф:
Публий Корнелий Лентул Спин- тер — за Киликию.
Трибунат Гая Скрибония Куриона: его законопроекты и его поддержка Цезаря.
Ноябрь: консул Марцелл призывает Помпея «спасти государство».
Исключение из сената множества членов, в том числе Саллюстия.
7 января: принятие чрезвычайного постановления сената.
10 января: Цезарь переходит Рубикон.
Консулы и Помпей покидают Италию.
Цезарь отправляется в Испанию, затем возвращается в должности диктатора и руководит собственным избранием в консулы.
Меры для облегчения долгового бремени и возвращение изгнанников.
Отъезд Цезаря в Эпир.
Продолжение табл.
923
Запад
Восток
Осада Массилии.
Битва при Илерде.
В Африке армия Юбы загоняет в ловушку Куриона.
Парфянское вторжение в Сирию; тревога Цицерона за его провинцию (Киликию).
Август: битва при Фарсале.
Помпей бежит в Египет. Катон переходит из Кирены в Африку. Октябрь: Цезарь отправляется в Египет.
Убийство Помпея. «Александрийская война» («Bellum Alexandrinum») и связь Цезаря с Клеопатрой.
924
Продолжение табл.
Годы Фасты:
до н. э. консулы и цензоры
Рим и Италия
Консулы (с сентября): Квинт Фуфий Кален Публий Ватиний
(Интеркалярный год)
Консулы:
Гай Юлий Цезарь Ш Марк Эмилий Лепид Диктатор (с апреля на 10 лет): Гай Юлий Цезарь Ш Начальник конницы:
Марк Эмилий Лепид, консул
Консулы:
Гай Юлий Цезарь IV (без коллеги до октября)
Сентябрь: Цезарь возвращается в Италию.
Мораторий на уплату долгов.
? Триумф:
Марк Эмилий Лепид — за Ближнюю Испанию.
25 декабря: Цезарь отправляется в Африку.
Июль: Цезарь возвращается в Рим. Его основные мероприятия в 46— 44 гт. до н. э.:
• реформа календаря;
• реформа судов: половина
присяжных формируется из сенаторов, половина — из всадников;
• отмена коллегий;
• «лишение огня и воды» в ка¬
честве наказания за насилие (vis) и умаление величия (maiestas);
• сокращение числа получате¬
лей государственного зерна до 150 тыс. человек;
• расширение сената;
• предписание о том, что не ме¬
нее трети сельскохозяйственных работников должны быть свободными людьми;
• предоставление гражданства
транспаданцам,
• основание колоний.
Триумф:
Гай Юлий Цезарь — за Галлию, Египет, Понт и Африку, сентябрь.
Посвящение Юлиева Форума. Цезарь отправляется в Испанию.
Цезарь возвращается из Испании. Пятидесятидневные молебствия в честь победы при Мунде.
д Цезарь предоставил гражданство транспаданцам в 49 г. до н. э. — О.Л.
Продолжение табл.
92 5
Запад
Восток
Битва при Талсе (февраль).
Цезарь — в Понте: победа при Зеле над Фарнаком, царем Боспора. Рождение Цезариона.
Битва при Мунде (март).
Парфянское вторжение в Сирию.
926
Продолжение табл.
Годы Фасты:
до н. э. консулы и цензоры
Рим и Италия
Суффекты:
Квинт Фабий Максим (умер 31 декабря)
Гай Требоний
Гай Каниний Ребил (31 декабря, вместо Фабия Максима)
Диктатор (с апреля):
Гай Юлий Цезарь IV Начальник конницы:
Марк Эмилий Лепид, консул 46 г. до н. э.
Консулы:
Гай Юлий Цезарь V (до 15 марта)
Марк Антоний Суффект:
Публий Корнелий Долабелла Диктатор:
Гай Юлий Цезарь V (и пожизненно)
Начальник конницы:
Марк Эмилий Лепид
Консулы (оба умерли в должности):
Гай Вибий Панса Цетрониан Авл Гирций Суффекты:
Гай Юлий Цезарь («Окта- виан») до ноября Квинт Педий (умер в должности)
Гай Карринат Публий Вентидий Басс Триумвиры для восстановления государства (с ноября):
Марк Эмилий Лепид, консул 46 г. до н. э.
Марк Антоний, консул 44 г. до н. э.
Гай Юлий Цезарь («Окта- виан»), консул
Триумфы:
Гай Юлий Цезарь — за Испанию.
Квинт Фабий Максим — за Испанию.
Квинт Педий — за Испанию.
15 февраля: отказ Цезаря от диадемы.
15 марта: убийство Юлия Цезаря.
Законодательство Антония.
Брут и Кассий уезжают на Восток.
Прибытие Гая Октавия, который формально принимает наследство Цезаря.
Антоний уезжает в Галлию.
Триумфы:
Луций Мунаций Планк — за Галлию.
Марк Эмилией Лепид — за Испанию.
Гай Юлий Цезарь («Октавиан») ведет войско на Рим и добивается для себя консульства, 19 августа.
Проскрипции.
7 декабря: убийство Цицерона.
Продолжение табл.
927
Запад
Восток
Появление Секста Помпея.
Антоний осаждает Децима Брута в Мутине.
Брут захватывает Македонию.
Поражение Антония при Галльском Форуме и при Мутине.
Гибель консулов в сражении. Антоний присоединяется к Лепиду в Трансальпийской Галлии.
Кассий захватывает Сирию.
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
S
w
ы
<
О
н
с
о
0
о
I'
CU
α>
W
£
в s
CU
<ü
(J
H
■&;*
«
3
о
Ё
αί
öS iS ’S V <υ 22
S < <
О. О О
Ι^ι
§ 5
I а
и I'
^ В
" >я
>?2 «S %
sti
Sk“?
3S
К
к
.’Я
О
Н
С
*
§>
«j
-э-
'Шо I
□ КН о
35. I
Ь^к Си g
о *
W
я
>
X
>д
X
’Я
о
Ё
CU
<
Se и
j л
та а
gl
к к
о а,
V
’S
£ <
s I
s<
« I
WST
■e«
<
Ь
С
&
ПТОЛЕМЕЙ Мавретанский
ДИНАСТИЯ ХАСМОНЕЕВ
Аристобул III Мариамна — Ирод
БИБЛИОГРАФИЯ
Список сокращений
ВДИ Вестник древней истории
СА Советская археология
СГЭ Сообщения Государственного Эрмитажа
сл. следующая [страница]
слл. следующие [страницы]
Цхалтубо I Проблемы греческой колонизации северного и восточного Причерноморья [Материалы I Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья. Цхалтубо, 7977). Тб., 1979 Цхалтубо II Демографическая ситуация в Причерноморье в период великой греческой колонизации [Материалы II Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья. Цхалтубо, 7979). Тб., 1981 Цхалтубо III Причерноморье в эпоху эллинизма [Материалы III Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья. Цхалтубо, 7982). Тб., 1985
Α&Ά AAntHung AAPal A AW Μ
AB AW
ABSA
АС
ACD
АС lass
AD
AE
AEA
AFLC
AG
AHB
AHR
AHN
AIRF
AJA
AJAH
AJPh
AMA
Antike und Abendland
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Atti dell’accade mia di science, letter e e arti di Palermo Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Main%, geistes- und sosfalwissenschaftliche Klasse
Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften, philos.- hist. Klasse
Annual of the British School at Athens L·’ antiqui te classique
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debrecensis
Acta Classica. Proceedings of the Classical Association of South Africa
'Αρχαιολογικόν Δβλτίον
Hanne e epigraphique
Archivo e spano l de arqueo logia
Annali della facoltä di lettere e filosofia della Universita di Cagliari
Archiv io giuridico
The Ancient History Bulletin
American Historical Review
Annali dell’isti tuto italiano di numismatica
Acta Instituti Romani Finlandiae
American Journal of Archaeology
American Journal of Ancient History
American Journal of Philology
Antitnyj Mir i Arkheologija. — Античный мир и археология
932
Список сокращений
A MSI Atti е memorie della societä istriana di archeo logia e storia patria
AncSoc Ancient Society
Annales (ESC)
Annales (Economies, Societis, Civilisations)
ANRW
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, ed. H. Temporini and W. Haase. Berlin and New York, 1972-
ANSMusN
APhD
ArchOrient
ARID
ArchClass
AS
AS AW
ASNP
ASPap
BAR
BASO
BCAR
BCH
BEFAR
BGU
The American Numismatic Society Museum Notes
Archives de Philosophie du droit
Archiv Orientalni
Analecta Romana Instituti Danici
Archeo logia Classica
Anatolian Studies
Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften %u Leipzig
Annali della scuola normale superiore di Pisa, Classe di lettere e filosofia
American Studies in Papyro logy
British Archaeological Reports
Bulletin of the American Schools of Oriental Research
Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma
Bulletin de correspondance hellenique
Bibliotheque des ecoles franqaises d!Athenes et de Rome
Aegyptische Urkunden aus den Museen %u Berlin. Griechische
Urkunden. Berlin, 1895-
BIAO
BICS
BIDR
Bulletin de Г inst itut franqais d!ärcheologie orientale
Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of London
Bullettino dell· istituto di dir it to romano
Ees Bourgeoisies
BRL
Bruns
Les ‘Bourgeoisies' municipales italiennes aux Ile et ler siecles avant J.-C. (Colloque Internat. CNRS 609, Naples 7-10 dec. 1981). Paris, 1983
Bulletin of the John Rylands Library, Manchester
C. G. Bruns, ed., Fontes Iuris Romani Antiqui, edn 7 by О.
Gradenwitz, Tübingen, 1909
Bull. e'p.
CAH
CE
J. and L. Robert, Bulletin epigraphique (in REG) The Cambridge Ancient History Chronique d’Egypte
Du Chat im ent Du chätiment dans la cite. Supplices corporeis et peine de mort dans le
CHCL
mondeantique (Table ronde, Rome 9-11 nov. 1982) (Coll. ec. fr. de Rome 79). Rome, 1984
The Cambridge History of Classical Literature: 1: Greek Literature, ed. P. E. Easterling and В. M. W. Knox. Cambridge, 1985. 11: Latin Literature, ed. E. J. Kenney and W. V. Clausen. Cambridge, 1982
CIJ
CIL
C<&M
COrdPtol
Corpus Inscriptionum Judaicarum Corpus Inscriptionum Latinarum Classica et Mediaevalia
Corpus des ordonnances des Ptolemees, ed. M. Th. Lenger. Brussels, 1964; 2nd corr. edn 1980
Список сокращений
933
CPh
CQ
CR
CRAI
CronErc
CS
CSCA
DArch
Classical Philology Classical Quarterly Classical Review
Comptes rendus de ΐacademie des inscriptions et belles-lettres Cronache ercolanesi Critica storica
California Studies in Classical Antiquity Dialoghi di archeologia
Le delit religieux
Le delit religieux dans la cite antique (Table ronde, Rome 6-7 avril 1978) (Coll. ec. fr. de Rome 48). Rome, 1981
Delo e I’Italia
Delo e l’Italia, edd. F. Coarelli, D. Musti and H. Solin (Opusc. Inst. Rom. Finlandiae 11). Rome, 1982
Les devaluations
Les devaluations а Коте, i (Colloquio, Roma 1975) Rome, 1978; 11
DHA
EEThess
(Colloquio, Gdansk 1978) Rome, 1980 Dialogues d’histoire ancienne
’Επιστημονική ’ Επ€τηρις τής φιλοσοφικής Σχολής τού Παν€πιστημίου θ€σσαλονίκης
EMC Echos du monde classique
Entretiens Hardt
Entretiens sur l} antiquite classique. Fondation Hardt. Vandoeuvres-
ESAR
Geneva, 1952-
An Economic Survey of Ancient Rome, ed. Tenney Frank. 6 vols. Baltimore, 1933-40
FGrH
F. Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker. Berlin and Leiden, 1923-
FIRA
S. Riccobono et al., Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. 3 vols. Florence, 1940-3
FPL
W. Morel and C. Buechner, Fragmenta Poetarum Catinorum. Leipzig, 1982
GIF
Girard-Senn
Giornale italiano di filologia
P.F. Girard and H. Senn, Les lois des Romains (Textes de droit romain 1, 7th edn revised by various persons). Paris and Naples,
GLM
G&R
1977
Geographi Latini Minores, ed. A. Riese. Heilbron, 1878 Greece <& Rome
GRBS Greek у Roman and Byzantine Studies
Greenidge-Clay
A. H. J. Greenidge and A. M. Clay, Sources for Roman History
GRF
I33~7° B C· 2nd edn revised by E. W. Gray. Oxford, i960. Further corrected and augmented 1986
Grammaticae Romanae Fragmenta, ed. Η. Funaioli (Vol. i only). Leipzig, 1907
HebrUCA
Hebrew Union College Annual
934
Список сокращений
Hellenismus
Hellenismus in Mittelitalien, ed. P. Zänker (Kolloq. Göttingen 5-7 juni 1974) (Abh. Göttingen 97). Göttingen, 1976
HRR
H. W. G. Peter, Historicorum Romanorum Reliquiae. 2 vols.
HSPh
HThR
IA
I Delos
1EJ
IFaj
Leipzig, 1906-14
Harvard Studies in Classical Philology Harvard Theological Review Iranica Antiqua
F. Durrbach and others, Inscriptions de Delos. Paris, 1926-50 Israel Exploration Journal
E. Bernard, Recueil des inscriptions grecques du Fayoum. 3 vols. Leiden, 1975-81
IG
IGBulg
IGRR
Inscriptiones Graecae
G. Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Sofia, 195 8— R. Cagnat and others, Inscriptiones Graecae ad res Romanas
ILLRP
pertinentes1, in, iv. Paris, 1906-27
A. Degrassi, Inscriptiones Latinae Hiberae Rei Publicae, 2 vols. 2nd edn Florence, 1963-5
ILS
IMagnesia
H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae. 3 vols. Berlin, 1892-1916 О. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maeander. Berlin, 1900
U impero гот ano
Inscr. Ital.
L! impero r omano e le strutture economiche e sociali de Ile provincie (Bibi, di Athenaeum 4), ed. M. H. Crawford, Como, 1986 Inscriptiones Italiae χιπ, Fasti et Elogia, ed. A. Degrassi. 3 vols.
lOlympia
Rome, 1937-63
W. Dittenberger and K. Purgold, Die Inschriften von Olympia. Berlin, 1896
IOSPE
В. Latyschev, Inscriptiones Antiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. 2nd edn St Petersburg, 1916. — Латышев В.В. Inscriptiones Antiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. 2-е изд. СПб., 1916
I Priene
IBM
JDAI
JEA
JFA
JHS
JJSt
JMS
JNG
JRH
JRS
JS
JVEG
F. Hiller V. Gaertringen, Die Inschriften von Priene. Berlin, 1906
Jahrbuch des bernischen historischen Museums
Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts
Journal of Egyptian Archaeology
Journal of Field Archaeology
Journal of Hellenic Studies
Journal of Jewish Studies
Journal of Mithraic Studies
Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte
Journal of Religious History
Journal of Roman Studies
Journal des Savants
Jaarbericht van het Кoor- Asfatisch-Egyptisch Genootschap ex Oriente Lux
LCM
LEC
Liverpool Classical Monthly Les etudes classiques
Список сокращений
935
LSJ Н. G. Liddell and R. Scott, A Greek-English Lexicon, 9th edn
revised by H. S. Jones. Oxford, 1940
Lugli G. Lugli, Fontes ad Topographiam veteris Urbis Romae pertinentes.
Rome, 1952
MA AK Memoirs of the American Academy in Коте
MD AI (A) (D) (I) (Μ) (K)
Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts (Athens, Damascus, Istanbul, Madrid, Korne)
MEFRA Melanges dyärcheologie et d’histoire de Гecole franqaise de Korne Mel. Heurgon L'Italie preromaine et la Korne republicaine. Melanges offerts ä Jacques Heurgon. 2 vols. Rome, 1976 MH Museum Helveticum
Misurare la terra
Misurare la Terra: Centuria^ioni e coloni nel mondo romano. 5 vols. Modena, 1983-8
MRR T. R. S. Broughton and M. L. Patterson, The Magistrates of the
Roman Republic. 3 vols. 1, и New York, 1951; in Atlanta, 1986 MünchBeitrPapyr
Münchener Beiträge %ur Papyrusforschung und antiken Kechtsgeschichte NAWG Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philol.- Hist. Klasse
NC Numismatic Chronicle
NE Numismatika i Epigraphica. — Нумизматика и эпиграфика
NJNW Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung
Non-slave Labour
Non-slave Labour in the Greco-Roman World, ed. P. Garnsey (Camb. Phil. Soc. Suppl. 6). Cambridge, 1980 Nuova Rivista Storica Notitie degli Scavi di antichit a Numismatische Zeitschrift
W. Dittenberger, Orientis Graecae Inscriptiones Selectae. 2 vols. Leipzig, 1903-5
Des ordres ä Rome, sous la direction de C. Nicolet (Publ. de la Sorbonne. Ser. hist, ancienne et medievale 13), Paris, 1984 H. Malcovati, Oratorum Romanorum Fragmenta. 2 vols. 4th edn Turin, 1976-9
Opuscula Romana (Acta Inst. Rom. Regni Suediae)
Pagan Priests: Religion and Power in the Ancient World, ed. M. Beard and J. A. North. London, 1989 Palestine Exploration Quarterly
O. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis. Leipzig, 1889; repr. with supplement, Graz, i960 Papyrologica Bruxellensia, Brussels, 1962- Papyrologica Coloniensia, Cologne and Opladen, 1964- Papyrologica Lugduno-Batava, Publications of the Institute of Papyrology of Leiden
NRS
NSA
NZ
OGIS
Des Ordres
ORF
ORom
Pagan Priests
PalEQ
Palingenesia
PapBrux
PapColon
PapLugdBat
936
Список сокращений
PAPhS Proceedings of the American Philosophical Society
P Berl dem Demo tische Papyrus aus den Kgl. Museen %u Berlin, ed. W.
Spiegelberg. Leipzig and Berlin, 1902 PBSR Papers of the British School at Rome
PCPhS Proceedings of the Cambridge Philological Society
Philosophia Togata
Phoenix
PLeid
Philosophia Togata: Essays in Philosophy and Roman Society, ed. M. Griffin and J. Barnes. Oxford, 1989 The Phoenix
Papyri graeci Musei antiquarii publici Lugduni-Batavi, ed. С. Leemans. 2 vols. 1843, 1885 ( = P. Lugd. Bat.)
PLond
Greek Papyri in the British Museum, ed. F. G. Kenyon. 5 vols. 1893—1917
Points de vue
Points de vue sur la fiscalite antique, ed. H. van EfFenterre. Paris,
PP
P&P
PRyldem
*979
La parola del passato Past and Present
Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library, Manchester, ed. F.L1. Griffith. 1909
PTebt
The Tebtunis Papyri, ed. В. P. Grenfell, A. S. Hunt and E. J. Goodspeed. Parts 1-3 London, 1902-38
PSI
Pubblica^ioni della societä italiana per la ricerca dei papyri greet e latini in Egitto. Florence, 1912-
PYale
Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library, ed. J. F. Oates and others. 2 vols. New Haven and Toronto, 1967 and 1981
Quaderno 221
RA
RAL
Problemi attuali di scienda e di cultura (Colloquio italo-francese: La filosofia greca e il diritto romano, Roma 14-17 apr. 1973) (Quaderno Lincei 221). 2 vols. Rome, 1976-7 Revue archeologique
Rendiconti della classe di science morali, storiche e filologiche dell' Accademia dei Lincei
RAN
RBA
RBi
RD
RDGE
Revue archeologique de Narbonne
Revue Beige d'archeologie et d’histoire de Гart
Revue biblique
Revue historique de droit franqais et etranger
R. K. Sherk, Roman Documents from the Greek East, Baltimore, 1969
RE
A. Pauly, G. Wissowa and W. Kroll, Real-Encyclopädie der das si sehen A Itertumsmssenschaft
REA
REG
REgypt
REJ
REL
Revue des etudes anciennes Revue des etudes grecques Revue d’egyptologie Revue des etudes juives Revue des etudes latines
Список сокращений
937
R FIC
R HD
RhM
RHR
RIA
RIDA
RIL
Rivista di filologia e di i strutione classica
Revue d’histoire du droit (= Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis)
Rheinisches Museum
Revue de Vhistoire des religions
Rivista delVistituto nationale di archeologia e storia delVarte Revue internationale des droits de V antiquit e
Rendiconti delVistituto Lombardo, Classe di lettere, science morali e storiche
La Rivo ludione Romana
La rivo ludione romana: Inchiesta tra gli antichisti (Biblioteca di Labeo vi). Naples, 1982 RN Revue numismatique
Roma e Vitalia
Incontro di studiosi ‘Roma e Vitalia fra i Gracchi e Silia (Pontignano
Rotondi
18-21 sett. 1969) (DArch 4/5 1970-1, 163-562)
G. Rotondi, Leges publicae populi Romani (Estratto dalla
RPAA
RPh
RPhilos
RSA
RSC
RSI
RSO
SA
Sammelbuch
Enciclopedia Giuridica Italiana). Milan, 1912; repr. Hildesheim, 1962
Rendiconti della pontificia accademia di archeologia Revue de philologie
Revue philosophique de la France et de Vetranger
Rivista storica delVantichitä
Rivista di studi classici
Rivista storica italiana
Rivista degli studi orientali
Sovietskaja Archeolgija. — CA
F. Preisigke and F. Bilabel, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten. 1915 —
SAWW
Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaft in Wien
SB AW
Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften, philos.- hist. Klasse
SCO
SDHl
Studi classici e orientali
Studia et Documenta Historiae et Iuris
SE Studi etruschi
Seaborne Commerce
The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History, ed. J. H. D’Arms and E. C. Kopff (MAAR 36). Rome, 1980
Seager, Crisis
SEG
SGE
SIFC
SIG
The Crisis of the Roman Republic: Studies in Political and Social History, selected and introduced by R. Seager. Cambridge, 1969 Supplementum Epigraphicum Graecum SoobUenija Gosudarstvennogo Ermitaza. — СГЭ Studi italiani di filologia classica
W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum. 4 vols. 3rd edn Leipzig, 1915-24
938
Список сокращений
SMSR
SO
Societ a Romana
TAPhA Tecno logia
Trade
Tskhaltubo i
Tskhaltubo π
Tskhaltubo in
UPZ
VDI
WChrest
WJA
WS
ZPE
ZSS
St udi e materiali di storia de Ile religioni Symbolae Osloenses
Societä romana e produ^ione schiavistica, edd. A. Giardina and A. Schiavone (Acta of the Colloquium, Pisa 1979), 3 vols. Bari, 1981
Transactions and Proceedings of the American Philological Association Tecno logia, economia e societa nel mondo romano (Atti del convegno, Como 27-9 sett. 1979). Como, 1980
Trade in the Ancient Economy, edd. P. Garnsey, K. Hopkins and C. R. Whittaker. London, 1983
Problemy Grecheskoi Kolonistsii Severnogo i Vostochnogo Prichernomorya (Materialy 1 Vsyesoyuznogo Symposiuma po Drevnyei Istorii Prichernomorya, Tskhaltubo 1977). Tbilisi, 1979. — Цхалтубо I
Demographicheskaya Situatsia v Prichernomorya v period Velikoi Grecheskoi Koloni^atsti (Materialy и Vsyesoyuznogo Symposiuma po Drevnyei Istorii Prichernomorya, Tskhaltubo 1979). Tbilisi, 1981. — Цхалтубо II
Prichernomorye v Epokhu Ellini^ma (Materialy hi Vsyesoyuznogo Symposiuma po Drevnyei Istorii Prichernomorya, Tskhaltubo 1982). Tbilisi, 1985. — Цхалтубо III
U. Wilcken, Urkunden der Ptolemderzeit, Parts 1 and 2, Berlin and
Leipzig, 1922-35
Vestnik Drevnei Istorii. — ВДИ
L. Mittels and U. Wilcken, Grundlage und Chrestomathie der Papyrus künde 1. Part 2 (Chrestomathie)
Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft Wiener Studien
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (romanistische Abteilung)
А. Общие исследования
939
УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ
«Библиография» разбита на разделы, каждый из которых посвящен отдельной теме. В ряде случаев эти разделы соответствуют конкретным главам, но чаще всего охватывают содержание нескольких глав. Ссылки на книги (статьи) в постраничных сносках состоят из заглавной буквы, обозначающей соответствующий раздел «Библиографии», и номера, под которым в этом разделе приведено описание данной книги (статьи). При этом для удобства в сносках используются сокращенные описания книг (статей): вначале приводится фамилия автора, затем — дата публикации. Так, например, сноска «Буше 1952 (А 118): 100» означает: «Буше R. The Roman Revolution. 2nd edn. Oxford, 1952. P. 100» [«Сайм P. Римская революция. 2-е изд. Оксфорд, 1952. С. 100»], а найти эту работу можно в разделе А «Библиографии», под номером 118.
А. Общие исследования
1. Badian, Е. Foreign Clientelae (264-γο в.с.). Oxford, 1958
2. Badian, Е. Studies in Greek and Roman History. Oxford, 1964
3. Badian, E. Roman Imperialism in the Fate Republic. Oxford, 1968
4. Badian, E. Publicans and Sinners. Ithaca, 1972
5. Balsdon, J. P. V. D. Romans and Aliens. London, 1979
6. Beard, M. and Crawford, Μ. H. Rome in the Fate Republic. London, 1985
7. Beloch, K. J. Der italische Bund unter Roms Hegemonie. Staatsrechtliche und statistische Forschungen. Leipzig, 1880
8. Beloch, K. J. Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt. Leipzig, 1886
9. Beloch, K. J. Römische Geschichte bis %um Beginn derpunischen Kriege. Berlin and Leipzig, 1926
10. Bernhardt, R. Polis und römische Herrschaft in der späten Republik. Berlin, 1985
11. Bickerman, E. J. Chronology of the Ancient World. London, 1968, revd 1980
12. Bloch, G. and Carcopino, J. Histoire romaine 11, Fa republique romaine de 133 avant J.-C. ä la mort de Cesar, ire Partie, Des Graeques ä Sulla. Paris, 1930
13. Braund, D. C. ‘Royal wills and Rome’, PBSR 51 (1983) 16—57
14. Braund, D. C. Rome and the Friendly King. The Character of Client Kingship. London and New York, 1984
15. Brisson, J.-P. (ed.) Problemes de la guerre ä Rome. Paris and The Hague, 1969
16. Brunt, P. A. Italian Manpower 223 B.C.-A.D.14. Oxford, 1971
17. Brunt, P. A. Social Conflicts in the Roman Republic. London, 1971
18. Brunt, P. A. "Faus imperif, Imperialism in the Ancient World, ed. P. D. A.
Garnsey and C. R. Whittaker, Cambridge, 1978, 159-91 ( = A2o 288-
323)
19. Brunt, P. A. The Fall of the Roman Republic and Related Essays. Oxford, 1988
20. Brunt, P. A. Roman Imperial Themes. Oxford, 1990
21. Cary, M. The Geographical Background of Greek and Roman History. Oxford, 1949
940
А. Общие исследования
2 2. Ciaceri, Е. Processi politici e relationi internayionali. Rome, 1918
23. Ciaceri, E. Cicerone e i suoi tempi. 2 vols. Milan, 1939-41
24. Cimma, M. К. К eges socii et amici populi romani. Milan, 1976
25. Crawford, Μ. H. The Roman Republic. London, 1978
26. Degrassi, A. Scritti vari di antichitä. 4 vols. Venice and Trieste, 1967
27. Dilke, O. A. W. Greek and Roman Maps. London, 1985
28. Earl, D. C. The Moral and Political Tradition of Rome. London, 1967
29. Ferrary, J.-L. ‘Le idee politiche a Roma nell’epoca repubblicana’, Storia delle idee politiche, economiche e sociali 1, ed. L. Firpo, Turin 1982, 723-804
30. Ferrary, J.-L. Philhellenisme et imperialisme. Rome, 1988
31. Finley, Μ. I. The Ancient Economy. London, 1973, 2nd edn 1984
32. Finley, Μ. I. Politics in the Ancient World. Cambridge, 1983
33. Fraccaro, P. Opuscula. 4 vols. Pavia, 1956-7
34. Frank, T. An Economic History of Rome to the End of the Republic. Baltimore, 1920
35. Frederiksen, M. Campania, ed. with additions by N. Purcell. London (British School at Rome), 1984
36. von Fritz, K. The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. New Y ork,
1954
37. Fuchs, H. Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt. Berlin, 1938
38. Galsterer, H. Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen Roms %u den italischen Gemeinden vom Eatinerfrieden 338 v. Chr. bis zum Bundesgenossenkrieg91 v. Chr. (Münchener Beitr. 68). Munich, 1976
39. Garlan, Y. War in the Ancient World: A Social History, transi, by J. Lloyd. London, 1975
40. Geizer, M. Die Nobilitat der römischen Republik. Berlin, 1912, transi, by R. Seager as The Roman Nobility. Oxford, 1975
41. Geizer, M. Kleine Schriften, ed. H. Strasburger and Ch. Meier. 3 vols. Wiesbaden, 1962-4
42. Griffin, Μ. T. Seneca. A Philosopher in Politics. Oxford, 1976
43. Gruen, E. S .The Hellenistic World and the ComingofRome. 2 vols. Berkeley, 1984
44. Hahn, L. Rom und der Romanismus im griechisch-römischen Osten. Leipzig, 1906
45. Harmand, J. Uarmee et le soldat ä Rome de 107 ä jo avant notre ere. Paris, i967
46. Harris, W. V. Rome in Etruria and Umbria. Oxford, 1971
47. Harris, W. V. War and Imperialism in Republican Rome 327-70 b.c. Oxford, *979
48. Heichelheim, F. M. Wirtschaftsgeschichte des Altertums. Leiden, 1938. Italian edn with introd. by M. Mazza, Bari, 1972
49. Hellegouarc’h, J. Le vocabulaire des relations et des partis politiques sous la Republique. Paris, 1963. 2nd edn 1972
50. Hellenismus in Mittelitalien. See Abbreviations under Hellenismus
51. Hill, H. The Roman Middle Class in the Republican Period. Oxford, 1952
5 2. Hinard, F. Les proscriptions de la Rome republicaine (Coli. ec. fr. de Rome
93). Rome, 1985
А. Общие исследования
941
53. Hopkins, К. Conquerors and Slaves. Cambridge, 1978
54. Hopkins, К. and Burton, G. Death and Renewal. Cambridge, 1983
55. Jones, A. Η. M. The Greek City. Oxford, 1940
56. Keppie, L. Colonisation and Veteran Settlement in Italy 47-14 b.c. London, 1983
57. Keppie, L. The Making of the Roman Army. From Republic to Empire. London, 1984
58. Kromayer, J. Antike Schlachtfelder in Griechenland π. Berlin, 1907
59. Kromayer, J. and Veith, G. Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer (Handb. d. Altertumsw. iv 3.2). Munich, 1928
60. Latte, K. Römische Religionsgeschichte (Handb. d. Altertumsw. v 4). Munich, i960.
61. Levick, В. M. ‘Morals, politics, and the fall of the Roman Republic’, G&R 29 (1982) 53-62
62. Lintott, A. W. Violence in Republican Rome. Oxford, 1968
63. Lintott, A. W. ‘Imperial expansion and moral decline in the Roman Republic’, Historia 21 (1972) 626—38
64. Lintott, A. W. ‘What was the imperium Romanum?, G&R 28 (1981)
5 3-67
65. Lintott, A. W. ‘Democracy in the middle Republic’, ZSS 104 (1987) 34-52
66. Lintott, A. W. ‘Electoral bribery in the Roman Republic’, JRS 80 (1990)
67. Magie, D. Roman Rule in Asia Minor. 2 vols. Princeton, 1950
68. Manni, E. Fastiellenistici e romani, 323-31 a.C. (Kokalos Suppl. 1). Palermo, 1961
69. Marquardt, J. and Wissowa, G. Römische Staatsverwaltung (Handb. d. röm. Alterthiimer 4-6). 2nd edn, 3 vols. Leipzig, 1881-5
70. Marsden, E. W. Greek and Roman Artillery. Historical Development. Oxford, 1969; Technical Treatises, Oxford, 1971
71. de Martino, F. Storia della costituvfone romana. 2nd edn, 5 vols. Naples, 1972-5
72. Meier, Ch. Res Publica Amissa. Eine Studie %u Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik. Wiesbaden, 1966
73. Melanges Heurgon. See Abbreviations under Mel. Heurgon.
74. Michels, A. K. The Calendar of the Roman Republic. Princeton, 1967
75. Millar, F. G. B. ‘The political character of the classical Roman Republic, 200—151 b.c.\JRS 74(1984) 1-19
76. Mommsen, Th. Römische Geschichte. 1854-6. 8th edn, 4 vols., Berlin 1888-94. Transl. by W. P. Dickson as The History of Rome, 5 vols. London, 1894, and by C. A. Alexandre as Histoire Romaine, repr. with introd. by C. Nicolet, 2 vols., Paris, 1985
77. Mommsen, Th. Römisches Staatsrecht. Vols 1 and и 3rd edn, Leipzig, 1887; Vol. hi Leipzig, 1888
78. Gesammelte Schriften von Theodor Mommsen. 8 vols. Berlin, 1905-13
79. Münzer, F. Römische Adelsparteien und Adelsfamilien. Stuttgart, 1920
80. Nicolet, C. Vordre equestre ä l'epoque republicaine (313-43 av. J.-C.) (BEFAR 207). 2 vols. Paris, 1966 and 1974
942
А. Общие исследования
81. Nicolet, С. ‘Polybe et les institutions romaines’, Entretiens Hardt 20 (1974) 209-65
82. Nicolet, C. be mitier de citoyen dans la Korne republicaine. 2nd edn Paris, 1976. Translated by P. S. Falla as The World of the Citizen in Republican Rome. London, 1980
83. Nicolet, C. Rome et la conquete du monde mediterraneen 264-27 avant J.-C. 1 Tes structures de ГI1a he romaine (Nouvelle Clio 8); 11 Genese d’un empire (Nouvelle Clio 8 bis). Paris, 1977 and 1978
84. Nicolet, C. ‘Centralisation d’etat et problemes des archives dans le monde greco-romain’, Culture et Ideologie dans la genese de l*etat moderne, Actes du colloque de Rome ij-iy oct. 1984 (Coli. ec. fr. de Rome 82), Rome, 1985, 9-24
85. Nippel, W. Aufruhr und Polizei in der römischen Republik. Stuttgart, 1988
86. North, J. A. ‘The development of Roman imperialism’, JRS 71 (1981) 1-9
87. North, J. A. ‘Democratic politics in Republican Rome’, P&P 126(1990) 3-21
88. Ormerod, H. A. Piracy in the Ancient World. Liverpool, 1924
89. Parke, H. W. Sibyls and Sibylline Prophecy in Classical Antiquity, ed. В. С. McGing. London and New York, 1988
90. Perelli, L. II movimento popolare пе1Гultimo secolo della repubblica. Turin, 1982
91. Platner, S. B. and Ashby, T. A Topographical Dictionary of Ancient Rome. Oxford, 1929
92. von Pöhlmann, R. Geschichte der sozialen Trage und des Sozialismus in der antiken Welt. 2 vols. Munich, 1912
93. Preaux, С. Те monde hellenistique. 2 vols. Paris, 1978
94. Ramsay, W. M. The Historical Geography of Asia Minor. London, 1890
94A. Rawson, E. D. Roman Culture and Society. Oxford, 1991
9 5. Rich, J. W. Declaring War in the Roman Republic in the Period of Transmarine Expansion (Coll. Latomus 149). Brussels, 1976
96. Та rivo ludione romana. See Abbreviations.
97. Rostovtzeff, M. The Social and Economic History of the Roman Empire. 1926. 2nd edn, 2 vols. Oxford 1957
98. Rostovtzeff, M. The Social and Economic History of the Hellenistic World. 3 vols. Oxford, 1941
99. Rouland, N. Pouvoir politique et dependance personnels dans I’antiquite romaine. (Coll. Latomus 166). Brussels, 1979
100. de Ste Croix, G. E. M. The Class Struggle in the Ancient Greek Worldfrom the Archaic Age to the Arab Conquests. London, 1981
101. Salmon, E. T. Samnium and the Samnites. Cambridge, 1967
102. Salmon, E. T. The Making of Roman Italy. London, 1982
103. De Sanctis, G. Per la scienda dell'antichitä. Turin, 1909
104. De Sanctis, G. Problemi di storia antica. Bari, 1932
105. Sands, P. C. The Client Princes of the Roman Empire under the Republic. Cambridge, 1908
106. Schleussner, B. Die Tegaten der römischen Republik. Munich, 1978
В. Источники
943
107. Schneider, Н. Die Entstehung der römischen Militärdiktatur. Krise und Niedergang einer antiken Republik. Cologne, 1971
108. Scullard, Η. H. From the Gracchi to Nero. 5 th edn 1982, repr. London and New York, 1988
109. Seager, R. ‘Factio: some observations’, JRS 62 (1972) 5 3-8 no. Seager, R. Crisis. See Abbreviations
hi. Semple, E. C. The Geography of the Mediterranean Region in relation to Ancient History. London, 1932
112. Shatzman, I. Senatorial Wealth and Roman Politics (Coll. Latomus 142). Brussels, 1975
113. Sherwin-White, A. N. The Roman Citizenship. 2nd edn, Oxford, 1973
114. Smith, R. E. The Failure of the Roman Republic. Cambridge, 195 5 114A. Smith, R. E. Service in the Post-Marian Roman Army. Manchester, 1958
115. Stranger, P. P. Untersuchungen %и den Namen der römischen Provinzen. Diss. Tübingen, 1955
116. Strasburger, H. Optimates’, RE 18.1 (1939) 773-98
117. Suolahti, J. The Junior Officers of the Roman Army in the Republican Period. Helsinki, 1955
118. Syme, R. The Roman Revolution. 1939. 2nd edn Oxford, 1952
119. Syme, R. Roman Papers. Vols. i-π ed. E. Badian, vols. iii-v ed. A. R. Birley. Oxford, 1979-88, vols. vi-vn ed. A. R. Birley, Oxford, 1991
120. Taylor, L. R. Party Politics in the Age of Caesar. Berkeley, 1949
121. Toynbee, A. J. Hannibal's Legacy. 2 vols. OUP London, 1965
122. Vittinghoff, F. Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus (AAWM 1951, 14). Wiesbaden, 1952
123. Vogt, J. Ancient Slavery and the Ideal of Man, transl. by T. E. V. Wiedemann, Oxford, 1974
124. Walbank, F. W. Selected Papers. Cambridge, 1985
125. Weber, M. Storia economica e sociale dell'antichitä (pref. by A. Momigliano). Rome, 1981
126. Wheeler, R. E. M. Rome beyond the Imperial Frontiers. London, 1954
127. Will, E. Histoirepolitique du monde hellenistique (323—30 av. J.-C.) {Annalesde Г Est 32). 2nd edn 2 vols. Nancy, 1979 and 1982
128. Wilson, A. J. N. Emigration from Italy in the Republican Age of Rome. Manchester, 1966
129. Wirszubski, C. Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principale. Cambridge, 1950
130. Wiseman, T. P. New Men in the Roman Senate. Oxford, 1971
131. Wiseman, T. P. ‘The definition of “eques Romanus” in the late Republic and early Empire’, Historia 19 (1970) 67-83
Ч2· Wiseman, T. P., ed. Roman Political Life 90 b.c.-a.d. 69. Exeter, 1985 I33· Wiseman, T. P. Roman Studies Literary and Historical, Liverpool, 1987
В. Источники
(а) Литературные источники
i. Austin, R. G. M. Tulli Ciceronis Pro M. Caelio Oratio. 3rd edn Oxford, i960
944
В. Источники
2. Badian, Е. ‘Where was Sisenna?’, Athenaeum 42 (1964) 422-31
3. Badian, E. ‘An unrecognised date in Cicero’s text?’, Mnemai: Classical Studies in Memory of Karl К. Hulley, ed. H. D. Evjan, Chico, CA, 1984, 97-101
4. Barnes, J. ‘Cicero’s De Fato and a Greek source’, Histoire et structure: ä la memoire de Victor Goldschmidt, Paris, 1985, 229-39
5. Barwick, K. Caesars bellum Civile. Tendern^, Abfassungs^eit und Stil {ASAW99.1). Berlin, 1951
6. Bloch, H. ‘The structure of Sallust’s Historiae. The evidence of the Fleury manuscript’, Studies in Honor of A. M. Albareda, ed. S. Prete, New York, 1961, 61-76
7. Buchheit, V. ‘Ciceros Kritik an Sulla in der Rede für Roscius aus Ameria’, Historia 24 (1975) 5 70-91
8. Buchheit, V. ‘Chrysogonus als Tyrann in Ciceros Rede für Roscius aus Ameria’, Chiron 5 (1975) 193-211
9. Calboli, G. M. Porci Catonis Oratio pro Rhodiensibus. Bologna, 1978
10. Cardauns, В. Varros Logistoricus über die Götterverehrung (Diss. Köln). Würzburg, i960
11. Cardauns, В. M. Terentius Varroy Antiquitates Rerum Divinarum. 2 vols. Wiesbaden, 1976
12. Cardauns, В. ‘Varro und die Religion. Zur Theologie, Wirkungsgeschichte und Leistung der “Antiquitates Rerum Divinarum”’, ANRW 11.16.1 (1978) 80-103
13. Carter, J. M. Sallust: Fragments of the Histories (Factor 6). London, 1970, repr. 1978
14. Castagnoli, F. ‘L’insula nei cataloghi regionari di Roma’, RFIC 104 (1976)45-52
15. Castiglioni, L. ‘Motivi antiromani nella tradizione storica antica’, RIL 61 (1928) 625-39
16. Cichorius, C. Untersuchungen %u Lucilius. Berlin, 1908, repr. 1964
17. Clark, A. C. Pro T. Annio Milone ad Indices Oratio. Oxford, 1895
18. Collart, J. Varron gram m air ten latin. Paris, 1954
19. della Corte, F. Varrone: il ter^o gran lume romano. 2nd edn Florence, 1970
20. Crook, J. A. ‘Lex “Rivalicia” (FIRA 1, no.5)’, Athenaeum 64 (1986)
45-53
21. Cuff, P. J. ‘Prolegomena to a critical edition of Appian B. C. 1’, Historia 16 (1967) 177-88
22. Dahlmann, H. ‘Terentius’ (84), RE Suppi. 6 (1935) 1172-277
23. Dahlmann, H. ‘Varroniana’, ANRW 1.3 (1973) 3-25
24. Dalzell, A. ‘Lucretius’, CHCL и (1982) 207-29
25. David, J. M. et a/., ‘Le commentariolum petitionis de Q. Ciceron’, ANRW 1.3 (1973) 239-77
26. Derow, P. S. ‘Polybius, Rome and the East’, JRS 69 (1979) 1-15
27. Dilke, O. A. W. The Roman Land Surveyors. An Introduction to the Agrimensores. Newton Abbott, 1971. (Also ANRW 11.1 (1974) 564-92)
В. Источники
945
28. Dörrie, Н. ‘Polybios über “pietas”, “religio” und “fides” (zu Buch 6, Кар. 56)’, Melanges de Philosophie, de litt, et d* hist. ancienne opferts ä Pierre Boyance (Coli. ec. fr. de Rome 22), Rome, 1974, 251-72
29. Douglas, A. E. M. Tulli Ciceronis Brutus. Oxford, 1966
30. Douglas, A. E. Cicero (Greece and Rome New Surveys in the Classics 2). Oxford, 1968, repr. with addenda 1978
31. Earl, D. C. The Political Thought of Sallust. Cambridge, 1961
32. Edelstein, L. and Kidd, I. G. Posidonius. 1 Cambridge, 1972,11 (2 vols.) Cambridge 1988
33. Ensslin, W. ‘Appian und die Liviustradition zum ersten Bürgerkrieg’, Klio 20 (1926) 415-65
34. Fantham, E. ‘The synchronistic chapter of Gellius (ΝΑ 17.21) and some aspects of Roman chronology and cultural history between 60 and 5 о в.с.’, LCM 6 (1981) 7-17
35. Ferrary, J.-L. ‘L’archeologie du De Re Publica (2.2,4-37,63): Ciceron entre Polybe et Platon\ JRS 74 (1984) 87-98
36. Forni, G. ]/a lore storico e fonti di Pompeio Trogo 1. Urbino, 1958
37. Frier, B. W. Libri annales pontificorum maximorum. The Origins of the Annalistic Tradition (Pap. and Monog. Amer. Ac. Rome 27). Rome, 1979
38. Gabba, E. Appiano e la storia de lie guerre civili. Florence, 1956
39. Gabba, E. ‘Note sulla polemica anticiceroniana di Asinio Pollione’, RSI 69 ('917) 317-39
40. Gabba, E. Appiani Bellorum Civilium Liber 1. 1958, 2nd edn Florence, 1967
41. Gabba, E. ‘Studi su Dionigi di Alicarnasso in. La proposta di legge agraria di Spurio Cassio’, Athenaeum 42 (1964) 29-41
42. Geiger, J. Cornelius Nepos and Ancient Political Biography. Stuttgart, 1985
43. Gow, A. S. F. and Page, D. L. The Greek Anthology 11. The Garden of Philip. 2 vols. Cambridge, 1968
44. Henderson, M. I. (De commentariolo petitionis* ^ JRS 40 (1950) 8-21
45. Homey er, H. Die antiken Berichte über den Tod Ciceros und ihre Quellen. Baden-Baden, 1964
46. How, W. W. Cicero, Select Letters и, Commentary. Oxford, 1925
47. Janke, M. Historische Untersuchungen %u Memnon von Herakleia. Diss. Würzburg, 1963
48. Jocelyn, H. D. The Tragedies of Ennius. Cambridge, 1967
49. Jonkers, E. J. Social and Economic Commentary on Cicero*s De Imperio Cn. Pompei. Leiden, 1959
50. Jonkers, E. J. Social and Economic Commentary on Cicero*s De Lege Agraria Orationes Tres. Leiden, 1963
51. Keaveney, A. ‘Four puzzling passages in Appian’, GIF 33 (1981) 247-50 5 2. Keaveney, A. and Strachan, J. C. G. ‘L. Catilina legatus: Sallust, Histories
1.46M’, CQ (1981) 363-6
5 3. Kenney, E. J. Lucretius (Greece and Rome New Surveys in the Classics 11). Oxford, 1977
54. Kinsey, T. E. ‘The dates of the pro Roscio Amerino and pro Quinctio’, Mnemosyne 20 (1967) 61-7
946
В. Источники
55. Kinsey, Т. Е. M. Tullii Ciceronis pro Quine tio Oratio. Sydney, 1971
5 6. Kinsey, T. E. ‘Cicero’s case against Magnus, Capito and Chrysogonus in the Pro Sex. Roscio Amerino and its use for the historian’, AC 49 (1980) 173-9°
5 7. Kinsey, T. E. ‘The political insignificance of Cicero’s pro Roscio’, LCM 7 (1982) 39-40
58. Koestermann, E. C. Sallustius Crispus. Bellum Jugurthinum. Heidelberg, 1971
59. Kornemann, E. Zur Geschichte der Gracchen^eit. Quellenkritische und chronologische Untersuchungen (Klio Beih. 1). Leipzig, 1903
60. Kumaniecki, K. ‘Les discours egares de Ciceron “pro C. Cornelio”’, Med. Kon. Vlaam. Acad. Belg. 32 (1970) 3-36
61. Laffranque, M. ‘Poseidonios historien. Un episode significatif de la premiere guerre de Mithridate’, Pallas 11 (1962) 103-9
62. Langenberg, G. M. Terenti Varronis Liber De Philosophia. Ausgabe und Erklärung der Fragmente. Cologne, 1959
63. La Penna, A. Sallustio e la rivo ludione romana. Milan, 1969
64. Larsen, J. А. О. ‘Consilium in Livy xlv.i 18.6-7’, CPh 44 0949) 73-90
65. Lenaghan, J. О .A Commentary on Cicero’s Oration De Haruspicum Responso. The Hague, 1969
66. McGushin, P. C. Sallustius Crispus. Bellum Catilinae. A Commentary (Mnemosyne Suppi. 45). Leiden, 1977
67. Magnino, D. Appiani Bellorum Civilium Liber Tertius. Florence, 1984
68. Malitz, J. Ambitio mala. Studien %urpolitischen Biographie des Sallust. Bonn,
1975
69. Malitz, J. Die Historien des Poseidonios (Zetemata 74). Munich, 1983
70. Manuwald, B. Cassius Dio und Augustus. Philologische Untersuchungen \u den Büchern 4J-j6 des dionischen Geschichtswerkes (Palingenesia 14). Wiesbaden, *979
71. Marsden, E. W. Greek and Roman Artillery. Technical Treatises. Oxford, 1971
72. Marshall, B. A. A Commentary on Asconius. Columbia, Missouri, 1985
73. Martin, R. Recherches sur les agronomes latins. Paris, 1971
74. Nagle, D. B. ‘An allied view of the Social War’, A JA 77 (1973) 367-78
75. Nardo, D. II Commentariolum Petitionis: la propaganda elettorale nella ars di Quinto Cicerone. Padua, 1970
76. Nisbet, R. G. M. Tulli Ciceronis de Domo Sua ad Pontifices Oratio. Oxford, 1939
77. Nisbet, R. G. M. M. Tulli Ciceronis in L. Calpurnium Pisonem Oratio. Oxford, 1961
78. Nisbet, R. G. M. ‘The Commentariolum Petitionis’, JRS 51 (1961) 84-7
79. Ogilvie, R. M. A Commentary on Livy Books /-/. Oxford, 1965
80. Ogilvie, R. M. ‘Caesar’, CHCL 11 (1982) 281-5
81. Ogilvie, R. M. and Pelling, C. B. R. ‘Titi Livi Lib. xci’, PCPhS 30 (1984) 116-25
82. Paterson, J. ‘ Transalpinae gentes: Cicero, De Re Publica 3.16’, CQ 28 (1978) 452-8
В. Источники
947
83. Paul, G. Μ. A HistoricaI Commentary on Sallusfs Bellum Jugurthinum. Liverpool, 1984
84. Pelling, C. B. R. ‘Plutarch and Roman politics’, Bast Perspectives, ed. I. S. Moxon et al., Cambridge, 1986, 159-87
85. Philippson, R. ‘Tullius’ (29), ‘Die philosophischen Schriften’, RE 7 A (1939)1104-92
86. Phillips, E. J. ‘Cicero, ad Atticum 1 2’, Philologus 114 (1970) 291-4
87. Pocock, L. G. A Commentary on Cicero in Vatinium. London, 1926
88. Powell, J. G. F. Cicerof Cato Maior de senectute. Cambridge, 1988
89. Preibisch, P. Two Studies on the Roman Pontifices. New York, 1975 (repr. of Quaestiones de libris pontificiis, Bratislava, 1874 and Fragmenta librorum pontificiorum, Tilsit, 1878)
90. Rambaud, M. Ciceron et 1'histoire romaine. Paris, 1953
91. Rambaud, M. L'art de la deformation historique dans les Commentaires de Cesar. 2nd edn Paris, 1966
92. Ramsey, J. T. Sallust's Bellum Catilinae. Chico, ca, 1984
93. Rawson, E. ‘The literary sources for the pre-Marian army’ PBSR 39 (197т) 13-31 ( = A 94Л, 34-57)
94. Rawson, E. ‘History, historiography, and Cicero’s expositio consiliorum suorum\ LCM 7 (1982) 121-4 ( = a 94A, 408-15)
95. Regell, P. Roman Augury and Etruscan Divination. New York, 1975 (repr. of De augur um publicorum libris, Bratislava, 1878 and Fragmenta auguralia, Hirschberg, 1882)
96. Reid, J. S .M. Tulli Ciceronis Academica. London, 1885
97. Richard, J. C. ‘Pline et les myrtes du temple de Quirinus’, Latomus 45
(1986) 785-96
98. Richardson, J. S. ‘Polybius’ view of the Roman empire’, PBSR 47 (1979)
I —11
99. van Rinsveld, B. ‘Ciceron, de re publica hi, 9, 15-16’, Latomus 40 (1981) 280—91
100. Rostovtzeff, Μ. I. Strabon kak istochnik dlya istorii Bospora. Kharkov, 1914. — Ростовцев М.И. Страбон как источник для истории Боспора. Харьков, 1914
ιοί. Rubinsohn, Z. ‘A note on Plutarch, Crassus х.Г, Historia 19 (1970) 624-7
102. Schmidt, О. Е. Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero von seinem Prokonsulat in Cilicien bis %u Caesars Ermordung. Leipzig, 1893
103. Seager, R. ‘Two urban praetors in Valerius Maximus’, CR 84 (1970) 11
104. Seager, R. ‘Valerius Maximus vn 7.7: addendum’, CR 86 (1972) 314
105. Seager, R. ‘“Populäres” in Livy and the Livian tradition’, CQ 71 (1977) 377-9°
106. Seager, R. ‘The political significance of Cicero’s pro Roscio’, LCM 7 (1982) 10-12
Ι07· Sedley, D. ‘Epicurus, On Nature Book xxviii’, CronErc 3 (1973) 5-83 IQ8. Shackleton Bailey, D. R. Cicero's Letters to Atticus. 7 vols. Cambridge, 1965-70
948
В. Источники
109. Shackleton Bailey, D. R. Two Studies in Roman Nomenclature. New York, 1976
no. Shackleton Bailey, D. R. Cicero, Epistulae ad Familiares. 2 vols. Cambridge, 1977
hi. Shackleton Bailey, D. R. Cicero, Ad Quintum Fratrem et M. Brutum. Cambridge, 1980
112. Sherwin-White, A. N. The Letters of Pliny. Oxford, 1966
113. Skydsgaard, J. E. Varro the Scholar: Studies in the first Book of Varro's De Re Rustica. Copenhagen, 1968
114. Strasburger, H. ‘Poseidonios on problems of the Roman empire’, JRS 5 5 (1965) 40-53
115. Sumner, G. V. The Orators in Cicero's Brutus: Prosopography and Chronology. Toronto, 1973
116. Syme, R. Sallust. Berkeley, 1964
117. Twyman, B. L. ‘The date of Sulla’s abdication and the chronology of the first book of Appian’s Civil Wars\ Athenaeum 54 (1976) 271-95
118. T yrrell, W. В .A Legal and Historical Commentary to Cicero's Pro C. Rabirio Perduellionis Reo. Amsterdam, 1978
119. Valgiglio, E. Plutarco, Vita di Silia. 2nd edn Turin, i960
120. Vretska, К. C. Sallustius Crispus de Catilinae Coniuratione. 2 vols. Heidelberg, 1976
121. Walbank, F. W. A Historical Commentary on Polybius. 3 vols. Oxford, 1957-69
122. Walbank, F. W. ‘The Scipionic legend’, PCPhS 13 (1967) 54-69 (= Selected Papers 120-3 7)
123. Walbank, F. W. Polybius. Berkeley, 1972
124. Walser, G. Der Briefwechsel des L. Munatius Plancus mit Cicero. Basle, 1957
125. Walton, F. R. ‘A neglected historical text’, Historia 14 (1965) 236-51
126. Wiseman, T. P. Clio's Cosmetics. Leicester, 1979
127. Wiseman, T. P. Catullus and his World. Cambridge, 1985
128. Wiseman, T. P.‘Who was Crassicius Pansa?’, TAPhA 115 (1985) 187-96
129. Woodman, A. J. Velleius Paterculus: the Caesarian and Augustan Narratives (2.41-pj). Cambridge, 1983
130. de Zulueta, F. The Institutes of Gaius. 2 vols. Oxford, 1946 and 1953
(b) Эпиграфия и нумизматика
131. Anderson, J. G. C, Cumont, F. and Gregoire, H. Recueildes inscriptions grecques et latines du Pont et de l' Armenie {Studia Pontica in). Brussels, 1910
132. Bagnall, R. S. and Derow, P. Greek Historical Documents: The Hellenistic Period. Chico, ca, 1981
133. Birks, P., Rodger, A. and Richardson, J. S. ‘Further aspects of the Tabula Contrebiensis\ JRS 74 (1984) 45-73
134. Boehringer, C. Zur Chronologie mittelhellenistischer Mün%serieny 220-160 v. Chr. Berlin, 1972
135. Bove, L. Documentiprocessuali dalle Tabulae Pompeianae di Murecine. Naples, *979
В. Источники
949
136. Bove, L. Documenti di operationi finanzierte dall* archivio dei Sulpici. Naples,
1984
137. Boyce, G. K. Corpus of the Eararia of Pompeii (MAAR 14). Rome, 1937
138. Bruna, F. J. Lex Rubria: Caesars Regelung für die richterlichen Kompetenzen der Munizipalmagistrate in Gallia Cisalpina. Text, Übersetzung und Kommentar. Leiden, 1972
139. Cabanes, P. ‘Nouvelles inscriptions d’Albanie meridionale (Bouthrotos et Apollonia)’, ZPE 63 (1986) 137-55
140. Calabi Limentani, I. Epigrafia latina. Venice and Milan, 1968
141. Camodeca, G. Ter una riedizione dell’archivio puteolano dei Sulpici’, Puteoli 6 (1982) 3-53; 7-8 (1984) 3-25; 9-10 (1985-6) 3-40
142. Coarelli, F. ‘Su alcuni proconsoli di Asia tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. e sulla politica di Mario in oriente’, Tituli 4 (= Atti del colloquio internationale AIEGL su epigrafia e ordine senatorio 1, Rome, 1982), 43 5-51
143. Cormack, J. M. R. ‘The gymnasiarchal law of Beroea’, Ancient Macedonia ii (Papers of the 2nd International Symposium, Thessalonike, 10-12 Aug. 197f)y Thessalonica, 1977, 139-49
144. Crawford, M. H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge, 1974
145. Crawford, M. H. Coinage and Money under the Roman Republic. London,
1985
146. Crawford, M. H. and Wiseman, T. P. ‘The coinage of the age of Sulla’, NC 4 (1964) 141-58
147. Dakaris, S. T Romaiki politiki stin Ipeiro’, Nikopolis 1 (Proc. of the ist Internat. Symposium on Nikopolis, 29-9 Sept. 1984), Preveza, 1987, 11-21
148. Derow, P. S. and Forrest, W. G. ‘An inscription from Chios’, ABSA 77 (1982) 79-92
149. Duchene, H. ‘Sur la stele d’Aulus Caprilius Timotheos, somatemporos’, BCH 110 (1980) 513-30
150. Engelmann, H. and Knibbe, D. ‘Das Zollgesetz der Provinz Asia, eine neue Inschrift aus Ephesos’, EA 14 (1989) 1-206
151. Fentress, E. 'Via Aurelia* Via Aemilia\ PBSR 52 (1984) 72-6
152. Frederiksen, M. ‘The Lex Rubria, reconsiderations’, JRS 54 (1964) 252-77
153. Frederiksen, M. ‘The Republican municipal laws: errors and drafts’, JRS 55 (1965) 183-98
154. Galsterer, H. ‘Die lex Osca Tabulae Bantinae - eine Bestandaufnahme’, Chiron i (1971) 191-214
155. Galsterer-Kroll, B. ‘Untersuchungen zu den Beinamen der Städte des Imperium Romanum’, Epigraphische Studien 9 (1972) 44-145
156· Garnsey, P., Gallant, T. and Rathbone, D. ‘Thessaly and the grain supply of Rome during the second century b.c.’, JRS 74 (1984) 30-44
157· Gascou, J. ‘Inscriptions de Tebessa’, MEFRA 81 (1969) 5 37-99
15 8. Gasperini, L. ‘Su alcuni epigrafi di Taranto romano’, Misc. greca e romana ii, Rome, 1968, 379-97
159· Gasperini, L. ‘Ancora sul frammento cesariano di Taranto’, Epigraphica 33 (1971) 48-59
950
В. Источники
160. Gilyevich, А. М. ‘Chersonesus and the Pontic state of Mithridates VI according to numismatic data’ (Russ.), Tskhaltubo in, 608-17. — Гиле- вич A.M. Херсонес и Понтийская держава Митридата VI по нумизматическим данным // Цхалтубо ПГ. 608—617
161. Giovannini, А. Коте et la circulation monetaire en Grece au He siecle avant
J.-C. Basle, 1978
162. Golenko, К. V. ‘Bronze coins of the cities of Pontus and Paphlagonia in the time of Mithridates VI from the finds on the Bosporus’ (Russ.), Klio 46 (1965) 307-22. — Голенко K.B. Понтийская монета времени Митридата VI на Боспоре // Klio (1965) 46: 307—322
163. Golenko, К. V. ‘Anonymous Pontic copper’ (Russ.) VDI 1969.1 (107) 130—54. — Голенко KB. Понтийская анонимная медь (хронология, классификация, характер чекана) // ВДИ 1969 (107) 1: 130—154
164. Golenko, К. V. ‘Pontus und Paphlagonien’, Chiron 3 (1973) 467-99
165. Golenko, К. V. and Karyszkovski, P. J. ‘The gold coinage of King Pharnaces of the Bosporus’, NC 12 (1972) 25-38
166. Gordon, R. L. ‘The date and significance of CIMRM 593 (British Museum, Townley Collection)’, JMS 2 (1977/8) 148-74
167. Grebenkin, V. N. and Zaginailo, A. G. On the question of coin circulation in the state of Pontus at the time of Mithridates Eupator (Russ.), Tskhaltubo hi, 22-4. — Загинайло А.Г., Гребёнкин В.Г. К вопросу о денежном обращении Понтийского государства эпохи Митридата VI Евпатора // Цхалтубо III: 143—146
168. Hall, A. S. ‘New light on the capture of Isaura Vetus by P. Servilius Vatia’, Akten des VI Internat. Kongresses fürgr. und lat. Epigraphik (Vestigia 17), Munich, 1972, 568-71
169. Hardy, E. G. Koman Laws and Charters. Oxford, 1912
170. Hassall, M., Crawford, M. H. and Reynolds, J. ‘Rome and the eastern provinces at the end of the second century b.c.’, JRS 64 (1974) 195-220
171. Head, В. V. Historia N umorum. 2nd edn Oxford, 1911
172. Hinrichs, F. T. ‘Die lateinische Tafel von Bantia und die “Lex de Piratis”’, Hermes 98 (1970) 473—502
173. Holleaux, M. ‘Decret de Cheronee relatif a la premiere guerre de Mithradates’, Etudes d!epigraphie et d*histoiregrecques 1, Paris, 1938, 143-59
174. Holleaux, M. ‘Le decret de Bargylia en l’honneur de Poseidonios’, Etudes d’epigraphie et dyhistoire grecques 11, Paris, 1938, 179-98
175. Imhoof-Blumer, F. ‘Die Kupferprägung des mithridatischen Reiches und andere Münzen des Pontus und Paphlagoniens, NZ 5 (1912) 169-84
176. Johannsen, K. Die lex agraria des Jahres /// v. Chr. Diss. Munich,
1971
177. Jones, H. S. ‘A Roman law concerning piracy’, JRS 16 (1926) 15 5-73
178. Karyshkovsky, P. O. ‘Monetary circulation at Olbia at the end of the second century and in the first half of the first century b.c.’ (Russ.) NE 5 (1965) 62-74
179. Knapp, R. C. ‘The date and purpose of the Iberian denarii’, NC (1977) i—18
В. Источники
951
180. Koukouli-Chrysanthaki, Ch. ‘Politarchs in a new inscription from Amphipolis’, Ancient Macedonian Studies in honor of Charles F. Edson (Inst, for Balkan Studies 158), Thessalonica, 1981, 229-41
181. Kraay, С. M. ‘Caesar’s quattuorviri of 44 b.c. The arrangement of their issues’, NC 14 (1954) 18-31
182. Kraay, С. M. and Hirmer, M. Greek Coins. London, 1966
183. Kleiner, F. S. ‘The 1926 Piraeus hoard and Athenian bronze coinages86 b.c.’, AD 28 (1973) 169-86
184. Kleiner, G. ‘Pontische Reichsmünzen’, MDAI(I) 6 (1955) 1-21
185. Krahmer, G. ‘Eine Ehrung für Mithradates Eupator in Pergamon’, JDAI40 (1925) 183
186 Laffi, U. ‘La lex Aelia Furfensis\ La Cultura Italica (Attidel Convegno della Societä Italiana di Glottologia, Pisa 19-20 die. 1977), Pisa, 1978, 121-48
i86a. Laffi, U. ‘La Lex Rubria de Gallia Gisalpina’, Athenaeum 64 (1986) 5-44
187. La Regina, A. ‘Le iscrizioni osche di Pietrabbondante e la questione di Bovianum Vetus’, RhM 109 (1966) 280-6
188. Lewis, D. M. ‘The chronology of the Athenian new style coinage’, NC 2 (1962) 275
189. Lintott, A. W. ‘Notes on the Roman law inscribed at Delphi and Cnidos’, ZPE 20 (1976) 65-82
190. Lintott, A. W. ‘The quaestiones de sicariis et veneficis and the Latin lex Bantina\ Hermes 106 (1978) 125-38
191. Lintott, A. W. ‘The Roman judiciary law from Tarentum’, ZPE 45 (1982) 127-38
192. Lintott, A. W. ‘The so-called Tabula Bembina and the Humanists’, Athenaeum 61 (1983) 201-14
193. Lopez Melero, R., Sanchez Abal, J. L. and Garcia Jimenez, S. Έ1 bronce de Alcantara: una deditio del 104 a.C.’, Gerion 2 (1984) 265-323
194. Luce, T. J. ‘Political propaganda on Roman republican coins: circa 92-82 b.c.’, AJA 72 (1968) 25-39
195. Mackay, P. ‘Macedonian tetradrachms of 148-147 b.c.’, ANSMusN 14 (1968) 15-40
196. Mackay, P. ‘The coinage of the Macedonian republics 168-146 b.c.’, Ancient Macedonia 1 (Papers of the ist International Symposium, Thessalonike 1968), Thessalonica, 1970, 256-64
197. Manganaro, G. ‘Citta di Sicilia e santuarii panellenici nel III e II secolo a.C.’, Historia 13 (1964) 414-39
198. Mattingly, H. B. ‘The two Republican laws of the Tabula Bembina\ JRS 59 (1969) 129-45
199. Mattingly, H. B. ‘Some third magistrates in the Athenian new style coinage’, JHS 91 (1971) 85-93
200. Mattingly, H. B. ‘The date of the “de agro Pergameno” \AJPh 93 (1972) 412-23
201. Mattingly, H. B. ‘L. Julius Caesar, governor of Macedonia’, Chiron 9 (1979) 147-67
202. Melior, R. ‘The dedications on the Capitoline hill’, Chiron 8 (1978) 319-
30
952
В. Источники
203. Morkholm, О. ‘Some Cappadocian problems', NC 2 (1962) 407-11
204. Morkholm, О. ‘Some Cappadocian die-links', NC 4 (1964) 21-5
205. Morkholm, O. ‘The coinage of Ariarathes VIII and IX of Cappadocia’, Essays in Greek Coinage Presented to Stanley Robinson, ed. С. M. Kraay and G. K. Jenkins, Oxford, 1968, 241-58
206. Morkholm, O. ‘The classification of Cappadocian coins’, NC 9 (1969) 21-31
207. Morkholm, O. ‘Ptolemaic coins and chronology: the dated silver coinage of Alexandria', ANSMusN 20 (1975) 7-24
208. Morkholm, O. ‘The Cappadocians again’, NC 19 (1979) 242-6
209. Morkholm, O. ‘The Parthian coinage of Seleucia on Tigris c.90-5 5 b.c.', NC 20 (1980) 38-47
210. Nenci, G. ‘Considerazioni sui decreti di Entella’, ASNP 12 (1982) 1069—86
211. Newell, E. T. Royal Greek Portrait Coins. New York, 1937
212. Nicolet, C. et al. Insula Sacra. Ea lot Gabinia-Calpurnia de Delos (Coll. ec. fr. Rome 45). Rome, 1980
213. Ostrow, S. ‘Augustales along the Bay of Naples’, Historia 34 (1985)
64— 101
214. Panciera, S. ‘Tra topografia e epigrafia 11’, ArchClass 22 (1970) 138
215. Panciera, S. ‘Nuovi documenti epigrafici per la topografia di Roma antica’, RPAA 43 (1970/1) 109-34
216. Pani, M. ‘Su un nuovo cippo graccano dauno’, RIL 111 (1977) 389-400
217. Pearse, J. L. D. ‘Three Alba of the Collegium Fabrorum Tignariorum of Rome’, BCAR 85 (1980) 164-96
218. Pfeiler, H. ‘Die frühesten Porträts des Mithridates Eupator und die Bronzeprägung seiner Vorgänger’, Schweizer Mün^blätter 18.7 (1968) 78—80
219. Plassart, A. ‘Decrets de Thespies’, Melanges d’arch. et d’hist. offerts ä Ch. Picard, RA 29-32 (1949) 825-32
220. Price, M. J. ‘The new-style coinage of Athens’, NC 4 (1964) 27-36
221. Price, M. J. ‘Mithridates VI Eupator Dionysos and the coinages of the Black Sea’, NC 8 (1968) 1-12
222. Quoniam, P. ‘A propos d’une inscription de Thuburnica’, CRAI (1950) 552-6
223. Raubitschek, A. E. ‘Epigraphical notes on Julius Caesar’, JR J 44 (1954)
65- 75
224. Reinach, T. Numismatique ancienne: trots royaumes d’Asie Mineure. Paris, 1888
225. Reinach, T. ‘A stele from Abonouteichos’, NC 5 (1905) 113-19
226. Reynolds, J. Aphrodisias and Rome (JRS Monograph 1). London, 1982
227. Richardson, J. S. ‘The Tabula Contrebiensis: Roman law in Spain in the early first century b.c.’, JRS 73 (1983) 33-41
228. Robert, J. and Robert, L. Claros 1. Decrets hellenistiques 1. Paris, 1989
229. Robert, L. Etudes anatoliennes. Recherches sur les inscriptions grecques de Г Asie mineure. Paris, 1937
230. Robert, L. ‘Inscriptions de Phocee’, Hellenica 10, Paris, 1955, 257-61
В. Источники
953
231. Robert, L. ‘Recherches epigraphiques’, REA 62 (i960) 276-361
232. Robert, L. ‘Deux tetradrachmes de Mithridate V Evergete, roi du Pont’, JS July/Sept. 1978, 151-63
233. Robinson, D. M. ‘Greek and Latin inscriptions from Sinope and environs’, A]A 9 (1905) 294-333
234. Robinson, E. S. G. ‘Cistophori in the name of king Eumenes’, NC 14 (1954) 1-8
235. Rolland, H. ‘Deux nouvelles inscriptions celtiques’, CRAI (1955) 91-9
236. Rowland, R. J. ‘Numismatic propaganda under Cinna’, TAPhA 97 (1966) 407-19
237. Seltman, C. Greek Coins. London, 1933. 2nd edn 1955
238. Seyrig, M. ‘Le tresor monetaire de Nisibe’, RN 17 (195 5) 85-128
239. Sherk, R. K. Rome and the Greek East to the Death of Augustus (Documents in translation). Cambridge, 1984
240. Sherwin-White, A. N. ‘The date of the lex repetundarum and its consequences’, JRS 62 (1972) 83-99
241. Simonetta, B. ‘Notes on the coinage of the Cappadocian kings’, NC 1
(1961) 9-50
242. Simonetta, B. ‘Remarks on some Cappadocian problems’, NC 4 (1964) 83-92
243. Simonetta, B. The Coins of the Cappadocian Kings. Fribourg, 1977
244. Sokolowski, F. Lois sacrees de l*Asie mineure. Paris, 1955
245. Sokolowski, F. Eois sacrees des cites grecques. Paris, 1969
246. Sumner, G. V. ‘The piracy law from Delphi and the law of the Cnidos inscription’, GRBS 19 (1978) 211-25
247. Sydenham, E. A. The Coinage of the Roman Republic. London, 1952
248. Taylor, L. R. ‘Freedmen and freeborn in the epitaphs of imperial Rome’, AJPh 82 (1961) 113-32
249. Thompson, M. The New Style Silver Coinage of Athens. New York, 1961
250. Torelli, M. R. ‘Una nuova iscrizione di Silia da Larino’, Athenaeum 51
(1973) 336-54
251. Vetter, E. Handbuch der italischen Dialekten. Heidelberg, 1953
252. Vinogradov, Y. G., Molyev, E. A. and Tolstikov, V. P. ‘New epigraphical sources on the history of the Mithridatic period’ (Russ.), Tskhaltubo in, 5 89-600. — Виноградов Ю.Г., Молев E.A., Толстиков В.П. Новые эпиграфические источники по истории Митридатовой эпохи // Цхалтубо III: 589—600
253. Waddington, W. H., Babeion, Е. and Reinach, Т. Recueil general des monnaies grecques d' Asie Mineure 1.1, Pont et Paphlagonie. 2nd edn Paris, x925
254. Walbank, F. W. 'Via ilia nostra militaris', some thoughts on the Via Egnatia’, Althistorische Studien Hermann Bengtson \um 70. Geburtstag dargebracht, ed. H. Heine et al. (Historia Einzelschr. 11), Wiesbaden, 1983, 131-47 ( = a 124, 193-209)
255. Walker, A. S. ‘Four AES coin hoards in the collection of the American School of Classical Studies at Athens’, Hesperia 47 (1978) 40-9
954
В. Источники
256.
257·
258.
259·
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271
272.
273·
274·
275·
276.
277·
278.
279·
280.
Walker, D. R. The Metrology of the Roman Silver Coinage. Tart 1: From Augustus to Domitian (BAR Suppl. Ser. 5). Oxford, 1976 Weinstock, S. ‘Two archaic inscriptions from Latium’, JRS 50 (i960) 112-18
Welles, С. B. Royal Correspondence in the Hellenistic Period. New Haven,
1934
Wiseman, T. P. 'Viae Anniae’, PBSR 32 (1964) 21-37 Wiseman, T. P. 'Viae Anniae again’, PBSR 37 (1969) 82-91 Yailenko, V. P. ‘New epigraphical data on Mithridates Eupator and Pharnaces’ (Russ.), Tskhaltubo hi, 617-24. — Яйленко В.П. Новые эпиграфические данные о Митридате Евпаторе и Фарнаке // Цхалтубо III: 617-624
Zänker, Р. ‘Grabreliefs römischer Freigelassener’, JDAI 90 (1975) 267-315
(с) Археология
Barker, G., Lloyd, J. and Webley, D. ‘A classical landscape in Molise’, PBSR 46 (1978) 3 5-51
Boethius, A. The Golden House of Nero: Some Aspects of Roman Architecture
(Jerome Lectures, ser. 5). Ann Arbor, i960
Bruneau, P. and Ducat, J. Guide de Delos. Paris, 1965
Callender, M. H. Roman Amphorae. London, 1965
Carandini, A. Settefinestre: una villa schiavistica nel! Etruria romana. 3 vols.
Modena, 1985
Castagnoli, F. ‘Dedica arcaica lavinate a Castore e Polluce’, SMSR 30 (1959) 109-17
Castagnoli, F. et al. Eavinium 11 (1st. di topografia antica dell’Univ. di Roma). Rome, 1975
Celuzza, M. and Regoli, E. ‘La Valle d’Oro nel territorio di Cosa’, DArch 4 (1982) 31-62
Chouquer, G. et al. Structures agraires en Italie centro-meridionale: Cadastres
etpaysages ruraux (Coll. ec. fr. de Rome 100). Rome, 1987
Coarelli, F. Tl complesso pompeiano di Campo Marzio e la sua
decorazione scultorea’, RPAA 44 (1971-2) 99-122
Coarelli, F., ed. Studi su Praeneste (Reprints di archeolqgia e di storia
antica). Perugia, 1978
Coarelli, F. et al. L’ area sacra di Largo Argentina (Studi e materiali dei
musei e monumenti comunali di Roma x). Rome, 1981
Coarelli, F. Fregellae. La storia e gli scavi. Rome, 1981
Coarelli, F. ‘L’ “agora des Italiens” a Delo: il mercato degli schiavi?’, Delo
e Г Italia 119—45
Coarelli, F. IIforo romano 11: periodo repubblicano e augusteo. Rome, 1985 Coarelli, F. Fregellae 2. II santuario di Esculapio. Rome, 1986 Coarelli, F. I santuari del La^io in eta repubblicana. Rome, 1987 Cotton, M. A. The Late Republican Villa at Posto, Francolise. Report of an Excavation by the Institute of Fine Arts, New York and the British School at Rome (British School at Rome Suppl. Pub.). London, 1979
В. Источники
955
281. Cotton, М. A. and Metraux, G. P. R. The San Kocco Villa at Francolise. London, 1985
282. Coulton, J. J. The Architectural Development of the Greek Stoa. Oxford, 1976
283. Cozza, L. ‘Le tegole di marmo del Pantheon’, Citta e architettura nella Koma imperiale (ARID Suppi, x), ed. K. de Fine Licht, Odense, 1983, 109-18
284. Crawford, M. H., Keppie, L., Patterson, J. and Vercnocke, M. L. ‘Excavations at Fregellae 1978—84. An interim report on the work of the British team’, PBSR 52 (1984) 21-35; 53 (1985) 72-96; 54 (1986) 40-68
285. De Ruyt, C. Macellum: mar che alimentaire des Romains. Louvain, 1985
286. Domergue, C. ‘Les lingots de plomb romains du Musee Archeologique de Carthagene et du Musee Naval de Madrid’, AEA 39 (1966) 41-72
287. Domergue, C., Laubenheimer-Leenhardt, F. and Liou, B. ‘Les lingots de plomb de L. Carullius Hispallus’, RAN 7 (1974) 119-37
288. Dyson, S. A. ‘Settlement patterns in the Ager Cosanus\ the Wesleyan University Survey 1974-6’, JFA 5 (1978) 251-8
289. Ervin, M. ‘The sanctuary of Aglauros on the south slope of the Acropolis and its destruction in the first Mithridatic war’, Arch. Pontou 22 (1958) 129-66
290. Fasolo, F. and Giulini, G. IIsantuario della Fortuna Primigenia a Palestrina. 2 vols. Rome, 1875
291. Flambard, J.-M. ‘Tabernae republicaines dans la zone du Forum de Bolsena’, MEFRA 96 (1984) 207-59
292. Frederiksen, M. ‘The contribution of archaeology to the agrarian problem in the Gracchan period’, Roma e I’I talia, 3 30-67
293. Gatti lo Guzzo, L. II deposito votivo dall’Esquilino detto di Minerva Medica (Studi e materiali di etruscologia e antichita italiche 17). Rome, 1978
294. Gertsiger, D. S. ‘A plastic vase from Panticapaeum (on the iconography of Mithridates Eupator)’ (Russ.) Tskhaltubo hi, 13-14
295. Hackens, T. and Levy, E. ‘Tresor hellenistique trouve a Delos en 1964’, BCH 89 (1965) 503-66
296. Heurgon, J. ‘L’Ombrie a l’epoque des Gracques et de Sylla’, Problemi di storia e archeologia dell*Umbria (Atti I Convegno di Studi Umbri, 1963), Perugia, 1964, 113-31
297. Jacopi, I. ‘Area sacra dell’Argentina: considerazioni sulla terza fase del Tempio A’, BCAR 81 (1968/9) 115-25
298. Johnson, J. Excavations at Minturnae ил.Philadelphia, 1935
299. Jones, G. D. B. ‘Capena and the Ager Capenas\ PBSR 30 (1962) 116-207; 31 (1963) 100-58
300. Jones, G. D. B. ‘The Roman mines at Rio Tinto\JRS 70 (1980) 146-65
301. Jones, G. D. B. Tl tavoliere romano: l’agricoltura romana attraverso l’aerofotografia e lo scavo’, ArchClass 32 (1980) 81-146
302. Kahane, A., Murray Threipland, L. and Ward-Perkins, J. ‘The Ager Veientanus, north and east of Veii’, PBSR 36 (1968) 1-218
303. Laffi, U. ‘Storia di Ascoli Piceno nell’eta antica’, Asculum i (see the following item), xviii—xxi
956
С. Политическая история
304. Laffi, U. and Pasquinucci, М. Asculum. 4 vols. Pisa, 1975-81
305. Lamboglia, N. Per una c las sificasione preliminare della ceramica сатрапа. Bordighera (1st. di Studi Liguri), 1952
306. La Regina, A. ‘I territori sabellici e sannitici’, DArch 4-5 (1970-1)
443-59
307. La Regina, A. Sannio. Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C. Rome, 1980
308. Liverani, P. ‘L'ager Veientanus in etä repubblicana’, PBSR 52 (1984) 36-48
309. Manacorda, D. ‘The ager Cosanus and the production of the amphorae of Sestius. New evidence and a reassessment’, JRS 68 (1978) 122-31
310. Mertens, J. Alba Fucens. 2 vols. Rome and Brussels, 1969
311. Painter, K., (ed.) Roman Villas in Italy. Recent Excavations and Research (British Museum Occasional Papers 24). London, 1980
312. Palmer, R. E. A. ‘The neighborhood of Sullan Bellona at the Colline Gate’, MEFRA 87 (1975) 65 3-65
313. Pensabene, P. et al. Terracotte votive dal Tevere (Studi miscellanei 25). Rome, 1980
314. Polverini, L., Parise, F., Agostini, S. and Pasquinucci, M. Firmum Picenum 1. Pisa, 1987
315. Quilici, L. and Quilici Gigli, S. ‘Ville dell’Agro Cosano con fronte a torrette’, RIA 3.1 (1970) 11-64
316. Schulten, A. Numantia. 4 vols. Munich, 1927-31
317. Sjöqvist, E. ‘Kaisareion’, ORom 1 (1954) 86-108
318. Staccioli, R. A. ‘Le tabernae a Roma attraverso la Forma Urbis’, RAL 8.14 (1959) 56-66
319. Thompson, D. B. ‘The garden of Hephaestus’, Hesperia 6(1937) 396-425
320. Thompson, H. A. ‘Two centuries of Hellenistic pottery’, Hesperia 3 (1934) 311-480
321. Thompson, H. A. ‘Buildings on the west side of the Agora’, Hesperia 6 (1937) 1-226
322. Todua, T. ‘Forts of Mithridates VI Eupator in Colchis’ (Russ.), VDI 1988.1 (184) 139-46. — Тодуа T.T. Крепости Митридата VI Евпатора в Колхиде Ц ВДИ 1988 (184) 1: 139—146
323. Ward-Perkins, В., Mills, N., Gadd, D. and Delano Smith, C. ‘Luni and the Ager Lunensis: the rise and fall of a Roman town and its territory’, PBSR 54 (1986) 81-146
3 24. Y oung, R. S. ‘An industrial district of ancient Athens’, Hesperia 20 (19 51)
135-288
С. Политическая история (a) 146—70 гг. do н. э.
1. Alexander, M. C. ‘Hortensius’ speech in defense of Verres’, Phoenix 30 (1976) 46-53
2. Astin, A. E. Scipio Aemilianus. Oxford, 1967
3. Aymard, A. ‘L’organisation de Macedoine en 167’, CPh 45 (1950) 96—107
С. Политическая история
957
4· Badian, E. ‘Lex Acilia Repetundarum’, AJPb 75 (1954) 374-84
5. Badian, E. ‘The date ofPompey’s first triumph’, Hermes$$ (195 5) 107-18
6. Badian, E. ‘Caepio and Norbanus’, Historia 6 (1957) 318-46 ( = a 2,
34-70)
7. Badian, E. ‘Servilius and Pompey’s first triumph’, Hermes 89 (1961) 254-6
8. Badian, E. ‘Forschungsbericht. From the Gracchi to Sulla (1940-59)’, Historia 11 (1962) 197-245 ( = Seager, Crisis, 3-51)
9. Badian, E. ‘Waiting for Sulla’, JRS 52 (1962) 47-61 ( = a 2, 206-34)
10. Badian, E. ‘The lex Thoria: a reconsideration’, Studi in onore di Biondo Biondi i, Milan, 1963, 187-96 ( = a 2, 235-41)
11. Badian, E. ‘Sulla’s augurate’, Arethusa 1 (1968) 26-46
12. Badian, E. ‘Quaestiones Variae’, Historia 18 (1969) 447-91
13. Badian, E. Lucius Sulla the Deadly Reformer (7th Todd Memorial Lecture). Sydney, 1970
14. Badian, E. ‘Additional notes on Roman magistrates’, Athenaeum 48 (1970) 3-14
15. Badian, E. ‘Roman politics and the Italians (133-91 b.c.)’, RomaeΐItalia, ЫЬ-409
16. Badian, E. ‘Tiberius Gracchus and the beginning of the Roman Revolution’, ANRW 1.1 (1972) 668-731
17. Badian, E. ‘The death of Saturninus. Studies in chronology and prosopography’, Chiron 14 (1984) 101-47
18. Balsdon, J. P. V. D. ‘Sulla Felix’, JRS 41 (1951) 1-10
19. Barnes, T. D. ‘A Marian colony’, CR 21 (1971) 332
20. Bates, R. L. ‘Rex in senatu’, PAPhS 130.3 (1986) 272-3
21. Bauman, R. A. ‘The hostis declarations of 88 and 87 b.c.’, Athenaeum 51 (1973) 270-93
22. Bell, M. J. V. ‘Tactical reform in the Roman Republican army’, Historia 14(1965)404-22
23. Bellen, H. ‘Sullas Brief an den Interrex L. Valerius Flaccus’, Historia 24 (1975) 5 5 5-69
24. Bennett, H. Cinna and his Times. Menasha, 1923
25. Bernstein, A. H. Tiberius Sempronius Gracchus. Ithaca, 1978
26. Berve, H. ‘Sertorius’, Hermes 64 (1929) 199-227
27. Boren, H. C. ‘The urban side of the Gracchan economic crisis’, AHR 63 (1957—8) 890—902 ( = Seager, Crisis, 54—66)
28. Bruhns, H. ‘Ein politischer Kompromiss im Jahre 70: die lex Aurelia iudiciaria’, Chiron 10 (1976) 263-72
29. Brunt, P. A. ‘The equites in the late Republic’, Proc. 2nd Int. Conf. of Ec. Hist., 1962, 117-49 ( = Seager, Crisis, 83-115), revd. in a 19, 144-93
30. Brunt, P. A. ‘The army and the land in the Roman Revolution’, JRS 5 2
(1962) 64-86, revd. in a 19, 240-75
31. Brunt, P. A. ‘Italian aims at the time of the Social War’, JRS 55 (1965) 90-109, revd. in a 19, 93-143
32. Brunt, P. A. ‘Amicitia in the late Roman Republic’, PCPhS 2 (1965) 1-20 ( = Seager, Crisis, 199-218), revd. in a 19, 351-81
958
С. Политическая история
33. Brunt, Р. A. ‘Patronage and politics in the “Verrines”’, Chiron 10 (1980) 273-89
34. Brunt, P. A. ‘Nobilitas and Novitas’, JRS 72 (1982) 1-17
35. Bulst, С. M. ‘Cinnanum tempus’, Historia 13 (1964) 307-37
36. Carcopino, J. Autour des Gracques. Paris, 1928
37. Carcopino, J. Sylla ou la monarchie manquee. Paris, 1947
38. Cardinali, G. Studi Graccani. Rome, 1912
39. Carney, T. F. ‘The flight and exile of Marius’, Ge^R 8 (1961) 98-121
40. Carney, T. F. ‘The death of Sulla’, AClass 4 (1961) 64-79
41. Carney, T. F. A Biography of Caius Marius (Proceedings of the African Classical Associations Suppl. 1). 1962
42. Cary, M. ‘Sulla and Cisalpine Gaul’, CR 34 (1920) 103-4
43. Coarelli, F. ‘Le tyrannoctone du Capitole et la mort de Tiberius Gracchus’, MEFRA 81 (1969) 137-60
44. Corbellini, G. ‘La presunta guerra tra Mario e Cinna e l’episodio dei Bardiei’, Aevum 50 (1976) 154-6
45. Crawford, M. H. ‘The edict of M. Marius Gratidianus’, PCPhS 194 (1968) 1-4
46. von Domaszewski, A. Bellum Marsicum {SAWW 201.1). Vienna, 1924
47. Earl, D. C. Tiberius Gracchus - A Study in Politics (Coll. Latomus 66). Brussels, 1963
48. Ericsson, H. ‘Sulla felix’, Eranos 41 (1943) 77-89
49. Ferrary, J.-L. ‘Recherches sur la legislation de Saturninus et de Glaucia’, MEFRA 89 (1977) 619-60; 91 (1979) 85-134
50. Ferrary, J.-L. ‘Les origines de la loi de majeste a Rome’, CR AI 1983, 556-72
51. Fraccaro, P. Studi sull’etä dei Gracchi. Citta di Castello, 1914
5 2. Frank, T. On some financial legislation of the Sullan period’, AJPh 54 (1933) 54-8
53. Frier, B. W. ‘Sulla’s propaganda: the collapse of the Cinnan Republic’, AJPh 92 (1971) 585-604
54. Gabba, E. ‘Politica e cultura in Roma agli inizi del I secolo a.C.’, Athenaeum 31 (1953) 259-72
5 5. Gabba, E. Esercito e societa nella tarda Repubblica romana. Florence, 1973. Transl. by P. J. Cuff as Republican Rome: The Army and the Allies, Oxford, 1976
56. Gabba, E. ‘Mario e Silia’, ANRW 1.1 (1972) 764-805
5 7. Gabba, E. ‘Motivazioni economiche nell’opposizione alia legge agraria di Tib. Sempronio Graeco’, Polis and Imperium, Studies in honour of Edward Togo Salmon, ed. J. A. S. Evans, Toronto, 1974, 129-38
58. Gabba, E. ‘La rifondazione di Salapia’, Athenaeum 61 (1983) 514-16
59. Gabba, E. ‘Un episodio oscuro della storia di Mediolanum’, RIL 118 (1984) 99-103
60. Garnsey, P. and Rathbone, D. ‘The background to the grain law of Gaius Gracchus’, JRS 75 (1985) 20—5
61. Garton, C. ‘Sulla and the theatre’, Phoenix 18 (1964) 137-50
С. Политическая история
959
62. Geizer, М. ‘Cn. Pompeius Strabo und der Aufstieg seines Sohnes Magnus’, Abh. Preuss. Akad. Wiss. 14, 1941 ( = a 41, 11, 106-38)
63. Geizer, M. ‘Hat Sertorius in seinem Vertrag mit Mithradates die Provinz Asia abgetreten?’, Phil. Wochenschr. 52(1932) 185-92 ( = A4i, 11, 139-45)
64. Gillis, D. ‘Quintus Sertorius’, RIL· 103 (1969) 711-27
65. Göhler, J. Rom und Italien. Die römische Rundesgenossenpolitik von den Anfängen bis %um Rundesgenossenkrieg (Breslauer Historische Forschungen 13). Breslau, 1939, repr. Aalen, 1974
66. Gruen, E. S. ‘The lex Varia\ JRS 55 (1965) 59-73
67. Gruen, E. S. ‘The political allegiance of P. Mucius Scaevola’, Athenaeum
43 0965) 321-32
68. Gruen, E. S. Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 b.c. Cambridge, MA, 1968
69. Gruen, E. S. ‘Pompey, Metellus Pius, and the trials of 70-69 b.c.’, AJPh
92 (1971) 1-16
70. Guarino, A. La coeren^a di Publio Mucio. Naples, 1981
71. Hackl, U. Senat und Magistratur in Rom von der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. bis %ur Diktatur Sullas. Kallmünz, 1982
72. Hall, U. ‘Notes on M. Fulvius Flaccus’, Athenaeum 55 (1977) 280—8
7 3. Hantos, T. Res publica constituta: die Verfassung des Diktators Sulla (Hermes Ein^elschr. 50). Stuttgart, 1988
74. Haug, I. ‘Der römische Bundesgenossenkrieg 91-88 v. Chr. bei Titus Livius’, WJA 2 (1947) 100-39
75. Hayne, L. ‘M. Lepidus (cos. 78): a re-appraisal’, Historia 21 (1972) 661-8
76. Henderson, Μ. I. ‘The establishment of the equester ordo’, JRS 53
(1963) 61-72 ( = Seager, Crisis 69-80)
77. Heurgon, J. ‘The date of Vegoia’s prophecy’, JRS 49 (1959) 41-5
78. Hill, H. ‘Sulla’s new senators in 81 b.c.’, CQ 26 (1932) 170-7
79. Katz, B. R. ‘The first fruits of Sulla’s march’, AClass 44 (1975) 100-25
80. Katz, B. R. ‘The siege of Rome in 87 b.c.’, CP 71 (1976) 328-36
81. Katz, B. R. ‘Studies on the period of Cinna and Sulla’, AClass 45 (1976) 497-549
82. Katz, B. R. ‘Caesar Strabo’s struggle for the consulship - and more’, RhM 120 (1977) 45-63
83. Katz, B. R. ‘The selection of L. Cornelius Merula’, RhM 122 (1979) 162-6
84. Keaveney, A. ‘Pompeius Strabo’s second consulship’, CQ 28 (1978) 240—1
85. Keaveney, A. ‘Sulla, Sulpicius and Caesar Strabo’, Eatomus 38 (1979) 451-60
86. Keaveney, A. ‘Deux dates contestees de la carriere de Sylla’, EEC 48 (1980) 149-59
87. Keaveney, A. Sulla, the last Republican. London, 1982
88. Keaveney, A. ‘Young Pompey: 106-79 B-c\ AClass 51 (1982) 111-39
89. Keaveney, A. ‘Sulla and Italy’, CS 19 (1982) 499-544
9°· Keaveney, A. ‘Sulla augur: coins and curiate law’, AJAH 7 (1982) 150-71
960
С. Политическая история
91. Keaveney, A. ‘What happened in 88?% Eirene 20 (1983) 53-86
92. Keaveney, A. ‘Studies in the dominatio Sullae\ Klio 65 (1983) 185-208
93. Keaveney, A. ‘Who were the Sullani?’, Klio 66 (1984) 114-50
94. Keaveney, A. Rome and the Unification of Italy. London, 1987
95. Keaveney, A. and Madden, J. A. ‘Phthiriasis and its victims’, JO 57 (1982) 87-99
96. Laffi, U. ‘II mito di Silla’, Athenaeum 45 (1967) 177-213; 255-77
97. Levick, В. M. ‘Sulla’s march on Rome in 88 b.c.’, Historia 31 (1982) 503-8
98. Lewis, R. G. ‘A problem in the siege of Praeneste’, PBSR 39(1971) 32-9
99. Lintott, A. W. ‘The tribunate of P. Sulpicius Rufus’, CQ 21 (1971) 442-5 3
100. Lintott, A. W. ‘The offices of C. Flavius Fimbria in 86-5 b.c.’, Historia 20 (1971) 696-701
ιοί. Luce, T. J. ‘Marius and the Mithridatic command’, Historia 19 (1970) 161-94
102. Luraschi, G. ‘Sulle “leges de civitate” (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)’, SDHI 44 (1978) 321-70
103. McDermott, W. C. ‘Lex de tribunicia potestate (70 b.c.)’, CPh 72 (1977) 49-5 2
104. Marino, R. E. ‘Aspetti della politica interna di Silla’, AAPal 3 3 (1973-4) 361-529
105. Maroti, E. On the problems of M. Antonius Creticus’ imperium infinitum’, A AntHung 19(1971) 252-72
106. Marshall, В. A. ‘Crassus’ ovation in 71 в.c.’, Historia 21 (1972) 669-73
107. Marshall, В. A. ‘The lex P lotia agraria\ Antichthon 6 (1972) 43-5 2
108. Marshall, B. A. ‘Crassus and the command against Spartacus’, Athenaeum 51 (1973) 109-21
109. Marshall, B. A. ‘Q. Cicero, Hortensius and the lex Aurelia’, RhM 118 (1975) 136-52
no. Marshall, B. A. ‘Catilina and the execution of M. Marius Gratidianus’, 02 79 (i985) 124-33
in. Mattingly, Η. B. ‘The consilium of Cn. Pompeius Strabo’, Athenaeum 53 (1975) 262-6
112. Meyer, H. D. ‘Die Organisation der Italiker im Bundesgenossenkrieg’, Historia 7 (1958) 74-9
113. Millar, F. G. B. ‘Politics, persuasion and the people before the Social War (150—90 b.c.)’, JRS 76 (1986) i—11
114. Mitchell, T. N. ‘The volte-face of P. Sulpicius Rufus in 88 b.c.’, CPh 70 (1975) 197-204
115. Nicolet, C. ‘L’inspiration de Tiberius Gracchus’, REA 67 (1965) 142-5 8
116. Nicolet, C., (ed.), Demokratia et Aristokratia. A propos de Caius Gracchus: mots grecs et realites romaines. Paris, 1983
117. Passerini, A. ‘Caio Mario come uomo politico’, Athenaeum 12(1934) 10- 44; 109-143; 257-97; 348-80 ( = Studi su Caio Mario, Milan, 1971)
118. Porra, F. ‘La legge Varia del 90 e quella Sulpicia dell’88 a.C.: il problema degli esuli’, AFLC 36 (1973) 13-28
С. Политическая история
961
119. Pozzi, E. ‘Studi sulla guerra civile Siliana’, Atti r. accademia de Ile sciende di Torino 49 (1913/14) 641-79
120. Pritchard, R. T. ‘Verres and the Sicilian farmers’, Historia 20 (1971) 224-38
121. Rich, J. W. ‘The supposed Roman manpower shortage of the later second century b.c.’, Historia 32 (1983) 287-331
122. Richard, J.-C. ‘Qualis pater, talis filius’, RPh 46 (1972) 43-5 5
123. Richardson, J. S. ‘The ownership of Roman land: Tiberius Gracchus and the Italians’, JRS 70 (1980) 1-11
124. Rose, H. J. ‘The “Oath of Philippus” and the Di Indigetes’, HThR 30 (1937) 165-81
125. Rossi, R. F. ‘Sulla lotta politica in Roma dopo la morte di Silia’, PP 20 0965) 133-52
126. Salmon, E. T. ‘Notes on the Social War’, TAPhA 87 (1958) 159-84
127. Salmon, E. T. ‘The causes of the Social War’, Phoenix 16 (1962) 112-13
128. Salmon, E. T. ‘Sulla redux’, Athenaeum 42 (1964) 60-79
129. de Sanctis, G. La guerra sociale (Opera inedita a cura di L. Polverint). Florence, 1976
130. Scardigli, B. ‘Sertorio: problemi cronologici’, Athenaeum 49 (1971) 229—70
131. Schneider, H. ‘Die politische Rolle der plebs urbana während der Tribunate des L. Appuleius Saturninus’, AncSoc 13/14 (1982/3) 193-221
13 ia. Schulten, A. Sertorius. Leipzig, 1926
132. Sherwin-White, A. N. ‘Violence in Roman politics’, JRS 46 (1956) 1-9 (= Seager, Crisis, 151-9)
133. Sherwin-White, A. N. ‘The lex repetundarum and the political ideas of Gaius Gracchus’, JRS 72 (1982) 18-31
134. Smith, R. E. ‘The lex Plotia agraria and Pompey’s Spanish veterans’, CQ 51(1957)82-5
135. Smith, R. E. ‘Pompey’s conduct in 80 and 77 b.c.’, Phoenix 14 (i960)
i—13
136. Stockton, D. L. ‘The first consulship of Pompey’, Historia гг (1973) 205-18
137. Stockton, D. L. The Gracchi. Oxford, 1979
138. Sumner, G. V. ‘The Pompeii in their families’, AJAH 2 (1977) 8-25
139. Sumner, G. V. ‘Sulla’s career in the 90s’, Athenaeum 56 (1978) 395-6
140. Taylor, L. R. ‘Caesar’s early career’, CPh 36 (1941) 113-32
141. Taylor, L. R. ‘Forerunners of the Gracchi’, JRS 52 (1962) 19-27
142. Tibiletti, G. ‘II possesso άζ\Υ agerpublicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi’, Athenaeum 26 (1948) 173-236; 27 (1949) 3-41
143. Tibiletti, G. ‘Ricerche di storia agraria romana’, Athenaeum 28 (1950) 183-266
144. Treves, P. ‘Sertorio’, Athenaeum 10 (1932) 127-46
145. Tuplin, C. ‘Coelius or Cloelius?’, Chiron 9 (1979) 137-45
146. Turcan, R. ‘Encore la prophetie de Vegoia’, Mei. Heurgon 11, 1009-19 47· Twyman, B. L. ‘The Metelli, Pompeius and prosopography’, ANR W
1.1 (1972) 816-74
962
С. Политическая история
148. Twyman, В. L. ‘The date of Pompeius Magnus’ first triumph’, Studies in Latin Literature and Roman History 1, ed. C. Deroux (Coll. Latomus 164), Brussels, 1979, 175-208
149. Ward, A. M. ‘Cicero and Pompey in 75 and 70 b.c.’, Latomus 29 (1970) 58-71
150. Ward, A. M. ‘The early relationships between Cicero and Pompey until 80 b.c.’, Phoenix 24 (1970) 119-29
151. Ward, A. M. ‘Caesar and the pirates 11’, A]AH 2 (1977) 26-36
(b) 70—43 гг. до н. э.
152. Adcock, F. E. ‘Caesar’s dictatorship’, CAH ix (1932) 691-740
153. Alföldi, A. Studien über Caesars Monarchie (Bull. Soc. des Lettres de Lund 1952/3 1). Lund, 1953
154. Alföldi, A. ‘Caesars Tragödie im Spiegel der Münzprägung des Jahres 44 V. Chr.’, Schweizer Mün^blätter 4(1953) ι-ι i
155. Alföldi, A. ‘Der Machtverheissende Traum des Sulla’, JBM 41/2(1961/ 2) 275-88 ( = c 158, 3-16)
156. Alföldi, A. ‘Der Mettius-Denar mit Caesar diet, quart.’, Schweizer Mün^blätter 13/14(1962/3) 29-33 ( = c 158, 17-33)
157. Alföldi, A. Oktavians Aufstieg %ur Macht (Antiquitas Reihe i). Bonn, 1976
158. Alföldi, A. Caesariana. Gesammelte Aufsätze %ur Geschichte Caesars und seiner Zeit, ed. E. Alföldi-Rosenbaum. Bonn, 1984
159. Alföldi, A. Caesar in 44 v. Chr. 1: Studien %u Caesars Monarchie und ihren Wurzeln, ed. H. Wolff. Bonn, 1985
160. Allen, W., jr. ‘Cicero’s house and libertas\ TAPhA 75 (1944) 1-9
161. Allen, W., jr., ‘Cicero’s provincial governorship in 63 в.c.’, TAPhA 83 (1952) 233-41
162. Badian, E. ‘M. Porcius Cato and the annexation and early administration of Cyprus’, JRS 55 (1965) 110—21
163. Badian, E. ‘Notes on provincia Gallia in the late Republic’, Melanges d’archeologie et d’histoire offerts ä Andre Piganiol, ed. R. Chevallier, Paris, 1966, 901-18
164. Badian, E. ‘Marius’ villas: the evidence of the slave and the knave’, JRS
63 0973) 121-32
165. Badian, E. ‘The attempt to try Caesar’, Polis and Imperium: Studies in honour of Edward Togo Salmon, ed. J. A. S. Evans, Toronto, 1974, 145-66
166. Badian, E. ‘The case of the cowardly tribune’, AHB 3 (1989) 78-84
167. Balsdon, J. P. V. D. ‘Consular provinces under the late Republic’, JRS
29 (1939) 57-73
168. Balsdon, J. P. V. D. ‘Roman history, 65-50 b.c.: five problems’, JRS 52 (1962) 134-41
169. Balsdon, J. P. V. D. Julius Caesar and Rome. London, 1967
170. Bengtson, H. Zur Geschichte des Brutus. Munich, 1970
171. Bengtson, H. ‘Die letzten Monate der römischen Senatsherrschaft’, ANRUT 1.1 (1972) 967-81 (= Kleine Schriften %uralten Geschichte, Munich, 1974, 5 32-48)
С. Политическая история
963
172. Bengtson, Н. ‘Untersuchungen zum mutinensischen Krieg’, Kleine Schriften %ur alten Geschichte, Munich, 1974, 479—5 31
173. Benner, H. Die Politik des P. Clodius Pulcher (Historia Einzelschr. 50). Stuttgart, 1987
174. van Berchem, D. ‘La fuite de Decimus Brutus’, Melanges d'arch., d’ epigraphie et d'hist. offerts a J. Careo pino, Paris, 1966, 941—53
175. Bitto, I. ‘La concessione dei patronato nella politica di Cesare’, Epigraphica 31 (1970) 79-83
176. Boegli, H. Studien %и den Koloniegründungen Caesars. Diss. Basle, 1966
177. Botermann, H. Die Soldaten und die römische Politik in der Zeit von Caesars Tod bis %ur Begründung des ^weiten Triumvirats (Zetemata 46). Munich, 1968
178. Braund, D. C. ‘Gabinius, Caesar, and the publicani of Judaea’, Klio 65 (1983) 241-4
179. Broughton, T. R. S. ‘More notes on Roman magistrates’, TAPhA 79 (1948) 63-78
180. Bruhns, H. Cäsar und die römische Oberschicht, 49-44 v. Chr. (Hypomnemata 53). Göttingen, 1978
181. Burckhardt, L. A. Politische Strategien der Optimaten in der späten römischen Republik (Historia Einzelschr. 57). Stuttgart, 1988
182. Burns, A. ‘Pompey’s strategy and Domitius’ stand at Corfinium’, Historia 15 (1966) 74-95
183. Carson, R. A. G. ‘Caesar and the monarchy’, G&R 4(1957) 46-5 3. 183A. Cesare nel bimillenario della morte. Editioni Radio Itali ana, 1956.
184. Coarelli, F. ‘Iside Capitolina, Clodio e i mercanti di schiavi’, Alessandria e ilmondo ellenistico-romano. Studi in onore di Achille Adriani, ed. N. Bonacasa and A. Di Vita (Studi e materiali 1st. arch. Univ. Palermo 4-6) hi, Rome, 1984,461-75
185. Cobban, J. Senate and Provincesγ8-49 в.с. Cambridge, 1935
186. Collins, J. H. ‘Caesar and the corruption of power’, Historia 4 (1955)
445-65
187. Crawford, M. H. ‘The lex Iulia agraria’, Athenaeum 67 (1989) 179-90
188. Dahlmann, H. ‘Clementia Caesaris’, Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung 10 (1934) 17-26 ( = Wege der Forschung 43, Darmstadt,
1967,32-47)
189. De Visscher, F. ‘Jules Cesar patron d’Alba Fucens’, AC 33 (1964) 98- 107
190. Dobesch, G. Caesars Apotheose %u Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel. Vienna, 1966
191. Eckhardt, K. ‘Die armenischen Feldzüge des Lucullus’, Klio 9 (1909) 400—12; 10 (1910) 73—115 and 192-23 i
192. Ehrenberg, V. ‘Caesar’s final aims’, HSPh 68 (1964) 149-61
193. Flambard, J.*M. ‘Clodius, les colleges, la plebe et les esclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du ier siede’, MEFRA Ц (J977) 115-56
x94. Frisch, H. Cicero's Fight for the Republic. Copenhagen, 1946 195- von Fritz, К. ‘The mission of L. Caesar and L. Roscius in January 49 в.с.’, TAPhA 72 (1941) 125-42
964
С. Политическая история
196. von Fritz, К. ‘Pompey’s policy before and after the outbreak of the Civil War of 49 b.c.’, TAPhA 73 (1942) i45~8°
197. Geiger, J. ‘M. Favonius: three notes', RSA 4 (1974) 161-70
198. Geizer, M. Caesar der Politiker und Staatsmann. Stuttgart and Berlin, 1921. 6th edn, Wiesbaden, i960, transl. by P. Needham, Oxford, 1969
199. Geizer, M. ‘Das erste Konsulat des Pompeius und die Übertragung der grossen Imperien', Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1943, 1 ( = a 41 11, 146-89)
200. Geizer, M. Pompeius. Munich, 1949. 2nd edn, 1959
201. Gesche, H. ‘Hat Caesar den Oktavian zum magister equitum designiert?’, Historia 22 (1973) 468-78
202. Gesche, H. Caesar. Darmstadt, 1976
203. Girardet, K. ‘Die Lex Iulia de provinciis: Vorgeschichte, Inhalt, Wirkungen’, RhM 130 (1987) 291-330
204. Grant, M. From Imperium to Auctoritas. Cambridge, 1946
205. Greece and Rome iv пол, March 1957. Julius Caesar 44 b.c.-a.d. 1947, Bimillenary Number
206. Greenhalgh, P. Pompey, the Roman Alexander. London, 1980
207. Griffin, M. ‘The tribune C. Cornelius’, JRS 63 (1973) 196-213
208. Gruen, E. S. ‘The consular elections for 53 b.c.’, Hommages ä Marcel Renard, ed. J. Bibauw (Coll. Latomus 102) 11, Brussels, 1969, 311-21
209. Gruen, E. S. The Fast Generation of the Roman Republic. Berkeley and Los Angeles, 1974
210. Hardy, E. G. Some Problems in Roman History. Ten Essays bearing on the Administrative and Legislative Work of Julius Caesar. Oxford, 1924
211. Hardy, E. G. The Catilinarian Conspiracy in its Context: a Re-Study of the Evidence. Oxford, 1924
212. Henderson, M. L, ‘Julius Caesar and Latium in Spain’, JRS 32 (1942) 1-13
213. Hinrichs, F. T. ‘Das legale Landversprechen im Bellum Civile’, Historia 18 (1969) 521-44
214. Horsfall, N. ‘The Ides of March: some new problems’, Ge^R 21 (1974) I9I_9
215. Kraft, K. ‘Der goldene Kranz Caesars und der Kampf um die Entlarvung des “Tyrannen”’, JNG 3/4 (1952/3) 7-98
216. Lacey, W. K. ‘The tribunate of Curio’, Historia 10 (1961) 318-29
217. Lacey, W. K. Cicero and the End of the Roman Republic. London, Sydney, Auckland and Toronto, 1978
218. Leach, J. Pompey the Great. London, 1978
219. Linderski, J. ‘Cicero and Sallust on Vargunteius’, Historia 12 (1963) 511-12
220. Linderski, J. ‘The aedileship of Favonius, Curio the Younger and Cicero’s election to the augurate’, HSPh 76 (1972) 181-200
221. Linderski, J. ‘Rome, Aphrodisias and the Res Gestae', the Genera Militiae and the status of Octavian’, JRS 74 (1984) 74-80
222. Lintott, A. W. ‘P. Clodius Pulcher — Felix Catilina?\ Ge^R 14 (1967) 157-69
223. Lintott, A. W. ‘Cicero and Milo’, JRS 64 (1974) 62—78
С. Политическая история
9 65
224. Lintott, A. W. ‘Cicero on praetors who failed to abide by their edicts’,
CQ 27 (1977) 184-6
225. McDonald, W. ‘Clodius and the Lex Aelia Fufia\ JRS 19 (1929) 164-79
226. Marshall, B. A. Crassus. Amsterdam, 1976
227. Meyer, E. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius. Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr. 1918. 3rd edn, Stuttgart and Berlin, 1922
228. Mitchell, T. N. Cicero: The Ascending Years. London, 1979
229. Mommsen, Th. Die Rechtsfrage %wischen Caesar und dem Senat. Breslau, 1857 ( = A 78, 92-I45)
230. Moreau, P. Clodiana religio: un proces politique en 61 αν. J.-C. Paris, 1982
231. Münzer, F. ‘Aus dem Verwandtenkreis Caesars und Oktavians’, Hermes 71 (1936) 222-30
232. Nicolet, C. ‘Plebe et tribus: les statues de Lucius Antonius et le testament d’Auguste’, MEFRA 97 (1985) 799-832
233. van Ooteghem, J. Pompee le grand, bdtisseur d’empire. Brussels, 1954
234. Oppermann, H. Caesar, Wegbereiter Europas. Göttingen, 1958. 2nd edn, 1963
235. Pelling, C. G. R. ‘Plutarch and Catiline’, Hermes 113 (1985) 311-29
236. Phillips, E. J. ‘Cicero and the prosecution of C. Manilius’, Latomus i<)
(1970) 595-607
237. Phillips, E. J. ‘The prosecution of C. Rabirius in 63 b.c.’, Klio 56 (1974) 87—101
238. Raaflaub, K. Dignitatis Contentio. Studien %ur Motivation und politischem Taktik im Bürgerkrieg %wischen Caesar und Pompeius (Vestigia 20). Munich,
1974
239. Ramsey, J. T. ‘The prosecution of C. Manilius in 66 b.c. and Cicero’s pro Manilio\ Phoenix 34 (1980) 323-36
240. Raubitschek, A. E. ‘Brutus in Athens’, Phoenix 11 (1957) 1—11
241. Raubitschek, A. E. ‘The Brutus statue in Athens’, Atti III cong. internat. epigr. gr. e lat., Rome, 1959, 15-21
242. Rawson, B. The Politics of Friendship: Pompej and Cicero. Sydney, 1978
243. Rawson, E. D. ‘The eastern clientelae of Clodius and the Claudii’, Historia 22 (1973) 219-39 ( = A 94A, 102-24)
244. Rawson, E. D. Cicero. A Portrait. London, 1975
245. Rawson, E. D. ‘Caesar’s heritage: Hellenistic kings and their Roman equals’, JRS 65 (1975) 148-59 ( = a 94A, 169-88)
246· Rawson, E. D. ‘Caesar, Etruria and the Disciplina Etrusca’, JRS 68 (1978) 132-52 ( = a 94A, 289-323)
247. Rawson, E. D. ‘Crassorum funera’, Latomus 41 (1982) 540-9 ( = a 94A, 416-26)
248. Rawson, E. D. ‘Cicero and the Areopagus’, Athenaeum 63 (1985) 44-67 ( = a 94A, 444-67)
249. Rawson, E. D. ‘Cassius and Brutus: the memory of the Liberators’, Past Perspectives: Studies in Greek and Roman Historical Writing, ed. I. Moxon et al., Cambridge, 1986, 101-19 ( = a 94A, 488-507)
966
С Политическая история
250. Rawson, E. D. ‘Discrimina ordinum: the Lex lulia Theatralis', PBSR 55 (1987) 83-II4 ( = A 94A, 508-45)
251. Rice Holmes, T. The Roman Republic. 2 vols. Oxford, 1923
252. Rice Holmes, T. The Architect of the Roman Empire. 2 vols. Oxford, 1928—31
253. Sandford, E. M. ‘The career of Aulus Gabinius’, TAPhA 70 (1939) 64-92
254. Scardigli, В. Tl falso Mario’, SIFC 52 (1980) 207-21
255. Schmitthenner, W. Oktavian und das Testament Cäsars’ (Zetemata 4). Munich, 1952, revd. 1973
256. Seager, R. ‘The first Catilinarian conspiracy’, Historia 13 (1964) 338-47
257. Seager, R. ‘The tribunate of Cornelius: some ramifications’, Hommages a MarcelRenard, ed. J. Bibauw (Coll. Latomus 102) 11, Brussels, 1969, 680- 6
258. Seager, R. Pompey, A Political Biography. Oxford, 1979
259. Shackleton Bailey, D. R. iExpectatio Corfiniensis', JRS 46 (1956) 57-64
260. Shackleton Bailey, D. R. ‘The credentials of L. Caesar and L. Roscius’, JRS 50 (i960) 80-3
261. Shackleton Bailey, D. R. ‘Points concerning Caesar’s legislation in 59
B.c.’, in в io8, i, 406-8
262. Shackleton Bailey, D. R. Cicero. London, 1971
263. Smith, R. E. Cicero the Statesman. Cambridge, 1966
264. Sordi, M. ‘Ottaviano patrono di Taranto nel 43 a.C.’, Epigraphica 41 (1969) 79“83
265. Sternkopf, W. (Lex Antonia agraria’, Hermes 47 (1912) 146—51
266. Sternkopf, W. ‘Die Verteilung der römischen Provinzen vor dem mutinensischen Krieg’, Hermes 47 (1912) 321-401
267. Stockton, D. Cicero. A Political Biography. Oxford, 1971
268. Sumner, G. V. ‘Manius or Mamercus?’, JRS 54 (1964) 41-8
269. Sumner, G. V. ‘Cicero, Pompeius and Rullus’, TAPhA 97 (1966) 569-82
270. Sumner, G. V. ‘A note on Julius Caesar’s great-grandfather’, CPh 71 (1976) 341-4
271. Syme, R. ‘Who was Decidius Saxa?’, JRS 27 (1937) 127—37 ( = a 119 i,
31-41)·
272. Syme, R. ‘Caesar, the Senate and Italy’, PBSR 14(1938) 1-32 ( = a 119,1, 88-119)
273. Syme, R. ‘The allegiance of Labienus’, JRS 28 (1938) 113-28 ( = a 119,1, 62-75)
274. Syme, R. ‘Imperator Caesar: a study in nomenclature’, Historia 7 (1958) 172-88 ( = a 119, i, 360-77)
275. Syme, R. ‘Ten tribunes’, JRS 5 3 (1963) 5 5-60 ( = a 119, 11, 557-65)
276. Syme, R. ‘Senators, tribes and towns’, Historia 13 (1964) 105—25 ( = a i 19, и, 582-604)
277. Taylor, L. R. On the chronology of Caesar’s first consulship’, AJPh 72 (1951) 254-68
Treu, M. ‘Zur dementia Caesaris’, ΜΗ 5 (1948) 197-217
278.
D. Восток
967
279. Vanderbroeck, P. J - J. Popular 'Leadership and Collective Behavior in the Late Roman Republic. Amsterdam, 1987
280. Ward, A. M. Marcus Crassus and the Late Roman Republic. Columbia, MO,
1977
281. Weippert, O. Alexander-Imitatio und römische Politik in republikanischer Zeit (Diss. Würzburg, 1970). Augsburg, 1972
282. Wirszubski, C. ‘Cicero’s cum dignitate otium\ a reconsideration’, JRS 44 (1954) 1-13 (= Seager, Crisis, 183-95)
283. Wiseman, T. P. ‘The ambitions of Quintus Cicero’, JRS 56 (1966) 108- 15, repr. in a 133, 34-41
284. Wiseman, T. P. ‘Two friends of Clodius in Cicero’s letters’, CQ 18 (1968) 297—3°2
285. Wiseman, T. P. Cinna the Poet and other Roman Essays. Leicester, 1974
286. Wiseman, T. P. Catullus and his World: a Reappraisal. Cambridge, 1985
287. Wistrand, E. ‘The date of Curio’s African campaign’, Eranos 61 (1963) 38-44
288. Wistrand, E. The Policy of Brutus the Tyrannicide. Gothenburg, 1981
289. Wistrand, M. Cicero Imperator. Studies in Cicero's Correspondence ji-47 b.c. Gothenburg, 1979
290. Yavetz, Z. Caesar in der öffentlichen Meinung. Düsseldorf, 1979, transi, as Julius Caesar and his Public Image, London, 1983
D. Восток
(а) Митридатовы войны
1. Anderson, J. G. C. ‘Pompey’s campaign against Mithridates’, JRS 12 (x922) 99—io5
2. Badian, E. ‘Q. Mucius Scaevola and the province of Asia’, Athenaeum 34 (1956)104-23
3. Badian, E. ‘Sulla’s Cilician command’, Athenaeum 37 (1959) 279-303 ( = a 2, 157-78)
4. Badian, E. ‘Rome, Athens and Mithridates’, Assimilation et resistance ä la culture greco-r от aine dans le monde ancien. Travaux du VI. congres Internat, de la FI EC, Madrid, Sept. 1974, e<^· D. M. Pippidi, Bucharest, 1976, 501-22 (= AJAH i (1976) 105-28)
5. Blavatskaya, T. V. Zapadnopontiiskiye Goroda v VII—I Vyekakh do nashei Ery (West Pontic Cities in the Seventh to First Centuries в. c.). Moscow, 1952. — Блаватская T.B. Западнопонтийские города β VII—I веках до н. э. М., 1952
6. Brashinsky, J. В. ‘The economic links of Sinope in the fourth to second centuries b.c.’ (Russ.), Antichny Gorod, Moscow, 1963, 132-44
7. Castagna, M. Mitridate VI Eupatore re del Ponto. Portici, 1938
8. Chapot, V. La province romaine proconsulaire d' A sie depuis ses originesjusqu’a la fin du Haut-Empire. Paris, 1904
9. Danov, С. M. Zapadnyat Bryag na Chernomorye v Drevnostata (The West Coast of the Black Sea in Antiquity). Sofia, 1947
968
D. Восток
10. Deininger, J. Der politische Widerstand gegen Rom in Griechenland 217-86 v. Chr. Berlin and New York, 1971
11. Desideri, P. ‘Posidonio e la guerra mitridatica’, Athenaeum 51 (1973) 3- 29 and 238—69
12. Diehl, E. ‘Pharnakes’, RE 19 (1938) 1849-53
13. Dow, S. ‘A leader of the anti-Roman party in Athens in 88 в.c.’, CPh 37 (1947) 311-14
14. Dundua, G. F. and Lordkipanidze, G. A. ‘Georgia and Mithridates VP (Russ.), Tskhaltubo hi, 601—8. — Дундуа Г.Ф., Лордкипанидзе ГА. Грузия и Митридат VI (по нумизматическим данным) // Цхалтубо III: 601—608
15. Fletcher, W. G. ‘The Pontic cities of Pompey the Great’, TAPhA 70 (1939) 17-29
16. Geyer, F. ‘Mithridates’ (1 and 3-15), RE 15 (1932) 2157-206
17. Glew, D. G. ‘The selling of the king: a note on Mithridates Eupator’s propaganda in 88 b.c., Hermes 105 (1977) 253-6
18. Glew, D. G. ‘Mithridates Eupator and Rome: a study of the background of the first Mithridatic war’, Athenaeum 5 5 (1977) 380-405
19. Glew, D. G. ‘Between the wars: Mithridates Eupator and Rome, 85-73 b.c.’, Chiron ii (1981) 109-20
20. Gozalishvili, G. V. Mit’ridat Pontiisky (Georgian, with Russian summary). Tbilisi, 1965. — Гозалишвили Г.В. Митридат Понтийский. Тб., 1965 (на грузинском языке с русским резюме)
21. Gross, W. Н. ‘Die Mithridates-Kapelle auf Delos’, A&A 4 (1954) 105-17
22. Habicht, C. ‘Zur Geschichte Athens in der Zeit Mithridates’ VI’, Chiron 6 (1976) 127-42
23. Hammond, N. G. L. ‘The two battles of Chaeronea, 338 and 86 в.c.’, Klio 31 (1938) 186-201
24. Havas, L. ‘Mithridate et son plan d’attaque contre l’Italie’, ACD 4(1968) 13-25
25. Karyshkovsky, P. О. On the title of Mithridates Eupator’ (Russ.), Tskhaltubo in, 5 72—81. — Карышковский П.О. О титуле Митридата VI Евпатора (к вопросу об иранских и эллинских традициях в Понтийской державе) // Цхалтубо III: 572—581
26. Kleiner, G. ‘Bildnis und Gestalt des Mithridates’, JDAI68 (1953) 73-95
27. Kolobova, К. M. ‘Pharnaces I of Pontus’ (Russ.), VDI 1949.3 (29) 27-35. — Колобова K.M. Фарнак I Понтийский // ВДИ 1949 (29) 3: 27—55
28. Leskov, А. М. Gorny Krim v Pyervom Tysyacheletii do η. E. (Mountain Crimea in the first Millennium B.c.). Kiev, 1965. — Лесков A.M. Горный Крым в первом тысячелетии до н. э. К., 1965
29. Levi, E. I. О Гvia-Gorod Epokhi Ellini^ma (The City of Olbia in the Age of Hellenism). Leningrad, 1985. — Леви И.Е. Ольвия — город эпохи эллинизма. Л., 1985
30. Lintott, A. W. ‘Mithridatica’, Historia 25 (1976) 489-91
31. Lomouri, Ν. Y. К Istorii Pontiiskogo Tsarstva {On the History of the Pontic Kingdom). Tbilisi, 1979. — Ломоури Н.Ю. К истории Понтийского царства. Тб., 1979
D. Восток
969
32. McGing, В. С. ‘Appian, Manius Aquillius and Phrygia’, GRBS 21(1980) 35-42
33. McGing, В. C. ‘The date of the outbreak of the third Mithridatic war’, Phoenix 38 (1984) 12-18
34. McGing, В. C. ‘The kings of Pontus: some problems of identity and date’, RhM 129 (1986) 248-59
3 5. McGing, В. C. The Foreign Policy of Mithridates Eupator, King of Pontus. Leiden, 1986
36. Marshall, A. J. ‘Pompey’s organisation of Bithynia-Pontus: two neglected texts’, JRS 58 (1968) 103-7
37. Maximova, M. I. Antichnye Goroda Yugo-Vostochnogo Prichernomorya (.Ancient Cities of the South-East Black Sea). Moscow and Leningrad, 1956. — Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. Μ.; Л., 1956
38. Meyer, Е. Geschichte des Königreichs Pontos. Berlin, 1878
39. Minns, E. H. Scythians and Greeks in South Russia. Cambridge, 1913
40. Molyev, E. A. ‘The establishment of the power of Mithridates Eupator on the Bosporus’ (Russ.), AM A 2 (1974) 60-72. — Молев E.A. Установление власти Митридата Евпатора на Боспоре // АМА (1974) 2: 60—72
41. Molyev, Е. A. Mitridat Eupator. Saratov, 1976. — Молев Е.А. Митридат Евпатор. Саратов, 1976
42. Molyev, E. A. ‘Armenia Minor and Mithridates Eupator’ (Russ.), Problemy Antichnoi Istorii i Kultury 1, Yerevan, 1979, 185-9. — Молев E.A. Малая Армения и Митридат Евпатор // Проблемы античной истории и культуры 1. Ереван, 1979: 185—189
42А. Molyev, Е. A. On the question of the origin of the Pontic Mithridatids’ (Russ.), VDI 1983.4, 131-8. — Молев E.A. К вопросу о происхождении династии понтийских Митридатидов // ВДИ 1983.4: 131—138
43. Molyev, E. A. ‘Mithridates Ktistes, ruler of Pontus’ (Russ.), Tskhaltubo in, 581-8. — Молев E.A. Митридат Ктист — правитель Понта // Цхал- тубо III: 581-588
44. Möll, А. ‘Der Überseehandel von Pontos’, Akten 1. hist.-geogr. Kolloqu. Stuttgart, 8-9 Dec. 1980, Geographia Historica (1984)
45. Munro, J. A. ‘Roads in Pontus, royal and Roman’, JHS 21 (1901) 52-66
46. Neverov, Ο. Y. ‘Mithridates as Dionysus’ (Russ.), SGE 37 (1973) 41-5. — Неверов О .Я. Митридат-Дионис // СГЭ (1973) 37: 41—45
47. Neverov, О. Y. ‘Mithridates and Alexander, on the iconography of Mithridates VT (Russ.) SA 1971.2, 86-95. — Неверов О .Я. Митридат и Александр: к иконографии Митридата VI // СА 1971.2: 86—95
48. Niese, В. ‘Die Erwerbung der Küsten des Pontos durch Mithridates VI’ (Straboniana 6), RhM 42 (1887) 5 59-74
49. Olshausen, E. ‘Mithridates VI und Rom’, ANRIF 1.1 (1972) 806-15
50. Olshausen, E. ‘Zum Hellenisierungsprozess am pontischen Königshof’, AncSoc 5 (1974) 153-64
51. Olshausen, E. and Biller, J. Historisch-geographische Aspekte der Geschichte des pontischen und armenischen Reiches 1. Wiesbaden, 1984
970
D. Восток
5 2. Ormerod, H. A. ‘Mithridatic advance in Asia Minor and Greece’, CAH ix (1932) 238-60
53. Perl, G. ‘The eras of the Bithynian, Pontic and Bosporan kingdoms’ (Russ.), VDI 1969.3 (109) 39-69 ( = ‘Zur Chronologie der Königreiche Bithynia, Pontos und Bosporos’, Studien %ur Geschichte und Philosophie des Altertums, ed. J. Harmatta, Amsterdam 1968, 299-330). — ПерлГ. Эры Вифинского, Понтийского и Боспорского царств // ВДИ 1969 (109) 3: 39-69
5 4. Raditsa, L. ‘Mithridates’ view of the Peace of Dardanus in Sallust’s Letter of Mithridates\ Helikon 9-10 (1969-70) 632-5
5 5. Reinach, T. Mithridate Lupator, rot du Pont. Paris, 1890
56. Robinson, D. M. Ancient Sinope. Baltimore, 1906
57. Rostovtzeff, M. I. ‘Mithradates of Pontus and Olbia’ (Russ.), Investia Arkheologicheskoi Kommissii Rossii 23 (1907) 21-7. — Ростовцев М.И. Митридат Понтийский и Ольвия // Известия Императорской Археологической комиссии (1907) 23: 21—27
58. Rostovtzeff, Μ. I. ‘Pontus, Bithynia and the Bosporus’, ABSA 22 (1916-18) 1-22
59. Rostovtzeff, M. I. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 1922
60. Rostovtzeff, M. I. Skythien und der Bospor. Berlin, 1931
61. Rostovtzeff, M. I. ‘Pontus and its neighbours: the first Mithridatic War’, CAH ix (1932) 211-38
62. Salomone Gaggero, E. ‘La propaganda antiromana di Mitridate VI Eupatore in Asia minore e in Grecia’, Contributi di storia antica in onore di Albino Gargetti, Genoa, 1977, 89—123
63. Salomone Gaggero, E. ‘Relations politiques et militaires de Mithridate VI Eupator avec les populations et les cites de Thrace et avec les colonies grecques de la Mer Noire occidentale’, Pulpudeva, semaines philippopolitaines de l'histoire et de la culture tbrace, Plovdiv 4—19 oct. 1976 11, ed. A. Fol, Sofia, 1978, 294-305
64. Saprykin, S. Y. ‘Heraclea, Chersonesus and Pharnaces I of Pontus’ (Russ.), VDI 1979.3 (149) 43—5 9. — Сапрыкин С.Ю. Гераклея, Херсо- нес и Фарнак I Понтийский // ВДИ 1979 (149) 3: 43—59
65. Sarikakis, T. С. ‘Les vepres ephesiennes de Гап 88 av. J.-C.’, EThess 15 (1976) 253-64
66. Savelya, O. On the relations between Greeks and barbarians in the south-western Crimea’ (Russ.), Tskhaltubo 1, 166-76. — Савеля О.Я. 06 отношениях греков и варваров в Юго-Западном и Южном Крыму в Vili вв. до н. э. // Цхалтубо I: 166—176
67. Schultz, Р. М. ‘Late Scythian culture and its variants on the Dnieper and in the Crimea’ (Russ.), Problemy Skiphskoi Arkheologii {Problems of Scythian Archaeology), Moscow, 1971, 127-36. — Шульц П.Н. Позднескифская культура и ее варианты на Днепре и в Крыму // Проблемы скифской археологии. М, 1971: 127—136
D. Восток
971
68. Sheglov, A. N. ‘The Tauri and the Greek colonies in Taurica’ (Russ.) Tskhaltubo ii, 204-18. — Щеглов A.H. Тавры и греческие колонии в Тав- рике // Цхалтубо II: 204—218
69. Shelov, D. В. ‘Tyras and Mithridates Eupator’ (Russ.), VDI1962.2 (80) 95-102. — Шелов Д.Б. Тира и Митридат Евпатор // ВДИ 1962 (80) 2: 95— 102
70. Shelov, D. В. ‘Concerning the ancient literary tradition of the Mithridatic wars (Posidonius and Cicero)’ (Russ.), Istoria i Kultura antichnogo Mira, Moscow, 1977, 197-201. — Шелов Д.Б. Из античной ли- литературной традиции о Митридатовых войнах (Посидоний и Цицерон) // История и культура античного мира. М., 1977: 197—201
71. Shelov, D. В. ‘Colchis in the system of the Pontic empire of Mithridates VI’ (Russ.), VDI 1980.3 (153) 28-43. — Шелов Д.Б. Колхида в системе Понтийской державы Митридата // ВДИ 1980 (153) 3: 28—43
71 A. Shelov, D. В. ‘Le royaume pontique de Mitridate Eupator’, Journal des Savants 1982, 3-4, 243-66
71 в. Shelov, D. B. ‘The cities of the north Black Sea area and Mithridates Eupator’ (Russ.), VDI 1983.2,41-52. — Шелов Д.Б. Города Северного Причерноморья и Митридат Евпатор // ВДИ 1983.2: 41—52
72. Shelov, D. В. ‘The Pontic state of Mithridates Eupator’ (Russ.), Tskhaltubo hi, 551-72. — Шелов Д.Б. Понтийская держава Митридата Евпатора // Цхалтубо III: 551—572
73. Shelov, D. В. ‘The ancient idea of a unified Pontic state’ (Russ.), VDI 1986.1 (176) 36-42. — Шелов Д.Б. Идея всепонтийского единства в древности Ц ВДИ 1986 (176) 1: 36-42
74. Sherwin-White, А. N. ‘Rome, Pamphylia and Cilicia’, JRS 66 (1976) 1-9
75. Sherwin-White, A. N. ‘The Roman involvement in Anatolia 167-88 B.c.’, JRS 67 (1977) 62-75
76. Sherwin-White, A. N. ‘Ariobarzanes, Mithridates and Sulla’, CQ 27
(1977) 173-83
77. Sherwin-White, A. N. ‘The opening of the Mithridatic war’, Φιλίας Χάριν, Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni, ed. M. J. Fontana, Μ. T. Piraino and F. P. Rizzo, vi, Rome, 1980, 1979-95
77A. Solomonnik, E. I. On the Scythian state and its relations with the North Black Sea Region’, Arkheologia i Istoria Bospora 1 (Russ.), ed. Gaidukevich, V. F., 1952, 103-29. — Соломонник Э.И. О скифском государстве и его взаимоотношениях с греческими городами Северного Причерноморья // Археология и история Боспора 1 / под ред. В.Ф. Гайдукевича. 1952: 103—129
77В. Todua, Т. Kolkbida v Sostavye Pontiiskogo Tsarstva. Tbilisi, 1990. — To- дуа T.T. Колхида в составе Понтийского царства. Тбилиси, 1990
78А. Vinogradov, Y. G. Politicheskaya Istoria Ol’viiskogo Polisa VH-I Vyekov do n.E. Moscow, 1989. — Виноградов Ю.Г. Политическая история Оль- вийского полиса VII—I веков до н. э. М., 1989
79. Vitucci, G. II regno di Bitinia. Rome, 1953
972
D. Восток
80. Vysotskaya, T. Po^dniye Skiphy v Yugo^apadnom Krimu (Late Scyths in the South-West Crimea). Kiev, 1972. — Высоцкая T.H. Поздние скифы в юго- западном Крыму. Киев, 1972
81. Vysotskaya, Т. Skiphskiye Gorodischa {Scythian Sites). Simferopol, 1975. — Высоцкая T.H. Скифские городища. Симферополь, 1975
82. Weimert, H. Wirtschaft als landschaftsgebundenes Phänomen: die antike Landschaft Pontos*. Eine Fallstudie. Frankfurt, 1984
8 3. Widengren, G. ‘La legende royale de l’Iran antique’, Hommages ä Georges Dume\il (Coli. Latomus 45), Brussels, i960, 230-1
84. Wilhelm, A. ‘König Mithridates Eupator und Olbia’, Klio 29 (1933) 50-9
85. Winfield, D. ‘The northern routes across Anatolia’, AS 27(1977) 151-66
86. Winter, F. ‘Mithridates VI Eupator’, JDAI 9 (1894) 245-54
(b) Иудеи
87. Abel, F. M. Les livres des Maccabees. Paris, 1949
88. Abel, F. M. Histoire de la Palestine de puis la conquete d* Alexandre jusqu’a l*invasion arabe 1. Paris, 1952
89. Alon, G. ‘Did the Jewish people and its sages cause the Hasmoneans to be forgotten?’, Studies in Jewish History in the Times of the Second Temple and Talmud, transl. by I. Abrahams, Jerusalem, 1977, 1—17
90. Ariel, D. T. ‘A survey of coin finds in Jerusalem’, Liber Annuus, Studium Biblicum Franciscanum 32 (1982) 273-307
91. Avigad, N. ‘The rock-carved facades of the Jerusalem Necropolis’, IEJ 1 (1950—1) 96—106
92. Avigad, N. ‘A bulla of Jonathan the High Priest’, IEJ 25 (1975) 8-12, and ‘A bulla of King Jonathan’, ibid. 245-6
93. Avigad, N. Discovering Jerusalem. Oxford, 1984
94. Bar-Adon, P. ‘Another settlement of the Judaean desert sect at Έη el- Ghuweir on the shores of the Dead Sea’, BASO 277 (1977) 1-22
95. Barag, D. and Qedar, Sh. ‘The beginning of Hasmonean coinage’, Israel Numismatic Journal 4 (1980) 8-21
96. Bartlett, J. Jericho. London, 1982
97. Beall, T. S. Josephus’ Description of the Es senes Illustrated by the Dead Sea Scrolls (SNTS Monogr. ser. 58). Cambridge, 1988
98. Benoit, P. ‘L’inscription grecque du tombeau de Jason’, IEJ 17 (1967) 112-13
99. Bickerman, E. From E%ra to the Last of the Maccabees. New York, 1962
100. Bickerman, E. The Jews in the Greek Age. Cambridge, MA, 1988
101. Bowsher, J. M. C. ‘Architecture and religion in the Decapolis’, PalEQ Jan.—June 1987, 62-9
102. Burr, V. ‘Rom und Judäa im 1. Jahrhundert’, ANRWι.ι (1972) 875-86
103. Charlesworth, J. H. The Old Testament Pseudepigrapha. 2 vols. London, 1985
104. Collins, J. J. ‘The epic of Theodotus and the Hellenism of the Hasmoneans’, HThR 73 (1980) 91-104
105. Collins, J. J. Between Athens and Jerusalem. Jewish Identity in the Hellenistic Diaspora. New York, 1983
D. Восток
973
i об. Cross, F. M. The Ancient Library of Qumran and Modern Biblical Studies. Revd. New York, 1961
ιοη. Davies, P. R. ‘Hasidim in the Maccabean perkxT, JJSt 28 (1977) 127-40 108. Davies, P. R. ‘The ideology of the Temple in the Damascus document’, JJSt 33 O982) 287-302 Ю9. Davies, P. R. Qumran. Guildford, 1982
110. Delcor, M. ‘Le temple d’Onias en Egypte’, RBi 75 (1968) 188-205 ui. De V aux, R. Ancient Israel, its Life and Institutions. 2nd edn, London, 196 5
112. De Vaux, R. Archaeology and the Dead Sea Scrolls. Revd. Oxford, 1973
113. Dever, W. G. Ge^erlV. The 1969-71 Seasons. Jerusalem, 1986
114. Efron, J. Studies on the Hasmonean Period. Leiden, 1987
i ϊ 5. Egger, R. Josephus und die Samaritaner (Novum Test, et Orbis Antiquus 4). Göttingen, 1986
116. Foerster, G. ‘Architectural fragments from Jason’s tomb reconsidered’, IEJ 28 (1978) 15 2-6
117. Gafni, I. ‘Josephus and I Maccabees’, in Josephus, the Bible and History, ed. L. H. Feldman and G. Hata, Detroit, 1989, 147—72
118. Giovannini, A. and Müller, H. ‘Die Beziehungen zwischen Rom und den Juden im 2. Jh. v. Chr.’, MH 28 (1971) 156-71
119. Goldstein, J. A. 1 Maccabees. New York, 1976
120. Goodman, M. The Ruling Class of Judaea. Cambridge, 1987
121. Habicht, Chr. 2 Makkabäerbuch (Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit 1:3). Gütersloh, 1976
122. Hayward, R. ‘The Jewish temple at Leontopolis: a reconsideration’,//57
зз (1982) 429-43
123. Hengel, M. Judaism and Hellenism, transl. by J. Bowden. 2 vols. London,
1974
124. Hengel, M., Charlesworth, J. H. and Mendels, D. ‘The polemical character of “On Kingship” in the Temple Scroll: an attempt at dating “11Q Temple”’, JJSt 37 (1986) 18-38
125. Kasher, A. ‘Gaza during the Greco-Roman era’, Jerusalem Cathedra 2 (1982) 63-78
126. Kasher, A. Jews, Idumaeans and ancient Arabs (Texte und Studien zum antiken Judentum 18). Tübingen, 1988
127. Knibb, Μ. A. The Qumr an Community. Cambridge, 1987
128. Lane, E. N. ‘Sabazius and the Jews in Valerius Maximus: a reexamination’, JRS 69 (1979) 34—8
129. Laperrousaz, E.-M. Qumran. L’etablissement essenten des bords de la Mer Morte. Histoire et archeologie du site. Paris, 1976
13°· Levine, L. I. ‘The Hasmonean conquest of Strato’s Tower’, IEJ 24 (1974) 62-9
41. Lichtenstein, H. ‘Die Fastenrolle. Eine Untersuchung zur jüdischhellenistischen Geschichte’, HebrUCA 8—9 (1931-2) 257—351 13 2. Lohse, E. Die Texte aus Qumran hebräisch und deutsch. 2nd edn, Munich, 1971
I33· Macalister, R. A. S. The Excavation of Cev^er, 1902—1907 and 1907—1909 1. London,19ii
974
D. Восток
134. Mendels. О. The Tand of Israel as a Political Concept in Hasmonean Literature (Texte und Studien zum antiken Judentum 15). Tübingen, 1987
135. Meshorer, Y. Ancient Jewish Coinage. 2 vols. New York, 1982
136. Momigliano, A. ‘The date of the first book of Maccabees’, Mel. Heurgon ii, 6 5 7—61 (= Sesto contributo alia storia degli studi classici e delmondo antico 11, 561-6).
137. Moore, G. F. ‘Fate and free will in the Jewish philosophies according to Josephus’, HThR 22 (1929) 371-89
138. Netzer, E. ‘The Hasmonean and Herodian winter palaces at Jericho’, IEJ 25 (1975) 89-100
139. Neusner, J. ‘The fellowship (haburah) in the second Jewish commonwealth’, HThR 53 (i960) 125-42
140. Neusner, J. The Idea of Purity in Ancient Judaism. Leiden, 1973
141. Nickelsburg, G. W. E. Jewish Literature between the Bible and the Mishnah. London,1981
142. Puech, E. ‘Inscriptions funeraires palestiniennes: tombeau de Jason et ossuaires’, RBi 90 (1983) 481-533
143. Purvis, J. O. ‘The Samaritans and Judaism’, Early Judaism and its Modern Interpreters, ed. R. A. Kraft and G. W. E. Nickelsburg, Philadelphia, 1986,81-98
144. Qimron, E. and Strugnell. J. ‘An unpublished Halakhic letter from Qumran’, Biblical Archaeology Today, ed. J. Amitai (Proc. of the 1984 Internat. Congr. on Biblical Archaeology), Jerusalem, 1985, 400-7
145. Raban, A. ‘The city walls of Strato’s Tower’, BASO 268 (1987) 71-88
146. Rahmani, L. Y. ‘Jason’s tomb’, IEJ 17 (1967) 61-100
147. Rajak, T. ‘Roman intervention in a Seleucid siege of Jerusalem?’, GRBS 22 (1981) 65-81
148. Rappaport, U. ‘La Judee et Rome pendant le regne d’Alexandre Janee’,
REJ 127 (1968) 329-45
149. Rappaport, U. ‘Les Idumeens en Egypte’, RPh 43 (1977) 73-82
150. Rappaport, U. ‘The emergence of the Hasmonean coinage’, Association for Jewish Studies Review 1 (1976) 171-86
151. Reich, R. and Geva, H. ‘Archaeological evidence of the Jewish population of Hasmonean Gezer’, IEJ 31 (1981) 48-52
15 2. Schalit, A., (ed.) The World History of the Jewish People, vi, The Hellenistic Age. London, 1976
153. Schürer, E. The History of the Jewish People in the Age ofJesus Christ. T ransl. and rev. by G. Vermes, F. Millar, M. Goodman and M. Black. Vols. 1,11, in.i, hi.2. Edinburgh, 1973-87
154. Seger, J. D. ‘The search for Maccabean Gezer’, Biblical Archaeologist 39 (1971) 142-4
155. Sievers, J. ‘The role of women in the Hasmonean dynasty’, Josephus, the Bible and History, ed. L. H. Feldman and G. Hata, Detroit, 1989, 132-46
156. Smallwood, E. M. The Jews under Roman Rule from Pompey to Diocletian. Leiden, 1976
15 7. Stern, E. ‘The excavations at Tel Dor’, The Land of Israel: Cross-Roads of Civilisation, ed. E. Lipinski, Louvain, 1985, 169—92
D. Восток
975
j 58. Stern, M. Greek and Eatin Authors on Jews and Judaism 1. Jerusalem, 1974 X 5c>. Stern, M. ‘Judaea and her neighbours in the days of Alexander J annaeus ’, Jerusalem Cathedra 1 (1981) 2 2-46
160. Stone, Μ. E. Scriptures, Sects and Visions. A Profile of Judaism from E%ra to the Jewish Revolts. London, 1982
161. Stone, Μ. E. Jewish Writings of the Second Temple Period (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 2.2). Assen and Philadelphia, 1984
162. Tcherikover, V. Hellenistic Civilisation and the Jews. Jerusalem, 1966
163. Tsafrir, Y. ‘The location of the Seleucid Akra at Jerusalem’, RBi 82 (1975) 501-21
164. Vermes, G. ‘The Essenes and history’, JJSt 32 (1981) 18-31
165. Vermes, G. The Dead Sea Scrolls: Qumran in Perspective. 2nd edn, London, 1982
166. Vermes, G. The Dead Sea Scrolls in English. 3rd edn, London, 1987
167. Vermes, G. and Goodman, M. D. The Essenes according to the Classical Sources. Sheffield, 1987
168. Wacholder, В. Z. ‘Josephus and Nicolaus of Damascus’, Josephus, the Bible and History, ed. L. H. Feldman and G. Hata, Detroit, 1989, 147-72
(с) Египет
169. Badian, E. ‘The testament of Ptolemy Alexander’, RhM 110 (1967) 178-92
169A. Bagnall, R. S. ‘Stolos the admiral’, Phoenix 26 (1972) 358-68 169B. Bagnall, R. S. The Administration of the Ptolemaic Possessions outside Egypt (Columbia Studies in the Classical Tradition 4). Leiden, 1976
170. Bingen, J. ‘Les epistrateges de Thebaide sous les derniers Ptolemees’, CE45 (1970) 369-78
171. Bingen, J. ‘Presence grecque en milieu rural ptolemaique’, Problemes de la terre en Grece ancienne, ed. M. I. Finley, Paris, 1973, 215—22
172. Bingen, J. ‘Kerkeosiris et ses Grecs au IIе siede avant notre ere’, Actes du XVе congres Internat, de papyrologie iv (Papyrologica Bruxellensia 19), Brussels, 1978, 87-94
173· Bingen, J. ‘Les cavaliers catoeques de l’Heracleopolite auIе siede’, Studia
He lienis tic a 27(1983) 1-11
174· Bingen, J. ‘Les tensions structurelles de la societe ptolemaique’, Attidel XVII congresso internadipapirologia hi, Naples, 1984, 921-37 175· Bloedow, E. Beiträge %ur Geschichte des Ptolemaios xn. Diss. Würzburg, 1965
'76. Bonnet, H. Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Berlin, 1952 Ι77· Boswinkel, E. and Pestman, P. W. Ees archivesprivees de Dionysios, fils de Kephalas (PapLugdBat. 22). Leiden, 1982 x78. Cauville, S. and Devauchelle, D. ‘Le temple d’Edfou: etapes de la construction; nouvelles donnees historiques’, REgypt 35 (1984) 31-55 x79- Clarysse, W. ‘Greeks and Egyptians in the Ptolemaic army and administration’, Aegyptus 65 (1985) 57-66
976
D. Восток
180. Cleopatra's Egypt. Age of the Ptolemies, ed. R. S. Bianchi et al. Brooklyn Museum, New York, 1988
181. Crawford, D. J. Kerkeosiris: an Egyptian Village in the Ptolemaic Period. Cambridge, 1971
182. Crawford, D. J., Quaegebeur, J. and Clarysse, W. Studies on Ptolemaic Memphis (Studia Heilenistica 24). Louvain, 1980
183. van’t Dack, E. ‘La date de C.Ord.Ptol. 80-83 = BGU VI 1212 et le sejour de Cleopatre VII a Rome’, AncSoc 1 (1970) 5 3-67
184. van’t Dack, E. Keinen, expedites en emigratie uit Italie naar Ptolemaetsch Egypte (Meded. koninkl. Acad. Wetensch., Lett, en schone Künsten, Kl. der Letteren 42,4). Brussels, 1980
185. van ’t Dack, E. ‘L’armee romaine d’Egypte de 55 a 30 av.J.-C.’, Das römisch-byzantinische Ägypten. Akten des Internat. Symposions 26-30 Sept. I9j8 in Trier, Mainz, 1983, 19-29
186. van ’t Dack, E. ‘Les relations entre l’Egypte ptolemai’que et 1’ Italie, un aper9u des personnages revenant ou venant d’Alexandrie ou d’Egypte en Italie’, Egypt and the Hellenistic World. Proc. of the Internat. Colloquium Eouvain 24-6 May 1982 (Studia Heilenistica 27), Louvain, 1983, 383-406
i 86 a. van’t Dack E. Ptolemaica Selecta. Etudes sur ΐ arm ее et ΐ administration lagides (Studia Heilenistica 29) Louvain, 1988
187. Derchain, P. ‘Miettes’, REgypt 26 (1974) 7-20
188. Donadoni, S. ‘Una testata di decreto Tolemaico’, Alessandria e il mondo ellenistico-romano. Studi in onore di Achille Adriani, ed. N. Bonacasa and A. Di Vita (Studi e Materiali 1st. arch. Univ. Palermo 4-6) 1, Rome, 1983, 162-4
189. Dunand, F. ‘Droit d’asile et refuge dans les temples en Egypte lagide’, Hommages a la memoire de Serge Sauneron 11, ed. J. Vercoutter, Cairo, 1979, 77-97
190. Fraser, P. M. ‘Inscriptions from Ptolemaic Egypt’, Berytus 13 (1959-60) 123—61
191. Fraser, P. M. ‘A prostagma of Ptolemy Auletes from Lake Edku’,/E^ 56 (1970) 179-82
192. Fraser, P. M. Ptolemaic Alexandria. 3 vols. Oxford, 1972
193. Gara, A. ‘Limiti strutturali dell’economia monetaria nell’Egitto tardo- tolemaico’, Studi Ellenistici 1, ed. B. Virgilio, Pisa, 1984, 107—34
194. Heinen, H. Rom und Aegypten von 31 bis 47 v.Chr. Diss. Tübingen, 1966
195. Heinen, H. ‘Cäsar und Kaisarion’, Historia 18 (1969) 181-203
196. Heinen, H. ‘Die Tryphe des Ptolemaios VIII Euergetes ΙΓ, Althistorische Studien Hermann Bengtson zum 7°- Geburtstag dargebracht von Kollegen und Schülern, ed. H. Heinen (Historia Einzelschriften 40), Wiesbaden, 1983, 116-30
197. Johnson, J. H. ‘Is the Demotic Chronicle an anti-Greek tract?’ Grammatika Demotika. Festschrift für Erich Eüddeckens zum H- Juni 1983, ed. H.-J. Thissen and K.-T. Zauzich, Würzburg, 1984, 107-24
198. Kaplony-Heckel, U. ‘Ein neuer demotischer Brief aus Gebelen’, Festschr. Zum 130-jährigen Bestehen des Berliner ägyptischen Museums (Staatl. Museen zu Berlin, Mitt, aus d. ägyptischen Sammlung 8), Berlin, 1974, 287-301
D. Восток
977
Koenen, L. ‘ΘΕΟΙ ΣΙ N ΕΧΘΡΟΣ. Ein einheimischer Gegenkönig in Ägypten (132/1»)’, CE 34 (1959) 103-19
200. Koenen, L. ‘Die Propheziehungen des “Töpfers”’, ZPE 2 (1968) 178-209
201. Koenen, L. ‘The prophecies of a potter: a prophecy of world renewal becomes an apocalypse’, Proc. of the XIIth Int. Congress of Papyro logy, Ann Arbor, 13-17 August, 1968 (Am. Stud. Pap. 7), Toronto, 1970, 249-54
202. Koenen, L. ‘Bemerkungen zum Text des Töpferorakels und zu dem Akaziensymbol’, ZPE 13 (1974) 313-19
203. Kyrieleis, H. Bildnisse der Ptolemäer (Deutsches arch. Institut, Arch. Forschungen 2). Berlin, 1975
204. Lewis, N. ‘Dryton’s wives: two or three?, CE 57 (1982) 317-21
205. Lewis, N. Greeks in Ptolemaic Egypt. Oxford, 1986
206. Lloyd, A. B. ‘Nationalist propaganda in Ptolemaic Egypt’, Historia 31 (1982)33-55
207. Lord, L. E. ‘The date of Julius Caesar’s departure from Egypt’, Classical Studies presented to F. Capps on his 70th Birthday, Princeton, 1936, 223-32
208. Lüddeckens, E. Ägyptische Eheverträge (Ägyptologische Abhandlungen 1) Wiesbaden, i960
209. Maehler, H. ‘Egypt under the last Ptolemies’, BICS 30 (1983) 1-16.
210. Meeks, D. Ее grand texte des donations au temple d’Edfou. Cairo, 1972
211. De Meulenaere, H. ‘Les strateges indigenes du nome tentyrite ä la fin de Pepoque ptolemaique et au debut de Poccupation romaine’, RJO 34 (1959) 1-25
212. De Meulenaere, H. ‘Prosopographica Ptolemaica: le regne conjoint de Ptolemee XII Aulete et de Cleopatre VIF, CE 42 (1967) 300-5
213. Mond, R. and Myers, Ο. H. The Bucheum. 3 vols. London, 1934
214. Musti, D. T successori di Tolemeo Evergete IF, PP 15 (i960) 432-46
215. Olshausen, E. Rom und Ägypten von 116 bis ji v.Chr. Diss. Erlangen, 1963
216. Otto, W. and Bengtson, H. Zur Geschichte des Niederganges des Ptolemäerreiches. Ein Beitrag yur Regierungstreu des 8. und des 9. Ptolemäers (ABAW 17). Munich, 1938
217. Peremans, W. ‘Les revolutions egyptiennes sous les Lagides’, Das ptolemäische Ägypten. Akten des internat. Symposions 27-29 September 1976 in Berlin, Mainz, 1978, 39-50
218. Pestman, P. W. ‘Les archives privees de Pathyris a Pepoque ptolemaique. La famille de Peteharsemtheus, fils de Panebkhounis’, PapLugdBat. 14 (I965) 47-105
219. Pestman, P. W. Chronologie egyptienne d!apres les textes demotiques 992 av. ].-
C.-4JJ ap. J.-C. (Pap.Lugd.Bat. 15). Leiden, 1967
220. Pestman, P. W. Textes grecs, demotiques et bilingues. (Pap.Lugd.Bat. 19). Leiden, 1978
221. Porter, B. and Moss, R. L. B. Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings. Oxford, 1927- . 2nd edn, with E. W. Burney and J. Malek, 1960-
222. Preaux, C. ‘Esquisse d’une histoire des revolutions egyptiennes sous les Lagides’, CE 22 (1936) 522-52
978
D. Восток
223. Preaux, C. ‘La signification de Pepoque d’Evergete ΙΓ, Actes du Vе congris internat. de papyro logie, Oxford ßo aoüt - ß septembre ißß7, Brussels, 1938, 345-54
224. Preaux, C. L’economie royale des Lagides. Brussels, 1939
225. Quaegebeur, J. ‘ The genealogy of the Memphite high priest family in the Hellenistic period’, Studia Hellenistica 24 (1980) 43-82
226. Reekmans, T. ‘The Ptolemaic copper inflation’, Studia Hellenistica 7 (1951) 61-118
227. Reymond, E. A. E. From the Records of a Priestly Family from Memphis 1 (Ägyptologische Abhandlungen 38). Wiesbaden, 1981
228. Roccati, A. ‘Nuove epigrafi greche e latine da File’, Hommages a M. J. Vermaseren, ed. Μ. B. Boer and T. A. Edridge, hi, Leiden, 1978, 988-96
229. Samuel, A. E. Ptolemaic Chronology (.MünchBeitrPapyr 43). Munich, 1962
230. Samuel, A. E. ‘Year 27= 30 and 88 ъ.с.\СЕ 40 (1965) 376-400
231. Shatzman, I. ‘The Egyptian question in Roman politics (59-54 b.c.)’, Latomus 30 (1971) 363-9
232. Shore, A. F. ‘Votive objects from Dendera in the Graeco-Roman period’, Orbis Aegyptiorum Speculum. Glimpses of Ancient Egypt. Studies in Honour of H. W. Fairman, ed. J. Ruffle, G. A. Gaballa and K. A. Kitchen, Warminster, 1979, 138-60
233. Skeat, T. C. The Reigns of the Ptolemies (MünchBeitrPapyr 39). Munich,
1954
234. Tait, W. J. Papyri from Tebtunis in Egyptian and in Greek. London, 1977
235. Tarn, W. W. ‘The Bucheum stelae: a note’, JRS 26 (1936) 187-9
236. Thissen, H. J. ‘Zur Familie des Strategen Monkores’, ZPE 27 (1977) 181-91
237. Thomas, J. D. The Epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt, и. The Ptolemaic Epistrategos (PapGolon 6). Opladen, 1975
238. Thompson (Crawford) D. J. ‘Nile grain transport under the Ptolemies’, Trade 64-75 and 190-2
239. Thompson (Crawford) D. J. ‘The Idumaeans of Memphis and the Ptolemaic politeumata\ Atti del XVII congresso interna£. di papirologia, Naples, 1984, 1069-75
240. Thompson, D. J. Memphis under the Ptolemies. Princeton, 1988
241. Traunecker, C. ‘Essai sur l’histoire de la XXIXе dynastie’, BIAO 79 (1979) 395-436
242. Volkmann, H. ‘Ptolemaios’ (24-37), 23·2 (1959) 1702-61
243. Walbank, F. W. ‘Egypt in Polybius’, Orbis Aegyptiorum Speculum. Glimpses of Ancient Egypt. Studies in Honour of H. W. Fairman, ed. J. Ruffle, G. A. Gaballa and K. A. Kitchen, Warminster, 1979, 180-9
244. Winkler, H. Rom und Aegypten im 2. Jahrhundert v.Chr. Diss. Leipzig, 1983
245. Winnicki, J. K. ‘Ein ptolemäischer Offizier in Thebais’, Eos 60 (1972) 343-53
246. Winter, E. ‘Der Herrscherkult in den ägyptischen Ptolemäertempeln’, Das ptolemäische Ägypten. Akten des internat. Symposions 27-29 September 1976 in Berlin, Mainz, 1978, 147-60
D. Восток
979
247·
248.
249·
250.
251.
252.
25 3· 254·
255·
256.
257·
258.
259·
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
de Wit, С. ‘Inscriptions dedicatoires du temple d’Edfou’, CE 36 (1961) 56-97,277-320
Yoyotte, J. ‘Bakhthis: religion egyptienne et culture grecque a Edfou’, Religions en Egypte hellenistique et romaine. Colloque de Strasbourg 16-18 таг i$6j, Paris, 1969, 127-41
Zauzich, K.-T. ‘Zwei übersehene Erwähnungen historischer Ereignisse der Ptolemäerzeit in demotischen Urkunden’, Enchoria 7 (1977) 193
(d) Другие восточные дела
Accame, S. II dominio romano in Grecia dallaguerra acaica ad Augusto. Rome, 1946
Bellinger, A. R. The End of the Seleucids. Trans. Connecticut Acad. 38, 1949
Bivar, A. D. H. ‘The political history of Iran under the Arsacids’,
Cambridge History of Iran 111.1. Cambridge, 1983, 21-99
Bowersock, G. Augustus and the Greek World. Oxford, 1965
Brunt, P. A. ‘Sulla and the Asian Publicans’, Eatomus 15 (1956) 17-25
( = A 20, 1-8)
Burstein, S. M. Outpost of Hellenism: The Emergence of Heraclea on the Black Sea. Berkeley, 1976
Burstein, S. M. ‘The aftermath of the Peace of Apamea: Rome and the Pontic War’, AJAH 5 (1980) 1-11
Calder, W. M. and Bean, G. E. A Classical Map of Asia Minor. London, 1958
Candiloro, E. ‘Politica e cultura in Atene da Pidna alia guerra mitridatica’, SCO 14 (1965) 134-76
Debevoise, N. C. A Political History of Parthia. Chicago, 1938, repr. 1968 Delo e ITtalia. See Abbreviations
Dilleman, J. ‘Les premiers rapports des Romains avec les Parthes’, ArchOrient 3 (1931) 215—56
Dillemann, L. Haute Mesopotamie orientale et pays adjacents (Inst. fr. d’arch. de Beyrouth, Bibl. arch, et hist. 72). Paris, 1962
Dobbins, K. W. ‘The successors of Mithridates II of Parthia’, NC 15 (1975) 19-45
Downey, G. ‘The occupation of Syria by the Romans’, TAPhA 82 (1951) 149-63
Drew-Bear, T. ‘Deux decrets hellenistiques d’Asie Mineure’, BCH 96 (1972)443-71
Ferguson, W. S. Hellenistic Athens. London, 1911
Fraser, P. M. and Bean, G. E. The Rhodian Peraea and Islands. Oxford,
19 5 4
Grousset, R. Histoire de ΐArmenie des origines ä ιογι. Paris, 1947 Habicht, C. ‘Über die Kriege zwischen Pergamon und Bithynien’, Hermes 84 (1956) 90—110
Hatzfeld, J. Les trafiquants Italiens dans I'orient hellenique. Paris, 1919 Hoben, W. Untersuchungen %ur Stellung kleinasiatischer Dynasten der ausgehenden Republik. Mainz, 1969
980
D. Восток
ιηζ. Jones, A. Η. M. The Cities of the Eastern Roman Provinces. Oxford, 1937
273. Jones, С. P. ‘Diodoros Pasparos and the Nikephoria of Pergamum’, Chiron 4 (1974) 183-205
274. Jonkers, E. J. ‘Waren der Aufstand des Aristonicus und die mithridatischen Kriege Klassenkämpfe?’, JVEG 18 (1964)
275. Levick, B. Roman Colonies in Southern Asia Minor. Oxford, 1967
276. Liebmann-Frankfort, T. La frontiere orientale dans la politique ex ter teure de la Republique romaine. Brussels, 1968
277. Liebmann-Frankfort, T. ‘La provincia Cilicia et son integration dans l’empire romain’, Horn mages ä M. Renard, ed. J. Bibauw (Coll. Latomus 102) ii, Brussels, 1969, 447-57
278. Lynch, H. F. B. Armenia, Travels and Studies. 2 vols. London, 1901
279. Malitz, J. ‘Caesars Partherkrieg’, Historia 33 (1984) 21-59
280. Manandrian, H. A. The Trade and Cities of Armenia in Relation to the Ancient World Trade. Lisbon, 1965
281. Mancinetti Santamaria, G. ‘Filostrato di Ascalone, banchiere in Delo’, Delo e Г Italia 78-89
282. Marshall, B. A. ‘The date of Q. Mucius Scaevola’s governorship of Asia’, Athenaeum 54(1976) 117-30
283. Mattingly, H. B. ‘M. Antonius, C. Verres and the sack of Delos by the pirates’, Φιλίας Χάριν, Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni, ed. M. J. Fontana, Μ. T. Piraino and F. P. Rizzo, iv, Rome, 1979, x491 515
284. Mattingly, Η. B. ‘Rome’s earliest relations with Byzantium, Heraclea Pontica and Callatis’, Ancient Bulgaria 1, ed. A. Poulter, Nottingham, 1983, 239-52
285. Ormerod, H. A. ‘The distribution of Pompey’s forces in the campaign of 67 B.c.’, Liverpool Ann. Arch. Anth. 10 (1923) 46-51
286. Raschke, M. G. ‘New studies in Roman commerce with the East’, ANRW и.9.2 (1978) 604-1361
287. Reynolds, J. ‘Cyrenaica, Pompey and Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus’, JRS 52 (1962) 97-103
288. Rizzo, F. Le fonti per la storia della conquista pompeiana della Siria (Kokalos Suppi. 2). Palermo, 1963
289. Robert, L. ‘Theophane de Mytilene a Constantinople’, CRAI (1969) 42-64
290. Seibert, J. Historische Beiträge %u den dynastischen Verbindungen in hellenistischer Zeit. Wiesbaden, 1967
291. Sherwin-White, A. N. Roman Foreign Policy in the East. London, 1984
292. Sherwin-White, S. M. Ancient Cos. Göttingen, 1978
293. Solin, H. ‘Appunti sull’onomastica romana a Delo’, Delo e ITtalia, 101-17
294. Syme, R. Observations on the province of Cilicia’, Anatolian Studies presented to William Hepburn Buckler, ed. W. Calder and J. Keil, Manchester, 1939, 299—32 ( = a 119, 1 120—48)
295. Warmington, E. H. Commerce between the Roman Empire and India. Cambridge, 1928
Е. Запад
981
296. Wellesley, К. ‘The extent of the territory added to the Roman empire by Pompey’, RhM 96 (195 3) 293-318
297. Wilson, D. R. The Historical Geography of Bithynia, Paphlagonia and Pontus in the Greek and Roman Periods. Diss. Oxford, i960
298. Wolski, J. Tran und Rom’, ANRW 11.9.1 (1976) 191-214
299. Wolski, J. ‘L’Armenie dans la politique du haut-empire parthe’, IA 15 (1980) 252-67
300. Ziegler, К. H. Die Beziehungen zw^sc^en Rот und dem Part her reich. Wiesbaden, 1984
E. Запад
1. Birot, P. and Gabert, P. Таpeninsule ibertque et ITtalie. Paris, 1964
2. Broughton, T. R. S. The Romanisation of Africa Proconsularis. Baltimore, 1929
3. Chevallier, R. ‘Essai de Chronologie des centuriations romaines de Tunisie’, METRA 70 (1958) 61-128
4. Chevallier, R. La romanisation de la celtique du Po. 1. Tes donnees geographiques. Geographie, archeologie et histoire en Cisalpine. Paris, 1980
5. Chevallier, R. Ta romanisation de la celtique du Po. Essai d’histoire provinciale (BEFAR 249). Rome, 1983
6. Clemente, G. I romani nella Gallia meridionale. Bologna, 1974
7. Corsaro, M. ‘La presenza romana a Entella: una nota su Tiberio Claudio di Anzio’, ASNP 12 (1982) 917-44
8. Dilke, O. A. W. ‘Divided loyalties in eastern Sicily under Verres’, Ciceroniana 4 (1980) 43-51
9. Domergue, C. Tes mines de la peninsule ibertque ä I’epoque romaine. These Paris, 1977
10. Domergue, С. Та mine antique d’ Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca. Paris, 1983
11. Ebel, C. Transalpine Gaul. The Emergence of a Roman Province. Leiden, 1976
12. Ewins, U. ‘The enfranchisement of Cisalpine Gaul’, PBSR 23 (1955) 73—98
13. Gabba, E. ‘Sui senati delle citta siciliane nell’etä’ di Verre’, Athenaeum 47 (1959) 304-20
14. Gabba, E. ‘La Sicilia romana’, T}impero romano e le strutture economiche e sociali delle provincie (Bibl. di Athenaeum 4), ed. M. H. Crawford, Como, 1986, 71-86
15. Galsterer, H. Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der iberischen Halbinsel. Berlin, 1971
16. Galsterer-Kroll, B. ‘Zum ins Tatii in den keltischen Provinzen des Imperium Romanum’, Chiron 3 (1973) 277-306
17. Gonzalez, J. ‘Tabula Siarensis, fortunales Siarenses et municipia civium Romanorum’, ZPE 55 (1984) 55-100
18. Grispo, R. ‘Deila Mellaria a Calagurra’, NRS 36 (1952) 189-225
19. Hoyos, B. D. ‘Pliny the Elder’s titled Baetican towns: obscurities, errors and origins’, Historia 28 (1979) 439—70
982
F. Право
20. Keay, S. J. Vornan Spain. London, 1988
21. Knapp, R. C. Aspects of the Vornan Experience in Iberia, 206-100 b.c. Valladolid, 1977
21 a. Pedley, J. G. Paestum. London, 1990
22. Piganiol, A., (ed.) Atlas des centuriations romaines de Tunisie. Paris, 1954
23. Rice Holmes, T. Caesar's Conquest of Gaul. 2nd edn, Oxford, 1911
24. Richardson, J. S. ‘The Spanish mines and the development of provincial taxation in the second century b.c.’, JRS 66 (1976) 139-5 2
25. Richardson, J. S. Hispaniae. Spain and the Development of Roman Imperialism, 218-82 b.c. Cambridge, 1986
26. Rivet, A. L. Gallia Narbonensis. Southern Gaul in Roman Times. London, 1988
27. Roldan Hervas, J. M. ‘Da Numancia a Sertorio: problemas de la romanizacion de Hispania en la encrucijada de las guerras civiles’, Studien v^ur antiken Sovf algeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff\ ed. W. Eck, H. Galsterer and H. Wolff (Kölner hist. Abh. 28), Cologne, 1980, 157-78
28. Sancho Rocher, L. ‘Los conventus iuridici en la Hispania romana’, Caesar augusta 45—6(1978) 171 -94
29. Teutsch, L. Das Städtewesen in Nordafrika in der Zeit von C. Gracchus bis %um Tode des Kaisers Augustus. Berlin, 1962
30. Verbrugghe, G. P. ‘Sicily 210-70 b.c. Livy, Cicero and Diodorus’, TAPhA 103 (1972) 535-59
31. Verbrugghe, G. P. ‘Slave rebellion or Sicily in revolt?’, Kokalos 20 (1974)
46—60
32. Wightman, E. M. Gallia Belgica. London, 1985
F. Право
(а) Государственное право и уголовное право
1. Accame, S. ‘La legislazione romana intorno ai collegi nel I. secolo a.C.’, Bull, del Mus. dell'Impero romano 1942, 134—48
2. Adcock, F. Roman Political Ideas and Practice. (Jerome Lectures, 6th series). Michigan and Toronto, 1959
3. Alexander, M. C. ‘Praemia in the Quaestiones of the late Republic’, CPh 80 (1985) 20-32
4. Alexander, M. C. ‘Repetition of prosecutions, and the scope of prosecutions, in the standing courts of the late Republic’, CSC A 13 (1982) 141-66
5. Allison, J. E. and Cloud, J. D. ‘The Lex Iulia Maiestatis’, Latomus 21 (1962) 711-31
6. Astin, A. E. ‘The Lex Annalis before Sulla’, Latomus 16 (1957) 588—613
7. Astin, A. E. ‘Leges Aelia et Fufia’, Latomus 23 (1964) 421—45
8. Astin, A. E. ‘Censorship in the late Republic’, Historia 34 (1985) 175—90
9. Astin, A. E. ‘Cicero and the censorship’, CPh 80 (1985) 233-9
10. Astin, A. E. ‘Regimen morum\ JRS 78 (1988) 14-34
11. Ausbüttel, F. M. Untersuchungen %u den Vereinen im Westen des römischen Reiches (Frankfurter althist. Studien 11). Kallmünz, 1982
F. Право
983
12. Balsdon, J. P. V. D. ‘The history of the extortion court at Rome, 123-70 b.c.’, PBSR 14 (1938) 98-114 ( = Seager, Crisis, 132-50)
13. Balsdon, J. P. V. D. ‘Three Ciceronian problems. 1. Clodius’ “repeal” of the Lex Aelia Fufia’, JRS 47 (1957) 15-17
14. Balsdon, J. P. V. D. ‘Auctoritas, dignitas, otium', CQ 10 (i960) 43-50
15. Baltrusch, E. Regimen Morum (Vestigia 41). Munich, 1986
16. Bauman, R. A. The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate. Johannesburg, 1967
17. Bauman, R. A. Tl “sovversivismo” di Emilio Lepido’ (in English), Tabeo 24 (1978) 60—74
18. Bauman, R. A. ‘La crisi del “diritto”’, Та rivolu^ione romana, 208-16
19. Behrends, O. Die römische Geschworenenverfassung. Göttingen, 1970
20. Behrends, О. rev. of Watson, Taw Making, ZSS yz (1975) 297-308
21. Behrends, O. ‘Tiberius Gracchus und die Juristen seiner Zeit’, Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition, Symposium aus Anlass des 70. Geburtstages von Fran% Wieacker, ed. K. Luig and D. Liebs, Ebelsbach, 1980, 25—121
22. Behrends, O. ‘Staatsrecht und Philosophie in der ausgehenden Republik’, ZSS 100 (1983) 458-84
23. Berger, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Taw (TAPhS 43.2). Philadelphia, 1953
24. Bleicken, J. Das Volkstribunat der klassischen Republik. Munich, 1955
25. Bleicken, J. ‘Kollisionen zwischen Sacrum und Publicum’, Hermes 85 (1957) 446-80
26. Bleicken, J. Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik (Frankfurter althist. Studien 6). Frankfurt, 1972
27. Bleicken, J. ‘In provinciali solo dominium populi Romani est vel Caesaris. Zur Kolonisationspolitik der ausgehenden Republik und frühen Kaiserzeit’, Chiron 4 (1974) 359-414
28. Bleicken, J. Tex Publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik. Berlin and New York, 1975
29. Bonnefond-Coudry, M. Те senat de la republique romaine de la guerre d’Hannibalä Auguste (Col. ec. fr. de Rome 273). Rome, 1989
30. Botsford, G. W. The Roman Assemblies from their Origin to the End of the Republic. New York, 1909, repr, 1968
31. Brasiello, U. ‘Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano: cenni sulla evoluzione delPomicidio’, SDHI42 (1976) 246-64
32. Burton, G. P. ‘Proconsuls, assizes, and the administration of justice under the empire’, JRS 65 (1975) 92-106
33. Cancelli, F. ‘A proposito di tresviri capitales’, Studi in onore di P. de Francisci hi, Milan, 1956, 17-35
34. Du Chatiment. See Abbreviations
3 5. Classen, C. J. ‘Bemerkungen zu Ciceros Äusserungen über die Gesetze’, RhM 122 (1979) 278-302
36. Cloud, J. D. ‘The primary purpose of the lex Cornelia de sicariis’, ZSS 86
(1969) 258—86
Cloud, J. D. ‘Sulla and the praetorship’, TCM 13 (1988) 69-73
37.
984
F. Право
38. Cornell, T. J. ‘Some observations on the “crimen incesti”’, Le delit religieux, 27—37
39. Crawford, M. H. 'Foedus and sponsio*, PBSR 41 (1973) 1-7
40. Crifo, G. ‘Attivita normativa del senato in eta repubblicana’, BIDR 10 (1968) 31-121
41. Crook, J. A. Law and Fife of Rome. London, 1967
42. Crook, J. A. ‘Lex Cornelia “de falsis”’, Athenaeum 65 (1987) 163-71
43. Dahlheim, W. Gewalt und Herrschaft: das provinziale Herrschaftssystem der römischen Republik. Berlin and New York, 1977
44. Daube, D. Forms of Roman Legislation. Oxford, 1956
45. Le delit religieux. See Abbreviations
46. Eder, W. Das vorsullanische Repe tundenverfahren, Berlin, 1969
47. Ewins, U. ‘Ne quis iudicio circumveniatur’, JRS 50 (i960) 94-107
48. Fascione, L. ‘ Aliquem iudicio circumvenire e ob iudicandumpecuniam accipere’, AG (1975) 29-52
49. Fascione, L. Crimen e quaestio ambitus nell’etä repubblicana. Milan, 1984
50. Ferenczy, E. ‘Die “Grundgesetze” der römischen Republik’, Sein und Werden im Recht, Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 7°· Geburtstag, ed. W. G. Becker and L. Schnorr von Carolsfeld, Berlin, 1970, 267-80
51. Ferrary, J.-L. ‘Ciceron et la loi judiciare de Cotta’, MEFRA 87 (1975) 321—48
52. Ferrary, J.-L. ‘La lex Antonia de Termessibus’, Athenaeum 73 (1985) 4i9~57
53. Fraccaro, P. ‘I “decem stipendia” e le “leges annales” repubblicane’, Opuscula ii, Pavia, 1957, 207—34
54. Fraenkel, E., rev. of Beckmann, Zauberei und Recht in Roms Frühzeit, Gnomon i (1925) 185-200
5 5. von Fritz, K. Schriften zur griechischen und römischen Verfassungsgeschichte und Verfassungstheorie. Berlin, 1976
5 6. Fuks, A. and Geiger, J. ‘The “lex iudiciaria” of M. Livius Drusus’, Studi in onore di Edoardo Volterra 11, Milan, 1971, 422-7
57. Gabba, E. Osservazioni sulla legge giudiziaria di M. Livio Druso’, in c 55, 369-82
58. Gabba, E. ‘M. Livius Drusus and Sulla’s reforms’, in c 55, 131-41
59. Galsterer, H. ‘Roman law in the provinces: some problems of transmission’, L}impero romano. (see Abbreviations), 13-28
60. Galsterer, H. ‘La loi municipale des romains: chimere ou realite?’, RD 65 (1987) 181-203
61. Gaudemet, J. Lesgouvernants ä Rome (Antiqua 31). Rome, 1985
62. Giovannini, A. Consulare Imperium (Schweizerische Beitr. zur Altertumswiss. 16). Basle, 1983
63. Giovannini, A. ‘Volkstribunat und Volksgericht’, Chiron 13 (1983) 5 44—606
64. Gnoli, F. ‘Sulla paternita e sulla datazione della “lex Iulia peculatus”’, SDHI38 (1972) 328—38
65. Gnoli, F. ‘Cic. natdeor. 3.74 el’origine della quaestio perpetua peculatus’, RIL 109 (1975) 331-41
F. Право
985
66. Gnoli, F. Ricerche sul crimen peculatus. Milan, 1979
67. Greenidge, A. H. J. Infamia. Its Place in Roman Public and Private Raw. Oxford, 1894, repr. Aalen, 1977
68. Greenidge, A. H. J. The Regal Procedure of Cicero*s Time. London, 1901, repr. New York, 1971
69. Grierson, P. ‘The Roman law of counterfeiting’, Essays in Roman Coinage Presented to Harold Mattingly, ed. R. A. G. Carson and C. Η. V. Sutherland, Oxford, 1956, 240-61
70. Grieve, L. J. ‘The reform of the comitia centuriata’, Historia 34 (1985) 278-309
71. Griffin, M. T. ‘The “leges iudiciariae” of the pre-Sullan era’, CQ 23 (1973) 108-26
72. Guarino, A. ‘Senatus consultum ultimum’, Sein und Werden im Recht, Festgabe für Ulrich von Rübtow %um /0. Geburtstag, ed. W. G. Becker and L. Schnorr von Carolsfeld, Berlin, 1970, 281-94
73. Guarino, A. Storia del diritto romano. 8th edn, Naples, 1990, ch. 2, ‘II diritto romano preclassico’
74. Hall, U. ‘Voting procedure in Roman assemblies’, Historia 13 (1964) 267-306
75. Hands, A. R. ‘Livius Drusus and the courts’, Phoenix 26 (1972) 268-74
76. Harris, W. V. ‘Was Roman law imposed on the Italian allies?’, Historia 21 (1972) 639-45
77. Henderson, Μ. I. ‘The process de repetundis’, JRS 41 (1951) 71-88
78. Homo, L. Res institutionspolitiques romaines. De la cite a etat. Paris, 1927. Transl. by M. R. Dobie as Roman Political Institutions, from City to State, London and New York, 1929
79. Hoyos, B. D. ‘Lex provinciae and governor’s edict’, Antichthon 7 (1973)
47-53
80. Humbert, M. 'Municipium’ et 'civitas sine suffragio’. R!organisation de la conquete jusqu'ä la guerre sociale (Coll. ec. fr. de Rome 36). Rome, 1978
81. Humbert, M. ‘Le tribunat de la plebe et le tribunal du peuple: remarques sur l’histoire de la provocatio ad populum’, METRA 100 (1988) 431-503
82. Jashemski, W. F. The Origins and History of the Proconsular and Propraetorian Imperium to 27 b.c. Chicago, 1950
83. Jameson, S. ‘Pompey’s imperium in 67: some constitutional fictions’, Historia 19 (1970) 539-60
84. Jocelyn, H. D. ‘The poet Cn. Naevius, P. Cornelius Scipio and Q. Caecilius Metellus’, Antichthon 3 (1969) 32-47
85. Jolowicz, H. F. and Nicholas, B. Historical Introduction to the Study of Roman Raw. 3rd edn, Cambridge, 1972
86. Jones, A. H. M. ‘Civitates immunes et liberae’, Anatolian Studies presented to William Hepburn buckler, ed. W. Calder and J. Keil, Manchester, 1939, 103-18
87. Jones, A. Η. M. Studies in Roman Government and Raw. Oxford, i960
88. Jones, A. Η. M. ‘De legibus Iunia et Acilia repetundarum’, PCPhS 6 (i960) 39-42
986
F. Право
89. Jones, A. Η. M. The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate. Oxford, 1972
90. Kloft, H. Prorogation und ausserordentliche Imperien j26-81 v.Chr. Untersuchungen %ur Verfassung der römischen Republik (Beiträge zur kl. Philologie 84). Meisenheim, 1977
91. Kubitschek, J. W. Imperium Romanum tributim discriptum. Prague, 1889, repr. Rome, 1972
9 2. Kunkel, W. Untersuchungen %ur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit {SBAW 56). Munich, 1962
93. Kunkel, W. ‘Quaestio’, RE 24 (1963) 720-69 ( = f 96, 33-110)
94. Kunkel, W. ‘Das Konsilium im Hausgericht’, ZSS 83(1966) 219-51 (= f
96, 117-49)
9 5. Kunkel, W. An Introduction to Roman Eegal and Constitutional History. 2nd edn, transi, by J. M. Kelly, Oxford, 1973
96. Kunkel, W. Kleine Schriften. Weimar, 1974
97. Lambertini, R. Plagium. Bologna, 1986
98. La Rosa, F. ‘Note sui tresviri capitales’, Labeo 3 (1957) 231-45
99. Levick, В. ‘Poena legis maiestatis’, Historia 28 (1979) 358-79
100. Linderski, J. ‘Constitutional aspects of the consular elections in 5 9 b.c.’, Historia 14(1965)42 3-42
ιοί. Linderski, J. ‘The augural law’, ANRW и 16.3 (1986) 2146-312
102. Lintott, A. W. ‘Provocatio from the struggle of the orders to the Principate’, ANRW 1.2 (1972) 226-67
103. Lintott, A. W. ‘The quaestiones de sicariis et veneficis and the Latin lex Bantina\ Hermes 106 (1978) 125-38
104. Lintott, A. W. ‘The leges de repetundis and associate measures under the Republic’, ZSS 98 (1981) 162-212
105. Luraschi, G. Foedus Ius Latii Civitasy Aspetti costitusfonali della romanivgavfione in Transpadana (Pubi. Univ. Pavia, Studi scienz. giurid. e soc. 29). Padua, 1979
106. MacCormack, G. ‘Criminal liability for fire in early and classical Roman law’, Index 3 (1972) 382-96
107. Magdelain, A. La lot ä Rome. Histoire d’un concept. Paris, 1978
108. Marshall, A. J. ‘The structure of Cicero’s edict \AJPh 85 (1964) 185-91
109. Marshall, A. J. ‘Governors on the move’, Phoenix 20 (1966) 231-46 no. Marshall, A. J. ‘The lex Pompeia de provinciis (52 в.c.) and Cicero’s
imperium in 51-50 в.с. Constitutional aspects. ANR]Vι.ι (1972) 887— 921
in. Marshall, A. J. ‘The survival and development of international jurisdiction in the Greek world’, ANRW 11.13 (1980) 626-61
112. Mattingly, H. B. ‘The extortion law of the Tabula Bembina’, JRS 60
(1970) 154-68
113. Mattingly, H. B. ‘The extortion law of Servilius Glaucia’, CQ 25 (1975) 255-63
114. Mattingly, H. B. ‘The character of the lex Acilia Glabrionis’, Hermes 107 (1979) 478-88
F. Право
987
115. Mattingly, H. В. ‘A new look at the Lex repetundarum Bembina’,
.Philologus 131 (1987) 71-81
116. Mellano, L. D. Sui rapporti tragovernatoreprovinciale e giudici locali alia luce delle Verrine. Milan, 1977
117. Miners, N. J. ‘The lex Sempronia ne quis iudicio circumveniatur’, CQ 8 (1958)241-3
118. Mitchell, T. N. ‘Cicero and the senatus consultum ultimum’, Historia 20
(1971)47-61
119. Mommsen, Th. Komisches Strafrecht. Leipzig, 1899
120. Nardi, E. Uotre deiparricidi e le hestie incluse. Milan, 1980
121. Niccolini, G. II trihunato della plebe. Milan, 1932
122. Niccolini, G. II fasti dei tribuni della plebe. Milan, 1934
123. Nicholls, J. J. ‘The reform of the comitia centuriata\ AJPh 77 (1956) 225-54
124. Nicolet, C. ‘Les lois judiciaires et les tribunaux de concussion’, ANR W 1.2 (1972) 197-214
125. Nippel, W. Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und Früher Neuheit (Geschichte und Gesellschaft, Bochumer hist. Studien 21). Stuttgart, 1980
126. O’Neal, W. J. ‘Composition of the juries de repetundis from the lex Calpurnia to Sulla’, RJC 26 (1978) 359-62
127. Oost, S. I. ‘The date of the lex Iulia de repetundis’, A JPh 77 (195 6) 19-28
128. Pieri, G. Uhistoire de cens jusqu’a la fin de la republique romaine (Publ. de l’inst. de droit romain de l’univ. de Paris 25). Paris, 1968
129. Quaderno 221. See Abbreviations
130. Richardson, J. S. ‘The purpose of the lex Calpurnia de repetundis’, JRS 77 (i987) i“i2
131. Rilinger, R. Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen Konsulwahlen von 566 bis jo v.Chr. (Vestigia 24). Munich, 1976
132. Rödl, B. Das senatus consultum ultimum und der Tod der Gracchen. Bonn, 196 8
133. Rudolf, H. Die städtische Organisation des ältesten römischen Gebietes und die Wirkung der cäsarischen Muni^ipalgeset^gebung. Diss, Leipzig, 1932
134. Rudolph, H. Stadt und Staat im römischen Italien. Göttingen, 1985
135. Salerno, F. ‘Collegia adversus rem publicam?’ Index 13 (1985) 541-56
136. Santalucia, B. ‘La legislazione Siliana in materia di falso nummario’, Iura 30 (1979) 1-33
137. Santalucia, B. Diritto e processo penale nell'antica Roma. Milan, 1989
138. Saumagne, С. Ее droit latin et les cites romaines sous Г Empire. Essais critiques (Pubs, de l’inst. de droit romain de l’Univ. de Paris 22). Paris, 1965
139. Scheid, J. ‘Le pretre et le magistrat. Reflexions sur les sacerdoces et le droit public a la fin de la Republique’, Des Ordres, 243-80
140. Seager, R. ‘Lex Varia de maiestate’, Historia 16 (1967) 37-43
141. Sherwin-White, A. N. The Roman Citizenship. Oxford, 1939, repr. with addenda, 1973
142. Sherwin-White, A. N. ‘The extortion procedure again’, JRS 32 (1942)
43-55
143. Sherwin-White, A. N. ‘Poena legis repetundarum’, PBSR 17(1949) 5-25
988
F. Право
144. Simshäuser, W. luridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien (MünchBeitr Papyr 61). Munich, 1973, ch. 2, ‘Zur Entstehung der Munizipalgerichtsbarkeit in Italien’
145. Staveley, E. S. ‘The reform of the comitia centuriata’, A]Ph 74 (1953) 1-33
146. Staveley, E. S. ‘The constitution of the Roman Republic’, Historia 5 (1956) 74-122
147. Staveley, E. S. ‘Cicero on the comitia centuriata’, Historia 11 (1962) 299-
314
148. Staveley, E. S. Greek and Roman Voting and Elections, London and Southampton, 1972, Part II, ‘Rome’
149. Stevenson, G. H. Roman Provincial Administration. Oxford, 1939
150. Strachan-Davidson, J. L. Problems of the Roman Criminal Law. 2 vols. Oxford, 1912
151. Sumner, G. V. ‘Cicero on the comitia centuriata. De re publica π. 22.39- 4ο’, AJPh 81 (i960) 136—56
152. Sumner, G. V. ‘Lex Aelia, lex Fufia’, AJPh 94 (1963) 337-58
153. Sumner, G. V. ‘Cicero and the comitia centuriata\ Historia 13(1964) 125-8
154. Szemler, G. J. The Priests of the Roman Republic: a Study of Interactions between Priesthoods and Magistracies (Coll. Latomus 127). Brussels, 1972
155. Taylor, L. R. ‘The centuriate assembly before and after the reform’, AJPh 78 (1957) 357-54
156. Taylor, L. R. The Voting Districts of the Roman Republic (MAAR 20). Rome, i960
157. Taylor, L. R. Roman Voting Assemblies. Ann Arbor, 1966
158. Thomas, J. A. C. ‘The development of Roman criminal law’, Law Quarterly Review 79 (1963) 224-37
159. Thomas, Y.-P. ‘Parricidium Г, MEFRA 93 (1981) 643-715
160. Tibiletti, G. ‘Le leggi de iudiciis repetundarum fino alia guerra sociale’, Studi offerti dai discepoli a P. Fraccaro per il suo LXX genetliaco, Athenaeum 31 (1953). 5-100
161. Tibiletti, G. ‘The comitia during the decline of the Roman Republic’, SDHI 25 (1959) 94-127
162. Tyrrell, W. B. ‘The duumviri in the trials of Horatius, Manlius and Rabirius’, ZSS 91 (1974) 106-25
163. von Ungern-Sternberg, J. Untersuchungen %um spätrepublikanischen Notstandsrecht: senatus consultum ultimum undhostis-Erklärung (Vestigia 11). Munich, 1970
164. von Ungern-Sternberg, J. ‘The end of the conflict of the orders’, Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders, ed. K. A. Raaflaub, Berkeley, 1986, 353—77
165. Venturini, C. Studi sul (crimen repetundarum* nell’etä repubblicana. Milan, x979
166. Volk, A. Die Verfolgung der Körperverletzung im frühen römischen Recht (Forschungen zum röm. Recht 35). Vienna, 1984
167. Volterra, E. Bibliografia di diritto agrario romano. Florence, 1951
F. Право
989
168. Weinrib, E. J. ‘The prosecution of Roman magistrates’, Phoenix 22 (1968) 32-56
169. Weinrib, E. J. ‘The judiciary law of M. Livius Drusus’, Historia 19 (1978)
414-43
170. Weinstock, S. ‘Clodius and the lex Aelia Fufia’, JRS 27 (1937) 215-22
171. Wieacker, F. Römische Rechtsgeschichte I, Einleitung, Quellenkunde, Früh^eit und Republik (Handbuch der Altertumswissenchaft x.3. 1, 1). Munich, 1988
172. Willems, P. Ее senat de la republique romaine. 2 vols, 1 Louvain, Paris and Berlin, 1878, repr, 1885, 11 Louvain, 1883
173. Wiseman, T. P. ‘The census in the first century в.c.\JRS 59 (1969) 59-75
174. Zumpt, A. W. Das Criminalrecht der römischen Republik. 2 vols. Berlin, 1865-9
(b) Частное право
175. Ankum, H. ‘Denegatio actionis’, ZSS 102 (1985) 45 3-69
176. Archi, G. G. Problemi in terna di falso nel diritto romano. Pavia, 1941
177. Bauman, R. A. ‘Five pronouncements by P. Mucius Scaevola’, RIDA 2 5 (1978) 223-45
178. Bauman, R. A. Lawyers in Roman Republican Politics. A Study of the Roman Jurists in their Political Setting, j 16-82 b.c. (MiinchBeitrPapyr 75). Munich, 1983
179. Bauman, R. A. Lawyers in Roman Transitional Politics. A Study of the Roman Jurists in their Political Setting in the Late Republic and Triumvirate (Münch BeitrPapyr 79). Munich, 1985
180. Behrends, O. Die Wissenschaftslehre im Zivilrecht des Q. Mucius Scaevola Pontifex (NAWG 1976, no. 7)
181. Behrends, O. ‘Les “veteres” et la nouvelle jurisprudence a la fin de la Republique’, RD 55 (1977) 7-33
182. Behrends, O. ‘Institutionelles und prinzipielles Denken im römischen Privatrecht’, ZSS 95 (1978) 187-231
183. Behrends, O. Prinzipat und Sklavenrecht. Göttingen, 1980
184. Behrends, O. Die Fraus Legis. Göttingen, 1982
185. Behrends, O. ‘Le due giurisprudenze romane e le forme delle loro argomentazioni’, Index 12 (1983-4) 189-225
186. Birks, P. ‘From legis actio to formula’, The Irish Jurist 4 (1969) 356-67
187. Birks, P. ‘The early history of iniuria’, RHD 37 (1969) 163-208
188. Bona, F. ‘Sulla fonte di Cicerone de oratore I 56, 239-40 e sulla cronologia dei “decem libelli” di P. Mucio Scevola’, SDHI 39 (1973) 425-80
189. Bongert, Y. ‘Recherches sur les recuperateurs’, in his Varia. Etudes de droit romain, Paris, 1952, 99-266
190. Bretone, M. Tecniche e Ideologie deigiuristi romani. Naples, 1971
191. Bund, E. ‘Die Fiktion “pro non scripto habetur” als Beispiel fiktionsbewirkter Interpretation’, Sein und Werden im Recht, Festgabe für Ulrich von Lübtow %um yo. Geburtstag, ed. W. G. Becker and L. Schnorr von Carolsfeld, Berlin, 1970, 352-80
990
F. Право
192. Bund, E. ‘Zur Argumentation der römischen Juristen’, Studi in onore di Edoardo Volterra 1, Rome, 1971, 571-87
193. Bund, E. ‘Rahmenerwägungen zu einem Nachweis stoischer Gedanken in der römischen Jurisprudenz’, De lustitia et Iure, Festgabe für Ulrich von Lübtow zum So. Geburtstag, ed. M. Harder and G. Thielmann, Berlin, 1980, 127-45
194. Cancelli, F. ‘Per una revisione del “cavere” dei giureconsulti repubblicani’, Studi in onore di Edoardo Volterra v, Rome, 1971, 611-45
195. Ciulei, G. L'equite chez Ciceron. Amsterdam, 1972
196. Crook, J. A. ‘Patria potestas’, CQ 17 (1967) 113-22
197. Crook, J. A. ‘A study in decoction’, Latomus 26 (1967) 363-76
198. Crook, J. A. ‘Intestacy in Roman society’, PCPhS 19 (1973) 38-44
199. Crook, J. A. ‘Sponsione provocare: its place in Roman litigation’, JRS 66 (1976) 132-8
200. Daube, D. ‘Licinnia’s dowry’, Studi in onore di Biondo Biondi 1, Milan, 1963, 199—212
201. Ducos, M. Les romains et la lot: recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine ä la fin de la Repub lique. Paris, 1984
202. Ebert, U. Die Geschichte des Edikts de hominibus armatis coactisue (Heidelberger rechtsw. Abh. 23). Heidelberg, 1968
203. Frezza, P. ‘Storia dei processo civile in Roma fino alia etä di Augusto’, ANRWi.z (1972) 163-96
204. Frier, B. W. ‘Urban praetors and rural violence. The legal background of Cicero’s pro Caecina*, TAPhA 113 (1983) 221-41
205. Frier, B. W. The Rise of the Roman Jurist. Studies in Cicero*s pro Caecina. Princeton, 1985
206. Galsterer, H. ‘Diritto e scienza giuridica in Grecia e Roma’, CS 17(1980) 185-98
207. Gardner, J. F. Women in Roman Law and Society. London and Sydney, 1986
208. Gi rard, P. F. His to ire de ΐ organisationjudiciaire des romains 1, Les six premiers siecles de Rome (all published). Paris, 1901
209. Grosso, G. ‘Publio Mucio Scevola tra il diritto e la politica’, AG 175 (1968) 204-11
210. Grosso, G. ‘Schemi giuridici e societä dall’epoca arcaica di Roma alia giurisprudenza classica: lo sviluppo e la elaborazione dei diritti limitati suile cose’, ANRW 1.2 (1972) 134-62
211. Guarino, A. Diritto privato romano. 6th edn, Naples, 1981
212. Harris, W. V. ‘The Roman father’s power of life and death’, Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller, ed. R. S. Bagnall and W. V. Harris, Leiden, 1986, 81-95
213. Hoffman, R. J. ‘Civil law procedures in the provinces of the late Roman Republic’, The Irish Jurist 11 (1976) 355-74
214. Horak, F. Rationes decidendi. Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo 1. Aalen, 1969
215. Horak, F. Rev. of Behrends, Wissenschaftslehre and Schiavone, N ascita della giurisprudenza, ZSS 95 (1978) 402—21
F. Право
991
216. d’Ippolito, F. ‘Sextus Aelius “Catus”’, Labeo ιη (1971) 271-83
217. d’Ippolito, F. I giuristi e la cittä, ricerche sulla giurisprudenya romana della repubblica. Naples, 1978
218. Jolowicz, H. F. ‘The judex and the arbitral principle’, Melanges F. De Visscher 1, RIDA 3 (1949) 477-92
219. Kaser, M. ‘Partus ancillae’, ZSS 75 (1958) 156-200
220. Kaser, M. Das römische Zivilpro^essrecht (Handb. d. Altertumswissensch. x.3.4). Munich, 1966
221. Kaser, M. ‘Die Beziehung von lex und ius und die XII Tafeln’, Studi in memoria di Guido Donatuti 11, Milan, 1973, 523-46
222. Kaser, M. Über Verbotsgesetye und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht (SAWW 312). Vienna, 1977
223. Kaser, M. “‘Ius honorarium” und “ius civile”’, ZSS 101 (1984) 1-114
224. Kaser,M. ‘Über “relatives Eigentum” im altrömischen Recht’, ZSS 102 (1985) 1-39
225. Kelly, J. M. ‘The growth-pattern of the praetor’s edict’, The Irish jurist 1 (1966) 341-55
226. Kelly, J. M. Roman Litigation. Oxford, 1966
227. Kelly, J. M. Studies in the Civil judicature of the Roman Republic. Oxford, 1976
228. Kunkel, W. Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen (Forschungen zum röm. Recht 4). Weimar, 1952, rev. Graz, Vienna and Cologne, 1967
229. Kunkel, W. ‘Legal thought in Greece and Rome’, Juridical Review 65 (1953) I—16
230. Labruna, L. ‘Plauto, Manilio, Catone: premesse alio studio dell’ “emptio consensuale”’, Studi in onore di Edoardo Volterra V, Rome, 1971, 23-50
231. Lacey, W. К. ‘Patria potestas’, The Family in Ancient Rome, ed. В. Rawson, London, 1986, 121-44
232. Lewis, A. D. E. ‘The trichotomy in locatio conductio’, The Irish Jurist 8 (1973) 164-77
233. Lindsay, R. J. M. ‘Defamation and the law under Sulla’, CPh 44 (1949) 240-3
234. Lombardi, L. Dalla \fides' alia (bona fides*. Milan, 1961
235. von Lübtow, U. ‘Cicero und die Methode der römischen Jurisprudenz’, Festschr. für Leopold Wenger %u seinem jo. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern 1, Munich, 1944, 224-35
236. von Lübtow, U. ‘Die Ursprungsgeschichte der exceptio doli und der actio de dolo malo’, Eranion Maridakis 1, Athens, 1963, 183-201
237. von Lübtow, U. ‘Die Aufgaben des römischen Praetors’, Studi in onore di Arnaldo Biscar di iv, Milan, 1983, 349-412
238. Luraschi, G. ‘Sulla data e sui destinatari della “lex Minicia de liberis”’, SDHI 42 (1976) 431-43
239. Magdelain, A. Le consensualisme dans I’edit du preteur (Publ. de l’inst. de droit romain de l’Univ. de Paris 18). Paris, 1958
992
F. Право
240. Magdelain, A. ‘Les mots legare et heres dans la loi des XII Tables’, Нот mages ä Robert Schillings ed. H. Zehnacker and G. Hentz, Paris, 1983,
15 9—7 3
241. Manfredini, A. D. Contributo alio studio dell'iniuria in eta repubblicana. Milan, 1977
242. Manfredini, A. D. Ha diffamatione verbale nel diritto romano 1, Eta repubblicana. Milan, 1979
243. Marshall, A. J. ‘The case of Valeria: an inheritance dispute in Roman Asia’, CQ 25 (1975) 82-7
244. Martini, R. Ricerche in terna di editto provinciale. Milan, 1969
245. Metro, A. ‘La lex Cornelia de iurisdictione alia luce di Dio Cass. 36.40.1- 2’, lura 20 (1969) 500-24
246. Metro, A. La denegatio actionis. Milan, 1972
247. Mette, H. J. Das römische Zivilrecht tu Beginn des Jahres 46 vor Christus. Heidelberg, 1974
248. Nicholas, В. An Introduction to Koman Law. Oxford, 1962
249. Nörr, D. Divisio und Partitio. Bemerkungen \ur römischen Rechtsquellenlehre und tur antiken Wissenschaftstheorie. Berlin, 1972
250. Nörr D. ‘Pomponius, oder zum Geschichtsverständtnis der römischen Juristen’, ANRW 11.15 (1976) 497-604
251. Nörr, D. Causa Mortis. Auf den Spuren einer Redewendung (MünchBeitr Papyr 80). Munich, 1986
252. Partsch, J. Die Schriftform im römischen Provintjalprotesse. Breslau, 1905
253. Plescia, J. ‘The development of Iniuria’, Labeo (1977) 271-89
254. Polak, J. M. ‘The Roman conception of the inviolability of the house’, Symbolae ad Jus et Historiam Antiquitatis pertinentes Julio Christiano van Oven dedicatae, ed. M. David, В. A. van Groningen and E. M. Meijers, Leiden, 1946, 251-68
255. Polay, E. ‘Der Kodifikationsplan des Pompeius’, AAntHung 13 (1965) 85-95
256. Polay, E. ‘Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar’, lura 16 (1965) 27-51
257. Prichard, A. M. ‘The origins of the “legis actio per condictionem”’, Synteleia Vincendo Arangio-Ruit, ed. A. Guarino and L. Labruna, I, Naples, 1964, 261-8
258. Pugliese, G. ‘Intorno al supposto divieto di modificare legislativamente il ius civile', Atti dei congresso interna^ di diritto romano e di storia dei diritto, Verona 27-2S-29-IX-194#, 11, Milan, 1951, 61-84
259. de Robertis, F. M. Storia de Ile corporationi e del regime associativo nel mondo romano. Bari, 1971
260. Sacconi, G. ‘Appunti sulla lex Aebutia’, AG 197 (1979) 63-93
261. di Salvo, S. 'Lex Laetoria'. Minore eta e crisi sociale tra il III e il II a.C. Camerino, 1979
262. Sargenti, M. ‘Studi sulla “restitutio in integrum”’, BIDR 8 (1966) IQ4-2Q8
263. Schiavone, A. N ascita della giurisprudenta: cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardo-repubblicana. Rome and Bari, 1976
F. Право
993
264. Schiller, A. Arthur, Roman Law. Mechanisms of Development. The Hague, Paris and New York, 1978
265. Schmidlin, B. Das Rekuperatorenverfahren. Eine Studie %um römischen Process. Friburg, Switzerland, 1963
266. Schmidlin, B. ‘Horoi, pithana und regulae’, A NR Wn.i 5 (1976) 101-30
267. Schulz, F. Principles of Roman Law. Oxford, 1936
268. Schulz, F. Roman Legal Science. Oxford, 1946, repr. 1953
269. Seidl, E. ‘Prolegomena zu einer Methodenlehre der Römer’, Aktuelle Fragen aus modernem Recht und Rechtsgeschichte, Gedächtnisschrift für Rudolf Schmidt, ed. E. Seidl, Berlin, 1966
270. Smith, R. E. ‘The law of libel at Rome’, CQ 45 (1951) 169-79
271. Stein, P. G. Fault in the Formation of Contract in Roman Law and Scots Law. Edinburgh, 1958
272. Stein, P. G. Regulae luris: From Juristic Rules to Legal Maxims. Edinburgh, 1966
273. Stein, P. G. ‘Logic and experience in Roman and Common Law’, Boston University Law Review 59 (1974) 437-51
274. Stein, P. G. ‘The place of Servius Sulpicius Rufus in the development of Roman legal science’, Festschrift für Fran% Wieacker %um yo. Geburtstag, ed. O. Behrends et al., Göttingen, 1978, 175-84
275. Stein, P. G. ‘The development of the institutional system’, Studies in Justinian’s Institutes in Memory of J. A. C. Thomas, ed. P. G. Stein and A. D. E. Lewis, London, 1983, 151-63
276. Sturm, F. Stipulatio Aquiliana: Textgestalt und Tragweite der aquilianischen Ausgleichsquittung im klassischen römischen Recht (MünchBeitrPapyr 59). Munich, 1972
277. Syme, R. ‘A great orator mislaid’, CQ 31 (1981) 421-7 ( = a 119, in, 1414-22)
278. Talamanca, M. ‘Lo schema “genus-species” nelle sistematiche dei giuristi romani’, Quaderno 221 11, 1-319, esp. 21 iff
279. Thilo, R. M. Der codex accepti et expensi im römischen Recht. Ein Beitrag %ur Lehre von der Litteralobligation (Göttinger Studien zur Rechtsgeschichte 13). Göttingen, 1980
280. Thomas, J. A. C. Textbook of Roman Law. Amsterdam, New York and Oxford, 1976
281. Thomas, Y.-P. ‘Le droit entre les mots et les choses. Rhetorique et jurisprudence a Rome’, APhD 23 (1978) 93-114
282. Thomas, Y.-P. ‘Vitae necisque potestas’, Du Chätiment 499-548
283. Turpin, C. C. ‘Bonae fidei iudicia’, Cambridge Law Journal 1965, 260-70
284. Vigneron, R. ‘Resistance du droit romain aux influences hellenistiques: le cas du depot irregulier’, RIDA 31 (1984) 307-24
285. Volk, A. ‘Zum Verfahren der “actio legis Corneliae de iniuriis’”, Sodalitas: Scritti in onore di A. Guarino, 11, Naples, 1984/5, 561-613
286. Waldstein, W. ‘Zum Fall der “dos Licinniae’”, Index 3 (1972) 343-61
287. Waldstein, W. ‘Entscheidungsgrundlagen der klassischen römischen juristen’, ANRW 11.15 (1976) 3-100
994
F. Право
288. Waldstein, W. Operae libertorum: Untersuchungen %ur Dienstpflicht
fr eigelassener Sklaven (Forschungen zur antiken Sklaverei 19). Stuttgart, 1986
289. Watson, A. Contract of Mandate in Vornan Haw. Oxford, 1961
290. Watson, A. ‘Actio Serviana’, SDHI 27 (1961) 356-63
291. Watson, A. ‘Consensual societas between Romans and the introduction of formulae’, RIDA 9 (1962) 431—6
292. Watson, A. ‘Some cases of distortion by the past in classical Roman law’, RHD 31 (1963) 68—91
293. Watson, A. ‘The origins of consensual sale: a hypothesis’, RHD 32 (1964) 245-54
294. Watson, A. The Law of Obligations in the Hater Roman Republic. Oxford, 196 5
295. Watson, A. The Haw of Persons in the Hater Roman Republic. Oxford, 1967
296. Watson, A. ‘Morality, slavery and the jurists in the later Roman Republic’, Tulane Haw Review 42 (1967—8) 289—303
297. Watson, A. The Haw of Property in the Hater Roman Republic. Oxford, 1968
298. Watson, A. ‘Narrow, rigid and literal interpretation in the later Roman Republic’, RHD 37 (1969) 351-68
299. Watson, A. Roman Private Haw around 200 b.c. Edinburgh, 1971
300. Watson, A. The Haw of Succession in the Hater Roman Republic. Oxford, 1971
301. Watson, A. ‘Limits of juristic decision in the later Roman Republic’, ANRW 1.2 (1972) 215-25
302. Watson, A. “Tus Aelianum” and “Tripertita”’, Habeo 19 (1973) 26-30
303. Watson, A. ‘The law of actions and the development of substantive law in the early Roman Republic’, Haw Quarterly Review 89 (1973) 387—92
304. Watson, A. Haw Making in the Hater Roman Republic. Oxford, 1974
305. Watson, A. Rome of the Twelve Tables. Persons and Property. Princeton,
1975
306. Wenger, L. Die Quellen des römischen Rechts, Vienna, 1953, 473-88, ‘Die republikanische Jurisprudenz’
307. Wesel, U. ‘Über den Zusammenhang der lex Furia, Voconia und Falcidia’, ZSS 81 (1964) 308—16
308. Wesel, U. Rhetorische Statuslehre und Gesetzesauslegung der römischen Juristen. Cologne, 1967
309. Wieacker, F. Vom römischen Recht. Zehn Versuche. 2nd edn, Stuttgart, 1961
310. Wieacker, F. ‘Zum Ursprung der bonae fidei iudicia’, ZLi 80(1963) 1-41
311. Wieacker, F. ‘Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert’, Entretiens Hardt 13 (T967) 291-362
312. Wieacker, F. ‘The Causa Curiana and contemporary Roman jurisprudence’, The Irish Jurist 2 (1967) 151-64
313. Wieacker, F. ‘Über das Verhältnis der römischen Fachjurisprudenz zur griechisch-hellenistischen Theorie’, Iura 20 (1969) 448-77
313 A. Wieacker, F. ‘Die römischen Juristen in der politischen Gesellschaft des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts’, Sei und Werden im Recht, Festgabe
G. Экономика и общество
995
für Ulrich von Tub tow %um 7о. Geburtstag, ed. W. G. Becker and L. Schnorr von Carolsfeld, Berlin 1970, 183-214
314. Wieacker, F. Rev. of Horak, dationes Decidendi, ZSS 88 (1971) 3 39— 5 5
315. Wieacker, F. ‘Zur Rolle des Arguments in der römischen Jurisprudenz’, Festchr. für Max Kaser %um 70. Geburtstag am 21. April 1976, ed.
D. Medicus and H. H. Seiler, Munich, 1976, 3-27
316. Wieacker, F. ‘Altrömische Priesterjurisprudenz’, luris Professio, Festgabe für Max Kaser %um So. Geburtstag, ed. H.-P. Benohr et al., Vienna, Cologne and Graz, 1986, 347-70
317. Wieling, H. J. Testamentsauslegung im römischen Recht (MünchBeitrPapyr 62). Munich, 1972
318. Wolf, J. G. ‘Zur legis actio sacramento in rem’, Römisches Recht in der europäischen Tradition, Symposion aus Anlass des 7/. Geburtstages von Fran% Wieacker, ed. O. Behrends et al, Edelsbach, 1985, 1-39
319. Yaron, R. ‘Vitae necisque potestas’, RHD 30 (1962) 243-51
G. Экономика и общество
1. Abbott, F. F. The Common People of Ancient Rome. London, 1912
2. Almagia, R. and Miglioni, E. Le regioni dTtalia. 18 vols. Turin, 1961—5
3. Andre J. Ualimentation et la cuisine ä Rome. 2nd edn, Paris, 1981
4. Andreau, J. Les affaires de Monsieur Jucundus (Coll. ec. fr. de Rome 19). Rome, 1974
5. Andreau, J. ‘Histoire des metiers bancaires et evolution economique’, Opus 3 (1984) 99-114
6. Andreau, J. Та vie financiere dans le monde romain: les metiers de manieurs d’argent (IVе siede αν. J.-C. - IIIе siede ap. J.-C.) (BEFAR 265). Rome,
1987
7. Andreau, J. ‘Μ. I. Finley, la banque antique et l’economie moderne’, ASNP 7 (1977) 1129-52
8. Atlante aerofotografico delle sedi umane in Italia. Florence, 1964-70
9. Bagnall, S. and Bogaert, R. Orders for payment from a banker’s archive, papyri in the collection of Florida State University’, AncSoc 6 (1975) 79-108
10. Bandelli, G. ‘Per una storia agraria di Aquilea repubblicana’, Atti del Museo di Trieste 13 (198 3/4) 93-111
11. Barker, G. and Hodges, R. (ed.), Archaeology and Italian Society (BAR Internat, ser. 102). Oxford, 1981
12. Barrow, R. H. Slavery in the Roman Empire. London, 1928
13. Beloch, K. J. Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt. Leipzig, 1886
14. Beloch, K. J. ‘La popolazione della Gallia al tempo di Cesare’; ‘Per la storia della popolazione nell’antichita’; ‘La popolazione delP antichita’, coll, (with essays by E. Ciccotti, A. Holm, О. Seeck and E. Kornemann) by V. Pareto in Biblioteca di Studi Economichi iv, Milan, 1909
15. Besnier, M. ‘L’interdiction du travail des mines en Italie sous la Republique’, RA 10 (1919) 31-50
16. Bodei Giglioni, G. Tavori pubblici e occupatione neWantichita classica. Bologna, 1974
996
G. Экономика и общество
17. Bodei Giglioni, G. ‘Pecunia fanatica. L’incidenza economica dei templi laziali’, RSI 89 (1977) 33-76, repr. in в 273, 185-207
18. Bodei, J. ‘Trimalchio and the candelabrum’, CPh 84 (1989) 224-31
19. Bogaert, R. Les origines antiques de la banque de depot. Leiden, 1966
20. Bogaert, R. Banques et banquiers dans les citesgrecques. Leiden, 1968
21. Les bourgeoisies. See Abbreviations
22. Brunt, P. A. ‘The fiscus and its development’, JRS 56(1966) 75-91 (= a 20, 134-62)
23. Brunt, P. A. ‘The Roman mob’, P&P 35 (1966) 3-27, repr. in Studies in Ancient Society, ed. M. I. Finley, London, 1974, 74-102
24. Brunt, P. A. rev. of F. P. White, Roman Farming,, JRS 62 (1972) 15 3-8
25. Brunt, P. A. ‘Two great Roman landowners’, Latomus 34 (1975) 619-35
26. Brunt, P. A. ‘Free labour and public works at Rome’, JRS 70 (1980) 81-100
27. Brunt, P. A. ‘The revenues of Rome’, JRS 71 (1981) 161-72, repr. with additions, a 20, 3 24-46
28. Burford, A. M. ‘Heavy transport in classical antiquity’, Economic Hist. Review 13 (1960-1) 1—18
29. Burford, A. M. Craftsmen in Greek and Roman Society. London, 1972
30. Capogrossi Colognesi, L. La struttura della proprietä e la formatione dei iura praediorum nell’eta repubblicana. 2 vols. Milan, 1969 and 1976
31. Capogrossi Colognesi, L. La terra in Roma antica 1. Rome, 1981
32. Capogrossi Colognesi, L. L’ agr ico Itura romana. Bari, 1982
33. Carandini, A. ‘Hortensia. Orti e frutteti intorno a Roma’, Misurare la terra 5, 66-74
34. Carcopino, J. La lot de Hieron et les Romains. Paris, 1914
35. Cassola, F. ‘Romani e Italici in oriente’, Roma e 1’Italia, 305-22
36. Casson, L. Ships and Seamanship in the Ancient World. Princeton, 1971
37. Castagnoli, F. ‘Installazioni portuali a Roma’, Seaborne Commerce 35-42
38. Cels-Saint-Hilaire, J. ‘Les libertini: des mots et des choses’, DHA 11
(1985) 331-79
39. Chevallier, R. Roman Roads, transi, by N. H. Field. London, 1976
40. Clemente, G. ‘Le leggi sul lusso e la societa romana tra III e II sec. a.C.\ Societä romana hi, 1-14
41. Coarelli, F. ‘Architettura e arti figurative in Roma, 150-50 a.C.’, Hellenismus, 21-51
42. Coarelli, F. ‘Public building in Rome between the second Punic War and Sulla’, PBSR 45 (1977) 1-23
43. Coarelli, F. T santuari del Lazio e della Campania tra i Gracchi e le guerre civili’, Les Bourgeoisies, 217-40
43a. Coarelli, F. ‘Architettura sacra e architettura privata nella tarda repubblica’, Architecture et societe de ΐarchaism e grec ä la fin de la repub lique romaine, 1983, 191-217
44. Colini, A. Μ. ‘II porto fluviale del foro boario a Roma’, Seaborne Commerce, 43-53
45. Cori, B. The Italian Settlement System. Warsaw, 1979
G. Экономика и общество
997
46. Crawford, Μ. Н. ‘Rome and the Greek world: economic relationships’, Economic Hist. Review 30 (1977) 42-52
47. Crawford, Μ. H. ‘Economia imperiale e commercio estero’, Tecnologia, 207-17
48. Crawford, M. H. La moneta in Grecia e a Roma. Bari, 1982
49. D’Achiardi, G. ‘L’industria metallurgica a Populonia’, SE 3 (1929) 397-404
50. D’Arms, J. H. Commerce and Social Standing in Ancient Rome. Cambridge, MA and London, 1981
51. D’Arms, J.H., rev. of Fabre, Libertus, CPh 79 (1984) 170-4
5 2. D’Arms, J. H. and Kopff, E., (ed.) The Seaborne Commerce of Ancient Rome (MAAR 36). Rome, 1980 (also in Abbreviations)
5 3. David, J .-M. ‘Promotion civique et droit a la parole: L. Licinius Crassus, les accusateurs et les rheteurs latins’, MEER A 91 (1979) 135-81
54. David, J.-M. ‘Les orateurs des municipes a Rome: integration, reticences et snobismes’, Les Bourgeoisies, 309-23
5 5. Delplace, C. ‘Les potiers dans la societe et l’economie de l’Italie et de la
Gaule au Ier siede av. et au Ier siede ap. J.-C.’, Ktema 3 (1978) 5 5-76
56. Les devaluations. See Abbreviations
57. Dixon, S. ‘The marriage alliance in the Roman elite’, Journal of Family History 10 (1985) 353-78
58. Dumont, J. C. Servus. Rome et I’esclavage sous la Republique. Rome, 1988
5 9. Dupont, F. La vie quotidienne du citoyen remain sous la republique, J09-27 av.
J.C., Paris, 1989
60. Durand, J. D. ‘Mortality estimates from Roman tombstone inscriptions’, American Journal of Sociology 65 (1959/60) 364-73
61. Dureau de la Malle, M. Economiepolitique des Romains. 2 vols. Paris, 1840, repr. New York, 1971
62. Etienne, R. ‘Les rations alimentaires des esclaves de la familia rustica d’apres Caton’, Index 10 (1981) 66-78
63. Evans, J. K. ‘Plebs rustica’, А]АН 5 (1980) 19-47; 134—73
64. Evans, J. К. ‘Wheat production and its social consequences in the Roman world’, CQ 31 (1981) 428-42
65. Fabre, G. Libertus: recherches sur les rapports patron-affranchi ä la fin de la Republique romaine (Coll. ec. fr. de Rome 50). Paris, 1981
66. Fallu, E. ‘Les regies de la comptabilite a Rome a la fin de la republique’, Points de vue, 97-112
67. Finley, M. I. (ed.) Studies in Roman Property, Cambridge, 1976
68. Flambard, J. M. ‘Collegia compitalicia: phenomene associatif, cadres territoriaux et cadres civiques dans le monde romain a l’epoque republicaine’, Ktema 6 (1981) 143-66
69. Flambard, J. M. ‘Les colleges et les elites locales a l’epoque republicaine d’apres l’exemple de Capoue’, Les Bourgeoisies, 75-89
70. Forbes, R. J, Studies in Ancient Technology. 2nd edn, 9 vols. Leiden, 1964-72
li. Forni, G. ‘Problem! di ergologia virgiliana’, Misurare la terra 2, 154
998
G. Экономика и общество
η г. Fowler, W. Warde Social Eife at Коте in the Age of Cicero. London, 1909
73. Frank, T. ‘Race mixture in the Roman empire’, AHR 21 (1915-16) 689-708
74. Fraschetti, A. ‘Per una prosopografia dello sfruttamento: romani e italici in Sicilia (212-44 a.C.)’, Societä romana 1, 51-61
75. Frayn, J. M. Subsistence Farming in Roman Italy. London, 1979
76. Frederiksen, M. ‘Puteoli’, RE 23.2 (1959) 2036-60, revd. in his Campania, 319-58
77. Frederiksen, M. ‘Theory, evidence, and the ancient economy’ (review of Μ. I. Finley, The Ancient Economy), JRS 65 (1975) 164-71
78. Frederiksen, M. ‘Caesar, Cicero, and the problem of debt’, JRS 56(1966) 128—41
79. Frederiksen, M. ‘Changes in the patterns of settlement’, Hellenismus и, 341-5 5
80. Frezouls, E. ‘Le theatre romain et la culture urbaine’, La cittä antica come fat to di cultura, Atti del convegno Como\Bellagio 1979, Como, 1983, 105-30
81. Frier, B. ‘The rental market in early imperial Rome’, JRS 67 (1977) 27-37
82. Frier, B. Eandlord and Tenant in Imperial Rome. Princeton, 1980
83. Frier, B. ‘Roman life expectancy: Ulpian’s evidence’, HSPh 86 (1982) 213-51
84. Friichtl, A. Die Geldgeschäfte bei Cicero. Erlangen, 1912
8 5. Fussel, G. E. and Kenny, A. ‘Equipement d’une ferme romaine’, Annales (ESC) 21 (1966) 306-23
86. Gabba, E. ‘Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell’Italia centro- meridionale del I. sec. a.C.’, SCO 21 (1972) 73-112
87. Gabba, E. ‘Mercati e here nell’Italia romana’ (with append, by F. Coarelli), SCO 24 (1975) 141-66
88. Gabba, E. ‘Considerazioni politiche ed economiche sullo sviluppo urbano in Italia nei secoli II e I a.C.’, Hellenismus и, 315-26
89. Gabba, E. ‘Considerazioni sulla decadenza della piccola proprieta contadina nell’Italia centro-meridionale del II. sec. a.C.’, Ktema 2 (1977) 269-84
90. Gabba, E. ‘Per la tradizione deWheredium romuleo’, RIL 112 (1978) 250-8
91. Gabba, E. ‘Strutture sociali e politica romana in Italia nel II sec. a.C’. Les Bourgeoisies
92. Gabba, E. ‘Per la storia della societa romana tardo-repubblicana’, Opus 1 (1982) 373-8В
93. Gabba, E. ‘The collegia of Numa: problems of method and political ideas’, JRS 74 (1984) 81-6
94. Gabba, E. ‘Per un’interpretazione storica della centuriazione romana’, Athenaeum 63 (1985) 265—84
95. Gabba, E. and Pasquinucci, M. Strutture agrarie e allevamento transumante neiritalia romana (777-7 sec. a.C.). Pisa, 1979
96. Galsterer, H. ‘Urbanisation und Municipalisation’, Hellenismus и, 3*7—3 3
G. Экономика и общество
999
97. Garnsey, Р. ‘Where did Italian peasants live?’, PCPhS 25 (1979) 1-25
98. Garnsey, P. ‘Non-slave labour in the Roman World’, Non-slave Labour
34-47
99. Garnsey, P. ‘Independent freedmen and the economy of Roman Italy under the Principate’, Kilo 63 (1981) 359-72
100. Garnsey, P. Famine and Food-Supply in the Graeco-Roman World. Cambridge, 1988
101. Garnsey, P., Hopkins, K. and Whittaker, C. R. (eds.) Trade in the Ancient Economy. London, 1983 (also in Abbreviations)
102. von Gerkan, A. ‘Die Einwohnerzahl Roms in der Kaiserzeit’, RhM 5 5 (1940) 149-95
103. Giardina, A. ‘Allevamento e economia della selva’, Societa romana 1, 87-114
104. Giardina, A. and Schiavone, A., ed. Societa romana eprodu^ione schiavistica. i. LTtalia: insediamenti e forme economiche\ 11. Merci, mercati e scambi\ ш. Modelli etici, diritto e tras formationi sociali {Atti del colloquio Pisa, 1979) Bari, 1981. (Discussion, Opus 1 (1982) 371-439 and D. Rathbone G 208 below. Also in Abbreviations
105. Girri, G. La taberna nel quadro urbanistico e sociale di Ostia. Milan, 1956
106. Giuffre, V. ‘Mutuo’, Enciclopedia del Diritto xxvn, Milan, 1977, 411-44
107. Glautier, M. W. E. ‘A study in the development of accounting in Roman times’, RIDA 19 (1972) 311-43
108. Gratwick, A. S. ‘Free or not so free? Wives and daughters in the late Roman Republic’, Marriage and Property, ed. E. M. Craik, Aberdeen, 1984, 30-53
109. Gros, P. Architecture et societe ä Rome et en halte centro-meridionale aux deux derniers siecles de la Republique (Coll. Latomus 156). Brussels, 1978
no. Gummerus, H. ‘Industrie und Handel’, RE 9.2 (1916) 1381-535
in. Habermann, W. Ostia, Getreidehandelshafen Roms', Münster sehe Beiträge %иг antiken Handelsgeschichte ι.ι (1982) 35-59
112. Hahn, I. ‘Der Klassenkampf der plebs urbana in den letzten Jahrzehnten der römischen Republik’, Die Rolle der Volksmassen, ed. J. Herrmann, Berlin, 1975, 121-46
113. Harper, J. ‘Slaves and freedmen in imperial Rome’, AJPh 93 (1972) 341— 2
114. Havas, L. ‘Theplebs Romana in the late 60s b.c.’, ACD i 5 (1979) 23-33
115. Healy, J. F. Mining and Metallurgy in the Greek and Roman World. London, 1978
116. Heitland, W. E. Agricola. A Study of Agriculture and Rustic Life in the Greco-Roman World from the Point of View of Labour. Cambridge, 1921
117. Helen, T. Organisation of Roman brick production’, AIRF 9 (1975) 1-21
118. Hermansen, G. ‘The population of imperial Rome: the Regionaries’, Historia 27 (1978) 129-68
119. Herzog, R. ‘ Tesserae nummulariae\ Abh. dergiessener Hochschulgesellschaft 1 (1919) 1-42
1000
G. Экономика и общество
120. Herzog, R. ‘Nummularius', RE 17 (1937) 1415-55
121. Hinrichs, F. Die Geschichte dergromatischen Institutionen. Wiesbaden, 1974
122. Hoffmann, W. and Siber, H. ‘Plebs’, RE 21.1 (1957) 73-187
123. Hopkins, K. ‘Economic growth and towns in classical antiquity’, Towns in Society, ed. P. Abrams and E. A. Wrigley, Cambridge, 1978, 35-78
124. Hopkins, K. ‘Taxes and trade in the Roman Empire’, JRS 70 (1980) 101—25
125. Hübner, E. ‘Quaestiones onomatologicae Eatinae 1, nomina in -anus\ Ephemeris Epigraphica 11 (1875) 25-92
126. Humphrey, J. Roman Circuses. Berkeley and Los Angeles, 1986
127. Huttunen, P. The Social Strata in the City of Rome. Oulu, 1974.
128. L’impero romano. See Abbreviations
129. Jacota, M. ‘La condition de l’esclave agricole’, Etudes offertes a J. Macqueron, Aix-en-Provence, 1970, 375-83
130. Jones, A. H. M. ‘The Roman civil service (clerical and sub-clerical grades)’, JRS 39 (1949) 38-55 ( = f 87, 151-75)
131. Jones, A. H. M. The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History, posth., ed. P. A. Brunt, Oxford, 1974
132. Jones, R. F. J. and Bird, D. J. ‘Roman gold mining in north-west Spain 11: workings on the Rio Duerna’, JRS 62 (1972) 59-74
133. Jongman, W. The Economy and Society of Pompeii. Amsterdam, 1988
134. Jouanique, P. ‘Le codex accepti et expensi chez Ciceron. Etude d’ histoire de la comptabilite’, RD 46 (1968) 5-31
135. Kahrstedt, U. ‘Ager publicus und Selbstverwaltung in Lukanien und Bruttium’, Historia 8 (1959) 174-206
136. Kämpen, N. Image and Status: Roman Working Women in Ostia. Berlin, 1981
137. Kleberg, T. Hotels, restaurants et cabarets dans Г antiquit e romaine. Uppsala,
1957
138. Kniep, F. Societas Publicanorum i (all pubd.). Jena, 1896
139. Kolendo, J. Ea traite agronomique des Sasernae. Warsaw, 1973
140. Kolendo, J. E'agricoltura nellTtalia romana (with pref. by A. Carandini). Rome, 1980
141. De Laet, S. J. Portorium, etude sur Гorganisation douaniere che% les Romains. Bruges, 1949
142. Laffranque, M. ‘Poseidonios, Eudoxe de Cyzique et la circumnavigation de l’Afrique’, RPhilos 153 (1963) 199-222
143. Landels, J. G. Engineering in the Ancient World. London, 1978
144. Le Gall, J. Ее Tibre, fleuve de Rome} dans I'antiquite. Paris, 1953
145. Le Gall, J. ‘Rome, ville de faineants?’, REE 49 (1971) 266-77
145a. Linderski, J. ‘Garden parlours: nobles and birds’, in R. I. Curtis (ed.), Studia Pompeiana et Classica in honour of Wilhelmina F. Jaskemski 11, 202ff. New York, 1988
146. Lipinsky, A. ‘Orafi e argentieri’, E’urbe xxiv (1961) 3-14; 3 (1961) 3-13
147. Loane, H. J. Industry and Commerce of the City of Rome. Baltimore, 1938
148. Lo Cascio, E. ‘Obaerarii: la nozione della dipendenza in Varrone’, Index 11 (1982) 265-84
G. Экономика и общество
1001
149. MacMullen, R. ‘Social history in astrology’, AncSoc 2 (1971) 105-16
150. MacMullen, R. ‘How many Romans voted?’, Athenaeum 58 (1980) 454-7
151. Mancinetti Santamaria, G. ‘La concessione della cittadinanza a Greci ed orientali nel II e I sec. a.C’, Les Bourgeoisies 125-36
152. Marshall, A. J. ‘Roman women and the provinces’, AncSoc 6 (1975) 109-27
153. de Martino, F. Storia economica di Koma antica (II pensiero storico 75). 2 vols. Florence, 1979
154. de Martino, F. ‘Produzione di cereali in Roma nell’eta arcaica’, PP 34 (1979) 241-55
155. Maxey, M. Occupations of the Lower Classes in Koman Society. Chicago, 1938, repr. New York, 1975
156. Meiggs, R. Koman Ostia. Oxford, i960, 2nd edn, 1973
157. Meiggs, R. Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World. Oxford, 1982
158. Melillo, G., ed. Due saggi in torno ai concetti economici di valor e nell’an tic hit a classica, 1886, 1889, H. v. Scheel e G. Alessio (Antiqua 13). Naples, 1981
159. Minto, A. ‘L’antica industria mineraria in Etruria’, SE 8 (1934) 291-309
160. Misurare la terra. See Abbreviations
161. Moeller, W. O. The Wool-Trade of Ancient Pompeii. Leiden, 1976
162. Molin, M. ‘Quelques considerations sur le chariot des vendanges de Langres (Haute-Marne)’, Gallia 42 (1984) 97-114
163. Morel, J. P. ‘Ceramiques d’ltalie et ceramiques hellenistiques’, Hellenismus, 471 - 5 о 1
164. Morel, J. P. ‘La laine de Tarente’, Ktema 3 (1978) 93-110
165. Morel, J. P. ‘Aspects de l’artisanat dans la Grande Grece romaine’ La Magna Grecia (Atti del XV. convegno di studi sulla Magna Grecia nell’eta romana, Taranto, 19//), Naples, 1980, 263-324
166. Morel, J. P. ‘Les producteurs de biens artisanaux en Italie a la fin de la Republique’, Les Bourgeoisies, 21-39
167. Morgan, M. G. ‘The introduction of the Aqua Marcia into Rome, 144-40 B.c.’, Philologus 122 (1978) 25-58
168. Moritz, L. A. Grain-Mills and Flour in Classical Antiquity. Oxford, 1958
169. Mrozek, S. ‘Crustulum et mulsum dans les villes italiennes’, Athenaeum 50 (1972) 294-300
170. Nagle, D. B. ‘Toward a sociology of south-eastern Etruria’, Athenaeum 57 (1979) 411-47
171. de Neeve, P. W. Colonus. Amsterdam, 1984
172. Nicolet, C. ‘Les variations des prix et la “theorie quantitative de la monnaie” a Rome de Ciceron ä Pline l’ancien’, Annales(ESC)z6 (1971) 1203-27
173. Nicolet, C. ‘Polybius vi.17.4 and the composition of the societates publicanorum\ The Irish Jurist в (1971) 163-76
174. Nicolet, C. Tributum. Kecherches sur la fiscalite directe sous la Kepublique romaine (Antiquitas Reihe i 24). Bonn, 1976
175. Nicolet, C. ‘Deux remarques sur l’organisation des societes de publicains a la fin de la Republique romaine’, Points de vue, 69-95
1002
G. Экономика и общество
176. Nicolet, С. ‘Economie, societe et institutions au IIе siede av. J.-C.’, Ann(ESC) 35 (1980) 871-94
177. Nicolet, C. ‘Pline, Paul et la theorie de la monnaie’, Athenaeum 62 (1984) 105-35
178. Nicolet, C. ‘II pensiero economico dei Romani’, Storia della ideepolitiche, economiche e sociali 1, ed. L. Firpo, Turin, 1982, 877-960 ( = G 179, ch. 2)
179. Nicolet, C. Rendre a Cesar: Economie et sociee dans la Korne antique. Paris, 198 8, of which Ch. 1, ‘Economie et societe’, is the present ch. XVI before translation and Ch. 2, ‘La pensee economique des Romains’, is no. 178 above before translation
180. Nissen, H. Italische Eandeskunde. 2 vols. Berlin, 1883-1902
181. Non-slave labour. See Abbreviations
182. Oliver, E. H. Korn an Economic Conditions to the Close of the Republic. Toronto, 1907
183. Des ordres ä Rome, sous la direction de Claude Nicolet (Publications de la Sorbonne, Ser. hist, ancienne et medievale 13). Paris, 1984 (also in Abbreviations)
184. Packer, J. E. ‘Housing and population in imperial Rome and Ostia’, JRS 57 (1967) 80-95
185. Panella, C. ‘I commerci di Roma e di Ostia in eta imperiale’, Misurare la terra v, 180-89
186. Park, Μ. E. The Plebs in Cicero’s Day, a Study of their Provenance and of their Employment. Cambridge, MA, 1918, repr. New York, 1975
187. Parker, A. J. ‘Shipwrecks and ancient trade in the Mediterranean’, Archaeological Review from Cambridge 3.2 (1984) 99-113
188. Paterson, J. ‘Salvation from the sea: amphorae and trade in the Roman west’, JRS 72 (1982) 146-57
189. Perelli, L. ‘La chiusura delle miniere macedoni dopo Pidna’, RFIC 103
(1975) 403-12
190. Persson, A. W. Staat und Manufaktur im römischen Reiche. Lund, 1923
191. Pieket, H. W. rev. of Trade, Gnomon 57 (1985) 148-54
192. Points de vue. See Abbreviations
193. Pomey, P. and Tchernia, A. TI tonnellagio massimo delle navi mercantili romane’, Puteoli 4/5 (1981) 29-59
194. Potter, T. W. The Changing Eandscape of South Etruria. London, 1979
195. Pritchard, R. T. ‘Land tenure in Sicily in the ist century b.c.’, Historia 18 (1969) 545-56
196. Produc cion у comercio del aceite en la Antigiiedad (ist Internat. Congr.). Madrid, I98O
197. Prugni, G. 'Quirites’, Athenaeum 65 (1987) 121-61
198. Pucci, G. ‘La produzione della ceramica aretina’, DArch 7 (19-/$) 255-93
199. Purcell, N. ‘The apparitores, a study in social mobility’, PBSR 51 (1983)
125-73
200. Purcell, N. ‘Wine and wealth in ancient Italy’, JRS 75 (1985) 1—19
201. Purcell, N. ‘The Nicopolitan synoecism and Roman urban policy’, Nikopolis i (Proceedings of the ist Internat. Symposium on Nikopolis, 25-9 Sept. 1984), ed. E. Chrysos, Preveza, 1987, 71-90
G. Экономика и общество
1003
202. Purcell, N. ‘Tomb and suburb’, Komische Gräberstrassen: SelbstdarStellung, Status у Standard, ed. H. von Hesberg and P. Zänker, Munich, 1987, 25-41
203. Radke, G. ‘Viae publicae Romanae’, RE Suppi. 13 (1973) 1417-686
204. Radke, G. ‘Wollgebilde an den Compitalia’, WJA 9 (1983) 173-8
205. Radmilli, A. M. Popoli e civiltä dellTtalia antica 1. Rome, 1974
206. Ramage, E. S. ‘Urban problems in ancient Rome’ Aspects of Greek and Roman Urbanism, Essays on the Classical City, ed. R. T. Marchese (BAR Internat, ser. 188), Oxford, 1983
207. Rathbone, D. W. ‘The development of agriculture in the Ager Cosanus during the Roman Republic’, JRS 71 (1981) 10-23
208. Rathbone, D. W. rev. of Societa Romana, JRS 73 (1983) 160—68
209. Rawson, E. D. ‘The Ciceronian aristocracy and its properties’, Studies in Roman Property, ed. M. I. Finley, Cambridge, 1976, 85-102 ( = a 94A, 204-22)
210. Rawson, E. D. ‘Chariot-racing in the Roman Republic’, PBSR 49 (1981) I-16 (=A 94A, 389-407)
211. Rickman, G. Roman Granaries and Store Buildings. Cambridge, 1971
212. Rickman, G. The Corn Supply of Ancient Rome. Oxford, 1979
213. Rini, A. ‘La plebe urbana a Roma dalla morte di Cesare alia sacrosancta potestas di Ottaviano’, Epigrafia e territorio, politica e societa: terni di antichitä romane, ed. M. Pani, Bari, 1983, 161-90
214. Roddaz, J.-M. and Fabre, G. ‘Recherches sur la familia de M. Agrippa’, Athenaeum 60 (1982) 84-112
215. Roma e Г Italia. See Abbreviations
216. Rouge, J. Recherches sur Г organisation du commerce maritime en Mediterranee sous l*empire romain. Paris, 1966
217. Rouge, J. ‘Pret et societe maritime dans le monde romain’, Seaborne Commerce, 291-304
218. Royer, J. P. ‘Le probleme des dettes a la fin de la Republique romaine’, RD 45 (1967) 191-240; 407-50
219. de Ste Croix, G. E. M. ‘Greek and Roman Accounting’, Studies in the History of Accounting, ed. A. C. Littleton and B. S. Yamey, London, 1956, М-74
220. Sailer, R. P. ‘Patria potestas and the stereotype of the Roman family’, Continuity and Change 1 (1986) 7-22
221. Salvioli, G. IIcapitalismo antico. Storia dell'economia romana. Bari, 1929. 2nd edn by A. Giardina, Bari, 1982
222. Schneider, H. C. Altstrassenforschung. Darmstadt, 1982
223. Scobie, A. ‘Slums, sanitation and mortality in the Roman world’, Klio 68 (1986) 399-443
224. Sereni, E. Paesaggio agrario italiano. Bari, 1961
225. Sirago, V. A. ‘La personality di C. Vestorio’, Puteoli 3 (1979) 3-16
226. Skydsgaard, J. E. ‘The disintegration of the Roman labour market and the theory of clientela’, Studia Romana in honorem P. Krarup septuagenarii, ed. K. Ascami et al., Odense, 1976, 44-8
227. Skydsgaard, J. E. ‘Non-slave labour in rural Italy during the late Republic’, Non-Slave Labour, 65-72
1004
G. Экономика и общество
228. Solin, Н. Die griechischen Personennamen in Кот: ein Namenbuch (Auctarium ad CIL). 3 vols. Berlin and New York, 1982
229. Spurr, S. ‘The cultivation of millet in Roman Italy', PBSR 51 (1983) 1-15
230. Spurr, S. Arable Cultivation in Roman Italy. London, 1986
231. Stambaugh, J. E. The Ancient Roman City. Baltimore, 1988
232. Stato e moneta fra la tarda repubblica e ilprimo impero. Incontro di studio, Roma,
aprile 1982. AHN 29 (1982)
233. Steffensen, F. ‘Fiscus in der späten römischen Republik', C<&M 28 (1967) 254-85
234. Steinby, M. ‘L'edilizia come industria pubblica e privata', ARID Suppl. X (1983) 219-21
235. Tänzer, H. H. The Common People of Pompeii. Baltimore, 1939
236. Taylor, L. R. ‘The four urban tribes and the four regions of Rome’, RPAA 27 (1952-4) 225-38
237. Tchernia, A. ‘Les fouilles sousmarines de Planier (Bouches-du-Rhöne'), CRAI 1969, 292-309
238. Tchernia, A. Le vin de ITtalie romaine. Essai d’histoire economique d!apres les amphores (BEFAR 261). Rome, 1986
239. Tecno logia, economia e societ a nel mondo romano (.Atti del convegno, Como 27-9 sett. 1979). Como, 1980 (also in Abbreviations)
240. Thebert, Y. ‘Economie, societe et politique aux deux derniers siecles de la Republique romaine’, Annales (ESC) 48 (1980) 871-911
241. Thiel, J. H. Eudoxus of Cyzicus. A Chapter in the History of the Sea-Route to India and the Route round the Cape in Ancient Times (Historische Studies van de R. U. te Utrecht 23). Groningen, 1966
242. Tibiletti, G. ‘Lo sviluppo del latifondo', Atti del X. congresso internat. per le science storiche 11, Rome, 1955, 237-92
243. Toller, O. J. De spectaculis cenis distributionibus in municipiis Romanis Orientis imperatorum aetate exhibitis. Altenburg, 1889
244. Torelli, M. Tnnovazioni nelle tecniche edilizie romane tra il I. see. a.C. e il I. see. d.C.’, Tecnologia, 139-62
245. Tozzi, G. Economistigreet e romani. Milan, 1961
246. Tozzi, P. Saggi di topografia storica. Florence, 1974
247. Treggiari, S. Roman Ereedmen during the Late Republic. Oxford, 1969
248. Treggiari, S. ‘Urban labour in Rome: mercennarii et tabernarii', Non- Slave Labour, 48-64
249. Velissaropoulos, J. Les naucleres grecs. Recherches sur les institutions maritimes en Grece et dans ΐOrient hellenise. Geneva and Paris, 1980
250. Veyne, P. Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique. Paris, 1976, in part transl. by B. Pearce as Bread and Circuses, London, I99°
251. Veyne, P. ‘Mythe et realite de l'autarcie ä Rome', REA 81 (1979) 261-80
252. Virlouvet, C. Famines et erneutes des origines de la Republique a la mort de Ne'ron (Coll. ec. fr. de Rome 87). Rome, 1985
253. Wallace-Hadrill, A., ed., Patronage in Ancient Society. London and New York, 1989
Н. Религия и идеи
1005
254. Waltzing, J.-P. Etudes historiques sur les corporationsprofessionnelles ehe% les Ptomains. 4 vols. Louvain, 1895—1900
255. Ward-Perkins, J. B. Roman Architecture. New York, 1977
256. Weber, C. W. Panem et circenses. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom. Düsseldorf, 1983
257. White, K. D. ‘Latifundia’, BICS 14 (1967) 62-79
258. White, K. D. A Bibliography of Roman Agriculture. Reading, 1970
259. White, К. D. Roman Farming. London, 1970
260. Whittaker, C. R. ‘II povero’, E’uomo romano, ed. A. Giardina, Rome, 1989,299-333
261. Yavetz, Z. ‘The living conditions of the plebs in Republican Rome’, Eatomus 17 (1958) 500-17 (=Seager, Crisis, 162-79)
262. Yavetz, Z. Plebs and Princeps. Oxford, 1969. 2nd edn, 1988
263. Yavetz, Z. ‘Fluctuations monetaires et condition de la plebe a la fin de la Republique’, Recherches sur les structures sociales dans Гdntiquite classique, Caen, 2j—6 avril 1969, introd. de C. Nicolet, Paris, 1970, 133-57
264. Yeo, C. A. ‘Land and sea transportation in imperial Italy’, TAPhA 77 (1946) 221-44
265. Zehnacker, H. Moneta. Recherches sur Гorganisation et Г art des emissions monetaires de la Republique romaine (28-7-31 av. J--C.) (BEFAR 222). 2 vols. Rome, 1973
266. Zimmer, G. Römische Berufsdarstellungen. Berlin, 1982
H. Религия и идеи
1. Alföldi, A. ‘Zum Gottesgnadentum des Sulla’, Chiron 6 (1976) 143-58
2. Ambaglio, D. ‘La dedica delle opere letterarie antiche fino all’eta dei Flavi’, Saggi di letteratura e storiografia antiche, ed. D. Ambaglio et al. (Bibi, di Athenaeum 2). Como, 1983
3. Anderson, W. S. Pompey, his Friends, and the Eiterature of the First Century B.C. (Univ. of Calif. Pubs, in Class. Philol. 19.1). Berkeley, 1963
4. Badian, E. ‘The early historians’, Eatin Historians, ed. T. A. Dorey, London, 1966, 1-38
5. Barnes, J. ‘Antiochus of Ascalon’, Philosophia Togata, 51-96
6. Barwick, К. Das rednerische Bildungsideal Ciceros {ASAW 54.3). Berlin,
1965
7. Basanoff, V. Evocatio: etude d’un rituel militaire romain. Paris, 1947
8. Beard, M. ‘Cicero and divination: the formation of a Latin discourse’, JRS 76 (1986) 33-46
9. Beard, M. ‘A complex of times: no more sheep on Romulus’ birthday’, PCPhS 33 (1987) i—15
10. Beard, M. ‘Priesthood in the Roman Republic’, Pagan Priests, 19-48
i OA. Beard, M. ‘Writing and religion: Ancient Eiter асу and the function of the written word in Roman religion’, in Eiteracy in the Roman World, ed. S. Humphrey, Ann Arbor, 1991, 35-58
11. Beck, R. ‘Mithraism since Franz Cumont’, ANRW 11.17.4 (1984) 2002-115
1006
Н. Религия и идеи
12. Bemont, С. ‘Les enterres vivants du Forum Boarium. Essai d’interpretation’, MEFRA 72 (i960) 133-46
13. Börner, F. Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom. i Die wichtigsten Kulte und Religionen in Rom und im lateinischen Westen. Mainz, 1957. 2nd edn revd. by P. Herz (Forsch, zur antiken Sklaverei 14.1), Wiesbaden, 1981
14. Börner, F. ‘Kybele in Rom’, MDAI(R) 71 (1964) 130-51
15. Boissier, G. Cicer on et ses amis. Etude sur la societe romaine du temps de Cesar. nth edn, Paris, 1899
16. Bonner, S. F. Education in Ancient Rome from the Elder Cato to the Younger Pliny. London, 1977
17. Boyance, P. ‘Les methodes de l’histoire litteraire: Ciceron et son oeuvre philosophique’, REL 14 (1936) 288-309 ( = Etudes sur I’humanisme ciceronien, Brussels, 1970, 199-221)
18. Briquel, D. ‘Rituel d’ensevelissement au Forum Boarium’, REL 59 (1981) 30-7
19. Bruneau, P. Recherches sur les cultes de Delos а Гepoque hellenistique et ä Npoque imperiale (BEFAR 217). Paris, 1970
20. Brunt, P. ‘Philosophy and religion in the later Republic’, Philosophia Togata, 174-98
21. Bulard, M. La religion domestique dans la colonie italienne de Delos d*dpres les peintures murales et les autels histories (BEFAR 131). Paris, 1926
22. Burkert, W. ‘Cicero als Platoniker und Skeptiker’, Gymnasium 72 (1965) 175-200
23. Burkert, W. ‘Zur geistesgeschichtlichen Einordnung einiger Pseudo- pythagorica’, Entretiens Hardt 18 (1971) 23-5 5
24. della Casa, A. Nigidio Figulo (Nuovi saggi 42). Rome, 1962
25. Cichorius, C. ‘Staatliche Menschenopfer’, Römische Studien, Leipzig, 1922, 7-20
26. Clausen, W. V. ‘The new direction in poetry’, CHCL 11 (1982) 178-206
27. Coleman, R. ‘The dream of Scipio’, PCPhSA 10 (1964) 1-14
28. Cramer, F. H. ‘Expulsion of astrologers from ancient Rome’, C&M 12 (1951) 9-50
29. Crawford, Μ. H. ‘Greek intellectuals and the Roman aristocracy’, Imperialism in the Ancient World, ed. P. D. A. Garnsey and C. R. Whittaker, Cambridge, 1978, 193-207
30. Degrassi, A. ‘Le dediche di popoli e re asiatici al popolo romano e a Giove Capitolino’, ВС AR 74 (1951-2) 19-47 ( = a 26, 1, 415-44)
31. Dillon, J. The Middle Platonists. London, 1977
3 2. Dörner, F. K. and Gruben, G. ‘Die Exedra der Ciceronen’, MDAI(A) 68 (195 3) 63-76
33. Donini, P. Le scuole ΐanima Г impero: la filosofia antica da Antioco a Plotino. Turin, 1982
34. Donini, P. ‘The history of the concept of electicism’, The Question of 'Eclecticism*, Studies in Later Greek Philosophy, ed. J. M. Dillon and A. A. Long, Berkeley, Los Angeles and London, 1988, 15-33
EL Религия и идеи
1007
35. Douglas, А. Е. ‘The intellectual background of Cicero’s Rhetorica: a study in method’, ANRW 1.3 (1973) 95-138
36. Dunand, F. ‘Cultes egyptiens hors d’Egypte. Essai d’analyse des conditions de leur diffusion’, Religions ,pouvoirs, rapportssociaux (Ann. litt. Univ. Besan^on 237), Paris, 1980, 71—148
37. Eckstein, A. M. ‘Human sacrifice and fear of military disaster in Republican Rome’, AJAH 7 (1982) 69-95
38. Fayer, С. II culto della dea Roma (Coll, di saggi e ricerche 9). Pescara, 1976
39. Forbes, C. A. ‘The education and training of slaves in antiquity’, TAPhA 86 (1955) 321-60
40. Fraschetti, A. ‘Le sepolture rituali del Foro Boario’, Le delit religieux,
51-115
41. Fraschetti, A. ‘La sepoltura delle Vestali e la citta, Du Ghatiment, 97-129
42. Frier, B. W. ‘Augural symbolism in Sulla’s invasion of 83’, ANSMusN 13 (1967) 111—18
43. Furley, D. J. ‘Lucretius the Epicurean’, Entretiens Hardt 24 (1978) 1-37
44. Gage, J. Apollon romain (BEFAR 182). Paris, 1955
45. Gallini, C. ‘Politica religiosa di Clodio’, SMSR 33 (1962) 257-72
46. Gallini, C. Pro testa e integratione nella Roma antica (Bibi, di cultura moderna 698). Bari, 1970
47. Gesche, H. Die Vergottung Caesars (Frankfurter althist. Studien 1). Frankfurt, 1968
48. Glucker, J. Antiochus and the Eate Academy. Göttingen, 1978
49. Glucker, J. ‘Cicero’s philosophical affiliations’, The Question of 'Eclecticism'. Studies in Eater Greek Philosophy, ed. J. M. Dillon and A. A. Long, Berkeley, Los Angeles and London, 1988, 34-69
50. Gordon, R. L. ‘From Republic to Principate: priesthood, religion and ideology’, Pagan Priests, 179—98
51. Grafton, A. T. and Swerdlow, N. M. ‘Technical chronology and astrological history in Varro, Censorinus and others’, CQ 35 (1985)
454-65
52. Gratwick, A. S. ‘The satires of Ennius and Lucilius’, CHCE 11 (1982) 156-71
53. Griffin, M. ‘Philosophy, politics and politicians at Rome’, Philosophia Togata, 1-37
54- Grimal, Ρ. ‘Le роете de Lucrece en son temps’, Entretiens Hardt 24 (1978) 233-70
55. Grube, G. M. A. The Greek and Roman Critics. London, 1965
56. Hanson, J. A. Roman Theater Temples. Princeton, 1959
57. Hadot, I. Arts liberaux etphilosophie dans la pensee antique. Paris, 1984
58. Harris, W. V. ‘Literacy and epigraphy 1’, ZPE 52 (1983) 87-111
5 9. Heldmann, К. Antike Theorien über Entwicklung und Verfall der Redekunst (Zetemata 77). Munich, 1982
60. Horsfall, N. ‘Varro and Caesar: three chronological problems’, BIGS 19 (1972) 120-8
1008
Н. Религия и идеи
61. Horsfall, N. ‘Doctus sermones utriusque linguae?’, EMC 22 (1979) 85-95
62. Horsfall, N. ‘Prose and mime’, CHCL 11 (1982) 286-94
63. Jocelyn, H. D. ‘The Roman nobility and the religion of the Roman state’, JRH 4 (1966) 89-104
64. Jocelyn, H. D. ‘The ruling class of the Roman Republic and Greek philosophers’, BRL 59 (1976/7) 323-66
65. Jocelyn, H. D. ‘Varro’s Antiquitates rerum diuinarum and religious affairs in the late Roman Republic’, BRL 65 (1982/3) 148-205
66. Jones, С. P. ‘The Plancii of Perge and Diana Planciana’, HSPh 80 (1976)
67. Jones, D. M. ‘Cicero as a translator’, B1CS 6 (1959) 22-34
68. Keaveney, A. ‘Sulla and the gods’, Studies in Eat in Eiterature and Roman History in, ed. C. Deroux (Coll. Latomus 180), Brussels, 1983, 44-79
69. Köves-Zulauf, T. ‘Plinius d. Ä. und die römische Religion’, ANRUV η.16.i (1978) 187-288
70. Kroll, W. Die Kultur der ciceronischen Zeit. Leipzig, 1933
71. Kroll, W. ‘Tullius’ (29): ‘Die rhetorischen Schriften’, RE 7 A (1939) 1091—103
72. Kumaniecki, K. ‘Cicerone e Varrone. Storia di una conoscenza’, Athenaeum 40 (1962) 221—43
73. Le Bonniec, H. Ее culte de Ceres ä Rome des origines ä la fin de la Repub lique (Et. et commentaires 27). Paris, 1938
74. Le Gall, J. ‘Evocatio’, Mei. Heurgon 1 519-24
75. Le Glay, M. ‘Magie et sorcellerie a Rome au dernier siede de la Republique’, Mel. Heurgon 1 525—50
76. Leone, M. Tl problema del flaminato de Cesare’, Φιλίας Χάριν, Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni, ed. M. J. Fontana, M. T. Piraino and F. P. Rizzo, 1, Rome, 1976, 193-212
77. Liebeschuetz, J. H. W. G. Continuity and Change in Roman Religion. Oxford, 1979
78. Linderski, J. ‘Cicero and Roman divination’ PP 36 (1982) 12-38
79. MacBain, B. Prodigy and Expiation: a Study in Religion and Politics in Republican Rome (Coll. Latomus 177). Brussels, 1982
80. Malaise, M. Ees conditions de penetration et de diffusion des cultes egyptiens en Italie (Etudes preliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 22). Leiden, 1972
81. Marshall, A. J. ‘Library resources and creative writing at Rome’, Phoenix 30 (1976) 252-64
82. Melior, R. ΘΕΑ ΡΩΜΗ. The Worship of the Goddess Roma in the Greek World (Hypomnemata 42). Göttingen, 1975
83. Mitchell, T. N. ‘The leges Clodiae and obnuntiatio', CQ 36 (1986) 172-6
84. Momigliano, A. ‘Epicureans in revolt’, JRS 31 (1941) 151-7 ( = Secondo contributo alia storia degli studi classici, Rome, i960, 379—88)
85. Momigliano, A. Alien Wisdom. The Eimits of Hellenist ion. Cambridge,
1975
86. Momigliano, A. ‘The origins of universal history’, Univ. of London Creighton Lecture, ASNP 12 (1982) 533—60 (— Settimo contributo alia storia degli studi classici, Rome, 1984, 77-103)
Н. Религия и идеи
1009
87. Momigliano, A. ‘The theological efforts of the Roman upper classes in the first century b.c.’, CPh 79 (1984) 199-211 ( — Ottavo contributo alia storia degli studi classici, Rome, 1987, 261-77)
88. Moretti, L. ‘Chio e la lupa Capitolina’, RFIC 108 (1980) 33-54
89. Mysteries of Diana. The antiquities from Nemi in Nottingham museums. Castle Museum, Nottingham, 1983
90. Nock, A. D. ‘Religious developments from the close of the Republic to the reign of Nero’, СЛН x, ist edn, 1934, 465-511
91. Norden, E. Aus altrömischen Priesterbüchern. Die Spruchformel der Augurn auf der Burg (Skr. utgivna av Kongl. Humanistiska Vetenskabssamfundet i Lund 29). Lund and Leipzig, 1939
92. North, J. A. ‘Praesens divus’, rev. of Weinstock, Divus Julius, JRS 65
(1975) 171—7
93. North, J. A. ‘Conservatism and change in Roman religion’, PBSR 44
(1976) 1-12
94. North, J. A. ‘Religious toleration in Republican Rome’, PCPhS 25 (1979) 85-103
95. North, J. A. ‘Novelty and choice in Roman religion’, JRS 70 (1980) 186-91
96. North, J. A. ‘Diviners and divination at Rome’, Pagan Priests, 51-71
97. Pagan Priests. See Abbreviations
98. Paillier, J.-M. “‘Raptos a diis homines dici . . .” (Tite-Live 39.13): les Bacchanales et la possession par les nymphes’, Mel. Heurgon 11, 731-42
99. Paillier, J.-M. ‘La spirale de Interpretation: les Bacchanales’, Annales (ESC) 37 (1982) 929-52
100. Paillier, J.-M. ‘Les pots casses des Bacchanales’, MEFRA 95 (1983) 7-54
ιοί. Pedech, P. ‘Les idees religieuses de Polybe. Etude sur la religion greco- romaine au second siede av. J.-C.’, RHR 167-8 (1965) 35-68
102. Philosophia Togata. See Abbreviations
103. Price, S. R. F. Rituals and Power: the Roman Imperial Cult in Asia Minor. Cambridge, 1984
104. Rawson, E. ‘Cicero the historian and Cicero the antiquarian’, JRS 62
(1972) 33-45 ( = A 94A, 5 8-79)
105. Rawson, E. ‘Scipio, Laelius, Furius and the ancestral religion’, JRS 63
(1973) 161-74 ( = A 94A, 80-IO1)
106. Rawson, E. ‘Religion and politics in the late second century at Rome’, Phoenix 28 (1974) 19 3-212 ( = A 94A, 149-68)
107. Rawson, E. ‘The introduction of logical organisation in Roman prose literature’, PBSR 46 (1978) 12-34 ( = a 94A, 324-51)
108. Rawson, E. ‘L. Cornelius Sisenna and the early first century b.c.’, CQ 29 (1979) 327-46 ( = A 94A, 363-88)
109. Rawson, E. Intellectual Life in the Late Roman Republic. London, 1985
110. Rawson, E, rev. of Hadot, Arts liberaux, JRS 77 (1987) 214-15
in. Rohde, G. Die Kultsat^ungen der römischen Pontifices (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 25). Berlin, 1936
1010
Н. Религия и идеи
112. Scheid, J. ‘Le delit religieux dans la Rome tard-republicaine’, Le delit religieux, 117-71
113. Scheid, J. Religion etpiete ä Rome. Paris, 1985
114. Schilling, R. La religion romaine de Venus (BEFAR 178). Paris, 1954
115. Schilling, R. ‘La deification a Rome. Tradition latine et interferences grecques’, REL 58 (1980) 137-52
116. Schofield, M. ‘Cicero for and against divination’, JRS 76 (1986) 47-65 ii 7. Scullard, H. H. Festivals and Ceremonies of the Roman Republic. London,
1981
118. Simon, E. ‘Apollo in Rom’, JDAI 93 (1978) 202-27
119. Stahl, W. H. Roman Science: Origins, Development, and Influence to the Eater Middle Ages. Madison, WI, 1962
120. Süss, W. Cicero: eine Einführung in seine philosophischen Schriften. Mainz, 1966
121. Taeger, F. Charisma. Studien %ur Geschichte des antiken Herrscherkultes. 2 vols. Stuttgart, 1957 and i960
122. Tarrant, H. Scepticism or Platonism? The Philosophy of the Fourth Academy. Cambridge, 1985
123. Taylor, D. J. Declinatio: a Study of the Linguistic Theory of Marcus Terentius Varro. Amsterdam, 1975
124. Taylor, L. R. The Divinity of the Roman Emperor (Amer. Philological Ass. Philological Monographs 1). Middletown, CT, 1931
125. Thesleff, H. An Introduction to the Pythagorean Writings of the Hellenistic Period. Abo, 1961
126. Thesleff, H., rev. of della Casa, Nigidio Figulo, Gnomon 37 (1965) 44-8
127. Thesleff, H. On the problems of the Doric Pseudo-Pythagorica. An alternative theory of date and purpose’, Entretiens Hardt 18 (1971) 57-102
128. Turcan, R. ‘Religion et politique dans l’affaire des Bacchanales’, rev. of Gallini, Protesta, RHR 181 (1972) 3-28
129. Vermaseren, M. Cybele and Attis: the Myth and the Cult. London, 1977
130. Versnel, H. S. Triumphus. An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman Triumph. Leiden, 1970
131. Veyne, P. ‘ “Titulus praelatus”: offrande, sollenisation et publicite dans les ex-voto greco-romains’, RA (1983) 281-300
132. Vogt, J. ‘Zum Herrscherkult bei Julius Caesar’, Studies presented to D. M. Robinson, ed. G. E. Mylonas and D. Raymond, 11, St Louis, 1953, 1138- 46
133. Weinrib, E. J. ‘Obnuntiatio: two problems’, ZSS 87 (1970) 395-425
134. Weinstock, S. Divus Julius. Oxford, 1971
135. Williams, G. W. Change and Decline: Roman Literature in the Early Empire. Berkeley, 1978
136. Winterbottom, M. ‘Literary criticism’, CHCL 11 (1982) 33-50
137. Wissowa, G. Religion und Kultus der Römer. 2nd edn (Handb. der Altertumswissensch. v.4). Munich, 1912
138. Zeller, E. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 5 th edn, Leipzig, 1923
СПИСОК КАРТ
1. Римский мир около 118 г. до н. э 32
2. Италия и Сицилия 57
3. Центральная Италия 138
4. Понтийская область 157
5. Малая Азия 161
6. Центральная Греция 176
7. Лаций 214
8. Испания 244
9. Восток 258
10. Иудея 308
11. Египет 346
12. Галлия 427
13. Италия 478
14. Римский мир в 50 г. до н. э 657
список
ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Рим в последние два века Республики 88
2. Центр Рима в эпоху Поздней республики 413
УКАЗАТЕЛЬ'
Абгар, правитель Осроены 450 Аварик (совр. Бурж) 12 ВЬ, 459—460 авгуры, авгурии 224, 232, 841, 853, 856, 870 ~ выборы 211, 857 ~ в Урсоне 877
Август, император, см. Октавий, Гай Августин, св. 811,827,869
Аврелий Котта, Гай (консул 75 г. до н. э.) 193, 224, 237, 238, 240, 910
Аврелий Котта, Луций (консул 119 г. до н. э.) 107, 894
Аврелий Котта, Луций (консул 65 г. до н. э.) 378, 380, 566, 835, 912, 916
~ Аврелиев закон о смешанном составе присяжных 253, 255, 587, 608, 611,910
Аврелий Котта, Марк (консул 74 г. до н. э.) 239, 910
~ командование против Митридата 240, 262, 263, 265, 274, 275 Аврелий Опилл 830
Автроний Пет, Публий 377, 380, 389, 391, 396, 401, 595 сноск.
Агатархид Книдский 738 Агединк 12 ВЬ, 459 Агенобарб, см. Домиций Агид IV, царь Спарты 83 агитация, предвыборная 60, 65, 77 агнация 619, 622
аграрный вопрос 17, 21, 69—76, 692, 716—719, 883, 886
* Курсивом даны ссылки на карты (точнее — на номер карты) и на рисунки (на номер страницы). Внутри статей материал упорядочен преимущественно по хронологическому принципу, однако материал тематического свойства расположен в алфавитном порядке. (Некоторые объемные статьи имеют одновременно два раздела: в первом материал расположен в хронологическом порядке, во втором — в алфавитном; в таком случае эти разделы отделены знаком асгериска (*). — О.Л., С.Т) Ссылки на постраничные сноски даются только в тех случаях, когда на соответствующей странице основного текста объект не упомянут.
Указатель
1013
~ археологические свидетельства 15, 73, 85 ~ изгнание крестьян 21, 25, 70, 74
~ крупные поместья, латифундии, см. в статье сельское хозяйство ~ и миграция населения 694 ~ наследование наделов 80
~ нехватка государственной земли 503, 506, 507, 717 ~ оккупация 705, 710—711, 713, 716—718
~ превышение законных лимитов оккупации богачами 68, 70, 72, 77, 79, 231, 713, 717 ~ пастбищная земля 82, 106 ~ продажа наделов 80, 102, 105—107 ~ в Африке 104, 106, 109
~ разграничение государственной и частной земли 92, 106 ~ размер земельных владений 70—72, 80—83, 92, 97, 106—107 ~ рента 97, 102, 106
~ сдача земли в аренду цензорами 39, 42, 49, 81, 106 ~ состояние государственной земли 69—74 ~ и социальные условия в Италии 73—76
~ и союзники 79-82, 92, 93-95, 104-107, 119-120, 125, 128, 130-133, 149
~ «третья доля» 70 ~ цитаты 717
~ и человеческие ресурсы 883
Законы и законодательные мероприятия ~ Фламиниев закон (232 г. до н. э.) 68, 83, 84, 119 ~ закон об ограничении размера владений (до 167 г. до н. э.) 71 ~ законопроект Лелия (140 г. до н. э.) 77 ~ закон Тиберия Гракха 64, 79—85, 106, 125, 128, 699, 717, 890 ~ предложение об использовании доходов с Азии для финансирования 48, 85, 91, 890
~ земельная комиссия 79, 85, 91—92, 94, 104, 106 - закон Гая Гракха 42, 80, 84—85, 96, 102, 104, 127, 699, 718, 890 ~ закон Ливия Друза (122 г. до н. э.) 102 ~ Рубриев закон (121 г. до н. э.) 42, 102 ~ Ториев закон 106, 894
~ закон 111 г. до н. э. 17-18, 42, 45, 47, 80, 92, 104, 106, 118, 119, 651, 896
~ законы Сатурнина (104, 100 гг. до н. э.) 18, 115, 117—120, 122, 131, 860
~ закон Ливия Друза (91 г. до н. э.) 134, 904 ~ законопроект Сервилия Рулла (63 г. до н. э.) 388—391, 393, 916 ~ законопроект Флавия (60 г. до н. э.) 407, 918
1014
Указатель
~ Юлиев аграрный закон (59 г. до н. э.) 410—412, 414, 416, 418, 508, 850, 918
~ закон Мамилия—Росция—Педуцея—Аллиена—Фабия 508 ~ законопроект Куриона 468 ~ аграрный закон 44 г. до н. э. 536, 543 ~ конфискации второго триумвирата 550—551
см. также Африка, провинция (распределение земли); ветераны; земля; центуриация Агригент 7 Cd, 2 Be, 13 Be, 39 Адана 9 Сс, 297
адвокатская деятельность 617, 632, 867 Адгербал, царь Нумидии 43, 109 Адиабена 9 Ес
~ армянская оккупация 267, 269, 271 ~ парфянская оккупация 282 ~ римский контроль 285, 289 ~ повторная парфянская оккупация 293 администрация, местная 297, 507—510, 513, 887—889; см. также муниципии;
провинции Адора 10 Ас, 324 Адрамиттий 172 Адриан, император 36 адрогация (усыновление) 620 адуатуки 12 Ва, 433 азартные игры 230 Азеллион, см. Семпроний
Азиний Поллион, Гай (консул 40 г. до н. э.) 15, 510, 548, 796 сноск., 806 Азия, провинция 7 Ed, 5 Ab—Bb, 9 Вс, 14 Cb ~ завещана Риму 48, 85, 158, 261 ~ восстание Аристоника 49, 50, 155, 891
~ римское урегулирование и ад министр ация 31, 34, 48—50, 95, 98, 155, 660, 865, 891
~ предложение Тиберия Гракха об использовании доходов с Азии 48, 85, 90, 890
~ наместничество Сцеволы 642, 681, 865 ~ оккупация Митридатом 31, 168—173, 183, 197 ~ распоряжения Суллы 187, 287—289, 904 ~ в Третьей Митридатовой войне 240, 246, 262, 904 ~ распоряжения Лукулла 267, 273—277, 904, 910 ~ распоряжения Помпея, см. в статье Помпей Магн, Гней ~ пересмотр налоговых контрактов (59 г. до н. э.) 406, 414, 918 ~ воздействие гражданской войны 497 ~ политика Цезаря 486, 496—497
Указатель
1015
~ денежная система 727—729 ~ налогообложение и доходы
~ установления Аквилия 49, 660 - гракханские установления 85, 90, 97, 660, 677 ~ Митридатовы войны 171, 198, 275—276 ~ установления Суллы 187 ~ установления Лукулла 276 ~ установления Помпея 280, 299—300 ~ списание налогов при Цезаре 486, 496—497 ~ задолженность перед Римом 737—738 ~ экспорт зерна в Рим 725 Азот (Аптдод) 10 Ab, 320 Акбар, царь Осроены 294 акведуки 674, 701 сноск., 723, 750 Аквилея 7 Сс, 2 Ва, 13 Ва, 23
Аквилий Галл, Гай (претор 66 г. до н. э., юрист) 617 сноск., 640, 642, 644, 653 Аквилий Галл, Публий (трибун 55 г. до н. э.) 445, 447 Аквилий, Маний (консул 129 г. до н. э.) 49, 50, 585 сноск., 890 Аквилий, Маний (консул 101 г. до н. э.) 900
~ подавляет восстание рабов на Сицилии 40, 117 ~ на Востоке 50, 98, 155, 166, 169—172, 892, 905 ~ подозревается в коррупции 98, 155 Аквитания 12 Ас
~ поражение Луция Кассия 38, 112 ~ Помпей расселяет сторонников Сертория 248 ~ кампании Цезаря 444, 445, 466 ~ экспорт римского вина 709 Аквы Секстиевы (совр. Экс) 7 Вс, 38, 116, 895, 901 Акка (Птолемаида) 327 Аккон, вождь сенонов 457, 458 Акций, Луций 651,811 Алабанда 9 Вс, 878
албанцы (кавказское племя) 9 ЕЪ, 283, 285—287, 299 Алезия 72 ВЬ, 461, 920 Александр I, царь Египта 302
Александр Ш Великий, царь Македонии 153, 327, 356, 496, 527, 883 Александр, перипатетик 800
Александр, сын Аристобула П (иудейский царевич) 303, 442, 448, 919 Александр Балас 313, 314, 320 Александр Полигистор 801, 814 Александр Яннай, царь Иудеи 323 ~ войны 325—329
1016
Указатель
~ и религия 335, 339—340 ~ стиль правления 329, 331 ~ чеканка 331
Александра Саломея, царица Иудеи 290—291, 341, 930 «Александрийская война» 487 Александрион 9 Cd, 10 Bb, 291,328 Александрия, египетская 1 Ее, 9 Bd, 11 Аа, 14 СЪ ~ и Птолемей VTH Эвергет П 343, 344 ~ и наследование поздних Птолемеев 351, 906
- и Птолемей Авлет, см. в статье Птолемей XII
~ оппозиция Риму после восстановления Авлета 353—354 ~ Александрийская война 355, 486-Т87, 796, 923 ~ взятие Александрии Октавианом 355
*
~ библиотека 487, 796 ~ грамматики 810 ~ греки 344, 360 ~ иудеи 310, 329
~ отношение Юлия Цезаря 487-^189, 511
- торговля с Италией 726, 736 ~ храм Цезаря 525
Алерия 1 Сс, 2 Ас, 231
Алким (иудейский первосвященник) 312, 333 аллоброги 1ВЬ—СЪ, 12 ВЪ
~ войны с римлянами (122—120 гг. до н. э.) 38, 895 ~ посольство в Рим (63 г. до н. э.) 396—397 ~ восстание (62 г. до н. э.) 386, 398, 407, 414, 917 ~ и Ариовист 426 ~ и Верцингеториг 460 алчность 19—21, 40, 55, 881 Альба Лонга, ее цари 524 Альба Помпея 2 Ab, 237
Альба Фуцинская 2 Вс, 3(i) De, 13 Вс, 142, 143, 506 Альбин, см. Постумий Альбинован, Публий 220
Альбуций, Тит (претор ок. 105 г. до н. э.) 802—803, 868 сноск.
Альфен Вар, Публий (консул-суффект 39 г. до н. э.) 643, 644, 715 сноск.
Аман, горы 9 Сс, 299
Амасия 5 Da, 9 Cb, 153, 159—162, 297
Амастрида 4 Ab, 5 Ca, 9 Cb, 153, 158, 159, 297
Амат ювь,т,т
Амафиний 826
Амаций (Герофил, Лже-Марий), демагог 532, 782, 790
Указатель
1017
амбианы 12 Ва, 432
амброны 38, 115, 116
Америя, в Понте 160
Америя, в Умбрии 3(i) Cb, 13 Вс, 224
Амида 9 De, 269
Амис 4 Bb, 5 Da, .9 Ci, 154, 156, 158, 159
~ в Третьей Митридатовой войне 265, 266, 274, 275, 292, 913 ~ урегулирование Помпея (62 г. до н. э.) 297 Амитерн 3(i) De, 7J Zfc, 787 Амон 360
аморальное поведение (stuprum) 578 chock.
Амфиполь 9 Ab, 178 амфитеатры 785, 787, 896 амфоры 708, 721, 723 Анаита, ее культ 160
Анания (египетский полководец-иудей) 328 Андриск (претендент на трон Македонии) 46, 658, 662 Андроник Родосский 797 Аниса 299
Анкона 2 ВЬ, 3(г) Da, 13 Bb, 210, 212, 474 Анна Перенна, праздник в ее честь 786
анналисты 13, 17, 85, 86, 818; еж. также Кальпурний Пизон, Луций
Анней, Марк (легат в Киликии в 51 г. до н. э.) 672
Аннии (предприниматели в Кампании) 736
Анний Луск, Гай (претор 81 г. до н. э.) 233
Анний Луск, Тит (консул 153 г. до н. э.) 84
Анний Милон, Тит (трибун 57 г. до н. э.)
~ и возвращение Цицерона 433 - привлечен Клодием к суду 15, 438-440, 577 сноск.
~ претура 444
~ соискание консульства (53 г. до н. э.) 452 ~ вооруженная борьба с Клодием 453, 920 ~ убийство Клодия 456 ~ страх Помпея перед Милоном 458 ~ осужден за насильственные действия 460, 582, 610 Анний Хилон, Квинт 397 Анний, Тит (претор ок. 132 г. до н. э.) 91 Анний, Тит (квестор 119 г. до н. э.) 46 Антедон 10 Ас, 326 Антемны 221
Антигон Одноглазый, царь Македонии 153 антикварианизм 812, 821, 869—870 Антиох Ш Великий, царь Сирии 288
1018
Указатель
Антиох IV Эпифан, царь Сирии 306, 312, 324, 336, 343 Антиох IX Кизикский, царь Сирии 324, 339 Антиох V, царь Сирии 333 Антиох VI, царь Сирии 314
Антиох VH Сидет, царь Сирии 292, 309, 316—318, 321—322
Антиох X Эвсеб, царь Сирии 292
Антиох ХШ Филадельф, царь Сирии 270, 289, 352
Антиох, царь Коммагены 289, 295
Антиох Аскалонский 801, 828—830 сноск., 831, 833
Антиохия, в Сирии 9 Сс, 14 СЬ, 467, 525
Антипатр, царь Малой Армении 162
Антипатр из Дербы 299
Антипатр Идумейский 304, 341, 353, 446, 487
Антистий, Публий 191, 207, 218
Антистий Регин, Луций (трибун 104 г. до н. э.) 113
Антистия (жена Помпея) 222
Антоний, Гай (претор 44 г. до н. э.) 532, 536, 537, 544, 552 Антоний, Луций (трибун 44 г. до н. э.) 536, 740 Антоний, Марк (консул 99 г. до н. э.) 900
~ война против пиратов 117, 121, 278, 573, 900, 901 ~ суд по обвинению в нарушениях при соискании (ambitus) 595 сноск. ~ и Норбан 672 сноск.
~ смерть 204
~ интеллектуальные интересы 793 сноск., 795, 803 Антоний, Марк (претор 74 г. до н. э.) 240, 910 Антоний, Марк (консул 44 г. до н. э., триумвир)
~ с Габинием в Египте 353, 446 ~ авгур 470
~ трибун, обличает Помпея 472-473 ~ сопровождает Цезаря в походе на Рим 475 ~ созывает сенат 482 ~ переправляется на Восток 485 ~ начальник конницы в Италии 486, 488, 518, 533, 922 ~ фламин Божественного Юлия 522, 524 ~ консульство 926 ~ после смерти Цезаря 529—535 ~ законодательство 494, 535—539, 543—544, 608, 926 ~ добивается расположения ветеранов Цезаря 535—539, 858 ~ и «освободители» 536—539 ~ временное примирение с Октавианом 538 ~ нападки Пизона 539 ~ враждебность Цицерона 539, 542—545 ~ объявлен врагом 547, 550 ~ вражда с Октавианом 539—581, 926—927
Указатель
1019
- примирение с Октавианом и создание второго триумвирата 546,
550, 551, 926
- проскрибирует
~ Цицерона 550—552 ~ Берреса 669 ~ и Клеопатра 355 ~ портрет у Саллюстия 49 Антоний Бальб, Квинт 218
Антоний Гибрида, Гай (консул 63 г. до н. э.) 238, 252, 387—388, 390, 405, 415, 916
Антоний Гнифон, Марк 793 сноск., 810 Антремон (галльская цитадель) 38 Анхарий, Квинт 204
Анций (совр. Анцио) 2 Вс, 3(0) Аа, 7 Вс, 13 Вс, 203, 798 Анций Бризон (трибун 137 г. до н. э.) 77, 84 Анций Рестион, Гай 367 аорсы 9 Еа, 287
Апамея, во Фригии 7 ВЪ, 9 Вс, 14 СЬ, 171 сноск., 261, 264, 295 ~ Апамейский мир 158, 257, 660 Апелликон Теосский 175, 797 апелляция, судебная 86, 392, 539
~ отсутствие в гражданских делах 645 Апис, его культ 350 апокрифы 310
Аполлодор; стихотворная хроника 822
Аполлон, его культ 31, 875—876
Аполлоний Молон 801, 803
Аполлония, во Фракии 7 De, 4 Ab, 14 Bb, 163, 173
аппариторы 672, 756, 774
Аппиан 14, 15, 551, 882
~ его источники 17, 22, 71 Аппулей Дециан, Гай 599 сноск.
Аппулей Сатурнин, Луций (трибун 103, 100 гг. до н. э.) 16, 115—124, 900 ~ обвиняет понтийское посольство в подкупе 117, 165 ~ аграрный закон 18, 115, 117—119, 123, 130—132, 860, 900 ~ и снабжение зерном 102, 118, 900 ~ закон об умалении величия 597—598 ~ смерть 121
~ суд над Рабирием за бессудное убийство Сатурнина 392, 397, 578 сноск.
*
~ и Метелл Нумидийский 123 ~ насильственные методы 104, 121, 124, 166 ~ отношение античных авторов к Сатурнину 22
1020
Указатель
~ политическая программа 779, 885
~ и расселение ветеранов 45, 115, 118—120, 123, 130—132, 502, 900 Апулей (главарь испанских разбойников) 36 Апулия 2 Вс
~ перераспределение земли 91 ~ в Союзнической войне 137, 140, 142, 147 ~ при Сулле 230
~ упадок сельской местности 386, 394 ~ восстание рабов 394 ~ в гражданской войне 49—46 гг. до н. э. 476 ~ виноградарство 709, 723 арабы 270, 284; см. также набатеи Арат 812, 817, 834
Араузион (совр. Оранж) 7 Вс, 38, 51, 52, 113, 899
арверны 7 ВЬ—с, 72 ВЬ, 38, 426, 458, 460, 894
аргеи, их святилища 775
Аргос 7 Dd, 47
ареваки 8 Ва, 35
Арелат (совр. Арль) 14 Аа, 501
аренда 741
арендатор, его имущественные права 624, 647 арендная плата 516—517, 711, 715, 718, 739, 740 Арет из Петры 289
Ариарат V Эвсеб Филопатор, царь Каппадокии 298 Ариарат VI Эпифан, царь Каппадокии 154, 155, 164 Ариарат VTH Филометор, царь Каппадокии 165 Ариарат IX, царь Каппадокии 165, 168 Ариарат, каппадокийский царевич 519 сноск.
Аримин (совр. Римини) 1Сс, 2 Bb, 3{i) Са, 13 ВЪ, 14 Ва, 202, 217—220, 475 Ариобарзан Киосский 153
Ариобарзан, царь Каппадокии 166, 879; см. также в статье Каппадокия Ариобарзан, царь Понта 154 Ариовист (вождь свебов) 414, 426, 429, 430, 919 Аристион (афинский политик) 174—175, 177, 178, 181, 183 Аристобул I (иудейский первосвященник) 323, 325, 329 Арисгобул П (иудейский первосвященник) 290, 291, 303, 341, 442 Аристогитон, его скульптурная голова с Капитолия 87 аристократия, см. высшие классы
Аристоник (Эвмен Ш, претендент на пергамский трон) 49, 50, 155
Аристотель 797, 823
Ариция 3{i) Сс, 3(й) Аа, 7 ВЬ, 203
Аркафий, понтийский царевич 178, 179
Аркесилай (философ) 831
Указатель
1021
арки, монументальные, см. в статье Рим Армения, Великая 1ЕЬ, 9 Db—Eb, Ί4 Cb, 156
~ приход к власти Тиграна 166, 266, 903 ~ союз с Понтом 166 ~ вторжение в Каппадокию 167, 903 ~ завоевания 156, 266, 293, 296 ~ в Третьей Митридатовой войне 266—268, 913
- вторжение Лукулла 268—273, 363, 913 ~ занимает Каппадокию 273, 278, 913
~ сдается Помпею 281, 282, 913 ~ и парфяне 282, 293, 294 ~ уход из Сирии 289
~ наступление Габиния на юг Армении 293 ~ урегулирование Помпея 295, 299 ~ посольство в Армению, предложенное Клодию 416 ~ и парфянский поход Красса 450 Армения, Малая 4 СЬ, 5 ЕЪ, 9 Db, 156
~ понтийская гегемония 154, 160, 162 ~ в Третьей Митридатовой войне 266 ~ передана Дейотару 299 армия, римская 51—120
~ вольноотпущенники в армии эпохи Августа 755 ~ в гражданских войнах 497, 550
~ добыча 541, 543, 483, 547, 548, 550, 553, 554 ~ наделение землей 531, 532, 535—538, 541, 712, 716, 719, 883 ~ рост численности 550
- затраты провинциалов на содержание армии 677, 678 ~ имущественный ценз для службы в армии 51, 52, 54 ~ казни в упрощенном порядке 249, 567 сноск., 570
~ конница см. отдельную статью ~ легковооруженные войска 35, 53, 54
- набор 51-52, 54, 74, 77, 79, 80, 111-112, 115, 694, 714, 882 ~ обжалование 567
~ политическая власть, основанная на поддержке армии 23, 24, 27, 553, 554
~ полицейский надзор в Риме 515 ~ пределы законного использования армии 565, 670 ~ реформы Мария 52—54
- снаряжение 52, 53, 710
~ в Союзнической войне 141—142 ~ союзные войска 35, 53, 79, 93, 115, 119, 131, 697 ~ тактическая организация 52—54 ~ тяжеловооруженная пехота 56
1022
Указатель
~ чеканка, военная 727, 728 см. также снабжение, военное; ветераны Арпин 2 Вс, 3(0) Ва, 7J Вс, 84, 105, 110, 508 Арреций (совр. Ареццо) 2 Bb, J(z) 5а, 7J 5έ, 231, 475, 507, 720, 724 Аррий, Квинт 249, 419 Арсиноя (египетская царевна) 355, 487, 490 Артавазд, царь Армении 450 Артаксата 9 ЕЪ, 267, 271, 281, 282, 285, 293 Артаксий, царь Армении 267 Артан, правитель Софены 267 Арток, царь иберов 286 Архелай (полководец Митридата VI)
~ в Первой Митридатовой войне 169, 171, 175, 177, 179—183, 905 ~ и Дарданский мир 186, 188, 905 ~ получает землю от Суллы 47
- подталкивает Мурену к походу 188 Архелай, царь Команы и Египта 297, 302, 353, 443, 446 археология 15, 17—18
~ о вилле в Сеттефинестре 709 сноск.
~ о Делосе 735
~ о затонувших кораблях 73, 722, 725 ~ о земельных владениях 72—73, 714, 717 ~ о лавках 762
~ о распределении населения 700 ~ о романизации местных общин в Галлии 500
- о сельском хозяйстве 15, 73, 703 ~ о храмах в Риме 848
~ об испанских рудниках 721—723 ~ об италийских городах 94, 127 ~ об иудеях 311
~ об экономической экспансии 692 Архий (поэт) 801 архимедов винт 35 архитектура
~ греческое влияние 127, 785 ~ италийская 127, 785, 790, 887 ~ налог на колонны 516 ~ сочинения Варрона 811 ~ хасмонейская 330—331
см. также амфитеатры; арки; гробницы; дома; общественные работы; Помпей Магн, Гней; Рим; театры; храмы; Юлий Цезарь, Гай
Асиций, Публий (агент Птолемея Авлета) 438
Указатель
1023
Аскалон ΊΟ Ab, 320 Асклепиад 797
Аскул 2 Bb, 3(i) Db, 13 Bk, 94, 136
~ в Союзнической войне 137, 144, 146, 190, 207, 904 Аспида 288 ассидуи 51, 74 астрология 815, 874 астрономия 513, 812, 817, 826, 834 Астура, вилла Цицерона в ней 798 сноск. астуры 8 Аа—Ва, 445
Атей Капитон, Гай (трибун 55 г. до н. э.) 445, 447 Ателла 3(0) Вс, 507 Атесте 13 ВЬ
~ Атестинский фрагмент 633 сноск., 649, 653 атребаты 12 Ва, 432 Атрибис 11 Аа, 352 Атропатена 9 Ec—Fc, 267, 283, 293, 299 Аттал П, царь Пергама 154 Аттал Ш, царь Пергама 48, 85, 91, 158, 262, 890 Аттий Вар, Публий (пропретор Африки 49 г. до н. э.) 483 Аттик, см. Помпоний аттические тетрадрахмы 48 Атуатука 454 Ауксим 3(г) Da, 13 Bb, 476 аукционисты 508, 731 ~ кредит 740 Аускул 3(0) Da, 13 Сс, 147 ауспиции 855, 860 Ауфид, река 3(0) Da, 147 Афелла, см. Лукреций Афиней 174
Афинион (вождь сицилийского восстания) 40 Афины 1 Dd, 6 Cb, 9 Ac, 14 Bb
~ возвращение Делоса Афинам 31, 735 ~ свободный город 48 ~ при Аристоне 174—178, 181, 183
~ в Первой Мигридатовой войне 173, 174—179, 181, 275, 801, 830, 905 ~ пребывание Суллы 187 ~ верность Помпею (48 г. до н. э.) 496
*
~ Академия 178, 645, 801, 824, 830, 831, 834 ~ Акрополь 177, 178 ~ Гептахалк 178
1024
Указатель
~ Длинные Стены 177
~ интеллектуальная жизнь 538, 644, 801, 824, 830, 831, 836; см. также отдельных философов ~ Ликей 178, 830 ~ Одеон 178, 348 ~ право 647—648 ~ чеканка 728, 761
Афраний, Луций (консул 60 г. до н. э.)
~ претор в Испании 255 ~ легат Помпея на Востоке 294 ~ консульство 405, 408, 918 ~ и восстановление Птолемея Авлета 438 ~ в гражданской войне 483 Африка, континент
~ египетская торговля с Африканским Рогом 31 ~ нашествие саранчи в 125 г. до н. э. 58, 95 см. также отдельные государства и Африка, провинция Африка, провинция 7 Cd, 2 Ае, 13 Ае, 14 ВЬ
~ П в. до н. э., события и администрация 31, 41—45 ~ командование Сципиона Эмилиана 111, 665 ~ римские и италийские поселенцы 31, 41—42, 44, 45, 102—104, 702 ~ распределение земли 18, 41—42, 45, 104, 106—107, 109 ~ попытка Гая Гракха основать колонию 18, 72, 101—104 ~ и Югурта, см. война, Югуртинская
- расселение ветеранов Мария 115, 131, 900
- изгнание Мария в Африку 197, 906
- Метелл Пий в Африке 203, 206, 213
~ в гражданской войне 83—81 гг. до н. э. 217, 221, 222, 908 ~ вымогательства Каталины 372, 378, 383
~ в гражданской войне 49—46 гг. до н. э. 483, 488-^90, 497, 509—511, 922-924
~ колонии ветеранов Цезаря 501—502, 755 ~ сельское хозяйство 707, 708, 726 «Африканская война» 494
Афродисиада 7 Ed; 5 ВЬ, 9 Вс, 14 СЪ, 49, 170, 187, 189, 497, 864 Афродита, ее культ 866; см. также Венера Ахайя, провинция 9 Ас, 14 ВЬ
~ римское завоевание и организация 30, 46, 47, 48, 662 ~ закон об основании колоний 119—120 ~ и Митридат VI 175 ~ командование Сулышция Ру фа 495 см. также Греция ахеи (кавказское племя) 163
Указатель
1025
Ахилла (египетский регент) 355 Ацерры 2 Аа, 3 (гг) Вс, 142, 143 Ацилий Глабрион, Маний (консул 191 г. до н. э.) 661 Ацилий Глабрион, Маний (трибун 123 г. до н. э.) 586 Ацилий Глабрион, Маний (консул 67 г. до н. э.) 914 ~ развод с Эмилией 222
~ командование на Востоке 273, 279, 369, 373, 376, 665 ~ сменен Помпеем 376 Атцдод (Азот) 10 Ab, 320 аэрофотосъемка 18, 42
Баград, долина 2 Ае, 43, 44 базилики, см. в статье Рим Байи 367, 369 Бактрия 287
Балеарские острова 1 Bc—d, 8 Db, 119, 893 Бальб, сж. Антоний; Корнелий; Торий бани, общественные 784
банковское дело 303, 627, 648 сноск., 730, 731, 736 ~ в провинциях 676, 734, 737 см. также заимодавцы; менялы банкротство, добровольное 517 Банция 2 Сс, 3(0) Db, 13 Сс
~ Банцийская таблица 116, 118, 861 сноск.
Барба (легат Лукулла) 264 бардиеи (телохранители Мария) 204, 205 Бебий (трибун 103 г. до н. э.) 115, 116 бедность
~ понятие 21—22, 757—758 ~ взаимосвязь с богатством 20—22, 40—41 белги 12 Ва, 432, 919 Беллиен, Луций 387 сноск. белловаки 12 В а, 432, 464, 921 Беневент 2 Вс, 3(0) Вс, 143 Беотия 6 ВЬ, 47, 175, 177, 179-183, 265 Береника IV, царица Египта 302, 353, 354, 437, 929 ~ супруги 437, 443 ~ смерть 353, 446 Бероя 9 De
~ битва при Берое 292 Бестия, см. Кальпурний бесчестье, гражданское (infamia) 631, 647 Бет-Цур юАЬ,т,т
1026
Указатель
библиотеки 796— 798, 801
~ в Александрии 487, 796 ~ в Афинах 187
~ Митридата 797, 798, 804 сноск.
~ публичные в Риме 512—513, 796, 806 ~ частные римские 798, 801, 832 Библия 310, 330 Бибракте 12 ВЪ, 428, 463 Бибул, см. Кальпурний Бигга, остров 352 Бизерта 2 Ad, 42 Бильбилис 8 Са, 243, 247 Битуит, вождь арвернов 38 битуриги 12 Ab—Bb, 458, 459, 464 благовония 31, 738, 748, 754, 761 благодеяния (beneficia) 66
~ в адрес римского плебса 752, 767, 782—791 Блазион, см. Корнелий Блоссий, Гай, из Кум 90 Бовиан 3(0) Са, 146, 147, 506 Бовиллы 7 ВЬ, 456, 920 богатство
~ Азии 276-277
~ и гибель Республики 19—21, 881—882 ~ доходы от империи 70, 72, 368, 882—883, 886 ~ женщин 623—624
~ инвестиции в сельское хозяйство 70, 72, 77, 128, 346, 713—714, 734, 741, 883
~ и политическая власть 59, 65, 75—76, 98, 109 ~ связь с бедностью 20, 21, 40-41 ~ и Цезарь 494, 515—517
боги
~ вмешательство в события 839 ~ идентификация с ведущими политиками 862—866 ~ иноземные 322, 872, 876—877 ~ персонификации Рима 878 см. также божественность и отдельных богов бодмерея (traiecticia pecunia, морской займ) 732—733 божественность и Цезарь 493, 522, 525—526, 860—866, 875 божество, см. божественность, боги бойи 429
Бокх, царь Мавретании 44, 115, 489 борьба сословий 56, 62, 856—857 Боспор, Киммерийский, см. Крым
Указатель
1027
брак, правовое регулирование 618—621 Брант, П.А. 27, 70 бревиарии 152 Британия 12 Аа, 14Аа
~ кампании Цезаря 445, 447^449, 919, 921 ~ снабжение наместника зерном 675 сноск.
~ рудники 720, 735 Брогитар, тетрарх Галатии 423
Брундизий (совр. Бриндизи) 7 De, 2 Сс, 13 Сс, 14 ВЬ, 213, 726, 735 ~ в гражданской войне 476, 480, 484, 486, 533, 540 Брут, см. Юний Брутобрига 36
Бруттий 2 Cd, 224, 231, 704, 705 Бруттий Сура, Квинт 175, 188 Булла Регия 7 Cd, 2 Ае, 45 буллы Александра Янная 331 Буребисга, царь даков 426, 485 Бутрот 14 ВЬ, 503
~ надпись 767
Бухие, его культ в Гермонтисе 350, 354 Бэдиан, Э. 26
Вавилонский Талмуд 311
Вади Кельт, зимний дворец Хасмонеев 331
ваккеи 7 Ас, 8 Ва, 34, 445, 668
вакханалии, культ 581 сноск., 610, 846, 873—874
Вакхид (полководец Селевкидов) 313
Валенция 8 СЪ, 36, 245, 246, 247
Валерий (офицер гарнизона Остии) 201—202
Валерий Анциат (анналист) 819
Валерий Катулл, Гай (поэт) 674, 817, 832 сноск., 872, 886 Валерий Максим (историк) 614
Валерий Мессала Нигер, Марк (консул 61 г. до н. э.) 402, 403, 435, 916 ~ цензор (55 г. до н. э.) 444, 920 ~ интеррекс (55, 53, 52 гг. до н. э.) 918, 920 Валерий Мессала Руф, Марк (консул 53 г. до н. э.) 453, 463 сноск., 920 Валерий Триарий, Гай (легат Лукулла) 265, 272, 274 Валерий Флакк, Гай (консул 93 г. до н. э.) 36—37, 210 Валерий Флакк, Гай (фламин Юпитера в 209 г. до н. э.) 841 сноск.
Валерий Флакк, Луций (консул 100 г. до н. э.) 117, 207, 226, 900, 908 Валерий Флакк, Луций (консул-суффект 86 г. до н. э.) 182, 183, 185, 206, 207, 210,906
Валерий Флакк, Луций (претор 65 г. до н. э.) 391 сноск., 420 Валерия (жена Суллы) 233
1028
Указатель
Валь-ди-Диано 3(0) Db, 704 ~ надпись 41, 91—92 Вар, см. Альфен; Аттий
Варгунтей, Луций (катилинарий) 378, 395, 396, 401 Вариев суд (quaestio Variana) 136, 190, 192—193, 598, 904 Варии, братья (римские рабовладельцы на Сицилии) 41 Варий Гибрида, Квинт (трибун 90 г. до н. э.) 36, 136, 591 сноск.
Вариний, Публий (претор 75 г. до н. э.) 249
Варрон, см. Теренций
Ватиний, Публий (консул 47 г. до н. э.)
~ и Юлиев аграрный закон 412 ~ и благодарственные молебствия Помптина 414 ~ Ватиниев закон о командовании Цезаря 417 ~ легат Цезаря 417
~ нападки Цицерона на него 439, 815, 872 ~ претура 444 ~ консульство 924 вдовы 625
ведение дел (negotiorum gestio) 627—628 Везонтион (совр. Безансон) 12 ВЬ, 429, 430, 432 Везувий, гора 3(0) Вс, 249 Вейи 7 Аа, 13 Вс, 507, 855 вектигаль (налог) 661, 733
~ эдильский сбор (vectigal aedilicium) 680 Великая Мать 160, 876
«величайшие комиции» (comitiatus maximus) 579 сноск.
Велия 1 Cd, 2 Вс, 3(0) Се, 31
Веллей Патеркул, Гай 137, 145, 174—175, 228, 699
Венафр 3(0) В а, 13 Вс, 142, 721
Венера, ее культ 864—865
~ и Цезарь 497, 502 сноск., 511—512, 525, 864—865 венеты, в Трансальпийской Галлии 12 Ab, 440, 919 венеты, в Цизальпийской Галлии 2 Аа—Ва, 130 Вентидий, Публий, полководец в Союзнической войне 142 Вентидий Басс, Публий (консул-суффект 43 г. до н. э.) 510, 548, 552, 553, 926 Венузия 2 Сс, 3(0) Db, 13 Сс, 137, 142, 143, 147, 386 сноск.
Вераний; его сочинение о религиозных обрядах 870 Вергилий 687, 703
~ Псевдо-Вергилий, «Завтрак» 706 Вергилий (или Вергиний), Марк (трибун 87 г. до н. э.) 199 Веррес, Гай (претор 74 г. до н. э.)
~ квестура 671—672 - присоединяется к Сулле 213
Указатель
1029
~ легатство 673
~ городская претура 372, 616, 673, 847 ~ наместник Сицилии 242, 250, 352, 911 ~ его писец 673
- судопроизводство 242, 568, 633, 673, 681 ~ финансы 675, 676, 680
~ судебное обвинение 253—255, 363, 365 сноск., 374, 668, 684, 685, 912 ~ в Массилии, проскрибирован 670 Верцеллы 2 Аа, 117, 901
Верцингеториг, вождь арвернов 458-462, 490, 921 Веспасиан, император 332 весталки 224, 402, 841
~ целомудрие 106, 840, 844, 858, 896 вестины 3{i) Dc—Ec, 137, 146 ветераны 717, 883
~ колонии П в. до н. э. 34, 36, 39, 502, 659
~ колонии Мария и расселение Сатурнина 45,112, 115, 119, 120, 122, 131, 382, 502-503, 900
~ сулланские колонии 230—231, 235, 385—386, 507, 605, 694, 722, 755 ~ трудности мелких землевладельцев в 60-е годы до н. э. 385—386 ~ расселение ветеранов Помпея 255, 389, 405, 407, 408, 411 ~ и Юлиев аграрный закон 411, 412 ~ колонии Цезаря 501, 506—508, 536, 554, 755 ~ реакция на смерть Цезаря 529—531
~ попытки завоевать их поддержку на войне 531—533, 536, 538, 540, 541, 883
~ истребление при Галльском Форуме 552 ~ расселения второго триумвирата 551 Веттий (римский рабовладелец на Сицилии) 41 Веттий, Луций (доносчик) 401, 418-419, 420 Ветгий Скатон, Публий (претор пелигнов) 142, 143, 146, 904 Ветурий Кальвин, Тиберий (консул 321 г. до н. э.) 78 Вибий Панса Цетрониан, Гай (консул 43 г. до н. э.) 495 сноск., 536, 542 ~ консульство 543—545, 626 ~ смерть 546—547, 553 Вибон 13 Cd, 506
Видацилий, Гай (аскульский полководец) 142—144, 146, 147 Византий (совр. Стамбул) 1 Ес, 4 Ab, 5 Ва, 9 ВЪ, 169, 185, 423 виллы 367, 369, 722, 798-799
~ поместья 72—73, 705, 709 сноск., 711, 714—716 виноделие и виноторговля 692, 705, 706, 715, 765 ~ в Галлии 709 ~ греческое 708, 736
1030
Указатель
~ давильни для винограда 73, 706 ~ в Испании 710
~ италийский экспорт 73, 709, 723—725, 735, 736—737 ~ в Кампании 709 ~ потребление 706, 709, 765, 766 ~ сезонная работа 765 Вириат (вождь испанцев) 34, 36, 52 виромандуи 12 В а, 432 Витрувий Поллион 703, 789, 811 Вифиний 1 С а, 169
Вифиния 1 Ес, 4 Ab, 5 Ва, 9 ВЬ, 74 Са—Ъ ~ при Никомеде I 153, 154 ~ при Прусии 30 ~ при Никомеде П 49
~ при Никомеде Ш 50, 163, 164, 166, 897, 903 ~ при Никомеде IV 166, 167, 169, 170, 185, 903 ~ и условия Дардапского мира 183, 186, 257 ~ смерть Никомеда, завещание царства Риму 240, 261, 911
*
~ как римская провинция 14 Са—Ь
~ в Третьей Митридатовой войне 240, 246, 262, 263, 279, 369, 376, 665 ~ распоряжения Помпея 297, 298, 300, 365 ~ поездка Катулла 674 ~ наместничество Пансы 495 сноск. власть (potestas) 617; см. также отцовская власть влияние (gratia) 66, 367; см. также обязательства внешняя политика 29—30, 60, 422, 659—661
~ ограничение полномочий наместников 567, 670 ~ сенатские комиссии 36, 41, 43, 49 см. также дипломатия, посольства водоснабжение 723, 750, 772, 775 сноск. война и приемы ее ведения
~ гражданские 22—23, 26, 27, 692 ~ воздействие на демографию 699 ~ командование магистратов 58 ~ и обогащение 70, 71, 729 ~ право объявления 60, 280
~ предоставление гражданства на поле 131, 147, 673—674, 684 ~ и религия 840, 841, 854—856, 875—876 ~ и финансы 552—553, 692
см. также в статьях армия; проценты по займам; репарации; рабы (военнопленные); флот и статьи об отдельных войнах война, Александрийская (48-47 гг. до н. э.) 355, 486—487, 796, 923 война, гражданская (80-е годы до н. э.) 20, 22—23, 148, 213—223, 906, 908
Указатель
1031
- влияние на Митридатовы войны 141, 172, 186 война, гражданская (49-43 гг. до н. э.) 475-492
~ марш Цезаря на Рим 475—477, 922 ~ Помпей и консулы покидают Италию 479, 922 ~ переговоры между Цезарем и Помпеем 479-481 ~ Цезарь в Риме 476, 481—482 ~ осада Массилии 482, 483, 923 ~ кампания в Испании 476, 482, 483, 923 ~ мятеж в Цизальпийской Галлии 483 ~ диктатура Цезаря и его избрание консулом 483—484, 922 ~ морские операции на Адриатике 485
~ кампания на Балканах, победа Цезаря при Фарсале 355, 485—486, 488, 497, 518, 923 ~ кампания в Египте 486—487 ~ победа Цезаря над Фарнаком при Зеле 488 ~ беспорядки в Риме и Кампании 488, 489 ~ кампания в Африке 483, 488-490, 497, 510, 923—925
- триумфы Цезаря в Риме 490
~ кампания в Испании 490—491, 520, 521 ~ восстание Цецилия Басса в Сирии 491 ~ войны после убийства Цезаря 21, 529—555
*
~ армии
~ земельные наделы 506—508, 532, 533, 536—537, 543, 544, 547, 712-713, 716-719, 883 ~ подарки 540-541, 543, 547-550, 552-554 ~ рост численности и политическая сила 550—551 война, Союзническая 125—150, 692, 883—884, 904 ~ предыстория 125—136 ~ начало 136—137, 904 ~ организация повстанцев 140—141 ~ войска римлян и мятежников 141—142, 143 ~ военные действия 142—148, 190 ~ послевоенное урегулирование 145—146, 148—150, 190 ~ суды согласно Бариеву закону за подстрекательство 136, 141—142, 190, 192-193, 598, 904
*
~ влияние на Митридатову войну 166, 168, 172
- исторический труд Сизенны 818
~ послевоенный финансовый кризис в Риме 198 ~ сплачивает сенаторское и всадническое сословия 254 ~ число погибших 699 война, Третья Македонская 51, 187, 656 война, Югуртинская 43—45, 54, 115, 164, 896—897, 899
1032
Указатель
~ оборона Цирты 129, 897
~ политический кризис в Риме 44, 107, 108—109, 898—899
- командование Метелла 108, 111, 664—665
~ участие Мария 44, 50, 51, 110—112, 115, 191, 664—665, 898—900 ~ римская тактика 44—45, 51, 52, 54 войны, Галльские 919, 921
~ Цезарь набирает войско 428 ~ кампании 58—57 гг. до н. э. 426, 428—433, 436, 919 ~ кампании 56 г. до н. э. 439-441, 919
~ Публия Красса в Аквитании 444, 445 ~ Цицерон предотвращает назначение Цезарю преемника 440-441 ~ продление полномочий Цезаря на пять лет 445, 920 ~ германские кампании 445, 447, 919 ~ британские кампании 445, 447^49, 919—921 ~ неудачи (54—53 гг. до н. э.) 449, 451, 454, 921 ~ восстание Верцингеторига 458-462, 921 ~ завершающие кампании (51—50 гг. до н. э.) 463—465, 921 ~ строительство Цезаря, финансируемое за счет добычи 454, 511 войны, Митридатовы
- Первая
~ начало 162, 167-168, 905 ~ завоевание Азии Митридатом 168—173, 198, 905 ~ Сулла получает командование 191, 193, 195, 197, 665, 904 ~ осада Родоса 174, 905
~ распространяется на Грецию 173—175, 177, 905 ~ Сулла принимает командование 199, 906 ~ осада Афин и Пирея 177—179, 830, 907 ~ битвы в Беотии 179—183, 265, 907 ~ реакция против Митридата в Азии 183—186 ~ Флакк назначен на смену Суллы, Фимбрия убивает его и занимает его место 182, 185, 207, 906—907 ~ Фимбрия блокирует Митридата в Питане 185, 207—208, 907 ~ Дарданский мир 183, 185—186, 188, 207—208, 240, 257, 260, 970
~ урегулирование в Азии (85—84 гг. до н. э.) 187—188, 275, 907
- Сулла как победитель 188—189, 227
- влияние внутренних римских войн на нее 144, 167, 168, 172,
246
~ миграция греков в Рим 801 ~ Вторая 160, 188, 240, 257, 260, 907
- Третья 262-299, 911, 913, 915, 917
~ кампании в Вифинии 262—265 ~ победы Рима на море 264
Указатель
1033
- кампании в Понте 265—268, 273—275, 913
~ Митридата удерживает Тигран 266, 267, 913 ~ римское вторжение в Армению 268—273, 296, 363, 913, 915 ~ помощь Митридата Тиграну 156, 270 ~ контакты Лукулла с Парфией 269, 270—272, 281, 293 ~ отступление Лукулла из Армении 272—273 ~ урегулирование Лукулла в Азии 275—277, 913 ~ Лукулл сменен 273, 277-278, 279, 280, 281, 367, 369, 376, 378-379
~ Мигридат возвращает себе весь Понт 272, 279, 915 ~ Тигран занимает Каппадокию 273, 915 ~ командование Ацилия Глабриона 273, 279, 369, 373, 376, 665 ~ о командовании Помпея см. статью Помпей Магн, Гней
- отступление Митридата, его низложение и смерть 282—284,
291-292, 915, 917
~ урегулирование Помпея 282—283, 288—289, 291, 292, 294—301, 436, 679, 917
~ миграция греков в Рим 801—802 ~ добыча 367 войны, Пунические
- Первая 363, 661, 677, 840
~ Вторая 34, 37, 39, 51, 52, 53, 62-63, 70, 74, 581, 655-656, 661, 677, 699, 714, 840 ~ Третья 155 воконтии 12 ВЬ—с, 38
Волатерры (совр. Волтерра) 2 Ab, 3(i) Λα, Ab, 221, 231, 507, 510, 731, 908 Волкаций Тулл, Луций (консул 66 г. до н. э.) 373—374, 378, 438, 481, 914 вольноотпущенники
~ агенты сенаторов 364, 763—764, 765, 770—771 ~ в армии 755 ~ бардиеи 204, 205
~ включение в трибы 59, 230, 374, 375, 452-453, 697, 753 ~ городские 753—757, 763—766, 883 ~ греческие когномены 754, 756 ~ гробницы 766
~ истребление при Марии и Цинне 205 ~ италийские союзники 230 ~ в коллегиях 777 ~ в колониях 502, 503, 508, 754—755
- коммерческая деятельность 735 ~ на местных должностях 508
~ мобильность 754—756 ~ социальная 764
1034
Указатель
~ образование 794
- и патроны 764, 769—771, 782
~ правовой статус 574, 617, 645, 650 ~ презрение к ним элиты 730, 745 ~ в сфере услуг 770 ~ численность 698, 753 ~ эдикт Публия Рутилия 650 ~ в эпоху Принципата 755, 888 Вольтурн, река 3{Щ ВЪ, 143, 215 Вольтурций, Тит, из Кротона 396 вооружение, см. в статьях оружие; машины, осадные восстание крестьян (63 г. до н. э.) 391, 39^395, 398, 400, 401 вотивные подношения 842 враг государства (hostis)
~ объявление врагом 570, 571 ~ в эпоху Суллы 197, 200, 205, 236 всадническое сословие 109—112
~ Диодор Сицилийский о нем 19 ~ и Гракхи 123
~ имущественный ценз 61, 109
~ коммерческие интересы 19, 46, 111, 128—129, 733, 734 ~ Майер о нем 27 ~ и Марий 105, 109—112, 193 ~ места в театре 368, 391 ~ новые граждане 368 ~ определение 62, 109, 586 ~ политическое влияние 59, 61, 99, 109
- и сенат 16, 109-112, 132-133, 227, 228, 406, 587 ~ сулланские проскрипции 224
~ сыновья сенаторов 109, 223 ~ Цезарь включает всадников в сенат 510 ~ цензоры контролируют состав 109 ~ в центуриатных комициях 59, 109 см. также присяжные (законодательство о составе) вторжение в жилище 606 выборы 61
~ агитация 59, 65, 77 ~ Габиниев закон (139 г. до н. э.) 60, 77 ~ жрецов 76, 114, 391, 857 ~ и личные связи 67 ~ консульские 58—61, 67, 77, 232
- отложенные 442, 443, 450, 453, 518, 884, 910, 918, 920
Указатель
1035
~ подкуп и коррупция 60, 61, 76, 366, 368, 373—374, 377—378, 384, 393, 395-396, 405, 409, 589, 593, 595 сноск, 596, 884 ~ расширение числа избирателей 363, 365, 367—368, 374 ~ сорванные 373, 377, 384, 884 ~ тайное голосование 60, 68, 77 выдвижение обвинения (nominis delatio) 586
вымогательства, суд по делам о вымогательствах (repetundae, quaestio di repetundis) 95, 582—593, 680, 689 ~ доказательства 114
~ закон ограничивает полномочия наместников 567, 591, 599—600 ~ законы, см. в статье законы (Ацилиев; Кальпурниев; Корнелиев;
Семпрониев; Сервилия Главции; Сервилия Цепиона; Юлиев; Юниев)
~ комперендинация 114, 590—592
~ неграждане предъявляют обвинение самостоятельно 583—584, 586 ~ оценка ущерба 591—592, 611, 669
~ пересечение с делами об умалении величия 593, 597, 599—600 ~ предложения Гая Корнелия (67 г. до н. э.) 372 - присяжные 100—101, 113, 114, 123, 584, 586—590, 630 ~ процессы первой половины П в. до н. э. 583—584, 689 ~ рекуператоры 584 ~ и союзники 95, 97, 99—100, 130, 396
~ статут Гая Гракха 17, 67—68, 94, 96, 99—101, 109, 110, 582—589, 612 сноск., 669, 689, 892
~ и судебная коррупция 100—101, 589—590, 593—594 ~ судебная процедура 114, 584, 591—592 ~ судебные дела (138—123 гг. до н. э.) 58, 77, 95, 585 ~ и Сулла 590, 669 ~ учреждение постоянного суда 669 ~ чрезвычайный суд (171 г. до н. э.) 583 см. также в статьях Веррес, Гай и о других осужденных выпас скота, см. пастбища высшие классы
~ богатство и политическое влияние 76 ~ и городской плебс 777, 782 ~ господство в судах 99, 611 ~ и гракханские реформы 93, 99 ~ и греческая культура 801—802 ~ достоинство 528 ~ дух соперничества 19, 21, 365, 802 ~ идеология 64—65
~ инвестиции в землю 128, 364, 713—714, 734, 741, 883
1036
Указатель
~ интеллектуальные интересы 834—838 ~ италийские 108—109, 125—130, 364, 510—511, 795 ~ этрусские и умбрийские 134, 510—511 ~ коммерция 364, 692, 731-734, 740-742, 763-764, 765, 771 ~ манипуляция народными собраниями 60—61 ~ потери в гражданской войне 515 ~ в Ранней республике 56 ~ семейные традиции 62—63 ~ строительство 722, 739
см. также демонстративное поведение; обязательства; оптиматы; сенат; слава и в статье долги
габийский стиль (cinctus Gabinus) 87 Габиний, Авл (трибун 139 г. до н. э.) 77 Габиний, Авл (консул 58 г. до н. э.) 918
~ в Первой Митридатовой войне 180 ~ трибунат (67 г. до н. э.) 273, 278, 369—372, 665, 914 ~ легат Помпея на Востоке 293, 376 ~ избегает обвинения в подкупе избирателей 419 ~ консульство 419, 423, 428, 429
~ командование в Сирии 271— 273, 384, 391, 395, 396, 574 ~ иудейские кампании 301—303, 327, 441^42, 448, 918 ~ набатейские кампании 303, 441, 448, 918 ~ и Парфия 301, 302, 442-443
~ восстанавливает Птолемея Авлета 353, 356, 441—443, 446—447, 567, 918
~ суды и банкротство 303, 353, 448-449 ~ и Стений из Гимеры 242 Габиний, Публий 396 Гавий, Публий, из Косы 568 Гавланитида (совр. Голан) 10 Ва, 326 Гадара 10 Ва, 328 Гадес (совр. Кадис) 7 Ad, 8 Ас, 498 Газа 9 Cd, 291, 320, 326, 328 Газара (Гезер) 70 Ас, 318, 320—322 Газиура 5 Da, 272
Галатия 7 Fc, 4 ВЪ, 5 СЪ, 9 СЬ, 14 СЬ, 155, 164, 167, 184 ~ в Митридатовых войнах 255, 260, 265, 279 ~ распоряжения Помпея 299, 300 ~ тетрархи 295, 299, 300 ~ при Брогитаре 423
~ поражение, нанесенное Фарнаком П 487 галаха (традиционное иудейское право) 336
Указатель
1037
Галеса 2 Bd, 39
Галест (египетский офицер) 344 Галилея 10 Аа—Ва, 303, 325 галиэны (народность на севере Сирии) 292 Галлия 12
~ Цизальпийская 14 Аа
~ римская экспансия во П в. до н. э. 37, 129 ~ победа над кимврами при Верцеллах 117, 899 ~ основание колонии в Эпоредии 119 ~ Аппулеев закон (100 г. до н. э.) 119, 122, 131 ~ и закон Лициния—Муция 132 ~ в Союзнической войне 137, 141, 143
~ распоряжения относительно Тр анспаданской области 149 ~ в гражданской войне 201, 202, 217, 220 ~ провинция Суллы (80 г. до н. э.) 233 ~ и восстание Лепида 235, 236 ~ назначена Лукуллу (74 г. до н. э.) 240, 262 ~ и восстание Спартака 249
~ гражданство для транспаданцев 149, 382, 383, 464, 497, 498, 500, 924
~ командование Цезаря 417, 425, 426, 483, 683 ~ наместничество Марка Брута (46 г. до н. э.) 494 ~ командование Децима Брута, осада Мутины 532, 541, 546, 547, 926
~ демография и экономика 693, 701, 702, 705, 720, 736 ~ клиентела Помпея 464, 498 ~ Трансальпийская 72, 14 Аа, 665
~ оборона Массилии 37—38, 893 ~ основание Нарбона Марсова 18, 38, 105, 119, 893 ~ вторжения германцев (109—105 гг. до н. э.) 38, 52, 113, 119, 899
~ кампании Мария, см. кимвры ~ провинция Лепида 235 ~ кампания Помпея (77—76 гг. до н. э.) 243 ~ восстание аллоброгов 386, 398, 407, 414, 917
- нападение гельветов 407
~ кампании Цезаря, см. войны, Галльские
- распоряжения Цезаря 497—516 ~ конница в римской армии 75
~ рудники 720 ~ число военнопленных 697 ~ римская и италийская иммиграция 701, 724, 736 ~ торговля 37, 38—39
1038
Указатель
~ виноторговля 709, 723, 737 см. также отдельные племена и места галлы 7 Сс, 36, 844
~ в Галатии 153, 156 ~ в Македонии 46 ~ в римской армии 53, 143, 200, 205 Галльский Форум 73 Ab, 532, 927 Галльское поле (ager Gallicus) 3(ΐ) Ca—Da, 83, 91, 386 Гальба, см. Сульпиций Гамала 70Ва,328 Ганнибал 656, 658
Ганник (участник восстания Спартака) 250 Гарган, гора 3(ii) Da, 249
Гарсиесис (египетский правитель Фиваиды) 345
гаруспики 382,489,511
Гаста 8 Вс, 74 Ab, 36, 661
Гауда, царь Нумидии 44
Геганий Клесипп (аппаритор) 756, 774
Геллий, Авл 614
Геллий Публикола, Луций (консул 72 г. до н. э.) 242, 249, 252, 912
гельветы 72 ВЬ, 38, 407, 414, 426, 428, 919
Гельцер, М. 25—27
генеалогия 821
гениохи 163
Генуя 7 Сс, 2 Ab, 73 Ab, 37 география 834 геометрия 834 сноск.
Геракл Каллиник, его храм в Филадельфии Египетской 360 Гераклеополь 77 Ab, 345, 356, 357 Гераклея, в Аукании 2 Сс, 3(0) Ес, 73 Сс, 145
~ Гераклейская таблица 509, 514, 514 сноск., 649, 694 сноск. Гераклея, в Понте 4 Ab, 5 Са, 9 Cd, 156, 162, 163
~ в Митридатовых войнах 184, 264, 265, 273, 275 Гераклея Минойская, на Сицилии 2 Bd, 73 Bd, 40 Гераса 70ВЬ,328 Герговия 72 ВЬ, 460, 921 Геренний, Гай (трибун 87 г. до н. э.) 199, 245 Герий Азиний (полководец марруцинов) 143 Геркуланум 3(0) Вс, 142, 147, 800, 832 Геркулес, его культ 31, 252, 360 Гермагор (ритор) 824 Гермонтис (совр. Армант) 7 7 Вс, 347, 352 ~ бык Бухие 350, 354
Указатель
1039
Геродот 158, 287 Герофил, см. Амаций гетулы 44, 489 геты 1 ЕЬ, 4 Аа, 156 гигиена, общественная 750 гидравлика 721
Гиемпсал I, царь Нумидии 43, 223 Гиерон П Сиракузский 39 Гиерон из Лаодикеи 277 гильдии
~ на Делосе 735 ~ в Египте 358 ~ ростовщиков 740 см. также коллегии Гипепа 184
Гиркан I, Иоанн, иудейский первосвященник 318—319, 321—326, 329, 338—339, 930
Гиркан П, иудейский первосвященник 290, 291, 303, 341, 442, 930 Гиркания, в Палестине 9 Ес, Ί0 ВЬ, 287, 328 гирпины 3(й) Са—Ъ, 137, 146, 147 Гиртулей, Луций (легат Сертория) 243, 245, 246, 911 Гирций, Авл (консул 43 г. до н. э.) 530, 535, 536, 539, 926 ~ командование против Антония 543, 546, 547, 552 ~ смерть 546, 552, 926 Гиспалис (совр. Севилья) 8 Вс, 14 Ab, 501 Глабрион, см. Ацилий Главция, см. Сервилий
гладиаторы 432, 453, 785, 789; см. также Спартак глашатаи, или аукционисты (praecones) 333, 400, 508, 509, 778 глобус 801 голод 77, 94
голосование, тайное 61, 68, 77, 112, 579 сноск.
Гомер 804 Гомфы 14 ВЬ, 485 гонцы (tabellarii) 676 Гораций Флакк, Квинт 846 Гордиена 9 Ес, 267, 270, 283, 284, 293, 294 Гордий, регент Каппадокии 164, 166 городская провинция (urbana provincia) (т. е. Рим) 656 Гортензий, Луций (консул 108 г. до н. э.) 111, 898 Гортензий, Луций (легат Суллы) 180 Гортензий Гортал, Квинт (консул 69 г. до н. э.) 912 ~ в эпоху Суллы 229, 233, 234
1040
Указатель
~ судебные речи 207, 237, 238, 254, 376, 378, 392, 611 ~ дает совет Цицерону 425 ~ и восстановление Птолемея Авлета 438 ~ смерть 470 ~ вилла 799 ~ богатство 367, 445
Гостилий Манцин, Гай (консул 137 г. до н. э.) 34, 78 Гостилий Тубул, Луций (претор 142 г. до н. э.) 99, 601, 605 государственная земля (ager publicus), см. аграрный вопрос и отдельные участки
государственная измена (perduellio) 392, 578, 597, 598, 600 chock. государственные суды (iudicia publica), см. судебные комиссии, постоянные государство (res publica) 25, 29,103,197, 516, 519—520, 527 chock., 540, 542, 548, 566, 641, 882, 887 chock. гражданин-земледелец, идеал 21, 56
гражданское правонарушение, см. в статье право, частное (деликт) гражданство, римское
~ двойное гражданство: римское и другой общины 498
- закон Лициния—Муция (95 г. до н. э.) 123, 131, 607, 751, 904
~ закон Папия о незаконном присвоении гражданства (65 г. до н. э.) 382-383, 607, 752-753, 914
~ закон Плавция—Папирия (89 г. до н. э.) 148, 150, 904 ~ идеал гражданина-земледельца 21, 56 ~ в Испании 36, 147—148, 242, 499, 673, 684 ~ и италийские союзники
~ не принятые предложения о предоставлении им гражданства 86, 93, 94, 96, 123, 127, 133, 134, 892 ~ цель Союзнической войны 159, 144—145, 147—148 ~ предоставление им гражданства 84, 130, 144—145, 147—148, 202
~ и Сулла 217, 229, 231
~ распределение новых граждан по римским трибам 190, 192-195, 197, 200, 201, 206, 208-209, 211, 212, 216, 229, 744, 780, 906
~ в колониях Мария 119, 131
- и латинские союзники 93—94, 100, 101, 123, 126—127, 148
~ для обвинителей, добившихся осуждения кого-либо за вымогательства 586
~ пожалования Августа 499
~ пожалования Цезаря после гражданской войны 497, 498—499 ~ последствия роста числа граждан 364, 368, 409, 618, 633, 697, 883 ~ и право лиц 617—619 ~ право обжалования 567—569
Указатель
1041
~ предоставление союзникам на поле боя 130, 147, 673, 684 ~ предупреждение незаконного присвоения 123, 131, 383, 607, 751— 753, 914, 924
~ в провинциях 683, 684
~ роль народных собраний в предоставлении 60 ~ для Сицилии 535
~ в Транспаданской Галлии 148, 383, 464, 497, 498, 924 см. также ценз Гракх, см. Семпроний Гракхурис 8 Са, 36
грамматика (исследование языка и литературы) 793, 794
грамматики 514,809—811
грамотность 792
Гран Сассо 146
Граний Лициниан 235
Граний Флакк, «О молитвенных формулах» 869—870
Граник, река 5Аа, 264
границы
~ города Рима 745; см. также померий ~ земельное межевание 85, 91, 104 ~ иудейские межевые камни 321
- провинциальные 667, 678
~ религиозные 861—863, 870—873 граффити 79, 349, 792 Греция 6
~ принесение греков в жертву в Риме 844 ~ римская аннексия и распоряжения 30, 47, 128, 660—662 ~ в Первой Митридатовой войне 173, 174—175, 905 ~ и Сулла 205, 237 ~ и Цезарь 237, 495—497, 513 ~ под контролем Брута 544
*
Культура и наука 37, 751, 754, 795-796, 801-806, 812, 835, 885 ~ архитектура 127, 801 ~ библиотеки 187, 797 ~ в Массилии 37, 499 ~ в Нумидии 43
~ образование 37, 511, 538, 793, 794, 801, 802
- оскорбительность римского отношения 688
~ перевод сочинений на латинский язык 804, 805, 812, 814, 833, 868 ~ политическая мысль 65, 69, 96, 115, 118 ~ поэзия 816
~ право 636, 638, 639—641, 644
1042
Указатель
~ религия 878 ~ риторика 617
~ систематические методы 638, 806, 807, 826 ~ на Сицилии 39 ~ и тирания 511
~ философия 830, 832—833, 835, 868, 876 ~ чеканка 48 ~ язык 37, 804, 876
*
Экономика
~ денежные техники 48, 704, 727, 728 ~ задолженность перед Римом 737—738 ~ коммерция, ее техническая база 724 - рабы и вольноотпущенники в Риме 754, 766, 794, 801 ~ сельскохозяйственная наука 706 ~ торговля 702, 707, 708, 736, 737 Гризим, гора 10 Ab, 324 гробницы
~ италийские 516, 756, 757, 766, 769, 788 ~ Гегания Клесиппа 756—757 ~ Каприлия Тимофея 766 ~ Суллы 234 ~ Эврисака 766 ~ Юлии 449
~ ближневосточные 322, 330—331 ~ царей Понта 159
гром и молния как знамение 120, 383, 536, 839, 870 Грумент 3(H) De, 142
группировка, политическая (factio) 64, 107
группировки, семейные 26, 27, 66, 107, 123; см. также связи, политические Грюэн Э. 27
Гутта (житель Капуи) 220
давильни, для винограда и оливы 73, 706
Дазимонитида 5 Da, 159
Дакия 1 Db, 485, 491, 728
Далмация 895
Дамасипп, см. Юний
Дамаск 9 Cd, 290
Дамофил (сицилийский землевладелец) 40 Дардан 5 Аа
~ Дарданский мир 186—188, 207—208, 257, 907 ~ Рим отказывается его ратифицировать 240, 260, 907
Указатель
1043
Дарий Ш, царь Персии 152 Дастира 281
дата окончания полномочий Цезаря 457, 466-469, 474, 920 Дебод 352
Дейотар, царь Галатии 295, 299, 300 Дейр-эль-Медина 352 Декаполь 329 Декум (распорядитель) 787 деликтное право 619, 628—629, 631 Делос 1 Ed, 9 Ас, 14 ВЬ
~ «агора италийцев» 31, 736 сноск.
~ банковское дело 731, 736
~ в Первой Митридатовой войне 31, 172, 174—175, 905
- виноторговля 710, 723, 737 ~ Героон 172 сноск.
~ господство Афин 31, 735 ~ италийские предприниматели 31, 724, 730 ~ керамика и торговля маслом 737 ~ лавки 767 ~ надпись 735
~ нападение пиратов (69 г. до н. э.) 367 ~ процветание (130—88 гг. до н. э.) 726, 845 ~ работорговля 31, 697, 715, 846 ~ свободный порт 31, 735—736 ~ соперничество с Родосом 735 ~ упадок 726
Дельфы 1 Dd, 6 Аа, 14 ВЬ, 39, 178, 661, 870
- надпись с текстом закона 101—100 гг. до н. э. 18, 30, 50, 117, 649,
665, 668, 670 Деметриада 9 Ab, 175
Деметрий I Никатор, царь Сирии 30, 292, 313, 314 Деметрий П, царь Сирии 315, 317 Деметрий Ш Эвкер, царь Сирии 292, 328, 329, 336, 340 демократия, греческая 96, 105, 118
демонстративное поведение, аристократическое 527, 731, 739, 786, 788, 886 Дендера 11 ВЬ, 352
деньги 128, 206, 727—732; см. также чеканка держание (detentio, имущественное право) 624, 647 десятина, сельскохозяйственная ~ в Азии 676, 677 ~ на Сицилии 39, 660, 677, 678, 737 децемвиры для составления Законов ХП таблиц 225 Децидий Сакса, Луций 500, 510 сноск.
1044
Указатель
Деций Субулон, Публий (трибун 120 г. до н. э.) 103 децимация 250, 568 сноск.
Дианий 8 СЬ, 247
диаспора, иудейская 306, 330; см. также в статье Египет дивинация (гадание) 815, 868, 871 дивинация (метод выбора обвинителя) 113, 114 Дидий, Тит (консул 98 г. до н. э.) 900
~ война во Фракии 46, 50, 117, 667, 900 ~ война в Испании 35, 36, 902 ~ Дидима, храм Аполлона 497 сноск.
Дикеарх 808 диктатура
~ отказ Помпея 453, 458
см. также в статьях Корнелий Сулла, Луций; Юлий Цезарь, Гай Димы 7 Dd, 47, 297 Диодор Паспар из Пергама 276 Диодор Сицилийский 19, 35, 100, 135, 309, 322 Диодот (стоик) 830 сноск.
Дион 836
Дионис, его культ 873 Дионисий Галикарнасский 17 дионисийские артисты, их гильдия 47, 48 Диоскуриада 4 СЬ, 9 Db, 282 Диофан (ритор) 90
Диофант (понтийский полководец) 163
дипломатия 281, 282, 659—660, 662, 684, 802
Диррахий (совр. Дураццо) 7 De, 2 Сс, 14 ВЬ, 46, 215, 485, 736
диффамация, см. посягательство на личность
Добрая Богиня (Bona Dea), ее священнодействия 402, 839 сноск.
~ святотатство, приписываемое Клодию 402—404, 409, 581, 851—852, 859, 916
добросовестность (bona fides) 646, 637—638 добыча 70, 128, 207, 511, 729 доверие (fides), финансовое 109
«договор или природа» (νόμος или φύσις), дилемма 809—810, 816 договоры, римские международные
~ государства, имеющие договор с Римом 683 ~ с италийскими союзниками 81, 125, 135 ~ отказ римлян от их выполнения 17, 34, 44, 78 ~ Помпей уполномочен их заключать 280 ~ роль народного собрания 60 ~ с сицилийскими городами 39 ~ с Югуртой 44
Указатель
1045
сж. также в статье латины Долабелла, см. Корнелий долги 886
~ и аграрный вопрос 79, 739
~ и высшие классы 79, 193, 382, 387—389, 395, 494, 731, 739, 740, 885 ~ денежные аспекты 730 ~ долговые книги 731 ~ в Египте 347, 357, 487 ~ закрепощение должников 394, 580 ~ в Италии 509 ~ кризисы 488, 739
~ и мелкие собственники 384—385, 392, 393, 509, 739 ~ мероприятия Цезаря 484, 516—517, 922 ~ моратории и списания ~ Египет 347 ~Миггридат 171,184 ~ Рим 48, 97, 197, 206, 276, 737, 922 ~ и плебс 488, 739 ~ правовое регулирование 646 ~ в провинциях 48, 276, 300, 385, 685, 737—738 ~ социальные последствия 739—740 дома, жилые 722
~ в Гезере 320
~ длинные дома, сочетавшие в себе лавки и инсулы 768 ~ сдача внаем 741
см. также инсулы; виллы и в статье Рим Домициан, император 738
Домиций Агенобарб, Гней (консул 122 г. до н. э.) 38, 48, 894, 896 Домиций Агенобарб, Гней (консул 96 г. до н. э.) 113, 136, 222, 246, 857, 902, 904
Домиций Агенобарб, Луций (консул 94 г. до н. э.) 218, 902 Домиций Агенобарб, Луций (консул 54 г. до н. э.)
~ квестор 375 сноск.
~ оппозиция Цезарю 422, 439, 448 ~ соискание консульства (56 г. до н. э.) 440, 443 ~ консульство (54 г. до н. э.) 448, 450, 920 ~ во время чрезвычайного положения в 52 г. до н. э. 459 ~ враждебность к Цезарю 464 ~ поражение на выборах авгуров 470 ~ в гражданской войне 475, 477, 478, 482 ~ смерть 486
*
~ патронат 482, 506
1046
Указатель
~ поместья и богатство 711 сноск., 713, 732 сноск.
Домиций Кальвин, Гней (консул 53 г. до н. э.) 453, 485, 488, 920 Домиций Кальвин, Марк (проконсул 80 г. до н. э.) 243, 909 Домиций, Гай 136 Дор (Дора) 10 Аа, 327, 328 Дорилай 182 дороги (viae) 724—725 ~ в Азии 49 ~ в Индию 287
~ во время Союзнической войны 141—143 ~ Гай Гракх и их строительство 97 ~ законопроект Куриона (50 г. до н. э.) 468 ~ из Амиса в Таре 158 ~ из Апамеи в Каппадокию 261 ~ из Апамеи в Сирию 295 ~ из Дамаска в Иерусалим 291 ~ из Иберии в Колхиду 287 ~ из Иерусалима к Яффе 320 ~ из Регия в Капую 91 ~ из Сиде в Иконий 261 ~ из Трапезунда в долину Акампсиса 158 ~ от Апеннин к Адриатике 508 сноск.
~ ремонт 106, 367, 407, 382, 723 ~ скотопрогонные 106, 407, 414, 710 ~ Царская дорога 324
*
~ Аврелиева 371, 396
~ Аппиева 2 Вс—Сс, 3(0) Da—Eb, 7 Bb—c, 13 Сс—Сс, 143, 203, 215, 250, 382, 400, 416, 456, 726
~ Валериева 2 Вс, 3(ΐ) Cc—Dc, 7 Ва, 13 Вс, 143
- Домициева 37, 38, 39 сноск., 725
- Кассиева 2 Bb, 3(г) СЬ, 7 Аа, 13 ВЪ—с, 219, 394, 475 ~ Клодиева 2 Ab—Вс, 3(г) Сс, 7 Аа, 13 Вс, 219
~ Лабиканская 7 ВЬ, 218, 219
~ Латинская 2 Вс, 3 (О) Аа, 7 ВЬ, 13 Вс, 215, 218, 219, 404 ~ Постумиева 2 Аа—Ва, 13 Ва, 37 ~ Пренестинская 7 ВЬ, 219, 221 ~ Фламиниева 440, 475 ~ Эгнациева 46, 725, 726 ~ Эмилиева 2 Ab, 13 ВЬ, 468 сноск., 899 доставка товаров 771—772
драма 787, 792, 804, 816; см. также комедия и отдельных авторов дренаж 704, 721
Указатель
1047
Дритон (египетский солдат) 359 Друз, см. Ливий
дуумвиры по делам о государственной измене (Ilviri perduellionis) 392, 578
Евдор Александрийский 816 Евпатория 5 Da, 266 Евсевий 348 Евтропий 179
Египет 7 Ее—Fe, 9 Be—Се, 77, 74 Cb, 343—361 ~ войны против Антиоха IV 343 ~ в правление Птолемея VII Неоса Филопатора 343 ~ в правление Птолемея УШ Эвергета П; см. также отдельную статью ~ наследование Эвергету П 306, 327, 347—351, 899 ~ завещан Риму 349, 351, 384, 903 ~ и Миггридатовы войны 167, 178, 350—351 ~ наследование Птолемею Александру I 351
~ в правление Птолемея Авлета; см. также отдельную статью и статью римское вмешательство
~ в правление Береники 302, 353, 354, 437, 443, 446 ~ в правление Клеопатры VII; см. также отдельную статью ~ Александрийская война 354, 486—487, 921 ~ аннексирован Римом 355
*
Экономика и общество ~ администрация 357, 358—359 ~ армия 357—358, 360 ~ долги 347, 357, 487 ~ идумеи 325
- иудеи 327-329, 331-332, 339, 354 ~ клерухи 347, 348, 358
~ культура 345, 350—353, 355, 358—359 ~ мумификаторы 358, 359 ~ налогообложение 446 ~ население 698
~ религия 352—353, 354, 357—360, 876 ~ сельское хозяйство 345, 347, 355—357, 725 ~ торговля с Африканским Рогом 30, 31
- чеканка 344, 356, 729
*
Вмешательство Рима
~ вмешательство в войну против Антиоха IV 343 ~ и Эвергет П 344, 349
- посольство (140/139 г. до н. э.) 344
1048
Указатель
~ Египет завещан Риму 349
~ Лукулл собирает корабли для Суллы 178, 350—352 ~ предложение об аннексии 301, 353, 365, 383—384, 914 ~ признание Птолемея Авлета 415 ~ Авлет бежит в Рим 302, 353, 919
~ решение о восстановлении Авлета принято, но заблокировано 302, 353, 437, 442, 919
~ Габиний восстанавливает Авлета 354, 444, 446—447, 919 ~ Авлет устанавливает налоги, чтобы выплатить долг Риму 446 ~ сенат в изгнании признаёт Птолемея ХШ 486
- убийство Помпея 355, 486, 919
~ вмешательство Цезаря 393—396, 550—551, 489, 921 ~ договор 519
~ Октавиан аннексирует Египет 354 ~ римские предприниматели в Египте 724
см. также Кипр; Кирена; Птолемеи и отдельных правителей и места ессеи 306, 333, 341
~ кумранская община 310, 333, 334—337
«Жаворонки» (Alaudae, галльский легион) 500 железо, ресурсы 158, 720 жемчуг 512 сноск., 515, 764 женщины
~ богатство 624
- брак 620—621
~ и власть отца семейства 646 ~ в коллегиях 760, 773 ~ наследование 622—624 ~ образование 794 ~ опека 619—620, 624 жертвоприношения
~ и габийский стиль 87 ~ Иоанна Гиркана 318 ~ во время люстра 327 ~ Птолемеям 360
- Риму, в провинциях 878 ~ Суллы 215
~ Фламинину, в Халкиде 865 ~ Цезарю 861 ~ частные 843 ~ человеческие 844 живопись, греческая 802 животноводство 72, 710—711, 713 сноск., 724
Указатель
1049
~ крупные поместья 72, 710, 713 сноск., 715, 736 ~ отгонное скотоводство 72,705,710—711 ~ региональная специализация 41, 72, 704, 705 жреческие должности 841
~ выборы 76, 113—114, 230, 392, 857 ~ и правоведение 616 ~ римские, в провинциях 877—878 ~ Цезаря 204, 224, 392-393, 519, 812, 854
см. также авгуры, верховный понтифик, весталки, квиндецемвиры, фециалы, фламин
завещания
~ завещание царств Риму, см. в статьях Вифиния; Кипр; Кирена; Египет; Пергам
~ Цезаря 513, 526-527, 531, 533, 550, 790 ~ правовое регулирование 606, 621—624, 6356—637, 652 ~ порядок оспаривания 622—623, 630, 653 завещательные отказы 623, 644
заговор Каталины 63, 394—398, 569, 740, 815, 839, 861, 883
~ реакция на казнь заговорщиков 398, 399, 403, 405, 415, 420, 424, 455, 569
см. также Сергий Каталина, Луций заимодавцы 31, 171, 301, 303, 730—732, 740—741 займы, морские 31 Закинф 9 Ас, 182
«Закон о борьбе с пиратами» 17—18, 30—31, 46, 50, 117—118, 129, 633 сноск., 649, 665-666, 667-668, 670, 900 законное владение (possessio) 231, 624, 646, 651
~ владение имуществом (bonorum possessio) 622, 651—652
~ его предоставление как законное наказание 516, 631, 645 законопроект Рулла (rogatio Servilia) 388—391, 713, 755, 916 законотворчество
~ законодательная инициатива трибунов 56, 58, 228, 365 ~ и монетная чеканка 60, 62, 119, 122 ~ религиозная обструкция, см. в статье религия ~ роль магистратов 58—59, 120 ~ роль народных собраний 56, 58, 536, 578—579 ~ роль сходок 60 см. также законы Законы ХП таблиц 615 ~ о браке 620—621 ~ греческое влияние 636 ~ о деликтах 628, 629
1050
Указатель
~ децемвиры как их составители 225—226 ~ о завещании 621 ~ о конституции 56, 578
- о магии 871
~ об уголовном судопроизводстве 60
законы против роскоши 21, 60, 75—76, 95, 367, 444-445, 515, 516, 521, 635, 738;
см. также в статье закон (Дидиев; Фанниев; Юлиев; Лици- ниев; Орхиев)
закрепощение 394, 580—581
залог (fiducia, pignus) 625, 628, 650, 718
залоговое удержание 625, 651, 652
записки (commentarii) 819; см. также в статьях Корнелий Сулла, Луций;
Юлий Цезарь, Гай; Туллий Цицерон, Марк Зарбиен Гордиенский 267, 270 Зариадр (армянский полководец) 267 затмение, лунное (63 г. до н. э.) 391 затонувшие суда 73, 722, 725 здание сената, см. в статье Рим Зевс Воитель, его культ в Амасии 160 Зела 5 Db, 9 Cb, U Cb, 158, 160, 297-298 ~ битвы при ней
~ 67 г. до н. э. 272, 279, 915 ~ 47 г. до н. э. 488, 497, 925 землевладельцы, мелкие 72—73, 82, 92, 714—715 ~ упадок 385—386, 391, 393, 739 землемеры (gromatici) 703, 712 земля
~ иноземцы не вправе владеть римской землей 618 ~ конфискация 230—231, 235, 389, 391, 507 ~ оккупация 705, 710—711, 713, 716—717 ~ раздел в Африке 18, 42—43, 45, 104, 106, 109 ~ рынок 516, 518, 718—719 ~ сдача в аренду 741
~ сенаторы не вправе владеть землей за границей 364, 503 ~ социальная ценность 718, 719 ~ фискальный и правовой статус 628, 703
- частная 716
см. также аграрный вопрос; центуриация Зенобий (понтийский полководец) 184 Зенодор (сирийский разбойник) 290 Зенокет (правитель Памфилии) 261 Зенон Котила, династ Филадельфии 318 Зенон Сидонский 830 сноск., 831, 832
Указатель
1051
зерно
~ гракханские мероприятия 74—75, 96—97, 102, 749 ~ египетское 356—357 ~ законопроект Куриона (50 г. до н. э.) 468
~ «зерно в кладовой» (fmmentum in cellam), «оцененное зерно» (frumentum aestumatum) 674
- зернохранилища 98, 725
~ италийское производство 704^707, 759 ~ контроль Помпея 434-435, 438, 439, 446, 725, 736 ~ кризисы снабжения 77, 79, 94—95, 238, 707,
~ 57-55 гг. до н. э. 434, 435, 438, 439, 440, 446 ~ и Марий 105
~ монетная чеканка с целью закупки 729 ~ налог, выплачиваемый зерном 660, 707, 736, 737 ~ сицилийская десятина 660, 677, 678, 737 ~ нумидийское 42, 94, 95
~ пираты препятствуют поставкам 278, 367, 370—371 ~ Путеолы и торговля зерном 726 ~ распределение в Риме
~ бесплатное 352, 421, 429, 452-453, 514, 700, 708, 747-748, 918 ~ субсидируемое 68, 75, 230, 235, 252, 365, 399, 708, 748, 752, 767, 859
~ и Сатурнин 102, 118 ~ свободный рынок 736, 737 ~ снабжение наместников провинций 674 ~ хлебные эдилы 515 ~ цены 75—76 Зигана, перевал 158 зиги 163
Зиз (арабский династ) 289 «злые песни» (occentatio) 629 знамения
~ благоприятные знамения Суллы 196, 215 ~ и народные собрания 120, 122, 211, 839, 850—851 ~ и повторное основание Карфагена 102
- предзнаменования 382, 391, 841 см. также гром
Зоил, правитель Стратоновой Башни и Дора 327, 328 золото
~ добыча 721
~ захваченное в Афинах 178 ~ золото Митридата, захваченное Помпеем 288 ~ слитки как средство обмена 727
1052
Указатель
~толозское 38, ИЗ, 119, 899 Зосим (богатый житель Приены) 276
Иберия, на Кавказе 9 ЕЬ, 167, 283, 285—287, 289 игры 537, 786-788, 789
- в 53 г. до н. э. 452, 920 ~ Помпея 252, 447
~ привилегии для первенствующих граждан 398, 518, 521, 523, 863 ~ Цезаря в память о Юлии 489 ~ эдильские 680, 686
*
~ Аполлоновы 418, 433, 452, 537 ~ в честь Победы Суллы 232, 785 ~ в честь Победы Цезаря 538 ~ в честь Цереры 786 ~ Компитальские 422, 786, 788 ~ Мегалезийские 382, 786, 859 ~ Плебейские 786 ~ сценические 787 Идумея 10 Ас, 303, 324, 325, 326 Идфу 11 Вс
~ надписи 348, 350 ~ храм Гора 343, 351, 359 Иезекииль (трагик) 310 ИераНесос 357 Иераполь, в Сирии 9 De, 450 Иерихон 9 Cd, 10 Bb, 303, 317, 331 Иерусалим 1 Fe, 9 Cd, 10 Cd
~ Ионатан занимает его 313—314, 316 ~ распоряжения Антиоха УП 321—322 ~ оккупация Помпеем 281, 291, 306, 341—342 ~ Красе изымает сокровища из Храма 450
*
~ Акра 313, 315, 316 ~ гробница Ясона 330—331 ~ Иерусалимский Талмуд 311 ~ отношение иудейской диаспоры 330 ~ синедрион 303 ~ Храм 172,306,317 ~ эллинизаторы 313, 315, 316, 331 изгнание (как уголовное наказание) 515, 516, 570, 591, 650, 924 изгнание из Рима, массовое:
~ астрологов 874
Указатель
1053
~ иноземцев 94, 102, 122, 127, 131, 322, 607, 751-753, 755 ~ философов 835 издольщина 711,715 Иконий 9 С с, 261
Илерда 8 Са, 14 Аа, 243, 247, 483, 923 Илион 5 Ab, 14 Cb, 171, 185, 187, 496, 511 Илигурги 8 Вс, 36
Иллирик 1 De, 2 Са—Ь, 14 Ва, 237, 545, 724
~ командование Цезаря 417, 426, 433, 461, 682 император, титул Цезаря 521 империй 104
~ особый характер 572—573 ~ преторский 615
~ провинциальных наместников 656—657, 663, 668, 670—671 ~ продление 23, 27, 58, 78, 663, 862, 883 ~ промагистратский 663 империя, ее расширение 882
~ доходы от империи 70, 71—72, 368, 882, 885 ~ и конституция 572 ~ и рабство 617—618 ~ и религия 854, 874—880 см. также провинции
имущественная правоспособность латинов (commercium) 81, 693 «Инвектива против Саллюстия» (приписывается Цицерону) 815 сноск. инвестиции, см. сельское хозяйство индигеты 8 Ca—Da, 245 Индия 288, 357, 735
иноземцы (peregrini) 694, 715, 745, 752—755
~ правовой статус 81, 618, 632—633, 635 см. также изгнание из Рима инсулы (многоквартирные дома) 746, 768, 769, 772 интеллектуальные тенденции 792—838 ~ оценка значимости 834—838 ~ и политическая деятельность 835—837 ~ религия, воззрения иноземцев 879—880 - римская самоидентификация 812, 837 ~ скорость изменений 886 ~ социальная среда 796—801 ~ устная культура 792
~ эллинизация, см. Греция (культура и наука)
см. также грамматика; грамматики; Греция (культура и наука); историография; науки, гуманитарные; науки, точные; образование; поэзия; философия; и отдельных авторов
1054
Указатель
интердикт (правовые предписания, предназначенные для подтверждения или восстановления владения) 71 ~ Сальвиев интердикт (залоговое удержание) 652 интеркаларные месяцы 468, 519 интерцессия (трибунское право) 58
Ионатан (иудейский первосвященник) 313—316, 320, 322, 330, 331, 335
Иония 168, 170, 184, 188; см. также отдельные города
Иосиф Флавий 309—310, 312, 318, 333
Иран 287, 292, 317, 322; см. также Персия
иранские племена в Понте 159, 160, 297
Ирод Великий, царь Иудеи 305
Исавра, Старая 9 Сс, 855
Исаврия 261, 265, 299, 365
Исида, ее культ 777, 873, 874, 876
~ Эсеремфтис, в Филадельфии 360 искательство народной любви (ambitio) 61, 896 иски (actiones)
~ об умысле (de dolo) 642
~ основанные на фактических обстоятельствах (in factum) 653
~ по аналогии (utiles) 637
~ против командира корабля (exercitoria) 628
~ против приказчика (institoria) 628
~ Публициев 625, 636, 653
~ Сервиев 653
см. также легисакции
исключение (exceptio, правовая процедура) 626, 637, 638, 653
искупление, государственное 601
Испания
~ завоевание Римом 34, 658, 659 ~ первые римские и италийские поселенцы 31, 36 ~ наместничество Тиберия Гракха 34, 25, 78 ~ война с Вириатом 34, 36, 51, 78 ~ Нумантийские войны, см. в статье Нуманция ~ войны 114—111 гг. до н. э. 897
- Марк Красе находит там убежище 206, 213
- захвачена врагами Суллы 221, 231, 237
~ кампании против Сертория 217, 231, 233, 236, 237,239, 243—248, 663, 667, 909, 911,913
~ распоряжения Помпея 248, 255 ~ операции Марка Антония против пиратов 278 ~ командование Гнея Пизона (65 г. до н. э.) 380 ~ кампания Цезаря на западе 407, 494, 498-^199, 917 ~ командование Помпея 445, 463, 469
Указатель
1055
~ война Цезаря с помпеянцами 476, 483, 488-^91, 499, 520, 521, 923, 925
~ непопулярность Квинта Кассия 488—489, 495 ~ урегулирование Цезаря 498—502 ~ выступление Секста Помпея 532, 535
*
~ администрация 36—37 ~ вымогательства 583—584, 668—669, 675 сноск.
~ и Гракхи 34—36, 78, 97 ~ колонии ветеранов 36, 501—502, 659 ~ контингенты в римской армии 35, 53, 141, 147, 673, 684 ~ надписи 36—37, 633, 661, 682 ~ налогообложение 35—36, 658, 660, 677—678 ~ право 36-37, 633, 658, 682
~ предоставление гражданства 36, 147, 242, 499—500, 673, 684 ~ преторы с консульским империем 662, 663 ~ Рим расторгает договоры 17, 34, 78, 668 ~ римские военные трудности 51, 54
~ римские и италийские поселенцы 31, 36, 702, 709, 724, 736 ~ рудники 35, 720, 721-722, 729, 732, 733 ~ сельское хозяйство 707, 708, 709, 710, 725—726 ~ торговля с Италией 707, 709—710, 723, 725, 726, 737 ~ чеканка 17, 35, 728 «Испанская война» 490
историография, античная 13—23, 82, 189, 804, 817—822; см. также анналисты;
хронология; и отдельных историков историография, современная 23—28; см. также отдельных историков источники 13—28
~ о городском плебсе 743, 746 ~ о господстве Цинны 205 ~ о Митридате 152 ~ о религии 845—849 ~ о сельском хозяйстве 703, 710 ~ о частном праве 613—614, 649 ~ об иудеях 307, 309—312
см. также в статьях об отдельных авторах и археология; надписи; папирусы; чеканка
Итака 754
Италика (в Испании) 8 Вс, 14 Ab, 36, 245, 659 Италика (Корфиний) 140 Италия и италийцы 2, 3, 7, 13
~ архитектура 692, 790, 887 ~ всадническое сословие 368
1056
Указатель
~ высшие классы 108, 125—128, 130, 135, 363, 368, 511, 796 ~ и Гаи Гракх 93, 95—96, 100—102, 104 ~ географическое разнообразие 702—706 ~ в гражданской войне 475—476, 486, 491, 504 ~ договоры 81, 125, 136 ~ долги 509
~ изгнание из Рима 94, 102, 127 ~ иудеи 322, 514, 755
~ колонии 69, 96, 104, 215, 230—232, 235; см. также в статье ветераны ~ коммерция 127, 224 ~ конституции 130, 140 ~ красноречие 130
- местное самоуправление 297, 507—510, 888—889 ~ миграция в Рим 127, 134, 752
~ монетизация экономики 127 ~ налогообложение 125, 128, 510 ~ население 692, (миграция) 693—699 ~ недовольство Римом после Союзнической войны 190 ~ обжалование 93, 94, 100, 585, 892 ~ и политическая жизнь в Риме 127, 134 ~ политическая структура 692—693, 702 ~ право голоса 101—102; см. также в статье гражданство
- и провинции 128—129, 368, 609—611 ~ процветание 127, 128
~ распоряжения Суллы 224, 230—231 ~ религия 137
~ сельское хозяйство 127—128 ~ солидарность 130
~ судебные обвинения в вымогательстве 126, 130 ~ судопроизводство 580, 608—609, 632—633, 693, 694 ~трибут 128 ~ урбанизация 508, 692 ~ при Цезаре 430, 493, 504—511, 522 ~ цензы 252, 693—694 ~ чеканка 140, 727 ~ экономические сделки 693
см. также отдельные города и племена и аграрный вопрос; война, Союзническая; гражданство, римское; латины
итинерарии 261 итуреи 325, 539
Иуда Маккавей (предводитель повстанцев) 306, 312, 313, 322 иудеи и Иудея 9 Cd, 70, 14 СЪ, 305—342
~ налогообложение при Птолемеях 313
Указатель
1057
~ война против Антиоха IV Эпифана 306 ~ при Иуде Маккавее 306, 312, 333
- кризис, связанный с эллинизацией 331—332, 335 ~ в правление Ионатана 313—316, 320, 322
~ в правление Симона 307, 315—321, 323, 329 ~ в правление Иоанна Гиркана 318—319, 321—325, 329, 338—339 ~ независимость от Селевкидов 315, 322 ~ в правление Аристобула 323, 325—326, 329
~ в правление Александра Янная 323, 326—329, 331—332, 335, 339—340 ~ в правление Саломеи Александры 323, 329, 340 ~ война за наследование между Аристобулом и Гирканом 290—291, 305, 341-342, 442-443, 448, 919 ~ завоевание Помпеем 281, 290—291, 305, 306, 341—342, 917 ~ распоряжения Помпея 291, 300, 327, 329, 917 ~ кампании Габиния 303—304, 327, 442—443, 448, 919 ~ поддерживают римлян в Египте 446, 487 ~ в правление Ирода Великого 305 ~ Тиберий и иудейские вольноотпущенники в Риме 756
- Веспасиан подавляет восстание 332
~ апокалиптические тексты 333 ~ археология 311,229—330
~ войны за независимость против Селевкидов 306—307, 315, 316, 319-322, 339
~ диаспора 306, 330; см. также в статье Египет ~ Закон 306, 311, 336, 340 ~ изгнание иудеев из Рима (139 г. до н. э.) 323 ~ источники 307—312 ~ в Италии 323, 515, 756 ~ иудаизм Второго Храма 311, 333 ~ культ в Храме 306 ~ летосчисление 315 ~ мессианство 341 ~ налогообложение 300, 304
~ народное одобрение правителей 312—313, 317, 319, 331—332 ~ отношение к Риму 303 ~ паломничество 330
- первосвященник 303, 313—314, 329, 339, 340 ~ привилегии под властью Рима 484—485, 515 ~ раввинистическая литература 311
~ религиозная реакция на правление Хасмонеев 305, 338—341
- религиозные разногласия 305, 306, 309—310, 332—342 ~ синедрионы 303—304
1058
Указатель
~ союз с Римом 306, 314, 322—323
~ суверенитет при Хасмонеях 305, 317—319, 329—332, 338—340 ~ территориальная экспансия 305—307, 314, 319—329 ~ Тора 306 ~ хасиды 306, 333, 341 ~ чеканка 311—312, 316, 318—319, 330—331 ~ эллинизаторы
~ П в. до н. э. 306, 313-316, 331-333, 335 - I в. до н. э. 331
см. также отдельных правителей и в статье Египет Иудея, иудаизм, см. иудеи
Кабира 1 Da,, 9 Db, 266, 272, 275
Кабиры, их храм в Самофракии 188
Кавдий 3(0) Вс, 215
Кавдинское ущелье 78
Кавка 8 Ва, 247
Кавказ, горы 9 ЕЬ
~ кампании Помпея на Кавказе 284—288, 915 см. также албанцы; иберы Кавн 5 Вс, 172 Кавсиний Схола 404 Казилин 3(0) Вс, 215, 507 Казин 3(0) Ва, 721
казнокрадство, суд по делам о казнокрадстве (peculatus, quaestio de peculatu) 379, 592, 593-594, 611 Калабрия 2 Cc, 77, 230 Калагуррис 8 Ca, 243, 247 Калация 3(0) Bb, 215, 507 календарь 468, 513, 519, 834, 862 Каллимах (командующий гарнизоном Амиса) 274 Калы 3(0) Ва, 13 ВЬ, 507—508 сноск., 721 Кальвин, см. Домиций
Кальпурний Бестия, Луций (консул 111 г. до н. э.) 44, 108, 896 Кальпурний Бестия, Луций (трибун 62 г. до н. э.) 397 Кальпурний Бибул, Марк (консул 59 г. до н. э.) 918 ~ эдилитет (65 г. до н. э.) 382 ~ консульство 408, 412, 418, 419, 421
~ обструкция против законов Цезаря 410—412, 850 ~ свидетельствует, что мероприятия Цезаря не имеют законной силы 430
~ и восстановление Птолемея Авлета 437 ~ центр оптиматской группировки в сенате 441
Указатель
1059
~ предлагает сделать Помпея единоличным консулом 459 ~ наместник Сирии 354, 467 ~ в гражданской войне 485 Кальпурний Пизон, Гай (консул 67 г. до н. э.) 912 ~ ускользает от обвинения в подкупе 368 ~ консульство 242, 370, 371, 373, 375, 610 ~ обвинен в вымогательстве 386, 391 Кальпурний Пизон, Гней 380, 381
Кальпурний Пизон Фруги, Луций (консул 133 г. до н. э.) 20, 76, 97, 582, 669, 890, 894
Кальпурний Пизон Фруги, Луций (проконсул 111 г. до н. э.) 34 Кальпурний Пизон Цезонин, Луций (консул 58 г. до н. э.) 918 ~ выдает дочь за Цезаря 419 ~ командование в Македонии 424, 665, 674 ~ нападки Цицерона 441, 674 ~ цензура 470, 472, 922 ~ в гражданской войне 481, 539, 543, 545 ~ интеллектуальные интересы 800, 831, 832 Кальпурния (жена Цезаря) 527 Камбисена 286 Камерия 3{ΐ) Cb, 131 Камилл, сж. Фурий Кампания 2 Вс
~ восстания рабов (136—132 гг. до н. э.) 698 ~ в Союзнической войне 137,141—143 ~ мероприятия Суллы 230 ~ в гражданской войне Цезаря и Помпея 477 ~ мятеж (47 г. до н. э.) 488 ~ поселения ветеранов Цезаря 507, 535—536 ~ визит Цезаря 521
*
~ виноделие 709, 710, 723 ~ коммерция 723, 736, 766, 785 ~ местные ассоциации 773, 787 ~ миграция из Рима 756 ~ надгробные рельефы 769 ~ сельское хозяйство 705, 706, 709 см. также Кампанское поле Кампания, Римская 707 Кампанское поле (ager Campanus) 71
~ предложения о распределении 73, 82, 91 ~ в 63 г. до н. э. 389, 755
~ в 50-х годах I в. до н. э. 411, 416—417, 439, 440, 468
1060
Указатель
каналы
~ в Коринфе 504 ~ на Роне 38
~ между Тибром и Таррациной 515 Каниний Галл, Луций (трибун 57 г. до н. э.) 438 Каниний Ребил, Гай (консул-суффект 45 г. до н. э.) 465, 522, 926 Канны 3(0) Da, 147 кантабры 8 Ва, 445 Канузий 3(0) Da, 142, 147 Калена 3(ΐ) Сс, 7 Аа, 13 Вс, 507
капитализм, его рост 70, 106; см. также сельское хозяйство (инвестиции) капитецензы 51, 54, 74, 112, 115 Капитолий 774, 776—777 «каппадокийская партия» 175, 184, 185, 187 Каппадокия, Понтийская 153, 156 Каппадокия, царство 1 Fd, 5 Db, 9 С с—De, 14 Cb, 156 ~ история Ш—Π вв. до н. э. 30, 117, 153, 155 ~ оккупация Митридатом VI 164—166, 903 ~ при Ариобарзане I
~ приход к власти Ариобарзана 166 ~ аннексия Арменией 167, 903 - восстановление Ариобарзана на троне 166, 168 ~ Понт изгоняет Ариобарзана 167
~ Дарданский мир требует ухода Понта из Каппадокии 183, 186, 257
~ вмешательство Мурены 257 ~ отступление Митридата 260 ~ дороги через Каппадокию 260, 261 ~ в договоре Сертория с Митридатом 246 ~ в Третьей Митридатовой войне 266, 269, 273, 278, 915 ~ распоряжения Помпея 292, 295, 298—300 ~ договор с Римом при Цезаре 519 сноск.
Каприлий Тимофей (виноторговец и работорговец) 766 Капуя 1 Сс, 2 Вс, 3(0) Вс, 13 Вс ~ дорога в Регий 91
~ запланированная Гаем Гракхом колония 97 ~ в Союзнической войне 141—143 ~ в гражданской войне Суллы 195, 215, 216 ~ восстание Спартака 249 ~ крестьянское восстание 394
*
- организации вольноотпущенников 773 ~ промышленность и коммерция 721, 761, 765 сноск., 784
Указатель
1061
Карака 243 Карбон, см. Папирий Каризий, Тит 500 сноск.
Кария 1 Ed, 5 Вс, 49, 168, 170, 171, 187
Кармель 326
Карнак 11 ВЪ, 352
Карнеад Киренский 831
карнуты 12 Ab, 454, 458, 464
Карпис 13 Ае, 501
Карринат, Гай 217, 218, 219, 220, 221
Карры 9 De, 14 Cb, 293
~ битва при Каррах 450, 538 Картея 1 Ad, 8 Вс, 36 Карфаген 1 Cd, 2 Ае, 13 Ае, 14 ВЬ;
~ конституция 58
~ эксплуатация испанских рудников 720 ~ разрушение 30, 41, 64, 735, 855
~ как начало упадка Республики 20, 40, 55, 64, 95 ~ репарации 661, 677 ~ раздел земли 41, 42, 58 ~ попытки возродить, предпринятые:
~ Гаем Гракхом 42, 97, 101, 102, 104, 119 ~ Цезарем 502, 504
карьера, должностная (cursus honorum) 226, 228, 232, 250, 571—573, 607, 908
Кассандр Македонский, сын Антипатра 153
Кассий Вецеллин, Спурий (консул 493 г. до н. э.) 90
Кассий Дион 14, 15, 23, 294
Кассий Дионисий из Утики 806 сноск.
Кассий Лонгин, Гай (консул 96 г. до н. э.) 169, 170, 202, 900 Кассий Лонгин, Гай (консул 73 г. до н. э.) 242, 249, 910 Кассий Лонгин, Гай (претор 44 г. до н. э., «тираноубийца»)
~ квестор Красса в Сирии 467, 538
~ противодействует предоставлению Цезарю высших почестей 522 ~ и убийство Цезаря 526
~ в Италии после смерти Цезаря 531, 534, 537, 538 ~ покидает Италию 538, 926 - лишен провинции 541 ~ укрепляется в Сирии 544, 547, 926 ~ объявлен вне закона 550
*
~ интеллектуальные интересы 827, 836 ~ способности 531
~ о стиле правления Цезаря 520, 836
1062
Указатель
~ финансы 552
Кассий Лонгин, Гай (консул-суффект 30 г. н. э., юрист) 606 сноск.
Кассий Лонгин, Квинт (трибун 49 г. до н. э.) 472, 482, 489, 495
Кассий Лонгин, Луций (консул 107 г. до н. э.) 38, 52, 108, 112, 898
Кассий Лонгин, Луций (трибун 105 г. до н. э.) 113
Кассий Лонгин, Луций (претор 66 г. до н. э.) 396
Кассий Лонгин Равилла, Луций (консул 127 г. до н. э.) 602, 858, 892
Каст (участник восстания Спартака) 250
Кастор и Поллукс, их культ 839, 875
Каталония 245
Каталина, см. заговор Каталины; Сергий
Катон, см. Порций
Катул, см. Лутаций
Катулл, см. Валерий
Каций, Тит 826, 834, 868 сноск.
квадривиум, средневековый 811
квесторы 58
~ инициируют уголовные дела 578 ~ и казна 656
~ квесторы по делам об отцеубийстве (parricidi quaestores) 576 ~ в провинциях 671—674, 682 ~ реформы Суллы 227, 228, 572 ~ на Сицилии 682, 685 ~ увеличение их числа 227, 364, 572 квиндецемвиры священнодействий 363, 473, 841, 857 Квинкций (легат 82 г. до н. э.) 220
Квинкций, Луций (трибун 74 г. до н. э., претор 68 г. до н. э.) 241, 250, 263, 277, 367-368, 910
Квинкций, Публий (подзащитный Цицерона) 39
Квинкций Фламинин, Тит (консул 198 г. до н. э.) 598 сноск., 660, 803 сноск., 865
Квинтилиан 796, 805, 823, 827
Кельтаберия 1 Ас, 8 ВЬ—Са, 35, 36, 78, 245, 247, 902, 903
Кельты 12 Ab—Bb, 36, 284; см. также отдельные племена и в статье галлы
Кенаб (совр. Орлеан) 12 ВЬ, 458, 459, 463
Кендебей (полководец Селевкидов) 321
керамика
~ амфоры 37, 59, 708-709, 721, 723-724, 726 ~ доходы сенаторов от ее производства 741 ~ италийский экспорт 37, 735, 737 - черная глянцевая кампанская керамика 37 ~ элитная керамика 724 Керас 5 Еа, 154, 158
Указатель
1063
Керкеосирис 7 7 Аа, 345, 347—348 Керкина, остров 2 Ае, 45, 131 сноск.
Кибела, ее культ 160, 876 Кибистра 9 Сс, 295 Кизик 7 Ес, 5 Ва, 9 ВЪ, 14 СЬ
~ просит Рим о защите 46
~ в Митридатовых войнах 185, 263, 264, 265, 273, 911 ~ лишение свободы во время гражданской войны 497 Киликия 7 Fd, 5 Сс, 9 Сс, 14 СЬ
~ становится преторской провинцией 50, 117, 158, 665; см. также «Закон о борьбе с пиратами»
~ командование Марка Антония (102 г. до н. э.) 117, 901 ~ Тигран аннексирует равнинную Киликию 267, 293 ~ кампании Сервилия Ватии 237, 239—240, 260—261, 278, 911 ~ командование Марка Антония (74 г. до н. э.) 240, 261, 278, 573, 911
- командование Лукулла 261, 262, 367 ~ командование Марция Рекса 278, 367
~ командование Помпея, см. Помпей Магн, Гней ~ распоряжения Помпея 295, 296, 299, 300 ~ присоединение Кипра 353 ~ наместничество Габиния 423 ~ наместничество Аппия Клавдия Пульхра 682, 688 ~ проконсульство Цицерона, см. Туллий Цицерон, Марк
*
~ горные племена 295, 296, 299, 688 ~ греческие города 296, 299 ~ наемники в Иудее 329 см. также пираты кимвры
~ войны с ними (114—111 гг. до н. э.) 840, 897, 900
- наносят поражение Силану 113
- наносят поражение римлянам под Араузионом (105 г. до н. э.) 38,
51, 52, 113, 899
~ кампании Мария (104—101 гг. до н. э.) 38, 54, 115, 117, 130, 191, 363, 899, 901
~ и Митридат 163, 167 Кимиана 297 Кимиата 153
Киммерийский Боспор, см. Крым Кинар (разбойник в Финикии) 289 Киос 5 Ва, 153 Кипр 7 Fd, 9 Сс, 14 СЬ
~ и Птолемей УШ Эвергет 30, 341, 345, 891
1064
Указатель
~ и Птолемей IX Сотер П 349, 350 ~ и Птолемей X Александр I 349, 350 ~ завещан Риму 349
~ предоставляет корабли для римского флота (88 г. до н. э.) 183 ~ правление Птолемея Кипрского 290, 352 ~ аннексирован Римом 353, 365, 423, 428, 436, 918 ~ Цезарь возвращает Кипр Египту 355 Кир, река 9 ЕЬ, 285, 286 Кирена, Киренаика 1 De, 9 Ad, 14 Bb
~ правление Птолемеев 30, 343, 349 ~ завещана Риму 349, 903 ~ аннексирована Римом 353, 365, 911 ~ в гражданской войне 486, 488, 923 Киррестика 467 Клавдии 62, 432
Клавдий, Аппий (военный трибун 87 г. до н. э.) 202 Клавдий Азелл, Тиберий 77 Клавдий Глабр, Гай 249 Клавдий Квадригарий, Квинт (анналист) 819 Клавдий Марцелл, Гай (консул 50 г. до н. э.) 457, 464, 468, 922 Клавдий Марцелл, Гай (консул 49 г. до н. э.) 470, 472, 475, 476, 922 Клавдий Марцелл, Марк (консул 166, 155, 152 гг. до н. э.) 35 Клавдий Марцелл, Марк (консул 51 г. до н. э.) 462, 464, 466, 507, 920, 794 сноск.
Клавдий Нерон, Тиберий (претор 42 или 41 гг. до н. э.) 501 сноск. Клавдий Пульхр, Аппий (консул 185 г. до н. э.) 61 Клавдий Пульхр, Аппий (консул 143 г. до н. э.) 67, 77, 83, 85, 778 Клавдий Пульхр, Аппий (консул 79 г. до н. э.) 199, 204, 206, 233, 237, 908 Клавдий Пульхр, Аппий (консул 54 г. до н. э., цензор 50 г. до н. э.)
~ посольство к Тиграну, царю Армении 267 ~ противодействует возвращению Цицерона 432 - консульство 440, 448, 920 ~ наместник в Киликии 682, 688 ~ цензура 470, 472, 920 ~ и философия 837 сноск.
~ религиозный энтузиазм 871
Клавдий Пульхр, Аппий (племянник консула 54 г. до н. э.) 470 Клавдий Пульхр, Гай (консул 177 г. до н. э.) 577 сноск.
Клавдий Пульхр, Гай (консул 92 г. до н. э.) 600, 904 Клавдий Пульхр, Гай (претор 56 г. до н. э.) 431 Клавдий Пульхр, Публий (консул 249 г. до н. э.) 840 Клавдиополь 169 клады, монетные 516
Указатель
1065
Клазомены 5 Ab, 9 Вс, 188, 277 Кланис, река 3{i) Ва—Ь, 219 классы, цензовые 74, 727 клевета 629
Клелий, Секст 422, 434, 456, 460
Клеомен Ш, царь Спарты 83
Клеон (вождь восстания рабов на Сицилии) 40
Клеопатра П, царица Египта 343—345, 347, 348, 897, 929
Клеопатра Ш, царица Египта 327—328, 344, 347, 348, 897, 929
Клеопатра УП Тея Филопатор, царица Египта 354, 487
~ совместное правление с Птолемеем ΧΙΠ 303, 354, 921 ~ ухудшение качества чеканки 355 ~ и Александрийская война 487 ~ связь с Цезарем 354, 492, 923
- совместное правление с Птолемеем XIV 354
- в Риме 354, 355, 487, 519
~ возвращается в Египет 532 ~ связь с Марком Антонием 354
- смерть 354
Клеопатра Береника Ш, царица Египта 348, 352, 360, 929
Клеопатра Селена (царица Египта и Сирии) 289, 929
Клеопатра Трифена 353, 929
Клеопатра, царица Армении 166
Клеохар (командующий гарнизоном Синопы) 274
Клепий, Тит 147
клерухи в Египте 347, 348, 358
клиентела, см. патронат
климат
~ в Египте 356, 357 ~ в Италии 703
Клодий, Сервий (грамматик) 798 сноск.
Клодий Пульхр, Публий (трибун 58 г. до н. э.)
~ вражда с Лукуллом 272, 379
~ поддерживает притязания Филиппа на трон Селевкидов 289 ~ и суд над Каталиной 383
~ привлечен к суду за святотатство 402—405, 409, 581, 851—852, 859, 916
~ распределение квесторской провинции 404, 405
- переход в плебеи 406, 415, 918 ~ и выборы трибунов 415—416
~ угрозы Цицерону 415, 418—420, 424—425, 566, 859 ~ трибунат 419, 420—426, 918
~ бесплатное распределение зерна 353, 420—421, 429, 452—453, 918
1066
Указатель
~ восстанавливает коллегии 421, 596 ~ ограничивает полномочия цензоров 421, 462 ~ и назначение консульских провинций 422, 665 ~ и аннексия Кипра 353, 422, 428 ~ ссора с Помпеем 429, 430
~ оспаривает законную силу распоряжений Цезаря 422, 429 ~ и возвращение Цицерона 471 ~ и дефицит зерна 434—435 ~ квиндецемвир священнодействий 436 ~ и восстановление Птолемея Авлета 438 ~ сближение с Крассом 438, 439 ~ эдилитет (56 г. до н. э.) 438—439, 443 ~ суд над Милоном 15, 438—440, 577 сноск.
- срывает Мегалезийские игры 786, 859 ~ соискание претуры (53 г. до н. э.) 452
~ и распределение вольноотпущенников по трибам 452—453 ~ вооруженная борьба против Милона 453, 920 ~ смерть 455, 456, 581, 920 ~ похороны 455—456, 920
~ сторонники Клодия осуждены за насильственные действия (52 г. до н. э.) 458—460, 577 сноск., 581, 596, 610, 920
*
~ апеллирует к древним традициям 775 ~ использование ассоциаций плебса 775 ~ использование насилия 104, 429, 430, 435, 603 ~ политические воззрения 885
~ религиозное соперничество с Цицероном 782, 859, 860 Клоний, Публий (рабовладелец на Сицилии) 41 Клуенций, Луций 146
Клуенций Габит, Авл, обвинитель Оппианика 241, 584 сноск., 589, 610, 611 сноск., 910,
~ речь Цицерона в его защиту 241, 263, 603, 610 Клузий (совр. Кьюзи) 3(г) СЬ, 219, 220, 230 Клуния 8 Ва, 246, 247 Клупея 13 Ае, 502 сноск.
клятвы 17, 58, 135, 199, 203, 235, 398, 400, 523, 530-531, 541, 647, 748
~ в соблюдении закона (sanctio) 114, 118, 120—121, 414, 860—861 Книга Эсфири 310 «Книга Юбилеев» 310, 324—325 книги 798, 808
~ жреческие 869
- сборники оракулов
~ Нумы 814
см. также Сивиллины книги
Указатель
1067
Книд 5 Ас, 9 Вс, 14 СЪ, 184, 497
~ надпись с законом 101—100 гг. до н. э. 18, 30, 46, 50, 117, 633 сноск., 649
кожевенная промышленность 710, 721, 759 Коленда 35
коллегии (районные и торговые ассоциации) 67, 773, 776 ~ вольноотпущенники 777 ~ женщины в коллегиях 760, 773
- запреты и восстановление 385, 421, 515, 773, 783, 916, 924 ~ источники о коллегиях 746
~ италийские торговцы на Делосе 31
- и Клодий 421, 596
~ в Минтурнах 760, 773 ~ обеды 788
~ общественные работы 773 ~ политизация 603, 773 ~ религиозное значение 873 ~ созданные Августом 773, 783
- экономические связи в рамках коллегий 777 коллекции произведений искусства 512, 736, 789 Коллинские ворота 7 Ab
~ битва при Коллинских воротах 140, 220—221, 232, 908 колонии
~ Сципиона Африканского 36, 245, 659 ~ планы Гая Гракха 17, 42, 72, 96, 101, 102, 104, 502 ~ предложения Ливия Друза 102
- Нарбон Марсов 18, 38, 105, 119, 895
~ колонии Мария, см. в статье ветераны ~ и Сатурнин 119, 122, 502
- сулланские 198, 230—232, 235, 385, 693, 755; см. также в статье
ветераны
~ планируемые в 63 г. до н. э. 390
~ Помпей основывает Никополь 281, 297
~ колонии Цезаря 465, 500-508, 533, 535-536, 554, 693, 755, 922
- колонии Августа 693
*
~ вольноотпущенники в римских колониях 754—755 ~ в Италии 69, 96, 104, 215, 700, 716
~ сулланские 229—230, 231—232, 235 ~ на месте Карфагена 17, 42, 96, 101, 102, 104 ~ коренные жители 499, 503
~ предоставление гражданства в 99 г. до н. э. 120 ~ размер земельных наделов 72, 712, 714 ~ римская религия 876—878
1068
Указатель
~ роль народных собраний 60 ~ сельское хозяйство 710, 712, 716 ~ уставы 502
~ в Цизальпийской Галлии 129, 148 см. также в статьях ветераны; латины Колопена 9 СЬ, 297 Колофон 5 Ab, 173, 184 Колумелла 703, 715, 716 Колхида 4 СЬ, 2 Db, 156
- под властью Понта 151, 162, 163 ~ восстание (80-е годы до н. э.) 188 ~ вторжение Помпея 285
~ распоряжения Помпея 295 Ком Омбо 11 Вс, 352 Комана 5 Da, 160, 266, 297, 443 комедия 82, 753 комета (44 г. до н. э.) 538 Коминий, Публий, и его брат 377 комиции, трибутные 412, 578, 663, 745 комиции, центуриатные 59, 745
~ и возвращение Цицерона 433 ~ и всадники 109 ~ выборы магистратов 663 ~ имущественный ценз 73, 82, 98 ~ и новые граждане 368, 374, 433 ~ предложение Сулышция о реорганизации 393 ~ процедура голосования 59, 98, 198, 216 ~ реформы Суллы 198, 216
- и уголовные суды 60, 578 Коммагена 9 Cc—Dc, 289, 295 коммерция 724—727
~ и всадники 20, 45, 111, 128—129, 732, 734
- инвестиции, прибыли 70, 713
~ и италийские союзники 127—128, 175 ~ коммерческое право 618 ~ и мотивы Югуртинской войны 45 ~ и Нарбон Марсов 18, 105
~ сенаторы обходят запрет на коммерцию 365, 691, 732, 740—742, 763-765, 770-771 ~ техническая база 724—727 ~ экономические структуры 732—734 см. также предприниматели; торговля коммуникации, их скорость 627
Указатель
1069
компании, см. товарищества, деловые комперендинация (правовая процедура) 114 Компигалии (праздник) 375, 774, 787, 860 сноск. конвенты
~ организации римлян в колониях 502 ~ судебные округа 682 кондикция 631—632 кони, общественные 93, 110 конница
~ армянская 269 ~ парфянская 450 ~ понтийская 180 ~ римская 43, 44, 48, 53, 93
~ из Испании 35, 147, 673, 684 ~ смотр всадников 253 Коннокорик (командующий в Гераклее) 265 Консабура 243
Консидий, Публий 430, 479, 731 конституции, неримские ~ Амис 159
~ италийские союзники 130, 140 ~ Синопа 159
конституция, римская 55—69, 565—574
~ Август прекращает ее изменение 887 - инновации обосновываются древними обычаями 566, 775 ~ интеграция Италии и провинций 888—889 ~ народный элемент 56, 58—60, 61, 65, 68, 93, 744 ~ неадекватна потребностям империи 572, 591—592, 887 ~ нравы и обычаи предков как стандарт 565, 566, 572, 591—592, 834, 887
~ Полибий о ней 19, 55, 83, 365, 881—882 ~ суверенитет народа 84, 90, 96, 105, 118, 123 см. также право, публичное и отдельные институты консульство 58
~ консулы-плебеи 61—62
~ консульские полномочия как царская власть 523 ~ назначение провинций 58, 62, 98, 191 ~ наследование в рамках семьи 60—62, 106—107, 238 ~ повторное занятие 78, 85, 109, 111, 115, 117, 126, 206 ~ процедура выборов 58—59, 232 ~ требования к соискателям 126, 228 ~ обходятся 62, 250, 521 контракты 626—630, 645, 647, 650, 769
1070
Указатель
~ под залог земли 79 ~ сельскохозяйственные 639, 642, 715 ~ стипуляция 625 ~ строительные 722
см. также в статьях откупщики; цензоры Контребия 7 Вс, 8 Са
~ Контребийская таблица 36, 633, 636, 649, 651 Коракесий 9 Сс
~ морское сражение при нем 279 Кор дуба (совр. Кордова) 8 Вс, 36 Коринф 7 Dd, 6Ab, 14 Bb
~ разрушение 30, 47, 735
- раздел земли 18, 106, 119
~ Цезарь планирует колонию 502, 503, 755 ~ лавки 767
Корнелий (всадник, участник заговора Каталины) 395 Корнелий, Гай (трибун 67 г. до н. э.) 255, 369, 372, 386, 914
- суд над ним 377, 381—382, 914
Корнелий Бальб, Луций (старший, консул-суффект 40 г. до н. э.) 242, 480, 499, 500 сноск., 533
~ влияние на государственное управление 508, 520, 521 Корнелий Бальб, Луций (младший) 481, 500 Корнелий Блазион, Гней 663 сноск.
Корнелий Долабелла, Гней (умер в 100 г. до н. э.) 122 Корнелий Долабелла, Гней (консул 81 г. до н. э.) 226, 237, 908, 910 Корнелий Долабелла, Публий (консул-суффект 44 г. до н. э.) 926 ~ трибунат 488
- консульство, командование в Сирии 529, 532, 536 ~ объявление врагом 545, 926
~ отменено 550 ~ и Цицерон 540, 545
Корнелий Лентул, Луций (консул 199 г. до н. э.) 663 сноск.
Корнелий Лентул Клодиан, Гней (консул 72 г. до н. э.) 242, 249, 252, 912 Корнелий Лентул Крус, Луций (консул 49 г. до н. э.) 470, 473, 481, 484, 922 Корнелий Лентул Марцеллин, Гней (консул 56 г. до н. э.) 438, 918 Корнелий Лентул Марцеллин, Публий 353 Корнелий Лентул Нигер, Луций 419
Корнелий Лентул Спинтер, Публий (консул 57 г. до н. э.) 302, 353, 431, 437, 442, 852 сноск., 918
Корнелий Лентул Сура, Публий (консул 71 г. до н. э.) 912 ~ исключен из сената 252, 363 ~ возвращение в общественную жизнь 382 ~ и заговор Каталины 395, 396 ~ казнь 397, 571
Указатель
1071
Корнелий Маммула, Авл 667
Корнелий Мерула, Луций (консул-суффект 87 г. до н. э., фламин Юпитера) 200, 201, 203, 854, 906 Корнелий Непот 14, 800, 804, 822 ~ «Хроника» 821
~ «О знаменитых мужах» 813, 821, 824 Корнелий Сизенна, Луций (претор 78 г. до н. э.) 16, 254, 818-819 Корнелий Сулла, Публий (ум. в 45 г. до н. э.) 377, 380, 389, 390,405, 594 сноск., 914
Корнелий Сулла, Фавст 379, 457, 458, 512
Корнелий Сулла Феликс, Луций (консул 88, 80 гг. до н. э., диктатор 82—81 гг. до н. э.) 190—234
~ легат Мария в Нумидии 44, 115, 292 ~ наместник Киликии 166, 292, 904 ~ и парфяне 292
~ в Союзнической войне 142, 143, 146—147, 904 ~ избран консулом на 88 г. до н. э. 147, 190—191, 904 ~ и распределение новых граждан по трибам 193, 197 ~ соперничество с Марием за командование против Митридата 192— 196, 665, 904
~ марш на Рим 194—197, 206, 213, 665, 906 ~ изгоняет марианцев 196 - возвращает себе командование 197 ~ конституционное законодательство 197—198, 206, 216 ~ принимает командование на Востоке 172, 175, 177, 198—199, 350, 351, 906
~ Цинне не удается привлечь Суллу к суду 198—199 ~ кампании в Греции 54, 177—184, 275, 906
~ попытки лишить Суллу командования 182, 185, 186, 205, 207, 906 ~ переговоры с Архелаем 47, 182, 185—186, 188, 207—208, 906 ~ распоряжения в Азии 187, 288—289, 906 ~ пребывание в Афинах 187 ~ контакты с сенатом 209—212 ~ принимает агномен «Феликс» 188—189, 225 ~ гражданская война 213—223, 246, 908 ~ и Вторая Митридатова война 239, 260 ~ диктатура 223—234, 571, 573, 884, 908
~ конституционное законодательство 226—228, 230, 364—365, 554, 572, 651
~ отказ от диктатуры 232, 884 ~ консульство 80 г. до н. э. 226, 232, 233, 908 ~ смерть 234, 910
библиотека 797
1072
Указатель
~ браки 191—192, 233 ~ дипломатические способности 44, 215 ~ законодательство, см. право (законы (Корнелиевы))
~ записки 16, 189, 205, 820
~ игры в честь победы Суллы 232, 785, 786
~ источники о Сулле 36—37, 215
~ и италийские союзники 193, 197, 217, 230—231
~ колонии ветеранов 230—232, 235, 385, 507, 605—606, 693, 722, 755
~ и конституция 195, 197, 216, 227—228, 254
~ культ Венеры 864
~ и Марий Гратидиан 779—780
~ обращение с пленными 221—223
~ политические союзы 191—192, 250
~ и Помпей 222—223, 250
~ и порядок занятия должностей 227, 228, 232, 250, 571—573, 607, 908 ~ постоянные судебные комиссии 229, 572, 574, 579, 593, 595, 908 ~ и присяжные 590, 607—608 ~ и провинции 573, 686
~ проскрипции и политические убийства 22—123, 196, 211, 216, 218, 222-224, 227, 233, 387, 392, 483, 571, 908 ~ и религия 187, 195, 197, 199, 209, 215, 864
~ и сенат 195-197, 206, 207, 209-212, 216, 221, 225, 227, 229, 253, 455, 607, 884, 908
~ титулы 213—215, 236, 252, 864 ~ и трибунат 195, 197, 228, 364-365, 572, 579, 884, 908 ~ и трибы вольноотпущенников 230, 374 ~ и Цезарь 224, 483, 510, 854 ~ и цензура 228, 572 ~ чеканка 209, 864 ~ и Этрурия 506
Корнелий Сципион, Публий (консул 218 г. до н. э.) 658 Корнелий Сципион Азиатский, Луций (консул 83 г. до н. э.) 215—217, 224, 906 Корнелий Сципион Африканский, Публий (консул 205, 194 гг. до н. э.) 36, 111
~ проконсульский империй в Испании 663 сноск.
~ испанские кампании 524, 658, 667 ~ расселяет ветеранов в Италике 36, 659 ~ командование в Африке и народная поддержка 111, 665 ~ придает значение собственной чести (dignitas) 528, 863 Корнелий Сципион Назика Серапион, Публий (консул 138 г. до н. э.) 20, 76, 85, 87, 97, 785
Корнелий Сципион Назика Серапион, Публий (консул 111 г. до н. э.) 107, 835, 896
Указатель
1073
Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Нумантийский, Публий (консул 147, 134 гг. до н. э.)
~ первое консульство, полученное благодаря особому разрешению 61 ~ получает командование в Африке путем плебисцита 110, 665 ~ разгром Карфагена и послевоенное урегулирование 41, 58, 855 ~ цензура 76, 778 ~ и выборы 142 г. до н. э. 67 ~ посольство в Египет 344 ~ и Кассиев закон 77, 84
~ второе консульство, освобождение от действия закона путем плебисцита 77
~ Нумантийская кампания 34, 36,43, 51,52,54, 78—79, 90,110, 667, 890 ~ и Тиберий Гракх 20, 67, 90 ~ и перераспределение земли 90, 91, 125
~ смерть 92, 788, 890 *
~ встреча с Полибием 797 ~ и греческая политическая мысль 69 ~ жена 92
~ о моральном упадке и расточительности 20, 76, 77 ~ народная поддержка 82, 778 - речи 17, 20, 76
Корнелий Хрисогон, Луций 225, 233, 713 Корнелий Цетег, Гай 396, 397, 663 сноск.
Корнелий Цетег, Публий 213, 240
Корнелий Цинна, Луций (консул 87, 86, 85, 84 гг. до н. э.) 199—213, 906 ~ консульство в 87 г. до н. э. 199
~ и распределение новых граждан по всем трибам 200, 212, 906 ~ захват власти в Риме 199—205, 211, 246, 906 ~ владычество (86—84 гг. до н. э.) 199, 205—211, 228 ~ мероприятия против Суллы 182, 185, 208, 210 ~ убийство 210, 212 ~ оценка 210—211 ~ чеканка 212
Корнелий Цинна, Луций (претор 44 г. до н. э.) 237, 484, 532
Корнелия (мать Гракхов) 96
Корнелия (дочь Цинны, жена Цезаря) 224
Корнелия (жена Публия Красса, затем Помпея) 459, 486
Корнут, см. Цецилий
коррупция
~ античные теории 24—25, 64
~ коррупция сенаторов 95, 252, 365, 367, 371, 404—405 ~ меры Гая Гракха против коррупции 99
1074
Указатель
~ в провинциях 35, 40, 372, 404—405; см. также Веррес, Гай см. также подкуп
Корсика 7 Сс, 2 Ab—с, 13 Ab—с, 14 Ва—Ь, 119, 231, 662 Корупедий 153
Корфиний 2 Вс, 3(i) De, 13 Вс, 14 Ва, 140, 143, 146, 476, 477, 505 Кос 7 Ed, 5 Ас, 171, 172, 184, 349, 351 Коса 3(г) Вс, 13 Ас
~ битва при Косе 237 ~ Косанское поле (ager Cosanus) 73, 715 Косконий, Гай (претор 89 г. до н. э.) 147, 237 Косконий, Марк (претор 135 г. до н. э.) 46 Коссиний, Луций 249 Коссира 2 Ае, 222 Котиора 5 Еа, 154 Котта, см. Аврелий
кража 613 сноск., 628, 629, 630 сноск., 636, 639, 644
Крантор 829
красноречие
~ греческое влияние 617, 825
~ италийских союзников 130
~ как народное развлечение 792, 825
~ развитие латинского красноречия 617, 793—795, 804, 904
~ специализация 617
~ спор азианистов и аттицистов 824—825
~ стоическое 835
~ судебное 610—611
~ трактаты о красноречии 14; см. также «Риторика для Геренния» и в статье Туллий Цицерон, Марк - Филодем о красноречии 831—832 ~ Цезаря 382, 865
~ цицероновский идеал 232—233, 822—825 ~ эпикурейское 831 Красе, см. Лициний Кратет из Малла 793, 810 кредит
~ кризисы 692 ~ и торги 740 Кремона 2 Аа, 13 Ab, 37
кризис Республики; античные теории 13, 18—23, 55, 881—889 Крикс (участник восстания Спартака) 249 Крит 7 Ed, 9 Ас—Вс, 14 ВЬ—СЪ, 727
~ победа пиратов над Марком Антонием (71/70 г. до н. э.) 278 ~ командование Квинта Метелла 278, 279, 281, 367, 376, 912
Указатель
1075
Крокодилополь 7 7 Аа, 347 Крым (Киммерийский Боспор) 4 Ва
~ и Митридат 151, 162, 188, 257, 266, 274, 282, 283, 915 ~ при Фарнаке П 488, 925 ~ распоряжения Помпея 295, 299
ксенофобия, римская 125—126, 193—194, 751—754; см. также изгнание из Рима Ксенофонт, «Анабасис» 158 кумранская община 10 ВЪ, 310, 332—337 ~ тексты 310, 332—335
купля-продажа (emptio venditio), правовое регулирование 624, 626—627, 650
Куриаций, Гай (трибун 138 г. до н. э.) 77
Куриево судебное дело (causa Curiana) 617 chock., 642
Курий (главарь испанских разбойников) 36
Курий, Квинт 395
Курий, Маний 617 сноск., 642, 684
курии (подразделения плебса) 775
Курион, см. Скрибоний
курия, см. Рим (здание сената) 41
Курубис 13 Ае, 501, 502 сноск.
Курций, Гай (сенатор из Волатерр) 507, 510 курьеры 676
Аабиен, Тит (трибун 63 г. до н. э.) 124, 389, 392, 399 сноск., 430, 454, 858 ~ в Галльской войне 428—430, 432-433, 454, 460, 463, 466 ~ в гражданской войне 474, 476—477, 488—491 ~ и Цингул 149 сноск., 476 лавки (tabernae) 759—770 Лаврий, серебряные рудники 720 сноск.
Лаврон 8 СЬ, 245, 255, 911 Лакобрига 8 Ас, 243
Лампоний, Марк (претор луканов) 142, 147, 220, 221 Лампсак 9 ВЬ, 264, 503 Ланувий 3(Щ Аа, 7 ВЬ, 203, 368, 750 Лаодика (жена Митридата П Понтийского) 154 Лаодика (жена Митридата V Понтийского) 155, 156 Лаодика (дочь Митридата IV Понтийского) 154 Лаодика (дочь Митридата V Понтийского) 155, 164—166 Лаодикея на Лике 5 ВЬ, 49, 170, 277, 676 сноск.
Ларин 3(й) Са, 147, 224 Лары Компитальские, их культ 31, 860 Ласкутанская Башня (turris Lascutana) 36, 661 латинский язык 513, 809—811 ~ литература 805, 817
1076
Указатель
~ мастерство Цицерона 822—823 ~ риторика 793, 795—796, 823, 904 ~ философская терминология 804, 826—827 Латины
~ сельское хозяйство и землевладение 73, 81, 704, 705 ~ в армии 102, 428, 568 сноск.
~ колонии
~ восстание Фрегелл 18, 94, 96, 126 ~ заморские 497, 449—500 ~ новые 36, 148
~ в Союзнической войне 137, 141, 142, 145, 148 ~ миграция в Рим 102, 750
- права 81, 101, 568 сноск.
~ и римское гражданство 94, 101, 123, 126—127, 148—149
~ транспаданские колонии 148—149, 382—384, 464—465, 497, 498, 504 сноск., 924
- при Сулле 230 ~ численность 697
латифундии, см. сельское хозяйство Латополь 7 7 Вс, 350
Лафрений, Тит (претор пиценов) 142, 144 лацетаны 8 Са, 245 Лебадея 6 Аа
~ оракул Трофоьшя 215 легаты, провинциальные 672, 673, 682 легисакции 586, 615, 631—632
~ сакраментальные 583—584, 631
Лелий, Гай (консул 140 г. до н. э.) 67, 69, 76—79, 402, 542—543, 582 сноск., Лелий, Децим (легат Помпея) 245, 255 Лемнос 5 Ab, 9 Ab, 264 лён 759
Ленат, см. Помпей, Попиллий Лентул, см. Корнелий
Леонипп (командир гарнизона в Синопе) 274 Леонтины 2 Bd, 39
~ Леонтинское поле (ager Leontinus) 39 Леонтокефалы 5 Bb, 170 Леонтополь 7 7 Аа, 330, 332 Лепид, см. Эмилий Лесбос 5 Ab, 14 Cb, 171, 184, 486 лесные ресурсы 158—159, 177, 704, 711, 721 лесоводство 39, 704, 706, 707-710 летосчисление
Указатель
1077
~ иудейское 315 ~ понтийское 153, 173 Либералии 530, 533, 536 сноск.
Либон, см. Скрибоний
Либурния 7 De, 2 Bb—Cb, 210, 211
Ливан 320
Ливий, Тит 14
Ливий Андроник, Луций 804
Ливий Друз, Гай (консул 147 г. до н. э.) 665
Ливий Друз, Марк (консул 112 г. до н. э.) 46, 102, 568 сноск., 896, 898 Ливий Друз, Марк (трибун 91 г. до н. э.) 69, 123, 132 сноск., 136, 140, 144, 192, 193, 238, 904
- трибунат 133—135, 608, 904 ~ убийство 134, 135, 190, 904
Ливий Салинатор, Марк (консул 219 г. до н. э.) 585 сноск. лигуры 7 Сс, 2 Ab
~ расселение (180 г. до н. э.) 751
~ повторное подчинение Массилии (155—154 гг. до н. э.) 37 ~ римское завоевание (125—124 гг. до н. э.) 38, 894 ~ кампании (117 г. до н. э.) 895
- и вторжение германцев 130—131
~ урегулирование после Союзнической войны 148 ~ и Метелл Пий 213 ~ и восстание Лепида 236 ~ и кампания Помпея против пиратов 371 ~ и Мутинская война 548 ~ социальные институты 705 ~ производство шерсти 721 Ликаония 5 СЬ, 9 Сс
~ римский контроль 50, 117, 118, 158 ~ в Мигридатовых войнах 169, 260, 261, 265, 295, 365 Ликия 7 Ed, 9 Вс, 49, 879
~ в Мигридатовых войнах 168—171, 174, 187, 260 ликторы 171, 226, 232, 368, 369, 380, 398, 411, 412,451, 471 сноск., 487,515,519, 524, 672, 802
Лилибей 2 Bd, 13 Bd, 14 Bb, 40, 222, 682, 685 Лисий (наместник Иудеи) 312 Лисимах (товарищ Александра) 153 литература
~ греческий язык 803—804, 875 ~ патронат 886 ~ посвящения 800—801 ~ чтение вслух 792—793, 795
1078
Указатель
см. также отдельных авторов и жанры, а также в статьях латинский язык, перевод
Лициний или Луцилий, Секст (трибун 87 г. до н. э.) 205 Лициний, Секст (трибун 138 г. до н. э.) 77 Лициний Красе, Гай (трибун 145 г. до н. э.) 76, 857—858 Лициний Красе, Луций (консул 95 г. до н. э.) 902 ~ и основание Нарбона Марсова 38, 105 ~ и предложение Цепиона о присяжных 113
- изгнание чужеземцев из Рима 123, 751
- и судебное дело Курия 617 сноск.
~ смерть 135
~ интеллектуальные занятия 793, 795—796, 799, 803, 805, 821, 824, 826, 832-834
Лициний Красе, Марк (консул 70, 55 гг. до н. э., триумвир)
~ в Испании 206
~ в гражданской войне 213, 219, 221, 224, 249 ~ и восстание Спартака 249—250, 912
- первое консульство 250—256, 268, 912
~ восстановление прав трибунов 252, 255 ~ примирение с Помпеем 251, 256 ~ политика в 60-е годы до н. э. 383—384 ~ цензор 302, 352, 383—385, 916
~ предлагает аннексировать Египет 302, 352, 383—385, 914 ~ и законопроект Рулла 388 ~ и заговор Каталины 394, 397
- и восточные распоряжения Помпея 405
~ и пересмотр азиатского налогового контракта 406, 414 ~ союз с Цезарем и Помпеем 408, 410, 412, 419, 918 ~ и Клодий 423, 424, 438, 439
~ и восстановление Птолемея Авлета 302, 438, 439, 445, 446-447 ~ защищает Целия и Сестия 611 ~ встреча с Цезарем и Помпеем в Луке 302, 440, 919 ~ второе консульство с Помпеем (55 г. до н. э.) 440, 444-446, 451, 596-597, 603, 918, 920 ~ нападки Агенобарба на Красса 448
~ сирийское командование 111, 292, 294, 445-448, 450-451, 491, 665, 918, 920, 921
*
~ богатство и финансовая деятельность 224, 252, 404, 445, 447, 712, 722, 738, 740, 741
~ интеллектуальные занятия 800 ~ политический стиль 383—384
Указатель
1079
- публичные благодеяния 252
~ соперничество с Помпеем 251, 252, 256, 302, 405, 438, 439, 440 Лициний Красе, Публий (консул 97 г. до н. э.) 203, 204, 902 Лициний Красе, Публий (погиб в 53 г. до н. э.)
~ в «Записках о Галльской войне» 430, 433, 444, 445, 448
- Парфянская кампания 445—446, 447, 450, 459 ~ и Цицерон 543
Лициний Красе Муциан, Публий (консул 131 г. до н. э.) 49, 75, 83, 85, 91, 642, 712 сноск., 890, 891
Лициний Лукулл, Луций (претор 103 г. до н. э.) 40 Лициний Лукулл, Луций (консул 74 г. до н. э.) 910 ~ и марш Суллы на Рим 196
~ в Первой Митридатовой войне 172, 177, 178, 183—185, 207—208, 351 ~ и распоряжения после войны 188 ~ сулланец 229
~ консульство 239—241, 261—263, 910
- в Третьей Митридатовой войне 263—273, 910, 911, 913, 915 ~ реорганизация Азии 268, 273—277, 913
~ вторгается в Армению 268—273, 297, 363, 913, 915 ~ контактирует с Парфией 269, 270—272, 281, 293 ~ переговоры с Антиохом Коммагенским 289 ~ смещен с поста командующего 273, 278—281, 367, 369, 376, 378—379, 915
- триумф 379—380, 391, 399, 916
~ и восточные распоряжения Помпея 402, 405 ~ публичное унижение перед Цезарем 415 ~ противодействие Помпею 418—419, 425
*
~ богатство и роскошь 367, 369, 712, 778
~ интеллектуальные занятия 16,724,794 сноск., 797—799,801,803—804 ~ и Клодий 272, 379
Лициний Макр, Гай (трибун 73 г. до н. э., претор 68 г. до н. э.) 238, 241—242, 367, 377, 384, 910
~ история Рима 366, 385, 388, 398 сноск., 818 Лициний Макр Кальв, Гай (82—47 гг. до н. э.) 404, 799, 825 Лициний Мурена, Луций (пропретор 84 г. до н. э.) 160, 181, 187,188, 240, 257, 260, 907, 908
Лициний Мурена, Луций (консул 62 г. до н. э.) 284, 386, 393, 396, 400, 419, 595 сноск., 788, 797, 916
Лициний Нерва, Публий (претор 105 г. до н. э.) 40 Лициний Столон, Гай (трибун 376—367 гг. до н. э.) 71, 86 Лицинии, политическая традиция 62
1080
Указатель
Аициния (жена Гая Гракха) 644
лишение огня и воды (interdictio aquae et ignis, изгнание) 515, 516, 570, 591, 650,922
логика 828
Лоллий Паликан, Марк (трибун 71 г. до н. э.) 242, 255, 372—373 Лугдун (совр. Лион) 502 сноск.
Лугдун Конвенов 248
Лузитания 1 Ас, 8 Ab, 75, 890, 901, 902
- кампании 150-х годов до н. э. 34, 585, 668 ~ и Серторий 206, 243, 245 ~ рудники 722 сноск.
Лука (Лукка) 3(г) Аа, 13 Ab, 14 Ва
~ конференция (56 г. до н. э.) 440, 443, 918 Лукан 20—23, 95 Лукания 2 Вс—Сс, 3(0) Db—Eb
~ перераспределение земли (132 г. до н. э.) 91 ~ в Союзнической войне 137, 140, 142, 145, 147, 148 ~ в гражданской войне 219—202, 231 ~ сельское хозяйство 231, 704, 705 см. также Валь-ди-Диано Лукреций Афелла, Квинт 191, 218, 220, 221, 226 Лукреций Кар, Тит (поэт) 809—810, 817, 827, 832, 834, 886 Лукулл, см. Лициний; Теренций Лукцей, Луций 16, 818—819 Луперкалии 523 сноск., 524—525, 869 луперки 774
Лусций, Луций (наемный убийца при Сулле) 387 сноск.
Лутаций Катул, Квинт (консул 102 г. до н. э.) 204, 221, 363, 900 ~ интеллектуальные занятия 817, 820, 833 Лутаций Катул, Квинт (консул 78 г. до н. э.)
~ при Сулле 223, 229 ~ консульство 234г-236, 238, 604, 910 ~ и суд по делам о насилии 234, 604—605 ~ подавляет восстание Лепида 236—237, 910 ~ противник трибунской власти 238, 381 ~ и храм Юпитера Капитолийского 363, 399, 512 ~ лидер сената 363, 381, 393, 408
~ возражает против поручения командований Помпею 371, 376 ~ и суд над Гаем Корнелием 381 ~ нападки на Цезаря 382 ~ и суд над Каталиной 383 ~ цензура 352, 383—385, 916
~ проигрывает Цезарю выборы верховного понтифика 392—393
Указатель
1081
~ и заговор Каталины 395, 398 сноск.
~ обвинен Цезарем в растрате 399 ~ и суд над Клодием за святотатство 402-404 ~ смерть 408
Лутеваны Форонероновы 501 сноск.
Луцерия 2 Вс, 3(й) Са, 13 Вс, 91, 476
Луцилий или Лициний, Секст (трибун 87 г. до н. э.) 205
Луцилий, Гай (сатирик) 528, 585, 587, 651, 726, 803
люстры (церемонии очищения) 362—365, 367, 368, 375, 383, 385, 406, 408, 421, 449, 462-463, 734
Ма, ее культ 160, 196, 215
Мавретания 1 Ad, 14 Ab, 43, 44, 115, 292—293, 498, 490 Магий, Нумерий (офицер в армии Помпея) 480-481 магистраты 58, 571—572
~ ауспиции 855—856 ~ и ведение войны 58
~ государственно-правовой контроль над ними 572—574, 599—600, 609 ~ законодательство Суллы о магистратурах 227—229, 571—574 ~ и законотворчество 58—59, 120 ~ империй 104, 572—573, 663 ~ имущественный ценз 56, 62
~ латинские магистраты и римское гражданство 126, 148 - низложение 84—85 ~ новые люди 110—111 ~ ограничения на переизбрание 86, 228 ~ плебеи 62
~ право принуждения 567—568 ~ председательствующие 61, 101, 121
~ привлечение к суду некомпетентных магистратов 78, 113, 116 ~ пророгация 23, 27, 58, 663, 863, 883 ~ и распределение земли 717 ~ реформы Августа 574 ~ семейная преемственность 61—63, 238 ~ и советы при них 673—674
~ и управление провинциями 19, 30—31, 58, 228—228 ~ Цезарь увеличивает их число 518 ~ и частное право 630
см. также выборы; карьера, должностная; провинции и статьи об отдельных магистратурах магия 876, 871-872
Магнезия на Меандре 5 Ab, 168, 171, 187, 495 сноск.
Магнезия у Сипила 51
1082
Указатель
Магнезия, в Фессалии 9 Ab, 175, 178, 179
Магон (карфагенский агроном) 70, 804 сноск., 806 сноск.
Мазака 5 Db, 9 Сс, 158, 299 Майер, Кристиан 26—27 Макалистер, Р.-А.-С. 320 Македония 1 De, 9 Ab, 14 Bb
~ Третья Македонская война 51, 656, 796—797 ~ четыре независимые республики 46, 656, 658 ~ восстание Андриска 46, 658, 662 ~ аннексия Римом 30, 46, 658, 662
~ войны (со 119 г. до н. э.) 46, 50, 52, 117, 667, 895, 896, 900 ~ закон 101—100 гг. до н. э. об управлении 117, 119 ~ и Митридат VI 173, 177, 178 ~ кампания Аппия Клавдия 237, 239 ~ наместничество Пизона 423, 441, 665, 674 ~ преторская провинция (56 г. до н. э.) 441 ~ провинция Антония 532 - господство Брута 544—545, 927
*
~ злоупотребления наместников 237—238, 585 сноск., 674 ~ рудники 661, 720 сноск., 729 ~ управление Грецией из Македонии 662 ~ чеканка 48, 728
Маккавейские книги 307, 312, 315, 319, 339
Макр, см. Лициний
Мактар 2 Ае, 43
Малала, его хроника 525
Малл 9 Сс, 297, 793, 810
Маллий Максим, Гней (консул 105 г. до н. э.) 38, 52, 113, 116, 898 Мамилий Лиметан, Гай (трибун 110 г. до н. э.)
~ Мамилиев суд (quaestio Mamilia) 108, 110, 599, 898 Маммула, см. Корнелий мандубии 12 ВЬ, 461
Манилий, Гай (трибун 66 г. до н. э.) 279, 374, 375, 376, 380, 381, 384, 393, 452, 914
см. также в статье законы (Манилиев)
Манилий, Маний (консул 149 г. до н. э.) 582, 642, 643
Манлий Ацидин, Луций (командир в Испании в 206 г. до н. э.) 663 сноск.
Манлий, Гай (лидер мятежников) 394, 396, 401, 569, 571 сноск.
Манлий, Гней (претор 72 г. до н. э.) 249
Манлий, Луций (наместник Трансальпийской Галлии в 78 г. до н. э.) 243
Манлий Вульсон, Гней (консул 189 г. до н. э.) 20
Манлий Империос Торкват, Тит (консул 347, 344, 340 гг. до н. э.) 22
Указатель
1083
Манлий Капитолийский, Марк (консул 392 г. до н. э.) 90 Манлий Манцин, Тит (трибун 107 г. до н. э.) 166, 168 сноск., 665 Манлий Торкват, Луций (консул 65 г. до н. э.) 377, 378, 380, 383, 914 манципация 624, 636—637
манципируемые и неманципируемые вещи («res mancipi» и «nec mancipi») 624, 636-637, 646
Марий, Гай (консул 107, 104—100, 86 гг. до н. э.) 898—901, 904, 906 ~ происхождение 110 ~ военная карьера 79, 110 ~ плебейский трибун 105, 110, 894 ~ первое консульство (107 г. до н. э.) 59, 109—111, 898 ~ командование против Югурты 44, 50,51,109,111,115,191, 664—665, 899,900
~ второе консульство (104 г. до н. э.) 115, 900
~ война с кимврами и тевтонами 38, 54, 115—117, 131, 191, 363, 900— 901
~ консульские выборы (100 г. до н. э.) 117 ~ и Сатурнин и Главция 119—122, 124, 131 ~ поездка в Азию 165
~ во время Союзнической войны 142, 143, 146, 904 ~ соперничество с Суллой за командование против Митридата 193— 196, 665, 904
~ защищает Рим от Суллы 196 ~ изгнан 197, 906
~ занимает Рим вместе с Цинной 201—205, 906
~ смерть 205 *
~ бардиеи (телохранители) 204, 205 ~ военные реформы 52—54 ~ источники о нем 16, 22—23 ~ и италийские союзники 119—120, 131, 201, 246 ~ концентрация власти 191, 228 ~ его культ 863—864
~ обвинения в подкупе избирателей 110, 117, 594, 596 ~ патрон Стения из Терм 684 ~ политическая опора 109—112, 193, 246 ~ посмертная репутация 225, 227, 363, 382, 489, 505, 820 ~ расселение ветеранов 4^-45, 112, 115, 119—121, 131, 382, 900 ~ честность ill
Марий, Гай (консул 82 г. до н. э.) 217, 218, 220, 222, 224, 908 Марий Гратидиан, Марк (претор 86 г. до н. э.) 198, 200, 202, 740 ~ эдикт о чеканке 206, 606, 730, 780, 781, 864, 906 ~ убийство 221, 387, 780
1084
Указатель
Марий Эгнаций, самнит 142, 143, 147
Марисса 10 Ab, 324, 325
Марк Аврелий, император 819
марруцины 3(г) Ес, 137, 143, 146
Марс, его культ 362, 512, 525, 774
марсы 3(i) De, 3(ίΐ) Ва, 137, 140, 142, 143, 146, 213, 510
Мартино, Ф. де 27
Марцелл, см. Клавдий
Марцеллин, см. Корнелий
Марций Рекс, Квинт (консул-суффект 68 г. до н. э.) 894
~ командование против пиратов 273, 278, 280, 289, 367, 376 ~ задержка триумфа 379—380, 394 ~ подавление крестьянского восстания 394, 396, 400 Марций Фигул, Гай (консул 64 г. до н. э.) 383, 916 Марций Филипп, Луций (консул 56 г. до н. э.) 436 сноск., 533, 543, 918 Марций Филипп, Луций (консул 91 г. до н. э.) 115, 134, 135, 144, 206, 207, 218, 234, 236, 237, 245, 595 сноск, 904, 906 Марций Цензорин, Гай 204, 219—221 Масада 10 Вс, 329 Массива, сын Гулуссы 44, 897 Массилия (Марсель) 1 Вс, 12 Вс, 14Аа
~ римляне защищают ее от галлов 37—38, 893 ~ осада Массилии Цезарем 482-483, 505, 923 ~ возвращение ее земель 544 ~ и Секст Помпей 547
*
~ греческая культура 37, 500 ~ прибежище изгнанников 224, 395—396, 670 ~ торговля 31 ~ чеканка 728
Мастарнабал, сын Масиниссы из Нумидии 43 мастерские (officinae) 760, 762, 767, 770 Матий, Гай 517, 526, 533, 538, 540 Матриний, Тит, из Сполеция 131 Маттафия (иудейский вождь) 307, 312 Мать Стата, ее культ 767 сноск, 777 Махар, сын и наместник Митридата VI 266, 282 Махерон 10 Вс, 328 машины
~ сельскохозяйственные 73, 706 ~ осадные 174, 177, 178 мебель, роскошная 20
Указатель
1085
Мегаполь (совр. Сивас), в Армении 9 СЬ, 273, 297
Мегара 6 ВЬ, 177, 496, 497
«Мегиллат Таанит» 311
Медамуд 352
Медева 7 О ВЬ, 324
Мединет-Абу 352
медицина 706, 797, 804, 811
медное литье 721
междуцарствия (interregna) 225, 444, 451, 453, 458
межевые камни (termini) 85, 91
Мейер, Эдуард 25, 492, 505
Мелий, Спурий 90, 398
Мелитена 295
Мелитея 9 Ab, 182
Меммий, Гай (трибун 111 г. до н. э.) 104, 105, 108, 121, 375, 599, 857 Меммий, Гай (зять Помпея) 222, 223, 246, 255 Меммий, Гай (претор 58 г. до н. э.) 375, 378—379, 422, 448, 463, 674 Мемнон, его «История Гераклеи Понтийской» 152,162,167, 179, 207, 270—271, 273-274
Мемфис 7 7 Аа, 343-345, 350-352, 259, 360, 891
Мемфит, см. Птолемей Мемфисский
Мен Фарнака, его культ 160
Менандр (комический поэт) 475, 513
менипповы сатиры, Варрона 366, 817, 827
менялы 729, 730-731, 761
меркуриалы 736 сноск., 774
Меркурий, его культ 31, 774
мертвые, их культ 862
Мерула, см. Корнелий
Месопотамия 9Dc-Ed, 267, 269-272, 283, 284, 289, 293-296, 301-333, 406 сноск., 444, 446, 450 Мессала, см. Валерий мессианство, иудейское 341—342
местное управление 297—298, 508—509, 514, 888; см. также муниципий местные уроженцы в колониях (incolae) 499, 503 место жительства, постоянное (domicilium) 748 металлообработка 158, 720—721
металлы, их ресурсы 35, 158, 719—720, 721—722, 737; см. также статьи об отдельных металлах Метелл, см. Цецилий Метеллин 8 ВЬ, 243 Метрополь 184
1086
Указатель
Метрофан (понтийский полководец) 175 миграция
~ в Венузию 137 ~ вольноотпущенников 754—756 ~ гельветов 414, 426, 428 ~ за море 701—702, 722, 724 ~ в Рим 59, 750-754 ~ из Рима 754—757
~ предпринимателей 724, 730, 735—736 ~ во Фрегеллы 126, 137, 701 см. также колонии, поселенцы Мидия 9 Ec—Fc, 167, 292; см. также Атропатена мидраши (иудейские толкования священных текстов) 311 миква (иудейский ритуальный бассейн для омовений) 321 Милет 9 Вс, 187 сноск., 277, 878 милитаризм, римский 23, 38—39, 79, 554—555 Милон, см. Анний Милоний, Гай 200, 202 мильные камни 46, 91—92, 347 Минаций Магий из Эклана 146
Мишурны 2 Вс, 3{ii) Ab, 13 Вс, 71, 508 chock., коллегия 760, 765 chock., 773, 787
Минуциево судебное решение (sententia Minutiorum) 633 chock., 649 Минуций Базил, Луций 495, 530 сноск.
Минуций Руф, Марк (трибун 121 г. до н. э., консул 110 г. до н. э.) 46,102—103, 896, 898
Минуций Терм, Квинт (трибун 62 г. до н. э.) 400
Минуций Терм, Марк (претор 81 г. до н. э.) 188
Минуций Феликс (флотоводец) 169
Мира 9 Вс, 350
Мирлея 5 Ва, 153
Мисия 1 Ес, 5 Ab—ВЬ, 49, 170
Мисгий 261
Митилены 5 Ab, 168, 169, 171, 187 сноск., 188, 496, 736, 802
Митра, его культ 876
Митридат I, царь Парфии 292, 317
Митридат П Великий, царь Парфии 167, 173, 267, 292
Митридат Ш, царь Парфии 442
Митридат I Ктист, царь Понта 153
Митридат П, царь Понта 154
Митридат Ш, царь Понта 154
Митридат IV Филопатор Филадельф, царь Понта 154—155, 879 Митридат V Эвергет, царь Понта 154—155, 895; см. также в статье Понт Митридат VI Евпатор, царь Понта 151—189
Указатель
1087
~ рождение 155
~ бегство во внутренние области 151, 155—156 ~ правление, см. в статье Понт ~ свержение и смерть 283—284, 291—292, 388—389, 917
*
~ библиотека 797, 804 сноск.
~ великодушие 170, 171 ~ и греки в Понте 162 ~ зверства 31, 50, 151, 152, 168—169, 173 ~ источники о нем 152 ~ подражание Александру 164, 170 ~ портреты 163 ~ совоспитанники 162 ~ чеканка 163, 173
см. также в статьях войны, Митридатовы, и Понт Митридат, царь Армении 154 Митридат Киосский 153 Митридат Пергамский 487 миф, об основании Рима 750, 849 Михмас 313
Миципса, царь Нумидии 41, 43, 44, 95 Мишна 311, 337 Моав 324,326-328
мобильность, социальная 758, 763—764, 794 Модиин 10 Ab, 330,331 молебствия (supplicationes)
~ в честь Помпея 399, 433, 470 ~ в честь Помптина 414
~ в честь Цезаря 433, 436, 438, 447, 462, 519, 521, 918, 920, 924 ~ в честь Цицерона 397 ~ отказ Габинию в молебствиях 443 ~ триумфатора 862
Моммзен, Теодор 24—27, 60, 65, 94, 182 сноск., 474 сноск., 492, 774 сноск.
~ о государственном праве 568, 576 сноск., 577—579, 585—586 Монлор 38
Мораль 19—21, 55, 85—86, 91, 835—838; см. также алчность, роскошь мореплавание, его свобода 726, 727, 738 Музик (имперский раб) 756 сноск. музыка 811
~ азиатская 20 ~ «злые песни» 629 ~ инструменты 174, 316 Мульвиев мост 7 Ab ~ битва 236
1088
Указатель
мумификаторы, египетские 358, 359 Муммий (трибун 133 г. до н. э.) 87 Муммий (легат Красса) 249—250 Муммий, Спурий 344, 868 сноск.
Муммий Ахейский, Луций (консул 146 г. до н. э.) 47, 128 Мунаций Планк, Луций 502 сноск., 532, 546, 548—549, 926 Мунаций Планк, Тит (трибун 52 г. до н. э.) 456, 458, 463 Мунаций Руф 821 сноск.
Мунда 8 Вс, 14 Ab
~ битва при ней 491, 499, 501, 521, 849, 924, 925 муниципий 130, 135, 149-145, 230-231, 433, 476, 505, 507, 609, 632-633 Мурена, см. Лициний
Мутина (совр. Модена) 2 Ab, 13 Ab, 14 Ва, 236, 542, 545—547, 549, 551, 927 Мутул, битва на реке 54
Муций Орестин, Квинт (трибун 64 г. до н. э.) 385
Муций Сцевола, Квинт («Авгур», консул 117 г. до н. э.) 197, 794, 802—803, 894 Муций Сцевола, Квинт (верховный понтифик, консул 95 г. до н. э.) 799, 902 - изгоняет чужеземцев из Рима 123, 131, 607, 751 ~ наместник Азии 123, 681, 865 ~ эдикт 642, 681 ~ покушение Фимбрии 205 ~ смерть 218—219 ~ юрист 617 сноск., 638, 642, 644 ~ о государственной религии 868—869 Муций Сцевола, Публий (консул 133 г. до н. э.) 83, 87, 90, 91, 99, 569, 642, 643, 890
Муция Терция (жена Помпея) 233, 402, 405 Мюнцер, Ф. 25, 26, 66—68 мятеж, обвинение 597—599
мятеж (tumultus), объявление 51, 90, 103—104, 115, 569, 570 ~ в 52 г. до н. э. 458; см. также Помпей Магн, Гней ~ в 49 г. до н. э. 473, 483 ~ в 43 г. до н. э. 544
набатеи 9 De
~ помогают Ионатану 320 ~ конфликт с иудеями 324, 328 ~ кампания Помпея 284, 289—292 ~ кампания Скавра 292 ~ распоряжения Помпея 299 ~ продолжение восстания 301 ~ кампании Габиния 303, 442, 448, 921 ~ гробницы в Петре 330
Указатель
1089
Набис, царь Спарты 83 наводнения 625
~ разливы Тибра 448—449, 750 надгробная речь в честь «Турин» 649 надписи 15, 17, 792
~ о вольноотпущенниках 754 ~ о гильдии дионисийских артистов 47 ~ о диктатуре Цезаря 494, 496 ~ о местном самоуправлении 508, 513, 515 сноск.
~ о местных италийских судах 633 сноск.
~ о миграции в южную Галлию 39 ~ о Митридате VI Понтийском, с Капитолия 155 ~ о рабовладении 753 ~ о распоряжениях Помпея на Востоке 298 ~ о сицилийском восстании рабов 41, 91—92 ~ о судопроизводстве в провинциях 36—37, 661, 682 ~ о частном праве 614, 649 ~ постановления сената 64
~ эпиграфические законы, предполагающие грамотность 792
см. также граффити; «Закон о борьбе с пиратами»; мильные камни;
таблица Бембо; эпитафии; и в статьях Атесте; Банция; Бут- рот; В аль-ди-Диано; Гераклея; Делос; Ид фу; Контребия; Олимпия; Тарент; Хиос; Эфес наемники (солдаты) 323, 329, 344, 358, 497 наказания
~ рабов 567—568 ~ фиксированные наказания 611 см. также владение (имуществом); изгнание налогообложение
~ на Востоке 49—50, 281, 300—301, 304, 677; см. также в статье Азия ~ в Греции 47 ~ в Египте 446
~ как источник металла для чеканки 737 ~ у италийских союзников 126, 128 ~ контракты общин с откупщиками (pactiones) 301 ~ Курион предлагает налог на владение рабами 468 ~ налоги на землю 703 ~ налоги на колонны 516 - налоги Цезаря в Италии 510, 516, 553 ~ налоги, взимавшиеся зерном 660, 677, 678, 708, 736, 737 ~ откуп налогов 35—36, 49—50, 70, 98, 110, 281; см. также в статье откупщики
~ провинциальное 47, 49—50, 658, 660—661, 667, 677—680, 737—738
1090
Указатель
~ роль народного собрания 60 ~ сельского хозяйства 718 ~ в Трансальпийской Галлии 38 ~ Цицерон о прямом налогообложении 516, 553 см. также вектигаль; таможенные пошлины; стипендий и в статьях Азия; Испания; Сицилия наместники, см. провинции
Нарбон Марсов (совр. Нарбонна) 1 Вс, 12 Вс, 14 Аа, 245, 458, 460, 461, 466, 491, 500 сноск., 501 ~ основание 18, 38, 105, 119, 895 ~ торговля 18, 105, 736, 767
нарушения при соискании (ambitus) 588, 596; см. также выборы (подкуп) население 74, 693—702
~ обезлюдение, видимое 73—74, 231, 699—702, 704, 739 ~ политика, содействующая росту 80—81, 92, 890 ~ распределение и миграция 693—694, 699—702 ~ Средиземноморского региона 698—699 ~ цифры 693, 695—699; см. также в статье ценз насилие, в общественной жизни 27, 883
~ и ассоциации вольноотпущенников 385, 773—774 ~ вооруженные отряды 453, 602—605 ~ и выборы 373, 385, 453—454, 456, 884 ~ из-за зернового кризиса 238—239, 434, 435, 847 ~ использование трибунами 104, 121, 123—124, 165, 194, 369—370, 381, 430, 435, 456
~ легитимная самопомощь 605—606, 884—885 ~ неспособность регигиозных норм сдержать его 849—851
- подстрекательство политиков 777—779, 883—884 ~ Цицерон о его эскалации 782
см. также в статье насильственные действия насильственные действия (vis)
~ гражданско-правовые обвинения 605, 609 ~ в Италии 608—609 ~ конституционное правонарушение 567 ~ лишение огня и воды как наказание 515, 591 сноск., 605, 924 ~ Лутациев закон 235, 604—605 ~ Плавциев закон 603, 604—605 ~ самопомощь 605—606, 884
~ суд по делам о насилии 395, 401, 515, 504—506, 608 ~ чрезвычайный суд Помпея в 52 г. до н. э. 459, 577 сноск., 595, 610 ~ и умаление величия 597
~ эдикт Марка Лукулла (76 г. до н. э.) 605, 652, 910 наследование, правовое регулирование 618, 619, 621—624, 630, 644, 647
- государственной земли 80
Указатель
1091
~ без завещания 621—623, 646, 652 «Наставления по соисканию» 775—777 наука (ars) 638, 807, 826
~ гуманитарные 806—813
~ систематические методы 638—639, 807—808, 811, 826—828, 836—837, 869-870 ~ точные 35, 811—812, 815, 817 см. также астрономия
Неаполь 3(H) Вс, 13 Вс, 145, 219, 592 сноск., 726, 798 Невий, Гней (поэт) 793 Невий, Секст (предприниматель) 39 Немауз (совр. Ним) 500
Неоптолем (понтийский полководец) 169—170 Нерва, см. Лициний нервии 12 Ва, 432-^33, 919 Нерон, см. Клавдий
несовершеннолетние, их защита 635, 650 Нехтирис (египетский офицер) 350
Нигидий Фигул, Публий (претор 58 г. до н. э.) 810, 815—816, 834, 870—871 низшие классы
~ земельные участки 70—71, 73
~ образование как средство социального восхождения 794—795 ~ политическая сознательность 28, 410, 420, 745, 747, 785 ~ права и защита 55, 56, 58 ~ и правосудие 576—577, 604, 647 ~ в эпоху Принципата 888
см. также вольноотпущенники; восстание крестьян; плебеи; плебс, городской; рабы; землевладельцы, мелкие
Никея 9 ВЬ, 264
Николай Дамасский 309
Никомед I, царь Вифинии 153
Никомед П, царь Вифинии 49
Никомед Ш, царь Вифинии 50, 164—166, 903
Никомед IV, царь Вифинии, см. в статье Вифиния
Никомедия / Ес, 5 Ва, 9 ВЬ, 185, 264
Никополь, в Малой Армении 9 Db, 282, 298
Нимфей 9 Са, 283
Нинний (или Нунний), Авл (убит в 101 г. до н. э.) 117 Нинний Квадрат, Луций (трибун 58 г. до н. э.) 421, 424 Нисибис 9 De, 269, 271, 272, 283, 379, 915 Новиодун (совр. Невер) 12 ВЬ, 460 новые люди 110—111, 387—388, 596, 642
Новый Карфаген (совр. Картахена) 1 Bd, 8 Сс, 14 Ab, 35, 501, 667, 721—722, 736, 767
1092
Указатель
Новый Ком (совр. Комо) 13 Аа, 14 Ва, 464—465, 498 Нола 3(0) Вс, 13 Вс
~ в Союзнической войне 137, 142, 146—147 ~ осада продолжается после войны 194, 199, 908 ~ осаждающие поддерживают марш Цинны на Рим 200—201, 204, 211 ~ в гражданскую войну Суллы 221 ~ сулланская колония 230 ~ металлообработка 721 Ноний Суфенат, Секст 198 Норба 2 Вс, 7 Вс, 221 Норбан, Гай (консул 83 г. до н. э.)
~ трибунат, мятеж 113
~ обвинение в умалении величия 116, 123, 598, 599 сноск.
~ консул 215, 906
~ в гражданской войне 215, 216—217, 219, 220 ~ проскрибирован 224 ~ самоубийство 220 ~ и Марк Антоний 672 сноск.
Норея 897
Норик 2 Ва, 14 Ва, 52, 130 сноск., 735
нравы и обычаи предков (mos maiorum institutaque) 86, 565, 566, 572—573, 575, 825,885
~ их неадекватность 592, 610, 887
Нума
~ его книги 814 ~ его сокровища 172
Нуманция 1 Ас, 8 Ва, 34, 36, 43, 51, 52, 54, 78-79, 83, 90-91, 110, 668, 890, 891 нумерология 813, 826, 837 Нумидия 1 Bd, 2 Ае, 13 Ае, 14 Ab
~ получает новые территории после уничтожения Карфагена 41, 58 ~ война против Рима, см. война, Югуртинская ~ и гражданская война в Риме 468, 483, 488, 489
*
~ поддержка римской армии
~ вспомогательными войсками 43, 53, 79, 141, 143 ~ продовольствием 43, 95 ~ римская дипломатия 30, 292—293, 897 ~ римские и италийские поселенцы 43 ~ чеканка 504
см. также в статьях Югурта; война, Югуртинская Нумигорий Пулл, Квинт 94, 126 Нунний (или Нинний), Авл (убит в 101 г. до н. э.) 117 Нуцерия 3(0) Вс, 137, 142, 736
Указатель
1093
Нэмир, Л. 24, 68
обвинители, профессиональные 113, 114, 583 обжалование (provocatio) 26, 56, 61, 68, 104, 568 ~ и Гай Гракх 96, 100
~ для италийских союзников 93—94, 100, 586, 892
- нарушение права на обжалование в интересах государства 570 ~ в уголовных процессах 577—578
обнунциация, см. в статье религия образование 793—796, 811
~ греческое влияние 37, 511, 538, 793, 794, 801, 802 общество 691—742
~ воздействие экономики 739—742 ~ интеграция 769
- классовое самосознание 27 ~ сословное 741—742
~ социальная среда интеллектуальной жизни 796—801 ~ социальная ценность земли 718, 719 ~ социальные преобразования 634—635 ~ социальные условия жизни в Италии 73—76 ~ социальный статус 691—692, 694, 718
~ традиционные социальные структуры в областях Италии 134, 705 см. также в статьях об отдельных сословиях общины
~ податные (civitates stipendiariae) 683 ~ свободные (civitates liberae) 683, 684 ~ союзные (civitates foederatae) 683 обычаи, см. нравы и обычаи предков обязательства
~ вольноотпущенника перед патроном 763—764 ~ использование Антонием 532 ~ обязательственное право 626—629, 646 ~ и пекулий 646 ~ ритуальные и культовые 840
~ финансовые сделки и социальные обязательства 731 ~ и Цезарь 465, 504—505
~ Цицерон и обязанности гражданина 528, 540 овцеводство 509, 710 Одесс 4 Ab, 154
оккупация земли 79, 125, 705, 710—711, 713, 716—718 Октавиев а война (Bellum Octavianum) 199, 906 Октавиева формула (formula Octaviana) 652 Октавий, Гай (претор 61 г. до н. э.) 394 сноск.
1094
Указатель
Октавий, Гай (Гай Юлий Цезарь, Август)
~ рождение 394 сноск.
~ наследник Цезаря 527, 532—533, 926
~ выплачивает завещательные отказы 533, 535 ~ и Антоний 533—535, 538
~ игры в честь Победы Цезаря (44 г. до н. э.) 537—538, 540 ~ вражда с Антонием 539—550, 552 ~ марш на Рим 549—550, 887 сноск., 926 - консул-суффект (43 г. до н. э.) 7, 550, 926 ~ триумвир 523 сноск., 550, 926 ~ война против Секста Помпея 727 ~ взятие Александрии 352, 355
*
Принципат
~ библиотека 511 сноск., 796 сноск.
~ биография, написанная Николаем Дамасским 309 ~ и Варрон 806
~ гражданское право 631, 645—646 ~ «Деяния» 846
~ изгоняет рабов и чужеземцев из Рима 756 ~ и Ирод 305
~ Капитолийские фасты 451 ~ и конституционные изменения 887, 888 ~ и контроль над магистратами 574 ~ его культ 525 ~ Мейер о его мотивах 492 ~ назначение фламина Юпитера 854 ~ об обезлюдении Италии 699 ~ и организации плебса 775, 778, 783 ~ основание колоний 494, 694 ~ почести 518, 525
~ раздача гражданства в Испании 499—500 ~ раздачи плебсу 514, 748 ~ свобода мореплавания 727 ~ и сенат 510, 518—519 ~ снабжение Рима 692, 752 ~ состав присяжных 608 ~ строительство 511 сноск., 847
~ уголовное законодательство 572, 574, 579, 592, 605 сноск., 612 ~ управление провинциями 118, 666 ~ ценз 365
*
~ и Афродисиада 497
Указатель
1095
~ личная обязанность отомстить за Цезаря 534, 540, 553—554
~ награды войскам 540, 541, 543, 547, 549, 550, 553
~ письма в Розос 633
~ поддержка ветеранов 507, 533, 538
~ поддержка друзей Цезаря 533, 538, 540
~ и сенат 551—552
~ титул Император 521 сноск.
~ и Цезарион 487
~ и Цицерон 534, 540—543, 547, 549—552, 799 сноск.
Октавий, Гней (консул 76 г. до н. э.) 238, 910
Октавий, Гней (консул 87 г. до н. э.) 198—204, 906
Октавий, Луций (консул 75 г. до н. э.) 238—240, 910
Октавий, Марк (трибун 133 г. до н. э.) 17, 84, 87, 96, 115, 116, 370, 890
Октавий, Марк, сын Гнея (трибун в конце П в. до н. э.) 102
Октавия (внучатая племянница Цезаря) 457, 465 сноск.
Октябрьский конь (equus October) 775 оливы, оливки 37, 71, 159, 698, 704—708, 719 ~ оливковая мельница 72, 73, 706
олигархия 25, 26, 47, 56, 64, 135, 238, 255, 285, 298, 375, 381, 391, 409, 480, 492, 510, 515, 882
Олимп, в Ликии 9 Вс, 260 Олимпия 7 Dd, 178 ~ надпись 48 олово, британское 735 Ольбия 4Аа, 163
Ония, иудейский первосвященник 314 ~ его род 313—314, 328, 330, 332 опека (tutela) 620, 623—624, 635, 639, 646, 650 Опимий, Квинт (консул 154 г. до н. э.) 37 Опимий, Квинт (трибун 75 г. до н. э.) 238 Опимий, Луций (консул 121 г. до н. э.) 894 ~ разрушение Фрегелл 94—95 ~ избран консулом 102 ~ убивает Гая Гр акха 103 ~ казнь сторонников Гракха 103—104, 569, 570 ~ и Югуртинская война 108—109 ~ политическая позиция 22, 108 ~ строит храм Согласия 455 Оппианик, Стаций Альбий 224
~ обвинен Клуенцием 241, 253, 584 сноск., 590, 608, 611 сноск., 910 ~ речь Цицерона 241, 263, 603, 611
Оппий, Гай (друг Цезаря) 455 сноск., 517, 520, 521, 528 сноск., 533, 541 Оппий, Квинт (вероятно, претор 89 г. до н. э.) 169—171
1096
Указатель
оптиматы и популяры 64—66, 68—69, 856—861
~ современная наука о них 24, 26, 27—28 см. также статьи об отдельных эпизодах и политиках оракулы
~ «Горшечника» 345 ~ Дельфийский 870 ~ обман 852—853 ~ Трофония, в Лебадее 215 см. также Сивиллины книги Оранж, см. Араузион Орбий (римский префект на Делосе) 175 Орбилий Пупилл, Луций 794 Ориген 759
Оробаз (парфянский посол) 292—293 Ород П, царь Парфии 442, 450, 471 Орозий, Павел 179, 224, 294 Оройз, вождь албанцев 286, 287 орондеи 261 Ороп 6 СЬ, 47, 673
Ороферн (претендент на каппадокийский трон) 30 оружие и доспехи
~ колесницы, понтийские 169, 181 ~ римское вооружение 52, 53 ~ тяжелая конница
~ армянская 269 - парфянская 450 см. также машины, осадные Орхомен 6 Ва, 47
~ битва при нем 54, 179, 182—183, 265, 907 осадные машины, см. машины, осадные Оска, в Испании 8 Са, 35, 243, 247, 248 оскорбление, публичное (convicium) 629 Осроена 9 De, 294, 296, 448 chock., 450 Остия 2 Вс, 3(г) Сс, 7 Ab, 13 Вс, 201-202, 515, 726, 762 откупщики (publicani) 98, 675—677
~ банковские операции 676, 734 ~ и военные поставки 675, 733 ~ и вопрос о присяжных 587—588 ~ на Востоке 50, 300—301, 304 ~ Габиний и сирийские откупщики 304, 441, 442 ~ займы провинциалам 737—738 ~ в Калабрии 77
~ контракт на откуп налогов в Азии 406, 414, 918
Указатель
1097
~ и монетные тессеры 730 ~ и наместники провинций 675—677, 686 - сбор налогов 675—676, 678—679, 733—734 ~ и скотопрогонные дороги 710 ~ товарищества 98, 627, 675—677, 733—734 ~ Цезарь ограничивает их права 496, 517 ~ в Цизальпийской Галлии 720
отравления, суд по делам об отравлениях («veneficii», «quaestio de venefiiis») 581, 588, 600-601
~ суд по делам об убийствах и отравлениях 603—604, 608 Отрии 264
отцеубийцы (parricidae) 516, 530, 576
отцовская власть (patria potestas) 575, 615, 618, 619—620, 622, 623, 646
Офелла, см. Лукреций Афелла
Офилий, Авл (юрист) 513, 642—644, 645 сноск.
оценка ущерба (litis aestimatio) 584, 592, 611
очищение, ритуальное, см. люстр
Павел, см. в статье Эмилий
Павсаний 174, 348
паги
~ италийские округа 508 ~ римские городские округа 775—778, 787 Пакор, парфянский царевич 467, 471 Паликан, см. Лоллий Палланция 8 Ва, 247 паломничество, иудейское 330 Пальма 8 Db, 36
Памфилия 5 Вс—Сс, 9 Вс—Сс, 50, 118, 168-169, 172, 183, 260, 261 памятники, надгробные 41, 91, 230, 516; см. также: эпитафии, гробницы Панафинеи 43
Панетий (философ) 800, 803, 829, 831 Панса, см. Вибий Пантикапей 4 Ва, 163 Паос (египетский полководец) 345
Палий, Гай (трибун 65 г. до н. э.) 383; см. также в статье закон (Папиев) Палий Мутил, Гай (вождь самнитов) 140, 142, 143, 147 Папиниан, см. Эмилий
Папирий Карбон, Гай (консул 120 г. до н. э.) 83, 85, 86, 93, 104—106, 582, 583, 894
Папирий Карбон, Гней (консул 113 г. до н. э.) 52, 896, 897
Папирий Карбон, Гай (трибун 89 г. до н. э.) 148
Папирий Карбон, Гней (консул 85, 84, 82 гг. до н. э.) 207, 209, 210
1098
Указатель
~ консульства 206, 208, 211, 217, 222, 228, 671-672, 906, 908 ~ война против Суллы 207, 209—213, 217—220, 222 ~ проскрибирован 222, 224 ~ смерть 222, 236, 909
Папирий Карбон Арвина, Гай (убит в 82 г. до н. э.) 218 Папирий Курсор, Луций (диктатор 309 г. до н. э.) 22, 783 Папирий Пет, Луций (гурман) 836 папирусы
~ геркуланские с текстами Филодема 832 ~ о египетском сельском хозяйстве 347, 348, 356, 357 ~ об идумеях в Египте 325 ~ о правлении Птолемея Эвергета П 344
~ о путешествии к Африканскому Рогу, ок. 200—150 гг. до н. э. 31 ~ свитки, трудности при проверке ссылок 808 Паппа 9 Сс, 261 Парапотамии 6 Аа, 180 пари, юридическое (sponsio) 17, 84, 85, 91, 607 паризии 72 АЪ—ВЬ, 460 Парилии 849
Парфений из Никеи 801, 817 Парфия 9 Fd, 14 Cb, 292-295
~ усиление в правление Митридата I и Фраата П 51, 292, 317, 322 ~ при Митридате П Великом 167, 267, 292—293 ~ контакты Суллы с Оробазом 292—293, 903 ~ при Фраате Ш 293—295
~ переговоры с Лукуллом 269—272, 281, 293 ~ договоренности с Помпеем 281, 283, 288, 290, 293—295, 915 ~ экспансия на территорию Армении 282, 293, 294 ~ наследование Фраату Ш, вторжение Габиния 301—302, 442— 443
~при Ороде П
~ поражение Красса при Каррах 450—451 ~ вторжение в Сирию (51 г. до н. э.) 467, 469, 471, 688 ~ переговоры с Помпеем 485 ~ вторжение в Сирию (45 г. до н. э.) 491, 925 - поход, запланированный Цезарем 491—492, 493, 503, 521, 525-527, 532
~ в эпоху Раннего принципата 287
*
~ вопрос о границе по Евфрату 294 ~ методы ведения войны 294—295, 450 пастбища 71, 73, 82, 91, 106, 704, 705, 707, 710-711, 715, 808 пастбищный сбор (scriptura) 300, 679, 710
Указатель
1099
Патавий (совр. Падуя) 2 Ва, 73 Ва, 508 сноск.
Патара 5 Вс, 171, 174 Патирис 7 7 Вс, 349, 350, 359 патронат
~ в городской среде 777 ~ и гражданская война 476—477 ~ культурный 886
~ отношения вольноотпущенников и патронов 763—764, 769, 771, 782 ~ и политика 27, 61, 66, 67—68, 596 ~ и провинции 222, 242, 248, 584, 585, 684 Патронида 6 Аа, 180 Патры 14 ВЬ, 736
Пафлагония 4 ВЬ, 5 Са, 9 СЬ, 153—156, 163—168, 899
~ в Митридатовых войнах 169, 170, 171, 183, 186, 257, 263, 265, 406 Пеги (Антипатрида), в Иудее 10 Ab, 322 педагоги 795
Педий, Квинт (консул-суффект 43 г. до н. э.) 491, 550, 926 педикулы 147
Педуцей, Секст (трибун 113 г. до н. э.) 106, 858, 896 пекари 765, 766
пекулий (средства, принадлежащие подвластному лицу) 620, 628, 646, 653 ~ лагерный пекулий 646
пелигны 3{i) De, 94, 137, 140, 142, 144, 400 chock., 510 Пелла, в Македонии 2 De, 14 ВЬ, 46 Пелла, в Палестине 10 ВЬ, 326, 238 Пелопид (понтийский посол) 162, 167, 168, 174 Пелузий 9 Cd, 11 Ва, 14 СЬ, 355, 446 Пенн, см. Юний пеонийцы 9 Ab, 284 Пергам 7 Ed, 5 Ab, 9 Bb, 14 Cb ~ при Атталидах 154
~ Аттал Ш завещает царство Риму 48—49, 85, 158, 262, 891 ~ посольство Сципиона Назики 91 ~ восстание Аристоника 49, 50, 95, 155, 166, 187, 891 ~ аннексия Римом 158
~ в Первой Митридатовой войне 170—173, 183—185, 187 сноск.
~ Диодор Паспар из Пергама 276 ~ благодеяния Цезаря 495 сноск., 496 ~ грамматики 810 см. также Азия перевод долгов (novatio) 731 перевод на латинский
- с греческого 804, 805—806, 812, 814, 834, 868
1100
Указатель
~ сельскохозяйственных трактатов Магона 70, 804 сноск. перегон скота 73, 710—711 перекрестки (compita) 773, 788 Перея, иудейская 303, 326 Перея, родосская 5 Вс, 187 перипатетики 175, 797, 800, 820, 834 Перперна, Гай (легат в Союзнической войне) 142 Перперна, Марк (консул 130 г. до н. э.) 40, 49, 890, 891 Перперна, Марк (консул 92 г. до н. э.) 206, 207, 904, 906 Перперна Бентон, Марк (претор 82 г. до н. э.) 222, 237, 243, 245—247, 913 Персей, царь Македонии 48, 656, 803 сноск.
~ его библиотека 796—797 Персия, см. также Иран ~ религия 872, 876 Пессинунт 9 СЪ, 423, 876 Пестум 13 Вс, 755 Петелия 2 Cd, 250
Петесис (могильщик быков из египетской Саккары) 359 Петехарсемтей, сын Панебхуниса 358—359 Петра 9 Се, 330
Петрей, Марк (пропретор 63 г. до н. э.) 401, 411 сноск., 483
пехота, тяжеловооруженная (classis) 56
печати
~ Александра Янная 331—332 ~ монетные тессеры 730 пешер (толкования Библии) 310 Пидна 14 ВЬ
~ битва при Пидне 54, 678, 801, 863 Пизон, см. Кальпурний, Пупий пиктоны 12 Ab, 465
Пилемен, царь внутренней Пафлагонии 155, 171 Пинна 3{г) Ес, 137, 146 пираты 30—31, 573, 727, 738
~ командование Марка Антония (102 г. до н. э.) 117, 900, 901 ~ командование Сервилия Ватии 237, 239, 261, 278, 911 ~ командование Марка Антония (74 г. до н. э.) 240, 261, 278, 573, 910, 911
~ Цезарь попадает к ним в плен 240 ~ помощь Митридату 240, 261 ~ расцвет после Первой Митридатовой войны 188 ~ и восстание Спартака 250 ~ в провинции Киликия 261 ~ кампания Метелла, см. в статье Крит
Указатель
1101
- война с пиратами поручена Марцию Рексу 278, 367 ~ командование Помпея, см. в статье Помпей Магн, Гней ~ опасения Габиния 353 ~ и поставки зерна 239, 367—368, 371 ~ левантийские 290 Пирей 6 СЬ, 175, 177-179, 907 Пирр, война с ним 51, 111, 151, 728, 784 пиры, общественные 230, 232, 252, 788, 790 Писидия 5 ВЬ—СЬ, 260—261, 265, 329, 870 Пистория (совр. Пистойя) 3{г) Аа, Ί3 Ab, 401 писцы (scribae) 672—673 «Письмо Аристея» 311, 330 Питана 5 Ab, 207—208
пифагорейство 807, 809, 810, 813—816, 826, 837, 872
Пифодор из Тралл 277
Пифолай (иудейский повстанец) 303
Пицен 2 ВЬ—с
~ мятеж в 126 г. до н. э. 94
~ и Союзническая война 136, 137, 140, 142, 510, 673 ~ в гражданской войне 80-х годов до н. э. 213, 217, 230 ~ и восстание Спартака 249 ~ тяжелое положение в сельской местности 386 ~ крестьянское восстание 394 ~ в гражданской войне 40-х годов до н. э. 475, 477 ~ патронат Помпея 477, 505 ~ ветеранские колонии Цезаря 507 ~ поддержка Антония 548 ~ виноделие 709 Плавт 656, 793, 811, 846
~ о праве 576, 614, 650
Плавций или Плоций (трибун 70 г. до н. э.) 255 Плавций Сильван, Марк (трибун 89 г. до н. э.) 136, 148 Планк, см. Мунаций плата за пользование землей 718 платежное поручение (permutatio) 731 Платон (философ) 799, 816, 823, 825, 828-829, 831, 834 ~ «Горгий» 823 сноск.
~ «Кратил» 809, 816 ~ «Тимей» 814, 834 ~ «Федр» 823 сноск.
Платон (эпистратег египетской Фиваиды) 350 платонизм 816
~ средний 814, 834 сноск.
1102
Указатель
плебеи 64
~ допуск к жреческим должностям 856—857 ~ доступ в сенат и к курульным магистратурам 56, 62 ~ перевод Клодия в плебеи 406—407, 415 ~ права и способы защиты 56, 58 ~ в числе присяжных 136 см. также низшие классы; плебс, городской плебс, городской 743—791
~ и Антоний 534, 536—537
~ благодеяния 752, 767, 783—791; см. также в статье Юлий Цезарь, Гай
~ вольноотпущенники 753—757, 763—766, 884 ~ враждебность к сельскому плебсу 127, 131—132 ~ и высшие классы 757—758, 782 ~ долги 488, 739—740 ~ идентификация 743—747, 884 ~ источники о нем 744, 746 ~ коллегии 773—774 ~ колонии 198, 389, 501—502, 514 ~ конституционная роль 744—745 ~ ксенофобия 127, 194 ~ культ Цереры 842, 860 ~ насилие 884 ~ общие трапезы 788 ~ и Октавиан 533—534, 550 ~ опасности 747, 749-750, 776, 781-782 ~ организации 773—778 ~ политическое сознание 28, 745, 747, 784 ~ постоянное движение 749—750 ~ преимущества жизни в Риме 709, 758 ~ ремесла 759—760 ~ и Сатурнин 119, 120, 124
~ свободнорожденные бедняки 757—758, 762—763, 769 ~ и Сулла 198, 215 ~ сходки 745, 779 ~ и Тиберий Гракх 86 ~ численность 747—750 см. также зерно (раздачи)
Плиний Старший 357, 499, 703, 763, 784, 814, 828, 872 Плиний Младший 298 Плоций Галл 795
Плоций или Плавций (трибун 70 г. до н. э.) 255 плуг 706, 752
Указатель
1103
Плутарх 14, 15, 813, 820, 833
По, долина 2 Ab—Bb, 128, 131, 701, 704, 705, 721, 725
подделка 605
подкуп 68
~ законы против подкупа 21, 76, 77, 114, 373, 393, 399, 405, 594—596, 914
~ и Марий 110,117 ~ на выборах, см. выборы
~ подкуп, осуществляемый иностранными государствами 117, 155, 165, 438, 535
~ Югуртой 44, 45, 107, 108
~ предложения Гая Корнелия о борьбе с подкупом 372 ~ провинциальных наместников при поставках зерна 674 ~ роспуск коллегий для борьбы с подкупом 385 ~ для склонения замужних женщин к прелюбодеянию 579 - в судах 77, 241, 251, 366, 368, 378, 407, 420, 586, 587, 590, 592, 608 пожары, городские 722, 750, 761 Полемон из Афин 831 сноск.
Полибий 13, 19-23, 818, 819, 822 ~ жизнь 344, 797
~ о римской конституции 55, 83, 356, 566, 581, 882 политевмы, каппадокийские 299 политика: цена участия 666, 680, 739, 886
~ богатство и власть 59, 64—65, 75—76, 98, 109 ~ и греческая философия 65, 69, 96, 105, 118 ~ оппозиция не ценится 885 ~ партийная приверженность 27—28, 67 ~ патронат в политике 66—68
~ политическое самосознание 13, 28, 410, 420, 745, 746, 784 ~ сравнение Республики и Принципата 888—889 см. также связи, политические; конституция; религия (политическая природа)
политияДюлитевма (греческие понятия) 566 полицейские функции 58, 515 Полленция 8 Db, 36, 548 сноск., 893 Поллион, см. Азиний
померий 121, 232, 371, 402, 407, 422, 425, 466, 482, 749 помощь,трибунское право (auxilium) 58 Помпедий, см. Поппедий Помпеи 3(0) Вс, 13 Вс
~ владения Юлии Феликс 770 сноск.
~ граффити 792 ~ лавки 762
1104
Указатель
~ металлообработка 721 ~ организации вольноотпущенников 773—774 ~ распоряжения Суллы 230 ~ семейные святилища 842 ~ в Союзнической войне 137, 146—147 Помпей, Гней (сын Помпея Магна) 485, 486, 490—491, 520 Помпей, Квинт (консул 141 г. до н. э.) 34, 46, 67, 76—78, 85, 585 сноск. Помпей, Секст (наместник Македонии, 119 г. до н. э.) 52 Помпей, Секст (дядя Помпея Магна) 834 сноск.
Помпей, Секст (сын Помпея Магна)
~ едет в Киренаику после битвы при Фарсале 486 ~ в Испании 490—491
- восстанавливает силы 532, 535—536, 927 ~ оценка Цицерона 546
~ командование на море против Антония 547 ~ объявлен Октавианом вне закона 550 ~ войны против второго Триумвирата 550, 698, 727 Помпей, Ленат 804 сноск.
Помпей Магн, Гней (консул 70, 55, 52 гг. до н. э.) 235—256, 912, 920 ~ в совете отца 674
~ оправдан по обвинению в растрате 207, 594 ~ и смерть Цинны 210 ~ в гражданской войне 213, 217—220, 222 ~ любимец Суллы 222, 251
~ командование на Сицилии и в Африке 222—223, 909 ~ первый триумф и когномен «Магн» 223, 908 ~ женитьба на Муции 233
~ поддерживает Лепида при соискании консульства 234 ~ и похороны Суллы 234
~ командование против Лепида 236—237, 663, 910
- командование против Сертория 237, 239—240, 243, 245—248, 663,
667, 910, 911,913 ~ и восстание Спартака 250
- первое консульство (70 г. до н. э.) 250-256, 268 ~ второй триумф 250—251, 912
~ и суд над Берресом 242, 254 ~ отношения с Крассом 250—252, 256
~ восстановление трибунской власти 241—242, 252, 255, 256, 366, 374- 375, 912
~ примирение с Крассом 256
- командование против пиратов 111, 248, 272, 273, 278, 279, 290, 296-
297, 370-372, 374-375, 376, 573, 665, 727, 914, 915
Указатель
1105
~ обеспечивает себе командование против Митридата 279—281, 376— 377, 555, 665, 679, 914
~ восточное командование 277—301, 915, 917 ~ размер войска 280 ~ вторжение в Понт 281—282, 915 ~ подчинение Армении 282—283, 915 ~ кампании на Кавказе 284—288, 915 ~ аннексия Сирии 288—290, 294—295, 305, 917 ~ кампании в Иудее 281, 290—292, 305, 306, 341—342, 917
~ основание и повторное основание городов 326—327, 329 ~ кампания в Набатейской Аравии 290—292
- отношения с Парфией 281, 283, 288, 290, 293—295, 915 ~ дипломатия 281—283
~ подход к завоеваниям 287 ~ увеличивает годовой доход казны 389, 406
~ распоряжения на Востоке 282—283, 288—289, 291, 292, 294—301, 436, 679, 917
~ провал законопроекта Рулла об обеспечении ветеранов землей 389-391 ~ почести 399
~ не получает командование против Каталины 399—400 ~ возвращение с Востока 399, 401—403 ~ союз с Метеллами 401—402, 405
~ рассчитывает на ратификацию восточных распоряжений 402 ~ и суд над Клодием за святотатство 403
- Катон отказывается выдать за Помпея свою племянницу 403
~ сенат блокирует ратификацию восточных распоряжений и наделение ветеранов землей 405, 407, 408 ~ третий триумф 405, 406, 916 ~ союз с Цезарем и Крассом 408, 410, 412, 417, 918
- противостояние клике сулланцев 408, 409
- Юлиев аграрный закон о наделении землей ветеранов 411—412
- сенат ратифицирует восточные распоряжения 414 ~ авгур (59 г. до н. э.) 415
~ брак с Юлией 417 ~ снижение популярности 418, 438 ~ заявление Ветгая о заговоре против Помпея 418-^420 ~ и Клодий 415—416, 419, 424, 425, 429, 430 ~ и возвращение Цицерона 430, 431, 433, 440
~ контроль над поставками зерна на пять лет 435—436, 438, 439, 445, 726, 736, 918
~ и Птолемей Авлет 352—353, 355—356, 437—438, 852
1106
Указатель
~ защищает Милона 438-439
~ встреча с Цезарем и Крассом в Луке 302, 440, 918 ~ добивается консульства 440, 443 ~ второе консульство (55 г. до н. э.) 444-448, 920 ~ инициирует восстановление Птолемея Авлета с помощью Габиния (55 г. до н. э.) 444
~ получает командование в Испании 445-446, 665, 918 ~ поддерживает возвратившегося Габиния 449 ~ смерть Юлии 449 ~ отказывается от диктатуры 453 ~ передает легион Цезарю 454
~ и чрезвычайное положение после убийства Клодия 457—458
~ особый суд по делам о насилии 458, 459, 460, 577 сноск., 581, 595, 610, 920
~ отклоняет диктатуру 458
~ третье консульство (52 г. до н. э.) 458, 459, 573, 920 ~ отдаление от Цезаря 457, 459 ~ поддерживает закон десяти трибунов 462 ~ восстановление отношений с Катоном 62 ~ законодательные реформы 459, 462-464, 484, 595, 607, 680 ~ командование в Испании продлено еще на пять лет 463, 469 ~ и вопрос о назначении Цезарю преемника в Галлии 466, 469 ~ стремление получить командование против парфян 467 ~ союз с Аппием Клавдием 470 ~ болезнь 470-471 ~ разрыв с Цезарем 470-473
~ покидает Италию в начале гражданской войны 475-476, 479, 922 ~ переговоры с Цезарем 479-481 ~ поддержка со стороны массилийцев 482 ~ сбор войск на Востоке 484-485 ~ поражение при Фарсале 486, 923 ~ бегство в Египет и гибель 355, 486, 923
~ и Александр Великий 883 ~ богатство 712 ~ и Варрон 808 ~ и Венера 864—865
~ интеллектуальные интересы 794 сноск., 797, 802, 804 сноск., 824 ~ источники о нем 23 ~ и кодификация права 638 ~ и Красе 250—252, 256, 302, 412, 440 ~ политические связи 222, 233, 248, 255—256 ~ клиентела
Указатель
1107
~ в Испании 248 ~ в Массилии 482 ~ в Пицене 476-477, 505 ~ на Сицилии 222, 684 - в Транспаданской Галлии 465, 498, 500 ~ и Метеллы 233, 401^402, 405, 459 ~ поместья 714
- популярность 366, 372, 405, 406, 418, 448 ~ почести и привилегии 863, 866 ~ публичный имидж 366, 370 ~ современные исследователи о нем 25, 492
~ строительные проекты в Риме 447, 455, 723, 787, 789—790, 848, 864— 865, 920
~ честность при распоряжении государственными деньгами 288, 366 ~ и Цицерон 463, 471^472, 475, 486 Помпей Руф, Квинт (консул 88 г. до н. э.) 147, 904 ~ избрание на консульство 147, 190 ~ союз с Суллой 190, 192 ~ и законодательство Сульпиция 192—194 ~ лишен консульства 195 ~ поддерживает марш Суллы на Рим 196 ~ восстановлен 197, 198 ~ смерть 199
Помпей Руф, Квинт (претор 63 г. до н. э.) 394 Помпей Руф, Квинт (трибун 52 г. до н. э.) 456, 458, 463 Помпей Страбон, Гней (консул 89 г. до н. э.) 904
~ в Союзнической войне 142, 144, 146—148, 207, 510, 904 ~ предоставляет гражданство отряду испанских конников 147, 673, 684
~ и Помпеев закон о транспаданцах 148
~ попытка повторно претендовать на консульство 192, 201, 202 ~ остается полководцем в Италии (87 г. до н. э.) 199 ~ и атака Цинны на Рим 201—203 ~ смерть 202—203
~ его сын Помпей оправдан по обвинению в хищениях отца 207 ~ совет 673—674 ~ клевета Рутилия Руфа 820 Помпей Трог, его эпитома, см. в статье Юстин Помпей Фест, Секст 614, 776 Помпелон 8 Са, 248 Помпея (жена Цезаря) 402 Помпоний Аттик, Тит
~ дипломат 388, 503—504
1108
Указатель
~ образование 793, 830 ~ поместья 714
~ сочинения 800, 803, 804, 819 сноск., 821 ~ сочинения, посвященные ему 800 - философия 835, 837 ~ финансовые операции 731, 734, 740 ~ и Цицерон 551, 800 Помпоний, Гней (трибун 90 г. до н. э.) 136 Помпоний, Секст 614, 638, 642
Помптин, Гай (претор 63 г. до н. э.) 407, 414, 672, 917, 920 Помптинские болота 7 Вс, 507, 704, 757 помпы, водяные 721 Понт 7 Fc, 4, 9 Cb
~ при ранних правителях 153—155 ~ при Митридате V Эвергете ~ столица 159
~ покорность Риму 49, 50, 155, 158 ~ противостоит Аристонику в Пергаме 49, 155 ~ территориальные приобретения 49, 155, 164, 257 ~ вторжение в Каппадокию 155, 164 ~ убийство 155, 895 ~ наследование 155
~ римляне снова аннексируют Фригию после его смерти 50, 98, 162
~ при Митридате VI Евпаторе 151—189, 897
~ первые завоевания 51, 160, 162—163, 897 ~ перемена в отношениях с Римом 164—167 ~ занимает Пафлагонию, Галатию и Каппадокию 164—165, 899 ~ переговоры с Римом по поводу занятых земель, отступление 117, 165—167, 905
~ поддерживает вторжение Армении в Вифинию 166 ~ вторжение в Каппадокию 168
~ первая война с Римом, см. войны, Митридатовы (Первая)
~ новое летосчисление (88—85 гг. до н. э.) 173 ~ Рим отказывается ратифицировать Дарданский мир 188, 240, 260, 907, 911
~ Сулла ищет помощи Митридата в гражданской войне 246
~ вторая война с Римом 160, 188, 240, 257, 260
~ снова угрожает Риму 239, 240
~ переговоры с Серторием 240, 243, 246, 248, 262, 911
~ вторжение в Вифинию 240
~ продвижение сил в Пафлагонию 263
~ третья война с Римом, см. Войны, Митридатовы (Третья)
Указатель
1109
~ реорганизация провинций Вифиния и Понт Помпеем 287— 289, 296-298, 300, 917 ~ при Фарнаке П 159
~ заговор против Митридата 283—284 ~ распоряжения Помпея 292, 295, 299 ~ побежден Цезарем 488, 490, 925
*
Царство 151, 156—160 ~ греческие города 156, 159, 160, 162, 257
~ в Третьей Митридатовой войне 266, 273—277 ~ распоряжения Помпея 288, 296—298, 299 ~ дороги 162, 261 ~ иранская культура 159, 160, 297 ~ летосчисление 153, 173 ~ чеканка 154—155, 163, 173 Понтий Аквила, Луций (трибун 45 г. до н. э.) 521 Понтий Телезин, Гай (полководец самнитов) 140, 219—222 понтифики 841, 854, 856, 857
~ верховный понтифик (pontifex maximus) 106, 392—393, 532, 812, 857
- в Урсоне 877
Попилий Ленат (командующий флотом против Митридата) 169 Попилий Ленат, Гай (консул 172 г. до н. э.) 352 Попилий Ленат, Гай (консул 132 г. до н. э.) 91, 96, 99, 104, 113, 890 Попилии Ленаты 61
Поппедий Силон, Квинт (вождь марсов) 136, 140, 143, 147, 510 популяры 65, 68—69, 362-409
~ восприятие римского народа 599 ~ действуют в обход сената 24, 65, 76 ~ преследуют собственные интересы 68—69 ~ и религия 856—861
см. также оптиматы; собрания, народные; и в статьях об отдельных политиках
портовые сооружения 515, 721, 723, 726, 756 поручение
~ контракт 626, 651
- правовое понятие 627—628, 646, 660—662 поручитель (fidepromissor, sponsor) 628 поручительство 31, 98, 628, 635
Порций Катон, Гай (консул 114 г. до н. э.) 46, 52, 83, 840, 896 Порций Катон, Гай (трибун 56 г. до н. э.) 419, 437—439, 443, 852 сноск. Порций Катон, Луций (консул 89 г. до н. э.) 146, 904
Порций Катон, Марк (консул 195 г. до н. э., цензор 184 г. до н. э.) 36, 61, 568, 732-733
1110
Указатель
~ высмеивает Постумия Альбина 804 сноск.
~ о морали 20, 76, 93—94
~ сочинения о сельском хозяйстве 70—72, 649, 703, 704, 708, 710, 712, 715, 871
~ о контрактном праве 614, 625, 642, 650, 651, 715 ~ о производстве инвентаря 720—721, 759 Порций Катон Утический, Марк (претор 54 г. до н. э.)
- заставляет сулланцев вернуть нажитое 387 ~ борется с подкупом избирателей 393, 396
- обвиняет Мурену 396
~ выступает за казнь катилинариев 63, 397 ~ расширяет раздачи зерна 399 ~ противодействует Помпею 400, 403, 405 ~ и азиатский налоговый контракт 406, 495 сноск.
~ и консульство Цезаря 407—408, 411, 412, 414 ~ дает Цицерону совет насчет Клодия 425
- уполномоченный на Кипре 353, 428, 436-437, 918, 919 ~ и выборы на 55 г. до н. э. 443, 444
~ и командования триумвиров 445 ~ претура 448
~ поддерживает единоличное консульство Помпея 459 ~ противодействует «закону десяти трибунов» (52 г. до н. э.) 462 ~ сближение с Помпеем 462 ~ союз с Аппием Клавдием 470 ~ требует, чтобы Цезарь сложил полномочия 473 ~ в гражданской войне 481, 483, 486, 488, 923 ~ самоубийство 490
*
~ восхваление Цицерона и ответ Цезаря 520—521, 799—801, 820—821 ~ и дело популяров 69 ~ моральный авторитет 408, 409 ~ отношение источников 22 ~ умеренность 452 ~ и философия 830, 835, 837 сноск.
Порций Лека, Публий (трибун 199 г. до н. э.) 568
поселенцы за рубежом, римские и италийские 31, 34, 36, 39, 42-43, 45,50,104; см. также в статьях колонисты, ветераны
Посидоний 14
~ география 834
~ использование сочинений Рутилия Руфа 820, 822 ~ историография 822 ~ о кризисе Республики 19, 40 ~ на Родосе 801, 824
~ отношения с римской аристократией 800
Указатель
1111
~ и Цицерон 798, 819—820, 829, 830 сноск. посольства 30
~ «философское» 835
~ частные (liberae legationes, «свободные легатства») 680, 741—742 постановления сената (senatus consulta) 63
~ об Асклепиаде (о награждении греческих капитанов) 47, 277, 633, 649
~ как источник права 615 ~ о коллегиях (64 г. до н. э.) 385 ~ об освобождении порабощенных союзников 40 ~ об отъезде трибуна Гая Гракха из Рима 102 ~ чрезвычайное 103—104, 567, 569—571 ~ 121 г. до н. э. 103—104, 894 ~ 100 г. до н. э. 121, 392, 900 ~ 87 г. до н. э. 200 ~ 83 г. до н. э. 215 ~ 78 г. до н. э. 236 ~ 63 г. до н. э. 394, 424, 569, 916 ~ 62 г. до н. э. 400 ~ 52 г. до н. э. 457, 920 ~ 49 г. до н. э. 473, 477, 922 ~ 48 г. до н. э. 484 ~ 47 г. до н. э. 488 ~ 43 г. до н. э. 543, 544 Постумий (прорицатель) 196, 215 Постумии 61
Постумий Альбин, Авл (консул 151 г. до н. э.) 804 сноск.
Постумий Альбин, Авл (консул 99 г. до н. э.) 44, 108, 897, 902 Постумий Альбин, Луций (консул 173 г. до н. э.) 71 Постумий Альбин, Спурий (консул 186 г. до н. э.) 873 Постумий Альбин, Спурий (консул 110 г. до н. э.) 44, 108, 896 Постумий, Марк, из Пирг 577 сноск., 579
посягательство на личность, суд по делам о посягательстве на личность («iniu- ria», «quaestio de iniuriis») 606, 628, 634, 636, 650, 651 Потин (египетский регент) 355 похищение людей 607 похороны 230, 234, 516 поэзия
~ неотерическая 816—817, 825 ~ о религии 845
~ эпикурейские представления 831—832
права
~ гражданские, их совокупность (caput) 567—568, 576, 591 ~ латинские, см. латины
1112
Указатель
~ народа 64, 68 право (ius) 566, 615, 886
~ административное, см. статью публичное ~ гражданское (civile), см. статью частное ~ греческое 37, 636, 639—640, 645, 647—648 ~ естественное (naturale) 635—636 ~ имущественное (in rem) 624, 649 ~ конституционное, см. статью публичное ~ на изображения предков (imaginum) 373 ~ народов (gentium) 635—636 ~ правовая ответственность 732
~ преторское, или почетное, (honorarium) 615, 622—623, 625, 629—630, 632, 635, 637
~ публичное (publicum) 567, 574—582, 886 - административное 574, 645—646 ~ апелляция 86, 392, 539 ~ вердикт «неясно» 611 ~ власть отца семейства 575 ~ греческое влияние 636, 647—648 ~ доказательства 611 ~ и низшие классы 576—577, 604
~ институты до постоянных судебных комиссий 574—582 ~ конституционное 574
~ лишение огня и воды как наказание 570—571, 591 ~ множественные обвинения 592—593 ~ множественные преступления 581
~ право трибунов инициировать судебный процесс 56, 58, 365 ~ предъявление обвинения 583—584, 586 ~ в провинциях 608 ~ реформы Помпея и Красса 253—255 ~ суверенитет 56, 888
~ судебные комиссии, постоянные, см. отдельную статью ~ тайное голосование 61, 68, 77—78, 112—113, 597 сноск.
~ уголовные триумвиры 575—577, 610 ~ фикции 854
~ функции народных собраний 77, 86, 96, 98, 103, 112—113, 392, 538, 568-569, 577-580, 581, 593 ~ частные уголовные иски 580, 605, 609 ~ чрезвычайные суды, см. отдельную статью см. также вымогательство; законы против роскоши; казнокрадство; наказания; нарушения при соискании; насильственные действия; обжалование; отравители; посягательство на личность; права, гражданские; присяжные; судеб-
Указатель
1113
ные комиссии, постоянные; убийцы; умаление величия римского народа; юрисдикция, вне города Рима
~ религиозное 574
~ строгое (strictum) 626, 637, 638, 642 chock.
~ частное 613—654, 886
~ адвокатская деятельность 617, 632 ~ власть отца семейства 615, 619—620, 646 ~ возбуждение иска 583—584 ~ греческое влияние 639—640, 645 ~ деликт 619, 628—629, 631 ~ изменения 634, 637; см. также исковое право ~ имущественное право 624—625, 636—637, 646 ~ и иноземцы 618-619, 635—636 ~ иски, см. отдельную статью
~ исковое право 614—616, 621—623, 629—632, 634—635; см. также право (преторское)
~ истолкование 638—645 ~ источники о праве 613—614, 649 ~ источники права 615 ~ в Италии 609, 632—633 ~ коммерческое право 618—619 ~ контракты, см. отдельную статью ~ купля-продажа 617—618, 626, 651 ~ легисакции, см. отдельную статью ~ невозможность апелляции 645 ~ и низпше классы 634, 647 ~ обязательственное право 626—629, 646 ~ определение 613
~ планы Цезаря по кодификации 513, 638, 836 ~ право лиц 617—624, 646 ~ прагматизм 636, 637, 640, 645 ~ в провинциях 36—37, 633—634, 680—683 ~ процедура 614—615, 629—632 ~ развитие 634—645, 650—654 ~ состояние в конце Республики 617—632 ~ и социальные преобразования 634 ~ справедливость, понятие 637—638 ~ стоическое влияние 640, 645 ~ товарищества 732—734 ~ трудовое право 646
~ уголовные иски в рамках частного права 580, 605, 609 ~ ущерб 628—629 ~ фикции 619, 625, 636, 682
1114
Указатель
~ формулярная система 631—633, 635, 637, 651, 661 ~ хронология 634, 650—654
~ частные иски по поводу насильственных действий 605, 609 ~ юристы 614, 616—617, 630, 638—645, 867 см. также иски; контракты; легисакции; наследование; право (преторское); юриспруденция и отдельные преступления и процедуры
~ эксперты 614, 616—617, 630, 644—645 ~ юридическое лицо 98, 627 ~ юридическое образование 794
Законы:
~ «о борьбе с пиратами» 17—18, 30—31, 46-47, 50,118—119,129, 633 сноск., 649, 665—668, 670, 900 ~ Аврелия Копы, о трибунской власти (75 г. до н. э.) 238, 910 ~ Аврелия Копы, судебный (70 г. до н. э.) 253—255, 587, 608, 611,912
~ аграрный (111 г. до н. э.) 18, 42, 45, 47, 80—82, 92, 104, 106, 118, 119, 651, 896 ~ аграрный (44 г. до н. э.) 536
~ Аквилиев о причинении вреда имуществу 629, 634, 643, 650 ~ Антониев, о жителях Термесса (? 71 г. до н. э.) 649 ~ Анция Рестиона, против роскоши (69 г. до н. э.) 367 ~ Аппулеев об умалении величия (103 или 101—100 гг. до н. э.) 123, 597-599, 900
~ Аппулеевы аграрные (103, 100 гг. до н. э.) 115, 119—122, 131, 860-861, 600
~ Атилиев об опекунах 635, 650 ~ Атиниев о приобретении по праву давности 635 ~ Атиниев о включении в сенат плебейских трибунов (до 102 г.
до н. э.) 62 ~ Ауфеев 49
~ Ацилиев о вымогательствах 113, 585—586 ~ Валериев (82 г. до н. э.) 571 сноск.
~ Вариев, об умалении величия (90 г. до н. э.) 136, 141—142, 190, 192-193, 598, 904
~ Ватиниев (59 г. до н. э.) 493, 464-465, 665, 918 ~ Вокониев, о наследовании женщин (169 г. до н. э.) 623, 635, 650; см. также право, частное ~ Габиниев, о тайном голосовании (139 г. до н. э.) 61, 77 ~ Габиниев (67 г. до н. э.) 278—280, 369, 370—371, 665, 914 ~ Геллия—Корнелия, о предоставлении гражданства (72 г. до н. э.) 912
Указатель
1115
~ Гиеронов 660
~ Гортензиев (287 г. до н. э.) 56, 578—279 ~ десяти трибунов (52 г. до н. э.) 462, 465, 920 ~ Дидиев (143 г. до н. э.) 76
~ Домициев, о жрецах (104 г. до н. э.) 230, 857, 858, 900 ~ Кальпурниев, о вымогательствах (149 г. до н. э.) 100, 582— 585, 669
~ Кальпурниев, о нарушениях при соискании (67 г. до н. э.) 373, 594
~ Кассиев, о тайном голосовании (137 г. до н. э.) 61, 62, 77, 84, 579 сноск.
~ Кассиев, о сенате (104 г. до н. э.) 900
~ Корнелиев, о возрастах занятия магистратур (81 г. до н. э.) 228, 232, 251, 572, 574, 608, 908
~ Корнелиев, о вымогательствах (81 г. до н. э.) 229, 573—574, 590, 669
~ Корнелиев, о двадцати квесторах (81 г. до н. э.) 227, 672 сноск., 908
~ Корнелиев, о подделке завещаний и денег (81 г. до н. э.) 606, 635
~ Корнелиев, о поручительствах (81 г. до н. э.) 628 сноск.
~ Корнелиев, о посягательстве на личность (81 г. до н. э.) 606— 607, 651
~ Корнелиев, об убийцах и отравителях (81 г. до н. э.) 99, 387, 600, 603-604
~ Корнелиев, об умалении величия (81 г. до н. э.) 228—229, 262, 567, 573-574, 597, 600, 670, 686, 908 ~ Корнелиевы (81 г. до н. э.) 228—229, 651, 908 ~ Корнелиев, о преторских эдиктах (67 г. до н. э.) 635, 914 ~ Корнелия—Бебия (181 г. до н. э.) 594 ~ Корнелия—Фульвия (159 г. до н. э.) 515 ~ Латинский закон Банцийской таблицы 681 сноск.
~ Леториев, о несовершеннолетних 635, 650 ~ Ливиев (146 г. до н. э.) 41 ~ Ливиев, аграрный (91 г. до н. э.) 133, 134, 904 - Ливиев, о гражданстве (91 г. до н. э.) 138—135, 904 ~ Ливиев, о металлических сплавах (91 г. до н. э.) 730 ~ Лициниев, против роскоши (131 г. до н. э. или позднее) 95, 230
~ Лициниев, о товариществах (55 г. до н. э.) 596, 603, 920 ~ Лициния—Муция (95 г. до н. э.) 123, 131, 607, 751, 902 ~ Лутациев, о насильственных действиях (78 г. до н. э.?) 604— 605
1116
Указатель
~ Мамилиев, о сговоре с Югуртой 110,898 ~ Мамилия—Росция—Педуцея—Аллиена—Фабия 508, 920 ~ Манилиев (66 г. до н. э.) 278—280, 379, 555, 687, 914 ~ Мариев, о голосовании (119 г. до н. э.) 105 ~ Минициев, о детях (до 90 г. до н. э.) 618 сноск., 635, 651 ~ о нарушениях при соискании (61 г. до н. э.) 405 ~ Огульниев (500 г. до н. э.) 856 ~ Орхиев, против роскоши (182 г. до н. э.) 75—76 ~ Оскский закон Б андийской таблицы 130, 609 ~ Папиев, об иноземцах (65 или 64 гг. до н. э.) 383, 607, 752— 753, 914
~ Папириев, о тайном голосовании (131 г. до н. э.) 61, 890 ~ Педиев (43 г. до н. э.) 581 сноск.
~ Педуцеев (114 г. до н. э.) 106, 896 ~ Петелиев, о долговом рабстве (326 г. до н. э.) 634, 650 ~ Петелиев, о нарушениях при соискании 595—596 ~ Плавциев, или Плоциев, о насильственных действиях (70 г.
до н. э.?) 603, 604-605, 912 ~ Плавция—Папирия (89 г. до н. э.) 148, 150, 904 ~ Плеториев, о судопроизводстве 650 ~ Помпеев, о транспаданцах (89 г. до н. э.) 148—149, 904 ~ Помпеев, о городах Вифинии и Понта 298 ~ Помпеев, о судах (55 г. до н. э.) 920
~ Помпеев, о насильственных действиях (52 г. до н. э.) 459, 577 сноск., 595, 610, 920
~ Помпеев, о провинциях (52 г. до н. э.) 463,495 сноск., 666, 920 ~ Помпеев, об отцеубийцах (52 г. до н. э.) 607 ~ Помпея—Лициния (70 г. до н. э.) 252, 912 ~ Помпея—Лициния (55 г. до н. э.) 445, 665, 920 ~ Порциев, об обжаловании (199 г. до н. э.) 62, 568, 570 ~ Порциев (101/100 г. до н. э.) 118, 670 ~ провинциальные 681
~ Росциев, театральный (67 г. до н. э.) 368—369, 391, 914 ~ Росциев, о предоставлении гражданства транспаданцам (49 г. до н. э.) 498
~ Рубриев, об основании колонии в Африке (123 или 122 г. до н. э.) 42, 102-104, 115
~ Рубриев, о Цизальпийской Галлии 508—509, 609 сноск., 649, 653
~ Рупилиев, для Сицилии (131 г. до н. э.) 681, 891 ~ Руфренов 506 сноск.
~ Семпрониев, аграрный (133 г. до н. э.) 79—85, 91, 106, 717, 890
Указатель
1117
~ Семпрониев, о вымогательствах (? 122 г. до н. э.) 17, 67—68, 94, 96-97, 99-101, 109, 110, 582-589, 611 сноск., 669, 689, 892
~ Семпрониев, о консульских провинциях 98, 441, 664, 892 ~ Семпрониев, о правах граждан (123 г. до н. э.) 96, 99, 103, 567, 568-569, 581, 892
~ Семпрониев, против судебных злоупотреблений 603—604, 892
~ Сервилия Главции, о вымогательствах (106—100 г. до н. э.)
114, 116, 123, 589—590, 900 ~ Сервилия Цепиона (106 г. до н. э.) 113, 589, 898 ~ Скрибониев, о приобретении сервитутов по праву давности (?56 г. до н. э.) 635, 653 ~ судебный (61/60 г. до н.э.) 406 ~ Теренция—Кассия (75 г. до н. э.) 910
~ Тициев, о триумвирах для восстановления государства (43 г. до н. э.) 571 сноск.
~ Ториев, аграрный (119 г. до н. э.) 106, 894 ~ Требониев, о консульских провинциях (55 г. до н. э.) 445, 665, 918, 920
~ Туллиев, о нарушениях при соискании (63 г. до н. э.) 393, 595, 916
~ Фабиев, о похитителях людей 607 ~ Фальцидиев (40 г. до н. э.) 623 ~ Фанниев, против роскоши (161 г. до н. э.) 76
- Фламиниев, аграрный (232 г. до н. э.) 68, 83, 84, 119 ~ Фуфиев (ок. 150 г. до н. э.) 120
~ Целиев, о тайном голосовании (107 г. до н. э.) 61, 898 ~ Цецилия—Дидия (98 г. до н. э.) 122, 902 ~ Цинциев, о подарках (204 г. до н. э.) 610 сноск., 634, 635 ~ Эбуциев, о формулах 631—632, 635, 651 ~ Элия и Фуфия (ок. 150 г. до н. э.) 120, 752, 850 сноск.
~ Юлиев, о предоставлении гражданства (90 г. до н. э.) 145, 150, 904
~ Юлиев, о сенатских протоколах (59 г. до н. э.) 410, 918 ~ Юлиев, аграрный (59 г. до н. э.) 411—412, 414, 416—418, 508, 850, 918
~ Юлиев, о вымогательствах (59 г. до н. э.) 118, 420—421, 429, 567, 590, 591, 592, 599-600, 669, 671, 679-680, 684, 686, 918
- Юлиев, о насильственных действиях (ок. 46-44 гг. до н. э.)
591, 605
~ Юлиев, об умалении величия (ок. 46-44 гг. до н. э.) 573—574, 600
1118
Указатель
~ Юлиев, против роскоши (46 г. до н. э.) 515, 521 ~ Юлиев, о насильственных действиях (принят Августом) 568 сноск.
~ Юниев, о вымогательствах 585, 589 ~ Юния Пенна, об иноземцах (126 г. до н. э.) 94, 751, 892 ~ Юния—Лициния (62 г. до н. э.) 916 праздники 552, 765—766, 782, 878
~ празднество Семи холмов (Septimontium) 775 ~ назначаемые (feriae imperativae) 194
см. также игры; Компиталии; Либералии; Луперкалии; Панафинеи; Парилии
праздность, городская (urbanum otium) 754, 783—784 предательство (proditio), суд 598 предприниматели, римские и италийские ~ долги 739—740
~ и всадническое сословие 128—129 ~ инвестиции в сельское хозяйство 713 ~ италийские союзники 128—129, 175 ~ мобильность 724, 730, 736 ~ за морем 38—39, 44, 45, 175, 489, 684, 702 ~ поддерживают Мария 109, 111 ~ сфера деятельности 288 см. также коммерция; откупщики; торговля Презентей, Публий 142
Пренеста (совр. Палестрина) 3(г) Сс, 7 ВЪ, 13 Вс, 127—128, 200, 231, 669, 713 сноск., 730, 751, 765 сноск., 773 сноск.
~ в гражданских войнах 217—222, 224—227, 908 преступление (crimen) 574 преторы 58, 63
~ городской претор 568, 615, 629, 661 ~ законодательство Суллы 228, 572, 608 ~ командования в провинциях 365, 663, 666 ~ претор по делам иноземцев 615, 629
~ и развитие права 615, 616, 622—623, 625, 629, 632, 634—635, 637 ~ требования к соискателям 228 ~ увеличение их числа 34, 572, 608 ~ финансовые мероприятия (86—85 гг. до н. э.) 206 ~ эдикты 372, 615, 616, 629, 634г-635, 914 префекты города
~ при Цезаре 520 ~ в эпоху Империи 611—612
прецедент (exemplum), конституционный 566, 567; см. также нравы и обычаи предков
Указатель
1119
Преция (любовница Публия Цетега) 240
приданое 79, 621, 644
Приена 9 Вс, 14 СЬ, 50, 276, 683 сноск.
принуждение (coercitio), право магистратов 567—568
приобретение по праву давности (usucapio) 624—625, 635, 636, 638, 653
приписанные к союзным общинам лица (adscripti) 148
присяжные
~ в Бариевом суде 136 ~ по делам о святотатстве 403—404, 852 ~ законодательство о составе
~ гракханское 86, 99—101, 585—590 ~ закон Сервилия Цепиона 113, 589 ~ закон Сервилия Главции 114, 116, 123, 589—590 ~ закон Ливия Друза 133 ~ закон Суллы 229, 590, 608 ~ закон Аврелия Копы 242, 253—255, 587, 608 ~ закон Цезаря 421, 517, 608, 924 ~ закон Антония 539, 608
~ коррупция 77, 99-100, 241, 252, 366, 368, 378, 404, 420-^21, 586-588, 592-593, 608
~ несенаторы отбираются цензорами 638
~ в постоянных судебных комиссиях 116, 588—589; см. также вымогательства
~ привилегии всадников 420—421, 517 ~ рекуператоры 584, 630, 633—634, 669 ~ центумвиры для разбора частных исков 630 ~ в чрезвычайных судах 581—582 причинение вреда имуществу (damnum) 634, 653 ~ угроза ущерба (damnum infectum) 653
- неправомерное (damnum iniuria datum) 628, 629 провинции 19, 29—54, 655—690
~ богатство, поступающее из провинций 70, 72, 128—129, 368, 713, 737-739, 882, 886 ~ военные расходы 659, 679—680 ~ возникновение 655—662 ~ защита союзников в провинциях 129—130
~ злоупотребления сенаторов 35—36, 95, 242, 252—255, 372, 463, 666— 671; см. также вымогательства
- империй наместников 655—656, 663, 668, 670—671 ~ инвестиции в сельское хозяйство 364
~ контроль над наместниками 117—118, 228—229, 666—667; см. также вымогательства; «Закон о борьбе с пиратами»
~ концепция провинции
1120
Указатель
~ как сфера ведения 655—656, 658 ~ территориальная 663
~ перемены в отношении Рима к ним 685—690 ~ поручаются магистратам 58, 63, 98, 365, 441, 664—665, 680, 892 ~ право, см. «Закон о борьбе с пиратами» и в статьях право, частное;
юрисдикция ~ правосудие 36—37, 277 ~ статус провинциалов 683—684 ~ управление 29—31, 36, 58, 228—229, 655—690 ~ штаб наместника 671—675 ~ эдикты наместников 633—634, 642, 681
см. также статьи об отдельных провинциях и в статьях долги; вымогательства; налогообложение; откупщики; патронат; финансы
продовольствие
~ городской спрос 74, 707
~ дефицит 692, 701, 707; см. также в статье зерно
- импорт 704—705, 708
~ продуктовые рынки (macella) 761, 765, 767 ~ элитное 19, 230, 761
см. также зерно; сельское хозяйство; снабжение войска промагистраты 663—664, 856 промышленность 75, 718—724
~ экономические структуры 719—724 ~ лавки и мастерские 760, 762, 767, 770 пропаганда 174, 188-189, 208, 247, 315, 327, 454-455, 476, 479, 489, 500, 846 пророгация (продление полномочий магистратов) 23, 27, 58, 79, 663, 863, 884-885
проскрипции
~ Второго триумвирата 551, 571, 670
- и земельный рынок 713, 718
см. также в статье Корнелий Сулла, Луций проституция, в понтийском храме 160 Протопахий 170 проценты по займам
~ во время войны 375, 516, 517 ~ правовое и социальное осуждение 731—732 ~ правовое регулирование 634, 731—732 ~ фиксированные 60, 198, 276 Пруса 9 ВЪ, 264, 298 Прусий П, царь Вифинии 30, 45, 154 Псалмы Соломона 310, 341—342 псевдоэпиграфы 310, 341
Указатель
1121
Псенптаис, верховный жрец Мемфиса 352 Птолемаида (Акка) 10 Аа, 327
Птолемеи 51, 302, 306, 307, 313, 328, 332, 343-361, 365, 928-929 - династический культ 354—355, 357, 358, 360—361 см. также статьи об отдельных представителях династии Птолемей П Филадельф 330, 928 Птолемей V Эпифан 343, 928 Птолемей VI Филометор 30, 928 ~ смерть 343
Птолемей УП Неос Филопатор 343, 928
Птолемей УШ Эвергет П (Фискон) 30, 343—345, 347, 891, 897, 928 ~ его наследники 347—349 Птолемей IX Сотер П (Лафур) 929
~ правление на Кипре 327—328, 349, 899
~ царствование в Египте 302, 324, 348, 350—351, 356, 897, 907, 909 ~ и иудеи 324, 327—328
Птолемей X Александр I 172, 348, 897, 899, 903, 907, 929 ~ завещает царство Риму 302, 349, 351, 384, 903 ~ и местные египетские культы 350, 360 Птолемей XI Александр П 172, 351, 909, 929 Птолемей ХП Новый Дионис (Авлет) 929
~ правление в Египте 290, 302, 352—354, 909, 919, 921 ~ признание Римом 302, 415, 919 ~ бегство в Рим 302, 353, 358, 437, 438, 444, 919 ~ отказ Рима восстановить его на престоле 437—438, 442, 445, 852, 919 ~ восстановлен Габинием 353—354, 356, 442, 444, 446, 566, 567, 919 ~ завещание 354
*
~ задолженность перед римлянами 355—356, 415, 446, 487 ~ и местные культы 352 ~ подкуп 302, 423, 438 ~ чеканка 356
Птолемей ХШ 354, 355, 487, 921, 929 Птолемей ХГУ 355, 487, 929
Птолемей XV Цезарь (Цезарион) 355, 487, 526—527, 925, 929
Птолемей Апион 262, 349, 897, 903, 928
Птолемей Кипрский 290, 352, 353, 423, 436—437, 929
Птолемей Мемфисский 343, 345, 928
Птолемей, сын Абуба 317—318
Публикола, см. Геллий
Публиций Маллеол 591 сноск.
публичные чтения 792—793, 799
Пульхр, см. Клавдий
1122
Указатель
Пупий Пизон Фруги Кальпурниан, Марк (консул 61 г. до н. э.) 401-405, 916 Путеолы (совр. Поццуоли) 3(0) Ас, Ί3 Вс, 446, 592 сноск., 731, 736, 748, 763, 764
~ вилла Суллы 233, 234 ~ порт 515 сноск., 725—726, 735 Пьетрабонданте 2 Вс, 94
Рабирий (философ) 826, 868 сноск.
Рабирий, Гай (убийца Сатурнина) 392, 397, 578 сноск., 916 Рабирий Постум, Гай 303, 354, 356, 733 сноск. рабочая сила 721,764; см. также в статье рабы рабы
~ вооруженные отряды 238
~ восстания 71, 394, 509, 692, 698, 716, 883; см. также в статьях Спартак; Сицилия
~ греческая культура 794—795, 801 ~ как движимое имущество 617—618, 647 ~ домашние 753, 763, 802
~ законопроект о налоге на владение рабами (50 г. до н. э.) 468 ~ на испанских серебряных рудниках 35 ~ крепостные 580 ~ Моммзен Т. о рабах 25 ~ наказания 567—568, 575—576 ~ и образование 793, 794—795 ~ обращение в рабство
~ военнопленных 71, 187, 324, 433, 497, 692, 697—698, 755 ~ провинциалов 58, 585, 668 ~ союзников 40, 50
~ освобождение 452—453, 514, 618, 637, 644 ~ отношения с хозяевами 769 ~ пекулий 620, 628, 646, 653 ~ переписчики книг 798 ~ в политической и социальной жизни 745 ~ правовой статус 575, 576, 617—618, 629, 643, 646, 647 ~ как представители хозяев 682 ~ и продовольственное снабжение 698 ~ на производстве и в ремесле 763, 765 ~ работорговля 34, 39, 76, 288, 713
~ на Делосе 34, 698, 715, 726, 735—736 ~ и откупщики 734 ~ пираты как поставщики 727 ~ правовое регулирование 627 ~ в Путеолах 726
Указатель
1123
~ рост их доли в населении 71—72, 694, 697—698, 886 ~ свобода 74
~ дарует Митридат 184
~ получают рабы проскрибированных 229—230, 551 ~ предлагают вожди гражданской войны 196,200, 201,203, 204 см. также освобождение ~ в сельском хозяйстве 41, 70, 711, 713—716 ~ Тиберий Гракх о рабах 70, 72
~ Цезарь ограничивает их долю в рабочей силе 509, 924 ~ эдикт эдилов о рабах 651 см. также в статье вольноотпущенники раввинисгическая литература 311 Равенна 2 ВЪ, 13 ВЪ, 219, 440, 457, 471, 472 равенство, правовое понятие 637—638 разбой 231, 290, 408
район, административный (vicus) 748, 773, 775—778, 860 Раммии (римская семья в Фессалии) 31 распятие 340
расследование (inquisitio) 114
рассмотрение дела перед претором (in iure) 630, 631
Раудийские поля (Верцеллы) 117
Раурика 502 сноск.
Рафия 10 Ас, 11 Ва, 326 рацион 705, 707, 708, 765, 766 рвы, «царские» или «финикийские» 41, 42 Регий (совр. Реджо) 1 Dd, 2 Cd, 13 Cd ,91,731 Регий Лепида 13 Ab, 507 Регилльское озеро, битва на нем 839 Рекуператоры 584, 630, 633—634, 669 религии, неримские
~ иноземные культы в Риме 323, 873, 876—877 см. также в статьях Греция; Египет; иудеи религия, римская 839—880
~ антиквары о римской религии 869—871 ~ вера 843
~ влияние империи 854, 875—880 ~ и война 839—840, 854—855, 876 ~ группы 872—875 ~ домашние культы 842, 873 ~ злоупотребления, кажущиеся 852—853 ~ изменения 848—849, 885 ~ иноземные культы в Риме 323, 873, 876—877 ~ институты 839—845
1124
Указатель
~ источники 845—849
~ италийские союзники и римские культы 135 ~ и коллегии 873
- консенсус 852, 859-860 ~ латинские культы 101 ~ и магия 867, 871—872
~ и мораль 839
~ небрежение и адаптация 853—856
~ обнунциация используется для обструкции законодательной деятельности 108, 120, 122, 412, 414, 421, 850—851, 860 ~ Бибулом 412, 414, 421, 850—851 - Марцеллином 438, 439 ~ обособление 866—875 ~ как основа игр 786
~ политическая природа 60, 812, 839—845, 867, 873—874 ~ и политические потрясения 849—853, 856—861, 872—785, 885 ~ посвящения 842—843, 864—865, 877—878 ~ в провинциях 876—879 ~ распад 849—853
~ с точки зрения иноземцев 878—880 ~ скептицизм 525, 867—869 ~ сравнение разных периодов 845—849
- и Сулла 187, 196, 199, 209, 215, 864 ~ традиционные формы 839—845
- и триумфы 862, 863, 864 ~ и философия 879
~ частные посвящения 842, 843 ~ чуждость 843—845 ~ эвокация 854—855 ~ эксперты и энтузиасты 867, 869—871 ~ и этика 839
см. также в статьях боги; божество; вакханалии, культ; Добрая богиня; жертвоприношения; жреческие должности; знамения; оракулы; предзнаменования; храмы ремесленники 723—724, 762 ремы 72 Ва, 432
репарации 48-^7, 50, 183, 186, 187-188, 275, 661, 677-678 Республика, причины упадка 553—555, 881—889 Рим 7 Сс, 3(г) Сс, 3(й) Аа, 7АЬ, 13 Вс, 14 Вс, 88—89, 413 *
ГОРОДСКАЯЖИЗНЬ 743-791
~ библиотека, публичная 512—513, 796, 806 ~ водоснабжение 723, 750, 772, 775 сноск.
Указатель
1125
~ гигиена 750
~ «городская провинция» 656 ~ городской досуг 752 ~ границы 745—746; см. также померий ~ жилье 750, 768—769, 772; см. также инсулы ~ изгнание неримлян, см. отдельную статью ~ иммиграция 59, 750—753 ~ кварталы 748
~ ксенофобия 127, 194, 752—754 ~ лавки 754, 759—769
~ мобильность населения 749—750, 754, 758, 776 ~ мощение улиц 723 ~ наводнения 449, 750 ~ обожествленная персонификация 878 ~ и окружающие области 756—757, 759 ~ основание 451, 849 ~ миф 750
~ поддержание порядка 58, 515 ~ пожары 722, 750, 761 ~ предместья 756 ~ предметы росконш 724, 767 ~ преимущества 752, 758, 767—768, 783—784 ~ производство 74—75, 720—721, 723, 759, 762, 770 ~ рабы 753
~ расширение территории 701 ~ розничная торговля 759, 760—767, 768 ~ как рьшок сбыта 716
~ снабжение продовольствием 75, 77, 97, 692, 725—726, 736, 752, 759; см. также зерно ~ социальная интеграция 769—770 ~ социальная мобильность 758—759 ~ строительство 722—723, 772 ~ театр 752, 785, 786 ~ финансисты 730—731 ~ эмиграция 755—757 ~ эпидемия (175—174 гг. до н. э.) 750
Строения и места 88-89,413 ~ акведуки 701, 723, 750 ~ Марциев 723 ~ Тепула 468 сноск.
~ Феличе 772 ~ амфитеатр 787
1126
Указатель
~ арка Квинта Фабия Максима 455 ~ арка Луция Стертиния 786—787 ~ Большой цирк 399, 786—788 ~ Бычий форум 723
- Гальбанские склады 726 ~ дома 750, 768—769, 772
~ Квинта Цицерона 772 - Марка Цицерона 404—405, 859 ~ Цезаря 513, 522, 761
~ здание сената 122, 370, 401, 413, 456, 458, 500, 512, 920 ~ Капитолий 87,103,121-122,154,215, 230, 382, 383, 390, 397, 399, 424, 435, 455, 473, 512, 521, 529, 530, 531, 726, 862, 876, 878 ~ Капитолийская площадь 87, 436 ~ Коллинские ворота, см. отдельную статью ~ комиций 60, 76, 779, 814, 838
~ Марсово поле 7Ab, 196, 219, 234, 362, 392, 393,449, 454, 455, 511, 512, 726, 779, 790, 848 ~ Монте Тестаччо 723
~ Мраморные планы Рима эпохи Флавиев и Северов 762 ~ Мульвиев мост, см. отдельную статью ~ Октавиев портик 789
- Опимиева базилика 413
~ померий 121, 232, 371, 402, 407, 422, 425, 466, 482, 512 сноск. 749 ~ порт 723, 726
~ Порциева базилика 413, 455, 456
~ постройки Помпея 447, 455, 723, 787, 789—790, 848, 864-865, 919 ~ постройки Цезаря 454-^55, 511—513, 723, 787 ~ Римский форум 21, 60, 76, 87, 200, 232, 369, 370, 373, 375, 376, 377, 380, 381, 397, 399, 400, 412, 413, 424, 445, 454-456, 460, 465, 472, 511, 524, 529, 530, 532, 534, 546, 740, 761, 764, 777-779, 783, 840, 842, 850, 858
~ ростры 76, 204, 222, 371, 376, 389, 411^13, 418, 420, 456, 462, 463, 842, 858
- Свайный мост 103
~ Священная дорога 200, 239, 397, 455, 456, 754, 761, 764, 777 ~ Семпрониевы склады 726 ~ склады 97, 723 ~ театры 455, 512, 785, 787
~ тюрьма 31, 77, 113, 397, 401, 407, 411-413, 419, 455 ~ Фламиниев цирк 371, 403, 425 ~ храмы 522, 789, 847—848, 853 ~ Аполлона 466 ~ Беллоны 221, 391, 854
Указатель
1127
~ Венеры, построенный Суллой 864
~ Венеры Победительницы, построенный Помпеем 789, 848, 864—865
~ Венеры Прародительницы 511—512, 538, 865 ~ Венеры Эрицины 221 ~ Верности 87 ~ Весты 840 ~ Вортумна 855
~ Геркулеса Победителя, на Бычьем форуме 723 ~ Геркулеса Помпеяна 848 ~ Дианы, на Авентине 103 ~ Дианы Планцианы 848 ~ Земли 196, 530, 848
~ Кастора 412, 413, 422, 423 сноск., 430, 847 ~ Квирина 521, 780 ~ на Ларго Арджентина 848 сноск.
~ Луны 211
~ Марса, планировавшийся 512 ~ Милосердия Цезаря, планировавшийся 512, 522 ~ Минервы, построенный Помпеем 447 сноск., 848 ~ Нимф 436 сноск., 847 ~ Опы 535 ~ Сатурна 413
~ Свободы, построенный Клодием 859, 860 ~ Свободы, планировавшийся 521 ~ Согласия 396, 413, 424, 434, 455 ~ Согласия, планировавшийся 512 ~ Счастья, в театре Помпея 865 ~ Счастья, планировавшийся 512 ~ Цезаря 861 ~ Цереры 211, 860 ~ Юноны, на Авентине 855
~ Юпитера Наилучшего Величайшего Капитолийского 85, 87, 363, 399, 434, 435, 512, 524, 601, 848, 863 ~ Юпитера Статора 395, 412 ~ Эмилиев портик 726 ~ Эмилиева базилика 413, 455, 465 ~ Юлиев форум 455, 511, 523, 865, 924 ~ Юлиева базилика 413, 465 сноск., 511 ~ Юлиева септа (помещение для голосования) 455, 511 ~ Яникул 7 Ab, 202, 204, 236 римский народ (populus Romanus) 599, 743—747 Риндак, река 5 ВЬ, 9 ВЪ
1128
Указатель
~ битвы на ней 185, 264, 911 риторика, см. красноречие
«Риторика для Геренния» (трактат) 22, 141, 600 сноск., 602, 651 Родос 1 Ed, 5 Ас, 9 Вс, 14 СЪ
~ предложение Ювенция Тальны об объявлении войны (167 г. до н. э.) 665
~ в «Законе о борьбе с пиратами» 31, 118
~ в Первой Митридатовой войне 169, 170, 171, 174, 178, 184, 185, 801, 905
~ распоряжения Суллы после войны 187 ~ в гражданской войне Суллы 220 ~ пребывание Помпея 400, 824
*
~ и пираты 31, 118, 290, 727 ~ Посидоний 800, 801, 824, 830 сноск.
~ соперничество с Делосом 735 ~ торговля с Италией 709 сноск., 725 - чеканка 728 роды (gentes) 62, 621 рождаемость 515, 699, 890 розничная торговля 76, 759—768 Розос, письма Октавиана 633
Ромул 31, 370, 493, 525, 526, 575 сноск., 757, 818, 862, 877, 878
Рона 1 Вс, 12 Вс, 38, 52, 719
роскошь 72, 75—76, 736, 761, 764, 767, 784
~ обвинения в пристрастии к ней 19—21, 75—76, 91, 470, 881 Ростовцев, Михаил Иванович 70, 72, 153 сноск. ростовщичество (faenus) 366, 730—732, 739—740 ~ бодмерея (faenus nauticum) 731
~ займы для провинциалов 246—247, 369, 368, 396, 686, 737—738 см. также заимодавцы Росции из Америй 224
~ Секст Росций-отец 603, 712 ~ Секст Росций-сын 225, 232—233, 254, 603, 908 Росций Отон, Луций (трибун 67 г. до н. э.) 368—371, 391, 914 Росций Фабат, Луций (претор 49 г. до н. э.) 479, 481, 498 Рубикон 475, 476, 549, 922 Рубрий (трибун 133 г. до н. э.) 87 Рубрий (трибун 123/122 г. до н. э.) 97
см. также в статье законы (Рубриев)
Рулл, см. Сервилий
Рупилий, Публий (консул 132 г. до н. э.) 40, 681, 890, 891 Рутилий Луп, Публий (консул 90 г. до н. э.) 142, 143, 904
Указатель
1129
Рутилий Луп, Публий (трибун 56 г. до н. э.) 439 сноск.
Рутилий Руф, Публий (консул 105 г. до н. э.) 898 ~ претура (118 г. до н. э.) 651, 764
~ осуждение за вымогательства и изгнание 100, 123, 169, 588 сноск., 610, 830, 835
~ интеллектуальные интересы 822, 830, 835, 686 сноск.
~ сочинения 121, 169, 803, 820, 822 Руф, см. в статьях Минуций; Рутилий; Сульпиций рыба
~ рыбоводство 763 ~ консервирование 20, 705 рынки, их регулирование 515
Сабелльская область 137, 705
Савмак (лидер мятежников в Пантикапее) 163
Сагунт 7 Вс, 8 СЬ, 245
саддукеи 306, 333, 338—339, 341
садоводство 765
Садок (иудейский священник), его род 332, 338 Сазерна, агроном 130 сноск., 715 Сайм, сэр Рональд 26, 477, 643 сноск. саки 292
Саккара 7 7 Аа, 359 Сакрипорт 7 ВЪ
~ битва при Сакрипорте 218, 219, 908 Саламин 7 Fd, 9 Сс, 14 СЬ, 495, 686 Салапия 3(й) Da, 147 Салерн (совр. Салерно) 3[ii) Cb, 142 салии 841
саллювии 12 Вс, 37—38, 893
Саллюстий Крисп, Гай (претор 46 г. до н. э.)
~ политическая карьера 458, 484, 495, 922 ~ «Второе письмо к Цезарю» 504 - «История» 14, 16, 22, 818 ~ «О заговоре Каталины» 14, 21, 22, 391, 571 ~ «О Югуртинской войне» 14, 21, 43-45, 53, 54, 108 ~ об автократии Цезаря 517 ~ о борьбе оптиматов и популяров 26, 28, 64 ~ о взаимосвязи богатства и нищеты 21 ~ о клике 24, 64, 107 ~ о нравственном упадке 20, 22, 55, 64 Саломея Александра, царица Иудеи 323, 329, 340, 930 Сальвидиен Руф, Квинт 570 сноск.
изо
Указатель
Сальвий (лидер сицилийских рабов) 40 Самария 10 Ab, 305, 314, 320, 324—327, 442 chock. самбука (осадная машина) 174 Самний и самниты 2 Вс, 3(0) Ва—Са
~ соглашение в Кавдинском ущелье (321 г. до н. э.) 78 ~ триумф Папирия Курсора (309 г. до н. э.) 783 ~ переселение 751
~ миграция во Фрегеллы 94, 126, 701
~ постройки в Пьетрабонданте 94
~ в Союзнической войне 137, 140, 142, 143, 146—148
~ в гражданской войне Мария и Суллы 202, 217—222, 246, 908
~ и Цезарь 505-507, 510, 536
~ Антоний ищет поддержки ветеранов 536
*
~ земельные владения 73, 91, 231 ~ сельское хозяйство 705 Самога (Самега) 10 ВЬ, 324
самопомощь, в условиях применения силы 605—605, 884 Самос 5 Ab, 9 Вс, 188 Самосата 295
самоуправление, местное 297, 507—509, 513 Самофракия 5 Аа, 188 Сампсикерам из Эмесы 289, 417 саранча, в Африке 42, 43, 75, 95 Сардиния 7 Cc—d,2Ac—d, 13Ac—d, 14 Bb
~ военное присутствие римлян в Ш в. до н. э. 662, 667
~ кампания Тиберия Гракха (177 г. до н. э.) 71
~ кампании Аврелия Ореста 893, 894
~ квестура Гая Гракха 43, 95
~ триумф Марка Метелла 896
~ во время гражданской войны Суллы 218
~ смерть Лепида 237
~ убежище Перперны 243
~ встреча Помпея с Квинтом Цицероном 440
~ во время гражданской войны Цезаря и Помпея 476, 488, 490
~ провинция Октавиана 486
~ Тиберий поселяет там вольноотпущенников-иудеев 756 ~ экспорт зерна в Рим 421, 476, 707, 726 Сарды 5 ВЬ, 184
саркофаг Александра Великого 356 сарматы 7 Eb—Fb, 9 Ва, 151, 170, 257, 269 Сатикула 3(0) Вс, 215 Сатурей, Публий (трибун 133 г. до н. э.) 87
Указатель
1131
Сатурнин, см. Аппулей
Сатурния 3[г) ВЬ, 193
Сауфей, Гай (квестор 99 г. до н. э.) 122
Сауфей, Луций (эпикуреец) 826 сноск.
Сауфей, Марк (подручный Милона) 577 сноск., 610 Светоний Транквилл, Гай 476, 491, 502, 512, 516, 524 свинец, его ресурсы 158, 721—722 свиноводство 82, 704, 705, 711 свитки Мертвого моря 310, 333—336 свобода [libertas) 617—618
~ святилище, построенное Клодием на месте дома Цицерона 859, 860 свободные города и государства 31, 39, 41, 42, 48, 683, 684, 735—736 связи, политические 67, 77, 107, 191—192, 255; см. также группировки, семейные; патронат
святилища 869
- семейные 842
святотатство (sacrilegium) 593; см. также в статье Клодий, Публий
священный участок (templum) 842
сдача внаем (locatio conductio) 626—627, 646, 715 сноск.
Сегеста 2 Bd, 40 Сегобрига 8 ВЬ, 243, 247 Сеговия 8 ВЬ, 245, 911 Сегонция 8 ВЬ, 243, 246, 911 секваны 12 ВЬ, 426, 429, 431, 432, 460 Секстин (философская группа) 816
Секстий, Публий, суд за нарушения при соискании 595 сноск.
Секстий Кальвин, Гай (консул 124 г. до н. э.) 38, 892, 894
Секстий Латеран, Луций (трибун 376—367 гг. до н. э.) 86
Селевк I, царь Сирии 153
Селевк П, царь Сирии 154
Селевк (командир гарнизона в Синопе) 274
сельская местность
- депопуляция 73, 231, 699—701, 704, 739 ~ интеллектуальная жизнь 798—799
~ оппозиция сельского плебса городскому 127, 131 ~ политическое влияние 59
см. также аграрный вопрос; крестьянское восстание; сельское хозяйство
сельское хозяйство 702—719
~ виллы 72, 705, 710 сноск., 711, 714, 715 ~ географическое разнообразие 702—705 ~ государственный доход 717 ~ греческая наука 706, 804
1132
Указатель
~ дренаж 704
~ и закон о собственности 624—626 ~ идеал гражданина-земледельца 21, 56 ~ издольщина 712, 715
~ инвестиции 70, 72, 77, 127—129, 363—365, 713, 735, 740, 882 ~ контракты 614, 642, 649
~ латифундии, крупные поместья 70, 71, 72, 73, 127—129, 231, 710— 718
— методы 706 ~ механизмы 72, 706 ~ налогообложение 718 ~ натуральное хозяйство 705, 706 ~ орудия 72, 706, 720, 759 ~ продукция, основные виды 707—711 ~ рабовладельческое производство 41, 70, 712, 714—717 ~ рента 712,715,717
~ садоводство, ориентированное на рынок 765 ~ севооборот 706 ~ сезонный труд 756, 765 ~ сельскохозяйственные структуры 711—716 ~ смешанное 72
~ сочинения о нем 70—72, 702, 710; см. также в статьях Порций Катон, Марк (консул 195 г. до н. э.); Теренций Варрон, Марк ~ спекулятивное 705,711
см. также отдельные сельскохозяйственные культуры, страны и регионы, виноделие; выпас скота; животноводство; землевладельцы, мелкие; лесоводство
Семпроний Азеллион, Авл (претор 89 г. до н. э.) 740, 904 Семпроний Азеллион, Публий (военный трибун 133 г. до н. э., историк) 13, 83, 818, 819
Семпроний Гракх, Гай (трибун 123—122 гг. до н. э.) 95—105 ~ на войне с кельтиберами 79 ~ квестор на Сардинии 43, 95 ~ трибунат 95—105, 892, 894 ~ переизбрание (122 г. до н. э.) 101, 894 ~ неудачная попытка переизбрания (121 г. до н. э.) 102 - гибель 42, 103, 569, 570, 894
*
~ и аграрный вопрос 42, 80, 85, 97, 102, 104—105, 128, 700, 717, 892 ~ и баланс сил 22, 98—99, 105, 110 ~ биография Тиберия Гракха 17, 21, 22, 71 ~ и военный набор 52 ~ и долговые проценты 97
Указатель
1133
~ и закон Ауфея 49
~ законодательство, см. в статье законы (Семпрония)
~ и Испания 97
~ использование народного собрания 93 ~ источники о нем 16, 19, 22 ~ и коррупция 98, 99 ~ культ 864
~ и обжалование 96, 100 ~ и Октавий 96 ~ оценка 105
~ подозревался в убийстве Сципиона Эмилиана 93 ~ политические инновации 55, 449 ~ и поставки зерна 75, 97, 102, 748 ~ и права союзников 93—96, 100—102 ~ приданое жены 644
~ и распределение провинций 98, 441, 664, 892 ~ и Рубриев закон 42, 102—103 ~ и сословие всадников 99, 110 ~ строительство дорог 97 ~ схемы колонизации 18, 42, 72, 97, 101—104, 502 ~ урегулирование в Азии 49—50, 98, 660, 667 Семпроний Гракх, Тиберий (консул 177, 163 гг. до н. э.) 34—36, 71 Семпроний Гракх, Тиберий (трибун 133 г. до н. э.) 79—95, 890 ~ квестор в Испании 78
~ аграрный законопроект 64, 79—85, 106, 125, 128, 699—700, 717, 890 ~ в составе земельной комиссии 85, 890 ~ и денежные поступления из Пергама 48-^49, 85, 91, 890 ~ пытается переизбраться на должность трибуна (132 г. до н. э.) 64, 86-87,90 ~ гибель 87, 90, 890
~ суд над его сторонниками 90, 569, 581
*
~ его биография, написанная Гаем Гракхом 17, 21, 22, 71 ~ и греческая политическая мысль 69 ~ и Испания 78
~ об использовании рабского труда 70—72, 74, 699 ~ поддержка народа 61 ~ политические инновации 55, 779 ~ политические связи 67, 78 ~ посмертный культ 864 ~ применение насилия 104 ~ речи 17, 21, 81
Семпроний Тудитан, Гай (консул 129 г. до н. э.) 890
1134
Указатель
семья
~ наследование магистратур 60—62, 238 ~ и политические союзы 26, 27, 66—67, 106—107, 122 ~ семейное право 575, 617—624; см. также власть отца семейства ~ семейные культы 872 Сена Галльская 3{ΐ) Da, 13 Bb, 219, 773—774 сенат 62—64
~ авторитет 64, 420
- и Антоний 536, 541, 543—544
~ армия оспаривает его верховенство 554—555, 883
- вера Цицерона в правление сената 374, 392, 542, 554 ~ во время гражданской войны Цезаря и Помпея
~ в Риме 479-482, 484 - в изгнании 484, 486
~ после убийства Цезаря 529—531, 534, 543—544, 551—553 ~ и Гракхи 84, 87, 99—100, 103—105, 586 ~ доблесть 65 ~ допуск плебеев в сенат 62 ~ и Клодий 403, 421, 441
~ коллективное господство 63—66, 90, 209, 374, 392, 542, 554 ~ комиссии для урегулирования дел за рубежом 36, 41, 43, 49, 154, 166, 167, 170, 268, 659-660 ~ консенсус 63, 66, 884
~ контроль оптиматов над сенатом 375, 399, 405, 407—409, 418, 439, 441, 460-461 ~ и Ливий Друз 133 ~ милитаризм 79 ~ и Октавиан 543, 549, 551
~ Плавциев закон против запугивания сената 605 ~ политические союзы внутри сената 65—68 ~ и Помпей 399, 405, 408, 409, 439
~ реформы Помпея 457—458, 459-462
- популяры действуют в обход сената 24, 65, 76 ~ публикация протоколов 410, 411
- расторжение договоров 17, 44, 78
~ религиозная роль 841, 845, 867, 873—874 ~ руководство Варрона по сенатской процедуре 252, 808 ~ суждение (auctoritas) 63 ~ и Сулла, см. Корнелий Сулла, Луций ~ и управление провинциями 659—660, 664, 667—669, 671, 680 ~ Цезарь расширяет сенат 500, 510, 518—519, 924 ~ цензоры определяют состав сената 62, 362—363, 421, 462, 470, 896, 912, 922
~ и чрезвычайные суды 569, 580—582
Указатель
1135
см. также магистраты; постановления сената; сенаторское сословие сенаторское сословие:
~ коммерческая деятельность 364, 692, 731, 733, 740—742, 763—764, 765-766, 771
~ не вправе владеть землей за пределами Италии 364, 503 ~ ограничение размера задолженности 193—194 ~ и сословие всадников 16, 99, 109—112, 133, 227, 229; см. также присяжные (законодательство) см. также: высшие классы; сенат Сенека Старший 794—795 Сенека Младший 23, 527, 804, 816 сноск., 827 сеноны 72 ВЬ, 454, 457, 460
Сентий, Гай (наместник Македонии в 93—86 гг. до н. э.) 173, 176—177
септемвиры эпулоны 841, 857
Септимий Север, император 22
Септимий Сцевола, Публий 590
Серапис, его культ 876
Сервий Туллий, царь Рима 51
Сервилий, Квинт (или Гай, умер в 91 г. до н. э.) 136
Сервилий Ватия Исаврик, Публий (консул 79 г. до н. э.) 198, 233, 376, 393 сноск., 437, 438, 444 сноск., 908, 920 ~ командование против пиратов 237, 240, 260—261, 278, 910, 911 Сервилий Главция, Гай (претор 100 г. до н. э.) 16, 22, 116, 117, 121—124, 779
- закон о вымогательствах 114, 116, 117, 123, 589—590, 900
~ закон 101/100 г. до н. э. о преторских провинциях, см. «Закон о борьбе с пиратами»
Сервилий Глобул, Публий (трибун 67 г. до н. э.) 369 Сервилий Исаврик, Публий (консул 48 г. до н. э.) 484, 495, 922 ~ после смерти Цезаря 539, 543, 545, 547 Сервилий Рулл, Публий (трибун 63 г. до н. э.) 353, 388—391, 407, 411, 421, 713, 755, 916
Сервилий Цепион, Гней (консул 169 г. до н. э.) 664 сноск.
Сервилий Цепион, Квинт (консул 146 г. до н. э.) 77 Сервилий Цепион, Квинт (консул 106 г. до н. э.) 898
~ закон Сервилия Цепиона о присяжных 113, 589—590, 898 ~ галльская кампания 38, 52, 113, 599, 899 ~ судебный процесс 113, 115, 116, 123, 599 ~ и Метеллы 107
Сервилий Цепион, Квинт (квестор 100 г. до н. э.) 119,122—123, 143, 599 сноск. Сервилий Цепион, Квинт (легат Помпея на море в 67 и 65 гг. до н. э.) 286 сервитуты (имущественные права) 624, 625, 639, 653 Сергий Каталина, Луций
- во времена Суллы 221
~ вымогательства в Африке 372, 378, 383, 914
1136
Указатель
~ не допущен к консульским выборам 378
~ суд над Манилием и так называемый «первый заговор» 15, 380, 381, 914
- соискание консульства (64 и 63 гг. до н. э.) 386—388, 393
- оправдан в суде по делам об убийствах 388, 604 сноск.
~ заговор Каталины 394—398, 401, 403, 405, 596, 603, 815, 818, 839, 861,883
~ руководство крестьянским восстанием 231, 396, 398, 400, 401, 740 ~ смерть 401 ~ долги 386—387, 740 см. также в статье заговор Каталины серебро
~ афинское 178 ~ испанское 35, 721—722 ~ понтийское 158, 288 ~ столовая посуда 72, 76 ~ удорожание 75, 76 Серторий, Квинт 35, 247—248
~ и Союзническая война 142 ~ поддерживает Мария и Цинну 198, 200—202, 205 ~ в гражданской войне 216, 217 ~ проскрибирован 224
~ устанавливает свою власть в Испании 217, 231, 233, 239, 255, 906 ~ управление в римском стиле 243, 248
- Серторианская война 236, 237, 239—240, 243—248, 250, 255, 363, 483,
663, 667, 909, 911
~ договор с Митридатом 240, 243, 246, 248, 262, 911, 912 ~ убийство 247, 913 Сестии из Косы 709 сноск., 733 сноск.
Сестий, Публий (трибун 57 г. до н. э.) 431, 433, 611 Сеттефинестре 709 сноск.
Сибарис 785
Сивиллины книги 230, 363, 383, 525, 848, 876
~ и квиндецемвиры священнодействий 437, 841 ~ и Птолемей Авлет 302, 353, 437, 442, 445, 852 Сигния 3{ii) Аа, 218 Сиде 261
Сиди-бу-Али 2 Ае, 42 Сизенна, см. Корнелий Силан, см. Юний Сильский лес 2 Cd, 77, 581, 704
Симон (иудейский первосвященник) 307, 314—317, 320—322, 330 ~ смерть 317—319, 329
Указатель
1137
синедрионы (иудейские областные советы) 304
Синопа 7 Fc, 4 Bb, 5 Da, 9 Cb, 74 Ca, 154-156, 158-160, 162, 164,169, 897 ~ в Третью Митридатову войну 257 chock., 264, 266, 274, 275, 913 - распоряжения Помпея (62 г. до н. э.) 297 ~ колония Цезаря 503 Синора 282
Сиракузы 7 Cd, 2 Be, 13 Be, 14 Bb, 39, 660, 731 Сирия 7 Fd, 9 Cc—Dc, 14 Cb
~ отношения с Понтом в Ш—П вв. до н. э. 153—154 ~ и Апамейский мир 257 ~ при Деметрии I 30 ~ войны с Парфией 290, 292
~ принимает послов от Митридата Понтийского 167 ~ поддерживает Рим в Первой Митридатовой войне 178 ~ армянская оккупация северной Сирии 267, 289, 293 ~ при Антиохе ХШ Филадельфе 270 ~ соперничество Антиоха с Филиппом П 289 ~ аннексия Помпеем 289—290, 295, 296, 300, 305, 436 ~ поручена как провинция Марку Пизону и Клодию 404 ~ решение отменено 405
~ командование Габиния 301—304, 428, 436, 441, 665 ~ командование Красса 445—446, 447, 450-451 ~ назначение Бибула 467 ~ парфянские вторжения
~ 51 г. до н. э. 467, 469, 470, 471, 688, 923 ~ 45 г. до н. э. 491, 925 ~ мятеж Цецилия Басса 491, 535 ~ командование Долабеллы 536 ~ Кассий берет Сирию под контроль 544—545
*
~ и иудеи 305—307, 314-315, 321-322 ~ непрочное положение Селевкидов 30, 51, 306, 313, 322 ~ чеканка 441—442, 728 см. также статьи об отдельных правителях Ситтий, Публий (авантюрист) 489, 490, 736, 741 Сихем 10 Ab, 324, 325, 329 Сицилия 7 Cd, 2 Bd—e, 13 Bd—e, 14 Bb
~ установление римского военного присутствия 662 ~ события и администрация во П в. до н. э. 31, 39—41 ~ восстания рабов 39—41, 71, 715
~ 138/137-132 гг. до н. э. 39-41, 75, 77, 91, 698, 891 - 104-101 гг. до н. э. 40, 114, 117, 698, 901 ~ закон 100 г. до н. э. о выведении колоний 119
1138
Указатель
~ положение римлян и италийских союзников 129 ~ в Союзнической войне 141
~ в гражданских войнах 80-х годов до н. э. 221, 222, 909 ~ распоряжения Помпея 248 ~ наместничество Лепида 234 ~ наместничество Верреса, см. в статье Веррес, Гай ~ борьба с пиратами 278 ~ и восстание Спартака 250 ~ в гражданских войнах 476, 483, 488 ~ предоставление гражданства 497—498, 505, 535
*
~ денежная система 728 ~ иммиграция 702 ~ квесторы 682 ~ налогообложение 737
~ хлебная десятина 660, 677—679, 737 ~ отправление правосудия 681 ~ сельское хозяйство 39, 41, 476, 707, 726 ~ ткани 721
~ торговля с Путеолами 726
Сициний, Гней или Луций (трибун 76 г. до н. э.) 238, 241, 910 Скавр, см. Эмилий
Скантиний Капитолин, Гай (трибун) 578 сноск.
Скептики 833
Скиафос 9 Ab, 177
Скиллаций 2 Cd, 97
Скиллей, мыс 2 Cd, 250
Скифополь 10 ВЪ, 324, 328
скифы, Скифия 151, 156, 162, 163, 284, 406
склады 722-723,726,741
скордиски 1 Db—c, 2 Са, 9 Аа, 46, 164, 284, 896, 898 скот 627, 710; см. также в статье животноводство скотопрогонные дороги (calles) 106, 408, 509, 711
Скрибоний Курион, Гай (консул 76 г. до н. э.) 237, 238, 254, 376 сноск., 406 сноск., 439, 910, 912
~ в Первой Митридатовой войне 178, 181, 186 Скрибоний Курион, Гай (трибун 50 г. до н. э.) 416, 418, 52 ~ трибунат 465, 467-470, 472, 663—664, 666, 922 ~ в гражданской войне 472, 473, 480, 482 сноск., 483, 923 Скрибоний Либон, Луций (консул 34 г. до н. э.) 481 слава, погоня за ней 79, 82, 365, 527—528, 686, 882 Смирна 5 Ab, 169, 184, 878 смола 77, 711, 719 сноск.
Указатель
1139
смотр всадников (transvectio equitum) 253 снабжение войска 707, 709
~ во время гражданской войны 447 ~ во время Митридатовых войн 177—178, 180 ~ во время Нумантийской кампании 91 ~ и откупщики 675, 733 ~ поставки из Азии 91, 497
- поставки из Нумидии на Сардинию 43, 95 ~ поставки ткани 721
~ прибыльность 70 ~ в провинциях 660, б67
собрание плебса (concilium plebis) 56, 59, 579, 591 собрания, народные (римских граждан) 56, 58—61
~ законодательные полномочия 56, 58, 536, 578 ~ запугивание 105
~ используются популярами 24, 84, 87, 92—93, 123, 411, 414, 422, 536 ~ поддерживают Мария 664—665
~ предоставляют командования 111, 172, 273, 277, 301, 664—665 ~ процедура голосования 78, 93, 105, 113, 216
- религиозные санкции 119—120, 839 ~ созываются всё реже 745
~ суверенитет 84, 118, 124
- судебные функции 78, 86, 95, 99, 103, 113, 391, 538, 569, 577—580,
581-582, 594 ~ и Сулла 216, 219, 230 ~ по трибам 59, 578, 744
см. также комиции, трибутные; комиции, центуриатные; собрание плебса
собственность (dominium) 617, 624, 647
~ государственная и частная 80, 716
- замужних женщин 621 ~ земельная 81, 734, 883
~ имущественная правоспособность латинов 81, 693 ~ имущественный ценз
~ для военной службы 51—52, 54 ~ для всаднического сословия 62, 109 ~ для магистратур 56, 62 ~ в центуриатных комициях 73—74, 82, 98 ~ по квиритскому праву 624 ~ концепция 624
~ манципируемые и неманципируемые вещи 624, 646 ~ основа социальной иерархии 90, 393, 587—588, 691—692, 741 ~ правовое регулирование 624—625, 636, 646
1140
Указатель
~ причинение вреда 628, 629 совет эллинов Азии 276
советы (группы советников, consilia) 575, 619 chock., 674
совместное проживание 620
согласие
~ политическое 64, 66, 884 ~ религиозное 852, 859—860 содержание наместника провинции (vasarium) 674 Сокнебтюнис (египетский бог) 347
Сократ Хрест (претендент на вифинский престол) 166—167 сокровища
~ Делоса 175
- египетских царей 172, 349
~ захваченные римлянами на Востоке 178, 281, 288, 299 ~ Нумы 172
~Толосы 38, 113, 119, 899 соледобыча, в Приене 50 Солы 9 Сс, 297 Сона, река 12 ВЬ, 723 Сосат 310
соседи, их права 625 Сосиген (астроном) 513, 834 сословия, их борьба 56, 58, 62, 856—857 Софена 9 De, 267—270, 283, 295 союзники Рима
~ изгнание из Рима 94, 102, 127 ~ обращение в рабство 40, 58, 584, 668 ~ в римской армии 35, 53, 79, 93, 115, 119, 130, 697 ~ чеканка 16
см. также названия отдельных народов-союзников и статьи вымогательства; договоры; Италия; латины; ценз Спарта 1 Dd, 47, 83, 175,177, 314 Спартак, его восстание 248—252, 363, 698, 910, 912 специализация
~ в праве 642, 645 ~ в религии 866—875 ~ труда 764
Сполеций (совр. Сполето) 3(г) СЬ, 13 ВЬ, 131, 218, 219, 377, 704
Спуринна (астролог) 511
средневековое образование 811
Сгаберий Эрот (грамматик) 810
Сгабии 3(й) СЬ, 142, 147
сталь, халибская 158
Указатель
1141
Статилий, Луций (участник заговора Каталины) 396 статуи
~ Аристогитона, со склонов Капитолия 87 ~ Брута, в Афинах 538 ~ Гракхов 780 ~ греческие 789, 802 ~ Домиция Агенобарба, в Олимпии 48 ~ Лепида 546 ~ Луция Антония 537 ~ Мария Гратидиана 206, 780, 864 ~ Матери Статы 777 ~ Октавиана 543 сноск.
~ Пифагора 814 ~ Помпея 447, 463, 529, 866 - на понтийских монетах 154—155 ~ потеющие 841
~ привезенные Лукуллом с Востока 801 ~ Птолемеев, в Афинах 348 ~ Ромы 879 ~ Суллы 225, 463
~ на Форуме италийцев на Делосе 34 ~ Цезаря 496, 506 сноск., 511, 522, 524, 538, 540 ~ Юлии, дочери Цезаря 449 сноск.
~ Юпитера Капитолийского 383, 397, 862 Стаций (раб Квинта Цицерона) 675 стеклянная посуда, александрийская 736 Стеллатское поле (ager Stellas) 389, 417 Стений (скульптор) 801 Стений из Гимеры (Термы) 222, 242, 684
Стертиний, Луций (проконсул 199—196 гг. до н. э.) 663 сноск., 786—787 стипендий 661, 677—678, 683 стипуляция (устный контракт) 626, 628 ~ Аквилиева 653
стоицизм 798, 809, 810, 815, 816, 830—831, 835 ~ и право 640, 645 ~ и Цицерон 830, 834—835, 868 Страбон (историк и географ) 159, 160, 162, 267, 297, 309 Страбон, см. также в статьях Помпей; Юлий Стратоникея 5 Вс, 171, 187, 891 Стратонова Батпня (Кесария) 10 Ab, 327, 328 страхование, морское (бодмерея) 732 строгое право (strictum ius) 626, 637, 638, 642 сноск. строительство 76, 722—723
1142
Указатель
~ в Италии 127
~ общественное 722—723, 768, 789—790, 886 ~ греческое влияние 802 ~ италийских союзников 127—128 ~ и коллегии 773
- контракты 722
~ финансирование 722, 723, 739, 741 ~ чеканка монет 729 ~ число занятых в нем 772
см. также дороги; портовые сооружения и в статье Рим ~ частное 773 см. также дома сугамбры 12 Ва, 454 суда 725—726
~ бодмерея 732—733 ~ египетские судовладельцы 356—357 ~ займы 31
~ затонувшие суда 73, 722, 725
- кораблестроение 158, 159, 711, 719, 725 ~ мошенничество 109
~ свобода мореплавания 726, 727, 738 ~ товарищества 632—633 см. также в статье флот судебная уступка (in iure cessio) 624
судебные комиссии, постоянные (quaestiones perpetuae) 86, 99—101, 229, 574— 575, 582-612
~ институт 572, 574-575, 579, 593-595, 669, 908 ~ и ограничение прав трибунов 572, 579 ~ и ораторское искусство 617
- оценка 609—612
~ переход их функций к префекту города в эпоху Принципата 611— 612
~ создаются решением народного собрания 99, 568—569 см. также присяжные и в статьях вымогательство; государственная измена; казнокрадство; насильственные действия; отравление; подкуп; посягательство на личность; убийство судьи (iudices) 168, 630 Сулла, см. Корнелий
Сульпиций, Публий (трибун 88 г. до н. э.) 22, 191, 904
~ и распределение новых граждан по всем трибам 192—195, 208, 374, 904
~ и командование против Митридата 193, 195—197, 665, 904 ~ смерть 197
Указатель
1143
Сульпиций Гальба, Публий (консул 211 г. до н. э.) 656
Сульпиций Гальба, Сервий (консул 144 г. до н. э.) 58, 582 сноск., 585, 668
Сульпиций Гальба, Сервий (легат Цезаря) 439, 470, 547 сноск.
Сульпиций Руф, Сервий (консул 51 г. до н. э.) 920
~ политическая карьера 393, 419, 462, 464, 481, 495, 513, 543, 544 ~ и философия 837 сноск.
- юрист 643, 644, 653, 732, 837 Сурена (парфянский полководец) 450 Суррент (совр. Сорренто) 3(0) ВЬ, 142 Сухое (египетский бог) 347 Суэсса 3(0) Ab, 216, 217, 721 суэссионы 432
сходки (contiones) 60, 577, 745, 779 ~ участие союзников 127, 134 Сцевола, см. Муций; Септимий Сципион, см. Корнелий; Цецилий
таблицы (tabulae)
~ Банцийская 116, 118, 130, 609, 861 сноск.
~ Бембийская 17, 80, 94, 584 сноск., 585—587 ~ Гераклейская 150 сноск., 509, 514, 649, 694 сноск.
~ Ирнитанская 614 сноск., 630 сноск., 633 сноск., 649 ~ Контребийская 36—37, 633, 636, 649, 651 Табы 5 ВЬ, 171, 187 тавриски 7 СЬ, 426
Тавромений (совр. Таормина) 2 Bd, 40 тавры 7 Eb—Fb, 4 Ва, 162 Талавра 272, 277
талмудическая литература 311, 332, 338—341
таможенные пошлины (portoria) 36, 38, 50, 98, 213, 675, 678, 737 сноск., 738 танцы
~ азиатские 20 ~ ритуальные 841
Тале 13 Ае, 14 ВЬ, 489, 490, 501, 573, 925
Тарент (совр. Таранто) 7 De, 2 Сс, 3(0) ЕЬ, 13 Сс, 97, 189, 464, 726 ~ бронзовая надпись с законом 67—68, 114, 118 Таркондимонт, правитель Амана 299 Тарпейская скала 205, 455 сноск., 512 сноск.
Тарракон 8 СЬ, 14 Ab, 245, 501, 982 Таре 7 Fd, 5 De, 158 Тасос 9 Ab, 736
Тацит 23, 269, 553, 757-758, 796, 889 Теадельфия 7 7 Аа, 360
1144
Указатель
Теан Сидицинский 3(ii) Ab, 13 Вс, 127 сноск., 143, 215, 216, 508 сноск. театры 848, 886, 896
~ Росциев театральный закон 368—369, 391, 914 см. также в статье Рим
тевтоны 38, 115, 116, 284, 428, 840, 861 сноск., 900, 901
текстильное производство 82, 347, 719, 721, 763
тектосаги 299
Телмесс 5 Вс, 171, 174
Темискира, равнина 159
Тенедос 9 ВЬ
~ морская битва при Тенедосе 265 Теодор, правитель Амата 326, 328 Теопомп (друг Цезаря) 496—497 Теофан из Митилен 229 сноск., 802 Теофраст 797, 823
Тергеста (совр. Триест) 13 Ва, 461, 464 Теренций Афр, Публий 513, 614, 650, 656, 846 Теренций Варрон, Марк
~ образование 794 сноск.
~ легат Помпея 252, 255, 808 ~ в гражданской войне 483, 499
~ и планы Цезаря о создании публичной библиотеки 512, 796, 806
*
~ и Аттик 800 ~ вилла в Тускуле 798—799 - поместья 714
~ и Помпей 252, 255, 799 сноск., 808 ~ о религии 812—813, 845, 869
~ систематический метод 806—808, 811—812, 827—828, 837, 869 ~ об уголовных триумвирах 576 ~ и философия 810, 813, 814, 827—828, 835, 837 сноск.
~ хронология 821
~ и Цицерон 800, 806, 809 сноск., 812—813, 827—828 ~ об Эннии 805
*
Сочинения ~ автобиография 820
~ «Древности» 807 сноск., 812-813, 827—828, 836, 869 ~ «Менипповы сатиры» 366, 817, 827 ~ «Науки» 811
~ «О латинском языке» 809—811 ~ «О философии» 807, 828 ~ «Седмицы» 813, 820
Указатель
1145
~ «Сельское хозяйство» 71, 703, 704, 763, 804 сноск., 807—809 ~ о контрактах 614, 642, 649, 715 ~ о сенатской процедуре 252, 808 ~ «Трехглавое чудовище» (сатира) 799 сноск.
Теренций Варрон Лукулл, Марк (консул 73 г. до н. э., до усыновления — Марк Лициний Лукулл) 910
- в эпоху Суллы 220
~ претор по делам иноземцев 238, 652 ~ консульство 242 ~ и восстание Спартака 250 ~ судебное обвинение и оправдание 379 ~ и суд над Гаем Корнелием 381 ~ и суд над Клодием 402 ~ и восстановление Птолемея Авлета 438 Термесс 5 Вс, 171—172,649
тессеры, монетные (tesserae nummulariae) 730, 767 сноск. технологии
~ Архимедов винт 35 ~ горное дело 721
~ давильня для оливок и винограда 73, 706 ~ металлообработка 721 ~ осадные машины 174, 177, 433 Тиана 5 Db, 158 тибарены 9 Db, 266, 295 Тиберий, император 137, 299, 756, 781 Тибур (совр. Тиволи) 3(г) Сс, 7 ВЬ, 13 Вс, 200, 541, 669 Тигран I Великий, царь Великой Армении, см. в статье Армения Тигран Младший, армянский царевич 429 Тигранокерта 9 De, 269-272, 275, 282, 293, 296, 913 тигурины 112,428 Тимаген Александрийский 309 Тинтерис 357 Тион 4 Ab, 5 Са, 153, 156 Тир 9 Cd, U СЬ, 318, 327, 726 Тирания
- обвинение против Гракхов 86, 87, 90, 103 см. также царская власть
Тираннион из Амиса (грамматик) 797—798, 801 Тисей 178 Тифата, гора 215
Тиций, Секст (трибун 99 г. до н. э.) 122, 599 сноск. ткачество 721
товарищества (sodalicia, sodalitales) 67, 444 сноск., 596—597, 603, 815 сноск., 920
1146
Указатель
товарищества, деловые (societates) 50, 98, 300, 386 chock., 627, 675—677, 684, 731-734
~ отчуждаемые доли 733 ~ правовое регулирование 626, 627, 732—734 тога, расшитая (toga picta) 399 Тойнби, Арнольд 70 Толен, река 3(г) De
~ битва при Толене 143 толистобогии 299 Толоса (совр. Тулуза) 7 Вс
~ золото 38, 113, 119, 899 Томиса 9 De, 269, 273, 295 Тора 306, 311
Тораний, Гай (квестор 73 г. до н. э.) 249 торговля
~ воздействие завоевания Римом Средиземноморья 702, 735—739, 882 ~ вольноотпущенники торгуют в провинциях 504 ~ Делос как торговый центр 31—32, 709, 715 ~ и налогообложение 36, 679 ~ пиратская угроза 278 ~ розничная торговля 76, 759—768 ~ экспорт из Италии 737—738
см. также в статьях об отдельных товарах и отдельных странах Торий, Спурий (трибун в конце П в. до н. э.) 80 Торий Бальб, Луций 243 Торкват, см. Манлий Тосефта 311
традиция, см. нравы и обычаи предков Траллы 5 Ab, 9 Be, 172, 173, 184, 187 chock., 277 транспорт 706, 721, 722
см. также в статьях дороги; мореплавание; тягловый скот Трапезунд 4 СЬ, 5 Еа, 9 Db, 154, 156, 159 Траян, император 36, 292, 298 Требаций (вождь самнитов) 147 Требаций Теста, Гай (юрист) 513, 642, 798, 837 сноск.
Требеллий, Луций (трибун 67 г. до н. э.) 370—371
Требоний, Гай (консул-суффект 45 г. до н. э.) 445, 447, 454, 482, 526, 545, 665, 918, 920, 926
Требоний, Гай (офицер-всадник в армии Цезаря в Галлии) 454 треверы /2 В а, 429, 466 Тремеллий Скрофа, Гней 250
«третья доля» (trientabula, разновидность общественной земли) 70, 718 Триарий, см. Валерий
Указатель
1147
трибуны, плебейские (народные)
~ успехи (146—134 гг. до н. э.) 76—77
~ народная демонстрация на похоронах трибуна (138 г. до н. э.) 77, 82 ~ о трибунате Тиберия Гр акха, см. в статье Семпроний Гракх, Тиберий
~ смещение с должности Октавия 84, 87 ~ попытка переизбрания Тиберия Гракха и его гибель 86—87 ~ провал законопроекта Карбона о неограниченном переизбрании трибунов 86, 93
- трибунат Гая Гракха 95—105, 892, 894 ~ трибунат Мария 105, 110, 894
~ трибуны-популяры и Югуртинская война 108 ~ нападки на аристократию (107—100 гг. до н. э.) 112—124 ~ о трибунате Сатурнина и Главции, см. в статьях Аппулей Сатур- нин, Луций; Сервилий Главция, Гай ~ трибунат Луция Эквиция 121 ~ Марк Ливий Друз и вопрос о союзниках 133—135 ~ трибунат Сульпиция, см. в статье Сульпиций, Публий ~ Сулла урезает полномочия трибунов 195, 197—198, 227—228, 365, 572, 580, 885, 908
~ вопрос о трибунских полномочиях (77—71 гг. до н. э.) 235, 238, 241-243, 372, 910
~ Помпей и Красе восстанавливают полномочия трибунов 241—242, 252, 255, 256, 366, 374-375, 430, 912
- триумвиры используют трибунов 255, 256
~ деятельность трибунов после восстановления полномочий 365—375 ~ трибунат Габиния 273, 278, 369—371, 665, 914 ~ противодействие суровому закону о подкупе 385 ~ законопроект Рулла 388—391 ~ отмена законодательства Суллы (63 г. до н. э.) 392 ~ и возвращение Помпея 399 ~ и Юлиев аграрный закон 412, 414 ~ трибунат Клодия 415, 419-425, 428, 249—430, 918 ~ и возвращение Цицерона 431—434 ~ руководство Аполлоновыми играми (53 г. до н. э.) 452 ~ закон десяти трибунов (52 г. до н. э.) 462, 465, 920 ~ и Цезарь 111, 228, 255, 477, 482, 522, 665
*
~ вето 44, 58, 228
~ вмешательство в гражданский процесс 630 ~ готовность выступать в роли популяров 778
- должны подчиняться воле народа 85, 370 ~ законодательство 56—58, 228, 365
1148
Указатель
~ зачисление трибунициев в сенат 62 ~ конфликты трибунов 369—371 ~ насилие 123—124, 194, 370, 381 ~ переизбрание 86, 93, 101 ~ право на судебное обвинение 56—57, 365, 578 ~ священная неприкосновенность 58, 85, 860 ~ созывают сенат 59, 63
~ утрата моральной инициативы в 60-х годах до н. э. 381, 409 ~ учреждение трибуната 56 ~ Цицерон о трибунате 381—382, 384, 554 трибуны, эрарные 62
~ и сословие всадников 110, 587 ~ среди присяжных 253, 368, 517, 608 трибут 35, 38, 39, 42, 46-50, 117, 128, 242, 275, 300, 341, 386, 553 трибы
~ как база для организации сообществ 596 ~ включение италийских союзников 745
~ в несколько триб 145, 149, 190, 197
~ предложения распределить их по всем трибам 192—195,197, 200, 201, 206, 208—209, 211, 904, 906 ~ сенат одобряет 211, 216, 229, 906
см. также в статье вольноотпущенники (права голосования) ~ в народных собраниях 59 ~ и политическое влияние 67 ~ реорганизация при Августе 783 тривиум (в средневековом образовании) 811 триумвиры
~ первый триумвират (60 г. до н. э.) 408, 918 ~ второй триумвират (43 г. до н. э.) 550
~ триумвиры для распределения земли с судебными полномочиями (lllviri agris iudicandis adsignandis) 85 ~ уголовные триумвиры 575—577, 580, 610 триумфы 890—926
~ дары солдатам 112 ~ пиры 788—789 ~ религиозные аспекты 862—864 ~ триумфальное одеяние 399, 524, 863 Трифон, Диод от (претендент на престол Селевкидов) 314, 315, 320, 321 трокмы 299 трофеи
- Мария 382
~ Помпея, в Пиренеях 248 ~ Цезаря и Митридата, в Зеле 488
Указатель
1149
Трофоний, его оракул в Лебадее 215 труд
~ поденный 771 ~ правовое регулирование 646 ~ разделение 764 ~ сезонный 756, 765 Тубурника 2 Ае, 44 Тугга 2 Ае, 43 Тудер 3(i) Cb, 219 тулинги 428
Туллий (писец Цицерона) 672—673
Туллий, Луций (легат Цицерона) 672
Туллий Альбинован, Марк 611
Туллий Декула, Марк (консул 81 г. до н. э.) 226, 908
Туллий Цицерон, Квинт (претор 62 г. до н. э.)
~ образование 793
~ наместник Азии 675, 677, 680, 687
~ протестует против изгнания Марка Цицерона 432
~ на Сицилии 440
~ в Галльских войнах 448, 454
~ в Киликии 672
~ дом 772
~ библиотека 798
~ сочинения 805, 817
~ проскрибирован 551
Туллий Цицерон, Квинт (младший) 551, 793, 796 Туллий Цицерон, Марк (консул 63 г. до н. э.)
~ образование 821, 824 ~ в Союзнической войне 146 ~ квестор в Лилибее 685
- обвиняет Берреса 253—254, 363, 365 сноск., 374 ~ претура 374 ~ популярность в Риме 374
~ поддерживает Манилиев закон 280—281, 376, 387, 405, 555 ~ руководит судом над Гаем Лицинием Макром 377 ~ высказьшается об обвинении против Фавста Суллы 379 ~ защищает Манилия 380, 381 ~ защищает Гая Корнелия 381—382, 384, 387 ~ и суд над Каталиной 383 ~ противодействует аннексии Египта 384 ~ сближение с сенатом 384—385 ~ консульство 387—388, 390—398, 916 ~ проваливает законопроект Рулла 353, 390—391
1150
Указатель
~ защищает Гая Пизона 391
~ помогает Лукуллу отпраздновать триумф 391
~ защищает Рабирия 392, 397
~ Туллиев закон о нарушениях при соискании 393
~ защищает Мурену 396
~ и заговор Каталины 394—398, 839
~ непопулярность вследствие казни заговорщиков 398, 405, 415, 570 ~ и возвращение Помпея 399, 402, 403, 405, 407
- и суд над Клодием по обвинению в святотатстве 404 ~ и Флавиев земельный закон 407
~ отказывается присоединиться к первому триумвирату 408 ~ и Юлиев аграрный закон 410, 414 ~ теряет покровительство Помпея 415, 425 ~ в консульство Цезаря 416—418 ~ и обвинения Веттия 418-419 ~ нападки Клодия 415, 418-420, 424^-425, 566, 859, 860 ~ защищает Флакка 420-421
- изгнание 121, 425, 426, 860 ~ возвращение 430-434, 440 ~ и зерновой кризис 434, 435
~ и восстановление Птолемея Авлета 438, 566 ~ защищает Публия Асиция 438 ~ защищает Милона (56 г. до н. э.) 438 ~ защищает Целия и Се стая 611 ~ и распределение Кампанской земли 439, 440 ~ переходит на сторону Цезаря 440-441 ~ поддерживает триумвиров 448 ~ и суды над Габинием 304, 449—450 ~ и игры Куриона 452 ~ сочинения (56—53 г. до н. э.) 452
~ соглашается сдерживать Целия по просьбе Цезаря 457 ~ защищает Милона (52 г. до н. э.) 460 ~ авгур ат 461
~ одобряет консульство Помпея 463
- берет взаймы у Цезаря 465
~ наместник Киликии 467, 471, 473, 633, 667, 672, 681, 685, 688 ~ и горные племена 295, 296, 300, 688 ~ финансы 300, 301
~ и разрыв между Цезарем и Помпеем 471—472, 477, 479, 480, 481— 482, 485
~ об осаде Массилии 483
~ с Помпеем во время Фарсальской кампании 485, 486 ~ во время диктатуры Цезаря 503—504, 508, 513, 519—527
Указатель
1151
~ смерть дочери 520, 826
~ после убийства Цезаря 529—533, 539—540, 542, 545, 549, 551—553 ~ и Октавиан 534, 540-542, 549, 551-552 ~ вражда с Антонием 530, 539—540, 542, 543, 545—547 ~ проскрипции и смерть 551, 806, 926
~ и авторитет сената 64—65, 374, 384, 393, 420, 539—540, 542, 551, 554, 836
~ и астрономия 826 ~ и Аттик 800, 821 ~ и Бальб 500, 508 ~ библиотеки 797—798
~ и Варрон 800—801, 806, 809 сноск., 812—813, 827—828
~ и греческий язык 803, 804, 828—829
~ о долге перед государством 528, 540
~ дома 404—405, 798
~ и историография 817—821
~ и Квинт Цицерон 672, 675, 677, 687
~ и Клодий 415, 418-420, 423-426, 566, 782, 859, 860
~ консерватизм 69, 470, 565—566
~ и латинский язык 795—796, 804—805, 810, 822, 826—827
~ любезность 799
~ не принят сенатской элитой 387, 408, 418, 441 ~ об образовании 793—794, 795—796 ~ об ораторском искусстве 805, 823—825 ~ патронат в отношении провинциалов 684 ~ предубеждение против плебса 746 ~ о причинах упадка Республики 554—555 ~ и Посидоний 819—820 ~ и религия 840, 845—848, 859, 860, 872
~ республиканские взгляды 384, 408, 452, 473, 474, 522, 542, 551—555, 806, 836
~ роль в последние годы Республики 542, 551—555 - и трибунат 381—382, 384 ~ об управлении провинциями 677, 687—689 ~ и философия 800, 813—815, 826-838, 867—868 ~ философское образование 821, 823—824 ~ и поведение 837 ~ эклектизм 830—831, 837 ~ и Цезарь
~ отказ от предложенной им помощи против Клодия 418, 425 ~ Цезарь и возвращение Цицерона из изгнания 431, 436 - во времена триумвирата 440-444, 457, 465, 471
1152
Указатель
~ и диктатура Цезаря 493, 503—505, 513, 516, 517, 519—528 ~ интеллектуальные связи 520—521, 799, 800—801, 820 ~ и Целий 457, 464, 466, 471, 543, 611, 685, 686
Сочинения 14-15,822-829 ~ «Брут» 113,582,800,805,821-825 ~ «В защиту Клуенция» 241, 263, 603, 610—611 ~ «В защиту Корнелия» 381—382, 384, 387 ~ «В защиту Мурены» 152, 284, 396 ~ «В защиту Росция Америйского» 603 ~ «В защиту Сестия» 611 ~ «В защиту Флакка» 152, 420—421 ~ «В защиту Целия» 604, 611
~ «Инвектива против Саллюстия» (приписывается Цицерону) 815
CHOCK.
~ «Катон» 520, 799—804, 820 ~ «Катон, или О старости» 828 ~ «Комментарии» 819—820 ~ «Лелий, или О дружбе» 540, 828
~ «О государстве» 52, 93, 542, 554, 800, 822, 825-826, 828-829, 836
~ «О дивинации» 815, 867—868
~ «О законах» 452, 542, 554, 577, 825—826, 836
~ «О Манилиевом законе» 152, 280—281, 376, 387, 405, 555, 679, 687
~ «О моих замыслах» 819
~ «О нахождении материала» 795—796
~ «О пределах блага и зла» 828, 829
~ «О природе богов» 828
~ «О своем доме» 577
~ «О своем консульстве» 804, 819 сноск.
~ «Об обязанностях» 540, 553, 828, 829 ~ «Об ораторе» 805, 819, 821, 822, 824, 825, 836 - «Об ответах гаруспиков» 859, 860 ~ «Оратор» 824—825
~ переводы с греческого 805, 812, 814, 834 ~ переписка 5, 66—67
~ с Аттиком 551 ~ с Децимом Брутом 551 ~ с Марком Брутом 551—552 ~ поэзия 834 ~ «Против Ватиния» 815 ~ «Против Верреса» 253—254, 568, 677 ~ «Против Пизона» 539 ~ «Топика» 798
Указатель
1153
~ «Утешение» 829
~ «Учение академиков» 800, 827—829, 833 ~ «Филиппики» 551, 552 ~ Первая 539 ~ Вторая 536, 540 ~ Третья 542 ~ Седьмая 544 ~ Двенадцатая 216, 565 ~ Тринадцатая 546
Туллий Цицерон, Марк (младший) 539, 551, 793, 796 Тускул 7 ВЬ, 760, 762, 774, 798-799 Тэйлор, Лили Росс 26 тягловый скот 85, 706, 710, 725
убийство 608—609
~ политическое 197, 204, 211, 216, 218—219, 223; см. также проскрипции
~ родственника 607
~ частные иски за убийство в Италии 609 см. также насилие; убийцы
убийцы, суд по делам об убийствах (sicarii, quaestio de sicariis) 387, 388, 584 chock., 588, 600—604, 608 ~ карает неправосудные приговоры 593 ~ расширение юрисдикции 602—603, 608—609 увеселения, общественные 767 узуфрукт (имущественное право) 625, 639, 651 Уки Большой 2 Ае, 44 Уксама 8 Ва, 247 Укселлодун 12 Ab, 465, 466, 921 Улубры 3(H) Аа,1Ы
умаление величия, суд по делам об умалении величия (maiestas, quaestio ma- iestatis) 116, 516, 597—600 ~ и государственная измена 392, 597—599 ~ законодательство
~ Сатурнина 123, 597—599 ~ Вария 136, 141-142, 597-598 ~ Суллы 228-229, 377, 381, 449, 567, 670, 686, 908 ~ Цезаря 591 сноск., 600, 924 - и наместники провинций 573—574, 599—600, 670 ~ пересечение с понятием вымогательства 593, 597, 599—600 умаление правоспособности (capitis deminutio) 624 Умбрен, Публий (галльский предприниматель) 397 Умбрия 2 ВЬ
1154
Указатель
~ и законы Ливия Друза 134 ~ в Союзнической войне 137, 144—146 ~ мероприятия Суллы 230 ~ сельское хозяйство 704 ~ общество 134
умысел, злой (dolus malus) 638, 643 упадок Республики 881—889
~ приобретения и потери 886—889 ~ римские теории 13, 18—23, 55, 881 Урбана 3{Щ Ас, 231, 755 урбанизация 149, 508—509, 692, 700—701
~ взаимосвязь с задолженностью 739—740 ~ и индустрия строительства 722—723 ~ и кризис мелкого землевладения 715 ~ и снабжение продовольствием 707—708 Урсон (Colonia Genetiva Urbanorum, совр. Осуна) 8 Be, 14 Ab, 501—503, 756, 877
усадебное хозяйство (pastio villatica) 705, 711 услуги 771; см. также лавки устная культура 792—793 усыновление 67, 618, 619
Утика 2 Ае, 13 Ае, 14 ВЪ, 42, 43, 218, 489-490, 494, 736 ущерб, закон о его нанесении 627, 629, 636 ~ оценка 584, 592, 611, 627
Фаселида 9 Вс, 260
Фабий, Гай (легат Цезаря) 483, 491
Фабий Адриан, Гай (наместник Африки) 213, 218
Фабий Адриан, Марк (легат Лукулла) 272
Фабий Бутеон, Марк (претор 173 г. до н. э.) 664 сноск.
Фабий Испанский, Луций 36
Фабий Квинтилиан, Марк 796, 805, 822, 827
Фабий Максим, Квинт (консул-суффект 45 г. до н. э.) 455, 522, 926
Фабий Максим Аллоброгский, Квинт (консул 121 г. до н. э.) 38, 47, 894
Фабий Максим Эмилиан, Квинт (консул 145 г. до н. э.) 34
Фабий Пиктор, Квинт 803
Фабратерия Новая 3(ii) Ва, 126
Фабриций Лусцин, Гай (консул 282, 278 гг. до н. э.) 111 Фавенция 2 ВЬ, 219, 220 Фавоний, Марк (эдил 53 г. до н. э.) 452 Фадий Галл, Марк 837 сноск.
Фазимонитида 5 Da, 159 Фалерион 3(г) Db, 142
Указатель
1155
Фалернская область 73, 709 Фалернское поле (ager Falernus) 74 Фан 2Bb,3(i)Da, 13 ВЬ, 91 Фанагория 9 Са, 136, 254, 283 Фанарея 159
Фанний, Гай (консул 122 г. до н. э.) 71, 101, 102, 751, 894 фарисеи 306, 311, 333, 337-338, 341
~ возможные отсылки к ним в кумранских текстах 335—336 ~ и правители из династии Хасмонеев 338—341 ~ приверженность Иосифа Флавия 309 Фарнак I, царь Понта 154, 155, 159 Фарнак П, царь Киммерийского Боспора 159 ~ заговор против Митридата 283—284 ~ распоряжения Помпея 292, 295, 299 - разбит Цезарем 488, 490, 925 Фарнакия 4 СЬ, 5 Da, 158, 159 Фарсал 14 ВЬ
~ битва при нем 355, 357, 486, 488, 494, 496, 497, 511 сноск., 518, 523 сноск., 525, 538, 865 сноск., 923 Фасид 4 СЬ, 283, 286 Федр (эпикуреец) 830 сноск.
Фезулы (совр. Фьезоле) 2 Ab, 3(i) Ва, 13 Ab, 230, 235, 394 Феодосия 4 Ва, 9 Са, 283 Феспии 6 ВЬ, 175 Фессалия 7 Dd, 9 АЬ,3\, 48,661 ~ зерно 75, 77, 177
~ в Первой Митридатовой войне 177, 180, 182, 183 ~ в гражданской войне 486, 496 Фессалоника 7 De, 14 ВЬ, 46, 484, 736 Фест, см. Помпей фециалы 854, 875
Фиваида, в Египте 7 7 АЬ—ВЪ, 345, 350—352, 356, 359 Фивы, в Греции 6 ВЬ, 47, 177, 181 Фидеикомисс 623 Фиденция 2 Ab, 220 физика 828
Филадельфия, в Палестине 9 Cd, 291 Филипп I Филадельф, царь Сирии 441-^42 Филипп V, царь Македонии 48, 656, 755 Филипп (претендент на сирийский трон) 289, 292 Филипп, см. в статье Марций Филиппы 14 ВЬ, 178
~ битва при них 553
1156
Указатель
Филобеот, битва при нем 180
Филодем (эпикуреец) 800, 831—832, 834 сноск.
Филон Александрийский 337
Филон из Лариссы 175, 801, 824, 829, 830 сноск., 831, 833 Филопомен (смотритель Эфеса) 173 философия 826—838
~ греческая 830, 832—833, 836, 868, 875, 879
~ политическая мысль 65, 69, 96, 105, 118 ~ изгнание философов из Рима 835 ~ латинский словарь терминов 804, 826—827 ~ натурфилософия 833—834 ~ патронат 886 ~ и поведение 835, 836—837 ~ и религия 879
~ сочинения римлян на греческом языке 804 ~ эклектика 830, 837
см. также статьи об отдельных философах и школах Филы, в Египте 7 7 Вс, 349, 352 Фимбрия, см. Флавий финансы
~ в Азии, после Митридатовых войн 275—276, 304 ~ на войне 552, 692 ~ контроль диктатора Цезаря 521 ~ кризисы 172, 197, 206—207, 692 ~ органы, определяющие финансовую политику 60 ~ провинциальные 671—672, 674, 679, 737—738 ~ и Помпей 288
~ соотношение денария и асса 206—207 ~ стабильность 108 ~ и строительство 722, 723, 739
см. также банковское дело; деньги; заимодавцы; менялы; налогообложение; репарации
Финикия 9 Cd., 183, 267, 289, 290, 326 Фирм 3(г) Db, 142, 144
Флавий, Луций (трибун 60 г. до н. э.) 407, 918
Флавий Фимбрия, Гай 185, 186—187, 205, 207—208, 272, 907
Флакк, см. Валерий
фламин Цезаря 525, 861
фламин Юпитера 224, 841, 853—854, 869
Фламиний, Гай (трибун 232 г. до н. э., консул 223, 217 гг. до н. э.) 19, 68 Фламинин, см. Квинкций Флор 13,20-22,882 флот, понтийский
Указатель
1157
~ поставки древесины 159
~ в Первой Митридатовой войне 169, 173, 182—184 ~ восстановление флота 261 ~ в Третьей Митридатовой войне 264—266 флот, римский 51, 146, 159, 239, 277
~ в Первой Митридатовой войне 169—171, 183—187, 207—208 ~ в Третьей Митридатовой войне 262—264, 274, 283, 286 ~ в гражданской войне 477, 484, 486, 488 ~ командование Секста Помпея против Антония 547—548 см. также в статье пиратство флот, родосский 173 Фокида 6 Аа, 47, 180 Формии 2 Вс, 3(0) Ab, 84 форумы 886
Фраат, см. в статье Парфия
фракийцы, Фракия 7 Dc—Ec, Ί4 Ва, 151, 156, 178, 179, 185, 329, 549
~ римские кампании 46, 50, 52, 117, 173, 250, 840, 895, 896, 898, 901 Франк, Тенни 70 Фрегеллы 2 Вс, 3(0) Ва
~ иммиграция 126, 137, 701 ~ восстание 18, 94, 96, 126, 892 френтаны 3(г) Gc, 137 Фригия 7 Ec—d, 5 Ab—Cb, 9 Bb—c ~ захват Понтом 49, 155 ~ новая аннексия Римом 50, 98, 162
~ понтийская оккупация во время Первой Митридатовой войны 168, 170
~ галлы во Фригии, см. Галатия ~ Фригия Эпиктет 156 ~ Великая Фригия 49, 154—156 Фронтин, см. в статье Юлий Фукидид 14, 22, 64
Фульвий Флакк, Марк (консул 125 г. до н. э.) 38, 42, 85, 103, 892, 894 ~ и гражданские права союзников 93, 101, 892 Фульвия (жена Клодия и Куриона) 456, 467 Фульциний (землевладелец) 713 сноск.
Фунды 2 Вс, 3(0) В а, 84
Фурии 2 Cd, 3(0) Ес, 249
Фурий (легат Вариния) 249
Фурий, Публий (трибун 99 г. до н. э.) 122
Фурий, Публий, из Фезул 397
Фурий Камилл, Марк 594
Фурий Фил, Луций (консул 136 г. до н. э.) 78
1158
Указатель
Фурий Фил, Публий, полководец в Испании 664 сноск. Фурий Флакк, Марк 736 сноск., 774 Фурий, гора 6 Аа, 179, 181 Фурсидий (или Фуфидий) 224
Фуфидий, Луций (наместник Дальней Испании) 233, 243 Фуфий Кален, Квинт (консул 47 г. до н. э.) 404, 543, 545, 924 Фуфиций Фангон 510 сноск.
Фуцинское озеро 3(i) De, 13 Вс, 143, 146, 507
халдеи (астрологи) 874 халдеи (племя) 9 Db, 266 Халкедон 9 ВЬ, 185
~ морская битва при Халкедоне 263, 273 Халкида 6 Са, 47, 178, 182, 865 Харонд из Катаны 299 хасиды («благочестивые» иудеи) 306, 333, 341 Хасмонеи, см. в статье иудеи Хассайа, эпитафии 359 хевер (иудейский народ) 319, 331 Хелидона (любовница Гая Берреса) 372 Херемон из Нисы 170 Херонея 6Аа, 9 Ас, 177
~ битва при Херонее 178—181, 264, 907 Херсонес, в Крыму 4 Ва, 9 Са, 154, 162, 283 Херсонес, Кенийский 46, 117 хетты 160 Хилиоком 159 Хилон (раб Катона) 793 Хиос 1 Ed, 5 Ab, 14 Bb ~ надпись 31, 878 ~ и Митридат 171, 184, 187, 275 ~ римское религиозное влияние 878 ~ римские поселенцы (ок. 200 г. до н. э.) 31 ~ торговля 735 хлеб 707, 709, 765, 766 Хнум, культ в Элефантине 350 Хонуфис (мумификатор, из Саккары в Египте) 359 храмы
~ италийских союзников 127 ~ основанные в результате эвокации 855 ~ отличие от святилищ 869 ~ посвященные Риму на Востоке 878 ~ произведения искусства, выставленные в них 789
Указатель
1159
~ публичное пользование 789
~ строительство и реставрация храмов в Риме 847—878 сж. также статьи об отдельных храмах и в статье иудеи Хрест, понтийский царевич 155 Хрисипп 816, 829 Хрисогон, сж. Корнелий христианство, его распространение 759 хронология, историческая 451 ~ труд Аттика 800, 821
царская власть (regnum) 399
~ и Цезарь 25, 492, 493, 523-525, 573, 862 Цезарион, сж. Птолемей XV Цезарь Цезарь, сж. Юлий
Цезетий Флав, Луций (трибун 44 г. до н. э.) 524 Целий Антипатр, Гай 217 Целий Антипатр, Луций 818—819 Целий Кальд, Гай (консул 94 г. до н. э.) 112, 902 Целий Руф, Марк (претор 49 г. до н. э.)
- обвинен в насильственных действиях (56 г. до н. э.) 608, 611 ~ трибунат 457, 458, 462 ~ эдилитет 686
~ обвинен в гомосексуализме 470 ~ в гражданской войне 473, 484, 516 ~ и Цицерон 457, 464, 466, 470, 543, 611, 685, 686 ~ долги 740 Цельса 8 Са, 501 сноск. ценз 58, 692, 694-699, 744, 755
~ и союзники 132, 253, 509, 694, 751 ~ итоги 692, 694—699 ~ классы 727
~ местная регистрация в Италии 509 ~ организация 73, 92, 692, 699
~ оценка 73, 92, 206, 252, 692, 694-699, 890, 892, 896, 906, 912 ~ участки государственной земли декларируются в ходе ценза 80 Цензорин, сж. Марций цензоры 58
~ желание Цицерона сделать цензуру постоянной должностью 554 ~ запрещают сценические представления 894 ~ и государственная земля 25, 42, 47, 48, 80, 81, 106 ~ и государственные контракты 676— 678, 717—718 ~ Клодий ограничивает полномочия цензоров 421, 462 ~ и латинская риторика 793, 795, 902
1160
Указатель
~ откуп налогов 676—678; см. также откупщики ~ отношение Суллы к цензорам 227, 572
~ Помпей и Метелл Сципион восстанавливают полномочия цензоров 462
~ и списки всадников 109 ~ и списки присяжных 368
~ и списки сенаторов 62, 362, 421, 462, 470, 894, 912, 922 ~ укрепляют берега Тибра 449 ~ учреждены Помпеем на Востоке 298 ~ Цезарь как единоличный цензор 522 см. также люстр; ценз и отдельных цензоров центумвиры 630
центуриация (раздел земли) 42, 106, 119, 705, 717
центурионы 452, 475, 538, 722
цены 75, 230, 516, 718-719, 730
Цепарий, Марк, из Террацины 397
Цепион, см. Сервилий
Церера, ее культ 842, 860
Цетег, см. Корнелий
Цецилий, Квинт (клиент Лукулла) 778
Цецилий Басс, Квинт 491, 535, 545
Цецилий Исидор, Гай 711 сноск., 713
Цецилий Корнут, Марк (городской претор 43 г. до н. э.) 546, 550 Цецилий Метелл, Гай (упомянут в 82 г. до н. э.) 223—224 Цецилий Метелл, Квинт (эдил во 2-й половине П в. до н. э.) 75, 77 Цецилий Метелл, Луций (консул 68 г. до н. э.) 254, 912 Цецилий Метелл, Луций (трибун 49 г. до н. э.) 482 Цецилий Метелл, Марк (претор 69 г. до н. э.) 254 Цецилий Метелл Балеарский, Квинт (консул 123 г. до н. э.) 36, 892, 894 Цецилий Метелл Кальв, Луций (консул 142 г. до н. э.) 107, 344 Цецилий Метелл Капр арий, Гай (консул 113 г. до н. э.) 116, 896, 900 Цецилий Метелл Критский, Квинт (консул 69 г. до н. э.) 912 ~ кандидат в преторы (75 г. до н. э.) 239 ~ и Веррес 254
~ покорение Крита 278, 279, 367, 912 ~ и крестьянское восстание 394 ~ триумф 379, 394, 916 ~ и суд над Клодием 402
Цецилий Метелл Македонский, Квинт (консул 143 г. до н. э.) 85, 93, 107, 658, 662, 890
Цецилий Метелл Непот, Квинт (консул 57 г. до н. э.) 918 ~ трибунат (62 г. до н. э.) 397-400, 473-474 - консульство 431
Указатель
1161
~ забросан камнями из-за нехватки зерна 434, 435 ~ командование в Испании 445
Цецилий Метелл Нумидийский, Квинт (консул 109 г. до н. э.) 22, 898 ~ в Югуртинской войне 44, 109, 110, 664—665, 898 ~ конфликт с трибунами 116, 123, 414 ~ изгнание 120 ~ возвращение 122
~ интеллектуальные интересы 794 сноск.
Цецилий Метелл Пий, Квинт (консул 80 г. до н. э.) 908 ~ в Союзнической войне 142, 147, 202 ~ и правительство Цинны 203, 204 ~ отступает в Африку 203, 206, 213
~ поддерживает Суллу в гражданской войне 213, 217—220 ~ консульство 227, 232, 908
~ война против Сертория 233, 237, 239, 243, 245—247, 908 ~ триумф 250, 911
~ интердикт о вооруженном насилии 652 ~ и суд над Гаем Корнелием 381 ~ смерть 392
Цецилий Метелл Сципион, Квинт (до усыновления — Публий Корнелий Сципион Назика) (консул 52 г. до н. э.) 459, 473, 485, 488, 490, 920
Цецилий Метелл Целер, Квинт (консул 60 г. до н. э.) 918 ~ трибунат 579 сноск.
~ командование в Цизальпийской Галлии 394 ~ победа над Каталиной 401 ~ консульство 405, 406 ~ и Юлиев аграрный закон 414 ~ смерть 414, 918 ~ высокомерие 799 сноск.
Цецилии Метеллы 107, 192, 233, 254
Цецилий Нигер, Квинт 254
Цецилий Руф, Луций (трибун 63 г. до н. э.) 390
Цецилия Метелла (жена Суллы) 192, 205, 230, 232
Цецина, Авл 505, 870
Цингул 3(i) Db, 13 Bb, 476
Цинна, см. Гельвий; Корнелий
циппы 717
Цирта (совр. Константина) 7 Bd, 14 Ab, 43, 45, 129, 736, 897 цирюльники 765 Цицерон, см. Туллий
чеканка, монетная 15, 727—730
1162
Указатель
~ аттическая 47
~ для возмещения военных расходов 728, 729 ~ греческая 47
~ доступ к металлам для чеканки 720, 725 ~ египетская 344, 356, 729 ~ закон Суллы о подделках 606 ~ законы, увековеченные в чеканке 61, 62, 118, 123 ~ испанская 16, 34, 728 ~ история 727—730 ~ италийская 140, 727
~ иудейская (Хасмонеев) 311, 316, 318—319, 331—332 ~ как свидетельство о соглашении в Кавдинском ущелье 78 ~ качество монет, находящихся в обращении 728—730 ~ клады 516 ~ кризисы 692 ~ в Македонии 47, 727 ~ местные выпуски 727, 728 ~ в Нумидии 503
~ переоценка денария (ок. 140 г. до н. э.) 74 ~ понтийская 155, 163, 173 ~ сирийская 441 ~ тирийская 318 ~ чеканка Суллы 209, 864 - чеканка Цезаря 493, 517, 521, 523 ~ чеканка Цинны и Карбона 212 ~ в честь покорения Галлии 39, 122
~ эдикт Мария Гратидиана 206—207, 606, 730, 779—780, 863, 906 см. также деньги
честолюбие, античные теории о нем 19, 20—21, 55
чрезвычайные суды (quaestiones extra ordinem / extraordinariae) 569, 580—583, 600-601, 608
~ учрежденные Помпеем (52 г. до н. э.) 459, 577 сноск., 581, 595, 610, 920
шерсть, ее производство 710, 719, 721, 759 Шимон бен Шетах 340, 341 Штрасбургер, Герман 26
эбуроны 12 Ва, 451, 454, 465, 921
Эвбея 6 Ва—Са> 9 Ас, 47, 175; см. также Халкида
Эвдокс из Кизика 735
Эвмен П, царь Пергама 154
Эвмен, правитель Амастриды 153
Указатель
1163
Эвн (предводитель восстания рабов на Сицилии) 40 эвокаты (солдаты, отслужившие свой срок) 111 эвокация (религиозный ритуал) 854—855 Эвполем (иудейский историк) 310 Эврисак (пекарь), его гробница 766 Эги 495 сноск.
Эгнаций, Гней 46 эдикты
~ наместников провинций 633, 642, 681 ~ преторов 372, 615, 616, 629, 634^-635, 914 ~ эдилов 615, 627 эдилы, курульные 58
~ и игры 680, 686
~ и публичное право 71, 578, 604, 608, 610 ~ и частное право 614-616, 627 эдилы, плебейские 56, 786 эдилы, хлебные (aediles Ceriales) 514—515 Эдом, см. Идумея эдуи 1 ВЪ, 72 ВЪ, 38, 407
~ и Ариовист 426, 429, 919 ~ и восстание Верцингеторига 458-Т60 Эзерния 3{Щ Ва, 142, 143, 147, 221, 790 Эквиций, Луций 116, 117, 121 Эклан 3 (й) СЬ, 147 эклектизм, философский 830, 837 экономика 691—742, 885
~ и аграрная проблема 69—76
~ географический и демографический контекст 692—702 ~ деньги 127, 723—739
- коммерческие и промышленные структуры 732—734 ~ и общество 691—692, 738—742
см. также коммерция; промышленность; рабочая сила; сельское хозяйство; торговля; финансы Элатея, равнина 180 Элеаса 10 Ab
~ битва при Элеасе 312 Элевсин 6 ВЬ, 177
~ мистерии 187, 870 Элефантина 7 7 Вс, 350
Элий Пет Кат, Секст (консул 198 г. до н. э.) 642 Элий Стилон, Луций 811, 821 Элий Туберон, Квинт 69, 788 Элий Туберон, Луций 833 сноск.
1164
Указатель
Эльба, река Ί3 Ab, 720
Эмилий Лепид, Маний (консул 66 г. до н. э.) 373, 914 Эмилий Лепид, Марк (консул 78 г. до н. э.) 910 ~ наместник Сицилии 234
~ защищает пострадавших от сулланской колонизации 231—232, 234, 235
~ обогащается на проскрипциях 233 ~ избран консулом 234 ~ ссора с Катулом 234, 235, 605 ~ восстание 235—238, 910
~ войска в Испании после поражения 237, 243, 910 ~ амнистия для его сторонников 255 ~ и трибунат 238
Эмилий Лепид, Марк (консул 46 г. до н. э., триумвир)
~ городской претор 481-^83 ~ наместник Дальней Испании 495 ~ консульство 489, 924
~ начальник конницы Цезаря 490, 520, 924, 926 ~ и смерть Цезаря 529, 530 ~ верховный понтифик 532 ~ союз с Антонием 532, 926
~ командование в Галлии 501 сноск., 532, 545—546, 548, 565, 566, 926 ~ во втором триумвирате 550, 926 ~ родство с Брутом 551
Эмилий Лепид Ливиан, Мамерк (консул 77 г. до н. э.) 224, 234, 237, 363, 381, 910
Эмилий Лепид Павел, Луций (консул 50 г. до н. э.) 455, 465,468, 922 Эмилий Лепид Порцина, Марк (консул 137 г. до н. э.) 78, 84—85, 95, 668 Эмилий Павел Македонский, Луций (консул 182, 168 гг. до н. э.) 36, 661, 788—789, 803 сноск., 863 ~ и Македония 71, 656, 797 Эмилий Папиниан (юрист) 615 Эмилий Скавр, Марк (консул 115 г. до н. э.) 896 ~ и Югурта 108
~ ранен во время мятежа Норбана 113 ~ и закон Лициния—Муция 133 ~ суд по обвинению в предательстве 598 ~ родство с Метеллами 107, 192 ~ сочинение «О своей жизни» 820 ~ вилла 799
Эмилий Скавр, Марк (претор 56 г. до н. э.) 67, 291, 292, 723, 790 Эмилия (дочь Марка Скавра) 222 Эмпории 1 Вс, 8 Da, 38, 501 сноск.
Указатель
1165
Энна 2 Bd, 40 Энний 793, 805, 868 Эномай (гладиатор-мятежник) 249 Энтелла 13 Bd, 74 2ЭД, 660 энциклопедия («Науки» Варрона) 811 эпиграммы, в греческом стиле 817 эпиграфика, см. надписи Эпидавр 178
эпидемия (175—174 гг. до н. э.), в Риме 750
Эпидий Марулл, Гай (трибун 44 г. до н. э.) 524
эпикурейство 809, 826, 831—832, 835—836
Эпир 7 Dd, 9 Ab, 71, 698, 713 chock., 922
эпитафии 82, 359, 756, 757
Эпифания 9 Сс, 297
Эпоредия (совр. Иврея) 2 Аа, 119
Эритры 5 Ab, 184
этика 828, 839
этимология 809, 816
Этолия 9 Ас, 177
Этрурия 2 Ab
~ и законы Ливия Друза 134 ~ в Союзнической войне 137, 144—146 ~ в гражданской войне 217, 219 ~ мероприятия Суллы 230, 235, 505 ~ и восстание Лепида 236 ~ крестьянское восстание 385, 393, 394, 398 ~ и Цезарь 504, 506, 507, 511 ~ сторонники Октавиана в Этрурии 541
*
~ залежи металлов 720
~ сельское хозяйство и земельные владения 71, 73, 704, 707, 709, 723 ~ социальная структура 135, 705 ~ царские регалии 523 Эфес 7 Ed, 5 Ab, 9 Вс, 14 Cb
~ в распоряжениях Рима относительно Азии 49 ~ в Первой Митридатовой войне 168, 172, 184 ~ послевоенное урегулирование 187 ~ приезд Птолемея Авлета 353, 438
*
~ культ Цезаря 496, 525 ~ надпись о налогообложении 50 сноск.
~ торговля 735
1166
Указатель
Юба, царь Нумидии 468, 483, 488—490, 923 Ювенций, Публий (претор 149 г. до н. э.) 658 Ювенций Латеренс, Марк (легат Лепида) 548 Ювенций Тальна, Маний (претор 167 г. до н. э.) 665 Югурта, царь Нумидии
~ в армии Сципиона на войне против кельтиберов 79 ~ конфликты с братьями 30, 43, 897 ~ обвинен в подкупе 44, 45, 108, 599 см. также война, Югуртинская Юлиев Форум (совр. Фрежюс) 74 Аа, 501 сноск.
Юлий Фронтин, Секст (консул-суффект 73 г. н. э.) 54 Юлий Цезарь, Гай (претор ок. 92 г. до н. э.) 115
Юлий Цезарь, Гай (консул 59, 48, 46, 45, 44 гг. до н. э., диктатор 49, 48, 46-44г гг. до н. э.)
~ образование 793 сноск.
~ назначен фламином Юпитера 204, 224, 854 ~ проскрибирован при Сулле 224 ~ в Киликии 237 ~ возвращается в Рим 237
~ привлекает к суду Долабеллу и Гая Антония 237—238 ~ в плену у пиратов 240 ~ эдилитет 382
~ надгробная речь в честь Юлии 382, 865 ~ председатель суда по делам об убийствах 387, 388 ~ и законопроект Рулла 388 ~ привлекает к суду Гая Пизона 391 ~ и судебное дело Рабирия 124, 392 ~ верховный понтифик 392—393, 402, 916 ~ и заговор Каталины 64, 397 - претура (62 г. до н. э.) 399—402
~ оправдание в суде по делам о насильственных действиях 401 ~ и судебное дело Клодия 402 ~ развод с Помпеей 402
~ кампании в западной Испании 407, 494, 498-^99, 917 ~ союз с Помпеем и Крассом 408, 417, 918 ~ консульство (59 г. до н. э.) 231, 410—421, 918 ~ законодательство, см. право (законы [Юлиевы])
~ обструкция Бибула 410—412, 414, 850—851 ~ отношение к Клодию 415 ~ и Птолемей Авлет 302, 352, 356
~ пятилетнее командование в галльских провинциях и Иллирике 111,417, 665, 918 ~ брак с Кальпурнией 419
Указатель
1167
~ законность его распоряжений оспаривается (58—56 гг. до н. э.) 422, 424, 428, 429-430, 850, 851 ~ отъезд в провинцию (58 г. до н. э.) 425—426, 919 ~ галльские кампании, см. войны, Галльские ~ и возвращение Цицерона 431, 436 ~ законность его командования оспорена 439, 441 ~ соглашение с Помпеем и Крассом в Луке 302, 440, 444, 445, 918 ~ продление командования на пять лет 445, 920
- германские кампании 447, 919
- британские кампании 447—449, 919, 921 ~ нападки Агенобарба 448
~ смерть Юлии 449
~ поражения в Галлии (54—53 гг. до н. э.) 449, 451, 454, 921 ~ вопрос об истечении полномочий (Rechtsfrage) 457, 466, 468—469, 474, 920
~ изменение отношений с Помпеем 457, 459 ~ кампании против Верцингеторига 458—462, 921 ~ добивается заочного консульства 457, 462, 466, 920 ~ последние галльские кампании (51—50 гг. до н. э.) 463-466, 922 ~ законность его распоряжений оспаривается (51 г. до н. э.) 464—465 ~ разрыв с Помпеем 469, 470-472 ~ письмо сенату 209, 472—473 ~ поход на Рим 472, 473—477, 505, 922 ~ переговоры с Помпеем 479-481 ~ в Риме 476, 481—482 ~ осада Массилии 482-483 ~ кампания в Испании 476, 483, 923 ~ подавление мятежа в Цизальпийской Галлии 483 ~ диктатура и консульство 483-484, 740, 922
~ кампания на Востоке, победа при Фарсале 355, 485—486, 488, 497, 518, 923
~ в Египте 354—356, 486—487, 490, 923 ~ победа над Фарнаком при Зеле 488, 925
~ диктатура в течение нескольких лет 488, 518, 519, 922, 924, 926 ~ консульство (46 г. до н. э.) 489, 519, 924 ~ африканская кампания 489-490, 510, 925 ~ триумфы и игры в память Юлии 490 ~ операции в Испании 490—491, 499, 520, 521, 925
- задуманный поход против парфян 491—493, 503, 526
~ диктатура (46-44 гг. до н. э.) 492—528, 573, 801, 924, 926 ~ отказ от консульства (45 г. до н. э.) 521, 924
- завещание 513, 526-527, 531, 533, 535, 550, 790
- смерть 526, 529, 926
1168
Указатель
~ события после убийства 529—555, 581 сноск.
~ похороны 531—532
~ культ, учрежденный на форуме 532, 534
~ почести, предоставленные сенатом 539 *
~ антисулланская позиция 224, 228, 231, 237—238, 387, 510 ~ и библиотека в Риме 796, 806 ~ богатство 494
~ божественные почести 519, 522, 525, 861—866 ~ борьба с роскошью 738 ~ военная основа власти 554 ~ восхищение Александром 496, 527, 883 ~ и всадническое сословие 510, 517 ~ и гаруспики 489, 511 ~ и греки 238, 495—498, 513 ~ долги 382, 494
~ и долговой кризис 484, 516—517, 740, 924 ~ дом и сады 513, 782, 790, 861 ~ жреческие должности 519, 812
- империя при нем 492—505
~ и интеллектуальная жизнь 513—514, 793 сноск., 796, 800—801, 806
- Италия при нем 493, 505—511
~ и Клодий 415, 422—423, 425—426
- колонии 464-465, 501-504, 506-508, 533, 554, 694, 755-756 ~ контроль над арендной платой 740
~ и культ Венеры/Афродиты 497, 501 сноск., 511—512, 525, 864—865
- и «Лже-Марий» 782, 790
~ манипуляция консульством 457, 462, 466, 521
- милосердие 476, 477, 480, 486, 494, 497, 505, 520, 550-551 ~ нападки Домиция Агенобарба 422, 439, 448, 464
~ и народное собрание 111, 414, 417 ~ и обязательства 490, 457, 465, 504—505 ~ оппортунизм 492—493 ~ и откупщики 496 ~ ораторское искусство 382, 865 ~ подкуп 300, 393 ~ права и привилегии 517—528, 865
- и право 608, 682
~ планы кодификации 513, 638, 836 ~ предоставление гражданства 497—500 ~ как преемник Мария 382, 505
~ раздачи и общественные благодеяния 280, 382, 554, 789, 849; см. также завещание
Указатель
1169
~ религиозные воззрения 491, 525, 845 ~ реорганизация местного самоуправления 508—509 ~ реформа календаря 513, 834, 862 ~ Рим в правление Цезаря 454-^55, 511—517, 723, 787 ~ и сенат 229, 510, 527 ~ современные исследователи о нем 25 ~ статуи 511, 522
~ сторонники 430—431, 482, 484, 494—495, 500 ~ в Италии 505—507, 554 ~ в Транспаданской Галлии 382, 345 ~ стремление к славе 527—528
- строительные проекты 454—455, 511—513, 723, 787 ~ и трибунат 111, 228, 255, 477, 482, 524, 665
~ триумфы 407, 490, 491, 519, 521 ~ и царская власть 25, 492-^93, 494, 523—526, 573, 862 ~ цели и мероприятия в диктатуру 517—528 ~ и Цицерон, см. Туллий Цицерон, Марк ~ чеканка 493, 494, 518, 521, 523 ~ честь 477
~ о чрезвычайном постановлении сената 104, 477
★
Сочинения
~ «Антикатон» 520, 799, 820
- «Записки о Галльской войне» 14, 131, 430-431, 436, 448, 454, 463,
483, 820
~ «Записки о гражданской войне» 14, 475— 477, 482, 820 ~ «Об аналогии» 823, 837 ~ переводы с греческого 805 ~ поэзия 817
~ прозаический стиль 820, 837 Юлий Цезарь, Гай (Октавиан), см. Октавий Юлий Цезарь, Луций (консул 90 г. до н. э.) 142—145, 204, 904 Юлий Цезарь, Луций (консул 64 г. до н. э.) 383, 392, 544, 545, 914 Юлий Цезарь, Луций (легат 49 г. до н. э.) 479, 480
Юлий Цезарь Страбон Вописк, Гай (эдил 90 г. до н. э.) 191—192, 194, 204, 805 Юлия (дочь Цезаря, жена Помпея) 417, 449, 490, 920 Юний, Гай (председатель суда по делу Оппианика) 241 ~ Юниево судебное дело (causa Iuniana) 263 Юний Брут, Децим (консул 77 г. до н. э.) 237, 910 Юний Брут, Луций (консул 509 г. до н. э.) 521, 526 сноск.
Юний Брут, Марк (претор 142 г. до н. э., юрист) 642, 643 Юний Брут, Марк (обвинитель) 583 сноск.
Юний Брут, Марк (претор 88 г. до н. э.) 222
1170
Указатель
Юний Брут, Марк (трибун 83 г. до н. э.) 215, 236, 910 Юний Брут, Марк (претор 44 г. до н. э.)
~ семейные связи 470, 526, 530, 537, 552 ~ просит пощады после битвы при Фарсале 486 ~ наместник Цизальпийской Галлии 495 - о намерениях Цезаря 521 ~ претор 526, 530, 533, 537 ~ убийство Цезаря 526, 529
~ в Италии после смерти Цезаря 530, 531, 532, 534—535, 537, 538 ~ и распоряжения Цезаря 530, 531, 533—535, 537 ~ в Греции и на Востоке 538, 541, 544—545, 549, 551—558, 926, 927 ~ заочно объявлен вне закона 550 ~ обдумывает союз с Антонием 552
*
~ денежные дела 495, 552—553, 686, 741 ~ «О доблести» 800, 827
~ интеллектуальные интересы 794 сноск., 799, 804, 829, 830, 833 ~ и Цицерон 520, 521, 539, 547, 551-553, 686, 800 Юний Брут Альбин, Децим
~ осаждает Массилию 482 ~ и убийство Цезаря 526, 529 ~ командование в Цизальпийской Галлии 532 ~ не доверяет Антонию 535, 537, 542 ~ осажден в Мутине 541—542, 545, 547—548, 927 ~ соединяется с Планком 548 ~ смерть 549
~ переписка с Цицероном 551 Юний Брут Дамасипп, Луций (претор 82 г. до н. э.) 217—221 Юний Брут Каллаик, Децим (консул 138 г. до н. э.) 36, 890 Юний Брут Пера, Децим (ум. в 264 г. до н. э.) 785 Юний Конг Гракхан, Марк 821 Юний Пенн, Марк (трибун 126 г. до н. э.) 94, 751 Юний Силан, Децим (переводчик трактата Магона) 70 Юний Силан, Децим (консул 62 г. до н. э.) 393, 916 Юний Силан, Марк (консул 109 г. до н. э.) 38, 52, 113, 898 Юний Силан Манлиан, Децим (претор 142 (либо 141) г. до н. э.) 95, 585 сноск. Юнония (колония, запланированная на месте Карфагена) 97, 119 Юпитер, его культ 863
~ Капитолийский 135; см. также в статье Рим юрисдикция
~ вне города Рима 661, 682—683 ~ в Италии 581, 608—609, 632—634, 693, 694 ~ в провинциях 658, 661, 673, 680—683, 724
Указатель
1171
юрисконсульты (iuris consulti, iurisprudentes), см. юриспруденция
юриспруденция 614, 616, 632, 638—645
Юстин, «Эпитома Помпея Трога» 152, 156, 348, 349
Юстиниан, «Дигесты» 603, 614
юстиций (запрет на ведение общественных дел) 149
язык
~ греческий 37, 803—804, 867 ~ поэтический 803—804
~ спор об аналогии и аномалии 810—811, 818, 837 см. также латинский язык Ямния 10 Ab, 321 Япигия 147, 890
Ярба, царь Нумидии 44, 223, 246
Ясон (иудейский первосвященник) 330, 331, 339
Ясос 5 Ab, 188
Яффа 9 Cd, 10 Ab, 290, 291, 320, 322
actiones, см. иски
adscripti, см. приписанные к союзным общинам лица
aediles Ceriales, см. эдилы, хлебные
ager Campanus, см. Кампанское поле
ager Cosanus, см. Козанское поле
ager Falernus, см. Фалернское поле
ager Gallicus, см. Галльское поле
ager Leontinus, см. Леонтинское поле
ager publicus, см. государственная земля
ager Stellas, см. Стеллатское поле
ambitio, см. искательство народной любви
ambitus, см. нарушения при соискании
ars, см. наука
auxilium, см. помощь
Bellum Octavianum, см. Октавиева война beneficia, см. благодеяния Bona Dea, см. Добрая Богиня bona fides, см. добросовестность
calles, см. скотопрогонные дороги
capitis deminutio, см. умаление правоспособности
caput, см. в статье права
causa Curiana, см. Куриево судебное дело
1172
Указатель
causa Iuniana, см. Юниево судебное дело cinctus Gabinus, см. габийский стиль civitates foederatae, см. общины, союзные civitates liberae, см. общины, свободные civitates stipendiariae, см. общины, податные classis, см. пехота, тяжеловооруженная coercitio, см. принуждение comitiatus maximus, см. «величайшие комиции» commentarii, см. записки
commercium, ели имущественная правоспособность латинов
compita, см. перекрестки
concilium plebis, см. собрание плебса
consilia, см. советы
contiones, см. сходки
convicium, см. оскорбление, публичное
crimen, см. преступление
cursus honorum, см. карьера, должностная
damnum, см. причинение вреда имуществу delatio nominis, см. выдвижение обвинения detentio, см. держание dolus malus, см. умысел, злой domicilium, см. место жительства
emptio venditio, см. купля-продажа equus October, см. Октябрьский конь exceptio, см. исключение exemplum, см. прецедент
factio, см. группировка, политическая
faenus, см. ростовщичество
feriae imperativae, см. в статье праздники
fidepromissor, см. поручитель
fides, см. доверие
fiducia, см. залог
formula Octaviana, см. Октавиева формула
frumentum in cellam, frumentum aestumatum, см. в статье зерно
gentes, см. роды gratia, см. влияние gromatici, см. землемеры
hostis, см. враг государства
Указатель
1173
Ilviri perduellionis, см. дуумвиры по делам о государственной измене
in iure cessio, см. судебная уступка
in iure, см. рассмотрение дела перед претором
incolae, см. местные уроженцы в колониях
infamia, см. бесчестье, гражданское
iniuria, quaestio de iniuriis, см. посягательство на личность, суд по делам о посягательстве на личность inquisitio, см. расследование
interdictio aquae et ignis, см. лишение огня и воды, изгнание interregna, см. междуцарствия iudices, см. судьи
iudicia publica, см. государственные суды iuris consulti, iurisprudentes, см. юрисконсульты ius civile, см. в статье право ius publicum, см. в статье право ius, см. право
liberae legationes, см. в статье посольства
libertas, см. свобода
litis aestimatio, см. оценка ущерба
Шуш agris iudicandis adsignandis, см. в статье триумвиры locatio conductio, см. сдача внаем
macella, см. в статье продовольствие maiestas, см. умаление величия
mos maiorum institutaque, см. нравы и обычаи предков
negotiorum gestio, см. ведение дел nominis delatio, см. выдвижение обвинения novatio, см. перевод долгов
occentatio, см. «злые песни» officinae, см. мастерские
pactiones, см. в статье налогообложение parricidae, см. отцеубийцы parricidi quaestores, см. в статье квесторы pastio villatica, см. усадебное хозяйство patria potestas, см. отцовская власть
peculatus, quaestio de peculatu, см. казнокрадство, суд по делам о казнокрадстве
perduellio, см. государственная измена peregrini, см. иноземцы
1174
Указатель
permutatio, см. платежное поручение pignus, см. залог
pontifex maximus, см. в статье понтифики populus Romanus, см. римский народ portoria, см. таможенные пошлины possessio, см. законное владение potestas, см. власть praecones, см. глашатаи proditio, см. предательство provocatio, см. обжалование publicani, см. откупщики
quaestio Mamilia, см. в статье Мамилий quaestio Variana, см. Бариев суд
quaestiones extra ordinem / extraordinariae, см. чрезвычайные суды quaestiones perpetuae, см. судебные комиссии, постоянные
regnum, см. царская власть
repetundae, quaestio di repetundis, см. вымогательства, суд по делам о вымогательствах
res mancipi/nec mancipi, см. манципируемые и неманципируемые вещи
res publica, см. государство
rogatio Servilia, см. законопроект Рулла
sanctio, см. в статье клятва
scribae, см. писцы
scriptura, см. пастбищный сбор
senatus consulta, см. постановление сената
sententia Minutiorum, см. Минуциево судебное решение
Septimontium, см. в статье праздники
sicarii, quaestio de sicariis, см. убийцы, суд по делам об убийствах
societates, см. товарищества, деловые
sodalicia, sodalitales, см. товарищества
sponsio, см. пари, юридическое
sponsor, см. поручитель
strictum ius, см. строгое право
stuprum, см. аморальное поведение
supplicationes, см. молебствия
tabellarii, см. гонцы tabernae, см. лавки tabulae, см. таблицы templum, см. священный участок
Указатель
1175
termini, см. межевые камни
tesserae nummulariae, см. тессеры, монетные
toga picta, см. тога, расшитая traiecticia pecunia, см. бодмерея transvectio equitum, см. смотр всадников trientabula, см. «третья доля» tumultus, см. мятеж
turris Lascutana, см. Ласкутанская башня tutela, см. опека
urbana provincia, см. городская провинция urbanum otium, см. праздность, городская usucapio, см. приобретение по праву давности
vasarium, см. содержание наместника провинции
veneficii, quaestio de venefiiis, см. отравления, суд по делам об отравлениях viae, см. дороги vicus, см. район
vis, см. насильственные действия
«νόμος или φυσις», см. «договор или природа»
СОДЕРЖАНИЕ
Часть вторая
Глава 13. Конституция и публичное уголовное право Д. Клауд
I. Римская конституция 565
П. Публичное право (ins publicum) 574
Ш. Постоянные судебные комиссии (quaestiones perpetuae) 582
Глава 14. Развитие римского частного права Дж.-А. Крук
1 613
П 617
Ш 634
IV 645
Избранные неюридические источники для исследования республиканского частного права 649
Хронологические указания, связанные с развитием
римского частного права в эпоху Республики 650
Глава 15. Управление империей Дж. Ричардсон
I. Провинции и provinciae: происхождение системы 655
П. Основа и пределы власти наместника 663
Ш. Наместник за работой 671
Содержание 1177
IV. Налогообложение 677
V. Отправление правосудия 680
VI. Provinciae и провинциалы 683
VTL Provinciae, провинции и империя: начало нового восприятия 685
Глава 16. Экономика и общество, 133—43 гг. до н. э.
К. Николе 691
I. Контекст: география и демография 693
П. Италийское сельское хозяйство 702
Ш. Промышленность и производство 719
IV. Торговля и деньги 724
V. Экономика и общество 739
Глава 17. Город Рим и городской плебс (plebs urbana) в эпоху Поздней республики
Н. Пёрселл 743
П 760
Ш 775
IV 783
Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона
М. Гриффин 792
I. Образование 793
П. Социальная среда 796
Ш. Эллинизация 801
IV. Гуманитарные и точные науки 806
V. Пифагорейство 813
VI. Новая поэзия 816
VTL История и смежные исследования 817
\ТП. Теоретические труды Цицерона 822
IX. Цицерон и римская философия 830
Глава 19. Религия М. Бирд
I. Постояннные величины 839
П. Источники и проблемы сопоставления 845
ТТТ Политический и религиозный распад 849
1178
Содержание
IV. Небрежение и адаптация 853
V. Соперничество, сопротивление и религия популяров 856
VI. Политическое господство и обожествление: божествен¬
ный статус Цезаря и предпосылки к тому 861
VII. Обособление религии 866
VHL Римская религия и внешний мир 875
Эпилог. Падение Римской республики
Дж.-А. Крук, Э. Линтотт и Э. Роу сон 881
Хронологическая таблица 890
Генеалогические схемы 928
Библиография 931
Сокращения 931
A. Общие исследования 939
B. Источники 943
(a) . Литературные источники 943
(b) . Эпиграфика и нумизматика 948
(c) . Археология 954
C. Политическая история 956
(a) . 146—70 гг. до н. э 956
(b) . 70-43 гг. до н. э 962
D. Восток 967
(a) . Митридатовы войны 967
(b) . Иудеи 972
(c) . Египет 000
(d) . Другие восточные дела 979
E. Запад 981
F. Право 982
(a) . Государственное право и уголовное право 982
(b) . Частное право 989
G. Экономика и общество 995
H. Религия и идеи 1005
Список карт 1011
Список иллюстраций 1011
Указатель 1012
Последний век Римской республики, 146-^43 гг. до н. э.: В двух полутомах / Под ред. Дж.-А. Крука, Э. Линтотта, Э. Роусон; перев. с англ., предисловие, примечания О.В. Любимовой, С.Э. Таривердиевой. — М.: Ладомир, 2020. — Второй полутом. — 620 с. (Кембриджская история древнего мира. Т. IX, второй полутом [561—1180 с.]).
ISBN 978-5-86218-587-4
ISBN 978-5-86218-589-8 (пД 2)
В настоящем томе «Кембриджской истории древнего мира» рассматривается переломный период в истории Древнего Рима — от разрушения Карфагена до убийства Цезаря и создания второго триумвирата. В эти десятилетия римские республиканские институты постепенно рушатся, не выдерживая огромной нагрузки: после череды завоевательных войн Римская империя простирается от Испании до Черного моря, от Галлии до Африки. Рим оказывается втянут не только во внешние, но и во внутренние конфликты: сперва — восстания рабов, затем — противостояние с союзниками-италийцами и, наконец, опустошительные гражданские войны, в которых гибнет Римская республика и зарождается Римская империя. В этом томе читатель увидит, как государство всё глубже погружалось в пучину раздоров: как пали трибуны Гракхи, пытавшиеся раздать землю плебсу, как соперничество Мария и Суллы переросло в кровопролитную гражданскую войну и проскрипции, как Помпей и Красе, бывшие соратники Суллы, разрушили его режим, как Цезарь сломил сопротивление сенатских консерваторов, а те загнали его в политическую ловушку, выходом из которой стала новая гражданская война; как победитель в ней Цезарь был сражен кинжалами прощенных им врагов, и как Октавиан, приемный сын диктатора, объединившись с Антонием, его соратником, поднял знамя мщения. В томе представлены самые разные грани жизни Поздней республики — политическая и военная история, гражданское и уголовное право, экономика и социальная структура общества, религия и культура, обстановка в отдаленных провинциях и сопредельных царствах. Большое внимание уделяется жизни не только аристократии, но и римского городского плебса, который в Поздней республике стал новой политической силой, мощной и грозной. Авторами и редакторами тома выступили многие известные специалисты по истории Древнего Рима, в частности, Дж.-Крук, Э. Линтотт, Э. Роусон, Т. Уайзмен, Э. Габба, А. Шервин-Уайт, К. Николе.
Научное издание
ПОСЛЕДНИЙ ВЕК РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 146-43 ГГ. ДО Н. Э.
В 2-х полутомах Второй полутом
Редактор ЮЛ. Михайлов Корректор О.Г. Наренкова
Компьютерная верстка О.Л. Кудрявцевой, Л.С. Макеевой Подготовка оригиналов русифицированных карт и схем В.Г. Курочкин
ИД № 02944 от 03.10.2000 г. Подписано в печать 03.02.2020 г. Формат 60 X 90у1б. Гарнитура «Баскервиль» Печать офсетная. Печ. л. 38,75 Тираж 500 экз. Зак. № К-8795.
Научно-издательский центр «Ладомир» 124681, Москва, ул. Заводская, д. 4 Тел. склада: 8-499-729-96-70 E-mail: ladomirbook@gmail.com
Отпечатано в соответствии
с предоставленными материалами в АО «ИПК “Чувашия”» 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13
II11III1IH1W
НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС
Информацию о новинках «Ладомира»
(в том числе о лимитированных коллекционных изданиях), условиях их гарантированного и льготного приобретения, интервью с авторами и руководством издательства, прочие интересные сообщения можно оперативно получать, если зарегистрироваться в «Твиттере» «Аадомира»: https://tvvdtter.com/LadomirBook
![Кембриджская история древнего мира. Т.IX. Последний век Римской республики, 146-43 гг. до н. э.: В двух полутомах, второй полутом [561—1180 с.] - 2020](https://djvu.online/jpg/P/8/T/P8ThCKAJegKTx/001.jpg)