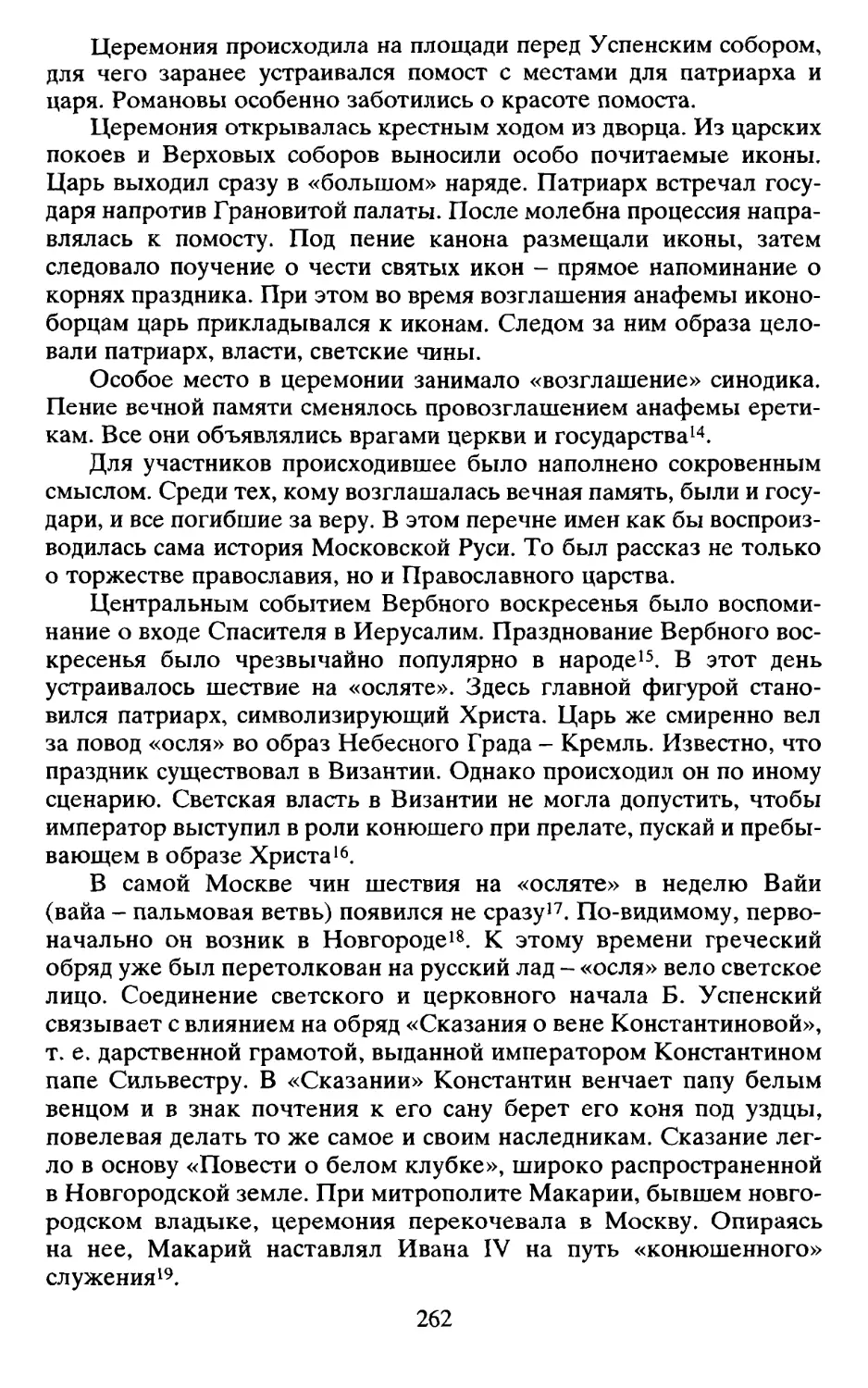Автор: М. Бойцова
Теги: всеобщая история европа (ес, часть снг) история средних веков культурология
ISBN: 978-5-02-035553-8
Год: 2008
Текст
ОБРАЗЫ ВЛАСТИ на Западе, в Византии и на Руси Средние века Новое время
РОССИЙСКАЯ 'АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
RUSS1SCHE AKADEMIE DER W1SSENSCHAFTEN
INSTITUT FUR. ALLGEMEINE GESCH1CHTE
BILDER der MACHT in Okzident, Byzanz und Rutland
Mittelalter -Neuzeit
Herausgegeben von
Michail A. Bojcov und Otto Gerhard Oexle
6
MOSKAU NAUKA 2008
ОБРАЗЫ ВЛАСТИ на Западе, в Византии и на Руси Средние века Новое время
Под редакцией
Михаила Бойцова и Отто Герхарда Эксле
в
МОСКВА НАУКА 2008
УДК 94(4)«653»+«654»
ББК 63.3(4)
0-23
Составитель М.А. Бойцов
Рецензенты:
кандидат исторических наук О.С. Воскобойников, кандидат исторических наук П.Ш. Габдрахманов
В оформлении книги использованы: фотография бронзовой статуи льва перед дворцом герцогов Брауншвейгских (г. Брауншвейг. XII в.) и диптих Барберини (Париж. Лувр. VI в. Слоновая кость)
Образы власти на Западе, в Византии и на Руси Средние века. Новое время / под ред. М.А. Бойцова, О.Г. Эксле ; [сост. М.А. Бойцов] ; Ин-т всеобщ, истории РАН. - М. Наука, 2008. - 443 с. -ISBN 978-5-02-035553-8 (в пер.).
В сборнике публикуются переработанные материалы двух коллоквиумов -в Гёттингене и Москве - российских и германских историков и искусствоведов. Речь идет о характере образов власти, действовавших в разных культурах, механизмах их возникновения, трансформации, взаимодействия и распада. Эти образы выражались и распространялись через тексты, ритуалы, праздники, посредством изображений, монументов, архитектурных сооружений или даже специфической организации городского пространства.
Для историков, преподавателей, студентов вузов.
Темплан 2007-11-364
ISBN 978-5-02-035553-8
© Институт всеобщей истории РАН, 2008
© Бойцов М.А., составление, 2008
© Коллектив авторов, 2008
© Редакционно-издательское оформление.
Издательство «Наука», 2008
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Образы правят миром» - вот основная идея, объединившая участников двух встреч российских и немецких историков, состоявшихся в Гёттингене в 2002 г. и в Москве в 2003 г. Оба коллоквиума были посвящены одной теме - «Образы власти». Тема эта пока разработана плохо, хотя совсем уж новаторской ее, пожалуй, тоже назвать нельзя. Наверное, все согласятся с тем, что в распоряжении современного историка есть немало различных подходов к изучению власти в обществах прошлого. Однако так сложилось, что на протяжении уже весьма долгого времени - в историографии и XIX, и XX, и даже XXI в. - в целом преобладают два из них, порой конкурирующих между собой, а порой и совмещающихся. Первый (и самый старый) рассматривает власть прежде всего как систему правовых установлений и политических институтов. Из этого логично следует, что историку власти необходимо изучать конституцию (писаную или неписаную - неважно), законы, суды, становление и развитие тех или иных государственных институтов. Для сторонников второго подхода важнее всего не столько история возникновения того или иного учреждения (парламента, постоянной армии или налоговой системы) сама по себе, сколько социальное наполнение этого института, выяснение того, в чьих интересах он действовал.
В XX в. было высказано много новых, порой воистину революционных идей о природе власти: полевые наблюдения антропологов, стройные схемы Макса Вебера, эмоциональные метафоры Мишеля Фуко чрезвычайно расширили горизонт историка. Однако Циркуляция этих идей на уровне методологических дискуссий вовсе не означала их автоматического усвоения и на базовом уровне практических исследований, где в целом продолжают доминировать различные варианты двух вышеобозначенных подходов. Цель настоящего сборника - показать возможность и продуктивность приложе-«ия некоторых общих взглядов на власть к сугубо конкретному материалу, с которым историку, собственно, и приходится иметь Дело в его повседневных штудиях.
Основная идея книги состоит в том, чтобы представить власть как категорию не столько правовую, институциональную, экономимую или социальную (в узком значении слова «социальный», при
5
котором подразумевается преимущественное внимание к социальным группам, вычленяемым в соответствии с теми или иными параметрами), сколько символическую. Человек подчиняется власти другого человека, государства или же божества, как правило, не потому, что к этому подчинению его постоянно принуждают путем насилия. Разумеется, насилие никогда не было редкостью в истории, но на нем одном нельзя построить сколько-нибудь долго и эффективно функционирующую систему власти. Готовность к подчинению (как и готовность к господству) относится к характеристикам сознания, а не внешних по отношению к человеку обстоятельств. Такие внешние обстоятельства играют, вне всякого сомнения, большую, а нередко и определяющую роль в интериоризации индивидом тех или иных моделей подчинения (или же, наоборот, моделей господства), но в конечном счете именно состояние индивидуального сознания оказывается решающим для выстраивания отношений между теми, кто господствует, и теми, над кем господствуют. Спектр этих отношений может быть весьма широким - от постоянной и безусловной готовности подчиняться до полного отказа в повиновении. Сознание же человеческое оперирует за пределами инстинктивных реакций прежде всего образами, именно в них «формулируя» как свое отношение к действительности, так и собственную предполагаемую реакцию на нее. (После открытий психологов и литераторов XX в. человечество избавилось от наивной привычки преувеличивать роль логической, дискурсивной стороны сознания в процессе самоопределения индивида.) Именно образы оказываются конечными носителями информации, синтезирующими в предельно емкой форме все виды «раздражений», порождаемых социальной и культурной средой существования индивида. В соответствии с этими посылками, мы вправе описывать власть не как развитие правовых или политических норм и даже не как совокупность предзаданных культурой установок, присутствующих в ментальности более или менее широких групп, а как постоянно идущий динамичный процесс складывания, трансформации и распада образов, относящихся к идеям господства и подчинения.
Этот процесс идет не сам по себе в соответствии с некой внутренней логикой, а оказывается равнодействующей разнонаправленных усилий: поскольку власть представляет собой не субстанцию, а отношение между людьми, она возникает из взаимодействия и взаимовлияний - т.е. из диалога между различными образами. Простейшая схема такого диалога состоит в том, что «господствующие» «производят» и стараются распространить среди тех, над кем они господствуют, выгодный для себя образ собственной власти. При этом навязываемый сверху образ (или совокупность, система, конгломерат, череда образов) либо подчиняет себе сознание «подданных», либо вступает в нем во взаимодействие или даже конкурен
6
цию с образными рядами иного происхождения (возможно, присутствовавшими там уже давно, возможно только что родившимися). Свой «образ господства» есть, как известно, не только у тех, кто господствует, но и у тех, над кем господствуют, и этот «набор чаяний» может транслироваться наверх, воздействуя на «образную стратегию» властей предержащих... Сценариев, по которым может развиваться «диалог образов», бесконечно много, и задача историка заключается не в том, чтобы составлять теоретический каталог возможных вариантов, а в том, чтобы проследить на конкретном материале прошлого, как этот диалог некогда выстраивался. Ясных рекомендаций, как именно следует это делать, пока что не выработано. Вряд ли обретет их читатель и после знакомства с этой книгой. Дело в том, что ее концепция самая «либеральная» - авторы не были скованы заранее никакими директивами относительно того, как именно им следует раскрывать тему «образы власти», и каждый предложил собственное, сугубо индивидуальное решение. Думается, именно так и нужно начинать работу над новой проблематикой, стараясь как можно шире забросить невод, чтобы уж точно не пропустить чего-нибудь важного. На нынешнем этапе важно было дать панораму подходов, не спеша с выводами о том, какие из них более, а какие менее перспективны. Это прояснится позже.
Соответственно, здесь собраны работы специалистов из разных областей - историков и искусствоведов, изучающих прошлое как западноевропейских стран, так и Византии и России. Каждый из них был подведен к общей теме своим собственным материалом и, опираясь на свою методику, сделал из него собственные выводы. Каждую из этих статей вполне можно было бы опубликовать по отдельности в соответствующем профессиональном издании - по искусствоведению, византинистике, русистике, западной медиевистике... Однако, собранные вместе, они образуют, как представляется, совершенно новое качество, поскольку начинают существовать не сами по себе, а как фрагменты единого целого, показывая различные грани одной и той же общей проблемы. И проблема эта, необходимо признать, вырисовывается весьма впечатляющей.
Немецкому читателю наш совместный труд уже был представлен под названием «Bilder der Macht in Mittelalter und Neuzeit. Byzanz -Okzident - RuBland (Gottingen, 2007)». В нем несколько иное расположение статей, при том, естественно, что исследования российских авторов даются в переводах на немецкий, английский или французский языки. Наш геттингенский сборник получился существенно объемнее, чем московский, поскольку мы решили не перепечатывать здесь трех исследований, хотя и написанных в рамках нашего сотрудничества, но уже публиковавшихся на русском языке. Это статьи М.А. Бойцова «Ограбление мертвых государей как всеобщее увлечение» (Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2002.
7
Вып. 4. М., 2002. С. 137-201), «Сидя на алтаре» (Священное тело короля: Ритуалы и мифология власти / Под ред. Н.А. Хачатурян. М., 2006. С. 190-262) и работа О.И. Тогоевой «Не прибегая к чрезмерной жестокости», опубликованная в ее монографии «“Истинная правда”: Языки средневекового правосудия» (М., 2006).
Руководители проекта и его участники глубоко признательны издательствам «Наука» (Москва) и Vandenhoeck & Ruprecht (Гёттинген) за большую работу, проделанную при подготовке нашего совместного труда в обоих его вариантах, и в особенности за преодоление всех сложностей, связанных с большим количеством собранного в нем иллюстративного материала.
Сборник подготовлен при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 04-01-00277а. Переводы с немецкого выполнены при поддержке Института истории Общества им. Макса Планка в Гёттингене.
М.А. Бойцов, О.Г Эксле
Василевсы
М.В. Бибиков
«БЛЕСК И НИЩЕТА» ВАСИЛЕВСОВ
СТРУКТУРА И СЕМИОТИКА ВЛАСТИ В ВИЗАНТИИ
I
Византийская цивилизация, ставшая, по определению А. Гейзенберга1, «христианской Римской империей греческой нации», в своих представлениях о власти изначально унаследовала традиции римского цезаризма, эллинистической культуры словесного выражения идеи величия и эвтаксии монархического мироустроения и ближневосточной христианской концепции воплощения господства Царя Небесного в автаркии власти царя земного.
На первый взгляд, Византия получила почти готовой эллинисти-чески-римско-христианскую модель верховной власти. Если считать первым византийским императором Константина I, как это, кстати, делали и сами византийцы, с него начиная новую страницу в эсхатологической последовательности Царств - после Вавилонского (как вариант - Ассирийского), Персидского, Эллинского (вариант - Македонского) и Римского2 - эпоху «царей христианских» («константинопольских»), то, по свидетельству Евсевия Кесарийского, именно Константину чуть ли не сразу после решающей победы у Мильвийского моста 28 октября 312 г. воздаются императорские почести, а он сам благодарит христианского Бога, даровавшего ему победу и власть, за чем вскоре следует опубликование Миланского эдикта, утвердившего де христианство в качестве государственной религии, а сам Константин вследствие этого прославляется в истории Церкви как равноапостольный первый христианский государь (Eusebius. Vita Constantini. II. 19, 2).
Согласно кесарийскому епископу - отцу христианской концепции истории, «все части Римской империи соединились в одно, все народы Востока слились с другой половиной государства, и целое Украсилось единовластием, как бы единой главой, и всё начало жить под владычеством монархии...
Все и всюду прославляли победителя и соглашались признавать огом только Того, Кто доставил ему спасение. А славный во вся
11
ком роде благочестия василевс-победитель (ибо за победы, дарованные ему над всеми врагами и противниками, такое получил он собственное титулование) принял Восток и, как было в древности, соединил в себе власть над всей Римской империей. Первый проповедав всем монархию Бога, он и сам царствовал над римлянами и держал в узде всё живое...
В хорах и гимнах неудержимыми возгласами прославляли все сперва Всецаря-Бога, как научились, потом славного победителя и благонравнейших, боголюбивых детей его - кесарей»3.
С другой стороны, Византия унаследовала римскую официальную императорскую титулатуру, причем как республиканской архаики (consul - пжхтод, pontifex maximus - dpxtEpEUG и др.), так и собственно императорской эпохи (augustus - айуолкгго^, осРаотбд, imperator - сштохратсор - с начала; VII в., caesar - xaioap, PaotXruG -с начала VII в. главный императорский титул; princeps, dominus -бгол6тг|д, хбрюд). Правда, довольно быстро многие из принятых императорских титулов подверглись переосмыслению. Так, pontifex maximus (в качестве которого - покровителя всех религиозных культов - председательствовал на I Вселенском соборе Константин), не переживший времена Грациана, получил исключительно церковно-административный статус, перейдя затем «в собственность» папы римского, так же как и <ipxi£p£6g становится термином, применимым к патриарху, митрополиту или архиепископу, затем вообще к иерарху. А «ипат», став титулом членов синклита, где ипаты стояли ниже даже спафариев и спафарокандидатов, по крайней мере не позднее XI в. становится университетско-профессорской должностью (Михаил Пселл был «ипатом философов», т.е. своего рода деканом философского факультета Константинопольского университета). Термин consul исчезает вслед за эллинизацией публичноправовой сферы в начале IX в. (кстати, proconsul не пережил и IV в.). Augustus aetemus (или perpetuus), твердо усвоенный Константином I, удерживается в официальных актах лишь до начала VI в. Севаст со временем становится придворным титулом, элитарным, но не самого высокого ранга (севаст ниже кесаря), а в X-XI вв. титул «разменивается» на разного рода полутитулы - полупочетные должности севастофоров (это, как правило, евнухи, возглашавшие новых императоров), севастократоров (при Комнинах, чаще императорские зятья или сыновья), пансевастов (скорее апеллятив, чем титул). Автократор, прежде чем стать главным официальным титулом византийского самодержавия, в VII в. упоминается лишь в контексте власти соправителя применительно к «главному» императору (как правило, отцу при объявленных им соправителями сыновьях), а в VII-IX вв. не употреблялся вообще.
Caesar - xcuoap, эмансипировавшись из имени собственного, с VII в. употребляется также лишь в контексте «соправления», обо
12
значая как раз младших соправителей автократора, а по крайней мере с середины IX в. становится также придворным титулом, которым обладал самый влиятельный после самого императора человек (а подчас он становился и всесильным царедворцем, как, например, кесарь Варда при Михаиле III). Императорский титул princeps остался в IV в., а категория dominus - 6е0л6тг|(;, употреблявшаяся Феодосием II и Валентинианом III, затем целиком переходит в сферу экклезиологии, ассоциируясь исключительно с Христом.
Если большинство римских титулов императоров, как видим, претерпело определенную мимикрию в изменяющихся условиях развития автократической идеологии, то иная судьба была уготована последнему из названных выше императорских наименований -Paoitevg. Связанный первоначально с библейскими царями Септуа-гинты, а также с преходящими царствами «государственной эсхатологии» в ранневизантийской историографии греческий термин передает в основном латинское понятие гех. Транслитерированный греческий термин также станет употребим в византийской традиции, но в совершенно определенном историческом контексте (о чем речь пойдет в конце статьи). Лишь при Ираклии, в начале VII в., Paaikeijg становится исключительно византийским императорским титулом, дополненный в это же время категорией цсусц; paaiXcng, т.е. «великий царь» (относительно pixpol PaaiXEig - «малых царей» -соправителей) и усиленный в 812 г., с оглядкой, очевидно, на Карла Великого, определением PaaiXcug tcdv Tcopcxicov («василевс ромеев»), т.е. «Царь “римлян”-византийцев». Характерно, однако, что если обратиться к текстам, собранным в серии «Acta conciliorum oecu-menicorum» и имеющим латинские переводы к греческим оригиналам, то обнаружится: РаосХеб^ переводится там на латынь то как princeps, то как augustus, то imperator, то dominus, не имея того эксклюзивного статуса, каковой он обрел на Босфоре.
Парадигматический образ василевса формировался и благодаря атрибутам - прилагательным при упоминавшемся императоре -в актах ли, в панегириках ли, в церковных здравицах или в уличных аккламациях, - которые составляли своего рода категориальный аппарат идеи императорской власти (Kaiseridee). За краткостью сошлюсь на сводку Герхарда Рэша (ONOMA BASILEIAS)4.
Если многие из этих определений имеют античную генетику, то особое значение в византийской императорской идеологии (Kaiserideologie) получили христианские атрибуты правителя, правда, отнюдь не сразу. Уже в IV в. Грациан отказывается от сакрального титула pontifex maximus, ассоциируемого с языческим культовым термином, но только Юстиниан I (в Edictum de recta fide 551 г.) обретет ту формулу в intitulatio, которая станет универсальной маркировкой вероисповедания носителя власти - cpiXd/piOTog (Христо-Дюбец). И только его преемник Юстин II воспримет еще более кате
13
горичное определение - fidelis in Christo (люто; Хрютф). Обе эти категории станут обязательными в течение всего византийского тысячелетия.
Идея божественного происхождения верховной власти, будучи сама по себе римским дериватом, обретает в условиях христианизации новый смысл и форму. Позднеантичная категория divus - 0Eiog («божественный») уступает место (в прооймионах императорских эдиктов, в легендах императорских печатей и монет) формуле Ы Осой Pacntojg - imperator ex Deo - император от Бога (Юстин И, Юстиниан, затем Константин IV, Лев III и т.д.). Реальным воплощением этого принципа становится двухместный византийский императорский трон, одно из мест которого предназначено для осязаемого в проскинезе Царя земного, другое - для умозрительного Царя Небесного.
Однако, возвращаясь к Константину Великому, ясно становится видно, что парадигма идеального правителя не была воспринята из позднеантичного арсенала в готовом виде. Осмелюсь утверждать, что идея верховной власти христианского императора была выстрадана Византией. Сошлюсь в данной связи на наблюдения И.С. Чичурова5.
Христианская сакрализация идеи императорской власти подчас приводит к неким раннехристианским уравнительным реминисценциям: для Агапита, создателя своего рода «Царского зерцала» для Юстиниана, император есть cnjvdoukog - «со-раб» Божий, так же как в общем и все подданные, заверяет диакон Великой Церкви VI в.6 Идея христианского смирения вырабатывается в связи со становлением православной идеи власти в обстановке борьбы с императорами-иконоборцами. Иоанн Дамаскин - идеолог того, что Г.-Г. Бек определил как «политическая ортодоксия»7, - понимал благочестие (егоеРеюс) как православие. Не гордись ни происхождением, ни властью, рассуждает он: император, помни о ничтожности своего существования и о том, что и у богатого, и у бедного - один праотец. Подданные, как и император, - все со-рабы Господа8.
Итак, «благочестие», столь нехарактерная категория Kaiseridee в самоопределениях времен Константина I, получает широкое распространение в императорской титулатуре V-VII вв., становясь официальным «титулом» при Льве I, который принимает еще и новый царственный атрибут - 0Еоат£лто<; (“боговенчанный”), после того как в 457 г. он был первым из василевсов венчан на царство Константинопольским патриархом в столице, - элемент в императорском ритуале, ставший затем conditio sine qua non понятия легитимности власти (с середины VI в. церемония должна была происходить непременно в храме Св. Софии).
Но при иконоборце Льве III (717-741) из «каталога царских достоинств» постепенно исчезают как традиционные римские ценности, так и христианское благочестие9. Тем более показательным в
14
этих условиях становится апелляция к ним православного оппозиционера Феофана: для него, как и для Феофилакта Симокатты, Юстин II - прежде всего смиренный правитель (ццгрод) и Эвергет -благодетель.
Существенна и другая решительная перемена образа власти. «Благородство происхождения» императора - столь важная категория Kaiseridee в ранней Византии - теперь, в VII-VIII вв., сходит на нет10.
Итак, византийская идея власти претерпевает существенные изменения уже в первые столетия своей истории. Понятийный, категориальный континуитет императорской номенклатуры обнаруживает, при внимательном рассмотрении динамики взаимоотношений во времени элементов Kaiseridee, сущностный, системный дисконтину-Г итет с наследием эллинистически-римской античности.
II
На пятый год своего правления император Юстиниан I Великий, не менее харизматический по византийским критериям, чем Константин Великий, и так же прославленный Православной церковью всесильный монарх, процарствовавший впоследствии еще более 30 лет (всего же с 527 по 565 г.), оказался на краю пропасти, едва не потеряв власть в огне вспыхнувшего восстания «Ника». Юстиниан уже собирался, бросив столицу, пуститься в бегство на приготовленных судах ради спасения жизни. Но его остановила мудрая, благодаря богатейшему жизненному опыту, царица Феодора: «При столь опасном положении должно обращать внимание на то, чтобы устроить предстоящие дела лучшим образом. По моему мнению, - говорит Феодора в повествовании Прокопия Кесарийского, - бегство теперь, больше, чем когда-нибудь, для нас невыгодно, хотя бы оно и вело к спасению. Тому, кто появится на свет, нельзя не умереть; но тому, кто однажды царствовал, скитаться изгнанником - невыносимо! Не дай мне Бог лишиться этой багряницы и дожить до того дня, в который встречающиеся со мной не будут приветствовать меня как царицу! Итак, государь! Если хочешь спасти себя бегством, это не трудно! У нас много денег, вот - море, вот - суда! Но смотри, чтоб после, когда ты будешь спасен, не пришлось тебе когда-нибудь предпочесть смерть такому спасению. Нравится мне старинное слово, Что Царская власть - прекрасный саван»11.
Магия власти, импозантность фигуры византийского автократо-Ра» высоко вознесенного над пирамидой социальной иерархии, -все это в Византии могло так легко обратиться в прах. И это осо-Знавали, как видно, сами носители власти. Власть являла собой знак, символ: не случайно каждый византийский император никогда не Называл себя (в официальных ли хрисовулах, в частной ли перепис
15
ке или даже в домашней беседе) в первом лице - о себе он всегда говорил «РсклШа рхуи» («моя Царственность»), словно «остраняя» (verfremdend) - воспользуемся брехтовской терминологией в описании этой исторической драмы - саму идею власти от ее носителя. Характерно, что византийская политическая литература, отнюдь не замыкаясь в рамках сервилизма, как это принято считать, внесла немалый вклад в то, что называется Kaiserkritik (об этом хорошо пишет F. Tinnefeld12). Однако критике может подвергаться конкретный император - тот или иной человек, но не принцип, не идея, не символика монархической власти.
Осуществляя присущие только ему функции, византийский император символизировал саму власть, ее божественное происхождение: земной правитель был воплощением в земной жизни Высшей власти (двухместный трон, на одной из частей которого восседал ва-силевс, а на другой лежал крест, был визуальным воплощением этой символики). Император имел эксклюзивное право, как сказали бы теперь, на определенные цвета: пурпур (цвет царской обуви, личной подписи на документах, элементов одежды), золото (цвет блестящих доспехов, парчовых одеяний, императорской печати) и белоснежная чистота (от туники до цвета чистого лица и всего облика, излучающего свет) были идеальными цветами царской власти. Правда, такие мастера слова, как Никита Хониат или Феодор Продром, умело пользовались этой палитрой, чтобы, желая осторожно дезавуировать царственного героя, переосмыслить эти цвета, отождествляемые, когда нужно, с желчью, кровью, пухом слабой голубки13. И все-таки чаще тот же Никита Хониат или Михаил Пселл, характеризуя отрицательных царственных персонажей, будут писать о «пестроте» их натуры или «окрасят» их в немыслимой фиолетовый или кричащий зеленый цвета14. Для читателя это будет знаком: «sapienti sat». Императрицы рожали в специальной палате дворца, стены которой были выложены порфиром. В соответствии с этим, дети, рожденные от царствующих династов, назывались Порфиро-генитами - Багрянородными, что вносило дополнительный акцент в вопрос о легитимизации власти.
Апогеем выражения царского величия был византийский императорский церемониал - с глубокой проскинезой визитеров, с использованием техники (рычащие механические львы и поющие искусственные павлины, вздымающийся горе трон и т.п.: кажется, весь византийский технический гений ушел на усовершенствование этих придворных игр). Лиутпранд Кремонский прекрасно описал впечатление от царского приема в византийском дворце: «Бронзовое позолоченное дерево стояло перед троном царя, ветки дерева кишели отлитыми из бронзы и позолоченными птицами, каждая из которых пела на свой лад. Трон царя был так устроен, что мог подниматься на разные уровни. Его охраняли необычной величины
16
львы, также позолоченные. Они били о землю хвостом, раскрывали пасть и, двигая языком, громко ревели. И когда при моем появлении началось рыканье львов и птицы запели на ветках, я преисполнился страхом и удивлением.
Приветствовав затем трехкратным преклонением царя и подняв голову, я узрел того, кто перед тем сидел на небольшом расстоянии от пола, восседавшим уже в ином одеянии под самым потолком. И как это произошло, я не мог объяснить»15.
Допуск к императору был особой церемонией, включавшей в себя прохождение через многочисленные залы, портики, колоннады дворца, и лишь в самом конце посол удостаивался лицезрения правителя.
Обо всем в имперской канцелярии велись подробные записи -о ходе церемоний, о суммах дарственных выплат, о ритуальных перемещениях из одной залы в другую (аккумулировано в трактате середины X в. Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора»16). Составлялись и специальные тактиконы -обрядники, предписывавшие, кто из придворных чинов в каком порядке должен занимать места на царских обедах или приемах17.
Василеве выполнял и административно-законодательные функции. Но он не только был законодателем, он сам был воплощением закона, гарантией от произвола (нарушение равновесия между монархической властью и властью закона превращало царскую власть в тиранию). Поддержание законопорядка было равнозначным сохранению традиций, вот почему, даже осуществляя фактически реформы, византийские императоры не называли их так: в нарративной части постановлений указывалось на некие древние традиции, которые почему-то были забыты, но теперь-де восстанавливаются в своих правах. Государственно-юридическая идеология была ориентирована на прошлое, на традиционализм.
В соответствии со своими полномочиями император осуществлял и экзекутивные функции. По его приказу творились казнь и увечье (отсекание носа, ушей, языка, выжигание волос и бровей, усекновение конечностей - в соответствии с тяжестью преступления, о чем подробно написано, например, в 17-м титуле «Эклоги»18); император смещал с должностей, отправлял в ссылку, имел, кажется, неограниченную власть над индивидуумом. Но, оглядывая целиком византийское тысячелетие, можно подумать, что и не было более беззащитной фигуры, чем византийский император. Из 107 василев-сов, правивших между 395 и 1453 гг., только 34 умерли собственной естественной смертью либо пали жертвой несчастного случая. Остальные были смещены, ослеплены, убиты, сосланы - словом, погибали насильственно. Это, кажется, вдвое больше, чем за тот же срок в Германии. Византия пережила 65 крупных дворцовых переворотов, не считая мелких мятежей и придворных интриг. Дело в том,
2 Образы власти... 17
что византийская верховная власть не была обеспечена юридически: не было ни закона о престолонаследии, ни единого принципа передачи власти. Царствующий монарх обычно при жизни объявлял наследника (наследников), делая его (их) соправителями. Старший (не всегда) или наиболее желанный становился затем - если, конечно, умудрялся выжить, будучи еще наследником, - царем. Но им мог быть совсем не обязательно старший сын или брат покойного императора. Часто им становился зять, племянник, другой родственник, а то и просто «усыновленный» фаворит, не связанный кровным родством. Узурпация власти, хоть в принципе и осуждалась, была в порядке вещей в течение всех периодов византийской истории.
И византийские правители сами осознавали бренность своей власти, что не было просто клише из арсенала топики христианского смирения. Царский церемониал предусматривал и данный аспект Kaiseridee.
Официальные мозаичные парадные портреты василевсов демонстрируют их в полном властном облачении, с державой в руке, но в другой руке часто - акакия (мешочек с прахом). Став императором, венчанный патриархом в храме Св. Софии венценосец совершал ритуальный выбор мрамора для своего саркофага. Византийское военное триумфальное шествие отличалось от древнеримского: у Золотых ворот император спускался с колесницы на землю, на которую водружалась икона Богородицы Одигитрии, и далее монарх верхом на коне или пешком шествовал по Месе вслед за образом, демонстрируя, кто был истинным предводителем в бою. Именно таково изображение триумфа на одной из миниатюр рукописи знаменитого Мадридского списка Хроники Иоанна Скилицы19. Император участвовал, уподобляясь Христу, и в церемонии омовения ног нищим (ныне этот ритуал совершает с подданными иерархами в Иерусалиме святоградский патриарх). Наконец, император был ограничен в передвижении: он должен был находиться в столице, во дворце, символизируя неколебимость власти. Лишь отлучки в победоносные военные походы были «извинительны». Когда же на излете византийского тысячелетия Иоанн VIII Палеолог вынужден был по три года странствовать по Западной Европе в поисках денег и помощи для оказания отпора османскому завоеванию, это не встречало понимания у византийцев.
Византийский императорский портрет - на церковных стенных росписях или мозаиках, в книжных миниатюрах, на буллах и аверсах монет - строг и соответствует определенным условным требованиям20. Он воплощает не столько человеческую индивидуальность (хотя черты внешнего сходства с героем присутствуют), сколько идею - идею императорской власти. Поэтому ничего удивительного с византийской точки зрения не было в знаменитой истории с одной из парадных мозаичных композиций на хорах константинополь
18
ского храма Св. Софии. Были заказаны и выполнены парные ктиторские портреты в рост императорской четы - багрянородной императрицы Зои и ее мужа-императора. Но Зоя трижды была замужем - за Романом III Аргиром (1028-1034), за Михаилом IV (1034-1041) и, наконец, за Константином VIII. При всех изменениях ни лик, ни фигура не заменялись мозаичистами - менялась только надпись с именем императора: это хорошо видно, так как длинное слово «Константин» с трудом умещалось в пространстве прежнего соскобленного имени (или имен)21. Несоответствие формы и толщины букв в написании имени не смущало: таковы были «законы жанра».
III
Но динамизм изменений в сфере имперской идеологии просматривается не только на уровне теоретического осмысления державного идеала. Реальные оценки деяний тех или иных василевсов обнаруживают постепенность формирования образа идеального государя и на живых исторических примерах. В первую очередь это относится к самому Константину Великому.
Процитированный в самом начале дифирамб Константину из ев-севиевского «Жизнеописания» относится к сравнительно позднему времени, достаточно отстоящему и от принятия Константином единовластия, и от утверждения христианства Миланским эдиктом 313 г. В «Церковной истории» же, написанной около 325 г., за полтора десятка лет до «Жизнеописния», мы не прочтем ни о видениях и снах, побудивших Константина обратиться к христианству и «сим победить», ни о единоличной роли его в качестве крестителя ромеев. В «Церковной истории» цитируется другой, более ранний документ -эдикт августа Галерия 311 г., разрешивший свободное вероисповедание христианства22. Что касается Миланского эдикта, то его соавторами, «единодушно» и «единогласно» обнародовавшими документ, справедливо названы как Константин, так и его соправитель Лики-ний, с которым, впрочем, основатель столицы на Босфоре вскоре благополучно расправился (как и с Галерием, а также другими конкурентами). «Мешают» созданию образа кроткого христианского государя и такие эпизоды «Церковной истории», как расправа Константина с женой - красавицей Фаустой (утоплена в горячей ванне) и собственным старшим сыном - Криспом (отравлен), заподозренными в преступной кровосмесительной связи. «Мешает» и то, что Константин был внебрачным сыном, не имел образования, кроме воинских навыков убивать. Не случайно эти обстоятельства будут обойдены молчанием в «Жизнеописании Константина». Как известно, и христианство Константин сам принял лишь незадолго до смерти в
7 г., в провинции, из рук местного арианского епископа.
19
Очевидно, что в сознании авторов IV в. Константин никак не мог претендовать на роль идеального правителя. Языческий писатель Евтропий пишет и о незаконном происхождении Константина, и о его жестокости, вероломстве, жажде власти; критикуется несовершенство его законодательных инициатив. Вообще ничего не сказав о христианстве в связи с Константином, Евтропий резюмирует: «В начале правления он причислялся к наилучшим из императоров, в завершении же едва-едва приравнивался к посредственным»23.
Евтропий был язычником, и его нелюбовь к Константину понятна. Но вот христианские церковные историки Сократ Схоластик, а вслед за ним и Созомен не могут не упомянуть ни о крещении императора в Никомидии, а не в столице, ни забыть о притеснениях им православных иерархов, таких как Афанасий Александрийский, сосланный в Галлию. В целом и Сократ, и Созомен больше пишут о Феодосии II (Новом), сравниваемом с библейскими царями, христиански образованном, подлинном герое их повествования. Феодорит Кирский, сообщая о темных сторонах биографии Константина, пытается оправдать его, как бы полемизируя с обвинителями основателя христианской империи, и все-таки спорящий с Константином образ у него - Феодосий I Великий. Осуждается Константин и последними языческими историками в V в. - Евнапием и Зосимом, зато, судя по сохранившимся фрагментам, восхваляется арианином Филосторгием - за проарианскую политику, за изгнание православного Евстафия Антиохийского и за возвращение из ссылки многих из арианских учителей, т.е. за то, что никак не могло укрепить образ совершенного православного царя.
В литературе VI в. мифологемы биографии Константина постепенно обретают свою силу. Евагрий в «Церковной истории» отрицает причастность Константина к убийству жены и сына, а говоря о крещении монарха, умалчивает об иерархе, приобщившем его к таинствам. А Феодор Чтец в основном сосредоточен на оспоривании «языческих версий» биографии Константина, не приводя, правда, новых аргументов. Родоначальник византийского жанра всемирной хроники Иоанн Малала хоть и пишет о Константине, но как-то скупо: в его объемнейшем труде утвердителю христианства, правившему четверть века, уделено ровно столько страниц, сколько, например, трем годам правления его исторического антагониста -Юлиана Отступника. Правда, в «Хронографии» Малалы впервые звучит получившая затем распространение версия о крещении Константина папой Сильвестром в самом Риме.
Даже составленная в первой половине VII в. так называемая «Пасхальная хроника» является свидетельством бытования еще критических оценок жизнедеятельности Константина, хотя и дополняет ее мифологию такими важными для дальнейшей традиции эпизодами, как знамения видения перед Мильвийской битвой на небе
20
креста с надписью «Сим победиши!». Но и для автора «Пасхальной хроники» Юстиниан I является вполне адекватной образу идеального правителя фигурой.
И лишь у Феофана Исповедника Константин предстает идеальным христианским правителем, персонажем, по сравнению с которым оценивается деятельность его последователей. Полемика с неправославными версиями биографии Константина ведется Феофаном по всем пунктам, а на живом примере утвердителя христианства формируется образ совершенного василевса24. Итак, этот образ является итогом пятисотлетнего развития христианской литературной традиции, создавшей парадигму идеального христианского императора, элиминируя из исторической памяти порочащие факты и дополняя повествование описаниями чудес и пророчеств, символов и знаковых явлений.
1 Heisenberg A. Die Byzantinistik nach dem Weltkrieg und ihre Ziele // Actes du IIIе Congres International d’fitudes Byzantines. Athenes, 1932. P. 66-72.
2 Podskalsky G. Byzantinische Reichseschatologie. Die Periodisierung der Weltgeschichte in der vier GroBreichen (Daniel 2 und 7) und dem Tausendjahrigen Friedensreiche (Apok. 20). Munchen, 1972.
3 Uber das Leben des Kaisers Konstantin / Hrsg. von F. Winkelmann. B., 1975. Цит. по: Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. М., 1998. С. 71-72.
4 Rbsch G. ONOMA BAXIAEIAX Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in Spatantiker und fruhbyzantinischer Zeit. Wien, 1978.
5 Чичуров И.С. Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографической традиции (IV - начало IX в.) // Древнейшие государства на территории СССР. 1981. М., 1983. С. 99-107.
6 Agapetus, Expositio capitum admonitoriorum // PG. Vol. 86. 1865. Col. 1184D.
7 Beck H.-G. Das byzantinische Jahrtausend. Munchen, 1978. S. 78-79.
8 Чичуров И.С. Политическая идеология средневековья: Византия и Русь. М., 1990. С. 26-27.
9 Там же. С. 30-31.
10 Бибиков М.В. Проблемы генезиса и эволюции византийской аристократии // Медиевистика и социальная работа. Нижний Новгород, 2004. С. 58.
11 Procopii Caesariensis Opera omnia / Rec. J. Haury, ad. G. Wirth. Lipsiae, 1972. Vol. 1. P. 129.26-130.16. Цит. по: Прокопий Кесарийский. История войны римлян с персами. СПб., 1876. С. 332.
12 Tinnefeld F. Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie Von Prokop bis Niketae Choniates. Munchen, 1971.
13 Nicetae Honiatae Historia / Rec. I.-A. van Dieten. Berolini; Novi Eboraci, 1975. Vol. 1; Theodoros Prodromos. Historische Gedichte I Hrsg. W. Horandner. Wien, 1974. N 6. S. 93-97. См.: Каждая А.П. Цвет в художественной системе Никиты Хони-
И Византия, южные славяне и Древняя Русь: Западная Европа. М., 1973. • 132 и след.; Бибиков М.В. Историческая литература Византии. СПб., 1998. 165-167.
14 Nicetae Choniatae Historia... Р. 252.73-76. Ср. Каждан А.П. Книга и писатель в Византии. М., 1973. С. 95-96.
21
15 Liudprandi Antapodosis. VI, 6 // Liudprandi episcopi Cremonensis Opera omnia I Rec. I. Bekker. Hannoverae; Lipsiae, 1915.
16 Constantin VII Porphyrogenete. Le Livre des ceremonies. T. 1-2. P., 1935-1939.
17 Oikonomides N, Les listes de preseance byzantines des IXе et Xе sifccles. P., 1972.
18 Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos’ V. / Hrsg. von L. Burgmann. Frankfurt a. M., 1983. S. 226-242.
19 Божков А. Миниатюр и от Мадридским ръкопис на Иоан Скилица. София, 1972. С. ИЗ, ил. 67.
20 Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000 (Grabar А. L’empereur dans 1’art byzantin. P., 1936); Spatharakis I. The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts. Leiden, 1976.
21 Efe A. Hagia Sophia. Istanbul, 1987. P. 52.
22 Eusebius’ History of the Church / Rev. by A. Louth. Harmondsworth, 1989.
23 Евтропий. Бревиарий от основания города. СПб., 2001. С. 73, 127.
24 Чичуров И.С. Место «Хронографии»... С. 93 и след.; Бибиков М.В. Первый христианский император // Власов С. Константин Великий. М., 2001. С. 5-11.
М.Т. Фёген
«ARMIS ЕТ LEGIBGS GOBERNARE»
О КОДИРОВКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В ВИЗАНТИИ
Власть как универсалия общественного бытия
Тема нашего сборника - «Образы власти». О какой власти идет речь? Название легко перевернуть, так что получится «власть образов», как у Пауля Цанкера1, Лени Рифеншталь2 и других авторов3. Стоит же нам сказать «власть любви», как мы в то же мгновение скатимся в мир дешевых романов. На территорию историографии мы вступим вместе с «властью государей», в область экономики -с «властью денег», религии - с «божественной властью». У каждой вещи и каждого места, по-видимому, своя власть, у каждого времени - своя.
Во всяком случае трудно представить себе общество без какой бы то ни было власти вообще. При этом все равно, идет ли речь о так называемых «примитивных» или же о высокоразвитых обществах. «Власть есть жизненная универсалия общественного бытия»4. Почему это так, можно объяснить примерно следующим образом: где бы ни сошлись двое, где бы ни возникло между людьми общение, везде возникают взаимные ожидания: примет ли другой предложение общаться или отвергнет его. Ведь на всех языках можно сказать «да» и «нет», выстраивая таким образом двойной взгляд на мир -в его «позитивном» варианте или же в «негативном». И вследствие этого возникает смесь возможных коммуникативных актов, возможных комбинаций и возможного отбора в речах и поступках, тем более колоссальная, чем шире общество и чем многочисленнее в нем темы для общения. В принципе, всегда можно сказать нечто одно - и нечто совершенно противоположное; в принципе, можно Всегда поступить так - и совсем по-другому. В этих сложных ситуациях (чтобы не сказать: в этом хаосе) власть придает коммуникативным процессам модальность, стараясь исключить определенные, всегда возможные альтернативы в словах и поступках. Когда ей это Удается, она тем самым и проявляет себя как власть; когда ей это не Удается, она проявляет свое бессилие. Власть обладает, следователь
23
но, возможностью и функцией чему-то препятствовать, отвергать определенные модели поведения, ограничивать альтернативы и сводить их, в идеале, к одной-единственной возможности. «Власть любви» препятствует тому, чтобы один из партнеров эгоистично заботился о своем благополучии, своей карьере, своих деньгах. Когда ей это не удается, как раз и приходит конец как любви, так и ее власти. «Власть денег» исключает бескорыстие, неподкупность и альтруизм. Там, где они все же встречаются, песенка «власти денег» спета. «Божественная власть» не дозволяет, чтобы человек единолично правил собой и миром. И если человек намеревается достичь такого господства, то ни Бог, ни Его власть ничего более не стоят.
Но в противоположность власти образов, любви, денег или Бога существует одна власть, обладающая специфическим средством ограничения альтернатив, а именно физическим принуждением через побои, пытки, умерщвление, отнятие денег, имущества, семьи или свободы. Эту власть, для которой и характерны названные способы принуждения, в нашей западной традиции мы обыкновенно приписываем в первую очередь государству и политическим властителям.
«Amis et legibus gubernare»
Если задаться вопросом о текстуальных и визуальных образах такой власти, то, казалось бы, следует ожидать, что она будет отличаться от всех других видов власти своими differentia specifica, т.е. как раз своим потенциалом насилия. Неприкрытое насилие, однако, редко встречается в изображениях и текстах, связанных с властью. Власть в самоописаниях избегает указаний на характерное для нее принуждение силой - или, по крайней мере, облекает его в символическую форму. Что же касается внешних, сторонних описаний власти, то в них эта сторона обыкновенно скорее прославляется, нежели критикуется, что само по себе является результатом существования власти. Как же тогда можно распознать - без petitio principii, что мы имеем дело с политической властью, обладающей возможностями для совершения насилия, если в ее образах как раз этот элемент принуждения, единственный, казалось бы, отделяющий эту власть от других ее видов, начисто отсутствует? Но существует еще одна возможность удостовериться в том, что речь идет именно о политической власти. Эта власть использует и «вторичную кодировку» в виде права - далее мы увидим, как она это делает, когда и где5. Иными словами, политическая власть обыкновенно выражает себя не только через свою мощь в смысле физической силы, но также и через различение правомерного и противоправного характера силы и
24
се использования. Это и есть та кодировка, которую мы тщетно стали бы разыскивать у власти любви, денег, образов или Бога.
Конечно, на первый взгляд, объединить власть и право удалось только в правовом государстве, в котором власть и право стали взаимозаменяемы, поскольку власть основывается на праве и наделяет право властью6. Однако сродство власти и права в западной истории существенно старше. Лучше и нагляднее всего двойная кодировка власти представлена в знаменитых словах Юстиниана7, что он будет править armis et legibus - оружием (т.е. силой) и законами (т.е. правом)8. Сила и закон будут применяться, однако, не одновременно и не равноправно, но, как добавляется тут же, оружие правит в случае войны, а законы - в мирное время9. То, что насилие и в мирное время относится к распространенным средствам правления и обычному осуществлению власти (как при подавлении восстания «Ника» в 532 г., стоившего жизни более 30000 человек10), признается с этих пор только критиками власти. Например, Прокопий сообщает о Юстиниане следующее: «С кротким выражением лица, опущенными долу глазами, тихим голосом он обрекал на смерть бесчисленное множество невинных людей, распоряжался уничтожать целые города и проводить общую конфискацию»11. Так можно было говорить только для «тайной» истории - применительно к официальной истории действовало правило: о насилии не говорят, его осуществляют.
Говорили зато о праве. То, как именно политическая власть должна осуществляться - через право или в форме права, было темой, занимавшей византийцев на протяжении всего отпущенного им тысячелетия. Ключевыми словами здесь были ennomos epistasfa -законное или, возможно, лучше перевести, легитимное господство. Что это означало в деталях, раскрывается уже в краткой формуле legibus gubemare. Ведь она могла означать «управлять судьбами общества посредством законотворчества - через указания и запреты», но ее можно было понять и как «управлять законно», «в согласии с законом». Вопрос о положении императора по отношению к закону - стоит ли он выше закона или же подчиняется ему, связан ли он законом или не связан - в Византии постоянно оказывался в Центре дискуссий12. При этом обсуждалась вторичная кодировка власти - законодательство, первичная же ее кодировка - насилие -°тходила на задний план. Можно сказать, что принуждение и насилие исчезли из поля зрения под влиянием разговоров о законности и что тема власти сузилась до вопроса, насколько правитель связан Зак°нами или же свободен от них.
25
Власть в самоописаниях императоров
Сосредоточение власти на законе (сопровождаемое успешным отвлечением внимания от факторов принуждения и насилия) особенно отчетливо проявляется тогда, когда император сам приступает к законодательству. Преамбулы к законам - идеальное место для рассуждений о происхождении власти, ее пределах и правильности ее применения. Так, Юстиниан I создает во введении к своим «Новеллам» образ вездесущего, всезнающего и во всем разбирающегося государя, который столь же деятельно занимается управлением империей, как и делами истинной веры, морали и нравственности, регулированием гражданского и уголовного права13. Он без устали указывает путь, каким следует идти, и решительно препятствует, угрожая физическими расправами и лишением имущества, тому, чтобы подданные расторгали браки, как им заблагорассудится, передавали свое состояние по наследству еретикам, чтобы чиновники требовали чрезмерных налогов, судьи брали взятки, отцы продавали детей, церкви отчуждали свое имущество... Это стремление Юстиниана legibus gubemare осталось непревзойденным по интенсивности, широте и концентрированности. «Правление по законам» осуществлялось, само собой разумеется, в согласии с Богом, уже хотя бы потому, что император подражает Богу, но также исходя и из его собственных полномочий: «императорская власть не нуждается в какой-либо дополнительной легитимации»14. Когда же в игру вступает Бог, он появляется рядом с императором и законом в качестве равноправного партнера по осуществлению власти. Так, например, Юстиниан наставляет квестора, что исполнять службу следует, ни на миг не забывая о «Боге, страхе перед нами и законе»^.
Если же заглянуть в более поздние византийские своды законов и их преамбулы, бросится в глаза изменение положения императора по отношению к Царю Царей - Богу. Если Юстиниан приказывал, распоряжался, предписывал так, как казалось правильным ему самому, то впоследствии императоры стали заверять, что сами они не приказывают, не распоряжаются, не предписывают, а лишь способствуют утверждению божественных соизволений. Император становится пастырем, которому Бог повелел «пасти стадо верующих»16. Для этого Бог сам дал ему «в помощь закон»17, и «справедливость Бог даровал людям тоже посредством законов»18 - дело императора состоит в изложении и толковании законов, но отнюдь не в их изобретении. Лучше всего это положение императора, служащего закону, но не творящего его, отразилось в предисловии к Исагоге19 -уложению, датируемому временем между 879 и 886 гг. и составленному, как небезосновательно предполагается, не императором (Василием I) или его канцелярией, а Фотием, тогдашним константинопольским патриархом.
26
в преамбуле Исагоги после богословского обоснования «природной монархии», «тринитарной власти» и единства в трех лицах возвещается «восстановление хорошего и мирополагающего закона»20- Отношения императора, закона и Бога описываются затем следующим образом21: Бог «дал закон», «даровал» его людям и связал «миропорядок законом». Подданные должны принять закон таким, «как он был создан Богом, продиктован свыше: не таким, как он написан перстом Божьим на каменных скрижалях, а таким, как он выжжен языками пламени в их душах». Закон, похоже, оказывается идентичным с Богом. О том, чтобы земной властитель мог legibus gubemare, чтобы править посредством закона на земле, речи не идет. Закон правит сам - точно так же, как и Бог, - «самовластно и всевластно» (autokratorikos te kai pantokratorikos)22. Император же отвечает за поддержание «власти и неограниченного господства» закона, в котором он сам нуждается: ведь императору нет жизни и счастья без «закона как соратника и вождя»23.
Ни до, ни после власть императора править путем издания законов не представала столь мизерной, почти ничтожной. Лишь одно маленькое указание во вступлении к Исагоге напоминает еще о том, что император все же имеет какое-то отношение к законотворчеству: «Закон - это император», - говорится там; из-за чего власть императора деперсонифицируется и растворяется в законе, данном Богом. Однако затем следует продолжение: «Закон - это император, и он исстари исходит от императоров, но не от любых», а лишь от правильно верующих. Помимо этой краткой оговорки, более нет ни намека на то, что власть императора является источником законов и находит выражение в законотворчестве. Это означает, что почти полностью исчезла не только первичная кодировка власти через насилие, но и вторичная - через право и закон. Остается одна только политическая власть, сама никакой властью не обладающая, а лишь служащая другой власти - власти Бога и его закона. Остается и закон, правящий автономно и потому в императоре не нуждающийся. Императору остается только повелевать (keleuomen), чтобы закон Делал то, что он и так делает, а именно «правил» (kratein) «самовластно и всевластно». Преамбула к Исагоге препоручает вторичную кодировку власти, «правление законами» - legibus gubernare, -(обратно) Богу, не оставляя тем самым места императорской вла-стн- В образе власти, рисуемой этой преамбулой, император не присутствует ни через насилие, ни через право. Этот образ создан Ботом, и Бог господствует в нем.
27
Организованная власть
Итак, можно было бы предположить, что византийская власть, описывая себя саму, отказалась в пользу Бога от обеих кодировок политического господства - насилия и права. Это означало бы, что спецификация политической власти, разработанная уже в поздней античности и завершенная Юстинианом, вновь растворялась в туманной идее Бога, отчего «образ власти» становился бы неясным -настолько неясным и непознаваемым, насколько неясен и непознаваем только сам Бог. Все же прежде чем говорить о полной передаче политической властью себя в руки Богу, стоит рассмотреть первые титулы Исагоги.
Титул 1 относится к числу текстов, обязательных к прочтению по теме «Право и справедливость»; он содержит старые, т.е. заимствованные из Дигест, истины, как, например: «Справедливость означает постоянную и упорную волю к тому, чтобы каждый получал ему причитающееся»24. Уложение начинается, таким образом, во имя права и справедливости. При этом первый титул выполняет в сущности функцию преамбулы. Эта «программа программ», т.е. отдельных норм свода законов, гласит: править должны право, закон и справедливость! Устройство государства излагается далее в соответствии с этой посылкой.
Заголовок второго титула звучит «Об императоре». В 12 главах даются определения самого императора (Ис. 2, 1: Basileus estin ennomos epistasia ...) и его задач (Ис. 2, 2: Skopos to basilei...), а также требования к его правоверности (Ис. 2,5), условия правильного применения и толкования законов (Ис. 2, 6-12). Лишь эти последние главы о применении законов взяты из старого права, а именно из Дигест. Напротив, дефиниции императора и его задач в первых пяти главах сформулированы в Исагоге впервые.
Следующий, третий титул «О патриархе» содержит в своих 11 главах почти точное отражение титула 2 - определения патриарха и его задач, в особенности миссии надзирать за душами, долга обращать еретиков и неверующих, а также права на вероучительные суждения. Все эти главы «новые» и в таком виде были впервые сформулированы в Исагоге. Например, прекрасное определение из Ис. 3, 8: «Государство (politeia) составлено, подобно человеку, из частей и членов. Самыми выдающимися и самыми необходимыми частями являются император и патриарх. Поэтому мир душевный и телесный, как и счастье подданных, являются делом императорской власти, а их единодушие и согласие - делом священства».
Второй и третий титулы Исагоги уникальны для византийских юридических сборников и вообще всего византийского законодательства. Столь четкого распределения полномочий между императором и патриархом, между властями светской и духовной не
28
встречается ни до ни после. Соответственно и в литературе было сделано много попыток объяснить этот феномен. Ставился вопрос, не могло ли в конце IX в. в Византию просочиться западное учение о двух мечах или, по меньшей мере, о различии между светскими и священническими должностями25. Некоторые предполагают, что резкое разграничение полномочий вызвано в конечном счете сугубо личным соперничеством в борьбе за власть между патриархом (Фотием) и императором (Василием I), в ходе которого патриарху удалось укрепить свои позиции и даже поставить себя выше императора26. Но возможно, что причина для первого письменного фиксирования компетенций императора и патриарха лежит не столько в соперничестве из-за власти между носителями обоих высших санов, сколько во внутрицерковных спорах, и Фотий хотел обеспечить главенство константинопольского патриархата над всеми другими пат-риархатами с помощью прав, даруемых ему в третьем титуле27. Какие бы мотивы в отдельности ни вызвали определение компетенций императора и патриарха28, единодушно признается, что титулы 2 и 3 Исагоги надо в любом случае рассматривать как попытку «описать юридическими средствами позиции, важные для “государства’* и “церкви” того времени», что «было все же своего рода сенсацией», так как патриарх Фотий тем самым предпринял ни больше ни меньше как попытку путем реформы права «добиться изменения этоса государя»29.
Насколько точно выверено в Исагоге положение о подчинении
власти праву, настолько же эта «своего рода сенсация» скрывает, что рядом с ней незаметно идет процесс структурирования власти. Титулы 2 и 3 Исагоги содержат in писе «органиграмму» политической (т.е. светской и церковной) власти. Такого образа власти, который раскрывался бы в определении носителей власти и указании их функций, не было еще до сих пор, не будет и в дальнейшем. Власть, которая в преамбуле приписывалась исключительно Богу, во втором и третьем титулах сводилась к сугубо земной организации. Из
«организма» государства, каким он наглядно представлен в Исагоге (3, 8), выводится его «организация», т.е. устанавливается порядок Целого (politeia) в отношении к его частям - прежде всего императору и патриарху30.
То, что в Исагоге мы действительно имеем дело с попыткой не только заставить власть принять правовую форму, но и описать ее в организационном плане, показывают дальнейшие титулы. Титулы с 4 по 6 посвящены эпарху (градоправителю), квестору и магистратам; титулы с 7 по 9 (опять же почти полностью повторяющие светское устройство) - епископам, пресвитерам, дьяконам, а также низ-^Им клирикам и монахам. Что касается представителей светской вПасти - эпарха, квестора и чиновников, то определения их полно-м°иий, прав и обязанностей взяты с небольшими изменениями из
29
Кодекса Юстиниана31. Это означает, вероятно, что в распоряжении авторов не имелось никакого другого «образца» того, как должно быть организовано государство. Последнее, впрочем, ничего не меняет в том, что Исагога осталась первым и последним византийским правовым кодексом, в котором во главу угла оказалась поставлена организация «государственного насилия», включая определение компетенций, бюрократических процедур и границ полномочий. Вот некоторые примеры:
«Городской эпарх ссылает (преступников), причем император определяет остров» (Ис. 4, 3; Д. 1.12.1.3).
«У городского эпарха самая большая после императора власть в городе. Но когда он покидает пределы города, у него нет иной власти, кроме как приказывать и судить» (Ис. 4, 11; Д. 1.12.332).
«У квестора есть власть проверять всех, кто останавливается в большом городе: равно мужчин, женщин, клириков, монахов, монахинь или стряпчих из других городов - из какой бы области они ни приехали и какого бы состояния и достоинства они ни были, и при этом исследовать, кто они, откуда прибыли и под каким предлогом...» (Ис. 5, Г, Нов. 80.1.1).
«Квестору мы предоставляем полномочия принуждать чиновников обращаться к нам или же самим принимать все необходимые меры, чтобы он не оправдывался недостаточностью власти или еще чем-нибудь с целью представиться менее значительным, чем он есть по нашему представлению» (Ис. 5, 9; Нов. 80.9).
«У губернатора провинции есть власть только в его провинции; вне ее границ он является частным лицом» (Ис. 6, 2; ср. Д. 1.18.3).
«Чиновник должен бросать в темницу сумасшедших, если они не находятся под надзором родственников, или заключать их в оковы. Если же они совершают убийства, чиновник должен расследовать, не притворяются ли они сумасшедшими... Он должен также расследовать, не проявили ли беспечности их надзиратели. Ведь они (сумасшедшие) охраняются не только для того, чтобы они не навредили самим себе, но и для того, чтобы не навредили другим» (Ис. 6, 9; ср. Д. 1.18.13, 14).
Образ политической власти, отсутствовавший в преамбуле Исагоги, оказывается весьма весомо представлен в первых титулах этого кодекса. Если во введении вся власть передается Богу, то в основном тексте закона сразу же обнаруживаются кодировки земной власти. Здесь говорится совершенно так же, как у Юстиниана: ennomos epistasia - господство посредством права. Здесь же обнаруживается и первичная кодировка власти как осуществления насилия через изгнание, штрафы, заключение под стражу, контроль — так же как в законе Юстиниана. Что отличает Исагогу, так это перевод этой законной власти в структуру, предполагающую должности, компетенции, иерархии. Не только борьба за власть (мнимая или
30
подлинная) между императором и патриархом и не только «узаконивание» власти императора кажутся мне уникальными и яркими в Исагоге, но как раз эта попытка заново специфицировать путем структурирования под эгидой права и закона тот расплывчатый, нерасчлененный, переписанный в пользу Бога образ власти, каким его изображает Пролог.
Власть как «жизненная универсалия общественного бытия» представляется в Исагоге (и только в ней) в качестве некоей структуры. Вернемся к нашему исходному тезису - власть существует для того, чтобы создать жесткий порядок предпочтений в действиях и перекрыть пути другим бесчисленным возможностям. Если эта власть переводится в организацию, она оказывается разделенной и распыленной, управляемой, бюрократизированной, прирученной и видоизмененной. Приоритет императорской власти постулируется при каждом удобном случае, но квестор действует по своему собственному усмотрению, эпарх в силу своей должности ссылает преступников, чиновник бросает сумасшедших в тюрьму. Если все это последовательно продумать до логического конца, выходит, что когда власть наделена организацией, то это организация обладает властью. Требование Юстиниана (Нов. 80.9), вошедшее в Исагогу (5, 9), что квестор не должен представлять себя слабее и незначительнее, чем он есть и должен быть в глазах императора, ясно это выражает. Делегирование власти неизбежно должно приводить к самовластью.
Абсолютная власть
«Вся власть организациям!» - до этого в Византии дело не дошло. Напротив, попытка представить власть как структуру, основанную на праве и справедливости, выразившаяся в Исагоге, была, очевидно, совершенно несвоевременна. Титулы 1-6 Исагоги не вошли в последующие своды законов и уложения - ни в Прохирон с его производными, ни в Василики с их производными, ни в Шестикнижие с его производными. Фрагменты этих разделов Исагоги, правда, всплывают то и дело в правовых рукописях: частично для заполнения пробелов, частично как разрозненные схолии к правовым сборникам, порой склеенные с другими фрагментами на сходные темы33.
До новой попытки представить политическую власть в форме стирающейся на закон организации дело так и не дошло. Вместо этого преобладают такие описания власти, которые не основываются на организации, не возвращаются к armis et legibus, но опираются На подражание Богу и его добродетелям, на мудрость, милость и справедливость, как, например, в новеллах следующего императора Ьва VI. «Зерцала государей» разъясняли императорам, в чем состо-
31
ит добродетель и к чему следует стремиться. На земном уровне эта неспецифицированная власть поддерживалась рангами в придворной иерархии, церемониалом, порядком рассаживания за императорским столом. Книги церемоний и списки сановников рисуют образ власти свободной как от первичной кодировки - насилия, так и от кодировки вторичной - права, - не знающей никакой другой «организации», кроме иерархии - иерархии, восходящей от самого мелкого служащего до самой вершины пирамиды, к императору, еще выше которого царит - в слове и образе - Власть над всякой властью - Бог.
Чтобы ответить на вопрос, почему же главы Исагоги, посвященные организации власти, оказались несвоевременны, почему для осуществления разделения функций и полномочий власти на практике было так мало шансов, почему вместо этого власть (вновь) стала являть себя в качестве неразделенной, неструктурированной и недифференцированной, мы должны возвратиться к описанию власти, которое было дано в самом начале. Если власть состоит в том, чтобы придавать модальность коммуникативным процессам, ограничивая богатство альтернатив, то выстраивание власти возможно и нужно вообще лишь там, где имеется это богатство альтернатив. Там же, где альтернативные, девиантные или оригинальные формы жизни, решения и поступки, напротив, вообще не принимаются в расчет или же быстро дискредитируются, причем не на основании власти или права, а по моральным и религиозным соображениям, там власть не встречает сопротивления подданных, в котором она нуждается, чтобы вообще выстроить и проявить себя как власть. Общество, в котором мало инакомыслия и потому мало конфликтов, не предоставляет власти много шансов. В таких обстоятельствах власть может выражать себя как неспецифическая и неразгра-ниченная, т.е. как абсолютная. У такой абсолютной власти мало власти, так как «ей не предоставляется ситуаций выбора, в которые она могла бы вмешаться»34. «Ситуации выбора» у византийцев из-за их православия, культурной изоляции и ромейского самосознания были, похоже, весьма немногочисленны. Власть Бога, выражаемая через религию и ее структуры, которые, вероятно, весьма строго определяли повседневную жизнь, власть традиций, упорно и с успехом защищаемых от варварских альтернатив, и власть форсированного осознания византийцами себя как истинных римлян, неуклонно отвергавших чужой образ жизни и мышления, сильно ограничивали свободу действий, уменьшали шансы варьирования, снижали потенциал конфликтов и вместе со всем этим сужали ситуации выбора. Поэтому политическая власть и могла спокойно оставаться абсолютной и, следовательно, слабой властью, а для той власти в форме организации, с которой экспериментировала Исагога, не находилось места, как не было в ней и потребности.
32
1 Zanker P. Augustus und die Macht der Bilder. Munchen, 1990.
2 Die Macht der Bilder - Leni Riefenstahl (название видеокассеты и DVD).
3 Например: Jertz W. Krieg der Worte - Macht der Bilder. Manipulation oder Wahrheit im Kosovo-Konflikt. Bonn, 2001; Macht und Ohnmacht der Bilder I Hrsg. von p. Blickle. Munchen, 2002; Bilder der Macht, Macht der Bilder. Zeitgeschichte in Darstellungen des 19. Jahrhunderts I Hrsg. von S. Germer, M.F. Zimmermann. Miinchen, 1997, и др.
4 Luhmann N. Macht. Stuttgart, 1975. S. 90. Ср.: Луман H. Власть I Пер. с нем. д. Антоновского M., 2001. (Предварительное знакомство с этой книгой весьма способствует адекватному восприятию терминологии и общей логики статьи М.Т. Фёген. - примеч. ред.)
5 Ср.: Luhmann N. Op. cit. S. 34-35; 48^49.
6 Об этом см. Ibid. S. 49 («Норма кода правового государства предполагает, что право является необходимым и - что во всяком случае не менее важно - достаточным основанием для осуществления государственной власти»).
7 Ср. вводную конституцию «Imperatoriam», рг., к Институциям Юстиниана, а также вводную конституцию «Summa», рг., к его Кодексу.
8 Об этой формуле и ее судьбе см. также: Simon D. Legislation as Both a World Order and a Legal Order // Law and Society in Byzantium, Ninth-Twelfth Centuries I Ed. A.E. Laiou, D. Simon. Washington D.C., 1992. P. 1-25.
9 «...ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari» (Const. Imperatoriam, pr.).
10 Выразительно изображено и проанализировано в книге: Meier М. Die Inszenierung einer Katastrophe: Justinian und der Nika-Aufstand Ц Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik. 2003. Bd. 142. S. 273-300.
11 Прокопий Кесарийский. Тайная история, 13.
12 Обширный материал см.: Simon D. Princeps legibus solutus. Die Stellung des byzantinischen Kaisers zum Gesetz // Gedachtnisschrift fur Wolfgang Kunkel I Hrsg. von D. Norr, D. Simon. Frankfurt a.M., 1984. S. 449^492.
13 Cp. Fogen M.Th. Gesetz und Gesetzgebung in Byzanz // lus Commune. 1987. Bd. 14. S. 137-158, здесь S. 140-148.
14 Aerts WJ., Bochove Th.E. van, Harder MA. et al. The Prooimion of the Eisagoge: Translation and Commentary I I Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law. Vol. 7. Groningen, 2001. P. 91 и далее; 105 (комментарий к строке 5 и далее).
15 «...aphoronta pros theon kai to hemeteron deos kai ton nomon ...» (Нов. 80.1.1).
16 Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos’ V. [a. 741] I Ed. L. Burgmann. Frankfurt a.M., 1983. Prooimion.
17 Ibid.
18 Prochiron, a.907. Prooimion / Ed. A. Schminck. Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbtichem. Frankfurt a.M., 1986. S. 56 и далее.
19 Ibid. S. 1 и далее. См. переиздание с новым (английским) переводом и комментарием: Aerts WJ., Bochove Th.E. van, Harder MA. et al. Op. cit. P. 96 и далее.
20 «Восстановление» направлено против свода законов Исавра (Эклога 741 г.), который значительно отклонился от Юстиниановой кодификации.
21 О древнегреческих источниках этого описания см.: Schminck А. Арб ton, nomo’ ston, nomo’ // Symbols sten ёгеипа tou archaiou ellenikou kai ellenistikod dikafou. 1994. S. 61-72.
22 Об этом метко сказано в работе: Simon D. Legislation... («The nomos is not used for ruling, rather it rules itself like an emperor», Ibid. P. 18). Можно было бы прибавить: «it rules itself like God».
3 Образы власти.
33
23 «...dneu toil symmachountos kai strategountos потоп». Ср. расходящиеся переводы: «...без закона, стоящего рядом в бою и отдающего повеления» (Schminck A. Op. cit.) и «...without the law as one’s ally and commander-in-chief» (Aerts WJ., Bochove Th.E. van, Harder MA. etal. Op. cit.), которые, по моему мнению, справедливо подчеркивают военные коннотации подобранных здесь слов.
24 Ис. 1.4; Д.1.1.10 рг.
25 См., например: Fogen M.Th. Reanimation of Roman Law in the Ninth Century: Remarks on Reasons and Results // Byzantium in the Ninth Century: Dead or Alive? I Ed. L. Brubaker. Aidershot, 1998. P. 11-22.
26 См., в частности: Schminck A. «Rota tu volubilis». Kaisermacht und Patriarchenmacht in Mosaiken Ц Cupido legum I Hrsg. von L. Burgmann, M.Th. Fogen, A. Schminck. Frankfurt a.M., 1985. S. 211-234.
27 Так в работе: Troianos Sp. Ho Megas Phdtios kai hoi diataxeis tes Eisagoges // Ekklesia kai Tbeologia (1989-1991). S. 489-504, здесь S. 497 и далее.
28 Резюме обсуждения теперь в работе: Aerts WJ., Bochove Th.E. van, Harder MA. et al. Op. cit. P. 137 и далее.
29 Simon D. Princeps... S. 470-471.
30 О понятии «организация» см.: Luhmann N. Historisches Worterbuch der Philosophic. Basel, 1984. Bd. 6. Sp. 1326-1328.
31 Для градоправителя из Д.1.12; для квестора - Новеллы Юстиниана. 80; для чиновников - Д. 1.18.
32 Первого предложения из Ис. 4.11 нет в Дигестах (а также нет в Васили-ках, В.6.4.4); оно добавлено, по-видимому, в опоре на Ис. 6.3 / Д. 1.18.4 («У губернатора провинции самая большая после императора власть в его провинции»).
33 Перечень см. в указателе издания: Repertorium der Handschriften des byzan-tinischen Rechts / Hrsg. von L. Burgmann, M.Th. Fogen et al. Frankfurt a.M., 1995. Teil 1.
34 Luhmann N. Macht. S. 30.
Тексты
И.Н. Данилевский ДИСКУРС ВЛАСТИ В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
Начиная с работ А.А. Шахматова древнерусские летописи традиционно (для российской историографии) рассматриваются как произведения, вышедшие из «политической канцелярии князя» и создававшиеся едва ли не при его непосредственном участии. В связи с этим сами летописные описания воспринимаются большинством российских историков как собственно презентация власти. Между тем работы последних лет позволяют серьезно усомниться в том, что начальное русское летописание создавалось под непосредственным контролем князя или его ближайшего окружения. Мало того, есть все основания полагать, что летописец и монастырь, в котором он работал, достаточно часто оказывались в оппозиции светским властям. В связи с этим встает вопрос об отношении летописца к княжеской власти, в частности к тому, какими средствами он ее легитимирует либо, наоборот, дискредитирует.
Еще в XIX в. М.П. Погодин, опираясь на летописные тексты, пытался понять роль князя как представителя верховной власти «математическим методом». Для этого он выбрал из летописи «все означающие то места». Собранные цитаты он распределил «по описанным в них случаям». Ему удалось установить, что князь владел племенами (3 случая), брал дань с них (10 случаев) и с Новгорода (1), «раздавал грады» (2), сажал в них «мужей своих» (2), строил крепости (2), собирал войско (2), начинал войну (не менее 1 упоминания), посылал послов (не менее 1 упоминания), заключал мир (2), сносился с другими владельцами, давал законы (2), управлял (1), судил и наказывал (2), «распоряжал» доходами (1), повелевал своими единоплеменниками (I)1. Кроме того, буквальное понимание летописных известий позволило сделать вывод, что власть князя передавалась по наследству (1 известие); при этом право наследства переходило от одного княжеского сына к другому по старшинству (1), хоть все они имели на нее право (2)2. В последующие десятилетия представления 0 княжеской власти на Руси базировались приблизительно на тех же Методологических основаниях. Правда, помимо прямых упомина-ии, число которых в сохранившихся исторических источниках весь
37
ма ограничено, историки довольно часто упоминали косвенные данные, нуждавшиеся в довольно изощренном истолковании. При этом, однако, полученные результаты носили сугубо гипотетический характер и практически не поддавались верификации.
Лишь в последнее время российские исследователи (не без влияния работ М. Блока, Э. Канторовича и др.) обратились к изучению того, что называют «поэтикой» или «дискурсом» власти, - ее базовых идеологем и форм их манифестации. Пока такой подход развивается в основном в рамках культурологии и литературоведения.
Так, М.П. Одесский обратил внимание на то, что княжеская власть в Древней Руси основывалась на модели «Государь - совершенный человек», которая, в свою очередь, опиралась на функциональное уподобление правителя Богу: по власти, по праву судить и решать. Тем самым князю, как считает исследователь, придавался «сверхчеловеческий статус». Этот статус обусловливался единственной причиной: принадлежностью к роду Рюриковичей. Прекращение действия этой модели М.П. Одесский связывает с монгольским нашествием3.
Остается, однако, неясным, с помощью каких средств летописец выражал свое отношение к княжеской власти и тем самым создавал, формировал ее образ у своих читателей. Обращение к библейским параллелям, на которых строится практически весь текст Повести временных лет, позволяет, на мой взгляд, хотя бы отчасти ответить на этот вопрос.
Прежде всего, летописец время от времени прямо идентифицирует того или иного князя (или - гораздо реже - княгиню) с библейскими правителями (Владимир Святославич, например, «бе бо жено-любець, якоже и Соломанъ»4; или о визите княгини Ольги в Константинополь: «се же бысть, яко же при Соломане приде царица Ефиопьская к Соломану»5; или о Святополке Окаянном: «сеи же Святополкъ, новый Авимелехъ, иже ся бе родилъ от прелюбодеянья, иже изби братью свою, сыны Гедеоны; тако и сь бысть»6). Такие сопоставления, несомненно, придавали правителю вполне определенный - позитивный или негативный - статус.
Однако подобных прямых отождествлений в Повести чрезвычайно мало. К тому же они зачастую не столь «прозрачны», как может показаться на первый взгляд.
Так, скажем, отождествление Ольги с «Эфиопской» царицей7 не просто проводит аналогию: киевская княгиня - царица Савская. Эта идентификация завершает летописный рассказ о том, как Ольга «переклюкала» византийского императора. По мнению Д.С. Лихачева, он построен на двух составляющих: церковной основе, повествующей о крещении Ольги, а также включающей благочестивые рассуждения на этот счет, и дополнивших ее впоследствии
38
светских, анекдотических элементах, фольклорных по происхождению8. Самое неожиданное, однако, состоит в том, что как раз те фрагменты, которые, как казалось Д.С. Лихачеву, должны быть «диаметрально противоположными по духу этой церковной основе», оказываются переложением библейского рассказа о приезде царицы Савской к Соломону. Сравним библейский и летописный тексты.
В Третьей книге Царств повествуется о том, как царица Савская, услышав о «славе Соломона во имя Господа» и его мудрости, «пришла испытать его загадками». Она приехала в Иерусалим «с весьма большим богатством». В беседе царица убедилась в мудрости Соломона, который «объяснил ей (...) все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей». Пораженная царица дарит Соломону золото, благовония и драгоценные камни, которые привезла с собой, и заявляет ему: «Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала». Затем следует перечень того, что Соломон ежегодно получал в дар от соседних правителей, в том числе «сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов»9.
Этот рассказ о визите царицы Савской в Иерусалим отдаленно напоминает летописную статью о поездке Ольги в Константинополь. Ольга, как и царица Савская, отправляется в Константинополь, чтобы испытать правителя Византии (как Соломона) загадками. Однако константинопольский император, в отличие от легендарного правителя Иерусалима, оказывается не в состоянии объяснить приехавшей «царице» (да и себе самому) ее вопросы. Не разгадав истинный смысл предложений Ольги, он вынужден против своей воли выполнить все ее желания и признать ее мудрость («пе-реклюкала мя еси»). В результате византийский император и древнерусская княгиня меняются «ролями». Теперь он, пораженный мудростью Ольги (как царица Савская, пораженная ответами Соломона), одаривает ее золотом, серебром, дорогими тканями и различными сосудами - всем тем, что Соломон получал ежегодно в дар от соседних правителей10.
Конечно, такое сопоставление могло бы показаться несколько натянутым. Но в данном случае мы как раз имеем редкое - и тем более ценное - прямое подтверждение своих наблюдений. Завершив Рассказ о поездке Ольги, летописец уточняет: «Се же бысть, яко же 11 при Соломане приде царица Ефиопьская к Сол Оману..., тако же к си блаженная Ольга искаше доброе мудрости Божьи...»11.
Так, прямое сопоставление княгини Ольги с «царицей Ефиоп-скои», собственно, и позволяет отыскать в, судя по всему, фольклорном по происхождению рассказе скрытый библейский мотив.
Его травестированный вариант вполне соответствует смыслу ророчества из Евангелия от Матфея: «Царица южная восстанет на
39
суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона»12. Кстати, именно к этому стиху отсылается читатель и в Хронике Георгия Амартола: «о ней же Господь глагола: “цесарица Ужска приде от конець земли, да видить премудрость Соломоню”»13.
Повторю еще раз: подобная интерпретация летописного текста могла бы выглядеть спорной, если бы летописец на «закрепил» ее прямым указанием на тождество Ольги и царицы Савской. Так «фольклорные» сюжеты в летописи оказывались наполненными вполне христианским содержанием.
Идентификация Ольги не просто с царицей Савской, но с «эфиопской царицей», заслуживает особого внимания. Во-первых, следует отметить, что в апокрифической литературе, в частности в Откровении Мефодия Патарского, с Эфиопией отождествляется... Византия14. Во-вторых, такое отождествление связано, видимо, с тем, что мать Александра Македонского Хусифа (в славянских переводах этого апокрифа добавлялось: «она же Олимпиада») считалась эфиопской царицей. После смерти Александра она якобы вернулась в Эфиопию и там получила письмо от мифического греческого царя Виза, строителя Царьграда (Виза), который писал, «что возьмет ее себе в жены и царствовать [будет с ней]». Отец Хусифы, царь Фол, «вместе с сорока тысячами именитых мужей Эфиопских, а также с дочерью своей Хусифой направился в Византий. И встречен был царем Визом посреди моря в Халкидоне с большой радостью. И дал ему Виз дары многие. И вошел Фол в Византий, и оказал почести великие, и преподнес многие дары по обычаю царского великодушия. И взял царь в жены дочь Фола, царя Эфиопского, и от нее родилась ему дочь, которую [он] нарек по имени города своего: Византия». Рассказ этот завершается фразой: «Так воцарилось семя Хусифы, дочери Фола, царя Эфиопского, над Македонянами, Римлянами и Эллинами»15.
Другими словами, по сути, в данном рассказе - если учитывать «память контекстов» цитат, при помощи которых описывается визит Ольги в Константинополь, - речь идет о том, что Русь, которую представляет и олицетворяет в данном случае княгиня, перенимает у Византии пальму первенства в христианском мире - буквально с момента крещения первой княгини-христианки.
Что же касается упомянутого отождествления Святополка Окаянного с библейским Авимелехом, то такая идентификация тоже представляется нетривиальной. Подчеркнем, что в данном случае летописец сравнивает Святополка с Авимелехом, а не с более «популярным» братоубийцей - Каином. Это тем более странно, что о последнем летописец пишет всего несколькими строками выше («7 бо мьстии прия Каинъ, убивъ Авеля...»). Быть может, такой выбор был определен не только сходством происхождения («ся бе
40
родилъ от прелюбодеянья»)? Да и зачем потребовалось уточнять, какой именно Авимелех имеется в виду в данном случае?
Видимо, летописцу и его читателям гораздо памятнее был другой Авимелех, царь филистимский. Тот дважды - один раз обманутый Авраамом, другой раз Исааком - оказывался в ложном положении и едва не совершал тяжкий грех. Но поскольку намерения его формировались «в простоте сердца», Бог удержал его от согрешения16. Сравнивая Святополка с Авимелехом, сыном Гедеона, помнил ли летописец об Авимелехе - филистимском царе?17 Не должно ли это было дать читателям, «преизлиха насытыпемся сладости книж-ныа», дополнительные библейские аллюзии? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть данное сравнение в контексте всех ассоциативных рядов, примыкающих к нему. Подобные «отсылочные» сравнения, судя по всему, в основном преследовали одну из следующих целей.
Во-первых, они могли даваться для нравственной оценки отдельных исторических лиц, событий или ситуаций как посредством нахождения у них общих черт с соответствующими персонажами и сюжетами библейскими, так и через их противопоставление.
Во-вторых, они могли привлекаться для определения сущности происходившего. Скажем, в уже приводившемся примере цель отождествления Ольги с царицей Савской как будто вполне ясна. Тем более что летописец специально разъясняет: «Се же бысть, якоже при Соломане приде царица Ефиопьская к Соломану, слыша-ти хотящи мудрости Соломани, и многу мудрость виде и знамянья»18. А затем повествует о духовных исканиях Ольги, перемежая их обильными выдержками из текстов притч Соломоновых19.
Однако более детальный анализ некоторых прямых отождествлений, подобных только что приведенным, показывает, что они могут, видимо, преследовать и не столь очевидную цель: дать «ключ» к пониманию подтекста предшествующего и/или последующего повествования. Фактически, разновидностью рассмотренного случая является библейская фразеология, которая пронизывает весь текст Повести. Пока ограничимся таким «глухим» определением. Разъяснить его можно будет только после анализа тех форм использования библейских рассказов, которых мы пока не касались.
Гораздо чаще летописец косвенно «приписывает» князю, о котором идет речь, «имя» (а вместе с ним и статус) того или иного библейского персонажа. Делается это путем введения в описание события или лица скрытых библейских цитат или аллюзий, выводящих Читателя на необходимый образ. К примеру, выстраивание описаний строительства первых древнерусских храмов Владимиром иятославичем «во образ» библейского рассказа о строительстве
41
Храма Господня в Иерусалиме косвенно позволяет летописцу и его читателям отождествить киевского князя с Соломоном.
Повесть временных лет
1. Володимеръ (...) помысли создати церковь пресвятыя Богородица (...) И наченшю же здати, и яко сконча зижа, украси ю иконами...
2. Володимеръ видевъ церквь свершену, вшедъ в ню и по-молися Богу, глаголя: «Господи Боже! (...) Призри на церковь Твою си, юже создах, недостойный рабъ Твои, въ имя рожыпая Тя Матере присно-девыя Богородица. Аже кто помолиться въ церкви сеи, то услыши молитву его молитвы ради пречистыя Богородица».
3. Избывъ же Володимеръ сего, постави церковь, и створи праздник великъ (...) Праздно-вавъ князь днии 8, и възвраща-шеться Кыеву... и ту пакы стваряше праздник великъ, сзывая бещисленое множество народа. Видя же люди хрес-тьяны суща, радовашеся душею и телом.
(Лаврентьевская летопись.
Стб. 121-122,124-125)
Третья книга Царств
1. И вот, я [Соломон] намерен построить дом имени Господа, Бога моего (...) И построил он храм и кончил его, и обшил храм кедровыми досками.
2. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа (...) И стал Соломон пред жертвенником Господним (...) и сказал: Господи, Боже Израилев! (...) Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил имени Твоему. Но призри на молитву раба Твоего (...), услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем.
3. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним (...)- семь дней и еще семь дней, четырнадцать дней. В восьмый день Соломон отпустил народ. И благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь.
(3 Цар 5:5; 6: 9; 7:51;
8: 22-30; 8: 65-66)
Не менее любопытно введение в описание бегства Святополка Окаянного после поражения на Альте в 1018 г. некоторых подробностей, заимствованных из библейского рассказа о бегстве Антиоха IV Епифана из Персии («расслабленность» Святополка, результатом чего становится его передвижение на носилках, постоянное стремление беглеца ускорить свое путешествие и, наконец, «смрад зловония», сменивший в предыдущем описании «дым мучений»). Привлечение образа Антиоха для развития косвенной характеристики Святополка станет ясным, если учесть, что именно Антиох IV, «представленный в Книге Даниила как противник Бога, жестокий
42
тиран и притеснитель праведной веры..., стал непосредственным прообразом христианского анти-Мессии, Антихриста»20. Другими словами, в новом варианте описания Святополк все больше сближается с Антихристом. Следует ли удивляться этому, если вспомнить, что именно в «Страсти и сказании и похвале святую мученику Борису и Глебу» характеристика Святополка - «советника всему злу» и «начальника всей неправде» - дополняется и такими деталями: его мать «преже бе чьрницею, гръкыни сущи; и поялъ ю бе Яропълкъ, братъ Володимирь, и ростригъ ю красоты деля лица ея»21. Такая «бытовая» деталь приобретает дополнительный смысл при обращении к апокрифической литературе. Дело в том, что, согласно Откровению Мефодия Патарского, Антихрист должен родиться от «черницы»22. Наконец, на последнем этапе переработки текст, повествующий о бегстве Святополка после битвы на Альте, дополняется прямой цитатой из Хроники Георгия Амартола, отсылающей читателя к рассказу о кончине Ирода Окаянного, который, подобно отцу своему, «дерзнул против Христа».
Обнаруженная скрытая «вторичная» параллель: «Святополк -Антихрист» подкрепляется анализом списка детей Владимира, который летописец приводит в Повести временных лет под 6488/980 г.: «Бе же Володимеръ побеженъ похотью женьскою, и быша ему водимыя: Рогънедь, (...) от неяже роди 4 сыны: Изесла-ва, Мьстислава, Ярослава, Всеволода, а 2 дщери; от Грекине - Святополка, от Чехине - Вышеслава; а от другое - Святослава и Мьстислава; а от Болгарыни - Бориса и Глеба»23. Сравнительнотекстологический метод не позволил в свое время А.А. Шахматову установить источник этого текста, который к тому же сохранился в нескольких вариантах.
Под 6496/988 г. летописец приводит несколько иной список сыновей Владимира: «Бе бо у него сыновъ 12: Вышеславъ, Изяславъ, Ярославъ, Святополкъ, Всеволодъ, Святославъ, Мьстиславъ, Борисъ, Глебъ, Станиславъ, Позвиздъ, Судиславъ»24.
Сопоставление этих текстов привело А.А. Шахматова к выводу, что первый из них является компиляцией, составленной автором Начального свода. Источником для него, по мнению А.А. Шахматова, послужили какая-то нелетописная повесть о Владимире (возможно, Корсунская легенда) и второй из процитированных перечней, возводимый к Древнейшему своду. Причем с°единение выборок из них в ряде случаев (опять-таки вопреки общим убеждениям самого А.А. Шахматова) сделано «совершенно Механически»25. Основанием для таких выводов послужили Не собственно текстологические наблюдения, а общие соображения, в частности о целесообразности и уместности упоминания Святых Бориса и Глеба в рассказе о развратной жизни Владимира-Язычника.
43
Неясным, однако, при этом оставался целый ряд вопросов. Скажем, зачем автору записи 6496 г. потребовалось составлять перечень, в который вошли Станислав и Позвизд, больше нигде в летописи не упоминаемые? Если летописец хотел зафиксировать относительный возраст Владимировичей, то почему этот перечень не соотнесен с сообщениями о первоначальном распределении княжений и перераспределении владений между братьями после смерти старшего из них, Вышеслава? И главное - зачем потребовалось создавать второй перечень, мало того, изменять саму форму перечисления сыновей Владимира? Что заставило летописца «распределить» княжичей по матерям и на каком основании он устанавливал «материнство», тем более что лишь одна из жен Владимира - Рогнеда - известна ему по имени? И почему в новом перечне упомянуты не все Владимировичи, названные в статье 6496 г., а также не все жены Владимира, список которых, по словам А.А. Шахматова, «в Корсунской легенде... был, быть может, несколько полнее»26.
Между тем некоторую ясность в проблему происхождения соотношения перечней сыновей Владимира Святославича вносит обращение к Библии.
Прежде всего необходимо отметить наличие в обоих списках сакрального числа «12». В Писании оно занимает особое место. Столько сыновей было у Иакова, столько же и у Измаила. Количеством «колен Израилевых» определялось число камней, поставленных Моисеем у жертвенника перед Синаем, а также количество драгоценных камней, украшавших ризу первосвященника. Именно столько апостолов было избрано Христом. 12 ворот (по числу колен Израилевых) было и в стене небесного Иерусалима, явленного Иоанну Богослову, причем основания этой стены были украшены 12 драгоценными камнями...27 Так что указание, будто у Владимира также было 12 сыновей (или детей), уже само по себе с большой вероятностью может расцениваться как «сигнал» о связи этих перечней с библейскими текстами.
Первое перечисление детей Владимира восходит, видимо, к следующему фрагменту книги Бытия: «Сынов же у Иакова было 12. Сыновья Лии: первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин. Сыновья Валлы, служанки Рахилиной: Дан и Неффалим. Сыновья Зелфы, служанки Лииной: Гад и Асир»28. В Библии, однако, говорится только о сыновьях патриарха, в то время как автор перечня 6488 г. называет лишь 10 сыновей Владимира и дополняет свое сообщение упоминанием двух безымянных дочерей князя. Появление дочерей в перечне нуждается в дополнительном пояснении.
Быть может, у Владимира и правда было всего две дочери? Действительно, в летописном рассказе 6526/1018 г. о борьбе стар
44
ших Владимировичей за киевский престол упоминается, что, возвращаясь в Польшу после захвата Киева Святополком Окаянным, Болеслав Храбрый забрал с собой двух сестер Ярослава29. А.А. Шахматов считал, что именно это упоминание послужило автору перечня 6488 г. источником записи о дочерях Владимира. Доказательств этому, однако, не приводилось30. Сообщение о пленении Болеславом сестер Ярослава Мудрого подтверждается Титмаром Мерзебургским. Но у немецкого хрониста фигурируют не две, а девять дочерей Владимира31. Среди них была и известная автору Повести Предслава. Кроме нее, благодаря иностранным источникам, мы знаем еще трех дочерей Владимира, хотя и неизвестно, были ли они в числе пленниц Болеслава Храброго. Одна из них была выдана за норманнского маркграфа Бернгарда. Другая (как полагают, Премислава) вышла замуж за кузена венгерского короля Иштвана I, герцога Ласло Сара32. Наконец, третья (Добронега-Мария), по свидетельству Галла Анонима, была взята в жены польским королем Казимиром I Пястом33.
Во всяком случае у Владимира явно было не две дочери, а больше. Тогда почему летописец упомянул именно двух дочерей Рогнеды? Быть может, запись составлена, когда другие дочери киевского князя еще не родились? Или же дочери других жен Владимира летописца не интересовали? Не исключено, конечно, что текст дошел до нас в дефектном виде. Но если это так, странно, почему «пострадали» только упоминания о дочерях Владимира. Впрочем, любое из этих или подобных предположений рождает новые вопросы и требует дополнительных обоснований.
Упоминание только о двух дочерях, причем без имен, скорее всего потребовалось, чтобы по форме приблизить летописный текст к библейскому прообразу. Задача летописца, видимо, сводилась не только к соблюдению сакрального числа детей, но и к определенной упорядоченности перечня. Не исключено, что «доведение» числа детей Рогнеды до шести должно было, по замыслу летописца, намекнуть читателю на неполноправное положение полоцкой княжны в семействе Владимира. Ведь именно шесть сыновей родилось у Лии, нелюбимой жены Иакова, обманом выданной за него Лаваном.
Однако более вероятным представляется другое объяснение. Благодаря упоминанию о дочерях изменилось место Владимировичей, следующих за ними: Святополка, Вышеслава, «второго» Мстислава, Бориса и Глеба.
Теперь характеристики древнерусских княжичей определялись тем, кто из отпрысков Иакова занимал в библейском перечне места с 7-го по 12-е (а не с 5-го по 10-е), как это было бы, если бы летописец обошел молчанием дочерей Рогнеды.
45
Если ход наших рассуждений верен, соответствие летописных Владимировичей библейским персонажам должно было бы принять следующий вид:
1. Изяслав Рувим 7. Святополк Иосиф
2. Мстислав Симеон 8. Вышеслав Вениамин
(старший) 3. Ярослав Левий 9. Святослав Дан
4. Всеволод Иуда 10. Мстислав (младший) Неффалим
5. дочь Иссахар 11. Борис Гад
6. дочь Завулон 12. Глеб Асир
Мы, однако, не знаем, был ли потенциальный читатель знаком с текстом Книги Бытия. Зато известно, что создателю Повести временных лет (как, видимо, и древнерусскому читателю) было хорошо известно Сказание о 12 драгоценных камнях Епифания Кипрского (367^408 гг.)34. Причем в популярной на Руси редакции Сказания особое внимание уделялось символическому значению имени каждого из сыновей Иаковлевых, свойствам камня, на котором было вырезано данное имя, и, наконец, этическим характеристикам каждого из братьев35.
Однако в славянском переводе Сказания о 12 драгоценных камнях порядок перечисления сыновей Иакова несколько иной. Соответственно, должны сместиться и летописно-библейские параллели. Если автор перечня 6488 г. ориентировался на трактат Епифания Кипрского в редакции, вошедшей в Толковую Палею, они должны были выглядеть так:
1. Изяслав Рувим 7. Святополк Дан
2. Мстислав Симеон 8. Вышеслав Неффалим
(старший) 3. Ярослав Левий 9. Святослав Гад
4. Всеволод Иуда 10. Мстислав (младший) Асир
5. дочь Иссахар 11. Борис Иосиф
6. дочь Завулон 12. Глеб Вениамин
Какое бы из возможных соответствий ни имел в виду летописец, для него, видимо, было принципиально важно через библейские образы охарактеризовать Ярослава, Святополка, Бориса, Глеба и, возможно, «младшего» Мстислава. Ведь именно они - главные участники трагических событий, последовавших за смертью Владимира Святославича в 1015 г. и подробно описанных в Повести временных лет. А характеристики, дававшиеся им таким образом, могли
46
существенно повлиять на оценку роли каждого из братьев в происшедшем.
Любопытно, что Святополк при таком понимании первого перечня занимает место библейского Дана, от рода которого должен произойти Антихрист: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад»36.
Предлагаемое объяснение позволяет рассматривать анализируемый перечень как символическую характеристику сыновей Владимира. За буквальным смыслом текста - кто из Владимировичей от какой матери родился - проступает еще один смысловой уровень. Он дополняет (но не исключает) очевидное, буквальное толкование текста и одновременно в определенном аспекте ограничивает его. В частности, в каждом из «микроперечней» (по матерям) летописец, вероятно, старался придерживаться возрастной очередности Владимировичей. Однако не исключено, что она могла нарушаться в случае, если приходила в противоречие с основной задачей автора -дать «объективную» характеристику каждому сыну. Придется поэтому согласиться с выводами А.А. Шахматова, сделанными на совершенно другом основании: «Нельзя придавать никакой цены указанию на то, что Борис и Глеб рождены от болгарки, Святослав и Мстислав от чехини»37.
Сравнение же самого Владимира с Иаковом могло основываться на том, что оба эти персонажа незаконно захватили власть, право на которую принадлежало их старшему брату.
Что касается второго (старшего, по мнению А.А. Шахматова) перечня, то он, видимо, также восходит к библейскому тексту. Но если запись 6488 г. была сориентирована на символическую характеристику сыновей, то текст 6496 г. явно направлен на то, чтобы дать оценку самому Владимиру. Для этого летописец находит подходящий, по его мнению, образ: «Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь Египтянка, служанка Саррина; и вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в кочевьях их. Это двенадцать князей племен их»38.
Соответственно, через этот перечень Владимир отождествляет-Ся с Измаилом, сыном Авраама от служанки Сарры, египтянки Агари. Продолжением такого сопоставления является, видимо, история со сватовством Владимира к Рогнеде. Ответ полоцкой княж-HbI в передаче летописца («Не хочю розути робичича, но за Яропол-Ка хочу») отсылал читателя к словам Сарры: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей»39, а также к символическому толкованию их апостолом Павлом40. Смысл ответа Рогне-ДЬ1 сводится, таким образом, к тому, что Владимир, по мнению лето
47
писца, - «сын греха», нехристь. Такая трактовка делает более понятным развитие данного сюжета в Корсунской легенде, которая завершается крещением равноапостольного князя41. Одновременно, видимо, этой деталью могла подчеркиваться роль Владимира в будущей истории Руси. Дело в том, что Аврааму было обещано Богом, что от Измаила произойдет великий народ42.
Судя по всему, Владимир сопоставлялся в Повести временных лет и с другими библейскими персонажами. Например, краткая статья 6478/970 г. рассказывает о том, как новгородцы по совету Добрыни попросили Святослава поставить к себе князем Владимира. При этом внимание читателя обращается на то, что матерью Владимира была сестра Добрыни, ключница Малуша43. Перечисленные детали заставляют читателя вспомнить библейскую историю о том, как Авимелех, сын Иероваала от рабыни, был поставлен царем в Сихем, «к братьям матери своей». Именно они уговорили жителей Сихема просить Авимелеха стать царем в их городе44. Интересно также отметить, что Владимир здесь сопоставляется с тем самым братоубийцей Авимелехом, с которым под 6527/1019 г. будет сравниваться Святополк Окаянный.
Обращение к информации, скрытой в цитатах (точнее, в «памяти» их контекста), которые использует летописец для описания интересующих его событий и персонажей, позволяет получить дополнительную информацию о способах легитимизации и/или дискредитации тех или иных древнерусских правителей в начальном русском летописании.
1 Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции М. Погодина о русской истории. М., 1848. Т. 3. С. 389-394.
2 Там же. С. 398.
3 Одесский М.П. Поэтика власти на Древней Руси // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2000. № 1. С. 4-7.
4 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. [3-е изд.] М., 1997. Стб. 80.
5 Там же. Стб. 62.
6 Там же. Стб. 146.
7 Источником «ошибочного» наименования царицы Савской правительницей Эфиопии являются «Иудейские древности» Иосифа Флавия (Иосиф Флавий. Иудейские древности / Пер. и коммент. Г.Г. Гинкеля. СПб., 1900. Т. 1. С. 467, 469-470). Это, в частности, подтверждает знакомство русского летописца с «Иудейскими древностями» (возможно, опосредованно, через греческие хроники).
8 Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 63 и след.; Он же. «Повесть временных лет»: Историко-литературный очерк // Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. СПб., 1996. С. 305; Он же. Комментарий // Там же. С. 440-441.
9 3 Цар 10: 1-25.
10 Лаврентьевская летопись. Стб. 60-62.
48
И Лаврентьевская летопись. Стб. 62.
12 Мф 12: 42.
13 Истрин В.М. Книги временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе: Текст, исследование и словарь. Т. 1: Текст. Пг., 1920. С. 146.
14 Ср.: «Царство же Эллинское, то есть Римское, которое от семени Эфиопского, прострет руки свои к Богу в последний день по прореченным пророчествам» (Слово Мефодия Патарского о царстве народов и последних временах//Учение об Антихристе в древности и средневековье. СПб., 2000. 6: 10), с косвенной ссылкой: «Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу» (Пс 67: 32). По мнению П. Александера, экстраполируя на Византию («царство Римское») этот стих, автор «Откровения» выражает веру в ее особенную роль и близость к Богу {Александер П. Псевдо-Мефодий и Эфиопия // Античная древность и Средние века. Вып. 10. Свердловск, 1973. С. 22-23).
15 Слово Мефодия Патарского... 6: 1-9. С. 440.
16 Быт 20: 2-6; 26: 6-10.
17 Кстати, в Радзивиловской летописи вместо Авимелеха здесь упоминается - явно не на месте - другой библейский персонаж, Ламех (Радзивиловская летопись Ц ПСРЛ. Л., 1989. Т. 38. С. 63). А.А. Шахматов считал эту замену простой опиской {Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI веков. М.; Л., 1938. С. 64).
18 Лаврентьевская летопись. Стб. 62
19 Прит 8: 17; 1: 20-22; 13: 20; 2: 2; 8: 17.
20 Учение об Антихристе в древности и Средневековье. СПб., 2000. С. 508.
21 Успенский сборник ХИ-ХШ вв. М., 1971. С. 43.
22 Тихонравов Н.С. Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 2. С. 266. Ср.: Милъков В.В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 681-682.
23 Лаврентьевская летопись. Стб. 79-80.
24 Там же. Стб. 121.
25 Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 103-105.
26 Там же. С. 105.
27 Ср., например: Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси: XI-XVI века. СПб., 2000. С. 79-80, 82 и след.
28 Быт 35: 22-26.
29 «Болеславъ же побеже ис Кыева, възема именье и бояры Ярославле и сестре его» (Лаврентьевская летопись. Стб. 144).
30 А.А. Шахматов просто замечает: «...к детям Рогнеды приписаны две дочери - это те две сестры Ярослава, о которых сообщает Нач. свод под 1018 годом» {Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 105).
31 Титмар Мерзебургский. Хроника // Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия. IX - первая половина XII в. М.; Л., 1989. С. 63-64, 69.
32 Пашуто В Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 50, 419.
33 Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. М., 1961. С. 51.
34 То, что Сказание о 12 драгоценных камнях входило в число источников, на которые опирался автор Повести временных лет, было установлено А.А. Шахматовым на основании употребления в Повести выражения «си вси звахуться от грек Великая Скуфь» {Шахматов А.А. «Повесть временных лет»
4 Образы власти... 49
и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 80). Однако дело, видимо, не ограничилось использованием только этого выражения.
35 Палея Толковая по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г. М., 1892. Ч. 1. Вып. 1. Стб. 552. Ср.: Палея Толковая. М., 2002. С. 240-305.
36 Быт 49: 17. Ср.: «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт 3: 14-15). Возможно, на это же сопоставление «работало» и описание вокняжения Святополка в Киеве: «Святополкъ же седе Кыеве по отци своемь, и съзва кыя-ны, и нача даяти имъ именье. Они же приимаху, и не бе сердце ихъ с нимь...».
37 Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 105 (примеч.).
38 Быт 25: 12-16.
39 Быт 21: 1.
4° Гал 4: 25-36.
41 Впрочем, возможной более ранней параллелью к данному сюжету может служить апокрифическая Повесть об Иосифе и Асенеф. В ней, в частности, в уста Асенеф, которую отец пытается выдать за Иосифа, вкладываются следующие слова: «Для чего господин мой и отец мой говорит так и желает словами своими предать меня, как пленницу, мужу инородцу, и беглецу, и проданному в рабство? Не сей ли сын пастуха земли Ханаанской, оставленный отцом своим? ...Нет, но сочетаюсь с царевым сыном первородным, ибо тот есть царь всей земли» (Повесть об Иосифе и Асенеф // От берегов Боспора до берегов Евфрата: Антология ближневосточной литературы I тысячелетия н.э. / Пер. С.С. Аверинцева. М., 1994. С. 79). В контексте этой параллели яснее становится и загадочное «не хочю розути...»: «И сказала ему [Иосифу] Асенеф: “Приди, господине, войди в дом твой!” И взяла она его за руку его десную, и ввела его в дом свой. И посадила на престоле Пентефрия, отца своего, и принесла воды омыть ноги его. И говорит ей Иосиф: “Пусть придет единая от дев твоих, и пусть омоет мне ноги”. И говорит ему Асенеф: “Нет, господине! Ибо руки мои руки твои суть, и ноги твои - ноги мои, и не омоет другая ног твоих”. И причинила ему принуждение, и омыла ноги его. [По иудейскому обычаю, жена должна была омывать ноги мужа. - С. Аверинцев]» (Там же. С. 91-92, 302).
42 Быт 21: 13.
43 «В лето 6478. Святославъ посади Ярополка в Киеве, а Ольга в Деревехъ. В се же время придоша людье Ноугородьстии, просяще князя собе: “Аще не пойдете к намъ, то налеземъ князя собе”. И рече к нимъ Святославъ: “А бы по-шелъ кто к вамъ” И отпреся Ярополкъ и Олегь. И рече Добрыня: “Просите Володимера” Володимеръ бо бе отъ Малуши, ключнице Ользины; сестра же бе Добрыня, отець же бе има Малъкъ Любечанинъ, [и] бе Добрына уи Володи-меру. И реша Ноугородьци Святославу: “Въдаи ны Володимира”. Онъ же рече имь: “Вото вы есть”. И пояша Ноугородьци Володимера к собе, и иде Володи-миръ съ [До]брынею, уемъ своимь, Ноугороду, а Святославъ Переяславьцю» (Лаврентьевская летопись. Стб. 69).
44 «Авимелех, сын Иероваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей, и сказал: внушите всем жителям Сихемским: что лучше для вас, чтобы владели вами все семьдесят сынов Иеровааловых, или чтобы владел один? и вспомните, что я кость ваша и плоть ваша. Братья матери его внушили о нем все сии слова жителям Сихемским; и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: он брат наш» (Суд 9: 1-3).
Ф. Рексрот
МИР ОБРАЗОВ ИСТОРИОГРАФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ИМАГИНАРИЙ
О НИЗЛОЖЕНИИ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ ЭДУАРДА II В 1327 г.
Введение
Образами власти историк может заниматься двояко. С одной стороны, к числу задач исторической науки относится изучение тех образных миров, которые были влиятельны в прошлом и определяли поведение действующих лиц. Следовательно, предметом исторического изучения являются те репрезентации, символы, метафоры и поля смыслов, которые волновали свидетелей эпохи, когда они говорили о власти, когда они ее осуществляли и когда от нее страдали, когда она их ломала, когда они боролись с ее злоупотреблениями или же когда размышляли о ней1. Но с другой стороны, когда историк описывает образы власти прошлого, в этом описании проявляются его собственный интеллектуальный кругозор, те образы, определявшие понимание истории, при помощи которых исследователь XXI, XX или же XIX в. осознает для себя характер вовлеченности средневекового человека в отношения власти2.
Наш взгляд на первый круг смыслов - средневековый - неизбежно направляем вторым - нашими собственными способами мышления и набором образов, которыми мы располагаем. Йоханнес Фрид около 15 лет назад говорил в связи с этим, что на историка наложены «двойные теоретические путы»3. Но хотя без опосредования современным научным имагинарием при обращении к Минувшему не обойтись, проявляться оно может, однако, совершенно по-разному. В прошлом оно то и дело приводило к грубым анахронизмам: например, когда ради примирения с переживаемым настоящим Средневековье превращали в противоположность современной эпохе, в такое время, когда якобы господствовало тотальное принуждение - в рамках «сословной иерархии» и «феодальной сис
51
темы»4. Но этим опосредованием можно рационально управлять в процессе саморефлексии историка, в ходе которого собственные «образы-воспоминания» (Я. Ассманн) сами рассматриваются как исторически обусловленные, в результате чего они в ходе такой саморефлексии становятся подходящими для научного применения5. Это касается, например, того случая, когда метанарратив об истории Запада как таком процессе, в ходе которого осуществление власти становилось все более контролируемым и рационализируемым, сам рассматривается как явление, складывавшееся исторически, и потому превращается из безусловной отправной точки для исторического исследования скорее в предмет такового6.
В данном исследовании поставлена задача показать на примерах эту двойную привязанность историка к «образам». Для этого выбрана такая тема, которая, пожалуй, в состоянии особенно хорошо выявить как средневековые, так и современные размышления по поводу злоупотребления властью, а именно истории низложения королей в позднесредневековой Европе. На протяжении XIII-XV вв. во многих европейских державах разрабатывалась процедура прерывания власти короля. Она состояла из ритуалов, в которых процедура возведения в государи путем избрания, помазания и коронования переосмыслялась как процесс обратимый, и на этой основе с их помощью выражалось, что хотя данный монарх, пожалуй, и являлся некоторое время легитимным королем, однако с настоящего момента он снова низводится до положения частного лица, знатного человека, лишенного всяких следов королевского сана. Такой способ прочтения ритуалов низложения мной уже разрабатывался в другой работе на целом ряде примеров, но скорее экстенсивным путем7. Здесь же хотелось специально остановиться только на одной фигуре мысли и одной модели поведения на примере весьма содержательного эпизода. При этом будет преследоваться цель сопоставить их с горизонтами толкования в исторической науке. Поэтому мы будем говорить только об одном-единст-венном низложении, а именно о детронации английского короля Эдуарда II в январе 1327 г. Тут мы имеем дело с ярким и широко обсуждавшимся случаем, содержание которого, несомненно, составляет вопрос о власти и злоупотреблении ею, о тирании и сопротивлении ей8.
Король Эдуард П9, сын в высшей степени удачливого короля, взойдя на трон в 1307 г., практически с самого начала навлек на себя недовольство высшей английской знати, поскольку он вопреки ожиданиям не распространял своего расположения на широкий круг вельмож, но брал под особое покровительство только одного или двух из всех и одарял их высшими государственными должностями. Трое из таких фаворитов сыграли во время правления Эдуарда
52
выдающуюся роль: это были, во-первых, некий Пьер Гавестон, казненный в 1312 г. фракцией магнатов, и оба Деспенсера, Гуго Старший и Гуго Младший, которые также умерли насильственной смертью в ходе противоборства, о котором и пойдет далее речь. Уже на начальной стадии правления Эдуард столкнулся с советом (куда входил 21 барон), созданным для контроля над правительством короля, который пытался своими «ордонансами» в обязательном порядке регламентировать фундаментальные вопросы власти. И хотя ему удалось в начале 1320-х годов освободиться из-под этого гнета и избавиться от целого ряда наиболее непримиримых критиков (среди них прежде всего от графа Томаса Ланкастера, которого после его насильственный смерти стали почитать как мученика10), неприязнь к нему все возрастала. Стоило только 24 сентября 1326 г. высадиться в Англии совсем маленькому войску под предводительством королевы Изабеллы, сестры французского короля Карла IV, ее малолетнего сына Эдуарда и ее любовника Роджера Мортимера, как к ним со всех сторон стали стекаться сочувствующие. Вскоре король был вынужден бежать в Уэльс. Там его схватили и содержали под стражей, в то время как в Вестминстере в январе 1327 г. собрался парламент и объявил Эдуарда низложенным. Так как настоящих прецедентов акту низложения еще не было, Эдуарда заставили к тому же отречься в пользу его несовершеннолетнего сына, будущего короля Эдуарда III. Вскоре после низложения и отречения арестованный Эдуард погиб при невыясненных обстоятельствах -несомненно, от рук убийцы.
Это был один из наиболее жестоких конфликтов английского короля со своими подданными, имевший к тому же самые серьезные последствия. Ни в 1215 г., когда бароны добились принятия Великой хартии, ни в 1264 г., когда Генрих III был взят под стражу дворянской оппозицией, члены английской commimitas regni (общины королевства) не выступали с такой решимостью против правления своего короля. Впервые со времени нормандского завоевания король погиб от руки своего подданного! Вскоре возникли слухи о том, что тайное убийство было совершено с особой жестокостью11, но одновременно появились и абсолютно другие версии событий, утверждавшие, что Эдуард в действительности еще жив12.
Далее речь пойдет прежде всего о тех образах власти, при помощи которых историческая наука осмысляла крушение Эдуарда. Поскольку многие из этих образов еще предстоит выявить, придется здесь ограничиться лишь одним примером. Мы возьмем те образы, относящиеся к низложению Эдуарда II, которые завоевали популярность благодаря Уильяму Стаббсу и его влиятельному труду по конституциональной истории Англии. Цель исследования состоит не в доказательстве того, насколько «образы власти», использовавшиеся Стаббсом, были привязаны к его времени, - это очевидно13.
53
Речь будет идти о том, чтобы изучить значение этих нарративных образов для практики историописания, для преобразования чисто хронологического континуума событий в историографический нарратив, для рождения «структуры сюжета», представляющей действия в прошлом как достоверно известные, мотивированные и поэтому доступные для нашей оценки. Затем следует сопоставить два средневековых мыслительных образа, с помощью которых современники осмысляли чудовищные события 1327 г., вскрыв различия между двумя этими образными мирами. В заключение будет дан беглый обзор историографических позиций, формулировавшихся в недавнем прошлом.
«Конституционная история» Стаббса и образы свержения Эдуарда II
Работу «Constitutional History of England» («Конституционная история Англии»), опубликованную Уильямом Стаббсом (1825-1901) между 1874 и 1878 гг. в трех солидных томах14, называли «одной из великих книг XIX столетия», - а в плане программного значения для академического мира этот труд сравнивали с «Происхождением видов» Ч. Дарвина15. В 1897 г. его переиздали уже в шестой раз, и еще в XX в. он принадлежал к узкому канону обязательного чтения для студентов-историков в британских университетах. Наряду с блестящим языком и талантом рассказчика автора этой книги, ее отличает необыкновенная целостность, что и обусловило ее влияние в течение долгого времени. В дальнейшем мы будем придерживаться той точки зрения, что эта целостность стала результатом особой повествовательной стратегии Стаббса (пускай и не уникальной в международном масштабе16). Стаббс виртуозно ведет рассказ о средневековой английской истории одновременно на трех взаимосвязанных уровнях. Верхний уровень отведен метанарративу об ультимативной «значимости» английской истории. На среднем уже не так статично представлены личности, группы и институты, которые распределяются в зависимости от их отношения к тем или иным (довольно немногочисленным) сферам интересов и моральным установкам (например, от их отношения к «нации», их личного или сословного эгоизма и т.п.). Таким образом, этот уровень осуществляет связь между telos - высшим смыслом - английской истории и ее событийным протеканием. Этот уровень особенно важен, поскольку он должен приводить к согласованию идеальную сущность истории как целого и динамичное изображение отдельных событий. На нижнем, самом подвижном, уровне событий разворачивается картина непрерывного взаимодействия и противостояния личностей и институтов в конкретных пространстве и времени. Здесь целью ис
54
ториографа является не целостность, а пестрота и живость изображения. Именно вследствие того, что личности и партии выступают здесь иногда против неодолимой силы естественного хода вещей, управляющего английской историей, возникает напряженность, которую автору необходимо снять в дальнейшем повествовании. Его рассказ может оказывать сильное воздействие, таким образом, как раз за счет того, что читатель благодаря своим знаниям, почерпнутым с двух «верхних» уровней, может распознать тщетность тех или иных политических действий со всеми их окольными путями, поражениями и неудавшимися наступлениями. Еще один выдвигаемый здесь тезис состоит в том, что такой перенос с уровня на уровень у Стаббса не случаен: соответствие между средним и нижним уровнями обеспечивается сильными, доходчивыми образами, которые переводят знания читателей о релевантности фигур со среднего на нижний уровень. В случае Эдуарда II это самые жалкие образы утраты власти.
Чтобы понять, какие представления о крушении Эдуарда II предлагаются в «Конституционной истории» и что составляет их идеологическую подоснову, нужно подробнее остановиться на этом принципе. Причем начать нужно с верхнего из трех повествовательных уровней, обеспечивающего единство всего труда. Стаббс изображает генезис английской конституции из англосаксонской, и даже из ее гипотетического германского прообраза, вплоть до XV в. включительно, как хотя и в высшей степени сложный в деталях, но по своей сути вполне ясный процесс - поскольку в своей основе он предопределен17. Английская история для Стаббса - это история английской нации, обретающей себя саму в процессе создания своих конституционных учреждений. В ходе складывания представительства, в процессе существования парламента нация в буквальном смысле начинает жить. Англичанам было предначертано создавать такое политико-правовое устройство - начиная с его скромных локальных зачатков и на протяжении всего Средневековья. Любое же противодействие «чуждых» сил - будь то вмешательство папской курии или же нездоровое влияние французской культуры (т. 2, с. 335) - было заведомо обречено на провал. Этот посыл проходит красной нитью через все три тома «Конституционной истории». В XX в. этот метанарратив об английской истории был заклеймен как «whig Interpretation of History» (вигская интерпретация истории)18.
На среднем уровне повествования читатель сталкивается уже со вполне земными представителями указанного высшего принципа -это личности, группы лиц и институты, составляющие в совокупности целый арсенал образов, всегда готовых у автора для изображения событий. Проследить их развитие означает оценить личные и гРупповые интересы, страсти, характерные способности действую
55
щих лиц в соответствии с метанарративом верхнего уровня. Стаббс посвящает этому много страниц своего труда. Он вставляет в свое повествование через большие промежутки резюмирующие пассажи, как композитор - ферматы, чтобы подвести итог достижениям английской «автономии и самореализации»19, но столь же большое значение придает он изображению характеров, их сильных и слабых сторон, сфер их интересов и неизведанных глубин души. Чем важнее были эти личные характерные особенности для развития конституционных учреждений, тем больше значения придавалось их изображению на втором уровне повествования. Это можно проследить на примере характера и склонностей Эдуарда II, а еще лучше его отца, короля Эдуарда I (1272-1307). То, что возникновение парламента происходило под его эгидой, было для Стаббса проявлением готовности Эдуарда отдать власть народу, что могло означать только одно - допустить рождение парламента (т. 2, с. 336)! У этого короля, по его словам, не было никакого личного интереса, который вступал бы в противоречие с интересом его «народа». Годы правления Эдуарда I были временем, «at which the nation may be regarded as reaching its full stature» (когда народ, можно считать, достиг своего полного роста). Сколь бы незрелы еще ни были тогда конституционные учреждения, все-таки начиная с того момента они существовали. Нация теперь должна была только научиться с ними обращаться. «The attaining of this point is to be attributed to the defining genius, the political wisdom, and the honesty of Edward I, building on the immemorial foundation of national custom» (Достижение этой цели следует признать заслугой решительного гения, политической мудрости и честности Эдуарда I, опиравшегося на уходящий в незапамятные времена национальный обычай)20.
Противопоставление Эдуарда I его сыну, Эдуарду II, не может быть выражено яснее: последний потерпел поражение по всем направлениям, потому что, не поняв сути дела, противостоял этой «идее королевства» (idea of kingship) (т. 2, с. 337). Отстранение Эдуарда II представлено в «Конституционной истории» не как низложение тирана (т. 2, с. 381); напротив, король показан как простоватый, глуповатый, но бесцеремонный и эгоистичный бездельник, который вообще не был в состоянии понять свою историко-политическую задачу, не говоря уже о том, чтобы пытаться с ней справиться. При этом он был дитя своего времени, подверженный губительному влиянию безнравственности той эпохи и влиянию французской культуры (т. 2, с. 339), первый король с 1066 г., который не смог показать себя человеком дела (man of business) (т. 2, с. 340). Во время его правления связь короля с нацией была разорвана (т. 2, с. 382, 389). Это обстоятельство привело, по мнению Стаббса, к росту самостоятельности конституционных учреждений. Эдуард I включил органы управления в состав «национальной системы», побудив их не
56
за страх, а за совесть блюсти «национальный интерес», и члены этих органов действовали скорее как «слуги нации», нежели «слуги короля» (т. 1, с. 337). Именно по этой причине, согласно Стаббсу, «administrative body» (управленческий корпус превратился при Эдуарде II в противника такого института, как «двор», имевшего прямой доступ к королю-неудачнику (т. 2, с. 335). Пока Стаббс рассказывает о времени царствования Эдуарда II, антитеза «двор и управление» оказывается доминирующей на среднем уровне его повествования (т. 2, с. 337).
Характерная непоследовательность, проявляющаяся при взаимодействии между «верхним» и «средним» уровнями повествования, заключается в несогласованности между требованиями «нации» на верхнем уровне, которая и составляет telos - высший смысл метанарратива Стаббса (т. 2, с. 337), и включением на среднем уровне в действие «народа» как величины совершенно пассивной, отделенной от политических «акторов». Народ обманывают политически значимые персоны, а сам он, кажется, может действовать лишь как «сброд» (mob) - легко используемая и опасная, однако не знающая внутренних порывов масса лондонцев (т. 2, с. 399). Его присутствие в парламенте, принимающем решение о низложении короля в январе 1327 г., было угрожающим, но не оно определило исход событий.
Рассказ на третьем, нижнем, уровне занимает больше всего места. На этом уровне главное внимание уделяется политическим деяниям или, в случае с Эдуардом II, точнее сказать, постоянному антагонизму между партиями, грозящему порой привести к хаосу, но завершающемуся в конце концов ситуацией, в которой нация лучше осознает свое предназначение. Сокращенно, как общие места, воспроизводить которые полностью нет никакой необходимости, Стаббс перечисляет здесь неудачи короля. Читатель уже хорошо их знает из обязательных на втором уровне пассажей о характерных недостатках Эдуарда: его «беспомощной самоотрешенности» (helpless self-abandonment, т. 2, с. 385), его «слабости» (weakness, т. 2, с. 386), его «безрассудной страсти» (infatuation), его «простоте» (simplicity, т. 2, с. 387), нехватке у него друзей (т. 2, с. 387, 395, 398). Так изображение личностей и хода событий у Стаббса взаимно подтверждают достоверность того и другого. Образы короля-неудачника, повторяющиеся одна за другой краткие зарисовки его поражений придают такую динамичность ходу событий, которая делает излишней вкрапление каких бы то ни было еще анекдотов.
К тому же эти образы выстроены отнюдь не без определенного плана; напротив, на тех страницах, где рассказывается о сборе оппозиции вокруг королевы Изабеллы и далее вплоть до ареста Эдуарда, Стаббс выразительно противопоставляет бесславные действия короля картинам невероятного роста влияния его жены:
57
Изабелла успешно заключает брачный договор с графом Эно и требует при этом отряд для вторжения в Англию (т. 2, с. 388).
«В то же время» Эдуард проводит в парламенте и совете одно заседание за другим, но без всякого результата. Он созывает армию и флот, которым он не может платить и которые тут же разбегаются вновь, едва собравшись. Все его начинания безрезультатны, распоряжения ни к чему не приводят, напоминая барахтанье утопающего (т. 2, с. 389-390).
Вторжение Изабеллы, напротив, удается, ее марш по стране становится триумфальным шествием (т. 2, с. 390).
Король узнает об этом, обращается с просьбой к лондонцам собрать войско, но и тут терпит крах. Он спешно отправляется на запад страны. Неспособный защитить себя, он бежит в Глостер. Его преследуют, и он хочет спастись в Ирландии. Это ему не удается, и он вынужден искать убежища в одном аббатстве (т. 2, с. 390-391).
Изабелла движется на Оксфорд. Там к ней присоединяются магнаты с севера и из валлийского пограничья. Она возвращает замок Беркли законному владельцу, мстит за Томаса Ланкастера, распорядившись повесить старшего Деспенсера.
Король схвачен. Его любимчику, ненавистному всем Деспенсеру Младшему, тут же отрубают голову, а Эдуарду готовят изощренную и долгую муку...
В такой извращенной ситуации, когда женщины проявляют себя полководцами, а мужчины ищут спасения в бегстве, несостоятельными оказываются, конечно, и прочие действующие лица: придворные, которые ничему другому не учились, как только добиваться влияния на короля, и потому пребывают теперь в полной растерянности; прелаты, которые не распознали знамения времени и продолжали держаться старомодного представления, будто их задача -посредничать между противниками (т. 2, с. 390).
Однако Стаббс, противопоставляя нервные и совершенно бесплодные усилия короля последовательным успехам Изабеллы, вновь демонстрирует характерную нечеткость в переходах между уровнями повествования. Изабелле он отводит место только на нижнем уровне событийного повествования. Для этой «склонной к неверности француженки» (adulterous Frenchwoman) с ее любовником (paramour) (т. 2, с. 394) у Стаббса находится лишь пренебрежительное, как бы вскользь брошенное замечание - он не предоставляет ей места на «более высоких» этажах истории. Если она объясняет, что действует в согласии с волей «нации», то это только прикрытие и уловка (т. 2, с. 400). «The eyes of the nation» (глаза нации) видят в ее верховенстве лишь позор (т. 2, с. 403). Она не вписывается в картину, по крайней мере в качестве супруги короля. Как и много других женских фигур, попавших в исторические повествования, Изабелла появляется в основном в роли невесты (при заключении брака - т. 2, с. 343) и роженицы (матери наследника). То, что она с
58
любовником в течение не долгого времени и после 1327 г. остаются хозяевами положения, не находит у сурового Стаббса ни малейшего одобрения. То, что в решающие месяцы после вторжения Изабеллы ее власть постоянно возрастает, тогда как Эдуард терпит жалкие неудачи, придает событиям гротесковый характер. Словно в «перевернутом мире» средневековых моралистов, возникает сильное расхождение между идеальным состоянием мира и его действительным положением. Разрешение этого несоответствия происходит у Стаббса драматически, даже брутально, но все же оно с самого начала неизбежно. В конце концов ему безразлично, что темная партия оппозиции приводит Эдуарда к падению и плачевной гибели, ведь любые моральные оценки на высшем уровне его повествования снимаются: «it must be said that the success of the revolution constitutes its justification» - «нужно сказать, что успех революции и составляет ее оправдание» (т. 2, с. 395). Король, не умеющий справиться с бунтом, не может ждать для себя справедливости «either in form or in substance» (ни по форме, ни по содержанию), как добавляет Стаббс - казуист в силу своей профессии (т. 2, с. 396).
Итак, можно утверждать, что на событийном уровне в повествовании Стаббса действуют лица и группы, которые хотя и могут иногда влиять на ход событий, однако полностью подчинены воле автора, а не его концепции хода английской истории. Изабелла и зловещий «народ» на бурном парламентском заседании 1327 г. - из их числа. В дальнейшем будет показано, что при таких установках оксфордского историка возникает сразу в двух случаях весьма ощутимое несоответствие между миром образов этого виртуозного знатока средневековых источников, с одной стороны, и тем имагинарием, при помощи которого сами современники объясняли себе ситуацию 1327 г. и добивались разрешения кризиса, - с другой.
Брак короля как отражение его годности к правлению
То, что собирание противников короля вокруг королевы Изабеллы во Франции стало началом конца власти Эдуарда, отмечалось в исследованиях и после Стаббса21. Встав во главе армии вторжения, Королева и ее сын прошли от Хеннегау до самого центра английского королевства, и жители города Лондона в середине октября 1326 г. Решили поддержать королеву, а не Эдуарда22. Многие подданные английской короны оказались настроены против короля прежде всего йз-за обоих Деспенсеров. Отношения между королем и фаворитами рассматриваются в историографии среди причин краха Эдуарда, Л1°бовная же связь Изабеллы с бунтовщиком Роджером Мортимером - как решающий поворот в трагедии Эдуарда. Проверим, как
59
современники оценивали обе эти связи и придавали ли они им политическое значение.
Разрыв между Эдуардом и Изабеллой действительно занимал умы англичан в 1326 г. Если задаться вопросом, с какого момента сведения о нем стали оказывать сильное влияние на развитие ситуации, стоит обратить внимание на письмо, отправленное королевой из Парижа в Англию 5 февраля (т.е. в Пепельную среду23!) 1326 г. Хотя адресатом был архиепископ Кентерберийский, письмо, похоже, стало известно и другим лицам. По словам Изабеллы, архиепископ уведомил ее, что Гуго Деспенсер не держит на нее зла и что, следовательно, она может вернуться в Англию. Это сообщение весьма удивляет королеву, ибо никому не следует думать, будто она избегает общества короля, не имея на то серьезных оснований. Она боится за свою жизнь. Гуго стоит у власти и хочет ее обесчестить. Она же клянется Господом Богом и спасением души, что хотела бы пребывать в обществе своего государя, жить и умереть рядом с ним (et vivre et morir en ycele). Но она не может приехать в Англию, не подвергнув себя смертельной опасности24. Этот образ королевы, которая даже рядом с супругом должна опасаться за свою жизнь из-за происков его фаворита, очевидно, был быстро внедрен в умы. В Лондоне рассказывали, что Изабелла во Франции якобы облачилась в простые одежды, как дама в трауре по утраченному мужу. И простой народ горько оплакивал невзгоды, которые она перенесла ради примирения с ним25.
Когда Изабелла с войском прибыла в Англию, ее страх перед супругом и его фаворитом эксплуатировался и дальше26. В течение нескольких недель многие, прежде всего умеренные оппозиционеры полагали, что главной целью должно быть примирение короля с королевой. Если, к примеру, епископы королевства ратовали pro расе reformanda (за мир, который должен быть восстановлен), то они долгое время имели в виду совершенно конкретный мир - между королевой и ее супругом!27 Пространство для маневра у враждебных партий определялось не только развитием военного конфликта, но и оценкой этих «личных» отношений политизированной общественностью, включавшей как светскую аристократию, так и прелатов и простых жителей Лондона. Анонимная группа лиц, симпатизировавших королю, предприняла отчаянную попытку спасти Эдуарда, распространив в столице подложное письмо, в котором утверждалось, будто Изабелла и Эдуард уже помирились между собой. Однако всем сразу стало ясно, что это была «уловка с единственной целью обмануть народ»28.
Поскольку сама Изабелла объясняла свое отчуждение от короля постоянным присутствием его могущественного фаворита, то осуждение и казнь Гуго Деспенсера 26 ноября 1326 г. должны были создать новые предпосылки для примирения. Но и теперь королева
60
не заключила мира с супругом, зато изменились публичные высказывания относительно их брака. Стали говорить, что Эдуард, ослепленный яростью и горем из-за потери своего близкого друга, которого он любил immoderato et inordinate amore (неумеренной и неуравновешенной любовью)29, готов убить королеву, стоит ей только оказаться поблизости. Если раньше можно было все валить на Деспенсера, то теперь стали ссылаться на пороки самого короля, чтобы объяснить тяжелое положение страны. Теперь рассказывали уже, будто король якобы всегда носит при себе нож, предназначенный Изабелле, и что он готов разорвать ее зубами, в случае если у него не окажется при себе никакого иного оружия30. Даже в январе 1327 г., когда Эдуард уже сидел под стражей в замке Кенилворт, все еще судачили, что он столь же свиреп и злонамерен, как и прежде31.
Королевский брак рассматривали теперь не как причину кризиса в государстве, но как убедительное доказательство личной несостоятельности монарха, его insufficientia (неполноценности), его inutilitas (никчемности). Взаимосвязь между браком и состоятельностью как властителя была намечена, кажется, уже в октябре Адамом Орлетоном, епископом Херефордским, решительным противником Эдуарда II, в его оксфордской проповеди на библейский стих: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт 3: 15). Хотя позже епископ якобы и утверждал, что его проповедь относилась только к Гуго Деспенсеру, он должен был все же признать, что в этом стихе говорится о «первом тиране, первом дьяволе и других злых ангелах». Очевидно, в его сознании возникла какая-то связь между наблюдением, что с браком короля дела обстоят плохо, и представлениями о тиране и rex inutilis (негодном короле)32.
Даже после смерти короля в 1327 г. его плохие отношения с королевой оставались популярным доказательством того, что Эдуард не был годен к управлению страной. Его сторонники были вынуждены опровергать эту точку зрения. Они утверждали, что на самом Деле король любил свою жену сверх всякой меры. Такую цель преследует, например, изображение событий в Хронике Джоффри ле Бейкера: король напрасно тратил свои чистые чувства на Изабеллу, эту ледяную Иезавель, эту амазонку, эту «жестокую женщину», «Железную мужебабу»33! Несмотря на все это, Эдуард, по словам хрониста, не в силах был подавить свою привязанность: с тех пор хак он увидел ее впервые, уже никогда не мог полюбить никакую Другую женщину34. Когда она не захотела его больше видеть, лишив его своих объятий больше чем на год, он глубоко скорбел. В конце Концов из-за нее же он и погиб самым плачевным образом, ведь она ооялась, что клир принудит ее к продолжению брака, отсюда и воз-никли планы убийства. Стилизацию Бейкера, в которой король
61
предстает много терпящим Иовом, страдающим Христом и alter Orfeus (вторым Орфеем) одновременно35, следует понимать как «симметричный» ответ на навешивание на Эдуарда враждебной партией ярлыка «никчемного короля». Конечно, по тем же соображениям пристрастный хронист осознанно называет истинными тиранами на политической сцене противников Эдуарда36.
Не следует рассматривать эти воззрения в качестве одного из феноменов народной культуры, лежащей ниже уровня тех, кто был действительно посвящен в политику. Иначе не было бы причин, чтобы распавшийся брак Эдуарда и Изабеллы вопреки здравому смыслу столь настойчиво обсуждался бы епископами, лондонским бургомистром, нищенствующими монахами или членами январского парламента 1327 г. Однако как могло тогда случиться, что неспособность Эдуарда к правлению стала рассматриваться не в русле политического дискурса осуждения тирании, т.е. в понятиях, характерных для политических трактатов, а в ключе сугубо «частных» представлений? Задолго до Эдуарда И, еще со времен конфликтов между римско-германскими императорами и папами, в литературе по церковному праву и политической теории обсуждался вопрос, по каким признакам можно распознать негодного государя37. Кажется, нельзя исключить, что церковно-правовой концепт негодного государя, столь успешно применявшийся как оружие в политической борьбе, мог косвенно повлиять на понимание кризиса правления Эдуарда его современниками. Уже Эдвард Питерс показал, что представление о rex inutilis (негодном короле) укоренилось не только в каноническом праве и политической теории, но и в поэзии на национальных языках высокого и позднего Средневековья, т.е. в художественных текстах. Эдвард Кеннеди и Фок Орен показали, что автор средневекового английского романа в стихах «Sir Orfeo» («Сэр Орфей») использовал наряду с кельтской и классической античной традициями еще и представление о rex inutilis, а одно исследование Арманна Якобссона приводит к тому же выводу применительно к исландским сагам XIII столетия. Но в художественных текстах, в романах артуровского цикла и в сагах связь между любовью и пригодностью к правлению, между потерей возлюбленной и парализующей правителя melancholia или acedia (горькой печалью) играет центральную роль. Потеря способности править служит в этих текстах показателем интенсивности любви властителя. Проследить связь между любовью и пригодностью к власти можно на примере Амфортаса из «Парцифаля», Мерлина из «Жизни Мерлина», Гараль-да Прекрасноволосого из «Круга земного» Снорри Стурлусона38.
Таким образом, в распоряжении действующих лиц политики был готовый пример из современной им художественной литературы, показывавший, как надо рассматривать брак между королем и королевой и какие выводы делать из его состояния относительно
62
компетенций властителя. Основываясь на этой литературе, можно было прийти ко вполне определенному выводу, что Эдуард как король потерпел крах. Стоит нам допустить предположение о такой роли литературных образцов, как придется признать не только то, что описание мира власти в литературе являлось некоторым отражением вне литературной действительности, но и, напротив, что пространство политического общения, в свою очередь, во многом строилось на образцах из художественной литературы. «Литература» и «жизнь» как бы взаимно влияли друг на друга.
Когда в начале января 1327 г. собрался парламент39, все его члены, наверное, догадывались, что им предстоит решиться на самые радикальные шаги. Целую неделю, с 7 по 12 января, все пребывали, похоже, в полной растерянности, вроде бы дожидаясь возвращения посланцев, отправленных пригласить на заседание короля, заключенного в далеком Кенилворте. Когда делегация вернулась, сообщив, что Эдуард отказался явиться в парламент, первым делом была выслушана проповедь епископа Орлетонского. И она была посвящена не чему иному, как браку короля1. Если Изабелла останется со своим супругом, он ее убьет. В заключение Орлетон спросил присутствующих, не было бы лучше, если бы ими впредь правил сын короля. Опять, похоже, наступила всеобщая растерянность и парламент разошелся, не приняв никакого решения. Единственное предложение состояло в том, чтобы всем собраться вновь на следующий день после хорошего завтрака и уже тогда ответить на вопрос епископа40. Чтобы оценить качества Эдуарда как правителя, можно было, пожалуй, воспользоваться образами «негодного короля» и его сомнительной личной жизни - образами, идущими из художественной литературы того времени. Однако все еще недоставало процедуры, по которой следовало действовать дальше. Здесь, впрочем, тоже был готовый образец, только он не имел отношения к традициям поведения баронской оппозиции. Дальнейшие шаги помогла сделать политическая культура городской коммуны.
Низложение и коммуна
В действительности Вестминстерский парламент, собравшийся в январе 1327 г., очевидно, целую неделю не знал, как ему следует поступить и на какие шаги он имеет право, исходя из английской политической традиции. Эдуарда пригласили скрепя сердце, ощущая всю неловкость положения, - ведь парламент обычно собирался под председательством короля41. Его категорический отказ прибыть м°жно было в конце концов объявить очередным выражением его Зак°снелости - партия Изабеллы, возможно, вздохнула тут с облеганием. Конечно, речь епископа Орлетонского о состоянии брака
63
Эдуарда и Изабеллы давала возможность противникам короля высказаться всласть, но как следовало действовать далее?
В этой ситуации 12 января в парламент передали письмо, в котором бургомистр и олдермены города Лондона спрашивали архиепископов, епископов, графов, баронов и других магнатов, не желают ли они в согласии с городом Лондоном присягнуть в том, что они будут поддерживать дело Изабеллы, королевы Англии, и Эдуарда, ее старшего сына, дабы короновать его и низложить его отца Эдуарда по причине зла, которое он часто причинял вопреки своей клятве и своей короне42. Таким образом дело сдвинулось с мертвой точки. На следующий день начались хождения членов парламента в Гилдхолл - лондонскую ратушу, - продолжавшиеся не менее трех дней43. Прелаты и светская знать, а также представители других городов королевства вступили в уже существовавшую городскую coniuratio - союз, основанный на взаимной клятве. Они присягнули в двух вещах: во-первых, в том, что будут поддерживать дело королевы и ее сына, во-вторых, в том, что сохранят свободы города Лондона44. Вновь собравшись в Вестминстере, парламент в ходе ритуального акта объявил короля низложенным45 и направил к нему делегацию, которая от имени всех подданных разорвала принесенную ранее государю ленную клятву46.
Это событие важно не только для английской истории. И в общеевропейском масштабе оно является первым опытом создания формальной процедуры прекращения власти короля, которая самими современниками была безоговорочно квалифицирована как depositio (низложение). Если в римско-германской империи этого понятия еще не употребляли ни в связи с королем Адольфом Нассауским в 1298 г., ни даже во время Лионского собора 1245 г., выступившего против императора Фридриха II47, то после 1327 г. не было уже ни одного процесса по низложению короля, в котором его участники не говорили бы именно о низложении. При этом практика низложения государя была вдохновлена отнюдь не теорией низложения королей, разработанной в каноническом праве, и не воспроизводила образец низложения епископов и священников, как до сих пор было принято считать в научных исследованиях48. Она выросла из мира городской коммуны, а не государства, возникнув в контексте не церковных или ленных отношений, а союза горожан, скрепленного присягой. Она сформировалась по образцу организации товариществ взаимопомощи, к которым горожане прибегали со времени высокого Средневековья при столкновениях с окружавшей города знатью. Данное обстоятельство, конечно, весьма существенно, так что этот знаменательный перенос городской традиции на общегосударственную практику следует рассмотреть подробнее. При этом в первую очередь нужно прояснить «коммунальное» измерение событий.
64
Когда в январе 1327 г. закончилось правление Эдуарда, лондонцы могли вспомнить, как уже в течение восьми лет король вмешивался во внутригородские конфликты. Вероятно, под давлением тех или иных внутригородских партий с 1319 г. Эдуард снимал с должностей бургомистров, олдерменов и других магистратов49. Одна следственная комиссия, которую лондонцы одновременно и ненавидели, и использовали в своих интересах, вообще отняла у города пост бургомистра и подчинила метрополию королевскому custos (наместнику). Лиц, принадлежавших к правившей до тех пор элите, обвинили в заговоре. Прекрасно информированный хронист, трудившийся при соборе Св. Павла, описывая все эти конфликты, неоднократно использует слова, родственные слову depositio50. Когда король Эдуард в апреле 1323 г. в очередной раз вторгся в городские дела и даже увез как пленника вместе со своим двором на Север королевства смещенного бургомистра, казалось, в городе и произошел решающий перелом в настроениях. В те месяцы недовольство королевской политикой выросло по всему государству, потому что Эдуард предоставил своему фавориту Деспенсеру полную свободу действий. В таких условиях вмешательство короля в городскую конституцию представлялось еще менее приемлемым, чем обычно, -похоже, тогда и возникло сопротивление. Одна городская хроника на французском языке сразу за рассказом о последнем (на тот момент) смещении бургомистра без какого бы то ни было перехода сообщает о многочисленных чудесах, произошедших в том же году в соборе Св. Павла на плите, помещенной там Томасом Ланкастером, впоследствии казненным Эдуардом51. Выходит, к тому времени свою заинтересованность в деле противников Эдуарда стал проявлять уже и «простой народ», а не одна лишь городская олигархия.
После того как королева со своими приверженцами высадилась в Англии, communitas (лондонская община) обратилась против сторонников Эдуарда. Когда архиепископ Кентерберийский распорядился огласить в соборе Св. Павла буллу с отлучением мятежников от церкви, клир и народ подняли ропот52. Первое письмо королевы к горожанам, в котором она требовала от них поддержки, было, очевидно, перехвачено магистратом, однако второе до populus (народа) дошло. Люди действовали теперь уже организованно: письмо было тайно размножено и его копии ранним утром оказались развешенными на видных местах города53. Против бургомистра понадобилось применить хитрость: хотя он сам до недавнего времени был вождем оппозиции среди лондонцев, но его враждебное отношение к Роджеру Мортимеру делало его противником королевы. Похоже, 15 октября заговорщики специально дожидались, пока он покинет Гилдхолл и отправится совещаться к доминиканцам, и только тогда выступили - по сигналу totus populus civitatis cum maximo impetu (все жители города поднялись с огромным воодушевлением)54.
5 Образы власти...
65
Именно в ту минуту и возникла та coniuratio, благодаря которой Эдуард через три месяца лишится трона. Когда бургомистр возвратился в город, в котором установился уже новый политический порядок, он якобы воскликнул: «Сжальтесь надо мной!» Заламывая руки, он присоединился в Гилдхолле к требованиям коммуны55.
Это означало первое существенное расширение клятвенного союза: весь город - как простые граждане, так и магистраты - заявили теперь о своей поддержке Изабеллы. Люди взялись за оружие, и никем не управляемые толпы лондонцев бросились в атаку. Один из домочадцев Деспенсера, а главное, епископ Экстерский были убиты на месте. Начались грабежи, констебля королевского Тауэра заставили выдать заключенных. Как только те вышли на свободу, от них сразу же потребовали принести клятву коммуне поддерживать дело королевы и ее сына, а также соблюдать права города и сохранять мир56. Спустя ровно месяц coniuratio сделала еще одно ценное «приобретение»: в нее вступил епископ Винчестер, эмиссар королевы. Он дал клятву защищать свободы города tamquam custos thesauri domini regis (как хранитель казны государя короля) и разрешил coniuratio лондонцев снова избирать бургомистра. Тем самым город возвращал себе важнейшие права, которые у него оспаривал Эдуард II57. В предпоследний день года коммуне присягнул каждый житель Лондона58.
Так сложилась та ситуация, о которой уже говорилось выше. Клятвенное объединение лондонцев распространилось 12 января 1327 г. на парламент, или иначе: оно помогло еще не укрепившемуся институту парламента вновь обрести способность действовать, которую тот утратил в связи с неординарностью произошедшего. Решающие проповеди против короля прозвучали в парламенте в Вестминстере, а также перед собранием присяжных в Гилдхолле. Но много лондонцев приняло участие и в происходившем в Вестминстере: они вообще очень старались, чтобы по возможности все политические силы демонстрировали свое единство59. Спустя неделю после объединения одной присягой городской коммуны с магнатами страны в союз вступил даже осторожный архиепископ Кентерберийский со своей партией сторонников соглашения между противниками. Архиепископ принес извинения, что так долго оставался в стороне, и подарил собранию 50 бочек вина60.
Это и был тот процесс, который сделал низложение короля в Англии политически возможным. Решающую роль в нем сыграли не магнаты и не парламент; напротив, центральные учреждения королевства заимствовали политические механизмы у городской коммуны; произошел своего рода выплеск из одной политической культуры в другую, которые существовали хотя и одновременно, но отдельно друг от друга61. Джеймс Холт показал в своей авторитетной книге о Великой хартии, что уже объединение 1215 г., выступившее
66
против короля Иоанна и назвавшее себя communitas totius terrae (общиной всей земли), было создано по образцу лондонской коммуны62. Теперь стало ясно, что в политической культуре коммуны и позже содержались такие модели политического действия, к которым могла прибегать общегосударственная политика; эта культура сопровождала процесс складывания общегосударственных институтов и влияла на него, а следовательно, и на все политико-правовое устройство страны. Однако и за пределами Англии свержение Эдуарда II вполне могло послужить в качестве образца. Похоже, что в низложении шведского короля Магнуса Эрикссона в 1363-1364 гг. важную роль опять-таки сыграла еще одна городская коммуна -Стокгольма63. Да и сами лондонцы, похоже, вновь проявили большую активность при низложении короля Ричарда II64.
Союз, начавший складываться в Лондоне, оказался к моменту свержения Эдуарда II во всех отношениях выстроенным по образцу городских коммун. Он основывался, как было показано, на взаимной присяге, которая для всех была обязательна и которая утверждала amicitia (дружбу) и рах (мир) среди участников соглашения. Союз был внутренне структурирован, что доказывается успехом его тайной деятельности, целенаправленно ведшей к восстанию 15 октября 1326 г. Особенно хорошо это проявилось в тот момент восстания, когда городским магистратам, захваченным общиной врасплох, пришлось наконец встать во главе движения и управлять происходящим. Таким образом, городская «конституция» оказалась задним числом включена в «революционную» коммуну и приняла участие в ее организационном оформлении. Нормы, к выполнению которых обязали себя члены коммуны, в конце концов завоевали все пространство города. Хроники отмечают с раздражением, что лондонцы всех, кто хотел войти в город, принуждали к даче клятвы - никто не мог увильнуть от этого! К тому же лондонцы ни за что не хотели выпускать инициативу из рук, даже после того как побратались с магнатами! В Гилдхолле присягу по-прежнему принимал писец шерифа, даже если присягали прелаты королевства. Эта миссия, предполагавшая обладание властью и одновременно служившая ее символическим выражением, не перешла к группе каких-нибудь магнатов65.
Сверх того, задачи созданного лондонцами союза ни в коей мере не ограничивались одним лишь свержением короля. Похоже, он изначально нацеливался на «тотальную» социальную интеграцию. Примечательно (хотя и вполне закономерно, если вспомнить истории разных коммун), что присягнувших объединял также и свой культ - почитание «святого» Томаса Ланкастера, самого выдающегося противника Эдуарда II. У плиты, которую seint Thomas установил в соборе Св. Павла в напоминание лондонцам о своих политических деяниях, вдруг начали излечиваться паралитики, слепые вновь
67
обретали зрение, а глухие - способность слышать. В июле 1326 г. эту плиту по распоряжению короля убрали, но на третий же день, после того как в октябре выступила communitas лондонцев, она была возвращена на прежнее место66. Даже на первом парламентском заседании под председательством Эдуарда III юного короля попросили выступить в поддержку канонизации de noble count de Lancastre et de saint memorie Robert erscheuek de Canterbirs (благородного графа Ланкастера и священной памяти Роберта, архиепископа Кентерберийского)67.
То, что совершил клятвенный союз лондонцев, было действительно революционно. Осознавая себя одно время в качестве противника городских властей, он тайно сорганизовался, выступил по условленному сигналу, совершил яркие акты насилия, выработал воинственную риторику, включив в присягу альтернативу - либо готовность к общей жизни, либо же смерть. Он стремился привлечь к себе всех, на ком лежала политическая ответственность. При этом, вероятно, он не ограничивался легким нажимом и последовательно продвигался к цели приобщить к своим действиям все собравшиеся в парламенте сословия. Целый ряд епископов, похоже, отчаянно сопротивлялись вступлению в этот союз; архиепископ Кентерберийский и другие в конце концов уступили нажиму, другие, как лондонский епископ или же архиепископ Йоркский, сопротивлялись стойко, но в ходе процесса низложения короля были оттеснены на периферию событий68. Не обошлось даже без характерных нападок на коммуны: например, в окружении рочестерского епископа коммуну называли языческой, так как принесение присяги представлялось писавшим сродни принесению жертвы Мухаммеду69.
Эдуард, Изабелла и коммуна согласно «вигской трактовке истории»
Когда в первой половине XX в. почтение к конституционной истории как академической дисциплине пошло на убыль и она стала уступать по своему авторитету утвердившейся политической истории (political history)70, то сократилось и прежнее влияние «вигского» метанарратива Стаббса. Вдохновленные прежде всего оксфордским историком Кеннетом Б. Макфарлэйном, ученые попытались судить о сложном мире аристократов позднего Средневековья в соответствии с его собственной логикой, а не по его предполагаемому вкладу в самореализацию английской нации, для чего они начали применять новые методы его изучения71. Приоритетным направлением стала просопография, перевернувшая восприятие позднего Средневековья с головы на ноги72. Теперь занялись эмпирикой, а не экзегезой. Прежняя уверенность сменилась постановкой новых вопросов.
68
Определялось ли развитие политической системы стремлением ее основных действующих лиц добиться правовой фиксации сложившегося в тот или иной момент соотношения сил, вследствие чего английское государство можно было бы определять как правовое (law state)73? Или же в нем надо скорее усматривать военное государство (war state), поскольку характерные черты его институтов сложились в ходе почти постоянных войн с шотландцами и французами74? Или же не образовалось ли под влиянием войн из «правового государства» XIII в., к разочарованию его подданных, «военное государство», не оправдавшее их надежд, родившихся в ходе многообещающего развития в XIII в.75? И наконец: усилилось ли у англичан отождествление себя с государством или же, наоборот, ослабело, сформировалось ли политическое общество (political society) с определенным весом или же тлеющее недовольство должностными лицами совершенно закономерно вылилось в крестьянский мятеж 1381 г.76? В этой-то атмосфере и развернулась критика к тому времени уже давно покойного Стаббса за то, что он был влиятелен и старомоден одновременно77.
Но такой метанарратив, как «вигская интерпретация истории», продолжает оказывать подспудное воздействие даже тогда, когда уже едва ли кто бы то ни было объявит себя вслух сторонником этих взглядов, - и то же самое относится к миру образов «Конституционной истории», по-прежнему обладающему большой силой воздействия. Конечно, и без этой книги есть достаточно оснований считать Эдуарда II неспособным монархом. «Эдуард II был одним из самых неудачливых королей среди тех, кто когда-либо правил Англией», -так начинает Майкл Прествич свой рассказ об Эдуарде в главе под названием «Эдуард II - некомпетентный король». По мнению Прест-вича, нет смысла изучать структуру политического ландшафта тех лет, потому что такового вовсе не было: «...политика этого периода потеряла всякую ясность очертаний, растворившись в неопределенной путанице сложных пересекающихся зависимостей, управляемых эгоистичными амбициями и ненавистью»78. Одного-единст-венного короля-неудачника оказалось достаточно, чтобы сбросить с петель всю политическую систему (в существовании каковой Прествич, впрочем, не сомневается). Все что остается - это узел из страстей, хаоса и убийств. Зато Мэй Маккизэк в своей монографии, вышедшей в «Оксфордской истории Англии», призывает к пониманию слабовольного сына успешного отца и состраданию к нему: она полагает, что хронисты вынесли ему слишком суровый приговор79. Впрочем, в отличие от Стаббса, Маккизэк считает, что нация должна рассматриваться не как индивид высшего порядка и «подлинный» объект исторического исследования, а во всяком случае как творение рук человеческих. Ее Эдуард запутался в совершенно прозаиче-ских структурных трудностях - в войнах и финансовых кризисах.
69
Такой функционалистский взгляд на вещи сегодня преобладает80, и образ королевы, превосходящей воинской мощью своего супруга, попал и в самые последние работы.
Даже там, где на место конституционной истории пришел структурный анализ, значение лондонской коммуны в деле низложения по-прежнему обычно недооценивается. Историки, как и встарь, твердо придерживаются субстанциального понимания политики, при котором они заранее знают, какие группы интересов следует учитывать при анализе, а какие нет. Лондон остается в изображении Маккизэк городом мятежа, местом бессудных расправ, родиной сброда81, запугивающего парламент. Ей известно письмо, в котором лондонцы призывают магнатов объединиться с ними в коммуну. Но она так включает этот важнейший исторический источник в общее описание событий, что он остается изолированным, вследствие чего инициаторами низложения короля снова предстают политические деятели из аристократов. Народной поддержкой (popular support) дела королевы дирижирует партия Мортимера, епископы ездят к королю, и они же проповедуют против Эдуарда. Ни слова о том, что это лондонцы возглавляли процедуру приведения к присяге всех отступившихся от короля82. Марк Ормрод пишет кратко и категорично: «...однако в конечном итоге режим Эдуарда II и Деспенсеров был обречен на гибель от рук аристократической оппозиции»83.
Гвин Уильямс в своей книге 1963 г., посвященной лондонской коммуне, ясно разглядел, что именно произошло в январе 1327 г.: «То, что совершили лондонцы, было, в сущности, созданием коммуны, основанной на клятве, с целью низложить Эдуарда II»84. Однако мир города и мир магнатов противостоят один другому не только в плане различий их политической культуры в Средние века. И сегодня изучением истории городов и изучением истории государств занимаются два различных направления в культуре научного исторического знания. Хотя у них обоих по сути дела один и тот же предмет изучения, они плохо осведомлены о достижениях друг друга85.
1 Количество исследований, посвященных образному арсеналу Средневековья и образу его самого, стало уже воистину необозримым. Изучением этой темы, вдохновленным работами по иконографии и иконологии искусствоведов Эрвина Панофского, Аби Варбурга и их современников, ярко отмечено творчество таких историков, как Перси Эрнст Шрамм, Эрнст X. Канторович, Жак Ле Гофф, Жан-Клод Шмитт, Мишель Пастуро, Мишель Камилль, Хартмут Бок-манн и мн. др. О методе см.: Talkenberger И. Von der Illustration zur Interpretation: Das Bild als historische Quelle // Zeitschrift fur Historische Forschung. 1994. Bd. 21. S. 289-313; Historische Bildkunde. Probleme - Wege - Beispiele I Hrsg. von B. Tolkemitt und R. Wohlfeil. B., 1991 (Zeitschrift fur Historische Forschung. Beih. 12); Die Methode der Bildinterpretation. Deutsch-franzosische Kolloquien 1998-2000 I Hrsg. von A. von Hulsen-Esch und J.-C. Schmitt. Bd. 1-2. Gottingen, 2002 (Gottinger Gesprache zur Geschichtswissenschaft. Bd. 16).
70
2 Oexle O.G. «Die Statik ist ein Grundzug des mittelalterlichen BewuBtseins». Die Wahmehmung sozialen Wandels im Denken des Mittelalters und das Problem ihrer peutung // Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahmehmungsformen, Erklarungsmuster, Regelungsmechanismen / Hrsg. von J. Miethke und K. Schreiner. Sigmaringen, 1994. S. 45-70; Idem. Die Modeme und ihr Mittelalter. Eine folgenreiche Problemgeschichte // Mittelalter und Modeme. Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Welt. KongreBakten des 6. Symposiums des Mediavistenverbandes in Bayreuth 1995 / Hrsg. von P. Segl. Sigmaringen, 1997. S. 307-364; Kuchenbuch L. Mediavalismus und Okzidentalistik. Die erinnerungskulturellen Funktionen des Mittelalters und das Epochenprofil des christlich-feudalen Okzidents Ц Handbuch der Kulturwissenschaften / Hrsg. von F. Jaeger et al. Stuttgart, 2004. Bd. 1. S. 490-505. Я благодарен г-ну Л. Ку-хенбуху, познакомившему меня с рукописью этой статьи.
3 Fried J. «Gens» und «regnum». Wahmehmungs- und Deutungskategorien des politischen Wandels im friiheren Mittelalter. Bemerkungen zur doppelten Theo-riebindung des Historikers // Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahmehmungsformen, Erklarungsmuster, Regelungsmechanismen / Hrsg. von J. Miethke und K. Schreiner. Sigmaringen, 1994. S. 73-104.
4 Наряду с литературой, указанной в примем. 2, см. также: Oexle O.G. Das Bild der Moderne vom Mittelalter und die modeme Mittelalterforschung // Friihmittelalterliche Studien. 1990. Bd. 24. S. 1-22; Idem. Das entzweite Mittelalter // Die Deutschen und ihr Mittelalter. Themen und Funktionen modemer Geschichtsbilder vom Mittelalter / Hrsg. von G. Althoff. Darmstadt, 1992. S. 7-28.
5 Assmann J. Agypten. Eine Sinngeschichte. Munchen; Wien, 1996.
6 В качестве образца полемического выступления в Англии против либеральной (вигской) идеологии прогресса см.: Butterfield Н. The Whig Interpretation of History. N.Y., 1965; об авторе и его среде см.: Soffer R.N. British Conservative Historiography and the Second World War // British and German Historiography 1750-1950. Traditions, Perceptions, and Transfers / Ed. by B. Stuchtey and P. Wende. Oxford, 2000. P. 373-399 (Studies of the German Historical Institute London).
7 Rexroth F. Tyrannen und Taugenichtse. Beobachtungen zur Ritualitat europai-scher Konigsabsetzungen im spaten Mittelalter // Historische Zeitschrift. 2004. Bd. 278. S. 27-53. В сравнительно-исторических исследованиях об актах низложения европейских королей пока что указывалось прежде всего на роль, сыгранную в них интенсификацией (благодаря церковному праву и ученым юристам) правовых отношений в Европе, начиная со спора об инвеституре и особенно с XIII в.: Hageneder О. Das papstliche Recht auf Fiirstenabsetzung, seine kanonistische Grundlegung (1150-1250) // Archivum Historiae Pontificae. 1963. Bd. 1. S. 53-95; Warr J A. Medieval Deposition Theory, a Neglected Canonist Consultation from the First Council of Lyons // Studies in Church History. 1965. Bd. 2. P. 197-214; Caspary G.E. The Deposition of Richard II and the Canon Law // Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law. Citta del Vaticano, 1965. P. 189-201; Schnith K. Gedanken zu den Konigsabsetzungen im Spatmittelalter Ц Historisches Jahrbuch. 1971. Bd. 91. S. 309-326; Fowler L. Innocent Uselessness in Civilian and Canonist Thought // Zeitschrift der Savigny-Gesellschaft fur Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung. 1972. Bd. 58. S. 107-161; Kempf F.SJ. Die Absetzung Friedrichs II. im Lichte der Kanonistik // Probleme um Friedrich II / Hrsg. von J. Heckenstein. Sigmaringen, 1974. S. 345-360 (Vortrage und Forschungen, 16);
A On ^position of the Pope for Heresy // Archivum Historiae Pontificiae.
5. Bd. 13. P. 231-248; Folz R. Translation de 1’Empire et deposition de 1’Empereur ans la vision des canonistes et des papes (1140-1245) // Deus qui mutat tempora. enschen und Institutionen im Wandel des Mittelalters. Festschrift fur Alfons Becker zu
71
seinem 65. Geburtstag / Hrsg. von E.-D. Hehl, H. Seibert und F. Staab. Sigmaringen, 1987. S. 321-334; Jefferson L. Use of Canon Law, Abuse of Canon Lawyers in two Cantigas concerning the Deposition of D. Sancho II of Portugal // Portuguese Studies. 1993. Vol. 9. P. 1-22; Walther H.G. Der gelehrte Jurist als politischer Ratgeber: die Kolner Universital und die Absetzung Konig Wenzels 1400 // Die Kolner Universitat im Mittelalter. Geistige Wurzeln und soziale Wirklichkeit / Hrsg. von A. Zimmermann. B., 1989. S. 467—487 (Miscellanea Mediaevalia, 20); Idem. Das Problem des untauglichen Herrschers in der Theorie und Praxis des europaischen Spatmittelalters Ц Zeitschrift fiir Historische Forschung. 1996. Bd. 23. S. 1-28. Совершенно иная точка зрения в работе: Peters Е. The Shadow King. Rex inutilis in Medieval Law and Literature 751-1327. New Haven; L., 1970.
8 О его низложении см.: Valente С. The Deposition and Abdication of Edward II // English Historical Review. 1998. Vol. ИЗ. P. 852-881; Eadem. The «Lament of Edward II». Religious Lyric, Political Propaganda // Speculum. 2002. Vol. 77. P. 422-439.
9 Fryde N. The Tyranny and Fall of Edward II, 1321-1326. Cambridge; L.; N.Y., 1979; Ormrod W.M. England: Edward II and Edward III // The New Cambridge Medieval History I Ed. by M. Jones. Cambridge, 2000. Vol. 6. P. 273-296; там же см. библиографию на с. 950-951; Haines R.M. King Edward II, His Life, His Reign, and its Aftermath, 1284-1330. Montreal et al., 2003.
10 Walker S. Political Saints in Later Medieval England // The McFarlane Legacy. Studies in Late Medieval Politics and Society / Ed. by R. Britnell and A.J. Pollard. Stroud; N.Y., 1995. P. 77-106, здесь 83. См. об этом также ниже, в примеч. 66.
11 Впервые о них можно прочитать в появившихся после 1341 г. Хрониках Джоффри ле Бейкера: Chronicon Galfridi le Baker de Swynebroke / Ed. by E. Maunde Thompson. Oxford, 1889. P. 33.
12 Cuttino G.P., Lyman T.W. Where is Edward II? // Speculum. 1978. Vol. 53. P. 522-543. Еще в 1338 г. сын Эдуарда, тоже Эдуард, считал вероятным, что его отец все еще жив, во всяком случае он принял некоего Уильяма ле Гэйли, объявившего, что он отец государя короля («qui asserit se patrem domini regis»). Andre E. Ein Konigshof auf Reisen. Der Kontinentalaufenthalt Eduards III. von England 1338-1340. Koln; Weimar; Wien, 1996. S. 217. (Archiv fiir Kulturgeschichte, Beih. 41).
13 Campbell J. Stubbs and the English State. Reading, 1989.
14 Stubbs W. The Constitutional History of England in its Origin and Development. Vol. 1-3. Oxford, 1874-1878. В дальнейшем ссылки я даю в основном тексте с указанием тома и страниц (например: т. 2, с. 388). При этом я ссылаюсь не на первое издание, впоследствии неоднократно перерабатывавшееся, а на так называемое «библиотечное издание» («Library Edition») 1880 г.
15 Campbell J. Stubbs, Maitland, and Constitutional History // British and German Historiography... P. 99-122; Idem. William Stubbs (1825-1901) // Medieval Scholarship: Biographical Studies on the Formation of a Discipline / Ed. by H. Damico and J.B. Zavadil. N.Y., 1995. Vol. 1. P. 77-88; Burrow J.W. A Liberal Descent: Victorian Historians and the English Past. Cambridge, 1981. P. 126-151, эту цитату см.: Ibid. P. 129.
16 Здесь очевидны параллели с историческими трудами Леопольда фон Ранке, испытавшими сильное воздействие современной ему художественной поэтики. В возникновении такого параллелизма, возможно, сыграли роль исторические романы Вальтера Скотта. См.: Fulda D. Wissenschaft aus Kunst. Die Entstehung der modemen deutschen Geschichtsschreibung 1760-1860. B.; N.Y., 1996. S. 390-404; Hardtwig W. Historismus als asthetische Geschichtsschreibung: Leopold
72
von Ranke // Geschichte und Gesellschaft. 1997. Bd. 23. S. 99-114, где на с. 104 см. дальнейшие библиографические указания.
17 Ср., например, комментарий II, 382 к статутам города Йорка (1322 г.): они уже «воплощают замечательным образом дух конституции» - той самой конституции, которая еще только должна быть разработана!
18 Butterfield Н. Op. cit.; ср.: «Считалось, что гений англичан состоял в их умении проходить между крайностями анархии и тирании, которыми оказались отмечены истории их не столь замечательных европейских соседей» (Pollard AJ. Late Medieval England 1399-1509. Harlow et al., 2000. P. 1).
19 Burrow J. IT. Op. cit. P. 126.
20 Stubbs W. Select Charters and other Illustrations of English Constitutional History from the Earliest Times to the Reign of Edward the First. Oxford, 1913 (9th ed.). P. 55-56.
21 ButtR. A History of Parliament. The Middle Ages. L., 1989. P. 223-224.
22 Annales Paulini // Chronicles of the Reigns of Edward I and Edward II / Ed. W. Stubbs. Vol. 1. L., 1882. P. 253-370, здесь 315 (Rolls Series Vol. 76,1); Croniques de London / Ed. G.J. Aungier. L., 1844. P. 51-52 (Camden Society, First Series, 28); Williams GA. Medieval London: From Commune to Capital. L., 1963. P. 295.
23 Среда первой недели Великого поста (примеч. ред.}.
24 Это письмо напечатано: Responsiones Adae quondam Wigomiensis episcopi ad appellationem contra ipsum propositam, A. D. 1334 // Historiae Anglicanae Scriptores decem. L., 1652. Col. 2763-2768, здесь 2767-2768.
25 «En cele temps la reyne usa simple apparaille come dame de dolour qe avoit son seignour perdue. Et pur langwis q’ele avoit pur maintener la pees, le commune poeple mult la pleinoit» (Croniques de London. P. 49).
26 Архиепископ Кентерберийский и епископ Лондонский около 1 мая 1326 г. запретили епископу Херефордскому утверждать, что король изгнал королеву и сына. См.: Registrum Ade de Orleton episcopi Herefordensis, A. D. 1317-1327. L., 1908. P. 359-361 (Canterbury and York Society).
27 Willelmus de Dene. Historia Roffensis ab anno MCCCXIV ad MCCCL H Anglia sacra, sive collectio historiarum. P. 1 / Ed. H. Wharton. L., 1691. P. 356-377, здесь 366.
28 Croniques de London. P. 55.
29 Responsiones Adae quondam Wigomiensis episcopi. Col. 2767.
30 Haines R. M. Looking Back in Anger: A Politically inspired Appeal against John XXII’s Translation of Bishop Adam Orleton to Winchester (1334) // English Historical Review. 2001. Vol. 116. P. 389-404, 393, ср. также: «[Adam de Orleton] pertinaciter predicavit et asseruit puplice tunc ibidem falso tamen et dolose quod si domina Isabella regina Anglie tunc uxor legitima regis predicti ad ipsum regem personaliter accederet idem rex ipsam reginam interficeret et quod in una caligarum portavit cultellum ad hoc specialiter destinatum, quodque si aliud paratum non haberet unde predictam reginam interficere posset ipsam ad mortem dentibus strangularet» (Ibid. P. 402). Cp.: Usher G.A. The Carreer of a Political Bishop: Adam de Orleton (c. 1279-1345) // Transactions of the Royal Historical Society. Fifth Series. 1972. Vol. 22. P. 33-47, здесь 45—46.
31 Хронику Пайпуэлла см.: Clarke M.V. Medieval Representation and Consent. A Study of Early Parliaments in England and Ireland, with special Reference to the «Modus tenendi parliamentum». L.; N.Y.; Toronto, 1936. P. 194.
Responsiones Adae quondam Wigomiensis episcopi. Col. 2765; Usher GA. Op. Clt- CP.: Haines R.M. Looking Back... P. 389-404.
Chronicon Galfridi le Baker. Чтобы использовать стереотип перевернувшегося мира, автор здесь сильно преувеличивает и жестокосердие Изабеллы, и ее
73
полководческую роль: «regina cum exercitu properavit...» (P. 24); «regina ... exerci-tus dividit»; «per regine potenciam»; «Regina, exertui presidente» (P. 25) и т.д. К тому же она оказывается жестокосердной «мужебабой»: «...in irate femine mi-sericordiam»; «virago» (P. 24); «ferrea virago»; «femina crudelis» (P. 29). Подстрекателем же является епископ Херефордский, воистину дьявольская фигура (Р. 29). Противники Эдуарда называются «tiranni» (Р. 33). «Содержание» («dos»), назначенное Изабелле, было якобы столь безрассудно высоким, что Эдуарду III и Филиппе осталась только треть доходов короны (Р. 28).
34 postquam primo vidit illam, nunquam aliam mulierem potuit amare» (Chronicon Galfridi le Baker. P. 29). См. там же и дальнейшие высказывания.
35 «Quot amorosa teleumata voce submissa tamquam alter Orfeus concinuit, set incassum!» (Chronicon Galfridi le Baker. P. 29). При этом имеется в виду не собственно миф об Орфее, а среднеанглийский роман в стихах о сэре Орфее, «карамельно-приторный, приглаженный вариант известной истории об Орфее и Эвридике», см.: Falk О. The Son of Orfeo: Kingship and Compromise in a Middle English Romance // Journal of Medieval and Early Modem Studies. 2000. Vol. 30. P. 247-274.
36 Chronicon Galfridi le Baker. P. 33.
37 Peters E. Op. cit.
38 Kennedy E.D. Sir Orfeo as «Rex Inutilis» // Annuale Mediaevale. 1976. Vol. 17. P. 88-110; Falk О. Op. cit.; Jakobsson A. The Rex Inutilis in Iceland // Majestas. 1999. Vol. 7. P. 41-53.
39 Я присоединяюсь к той реконструкции хода событий, которую предприняла К. Валент: Valente С. The Deposition... Р. 855. В вопросе о том, прозвучала ли проповедь Адама Орлетона о страхе королевы 7 или 12 января, нет полной ясности. В упомянутой Historia Roffensis - важнейшем источнике о содержании проповеди - она датируется 7 января (Р. 367). Но в тот день Орлетон находился еще на пути к плененному королю.
40 «In quo [parliamento] per Herefordensem Episcopum, adhaerentibus sibi multis aliis Episcopis, propositum fuit; quod si Regina Regi adhaereret, occideretur ab eo. Et tandem quaesitum fuit, quem mallent regnare patrem Regem vel filium; et hoc primo die Parliament!. Et congregatis in Parliamento per eundem Episcopum injunctum fuit, quod quilibet ad suum hospitium iret, et in crastino post sumptionem cibi et potus omnes potati redirent, et quaesitioni [!] Episcopi responderent hora tertia» (Historia Roffensis. P. 367).
41 Butt R. Op. cit. P. 224.
42 «Fait a remember qe le Lundy proschein devant le iour seint Hiller lan du regne le Roi Edward filz le Roi Edward XXme [1327 Jan. 12] furent maundez as Ercevesqes, Evesqes, countes, barons et a autres grantz Dengleterre deper Richard de Betoyne meire, andremans et deper tote la comunalte de Loundres en messages - Hamond de Chigwell, Nicholas de Famdon, Hamond Godchep andremans, Robert de Ely, Thomas Edmund, Simon de Swanlond, Henry Darci, Thomas de Betoyne et Michel Minot citezeyns -a demander sils voleyent estre del acord de la citee et iurer de meyntener la querele Isabelle Roine Dengleterre et de Edward son eysne fuitz et a coroner mesme celui Edward et deposer son piere pur les mauveistes qil ount sovent faitz countre son serment et encontre sa corone» (Corporation of London Record Office. Plea and Memoranda Roll A 1 B. Suppl. membr. 2r).
43 Список, составленный лондонцами, см.: Calendar of Plea and Memoranda Rolls, preserved among the Archives of the Corporation of the City of London at the Guildhall... A. D. 1323-1364 / Ed. A.H. Thomas. Vol. 1-6. Cambridge, 1929-1961. P. 12-14.
74
44 Это зафиксировал названный в примеч. 42 документ, на том же листе, что и запрос лондонцев: «[На полях: Sacramentum factum per diversis pro communitate regno manutenendo] Vous jurrez qe a tut votre sen et poair vous eydez a garder et sauver le corps Isabell Roine [!] Dengleterre et de Edward fitz eynez du Roi Dengleterre et heir apparaunt du roialme Dengleterre et en la querele qe les ditz Roine et Edward ount ... Hugh le Despenser le fiutz et mestre Robert de Baldok lour enemys et lour aherdantz a tut votre sen et poair les eyder et le conseil qe vous serra demandee leaument dirrez et ceo qe vous saverez du conseil leaument celerez et les fraunchises de la citee sauverez et garderez et totes leschoses qi ount este factes par reson de cele querele a tut votre sen et poair meyntendrez et ceo ne lerrez pur vivre et morir si dieu vous eyd [!] et ses seintz».
45 Valente C. Deposition... P. 858.
46 Ibid. P. 860-861.
47 MGH, Constitutiones. Bd. 3. Nr. 589; Corpus luris Canonici I Ed. A. Friedberg. Leipzig, 1879. Bd. 2 Sp. 1008-1009; cp.: MGH, Epist. saec. XIII / Ed. K. Rodenberg. B., 1887. Bd. 2. N 124, особенно S. 93.
48 Cheyette F. [Рец. на: Peters E. Op. cit.] // American Historical Review. 1972. Vol. 77. P. 759-760.
49 Williams G.A. Op. cit. P. 281, 285. Об этих снятиях с должностей в 1320 г. см. также: Weinbaum М. London unter Edward I. und II. Verfassungs- und wirtschafts-geschichtliche Studien. Untersuchungen und Texte. Stuttgart, 1933. Bd. 2. S. 176 (Beihefte der Vierteljahrsschrift fur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 29); там прямо говорится, что король действовал по настоянию одной из городских партий: «...quod ipse [Robert de Keleseye] nuper fuit unus ex Aldermannis Civitatis predicte et postmodum expulsus fuit a consilio communitatis Civitatis predicte per quodsam emu-los suos, et ab officio Aldermannerie amotus, unde dicit, quod licet ipse non sit culpa-bilis de aliqua confederacione huiusmodi, tamen non audet se ponere in inquisicionem Civitatis predicte, quia dicit, quod emuli sui tantam habent potestatem in Civitate, quod tota communitas per eorum voluntatem ducitur hiis diebus».
50 Williams G.A. Op. cit. P. 287. Там же см. указания на дальнейшую литературу о «Еуге» королевских судей 1321 г.; следует добавить также: Fryde N. Op. cit. Р. 169-175. Annales Paulini. P. 291 («In eodem itinere capta fuit villa in manu domini regis. Dominus Robertus de Kendale factus fuit custos ejusdem civitatis; et Nicholaus de Famdone depositus de majoritate; sed postea dominus rex concessit eis li-bertates suas, et elegerunt Hamonem de Chigewelle in majorem»). Cp.: Ibid. P. 305, 318.
51 Williams GA. Op. cit. P. 293; Annales Paulini. P. 305. Король якобы призвал Чигуэлла и олдерменов в Вестминстер «et dicto majore de majoratu deposito, rex loco ipsius Nicholaum de Famdone ordinavit» (Ibid.). Сообщения в Лондонских хрониках (Croniques de London. P. 46) продолжают рассказ об этом событии: «Еп cele temps Dieu fist plusours miracles en le esglise de seint Poul a la table qe le dit Thomas de Lancastre fist...».
52 Это булла семилетней давности, направленная изначально против нападений шотландцев. Очевидно, архиепископ хотел создать впечатление, что она относится ко вторгшейся в Англию армии Изабеллы - во всяком случае он повелел не зачитывать строку с датой составления буллы. Слушатели, похоже, поняли его хитрость, из-за чего и поднялось волнение (Annales Paulini. Р. 315).
53 Calendar of Plea and Memoranda Rolls. P. 41-42; Croniques de London. P. 51.
54 Annales Paulini. P. 315. Williams GA. Op. cit. P. 295.
55 Annales Paulini. P. 315-317; Croniques de London. P. 51-52.
56 «Et ceux qe furent deliverez furent jurez & le comune de vivere et morir ovesqe eux en cele querele, et pur meintener 1’estat de la cyt6 et la pees» (Croniques de London.
75
Р. 54). В одном недатированном письме Изабелла одобряет это действие. Calendar of Plea and Memoranda Rolls. P. 42.
57 Annales Paulini. P. 318; «Et U fut il [John Stratford, Bischof von Winchester] ressu d’estre un del comune de vivere et morir ovesqe eux en la querele, et de meinten-er la fraunchise, et il porteit lettres de la reygne et de son fitz qe la comune deit eslire un meir entre eux» (Croniques de London. P. 55).
58 Williams GA. Op. cit. P. 297.
59 Ibid.
60 Annales Paulini. P. 323; Croniques de London. P. 58; «...in exeundo aulam ita male depressus fuit, quod turpiter accidit sibi» (Historia Roffensis. P. 367). Присягали один за другим на Евангелии, для чего нужно было, очевидно, выйти на середину Гилдхолла; во всяком случае в составленном городскими властями списке лиц, принесших присягу, относительно аббата Волтгэмского отмечено, что в зале он присутствовал, но «не подошел и не поклялся» («...non venit пес juravit»), см.: Calendar of Plea and Memoranda Rolls. P. 13. В официальном документе о низложении короля «Forma Depositions Regis Edwardi» этот союз обозначается как «amicitia» (дружество), хотя вступление в него было отнюдь не всегда добровольным: «Londonienses fecerunt sibi iurare Episcopos, Comites et Barones similiter et milites» (Fryde N. Op. cit. P. 233); об особенностях этого источника см.: Valente С. Deposition... Ср. более позднее сообщение: «(...) Londonienses, temeraria abutentes audacia omnes regni proceres, tam praelatos ecclesiae quam laicos, quacunque causa Londonias declinantes, illos per corporalis iuramenti vinculum astrixerunt, sive volentes, sive nolentes, nescio quas libertates communiter cum eiusdem» (Gesta abbatum monasterii Sancti Albani, a Thoma Walsingham / Ed. H.T. Riley. Bd. 2: 1290-1349. L., 1867. P. 156 (Rolls Series 28, 4)). О том, что к надсословному характеру «amicitia» относились весьма серьезно, напоминает письмо приора Генри Истри о первой делегации, отправленной в Кенилворт: участникам было важно, чтобы в ней были представлены все сословия, см. Butt R. Op. cit. Р. 226-227. Характерно, что в тексте приносимой клятвы дело («querela») королевы и свободы города вновь представали неразрывно связанными между собой. Правда, в ней же ответственными за дальнейшее развитие событий объявляются также пэры и вся «communaute du reaume» - «община королевства» - это яркое выражение тогдашнего риторического стиля лондонцев с его рефреном «вместе жить и вместе умереть».
61 Впоследствии низложение короля закрепилось в наборе возможных решений политических проблем; в начале 1330-х годов один мужественный викарий из Беркшира напоминал Эдуарду Ш о судьбе тиранов. Джон Стрэтфорд, архиепископ Кентерберийский, во время своего конфликта с королем в 1340-1341 гг. много раз намекал на судьбу Эдуарда II. См.: Ormrod W.M. The Reign of Edward III. Crown and Political Society in England, 1327-1377. New Haven; L., 1990. P. 45^16; Clarke M.V. Op. cit. P. 117. Nr. 1.
62 Holt J.C. Magna Carta. Second Edition. Cambridge, 1992. P. 56-57.
63 Svenskt Diplomatarium. Stockholm, 1964. Bd. 2, 2. Nr. 6900. P. 420 (1363 Nov. 30).
64 Переход горожан-сторонников Ричарда II на сторону Генриха Болинг-брока реконструируется в работе: Barron С.М. The Deposition of Richard II // Politics and Crisis in Fourteenth-Century England / Ed. by J. Taylor and W. Childs. Sherborne, 1990. P. 132-149.
65 Annales Paulini. P. 322-323.
66 Об этой плите см. выше в примеч. 51; Croniques de London. Р. 46, 54.
67 Rotuli Parliamentorum Anglie hactenus inediti I Ed. H.G. Richardson et al. L., 1935. P. 117 (Camden Society third Series, 51).
76
68 Historia Roffensis. P, 367.
69 Ibid.
70 Campbell W.S. William Stubbs... P. 84; Pollard A J. Op. cit. P. 6-8.
71 Pollard AJ. Op. cit. P. 8; Carpenter C. Political and Constitutional History: Before and after McFarlane // The McFarlane Legacy. Studies in Late Medieval Politics and Society I Ed. by R. Britnell and A.J. Pollard. Stroud; N.Y., 1995. P. 175-206.
72 При этом порой проявляется чрезвычайное пристрастие к клиометрии. См/. Rexroth F. Eintausendzweihundertdreiundsiebzig Sheriffs hatten keine Frau // Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts fiir europaische Rechtsgeschichte. 2004. Bd. 4. S. 217-220.
73 Palmer R.C. English Law in the Age of the Black Death, 1348-1381: A Transformation of Governance and Law. Chapel Hill; L., 1993; Idem. England: Law, Society and the State // A Companion to Britain in the Later Middle Ages / Ed. by S.H. Rigby. Oxford, 2003. P. 242-260.
74 Ormrod W.M. The Reign of Edward П1.
75 Kaeuper R.W. War, Justice and Public Order: England and France in the Later Middle Ages. Oxford, 1988; иначе в работе: Ormrod W.M. The Reign of Edward III.
76 Harriss G. Political Society and the Growth of Government in Later Medieval England // Past and Present. 1993. Vol. 138. P. 29-57; пессимистический взгляд выражен в работе: Maddicott J.R. Law and Lordship: Royal Justices as Retainers in Thirteenth- and Fourteenth-Century England. Oxford, 1978.
77 Campbell W.S. William Stubbs... P. 84.
78 Prestwich M. The Three Edwards: War and State in England 1272-1377. L., 1980.
79 McKisack M. The Fourteenth Century 1307-1399. Oxford, 1959. P. 95-96 (The Oxford History of England, 5).
80 Ormrod W.M. England: Edward II and Edward III...
81 McKisack M. Op. cit. P. 89.
82 Давая свою общую оценку низложению Эдуарда, Маккизэк ставит на первый план старинный историко-правовой вопрос: можно ли называть собрание января 1327 г. действительно парламентом, принимая во внимание недостаток его легитимности? В ее глазах стремление главных действующих лиц тех событий сделать ответственными за чудовищное дело низложения государя по возможности всех церковных и светских магнатов исходило не от коммуны, а от самих же магнатов. См.: Ibid. Р. 91-92.
83 Ormrod W.M. England: Edward II and Edward III... P. 287.
84 Williams GA. Op. cit. P. 297.
85 Понимание роли лондонской коммуны в событиях 1327 г. проявляется и в работе: Butt R. Op. cit. Р. 225-228; однако автор тем не менее почему-то воспроизводит старый топос об «угрожающем сброде». Иначе в работе: Haines R.M. King Edward II... Р. 182-184, 193-194.
О.Е. Кошелева
УКА30ТВ0РЧЕСТВ0 ПЕТРА ВЕЛИКОГО И ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЕГО ВЛАСТИ
Le style c’est 1’homme.
Ж.-Л. Леклерк
Указы являются зримой формой проявления власти, ее проводником, инструментом, без которого она остается «вещью в себе». Через ритуалы, метафоры и символы власть осуществляет собственный «сценарий», являя в нем свой образ и закрепляя его на полотне истории1. Указы вносят не менее значимый вклад в формирование «образа власти»: они охраняют существующую или творят будущую реальность для подданных. Указ - это квинтэссенция власти, это ее «всё». Власть создает впечатление, что ее указы, законы и распоряжения являются «двигателями» того, что принято называть «историей». Не случайно указы и законы продолжительное время оставались для историков излюбленным источником, с помощью которого они стремились воссоздавать прошлое.
Изучать указы возможно с помощью разных к ним подходов. Например, с точки зрения отражения в них важных социальных идей и событий исторического значения. В таких случаях речь обычно идет о крупных законодательных акциях, призванных вызвать реформирование действительности. Так, российское общество второй половины XVIII в. часто показывается через призму Манифеста о вольности дворянской (1762) - указа, освободившего дворянство от обязательной службы государству. Прослеживание стратегий поведения дворян, последовавших в результате указа, потребовало долгих и кропотливых исследовательских усилий2. До тех пор пока желающего их осуществить среди исследователей не находилось, брались на веру следствия, которые якобы должны были исходить из указа, а именно: многие дворяне бросили службу и удалились в свои имения.
Указ может рассматриваться и в иной перспективе - как событие, как результат породившего его контекста. Историография, в частности советская, подходила к изучению российского законодательства с точки зрения отражения в нем борьбы различных классов и группировок, старавшихся навязать самодержавной власти свою волю. Исследуются поводы и причины его появления, его инициаторы, борьба мнений вокруг указа, создание непосредственно текста и
78
проч. Используя тот же пример с Манифестом о вольности дворянской, нельзя не вспомнить легенду о его создании, впервые поведанную М.М. Щербатовым. Император Петр III, совершенно не занимавшийся делами государственного управления, однажды в попытке скрыть от своей фаворитки под благовидным предлогом непредвиденную ночную занятость с другою дамой, сказал ей, что будет всю ночь работать с секретарем Волковым над сочинением важного указа, и строго наказал тому, «чтобы он к завтрему какое знатное узаконение написал». Тот за ночь написал Манифест о вольности дворянской3. Рассказ этот более похож на анекдот, тем не менее иных свидетельств об истории происхождения указа очень мало. Зато дальнейшая работа комиссии над этим законодательным актом уже после смерти Петра III дает массу материалов4.
Возможно рассмотрение истории указа и как процесса, ибо указ всегда имеет в виду некоего конкретного адресата, исполнителя, находящегося в подчиненном положении, который побуждается властью к определенным действиям. Однако «адресат» редко бывает пассивен: будущая судьба указа оказывается уже в его руках. Важно уловить диалог автора указа с его адресатом, который не всегда происходит в открытой форме. «Адресат» может благодарить, игнорировать, возражать, убеждать, вступать в торг, пребывать в растерянности и проч. При таком исследовательском подходе на первый план выступает характер связи власти с подданными.
Указ можно рассматривать и иным способом: только на уровне его текста - текста, принадлежащего к особому жанру, требующему соблюдения определенных литературных приемов. В тексте указов власть использует различные формы выражения своей воли, рассказывает о себе, устанавливает связь с адресатом текста (т.е. проявляет коммуникативную функцию). При таком подходе собственно содержание указа уходит на второй план, а на первый выступает не причина или повод создания данного текста, а то, как он сделан, как выстроено и словесно оформлено содержание указов и какие культурные смыслы стоят за его формой. Именно этот исследовательский угол зрения найдет отражение в настоящей статье, которая относится к области поэтики бюрократического текста. В фокусе внимания будут не законодательные своды, а самодержавные указы и Манифесты5. Ядро содержания любого указа, будь он сделан от имени византийского императора или от имени директора провинциальной школы, - всегда одно и то же: «я повелеваю делать то-то и то-то». Но эту обнаженную формулу власть драпирует различными словесными покровами, о которых ниже и пойдет речь. Собственно Удержание указов оказывается на втором плане, поскольку полностью отвлечься от него, естественно, невозможно, ибо указ о создании Сената и указ о покупке париков различны по форме в том Ниеле и из-за различия их содержания.
79
Изучение текстов указов не может игнорировать и форму их воплощения, ибо указы, существующие в устной традиции, в письменной традиции и в традиции печатной, различаются между собой. Есть уровень существования указов в своем времени и есть уровень их бытия в будущем времени - это их публикация и цитирование потомками, которые придают им новые формы, вносят в них иные смыслы. Иначе говоря, речь пойдет об указах в историографической рефлексии.
Несколько десятилетий назад, изучая язык деловой прозы, А.Н. Качалкин детально изобразил различие подходов к изучению исторических документов историком и филологом. «Историка, -писал он, - интересует содержательная сторона документа, сами общественные факты, возникновение социально значимых явлений..., историк разбирает дела, филолог - жанры, слова и языковые процессы в разных их проявлениях ... Историк через язык интерпретирует действительность, филолог через действительность интерпретирует язык»6. Однако для современного историка текст документа стал интересен не только и не столько «фактами», но и тем, как в нем отражается мышление и самосознание людей, его создававших, дух и разумение отличной от его собственной эпохи7. Историку интересно то, как личностное начало преобразует бюрократический формуляр, а тот, в свою очередь, задает рамки личностному началу.
Исключительно богатый материал в свете всего вышесказанного дают многочисленные указы российского императора Петра Великого. Они свидетельствуют о разительной перемене в репрезентации властью своего законотворчества. Предшественники Петра на российском троне, даже производя значимые новации, выдавали их за упорядочивание или развитие старой традиции, царский указ не должен был восприниматься как вестник перемен. В царствование Федора Алексеевича (1676-1682), старшего брата Петра Великого, были осуществлены попытки провести в жизнь изменения новаторского характера: например, была создана Расправная палата и отменено местничество8. Однако в этих указах новое оказалось облечено в такие словесные формы, что о нем трудно было догадаться. Например, в обосновании принятия решения об отмене местничества говорилось, что царь по просьбе челобитчиков из народа (а не по своей!), «желая во благочестивом своем царствии сугубого добра», творя волю Господа и выполняя его промысел, принял решение уничножить местничество. Далее идут ссылки на отца и деда Федора Алексеевича, которые тоже желали отменить местничество, но обстоятельства помешали им это сделать, теперь же Господь велит выполнить их волю, потом приводится речь патриарха, благословляющая это решение, и свидетельство его единогласной поддержки боярами»9. Весь этот обширный «литературный» текст являлся стратегией власти, осуществлявшей введение в жизнь
80
нового. Указ же о создании Расправной палаты был подан иначе -он оказался замаскирован под рядовой рабочий указ об обычном деле - создании очередной боярской комиссии10.
Проницательных придворных тем не менее было не так легко ввести в заблуждение, как простой народ. Участник преобразовательной деятельности времени Федора Алексеевича Сильвестр Медведев писал о ней: «Инии же ближнии предстатели (...) всякие новые дела в государстве покусишася вводити, иноземским обычаем подражающе», и далее он высказывал традиционное отношение к новому, к переменам: «ради перемен и необычных дел смущения велия и злобедственная в государствах бывают»11.
Однако далекие потомки стали опрометчиво принимать искусственно созданный указами образ спокойствия и благолепия вне всяких перемен за реальность, считая, что «допетровская русская жизнь... была похожа на большой сонный пруд, покрытый тиной; сверху до низу все дремало в этом затишьи, в котором складывалось, оседало государство»12. Мыслители же, более позитивно относившиеся к «допетровской жизни», умилялись ее «соборности», так замечательно изображавшейся в указах.
Указы Петра I, напротив, были открыто и сознательно направлены на замену старого новым, и этому новому власть теперь отдавала предпочтение. В указах Петр прямо говорил о разрыве с прежней традицией, в них он отмечал: «Обычай был в России, который и ныне есть...» или «...чего нигде в свете нет, как у нас было и отчасти еще есть»13 - и давал объяснения, почему и как этот «обычай» следует переменить. В указе, таким образом, изначально оказывался заложен конфликт с теми, кто держался обычаев. Подобный же прием «очернения» старого наблюдается и в других текстах: так, сподвижник Петра Феофан Прокопович в Духовном регламенте и ряде проповедей «объявляет непонятным и темным обычный книжный язык», и «этот взгляд был явно полемически направлен против традиционных воззрений»14.
Если допетровская власть «новое» стремилась назвать «старым», то теперь многим традиционным объектам было указано дать новые названия и уже этим их «преобразовать», т.е. переменить их «образ». Осуществляя нововведения, Петр в первую очередь всему старому давал новые имена15, пытаясь изменить действительность через такой «лингвистический переворот»16. Во множестве случаев оказывается, что нового по сути введено мало, а по форме - много. И, названные иначе, вещи от этого, с одной стороны, действительно как-то менялись, а с другой - вводили в заблуждение не знакомых с предшествующей традицией интеллектуалов, в том числе и историков, представляя им несуществующие изменения. Так, достаточно было О.Г. Агеевой, занимавшейся новыми городскими учреждениями петровского Петербурга, сравнить содержание «пунктов», напи
6 Образы власти...
81
санных Петром для нового чина - обер-полицмейстера, возглавлявшего полицию новой столицы, с наказами «объезжим головам» XVII в., которые следили за порядком в Москве и подчинялись Земскому приказу, как оказалось, что в «пунктах» Петра не содержится ничего особенно нового17. И все же! Полицмейстерская канцелярия, названная так, совсем не ощущала своей преемственности от Земского приказа, а португалец по происхождению обер-полицмейстер Антон Девиер был совсем не похож на московского дьяка. И уже внутри полиции и по ее почину стали вызревать нововведения по установлению полицейского порядка в городе.
В.М. Живов отмечает, что особенно интенсивное заимствование иностранных слов, появляющихся в русском языке впервые, «характеризует законодательные памятники: они оказываются недоступными для понимания при том, что их понимание и исполнение вменяется в обязанность подданным вне зависимости от их осведомленности в иностранных языках...»18. В качестве примера Живов приводит Воинский устав 1716 г., изобиловавший иноземными словами. Причина этого мне видится в том, что именно в законодательных текстах более всего чувствуется рука и речь самого Петра, писавшего и правившего их самолично. Он стремился создать указами новую реальность, и для нее не годились старые слова. При этом Петр достаточно часто давал русский эквивалент или разъяснение иностранному слову, стремясь сделать распоряжение понятным каждому, что, правда, не всегда получалось.
Однако, будучи апологетом нового, Петр, так же как и его предшественники, при случае черпал обоснование своих действий в прошлом. Очень показательна в этом отношении «сакрализация» им ботика - «дедушки русского флота». Организацию такого нового для России дела, как строительство военно-морского флота, Петр постарался представить как мероприятие, задуманное его дедом, а потом - отцом, которым обстоятельства помешали его осуществить. «Случайно найденный» ботик, принадлежавший двоюродному деду Петра боярину Никите Ивановичу Романову, был представлен в качестве наглядного тому свидетельства и выставлен на всеобщее обозрение сначала в Москве перед Успенским собором (1722), потом перевезен в Петропавловскую крепость. Обширнейший исторический экскурс в далекое прошлое российского флота с рассказом о ботике Петр поместил в предисловие к Морскому уставу (1720). В данном случае он действовал в той же логике, что и создатели указа об отмене местничества. Доведя же историю до современности, Петр вставляет подробнейший автобиографический рассказ, обращенный к «читателю доброжелательному», о том, как он «в малом возрасте», «гуляя по анбарам» льняного двора в селе Измайлове, нашел ботик, стал допытываться его истории и предназначения, научился на нем плавать, преодолел сопротивление матери этому
82
опасному увлечению, и так детская игра выросла до масштабов государственного дела. Завершается же «повесть» текстом, окрашенным риторикой благодарственного молебна: «Зри уже, читателю доборохотный, какую с нами сотворил милость и какое дивное о нас явил смотрение свое премилосердный Бог... Прославим Бога, тако нас прославившего...»19.
Так переориентация на «новое» постепенно приводила к важным изменениям в сферах формы и бытия указов. Указы Петра оказались совершенно отличны от указов его отца царя Алексея Михайловича (1629-1675), несмотря на то что отец и сын имели много общего: оба увлеченно занимались государственными делами и не выпускали указопишущее перо из своих рук. Алексей Михайлович был первым русским царем, не брезговавшим писать деловые бумаги своею рукой и создавшим себе особый кабинет, в котором и работал, - Тайный приказ. Тем не менее он преимущественно прибегал к услугам писцов, хотя тщательно редактировал диктуемые им указы и, конечно, обсуждал их с приближенными. Эта «бюрократическая» деятельность царя Алексея не выставлялась напоказ, являлась, так сказать, его «хобби».
Личная указная деятельность Петр I, напротив, была хорошо известна достаточно широкому кругу лиц. Его указы «рождались» в различных местах, там, где находился Петр - и в Кабинете, и в Сенате, и в дворцовых хоромах, и на корабле, и в дорожной карете. Он постоянно имел при себе записные книжки, куда кратко вносил все приходившие ему в голову идеи нововведений. Иногда он набрасывал указ собственноручно, иногда говорил основную идею секретарю Макарову с тем, чтобы тот в Кабинете сделал соответствующую запись или чтобы он поручил сенаторам или иным приближенным дальнейшую ее проработку, а затем сам смотрел текст и его правил.
По количеству созданных указов Петр намного превзошел своего отца: если с февраля 1647 по февраль 1696 г. было объявлено 1458 узаконений (из них 746 царских именных), то с 1713 по 1718 г. одних только именных указов появилось 387720. «Письма и бумаги» Петра Великого, хранившиеся в его Кабинете, начали публиковаться в многотомном научном издании с 80-х годов XIX в., и до сих пор еще этот труд не окончен21, бумаги 12 последних лет жизни царя еЩе ждут своей научной публикации. Существуют и отдельные издания так называемых «законодательных актов» Петра22, в которые помещены его основные узаконения и за рамками которых остается какое-то количество менее значимых указов.
В допетровские времена личное участие монархов в создании законодательных сводов в текстах стремились не отражать, речь шла Лищь об объявлении их указа с назначением компетентных лиц для пополнения соответствующей работы. Так, Соборное уложение
83
царя Алексея Михайловича 1649 г. создавала боярская комиссия под руководством князя Н.И. Одоевского, и по сохранившимся материалам трудно определить, какое участие принимал юный царь в данной работе23. И Петр в 1700 г. принял решение подобным же образом создать новое Уложение, издав указ, аналогичный по своей стилистике отцовскому24, но дело в иных условиях оказалось не доведенным до конца - подготовленные материалы не были Петром утверждены. Он оставил в силе действие Соборного уложения 1649 г., а сам пошел по пути создания новых законов в форме регламентов и принял в нем активное личное участие.
Иное дело - указы по отдельным вопросам. В допетровские времена они были по своей форме близки к частному деловому письму (называвшемуся грамотой), адресовались конкретному исполнителю указа и определяли, что именно ему (или им) следовало выполнить (такой документ назывался «указной грамотой»). Таким же образом какой-либо хозяин писал своим подчиненным или управляющему. В репертуаре петровских указов также немало таких, которые адресованы конкретным исполнителям или «господам Сенату», но многие из них обращены ко всем подданным («повелеваем всем» или «объявляется всенародно») и имеют черты манифеста (жанра, отсутствовавшего в прежней указной практике). Начальные строки допетровских указов отражали некую отстраненность власти от их производства, они гласили: «По указу царя, государя и великого князя Всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца...» такому-то следует сделать то-то и то-то (или «Великий государь указал, и бояре приговорили...» то-то и то-то), т.е. монарх оказывался отчасти «в пассиве». При Петре «зачин» указа становится намного разнообразнее, употребляются разные варианты: «Мы, Петр Первый, царь и самодержец Всероссийский, и протчая и протчая. Объявляем сей указ всем подданным нашего государства...»25, «Всепресветлейший, державнейший Петр Великий, император и самодержец всероссийский, будучи в Сенате... указал...»26, «В нынешнем году ...Всепресветлейший державнейший Петр Великий Император и Самодержец Всероссийский, будучи в Преображенском на генералном дворе, указал...»27. В такой формулировке отчетливо проступает облик персонифицированной власти. Иногда указы Петра оказывались вообще без его имени и титула в заголовке, например указ о создании Сената открывается словами: «Повелеваем всем, кому о том ведать надлежит...»28.
Иногда указ Петра начинался просто словом «понеже» (поскольку), за которым следовал текст, ранее в указах немыслимый: разъяснение важности и нужности делаемого распоряжения, ибо ориентация на введение нового влекла за собой потребность в разъяснениях и доказательствах. Нельзя сказать, что разъяснения причин введения нового указным порядком полностью отсутствовали
84
прежде, но они были чрезвычайно редки и обусловлены особыми обстоятельствами. Таким разъяснением сопровождалось в указе царя Алексея Михайловича от 1646 г. введение новой соляной пошлины29. В данном случае власть (сам царь был еще чрезвычайно молод, и налоговую реформу проводили его приближенные под руководством боярина Б.И. Морозова) не могла сослаться на высказанные ей пожелания народа или на то, что ей «ведомо учинилось» о каких-то непорядках, нуждающихся в исправлении; введением пошлины двигал финансовый расчет, и была сделана попытка рационального объяснения его выгоды: «а как та пошлина соберется», все другие налоги можно будет «сложить», «потому, что та соляная пошлина всем будет ровна, а в ызбылых (выбывших. - О.К.) нихто не будет и лишнево платить не станет, а платить всякой станет без правежу собою (т.е. без принуждения сборщика налогов, самостоятельно. -О.К.). А стрелецкие и ямские денги збирают неровно: иным тяжело, а иным лехко, и платят за правежом з болшими убытками»30. Эта разумно задуманная и доходчиво объясненная подданным польза от введения соляного налога обернулась в реальности Соляным бунтом и дискредитацией риторики власти.
Петр в духе века рационализма апеллировал к разуму подданных, объяснял им, как детям, на простых примерах логику введения того или иного новшества. Он излагал причины, по которым решил написать очередной указ, всячески разъяснял его смысл и убеждал в его пользе «адресата». Возьмем в качестве примера указ о «битье зорь» в войсках от 11 января 1722 г. «Понеже, - пишет Петр, -в битье зорь великое в войне дело зависит, а именно, целость всего войска», то следует «твердо о сем установить указом». Он объясняет, что зорю бьют один раз вечером и один раз утром потому, что это связано с установлением ночного караула для охраны спящих воинов. Петром осуждается продолжающаяся еще в российских городах порочная практика бить часы по многу раз без всякой связи с закрытием городских ворот («но ныне у нас оное дело в комплимент вменено, и яко старые бояря и воеводы, и стрельцы употребляем: бьют в таких городах, где ворот не затворяют во всю ночь»). И далее, говоря, что из-за такого бессмысленного битья зорь «ни во что оной обычай придет», Петр делает неожиданную аналогию с молитвой «Отче наш», которая, как он пишет, хотя и «лучшая молитва», поскольку составлена самим Христом, но от «частого употребления» стала не столь почетной, как другие, которые «однова в год читаются»31. Этот пассаж - явный плод самостоятельных наблюдении Петра, показавшихся ему интересными, отчего он и «пристроил» их в текст указа, может быть, и не совсем уместно.
В указе от 7 мая 1715 г. о тюремном заключении женщин, кото-ва^ В ЦерКВах кРичат’ изображая одержимость бесами32, использо-
Другой прием убеждения. Большую часть его текста занимает
85
документальный рассказ Петра о плотничьей жене Варваре Логиновой, которую он лично застал «кричащей» («выкликивавшей») в церкви Исаакия Долмацкого. В указе излагается с ее слов (представляющих собой ее допрос) то, как она была в гостях и там в пьяной драке побили ее деверя, она же в отместку обидчику решила «кричать, что испорчена», и указывать, что это он ее «испортил», и «ево тем погубить» как колдуна33. Этот пример, взятый из реальной жизни и засвидетельствованный лично царем, по мнению Петра, должен был убедить подданных, что такие кричащие женщины («кликуши») являются притворщицами, оговаривают невинных людей и тем заслуживают наказания.
Для более четкого понимания указов населением Петр требовал разъяснения употребляемых в них понятий, например он делал помету на указе, где речь шла о наказаниях за нарушение государственных интересов: «и для того надобно пояснить имянно “интересы государственный”, для выразумления людей»34.
Таким образом, петровский указ «шел ца разговор» с подданными, на снисхождение до них, делая власть менее сакральной и более персонифицированной. Указ венценосного автора (а его авторство было очевидно и следовало из текста) был напрямую обращен к подданным, входил с ними в контакт, не брезговал разъяснениями и объяснениями, а не просто являлся изъявлением сакральной монаршей воли. «Подданные» отнюдь не бывали исключены из важных указов допетровского времени, но там они занимали иное место. Какую бы в реальности роль ни играли представители народа («земли») на земских соборах в принятии законодательных решений, в текстах указов обычно говорилось, что он принят не только по промыслу Божию, но и по просьбе (челобитью) народа. В словах декабриста М. Лунина нашло отражение ощущение от этих петровских перемен: Петр «не собирал Земской Думы, пренебрегая мнением своего народа и отстраняя его от непосредственного участия в своих делах»35. Вектор рождения указа, таким образом, изменился: если раньше он изображался как идущий снизу, от «народа», волю которого царь узнавал и осуществлял с Божьей помощью, то теперь он изображался идущим сверху, от власти.
Петр стремился к широкому распространению своих указов в народе. При нем указы впервые обрели печатную форму, издавались во множестве экземпляров, развешивались на людных местах городов, читались вслух на площадях глашатаями, объявлялись священниками в церквях, копировались и хранились всеми органами административного управления (магистратами, губернскими канцеляриями и проч.). Указы выходили в Санкт-Петербургской типографии в виде отдельных специальных изданий, например в 1719 г. вышел сборник, озаглавленный «Копии его царского величества указов, публикованных от 1714 г. с марта 17 дня по нынешний
86
1717 г.». Американский исследователь Г. Маркер подсчитал, что не менее 44% всех публикаций петровского времени составляли законодательные постановления, он же отметил, что «российские правители старались использовать печатный станок для передачи своего самодержавного взгляда на политику и общество всему населению»36. Указы стали текстом, с которым так или иначе знакомилось большинство горожан, чего ранее никогда не бывало. Есть свидетельства, говорящие о том, что печатные указы имелись в домах простых граждан37.
Петр I в указах столь часто свидетельствовал о самом себе, что они без большой натяжки могут быть отнесены к эго-документам. Выше уже говорилось о находящемся в преамбуле к Морскому регламенту обширном биографическом тексте, связанном с ботиком и строительством флота. Именно из текстов указов Петра его первые биографы и черпали «подлинные» высказывания царя. Так, в рассказах А.А. Нартова (§ 57) говорится от имени Петра: «Надлежит законы и указы писать ясно, чтобы их не перетолковать. Правды в людях мало, а коварства - много. Под них такие же подкопы чинят, как и под фортецию». Это парафраз указа, в котором говорится: «Понеже ничто так ко управлению государства нужно есть, как крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе законы, когда их не хранят, или ими играют, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было, отчасти и еще есть, и зело тщатся всякие мины чинить под фортецию правды...»38
В текстах петровских указов присутствует личная рефлексия на повседневные события, упоминаются лица или случаи, привлекшие внимание, вызвавшие одобрение или раздражение автора. Далее в том же тексте о «картах» и «фортеции» прямо указывается, когда подобные «упражнения» над законом имели место: «как то в 13 день сего месяца в Сенате при нас (хотя и не хитростию) учинилось»39.
Представляется, что каждую пришедшую в голову мысль Петр фиксировал в виде указа, он фактически мыслил указами, касавшимися как крупномасштабных преобразований, так и бытовых мелочей. Они отразили в себе индивидуальную способность Петра своею мыслью «одновременно и с одинаковым интересом охватывать предметы совершенно различных калибров»40. Даже личные письма Петра «по большей части в то же время и указы, обязательные для тех лиц, кому они адресованы»41. Таким образом, указы в их совокупности оказываются сродни дневниковым записям «истории мысли» Петра. Он стремился в указах к краткости, четкости, упорядоченности излагаемого42, однако, как уже отмечалось исследователями, его мышлению были чужды обобщения и систематизация, оно носило не отвлеченный, а конкретный характер. Таково было свойство русского средневекового мышления в целом, не имевшего опыта схоластических штудий и категориям предпочитавшего образы.
87
Трудности с аналитическим мышлением, более всего мешавшие четкости указов в их «разъяснительной» части, преодолевались традиционным способом объяснения через примеры и аналогии, через беседу с читателем.
Например, к краткому указу о том, что «Всякой президент (коллегии. - О.К.) должен все указы Его Величества и Сената, которые надлежит быть письменныя и зарученныя (т.е. подписанные. -О.К.), а не словесныя, неотложно исполнять», прибавлено его «толкование» (прием, использовавшийся в церковной литературе): «Дела разумеютца, о которых надлежит писменный указ, те, который в действо производят, а не те, которые к сочинению действа надлежат. Например, надлежит собрать деньги или провиант, тогда и словами приказать мочно, чтоб о том советовали, как то чинить, но когда положат (т.е. решат. - О.К.), тогда доложить, так ли быть, и когда опробуитца, тогда не производить в дело без писменного указу»43. В указах отчетливо звучит поучительный, проповеднический мотив, снабженный поучительными примерами и разъяснениями, он отчасти оказывается сродни проповедям и речам Феофана Прокоповича.
Возможно, видимо, говорить о том, что «указной жанр» в петровское время еще не устоялся и не имел точного формуляра. Петр «лепил» указ, используя в нем и элементы письма, и расспросных речей, и проповеди, и поучительной беседы, и исторической повести, и бытового острого слова. Встает закономерный вопрос о том, использовал ли Петр примеры зарубежных указов. Думается, что, несмотря на то что Петр вникал в основы законодательства разных европейских стран и брал многое за образец, он знал суть, которую ему «изъясняли» переводчики, но мало был знаком с формой указов зарубежных правителей. Впрочем, данный вопрос нуждается в дальнейшем изучении.
Петр виден потомкам в первую очередь через свои указы. Его личность и его указы оказываются слиты воедино и разделить их невозможно. Поэтому их прочтение исследователями получается столь же противоречивым, сколь противоречивы оценки самого Петра и роли его реформ в российской истории. Недавно осуществленная публикация высказываний историков трех прошедших веков о Петре I и его деятельности44 демонстрирует столь широкий набор взаимоисключающих друг друга суждений, что фиаско истории по созданию «объективного образа» императора и его царствования становится очевидным: созданные пером историков портреты Петра каждый раз оборачиваются зеркалом, отразившим лишь симпатии и антипатии автора. А. Кара-Мурза ставит верный диагноз «петрониане»: «Все говорит за то, что в основании спора о Петре лежат не исторические факты (факты можно подобрать любые), а тот или иной историософский концепт, некая надысторическая пре
88
зумпция - в оценке, например, глубинной сущности русского народа»; Петр, таким образом, в концепциях исследователей оказывается «лишь функцией от того или иного определения народа»45. Подобный вывод, однако, не должен обескуражить современного историка, а наоборот, призван оптимистически настраивать его на увлекательную перспективу поиска иных подходов и приемов к изучению наследия Петра. Возможно, к примеру, отвлечься от общих рассуждений о роли Петра в истории России и сконцентрироваться целиком и полностью на детальном рассмотрении его авторских текстов46, тогда «иначе сделанный» образ императора начнет про
ступать через них.
А.С. Пушкин, внимательно знакомившийся с текстами петровских указов для своей работы по «Истории Петра», делал для себя пометки: «издан тиранский указ», «...указ, превосходящий варварством все прежние», «Указ жестокий, тиранский, как обыкновенно». Но в целом у Пушкина складывалось противоречивое впечатление об указотворчестве Петра I, и он дал ему точную характеристику: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будуще
го, - вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика». За этим противоречием Пушкин надеялся уловить ускользающий от однозначных оценок образ Петра и пометил для себя «NB (Это внести в Историю Петра, обдумав)»47.
На противоречивую оценку указов Петра влияют не только концептуальные построения исследователей, но и сама форма их публикации. В Полном собрании законов Российской империи (1830) тексты петровских указов размещены день за днем в хроно
логическом порядке, из множества подготовительных и черновых текстов выбран для публикации один окончательный вариант. В результате читатель получает впечатление некоего сумбурного потока сознания, одновременно охватывающего множество никак не связанных друг с другом проблем. Недаром декабрист Н. Муравьев в 1839 г. записал: «Петр слывет законодателем России, но где же законы?..»^ Эта публикация 1830 г., по мнению Н.А. Воскресенского, взявшего на себя труд осуществить новое научное издание законодательного наследия Петра, «подавляла и дезориентировала исследователей»49. Сам Воскресенский представил тот же материал в тематической подборке, со всеми подготовительными бумагами, вариантами, правками, разночтениями. В результате получилась картина основательной и долговременной проработки Петром I каждого серьезного вопроса. Академическое издание «Писем и бумаг 1етра»5о ве3де отмечает руку императора, внимательно к его поме
89
там, подбирает весь комплекс материалов, в том числе ответных, сохранившихся по тому или иному вопросу в его личном Кабинете, дает точные датировки и комментарии, показывая таким образом работу Петра совместно со своим секретариатом. В то же время издания, подготовленные юристами, такие как «Российское законодательство Х-ХХ веков» в 10 томах или «Законодательство Петра I», при публикации обычно отсекали вступительный «зачин» указов, приводя лишь сам текст и давая им свои собственные редакторские заголовки: «Указ от такого-то числа о том-то».
История каждого из указов не заканчивалась на завершении окончательной редакции: он поступал в руки исполнителей, которые и должны были воплощать его в жизнь. Указ, невозможный или нежелательный для выполнения, сначала бил по ним, а затем возвращался к Петру в виде ударной волны возражений и сопротивлений. Вместо ожидаемого от указа результата обычно возникала новая проблема. И то, что происходило дальше, - это уже сюжет для другого, очень увлекательного, исследования. Это же завершим следующими соображениями.
Р. Уортман доказывает, что роль, которую играл Петр Великий, согласно своему «сценарию власти», - это роль Героя и Бога51. В указах этот «образ власти» не находит своего отражения, в них Петр выступает скорее как терпеливый и строгий учитель, не скрывающий перед «учениками» свои личностные, человеческие черты. Здесь нет противоречия - «образы власти» могли быть и были разными в разных дискурсах, их невозможно свести к одному общему знаменателю.
Петр, однако, изменил традиционный образ российской власти, сделав это не только внешним образом - переменой одежды и манеры поведения, но и открыто декларировав прежде не свойственную власти функцию изменения окружающей действительности. Возможно, кто-то посчитает, что ни к чему ломиться в открытую дверь - и без рассмотрения указов ясно, что Петр Великий был приверженцем перемен и вводил везде и всюду новшества. Меня, однако, интересовала технология внедрения нового, то, как это конкретно делалось через текст указа. Углубление в «поэтику указов» помогает увидеть стратегию использования властью определенных метафор и понятий, практику «игры в слова», в которую власть играет с подданными.
1 Уортман Р. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. М., 2002. Т. 1; Погосян Е. Петр I - архитектор российской истории. СПб., 2001.
2 Jones R.E. The Emancipation of the Russian Nobility. 1762-1785. Princeton, 1973; Файзова И.В. Служба дворянства после Манифеста 1762 г. о вольности дворянства. М., 1997, и др.
90
3 Щербатов М.М. О повреждении нравов в России // О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и путешествие А. Радищева. (Факсимильное издание книги 1858 г.). М., 1983. С. 79.
4 Троицкий С.М. Комиссия о вольности дворянства 1763 г.: (К вопросу о борьбе дворянства с абсолютизмом за свои сословные права) // Россия в XVIII в. М., 1982. С. 140-191.
5 Можно говорить о так называемых «именных указах», написанных от имени самодержца, хотя они далеко не всегда являются его «личным» творчеством.
6 Качалкин А.Н. Жанры русского документа допетровской эпохи. Ч. 2. М., 1988. С. 14.
7 В отечественной историографии методика формулярного анализа актов была предложена С.М. Каштановым, который в своих работах во главу угла ставит источниковедческий анализ документов: Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. М., 1970.
8 Подробное рассмотрение новаторского происхождения указов царя Федора Алексеевича проделано П.В. Седовым. См.: Седов П.В. К изучению источников по истории отмены местничества // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 1998. Т. 26; Он же. Создание Расправной палаты Ц Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. 2001. Bd. 58. S. 97-107.
9 Российское законодательство X-XX веков. M., 1986. T. 4. С. 34-46.
10 Седов П.В. Создание Расправной палаты; Он же. Деятельность надворных боярских комиссий XVII века в отсутствие царя в Москве И Studia Humanistica. 1996: Исследования по истории и филологии. СПб., 1996.
11 Сильвестра Медведева Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве Ц ЧОИДР. Кн. 4. Отд. 2. С. 37-38. Текст указан П.В. Седовым.
12 Герцен А.И. Предисловие // О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и путешествие А. Радищева... С. VIII.
13 Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. М.; Л., 1945. Т. 1. С. 92, 105.
14 Живов В.М. Петровская реформа языка: Культурно-языковая ситуация Петровской эпохи // Язык и культура в России XVIII в. М., 1996. С. 130.
15 Например, дьяки теперь назывались секретарями, подьячие - канцеляристами, «память» (вид документа) - промеморией и проч., и проч.
16 О языке Петровской эпохи см.: Живов В.М. Указ. соч. С. 69-154.
17 Агеева О.Г. «Величайший и славнейший более всех градов в свете...» -град святого Петра. М., 1999. С. 141-142.
18 Живов В.М. Указ. соч. С. 149.
19 Законодательство Петра I. М., 1997. С. 232-240.
20 Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб., 1997. С. 278; Манъков А.Г. Законодательство и право в России второй половины XVII в. СПб., 1998. С. 16.
21 Письма и бумаги Петра Великого: В 13 т. СПб.; М., 1887-1992.
22 Письма, указы и заметки Петра I, доставленные кн. П.Д. Волконским и **.В. Калачевым и извлеченные из архива Правительствующего Сената / Собр. и изд. акад. А.Ф. Бычковым Ц Сб. РИО. СПб., 1870. Т. 11 и др.
п 23 О работе над созданием Соборного уложения 1649 г. см.: Смирнов П.П. Осадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М.; Л., 1948. Т. 2.
С. 190-196.
24 Воскресенский Н.А. Указ. соч. С. 30.
91
25 Законодательство Петра I. С. 698.
26 Воскресенский НА. Указ. соч. С. 96.
27 Российское законодательство Х-ХХ веков. С. 183.
28 Законодательство Петра I. С. 73.
29 Благодарю И.Л. Андреева за указание на этот текст.
30 Законодательные акты Русского государства 2-й половины XVI — первой половины XVII века. Л., 1986. С. 213-214.
31 Указ о битье зорь // Русский архив. 1868. № 6. Кн. 1. С. 105.
32 ПСЗ. Т. 5. СПб., 1830. № 2096. С. 156. Об указе подробнее см.: Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 1700-1740. М., 2000. С. 376-392.
33 РГАДА. Ф. 248. Кн. 63. Л. 683-684.
34 Воскресенский НА. Указ. соч. С. 38.
35 Лунин М.С. Письма из Сибири. М., 1988. С. 77.
36 Marker G. Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia 1700-1800. Princeton, 1985.
37 Например, вологодский обыватель И. Рыбников в 1725 г. рассказывал на допросе, что нашел на столе у своего двоюродного брата опубликованный несколько лет тому назад указ Петра I: «он, Рыбников, был у Воробьева по зову ево в гостях и взял там блаженные и вечнодостойные памяти е.и.в. печатной указ о взятье за беглых людей и крестьян за пожилые годы денег» (РГАДА. Ф. 371. Д. 3208. Л. 4).
38 Воскресенский Н.А. Указ. соч. С. 105.
39 Там же.
40 Богословский М.М. Петр Великий и его письма // Петр Великий: Pro et contra. СПб., 2001. С. 450.
41 См. о письмах Петра I: Там же С. 431.
42 Эти черты мышления Петра I описаны Линдси Хьюз: Hughes L. Russia in the Age of Peter the Great. New Haven; L., 1998. P. 351-389.
43 Законодательство Петра I. C. 102.
44 Петр Великий: Pro et contra.
45 Там же. С. 724-725.
46 Опыт подобного подхода отчасти уже давно был представлен М.М. Богословским на основе писем Петра I (см. выше, примеч. 23 и след.).
47 Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 6 т. М., 1936. Т. 6. С. 295-297.
48 Лунин М.С. Указ. соч. С. 81.
49 Воскресенский НА. Указ. соч. С. 22.
50 Письма и бумаги Петра Великого...
51 Уортман Р. Указ. соч. С. 68-119.
Изображения
LU. Швайцер
ЕХЕМРШМ SERVITCITIS?
СУДЬБА АНТИЧНОЙ ТЕМЫ ТИТАНА АТЛАСА В СРЕДНИЕ ВЕКА И ПОЯВЛЕНИЕ АТЛАНТОВ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ
«Архаический характер романского искусства является выражением новой юности человечества, сменившей стадию дряхлости поздней античной культуры».
Рихард Хаманн
Настоящая статья1 посвящена истории одного мотива в изобразительном искусстве и архитектурной пластике европейского Средневековья, обязанного своим появлением так называемому «насле-
дию» античной культуры. В центре внимания здесь оказывается феномен поддерживающих фигур в архитектуре - мотив, разработанный в греческой античности и представший в новых вариациях во времена Римской империи. При новом обращении к античным образцам на рубеже XI и XII вв. он вновь стал использоваться в европейской архитектурной пластике. Активная рецепция этой античной темы происходила в то же время, в которое начала развиваться романская скульптура. Для истории искусства эта взаимосвязь существенна, потому что она в очередной раз доказывает то, что уже много раз отмечалось исследователями: средневековая скульптура развивалась не в последнюю очередь под воздействием того, что художники знакомились с миром античных форм и переосмысливали их.
Однако обращение к античным атлантам вызывало в то время ссрьезные иконографические трудности. С одной стороны, фигура атланта изображала античного героя Атласа, поддерживающего небесный свод, - его образ самыми разными путями вошел в книжные Миниатюры и стенные росписи Средневековья. Однако сколь бы Тесно эти примеры рецепции образа Атласа ни были связаны с архитектурно-пластической идеей атланта, для поддерживающих фигур в архитектуре в античности существовало свое особое обос-
95
нование, изложенное Витрувием в его трактате по архитектуре и инженерному делу. И хотя об этой его трактовке в Средние века, очевидно, мало что было известно, ниже будет показано, что вполне актуальным оказалось во всяком случае его понимание подпирающих фигур как атлантов, т.е. в качестве архитектурно-пластического умножения типа Атласа, включая трактовку этих фигур в качестве символов подчинения. В данной статье будут рассмотрены варианты этого мотива и пути их обособления.
Витрувий и визуализация в опорных фигурах идеи политической нелояльности
В первой книге своего трактата по архитектуре Витрувий говорит, что всякому архитектору желательно обладать широким кругозором, поскольку для его профессии характерно сочетание ремесла (fabrica) и духовной работы (ratiocinatio). Поэтому архитектор должен не только получить научное образование в таких смежных областях, как рисунок, геометрия и география, но и быть также сведущим в философии, музыке, врачевании, юриспруденции, астрономии и истории2. Пользу некоторых из этих дисциплин Витрувий иллюстрирует примерами. Однако ни один из них не получился столь обстоятельным, как тот, что подтверждал необходимость для архитекторов исторического образования - речь в нем шла об объяснении значения кариатид и «персов». В течение многих столетий это место у Витрувия сильно влияло на понимание символического смысла архитектуры самими архитекторами и теоретиками архитектуры, а также заказчиками построек. Иногда эти слова вызывали всевозможную путаницу, поэтому их следует привести полностью:
«Архитекторы должны разбираться во всевозможных исторических событиях, потому что архитекторы применяют в своих постройках украшения, о значении которых они должны дать отчет тем, кто будет их спрашивать, зачем они их применили. Например, если вместо колонн в своей постройке архитектор ставит мраморные статуи женщин в длинных верхних одеяниях - кариатид -и укладывает сверху консоли и карнизы в форме венка, то тем, кто об этом спросит, он должен дать отчет следующим образом. Кария, пелопонесский город, по своим убеждениям разделяла сторону персов, врагов Греции. Когда позже греки одержали блестящую победу [над персами] и покончили с этой войной, они, на основании общего решения, объявили войну жителям Карии. После взятия города, избиения мужчин и полного разрушения общины они увели женщин в рабство и запретили им снимать их длинные одежды и украшения, как их носят женщины, с тем чтобы провести их не в одном-единственном триумфальном шествии, но чтобы они как будто участвовали в вечной триумфальной процессии, символе невольничества, и, обремененные тяжким чувством стыда, несли наказание за всех своих граждан. Поэтому тогдашние архитекторы создали их изображения, которые были выставлены как опоры перекрытий
96
в общественных зданиях, с тем чтобы передать потомству историю о наказании карийцев за их преступление. Так и лакедемоняне, когда они небольшой армией под предводительством Павсания, сына Агесилая, в битве при Платеях преодолели нескончаемый поток персидских войск, построили после славного триумфа, в котором они пронесли оружие врагов и другие трофеи, из этих трофеев в память о славе и храбрости граждан для грядущих поколений и в знак победы персидский портик. И там они поставили изображения пленных в иноземных нарядах - их гордыня была наказана заслуженным бесчестием: они несли на себе крышу, так что враги в ужасе от военного успеха и храбрости греков должны были прийти в отчаяние, а граждане при виде этого символа храбрости, воздвигнутого славой, должны были быть готовы к защите своей свободы. И с тех пор было воздвигнуто много статуй персов, несущих перекрытия и их украшение, и, таким образом, этот исторический материал придал творениям архитекторов большое разнообразие»3.
В классической археологии ведутся споры о степени достоверности истории происхождения кариатид, рассказываемой Витрувием. Часть исследователей видят в ней полностью выдуманную им басню, тем более что этимология слова «кариатида» остается неясной4. Р.М. Шнайдер, напротив, небезосновательно указывает на то, что вряд ли Витрувий стал бы обращаться к произвольно выдуманному примеру как раз в том месте, где он обосновывает необходимость наличия у архитектора познаний в истории. К тому же нет античных свидетельств, которые опровергали бы свидетельство о разрушении греками Карии5. Правда, лишь редко встречается понимание опорных фигур как символа рабства, сходное с тем, что предложил Витрувий. Так, Атеней (ок. 200 г.н.э.) цитирует афинского комедиографа Линкея (вторая половина IV в. до н.э.), у которого парасит Эвкрат высмеивает непрочность помещения, где происходит пир: «Здесь за едой надо поддерживать левой рукой потолок, как кариатидам»6. Но и этот анекдот не проясняет происхождения термина, обозначающего опорные фигуры. Как отмечал еще Г.Э. Лессинг7, из-за недостатка письменных источников вряд ли удастся выяснить, с какой целью и при каких условиях слово «кариатида», которым греки первоначально назвали танцовщицу, было перенесено на опорные фигуры в архитектуре8.
По Витрувию, кариатиды представляли собой прямо стоящие опорные фигуры, причем отнюдь не «поддерживающие» руками перекрытие (что намного яснее определило бы символическую функцию таких фигур). Будучи такими, как их описал Витрувий, кариатиды не могли пониматься современниками в качестве прямого выражения символа подчинения9. Однако связанная с кариатидами легенда Витрувия о персах и соответствующая политическая иконография так называемого «Персидского портика» в Спарте была, по крайней мере, известна и Павсанию. Этот писатель-путешественник Даже идентифицировал некоторые фигуры, обладавшие индивидуальными чертами, но он же указал, что данное архитектурное укра-
7 Образы власти... 97
Ил. 1. Эрехтейон. Портик с корами-кариатидами. Афины
шение нельзя датировать временем непосредственно после грекоперсидских войн:
«Наиболее выдающееся сооружение на агоре - стоа, которую они называют персидской, так как она была сооружена из трофеев персидских войн. Но до современных размеров и в таком виде, как она представлена сейчас, они ее достроили только со временем. На колоннах стоят статуи персов из белого мрамора, среди них также и Мардоний, сын Гобрии. Изображена также и Артеми-сия, дочь Лигдамия, который правил Галикарнассом. Говорят, она добровольно пошла за Ксерксом на поле битвы (...)»10.
Общим у Витрувия и Павсания является представление, что идея наказания политической нелояльности или склонности к мятежам может выражаться с помощью опорных фигур, символизирующих рабство; характерно, однако: у них нет упоминания, чтобы эти фигуры что-либо несли руками. В таком понимании архитектура становится прямой выразительницей и политической практики, и идеологических мотивов, что совсем не удивительно в случае с Витрувием, состоявшим в качестве архитектора и инженера на службе у Цезаря и Октавиана Августа. Однако как раз его толкование кариатид мало опиралось на архитектурную практику. Ведь, например, Геродот описывает (III, 57) сокровищницу сифносцев в Дельфах (ок. 542 г. до н.э.), украшенную роскошным портиком с кариатидами типа ионических статуй кор в качестве архитектурного выражения богатства сифносцев11. А кариатиды афинского Эрехтейона
98
(ок. 420-408 it. до н.э.), первоначально называвшиеся корами, символически приносят за весь полис жертвенное возлияние к гробнице царя Кекропа, мифического основателя города (ил. I)12. Тема несения бремени для них вторична и не проявляется ни в осанке, ни в выражениях лиц. Таким образом, эти два примера явно говорят против универсальности Витрувисвой басни о невольниках13. Особенно ясно это становится при взгляде на открытый во 2 г. до н.э. (т.е., вероятно, вскоре после смерти Витрувия) форум Августа. На его портиках были водружены копии в натуральную величину кор с афинского Эрехтейона, которые уже в силу патетичности занятого ими места и сакральной атрибутики не могли рассматриваться современниками в качестве символа порабощения14.
Несмотря на противоречивость всех этих свидетельств, высказыванию Витрувия следует придать большое значение, потому что, во-первых, его легенда о кариатидах и персах доказывает, насколько важным представлялось в его время политическое прочтение архитектуры, а во-вторых, она представляет собой единственное объяснение смысла кариатид, вышедшее из-под пера античного автора15.
Атлант как несущая фигура в архитектуре и как античный астрологический символ
Толкование Витрувием смысла вертикальных опор в виде человеческих фигур проясняется в свете мифологии. Он расширяет их список, называя наряду с кариатидами еще и атлантов, которых он производит от Атласа, создавая тем самым мифический прототип, позволяющий соединить мотив несения ноши с темой наказания. У Витрувия сказано следующее:
«Далее назовем те фигурные колонны, которые имеют облик мужчин и поддерживают мутулы или карнизы, теламонами, а объяснение этому, почему их так называют, не удается отыскать в истории; греки же называли их атлантами. Атлант в исторических описаниях выступает как держатель вселенной, поскольку он первый, в силу остроты своего ума и изобретательского дара, хотел передать людям знания о пути солнца и всех звезд, и поэтому за это благое Дело он изображается художниками и скульпторами как держатель вселенной»16.
Термин «теламон», заимствованный из греческого языка для обозначения вертикальной опоры в виде мужской фигуры для горизонтальной балки, не получил широкого распространения17. В греческом Причерноморье теламонами называли стелы и бесфигурные Цоколи стел18. Греки понимали под этим словом не только ремень Для груза или узкий продолговатый камень - такое же имя носил один мифический персонаж, сын царя Эака19. Средневековые авто-р Могли заключить на основании комментария Сервия к Верги
99
лию, что обозначения «атлант» и «теламон» были синонимами, однако такое удвоение терминов, очевидно, не сыграло особой роли20.
Автором идеи превратить астрологический символ титана Атласа в опорную фигуру в архитектуре следует признать Витрувия. В процитированном выше отрывке он сближает мифологический образ Атласа с образом его брата Прометея, также наказанного Зевсом. Как тот подарил людям огонь, так и Атлас передал им знание о звездах. Но и отвлекаясь от этой необычной интерпретации мифа об Атласе, в нем можно найти такие аспекты, которые также объясняют Витрувиево восприятие опорных фигур. Согласно Гесиоду, титан Атлас несет небесный свод не добровольно и тем более не из-за «остроты своего ума», как предполагал Витрувий, а в наказание. Согласно распространенной версии, Зевс таким образом мстил Атласу за участие в восстании титанов против олимпийских богов21. Соответственно и Овидий говорит то же о «мучениях Атласа» («Метаморфозы», П, 296-297). Это толкование отвечает трактовке опорных фигур в архитектуре у Витрувия, видевшего в кариатидах или персах визуализацию идеи рабства и покаяния. Испытываемые муки внешне выражаются в несении или подпирании тяжести, а содержательно соответствуют наказанию за преступление, т.е. искуплению для осужденного. Витрувий, очевидно, перенес элементы мифа об Атласе вообще на любые опорные фигуры, а Атласа, напротив, свел к частному воплощению астрологии. Этому способствовало и более раннее представление об Атласе как персонификации горного массива или горы22. Такая трактовка могла помимо прочего восходить к Геродоту, рассказывавшему о народе атлантов: эти атланты называли свои горы «колоннами небес» и от них же производили свое имя23.
Если сравнить Витрувиево толкование атлантов с иконографией современных ему опорных фигур, становится ясно, насколько противоречивы высказывания этого античного автора. То он усматривает символы рабства в фигурах, стоящих прямо и, очевидно, ничего руками не подпирающих, то он же видит изображение Атласа в фигурах, действительно что-то с усилием поддерживающих. Таких атлантов можно было бы связать с идеей подчинения не напрямую через их позу, а лишь поэтапно двигаясь в обход через ассоциации, связанные с мифом об Атласе.
Мотив «несения бремени» становится, самое позднее, со времени Августа типичным для выражения в римской культуре идеи наказания24. Он представлен, как правило, статуями и изображениями коленопреклоненных и сгибающихся под тяжестью варваров, которые встречаются и в виде отдельно стоящих монументов, и в декоративной пластике, и на монетах. Их иконографическая программа посвящена выражению идеи подчинения чужих народов и соответственно императорского триумфа. Характерно, что, хотя Витрувий должен был знать такие примеры, он обошел их вниманием в своем описании
100
и тем самым приглушил эту сторону дела. Между тем исследования Р. Шнайдера показывают, что фигура мифического Атласа нашла применение и в практике политической репрезентации. Известно несколько колонн, изображающих Атласа, причем на одной из них, найденной недалеко от Севильи, есть надпись, посвященная императору Тиберию. Ясно, что данный мифический образ легко мог быть включен в политическую иконографическую программу25. Впрочем, это была фигура на колонне, а не изображение несущей бремя фигуры, включенное в саму тектонику здания.
У римлян давно уже можно было наблюдать соединение темы несения бремени, скульптуры, включенной в архитектуру, с темой Атласа. Очевидно, Ви
Ил. 2. Реконструкция атланта в храме Зевса в Агригенте.
Ч.Р. Кокерелл, 1830 г.
трувию остался неизвестен пример из храма Зевса в Агригенте на Сицилии с изображением наказанного Атласа (или, возможно, нескольких фигур атлантов) (ил. 2). У внутреннего святилища этого храма, построенного вскоре после 480 г. до н.^ стояли монумен-
тальные атланты, поддерживавшие перекрытия на сцепленных за головой руках. Использование темы Атласа в храме Зевса является иконографически наглядным выражением наказания титанов Зевсом, тем более что один из рельефов фронтона изображает восстание титанов26. Политические обстоятельства возведения этого храмового здания, заказанного тираном Тероном, но оставшегося незаконченным, действительно наводят на мысль о понимании атлантов как элементов политической иконографии. Ведь из-за своей хронологической близости к победе над карфагенянами это здание рассматривалось как «монумент победы». Кроме того, Диодор (XI, 25.1 и далее) рассказывает, что Терон привлек к строительству храма военнопленных. Поэтому монументальные атланты могли в преломлении мифа намекать как на военный триумф, так и на подневольный труд побежденных, возводивших храм.
В римской архитектуре фигуры атлантов, включенные в саму конструкцию здания, представляли собой исключение - даже несмотря на предложенную Р. Шнайдером реконструкцию памятника
101
победам императора Августа, в которой его поддерживали коленопреклоненные варвары - каждый одной рукой27. В этих фигурах,,» помещенных в характерный репрезентативный контекст, легко можно было узнать представителей восточных народов.
Зато в истории античной римской архитектуры можно найти примеры, когда атланты использовались в качестве декоративного мотива, лишенного особого смыслового содержания. Так, скажем, в термах на форуме в Помпеях, построенных около 80 г. до н.э., маленькие терракотовые фигуры атлантов разделяли ниши тепида-рия28. Вряд ли можно усмотреть какое-либо глубокое иконографическое значение в таких элементах отделки. Как и во многих зданиях античных театров, здесь эти фигуры превратились просто в элемент орнамента29. Витрувий, вероятно, также рассматривал кариатид и атлантов в качестве элементов архитектурного украшения, но он счел нужным рассказать, какую идею они в себе первоначально несли, как раз принимая во внимание то, что данный мотив утрачивает смысловое наполнение.
Много опорных фигур - мужских и женских - античные скульпторы изображали в мелкой пластике, мебели, зеркалах, а также на саркофагах30. Нельзя недооценивать значения этих декоративных элементов, оставшихся за рамками трактата Витрувия, для средневековых художников. Это относится прежде всего к рельефам на саркофагах (см. ниже), «перекрытия» и «карнизы» на которых нередко поддерживались кариатидами или атлантами. Возможно, размышления Витрувия о роли опорных фигур в архитектуре основывались на его знании как раз такого рода декора.
У Витрувия было представление, что средствами архитектуры можно отобразить любое порочное поведение, любой моральный проступок человека, полубога или бога. Но он не видел смысла в воплощении как раз этого аспекта мифа об Атласе в архитектурной теме атлантов. Напротив, его толкование кариатид и «персов», очевидно, представляет собой производную от мифа об Атласе. Однако похоже, что такой трактовки Витрувия не разделял больше ни один автор. Вопреки его интерпретации, фигура Атласа как образа астрологии не получила распространения в архитектуре. В контексте астрологии встречается лишь его изображение в виде скульптур, самыми известными примерами чему служат Атлас Фарнезе (ил. З)31 и Атлас Альбани (ил. 4)32. Зато здесь роль Атласа как астролога представлена лучше всего, потому что он, нагой и мускулистый, несет в одном случае сферу с констелляциями планет, а в другом -небесный свод со знаками зодиака.
Восприятие Атласа как мудрого звездочета было обычным у античных авторов. Уже Гомер описывает его «всеиспытующим» (Одиссея, 1,53). Роль астролога титану приписывает не только Витрувий, но и Диодор (III, 60; IV, 27), и Плиний (Естественная история,
102
Ил. 3. Так называемый Атлас Фарнезе. Неаполь. Национальный музей
Ил. 4. Так называемый Атлас Альбани. Рим. Вилла Альбани
П, 31). Диоген Лаэртский (Вступление 1) описал Атласа, напротив, как ливийского философа и одного из родоначальников философии33. Но какую роль мог сыграть в архитектуре трактуемый так мифический персонаж? Похоже, что в своем толковании смысла атлантов Витрувий исходил из стремления обосновать при помощи мифа и в конечном счете легитимировать свой исторический пример с кариатидами и персами как выражением политически мотивированного наказания. Представлению его современников отвечало то, что выражение таких качеств, как dignitas (достоинство) и auctoritas (власть), относится к важнейшим задачам общественной архитектуры34.
Атлас как предмет средневековых «дизъюнкций»
У нас нет сведений о том, были ли средневековые авторы и, соответственно, скульпторы и архитекторы знакомы со взглядом Витрувия на опорные фигуры как на exempla servitutis, и если были, то в какой форме35. Похоже, что ни его представление о кариатидах и «персах», изложенное в первой книге, ни предложенная в шестой
103
книге трактовка образа титана Атласа как опорной фигуры, замещающей колонну, не были широко восприняты средневековыми авторами36. Однако поскольку текст Витрувия сохранился в своем изначальном виде, нельзя исключить знания ими приведенных выше мест из него. Тем не менее нельзя установить, что именно определило средневековую интерпретацию Атласа и атлантов - сохранившиеся античные мифы или же восприятие идей Витрувия. Поскольку в энциклопедических компендиумах произошел симбиоз между обеими этими традициями (мифологии и архитектурного трактата), за Витрувием можно признать разве что введение термина «атлант» в архитектурную терминологию37. Что же до практического значения текста Витрувия для средневековой архитектуры, то оно и так оценивается все более скептически38.
Между тем в XII в., т.е. как раз в интересующий нас период, получила распространение свежая идея обновления (renovatio), с неслыханной дотоле интенсивностью актуализировавшая античную традицию и проявившаяся не в последнюю очередь в изобразительном искусстве39. Чтобы прояснить характер рецепции вариантов темы атлантов в архитектуре, следует сначала уточнить характер восприятия Атласа в средневековой мифографии и лишь затем рассматривать примеры продолжения античной традиции изобразительными средствами. На более общем уровне это означает выявление разницы между материальным сохранением античных форм в средневековом искусстве, с одной стороны, и идеальной передачей античного знания в текстах - с другой.
Чтобы провести это различие, имеет смысл воспользоваться таким исследовательским приемом, как «принцип дизъюнкции» (Principle of Disjunction) Эрвина Панофского40. Панофский разработал его совместно с Фритцем Закслем и с опорой на исследования Аби Варбурга, чтобы проследить обособление в Средние века античных форм от передававшегося ими ранее мифологического содержания41. Однако применительно к сюжету об Атласе преобразующий принцип дизъюнкции должен трактоваться шире обычного. Как мы уже видели, античная легенда об Атласе включалась в совершенно разные контексты: то Атлас выступал как наказанный титан, поддерживающий небесный свод, то как астролог или, по крайней мере, как символ астрологии, то, наконец, как архитектурная опорная фигура в понимании Витрувия. Средневековые авторы и художники стояли, таким образом, перед проблемой определения наиболее приемлемого смысла в контексте их собственных изображений. Весь набор вариаций трактовки Атласа не был известен всегда и повсеместно, однако, как мы увидим в дальнейшем, дошедшие до нас изобразительные памятники свидетельствуют о том, что знание тех или иных вариантов значений этого образа было широко распространено, самое позднее, уже в высоком Средневековье.
104
В дальнейшем на примере опорных фигур в архитектуре и будет рассмотрено, как сложившееся в античности соотношение между формой и содержанием подвергнется в Средние века разъединению, разрыву, сокращению, переформулированию и как затем к нему же осознанно начнут обращаться заново. При этом в центре нашего внимания окажется судьба мифа об Атласе и визуализация темы Атласа в архитектурной пластике начала XII в. Эта тема, однако, вписывается в более широкий контекст, затрагивая, с одной стороны, общие основания средневековой пластики и процессы ее развития, а с другой - касаясь универсальных, а именно антропологических, моделей осмысления архитектуры. Термины Витрувия для описания опорных фигур - кариатиды, «персы», атланты или теламоны, как и его же интерпретация таких фигур в качестве символов рабства или подчиненности не были, насколько можно судить, восприняты средневековыми авторами. Если не считать отрывков, цитируемых Исидором Севильским, средневековые авторы не восприняли терминологию Витрувия, хотя его трактат и был доступен во многих списках42. Поэтому продолжение существования античных опорных фигур следует связывать скорее с антропологическим пониманием архитектуры в том смысле, что изображение человека в качестве субститута колонны или пилона воспринималось всякий раз - как в античности, так и в Средневековье и в раннее Новое время - в качестве визуализации идеи добровольного служения или же вынужденного подчинения. Но сложность тут состояла в том, что миф об Атласе мог возвращать к легенде, которая хотя на свой лад и объясняла тему поддерживания тяжести и несения бремени, но воспринималась в совершенно ином контексте.
Атлас в мифологических представлениях Средневековья
На протяжении всего Средневековья сведения о языческих бо-гах опирались преимущественно на астрологическое знание. Иконографические особенности их образов сохранялись и передавались в изображениях созвездий; тут же отражались и новые представления О них43. В противоположность большинству языческих богов, у титана Атласа не было собственного созвездия, и поэтому легенда о нем оказалась на самой периферии средневековой мифографии, и у него самого не сложилось собственной иконографии.
Корпус текстов средневековой мифографии, как известно, не был каноническим и основывался скорее на пространных комментариях, нежели на точном знании первоисточников: «Средневековые писатели, - заключают Заксль и Панофский по поводу сохранения тРадиций античного искусства в Средние века, - собирали воедино
105
различные суждения позднеантичных авторов, их комментарии на классические тексты, с тем чтобы и оправдать чтение классической римской литературы, и облегчить его»44. Нередко эти комментарии порождали путаницу или искажали античную традицию до неузнаваемости. Античные сюжеты предоставляли христианским авторам богатый материал для бесчисленных аллегорий на темы Священной истории, но также и на темы повседневного знания45. Так, Сервий, автор влиятельного комментария к «Энеиде» Вергилия, скомбинировал фрагменты мифа о Геракле с образом «астрологического Атласа». Последнего он называет учителем Геракла, которого он также, недолго думая, причисляет к астрологам46. Хотя миф об Атласе в форме такого фрагмента и других, подобных ему, был довольно широко распространен в Средневековье, знание легенды об Атласе относилось не столько к общему образованию, сколько уже к специальному «мифографическому знанию»47.
Августин, всегда полемически оспаривавший ценность астрологии, выражает свой скепсис и в «Граде Божьем»48, дистанцируясь от античной традиции: «(...) Атлас, говорят, был великим астрологом и, если следовать уверениям поэтических сказок, держал на плечах небесный свод»49. «Уверения», о которых пишет Августин, со временем превратились в достоверный факт: Исидор Севильский подробно описывает многозначность, присущую имени «Атлас»: «Атлас -брат Прометея и царь Африки, - от которого, говорят, впервые пошло изысканное искусство астрологии, и о нем же говорится, что он поддерживал небо. Следовательно, от его познаний произошло название учения и науки о небе, а его имя дало название горе в Африке, которая именуется сейчас Атлас и которая вследствие своей высоты словно бы подпирает небесный механизм и звезды»50. Энциклопедисты и историографы, последовавшие за Исидором (например, ученые каролингского времени Храбан Мавр и Адо из Вьенны), восприняли представление об Атласе как изобретателе и астрологе51. Эта традиция не оборвалась и в ХП-ХШ вв., примерами чему могут служить Гонорий Августодунский52, Иоанн Солсберийский53, Томас Церклер (во «Фряжском госте») или Рудольф фон Эмс54. Один анонимный английский автор ХП в. объявляет трех или четырех дочерей Атласа аллегориями природных способностей души: фантазии, логики, памяти и красноречия. Для Джона Гарландского, комментировавшего во второй четверти ХШ в. «Метаморфозы» Овидия, Атлас приобрел облик школьного учителя, а приписанным ему семи дочерям он придал черты семи свободных искусств55.
Средневековые авторы воспринимали богов античной мифологии в качестве исторических лиц и пытались на разные лады связать их со Священной историей Ветхого завета. Порой «Средневековье доходило до того, что признавало в них (богах) пионеров цивилизации», - и это в особенности относится к Атласу56.
106
Атлас в образном мире Средневековья
Под влиянием всех толкований такого рода Атлас и вошел в мир образов и идей Средневековья в облике астролога. Вероятно, наряду с мифологической традицией еще долго сохранялись античные изображения Атласа, прежде всего статуи. Михаил Скот, посмерт
ная слава которого дошла и до Данте57, астролог и лейб-медик при дворе императора Фридриха II, упоминает бронзовую скульптуру Атласа типа Атласа Фарнезе на главной улице одного не названно-
го им французского города58. Во всяком случае действие рассказываемой им легенды должно было происходить в античные времена: согласно ей, один египтянин, по имени Аталас, привез изобретенную им астролябию в Испанию, где продал ее двум французским школярам. Те продемонстрировали ее у себя в родном городе ученым, которые расхвалили инструмент как великое открытие и в память о его изобретателе с разрешения претора поставили упомянутый монумент Атласу. В одной рукописи Михаила Скота начала XIV в. из Баварской государственной библиотеки в Мюнхене эта статуя даже изображена: обнаженный бородатый длинноволосый Атлас держит поднятыми над головой руками круг с обозначениями месяцев (ил. 5)59. Постановку ног в шаге, при которой правая согнута, а левая вытянута, можно предположительно объяснить знакомством художника со стату-
Ил. 5. Атлас из рукописи сочинения Михаила Скота. Мюнхен. Баварская государственная библиотека
ями Атласа, стоящими на одном
колене, которые, кстати, также
изображали его обнаженным и бородатым.
В противоположность немотивированной «шагающей» позе и чисто графическому пониманию небесной сферы в предыдущем примере, рисунок на титульном листе одного римского рукописного учебника по астрологии (ок. 1100 г.) изображает Атласа еще в слегка
согнутом положении, что очевидно основывалось на знании античных статуй Атласа (ил. 6)60. Рядом с ним представлен в такой же позе
107
Ил. 6. Атлант и Нимрод. Рим. Ватиканская библиотека. MS Palatinus Latinus 1417. «Dialogue inter magistrum Nemroth et discipulum Joathon de astronomia, de computo, de tempon»
Нимрод, несущий сферу без звезд. Надпись рядом называет Атласа астрологом и «царем испанцев», на плечах которого покоится звездный небосвод, а Нимрода представляет «звездочетом и царем халдеев»61. И хотя оба персонажа изображены в восточных одеяниях (что связано, вероятно, с африканским, если верить мифу, происхождением Атласа), античная традиция не претерпела изменений: Атлас представлен в качестве астролога и сохраняет древнее единство содержания и формы, не подвергаясь христианской дизъюнкции, хотя и будучи приспособленным к особенностям восприятия современников.
Еще в большей степени это касается изображения Атласа в одной французской рукописи «Морализованного Овидия» из Научной библиотеки в г. Гота (ил. 7)62. Здесь Атлас представляет собой связующее звено между землей и небом. Иллюстратора середины XIV в. интересовали не детали того, что именно держит титан (хотя он и обозначил, например, констелляции некоторых планет), а лишь то обстоятельство, что он поддерживает небосвод. Бородатый титан в длинном, подбитом мехом одеянии стоит, широко расставив ноги,
108
на земле, поросшей травой. У него мрачный пристальный взгляд, на голове корона. Он несет на плечах и на поднятых руках усыпанный звездами небосвод. Фритц Заксль, обративший внимание на этот пример, указал и на согласующееся с таким изображением понимание Атласа как аналога ветхозаветного Бога-творца, встречающееся в круге поэтических произведений, связанных с «Морализо-ванным Овидием»: «Athlas puet ^oter Dieu le реге» (Атлас может обозначать Бога Отца), и «cil porte tout le firmament Et done a tous souste-nement Par le vertu de sa parole» (который держит весь небосвод и всему дает поддержку добродетелью своего слова)63.
Титан предстает здесь уже не астрологом, но антикизированным демиургом - смысловой уровень, который можно рассматривать как настоящую христианскую «дизъюнкцию», но и как иконографическое исключение. С переходом темы Атласа в архитектуру на передний план выступают мотивы наказания и искупления, но астрологическая составляющая его образа, как мы увидим, также не потеряет значения. Однако сначала следует рассмотреть другие модели «несения груза» и «поддерживания тяжести», которые также можно считать продолжением античных изображений Атласа и благодаря которым и произошла передача этого мотива из античности в Средние века.
Ил. 7. Атлас из рукописи «Ovide moralis6». Гота. Научная библиотека
109
Живопись и скульптура как посредники при передаче смыслов: варианты значений позы опорных фигур
Заимствовав у языческого Атласа тему несения бремени и поддерживания тяжести, средневековое искусство развило ее в бесчисленных вариациях. Interpretatio Christiana (христианское осмысление)64 образа титана дало возможность средневековым художникам представить Атласа связующим звеном между Небом и землей, т.е. в качестве космологического символа. Такое понимание образа Атласа (со всеми присущими ему существенными коннотациями, относящимися к Священной истории) вполне заметно в некоторых известных нам примерах. Зато в других оно, напротив, совершенно отсутствует: визуализация темы несения груза или поддерживания тяжести могла восприниматься в качестве понятого в антропологическом плане символа фактически существующих отношений субординации, причем как добровольного акта подчинения, так и, наконец, принуждения с целью наказания. Все эти три трактовки можно обнаружить в мире средневековых образов: они сосуществовали одновременно, и соответствующие им иконографии перетекали друг в друга.
В противоположность архитектуре, прямо сопоставившей человеческое тело в виде фигур атлантов65 и кариатид с массивом здания, большинство примеров из области книжной миниатюры и настенной живописи, а также мелкой и монументальной пластики следуют принципу аллегории, при котором фигуры должны представлять собой те или иные персонификации. Особенно ярко это проявляется в резной пластинке из слоновой кости со знаменитого переплета Золотого кодекса (Codex Aureus) из Эхтернаха. На ней изображена скорченная фигура, поддерживающая на манер античных фигур Атласа suppedaneum (подножие) распятия. Надпись TERRA выдает в ней олицетворение земли (ил. 8)66. Эта трирская работа (выполненная между 985 и 987 гг.) соединяет в мотиве несения бремени античные и христианские идеи. «Земля» оказывается подчинена Христу в качестве его атрибута67 - она обозначается как место греха и крестных страстей. В том, что «Terra» поддерживает распятого Христа по образцу античного Атласа, обнаруживаются пережитки античного мировосприятия, но сама подпирающая фигура визуализирует здесь уже отвечающее христианским ожиданиям спасения противопоставление греховной земной сферы сфере небесной, символизируемой Христом и обозначаемой персонификациями солнца и луны в верхних углах по сторонам от Распятого.
Мотив «Земли» обнаруживается и в созданном несколькими годами позже (ок. 990 г.) Ахенском Евангелии Лиутхара. Там коленопреклоненная персонификация «Земли» наподобие античного
НО
Ил. 8. Terra поддерживает распятие.
Крышка переплета Золотого кодекса (Codex Aureus) из Эхтернаха. Нюрнберг. Германский национальный музей
Ил. 9. Деревянное распятие из Зекау (фрагмент). Музей собора во Фрайбурге
Атласа поддерживает императорский трон Оттона III68. Нижняя половина корпуса в длинном одеянии показана строго в профиль, тогда как верхняя изображена практически фронтально. Такая иконография, выражающая «мировое господство», была в несколько иной форме известна уже в античности, примером чему может служить, например, венская гемма Августа (Gemma Augustea69). Поэтому Terra под троном императора не только обозначает претензию на легитимированную Богом власть и место ее осуществления, но одновременно выражает и политико-богословскую концепцию мирового государя, подчинившего себе Землю70.
Однако наряду с такими композициями, отражающими фактические и соответствующие им идеологические отношения, в традиции изображений Атласа представлены и другие, в которых тема несения бремени оказывается выражением греха и наказания за него. Такую трактовку темы, противоположную первой, представляет созданное ок. 1160 г. деревянное распятие из Зекау (ил. 9)71. На нем
111
Ил. 10. Фреска в Санкт-Якобе Кастелаце (фрагмент). Трамин
маленькая фигура Адама поддерживает поднятыми руками стопы Христа. Мотив физической ноши объединен здесь с визуализацией теологически понимаемого отношения между грешником и спасителем. Большая разница в размерах фигур Адама и Христа подчеркивает, какое огромное физическое напряжение должен испытывать Адам. И здесь мы обнаруживаем два смысловых уровня: прежде всего очевидно фактическое соотношение, в соответствии с которым Адам является «предпосылкой» Христа. Однако из этого отношения вытекает и другое, лучше объясняющее взаимное расположение фигур, - отношение между грешником и его спасителем. То, что Адам держит ношу, характеризует его как кающегося, так что античная тема Атласа оказывается здесь вполне уместной. В этом примере христианская дизъюнкция состоит в переносе темы Атласа на грехов
ную историю Адама - параллель, никак не отраженная в теологической литературе.
Еще один пример, когда Адам показан несущим бремя, чтобы тем самым зримо представить его к качестве грешника, обнаруживается в южнотирольской настенной живописи: на «триумфальной арке» в церкви Св. Якоба в Кастелаце в Трамине Адам и Ева несут все зло мира (ил. 10). Пара обнаженных прародителей, подняв руки, держит раму большой «картины», на которой над Адамом изображена гарпия, а над Евой - единорог с хвостом-плавником72. С парой первочеловеков соотнесен на той же высоте апсиды и бестиарий. Тем самым уровень Адама и Евы, расположенный ниже уровня апостолов, характеризуется как сфера земной греховности.
Такая иконография грешника, в которой столь важным оказывается телесное напряжение несущей тяжесть фигуры, могла опираться, помимо прочего, на начальные слова 110-го псалма, послужившие основой и для особой «иконографии подножия». Царь Давид говорит здесь: «Седи одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Материализация врагов как «подножия» создает весьма наглядный образ победы над врагами, преодо
112
ления угрозы и т.п. В середине XII в. один английский миниатюрист (предположительно из аббатства Св. Августина в Кентербери) проиллюстрировал эту сцену внутри инициала «Q»: Христос восседает вместе с Богом Отцом на скамье, а его ноги покоятся на плечах двух скорченных фигур (ил. II)73. Очевидно сюжетное и символическое родство такого обозначения триумфа Христа над любыми врагами с теми фигурами на книжных миниатюрах, что покаянно несут на своих плечах бремя.
Согласно другой трактовке той же темы, несение бремени оказывается добродетельным действием, включаясь в соответствующий контекст библейской аллегорезы. Есть много изображений евангелистов, возникших в самых разных культурах европейского Средневековья, на которых мотив поддерживания или несения тяжести, заимствованный из иконографии Атласа, призван выразить отношение учеников к Христу74. Мы это видим в рукописи так называемой Испанской Библии (Biblia Hispalense)75 точно так же, как и в книжных миниатюрах из аббатства Райхенау76. Если в испанских примерах фигуры молящихся орант превращаются в кариатиды и молитвенный жест переосмысляется как жест несения бремени, то изображения на миниатюрах из Райхенау используют античный образ Атласа. О.К. Веркмайстер обратил внимание на сложное переплетение различных иконографических традиций, детали которого практически невозможно проследить: фигура кариатиды объединяет мотив античного бога небес - Coelus, одетого в плащ, украшенный изображениями планет, с темой Атласа, несущего небесную сферу77.
Вариативность античных форм обусловила возможность таких заимствований, которые едва ли были как-либо связаны с иконографией Атласа, даже несмотря на композиционное сходство. В часовне Сан-Дзено в римской церкви Санта-Прасседе (ил. 12) четыре ангела несут круглую небесную славу с изображением Христа78. Реконструкция этой церкви связана с деятельностью папы Пасхалия I (817-824), который наряду со своим предшественником Львом III сыграл важную роль в папском «обновлении» (renovatio) Рима. В художественном отношении оно выражалось в усиленном обращении к античности. Односводчатая часовня, украшенная мозаиками, представляла собой санктуарий, византийское оформление которого выдает работу греческих монахов. Однако ангелы-кариатиды относятся к позднеантичной традиции. Каждый из четырех белокурых ангелов стоит на миниатюрном земном шаре, поставленном поверх колонны и ее импоста, не играющих никакой функциональной роли. Ангелы тем самым передают тектонический образ тяжести, тем более что их изящные тела в белых ризах помещены вдоль ребер свода. На поднятых руках они несут круглый щит (clipeus) с изображением Пантократора, обнаруживая таким образом свою связь с античными изображениями гениев79. Хотя мотив несения ноши и тракту-
8 Образы власти... 113
Ил. 11. Кентерберийская Библия.
Иллюстрация к псалму 110.
Мэйдстоунский музей и художественная галерея
Ил. 12. Купол часовни Сан-Дзено. Рим. Санта-Прасседе
ется здесь в физическом плане, его следует расшифровать как аллегорическую подмену, поскольку ангелы несут Христа в ореоле славы. Если фигура Христа-Пантократора была, очевидно, заимствована из византийского набора образов, то прототипы ангелов-кариатид - из Равенны, а в конечном счете они восходят к напольным позднеантичным мозаикам80. Оттуда же происходит, вероятно, и заимствование, лежащее, по всей вероятности, в основе почти полноскульптурных ангелов-атлантов в клиньях свода собора в Анконе81. В иконографическом плане их, как и ангелов из капеллы Сан-Дзено, следует понимать в качестве держателей свода небесного.
В сходном контексте, как иконографическом, так и содержательном, предстают мозаичные атланты в своде алтарной апсиды (Scarsella) флорентийского Баптистерия (ил. 13)82. Они были созданы после 1227 г., но их облик восходит, несомненно, к античному типу Атласа. Правда, как их расположение - вдоль ребер свода, - так и место в общей пространственной композиции соответствуют, напротив, ангелам из Санта-Прасседе. Свод алтарной капеллы покоится на четырех колоннах. Над каждой из них помещен мозаичный цоколь и табличка с надписью. Еще выше - коринфская капитель,
114
на которой и стоят коленопреклоненные атланты. Вне всякого сомнения, их расположение служит, помимо прочего, визуализации перехода от пространственной архитектуры к иконографии. И как часть мозаичной композиции, и чисто физически они оказываются в важных точках опоры алтарной ниши и держат над головами круглый орнаментированный венок, символизирующий небесную сферу (изображения пророков и агнца Божьего внутри него подверглись позднейшей переработке). Тем самым в этом примере языческий Атлас (повторенный четырежды) держит небо христианских представлений. Несмотря на то что мифологический контекст был очевидно утрачен, тем не менее сохранились и коленопреклоненная поза Атласа, и мотив несения тяжкого бремени, да и сам предмет, который ему приходится держать, идентифицируемый (пускай и с новыми ассоциациями) в качестве неба.
Ил. 13. Своды в Баптистерии. Флоренция
115
Такое же наблюдение можно сделать и по поводу изображений евангелистов на книжных миниатюрах оттоновского времени, где также заметен заимствованный у Атласа мотив несения тяжести83. Но и в этом случае в нем получает символическое отражение скорее богословская концепция, нежели понимаемая телесно тема несения бремени и поддерживания тяжести. Обращает на себя внимание, сколь часто особая роль евангелистов как апостолов и одновременно свидетелей Страстей Христовых выражается при помощи мотива несения бремени и поддерживания тяжести - мотива Атласа. Совершенно ясно, что миниатюристы тем самым стремились выразить жертвенность апостолов, их смирение и готовность служить Христу. (Можно было бы предположить и то, что здесь визуализируется идея servus servorum dei (слуги слуг Бога), которую подчеркивал каждый папа со времени Григория Великого.) Так, например, в Евангелии Оттона III (998-1001) евангелист Лука несет в поднятых руках небесную славу (ил. 14)84. Иоанн же, напротив, поднимает только одну руку, вследствие чего мотив несения бремени в качестве выражения идеи напряжения, искупления или даже наказания сразу утрачивает убедительность. Уже встречавшийся нам в другом месте мотив посредничества евангелистов между земной и небесной сферами не играет здесь никакой роли, так как фигуры евангелистов, помещенные на радуге, уже явно принадлежат миру небес.
Однако вне библейского или, шире, богословско-иконографического контекста, т.е. там, где миниатюрист руководствовался своей фантазией или собственным опытом, несущий бремя человек снова становился существом, заслуживающим сострадания: в Верденской
Ил. 14. Евангелист Лука. Евангелие Оттона III. Мюнхен. Баварская государственная библиотека
Ил. 15. Инициал с опорной фигурой в Верденской псалтири. Берлин. Государственная библиотека
1ПИГ’ wij]
ciuf inbrmntf confcflionu aufVquo fuauifeft dnC inc rufq> mfcfrnfcfi
|СЛ. ГА В 0 Г1В
116
псалтири (создана после 1030 г.) внутри инициала «М» человек поднятыми руками поддерживает вполне архитектурную балку архитрава (ил. 15)85. Не является случайным совпадением, конечно, и то, что этот псалом начинается как раз с призыва к милосердию -Misericordia86.
В качестве важного посредника между малоформатными видами художественного творчества (книжная миниатюра, настенная живопись, мелкая пластика) и архитектурной пластикой следует рассматривать свободно стоящую или же монументальную скульптуру. Здесь использовались опорные фигуры в стиле античных изображений Атласа и в сопоставимых по значению контекстах. Как и в книжных миниатюрах, в скульптуре при помощи мотива несения бремени тоже визуализировалась роль евангелистов как глашатаев Слова и соратников Иисуса. Самый известный пример тому - это альпирсбахский пульт для чтеца во Фройденштадте середины XII в. (ил. 16). На нем апостолы поднятыми руками поддерживают доску, на которой лежит Священное Писание (заключающее в себе и слова евангелистов). Средствами монументальной деревянной пластики жест поддерживания тяжести превращается здесь вновь в телесное выражение готовности добровольно нести служение. Но поскольку он понимается в теологическом плане - прежде всего как аллегория отношений между Христом и его учениками, - он тем самым не имеет отношения к визуализации человеческой силы или же тяжести человеческого труда.
Такому пониманию противоречат загадочные несущие фигуры на так называемом госларском алтаре (или троне) Кродо (ил. 17)87. Четыре бронзовые фигуры, стоя каждая на одном колене, поддерживают, подняв руки, алтарь (или сиденье трона). В некоторых реконструкциях предполагается даже, что эти фигуры первоначально несли на себе маленькие небесные сферы, на которых якобы и покоилось некогда сиденье. Такие сферы в качестве связующего элемента между атлантами и сиденьем можно было бы рассматривать как указание на знание мастером античных прототипов. Открытым, однако, остается вопрос, какой именно смысл должны были выражать эти атланты. Во всяком случае стоит исключить предположение, напрашивающееся сразу, что тем самым сидящий на троне символически перемещался из земной сферы в небесную.
Втянутая в плечи голова и выставленная далеко вперед согнутая в колене нога визуализируют напряжение каждой из фигур, хотя его и нельзя уловить в их мимике. В этом примере преобладает телесность, служащая выражению идеи верховной власти, но она вновь Приобретает аллегорический смысл в отлитой ок. 1225 г. купели из Хильдесхейма (ил. 18)88. Хотя и здесь тяжесть физического бремени на плечах коленопреклоненных фигур прочитывается в их позах, напряженной мимике и слегка намеченной мускулатуре, эта ико-
117
Ил. 16. Пульт для чтения из Альпирсбаха. Городская церковь в г. Фройденштадт
Ил. 17. Алтарь Кродо. Гослар. Городской музей
нография не соответствует символическому смыслу изображения. Ведь представлены здесь четыре реки рая - у каждой фигуры в руках соответствующий атрибут - кувшин для воды89. Символическая связь между реками рая и крещальной купелью очевидна, однако скульптор вполне мог использовать и другие мотивы.
Напротив, атланты на троне Илии, архиепископа Бари и Каноссы, в церкви Св. Николая в Бари (третья четверть XII в.) снова восстанавливают соответствие между темой несения бремени и иконографией (ил. 19)90. Сиденье трона с передней стороны поддерживается двумя коленопреклоненными фигурами в набедренных повязках и стоящим атлантом в одеянии до колен и в головном уборе. Интерпретации этих фигур расходятся, но бесспорно, что позы обеих угловых фигур заимствованы у античных прототипов: А. Грабар усматривал в них порабощенных мусульман, тогда как Ф. Карлссон, обращая внимание на разницу в величине атлантов, видел в них изображение гигантов, как их характеризовал Гуго Сен-Викторский91. Средний атлант, тот, что поменьше ростом и держит в руке посох, в обеих версиях играет роль своего рода надсмотрщика, в пользу чего говорят и его одеяние, и головной убор. Согласно обоим толкованиям, эти атланты представляют собой восточных пленных, чье состояние рабства или же вассальной зависимости передается с помощью
118
мотива несения бремени. Такое телесное наказание соответствует социальной символике подчинения, исходящей от повелевающего ими епископа.
Сразу можно привести еще один пример такой же иконографии, относящийся почти к тому же времени. Он тоже совершенно определенно включен в контекст репрезентации власти, но понять его смысл намного сложнее. Передняя сторона саркофага (завершен вскоре после 1154 г.) короля Рожера II в соборе Палермо покоится на двух цокольных опорах из белого мрамора, по углам которых стоят коленопреклоненные атланты, держащие на плечах тяжесть92. Передняя колонна делит эти восемь фигур на четыре пары, в каждой из которых атланты довольно похожи друг на друга и позами, и одеждой. Эти рельефные фигуры (частично даже переходящие в круглую скульптуру) сгибаются под своим бременем, втягивая головы в плечи. Некоторые лица, похоже, отмечены гримасой боли, другие же выглядят скорее дружелюбно и раскованно. Их прототипами можно считать атлантов с римских гробниц93.
Конечно, трудно восстановить иконографический контекст этого королевского саркофага, учитывая отсутствие у атлантов каких-либо специфических атрибутов. На общем фоне декоративного оформления гробницы колоннами с мозаиками и балдахином фигуры атлантов представляют собой слишком мелкую деталь общего
Ил. 18. Купель. Собор в Хильдесхейме
Ил. 19. Епископский трон. Бари. Церковь Св. Николая
119
ансамбля - правда, такой детали нет больше ни на одном другом саркофаге в Палермо.
Вероятно, скульптор знал о возможности разных толкований фигур атлантов. Лишь у некоторых из них он изобразил напряжение и усталость, в других же случаях он использовал возможность при помощи атлантов эффективно разделить сферы земного и небесного. Мертвый король внутри саркофага пребывает между этими двумя уровнями и может надеяться на спасение на Небесах, символизируемых балдахином. Атланты же, отмеченные печатью усталости от своей ноши, указывают на различие между землей и Небесами как между земной сферой и сферой спасения. Но при этом не обязательно все атланты должны были автоматически играть роль грешников или кающихся.
Архитектурный атлант как создание Средневековья
Итак, бросив взгляд на сюжетную и иконографическую судьбу языческого титана Атласа в средневековом воображении, мы убедились, что его традиция продолжала существовать со многими вариациями и с дизъюнкциями.
С одной стороны, эта тема стала использоваться для того, чтобы передавать, как человеческое тело реагирует на несение бремени или поддерживание тяжести, и изображать тем самым усилия человека. Развиваясь в этом направлении, Атлас со временем превратился в аллегорию человеческого существования, что представляло собой более или менее целенаправленную христианскую дизъюнкцию, полностью разрывающую исходные отношения между формой и содержанием. Но с другой стороны, сохранялось и мифологическое представление о том, что Атлас поддерживает усыпанное звездами небо - правда, оно было включено в контекст богословских идей и Священной истории. Зато иконографическим новшеством христианского Средневековья стала как сама идея несения бремени как акта добровольного служения, так и ее визуализация. Помимо уже приведенных примеров, параллели можно найти в средневековой церковной архитектуре с ее выраженными антропометрическими или антропоморфными решениями: такие тектонические опорные элементы, как колонны или пилоны, нередко аллегорически описываются как апостолы или пророки, что, в свою очередь, уходит корнями в опять-таки антропоморфную терминологию архитектуры как греческой, так и римской древности94.
Обратимся теперь к примерам использования темы Атласа в средневековой архитектуре95. Возникновение опорной фигуры в архитектуре Средневековья происходит в первые два десятилетия XII в.96
120
К хотя этот процесс основывался, со всей очевидностью, прежде всего на знании античных изображений Атласа, необходимо учитывать в качестве возможных передаточных звеньев и приведенные примеры из живописи. Они не только отчасти предшествуют по времени первым архитектурным атлантам, но и демонстрируют многообразие сложившихся иконографических и формальных вариантов трактовок данной темы.
Включение атлантов в архитектуру потребовало и нового понимания смысла опорных фигур. Хотя и рельефным изображениям, и круглой скульптуре необходимо было, как и прежде, отвечать своим аллегорическим целям, теперь они должны были все же соответствовать и задаче вполне реальной - служить опорами для груза, возлагаемого на них архитектурной конструкцией.
Эта тектоническая функция, только намеченная в мозаиках Санта-Прасседе и флорентийского Баптистерия, как мы вскоре
увидим, лишь шаг за шагом входит в число приемов архитектуры. Переход шел от рельефных изображений через почти цельнообъемную пластику, привязанную к архитектурной конструкции, к свободно стоящей скульптуре, используемой непосредственно в архитектурной конструкции. Самые ранние примеры архитектурной пластики, напоминающей опорные фигуры, ограничиваются пластикой капителей97. Даже когда бюсты порой берут на себя функцию опоры, это происходит вне всякой контекстуальной связи с рецепцией образа Атласа. Поэтому нас должно в первую очередь интересовать
включение монументальных атлантов в архитектуру и их иконографическое значение.
Применение античных образцов в средневековой скульптуре можно раньше всего проследить в ранней романской архитектуре Южной Франции (Сен-Жиль-дю-Гар), Северной Испании и не в последнюю очередь Италии начиная примерно с 1100 г. Обращение к искусству античной пластики в мастерских Вилигельмо Моденского и его ученика Николо произошло, с одной стороны, благодаря соприкосновению с богатством античных форм в самой Италии, а с другой - под влиянием ранней романской архитектуры Юго-Западной Франции98.
Рельефы на фасаде Моденского собора демонстрируют непосредственное знакомство их создателя с античными скульптурами Атласа99. Они стоят у самого начала истории рецепции этого мотива, в ходе которой атланты станут излюбленным элементом украшения средневековых сакральных зданий, - да так, что примерно с самого начала XIII в. начнут просто заполонять их, как это особенно хорошо видно по Реймсскому собору100. Превращение держащего небесный свод Атласа в атлантов, несущих тяжкий груз строительных конструкций, началось в скульптурной мастерской мастера «илигельмо в Модене в первые два десятилетия XII в. То же отно-
121
Ил. 20. Правый атлант.
Собор в Модене. Главный портал
Ил. 21. Левый атлант.
Собор в Модене. Главный портал
сится и к тиражированию сюжета об Атласе в фигурах многочисленных атлантов. Необходимо подчеркнуть, что мастерская Вили-гельмо позаимствовала для своих атлантов не античные опорные фигуры, какими бы они ни были, а античные изображения титана Атласа. У ее мастеров хватало не только познаний в античной скульптуре, но и технических умений, позволивших сначала вывести тему Атласа из античной круглой скульптуры, а затем развить ее от рельефов на фасадах или порталах до круглой скульптуры101.
В Моденском соборе на очень важном месте - на боковых пилонах главного портала - помещены два прямоугольных поля с рельефами, изображающими атлантов. Они образуют цоколи для поясов из растительного орнамента, поднимающихся вверх вдоль передней стороны каждого из пилонов. Справа склонил колено длинноволосый атлант (ил. 20), слева его коротковолосый собрат, согнувшись, несет груз (ил. 21). Оба в одеяниях до колен; тот, у которого длинные волосы, в обуви, а тот, который слева, бос102. Кажется, они едва не падают под своим тяжким бременем. Их руки, намеренно увеличенные в сравнении с пропорциями тела, охватывают края груза, похожего на балки, подчеркивая тем самым тему несения тяжести и наглядно показывая усилия, для этого применяющиеся. Можно бы
122
ло бы склониться к интерпретации иконографии обоих атлантов как аллегории человека, покорного судьбе и Божьему суду (даже несмотря на социальные различия, проявившиеся в наличии обуви у одного и ее отсутствии у другого), если бы не еще один рельеф на фасаде, представляющий фигуру атланта, похоже, в совершенно ином контексте103.
Этот рельеф находится справа от protiro главного портала и изображает историю Каина и Авеля (ил. 22). Он представляет собой часть серии из четырех рельефов, иллюстрирующих Книгу Бытия; их «повествование» начинается над левым порталом с истории сотворения мира104. Затем слева от главного портала представлены грехопадение и изгнание из рая, справа от него - земной труд и история Каина и Авеля, а над правым боковым порталом - Ноев ковчег и Всемирный потоп. Нас будет интересовать только рельеф, посвященный Каину и Авелю: между двух его главных героев, один из которых держит ягненка, а другой связку колосьев, чтобы возложить их на алтарь в качестве жертвы105, стоит на коленях фигура,
Ил. 22. Рельеф с атлантом на фасаде. Собор в Модене
123
напоминающая Атласа Альбани106. Скульптор не смог скрыть, что образцом ему послужила античная скульптура - в его рельефе можно заметить следы исходной трехмерной композиции: располагая торс фигуры фронтально, он повернул ее ноги и руки в профиль. На ее плечах покоится clipeus (медальон) с восседающим на троне Христом в центре107. Interpretatio Christiana (христианское толкование), которым пользуется скульптор, позволяет ему заменить небесный свод с изображениями месяцев его античных образцов на образ восседающего на троне небесного царя Иисуса. Неслучайно для этой композиции выбрано место между Каином и Авелем - там, где, собственно говоря, должен был находиться алтарь. Средневековый атлант появляется у алтаря - места покаяния - в качестве фигуры кающегося. Надпись, представляющая собой леонин (вид гекзаметра), делает это толкование вполне очевидным: HIC PREMIT, HIC PLORAT, GEMIT HIC, NIMIS ISTE LABORAT (Тот нагружает, тот кается и горько стенает, этот же слишком страдает)108.
Но кто кается здесь и кто стонет от бремени? Что за христианская или по крайней мере охристианенная фигура несет небосвод с Христом? Жалобная надпись исключает библейских персонажей, евангелистов и олицетворения в духе «Terra». Хотя этот образ своей позой и складками одежды напоминает левую длинноволосую фигуру с главного портала, но прической и одеянием он сходен со стоящими по сторонам Каином и Авелем. Соответственно, это аллегория человека, жалующегося на бремя судьбы, возложенное на него, грешника, Богом, - судьбы, которая в то же самое время отмечена и грядущим спасением Сыном Божьим.
Только надпись позволяет прочитать аллегорию бремени на плечах этого атланта. Она относится к функции Христа как судьи. Подобно тому как Спаситель на рельефе жертвенных даров Каина и Авеля, так же и в день Страшного суда он явится, чтобы судить людей. Скульптор преобразовал наказанного держателя небес в кающегося грешника. Бремя тяжелого небосвода, ставшее карой для титана Атласа, было здесь переосмыслено как общее бремя греховного человеческого бытия. Смысл надписи на фасаде можно было бы поэтому перенести и на рельефы пилонов главного портала. Титан из античной мифологии превратился в человека, который будет спасен Христом от его грешного существования.
На стенах кафедрального собора в Пьяченце109, построенного вскоре после 1122 г. (и тем более испытавшего влияние стиля мастерской Вилигельмо, что часть украшающей его скульптуры была в ней же и изготовлена), можно проследить новые варианты изображения фигуры грешника, производной от античного Атласа. Перекрытие дверного проема в северном портале западного фасада несут две маленькие фигуры, выполненные как горельефы, под правой из которых помещена надпись ATLANS (ил. 23)110. Это уже по меньшей
124
Ил. 23. Атлант, поддерживающий дверное перекрытие. Собор в Пьяченце. Северный портал
мере опровергает мнение, что обозначение «атлант» для опорной фигуры не было известно средневековым мастерам111. Судя по композиции рельефных атлантов в Модене, можно предположить, что Атласа, пожалуй, знали и в качестве титана, которому пришлось в наказание держать на своих плечах небосвод. Зато, в отличие от других примеров романской архитектурной пластики, о которых речь пойдет ниже, роль Атласа как символа астрологии в Пьяченце никак не проявилась. Атлантов нет как раз там, где их следовало бы ожидать увидеть в качестве знатоков астрологии, - на protiro главного портала, архивольт которого украшен поясом зодиака. Космологические ассоциации, связанные с Атласом - держателем небес,
очевидно, не играли роли при обращении к его теме. Напротив, приведенные примеры приводят к заключению, что атланты здесь понимаются в качестве символов грешников и кающихся и притом в смысле, соответствующем и надписи рядом с моденским атлантом, и оценке атланта Витрувием как exemplum servitutis.
Следует, однако, сразу оговориться, что оба атланта под перекрытием дверного проема в Пьяченце ничего не несут и не подпирают руками. Хотя они и выполняют функцию консолей перекрытия, руки их лежат на коленях. Лишь то, что голова каждого поникла на грудь, указывает на тяжесть несомого им груза. Примечательно, кроме того, что каменные блоки, на торцах которых изображены эти атланты, с других сторон украшены рельефами с женскими персонификациями добродетелей, одна из которых (слева) обозначена как PACIENCIA, т.е. «Терпение»112.
Маленькие атланты держат перекрытия дверного проема на главном и южном порталах собора - точно так же, как и на северном. Полнофигурные консольные скульптуры центрального портала, кажется, словно держатся за пилоны за своими спинами (ил. 24). Каждый из них, скорчившись, хватается за края пилона, причем голова, также склоненная под бременем, уходит глубоко в плечи. Поскольку поза этих атлантов изменилась по сравнению со скульптурами в Модене и они выполнены в новой стилистике, Б. Кляйн от-
125
Ил. 24. Атлант, поддерживающий дверное перекрытие. Собор в Пьяченце. Главный портал
нес их к числу ранних работ Николо и датировал 20-ми годами XII в. И снова фигуры снабжены надписями - на сей раз называющими пороки: VSVRA («скупость») слева и AVARICIA («алчность») справа113. То же и у атлантов под перекрытием проема южного портала, таких же, как и атланты портала северного. Левый подписан как IRA («гнев»), а правый - снова как AVARICIA («алчность»)114.
Обозначение фигур под перекрытиями надписями с названиями пороков связано, без сомнения, с тем, что они должны нести на себе тяжкое бремя. Из этого можно сделать вывод, что надпись ATLANS на северном портале тоже нельзя понимать как ценностно нейтральный термин. Очевидно, Атлас вполне осознанно ассоциировался с грехами. Давая письменное тол-
кование мотива несения бремени, скульптор, вероятно, исходил из своих познаний о мифологическом Атласе. Включение атлантов в архитектурный контекст, что приняло в Пьяченце, как мы увидим ниже, монументальные формы, могло бы рассматриваться кдк еще одно указание на то, что процитированный вначале статьи отрывок из Витрувия был в том или ином виде известен мастерам. Насколько нам известно, средневековый скульптор или архитектор мог вычитать обозначение «атлант» для опорных фигур в архитектуре только у Витрувия.
Если исходить из того, что фигуры атлантов в Пьяченце представляли собой символические воплощения христианского понимания пороков, то их положение вполне отвечает дидактической функции фасадной скульптуры. Б. Кляйн совершенно справедливо предполагает, что USURA в значении «скупость» должна была восприниматься как призыв к благотворительности и щедрости, обращенный ко всем входящим в храм115. Атланты под перекрытиями дверных проемов в сочетании с архитектурными конструкциями и убедительно зримо передаваемой тяжестью возложенного на них бремени должны были представляться средневековым зрителям наказанными пороками. Главная идея этой композиции состояла в том, что храм (т.е. идущее в нем богослужение) одерживает победу над грехами человеческими.
126
На портиках перед северным и южным порталами западного фасада собора в Пьяченце скульптурная мастерская Вилигельмо сделала главный шаг в ходе перенесения сюжета об Атласе в архитектуру (ил. 25-26). При этом происходит не только переосмысление держателя небесного свода Атласа/Атланта как архитектурно опорной фигуры, привычного нам атланта со строчной буквы, но и переход от рельефной пластики, выполняющей нарративную функцию, к полнообъемным поддерживающим фигурам без какого бы то ни было нарративного содержания. Отвлекаясь от развития собственно темы Атласа, следует отметить, что здесь пролег важный рубеж в истории пластики, который, однако, до сих пор редко принимали во внимание в силу того, что тут она включена в архитектуру. Атланты из Пьяченцы являются вообще «старейшими круглыми скульптурами из камня со времен античности»116.
Чтобы далее уже не отвлекаться от проблемы происхождения и развития мотива поддерживающих фигур, мы рекомендуем по всем вопросам, касающимся особенностей стиля этих скульптур и выявления работавших над ними мастерских, обращаться к детальному и взвешенному изложению Б. Кляйна117.
При том что детали облика атлантов в этих двух случаях варьируются, они изображены по сходному принципу: оба сидят на деко-
Ил. 25. Левый атлант.
Собор в Пьяченце. Северный портал
Ил. 26. Правый атлант.
Собор в Пьяченце. Северный портал
127
ративных сиденьях, их головы зажаты между руками, держащими груз, а ладонями они обхватили основания поддерживаемых ими колонн. На северном портале отличаются формы сидений (у левого атланта оно в виде трех львов, а у правого - капители с орнаментом из листьев аканфа), а также типы лиц (у левого атланта борода, он носит волосы на пробор и кажется на вид человеком пожилым; голова же правого атланта, напротив, в коротких локонах, и он выглядит молодым человеком).
У южного портала атлант слева сидит верхом на гарпии (ил. 27). У него нет бороды и он соответствует типу молодого кудрявого атланта с северного портала; обеими руками он обхватил основание колонны. Правый атлант изображен по другой схеме (ил. 28). Хотя своей физиогномикой он близок к длинноволосому немолодому атланту северного портала, но поза, в которой он сидит и держит свой груз, строится совершенно по-новому. Он сидит, скрестив ноги, на сиденье, похожем на капитель, правой рукой упираясь в колено, а левой держа колонну; взгляд чуть склоненной головы направлен к середине портала.
Вариации в посадке, положениях рук и ног, а также направлении взглядов придают этим атлантам неизвестные ранее динамику и жизненность. Варьирование их образов соответствовало эстетическим требованиям времени: в хронике аббатов Сен-Тронд в Льеже, созданной в 1169 г., именно «operosa varietate» (искусное многообразие) объявляется критерием высокого качества118. Варьируя создаваемые образы, скульптор мог демонстрировать свое соответствие и такому эстетическому критерию, как «умелость»119. Благодаря амбициям художников изменилось и понимание фигур атлантов: они переводились из области мифологии, где господствуют божества, в область изображений людей. Они приобретали тем самым новое качество, возникшее благодаря изучению средневековыми мастерами античных скульптур и не в последнюю очередь объясняющее появление изображений архитекторов, представляемых в образе атлантов120.
Место атлантов из собора в Пьяченце в истории развития данного художественного мотива определяется тем, что в рамках архитектурной пластики именно в них был достигнут максимум скульптурной визуализации темы несения человеком бремени. Их сидячая поза являлась модификацией позы античных скульптур, в которых Атлас изображался стоящим на одном колене, и она должна была усиливать впечатление тяжести несомого бремени. Первые стоящие атланты известны нам только начиная с готической архитектуры XIII в., например из соборов в Майнце или в Реймсе121. Б. Кляйн зафиксировал промежуточную стадию на пути от рельефов к круглой скульптуре: на главном портале собора в Кремоне горельефы атлантов еще являются частью архитектурных
128
Ил. 27. Левый атлант.
Собор в Пьяченце. Южный портал
Ил. 28. Правый атлант. Собор в Пьяченце. Южный портал
блоков, но уже явно стремятся превратиться в свободно поставленные фигуры122.
Иконография атлантов развивалась независимо от этого исторического процесса создания новых форм, итогом которого стало появление опорных фигур в виде круглой скульптуры. Надпись на цоколе и сиденье правого атланта гласит: О QUAM GRANDE FERO PONDUS SUCCURITE QUESO («О, сколь тяжкий груз я несу - прошу, помогите!»)123. Почти идентичные надписи сопровождают атлантов из Нарни (Сан-Доменико) и хранящихся в Фондан-ционе Польяги в Варезе и в музее Виктории и Альберта в Лондоне124. Такие слова вполне объясняют замысел скульптора: поза несущих груз атлантов находит свое соответствие в жалобной надписи. Если допустить, что таким образом представлена человеческая судьба кающегося грешника, то теряет смысл вопрос о том, следует ли воспринимать выполняемую атлантами службу как действие добровольное или же как наказание. Противопоставление молодого и пожилого атлантов показывает: судьба человека состоит в том, чтобы всю жизнь страдать от тягостного труда и принуждения, и избавить от нее может только приговор в день Страшного суда.
9 Образы власти...
129
Атланты на службе космологии
В последующие десятилетия в архитектуре Италии и не только ее одной появилось много разных атлантов. В связи с этим возникает вопрос: не отмечалось ли в иконографии наряду с трансформацией содержания легенды об Атласе в тему тяжести земного существования еще и обращений к астрологическим или космологическим аспектам античного образа Атласа? Очевидно, что ни атланты из мастерской Николо в соборах Феррары и Вероны125, ни атланты в клуатре церкви Кёнигслуттера126 никак не связаны с этими аспектами. И только сидящие атланты в веронской базилике Сан-Дзено, восстановленной в 1120127 г., допускают астрологическое истолкование. Два сидящих на колоннах перед порталом атланта поддерживают арку каменного балдахина над входом (ил. 29, 30)128. Расположением, позами и почти полнообъемным моделированием они соот-
Ил. 29. Левый атлант над порталом. Верона. Сан-Дзено
Ил. 30. Правый атлант над порталом. Верона. Сан-Дзено
130
ххЛ. 31. Атланты. Собор d Сполето. Западный фасад
ветствуют своим аналогам из Веронского собора. Бородатый атлант слева сидит, скрестив ноги и согнувшись, и держит основу архивольта арки. Его правый безбородый собрат сидит, широко расставив ноги и чуть прямее; он также держит свой груз поднятыми руками. Здесь нет никаких внешних признаков, чтобы атланты понимались в качестве держателей небесного свода. Однако расположение их на передней стороне арки балдахина создает одно соответствие, которое, видимо, возникло намеренно: по обеим сторонам этой арки, сразу за атлантами, идет фриз с символическими изображениями месяцев года. Эти изображения человеческой деятельности годового цикла образуют своеобразный пояс зодиака.
Иконографический контекст представляется здесь на первый , взгляд не слишком понятным, однако он проясняется при сравнении с другими примерами. Благодаря иконографическим исследованиям К. Нёльса мы располагаем сведениями о космологических программах оформления романских церквей в Тускании, Ассизи и Споле-то129. Фигуры атлантов играют там важную роль в иконографии света и неба, с которой непосредственно связано появление круглых окон - так называемых роз. На фасаде собора в Сполето, обновленном между 1198 и 1207 гг., два стоящих атланта поддерживают поле с окном-розой и символами евангелистов по углам (ил. 31)130. Они заменяют собой две колонны ложной галереи и поддерживают архитрав поднятыми руками и слегка наклоненной вперед головой.
131
На фасаде церкви Сан-Пьетро в Тускании, оформленном лишь несколькими годами позже, по обе стороны от большой розы в центре расположены два обрамленных орнаментами бифория. Поле вокруг левого бифория заполнено полуфигурными изображениями великих пророков, а также фигурами обоих архангелов и агнца Божьего131. Все это орнаментальное поле поддерживается атлантом (ил. 32), поза которого соответствует характерной позе бегунов на этрусских рельефах. На тот же источник вдохновения скульптора указывают чрезмерное подчеркивание половых признаков атланта и его развевающееся одеяние.
В качестве последнего примера из этой группы рассмотрим атлантов с западного фасада церкви Сан-Руфино в Ассизи (завершен в начале XIII в.) (ил. ЗЗ)132. Под розой оставлено прямоугольное поле, в котором три атланта держат архитрав, стоя на драконах или еще каких-то чудовищах. Двое крайних атлантов так повернуты в профиль, что их головы оказываются перед стеной фасада, а средний стоит фронтально и несет груз на поднятых руках.
Фигуры атлантов поддерживают окна-розы либо напрямую (как в Ассизи и Сполето), либо опосредованно (как в Тускании), актуализируя тем самым христианизированный образ Атласа. Христианская дизъюнкция не изменила саму идею того, что небосвод должен кем-то поддерживаться, - идею, которую христианская религия в силу нехватки собственных образов переняла из античности, - но заменила исходный мифологический контекст символикой спасения. Окно-роза являлось иконографическим выражением небес и с самого начала трактовалось как символ Христа. Достигавшийся с его помощью световой эффект способствовал слиянию солярной иконографии с иконографией Христа - слиянию, опиравшемуся на более чем полутысячелетнюю традицию. Уже в середине V в. римская курия определила Рождество Христово как 25 декабря, день, когда по языческому календарю праздновалось рождение солнечного бога133.
Архитекторы и скульпторы - создатели вышеперечисленных фасадов, помещая на них атлантов, повторяли одну и ту же иконографическую тему христианизированного держателя небосвода. Астрологический смысл этого образа, изначально языческий, был приспособлен к христианской космологии. Мифический персонаж Атлас уже не играл никакой роли, но он послужил моделью для нового, безымянного держателя христианских небес. Параллельно этому у Атласа был заимствован мотив телесного напряжения, который при визуализации в архитектурных опорных фигурах создавал возможность наполнить символическим смыслом модус несения бремени. Атланты оказались в определенном смысле оптимальным связующим звеном между скульптурой и архитектурой, поскольку они позволили функционально включить в текто-
132
Ил. 32. Атлант. Тускания. Сан-Пьетро. Западный фасад
нику здания пластический образ, ориентированный на формы человеческого тела.
В теории такое переосмысление держателя небес в архитектурную опорную фигуру проделал уже Витрувий. Однако в мастерской Вилигельмо то же самое совершенно независимо было осуществлено на практике. Довольно маловероятно знакомство этой мастерской с
133
Ил. 33. Атланты. Ассизи.
Сан-Руфино. Западный фасад
трактатом Витрувия. Его интерпретация опорных фигур как exempla servitutis была известна в средневековой традиции в качестве одного из вариантов их толкования. Однако в следующем далее небольшом экскурсе будет показано, что сходные мотивы в архитектурной пластике развивались и при совершенно других художественных предпосылках. Тем самым будет опровергнута одна из исходных гипотез, согласно которой наказанные пороки или сетующие атланты в средневековой архитектуре должны трактоваться как христианизированные версии символических интерпретаций Витрувия.
Экскурс: взгляд во Францию
Рельефы с атлантами в Модене, как и скульптурные атланты в Пьяченце, могут быть поняты (помимо их специфического смысла в каждом отдельном случае) в качестве творческого переосмысления античной темы Атласа. Включение атлантов в тектонику перекрытия дверного проема или же «тамбура» перед входом составляет собственное новшество Средневековья. Обзор атлантов из мастерской Вилигельмо прояснил процесс формирования нового образа. Его можно описать как развитие, прошедшее три стадии: от имитации античной скульптуры в плоском рельефе через атлантов в горельефе до свободно стоящих скульптур.
Скульпторы мастерской Вилигельмо были знакомы с античными статуями Атласа - об этом свидетельствует рельеф с Каином и Авелем из серии, посвященной Книге Бытия. Однако стоит лишь обратить взгляд на Францию, как становится ясно, что для возникновения сходного мотива фигур, держащих некий груз, там должны были сложиться другие обстоятельства. На трюмо перед входом в церковь бывшего аббатства Сен-Пьер в Больё-сюр-Дордонь (деп. Коррез) находятся атланты, которых невозможно вывести из античных образцов, ни из скульптуры, ни из архитектурной пластики (ил. 34а). Сильно вытянутая в длину фигура в длинном облачении заполняет переднюю плоскость дверной опоры, ограниченной
134
вьющимся утолщением134. Теперь уже нельзя установить, что служило основанием этой фигуры, выполненной в технике высокого рельефа. Она слегка развернута в левую сторону, причем голова так прижата к левой половине груди, что шея оказывается изогнутой почти под прямым углом. Этот атлант хватается руками за край колонны под покрывающей его плитой, так что руки его оказываются тесно прижаты к верхней части тела. Положение рук и склоненная набок голова должны показать, как тяжело перекрытие для этой фигуры - тем самым она совершенно определенно обозначается как атлант. На боковых полях присутствуют похожие фигуры: сцена на правом поле колонны состоит из вытянутой в высоту рельефной фигуры в стиле пророков из Муассака. Она развернута фронтально, правая рука держится за изгиб ветви, левой она поддерживает верхнюю часть туловища, опираясь на бедро. Голова, втянутая в плечи и слегка наклоненная вперед, придавлена верхней плитой перемычки. Эта фигура стоит на своего рода подножье, которое, в свою очередь, поддерживается каким-то сидящим существом, которое уже нельзя точнее определить.
На левом поле изображены две фигуры, стоящие одна над другой. Верхняя, хорошо сохранившаяся, держит рукой горизонтальный край опоры. Пропорции ее тела смоделированы намного реалистичнее, чем у той, что находится на передней стороне пилона. Голова втянута в плечи и прижата к груди, свидетельствуя о слишком большой тяжести груза. Этот атлант стоит на плечах другой, тоже вертикально поставленной фигуры, руки которой обхватывают ступни атланта.
Для разбора иконографии этой композиции следует сначала обратиться к трюмо над южным порталом церкви бывшего аббатства Муассак, которое несколько старше своего аналога в Больё135. В Муассаке передняя сторона каждой колонны состоит из трех стоящих крест-накрест львов, скрывающих конструктивную функцию пилонов портала.
Рельефные фигуры на боковых стенах (справа - пророк Иеремия, слева - апостол Павел) также никак не связаны с несущей Функцией пилонов. Их позы не только не имеют никакого отношения к пилонам, но даже ослабляют их визуальное воздействие - тем, например, что пророк скрестил ноги. Между ступнями обеих фигур можно видеть рельефы, изображающие колонны, которые в обоих случаях за головой соответствующей рельефной фигуры завершаются капителями.
Сочетание фигур пророка и апостола в Муассаке, возможно, было известно мастерам, создававшим портал в Больё. Фигуры, поставленные на одной стороне пилона одна на другую (ил. 34b), отвечают представлению, популяризировавшемуся Бернаром Шартрским, о карликах, стоящих на плечах великанов136. Однако сомнительно, чтобы здесь и в самом деле мог быть визуализирован образ
135
Ил. 34а. Атлант на передней стороне трюмо. Больё-сюр-Дордонь. Церковь аббатства Сен-Пьер
Ил. 34b. Атланты на левой стороне трюмо. Больё-сюр-Дордонь. Церковь аббатства Сен-Пьер
апостолов, стоящих на плечах пророков. Поскольку у фигур начисто отсутствуют какие бы то ни было атрибуты, эту возможность стоит учитывать лишь в качестве дополнительной. Куда существеннее для нашей темы то обстоятельство, что здесь действительно изображаются атланты (т.е. фигуры людей, несущих груз), в которых нельзя усмотреть какой бы то ни было переработки античных художественных форм. Рельефные фигуры на всех трех сторонах пилона тематически воспроизводят функцию колонны. В отличие от Муассака, где у апостола и пророка есть парные фигуры и где они не связаны непосредственно с аллегориями пороков avaritia и luxuria, представленными на западной стене, атланты из Больё соотносятся с изображениями искушений Христа - gula, avaritia и luxuria. Атлант,
136
Ил. 35. Пара атлантов. Олорон. Сен-Мари. Центральный пилон
поддерживающий перекрытие дверного проема, вновь оказывается отнесенным к земной сфере порочных искушений и потому может быть трактован в качестве кающегося грешника.
Здесь следует указать еще на один французский пример, который, в противоположность примерам из Муассака и Больё, похоже, соответствует трактовке Витрувия. На западном портале бывшего собора Сен-Мари в Олороне (деп. Нижние Пиренеи) на высоте человеческого роста пара атлантов поддерживает трюмо портала (ил. 35)137. Атланты стоят на цоколе пилона и несут колонну с базой почти классической формы и дорической капителью. Они стоят согнувшись, повернувшись друг к другу спинами. Вывернутыми наружу ладонями они держат над глубоко втянутыми в плечи головами выступ базы колонны. Их тела соединены цепью, охватывающей бедра обоих. К ней же присоединены и оковы на ногах. В силу этого оба атланта должны восприниматься как заключенные. Это их состояние позволяет трактовать несение ими колонны однозначно в качестве наказания. Судя по одеяниям до колен и обуви, в этих атлантах следует признать человеческие существа, в отличие от гротескных человеческих фигур, похожих на демонов, на капители северной аркады трюмо. Так что и здесь средневековый скульптор использовал фигуру атланта в качестве примера человеческого ехет-plum servitutis. Но при этом он должен был ориентироваться на такое прочтение поддерживающих фигур, которое могло быть расшифровано его современниками. Такое использование атлантов отвечает иконографии Витрувия, но это, однако, еще не означает, что Витрувиева трактовка была известна как скульптору, так и его современникам, рассматривавшим его работу. Здесь была представлена в особенно жестоких формах иконография грешника, подразумевающая земное существование всякого человека. Человеческие существа, прикованные друг к другу и несущие тяжкий груз, представлены здесь как символ наказания, посланного Богом за грехопадение первой пары людей.
137
Заключение.
Человеческое тело и архитектура
Складываясь на протяжении первых десятилетий XII в., мотив атлантов начал использоваться средневековыми художниками для передачи образа грешника, несущего покаяние138. Эту иконографию обыгрывал еще Данте, когда описывал в третьем круге Чистилища архитектурные опорные фигуры, полностью соответствующие приведенным выше примерам. В десятой песни, ближе к концу которой и находится нужный стих, говорится об очищении грешников через покаянную и унизительную работу - еще одно доказательство того, что в средневековой иконографии атлантов понимали как изображение кающихся грешников:
Как если истукан какой-нибудь, Чтоб крыше иль навесу дать опору, Колени, скрючась, упирает в грудь И мнимой болью причиняет взору Прямую боль; так, наклонясь вперед, И эти люди обходили гору.
Кто легче нес, а кто тяжеле гнет, И так, согбенный, двигался по краю; Но с виду терпеливейший и тот
Как бы взывал в слезах: «Изнемогаю!»139
Поэт весьма выразительно показывает, сколь наглядно архитектурная опорная фигура могла представить несение тяжести в качестве телесного мотива.
Так как в настоящей статье излагается только происхождение теории и практики средневековых опорных фигур, следует заострить внимание на принципиальной постановке вопроса о традиции антропоморфного или антропометрического понимания архитектуры. История развития архитектурной опорной фигуры характеризуется движением в сторону все большего ее очеловечивания. Уже атланты с портика в Пьяченце начинают приобретать человеческий образ, но, самое позднее, в XIII в. держателей груза явно стали уподоблять человеческим существам. В замковой церкви Майи-ле-Шато (деп. Ионн)140 и на кафедральном соборе Невера141 этот мотив трансформируется в галерею кариатид на трифории, человекоподобные атланты в Сане142 и Реймсе143 украшают внешние фасады. В готической архитектурной пластике присутствовали атланты, а также - хотя и редко - кариатиды, но ввиду того, что скульптура очень широко применялась для украшения порталов, фасадов и капителей, эти фигуры составили лишь весьма малую часть всего скульптурного оформления. Порой атланты встречаются в средневековых светских постройках144 но, за исключением портретов
138
архитекторов, в них лишь изредка можно узнать особый иконографический тип145. Такому положению дел предстояло значительно измениться в эпоху Ренессанса, когда легенде Витрувия о кариатидах суждено было стать основой для восприятия опорных фигур - в силу авторитета, который приобрели тогда античные тексты, - но это уже совсем другая тема, затрагивать которую здесь нет возможности.
Как бы то ни было, между идеей приспособления образа человеческого тела для нужд архитектуры (архитектонического тела) и идеей создания скульптурного изображения человека можно на протяжении ряда эпох проследить и немало иных архитектурных концепций, так или иначе ориентированных на размеры и формы человеческого тела, к изучению которых в русле предложенной им психологии архитектуры призывал еще Генрих Вёльфлин. Он настоятельно подчеркивал «телесную сущность» произведений архитектуры и определял архитектуру как «выражение своего времени в той мере, в какой она обнаруживает телесное бытие человека, особый способ этого времени нести себя и двигаться, одним словом, ощущение жизни эпохи в ее монументальных телесных пропорциях»146.
В этом плане историкам архитектуры еще не хватает концепций147, аналогичных тем, что уже выработаны в исторических исследованиях, посвященных телесности148.
1 В этой статье предлагаются предварительные результаты размышлений о восприятии традиции античных опорных фигур в Средние века. Средневековый материал представляет собой часть более пространного исследования о преемственности в понимании архитектурных опорных фигур при переходе от античности к Средневековью и, напротив, об изменении этого понимания при переходе от Средневековья к Новому времени. В нем предполагается составить типологию сохранившегося материала и рассмотреть его смысловое наполнение. Я выражаю благодарность Томасу Роарку, Бертольду Хинцу и Инго Херклотцу за поправки, идеи и конструктивную критику.
2 Об общем контексте см.: Knell Н. Vitruvs Architekturtheorie: Versuch einer Interpretation. Darmstadt, 1991.
3 «Historias autem plures novisse oportet, quod multa omamenta saepe in operibus architect! designat, de quibus argumentis rationem, cur fecerint, quarentibus reddere debent. Quemadmodum si quis statuas marmoreas muliebris stolatas, quae caryatides dicuntur, pro columnis in opere statuerit et insuper mutulos et coronas conlocaverit, per-c°ntantibus ita reddet rationem, Carya, civitas Peleponnensis, cum Persis hostibus contra Graeciam consensit. Postea Graeci per voctoriam gloriose bello liberati communi consilio Caryatibus bellum indixerunt. Itaque oppido capto, viris interfectis, civitate deflagrate matronas eorum in servitutem abduxerunt, nec sunt passi stolas neque omatus niatronales deponere, uti non uno triumpho ducerentur, sed aetemo, servitutis exemplo, gravi contumelia pressae peona pendere viderentur pro civitate. Idea qui tune architect! uerunt aedificiis designaverunt earum imagines oneri ferundo conlocates, ut etiam pos-eris nota poena peccati Caryatium memoriae traderetur.
139
Non minus Lacones, Pausania Agesilae filio duce, Plataico proelio pauca manu unfinitum numerum exercitus Persarum cum superavissent, acto cum Gloria triumpho spoliorum et praedae, perticum Persicam ex manubiis, laudis et virtutis civium indicem, victoriae posteris pro tropaeo constituemut. Ibique captivorum simulacra barbarico vestis omatu, superbia meritis contumeliis punita, sustinentia tectum conlocaverunt, uti et hostes horrescerent timore eorum fortidudinis effectus, et cives id exemplum virtutis aspicientes Gloria erecti ad defencam libertatem essent parati. Itaque ex eo multi statuas Persicas sustinentes epistylia et omamenta eorum conlocaverunt, et ita ex eo argumento varietates egregias auxerunt operibus» (Витрувий. Десять книг об архитектуре 1,1,5; рус. пер. А.Ф. Петровского). Критику немецкого перевода К. Фенстербуша см.: Wesenberg В. Augustusforum und Akropolis И Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Instituts. 1984. Bd. 99. S. 172-180. He вдаваясь в детали, автор предполагает (и весьма убедительно аргументирует), что в exemplum servitutis (образец выражения невольничества) кариатид превращает не их поза, а отказ от соответствующего их общественному положению платья. Б. Везенберг справедливо полагает, что легенда нужна Витрувию только для того, чтобы напомнить о происхождении кариатид. Однако по существу Витрувий ставит во главу угла архитектурную визуализацию идеи подчинения.
4 См.: Schmidt-Colinet A. Antike Stiitzfiguren. Untersuchungen zu Typus und Bedeutung der menschengestaltigen Architekturstiitze in der griechischen und romischen Kunst. Diss. Phil. Frankfurt, 1977. S. 135; а также: Schmidt E. Geschichte der Karyatide. Funktion und Bedeutung der menschlicher Trager- und Stiitzfigur in der Baukunst. Wurzburg, 1982. S. 22-33 (Beitrage zur Archaologie, 13).
5 Schneider R.M. Bunte Barbaren. Orientalstatuen aus farbigem Marmor in der romischen Reprasentationskunst. Worms, 1986. S. 105.
6 Athenaios, VI, 241d/e, цит. no: Schmidt E. Op. cit. S. 15; Lynkeus, Frag. VI, 241d; об этом же статья «Karyatides» в работе: Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1919. Bd. 10. Sp. 2247-2252, здесь: 2249; Hersey G. The Lost Meaning of Classical Architecture. Speculations on Ornament from Vitruvius to Venturi. Cambridge (Mass.); L., 1988. P. 72.
7 Lessing G.E. Karyatiden Ц Lessing G.E. Werke. Vollstandige Ausgabe in fiin-fundzwanzig Banden / Hrsg. von A. Schone. Hildesheim; N.Y., 1970. Bd. 15. S. 395-396, с возражениями Винкельманну.
8 Обзор различных ассоциаций, связанных с KAPYATIAES, и подражаний им см.: Hersey G. Op. cit. Р. 69-80.
9 Schmidt-Colinet A. Op. cit. S. 100-141.
10 Павсаний, III, 11, 3, цит. по: Павсаний. Описание Эллады: В 2 т. / Пер. С.П. Кондратьева. СПб., 1996.
11 См. об этом: Maass Н. Das antike Delphi. Orakel, Schatze und Monumente. Darmstadt, 1993. S. 158-165.
12 О здании см.: Travlos J. Bildlexikon zur antiken Topographie des antiken Athen. Tubingen, 1971. S. 213-215; о кариатидах см.: Lauter H. Die Koren des Erechtheion (Antike Plastik XVI). B., 1976; интерпретация кариатид как служительниц жертвенного культа по: Scholl A. Die Korenhalle des Erechtheion auf der Akropolis. Frauen fur den Staat. Frankfurt a.M., 1998. (Fischer Kunststiick, 12640).
13 Schneider R.M. Op. cit. S. 27 и далее. Хотя автор и констатирует, что поза человека, несущего тяжесть, несомненно, понималась как изображение наказания, подавляющее большинство использованных им примеров представляет собой фигуры из раскрашенного мрамора, в которых легко можно узнать варваров или же представителей восточных народов - по их коленопреклоненным
140
позам, одеяниям и бородам. Такой тип изображений у Витрувия не обсуждается. К тому же мотив несения бремени является лишь одним из вариантов этого типа, наряду с которым существовало и много других.
14 П. Цанкер видит в копиях кариатид с Эрехтейона воплощение «покоренных народов» и делает вывод о непосредственной связи кариатид с текстом Витрувия: Zanker Р. Forum Augustum. Das Bildprogramm. Tubingen, 1968. S. 12-13. (Monumenta artis antiquae II). Несколько позднее он высказывался о том же гораздо сдержаннее и делая упор на визуализацию в корах императорского благочестия (pietas): Idem. Kaiser Augustus und die Macht der Bilder. Munchen, 1990 (2. Aufl.). S. 204-217, 255-262; а также: Scholl A. Op. cit. S. 53-60.
15 Следует назвать и другие опорные фигуры на службе политической пропаганды: двухэтажный портик рыночного зала в Коринфе (середина II в.) поддерживается, в частности, фигурами варваров, мужчин и женщин, а рельеф на цоколе под ними должен напоминать о парфянском походе; см. Schmidt-Colinet A. Op. cit. S. 138.
16 «Item si qua virilli figura signa mutulos aut coronas sustinent, nostri telamones appellant, cuius rationes, quid ita aut quare dicantur, ex histories nin inveniuntur, Graeci vero eos atlantaj vocitant. Atlas enim formatur historia sustinens mundum, ideo quod is primum cursum solis et lunae siderumque omnium versationum rationes vigour animi sollertiaque curavis hominibus tradenda, eaque re a pictoribus et statuaries deformatur pro eo beneficio sustinens mundum...» (Витрувий VI, 7, 6).
17 См. статью «Telamon» в работе: Paulys Realencyclopadie... Op. cit. Bd. 5A. Teil 1. Sp. 187-193.
18 Schmidt E. Op. cit. S. 17.
19 Классическая археология отказывается сегодня от термина «теламон» для обозначения фигуры, несущей перекрытие, ср. статью «Telamon» в работе: Der Neue Pauly. Enzykiopadie der Antike. Stuttgart; Weimar, 2002. Bd. 12. Teil 1. Sp. 85-86.
20 Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentari / Rec. G. Thilo et H. Hagen. Leipzig, 1881. Bd. 1. S. 206 (перепечатано: Hildesheim, 1986). Комментарий к «Энеиде» I. 741: «Sane Atlas Greacum est, sicut et Nilus; nam Ennius dicit Nilum Melonem vocari, Atlantem vero Telamonem».
21 См. статью «Atlas» в работе: Paulys Realencyclopadie... Bd. 2. Teil 2. Sp. 2119-2133.
22 Thiele G. Antike Himmelsbilder. Mit Forschungen zu Hipparchos, Aratos und seinen Fortsetzem, mit Beitragen zur Kunstgeschichte des Stemhimmels. B., 1898. S. 17.
23 Геродот, IV, 184.
24 Schneider R.M. Op. cit. S. 27-28.
25 Ibid. S. 45 и далее.
26 Schmidt E. Op. cit. S. 112-114; Schmidt-Colinet A. Op. cit. S. 47, 242.
27 Schneider R.M. Op. cit. S. 18 и далее.
28 Richardson L. Pompeji. An Architectural History. Baltimore; L., 1988. P. 149.
29 Ср. примеры: Schmidt-Colinet A. Op. cit. M 2 (Иэты), M 3 (Сиракузы), M 10 (Пьетрабонданте), M 19 (Помпеи, Малый театр), M 49 (Шампле), М 66 (Сегеда), М 73 (Афины, Театр Дионисия), М 75 (Афины, Одеон), М 76 (Рим, Театр Помпея), М 78 (Эфес).
30 Ср. анализ многочисленных примеров: Schaller F. Stiitzfiguren in der griechischen Kunst. Wien, 1973; на саркофаг второй половины II в. с коленопреклоненными атлантами, поддерживающими перекрытие, указывается в работе: °ehles К. Die Fassade von San Pietro in Tuscania. Ein Beitrag zur Antikenrezeption
141
im 12./13. Jahrhundert Ц Romisches Jahrbuch. 1961-1962 Bd. 9-10. S. 15-71, здесь 53, Abb. 52.
31 Неаполь. Национальный музей. Korn U. Der Atlas Farnese. Eine archaolo-gische Betrachtung Ц Antiquarische Gelehrsamkeit und bildende Kunst: die Gegenwart der Antike in der Renaissance (Atlas 1). Kdln, 1996. S. 25-44.
32 Рим. Вилла Альбани. Einem H.von. Das StiitzengeschoB der Pisaner Domkanzel. Gedanken zum Alterswerk des Giovanni Pisano. Koln; Opladen, 1962. S. 38—42. (Arbeitsgemeinschaft fiir Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 106).
33 Paulys Realencyclopadie... Bd. II/2. Sp. 2125.
34 Витрувий, I, 1.
35 Schuler S. Vitruv im Mittelalter. Die Rezeption von «De architectura» von der Antike bis in die friihe Neuzeit. Koln; Weimar; Wien, 1999 (Pictura et Poesis, 12).
36 Ср. перечисление мест из Витрувия, которые были восприняты в Средние века: Ibid. S. 456-458.
37 При беглом просмотре Patrologia Latina я натолкнулся только на одно место, где слово «атлант» или во множественном числе «атланты» применялось бы в архитектурных описаниях. Речь идет о сочинении Фридегода Кентерберийского (середина X в.): «Pondus et infromes Atlantes [columnas] ferre priorus Jussit et expletum: lymphis perfunditur absis, Albanturque suis lustrata altaris peplis» (Fridegodus von Canterbury. Vita Wilfredi Ц PL. Vol. 133. P. 992).
38 Обсуждение этого вопроса см.: Schuler S. Op. cit. S. 48-49. Далее, в более широком контексте средневековых описаний произведений искусства: Arnulf А. Architektur und Kunstbeschreibungen von der Antike bis zum 16. Jahrhundert. Munchen; B., 2004. S. 88
39 Предпринятая в XII в. renovatio античности широко исследована; для темы нашей работы существенны вопросы, поднимаемые в работе: Sauerldnder W. Architecture and the Figurative Arts: The North // Benson R.L., Constable G. Renaissance and Renewal in the Twelfth Century. Oxford, 1982. P. 671-710.
40 Panofsky E. Studien zur Ikonologie. Humanistische Themen in der Renaissance. Koln, 1980, S. 41—44; Idem. Renaissance and Renascences in Western Art. Stockholm, 1960 (пер. на нем.: Frankfurt a.M., 1979).
41 Panofsky E., Saxl F. Classical Mythologie in Medieval Art // Metropolitan Museum Studies. Vol. VI. Pt. 2, N.Y., 1933. P. 228-280, здесь 230.
42 Arnulf A. Op. cit. S. 33 и далее; 273 и далее.
43 О продолжении жизни античных богов в Средние века с археологической точки зрения см.: Himmelmann N. Antike Gotter im Mittelalter. Mainz, 1986 (Trierer Winckelmannprogramm, 7). Основополагающей работой является: Blume D. Regenten des Himmels. Astrologische Bilder in Mittelalter und Renaissance. B., 2000 (Studien aus dem Warburg-Haus, 3).
44 Panofsky E., Saxl F. Op. cit. S. 253.
45 Chance J. Medieval Mythography. Vol. 1: From Roman North Africa to the School of Chartres, A.D. 433-1177. Gainesville, 1994. P. 30-64.
46 Servius Grammaticus. Op. cit. Vol. 1. P. 206, коммент, к «Энеиде», I, 741.
47 Kern M. Atlas // Lexikon der antiken Gestalten in den deutschen Texten des Mittelalters / Hrsg von. M. Kern, A. Ebenbauer. Darmstadt, 2003. S. 123-125, здесь 124.
48 Seznec J. Das Fortleben der antiken Gotter. Die Mythologische Tradition im Humanismus und in der Kunst der Renaissance. Munchen, 1990. S. 38.
49 Августин. О граде Божьем. XVIII, 8.
142
50 «Atlas Promethei frater, et rex Africae, a quo astrologiae artem prius dicunt excogitatam, ideoque dictus est sustinisse coelum. Ob eruditionem igitur ejus disciplinae et scientiam coeli, nomen ejus in montem Africae derivantum est, qui nunc Atlas cog-nominatur, qui propter altitudinem suam, quasi coeli machinam atque astra sustenare videntur» (Isidorus Hispalensis. Etymologiae // PL. Vol. 82. P. 522); в другом месте: «Atlas astrologiam invenit» (Ibid. P. 224).
51 Hrabanus Maurus. De universo // PL. Vol. 111. P. 363; Ado Vienensis. Ciuonicon // PL. Vol. 123. P. 34.
52 Honorius Augustodunensis. De imagine mundi Ц PL. Vol. 172. P. 131.
53 Joannes Saresberianis. Polycraticus Ц PL. Vol. 199. P. 728.
54 Kern M. Op. cit. S. 123-125.
55 Chance J. Op. cit. Vol. 2: From the School of Chartres to the Court at Avignon, 1177-1350. Gainesville, 2000. P. 130-131; 239-240.
56 Seznec J. Op. cit. S. 22, co ссылкой на Якопо да Бергамо, описывавшего Атласа в качестве учителя астрологии у греков. В это время (1483 г.) Атлас конкурировал в этом своем качестве астролога с Гермесом Трисме-
гистом.
57 Данте упоминает его среди ясновидцев: Ад, XX, 115 и далее.
58 Saxl F. Atlas, der Titan, im Dienste der astrologischen Erdkunde Ц Imprimatur. Bd. 4. 1933. S. 44—55, здесь 47; Adhemar J. Influences antiques dans Г art du Moyen Age Fran?aise. L., 1939. P. 83; о личности Михаила Скота см.: Ackermann S. Michael Scotus // Lexikon des Mittelalters. Bd. 6. S. 606-607. Из новых работ в связи с оценкой искусства в Средние века: Wiegartz V. Antike Bildwerke im Urteil mit-telalterlicher Zeitgenossen. Weimar, 2004. S. 24-28 (Marburger Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte, 7).
59 Мюнхен. Баварская государственная библиотека. Clm. 10268. Fol. 19v. О «Liber introitus» Михаила Скота см. также: Blume D. Op. cit. S. 52-63.
60 Dialogus inter magistrum Nemroth et discipulum Joathon de astronomia. de computo, de temporis (Рим, Ватиканская библиотека. MS Palatinus latinus 1417. Fol. Ir); Saxl F. Op. cit. S. 46; Chance J. Op. cit. Vol. 1. P. 202-293.
61 Обе цитаты приводятся no: Einem H.von. Op. cit. S. 40.
62 Гота. Научная библиотека. Memb. I 98. Fol. 13v; Saxl F. Op. cit. S. 47.
63 Ovide moralise / Ed. Cornells de Boer. Vol. 4. Vers. 6403, 6428-6430, цит. no: Saxl F. Op. cit. S. 48.
64 Cm.: Eberlein J.K. Interpretatio Christiana // Der Neue Pauly. Stuttgart, 2000. Bd. 14. Sp. 620-633.
65 Для обозначения мужских опорных фигур я применяю исключительно термин «атлант», а не «теламон». Это делается с учетом исторической роли Данного термина (см. выше) и чтобы подчеркнуть производные именно от мотива Атласа. Полной терминологической ясности в искусствоведении по этому вопросу еще нет.
66 Kahsnitz R., Mende U., Rucker E. Das Goldene Evangelienbuch von Echtemach. £ine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts, Germanisches Nationalmuseum Niimberg. rankfurt a.M., 1982; к вопросу о датировке: S. 38; о материале переплета: • 40-58, об иконографии: S. 63 и далее.
, 67 Erde Ц Lexikon der Christlichen Ikonographie. Bd. 1. Freiburg etc., 1974. Sp.
t 68 Ахен. Сокровищница собора. Inv. Grimme Nr. 25. Fol. 16r; Kuder U. Liuthar-Vangeliar // Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen. Usstellungskatalog (Hildesheim, 1993) / Hrsg von. M. Brandt und A. Eggebrecht. ainz> 1993 Bd. 2. S. 84-87.
143
69 Вена. Художественно-исторический музей. AS Inv.-Nr. IX А 79. Gemma Augustea, римская, после 10 г. н.э. По левую сторону от Августа у трона восседает аллегорическая фигура Ойкумены, обжитой земли, рядом с персонификациями Океана, мирового потока и Италии.
70 В Перикопе Генриха II (Мюнхен. Баварская государственная библиотека. Clm. 4454. Fol. 20) Христос на Древе жизни окружен солнцем, луной, небом и землей. Terra в позе атланта поддерживает ствол этого дерева.
71 Инсбрук. Краеведческий музей Тироля (Фердинандеум). Seibert J. Atlas I I Lexikon der Christlichen Ikonographie. Freiburg etc., 1974. Bd. 1. Sp. 195-196.
72 Spada Pintarelli S. Fresken in Sudtirol. Mit Beitragen von P. Bassetti Carlini und C. Scarmagnan Truzzi. Munchen, 1997. S. 78-85.
73 Мэйдстоунский музей и художественная галерея. Так называемая Лам-бетская Библия. Т. 2. Л. 32v. Из аббатства Св. Августина в Кентербери; Kauffmann М. The Lambeth-Bible I I English Romanesque Art 1066-1300. Katalog I Ed. by G. Zanecki, J. Holt, T. Holland. L., 1984. P. 115.
74 Werckmeister O.K. Bilder der drei Propheten in der Biblia Hispalense I I Madrider Mitteilungen. 1963. Bd. 4. S. 141-188.
75 Мадрид. Национальная библиотека. Vit. 12-1, первая половина X в.
76 Ср. изображение евангелиста Иоанна, несущего небо в виде полусферы с изображениями пророков, серафимов и символов евангелистов: Рим. Ватиканская библиотека. Cod. Barb. Lat. 711, ок. 1000 г. Panofsky Е. Studien... (Abb. 7).
77 Werckmeister. Op. cit. S. 171.
78 Wirenfeldt Asmussen M. The Chapel of San Zeno in Santa Prassede in Rome: New Aspects on the Iconography I I Analecta Romana Instituti Danici. 1986. Vol. 15. P. 67-86; Noehles K. Op. cit. S. 56-60.
79 Noehles K. Op. cit. S. 66.
80 Wirenfeldt Asmussen M. Op. cit. P. 74; по поводу византийской традиции изображения фигуры, несущей медальон, ср.: Schmidt-Colinet A. Op. cit. S. 140-141.
81 Lehmann К. The Dome of Heaven I I The Art Bulletin. Vol. XXVII. 1954. P. 1-27, здесь 16.
82 В этом вопросе я следую за: Schwarz M.V. Die Mosaiken des Baptisteriums von Florenz. Drei Studien zur Florentiner Kunstgeschichte. Koln; Weimar; Wien, 1997; я не останавливаюсь подробно на вопросе о переделке сводов Скарселлы, детально разработанном М. Шварцем.
83 Tolnay С. The Visionary Evangelists of the Reichenau School // Burlington Magazin. 1936. Vol. 69. P. 257-263.
84 Мюнхен. Баварская государственная библиотека. Clm. 4453. Fol. 139v; Mayr-Harting H. Ottonian Book Illumination. An Historical Study. L., 1999. Pt. 2. P. 25-28; а также особенно: Tolnay C. Op. cit.; далее обсуждение в книге: Panofsky Е. Op. cit. S. 52-53. Anm. 10; а также Bischoff B. Das biblische Thema der Reichenauer Visionaren Evangelisten I I Bischoff B. Mittelalterliche Studien. Stuttgart, 1967. Bd. 2. S. 304-311.
85 Берлин. Государственная библиотека - Прусское культурное наследие. Ms. Theol. Lat. 358. Fol. 62f.
86 Речь идет о 21-м псалме.
87 В литературе высказывались различные точки зрения по поводу формы и предназначения этого трона или алтаря, созданного ок. 1080 г. Здесь мы не можем углубляться в подробности этой дискуссии. См.: Appuhn Н. Beitrage zu Geschichte des Herrschersitzes im Mittelalter. Teil 2: der sog. Krodo-Altar und der Kaiserstuhl in Goslar// Aachener Kunstblatter. 1986-1987. Bd. 54-55. S. 69-96; npo-
144
тивоположная точка зрения высказана в работе: Lasko Р. Der Krodo-Altar und der Kaiserstuhl in Goslar // Goslar: Bergstadt - Kaiserstadt in Geschichte und Kunst. Bericht uber ein wissenschaftliches Symposium in Goslar / Hrsg. von F. Steigerwald. Gottingen, 1993. S. 115-117. (Schriftenreihe der Kommission fiir Niedersachsische Bau- und Kunstgeschichte bei der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, 6).
88 О влиянии античных риторических учений на средневековые представления об искусстве на примере хильдесхаймской купели см.: Niehr К. Horaz in Hildesheim. Zum Problem einer mittelalterlichen Kunsttheorie Ц Zeitschrift fiir Kunstgeschichte. 1989. Bd. 52. S. 1-24. На основании этих наблюдений К.Нира стоило бы предпринять отдельное исследование того, как соотносятся между собой обращение художника к античной схеме опорных фигур, с одной стороны, и рецепция античных риторических учений, определивших иконографию этой купели, - с другой.
89 Основополагающей работой по иконографии четырех рек Рая является: PoeschkeJ. Paradiesflusse I I Lexikon der Christlichen Ikonographie. Freiburg etc., 1974. Bd. 3. Sp. 382-384. Примерно так же, как и в этом хильдесхаймском примере, персонификации рек Рая поддерживают крестильную купель и в ростокской церкви Св. Марии (1290).
90 Belli D’Elia Р. La cattedra dell’abate Elia. Precisazione sul romanico pugliese // Bolletino d’arte. 1974. Vol. 59. P. 1-17; Legler R. Prazisierung zur Bareser Skulptur Ц Kunstchronik. 1989. Bd. 42. S. 166-170; Carlsson F. The Iconology of Tectonics in Romanesque Art. Hasselholm, 1976. P. 70.
91 Grabar A. Thrones episcopaux du Xie e Xlle siecles en Italie meridionale Ц Walraff-Richartz-Jahrbuch. 1954. Bd. 16. S. 18-19, 43; Carlsson. Op. cit. P. 70.
92 Deer J. The Dynastic Porphyry Tombs of the Norman Period in Sicily. Cambridge (Mass.), 1959. P. 85-90, ill. 127-137. Автор считает формальными образцами римские опоры для столов.
93 Schneider R.M. Op. cit. Abb. 3, 4. Taf. 15.
94 Об этом см.: Sauer J. Symbolik des Kirchegebaudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters. Mehren, 1964. S. 134-135; Bandmann G. Mittelalterliche Architektur als Bedeutungstrager. B., 1994. S. 64, 78-84; Reudenbach B. Saule und Apostel Ц Friihmittelalterliche Studien. 1980. Bd. 14. S. 310-351. О терминологических корнях см.: Hersey G. Op. cit.
95 Первые шаги в исследовании данной традиции см.: Adhemar J. Op. cit. Р. 186-198; другие авторы занимались темой опорных фигур только в связи с передачей настроений художников и изображениями демонов: Schrade Н. Damonen und Monstren. Gestaltungen des Bosen in der Kunst des friihen Mittelalters. Regensburg, 1962. S. 53-54; Hamann-Mac Lean R. Kiinstlerlaunen im Mittelalter // Skulptur des Mittelalters. Funktion und Gestalt I Hrsg. von F. Mobius und E. Schubert. Weimar, 1987. S. 385-452, особенно 429-436; в своей интерпретации он следует преимущественно Герстенбергу: Gerstenberg К. Die Deutschen Baumeisterbildnisse des Mittelalters. В., 1966, вообще не принимавшему в расчет тематику опорных фигур. Последнее обстоятельство оказалось не менее важ-Но для истории изучения судьбы античных опорных фигур в Средневековье, как и одно примечание в работе: LadendorfH. Antikenstudium und Antikenkopie. R-, 1953 (Abhandlung der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Phil. Hist. Klasse, 46. Heft 2) (Предисловие, а также c. 86, примеч. 41), где автор объявил, Что сочиняет труд об атлантах и кариатидах (который так и не был никогда °пУбликован). В результате этого «изучение вопроса оказалось заблокировано», как констатировал десять лет спустя В. Зауэрлендер: Sauerlander W.
'0 D6pa3bI власти
Von Sens nach StraBburg. Ein Beitrag zur kunstgeschichtlichen Stellung der StraBburger Querhausskulpturen. B., 1966. S. 102, а еще двадцатью годами позже о том же говорил и Э. Шмидт: Schmidt Е. Op. cit. S. 13. Anm. 4.
96 Herklotz I. Die sogenannte Foresteria der Abteikirche zu Venosa // Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiomo. Atti del Convegno intemazionale di studio promosso dall’Universita degli Studi della Basilicata / A cura di C.D. Fonseca. Roma, 1991. P. 243-282, особенно 249 и далее, где указываются два более ранних на несколько десятилетий примера из Веносы и Тарента. В церкви Св. Троицы в Веносе (вторая половина XI в.) два монументальных атланта были включены в ложную галерею на западном фасаде. Эти опорные фигуры, одетые в палудаменты, сидели, некоторые даже на тронах (!), и рассматривались создателями явно в качестве замен колоннам или пилонам. Второй пример представляет собой рельеф, включенный в приблизительно квадратное поле на фасаде тарентского собора. Он возник, вероятно, вскоре после 1070 г. и изображает атланта в позе «бега с сильно согнутыми коленями». Скорее этот атлант, чем массивные, тяжеловесные фигуры в Веносе, был вдохновлен античными образцами. Из-за плохой сохранности всех этих фигур невозможно ни предложить их интерпретацию, ни объяснить их происхождение.
97 В работе: Carlsson F. Op. cit. Р. 69-75, приводятся среди прочего следующие примеры: скульптурная капитель из часовни Св. Бенедикта в Мал се (VIII в.), находящаяся сейчас в городском музее Больцано, а также капители в крипте собора Сен-Бенинь в Дижоне и в соборе Св. Мартина в Цеффлихе, обе первой половины XI в.
98 См. об этом: Francovich G.de. Wiligelmo da Modena e gli inizi della scultura romanica in Francia e in Spagna Ц Rivista del Istituto di Archaeologia e Storia dell’Arte. 1940. Vol. 7. P. 225-294.
99 Salvini R. Wiligelmo e le origini della scultura romanica. Milano, 1956. P. 83-86.
100 Hamann-Mac Lean R. Op. cit. P. 429 и далее.
101 Salvini R. Wiligelmus von Modena. Einer der Begriinder der romanischen Figurensprache Ц Salvini R. Medioevo nordico e Medioevo mediterraneo. Raccolta di scritti (1934-1985) I A cura di M. Salvini. Vol. 2: 1964-1985. Firenze, 1987. P. 545-564. (Specimen 9).
102 Frugoni Ch. Wiligelmo. Le sculture del Duomo di Modena. Modena, 1996. P. 68-69; автор этой работы узнала в длинноволосом атланте некоего «сеньора», «un personaggio dello stato alto della society», тогда как коротковолосый и босоногий его собрат должен был, согласно ее мнению, изображать крестьянина. Разные социальные статусы, выраженные различными одеяниями, можно усмотреть и в обоих верхних рельефах, один из которых изображает виноградаря, а другой - человека, поедающего виноградную гроздь.
103 Еще один маленький рельеф с атлантом находится на Порта делла Пескериа Моденского собора. Однако он отличается от обоих атлантов на главном портале и стилем, и позой.
104 Frugoni Ch. Op. cit. P. 26 и далее. Сильно запоздавший и соответственно критический взгляд на вопросы о личности скульпторов, различиях в их художественных почерках, о все еще держащемся культе гениальности Вилигельма и о датировке старейшей моденской скульптуры предложен недавно в работе: Reiche J. Die alteste Skulptur am Modeneser Dom und die Herkunft Wiligelmos Ц Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz. 2003. Bd. 47. S. 259-310; автор уверенно датирует интересующие нас рельефы на главном портале, как и рельеф с мотивами из Книги Бытия, временем примерно между 1110 и 1117-1120 гг.
146
1 °5 Соответствующая надпись справа под Авелем гласит: PRIMUS ABEL IUSTUS DEFERT PLACABILE MUNUS.
106 Другой точки зрения придерживается фон Эйнем, считающий прототипом «Атласа Фарнезе»: EinemH.von. Op. cit. S. 40. Однако тот держит не медальон, как в данном случае, а небесный глобус.
107 Сальвини идентифицирует это изображение с Богом Отцом: Salvini R. Op. cit. Р. 560, чему противоречит текст на раскрытой странице (Ин 8, 12): QUI SEQUITUR ME NON AMBULAT IN TENEBRIS. В этом месте Иоанн рассказывает о том, как Иисус свидетельствует о самом себе.
108 Ср. об этом: Сатрапа A. La testimonianza delle iscrizioni Ц Lanfranco e Wiligelmo: Il Duomo di Modena. Modena, 1984. P. 363-373; на параллели с восприятием Овидия и Вергилия указывается в работе: Schapiro М. Vom mozarabischen zum romanischen Stil in Silos // Schapiro M. Romanische Kunst. Ausgewahlte Schriften. Koln, 1987. S. 64-187, здесь 110-111. Anm. 172-179.
109 Klein B. Die Kathedrale von Piacenza. Architektur und Skulptur der Romanik. Worms, 1995.
HO Ibid. S. 145. Abb. 93.
111 Противоположное утверждение см. Braun E.W. Atlant //Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. Bd. 1. Sp. 1179-1194, здесь 1180; а также: Reinle A. Atlant // Lexikon des Mittelalters. Bd. 1. S. 1169-1170.
"2 Klein B. Op. cit. S. 145.
из Ibid. S. 166-167.
H4 Ibid. S. 179.
П5 Ibid. S. 200.
и6 Ibid. S. 156.
117 Ibid. S. 150-157 (северный портал) и S. 180-185 (южны# портал).
п« Schapiro М. Uber die isthetische Bewertung der Kunst in romanischer Zeit // Schapiro M. Op. cit. S. 29.
119 Ibid. S. 50-51.
l20 Gerstenberg Op. cit. S. 26-30; это развитие автор описывает обстоятельно и в тоне, представляющемся в идеологическом плане, как минимум, подозрительным, как «возвышение из карликовости и уродства [Verbasten] (sic!) тупого существования» (S. 26); концом этого развития оказывается «ценность и достоинство немецкого архитектора» - ср. Ibid. Кар. 1.
121 Исключением можно считать стоящую опорную фигуру на фасаде церкви Санта-Мария делла Пьеве в Ареццо (между 1137 и 1180 гг.). Над пятиосевым уровнем портала фасад второго этажа расчленяется 13 вертикалями аркады. Следующий ярус расчленяется 25 оконцами аркады, а самый верхний -33 проемами колоннады. В общей сложности 68 маленьких колонн отличаются Друг от друга формами, базами, капителями и импостами. В одном-единствен-ном месте на первом ярусе, точно посередине фасада, одна опорная фигура заменяет обязательную колонну. Это фигура епископа со скрещенными руками На груди и в митре. Она стоит на цоколе, состоящем из двух повернутых друг к Другу овец, а над ней простая ионическая капитель. См. об этом: Mercantini М. La pieve di S. Maria ad Arezzo. Tumultuose Vicende di un restauro ottocentesco. Arezzo, 1982. Особое внимание уделяется здесь реставрации; ср. прежде всего ил. 18,21,24, 25 и 32.
122 Klein В. Op. cit. S. 154. Автор указывает здесь вместе с тем на ненадежность хронологии.
123 Цит. по: Сатрапа A. Op. cit. Р. 372.
124 Ibid. Р. 372.
147
125 Verzdr Bornstein Ch. Portals and Politics in the Early Italian City-State: The Sculpture of Nicholaus in Context. Parma, 1988.
126 Slabon Th. Der Kreuzgang // Konigslutter und Oberitalien. Kunst des 12. Jahrhunderts in Sachsen I Hrsg. von M. Gosebruch. Braunschweig, 1980. S. 77-83; Gosebruch M. Die Kunst des Nikolaus. Von Konigslutter in den Blick genommen, auf ihre provenzialischen Wurzeln hin untersucht und im Verhaltnis zur Kathedralgotik erlautert Ц Niederdeutsche Beitrage zur Kunstgeschichte. 1980. Bd. 19. S. 63-124.
127 К вопросу о датировке см.: Hiilsen-Esch A. von. Romanische Skulptur in Oberitalien als Reflex der kommunalen Entwicklung im 12. Jahrhundert. Untersuchun-gen zu Mailand und Verona. B., 1994. S. 119-131. (Artefact, 8).
128 Calzona A. Niccold e Verona. La facciata e il protiro di San Zeno I I Nicholaus e 1’arte del suo tempo, a cura di Cesare Gnudi. Ferrara, 1985. P. 441^489.
129 Noehles K. Op. cit.
130 Ibid. S. 33-34, 47-48.
131 Ibid. S. 40-43.
132 Ibid. S. 21.
133 Seznec J. Op. cit. S. 36.
134 Об этом см.: Hamann R. Kunst und Askese. Bild und Bedeutung in der roma-nischen Plastik Frankreichs. Worms, 1987. S. 96-114; Rupprecht B. Romanische Skulptur in Frankreich. Munchen, 1975. S. 85-86.
135 Schapiro M. Moissac II // Schapiro M. Romanische Kunst... S. 430-433.
136 Vernet A. Bernhard von Chartres // Lexikon des Mittelalters. Bd. 1. Sp. 1991-1192.
137 Rupprecht B. Op. cit. S. 121-123. Автор датирует западный портал второй третью XII в.
138 Это тезис, опирающийся в конечном счете на мнение фон Эйнема (Einem Н. von. Op. cit.), был отвергнут Зауэрлендером применительно к ранней французской готике: Sauerldnder W. Von Sens... S. 106. Anm. 186.
139 Пер. M. Лозинского. «Come per sostenar solaio о tetto, / per mensola tai volta una figura/si vede giugner le ginocchia al petto, // La qual fa del non ver vera rancura/nascere in chi la vede; sosi fatti / vid’ io color, quando puosi ben cura. // Veron e che pid о meno eran contratti I secondo ch’ avean piu e meno a doso; / e qual piu pazienza ave ne li atti, // Piangendo parea dicer: “Pi’nun posso”» (Данте. Божественная комедия. X, 130-139).
140 Sauerldnder W. Von Sens... S. 113-116.
141 См. об этом: Seymour Ch. XIII Century sculpture at Noy on and the Development of the Gothic Caryatid // Gazette des Beaux-Arts. 6. Ser. 24. 1944. P. 163-182.
142 Sauerldnder W. Von Sens... S. 105-109; Kimpel D., Suckale R. Die gotische Architektur Frankreichs 1130-1270. Miinchen, 1985. S. 323-325. Abb. 329.
143 Hamann-Mac Lean R., Schiissler I. Die Kathedrale von Reims. Stuttgart, 1993. Teil 1. Bd. 1. S. 168, где этот цикл с атлантами обозначается как «изображение бремени земного бытия».
144 Kimpel D., Suckale R. Op. cit. S. 332, Abb. 343; авторы указывают на Мезон де Форж в Дижоне.
145 Однако это не относится к кариатидам, которые с XIV в. начинают часто встречаться в скульптурах на надгробиях. Там они изображали по большей части аллегории добродетелей.
146 Wolfflin Н. Renaissance und Barock. Eine Untersuchung uber Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien. Basel; Stuttgart, 1961. S. 61-62.
147 Исключения: Frings M. Mensch und MaB. Anthropomorphe Elemente in der Architekturtheorie des Quattrocento. Weimar, 1998; а также: Hersey G. Op. cit.; важ
148
ные для развития данной темы мысли были высказаны (хотя и за рамками истории архитектуры) в работе: Belting Н. Bild-Anthropologie. Entwiirfe fur eine Bildwissenschaft. Miinchen, 2001. S. 87-113 (глава «Das Korperbild als Menschenbild»), а также: Quel corps? Eine Frage der Representation / Hrsg. von H. Belting. Munchen, 2002.
148 Cp.: Das Mittelalter. Perspektiven mediavistischer Forschung. Bd. 8. 2003. Heft 1: Der Korper. Realprasenz und symbolische Ordnung / Hrsg. von K. Kellermann; об отдельных сторонах темы: Schmitt J.-Cl. Die Logik der Gesten im europaischen Mittelalter. Stuttgart, 1992. S. 64 и далее; более общие работы: Korper Macht Geschichte - Geschichte Macht Korper. Korpergeschichte als Sozialgeschichte / Hrsg. von S. Conze et. al. Bielefeld, 1999; а с недавних пор появились и философские размышления: Meisenheimer W. Das Denken des Leibes und der architektonische Raum. Koln, 2004.
Б. Нарке
«NON ERAT HOMO, NEC BESTIA, SED IMAGO»
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ ФРАНЦИИ ФИЛИППА IV И ЕЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Репрезентация - дело сложное. Ее успех в существенной мере зависит от того, насколько удачный баланс сложился между намерениями и ожиданиями ее инициаторов, с одной стороны, и жизненным опытом, способностями восприятия тех, кому она адресована, - с другой. При этом роль посредника между обеими сторонами достается, как правило, средствам коммуникации, обладающим собственными специфическими наборами знаков, которым придаются те или иные значения по ходу взаимодействия между сторонами, в процессе символической коммуникации, - те значения, которые и предлагаются для восприятия зрителю1. Поэтому когда прибегают к использованию тех или иных коммуникационных средств и наборов знаков, как это делали французские короли на рубеже ХШ и XIV вв., чтобы внушить другим образ самих себя в определенном сане и достоинстве, чтобы зримо предъявить свою общественно-политическую идентичность и идеальное видение самих себя или же чтобы представить институцию, во главе которой стоят, - и сделать все это на должном уровне выражения смыслов и амбиций, - тогда необходимо следить за тем, чтобы целевая группа была в состоянии по меньшей мере воспринять предложенные ей знаки, а в идеале и расшифровать их. Однако чтобы смыслы, распространяемые в акте репрезентации, могли быть восприняты, они должны подчиняться определенным конвенциям, обычно лежащим в основе процессов политико-общественной коммуникации - процессов образования и восприятия смыслов. То есть в наличии уже должны иметься наработанные практики и общепонятные знаковые системы, чтобы их можно было актуализировать в соответствии с собственными потребностями и интересами, направляя их воздействие на публику, конкретизировать, а в случае необходимости и трансформировать. Правитель, занимающийся делом собственной репрезентации, должен был, помимо ска
150
занного, учитывать пределы возможностей наличествующих в обществе моделей восприятия - как общей для всех его реципиентов, так и присущих лишь каким-то отдельным их специфическим группам. Ведь только на основе таких моделей смыслы, собственно, и могут возникать и транслироваться - при создании как значащих ситуаций (например, в эфемерных образах придворного церемониала), так и значащих предметов (художественных произведений, изготовленных из прочных материалов и рассчитанных на длительное существование).
Что может произойти в ситуации, когда при том, что в обществе доминируют устойчивые коммуникативные связи, когда знакам общего свойства находится вполне ясное смысловое соответствие в сознании реципиентов, однако отринуты все конкретизирующие носители смысла, - ясно показывает офорт Пауля Клее 1903 г. (ил. 1). «Встреча двоих, каждый из которых полагает, что другой занимает более высокое положение». Так подписан этот лист, шестой в серии «Открытия»2, на котором изображены, по словам самого Клее, «две рептилии», склонившиеся друг перед другом в верноподданническом поклоне. У одного из персонажей - характерная бородка а-ля кайзер Вильгельм, у другого - столь же характерные бакенбарды а-ля император Франц Иосиф, - по этим признакам в персонажах можно угадать характерные для рубежа XIX и XX вв. типажи добрых подданных Германской и Австро-Венгерской империй. Откажемся здесь от обсуждения вопроса, не изображены ли тут сами императоры Вильгельм II и Франц Иосиф I3, а значит, не имеем ли мы дело с
Ил. 1. Пауль Клее. «Встреча двоих, предполагающих, что другой занимает более высокое положение». Гравюра. 1903-1905 гт.
151
пикантной аллегорией на тему союзнической политики Германии и Австрии4. Понятно, что эти двое мужчин с их знанием социальных различий и соответствующих им норм поведения оказались совершенно беспомощны, потому что не получили в свое распоряжение никаких знаков, которые могли бы надежно подтвердить то различие во взаимных статусах, которое каждый из них почтительно поспешил заподозрить. Здесь нет ни включенности в какую-либо ситуацию, контекст которой прояснил бы дело, ни одежды, свидетельствующей о статусе ее хозяина, ни регалий5. Каждый парализовал другого раболепием и опасением, что это к другому положено обращаться с верноподданническим смирением. В результате процесс репрезентации оказался оборван прежде, чем вообще смог начаться.
В столь же плачевном положении оказывается и историк искусства, занимаясь придворными заказами на художественные произведения в Средние века, - хотя и по причинам противоположного свойства. Достаточно часто у него есть все основания предполагать, что те или иные произведения играли некогда важнейшую роль в системе репрезентации государя - это ясно уже из того, для каких мест они были с самого начала предназначены, но еще лучше об этом свидетельствует содержание таких изображений. В отличие от мужчин у Клее, которым явно не хватает знаков, позволяющих себя расшифровать, историку искусства не хватает прежде всего ключа к содержательному смыслу таких знаков, указаний на принятые в данных обществе и культуре модели восприятия и осмысления, в качестве конкретизации и актуализации которых ему и следует осмыслять знаковые системы художественных образов и сами эти образы как таковые. Кроме того, ему необходимо учитывать, что когда изображения принимают на себя, как указывалось выше, функции посредника в напряженном поле отношений между их заказчиком и теми, для кого они предназначаются, между специфическими интересами первого и общими способностями восприятия последних, то характер исполнения этих функций так или иначе определяется уже самой формой данных изображений, их образным языком. И это особенно справедливо для случаев, подобных нашему, когда предметом исследования становятся такие средства и способы репрезентации, к каким до Филиппа IV не прибегал ни один французский король, какими до него не пользовался, пожалуй, ни один государь в Европе.
По этим причинам историк искусства обязан не только задаваться вопросами, какими средствами изображение передает свою тему (например, как в них выражается идея короля или королевской власти) или какие политико-идеологические представления проявились в том или ином изображении, но также принять во внимание те общие базовые модели восприятия и интерпретации изображений,
152
благодаря которым лишь и могло сложиться соответствие между намерением заказчика нечто изобразить и возможностью зрителей в изображении такое нечто уловить. Именно этому и будет посвящено дальнейшее изложение, причем особое внимание будет уделено тем смыслам, которые сами носители изображений (т.е. определенный вид произведений искусства) могли передавать зрителям в процессе символической коммуникации. Как раз монументальная пластика, создававшаяся при дворе Филиппа IV, все еще представляет собой одну из больших неразработанных проблем в истории искусства позднесредневековой Франции, несмотря на то что с недавних пор ее изучают интенсивнее, чем когда бы то ни было6. Ни в одном другом разряде художественных памятников за последние несколько лет не произошло столь серьезного пересмотра и расширения списка мест, для которых предназначались изображения, перечня заказов на их изготовление и набора сюжетов, которым они были посвящены. И похоже, посредническая роль ни одного другого художественного средства коммуникации не подвергалась более серьезному изучению.
Из всех строительных и художественных заказов Филиппа IV наибольшего внимания в интересующем нас плане заслуживают два особенно крупных: работы по перестройке и расширению парижского дворца на острове Ситэ, начавшиеся около 1299 г. и завершенные в целом к 1314 г., и возведение примерно в то же время доминиканского монастыря Сен-Луи в Пуасси - местечке, лежащем в нескольких километрах от Ситэ ниже по Сене. Эти проекты маркировали два особо важных тогда центра: общественно-политической практики в первом случае и политико-династического самосознания французской монархии - во втором. Если дворец Ситэ уже давно являлся как функциональным, так и символическим центром французской державы - местом, откуда король осуществлял свою политическую власть и вел повседневное управление, хранилищем святынь короны и главной резиденцией королевского двора и правящей династии7, то церковь приората в Пуасси - месте рождения и крещения Людовика IX Святого - должна была стать для династии Капетингов главным центром поминовения8.
Во дворце Ситэ (ил. 2) работы, производившиеся по инициативе Филиппа IV, концентрировались, во-первых, на расширении Галереи торговцев, заложенной Людовиком IX при строительстве Сен-Шапель9 в качестве связующего тракта между этой новой дворцовой капеллой и королевскими покоями в резиденции10, а во-вторых, на с°здании и обустройстве Большого зала. С постройкой этого зала (действительно большого - его площадь составляла примерно 2000 кв. м) возникло центральное репрезентативное и функциональное пространство французской монархии11. Этот зал служил целям °сУЩествления власти и управления, был местом совершения право-
153
Ил. 2. Дворец Ситэ ок. 1350 г. Реконструкция плана
вых актов и нотариальных процедур, сценой для приема посольств и придворных празднеств и составлял вместе с Галереей торговцев и лежащим перед ней двором часть дворца, предназначенную для публичного восприятия несравнимо больше, чем какая бы то ни было иная.
Если доверять изображениям дворца Ситэ в «Роскошном часослове» Жана Беррийского - прежде всего на календарном листе, посвященном месяцу июню (начат, вероятно, еще ок. 1415 г., завершен, однако, только между 1438 и 1442 гг.) (ил. З)12, - уже сам наружный вид Большого зала говорил о выдающемся значении этого
154
здания тем, кто в него входил или рассматривал его. Ведь при всех различиях, как в общем, так и в деталях, между позднесредневековыми изображениями этого дворца13, все они совпадают между собой в том, что всегда рисуют характерный двойной фронтон Большого зала в богатом архитектурном убранстве. При этом набор использованных здесь художественных средств оказывается очень сходным с тем, что использовался в более старых сакральных зданиях, а именно в соседней Сен-Шапель. Помимо этого, рельефные планы Парижа уже Нового времени, сильно расходясь между собой в передаче прочих городских видов, единодушно рисуют западный (и главный) фасад здания Большого зала с двумя огромными стреловидными окнами, украшенными фигурными переплетами и занимающими едва ли не всю плоскость стены14.
Также и в интерьере Большого зала, изображенном Жаном Пе-лереном по прозванию Виатор в трактате «De Artificial! Perspectiva» 1505-1509 гг. (ил. 4)15 и Жаком I Андруэ дю Серсо на гравюре примерно 1580 г. (ил. 5)16, видны признаки сознательного объединения репрезентации светской власти со сферой сакрального. На них мы видим, что по обеим сторонам вдоль продольных стен и на колоннах
Ил. 3. «Роскошный часослов» герцога Беррийского. Шантийи. Музей Конде. Ms. 65. Fol. 6v (фрагмент)
155
<i prttQmt atyr cue* Ou pales' $tt ftmt les pnagre tot wp.
Ил. 4. Интерьер Большого зала по работе Жана Пелерена «De Artificial! Perspective» (1505-1509)
Ил. 5. Шарль Мерион. Интерьер Большого зала в изображении Жака Андруэ дю Серсо (ок. 1580 г.). Гравюра 1855 г.
156
центральных опор стоят «кумиры всех королей Франции» (ydola cunctorum regum Francie) размерами больше человеческого роста, особо отмеченные Жаном Жанденом в похвальном слове 1323 г. «Tractatus de laudibus Parisius», где о многом прочем говорится лишь вскользь: «В этой прекраснейшей столице французской монархии, своего рода замечательном символе королевского величия, выстроен славнейший дворец. Его несокрушимые стены отстоят друг от друга на столь большом расстоянии, что могут вместить в себя бесчисленное множество народа. Там же для памяти об их славе [поставлены] кумиры всех королей Франции, бывших до сих пор, сделанные со столь совершенной передачей их облика, что при первом взгляде на них можно решить, будто они как бы живые»17.
Эта знаменитая череда фигур государей, каждую из которых сопровождала подпись, позволяла (благодаря некоторым сознательно сделанным пропускам) предъявить визуально факт династической преемственности от Меровингов через Каролингов к Капетингам и включала Филиппа IV в непрерывную генеалогическую цепь, по которой королевский сан передавался из одного рода в другой, - цепь, берущую начало от Фарамонда. Как свидетельствуют источники, сходным образом были представлены и изображения королей на цоколе бюста-реликвария для черепа Людовика Святого в Сен-Шапель, изготовленного по заказу Филиппа IV ювелиром Гильомом Жюльеном между 1299 и 1306 гг. Серия фигурных медальонов предъявляла на обозрение ряд государей от Хлодвига до Филиппа IV. В том же смысле была выдержана и сопровождающая их торжественная надпись: «При правлении Филиппа, Божьей милостью короля французов и отпрыска доброй памяти Филиппа, некогда короля Франции, сына святейшей памяти блаженнейшего короля Франции Людовика...»18. Мемориальный характер ансамбля статуй Большого зала вполне соответствовал изобразительной программе реликвария св. Людовика, но при этом у него было одно очень важное отличие. Он мог со временем расширяться, потому что был рассчитан на возможность постоянных дополнений и актуализации. И действительно, ряд статуй государей был продолжен вплоть до опустошительного пожара, случившегося в этом здании в 1618 г., и доведен до Генриха III.
Прецедентов такому циклу в монументальной скульптуре к рубежу XIII-XIV вв. просто не было. Отдельные содержательно-структурные параллели ему можно усмотреть в галерее королей, которую Робер Артуа устроил ок. 1300 г. в замке Эден, а его дочь продолжала вплоть до 1322 г. Однако те изображения представляли собой, очевидно, всего лишь лепные рельефные бюсты19, ак что если говорить именно о специфическом жанре монумен-Тальной скульптуры, то эквивалент ансамблю статуй Большого Зала можно найти только в контексте церковно-сакральной архитекту
157
ры. Первый шаг в направлении визуализации (в частности, средствами монументальной пластики) идеи непрерывной последовательности династий французских государей сделал Людовик IX около 1263-1264 гг. Тогда по его приказу было изготовлено 16 надгробий для храма аббатства Сен-Дени, превративших топографию этого «кладбища королей» (cimetiere aus rois) в единый политико-идеологический манифест монументального масштаба20. Благодаря новому порядку захоронений каролингских и капетингских королей и обозначению их фигурными надгробиями должна была зримо предстать идея «происхождения французских королей от рода Карла Великого» (Reditus regni Francorum ad stirpem Karoli Magni). Иными словами, здесь осуществлялось конструирование генеалогического континуитета21, превращавшего королей из рода Капетингов не только в преемников Каролингов, но даже в их прямых потомков.
Характерная для цикла статуй Большого зала привязка скульптур к конструктивным членениям здания находит свое ближайшее соответствие, конечно же, в том типе ряда апостолов, при котором их фигуры систематически устанавливались на несущие опоры церковного здания - в соответствии с архитектурно-экзегетическим отождествлением колонны с апостолом22. Так было и в Сен-Шапель, где подобные статуи под балдахинами помещены на консолях верхнего этажа капеллы23. Подобно тому как в Сен-Шапель апостолы представали в качестве опор церкви и соответственно Небесного Иерусалима24, короли на колоннах Большого зала, перекрытого двумя мощными готическими сводами, могли задумываться их создателями и восприниматься зрителями по аналогии с обычной архитектурной аллегорезой сакрального здания как несущие колонны королевства. Если Сен-Шапель - капелла королевского коллегиат-ного капитула - маркировала сакральный центр монархии, освященный единственным в своем роде образом - реликвиями Страстей Господних, то Большой зал при его беспрецедентной концентрации монументальных средств и их постоянном развитии должен был являть собой ее светский центр.
«Кумиры всех королей Франции, бывших до сих пор», были выставлены во дворце, чтобы предъявить в изображении существующий испокон веков, извечный институт королевской власти. Галереи королей на фасадах соборов в Париже, Шартре или Реймсе25, с которыми в литературе всегда сопоставляют скульптуры Ситэ, из-за своей многозначной анонимности могут лишь весьма осторожно привлекаться для сравнения - ведь в Большом зале было предпринято все для того, чтобы обеспечить возможность однозначной идентификации изображенных там персонажей. В уже упоминавшихся выше надписях указывалось не только имя того или иного монарха, но также продолжительность его правления, год смерти, а иногда и его ближайшие родственные связи. Помимо этого, статуи
158
можно было аутентифицировать благодаря их тесной визуальной привязке к жизненному опыту наблюдателя. Ведь королевское облачение фигур и их соответствующая раскраска делали постоянное присутствие образа короля в скульптуре хорошим дополнением к его собственным кратким появлениям при церемониальных действиях26.
Важные предпосылки для выработки этой стратегии актуализирующего уподобления возникли в результате радикальной перемены в самом типе изображении короля, которую настойчиво осуществлял Филипп IV в своих заказах на художественные произведения27. С его правления изображать короля начинают, в отличие от XIII в., уже не в неспецифической придворной одежде из подпоясанной котты и плаща с застежкой, но в полном королевском облачении со всеми знаками его власти и сана. Статуя Людовика Святого из замка Мэнневий, принадлежавшего управляющему королевскими финансами Ангеррану де Мариньи, сделанная ок. 1305-1310 гг. (ил. 6)28, демонстрирует в далматике, котте и мантии по сути дела весь набор коронационных одеяний. Не в меньшем соответствии с дей
Ил. 6. Статуя Людовика Святого из замка Мэнневий. Мэнневий. Приходская церковь Сен-Пьер
ствительностью переданы и королевские цвета - лазурь и золото. Миниатюра из «Registre des ordonnances de 1’Hotel du roi» 1320 r. (ил. 7)29 изображает Людовика Святого еще и с регалиями, свидетельствующими о его сане30 (у статуи из Мэнневия они утрачены) -длинным скипетром и «рукой правосудия».
Нарастание в придворном искусстве Филиппа IV реалистичности при изображении одеяний и инсигний дало основание для выстраивания в литературе целого ряда гипотез. В нем пытались усматривать явные признаки усиления тяги к точности в передаче «природы» и потому особенно охотно говорили о «натурализме» и «индивидуализации» художественных образов, более того, об их «портретности». Авторы таких оценок полагали, что опираются, помимо прочего, на суждение одного из современников Филиппа IV -уже упоминавшегося аверроистского философа Жана Жандена, сказавшего про статуи Большого зала, что при первом взгляде на них они
159
: Еинаиаивмям яясзшз £ йиивнг
ЗИ*Е1ВЕ1И№
гимяван-3111 аинвг 1 НВИИЭГ мгскжиг-’’I
। тяваг I ймзкигд?
Г'ЛИЗ'
яавв мяв.
МНВ МР
ВНЯВ Illi
. ЧИНИ* № 1И1Е1 U 1«вг
ШП MME 1 нинак",-
авг ваввш
«мят
' миг ш
?®ВВ« 2
в mi шмат
Ил. 7. Регистр королевских ордонансов. Париж. Национальный архив. JJ 57. Fol. 20
кажутся «как бы живыми» (quasi viva)31. Экзегеты от истории искусства всегда понимали это место в смысле формулировки ad vivum, часто использовавшейся начиная с конца XIV в. прежде всего в отношении миметических качеств портрета32. Однако его следует трактовать скорее в эстетическом плане и видеть здесь описание одного из специфических способов художественного выражения - близости к жизни в смысле живости, выразительности. Ведь данные эмпирического характера, примененные в этих изображениях королей, - цвета, вид одеяний и инсигний - особенностью своего отношения к действительности весьма сближали «живые статуи» Большого зала с «живыми картинами» придворного церемониала, разворачивавшимися в ярких инсценировках.
Поэтому вместе с Роландом Рехтом нам стоит здесь говорить, самое большее, о некотором «принципе реальности» (principe de realite), дабы подчеркнуть то обстоятельство, что художники начинают выстраивать больше связей с действительностью, и связи эти оказываются более тесными, чем ранее33. Но в этом обстоятельстве не следует пытаться тотчас же разглядеть некое решительно новое понимание мира - столь же реалистическое, сколь и рациональное34, - т.е. такое, какое проявится, уже, например, в настоящем портрете Нового времени. Поскольку предметом изображения в статуях Большого зала был не конкретный индивид в ролевом образе короля, а символически овеществленная идея королевской власти, то натуралистическая составляющая этих изображений оказывалась полностью подчинена моделям восприятия и осмысления, диктуемым политической теорией и - как еще будет показано ниже -политической теологией. По той же причине и принцип «прорыва актуальности» (emergence de Г actuality), сопутствующий «принципу реальности», оказывается встроенным в рамки символической репрезентации власти, каковая и определяет всецело и цель его применения, и его место.
В сколь большой степени люди, входившие во дворец Ситэ или рассматривавшие его со стороны, должны были ощущать опосредо-
160
ванное изображением присутствие короля, показывает, наконец, и вид главного входа в этот комплекс зданий, заново устроенного при Филиппе IV. Его единственное изображение дошло на «Распятии Парижского парламента», возникшем около 1453-1455 гг.35, и весьма хорошо согласуется с письменными источниками (ил. 8). При расширении Галереи торговцев36 этот тракт, связывающий Сен-Шапель с Большим залом, получил богато украшенный фасад, обращенный к Большому двору. Велев применить здесь двойные окна, занимающие всю плоскость вимпергов, декоративный орнамент, стройные фиалы и табернакли с фигурами, Филипп IV последовательно обращался к декоративному стилю37, точно совпадавшему (особенно в оформлении венчающих частей) с художественным языком, использовавшимся пятью десятилетиями ранее, например, на северном трансептном фасаде собора Парижской Богоматери или же в Сен-Шапель и ее двухэтажной пристройке для ризницы и хранилища грамот (tr£sor des chartes). В решении этого парадного фасада очевидно вполне сознательное подражание церковным зданиям. Облик дворца Ситэ получил свое завершение благодаря монументальной лестнице («grands degrez»)38, не только расположенной
Ил. 8. Распятие Парижского парламента (фрагмент). Париж. Лувр
11 Образы власти...
161
Ил. 9. Пуасси.
Церковь доминиканского приората Сен-Луи. План, согласно Жюлю Ардуэн-Мансару
по центральной оси, но и рассчитанной на создание сильного впечатления у публики, а также фигурному порталу, до той поры никогда не использовавшемуся в светской архитектуре.
Прямо над этими «вратами красивого короля Филиппа» (porte du beau roi Philippe)39 всякого входившего во дворец встречала статуя - но не Мадонны с младенцем или же святого покровителя, что было ему знакомо из привычного контекста церковной архитектуры, а самого короля. На пилоне справа от него стояла статуя, изображавшая, возможно, сына и наследника Филиппа IV - будущего Людовика X. На пилоне слева до 1315 г. помещалась фигура Ангер-рана де Мариньи - пожалуй, самого влиятельного из королевских советников40, державшего в руках всю финансовую и налоговую политику, пока после смерти Филиппа IV его не казнили, а статуя его
не пала жертвой damnatio memoriae. Таким образом, ансамбль фигур этого портала впервые в истории французской монументальной скульптуры (в той мере, в какой она нам сегодня известна) представил на обозрение фигуры правящего монарха и одного из его высокопоставленных сановников. К тому же это произошло в светской архитектуре, которой такое средство художественного выражения до той поры не было известно - в отличие от изобразительного искусства, использовавшегося в сфере церковного и
сакрального.
Слияние сакрального и профанного, столь характерное для архитектуры и убранства дворца Ситэ - «своего рода замечательного символа королевского величия», обнаруживается и в других заказах Филиппа IV, и прежде всего в Пуасси, где в 1297 г. - менее чем через три месяца после канонизации Людовика IX папой Бонифацием VIII - началось строительство доминиканского монастыря Сен-Луи. Работы по созданию этого центра культового поминовения св. Людовика41 Филипп IV подгонял не менее энергично, чем перед тем длившийся много лет процесс канонизации Людовика, начатый еще Григорием X42. Несмотря на тяжелое состояние финансов,
162
вызванное фландрскими войнами, возведение церкви и монастыря было, очевидно, в целом завершено к 1314 г.: ведь тогда монастырь получил реликвию - челюсть своего святого покровителя, и в него были приняты 120 монахинь благородного происхождения.
Внутри церкви этого приората43 (ил. 9), на колоннах средокре-стия по обе стороны от алтарной части с местами для монахинь, были установлены статуи св. Людовика и его супруги Маргариты Провансской (ил. 10 а, Ь). На торцевой стене южного крыла трансепта, т.е. уже в части церкви, доступной и мирянам, стояли статуи шести детей этой королевской четы с подписями (ил. 11), и среди них - статуя будущего Филиппа III, отца Филиппа IV. Были ли представлены и остальные пятеро детей Людовика IX - например в северном крыле трансепта - можно только гадать. Из восьми достоверно известных статуй в более или менее целом виде пережили разрушение монастыря, быстро происходившее после 1808 г., толь
Ил. 10а. Статуя Людовика Святого в Пуасси. Рисунок из собрания Геньера
Ил. 10b. Статуя Маргариты Провансской в Пуасси. Рисунок из собрания Геньера
163
ко две. Как в архитектуре этой церкви доминиканского приората, донесенной до нас в изобразительных источниках и текстах, так и в художественном стиле статуй Пьера Алансонского и Изабеллы Французской видно сознательное старание добиться наибольшего сходства с некоторыми самыми значительными произведениями, заказанными и оплаченными Людовиком IX44.
То, что в Пуасси были выставлены изображения детей Людовика, сделанные в технике монументальной скульптуры, - достаточно необычно. Ведь в этом случае речь шла не о святых или покровителях данной церкви, не о ее основателях или же вкладчиках, не о лицах, в ней погребенных. Правда, еще удивительнее, что среди
Ил. 11. Статуи детей Людовика Святого в Пуасси. Рисунок из собрания Геньера
164
них оказался Робер Клермон-ский, умерший только в 1318 г. (ил. 12). От его уже покойных братьев и сестер, представленных в молитвенных позах, его отличает перчатка в левой руке - намек на соколиную охоту, а следовательно, знак принадлежности к благородному сословию и благородного образа жизни45. В статуях детей Людовика Святого и прежде всего в полнообъемном скульптурном изображении еще здравствующего светского лица, помещенных в церковный интерьер, впервые проявляется удивительное перетекание сакрального и профанного, отличающее в целом монументальную скульптуру, создававшуюся в окружении Филиппа IV.
Во дворце Ситэ (как на портале Галереи торговцев, так и в Большом зале) или же
Ил. 12. Статуя
Робера Клермонского в Пуасси. Рисунок из собрания Геньера
на портале донаторов Наваррского коллежа (College de Navarre)46, вразрез с принятыми традициями использования художественных средств, впер-
вые изображаются светские сановники с помощью средства, до той поры зарезервированного исключительно для произведений церковно-сакрального искусства. Однако создатели статуй в Пуасси, сверх того, вышли за пределы круга ролей, в которых изображе
ния мирских лиц до тех пор могли появляться в церковном пространстве: в качестве основателей, донаторов или же погребенных. Но помимо этого, создавая монументальную память о еще живущем человеке, они сдвинули привычный временной горизонт с прошлого47 на настоящее. И наконец, на портале коллегиатской церкви Нотр-Дам в Экуи48, воздвигнутой в 1310—1313 гг., тоже впервые появляются фигуры в человеческий рост, представляющие еще живых ктиторов стоящими перед лицом святых - в данном случае Ангеррана де Мариньи и его второй супруги Алипы перед Мадонной с младенцем49. (Что же касается обычного объединения изображения донатора со сценой поклонения, при которой
165
донатор или просители стоят на коленях, то такие композиции можно будет видеть еще и в конце XIV в., например на портале картезианского монастыря в Шаммоле50.)
Исследователи не прошли мимо таких случаев нарушения сложившихся традиций, однако они не были особенно склонны анализировать их под иными углами зрения, нежели морфологическим и эволюционным, ставшими для них уже привычными. Поэтому не были поставлены вопросы ни о причинах таких нарушений некогда четких границ, ни о том, какие смыслы осваивало придворное искусство Филиппа IV, когда соединяло вместе сакральные и профанные средства выражения51. В самом деле, исследователи уделяли куда меньше внимания взаимосвязям отдельных феноменов друг с другом и с их историческим контекстом, нежели тому, чтобы, анализируя работу мастера при решении им конкретной изобразительной задачи (при создании, например, портала донатора или же мемориального образа), выявить в каждом отдельном случае нечто, что можно было бы охарактеризовать как «инновацию» и проявление художественного прогресса. Еще со времен Вазари обычной стала объяснительная схема, согласно которой есть некая последовательность индивидуальных достижений отдельных художников, благодаря которым и происходит историческое развитие искусства. Все еще в соответствии с этой схемой историки искусства предпочитают обращать внимание на те отдельные элементы, которые можно как-то вписать в метанарратив о восходе зари Ренессанса из мрака распада, характерного для позднего Средневековья.
Прекрасная, если не сказать каноническая, форма этому нарративу была придана Андре Мишелем - издателем и одним из авторов столь же монументальной, сколь и влиятельной «Истории искусства» издательства «Арман Колен» - в томах об искусстве готики и раннего Ренессанса, появившихся в 1906-1908 гг/. «Однако в то самое время, когда идеал XIII в. слабел и мельчал,... происходила выработка нового порядка. Скульпторы все больше ориентировались на индивидуальную природу, на портрет, убеждаясь, что безжизненные учения и старомодные традиции впредь будут бессильны им помочь... Можно сказать, что Францию Карла V отделяет от Франции Людовика Святого настоящая революция - это то, что Куражо называл началом “Северного Возрождения” - французского или франко-фламандского. На этом нечто завершилось, а нечто совсем иное, если не сказать противоположное, началось...»52.
Ссылаясь на Луи Куражо, хранителя отдела скульптуры в Лувре, автор ссылался на самого, пожалуй, влиятельного во Франции конца XIX в. преподавателя истории искусства и знатока Средневековья53. Лекции Куражо в престижной Школе Лувра54 сами по себе или же в том виде, как их опубликовал Андре Мишель55, представи
166
ли целому поколению музейных хранителей и кураторов подкупаю-ще убедительную картину некоего особенного Ренессанса, возникшего к северу от Альп совершенно независимо от Италии, решительно направив их на поиски его корней и проявлений во французском искусстве с конца XIII в.56 Именно благодаря этой мощной традиции, в искусствоведении (в которой во Франции всегда намного большую роль, чем в других странах, играли работники музеев57) еще и поныне с одержимостью ведутся разыскания истоков искусства Нового времени, начал «реализма», в современном понимании этого слова58.
Эта интерпретационная схема, ориентированная на выявление в изображении любых признаков достоверности при передаче действительности - сколь бы изолированными такие проявления ни были и в какие бы разноплановые контексты они ни оказывались включены, - стала за последнее время еще популярнее благодаря начатым в 80-е годы прошедшего столетия широким программам исторических исследований, направленных на изучение «генезиса современного государства»59. Именно благодаря таким поискам признаков складывания позднесредневековой государственности правление Филиппа IV стало пользоваться повышенным вниманием. Характерные для него процессы быстрой интеграции и институционализации, централизации и профессионализации королевской власти быстро доставили этому времени славу решающей стадии модернизации и рационализации на пути Франции к Новому времени. Соответственно историки искусства находили здесь подтверждение своей гипотезе, что реализм в деталях, скажем, одеяний и инсигний стал проявлением общего стремления к верной передаче действительности, которое, в свою очередь, неизбежно должно было основываться на восприятии мира столь же реалистическом, сколь и рациональном.
Впрочем, всемерное подчеркивание проявлений перемен в политике и государственном управлении, в теориях государства и в менталитете60 вызывало у историков порой и мрачные ассоциации: они подозревали, что прошлое принесло современности и дары совсем иного рода. Жюль Мишле в третьем томе своей капитальной «Истории Франции», вышедшем в 1837 г., еще прославлял правление Филиппа IV в качестве начала «современной эпохи» (age modeme), его легистов как «жестоких разрушителей Средних веков» (cruels demolisseurs du Moyen Age) и «основателей гражданского порядка нового времени» (fondateurs de 1’ordre civil aux temps modemes)61. Но уже Леопольд фон Ранке ощущал «леденящее дуновение новой истории», обвевавшее все бытие этого монарха, ужасаясь «насилию и беспринципности», присущим его политическим действиям62. й конце концов Филипп IV оказался в глазах католической и кон-Сервативной части Франции королем, навлекшим на нацию кошмар
167
галликанизма и уготовившим ей в роли праотца всех якобинцев судьбу революции63. В этом калейдоскопически-пестром наборе образов быстро появился и тот, что в восприятии широкой публики и сегодня еще прочно связывается с личностью Филиппа IV: образ короля, с маккиавеллистским хладнокровием практикующего искусство расчетливого злодейства64.
Такому образу Филиппа IV хорошо соответствуют обвинения оставшегося верным папе епископа Памьера Бернара Сэссе. До того как в 1301 г. его обвинили перед королевским судом в Санлисе в измене, оскорблении величества и ереси65, он упрекал короля не только в чеканке фальшивой монеты, моральной деградации и незаконном происхождении, но еще и в том, что тот является «не человеком, не животным, но изображением» (пес homo, пес bestia, sed imago)66. Неподвижность и молчаливость Филиппа IV при официальных действах67 (подтвержденная и другими свидетелями), очевидно, побудила епископа к тому, чтобы отказать королю в какой бы то ни было тварности и отнести его телесное присутствие к небытию, низвести до уровня кажимости, лишенной какого бы то ни было содержания68. Авторам популярной литературы было ясно, что в такой оценке современника отразилось ледяное хладнокровие человека власти Нового времени, якобы уже присущее Филиппу IV, но то, что эту фразу следовало бы прочитывать в контексте княжеских зерцал того времени, осталось ими совершенно не замечено.
В противном случае они обратили бы внимание на то, что поведение, инкриминировавшееся королю, довольно точно соответствовало принятой у аристократии самостилизации, выражавшейся в понятии меры (mesure), согласно которому от представителей господствующей придворной элиты и высших управленцев требовалось держать под самым строгим контролем свои эмоции и соблюдать дистанцию по отношению к тем, кто стоял ниже в иерархии69. Соответственно королю необходимо было больше, чем кому-либо другому, блюсти «меру» в мимике и поведении - и прежде всего если он претендовал на следование примеру и образцу Людовика Святого70, поскольку образ жизни и практика правления этого короля в интерпретации его агиографов определялись прежде всего добродетелью смирения (humilitas) и идеалом благочестивого человека (prud’homme)71.
Если «оцепенелость» короля, за которую его упрекал епископ, понять в этом контексте как соблюдение обязательного для государя требования «меры», то тут же можно заметить, что и художественным заказам Филиппа IV были присущи исполненные достоинства сдержанность и отстраненность72. Например, очень удобно сопоставить лежащую фигуру, заказанную королем для надгробия своего отца Филиппа III у Жана Аррасского около 1298 г., которую он повелел около 1307-1308 гг. «мастеру работ» (maitre de 1’oevre) собора Нотр-Дам Пьеру де Шеллю перенести в Сен-Дени (ил. 13)73,
168
Ил. 13. Лежащая фигура Филиппа III. Сен-Дени. Церковь бывшего аббатства
Ил. 14. Лежащие фигуры Робера Благочестивого и Констанции Арелатской. Сен-Дени. Церковь бывшего аббатства
с лежащей там же и очень сходной по композиции фигурой Констанции Арелатской, созданной в ходе реорганизации и нового обустройства королевской усыпальницы при Людовике IX в 1263-1264 гг. (ил. 14)74. Хотя в изображении одежды у более поздней статуи видно почти «дословное цитирование» более ранней (лишь в зеркальном отражении), она дается в куда более плоскостной трактовке, а контрапост и общий контур фигуры выражены существенно сдержаннее.
В облике обеих лежащих фигур использованы художественные решения, принятые в изобразительном искусстве церкви. Ведь их одинаковая композиционная схема идет от статуй Мадонны - таких, например, как созданные около середины XIII в. «Золоченая Дева» (Vierge богёе)75 над порталом южного крыла трансепта Амьенского собора, Мадонна над порталом северного крыла трансепта собора Парижской Богоматери (ил. 15)76или же Мадонна на портале нижней церкви Сен-Шапель77. Тот же тип представлен и в произведени-
169
Ил. 15. Мадонна.
Париж. Собор Нотр-Дам. Северный портал трансепта
Ил. 16. Статуэтка мадонны из слоновой кости из ризницы Сен-Шапель. Париж. Лувр
ях ювелирного искусства, например в статуэтке из слоновой кости из ризницы Сен-Шапель, возможно подаренной храму Людовиком IX (ил. 16)78. Если в лежащей фигуре Констанции Арелатской этот тип воспроизведен точно, вплоть до трактовки масс и объемного контура, - то расположение складок одеяния gisant Филиппа III хотя и восходит к повороту корпуса статуй мадонн, центрированного на фигуру младенца, но выдержано более фронтально, приспособлено к сдержанному контрапосту фигуры и редуцировано в пластических объемах.
Такого же рода варианты проявились и в статуе Мадонны, украшавшей стену коллегиатской церкви в Экуи, созданной на пожертвования Ангеррана де Мариньи (ил. 17)79. Если скульптуры в стиле
170
«Золоченой Девы» или же Мадонны с северного трансептного фасада собора Парижской Богоматери (ил. 15) предполагали рассмотрение их под разными углами зрения, были рассчитаны на то, что зритель должен двигаться, чтобы вполне осознать позу Мадонны, расположение ее одеяний, детали оформления, то статуя в Экуи представлена в подчеркнуто строго фронтальном положении. Распределение динамики тела по разным уровням здесь намного сдержаннее, а напряженно провисающие массивные складки одежды отсутствуют. Вместо них при фронтальном взгляде на статую доминирующими оказываются статичные плоскости. Такая же застылость в состоянии почти полной неподвижности характерна и для статуэтки Мадонны, сделанной из букового дерева и подаренной Пуасси, возможно, Филиппом IV (ил. 18)80, что создает сильнейший контраст
Ил. 17. Мадонна. Экуи. Нотр-Дам
Ил. 18. Статуэтка Мадонны из Сен-Луи в Пуасси. Антверпен. Музей Майера ван ден Берга
171
между нею и произведениями, подобными Мадонне из слоновой кости в Сен-Шапель (ил. 16).
Такие параллели между художественными особенностями статуй, создававшихся при дворе Филиппа IV, и формами поведения государя, культивировавшимися там же, - как и между скоротечными образами, возникавшими в ходе церемониальных действий, и образами устойчивыми, рождавшимися королевским придворным искусством, - оказались по большей части скрыты от взора исследователей. Их внимание было сосредоточено преимущественно на выяснении того, как рождались собственно новоевропейские черты в искусстве, а тем самым и на поисках собственно новоевропейских черт в мышлении, действиях и чувствах. Однако можем ли мы безоговорочно допустить, чтобы заказчик со зрителем вместе занимались «открытием мира и человека»81 в направлении общественного, политического и ментального развития, ведущего к предполагаемому «Новому времени» (temps modemes)?
Большие сомнения в справедливости такого подхода возникают не в последнюю очередь в силу уже того, что придворные легисты Филиппа IV в то же самое время, когда они в своей предполагаемой роли «созидателей гражданского порядка Нового времени» якобы работали над преодолением и даже разрушением Средневековья, заставили возродить один давно забытый художественный дискурс, который, по мнению историков искусства, должен был исчезнуть еще вместе с византийским иконоборчеством и его откликами на Западе. Речь идет о том, что в ряде судебных процессов с их участием (или же в связи с такими процессами) вдруг начали звучать неожиданно пылкие обвинения в поклонении идолам либо же в побуждении к идолопоклонству.
Самой видной жертвой таких упреков стал папа Бонифаций VIII82, особенно когда споры об отношениях между светской и духовной властями в ходе процесса Филиппа IV против епископа Памьерского разгорелись сильнее, чем когда-либо ранее83. Папу обвиняли, помимо прочего, в том, что он «приказывал воздвигать в церквах свои изображения из серебра, вводя тем самым людей в идолопоклонство»84. Мало того, он якобы повелевал изготавливать свои изображения и вне церковных стен, чтобы требовать от людей смирения (humilitas) и почтения (reverentia), на полную меру которых он претендовал в качестве «государя над всем духовным и мирским» (dominiis omnium spiritualium et temporalium) и даже «государя мира» (dominus mundi)85. Если Бонифация VIII упрекали в насаждении идолопоклонства, то и тамплиеров на процессе по обвинению в ереси, устроенном легистами Филиппа IV, чтобы уничтожить их орден, также обвинили в идолопоклонстве, в почитании кумиров В виде голов или бюстов, вырезанных из дерева и посеребренных86. В то же самое время, когда обвинения такого рода формулировались в бли
172
жайшем окружении короля и использовались его легистами против внутренних и внешних противников, во Франции, как, впрочем, и в Англии и Италии, поднималась волна процессов против колдунов, инициатива которых исходила от королей, епископов и пап - прежде всего Иоанна XXII. Лейтмотивом в них обычно звучало осуждение использования изображений в магических практиках и действий, приводящих к идолопоклонству87.
Сколь бы ни отличались друг от друга эти разноплановые феномены, каждый из которых задавался своим особенным сочетанием социально-политических, юридических и теологических факторов, в них все же можно усмотреть нечто общее: когда около 1300 г. Филипп IV вознамерился придать репрезентации королевской власти принципиально новую форму, украсив монументальной скульптурой дворец Ситэ, Наваррский коллеж и церковь приората в Пуасси, он обратился к такому изобразительному жанру, в котором невозможно было бы волюнтаристски распоряжаться присущими ему функциональными и смысловыми связями. Ведь король прибег к коммуникативному средству, подчинявшемуся определенным правилам и обыкновениям в том, что касается условий и возможностей его использования, и потому обращение именно к нему следовало продумать с особым вниманием и тщательностью.
Конечно, судя по конкретным историческим обстоятельствам, в которых предъявлялись эти обвинения, они выдвигались прежде всего из сугубо политического расчета. Отсюда у исследователя может возникнуть нежелание усматривать в упреках, относящихся к предполагаемой идолатрии и подстрекательству к поклонению идолам, что-либо большее, нежели рефлекторно повторяемые топосы формально-юридической аргументации - ведь идолопоклонство относится к традиционному арсеналу диффамирующих и криминализирующих обвинений, воспроизводившихся то и дело столь же шаблонно, как и обвинения в ереси, симонии или содомии88. Но все же, чтобы обвинители могли рассчитывать на правовые последствия своих жалоб, чтобы те смогли сыграть какую-то роль в судебном процессе, высказывавшиеся аргументы должны были обладать хотя бы некоторой степенью убедительности и правдоподобия для тех, кому они предназначались - т.е. в случае с процессом против папы Бонифация, во-первых, для королевских советников, во-вторых, для парижских собраний прелатов и сословий и, наконец, для папских советников и консистории Климента V. Поэтому стоит все же серьезно отнестись к тому, что на этих процессах так или иначе инкриминировалось в качестве возмутительного деяния Публичное выставление образов, выполненных именно в технике Круглой пластики, а не каких-либо иных изображений, принятых в то время.
173
В скульптурных изображениях содержится некая божественная сила, им свойственна некая особая святость - это следует из многочисленных практик их использования на рубеже XIII и XIV вв., санкционированных церковью, - несмотря на то что с церковной же точки зрения изображение как таковое никак не могло быть носителем святости. Разве не писали богословы эпохи высокой схоластики (не говоря уже обо всех их предшественниках) то и дело со всей возможной определенностью, что образу не присуще никакого в нем самом укорененного качества бытийственности или сущности, что он лишь указывает на божественный образец и потому должен, естественно, от того отличаться?89 Однако не менее часто нам встречаются в источниках и рассказы о чудодейственных священных изображениях, а также о формах соответствующего культового поклонения им90. Так, к ним благочестиво прикасались (ил. 19), их выставляли на общее обозрение, благословляли ими. Их торжественно облачали и короновали. Но были и противоположные случаи - поношения образов и даже физического покушения на них91 -от частичного повреждения, жертвой которого чаще всего становились глаза, лица и руки, до полного уничтожения. Феномены и практики такого рода позволяют увидеть, насколько проницаемой была граница между знаком и тем, что он означает, а то и полное ее отсутствие. Представления о том, что в изображении действительно как-то присутствует изображаемое92, все-таки сохранялись - и притом не только там, где внутри статуй хранились реликвии, а потому добродетель (virtus) святого обладала материальным носителем в виде самой субстанции реликвии, в силу чего она могла оказаться предметом вполне легитимного поклонения.
Так, уже «серебряные образы» (imagines argenteas), инкриминировавшиеся Бонифацию VIII на процессе против него93, оказывались в неясной пограничной области между памятным изображением и изображением культовым. Ведь в третейском приговоре 1290 г. по поводу тяжбы между архиепископом Реймсским и его соборным капитулом папские легаты Джерардо Бьянки и Бенедетто Каэтани (будущий папа Бонифаций VIII) распорядились, чтобы конфликтующие стороны изготовили серебряные статуэтки кардинала-епископа и кардинала-дьякона для выставления их по торжественным поводам во время мессы на главном алтаре. На фигурки должны были быть нанесены надписи с указанием имен кардиналов, но это вряд ли могло послужить надежным средством, чтобы провести четкую грань между этими статуэтками кардиналов-легатов и другими предметами на алтаре - предназначавшимися для культовых целей94. Став в 1301 г. посредником в споре между амьенским епископом и его капитулом, Бонифаций VIII распорядился сделать для главного алтаря тамошнего собора наряду со статуей Марии еще и фигуру папы из серебра с позолотой, у которой, однако, не оказа-
174
Ил. 19. Сидящая фигура св. Петра с истертыми от прикосновений ступнями. Рим. Храм Св. Петра
лось никаких индивидуальных признаков, по какой причине в локальной традиции она стала скоро трактоваться как изображение святого папы Григория.
Обвинение в поощрении идолопоклонства, выдвинутое против Бонифация VIII, относилось и к монументальным статуям95, воздвигнутым в честь папы в Болонье, Флоренции, Орвьето и Ананьи. Это показывает, что такие изображения - пускай даже выставленные вне пределов освященной, предназначенной для культа части церковного пространства - давали не меньше повода для раздражения, чем те, которые уже в силу сакральности места, куда их помещали, наводили на мысль, что к ним можно обращать молитвы. Ведь и статуи, поставленные extra ecclesias, особенно навлекали подозрения в навязывании недопустимого поклонения изображениям. Однако,
175
Ил. 20. Статуя Бонифация VIII. Болонья.
Museo civico medievale
Севне, «повелевшему сделать
конечно же, не потому, что они оказывались в слишком тесной пространственной и функциональной близости к изображениям, признанным в христианском культе, но по аналогии с языческими практиками использования изображений96 - практиками, которые при возведении таких статуй, казалось, возрождались заново: «Также выяснилось с очевидностью, что он приказывал возводить свои изображения из мрамора не только внутри церквей, но даже и вне церквей, - что вызвало большое подозрение, что он имеет намерение ввести поклонение идолам, - [а именно] на городских воротах и над ними - там, где в древности обычно стояли идолы...»97 Даже в самой Италии раздавалась громкая критика политики этого папы в том, что относилось к распространению его статуй, правда, там она относилась прежде всего к украшенной фигурами гробнице в соборе Св. Петра, которую Бонифаций VIII первым из всех пап возвел себе еще при жизни. Ее строительство комментировали при помощи слов пророка Исайи (22: 15-25), которыми Бог грозил начальнику дворца ю гробницу и свой образ из камня -
так, чтобы он был словно живой»98.
В самом деле, трудно отделаться от подозрения, что заносчивость была действительно свойственна этому папе - ведь при изготовлении мемориальной статуи Бонифация VIII были, похоже, впол
не сознательно использованы характерные приемы создания культового изображения. В случае с другой статуей - намного больше человеческого роста, - которую в 1301 г. совет города Болоньи (надо полагать, в соответствии с желанием папы) распорядился поставить на балконе палаццо делла Биада в память о третейском решении, вынесенном Бонифацием VIII по одному спору (ил. 20)99, такая же связь с традициями культовых изображений не столь оче
176
видна. Ее затемняет общепринятое у историков искусства мнение о том, как она была создана. В литературе можно прочитать, что грубый облик этой статуи, вырезанной из дерева и покрытой позолоченной медью, возник потому, что коммуне не удалось найти подходящих скульпторов, способных воплотить это памятное произведение в мраморе, так что его изготовление пришлось поручить ювелирам. Однако еще предстоит разбираться, состоит ли дело здесь действительно в слабости ремесленного мастерства или же, напротив, в его силе - в умении ретроспективно передать особенности художественного стиля прошлого.
Действительно, в статуе Бонифация VIII заметны удивительные параллели в мотивах и общем стиле с сохранившимися культовыми статуями, такими как сидящая фигура св. Фиды в Конке100 X-XI вв., Мадонна на троне в Орсивале101 или же бюст-реликварий св. Бауди-ма в Сен-Нектэре XII в. (ил. 21)102. Такие характерные черты, как совершенно неподвижное положение туловища, рука, поднятая в жесте благословения под прямым углом к контуру тела, в остальном полностью замкнутому, странная трактовка складок одеяния как параллельных на предплечьях, строго геометрические контуры лица и разреза глаз, сами широко раскрытые глаза, а также плоский рель
еф поверхности и сияющий блеск покрывающего ее золота, - все это, очевидно, было вполне последовательно применено, дабы вписать статую Бонифация VIII в многовековую традицию полнопластических культовых изображений. Визуальный опыт зрителя в решающей степени формировался изображениями именно такого рода, а потому когда на рубеже XIII и XIV вв. ему пришлось начать воспринимать образы иного, чем ранее, содержания и целевого назначения, но облеченные в ту же хорошо знакомую форму, это не могло не найти соответствий в его сознании.
Приняв во внимание весь этот фон, необходимо заново -теперь уже применительно и к монументальной скульптуре при дворе Филиппа IV - поставить вопрос, сформулированный в самом начале, относительно наработан
Ил. 21. Бюст-реликварий св. Баудима. Сен-Нектэр. Приходская церковь
12 Обра b.kicjh
177
ных практик и общепонятных знаковых систем, создававших основу для того, чтобы изображения могли осуществлять свою посредническую роль между намерениями их заказчиков и способностями восприятия тех, кому они предназначались. Можно ли и впрямь исходить из того, что в статуях, о которых идет речь, было найдено удачное соответствие между ожиданиями заказчика и восприятием зрителя, пошедшее на пользу процессам символической коммуникации и репрезентации - прежде всего или даже исключительно потому, что скульпторы стремились к правдивой передаче действительности, и потому, что обе стороны - заказчик и зритель - в равной степени увлеклись «открытием мира и человека»? И был ли столь удивительный выбор художниками двора Филиппа IV именно данного средства выражения обусловлен исключительно их стремлением ко все более точной передаче природы, ощущаемым теперь сильнее, чем когда-либо ранее, т.е. расчетом, что изображение, созданное в трех измерениях, придает тому, кого изображают, большую степень подобия?
Нет, напротив, многое говорит скорее в пользу того, что обе стороны разделяли представление, согласно которому данному виду искусства уже самому по себе был присущ как бы сакральный характер. Источником всякого знания об образах как у заказчиков изображений на рубеже XIII и XIV вв., так и у тех, кто на эти изображения тогда смотрел, был их визуальный опыт. А судя по нему, и те и другие были знакомы с круглой скульптурой почти исключительно в контексте сакрального здания - как его интерьера, так и внешнего облика103. Именно там привыкли они видеть статуи - прежде всего в качестве средства представления святых и библейских персонажей (ил. 15), именно там статуи изображали мифических или исторических основателей и вкладчиков, именно там скульптурные надгробия должны были свидетельствовать о продолжении существования по ту сторону смерти и, предвосхищая нетленность воскресшего тела, о самом воскрешении (ил. 14). В церковно-сакральном контексте перед зрителем выстраивалась смысловая иерархия средств художественного выражения. Уже в экстерьере пластика порталов визуализировала для него последовательность перехода от плоского рельефа цокольных зон через высокий рельеф тимпанов или мелкую пластику консолей и архивольтов к круглым скульптурам больше человеческого роста на стенах (ил. 22)104. Внутри же церковного здания он обнаруживал, что именно этот род пластики находит разнообразное применение в литургии105, и благодаря реликвариям святых и Мадонны (ил. 23), переносным алтарям с реликвиями (ил. 24) и ре-таблям круглая скульптура представала для зрителя всегда в качестве вида изображений, самого высокого по рангу среди всех106.
Наряду с живописными работами107 в деле церковной проповеди и комментирования для паствы Библии важное место отводилось
178
Ил. 22. Амьен. Собор Нотр-Дам. Центральный портал западного фасада, левая сторона
179
скульптурным произведениям, использовавшимся для визуализации определенных назидательных тем - как, например, в скульптурном оформлении порталов Нотр-Дам, адресованном столичной публике108. О том, что именно такие изображения еще на рубеже XIV и XV вв. признавались самыми авторитетными и достоверными, свидетельствует одно судебное разбирательство, в ходе которого произведения искусства использовались в качестве доказательства. В 1410 г. перед высшим судом короны предстали монахи Сен-Дени и каноники Нотр-Дам, оспаривавшие друг у друга право обладания подлинной реликвией - частью черепа св. Дионисия109. В ходе этого долго тлевшего конфликта сложились могущественные партии, состоявшие из самых высокопоставленных людей королевства. По их составу легко понять, что борьба за священного покровителя короля и королевства (patronus regis et regni) была делом, затрагивавшим высшие национальные интересы. Ведь на стороне монахов стояли Карл VI и Людовик Орлеанский, а на стороне капитула - Жан Бер-рийский, Жан Жерсон, канцлер Университета, и, разумеется, епископ Пьер д’Оржемон. Поскольку общее внимание в ходе этого разбирательства было приковано не только к вопросу о подлинности реликвий, но прежде всего к легитимности поминовения, осуществ-
ил. 23. Фигура Мадонны и боковые крылья складного алтаря. Алатри. Санта-Мария Маджоре
180
Ил. 24. Переносной алтарь с реликвиями. Вклад Филиппа V и Жанны Бургундской. Севилья. Ризница собора
ляемого у них, сторонам необходимо было представить самые строгие и надежные доказательства своей правоты. Соборный капитул, как говорится в меморандуме, составленном перед началом процесса, должен доказывать подлинность своей реликвии на основании «четырех или пяти групп доказательств» (pour iiij ou v manieres de probations): ее подлинность удостоверяется «историями и старинными сочинениями, древними изображениями, священными обрядами и установлениями, заслуживающими веры сообщениями, появлявшимися на протяжении длительного времени, а также убедительными или весьма вероятными предположениями и допущениями»110. Тем самым доказательная сила изображений была поставлена на один уровень по ценности свидетельства с письменной или устной традицией, как и с устоявшимися культовыми практиками111. Она
181
зависела от возраста предъявляемых доказательств - ведь в сравнении с новыми изображениями старые обладают «большей достоверностью и авторитетностью» (de plus grant foy et auctorite)112. Мало того, необходимо еще учитывать, были ли «они заказаны высокими духовными лицами и мудрыми людьми» (furent ordonnees par grans clers et par saiges gens) - как в случае co скульптурой на порталах Нотр-Дам, «очень известных и древних, по которым хорошо видно, что их не делали заново, а изготовили после большого и серьезного обсуждения и обмена мнениями»113. Наряду с авторитетом старины и достоинством заказчика было, впрочем, и третье обстоятельство, особенно сильно способствовавшее легитимированию изображений, - факт того, что они находятся на всеобщем обозрении. Как аргументировал соборный капитул, верхняя часть черепа св. Дионисия, находящаяся в его распоряжении, являлась реликвией подлинной, потому что «большие и древние каменные изображения, помещенные на открытых и публичных местах, открытые взорам каждого, кто пожелал бы их увидеть», свидетельствуют о соответствующем именно такой форме реликвии виде мученичества святого, а не о полном его обезглавливании114.
Такая аргументация делает очевидным, что еще на рубеже XIV и XV вв. за монументальной скульптурой признавали наивысший статус. В этом признании во времена Филиппа IV решающим был прежде всего сакральный компонент, ведь оно подпитывалось аурой святости, окружавшей в восприятии современников изображения, выполненные в технике круглой скульптуры115. Функциональная и смысловая нагрузка пластики была связана прежде всего со сферой церковно-сакрального116 - и она была столь же далека от уровня повседневности, как и сам материал, из которого изготовлялись скульптуры. Так, «Книга ремесел» («Livre des metiers») - правовой сборник, заведенный парижским прево Этьеном Буало в 1268 г., - не предусматривала ни для какой корпорации, кроме скульпторов, таких строгих требований в том, что касается выбора материала и обращения с изделиями: «Никто из этого цеха не может и не должен делать изображения и распятия, ни другие предметы, относящиеся к святой церкви, кроме как из своего собственного материала, если они не делают их один для другого или для какого-нибудь клирика, или духовного лица, или рыцаря, или знатного человека, которые заказали для собственного употребления. Это установлено прюдомами цеха по той причине, что случалось, что делали эти изделия с изъяном, и прюдомов цеха за это порицали»117. Если пригодность данного конкретного материала гарантировалась внешними контрольными инстанциями, то сам предмет изображения требовал уже лично от скульптора наивысшего почтения в обращении с изделием: «Никакое поддельное изделие не должно быть уничтожено - из-за почтения к святым, в воспоминание коих эти изделия были сделаны»118.
182
Итак, обвинения в идолопоклонстве, звучавшие на судебных процессах того времени, способы использования культовых изображений, ситуации, в которых круглая скульптура воспринималась в традиционном для нее контексте сакрального применения, иерархия разных художественных средств воздействия, сложившаяся как в церковном здании, так и в литургии, нормы правовой практики -во всем этом обнаруживаются разнообразные указания на то, что монументальная скульптура, беспрецедентно широко использовавшаяся Филиппом IV, уже сама по себе, в качестве определенного средства воздействия на реципиента, могла порождать смыслы и внушать их зрителям. Для создания этих смыслов был взят на вооружение ореол святости, действительно окружавший в глазах современников культовые изображения, и сакральные коннотации, свойственные скульптурному декору церковного здания. Конечно, против такой гипотезы можно возразить, что с не меньшим основанием здесь усматривается другое: институты государственной власти или их отдельные представители стали совершенно беспринципно присваивать себе церковно-религиозные формы использования статуй и в собственных интересах инструментализировать соответствующие средства художественного выражения - вполне в духе того маккиавеллизма наступающего Нового времени, о котором упоминалось выше119. Однако тут стоит вспомнить, что лица, изображенные во дворце Ситэ, в Наваррском коллеже или в Пуасси, ко времени создания статуй еще только-только успели достичь своего высокого положения, что делает вполне возможным и более вероятным трансформацию обратного рода: при создании их образов произошла не секуляризация того, что некогда было сакральным, а, напротив, сакрализация того, что раньше было светским.
В самом деле, после канонизации Людовика IX, последовавшей в 1297 г., Капетинги впервые обрели среди своих предков официально признанного святого - короля, во-первых, принадлежавшего к их роду, а во-вторых, являвшегося их святым предшественником. Из этого последовали далеко идущие качественные перемены в самосознании Капетингов, в понимании ими своего сана. К харизме сана «христианнейшего короля» (roi tres chretien), помазываемого на царство посланным Богом елеем из священного сосуда и получающего дар чудесного исцеления золотушных, добавлялась наследственная харизма святости крови, передающаяся всей династии120. Очевидно на этом представлении и основывалась оригинальная концепция поминовения, побудившая Филиппа IV представить в Пуасси Людовика Святого вместе с его детьми (ил. 12). Ведь если статуя Филиппа III выражала идею агнатической связи правящего монарха с его святым предком, то в образах его братьев и сестер представали корни династии, наделенной святостью во всех ее ответвлениях.
183
Все, что делалось и провозглашалось при дворе, имело целью систематически развивать идею святости королевской власти и правящей династии. Сразу после канонизации своего деда Филипп IV начинает вводить и планомерно расширять культ этого нового святого121. Основав монастырь доминиканок Сен-Луи в Пуасси122, воздвигнув гробницу в Сен-Дени123 и создав бюст-реликварий для Сен-Шапель124, он быстро, один за другим, создал главные опорные пункты и предметы культа св. Людовика, за которыми вскоре должны были последовать новые - вследствие распространения реликвий, которым он настойчиво занимался вопреки сильному сопротивлению папы125. В то же самое время ученые из его окружения всячески пропагандировали Людовика Святого в качестве «святого предка» (sanctus progenitor) правящего короля и обосновывали при помощи идеи непосредственной и исключительной близости короля к Богу тезис о ничем не ограниченном суверенитете французской монархии.
Когда в ходе «querelle bonifacienne» (бонифацианской ссоры)126 принципы королевского суверенитета и папской супрематии столкнулись в непримиримом конфликте, образы, передающие идею сакральной королевской власти127 и богоизбранности короля128, получили наивысшее политическое значение. Именно тогда аргументы правовой теории, развивавшейся легистами, и миф о королевской власти, обосновывавшийся теологически, стали опираться друг на друга, взаимно друг друга усиливая. Буллы «Ausculta fili» (1301) и «Unam sanctam» (1302) вызвали мощную волну антикуриальной публицистики, в которой яростно отстаивались суверенные права короля вопреки претензиям папства на полноту власти (plenitudo potesta-tis) и такое устройство власти и жизни, при котором тон задавали бы церковные иерархи. В таких трактатах, как «Rex pacificus»129 или «Quaestio in utramque partem»130, папской претензии на супрематию противопоставлялась правовая максима «Король является императором в своем королевстве» («1е roi est empereur en son royaume»). Требование послушания папе и подчинения ему как необходимых условий спасения души отводилось в них на том основании, что король тоже является «наместником Бога» («vicarius dei») наряду с папой и в той же мере, а власть его исходит непосредственно от Бога. Однако при этом мирская власть, будучи даром божественной милости, давала своему носителю долю участия во власти Господа и потому в наибольшей степени превращала государя в подобие Бога.
Если принять во внимание весь этот фон, появляются все основания предполагать, что задача, решение которой при дворе Филиппа IV было возложено на скульптуру, состояла прежде всего в том, чтобы дать идее священной королевской власти столь же адекватное, сколь и убедительное художественное выражение. Заботы
184
скульпторов, судя по всему, были сосредоточены вовсе не на стремлении к осознанной передаче индивидуального жизненного облика конкретного короля, его близких родственников и высокопоставленных сановников его правительства - как представлялось ранее в исследовательской литературе с ее идеей прогресса, понимаемого как движение по направлению к «реализму» Нового времени. Главным при создании статуй был, похоже, сам выбор типа носителя изображения с вызываемыми им ассоциациями сакрального свойства, его специфическая материальность и его особые средства художественного воздействия на зрителя. Монументальной скульптуре удалось создать соответствие между намерениями и ожиданиями заказчиков, с одной стороны, и опытом и разумением адресатов -с другой, тем, что она представила носителей священной королевской власти в таком роде изображений, который был хорошо знаком зрителю по сфере церковно-религиозной сакральности. А то, что в придворном искусстве Филиппа IV, по всей видимости, действительно сложилось такое удачное равновесие, доказывается не в последнюю очередь тем, что монументальная скульптура оставалась безусловно ведущим средством репрезентации власти для широкой публики вплоть до начала XV в.131
1 Об истории понятия «репрезентация» и спектре его значений см.: Der Begriff der repraesentatio im Mittelalter. Stellvertretung, Symbol, Bild / Hrsg. von A. Zimmermann. B.; N.Y., 1971; Hofmann H. Representation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert. B., 1974; Behnke K., Haller В.
et al. Representation // Historisches Worterbuch der Philosophie / Hrsg. von J. Ritter und K. Griinder. Basel, 1992. Bd. 8. Sp. 790-853; обзор разнообразных аспектов сред-
невековой репрезентации (власти) см. в работах: Hofische Representation. Das Zeremoniell und die Zeichen I Hrsg. von H. Ragotzky und H. Wenzel. Tubingen, 1990; Representation, pouvoir et royaut£ a la fin du Moyen Age / Ed. par J. Blanchard. P., 1995; Nobilitas. Funktion und Representation des Adels in Alteuropa / Hrsg. von O. Gerhard Oexle und W. Paravicini. Gottingen, 1997; Die Representation der Gruppen. Texte - Bilder - Objekte / Hrsg. von O. G. Oexle und A. von Hulsen-Esch. Gottingen, 1998; Showing Status: Representations of Social Positions in Late Middle Ages / Ed. by W. Blockmans and A. Janse. Turnhout, 1999; Sauter A. Fiirstliche Herrschaftsreprasen-tation. Die Habsburger im 14. Jahrhundert. Ostfildern, 2003; Oschema K. Representation lrn spatmittelalterlichen Burgund. Experimentierfeld, Modell, Vollendung Ц Zeitschrift far Historische Forschung. 2005. Bd. 32. S. 71-99; Wenzel H. Hofische Representation. Symbolische Kommunikation und Literatur im Mittelalter. Darmstadt 2005; в качестве
примера использования визуальных (в частности, монументальных) средств репрезентации: Michalsky Т Memoria und Representation. Die Grabmaler des Konigshauses Anjou in Italien. Gottingen, 2000; Slanitka S. Krieg der Zeichen. 27le visuelle Politik Johanns ohne Furcht und der armagnakisch-burgundische Btirgerkrieg. Gottingen, 2002; Welzel B. Sichtbare Herrschaft - Paradigmen hofischer Kunst // Principes. Dynastien und Hofe im spaten Mittelalter / Hrsg. von C. Nolte. tuttgart, 2002. S. 87-106; Hirschbiegel J. Etrennes. Untersuchungen zum hofischen eschenkverkehr im spatmittelalterlichen Frankreich der Zeit Konig Karls VI.
U380-1422). Munchen, 2003.
185
2 Paul Klee. Das Friihwerk, 1883-1922 I Hrsg. von A. Zweite. Munchen, 1979 (каталог выставки в Мюнхене, в Городской галерее в доме Ленбаха). Nr. 44; Wedekind G. Paul Klee: Inventionen. B., 1996. Nr. 6 и к нему особенно S. 91-101.
3 Такая идентификация проведена в работе: Haxthausen Ch.W. Paul Klee: The Formative Years. N.Y.; L., 1981. P. 132.
4 Verosta S. Theorie und Realitat von Btindnissen. Heinrich Lammasch, Karl Renner und der Zweibund (1897-1914). Wien, 1971; Ange low J. Kalkiil und Prestige. Der Zweibund am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Koln; Weimar etc., 2000; Gutmann G. Das Deutsche Reich und Osterreich-Ungam 1890 bis 1894/1895. Der Zweibund im Urteil fuhrender Personlichkeiten beider Staaten. Munster, 2003.
5 О знаковых системах символических действий, использовавшихся при встречах монархов, см.: Paulmann J. Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in Europa zwischen Ancien Regime und Erstem Weltkrieg. Paderborn; Munchen etc., 2000. S. 181-400.
6 О придворных заказах на скульптуру в широком контексте французского искусства рубежа ХТП и XIV вв. см. из недавних работ: L’Art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328. P., 1998 (каталог выставки в Париже, Национальная галерея Большого дворца); 1300... Г Art au temps de Philippe le Bel I Ed. par D. Gaborit-Chopin et F. Avril. P., 2001; кроме того, об относительно самостоятельных группах произведений, тематических комплексах или проблемах см.: RechtR. Le portrait et le principe de realite dans la sculpture: Philippe le Bel et Г image royale I I Europaische Kunst um 1300 / Hrsg. von H. Fillitz und M. Pippal. Wien; Koln etc., 1986 S. 189-201 (Akten des XXV. Intemationalen Kongresses fur Kunstgeschichte Wien, 1983, Bd. 6). Idem. Le croire et le voir. L’art des cathedrales (Xlle-XVe si£cle). P., 1999. P. 337-349; Schwarz M.V Hofische Skulptur im 14. Jahrhundert. Entwicklungsphasen und Vermittlungswege im Vorfeld des Weichen Stils. Bde 1-2. Worms, 1986. S. 50 и далее, 85-101; Camille M. The Gothic Idol. Ideology and Image-making in Medieval Art. Cambridge, 1989. P. 272-281,291-292; Bennert U. Art et propagande politique sous Philippe IV le Bel: le cycle des rois de France dans la Grand’salle du palais de la Cite // Revue de l’art. 1992. Vol. 97. P. 46-59; Idem. Ideologic in Stein. Zur Darstellung franzosischer Konigsmacht im Paris des 14. Jahrhunderts // Opus Tessellatum. Modi und Grenzgange der Kunstwissenschaft. Festschrift fiir Peter Cornelius Claussen / Hrsg. von K. Corsepius und D. Mondini et al. Hildesheim; Zurich etc., 2004. S. 153-163; Gillerman D. Enguerran de Marigny and the Church of Notre-Dame at Ecouis. Art and Patronage in the Reign of Philip the Fair. University Park, 1994; Davis M.T. Desespoir, Esperance, and Douce France: The New Palace, Paris, and the Royal State // Fauvel Studies I Ed. by M. Bent and A. Wathey. Oxford, 1998. P. 187-213; Idem. Les visages du roi: les projets d’architecture de Philippe le Bel // 1300... Г Art au temps de Philippe le Bel... P. 185-202; Briickle W. Revision der Hofkunst. Zur Frage historistischer Phanomene in der ausgehenden Kapetingerzeit und zum Problem des hofischen Pariser Stils // Zeitschrift fur Kunstgeschichte. 2000. Bd. 63. S. 404-434; Suckale R. Rdflexions sur la sculpture parisienne a 1’epoque de Saint Louis et de Philippe le Bel // Revue de l’art. 2000. Vol. 128. P. 33-48; Carque B. Begnadete Kiinstler, verfluchte Konige? Fragen an die Hofkunst Philipps IV. von Frankreich I I Die Methodik der Bildinterpretation - Les тё-thodes de 1’interpretation de Г image. Deutsch-franzosische Kolloquien 1998-2000 / Hrsg. von A. von Hiilsen-Esch und J.-C. Schmitt. Gottingen, 2002. Teilbd. 1. S. 69-116; Hauser N.M. The Standing Madonna Statue in the Ile-de-France 1270-1350: Style and Iconography. Dis. Phil. Ann Arbor, 2005. P. 53-80; см. также примеч. 43^
7 Gudrout J. Le Palais de la Cite a Paris des origines a 1417. Essai topographique et archeologique // Mdmoires de la Fdddration des Socidtds historiques et archdologiques
186
de Paris et de 1’Ile-de-France. 1949. Vol. 1. P. 57-212; 1950. Vol. 2. P. 21-204; 1951. Vol. 3. P. 7-101; Idem. L’hotel du roi au palais de la Cite a Paris sous Jean II et Charles V I I Vincennes aux origines de 1’Etat modeme (Actes du colloque scientifique sur «Les Capetiens et Vincennes au Moyen Age» I Organis£ par J. Chapelot et E. Lalou). P., 1996. p. 219-288; Bennert U. Op. cit.; Davis M.T. Desespoir; Autrand F. Du Palais des Rois au Palais de Justice // Le Palais de Justice / Ed. par Y. Ozanam, H. Robert et al. P., 2002. P. 32-53; специально о Сен-Шапель см. литературу, приведенную ниже, в примем. 9.
8 Moreau-Rendu S. Le Prieure royal de Saint-Louis de Poissy. Colmar, 1968; Lalou Ё. Les abbayes fondees par Philippe le Bel // Revue Mabillon. N. S. 2. 1991. p. 143-165. P. 147 и далее (о Пуасси); Naughton J. Friars and their Books at Saint-Louis de Poissy: A Dominican Foundation for Nuns II Scriptorium. 1998. Vol. 52. P. 83-102; Eadem. Books for a Dominician Nuns’ Choir. Illustrated Liturgical Manuscripts at Saint-Louis de Poissy // The Art of the Book. Its Place in Medieval Worship / Ed. by M.M. Manion and B.J. Muir. Exeter, 1998. P. 67-110; см. также ниже примем. 43.
9 Hacker-Stick 1. La Sainte-Chapelle de Paris et les chapelles palatines du Moyen Ageen France//Cahiers arch£ologiques. 1962. Vol. 13. P. 217-257; SauerlanderW. Die Sainte-Chapelle du Palais Ludwigs des Heiligen // Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1977. S. 92-115; Simson O. von. Opere superante materiam - Zur Bedeutung der Sainte-Chapelle zu Paris // Simson O. von. Von der Macht des Bildes im Mittelalter. Gesammelte Aufsatze zur Kunst des Mittelalters / Hrsg. von Reiner Haussherr. B., 1993. S. 133-145 (статья вышла впервые в 1982 г.); Billot С. Le message spirituel et politique de la Sainte-Chapelle de Paris // Revue Mabillon. 1991. Vol. 63. P. 119-141; Eadem. Les Saintes-Chapelles royales et princieres. P., 1998; Brenk B. The Sainte-Chapelle as a Capetian Political Program // Artistic Integration in Gothic Buildings / Ed. by V. Chicffo Raguin and K. Brush. Toronto, 1995. P. 195-213; Le Goff J. Saint Louis. P., 1996. P. 140-148, passim; Le tresor de la Sainte-Chapelle. P., 2001 (каталог выставки в Париже, Лувр). Р. 96-171; Jordan A A. Visualizing Kingship in the Windows of the Sainte-Chapelle. Turnhout, 2002; Lini G. La Sainte-Chapelle, royaume de France et J£rusalem celeste (Paris, 6-8 dicembre 2001) // Studi medievali. 3. Ser. 2004. Vol. 45. P. 519-527.
10 GueroutJ. Op. cit. P. 1. P. 157-174.
11 О Большом зале см. особенно: Guerout J. Op. cit. Pt. 2. P. 128-143; Bennert U. Op. cit.
12 Шантийи. Музей Конде. Ms. 65. Fol. 6v. Об этой рукописи см.: Cazelles R., Rathofer J. Das Stundenbuch des Due de Berry. Les Tres Riches Heures. Miinchen, 1988; Les Tres Riches Heures du due de Berry et 1’enluminure en France au debut du XVe siecle. P., 2004 (каталог выставки в Шантийи, Музей Конде).
13 Даже на страницах Роскошного часослова этот комплекс зданий изображается в трех разных вариантах: отличия относятся и к расположению зданий, и к деталям их архитектурного облика. Ср.: fol. 5v (месяц май), fol. 6v (месяц июнь; здесь ил. 3) и fol. 51v (встреча трех волхвов).
14 BoutierJ. Les Plans de Paris des origines (1493) a la fin du XVIIIe siecle. Ёпк1е, carto-bibliographie et catalogue collectif. P., 2002.
15 Jean Pelerin (Viator). De Artificial! Perspektiva. Toul, 1509 [б.п.].
16 Здесь воспроизводится по копии, сделанной в 1855 г. Шарлем Мерионом с оригинала Андруэ дю Серсо; см.: Charles Meryon - Paris um 1850. Zeichnungen, Radierungen, Photographien. Frankfurt a. M., 1975. Nr. R 29 (каталог выставки во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Гааге). Об архитектурных рисунках и гравюрах дю Серсо см.: Boudon F., Couzy Н. Les plus excellents bStiments de France.
187
Une anthologie de chateaux a la fin du XVIe stecle Ц L’Information d’histoire de 1’art. 1974. P. 8-12, 103-114; введение и комментарии Дэвида Томпсона к изданию: Les Plus Excellents Bastiments de France par J.-A. du Cerceau. P., 1988 (впервые опубликовано в 1576-1579 гг.).
17 «In ilia monarchic Francorum illustrissima sede, insigne quoddam regalis mag-nificentie signum, gloriosissimum palatium constructum est. Cujus inexpugnabiles muri sunt ab invicem tante capacitatis amplitudine distantes, ut populum continere valeant infinitum. Pro indite vero recordationis honore, ydola cunctorum regum Francie, qui hactenus precesserunt, sunt ibidem adeo perfecte representationis proprietate formata, ut primitus inspiciens ipsa fere judicet quasi viva» (Jean de Jandun. Tractatus de laudibus Parisius 11 Le Roux de Lincy A., Tisserand L.-M. Paris et ses historiens aux XI Ve et XVe siecles. Documents et dcrits originaux recueillis et commentes. P., 1867. P. 32-79, особенно P. 48.
18 «Regnante Philippo, Dei gratia Rege Francorum genitoque bonae recordationis Philippi quondam Franciae regis filiique sanctissimae memoriae beatissimi Regis Franciae Ludovici (...). (Carolus-Barre L. Le visage de Saint Louis dans les gravures du XVIIe siecle inspirees du chef-reliquiaire de la Sainte-Chapelle (1306) // Les Monuments historiques de la France. N. S. Vol. 16. 1970. P. 22-30; Otavsky K. Die Sankt Wenzelskrone im Prager Domschatz und die Frage der Kunstauffassung am Hofe Karls IV. Bern; Frankfurt a. M. etc., 1992. S. 120 и далее, 169-170; Le trdsor de la Sainte-Chapelle... Nr. 43; о контексте, относящемся к культу св. Людовика, см. ниже примеч. 42.
19 Richard J.-M. Une petite-niece de Saint Louis. Mahaut, comtesse d’Artois et de Bourgogne (1302-1329). Etude sur la vie privee, les arts et I’industrie en Artois et a Paris au commencement du XlVe siecle. P., 1887. P. 331-343, passim.
20 Sommers Wright G. A Royal Tomb Program in the Reign of Saint Louis // Art Bulletin. 1974. Vol. 56. P. 224-243; Erlande-Brandenburg A. Le roi est mort. Etude sur les fundrailles, les sepultures et les tombeaux des rois de France jusqu’a la fin du Xllle siecle. Geneve, 1975. P. 81 и далее; по поводу идейного контекста см. подробно: Le GoffJ. Op. cit. P. 273-289.
21 Werner K.F. Die Legitimitat der Kapetinger und die Entstehung des Reditus regni Francorum ad Stirpem Karoli Ц Die Welt als Geschichte. 1952. Bd. 12. S. 203-225; Spiegel G.M. The Reditus Regni ad Stirpem Karoli Magni. A New Look // French Historical Studies. 1971. Vol. 7. P. 145-174; Оиепёе В. Les genealogies entre 1’histoire et la politique: La fierte d’etre Capetien, en France, au Moyen Age // Annales ESC. 1978. Vol. 33. P. 450-477; о том, какие формы выражения этот постулат преемственности находил при дворе именно Фидиппа IV, см: Brown EA.R. La gdndalogie сарё-tienne dans 1’historiographie du Moyen Age. Philippe le Bel, le reniement du reditus et la creation d’une ascendance carolingienne pour Hugues Capet // Religion et culture autour de 1’an Mil. Royaume capetien et Lotharingie / Ed. par D. logna-Prat et J.-Ch. Picard. P., 1990. P. 199-214.
22 Sauer J. Symbolik des Kirchengebaudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters. Freiburg im Breisgau, 1924. S. 134-135, 297-298, passim; Reudenbach B. Saule und Apostel. Uberlegungen zum Verhaltnis von Architektur und architekturexegetischer Literatur im Mittelalter // Fruhmittelalterliche Studien. 1980. Bd. 14. S. 310-351; Sauerlander W. Die gestorte Ordnung oder «le chapiteau historic» // Studien zur Geschichte der europaischen Skulptur im 12./13. Jahrhundert / Hrsg. von H. Beck und K. Hengevoss-Diirkop. Bde 1-2. Frankfurt a.M., 1994. S. 431-456, особенно 433—436.
23 Salet F. Les statues d’apotres de la Sainte-Chapelle conservees au musde de Cluny // Bulletin monumental. 1951. Vol. 109. P. 135-157; Sauerlander W Gotische
188
Skulptur in Frankreich 1140-1270. Munchen, 1970. S. 158-159; Bauer H. Der Apostelzyklus der Sainte-Chapelle in Paris. Studien zur Ortung eines Bildmotivs. Miinchen, 1983; Weber A. Les grandes et les petites statues d’apotres de la Sainte-Chapelle de Paris // Bulletin monumental. 1997. Vol. 155. P. 81-101; Baron F. Le decor sculptd de la Sainte-Chapelle I I La Sainte-Chapelle. L’art au temps de Saint Louis p. 40-51, особенно P. 42-47. (Dossiers d’Archdologie, 264. 2001).
24 Жан Жанден описывает королевскую капеллу как место, сходное с раем: «Sed et ilia formosissima capellarum, capella regis, infra menia mansionis regie decen-tissime situata, integerrimis et indissolubilibus solidissimorum lapidum gaudet structuris. picturarum colores electissimi, ymaginum deauratio preciosa, vitrearum circumquaque rutilantium decora pervietas, altarium venustissima paramenta, sanctuariorum virtutes mirifice, capsularum figurationes extranee gemmis adomate fulgentibus, tantam utique illi orationis domui largiuntur decoris yperbolem, ut, in earn subingrediens, quasi raptus ad celum, se non immerito unam de Paradisi potissimis cameris putet entrare» (Jean de Jandun. Op. cit. P. 46).
25 Обзор их см.: Hohenzollern J.G. von. Die Konigsgalerie der franzosischen Kathedrale. Herkunft, Bedeutung, Nachfolge. Munchen, 1965; о скульптурах в Реймсе см. также: Sauerldnder W Les statues royales du transept de Reims // Revue de Г Art. 1975. Vol. 27. P. 9-30.
26 О королевском церемониале см., в частности: Оиепёе В., Lehoux F. Les entires royales de 1328 a 1515. P., 1968; Hanley S. The «Lit de Justice» of the Kings of France. Constitutional Ideology in Legend, Ritual, and Discourse. Princeton, 1983; Jackson R.A. Vivat Rex. Histoire des sacrds et couronnements en France. P., 1984; Bryant LM. The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony. Politics, Ritual, and Art in Renaissance. Geneve, 1986; Giesey R.E. Le roi ne meurt jamais. Les obseques royales dans la France de la Renaissance. P., 1987; Brown E.A., Famiglietti R.C. The «Lit de Justice»: Semantics, Ceremonial, and the Parlement of Paris 1300-1600. Sigmaringen, 1994.
27 Carque B. Stil und Erinnerung. Franzosische Hofkunst im Jahrhundert Karls V. und im Zeitalter ihrer Deutung. Gottingen, 2004. S. 295-303.
28 Мэнневий, приходская церковь Сен-Пьер. См. Erlande-Brandenburg A. Le Tombeau de saint Louis. Appendice: Les statues de Charles V et de Jeanne de Bourbon du musee du Louvre // Bulletin monumental. 1968. Vol. 126. P. 7-36, особенно P. 17-28; Gillerman D. Op. cit. P. 118 и далее; L’Art au temps des rois maudits... Nr. 51.
29 Париж. Национальный архив. JJ 57. Fol. 20. См. также: La France de Saint Louis. P., 1970. Nr. 213 (каталог выставки в Париже, Зал жандармов Дворца Правосудия).
30 Gaborit-Chopin D. Regalia. Les instruments du sacre des rois de France. Les «Honneurs de Charlemagne». P., 1987.
31 См. выше в тексте, а также примеч. 17.
32 Niehr К. «ad vivum - al vif». Begriffs- und kunstgeschichtliche Anmerkungen zur Auseinandersetzung mit der Natur in Mittelalter und friiher Neuzeit Ц Natur im Mittelalter. Konzeptionen, Erfahrungen, Wirkungen I Hrsg. von P. Dilg. B., 2003.
• 472-487. О более общих проблемах отношения между портретом и индивидуальностью см.: Oexle O.G. Memoria und Memorialbild // Memoria. Der geschichtliche J e^n^SWert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter / Hrsg. von K. Schmid und 2U °^asch. Munchen, 1984. S. 384-440; Reudenbach B. Individuum ohne Bildnis? JJ? • Pr°bl- kiinstleri scher Ausdrucksformen von Individualist im Mittelalter I I YViduum und Individualist im Mittelalter / Hrsg. von J.A. Aertsen und A. Speer. B.;
*’ 1996. S. 807-818; Niehr K. Mimesis, Stilisierung, Fiktion in spatmittelalterlicher
189
Portratmalerei. Das sog. Gothaer Liebespaar Ц Marburger Jahrbuch ftir Kunstwissenschaft. 1998. Bd. 25. S. 79-104; Die Renaissance und die Entdeckung des Individuums in der Kunst I Hrsg. von E. Rudolph. Tubingen, 1998; The Image of the Individual. Portraits in the Renaissance / Ed. by N. Mann and L. Syson. L., 1998; Korner H. Individuum und Gruppe. Fragen nach der Signifikanz von Verismus und Stilisierung im Grabbild des 13. Jahrhunderts Ц Representation der Gruppen... S. 89-126; Portrat / Hrsg. von R. Preimesberger. B., 1999 (Geschichte der klassischen Bildgattungen in Quellentexten und Kommentaren, 2); Sommers Wright G. The Reinvention of the Portrait Likeness in the Fourteenth Century // Gesta. 2000. Vol. 39. P. 117-134; Belting H. Bild-Anthropologie. Entwiirfe ftir eine Bildwissenschaft. Munchen, 2001. S. 115-142; Schmitt J .-Cl. Le corps, les rites, les rfeves, le temps. Essais d’anthropologie mddievale. P., 2001. P. 241-262; Das Portrat vor der Erfindung des Portrats / Hrsg. von M. Buchsel und P. Schmidt. Mainz, 2003.
33 Recht R. Op. cit.
34 Об этих проблемах, тесно связанных с такими интерпретационными клише, как «Ренессанс» и «Новое время», см. ниже.
35 Lorentz Р. A propos du «realisme» flamand: La «Crucifixion du Parlement de Paris» et la porte du beau roi Philippe au Palais de la Cite // Cahiers de la Rotonde. 1998. Vol. 20. P. 101-124; Idem. La crucifixion du Parlement de Paris. P., 2004.
36 Guerout J. Op. cit. Pt. 2. P. 87-93.
37 Возвышающиеся наподобие башен окна мансарды сделаны, напротив, только при Иоанне II, ок. 1350-1355 гг.
38 Whiteley М. Deux escaliers royaux du XlVe siecle. Les «grands degrez» du Palais de la Cit6 et la «grands viz» du Louvre // Bulletin monumental. 1989. Vol. 147. P. 133-154.
39 Под этим названием они известны в сохранившихся источниках с XV в., см.: Guerout J. Op. cit. Pt. 2. P. 88.
40 Favier J. Un conseiller de Philippe le Bel: Enguerran de Marigny. P., 1963; Gillerman D. Op. cit.
41 Об истории этого монастыря см.: Folz R. La saintete de Louis IX d’apres les textes liturgiques de sa fete // Revue d’histoire de 1’Eglise de France. 1971. Vol. 57. P. 31-45; Idem. Les saints rois du Moyen Age en Occident (VIe-XIIIe siecles). Bruxelles, 1984. P. 137-172, passim; Brown EAJL Philippe le Bel and the Remains of Saint Louis // Gazette des Beaux-Arts. 1980/81. P. 175-182; Eadem. The Chapels and Cult of St. Louis at St. Denis // Mediaevalia. 1984. Vol. 10. P. 279-331; Hallam EM. Philip the Fair and the Cult of Saint Louis // Studies in Church History. 1982. Vol. 18. P. 201-214; Beaune C. Naissance de la nation France. P., 1985. P. 126-164; Lewis A.W. Le sang royal. La famille capetienne et 1’Etat, France, Xe-XIVe siecle. P., 1986. P. 122-148 (английский оригинал вышел в 1981 г.); Gaposchkin М.С. Ludovicus Decus Regnantium: The Liturgical Office for Saint Louis and the Ideological Program of Philip the Fair // Majestas. 2002. Vol. 10. P. 27-89.
42 Carolus-Barre L. Le proces de canonisation de saint Louis (1272-1297). Essai de reconstitution. Rome; P., 1994.
43 Об этом монастыре см. выше примеч. 8; об архитектурном облике и убранстве монастырского храма см.: Erlande-Brandenburg A. La priorale Saint-Louis de Poissy // Bulletin monumental. 1971. Vol. 129. P. 85-112; Idem. A propos d’une tete d’ange provenant de la priorale de Saint-Louis de Poissy // Hommage a Hubert Landais. Art, objets d’art, collections. P., 1987. P. 36-38; Idem. Statues d’anges provenant de la priorale Saint-Louis de Poissy // Fondation Eugene Piot. Monuments et Memoires. 1988. Vol. 69. P. 43-60; Sauerlander W Storicismo e classicismo nel Gotico settentrionale intomo al 1300 // Roma anno 1300 / A cura di A.M. Romanici. Roma, 1983. P. 861-873,
190
особенно Р. 862-863; Schatz aus den Triimmem. Der Silberschrein von Nivelles und die europaische Hochgotik I Hrsg. von H. Westermann-Angerhausen. Koln, 1996 (Каталог выставки в Кёльне, в церкви Св. Цецилии, и в Париже, в Национальном музее Средних веков - Термах Клюни). Nr. 2, 6-8; Huchard V., Gaborit J.-R. LeS «Anges de Poissy» // Revue du Louvre. 1998. Vol. 48. P. 29-40; L’Art au temps des rois rnaudits... Nr. 40-43; Davis M.T Les visages du roi... P. 186 и далее; Recht R. Le gout de 1’omement vers 1300 // 1300... 1’Art au temps de Philippe le Bel... P. 149-161, особенно P. 156-157.
44 Carque B. Stil und Erinnerung. S. 524 и далее.
45 Viollet-le-Duc E.-E. Gant // Viollet-le-Duc E.-E. Dictionnaire raisonne du mobilier frangais de Fepoque carlovingienne a la Renaissance. T. 3. P. 395-400; Schwinekoper B. Der Handschuh im Recht, Amterwesen, Brauch und Volksglauben. B., 1938.
46 Schwarz M.V. Op. cit. S. 92-93; Gillerman D. Op. cit. P. 139-142.
47 Вплоть до десятилетий рубежа XIII-XIV вв. принципиальная ориентация на прошлое составляла весьма характерную черту монументальной пластики, задача которой состояла прежде всего в обеспечении поминовения изобразительными средствами. Поэтому наряду с фигурами библейских персонажей и святых к спектру ее обычных тем относились мемориальные изображения - основателей храмов и вкладчиков в них, а также лиц, в них погребенных. Об этих изобразительных задачах см., например: Oexle O.G. Op. cit.; Idem. Memoria als Kultur I I Memoria als Kultur / Hrsg. von O.G. Oexle. Gottingen, 1995. S. 9-78; Sauer C. Fundatio und Memoria. Stifter und Klostergriinder im Bild, 1100 bis 1350. Gottingen, 1993; Grabmaler. Tendenzen der Forschung an Beispielen aus Mittelalter und friiher Neuzeit I Hrsg. von W. Maier, XV. Schmid et al. B., 2000; Michalsky T. Op. cit.; Horch C. Der Memorialgedanke und das Spektrum seiner Funktionen in der Bildenden Kunst des Mittelalters. Konigstein im Taunus, 2001; Albrecht S. Die Inszenierung der Vergangenheit im Mittelalter. Die Kloster von Glastonbury und Saint-Denis. Munchen; B., 2003.
48 Gillerman D. Op. cit. P. 134-144; L’Art au temps des rois maudits... Nr. 52-56; Hauser N.M. Op. cit. P. 73-80.
49 Об этом см. ниже и ил. 17.
50 Himmelein V. Das Portal der Kartause von Champmol. Diss. Phil. Tubingen, 1966; Morand K. Claus Sluter. Artist at the Court of Burgundy. L., 1991. P. 79-85, 314-320; Lindquist Sh.Ch. Patronage, Piety and Politics in the Art and Architectural Programs at the Chartreuse de Champmol in Dijon. Ann Arbor, 1996. P. 35-40, 320-327; Prochno R. Die Kartause von Champmol. Grablege der burgundischen Herzoge 1364-1477. B., 2002. S. 22-45; L’art a la cour de Bourgogne. Le mecenat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, 1364—1419 P., 2004 (каталог выставки в Дижоне, Музей изящных искусств, и в Кливленде, Художественный музей). Р. 175-178.
51 Поэтому осталось по сути дела незамеченным, сколь длительное и сильное влияние оказывали пример и образец Филиппа IV на протяжении всего XIV в.; о его воздействии, в частности, на придворное искусство Карла V см.: torque В. Stil und Erinnerung. S. 514—543.
52 «Mais en meme temps que l’id£al du XHIe siecle va s’affaiblissant et se subti-lSant, (...) on assiste a I’elaboration d’un ordre nouveau. Les sculpteurs cherchent pro-gressivcment dans la nature individuelle, dans le portrait, les directions et la certitude 4U une doctrine moins vivante et des traditions d’atelier surannees sont desormais ,rnpuissantes a leur foumir. (...) De la France de saint Louis a celle de Charles V, on dirait une revolution s’est faite; c’est ce que Courajod appelait le commencement de la
191
«Renaissance septentrionale», fran^aise ou franco-flamande. Quelque chose a pris fin et quelque chose de tres different, sinon de contraire, a commence (...)» (Michel A. La sculpture en France et dans les pays du nord jusqu’au dernier quart du XIVe siecle, lere partie: La sculpture en France // Histoire de 1’art depuis les premiers temps chr£tiens jusqu’a nos jours / Ё6. par A. Michel. T. 1-18. P., 1905-1929; см. T. 2. Pt. 2. P. 681-722, особенно 683; Этот нарратив развивается в т. 2 («Formation, expansion et Evolution de Г Art Gothique») и т. 3 («Le Realisme. Les Ddbuts de la Renaissance»).
53 Michel A. Louis Courajod // Gazette des Beaux-Arts. 3ieme sdr. N 2. 1896. P. 203-217; Un combat pour la sculpture. Louis Courajod (1841-1896), historien d’art et conservateur I Ё6. par G. Bresc-Bautier. P., 2003.
54 1 882-1932: Е’Ёсо1е du Louvre / Ёd. par H. Verne. P., 1932; Therrien L. L’Histoire de 1’art en France. Genese d’une discipline universitaire. P., 1998. P. 169-216.
55 Courajod L. Legons professdes а 1’Ёсо1е du Louvre (1887-1896) / Ёd. par H. Lemonnier et A. Michel. T. 1-3. P., 1899-1903; см. T. 2 «Origines de la Renaissance»; кроме того см.: Idem. Les origines de la Renaissance en France au XlVe et au XVe siecle. P., 1888; Idem. La part de la France du Nord dans 1’oeuvre de la Renaissance. P., 1890.
56 О характерных чертах этого образа и сомнительности карьеры, сделанной им в академических кругах, см.: Carque В. Stil und Erinnerung. S. 216-224, 321-365; однако то, что он упорно продолжает оказывать сильное воздействие на исследователей, доказывают следующие работы: Snyder J. Northern Renaissance Art. N.Y., 1985; Klotz H. Der Stil des Neuen. Die europaische Renaissance. Stuttgart, 1997; Belozerskaya M. Rethinking the Renaissance. Burgundian Arts Across Europe. Cambridge, 2002; Smith J.Ch. The Northern Renaissance. N.Y. etc., 2004.
57 Therrien L. Op. cit.; Carque B. Stil und Erinnerung. S. 32—4-2.
58 О трудностях, возникающих при попытках применить эту эволюционную объяснительную модель к придворному искусству Филиппа IV и фону, на котором оно возникало, см.: Sauerlander W. Storicismo е classicismo; Suckale R. Reflexions; Carque B. Begnadete Kiinstler, verfluchte Konige?
59 См. обобщающие работы: Genese de 1*Ё1а1 modeme. Prelevement et redistribution I Ё6. par J.-P. Genet et M. Le Mend. P., 1987; L^tat modeme: genese. Bilans et perspectives / Ёd. par J.-Ph. Genet. P., 1990; The Origins of the Modern State in Europe: 13th to 18th Centuries I Ed. by W. Blockmans and J.-Ph. Genet. Bde. 1-7. Oxford, 1995-2000; см. кроме того: Strayer J.R. On the Medieval Origins of the Modem State. Princeton, 1970; Mollat M. Genese medidvale de la France modeme XlVe-XVe siecle. P., 1977; Е’Ё1а1 ou le roi. Les fondations de la modernite monarchique en France (XlVe-XVIIe siecles) / Ё6. par N. Bulst, R. Descimon et al. P., 1996.
60 О современном образе Филиппа IV и его правления см.: Favier J. Philippe le Bel. P., 1978; Strayer J.R. The Reign of Philipp the Fair. Princeton, 1980; Menache S. Philippe le Bel - genese d’une image // Revue beige de philologie et d’histoire. 1984. Vol. 62. P. 689-702; Lewis A.W. Op. cit. P. 177-196; Brown E.A.R. The Case of Philip the Fair (Persona et Gesta: The Image and Deeds of the Thirteenth-Century Capetians, 3) // Viator. 1988. Vol. 19. P. 219-246; Poirel D. Philippe le Bel. P., 1991; Krynen J. L’Empire du roi. Idees et croyances politiques en France XIIIe-XVe siecles. P., 1993. Passim.
61 Michelet J. (Euvres completes I Ёd. par P. Viallaneix. T. 5. P., 1975. P. 54—146, особенно P. 55, 58, 141, passim. Об образах Средневековья и предвосхищении Ренессанса в труде Ж. Мишле см.: Le Goff J. Michelet et le Moyen Age, aujour-d’hui // Michelet J. Op. cit. P., 1974. T. 4. P. 45-63; Febvre L. Michelet et la
192
Renaissance. P., 1992; Bullen J.B. The Myth of the Renaissance in Nineteenth-Century Writing. Oxford, 1994. P. 156-182; Richer L. La cath£drale de feu. Le Moyen Age de Michelet, de 1’histoire au mythe. Angers, 1995.
62 Ranke L. v. Franzosische Geschichte. vomehmlich im sechzehnten und siebzehn-ten Jahrhundert. Bd. 1 // Leopold von Ranke’s Sammtliche Werke. Leipzig, 1876. Bd. 8. S. 32, 34 (работа вышла впервые в 1852 г.)
63 Amalvi С. De l’art et la manure d’accommoder les heros de 1’histoire de France. Essais de mythologie nationale. P., 1988. P. 41, passim; Idem. Le goiit du Moyen Age. P., 1996. P. 115-118; об образах «проклятых королей» см. также: Carque В. Begnadete Kiinstler... S. 71 и далее.
64 Levis Mirepoix A.P.d. Le siecle de Philippe le Bel. P., 1954; Druon M. Les rois maudits. T. 1-7. P., 1955-1977; Bordonove G. Philippe le Bel. Roi de fer. P., 1984.
65 Digard G. Philippe le Bel et le Saint-Siege de 1285 a 1304. P., 1936. T. 2. P. 49-104.
66 Dupuy P. Histoire du differend d’entre le pape Boniface VIII. et Philippes le Bel, Roy de France. P., 1655. P. 657; сходно также и P. 648, 658; формулировку, использованную в качестве заголовка для данной статьи (non erat homo, пес bestia, sed imago), см. на Р. 632.
67 Finke Н. Zur Charakteristik Philipps des Schonen // Mitteilungen des Instituts fur osterreichische Geschichtsforschung. Bd. 26. 1905. S. 201-224, особенно S. 209-210; Wenck K. Philipp der Schone von Frankreich: seine Personlichkeit und das Urteil der Zeitgenossen. Marburg, 1905. Passim.
68 О таком смысле слова «imago» - как раз противопоставляемом изображению существующих в природе людей - см.: Hartwig D. Der Wortschatz der Plastik im franzosischen Mittelalter. Diss. Phil. Wurzburg, 1936. S. 16.
69 Weise G. Die geistige Welt der Gotik und ihre Bedeutung fiir Italien. Halle, 1939. S. 38-227, passim, особенно S. 435 и далее; Wettstein J. «Mezura». L’ideal des Troubadours, son essence et ses aspects. Zurich, 1945; Margoni I. Fin’amore, mezura e cortezia. Saggio sulla lirica provenzale del XII secolo. Milano, 1965; о «maze» в землях немецкого языка см. Витке J. Hofische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. Munchen, 1986. Bd. 2. S. 381-503, passim; также см. о более широком контексте: Berges W Die Fiirstenspiegel des hohen und spaten Mittelalters. Stuttgart, 1938; RoloffV Reden und Schweigen. Zur Tradition und Gestaltung eines mittelalterlichen Themas in der franzosischen Literatur. Munchen, 1973; Krynen J. Iddal du Prince et pouvoir royal en France a la fin du Moyen Age (1380-1440). Etude de la literature politique du temps. P., 1981; Jaeger Ch.St. The Origins of Courtliness. Civilizing Trends and the Formation of Courtly Ideals 939-1210. Philadelphia, 1985; Scaglione A.D. Knights at Court. Courtliness, Chivalry, and Courtesy from Ottoman Germany to the Italian Renaissance. Berkeley, 1991; Lemaire J. Les visions de la vie de cour dans la litterature fran^aise de la fin du Moyen Age. Bruxelles; P., 1994.
70 Beaune C. Op. cit. P. 141 и далее; Menache S. Op. cit.; Brown E.A.R. The Case of Philip the Fair; Le Goff J. Saint Louis. P. 842 и далее.
71 Lecoy de la Marche A. Saint Louis, sa famille et sa cour d’apres les anecdotes contemporaines // Revue des questions historiques. 1877. Vol. 22. P. 465-484; Le Goff J- Saint Louis. P. 595-641.
72 Suckale R. Reflexions. P. 39-40, passim.
73 Erlande-Brandenburg A. Le roi est mort. Nr. 100; L’Art au temps des rois maudits... Nr. 28.
74 Erlande-Brandenburg A. Le roi est mort. Nr. 75; об этом ансамбле см. выше в тексте и примеч. 20.
13 Образы власти...
193
75 Suckale R. Studien zu Stilbildung und Stilwandel der Madonnenstatuen der Ile-de-France zwischen 1230 und 1300. Diss. Phil. Munchen, 1971. S. 64 и далее; Suckale R., Kimpel D. Die Skulpturenwerkstatt der Vierge Doree am Honoratusportal der Kathedrale von Amiens // Zeitschrift fur Kunstgeschichte. 1973. Bd. 36 S. 217-265; Hauser N.M. Op. cit. P. 26-32.
76 Suckale R. Studien. S. 99 и далее; Kimpel D. Die Querhausarme von Notre-Dame in Paris und ihre Skulpturen. Diss. Phil. Bonn, 1971. S. 107-108, 127 и далее; Hauser NjM. Op. cit. P. 24 и далее.
77 Suckale R. Studien. S. 95-98; Baron F. Op. cit. P. 41-42.
78 Suckale R. Studien. S. 109 и далее; Gaborit-Chopin D. La Vierge a 1’Enfant d’ivoire de la Sainte-Chapelle // Bulletin monumental. Vol. 130. 1972. P. 213-224; Le trdsor de la Sainte-Chapelle... Nr. 39.
79 Suckale R. Studien. S. 175 и далее; Gillerman D. Op. cit. P. 114 и далее, а также Nr. 1; Hauser N.M. Op. cit. P. 77-80; о портале этой церкви см. выше в тексте и примеч. 48.
80 Didier R. Contribution a l’£tude d’un type de Vierge franchise du XlVe siecle. A propos d’une rdplique de la Vierge de Poissy a Herresbach // Revue des archeologues et historiens d’art de Louvain. 1970. Vol. 3. P. 48-72; Suckale R. Reflexions. P. 39 и далее.
81 Так звучит формула, отчеканенная Ж. Мишле в 1855 г. в седьмом томе (озаглавленном «Ренессанс») его «Истории Франции» и сделавшаяся популярной в странах немецкого языка благодаря использованию ее Якобом Буркхард-том; Michelet J. Histoire de France VII: Renaissance // Michelet J. (Euvres competes. P., 1978. T. 7. P. 47-259, особенно P. 51: («la d6couverte du monde, la d6couverte de 1’homme»); курсы лекций «Ренессанс» и «Вечный Ренессанс», прочитанные в Коллеж де Франс в 1840 и 1841 гг. и определившие содержание данного понятия, см.: Idem. Cours au College de France I £d. par P. Viallaneix. P., 1995. T. 1. P. 341-464; по поводу представлений Мишле о «temps modemes» см. выше в тексте вместе с примеч. 61. См. также: Burckhardt J. Die Kultur der Renaissance in Italien Ц Gesamtausgabe / Hrsg. von W. Kaegi. Stuttgart; B. etc., 1930. Bd. 5. S. 202-256; о концепции «Ренессанса» у Я. Буркхардта см.: Ferguson W.K. The Renaissance in Historical Thought. Cambridge (Mass.), 1948. P. 179-252; Janssen E.M. Jacob Burckhardt und die Renaissance. Assen, 1970.
82 Sommer C. Die Anklage der Idolatrie gegen Papst Bonifaz VIII. und seine Portratstatuen. Diss. Phil. Freiburg im Breisgau, 1920; Schmidt T. Papst Bonifaz VIII. und die Idolatrie // Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. 1986. Bd. 66. S. 75-107.
83 О процессе против Бернара Сэссе см. выше в тексте и примеч. 65; источники к истории «querelle bonifacienne» см. в работе: Dupuy Р. Op. cit., а также: Boniface VIII en proces. Articles d’accusation et d6positions des temoins I Ed. par J. Coste. Rome, 1995; из многочисленных исследований на эту тему см., например: Renan Е. Etudes sur la politique religieuse du regne de Philippe le Bel. P., 1899; Digard G. Op. cit.; Schmidt T. Der Bonifaz-ProzeB. Verfahren der Papstanklage in der Zeit Bonifaz’ VIII. und Clemens’ V. Koln; Wien, 1989; специально о публицистике см. также: Finke Н. Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen. Munster, 1902; Scholz R. Die Publizistik zur Zeit Bonifaz’ VIII. und Philipps des Schonen von Frankreich. Stuttgart, 1903; Wieruszowski H. Vom Imperium zum nationalen Konigtum. Vergleichende Studien iiber die publizistischen Kampfe Kaiser Friedrichs И. und Konig Philipps des Schonen mit der Kurie. Miinchen, 1933; Kampf H. Pierre Dubois und die geistigen Grundlagen des ffanzdsischen NationalbewuBtseins um 1300. Leipzig; B., 1935; Krynen J. L’Empire du roi. P. 85-109; Three Royalist Tracts, 1296-1302:
194
«Antequam essent clerici»; «Disputatio inter Clericum et Militem»; «Quaestio in utramque partem» / Ed. by R.W. Dyson. Bristol, 1999.
84 «... fecit imagines suas argenteas erigi in ecclesiis per hoc homines ad idolola-trandum inducens» (Dupuy P. Op. cit. P. 331.)
85 Ibid.
86 Probst-Biraben J.H., Molte-Capron A.M. de la. Les idoles des chevaliers du Temple I I Mercure de France. 1939. Nr. 294. P. 569-590; Barber M. The Trial of the Templars. Cambridge; L. etc., 1978. P. 178-192; Idem. The New Knighthood. A History of the Order of the Temple. Cambridge; N.Y., 1995; Demurger A. Die Templer. Aufstieg und Untergang 1118-1314. Munchen, 1991. S. 241-261; (исходное французское издание вышло в 1989 г.) Camille М. Op. cit. Р. 271-281; HergemollerB.-U. KrotenkuB und schwarzer Kater. Ketzerei, Gotzendienst und Unzucht in der inquisitorischen Phantasie des 13. Jahrhunderts. Warendorf, 1996. S. 330-405, passim.
87 Eubel K. Vom Zaubereiunwesen anfangs des 14. Jahrhunderts // Historisches Jahrbuch. 1897. Bd. 18. S. 608-632; Hansen J. Zauberwahn, Inquisition und HexenprozeB im Mittelalter und die Entstehung der groBen Hexenverfolgung. Munchen, 1900. S. 212-398, passim; Idem. Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter. Bonn, 1901. S. 3-8; Kieckhefer R. European Witch Trials. Their Foundations in Popular and Learned Culture, 1300-1500. L., 1976. P. 10-26, 106-147; в качестве основных исследований по практикам, характерным для колдовства с применением изображений, см. многочисленные работы В. Брюкнера: Bruckner W. Volkskunde als historische Kulturwissenschaft. Gesammelte Schriften. Bd. 9: Kulturtechniken. Nonverbale Kommunikation, Rechtssymbolik, Religio camalis. Wurzburg, 2000; Idem. Bildnis und Brauch. Studien zur Bildfunktion der Effigies. B., 1966. S. 188 и далее, 194—205; см., кроме того: Pfister F. Bild und Bildzauber // Handworterbuch des deutschen Aberglaubens / Hrsg. von H. Bachtold-Staubli und E. Hoffmann-Krayer. B.; Leipzig, 1927. Bd. 1. Sp. 1282-1298.
88 Подробно об этом арсенале см.: Hergemoller B.-U. Op. cit.; Camille M. Op. cit.
89 О теологических параметрах изображения в контексте визуальной культуры Средневековья см., помимо прочего: Schmitt J.-Cl. L’Occident, Nicee II et les images // Nicee II, 787-1987. Douze sidcles d’images religieuses / Ёd. par N. Lossky et F. Boespflug. P., 1987. P. 271-301; Idem. Vom Nutzen Max Webers fiir den Historiker und die Bilderfrage // Max Webers Sicht des okzidentalen Christentums I Hrsg. von W. Schluchter. Frankfurt a. M., 1988. S. 184-228; Idem. La culture de Г imago II Annales HSS. 1996. P. 3-36; Idem. Normen fiir die Produktion und Verwendung von Bildem im Mittelalter // Prozesse der Normbildung und Normveranderung im mittelalterlichen Europa I Hrsg. von D. Ruhe und K.-H. Spiess. Stuttgart, 2000. S. 5-26; Idem. Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age. P., 2002; Wirth J. L’image nt^dievale. Naissance et developpements (VIe-XVe siecle). P., 1989; Idem. L’image a I’epoque romane. P., 1999. P. 27-59, passim; Idem. Soli man Bilder anbeten? Theorien zum Bilderkult bis zum Konzil von Trient // Bildersturm. Wahnsinn oder Gottes Wille? I Hrsg. von C. Dupeux, P. Jezler et al. Ziirich; Miinchen. 2000 (Каталог выставки в Берне, Исторический музей, и Страсбурге, Музей Нотр-Дам). S. 28-37; Belting Н. Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. Miinchen, 1990; L’image. Fonctions et usages des images dans Г Occident medieval / Hd. par J. Baschet et J.-Cl. Schmitt. P., 1996; Lanczkowski G., Loewenich W von et al. ilder // Theologische Realenzyklopadie / Hrsg. von. G. Muller, H. Balz et al. B., 1980. d. 6. S. 515-568; в межкультурной перспективе см. также: Kohl K.-H. Die Macht er ^inge. Geschichte und Theorie sakraler Objekte. Munchen, 2003.
195
90 Из литературы о культовых изображениях и практиках почитания изображений см., наряду с указанной в примеч. 89, например, следующие работы: Decker В. Das Ende des mittelalterlichen Kultbildes und die Plastik Hans Leinbergers. Bamberg, 1985. S. 58-113; Camille M. Op. cit.; Freedberg D. The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response. Chicago; L., 1989; WolfG. Salus populi romani. Die Geschichte romischer Kultbilder im Mittelalter. Weinheim, 1990; Vauchez A. L’image vivante: quelques reflexions sur les fonctions des representations iconographiques dans le domaine religieux en Occident aux demiers siecles du Moyen Age // Biedni i bogaci. Studia z dziejow spoleczeristwa i kultury. Ofiarowane Bronislawowi Geremekowi. Warszawa, 1992. S. 231-241; The Art of Devotion in the Late Middle Ages in Europe, 1300-1500 / Ed. by H. van Os et al. Amsterdam; L., 1994 (каталог выставки в Амстердаме, Рейксмузеум); Angenendt A. Heilige und Reliquien. Munchen, 1994; Legner A. Reliquien in Kunst und Kult. Darmstadt, 1995; Reudenbach B. Reliquiare als Heiligkeitsbeweis und Echtheitszeugnis. Grundzuge einer problematischen Gattung // Vortrage aus dem Warburg-Haus. 2000. Bd. 4. S. 1-36; Spiegel der Seligkeit. Privates Bild und Frommigkeit im Spatmittelalter / Hrsg. von G.U. Grossmann. Niimberg, 2000 (каталог выставки в Нюрнберге, Германский национальный музей); Rahmen-Diskurse. Kultbilder im konfessionellen Zeitalter / Hrsg. von D. Ganz und G. Henkel. B., 2004; специально о вотивных изображениях и особенностях их использования см.: Beissel S. Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland wahrend des Mittelalters. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte. Freiburg im Breisgau, 1909; Forsyth I.H. The Throne of Wisdom. Wood Sculptures of the Madonna in Romanesque France. Princeton, 1972. P. 31-60; Kriss-Rettenbeck L. Ex voto. Zeichen, Bild und Abbild im christlichen Votivbrauchtum. Zurich, 1972; Gussone N. Kronung von Bildem // Jahrbuch fiir Volkskunde. 1987. Bd. 10. S. 151-164; Spangenberg P.-M. Maria ist immer und uberall. Die Alltagswelten des spatmittelalterlichen Mirakels. Frankfurt a. M., 1987. S. 89-94, 158-162, passim; Freedberg D. Op. cit. P. 82-160; Trexler R. C. Der Heiligen neue Kleider. Eine ana-lytische Skizze zur Be- und Entkleidung von Statuen Ц Gepeinigt, begehrt, vergessen. Symbolik und Sozialbezug des Korpers im spaten Mittelalter und in der friihen Neuzeit I Hrsg. von K. Schreiner und N. Schnitzler. Munchen, 1992. S. 365-402; Schreiner K. Maria. Jungfrau, Mutter, Herrscherin. Miinchen; Wien, 1994. S. 211-293; Dunninger H. Wallfahrt und Bilderkult. Gesammelte Schriften / Hrsg. von W. Bruckner, J. Lenssen et al. Wurzburg, 1995; Signori G. Maria zwischcn Kathedrale, Kloster und Welt. Hagiographische und historiographische Annaherungen an eine hochmittelalterliche Wunderpredigt. Sigmaringen, 1995. S. 90-91, 258-262, passim; Wirth J. Une Vierge gothique strasbourgeoise ou les tribulations d’une image de culte Ц Cahiers alsaciens d’archeologie, d’art et d’histoire. 1998. Vol. 41. P. 93-104.
91 Bildersturm. Die Zerstorung des Kunstwerks / Hrsg. von M. Wamke. Munchen, 1973; Bredekamp H. Kunst als Medium sozialer Konflikte. Bilderkampfe von der Spatantike bis zur Hussitenrevolution. Frankfurt a. M., 1975; Freedberg D. Op. cit. P. 378—428; Bilder und Bildersturm im Spatmittelalter und in der friihen Neuzeit / Hrsg. von B. Scribner. Wiesbaden, 1990; L’Idolatrie. Rencontres de ГЁсо1е du Louvre. P., 1990; Besangon A. L’image interdite. Une histoire intellectuelle de 1’iconoclasme. P., 1994; Schnitzler N. Ikonoklasmus - Bildersturm. Theologischer Bilderstreit und ikono-klastisches Handeln wahrend des 15. und 16. Jahrhunderts. Munchen, 1996; Bildersturm. Wahnsinn oder Gottes Wille? S. 316-345, Nr. 153-173; Images, Idolatry, and Iconoclasm in Late Medieval England. Textuality and the Visual Image / Ed. by J. Dimmick, J. Simpson et al. Oxford, 2002; Macht und Ohnmacht der Bilder. Reformatorischer Bildersturm im Kontext der europaischen Geschichte / Hrsg. von P. Blickle et al. Munchen, 2002 (Historische Zeitschrift, Beih. 33).
196
92 Dinzelbacher P Die «Realprasenz» der Heiligen in ihren Reliquiaren und Grabem nach mittelalterlichen Quellen // Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart I Hrsg. von P. Dinzelbacher und D.R. Bauer. Ostfildern, 1990. S. 115-175, особенно S. 124 и далее; Angenendt A. Der Heilige: auf Erden - im Himmel // Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter I Hrsg. von J. Petersohn. Sigmaringen, 1994. S. П-52.
93 Schmidt T. Papst Bonifaz VIII.
94 О нем см.: Braun J. Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Ent wicklung. Bde 1-2. Munchen, 1924; Idem. Das christliche Altargerat in seinem Sein und in seiner Entwicklung. Munchen, 1932; Steinmetz A.S. Das Altarretabel in der altniederlandischen Malerei. Untersuchungen zur Darstellung eines sakralen Requisits vom friihen 15. bis zum spaten 16. Jahrhundert. Worms, 1995; Fuchss V. Das Altarensemble. Eine Analyse des Kompositcharakters friih- und hochmittelalterlicher Altarausstattung. Weimar, 1999; специально о статуэтках см.: Liidke D. Die Statuetten der gotischen Goldschmiede. Studien zu den «autonomen» und vollrunden Bildwerken der Goldschmiedeplastik und den Statuettenreliquiaren in Europa zwischen 1230 und 1530. Bde 1-2. Munchen, 1983.
95 Основополагающим исследованием об изображениях Бонифация VIII является: Ladner G.B. Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters. Citta del Vaticano, 1970. Bd. 2. P. 285-340; помимо него см.: Hager W. Die Ehrenstatuen der Papste. Leipzig, 1929; Butzek M. Die kommunalen Reprasentationsstatuen der Papste des 16. Jahrhunderts in Bologna, Perugia und Rom. Bad Honnef, 1978. S. 43 и далее; Gardner J. Boniface VIII as a Patron of Sculpture I I Roma anno 1300... P. 513-522; Rash N. Boniface VIII and Honorific Portraiture. Observations on the Halflength Image in the Vatican I I Gesta. 1987. Vol. 26. P. 47-58; Paravicini Bagliani A. Der Leib des Papstes. Eine Theologie der Hinnfalligkeit. Munchen, 1997. P. 207-224 (первое издание на итальянском языке вышло в 1994 г.); D’Achille A.M. La tomba di Bonifacio VIII e le immagini scolpite del papa // La storia dei giubilei. T. 1: 1300-1423. Roma, 1997. P. 224-237; Urciuoli S. La statua di Bonifacio VIII ad Anagni tra auten-ticita e restauro // Arte medievale. Ser. 2. Vol. 14. 2000. P. 139-153.
96 О разнообразных аспектах этих установок, основанных более всего на отрицании антропоцентризма античной культуры и ее трехмерной телесной пластичности, см.: Camille М. Op. cit.; Hinz В. Statuenliebe. Antiker Skandal und mit-telalterliches Trauma // Marburger Jahrbuch ftir Kunstwissenschaft. 1989. Bd. 22. S. 135-142; Gramaccini N. Mirabilia. Das Nachleben antiker Statuen vor der Renaissance. Mainz, 1996. S. 17-73; Wiegartz V Antike Bildwerke im Urteil mittelal-terlicher Zeitgenossen. Weimar, 2004.
97 «Item probabitur manifeste, quod non solum in ecclesiis, sed etiam extra eccle-sias, quod magis ad inducendum idololatriam eum habuisse animum suspicione inducit, et in portis civitatum, et super eas, ubi antiquitus consueverunt idola esse, suas imagines marmoreas erigi fecit (...)» (Dupuy P. Op. cit. P. 331).
98 «...qui fecit sibi fieri monumentum et ymaginem supra petram sicut esset viva». Ladner G.B. Op. cit. S. 302-317; Maccarrone M. Il sepolcro di Bonifacio VIII nella Basilica Vaticana Ц Roma anno 1300... P. 753-771; Borgolte M. Petrusnachfolge und Kaiserimitation. Die Grablegen der Papste, ihre Genese und Traditionsbildung. Gottingen, 1995. S. 227-231; в связи co статуями Бонифация VIII см. также: Gardner J. Op. cit.; D’ Achille A.M. Op. cit.
99 Ladner G.B. Op. cit. S. 96-302.
10° Forsyth I.H. Op. cit. P. 40 и далее, 67 и далее, 78-79, passim; Taralon J. La Hiajeste d’or de Sainte-Foy du tresor de Conques Ц Revue de 1’art. 1978. Vol. 40/41. B. 9-22; Taralon J., Taralon-Carlini D. La Majeste d’or de Sainte Foy de Conques // Bulletin monumental. 1997. Vol. 155. P. 11-73; Dahl E. Heavenly Images. The Statue
197
of St. Foy of Conques and the Signification of the Medieval «Cult-Image» in the West // Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia. 1978. Vol. 8. P. 175-191; Wirth J. L’image medieval... P. 171-194; Gaborit-Chopin D. Le tresor de Conques, Aveyron. La Majeste de sainte Foy de Conques // Monumental. 2003. P. 98-103.
101 См. много сходных примеров: Forsyth I.H. Op. cit. Nr. 31.
102 La France romane au temps des premiers Capetiens (987-1152). P., 2005 (каталог выставки в Париже, в Лувре). Nr. 292, сходно также Nr. 293-295.
103 О ранней истории этого типа изображений см.: Paatz W. Von den Gattungen und vom Sinn der gotischen Rundfigur. Heidelberg, 1951; Keller H. Zur Entstehung der sakralen Vollskulptur in der ottonischen Zeit Ц Festschrift fiir Hans Jantzen. B., 1951. S. 71-90; Beutler C. Bildwerke zwischen Antike und Mittelalter. Unbekannte Skulpturen aus der Zeit Karls des GroBen. Dusseldorf, 1964; Idem. Statua. Die Entstehung der nachantiken Statue und der europaische Individualismus. Miinchen, 1982.
104 Обзор мест размещения пластики в экстерьере церковных зданий см.: Sauerlander W. Gotische Skulptur.
105 Ehresmann D.L. Some Observations on the Role of Liturgy in the Early Winged Altarpiece // The Art Bulletin. 1982. Vol. 64. P. 359-369; Laabs A. Das Retabel als «Schaufenster» zum gottlichen Heil. Ein Beitrag zur Stellung des Fliigelretabels im sakralen Zeremoniell des Kirchenjahres Ц Marburger Jahrbuch fiir Kunstwissenschaft. 1997. Bd. 24. S. 71-86; Suckale R. Der mittelalterliche Kirchenbau im Gebrauch und als Ort der Bilder // Goldgrund und Himmelslicht. Die Kunst des Mittelalters in Hamburg / Hrsg. von U.M. Schneede. Hamburg, 1999 (каталог выставки в Гамбурге, Кунст-халле). S. 15-25; Reudenbach В. Der Altar als Bildort. Das Fliigelretabel und die litur-gische Inszenierung des Kirchenjahres I I Ibid. S. 26-33; Idem. Wandlung als symboli-sche Form. Liturgische Beziige im Fliigelretabel der St. Jacobi-Kirche in Gottingen // Das Hochaltarretabel der St. Jacobi-Kirche in Gottingen / Hrsg. von B. Carque und H. Rockelein. Gottingen, 2005. S. 249-272; Wolf N. Deutsche Schnitzretabel des 14. Jahrhunderts. B., 2002. S. 341-376; см. кроме того: Kunst und Liturgie im Mittelalter / Hrsg. von N. Bock. Munchen, 2000 (Romisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, 33. 1999/2000); Bildlichkeit und Bildorte von Liturgie / Hrsg. von R. Warland. Wiesbaden, 2002; Art, ceremonial et liturgie au Moyen Age I £d. par N. Bock. Rome, 2002; Kunst und Liturgie. Choranlagen des Spatmittelalters / Hrsg. von A. Moraht-Fromm. Ostfildern, 2003; L’architecture gothique au service de la liturgie / Ed. par A. Bos et Xavier Dectot. Turnhout, 2003; Objects, Images, and the Word. Art in the Service of the Liturgy / Ed. by C. Hourihane. Princeton, 2003; Wittekind S. Altar - Reliquiar - Retabel. Kunst und Liturgie bei Wibald von Stable. Koln etc., 2004.
106 О хранилищах реликвий святых и Мадонны, часто упоминаемых с XII в., см.: Frinta M.S. The Closing Tabernacle. A Fanciful Innovation of Medieval Design // The Art Quarterly. Vol. 30. 1967. P. 103-117; Lapaire Cl. Les retables a baldaquin goth-iques И Zeitschrift fiir Schweizerische Archaologie und Kunstgeschichte. 1969. Bd. 26. S. 169-190; Idem. Les retables a tabernacle polygonal de I’epoque gothique // Ibid. 1972. Bd. 29. S. 40-64; Forsyth I.H. Op. cit. P. 38 и далее; Tangeberg P. Holzskulptur und Altarschrein. Studien zu Form, Material und Technik. Munchen, 1989. S. 32-41; дальнейшие примеры см.: Kruger К. Der friihe Bildkult des Franziskus in Italien. Gestalt-und Funktionswandel des Tafelbildes im 13. und 14. Jahrhundert, B., 1992. S. 219-230; о складных алтарях и ретаблях см.: Hempel Е. Der Fliigelaltarschrein, ein Stuck deutscher, vlamischer und nordischer Kunst // Jomsburg. 1938. Bd. 2. S. 137-151, 269-288; Gauthier M.-M. Du tabernacle au retable. Une innovation limousine vers 1230 I I Revue de Part. 1978. Vol. 41. P. 23-42; Decker B. Op. cit.; Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeographischen Kontext / Hrsg.
198
von U. Albrecht und J. von Bonsdorff, B., 1994; Norwegian Medieval Altar Frontals and Related Material. Rome, 1995; Entstehung und Friihgeschichte des Fliigelaltarschreins / Hrsg. von H. Krohm, K. Kruger et al. Wiesbaden, 2001; Wolf N. Op. cit.; Bachmann K.W Jdszai G. et al. Fliigelretabel // Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, begonnen von O. Schmitt / Hrsg. vom Zentralinstitut fiir Kunstgeschichte Munchen. Munchen, 2003. Bd. 9. Sp. 1450-1536.
107 Smalley B. The Gospels in the Schools, c. 1100 - c. 1280. L.; Ronceverte, 1985, особенно P. 70-73; Gill M. Preaching and Image: Sermons and Wall Paintings in Later Medieval England // Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages / Ed. by C. Muessig. Leiden; Boston etc., 2002. P. 155-180.
108 Beriou N. De la lecture aux epousailles. Le role des images dans la communication de la Parole de Dieu au XIHe siecle // Cristianesimo nella storia. Vol. 14. 1993. P. 535-568, особенно 541, 551-552, 562-563; об этом корпусе текстов см. также: Eadem. L’avenement des maltres de la parole. La predication a Paris au ХШе siecle. P., 1998. T. 1-2.
109 Delaborde H.F. Le proces du chef de saint Denis en 1410 // Memoires de la Societe de 1’histoire de Paris et de ITle-de-France. 1884. Vol. 11. P. 297-409; к этому см.: Bahr I. Saint Denis und seine Vita im Spiegel der Bildiiberlieferung der franzosischen Kunst des Mittelalters. Worms, 1984. S. 54-69; Eadem. Aussagen zur Funktion und zum Stellenwert von Kunstwerken in einem Pariser ReliquienprozeB des Jahres 1410 // Wallraf-Richartz-Jahrbuch. 1984. Bd. 45. S. 41-57; Schnitzler N. Op. cit. S. 61 и далее.
110 «...c’est assavoir par ystoires et escriptures enciennes, par painctures antiques, par sacres solempnites et institutions, par relacions dignes de foy successivement faictes et par vrayes samblaubles conjectures et presumptions» (Delaborde H.F. Op. cit. P. 324).
111 О том, что сила этих доказательств подтверждается непрерывностью сохранившейся традиции, говорится подробнее в другом месте: «Ceste chose est monstree par escriptures auctentiques gardees en nostre dicte eglise de Paris, qui sont sans souspeccion de vice quelconque ou de corruption. Elie se monstre assez par ymages et paintures tres anciennes; elle se conferme par la relation de noz pr6decesseurs £vesques de Paris, tres dignes de foy et devotes personnes tres approuvees en toutes sciences et honnestete de meurs, des roys aussi et des princes depuis la fondacion d’icelie eglise de Paris par succession de temps jusques а су» (Ibid. P. 307).
112 ibid. P. 397.
113 «...lesqueulx sont mout notables et anciens et est bon a veoir qu’ilz ne sont pas fais de nouvel et aussy qu’ilz ne furent mie fais sans grant et meure deliberation et advis» (Ibid. P. 325, 400).
114 «...de grans et anciens ymages de pierre et en lieux patens et publiques, au veu et sceu de tous ceulx qui Font volu veoir (...)» (Ibid. P. 399).
115 К этому см. также: Vauchez A. Op. cit.
116 См. выше.
117 «Nus du mestier devant dit ne puet ne ne doit ouvrer ymage ne crucefilz, ne nule autre chose apartenant a sainte Yglise, se il ne le fait de sa propre estoffe, ou il ne le font li un ouvrer а Г autre, ou il ne le fet a aucun clerc ou aucun home de religion ou aucun chevalier ou aucun gentis home, qui fere le facent pour leur user. Et ce ont establi li preud’ome del mestier, por la reson de ce que on soloit ouvrer de tex ouvreignes qui estoient blasmez, et li preud’ome del mestier en estoient repris» (Lespinasse R.d., Bonnardot F. Les metiers et corporations de la ville de Paris, XIIIе siecle. Le «Livre des metiers» d’Etienne Boileau. P., 1879. P. 128; пер. Л.И. Киселевой под ред. А.Д. Люблинской).
199
118 «Nule fause ouevre del mestier devant dit ne doit estre arse, pour les reverances des Sains et des Saintes en qui ramenbrances elles sont faites» (Ibid. P. 130; nep. Л.И. Киселевой под ред. А.Д. Люблинской).
119 Так в работе: Wirth J. L’image medieval... Р. 211-212, 217-218.
120 Основной работой о составных элементах французского королевского мифа является: Schramm Р.Е. Der Konig von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. bis zum 16. Jahrhundert. Ein Kapitel aus der Geschichte des abendlandischen Staates. Bde. 1-2. Weimar, 1939; обобщения см.: Le Goff J. Le Moyen Age // Histoire de la France I Ё6. par A. Burguieres et J. Revel. T. 2: L’fetat et les pouvoirs. P., 1989. P. 21-180. особенно P. 70-91; об отдельных элементах этого круга представлений см.: Pange J.d. Le roi tres chretien. P., 1949; Oppenheimer F. The Legend of the Sainte Ampoule. L., 1953; Bloch M. Les rois thaumaturges. Etude sur le caractere sur-naturel attribud a la puissance royale, particulierement en France et en Angleterre / Ё6. par J.Le Goff. P., 1983. P. 110, 129, 243-244, 432-433, passim (первое издание вышло в 1924 г.); Kantorowicz Е.Н. Die zwei Korper des Konigs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters. Munchen, 1990. S. 64—105 по поводу «христианнейшего короля» (roi tres chretien); Krynen J. L’Empire du roi. P. 345-383; Talmant P. Iconologie politique. Le soleil, le Christ et le roi tres chretien: une figure du pouvoir au XIVе siecle // Histoire de 1’Art. 1997. Vol. 37/38. P. 25-40.
121 К этому см. выше примеч. 42.
122 См. выше примеч. 8.
123 Erlande-Brandenburg A. Le Tombeau de saint Louis; Idem. Le roi est mort. Nr. 96; Sommers Wright G. The Tomb of Saint Louis // Journal of the Warburg and Courtauld Institute. 1971. Vol. 34. P. 65-82.
124 См. выше примеч. 18.
125 Brown E.A.R. Death and the Human Body in the Later Middle Ages: the Legislation of Boniface VIII on the Division of the Corps // Viator. 1981. Vol. 12. P. 221-270.
126 См. выше примеч. 82.
127 Brown E.A.R. Kings Like Semi-Gods: The Case of Louis X of France // Majestas. 1993. Bd. 1. S. 5-37; Eadem. The Religion of Royalty. From Saint Louis to Henry IV, 1226-1589 11 Creating French Culture. Treasures from the Bibliotheque nationale de France / Ed. by M.-H. Tesniere and P. Gifford. P., 1995. P. 131-148; см. в общем плане: La royaute sacree dans le monde chretien / lid. par A. Boureau et C. Sergio Ingerflom. P., 1992; Engels J.I. Das «Wesen» der Monarchie? Kritische Anmerkungen zum «Sakralkonigtum» in der Geschichtswissenschaft // Majestas. 1999. Bd. 7. S. 3-39; Die Sakralitat von Herrschaft. Herrschaftslegitimierung im Wechsel der Zeiten und Raume / Hrsg. von F.-R. Erkens. B., 2002.
128 Strayer J.R. France: the Holy Land, the Chosen People and the Most Christian King // Medieval Statecraft and the Perspectives of History. Essays by Joseph R. Strayer /Ed. by John F. Benton and Thomas N. Bisson. Princeton, 1971. P. 300-314; Menache S. Op. cit.; Eadem. Un peuple qui sa demeure a part. Boniface VIII et le sentiment national frangais // Francia. 1984. Vol. 12. P. 193-208; Grabois A. Un mythe fondamental de Thistoire de France au Moyen Age: Le «roi David», precurseur du «roi trds chretien» // Revue historique. 1992. Vol. 581. P. 11-31.
129 Dupuy P. Op. cit. P. 663-683; к этому см.: Ullmann W. A Mediaeval Document on Papal Theories of Government I I English Historical Review. 1946. Vol. 61. P. 180-201.
130 Goldast M. Monarchia S. Romani Imperii. Hannover; Frankfurt a. M., 1614. T. 2. P. 95-107; см. также Three Royalist Tracts... P. 46-111; см. к этому также: Watt J.A. The «Quaestio in utramque partem» reconsidered // Studia Gratiana. 1967.
200
Vol. 13. P. 412-453. В переводе Рауля де Преля, выполненном при Карле V (GoldastM. Op. cit. Т. 1. Hannover; Frankfurt a. M., 1611. P. 39-57), пассаж, относящийся к избранности государя и поставлении его милостью Божией, звучит следующим образом: «Apres nous declairons le titre de la iuste & franche possession, par lequel le Roy de France tient sont Royaume de present, & ses predecesseurs ont tenu iusques icy, & encore le tendront ses successeurs perpetuelement a laide de Dieu le tout puissant, sans recongnoissance daucun souverain, par raisons inconuincibles. premierement, la sainte onccion preuve ce iuste tittre, la quele onccion fu enuoye du ciel & diuinement, par laquele les Roys sont tousiours enoins en temps conuenables. Nest pas clairement approuve le Royaume de Dieu, du quel les Roys sont consacres de don diuin? Secondement, ce meismes preuvent les appers miracles, les quiex sont magnifestement nottoires a tout le monde, & nottoirement magnifestes. Dont nostre seigneur le Roy en respondant de son iuste titre puet dire celle parole de leuvangille, laquele nostre Seigneur Ihesu Crist respond! centre les fraudes des luifs, en disant ainsi: Se vous ne me voules croire, crees en mes euvres. Car tout aussi comme par droit deredite le filz succede au per en adopcion de Royaume, pareillement aussi comme par vne maniere de droit deredite succede lun Roy a lautre en semblable puissance de faire ces meismes miracles, les quiex Dieu fait par eulz aussi comme par ses menistres. Tiercement, ce meismes preuve en nos Roys la bonte de la vie, la grandeur de la renommee, la ferueur ou ardeur de deuo-cion, la purete de la foy Crestienne, qui tousiours a este au Royaume de France es Roys par dessus tous les Roys & Royaumes de ce monde. Nous disons doneques, que nostre seigneur le Roy de France tient & posside son royaume par ce meismes titre, & par ce meismes droit, que le tint monseigneur saint Louys, le quel en nos temps le Siege de Romme canoniza & mist ou cathologue des Sains, par la sainte vie quil mena, & par les miracles quil fist, des quiex la Court de Romme fu enfourmee. Responde doneques a la question proposee pour nous, monseigneur saint Louys, sa tres sainte vie, & ses tres appers miracles» (Ibid. P. 49).
131 Carque B. Stil und Erinnerung. S. 514-591, passim.
Б. Парке
КРИЗИС КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ -КРИЗИС РЕПРЕЗЕНТАЦИИ?
ПРИДВОРНЫЕ ЗАКАЗЫ НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЦЕНТРИЗМА ВЛАСТИ ВО ФРАНЦИИ НА РУБЕЖЕ XIV И XV вв.
Художественные произведения, созданные по заказам герцогов Валуа в годы правления короля Карла VI (1380-1422), являются уже по меньшей мере лет сто предметом особого восхищения, притягивающим внимание в равной мере как историков, так и искусствоведов и позволяющим в наши дни в равной мере извлекать свою выгоду выставочной индустрии, издательствам, специализирующимся на факсимильных публикациях, и всевозможным торговцам «предметами культа» расцветшей ныне «религии искусства» (ил. I)1.
В конце 80-х годов XIX в. Луи Куражо, хранитель фонда скульптур в Лувре, занимавший тогда кафедру в Школе Лувра2, предложил новый исследовательский подход - новый как в пространственном плане, так и во временном: он перенес взгляд историка искусства с Ренессанса (изучение которого ставил превыше всего Жюль Мишле) на позднее Средневековье, давно уже заклейменное как время упадка, и с Италии (предмета исследований Якоба Буркхардта)3 на земли, лежащие к северу от Альп. И с этих пор последовательность смены эпох предстала вдруг в совершенно новом, блистательном свете. Получалось, что произведения, выполненные по заказу короля Карла V (1364-1380), открыли в искусстве Франции дорогу «фламандскому реализму» («realisme flamand») и, оказав влияние на придворное искусство Жана Беррийского и Филиппа Смелого, заложили основу того французско-фламандского культурного круга, из которого, по мнению ряда исследователей, в начале XV в. вырос полностью независимый от Италии «северный Ренессанс» («Renaissance septentrionale»)4 - то самое искусство Хуберта и Яна ван Эйков, Робера Кампена или Рогира ван дер Вейдена, которое со времен новаторских исследований братьев Буассаре, Густава Фридриха Ваагена и Иоганна
202
Ил. 1. Сережка с календарной миниатюрой, посвященной месяцу январю, из «Роскошного часослова» (ср. с ил. 7)
Давида Пассаванта считается одним из величайших чудес в истории культуры Северной Европы5.
Со времени новаторских работ Леопольда Делиля и Поля Дюрье о книжных миниатюрах, а также Луи Куражо, Андре Мишеля и Артура Клейнклоша о скульптуре наш воображаемый музей европейского позднего Средневековья наполняют всем известные, пережившие века шедевры («chefs-d’ceuvre») и великие мастера («grands maitres»)6: «Колодезь Моисея» (он же «Источник пророков») («Puits de Moise») и Клаус Слютер, «Роскошный часослов» («Tres Riches Heures») с календарными миниатюрами братьев Лимбур-гов или «Турино-Миланский часослов» с миниатюрами Яна ван Эйка -если ограничиться только наиболее выдающимися представителями этого канона, сформировавшегося на рубеже XIX и XX вв., но до сего дня не утратившего научной актуальности и не переставшего приносить меркантильной выгоды.
Своей нынешней популярностью десятилетия рубежа XIV и XV вв. обязаны не только таким наиболее ярким опорным точкам культурной памяти, но, конечно, и удивительному богатству сохранившихся от того времени источников7. Ведь благодаря хроникам, счетным книгам и инвентарям оказалось возможным нарисовать поразительно насыщенную и детализированную картину придворной жизни - в ее материальных проявлениях и в политико-социальных практиках. Начиная с крупных культурно-исторических трудов середины XIX в., посвященных герцогам Орлеанским, Бургундским и Беррийским, и особенно после монографии Йохана Хёйзинги «Осень Средневековья» («Herfsttij der Middeleeuwen») 1919 г. художники и их творения рассматривались в контексте историографической панорамы той эпохи - панорамы эпически широкой и лирически изысканной, центр которой составляла французско-бургундская придворная культура рубежа Средневековья и Нового времени8. С тех пор не иссякает поток ярких работ на эту тему, среди которых немалое число посвящено художественным проявлениям жизни этого придворного мира.
203
Тем не менее, несмотря на все успехи, достигнутые в идентификации и датировке, в определении содержания и функций отдельных памятников, мы все еще весьма смутно и фрагментарно представляем себе княжеские заказы на художественные произведения рубежа XIV и XV вв. Так, данная тема разработана применительно к Жану Беррийскому гораздо лучше, чем применительно к Людовику Орлеанскому; и если Филипп Смелый известен нам почти исключительно как заказчик скульптур, то Жан Беррийский, напротив, прежде всего как заказчик иллюминированных кодексов. Потому-то историкам приходится вновь и вновь обращаться к описанию, анализу и оценке отдельных произведений и жанров, к известным заказчикам и их владениям, к определенным слоям сохранившегося материала и к постановке общих проблем9; и потому-то придворное искусство «принцев лилий» (princes des fleurs de lys) стало в 2004 г. основной темой выставок во Франции10: «интернациональную готику» прославляли от Парижа и Дижона, через Бурж вплоть до Шантийи и Блуа. Но составление обобщающего обзора придворного искусства рубежа XIV и XV вв. остается, как и прежде, предприятием нелегким, о чем ясно свидетельствуют трудности, которые пришлось испытывать организаторам выставок, когда они старались систематизировать свои материалы.
На выставках в Дижоне и Блуа в центре внимания оказались яркие фигуры заказчиков разнообразной художественной продукции, в Бурже и Шантийи - совершенно исключительные заказы, но в остальных случаях организаторам пришлось ограничиться составлением каталогов по хронологическим периодам, по видам искусства и по превалировавшим в них темам, чтобы представить хоть в сколько-нибудь структурированном виде разрозненное «искусство века Карла VI» (arts sous Charles VI). Ведь если отвлечься от довлевшего надо всем и вся нарратива о «Северном Возрождении», то стилевым вопросам, раньше неизменно считавшимся ключевыми в искусствоведении, оказывалась отведена роль сугубо второстепенная, сводившаяся к выявлению путей миграции тех или иных типов художественной продукции и обмена художественными открытиями11.
При ответах на вопросы об определении тех или иных историко-стилевых особенностей до сих пор было принято ориентироваться на привычную хронологию; к оценке различных групп произведений или стилевых течений в их отношениях друг к другу при нынешнем состоянии материала никто даже и не приступал. Ведь утраты, понесенные памятниками той эпохи (так тщательно инвентаризованной ее представителями), огромны, а то немногое, что все-таки сохранилось, предстает нынешнему наблюдателю в таком многообразии форм, что приводит его в замешательство.
204
Ил. 2. Бывший картезианский монастырь Шаммоль. Западный портал
Для подхода, ориентированного на анализ исторического развития стилей, серьезную трудность представляют уже сами художественные формы воплощения произведений искусства. Проиллюстрируем это несколькими примерами: наряду с фигурами у портала донаторов в картезианском монастыре в Шаммоле, воздвигнутыми в 1389-1393 гг. (ил. 2), с их пышной драпировкой одеяний12, создающей ощущение объема, в то же самое время появляются статуи для каминной стены в герцогской резиденции в Пуатье13 (ил. За,Ь) с их сдержанностью в трактовке объемов и простотой стиля одежды. Если в Шаммоле одежда, динамично разработанная до мельчайших деталей, берет на себя функцию формирования человеческих фигур, то линейная и пластичная трактовка скульптур из Пуатье отодвигает одеяния на второй план, отводя главное место своеобразно подчеркнутой телесности. Застывшим, обрисованным лишь в об
205
щих чертах лицам скульптур в Пьерфоне14 и Ла Ферте-Милоне15 (ил. 4 и 5) противостоят статуи так называемого «Колодезя Моисея» в Шаммоле (рубеж XIV и XV вв.)16 (ил. 5), чьи детально проработанные лица демонстрируют сильно аффектированную мимику. По календарным миниатюрам «Роскошного часослова»17, написанным вскоре после 1410 г., можно изучать реалии во всем их многообразии, со всеми их различиями как в форме, так и в материале (ил. 6), в то время как в появившейся несколькими годами ранее «Морали-зованной Библии»18 фигуры предстают в богато орнаментированных, но весьма неопределенных облачениях (ил. 7).
Чтобы как-то упорядочить все это многообразие заказывавшихся княжескими дворами художественных произведений и тем самым
Ил. За. Статуя Карла VI. Пуатье. Дворец Правосудия. Каминная стена Большого зала. (Гипсовый слепок)
Ил. ЗЬ. Статуя Изабеллы Баварской. Пуатье. Дворец Правосудия. Каминная стена Большого зала. (Гипсовый слепок)
206
Ил. 4. Рельеф «Коронование Марии». Ла Ферте-Милон. Замок. (Гипсовый слепок)
придать эпохе Карла VI дискурсивную оформленность искусствоведческого повествования как в диахроническом, так и в синхроническом аспектах, исследователи пользовались до сих пор традиционными средствами и методами историко-стилевого распределения материала. Они классифицировали произведения, проводя различие между главными стилистическими направлениями. При этом каждое из произведений либо представало в качестве идеального типа одного из направлений, либо же, по крайней мере, отражало некую определенную тенденцию. Так, среди художественных заказов Жана Беррийского такими были «Роскошный часослов» и «Турино-Миланский часослов»19, а среди заказов герцога Бургундского - в первую очередь статуи у «Колодезя Моисея» в Шаммоле, якобы воплощавшие тот «реализм Нового времени» с его универсальным вкусом к действительности, который вроде бы торил себе путь в изобразительном искусстве конца XIV -начала XV в. и привел к старонидерландской станковой живописи Хуберта и Яна ван Эйков, Робера Кампена или Рогира ван дер Вейдена20.
Произведения этого стилевого направления, определившего будущее художественное развитие, похожи друг на друга натурализ-
207
Ил. 5. Пророки с так называемого «Колодезя Моисея». Бывший картезианский монастырь. Шаммоль, большой клуатр
мом в изображении реалий, физиогномики и топографических деталей, а также телесностью трактовок фигур, по меньшей мере наметившейся уже в статуях из Пуатье. «Морализованная Библия» Филиппа Смелого или произведения, выполненные для Людовика Орлеанского в Пьер-фоне и Ла Ферте-Милоне, представляли якобы, напротив, идеализирующую разновидность «интернациональной готики», основанную на традиционных принципах формотворчества, разрабатывающую орнаментальное богатство громоздящейся массы сложно ниспадающих одеяний, когда предпочтение отдается самовластию формы перед эмпирическими данными21. И наконец, обе эти основные тенденции эпохи Карла VI вместе оказали, надо полагать, влияние на скульптуры портала в Шаммоле, поскольку в них орнаментальный абстрактный стиль одежды соединился со «старательным реализмом» в изображении человеческих лиц22.
В соответствии с такой трактовкой облик художественных произведений, выполненных по придворным заказам, определялся во многом тем, какое место они занимали в истории развития стиля -место, координаты которого задавались всякий раз в синхроническом аспекте тем, какое стилевое направление оказывалось в данном случае доминирующим, а в диахроническом плане - тем, на какой стадии развития это направление оказывалось. Поэтому художественный гений Клауса Слютера или братьев Лимбургов, придавший данному стилю его индивидуальный характер, а отдельным художественным произведениям - их конкретный облик, следует в конечном счете рассматривать именно на таком фоне необходимого как возможного23. Соответственно историческая последовательность этих произведений искусства представляется результатом сложного взаимодействия между тем, что задано определенной эпохой и типично для нее, и тем, что возникло вследствие индивидуального прорыва вперед, между силами сохранения старого и силами
208
обновления, - взаимодействия, которое и составляло процесс смены стилей при переходе от Средневековья к Новому времени и ускоряло его. Так, по крайней мере, предстает дело согласно логике историко-стилевого направления, лежащей в основе той систематизации материала, что была здесь бегло представлена.
Однако стоит спросить: какие именно факторы сыграли определяющую роль в каждом отдельном случае, чтобы ими можно было бы объяснить различия в обрисовке фигур и формальном языке, например, между статуями «Колодезя Моисея» в Шаммоле и скульптурами для каминной стены в Пуатье? Заключается ли все дело в степени художественной одаренности каждого из мастеров, а следовательно, в качестве его таланта? Почему же тогда так заметно отличаются друг от друга скульптуры Слютера в Шаммоле - на портале и у «Колодезя Моисея» - или же миниатюры братьев Лимбургов -
Ил. 6. «Роскошный часослов». Шантийи. Музей Конде. Ms. 65. Fol. lv
14 Образы власти...
209
Ил. 7. «Морализованная Библия». Париж. Национальная библиотека. Ms. Fr. 166. Fol. 1
210
в «Роскошном часослове» и в «Морализованной Библии»? Сыграли ли здесь роль потребности и интересы заказчика, было ли это в каждом отдельном случае следствием каких-то случайностей при выборе художественной формы или же проявлением свободы художника? Короче говоря, для ответа на такие вопросы средства и способы систематизации материала в рамках истории стилей оказываются явно недостаточными.
Конечно, искусствознание отнюдь не упустило возможности поставить наряду с вопросом о месте творений искусства в истории развития стилей и вопрос об их месте в общественно-историческом развитии, а следовательно, взглянуть на них не только с точки зрения стилевой критики, но и с позиции культурологической. При этом на передний план выходили аспекты содержания и смысла, функции образа и способы его использования. Ведь на солидной основе, заложенной начиная с середины XIX в. работами по истории княжеских дворов Эме Шампольона-Фижеака, Леона де Лаборда или Альфреда де Шампо24, возникла и постоянно продолжает расти историческая литература, в которой едва ли упущена из виду какая-либо область придворной жизни и ее реалий: социальные и политические практики - ритуал и церемониал, дипломатия даров и обмен подарками, будни и праздник, турниры и охота, набожность мирян и практика донаторства - все это представлено в литературе, опирающейся на многочисленные источники, так же как и их материальные воплощения: архитектура замков и дворцов и их внутренняя обстановка, предметы повседневности и предметы роскоши - от одежды и праздничных украшений до фондов княжеских библиотек и коллекций25. Искусствоведение подробно занималось этим богатым материалом, сосредоточиваясь прежде всего на феномене репрезентации государя средствами искусства и посредством образов, -т.е. на стремлении князей надолго запечатлеть образы себя самих, облеченных саном и властью, продемонстрировать значительность и амбициозность собственного правления и визуализировать как свою политико-социальную идентичность, так и восприятие себя в качестве правителей.
При этом издавна особым вниманием пользовалось и опредме-ченное сюжетное оформление изображений, поскольку оно считалось безошибочным указанием на потребность в визуальной репрезентации in effigie (в образе) - например, когда Филипп Смелый изображается на портале в Шаммоле как уверенный в себе ктитор Картезианского монастыря и основатель некрополя династии герцогов Бургундских (см. ил. 2)26 или когда герцог Беррийский увековечивает себя в своих кодексах в амплуа благочестивого правителя27. Сюжеты настенной живописи и гобеленов, украшавших резиденции, также оказываются во многих случаях достоверным средством выражения рефлексии княжеской власти и ее репрезентации -
211
например, в подборе исторических (см. ил. 6), библейских или мифологических exempla (поучительных примеров)28.
В поисках смыслов, заключенных в произведениях искусства, интерес исследователей за прошедшие годы обращался не только к их содержанию, но, конечно, и к их эстетическим качествам, и к свойствам материалов, из которых они были выполнены. Ведь в ходе интенсивного анализа практик социально-политического взаимодействия и коммуникации утвердилась точка зрения, что произведения искусства, поддававшиеся транспортировке, создававшиеся из ценных материалов и демонстрировавшие необыкновенно высокое мастерство своих создателей, могли в контексте придворного обмена дарами определять общественно-политические нормы роскоши и свидетельствовать о высоком статусе дарителя. Новейшие исследования институционализированного обмена подарками на Новый год смогли выявить практики символической коммуникации, центральное место в которых занимали именно произведения искусства29. В качестве, пожалуй, самого известного остатка этого материального выражения репрезентации власти можно назвать так называемую «Золотую лошадку» - подарок Изабеллы Баварской ее супругу Карлу VI к новому 1405 г.30
Как искусствоведческий подход в узком смысле, нацеленный на определение стилевой принадлежности произведения искусства, так и культурологический, ориентированный на выявление форм его использования и определение различных смыслов, в нем заключенных, открыли весьма важные пути исследования не тронутой ранее области герцогских заказов на произведения искусства на рубеже XIV и XV столетий. Однако каждый из них, со своим особым эпистемологическим подходом при формулировании исследовательских проблем и со своим особым методическим инструментарием, внес вклад и в расширение пропасти между тем, как понимать произведение искусства в общественно-историческим плане, с одной стороны, и тем, как трактовать его же в плане историко-культурном - с другой. В самом деле, от стилистических течений («courants stylistiques») и великих мастеров («grands maitres»), которым произведение вроде бы только и обязано своим стилем, нельзя перейти к тем смыслам, которые заложены в облике конкретного произведения или же в затратах материального и технического свойства на его изготовление. Ведь очевидно, что художественная форма произведений искусства индифферентна к смыслу, она является постоянным украшающим дополнением к образу (поскольку смысл образа передается лишь его предметной составляющей и указанием на ценность использованных для его воплощения материалов) и в качестве такого дополнения вносит свой вклад разве что в неспецифическое «наделение власти красотой» («mise en beaute du pouvoir»)31.
212
Поэтому те образы, за которыми не удавалось разглядеть какой-либо простой политико-идеологической идеи, проводились исследователями по неясной общей статье княжеского меценатства и придворной роскоши. Их задача якобы состояла в том, чтобы «украсить формы, в которых проходит жизнь», - как парадигматически сказал уже Й. Хёйзинга32. Ни одной из интерпретаций позднесредневековой придворной культуры не было суждено стать столь влиятельной в течение долгого времени, как тезису, согласно которому меценатство королей и князей, их приверженность к блеску и роскоши, их страсть к коллекционированию и библиофильство были вызваны потребностью в иллюзии и развлечении в связи со всеобщим «кризисом позднего Средневековья»33, и следовательно, они выполняли сугубо компенсаторные функции. Согласно характерным формулировкам в рамках этой объяснительной модели, придворное искусство было эскапизмом - бегством в эстетическое от мрачной реальности эпохи войн и эпидемий, кровавых бунтов и убиения венценосцев34.
То, что даже новейшая литература о герцогах Валуа рубежа XIV и XV вв. продолжает воспроизводить ставший стереотипным образ позднесредневекового придворного искусства (кормящий избалованную успехом культур-индустрию с ее камерными выставками, факсимильными изданиями и «предметами культа»), не в последнюю очередь вызвано совершенной недооценкой роли заказов Карла V для истории стилей позднего Средневековья, как и для истории его собственной репрезентации. Уже в придворном искусстве этого короля смыслы было принято усматривать прежде всего в содержании произведений, тогда как их стиль вроде бы развивался по своим законам - тем самым, которые Луи Куражо сформулировал в своем влиятельном сочинении о «Северном Ренессансе». Согласно ему и его многочисленным последователям, первостепенное историческое значение придворного искусства Карла V проистекает из его ключевого положения на рубеже Средневековья и Нового времени. Ведь в своем стремлении к простоте формы оно способствовало прорыву к перспективному «французско-фламандскому реализму», но в то же самое время благодаря своей склонности к богатому декору сумело сохранить наследие высокой готики XIII в. Вследствие этого его значение состоит якобы прежде всего в том, что если оно и не предвосхищает ни идеализирующей разновидности интернациональной готики, ни реализма старонидерландской станковой живописи, то во всяком случае энергично подготавливает их. Ведь процесс развития стилей (якобы линейно прогрессирующий) нашел после 1380 г. своих носителей в виде герцогских заказов на произведения искусства: именно через них культурные заветы Карла V были переданы по широкому пути «Северного Ренессанса» начинающемуся Новому времени, но вместе с тем благодаря своей богатой декорированности
213
они же оказались созвучны потребности в «компенсаторной красоте», присущей их времени.
Что же касается средств и методов репрезентации власти, то придворное искусство Карла V, казалось бы, напротив, практически не оставило продолжения. Если его стилевой потенциал и сохранил влиятельность при Карле VI, поскольку этот стиль был тогда подхвачен и продолжен, то изображение фигуры правящего монарха перестало относиться к кругу первостепенных художественных задач, особенно в монументальной скульптуре. Идея повсеместного визуального присутствия государя, выдвинутая на рубеже XIII и XIV вв. Филиппом IV и по его примеру последовательно развивавшаяся в Париже Карлом V35, совершенно была оставлена при сыне и преемнике последнего - и ни один из герцогов не занял вместо него опустевший центр репрезентации. Филипп Смелый и Жан Бер-рийский решали сходные задачи только в пределах собственных княжеств - пускай и по примеру их брата, но куда сдержаннее. Похоже, что развитие и других образных средств пошло после 1380 г. по пути деполитизации и эстетизации. Так, если при Карле V интенсивно создавались рукописи, посвященные теории власти и ее теологии36, то теперь при дворе расцвела пышнее, чем когда-либо раньше, культура молитвенников.
«Кризис королевской власти»37 конца XIV - начала XV в. - прогрессирующее ослабление центральной власти монарха и укрепление власти князей в их провинциях - очевидно, сопровождался таким же глубоким кризисом репрезентации. Похоже, что неудача (уже в самый год смерти Карла V) установления регентства над малолетним престолонаследником, ссора, разгоревшаяся между Людовиком Анжуйским и Филиппом Смелым из-за председательства в регентском совете и возможности распоряжаться доходами и владениями короны, начавшаяся в 1392 г. борьба за власть между Филиппом Смелым и Людовиком Орлеанским, соперничество между двумя партиями принцев крови - бургиньонами и орлеанцами-арманьяками, - вылившееся в 1411 г. в гражданскую войну, - все эти общественно-политические факторы привели не только к дестабилизации сложившегося порядка правления, к пробуждению центробежных сил и к формированию полицентрической власти отдельных домов38, но еще и заставили умолкнуть столь красноречивый прежде язык изображений. В условиях полицентризма власти оставалось, очевидно, заниматься лишь неспецифическим «наделением власти красотой» («mise en beaute du pouvoir»). Ведь на место общединастических коалиционных интересов и родового сообщества с системой образов, сплачивавшей и создавшей особую идентичность, пришли разнонаправленные партикулярные интересы и конкурентные отношения. Этим партикулярным интересам в области политики вроде бы вполне соответствовало своенравие герцогов в сфере эстетического, и обрисованное вначале мно-
214
Ил. 8. Статуи Карла V и Жанны Бурбон с восточного портала дворца Лувр. Париж. Лувр
гообразие воплощения художественных форм представляется обязанным своим появлением их индивидуальным вкусовым предпочтениям.
Однако это впечатление обманчиво. Ведь литература по данной проблеме ошибается в предположении, что репрезентация власти уже при Карле V ограничивалась только содержанием изображения, а где возможно, то и одной лишь эксклюзивностью материала, из которого произведение изготавливалось. Ошибочно также и представление о естественно развивающемся автономном и линеарном движении стиля, на который князья отвечали якобы всего лишь выбором того или иного направления в его пределах -выбором, обусловленным их эстетическими пристрастиями. Но самым ошибочным является недооценка того, насколько формальные качества произведений искусства времен Карла V были обусловлены их смысловым наполнением. Ведь стилевые приметы,
215
Ил. 9. «Нарбоннская завесь». Париж. Лувр
Ил. 10. Фрагмент верхней части надгробия Бланш Французской. Париж. Музей Карнавале
Ил. 11. Часослов Жанны д’Эвро. Нью-Йорк. Метрополитен-музей. The Cloisters Асе. N 54. 1. 2. Fol. 15v, 16
обыкновенно описываемые как прокладывающие пути «Северному Ренессансу» и «интернациональной готике», были включены в комплексную семантику форм, при помощи которой обеспечивалось создание и передача определенных смыслов визуальными средствами. Поэтому их можно было использовать для выражения самых разнообразных идей, благодаря чему они и вошли в придворное искусство герцогов, где интегрируясь в него, а где его и преобразовывая.
Различия в формах внешнего проявления, каковые предполагаются, например, ок. 1390 г. между портальными фигурами в Шаммоле (см. ил. 2) и скульптурами на каминной стене в Пуатье (см. ил. За,Ь), встречаются уже среди произведений, созданных по заказу Карла V, например между фигурами королевских пар с главного портала Лувра39 (ил. 8) и так называемым «Parement de Narbonne»40 - шелковой завесью на ретабль во время поста (ил. 9). Язык форм - в одном случае простой, а в другом вычурный - указывает на разноплановые образцы из прошлого, сознательная актуализация которых служит все той же, здесь лишь вскользь обозначенной цели: стилистическая ретроспекция должна была в каждом из этих случаев устанавливать визуальными средствами связь со значимым прошлым, подобно тому как такие же связи выстраивались в мире образов династического самосознания. Там это было представление о sainte et sacree lignie,
217
Ил. 12. Лежащая фигура Людовика X. Сен-Дени. Бывшая монастырская церковь
благодаря которому Валуа обретали мощный потенциал легитимации общественно-политического порядка. Этот потенциал возник в связи с канонизацией Людовика IX в 1297 г. и заключался в непосредственном происхождении от освященного рода Капетингов41. В то время как луврские статуи времени Филиппа IV претендуют на родство с канонизированным там же образом Людовика Святого (ил. 10)42, Жан Орлеанский, художник, создавший «Parement de Narbonne», обращается к языковым средствам того стиля, который в основном был характерен для придворного искусства последних Капетингов в конце 20-х годов XIV в.: книжной миниатюры, например, в работах мастерской Жана Пюсселя, таких как Часослов Жанны д’Эвро43 (ил. 11), и скульптуры - лежащие статуи Людовика X (ил. 12) или Карла IV в Сен-Дени44.
Ориентированный на эти образцы декоративно-орнаменталь-
ный стиль «Parement de Narbonne» вполне может рассматриваться как репрезентативный и для значительной части кодексов, созданных по заказу Карла V. Среди
его разнообразных проявлений особенно показательна обширная продукция мастерской «мастера Библии Жана де Си». В так называ-
емом «Готском миссале»45 страницы канона выделяются, как того требует традиция, не только более тщательным оформлением и более богатым декором, но и соответствующими изменениями в начертании фигур и стиле одежды (ил. 13). В то время как малые миниатюры рукописи демонстрируют несомненную принадлежность этой мастерской (им присуща некоторая сдержанность изображения, например плотная, пластично моделированная фигура Марии в сцене Благовещения - ил. 14) - аналогичная по типу фигура Иоанна в сцене Распятия
явно тоньше и динамичнее, с более детальной прорисовкой складок одежды и с более богато орнаментально украшенными одеяниями.
218
Ил. 13. «Готский миссал».
Кливленд. Художественный музей. Mr. and Mrs. William H. Marlatt Fund 1962. 287. Fol. 63v
Ил. 14. «Готский миссал».
Кливленд. Художественный музей. Mr. and Mrs. William Н. Marlatt Fund 1962. 287. Fol. 110
Уже здесь напрашивается предположение, что нюансы конкретного воплощения зависят от соответствующих изобразительных задач - так, особо насыщенное оформление страниц канона призвано подчеркнуть значение изображения Распятия в начале канона мессы46. Предположение окончательно перерастает в уверенность при взгляде на именные экземпляры выполненных по королевскому заказу переводов Аристотеля (ил. 15)47. Ведь в них мастерская постаралась изобразить как можно более строгие, лишенные украшения фигуры, роль которых сведена до изображения жестов и положения тел. Такое устранение всякой орнаментики обусловлено повышенной морально-дидактической направленностью рукописи, поскольку, как замечает переводчик и комментатор Николя Орем, перевод должен задаваться полезным назначением (utilitas) текста и должен быть поэтому ясным и понятным (clere et entendable), причем в его аргументации безошибочно распознаются отмеченные риторикой парадигмы восприятия и толкования48.
В системе же genera causarum, которая была разработана в традиции псевдо-Цицероновой «Rhetorica ad Herennium», а именно в юридической и гомилитической сфере как функционально-стилистическом регулативе, функциям воздействия docere и probare, как они были использованы для переводов Аристотеля, соответствовал ornatus facilis - та низкая, по-деловому трезвая разновидность стиля, которая запечатлелась, помимо прочего, и в миниатюрах49. В то вре-
219
Ил. 15. Аристотель. «Политика» (в переводе на французский язык). Париж. Частное собрание. Fol. 4
мя как здесь набор форм направлен на определение и достижение цели и учитывает отношение того, кто их рассматривает, в «Готском миссале» имел решающее значение stilus materiae. Ведь согласно таким влиятельным учениям о стиле, как «Ars versificatoria» Матвея Вандомского, или схеме из «Rota Vergilii» Иоанна Гарландского, уровень материала задает и уровень стиля, требуя для себя приличествующих языковых средств выражения. Что касается страниц канона, то они могут оформляться только при помощи omatus difficilis.
И все же не только ретроспекция, целесообразность и функциональность или же соответствие между стилем и предлагаемым материалом являлись факторами, оказывавшими воздействие на художественную форму произведений искусства, созданных по заказам
220
Карла V. При общем взгляде на них замечаешь, что художественные вариации при дворе этого короля зависели от более глубинных причин. Там, где изображения предназначались для самой широкой публики - как на восточном фасаде Лувра (ил. 8) или же на Бастилии в Сент-Ан-туанском предместье (см. ил. 16)50, их подчеркнутая простота и ясность формального языка указывают на придворное искусство Филиппа IV как на свой образец (ил. 17)51, а тем самым одновременно и на художественный стиль заказов Людовика Святого (ил. 18)52. Там же, где, напротив, они были доступны только репрезентативному придворному обществу - как в случае с иллюминированными кодексами (см. ил. 13) или «Нар-боннской завесью» (см. ил. 9),
Ил. 16. Св. Антоний с принцами Карлом (VI) и Людовиком (Орлеанским). Бастилия. Millin A.L. Antiques Nationales. Р., 1790. Т. 1. Tab. IV
они оказываются ориентирован-
ными на куда более богатый художественный язык позднекапетинг-ского искусства - на средства выражения, свойственные Жану Пюсселю (см. ил. 11), или же на изысканную стилистику лежащих фигур в Сен-Дени (см. ил. 12).
У нас есть все основания предположить, что это принципиальное разделение на произведения omatus facile и omatus difficilis не только отвечает полярности двух групп реципиентов - в целевых группах обычных и элитарных, но предъявляет также две разные системы образов. Одна из них построена на смирении (humilitas), т.е. на той добродетели государя, которую особенно настойчиво пропагандировал Карл V, другая же - на величии (magnificentia) -по-королевски богатой форме репрезентации его власти. Каждая из этих двух образных систем определяется собственной семантикой знаков и ценностных выражений, которая и определила облик произведений искусства, наряду с идущим от риторики различением между stilus humilis и stilus gravis.
В публичном облике государя должна была выступать на передний план humilitas - к чему и призывали на разные лады в ученом окружении Карла V53. Ведь тем самым перед всеми представал христианский идеал государя, получивший в конечном счете свое самое
221
Ил. 17. Статуя Пьера Алансонского из Сен-Луи в Пуасси. Париж.
Национальный музей Средневековья - Термы Клюни
Ил. 18. Надгробие Людовика Французского из Ройомона. Сен-Дени. Бывшая монастырская церковь
яркое выражение в агиографическом образе Людовика Сятого54. Humilitas, обосновываемая библейскими текстами и отмеченная спи-ритуальностью нищенствующих орденов, воспринималась как выражение усиленного подражания Христу и как самое действенное средство достичь спасения и божественной милости. Одновременно она понималась и как собственно социальная добродетель, обязывавшая и короля к самоотверженному служению общему делу. Своеобразному сочетанию смирения и величия, которым была отмечена монархическая идея humilitas, отвечал в риторических учениях, проникнутых христианскими настроениями, языковой эквивалент в виде sermo humilis55, отличающийся прежде всего простым, безыскусным и трезвым стилем.
Однако по меньшей мере таким же значением, как и образец смиренного и скромного монарха, обладал и дополнявший его образ королевского величия (magnificientia), что приводило ко взаи
222
мопереплетению этических норм, опиравшихся на традиции как античной философии, так и средневекового богословия56, с одной стороны, с нормами, предписывавшими притязательность и роскошь, уместными для обладателей королевского сана57 - с другой. Идея величия в делах и помыслах, содержащаяся в понятии magni-ficientia, должна была передаваться публике не в последнюю очередь средствами символической коммуникации и репрезентации, и тогда ей соответствовало величие внешнего облика государя -облика, который был в первую очередь предназначен, конечно же, для репрезентативного «опубликования» при дворе. Ведь у идеи magnificientia была не только политическая сторона, обращенная ко всему обществу в целом, - обязанность короля проявлять щедрость и заботиться об общем благе, - у нее были и компоненты, куда более элитарные, обращенные к отдельным общественным группам. Она составляла центр системы жизненных ценностей высшей знати, члены которой оценивались, как неоднократно засвидетельствовано Жаном Фруассаром или «Большими французскими хрониками»58, в зависимости от обладания ими estat и degre, poissance и rikece - составными частями этой идеи. Объективация этих качеств в предметах искусства также служила в качестве средства демонстрации и восприятия высоты сана, различий в статусе и иерархии должностей. Там, где при дворе Карла V мы замечаем знаки и указания на ценности такого рода, как правило, они были предназначены для очень узкого круга адресатов, находящихся в коммуникационной системе, включающей двор и его ближайшее окружение. Это отнюдь не та городская широкая публика, для которой предназначался stilus humilis королевской репрезентации, выраженный посредством монументальной скульптуры.
Напротив, богато украшенный и потому высокозатратный и впечатляющий stilus gravis иллюминированных кодексов, выразительные средства которого в значительной степени идут от позднека-петингского придворного искусства, был обращен к зрителю, чей жизненный опыт и кругозор были такими же, как у заказчика этих рукописей. Благодаря идентичной социализации заказчика и зрителя, последний был в состоянии осознать и смысл использования ретроспективных форм выражения, и их изначальный источник. Ведь довольно широкий круг лиц при дворе объединялся особым групповым самосознанием, выработанным в значительной степени на основе династических представлений о прошлом и определенных исторических конструкций. В частности, принцы крови, чьи заказы прежде всего и определили характер французского искусства рубежа XIV и XV вв., вырастали внутри системы ментальных и материальных образов парижского двора, были включены в круговорот снабжения материальными ценностями королевской семьи и ко-
223
ролевского двора и пользовались, в частности, этой инфраструктурой и в том, что касалось их потребностей в объектах искусства, -до того времени, пока они создали собственные резиденции и управленческие структуры59.
В том, что касается визуального различения выразительных средств, адресованных разным группам зрителей, то примеру королевского придворного искусства последовал один лишь герцог Жан Беррийский. В применении omatus facilis для монументальной скульптуры и omatus difficilis для кодексов образные ряды разделялись в зависимости от жизненного опыта и кругозора адресатов, обращаясь целенаправленно либо к широкой публике города-резиденции, либо же к элитарной придворной публике. Поэтому самые близкие параллели с произведениями, создававшимися по заказу старшего брата, заметны как раз в тех статуях, которые герцог Жан в ходе расширения его резиденции в Пуатье предназначил для каминной стены Большого зала и башни Мобержон.
По степени «публичности» среди всех заказных работ герцога именно эти лидировали, и притом с большим отрывом. Соответственно они точно следовали и по своему типу, и по стилю хорошо известной монументальной пластике Карла V. Скульпторы герцога взяли за образец для фигур Карла VI (ил. За) и Изабеллы Баварской (ил. ЗЬ), созданных после 1388 г., статуи с восточного портала Лувра (ил. 8)60. Первые признаки изменения стиля проявляются здесь лишь в более выраженном повороте корпуса, более тонкой проработке складок и более мелкой рельефной обработке поверхностей. Придворное искусство Карла V сказалось и на внешнем облике герцогской резиденции, поскольку первоначально на башне Мобержон стояли 19 статуй, изображавших герцога с супругой в окружении их вассалов из Пуату (ил. 19)61. В этом Жан Беррийский несомненно последовал за политико-социальной концепцией «Grand Vis» Карла V, потому что на фасаде Лувра князья - владельцы апанажей также были зримо представлены в качестве важнейших опор порядка власти62. Образы герцогских вассалов в Пуатье, созданные примерно в 1385-1389 гг., следуют композиционной идее, выразившейся и в скульптурах, ставившихся королем, например, в статуях на стенах Бастилии (ил. 16), а в жесте смирения - humilitas, предназначенном для широкой публики, они ориентировались на образцы придворного искусства Филиппа IV (ил. 17) и Людовика Святого (ил. 18).
Что же касается «Роскошного часослова»63, то на его страницах, иллюминированных в 90-е годы XIV в. по заказу Жана Орлеанского для герцога Беррийского, напротив, лишь во второстепенных местах воспроизводятся классические «формулировки», выработанные ранее в мастерской «мастера Библии Жана де Си» (ил. 13), - только в качестве цитат, отсылающих к стилю, принятому в прошлом (ил. 20). Они явно контрастируют со стилистикой основных миниа-
224
Ил. 19. Статуя на башне Мобержон. Пуатье. Дворец Правосудия
тюр, поскольку на тех мотивы драпировок не играют уже самостоятельной роли: одеяния служат лишь для того, чтобы очертить тело, - тканям вообще уделяется куда меньше внимания и изображаются они куда проще. Сокращая и «усмиряя» таким странным образом роль драпировок, Жан Орлеанский отказывается не только от исторических реминисценций в оформлении нижнего края страницы и инициалов, но и от своего же собственного стиля, проявившегося в «Нарбоннской завеси» (ил. 9). Ведь в «Роскошном часослове» фигуры сводятся к тому действию, которое они совершают, одеяния оказываются просто одеждой, а не важнейшим средством выражения, причем одновременно костюмы обогащаются большим количеством натуралистично изображенных деталей.
Во всем этом создатель «Роскошного часослова» предстает сознательным новатором в области эстетики, поскольку он испытывает новые возможности формообразования и при этом ясно подчеркивает дистанцию, отделяющую их от стилевых стандартов, принятых некогда при дворе Карла V. Он также оказывается в состоянии заново определить стиль государевой magnificentia, открывая путь тому подчеркнутому реализму в деталях, которому предстояло в XV в. в «Роскошном часослове» братьев Лимбургов или в работах «мастера Бусико» для бургундского двора наглядно предъявить сложные знаковые системы одеяний и инсигний, гербов и девизов64. В них семантика реалий, материала и цвета, свидетельствующих о ценностях и иерархичности, полностью замещает тот язык средств выражения, который был ориентирован на представление о sainte et sacree lignie - святой и священной династии, который определял дух символической коммуникации и репрезентации в кодексах Карла V.
Братья Лимбурги в «Роскошном часослове» Жана Беррийского последовательно ориентировали язык форм мира своих изображений на специфическое восприятие действительности, свойственное
1 Я вплети
225
Ил. 20. «Роскошный часослов из Нотр-Дам». Париж. Национальная библиотека. Ms. Nouv. acq. Lat. 3093. P. 68
226
миру придворному, на предметно насыщенную знаковую систему символической коммуникации и репрезентации (ил. 6). В «Морали-зованной Библии» бургундского герцога (ил. 7) они же следуют, напротив, тем приниципам построения фигур, которые были применены в рукописи, служившей для них прямым образцом, - «Морализо-ванной Библии» герцога Жана II - как миниатюрам «мастера Библии Жана де Си», возникшим в середине XIV в., так и тем, которыми их заменил в середине 70-х годов «мастер коронации» (ил. 21)65. Тектоника трактовки драпировок в стиле Пюсселя превращается в кодексе Филиппа Смелого в мощные, пластично моделированные массы одеяний, линии складок распределяются равномернее и покрывают намного большую площадь вокруг фигур.
В придворном искусстве герцога Орлеанского та же тенденция к усилению массивности как в деталях, так и, в целом, к более простой обрисовке и по большей части параллельному расположению складок ярко проявилась и в монументальной скульптуре (ил. 4). Так, например, в статуе св. Михаила в замке Пьерфонд (ил. 22), возникшей, как и прочие сохранившиеся фрагменты некогда богатого скульптурного украшения во второй половине 90-х годов66, заметно родство, пускай и отдаленное, со скульптурой Иоанна Евангелиста Жана Льежского67 из круга придворных художников Карла V (ил. 23). Однако на более поздней статуе св. Михаила концентрические свисающие складки в верхней части туловища усложнены, а ступни, стоящие на земле, скрыты ниспадающей массой одеяний.
Однако как раз это изобилие драпировки не является столь новаторским, как может показаться при сравнении со скульптурами, сделанными по заказу Карла V в стилистике genus humile. Ведь то, что придворное искусство герцога Орлеанского предъявляет в конце столетия средствами монументальной скульптуры, было в распоряжении художников уже в 20-е годы, причем в большом количестве вариантов - правда, в другой технике. Ведь уже в «Бельвильском бревиарии»68 из мастерской Жана Пюсселя встречаются на страницах календаря образы, в которых только одеяния и принимают на себя функцию формирования различных частей фигур (ил. 24). V пророков и апостолов из цикла «Верую» очень богатые драпировки; сложные наложения тканей друг на друга, переходы между ними создают прихотливую динамику форм, совершенно скрывающих тела, а трактовка свисающих краев одеяний заставляет воспринимать Фигуры не плоскостными, а вполне объемными.
Эти характерные черты построения фигур воспроизводились в Живописи то и дело. Жан Бондоль - pictor regis Карла V - перенес их в монументальный масштаб, когда по заказу герцога Анжуйского создал полотна, по которым около 1380 г. в мастерской Николя ьатая был создан цикл гобеленов на тему Апокалипсиса (ил. 25)69. По Некоторым мотивам и формам (плащи, плотно облегающие тела, ча-
227
Ил. 21. «Морализованная Библия». Париж.
Национальная библиотека. Ms. Fr. 167. Fol. 1
228
Ил. 22. Статуя архангела Михаила. Пьерфонд. Замок
Ил. 23. Статуя евангелиста Иоанна. Париж. Национальный музей Средневековья - Термы Клюни
сти тел, вырывающиеся под прямым углом из основного контура, или же нависающие одна над другой горизонтальные складки) можно понять, что Жан Бондоль воспользовался образцами, выполненными в стиле сцены Благовещения на среднем портале западного фасада Реймсского собора, возникшей ок. 1230-1233 гг., (ил. 26), - чтобы придать стилю genus grande гобеленов особое достоинство и авторитетность старины. Контекст, в котором omatus difficilis допускается в такие ретроспектирующие изображения, указывает на то, что к характерным художественным типам середины ХШ в. прибегали как к формулам, придающим особое достоинство, и что их древность рассматривалась как очень подходящая для богатого и торжественного stilus gravis.
229
Ил. 24. «Бельвильский бревиарий». Париж.
Национальная библиотека. Ms. Lat. 10483-10484. Т. 1. Fl. 6v
Ил. 25. «Анжерский Апокалипсис». Гобелен первый, сцена 6. Анжер. Замок
230
Ил. 26. Благовещение. Реймс. Собор Нотр-Дам. Центральный западный портал
На этом фоне не остается никаких сомнений в том, что подчеркнуто пышные и декоративные драпировки скульптур, созданных в кругу Людовика Орлеанского, - св. Михаил в Пьерфонде (ил. 22) или композиция коронования Марии над главным порталом замка Ла Ферте-Милон (ил. 4) - являются признаками того, что герцог намеревался широко применить stilus gravis придворной magnificien-tia, уже введенный в живописи, также и для монументальной скульптуры своего двора. Эта тенденция к замене стиля княжеской humili-tas, доминировавшего при Карле V и воспроизводившегося Жаном Беррийским в Пуатье, проявляется в 90-е годы и при королевском дворе в Париже. Там портал Сен-Шапель в Венсене был украшен скульптурой (ил. 27)70, в которой очевидны заимствования у того рода genus grande, которым пользовались книжные миниатюристы Карла V при верном следовании традициям позднекапетингского
231
Ил. 27. Фигура в основании архивольта. Венсен. Сен-Шапель.
Западный портал
Ил. 28. Фигуры с гробницы Жана Лагранжа. Авиньон. Музей Малого дворца. (Гипсовые слепки)
232
придворного искусства (ил. 13). Но около 1400 г. рельефы балдахина на гробнице Людовика Бурбона и его супруги Анны Овернской в церкви бенедиктинского приората в Сувиньи71 или же статуи над захоронением внутренностей кардинала Жана Лагранжа в церкви бенедиктинской коллегии Сент-Марциал в Авиньоне (ил. 28)72 позволяют наконец заметить, что правила роскошного стиля в репрезентации власти, воплощаемые omatus difficilis, стали уже во многом обязательными.
Итак, во всех этих процессах трансформации мне кажутся поучительными прежде всего два аспекта. Кто задается вопросом об общественно-историческом и культурно-историческом месте герцогского придворного искусства времен Карла VI, должен учесть, что в репрезентации власти гораздо шире использовались уровень артикуляции и языковые формы, чем об этом свидетельствует традиционная политическая иконография. История стилей этих десятилетий воспринимается по-другому, если более не смотреть на качество форм как индифферентный к смыслу аксессуар «жестких», потому как предметно озвученных посланий. И не предполагаемая закономерность определенного стилевого развития или же эстетические вкусовые предпочтения влияли на художественное воплощение заказанных двором произведений искусства рубежа XIV-XV вв., но смыслы, индуцируемые средствами самого стиля как такового. Genera dicendi (речевые стили) являются надежным ключом к всеобъемлющему пониманию образов. С их помощью можно точнее определить притязания и самосознание заказчиков. Следовательно, с позиций этого смыслоизмерения следует попытаться заново открыть произведения искусства, созданные по княжеским заказам в эпоху Карла VI.
1 История восприятия и осмысления французского придворного искусства рубежа XIV и XV вв. еще не написана; насколько перспективным может быть рассмотрение под историческим углом зрения того, как оно осваивалось и какими смыслами наделялось, показывает пример такого исследования, как: Camille М. The «Tres Riches Heures»: An Illuminated Manuscript in the Age of Mechanical Reproduction// Critical Inquiry. 1990. Vol. 17. P. 72-107; о главных клише, при помощи которых принято описывать придворное искусство, см., помимо прочего: Carque В. Stil und Erinnerung. Franzosische Hofkunst im Jahrhundert Karls V. und im Zeitalter ihrer Deutung. Gottingen, 2004. S. 56 и далее, 193-208 и 367-383.
2 Об этом авторе см: Un combat pour la sculpture. Louis Courajod (1841-1896), historien d’art et conservateur / Ed. G. Bresc-Bautier. P., 2003; о Школе Лувра см.: 1882-1932: L’Ecole du Louvre / 6d. H. Verne. P., 1932.
3 Обзор образов этой эпохи см.: Ferguson W.K. The Renaissance in Historical Thought. Cambridge (Mass.), 1948. Ch. V-XI; Baeyens H. Begrip en Probleem van de Renaissance. Leuven, 1952; Stierle K. Renaissance. Die Entstehung eines Epochenbegriffs aus dem Geist des 19. Jahrhunderts Ц Epochenschwelle und EpochenbewuBtsein / Hrsg. von R. Herzog und R. Koselleck. Munchen, 1987. S. 453-492; Bullen J.B. The Myth of the Renaissance in Nineteenth-Century Writing.
233
Oxford, 1994; и специально о воззрениях Мишле и Буркхардта, по-прежнему продолжающих оказывать сильное влияние: Le Goff J. Michelet et le Moyen Age, aujourd’hui // Michelet J. (Euvres completes / Ed. P. Viallaneix. 1974. Vol. 4. P., P. 45-63; Febvre L. Michelet et la Renaissance. P., 1992; Stadelmann R. Jacob Burckhardt und das Mittelalter // Historische Zeitschrift. 1930. Bd. 142. S. 457-515; Janssen EM. Jacob Burckhardt und die Renaissance. Assen, 1970; Renaissance und Renaissancismus von Jacob Burckhardt bis Thomas Mann / Hrsg. von August Buck. Tiibingen, 1990; Ganz P Jacob Burckhardt and the Study of the Middle Ages // Begegnungen mit Jacob Burckhardt / Hrsg. von A. Cesana und L. Gossman. Basel; Munchen, 2004. S. 229-252.
4 Изложение концепции «Северного Ренессанса» см.: Courajod L. Lemons professees а ГЁсо1е du Louvre (1887-1896) / Ed. H. Lemonnier et A. Michel. T. 1-3. P., 1899-1903. Прежде всего T. 2: Origines de la Renaissance; кроме того: Idem. Les origines de la Renaissance en France au XlVe et au XVe siecle. P., 1888; Idem. La part de la France du Nord dans 1’oeuvre de la Renaissance. P., 1890; см. кроме того также: Fierens-Gevaert H. Ёtudes sur 1’Art Flamand. La Renaissance septentrionale et les premiers maitres des Flandres. Bruxelles, 1905.
5 Firmenich-Richartz E. Sulpiz und Melchior Boisseree als Kunstsammler. Ein Beitrag zur Geschichte der Romantik. Jena, 1916; Venturi L. Il gusto dei primitivi. Bologna, 1926; Previtali G. La fortuna dei primitivi. Torino, 1964 (2-е изд. - 1989); Sulzberger S. La rehabilitation des Primitifs Flamands 1802-1867. Vol. 1-2. Bruxelles, 1961; Haskell F. Rediscoveries in Art. L., 1976; Lunzer V Die Forschung zur Kunst der Bruder van Eyck im 19. Jahrhundert. Diss. Phil. Wien, 1983; Bickendorf G. Der Beginn der Kunstgeschichtsschreibung unter dem Paradigma «Geschichte». Gustav Friedrich Waagens Friihschrift «Ueber Hubert und Johann van Eyck». Worms, 1985; Impact 1902 Revisited. Early Flemish and Ancient Art Exhibition, Bruges 15th June -15th September 1902. Bruges, 2002 (каталог выставки в Брюгге, Арентсхойс, 2002 г.); Несктапп U. Die Sammlung Boisseree. Konzeption und Rezeptionsgeschichte einer romantischen Kunstsammlung zwischen 1804 und 1827. Munchen, 2003; Thiebaut D., Lorentz Ph., Martin F.-R. Primitifs fran^ais. Decouvertes et redecouvertes. P., 2004 (каталог выставки в Париже, Лувре, 2004 г.).
6 Delisle L. Les livres d’heures du due de Berry // Gazette des Beaux-Arts 29. 1884. P. 97-110, 281-292, 391^105; Idem. Recherches sur la librairie de Charles V, Roi de France, 1337-1380. Recherches sur la formation de la librairie et description des manuscrits. Inventaire gdneral des livres ayant appartenu aux rois Charles V et Charles VI et & Jean, due de Berry. T. 1-3. P., 1907; Durrieu P. Les Tres Riches Heures de Jean de France, due de Berry. P., 1904; Idem. La Peinture en France // Histoire de l’art depuis les premiers temps Chretiens jusqu’a nos jours / Ёd. A. Michel. T. 3: Le Realisme. Les Debuts de la Renaissance. Partes 1-2. P., 1907-1908. P. 101-171; Michel A. La sculpture en France et dans les pays du nord I: La sculpture en France // Ibid. P. 375—421; Kleinclausz A. Claus Sluter et la sculpture bourguignonne au XVe siecle. P., 1905.
7 См. обзор источников: Franklin A. L. Les Sources de 1’histoire de France. Notices bibliographiques et analytiques des inventaires et des recueils de documents relatifs a 1’histoire de France. P., 1877; Mely F. de, Bishop E. Bibliographie gdnerale des inventaires imprimes. T. 1-3. P., 1892-1895; Chevalier U. Repertoire des sources his-toriques du Moyen Age. Pars 1: Topo-bibliographie. T. 1-2. P., 1894-1903; Pars 2: Bio-bibliographie. T. 1-2. P., 1905—1907; Molinier A. Les Sources de 1’histoire de France I: Des origines aux guerres d’ltalie. T. 1—6. P., 1901-1906.
8 Champollion-Figeac A. Louis et Charles, dues d’Orleans. Leur influence sur les arts, la litt£rature et 1’esprit de leur siecle. D’apres les documents originaux et les pein-
234
tures des manuscrits. P., 1844; Laborde L. de. Les Dues de Bourgogne, etudes sur les Lettres, les Arts et I’lndustrie pendant le XVe siecle, et plus particulidrement dans les pays-Bas et le Duche de Bourgogne. Vol. 1-3. P., 1849-1952; Champeaux A. de, Gauchery P. Les travaux d’art executes pour Jean de France, due de Berry. Avec une etude biographique sur les artistes employes par ce prince. P., 1894; Huizinga J. Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en viftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Haarlem, 1919.
9 В качестве примера новых исследований см.: Zeman G. Studien zur Skulptur am Hof des Jean de Berry: Stilfragen // Wiener Jahrbuch fur Kunstgeschichte. 1995. Bd. 48. S. 165-214; Die Kunst der burgundischen Niederlande / Hrsg. von B. Franke und B. Welzel. B., 1997; Heinrichs-Schreiber U. Vincennes und die hofische Skulptur. Die Bildhauerkunst in Paris 1360-1420. B., 1997; Kollermann A.-F. Das Grabmal des Herzogs Louis II de Bourbon (1336-1410) und seiner Gemahlin Anne d’Auvergne (1358-1416) in Souvigny Ц Wiener Jahrbuch fur Kunstgeschichte. 1998. Bd. 51. S. 33-62, 171-184; Art et soci£te en France au XVe siecle / Ёd. Ch. Prigent. P., 1999; Alexandre A. Les traveaux d’art et les collections de Louis d’Orleans (1389-1407) // Positions des theses. 1999. P. 9-15; Chatelet A. L’age d’or du manuscrit a peintures en France au temps de Charles VI et les Heures du Marechai Bou^icaut. Dijon, 2000; Pleybert F. Les sculpteurs de Louis de France // L’art gothique dans 1’Oise et ses environs (Xlleme - XlVeme siecle). Beauvais, 2001. P. 207-221; Gautier М.-Ё. Les dues de Bourbon face a la mort. Les elections de sepulture (fin XHIe - debut XVIe siecle) // Positions des theses. P. 53-62; Prochno R. Die Kartause von Champmol. Grablege der burgundischen Herzbge 1364—1477. B., 2002; о замке Гремоль см.: Vie de cour en Bourgogne a la fin du Moyen Age / Ed. P. Beck. Saint-Cyr-sur-Loire, 2002; Belozerskaya M. Rethinking the Renaissance. Burgundian Arts Across Europe. Cambridge, 2002; Hirschbiegel J. Etrennes. Untersuchungen zum hofischen Geschenkverkehr im spatmittelalterlichen Frankreich der Zeit Konig Karls VI. (1380-1422). Miinchen, 2003; Henwood Ph. Les collections du tresor royal sous le regne de Charles VI (1380-1422). L’inventaire de 1400. P., 2004; Kovacs Ё. L’age d’or de 1’orfevrerie parisienne au temps des princes de Valois. Dijon, 2004.
10 Paris 1400. Les arts sous Charles VI. P., 2004 (каталог выставки в Лувре); L’art a la cour de Bourgogne. Le mec6nat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, 1364-1419 (каталог выставки в дижонском Музее изящных искусств) в Кливленде - The Cleveland Museum of Art, 2004/05). P., 2004; Une fondation disparue de Jean de France, due de Berry. La Sainte-Chapelle de Bourges. P., 2004 (каталог выставки в Бурже, Музей Берри); Les «Trds Riches Heures du Due de Berry» et 1’enluminure en France au debut du XVe siecle. P., 2004 (каталог выставки в Шантийи, Музей Конде); без каталога осталась выставка в Шато де Блуа: Louis d’Orleans et Valentine Visconti. M6cenat et politique autour de 1400; в связи с этой выставкой вышли из печати: Les Princes des fleurs de lis. La France et les arts en 1400. P., 2004; Villela-Petit I. Le Gothique international. L’art en France au temps de Charles VI. P., 2004; еще не опубликованные «XlXes Rencontres de 1’Ecole du Louvre», проходившие 7-8 июля в Париже и 9-10 июля в Дижоне, были полностью посвящены теме «La creation artistique en France autour de 1400».
11 Paris 1400... P. 261-301 («Le grand renouveau pictural»), 303-339 («Questions de style»). Возражения против маргинализации вопросов стиля высказывались особенно со стороны приверженцев традиционного изучения истории стиля -так, например, в работе: Konig Е. Frankreich feiert das spate Mittelalter // Kunstchronik. Bd. 58. 2005. S. 88-105. О том, что «история стилей» играла ведущую, но при этом противоречивую роль в выработке концепции и организации больших выставок, см.: «lis Pastes du Gothique. Le siecle de Charles V» (Париж,
235
Национальные галереи Большого дворца, 1981/82) и «L’Art au temps des rois inaudits. Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328» (Париж, Национальные галереи Большого дворца, 1998) см.: Carque В. Op. cit. S. 32-42, 208-224; не менее спорна авторитетная концепция «Северного Возрождения», некритичное восприятие которой отчетливо проявилось в работах: Klotz Н. Der Stil des Neuen. Die europaische Renaissance. Stuttgart, 1997; Smith J.Ch. The Northern Renaissance. N. Y. etc., 2004.
12 Morand K. Claus Sluter. Artist at the Court of Burgundy. L., 1991. P. 79-85, 314-320; Lindquist Sh.Ch. Patronage, Piety and Politics in the Art and Architectural Programs at the Chartreuse de Champmol in Dijon. Ann Arbor, 1996. P. 35-40, 320-327; Prochno R. Op. cit. S. 22—45; L’art a la cour de Bourgogne. P. 165-263 (о Шаммоле); P. 175-178 (об этом портале).
13 Об этой резиденции см.: Magne L. Le Palais de justice de Poitiers. £tude sur l’art fran^ais au XlVe et au XVe siecle. P., 1904; о художественных формах, использованных при создании каминной стены, см.: Watson J. Sculpted Fireplaces in Late Medieval France: Imagery and Context // Secular Sculpture 1300-1550 / Ed. by Ph. Lindley und Th. Frangenberg. Stamford, 2000. P. 144-165; о статуях: Schwarz M.V. Hofische Skulptur im 14. Jahrhundert. Entwicklungsphasen und Vermittlungswege im Vorfeld des Weichen Stils. Bde 1-2. Worms, 1986. S. 175 и далее; Paris 1400..., № 1.
14 Об этом замке см.: Dulau R. Le chateau de Pierrefonds. P.. 1997; о скульптурах: Heinrichs-Schreiber U. Op. cit. S. 205-209; Paris 1400... № 60, 133 и 199.
15 Erlande-Brandenburg A. L’entree de la Vierge au Paradis. Le relief de La Ferte-Milon //Aisne m6ridionale. Congres Archeologique de France 1990. P., 1994. Vol. 148. P. 328,-339; Paris 1400... № 61.
Morand K.S. 91-120, 330-349; Lindquist Sh.Ch. Op. cit. P. 109-117, 250-260; Prochno R. Op. cit. S. 215-239; L’art a la cour de Bourgogne. P. 212-221.
17 Шантийи. Музей Конде. Ms. 65. - Новая работа об этом кодексе: Les «Tres Riches Heures du Due de Berry»...; см. кроме того: CazellesR., RathoferJ. Das Stundenbuch des Due de Berry. Les Tres Riches Heures. Munchen, 1988; Meiss M. French Painting in the Time of Jean de Berry. The Limbourgs and their Contemporaries. Vol. 1-2. L.; N.Y., 1974. P. 143-224, 308-324.
18 Париж. Национальная библиотека. Ms. Fr. 166. (Meiss M. Op. cit. P. 81-101; Lowden J. The Making of the «Bibles Moralisees». Vol. 1-2. University Park, 2000. P. 251-284; Paris 1400... № 184).
19 Chatelet A. Jean van Eyck enlumineur. Les «Heures de Turin» et de «Milan-Turin». Strasbourg, 1993; Konig E., Bartz G. et al. Die Blatter im Louvre und das ver-lorene Turiner Gebetbuch (RF 2022-2025), Departement des Arts Graphiques, Musee du Louvre, Paris, und Handschrift K.IV.29, Biblioteca Nazionale Uni versitaria, Torino). Kommentar. Luzem, 1994; Marrow J.H., Pettenati S., Buren A.H. von. Das Turin-Mailander Stundenbuch. Turin, Museo Civico, Inv. Nr. 47. Kommentar. Luzem, 1996.
20 Об этой постоянно навязываемой интерпретации и о том, насколько она сомнительна и зыбка, см.: Carque В. Op. cit. S. 321-365.
21 Об истории изучения образов, рождавшихся из такого рода, см.: Carque В. Europa 1400 - Wunschraum und Wunschzeit des Intemationalen und Schonen, Hofischen und Weichen. Zu den Imaginarien kunsthistorischer Stilbegriffe Ц Das Hochaltarretabel der St. Jacobi-Kirche in Gottingen / Hrsg. von B. Carque und H. Rockelein. Gottingen, 2005. S. 515-553.
22 To, что при изображении этих лиц, вопреки принятой тогда манере, речь шла о типажах, а не об индивидуальных образах, показано в работе: Recht R. La rhetorique formelle de Claus Sluter, sculpteur du Due de Bourgogne // Das Portrat vor der Erfmdung des Portrats / Hrsg. von M. Biichsel und P. Schmidt. Mainz, 2003. S. 205-217.
236
23 Критерий индивидуальности того или иного художественного стиля, которым пользуются «историки стилей», оказывается в сомнительной зависимости от идей о ведущей роли гениев в возникновении эстетических новаций; об этом см.: Сагциё В. Stil und Erinnerung. S. 127-131, 208-213.
24 См. выше примеч. 8.
25 Обзор тем исследований последнего времени, посвященных двору, и проявившихся в них тенденций см.: Сагдиё В. Stil und Erinnerung. S. 383-398.
26 См. об этом литературу, указанную в примеч. 12.
27 Meiss М. French Painting in the Time of Jean de Berry. The Late Fourteenth Century and the Patronage of the Duke. Vol. 1-2. L.; N. Y., 1967. P. 68-94; Une fon-dation disparue... P. 154 и далее, а также № 55, 56.
28 Brassat W. Tapisserien und Politik: Funktionen, Kontexte und Rezeption eines reprasentativen Mediums. B., 1992; Franke B. Alttestamentliche Tapisserie und Zeremoniell am burgundischen Hof // Zeremoniell als hofische Asthetik in Spatmittelalter und Friiher Neuzeit / Hrsg. von J.J. Berns und Th. Rahn. Tubingen, 1995. S. 332-352; Eadem. Ritter und Heroen der «burgundischen Antike». Franko-ilamische Tapisserie des 15. Jahrhunderts Ц Stadel-Jahrbuch. N.F. 1997. Bd. 16. S. 113-146; Eadem. Assuerus und Esther am Burgunderhof. Zur Rezeption des Buches Esther in den Niederlanden (1450 bis 1530). B., 1998; Rapp Buri A., Stucky-Schiirer M. Burgundische Tapisserien. Munchen, 2001.
29 Ewert U.Ch., Hirschbiegel J. Gabe und Gegengabe. Das Erscheinungsbild einer Sonderform hofischer Representation am Beispiel des franzosisch/burgundischen Gabentausches zum neuen Jahr um 1400 // Vierteljahresschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 2000. Bd. 87. S. 5-37; Buettner B. Past Presents. New Year’s Gifts at the Valois Courts, ca. 1400 // Art Bulletin. 2001. Vol. 83. P. 598-625; Hirschbiegel J. Zeichen der Gunst. Neujahrsgeschenke am burgundischen Hof zur Zeit Konig Karls VI. von Frankreich (1380-1422) // Mcnschcnbildcr - Mcnschcnbildner. Individuum und Gruppe im Blick des Historikers / Hrsg. von U.Ch. Ewert und St. Selzer. B., 2002. S. 213-240; Idem. Etrennes. Untersuchungen zum hofischen Geschenkverkehr im spatmittelalterlichen Frankreich der Zeit Konig Karls VI. (1380-1422). Munchen, 2003; о более широком контексте этого явления см. наряду с литературой, указанной в примеч. 57, также: Slanifka S. Krieg der Zeichen. Die visuelle Politik Johanns ohne Furcht und der armagnakisch-burgundische Biirgerkrieg. Gottingen, 2002; Welzel B. Sichtbare Herrschaft - Paradigmen hofischer Kunst // Principes. Dynastien und Hofe im spaten Mittelalter / Hrsg. von C. Nolte. Stuttgart, 2002. S. 87-106: Hahn P.-M., Schutte U. Thesen zur Rekonstruktion hofischer Zeichensysteme in der Friihen Neuzeit // Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Gottingen. 2003. Heft 13. S. 19^17.
30 Das Goldene RoBl. Ein Meisterwerk der Pariser Hofkunst um 1400 (каталог выставки в Баварском национальном музее в Мюнхене, 1995) / Hrsg. von R. Baumstark. Munchen, 1995; Hirschbiegel J. Etrennes. S. 62 и далее; Paris 1400... № 95.
31 Autrand F. Jean de Berry. L’art et le pouvoir. P., 2000. См. гл. XXI: «De Гог et des rubis: la mise en beaute du pouvoir», сходным образом и в гл. XVII: «Le pouvoir du beau»; в качестве примера использования сходных оборотов в трудах искусствоведов см.: Аш1гё Ch. L’Art frangais. Т. 1: Pre-Moyen Age, Moyen Age. P., 1993. P. 278-334.
32 Huizinga J. Herbst des Mittelalters. Studien liber Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden. Stuttgart, 1952. S. 270. Первое издание на голландском языке в 1919 г.
33 Историю возникновения этого образа и его критику см.: Graus F. Das Spatmittelalter als Krisenzeit. Ein Literaturbericht als Zwischenbilanz Ц Mediaevalia
237
Bohemica. Suppiementum 1. 1969. S. 4—75; Idem. Vom «Schwarzen Tod» zur Reformation. Der krisenhafte Charakter des europaischen Spatmittelalters // Revolte und Revolution in Europa / Hrsg. von P. Blickle. Munchen, 1975. S. 10-30; а также см.: Le Goff J. FrantiSek Graus et la crise du XlVe siecle: Les structures et le hasard H Spannungen und Widerspriiche. Gedenkschrift fiir FrantiSek Graus / Hrsg. von S. Burghartz, H.-J. Gilomen et al. Sigmaringen, 1992. S. 13-20; кроме того см.: Schuster P Die Krise des Spatmittelalters. Zur Evidenz eines sozial- und wirtschafts-geschichtlichen Paradigmas in der Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts // Historische Zeitschrift. 1999. Bd. 269. S. 19-55; обзор обсуждавшихся здесь аспектов см.: Europa 1400. Die Krise des Spatmittelalters / Hrsg. von F. Seibt und W. Eberhard. Stuttgart, 1984; Das spatmittelalterliche Konigtum im europaischen Vergleich / Hrsg. von R. Schneider. Sigmaringen, 1987. Teil 1: «Das Konigtum in der Krise urn die Wende des 14./15. Jahrhunderts». S. 15-294; Das 14. Jahrhundert - Krisenzeit I Hrsg. von W. Buckl. Regensburg, 1995; Bois G. La grande depression medievale: XlVe et XVe siecle. P., 2000.
34 Об истории возникновения и развития этого интерпретационного клише см.: Carque В. Stil und Erinnerung. S. 193-208.
35 Ibid. S. 435-440 и 414-543.
36 Ibid. Особенно S. 416-434.
37 Об этом частном аспекте «кризиса Средневековья» см. литературу, приведенную в примеч. 33, и прежде всего: Europa 1400. Die Krise des Spatmittelalters; Das spatmittelalterliche Konigtum.
3\ O политической и общественной ситуации в десятилетия, пришедшиеся на рубеж XIV и XV вв., см., например: Schoos J. Der Machtkampf zwischen Burgund und Orleans unter den Herzogen Philipp dem Kiihnen, Johann ohne Furcht von Burgund und Ludwig von Orleans. Luxembourg, 1956; Nordberg M. Les dues et la royaute. Etudes sur la rivalite des dues d’Orleans et de Bourgogne. Uppsala, 1964; Rey M. Les finances royales sous Charles VI. Les causes du deficit. P., 1965; Famiglietti R.C. Royal Intrigue: Crisis at the Court of Charles VI. N.Y., 1986; Schnerb B. Les Armagnacs et les Bourguignons. La maudite guerre. P., 1988; Idem. L’Etat bourguignon, 1363-1477. P., 1999; Guenee B. Un meurtre, une society. L’assassinat du Due d’Orleans, 23 novembre 1407. P., 1992; Saint-Denis et la гоуаШё. Etudes offertes a Bernard Guenee / Ed. F. Autrand, Cl. Gauvard et J.-M. Moeglin. P., 1999, особенно статьи из первой части («Le regne de Charles VI». P. 11-298); SlanZka S. Op. cit.; об отдельных исторических фигурах: Jarry Е. La vie politique de Louis de France, due d’Orteans. P., 1889; Leguai A. Les dues de Bourbon pendant la crise monarchique du XVe siecle. Contribution a 1’etude des apanages. P., 1962; Vaughan R. Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State. L., 1962; Idem. John the Fearless. The Growth of Burgundian Power. L., 1966; Idem. Philip the Good. The Apogee of Burgundy. L., 1970; LehouxF. Jean de France, Due de Bern. Sa vie, son action politique (1340-141-6). T. 1-4. P., 1966-1968; Autrand F. Charles VI. La folie du roi. P., 1986; Eadem. Jean de Berry...; Guenee B. La folie de Charles VI, Roi Bien-Aime. P., 2004.
39 Les Fastes du Gothique. Le siecle de Charles V. P., 1981 (каталог выставки в Национальных галереях Большого дворца в Париже, 1981-1982). № 68; Baron F. Musee du Louvre, departement des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modemes. Sculptures franchises I: Moyen Age. P., 1996. S. 150, в обеих публикациях приведены подробные списки литературы.
40 Meiss М. Op. cit. Р. 99-107; Les Fastes du Gothique. № 324; Sterling Ch. La peinture medievale a Paris 1300-1500. T. 1-2. P., 1987-1990. Nr. 35; Nash S. The «Parement de Narbonne». Context and Technique // The Fabric of Images. European Paintings of Textile Supports in the Fourteenth and Fifteenth Centuries / Ed. by
238
C. Villers. L., 2000. P. 77-87; Schwarz M.V Schemen aus Asche. Das Parament von Narbonne im Louvre // Idem. Visuelle Medien im christlichen Kult. Wien; Koln; Weimar, 2002. S. 101-129; Paris 1400... № 8.
41 О разнообразном и многослойном наборе образов династического самовосприятия и самовыражения см/. Сагциё В. Stil und Erinnerung. Кар. V, 2; VI, 2.
42 Babeion J.-P Une nouvelle image de Saint Louis sur un bas-relief du Mus6e Camavalet Ц Les monuments historiques de la France. 1970. T. 16. P. 31 -40; L’Art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328 P., 1998 (каталог выставки в Национальных галереях Большого дворца в Париже, 1998). № 50.
43 Нью-Йорк. Метрополитен-музей. The Cloisters Асе. N 54.1. 2. Об этой рукописи и истории ее изучения см. недавние работы: Krieger М. Grisaille als Metapher. Zum Entstehen der Peinture en Camaieu im friihen 14. Jahrhundert. Wien, 1995. S. 7-36; Rouse R.H., Rouse MA. Manuscripts and Their Makers. Commercial Book Producers in Medieval Paris, 1200-1500. Vol. 1-2. Turnhout, 2000. Vol. 2. P. 208-209; Drake Boehm B. Le mec6nat de Jeanne d’Evreux Ц 1300... L’Art au temps de Philippe le Bel / Ed. D. Gaborit-Chopin et F. Avril. P., 2001. P. 15-31, здесь P. 22-26.
44 Об этой группе и сохранившихся от нее фрагментах см.: Pradel Р. Communication sur les tombeaux des quatre demiers cap6tiens directs // Comptes ren-dus de 1’Academic des Inscriptions et Belles-Lettres. 1969. P. 180-181; Schmidt G. Jean Pepin de Huy. Stand der Forschung und offene Fragen Ц Schmidt G. Gotische Bildwerke und ihre Meister. Bde 1-2. Wien; Koln etc., 1992. S. 46-58, здесь 54 и далее (впервые опубликовано в 1971 г. с добавлениями в 1990 г.); Idem. Evrard d’Orleans und die Graber der vier letzten Kapetinger // Ibid. S. 59-71; L’Art au temps des rois maudits... № 76.
45 Кливленд (Огайо, США). Кливлендский художественный музей. Mr. and Mrs. William H. Marlatt Fund 1962.287. [Bober H.] The Gotha Missal. Illuminated by Jean Bondol Ц H.P. Kraus. Catalogue 100. N.Y., 1962. P. 32-39; Wixom W.D. A Missal for a King. A First Exhibition // Bulletin of the Cleveland Museum of Art 1963. P. 158-173; Winter P de. The «Grandes Heures» of Philip the Bold, Duke of Burgundy: The Copyist Jean L’Avenant and His Patrons at the French Court // Speculum. 1982. Vol. 57. P. 786-842, passim; L’art a la cour de Bourgogne... № 23.
46 О типе оформления страницы с каноном и его значении см.: Ebner А. Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kunstgeschichte des Missale Romanum im Mittelalter. Iter italicum. Freiburg i. Br., 1896. S. 429-454; Suntrup R. Те igitur-Initialen und Kanonbilder in mittelalterlichen Sakramentarhandschriften // Text und Bild. Aspekte des Zusammenwirkens zweier Kiinste in Mittelalter und friiher Neuzeit / Hrsg. von Ch. Meier und U. Ruberg. Wiesbaden, 1980. S. 278-382.
47 Париж, частное собрание, и Брюссель, Королевская библиотека. Ms. 9505-9506 («Этика»). La librairie de Charles V. P., 1968 (каталог выставки в Национальной библиотеке в Париже, 1968). № 202,203; Les Fastes du Gothique... № 281 (Париж); Winter P. de. La bibliotheque de Philippe le Hardi, due de Bourgogne (1364-1404). P., 1985. Nr. 17 (Брюссель); L’art a la cour de Bourgogne... № 29 (Брюссель). Об этой группе рукописей сочинений Аристотеля см. прежде все-Го: Delisle L. Les ethiques, les politiques et les economiques d’Aristote traduites et Copiees pour le roi Charles V // Delisle L. Melanges de paleographie et de bibliographie. T- 1-2. P., 1880. P. 257-282; Richter Sherman C. Imaging Aristotle. Verbal and Visual Representation in Fourteenth-Century France. Berkeley; Los Angeles, 1995.
48 Об общественно-политическом наполенении понятия «utilitas» см.: Usignan S. Parler vulgairement. Les intellectuels et la langue fran^aise aux Xllle et
239
XlVe siecles. P.; Montreal, 1987. P. 307 и далее, о повышении требований к дидактическому наполнению языковых форм см. Р. 166-171.
49 О том, сколь существенно горизонт опыта и осознания задавался риторикой, см. прежде всего: Baldwin C.S. Medieval Rhetoric and Poetic. N.Y., 1928; Bryne E. de. 6tudes d’esthetique medievale. T. 1-3. Brueg, 1946. T. 2. P. 3-68; Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik. Bde. 1-2. Munchen, 1960; Caplan H. Of Eloquence. Studies in Ancient and Medieval Rhetoric. Ithaca; L., 1970; Murphy J.J. Rhetoric in the Middle Ages. Berkeley; Los Angeles, 1974; Copeland R. Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages. Cambridge; N.Y., 1991; относительно тех учений о стиле, о которых говорится здесь и ниже, см.: Curtius E.R. Die Lehre von den drei Stilen in Altertum und Mittelalter // Romanische Forschungen. 1952. Bd. 64. S. 57-70; Quadlbauer F. Die antike Theorie der genera dicendi im lateinischen Mittelalter. Wien, 1962; Spang K. Dreistillehre Ц Historisches Worterbuch der Rhetorik / Hrsg. von G. Ueding. Darmstadt, 1994. Bd. 2. Col. 921-972; Engels J. Genera causarum // Ibid. 1996. Bd. 3. Col. 701-721.
50 Millin A.L. Antiquites Nationales, ou Recueil de monuments pour servir a 1’Histoire generale et particuliere de I’Empire Francois... T. 1-5. P., 1790-1798; T. 1. P. 30-35; Erlande-Brandenburg A. Aspects du mecenat de Charles V. La sculpture decorative // Bulletin monumental. 1972. Vol. 130. P. 303-345, здесь P. 329 и далее; Faucherre N. La Bastille, citadelle avant 1’heure? // Paris et Charles V. Arts et architecture /Ed. F. Pleybert. P., 2001. P. 85-90 (издание, сопровождавшее выставку в библиотеке Форней в Париже в 2001 г.).
51 L’Art au temps des rois maudits... № 41; Carque B. Begnadete Kiinstler, ver-fluchte Konige? Fragen an die Hofkunst Philipps IV. von Frankreich // Die Methodik der Bildinterpretation - Les methodes de Г interpretation de l’image / Hrsg. von A. von Hiilsen-Esch und Jean-Claude Schmitt. Teilbd 1. Gottingen, 2002. S. 69-116, здесь 106 и далее.
52 Sauerlander W. Gotische Skulptur in Frankreich 1140-1270. Munchen, 1970. Nr. 272; Erlande-Brandenburg A. Le roi est mort. Etude sur les fun£railles, les sdpultures et les tombeaux des rois de France jusqu’a la fin du XHIe siecle. Geneve, 1975. Nr. 98.
53 Carque B. Stil und Erinnerung. S. 322-323, 556-560.
54 Le Goff J. Saint Louis. P., 1996. P. 595-641, passim.
55 См. прежде всего: Auerbach E. Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spatantike und im Mittelalter. Bern, 1958. S. 25-63; Idem. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendlandischen Literatur. Bern; Stuttgart, 1988. S. 43 и далее, 73 и далее, 146 и далее.
56 Главным античным произведением, на которое ссылались в этом контексте, была «Никомахова этика» Аристотеля, доступная при дворе Карла V в переводе Николя Орема: Nicole Oresme. Le Livre de Ethiques d’Aristote / Ed. A.D. Menut. N.Y., 1940. P. 241-247; в отношении средневековых разработок этой темы см., например: Thomas von Aquin. Summa Theologica // Die Deutsche Thomas-Ausgabe / Hrsg. von der Albertus-Magnus-Akademie. Walberg bei Koln, 1964. Bd. 21. S. 167-180 (Quaestio, 134).
57 По поводу разных образных рядов, связывавшихся с идеей magnificentia, см., например: Franke В. Assuerus. S. 45^18; Eadem. Magnifizenz. Die Tugend der Prachtentfaltung und die franzosische Kunst um 1400 // Dortmund und Conrad von Soest im spatmittelalterlichen Europa / Hrsg. von Th. Schilp und B. WelzeL Bielefeld, 2004. S. 141-161; Paravicini W. Die zwolf «Magnificences» Karls des Kiihnen Ц Formen und Funktionen offentlicher Kommunikation im Mittelalter / Hrsg. von G. Althoff. Stuttgart, 2001. S. 319-395; об аналогичных дискурсах в Италии см: Green L. Galvano Fiamma, Azzone Visconti and the Revival of the Classical Theory of Magnificence //
240
Journal of the Warburg and Courtauld Institute. Vol. 53. 1990. P. 98-113; Gampp A.Ch. Santa Rozalia in Palestrina. Die Grablege der Barberini und das asthetische Konzept der «Magnificentia» //Romisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte. 1994. Bd. 29. S. 343-368; KentF.W. Lorenzo de’ Medici and the Art of Magnificence. Baltimore; L., 2004.
58 Характерные примеры см.: Carque В. Stil und Erinnerung. S. 450-451.
59 Ibid. Кар. V, passim.
60 Изображение заказчика также следует традициям искусства королевского двора, поскольку в нем компилируются прямые цитаты: прямые канелюры линий ног являются подражанием статуям принцев в Бастилии (ил. 16), а положение левой руки и построение каймы плаща аналогично тому, что можно видеть на лежащей фигуре Карла V в Сен-Дени. О ней см.: Carque В. Stil und Erinnerung. S. 291-294, passim.
61 Schwarz M.V. Op. cit. S. 207 и далее; о смысле этого изображения, как он отразился в источниках, см.: Autrand F. La tour Maubergeon a Poitiers: un monument de paix? // Faire memoire. Souvenir et commdmoration au Moyen Age / Ed. Cl. Carozzi. Aix-en-Provence, 1999. P. 9-13.
62 Carque B. Stil und Erinnerung. S. 437^440.
63 Париж, Национальная библиотека. Mss. nouv. acq. Lat. 3093. Konig E. Die Tres Belles Heures de Notre-Dame des Herzogs von Berry (Handschrift Nouv. acq. lat. 3093, Bibliotheque nationale, Paris). Kommentar. Luzern, 1992; Idem. Die Tres Belles Heures von Jean de France, Due de Berry. Ein Meisterwerk an der Schwelle zur Neuzeit. Munchen, 1998; Konig E., Bartz G. et al. Op. cit.; датировка работы над «Роскошным часословом» приведена в соответствии с оценкой Анны ван Бурен, которую она отстаивает в споре Э. Кёнигом с использованием аргументов из истории костюма, см.: Marro J.H., Pettenati S., Buren А.Н. von Op. cit.
64 О быстром расширении палитры форм и богатства художественного арсенала знаков визуальной репрезентации на рубеже XIV и XV вв. см.: Pastoureau М. L’effervescence embldmatique et les origines heraldiques du portrait au XIV siecle // Bulletin de la Socidte nationale des Antiquaires de France. 1985. P. 108-115; Blanc O. Parades et parures. L’invention du corps de mode a la fin du Moyen Age. P., 1997; Slanitka S. Op. cit.; Hirschbiegel J. Etrennes. О соответствующих работах в книжной иллюстрации см.: Meiss М. French Painting in the Time of Jean de Berry. The Boucicaut Master. L.; N.Y., 1968; Chatelet A. Op. cit.; Paris 1400... № 51-52 или 55.
65 Париж. Национальная библиотека. Ms. Fr. 167. (Avril F. Un chef-d’oeuvre de 1’enluminure sous le regne de Jean le Bon: La Bible moralisde manuscrit frangais 167 de la Bibliotheque nationale // Fondation Eugene Piot. Monuments et Mdmoires. 1972. Vol. 58. P. 91-125; Lowden J. Op. cit. P. 221-250; L’art a la cour de Bourgogne... N28).
66 См. выше, примеч, 14. Фигуру св. Михаила см. в недавней публикации: Paris 1400... N 199.
67 Les Fastes du Gothique... N 81; Schwarz M.V. Hofische Skulptur. S. 138-139; Schmidt G. Beitrage zu Stil und (Euvre des Jean de Liege // Schmidt G. Gotische Bildwerke. S. 77-101, здесь особенно S. 90-91, 97-98.
68 Париж. Национальная библиотека. Mss. Lat. 10483-10484 (Les Fastes du Gothique N 240 (там же указана литература); Freeman Sandler L. Jean Pucelie and the Lost Miniatures of the Belleville Breviary // Art Bulletin. 1984. Vol. 66. P. 73-96; Cocks haw P Le Brdviaire de Belleville (Paris, Bibliotheque Nationale, MSS latines 10483-10484): problemes textuels et iconographiques // Medieval Codicology, Iconography, Literature, and Translation. Studies for Keith Vai Sinclair / Ed. by P.R. Monks and D. D. R. Owen. Leiden etc., 1994. P. 94-109).
16 Образы власти...
241
69 Stucky M. Les tapisseries de Г Apocalypse d’Angers. Bern, 1973; Lestocquoy J. Deux siecles de 1’histoire de la tapisserie (1300-1500). Arras, 1978. P. 18-32; Joubert F. L’Apocalypse d’Angers et les debuts de la tapisserie historide Ц Bulletin monumental. 1981. Vol. 139. P. 125-140; Eadem. Citation a deux mains: 1’eiaboration de la tenture de 1’Apocalypse d’Angers // Revue de l’art. 1996. Vol. 114. P. 48-56; Muel F., Ruais A., Merindol Ch. de, Salet F. La tenture de 1’Apocalypse d’Angers. P., 1986; Paris 1400... N 9.
70 Heinrichs-Schreiber U. Op. cit. S. 166-176, 185-193.
71 Kbllermann A.-F. Op. cit.
72 Morganstern A. Quelques observations a propos de Г architecture du tombeau du cardinal Jean de La Grange // Bulletin monumental. 1970. N 128. P. 195-209; Les Pastes du Gothique... N 100; Chihaia P. Immortality et decomposition dans l’art du Moyen Age. Madrid, 1988. P. 233-254; Gardner J. The Tomb and the Tiara. Curial Tomb Sculpture in Rome and Avignon in the Later Middle Ages. Oxford, 1992. P. 152 и далее, 157 и далее.
Церемонии
А.В. Лаврентьев
ЛЖЕДМИТРИЙ I: ОТ ЦАРЯ К ИМПЕРАТОРУ
31 июля 1605 г. (21 июля по старому стилю) в Успенском соборе Московского Кремля был венчан на царство новый государь, «царь Дмитрий Иванович», самозваный сын Ивана Грозного Лжедмитрий I, с триумфом вошедший двумя месяцами ранее в столицу России1.
Вскоре по завершении церемонии в Польшу через Посольский приказ от имени нового российского суверена отослали грамоту, попавшую к адресату, Сигизмунду III, в сентябре того же года, с извещением о вступлении на российский трон, но не царя: «Мы венчаны... в сан императора»2. Этим вполне официальным документом Лжедмитрий более чем на столетие раньше Петра заявил о своих претензиях на императорский титул.
Несмотря на то что роспись придворных чинов и последовательности «действ» царского венчания 1605 г. разряд до наших дней не сохранил, свидетельства мемуаристов-иностранцев показывают, что в общих чертах эта церемония мало отличалась от обычного царского венчания, но за одним существенным исключением. Новый монарх венчался не одним, а двумя венцами, причем традиционно первенствующей «короне» российских великих князей и царей, шапке Мономаха, была предпочтена во время церемонии некая «императорская корона», оказавшаяся в этот момент в Москве3.
«Корона», как выяснилось, в комплекте со скипетром и державой была заказана в 1600 г. царем Борисом Годуновым придворному мастеру - ювелиру императора Священной Римской империи Рудольфа II и привезена в Москву летом 1604 г. посольством Г. фон Логау4. Сохранившееся изображение «императорской короны» (ею Самозванец увенчан на свадебной медали, отчеканенной в Москве к маю 1606 г., см. ил. 1) показывает, что «венец», вышедший Из рук ювелиров пражских императорских мастерских, формой идентичен короне императоров Священной Римской империи5.
К моменту вступления на престол Самозванца «императорская корона» провела в кремлевской казне около года, но, похоже, публично была явлена только «царем Дмитрием Ивановичем».
245
Ил. 1. Свадебная медаль Лжедмитрия I. Москва, 1606 г. (Государственный исторический музей)
Наблюдавший церемонию венчания Самозванца греческий иерарх, архиепископ Элассонский Арсений, сообщает, что «корона», которой новый самодержец был увенчан в Успенском соборе, принадлежала ранее его «отцу», т.е. Ивану Грозному, и была получена «от кесаря, великого царя Алемании», т.е. императора6. Нет особых сомнений в том, что эта версия происхождения «венца» шла от Самозванца или его окружения.
Таким образом, ссылка на «наследие» «отца» легитимизировала претензии Лжедмитрия, а сам сюжет с дарением, явно придуманный не для одного Арсения Элассонского, не мог не вызвать в памяти современников легендарную историю о российских регалиях - даре византийского императора Константина Мономаха7.
Несмотря на то что в посольских сношениях западноевропейских держав и России XVI в. русские монархи в дипломатической переписке иногда титуловались императорами-цесарями8, в России, похоже, этому факту особого значения не придавали. Здесь имелся свой взгляд на иерархию титулов. Так, имперский посол С. Гербер-штейн, подвергший сравнительному анализу значение слов «цесарь» и «царь» в славянских языках, известных дипломату не понаслышке9, отмечал, что великий князь Московский Василий III считает последний титул выше первого10.
Другой имперский дипломат, Д. Принтц фон Бухау, отмечал в посольском дневнике, что «он (царь. -АЛ.) не только приравнивает себя к ...императорам, но твердо уверен, что превосходит их... Такого же мнения придерживаются и все его подданные»11.
Ситуацию проясняет французский капитан на русской службе Ж. Маржерет, много лет проведший при московском дворе: русские считают, что «царь... важнее всех титулов», потому что «имя царя,
246
которым Богу было угодно... почтить... владетелей Израильских и Иудейских, гораздо более прилично государю, нежели “цесарь” изобретенное человеком... “Царь” важнее имени императора»12.
На самом деле, «царь» Священного Писания употребляется не только в отношении людей, но и Бога, подразумевая совершенную независимость, полноту и безграничность царской власти13. Таким образом, первенство царского титула над цесарским объяснялось употреблением его в текстах славянского перевода Священного Писания. При очевидной этимологической зависимости слова «царь» от «цесарь» принципиально было само словоупотребление, «правильность выражения», словами Б.А. Успенского14. При этом в греческом тексте Библии цари-пророки титулуются «pa^iXr|Tja», т.е. точно так же, как византийские императоры, а в латинской Вульгате они «гех».
Так что совершенно не случайно первым российским императором, официально принявшим на себя этот титул, станет тот государь, который, считая необходимым полный отказ от «царской» политической традиции, попытался начать ее «с чистого листа», -Петр I15.
Итак, предпочтение императорскому титулованию, явленное Лжедмитрием, было сознательным выбором нового монарха. Однако последовательное его употребление вряд ли было возможно, что Самозванец хорошо осознавал, пользуясь обоими. Отсюда - строгий выбор среды, для которой титул предназначался.
Документы внешних сношений, готовившиеся Посольским приказом летом 1605 - весной 1606 г., демонстрируют определенную «гибкость» в употреблении «титл».
В отправленной королю в Краков из Москвы грамоте Лжедмитрий - «цесарь», в составленном по случаю той же миссии в Москве посольском наказе - «царь»16. Будущий тесть Самозванца, сандо-мирский староста Ю. Мнишек, в грамотах, присланных из Польши лично Лжедмитрию, титулует его «цесарем», обращаясь же письменно к Боярской думе, употребляет традиционное «царь Дмитрий Иванович»17. В проезжей грамоте купцу, ехавшему в Польшу с торговыми целями, Лжедмитрий титулуется «царем»18, однако такого рода документы в первую очередь предназначались воеводской администрации русских пограничных крепостей.
Царский титул был отчеканен на ходячей монете с именем «Дмитрия Ивановича»19, имевшей общероссийское хождение. На отчеканенной тогда же в Москве свадебной медали Самозванца, предназначенной к раздаче узкому кругу приглашенных в Кремль на торжества лиц, русских и поляков, в двуязычной русско-латинской легенде самодержец титулуется «цесарь» и «imperator»20.
Совершенно очевидно, что в период правления «Дмитрия Ивановича» для «внутреннего употребления» служила «царская титла»,
247
для внешнего, причем не только в дипломатической сфере, - «цесарская». «Городу» предназначалось прежнее титулование, «миру» -новое.
Употребление «цесарской титлы» в посольских сношениях и дипломатической переписке с польским королем как будто нельзя расценить иначе чем вызов. В Речи Посполитой московским суверенам отказывали даже в титуле царя, именуя российских государей всего лишь «великими князьями»21.
Сами по себе подобные разногласия в титуловании не были чем-то из ряда вон выходящим в дипломатической практике Москвы. Известны, например, весьма острые споры русских и шведских представителей на межгосударственных переговорах об употреблении в российской царской «титле» слова «самодержец», причем претензии шведской стороны носили исключительно богословский характер22.
Однако Сигизмунд III, вопреки уже сложившейся в Речи Посполитой традиции игнорирования «царского» титула, в одном из писем извещал Самозванца, что «пособить хочет» в обретении «титлы цысарские», для чего требуются «посольство и переговоры»23. Надо также заметить, что «цесарское» титулование было признано за Лжедмитрием Ватиканом24.
При этом в текущих дипломатических контактах между Москвой и Краковом сохранялось прежнее разногласие в титуловании. Прибывшие весной 1606 г. в Россию послы Н. Олесницкий и Н. Гон-севский на переговорах упорно титуловали Лжедмитрия «государем и великим князем», русские же участники «негоциаций» - неизменно и также упорно «цесарем»25.
Возможно, такое серьезное изменение позиции краковского двора было связано с заинтересованностью Польши и Святого престола в грандиозном военном походе на Крымское ханство, готовившемся Самозванцем.
С 1594 по 1606 г. в Трансильвании шла война между Оттоманской Портой и Империей, и Крым в качестве вассала турецкого султана вынужден был ежегодно отсылать наличные воинские силы на театр военных действий26. Все эти годы Орда не имела ни военных сил, ни желания нападать на русские земли27.
Хотя целью похода Самозванца был Крым, первый удар предполагалось нанести не по татарским, а по турецким владениям в Восточной Европе, крепости Азов в низовьях Дона, что во всех отношениях отвечало интересам и целям антитурецкой коалиции католических держав Европы.
Начало военных действий Самозванец планировал на весну -начало лета 1606 г., и поход, похоже, не состоялся только потому, что в самый канун начала военных действий Лжедмитрий был убит в ходе московского восстания28.
248
По принятой в Западной Европе терминологии располагавшаяся на огромных просторах двух континентов Татария делилась на Большую (Азиатскую) и Малую (Европейскую). Еще в 1552 и 1556 гг., в правление «отца» Самозванца, Ивана Грозного, в состав Российского государства вошли Казанское и Астраханское ханства, «царства» по русской геополитической терминологии. В 1599 г. начальная часть титула, «царь Казанский, царь Астраханский», пополнилась еще одной важнейшей «царской» составляющей - «царь Сибирский»29.
В случае удачного завершения похода Лжедмитрия на Крым в состав «царств», «подлеглых» российским государям, попадало последнее «татарское царство» Европы и Азии. В свое время именно присоединение Казани и Астрахани было одним из поводов обращения Ивана Грозного к константинопольскому патриарху с просьбой утвердить за ним царский титул30.
Таким образом, формальный признак «империи» - соединение под скипетром одного суверена нескольких государств - обретал в случае удачного похода на Крым полноту и завершенность. Возможно, Самозванец именно в связи с грядущим присоединением «Перекопской Татарии» рассчитывал на международное признание второго императора в Европе.
Скорее всего сама мысль такого «повышения статуса» российского государя зародилась в польском окружении Самозванца.
Польский историк Я. Мацишевский, правда, не сомневался в том, что последнее следовало исключительно корыстным мотивам и не имело «никакой глубокой политической концепции, может быть за исключением иезуитов»31.
Однако даже поверхностное знакомство с едва ли не самым известным документом канцелярии Лжедмитрия I, его «листом» -обязательством будущему тестю, сандомирскому воеводе Ю. Мниш-ку, от 25.05.1604 г.32 показывает кроме очевидного своекорыстия его адресата и некие направления организации власти после занятия претендентом московского трона.
Так, известное положение «листа» о передаче «панне жене» Новгородской и Псковской земли предполагало организацию здесь автономных органов управления, собственной думы и переход новгородского и псковского дворянства в ее управление. При этом раздача здесь земель «своим служилым людем», т.е. польской Шляхте, была возможна только в случае отсутствия у «царя» и «царицы» наследников. Несмотря на провозглашение, в случае успеха, политической и административной автономии Новгорода и Пскова, «лист» обязывал «царицу» жить в Москве. Содержащийся в «листе» план окатоличивания новых подданных вообще, согласно «листу», действовал всего год при условии, что «царь» вообще смо-его выполнить, и т.п.
249
Вряд ли, разумеется, указанные положения «листа» могут считаться некоей цельной программой, однако какие-то планы у Самозванца и его окружения все-таки имелись. Сюжет этот далеко выходит за рамки статьи, но обретение «цесарского» титулования в результате победной войны с Крымским ханством вполне могло быть составной частью таких планов.
«Цесарские» амбиции Лжедмитрия могли питаться не только политическими планами. Именно во второй половине XVI - начале XVII в. «имперская идея» переживала в Европе буквально второе рождение.
Единственная империя на континенте, Священная Римская, все более эволюционировавшая к локальному объединению германских земель, пережила в это время ренессанс имперских амбиций, откровенного «фантома,... не отличавшегося ни реализмом, ни живучестью», при этом не ставившего никаких политических задач вроде создания мирового государства во главе с императором33. Причем этот «платонический» интерес к имперской идее на рубеже XVI-XVII вв. переживали не только изначально интернациональная империя Габсбургов, но и королевские дома Англии и Франции34.
В культе императора особое место занимала рыцарственность, а едва ли не главной задачей почиталась защита христианства и распространение Слова Божия среди неверных35. Многие современники отмечали культивировавшиеся Самозванцем черты рыцаря, воспринимавшиеся русскими наблюдателями как измена обычаям предков.
Лжедмитрий обожал наряжаться в польскую гусарскую одежду36, для него в Милане был заказан рыцарский доспех37 и приобретен итальянский меч38, судя по всему имевший церемониальное значение39. Лжедмитрий регулярно устраивал военные маневры, в которых лично принимал участие, в том числе известное взятие передвижной крепости на льду Москвы-реки, прозванной москвичами «адом»40.
«Рыцарственность» самозваного царя имела четкую национальную окраску, польскую. На рубеж XVI-XVII вв. в Речи Посполитой приходится формирование дворянского идеала, шляхтича «сармата», рыцаря - защитника веры41.
Разумеется, все эти новации, равно как и другие отступления от русских обычаев42, иногда расцениваемые едва ли не как заря европейских реформ43, не могли не встретить полного непонимания в русском обществе. Именно здесь, в России, были наиболее последовательные противники титулования Лжедмитрия «цесарем».
Общеизвестно, что после свержения и гибели Самозванца российская публицистика активно рисовала черными красками образ «безбожного Разстриги», ненавистника православия и земного воплощения дьявола44. В то же время кроме известных обвинений в
250
узурпации трона Лжедмитрию вменяли в вину и присвоение «несвойственной титлы», хотя и неярко звучавшее в русской публицистике45.
Характерно, что его «озвучил» высокий приказной чин, по роду службы знакомый с посольской документацией, дьяк Приказа Большого дворца Т. Осипов, по сведениям Авраамия Палицына, поплатившийся за свою смелость жизнью46. Лжедмитрий не мог не учитывать отрицательного отношения к «цесарской титле» в российском обществе, ограничив сферу ее применения исключительно дипломатическими контактами. Однако нельзя исключать и того, что в случае удачи Крымского похода вопрос о признании за российским сувереном императорского титула встал бы на повестку дня.
1 Уточнение датировки, имеющей большой разброс в источниках, см.: Ульяновский В.И. Россия в начале Смуты: Очерки социально-политической истории и источниковедения. Киев, 1993. Ч. 2. С. 118; Успенский Б.А. Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998. С. 136.
2 РИБ. СПб., 1872. Т. 1. Стб. 4.
3 Успенский Б.А. Указ. соч. С. 140-141.
Лаврентьев А.В. Царевич - царь - цесарь. Лжедмитрий I, его государственные печати, наградные знаки и медали 1604-1606 гг. СПб., 2001. С. 175-180.
5 Лаврентьев А.В. Царские «шапки» кремлевской казны XVI - начала XVII в. и медаль с изображением Лжедмитрия I // Труды ГИМ. М., 2001. Вып. 125: Нумизматика на рубеже веков. С. 50-61 (Нумизматический сборник. Ч. 15); Он же. Царевич - царь - цесарь. С. 192-193. Вывезенная в 1611 г. в Польшу «корона» была поделена между «жолнерами» и командирами польского отряда и перестала существовать, скипетр же и держава работы рудольфинских ювелиров остались в царской казне и по сей день хранятся в Оружейной палате Московского Кремля. См. о них: Мартынова М.В. К вопросу об атрибуции регалий царя Михаила Федоровича // Памятники культуры. Новые открытия. 1981. М., 1983. С. 392—403.
6 Дмитриевский А.А. Архиепископ Елассонский Арсений и мемуары его из русской истории. По рукописи Трапезундского Сумелийского монастыря. Киев, 1899. С. 104-105.
7 Обзор обширной библиографии см.: Жилина Н.В. Шапка Мономаха: Историко-культурное и технологическое исследование. М., 2001. С. 165-202.
8 Прозоровский Д.И. О значении царского титула до принятия русскими государями титула императорского // Известия Императорского Русского археологического общества. СПб., 1877. Т. 8. Вып. 5. Стб. 474-476; Хорошке-вич АЛ. Русское государство в системе международных отношений конца XV -начала XVI в. М., 1980. С. 101 и след. В английских переводах русских дипломатических документов XVII в., например, титул «царь государь и великий князь» устойчиво писался как «Lord Emperor and Great Duke» {Howe Sonia E. The False Dimitri. A Russian Romance and Tragedy, described by British Eye-Witnesses. L., 1916. P. 19-20, 121).
9 С. Герберштейн, как известно, провел детство в Крайне и не только Владел словенским языком, но со временем выучил чешский, польский и русский {Колоша В. Сигизмунд Герберштейн и «Записки о Московии» // Сигизмунд
251
Герберштейн, первооткрыватель России. XVI столетие в России и словенских землях. Любляна, 1999. С. 19-21).
10 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 74-76.
11 Даниил Принц из Бухова. Начало и возвышение Московии // ЧОИДР. 1876. Ч. 4. С. 54.
12 Россия начала XVII в.: Записки капитана Маржерета. Л., 1979. С. 148-149.
13 Полный православный богословский энциклопедический словарь. [Б.м., б.г.] (Репр. изд. 1992). Т. 2. Стб. 2314-2318.
14 Успенский Б.А. Раскол и культурный конфликт в XVII в. // Успенский Б.А. Избранные труды. М., 1996. Т. 1. С. 480-486.
15 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва - третий Рим» в идеологии Петра I: (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) Ц Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. С. 124-141.
16 РИБ.Т. 137. Стб. 186.
17 Там же. Стб. 183-185.
18 Там же. Стб. 191.
19 Мельникова А.С. Монеты Лжедмитрия 1.1605-1606 гг. //Труды ГИМ. М., 1986. С. 9-17. (Нумизматический сборник. Ч. 9).
20 Лаврентьев А.В. Царевич - царь - цесарь. С. 59-62, 47-75.
21 Иконников В.С. Дмитрий самозванец и Сигизмунд III: Эпизод из истории Смутного времени Московского государства. Киев, 1890. С. 8-10.
22 Чумиков А. Спор русских послов со шведами во время переговоров о Тявзинском договоре по поводу слова «самодержец», употребляемого в царском титуле // ЧОИДР. 1898. Кн. 1. IV Смесь. С. 1-4.
23 Собрание государственных грамот и договоров. М., 1819. Ч. 2. С. 264.
24 Пирлинг П. Из Смутного времени (Дневник Андрея Лавицкого) // Русская старина. 1900. Т. 104. С. 693.
25 Дневник Марины Мнишек. СПб., 1995. С. 47-48,51. (Studiorum slavicorum monumenta. Т. 9).
26 Флоря Б.Н. Османская империя, Крым и страны Восточной Европы в конце XVI - начале XVII в. // Османская империя, страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. М., 1998. Ч. 1: Главные тенденции политических взаимоотношений. С. 49-53.
27 Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. М.; Л., 1948. С. 37—42.
28 Лаврентьев А.В. Царевич - царь - цесарь. С. 116-150.
29 Там же. С. 184-185.
30 Pelensky J. Russia and Kazan: Conquest and Imperial Ideology (1438-1560). P., 1974. P. 300-301.
31 Maciczewski J. Polska a Moskwa. 1603-1618. Opinie i stanowiska szlachty pol-skiej. Warszawa, 1968. S. 80-81.
32 Собрание государственных грамот и договоров. Т. 2. С. 161-162.
33 Подробное исследование см.: Yates F. Astraea. The Imperial Theme in the Sixteenth Century. L.,1975. P. 3-4, 26.
34 Ibid. P. 4,21.
35 Ibid. P. 22-24.
36 Дневник Марины Мнишек. С. 47, 53.
37 Tarassuk L. Italian Armor for Princely Courts. Renaissance Armor from the Trupin Family Trust and the G.F. Harding Collection, The Art Institute of Chicago. Chicago, 1986. P. 22.
252
38 Лаврентьев А.В. «Полашь Ивана Васильевича Измайлова»: Итальянский меч и его русские владельцы эпохи Смутного времени // Архив русской истории. Т. 9. (В печати).
39 Лаврентьев А.В. Царевич - царь - цесарь. С. 156, 158-159.
40 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937. С. 119; РИБ. СПб., 1891. Т. 13. Стб. 55-56, 104, 820.
41 Лескинен М.В. Национальный идеал поляка в истории: Образ шляхтича-сармата Ц Славянский альманах. 1997. М., 1998. С. 256-280.
42 Иконников В.С. Кто был первый Самозванец? // Киевские университетские известия. 1865. Т. 3. С. 12.
43 См., например: Briikner A. Tragedya Moskiewska. Szkicie historyczne. Krakow, 1900. S. 8 («На троне утвердился столетием ранее Петра Великого человек, ценивший достижения Запада ... жаждавший вырвать свою страну из пут варварства... И его благороднейшие порывы его же и сгубили»); Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy. Chicago, 1971. P. 49 («Все его действия диктовались модернизаторскими и рационализаторскими целями, приведшими его к ранней кончине»).
44 Perrie М. Christ or Devil? Images of the First False Dimitry in Early Seventeenth-Century Russia // Structure and Tradition in Russian Society. Helsinki, 1994. P. 105-115. (Slavica Helsingiensia).
45 Сказание Авраамия Палицына. M.; Л. 1955. С. 113.
46 Там же; Попов А.Н. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869. С. 417. Иные данные о судьбе дьяка Т. Осипова см.: Россия начала XVII в.: Записки капитана Маржерета. С. 198-199.
И.Л. Андреев
ОБРАЗ ШЕСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ
ПЕРВЫЕ РОМАНОВЫ В ЦЕРКОВНЫХ И ПРИДВОРНЫХ ЦЕРЕМОНИЯХ
Церемониал в России в XVII в.
Исследователи с редким единодушием отмечают, что в России ритуал и церемонии имели чрезвычайно большое значение. В них власть не просто выражала себя. Она в них воплощалась. Это превращало ритуал и церемонии, по определению Р. Уортмана, в своеобразный «театр власти», в представлениях которого находили свое выражение основополагающие политические идеи, образы и стереотипы1.
Чем можно объяснить саму возможность церемониям и ритуалу играть столь важную роль? Одно из объяснений, на наш взгляд, связано с особым типом русской религиозности. Неразрывная для жителя Московской Руси связь между религией и обрядом превращала обряд в эквивалент веры. Подобный стиль мышления проецировался и на церемониал. Церемониальное шествие становилось символическим субститутом идеи власти и ее образным воплощением. Монарх во всем блеске и величии являл себя перед подданными именно во время церемоний, создавая неодолимую завораживающую магию власти. Без церемонии не могло быть власти, как без обряда - веры.
Но это лишь одна сторона проблемы. Сакрализация царской власти была неразрывно связана с идеей священного характера Православного царства. Царский сан становился особой формой служения. Неудивительно, что первые Романовы смотрели на свое участие в церемониях как на нечто предначертанное им свыше, по долгу царскому и христианскому. Своим явленным благочестием они спасались сами и спасали свое царство. Это было прямое царское служение, не менее важное, чем защита границ или праведный суд.
Царские процессии - это те идеи, представления, образы и ощущения в отношении власти, которые предлагались подданным. Здесь задействовались формы коллективного сознания и массового бессознательного. Создавался и обновлялся образ государя, сущ-
254
кость которого открывала возможность для эксплуатации его различных ипостасей. В ходе шествия государь выражал родовое, религиозное, социальное, политическое, национальное начала, причем именно тип церемоний позволял актуализировать тот или иной смысл.
Торжественные шествия с участием государя оттачивали образ идеального правителя, демонстрируя то кротость и смирение монарха, то его силу и власть. Церемонии становились зримым напоминанием о предназначении государя - быть посредником между Богом и подданными, защитником православной веры, гарантом справедливости и порядка.
Ярче всего в церемониале были представлены политические и религиозные темы. Сценарий большинства торжеств - не что иное, как шествие земного бога к Богу Небесному. Шествующий государь - идеальный христианин. Публично представленные им совершенство, кротость и благочестие - неотъемлемые «свойства» царя, способствующие созданию вокруг него сакральной ауры.
Обстоятельства восшествия на престол новой династии выдвинули на первый план проблему преемственности. Демонстрация родового начала стала своеобразным «социальным заказом» Романовых. Реализовался этот заказ на разных уровнях. Алексей Михайлович в послании к святому Филиппу-митрополиту (1652) молил о прощении «прадеда своего», царя Ивана IV; он же шествовал в Архангельский собор припасть к гробу «деда» и первого царя2. То была впечатляющая демонстрация кровных связей новой и старой династий.
Родовое начало превращало царя в патриархальный символ отца-защитника и покровителя подданных. В официальной доктрине эта ипостась занимала важное место. Сценарии придворных шествий не обошли эту тему. Свое развитие получила тема грозного и справедливого отца-государя. Неотъемлемый элемент этого образа - царь карающий, изливающий «грозу» на виновного. Царя, как библейского Бога, следовало бояться3.
Официальная репрезентация образа правителя предполагала Демонстрацию его могущества. Тема могущества имела не только мифологический, но и вполне «земной» подтекст, как расширение границ Православного царства. В этом случае уместно говорить о формировании своеобразной «имперской идеологии», тесно связанной с харизмой царя. Ее истоки - награда за благочестие. Монарх обретал божественное покровительство, выступая главным исполнителем миссии, возложенной на Православное царство в рамках концепции «Москва - третий Рим».
Возрастание «имперской тематики» отражалось в стремлении Московских государей уподобить свое царство Византийской империи. Этому можно найти множество подтверждений. Москва как но-ВЬ1Й град нового Константина - эта мысль пронизывает знаменитую
255
пасхалию 1492 г. митрополита Зосимы4. И в последующем для Рюриковичей и их преемников были характерны частые обращения к образу императора Константина и широкое распространение культа креста Константина5. В своем стремлении уподобиться императору второй Романов заказал на востоке яблоко и диадему, сделанные «против образца благочестивого Греческого царя Константина»6. Характерно, что новые регалии появляются по окончании войны с Речью Посполитой, итоги которой осознаются как важный шаг к объединению православных земель в едином царстве.
Тема имперского могущества требовала своего церемониального выражения. В исполнении первых Романовых она реализовалась в постоянно нарастающей пышности и торжественности церемоний. Создавался завораживающий облик власти, внушающий подданным представление о неодолимом сакральном могуществе Помазанника. Такая власть могла быть властью только нео^ани-ченной.
Смутное время с особенной силой заставило дорожить стабильностью. «Тишина» и «покой» обрели ценностные свойства. Церемониал воспринял эту установку и «перевел» ее на язык образности и символики. Стабильность, представленная как строгая иерархичность и чиновность, наиболее полно воплощалась в величественных процессиях.
Церемонии закрепляли в сознании современников иерархический порядок, свойственный российскому социуму. Царские выходы открывали возможность элите заявить о своей сопричастности власти7. Это объединяло придворных и демонстрировало их осо-бость. При этом статусная значимость каждого чина и социальное положение придворного наглядно выражались в близости или, напротив, отдаленности от монарха во время церемонии, его месте среди остальных членов двора. Не случайно участие в церемониях строго регламентировалось и фиксировалось в Записных книгах разряда8.
В большинстве церемоний низы выступали в роли наблюдателей. Из этого не следует, что они не играли никакой роли. Просительные, покаянные, благодарственные крестные ходы в первую очередь предполагали совместное моление, своеобразную поддержку начинаний власти; торжественные посольские встречи также были обращены к народу. Толпа рождала у власти ощущение величия. Количество народа становилось мерилом успеха той или иной акции9. Кроме того, существовали церемонии, подчеркивавшие «народный» характер монархии. Здесь уже не было места пассивному созерцанию происходящего. Народ и монарх соучаствовали в церемонии, демонстрируя неразрывную связь между государем и его подданными.
256
Сценарии церемоний
Условно можно говорить о двух основных сценариях церемоний. Первый сценарий призван был подчеркнуть центральное положение монарха. Он включал: (1) иерархически восходящее снизу вверх обращение к государю; (2) реакцию на обращение - царское волеиз-лияние или царское лицезрение; (3) нисходящее, вплоть до адресата, «ответ-повеление» или торжественное возвращению после аудиенции у монарха.
Наиболее полно этот сценарий воплощался во время посольских приемов. Скрупулезно разработанные, посольские встречи были призваны создать у дипломатов положительные впечатления о стране, убедить их в могуществе и силе правящего монарха. Этим целям подчинялось все построение аудиенции. Оно включало: Просьбу послов об аудиенции с целью вручения верительных грамот и подарков; восхождение просьбы по нарастающей цепочке чинов с «движением» обратно в том же порядке; объявление послам воли монарха о дне и времени приема первым приставом; торжественное шествие посольства. Последнее обыкновенно превращалось в красочное и увлекательное действо, привлекавшее не только народ, но и знать. Известны случаи, когда Алексей Михайлович, наблюдая за движением посольского поезда, не успевал вовремя вернуться в Кремлевские палаты, и послам приходилось терпеливо ждать, пока государь не усядется на трон. Любопытно, что церемония въезда и приема посольства в продолжение XVII в.
Ил. 1. Прием иностранного посольства.
Гравюра из книги А. Мей^эберга «Путешествие в Московию:
17 Ofinaiki йпягтн
257
Ил. 2. Прием императорского посла царем Алексеем Михайловичем 24 апреля 1662 г. Гравюра из книги А. Мейерберга «Путешествие в Московию»
приобретала все более зрелищный характер. В этом, по-видимому, уместно видеть влияние барокко с его пониманием красоты. Однако, как бы ни влияли на устроителей церемонии господствующие эстетические принципы барокко, на первом плане всегда оставались вполне «низменные», практические задачи. Во время шествия послы должны были созерцать многолюдье, богатство и военную мощь России, «впрессованную» в нескончаемые шеренги выстроенных войск. С другой стороны, толпам демонстрировали богатые посольские дары (их обыкновенно несли перед послами), что должно было свидетельствовать о заоблачной высоте государевой чести.
В Кремле путь послов пролегал в зависимости от их вероисповедания. При этом церемониальное пространство не просто сакрализировалось. Оно оказывалось пронизанным иерархическим смыслом. Первая-вторая-третья встречи послов, которые предшествовали аудиенции у государя, в буквальном смысле строились по восходящей. Приветственные речи произносили придворные, статус и положение которых с каждым разом были все выше и выше. «Возносились» и сами места встреч, как в смысле их высоты (на площадках-рундуках лестниц), так и в плане близости к государю.
258
Второй сценарий применялся во время шествия царя в храм. Еще в XIX в. историки разделили эту процессию на три части. Самая торжественная и великолепная часть первая - шествие царя из дворца в церковь. Вторая часть - в самой церкви, где царь земной смиренно склонял голову пред Царем Небесным. Заключительная часть - торжественное, но уже лишенное прежнего величия возвращение во дворец10.
Нельзя не видеть, что второй сценарий имел свои особенности. В них монарх был принужден потесниться и даже иногда уступить свою центральную роль. Здесь царь выступал в роли покорного и послушного сына Церкви. Однако и в этом случае образ царя не утрачивал присущего ему блеска. Царь по-прежнему оставался «земным богом» в «неземном величии» (В.О. Ключевский).
Церемонии можно условно разделить на экстраординарные и ординарные. К первым следует отнести прежде всего венчание. Несомненно, обряд венчания всегда занимал особое место. В нем наиболее полно выражались фундаментальные политические идеи об основах власти и миссии самодержца. Однако в центре нашего внимания - ординарные церемонии, в первую очередь крестные ходы - богослужение с соборным шествием священников и верующих во главе с государем. Ординарные церемонии важны своей многократной повторяемостью. Они сопоставимы, что открывает возможность уловить перемены в церемониале и, в конечном итоге, в смыслах. Ординарные шествия - это церемониальная риторика власти.
Как много было таких церемоний? Так, за 1646 г. царских выходов было 72; еще 4 раза царь принимал послов и гонцов; в 1647 г. соответственно - 98 и 11; 1649 г. - 93 и 7; 1652 г. - 98 и 2. В среднем можно говорить о 80-85 церковных и светских церемониях с участием государя за год11. Ядро их составляли великие праздники, входившие в систему годового богослужения, от Новолетия и Рождества Богородицы до Преображения Господня и Успения Богородицы. Многочисленность последних призвана была создать образ непрерывного вселенского моления о спасении с участием государя.
Смыслы и образы
Ниже мы остановимся на рассмотрении лишь нескольких церковных и дворцовых церемоний, в которых с наибольшей полнотой нашли свое выражение создаваемые властью символы и образы. Это в первую очередь образы благочестивых и смиренных государей, верных сынов церкви, и могущественных, справедливых правителей, вознесенных божественным промыслом на недосягаемую для
259
подданных высоту. Репрезентация этих образов естественно потребовала создания тщательно разработанного церемониала, в котором каждая деталь несла определенный смысл. Мелочей не было. Уже само облачение царя и частота смены праздничного платья свидетельствовали о ранге события. На целый ряд церемоний государь с самого начала являлся во всем великолепии и блеске царского облачения - в наряде Большой казны. Это и было, собственно, лицезрение Царя Земного.
Иногда Романовы облачались в «большой» наряд в самой церкви. Тогда активизировались иные смыслы - это уже было не просто облачение, а возложение царского сана, напоминание о сакральной природе власти государя. Снятие же знаков царской власти по окончании службы превращалось в поучительную демонстрацию кротости и смирения. Романовы всенародно покидали храм, умерив свое величие. Наконец, само шествие, с патриархом, властями, духовенством, «честными крестами», мощами и святыми иконами, в сопровождении придворных, - все это зримо и осязаемо соединяло в одно целое атрибуты царской власти и царского двора с атрибутами священного происхождения.
Наиболее полно последний тип церемоний проявлялся во время крестного хода на Иордань 6 января (праздник Богоявления). Ход отличался особым великолепием и многолюдством. Едва ли когда-то тема сакральности и величия царской власти утверждалась с такой полнотой, как в этот праздник.
Ход открывали стрельцы, числом до 600 и более человек. За ними двигалось расставленное по степеням духовенство. Одних приходских священников и дьяконов набиралось до 500 человек. Еще величавее выглядело шествие высшего духовенства, возглавляемое самим патриархом. Следом шел царь с придворными.
Огромным было стечение народа. Иностранцы, преувеличивая, вели счет в сотни тысяч. На льду Москвы-реки, куда двигалась процессия, устанавливалась специальная «сень» - искусно сделанная беседка с крестом. Здесь же была прорубь - Иордань. Для царя и патриарха делались особые места. Сени и места обносились решеткой, а все пространство покрывалось красным сукном. Красный цвет -цвет ритуального, принадлежащего государю пространства. Появление красного цвета свидетельствовало о включении данного места в церемонию12.
По пришествии государя к Иордани патриарх осенял крестом царя и его окружение, раздавал всем свечи, кадил и совершал водоосвящение по чину. По его окончании патриарх «здравствовал» царя, давал ему целовать крест и кропил святой водой. Затем к кресту прикладывались и окроплялись все остальные участники церемонии. Одновременно два архимандрита отправлялись кропить святой водой всех православных - войска и народ. Вода, освященная
260
Ил. 3. Торжество водоосвящения в 1699 г. Гравюра из книги И. Корба
в день Богоявления, ценилась особо. Считалось, что в этот день благодать Святого Духа нисходит на нее несколько раз.
На первой неделе Великого поста, в воскресенье, устраивалась церемония, призванная подчеркнуть православный характер Московского царства. Это было «действо православия». Церемония пришла из Византии и была связана с окончательной победой над иконоборцами. В Константинополе празднество включало торжественное шествие в Святую Софию, которая как бы навсегда отбиралась у иконоборцев13. На русской почве «действо Православия» приобрело более широкое толкование. Оно символизировало торжество церковных установлений и норм в жизни всей православной Руси.
261
Церемония происходила на площади перед Успенским собором, для чего заранее устраивался помост с местами для патриарха и царя. Романовы особенно заботились о красоте помоста.
Церемония открывалась крестным ходом из дворца. Из царских покоев и Верховых соборов выносили особо почитаемые иконы. Царь выходил сразу в «большом» наряде. Патриарх встречал государя напротив Грановитой палаты. После молебна процессия направлялась к помосту. Под пение канона размещали иконы, затем следовало поучение о чести святых икон - прямое напоминание о корнях праздника. При этом во время возглашения анафемы иконоборцам царь прикладывался к иконам. Следом за ним образа целовали патриарх, власти, светские чины.
Особое место в церемонии занимало «возглашение» синодика. Пение вечной памяти сменялось провозглашением анафемы еретикам. Все они объявлялись врагами церкви и государства14.
Для участников происходившее было наполнено сокровенным смыслом. Среди тех, кому возглашалась вечная память, были и государи, и все погибшие за веру. В этом перечне имен как бы воспроизводилась сама история Московской Руси. То был рассказ не только о торжестве православия, но и Православного царства.
Центральным событием Вербного воскресенья было воспоминание о входе Спасителя в Иерусалим. Празднование Вербного воскресенья было чрезвычайно популярно в народе15. В этот день устраивалось шествие на «осляте». Здесь главной фигурой становился патриарх, символизирующий Христа. Царь же смиренно вел за повод «осля» во образ Небесного Града - Кремль. Известно, что праздник существовал в Византии. Однако происходил он по иному сценарию. Светская власть в Византии не могла допустить, чтобы император выступил в роли конюшего при прелате, пускай и пребывающем в образе Христа16.
В самой Москве чин шествия на «осляте» в неделю Вайи (вайа - пальмовая ветвь) появился не сразу17. По-видимому, первоначально он возник в Новгороде18. К этому времени греческий обряд уже был перетолкован на русский лад - «осля» вело светское лицо. Соединение светского и церковного начала Б. Успенский связывает с влиянием на обряд «Сказания о вене Константиновой», т. е. дарственной грамотой, выданной императором Константином папе Сильвестру. В «Сказании» Константин венчает папу белым венцом и в знак почтения к его сану берет его коня под уздцы, повелевая делать то же самое и своим наследникам. Сказание легло в основу «Повести о белом клубке», широко распространенной в Новгородской земле. При митрополите Макарии, бывшем новгородском владыке, церемония перекочевала в Москву. Опираясь на нее, Макарий наставлял Ивана IV на путь «конюшенного» служения19.
262
Ил. 4. Процессия на Вербное воскресенье в Москве в 1636 г. Гравюра из книги А. Олеария
263
Характерно, что в 1656 г. произошли перемены в сценарии и порядке шествия. Если раньше царь вел «осля» с патриархом из Кремля до Покровского собора и обратно, то теперь все шли до Покровского собора20 обычным ходом и лишь по выходе из церкви, у Лобного места, патриарх садился на «осля», а государь брал в руки повод, после чего все участники шествия возвращались обратно. Такое возвращение в Кремль было, по-видимому, связано с желанием более точно воспроизвести евангельский сюжет, особенно важный для патриарха - ведь именно он представал перед всеми в образе Христа.
Стремлением соответствовать апостольскому тексту можно объяснить и другие изменения. Стоя на Лобном месте, патриарх посылал двух человек, символизирующих учеников, за «ослятем». Сам текст Евангелия, возглашаемый в это время, читал не патриарх, как было прежде, а протодиакон. Патриарх же произносил слова, принадлежавшие Господу21. Чем можно объяснить эти перемены в сценарии? Никон этим усиливал параллели Москвы с Новым Иерусалимом, что должно было, в свою очередь, подкрепить вселенские претензии московского первосвятителя22.
Примечательно, что изменения в порядке шествия хронологически почти совпали с изданием Кормчей, в прибавления к которой, по указанию Никона, и было внесено упоминание о вене Константина. Все это позволяет говорить о том, что в обрядовых новшествах Никона отразились его теократические притязания в отношении царской власти.
Естественно, это обстоятельство не ускользнуло от современников. Об этом, в частности, свидетельствует Соборный приговор 1678 г., принятый по поводу чина шествия на «осляте». Инициатором приговора выступил, по-видимому, патриарх Иоаким, сильно обеспокоенный падением авторитета первосвятителя среди церковных иерархов. К этому времени шествие проходило в разных городах, где местный архиерей садился на «осля», а воевода брал в руки повод. Соборный приговор признал эту практику порочной, поскольку главные участники шествия осмеливались выступать в не соответствующих их чину ролях: архиерей, в своем уподоблении Христу, покушался на патриарший сан, воевода - на царский. К тому же архиерейские города присвоили неположенную им символику: лишь «царствующий град» Москва мог выступать в роли Нового Иерусалима.
В отличие от Никона, патриарх Иоаким был далек от того, чтобы стеснить царскую власть. Соборный приговор 1678 г. был нужен ему для того, чтобы прибрать к рукам местных архиереев, «разболтавшихся» в годы конфликта Никона с царем Алексеем Михайловичем23. Запрет носить саккос, устраивать шествие на «осляте» - из ряда «дисциплинарных» мер, намеченных Иоакимом для епископата.
264
Однако авторы приговора не могли обойти вниманием вопрос, связанный с восприятием шествия окружающими. Признавалось, что государи, оказавшись в роли поводыря, «роняли» свой царский сан24. Но такое смирение есть благочестивый пример кротости и послушания для подданных - ведь они служат патриарху, который предстает перед всеми в образе Христа. Именно в этой оговорке ощутимы отзвуки полемики, шедшей в верхах. Чувствуется, что в окружении монарха постоянно раздавались голоса, протестовавшие против подобного «умаления» царского чина.
Но если самодержцы «роняли» в неделю Ваий свой сан, то что побуждало их участвовать в этой церемонии?
Представляется, что само шествие изначально в Московской Руси не воспринималось как демонстрация верховенства церковной власти над светской. Подобное понимание, выведенное историками на основе анализа западноевропейской церемонии «Officium stratoris», для Руси не было актуальным25. Во всяком случае на первый план выступали иные смыслы, в результате чего церемония «работала» не только на церковную, но и на царскую власть. Так, для венчанного на царство Ивана IV важно было выступать в образе нового Константина. Эта параллель была для него предпочтительнее невольной ассоциации с поводырем. К тому же в контексте московской культуры кротость и смирение монархов - качества комплементарные, поскольку цари «умаляли» свое величие не перед патриархом и церковью, а перед божественной властью.
Существенно и то, что во время хода подчеркивалась богоизбранная близость монарха - ведущий «осля» под уздцы царь воспринимался как причастный к Христу. Таким образом формировался образ вселенского православного монарха, который чрезвычайно привлекал Романовых.
Наконец, усиливались эсхатологические аспекты: как царь-поводырь вводит спасенную Церковь в лице патриарха в Новый Иерусалим, так и народ войдет с ним в Царствие Божие. Церемония обретала дополнительную глубину: то был образ Входа в Небесный Град во время Страшного суда с надеждой на «благоприятный» исход. Неслучайно о вступлении главных участников шествия в Спасские ворота радостным звоном возвещали все колокола26. Лишь позднее, по мере развития конфликта Алексея Михайловича с Никоном, доминирующей стала тема «умаления» царской власти, побудившая в конце концов отказаться от этой церемонии27.
Но вернемся к самому шествию на «осляти». Оно отличалось пышностью и многолюдством. Процессия через Спасские ворота Двигалась к Покровскому собору, где царь и патриарх удалялись в придел Входа в Иерусалим. Здесь царь облачался в царский наряд и
265
Ил. 5. Храм Покрова на Рву на Красной площади в Москве. Гравюра из книги А. Олеария
Ил. 6. Парсуна царя Алексея Михайловича из Титулярника 1672 г.
менял посох на златокованый царский жезл. В это время на Лобном месте ставили аналой, покрытый зеленою пеленою. На него водружали Евангелие, иконы Иоанна Предтечи, Николая Чудотворца, иногда Казанской Богородицы. У Лобного места ставили (после реформы Никона) «осля» - лошадь под белым сукном. Тут же находилась кадушка с вербою. Верба - символ процветающего и вознаграждаемого благочестия - богато украшалась. «Чиновник» Успенского собора упоминает «винные ягоды», изюм, грецкие орехи, финики, яблоки, которые вешали на ветки28. В 1674 г. Алексей Михайлович, недовольный тем, как приготовили вербу патриаршие люди, привлек к делу знаменитого иконописца Ивана Безмина и «иноземку» Катерину Ивановну, известную своим умением украшать «санное вербное дерево».
По ходу шествия выстраивались ратные люди. Они должны были склоняться перед патриархом и государем.
Выход патриарха и царя из Покровского собора к Лобному месту отличался большим великолепием. Под звуки пения царь подымался на помост, крестился, целовал Евангелие и «смирял» себя -
266
снимал корону и отдавал скипетр. После благословения митрополит дал ему в руки «иерусалимскую ветвь (вайю. - Я. А.)»29. Известно распоряжение Алексея Михайловича от 1666 г., чтобы ключарь сначала вручил ему вербу и только потом вайю. По-видимому, этим подчеркивался «народный характер» монархии - верба была доступна всем, пальмовая ветвь - немногим.
С Лобного места патриарх спускался вниз и садился боком на лошадь. В правой руке он держал крест, в левой - Евангелие. Прежде чем сесть, патриарх благословлял стоявших на площади. В этот момент подавался сигнал, и все падали на колени. Целые полки покрывали своими телами площадь, восклицал голландец Николаас Витсен30.
Движение от Лобного места приобретало характер шествия с Елеонской горы. Его открывали «золотчики» - младшие придворные, наряженные в богатые золотные кафтаны. За ними везли нарядную вербу. Следом с иконами, горящими кадилами, рапидами шло духовенство и придворные. Затем появлялись высшие чины,
Ил. 7. Процессия на Вербное воскресенье в Москве. Гравюра из книги А. Мейерберга «Путешествие в Московию»
267
которые несли государевы жезл, вербу, свечу и полотенце. Поддерживаемый двумя придворными, царь вел «осля» за конец повода. Патриарх сидел на «осляти», осеняя народ крестом. По всему пути процессии дети расстилали перед государем и патриархом сукна разных цветов, на которые еще кидали кафтаны и однорядки. Чтобы сукна не сбились, подростки лежа придерживали их. Участие в церемонии детей - точное следование апостольскому тексту, в котором дети с неискушенным и несвоекорыстным сердцем приветствуют Мессию. Количество участвующих подростков постоянно возрастало31. В этом достаточно своеобразно выражалось стремление каждого из Романовых придать церемонии еще больший размах.
Царь и патриарх входили в Кремль через Спасские ворота. Последние символизировали Золотые ворота, ведущие в Град Спасителя - Небесный Град. Однако для Романовых не менее важна была и иная трактовка происходящего: торжественный вход Царя Небесного в Новый Иерусалим соотносился с преображением рода Романовых в богоизбранную царскую династию. Это было тем более актуальным, что во второй половине столетия идея богоизбранности все более теснит родовое начало.
Миновав Спасские ворота, процессия входила в Кремль. В Успенском соборе патриарх благословлял царя и целовал его в десницу и лоб. Царь, в свою очередь, целовал патриарха в мышцу - плечо. То было публичное преклонение светской власти перед властью церковной, пускай символично и вознесенной до образа Христа. Заметим, что в этот день московские государи демонстративно уступали первенство патриарху32.
Еще один тип церемонии, в котором доминировали иные смыслы и образы, - встреча 1 сентября Нового года. То было торжество, соединявшее церковное действо с гражданским. Главные события разворачивались на Соборной площади, где совершался чин Ново-летия, или летопрощения. Против Красного крыльца воздвигался помост с царским и святительским местами. На помосте устанавливали три аналоя (для двух Евангелий и иконы Симеона Столпника-Летопроводца). Примечательно, что царское место по размерам, высоте, а главное, богатству убранства с каждым разом все более превосходило патриаршие. Так, в 1674 г. помост для царя и царевича был о трех ступенях, тогда как для патриарха - о двух. То была вполне понятная современникам демонстрация величия царской власти, далекая от того, что подразумевалось под понятием симфонии властей.
По окончании службы в Успенском соборе патриарх всходил на помост. Перед ним несли особенно почитаемые образы. Примечателен для характера праздника был вынос иконы «Моление о народе». Царь подымался на помост после патриарха. Ближние думные и
268
придворные чины становились по правую сторону и за государем. Так же за патриархом располагались власти. На площади стояли дворяне, за ними - стрельцы и посадский люд.
Смысл празднования Симеона Столпника-Летопроводца - зримое выражение самого существа Православного царства с его подчеркнутым единением людей всех чинов и званий вокруг государя. То был патриархальный тип церемонии, несколько показная демонстрация благочестия, силы и славы государства. И если первоначально, при Иване IV, акцент в чине Новолетия делался на победу православного государя над агарянами33, то при Романовых речь уже шла о торжестве над всеми иноверцами. Не случайно посмотреть на церемонию приглашались иностранные послы. Торжества, таким образом, приобретали политический подтекст34.
По окончании чина летопроводства следовали поздравления с началом нового года и пожеланиями государю и его семейству «здравствовать». Первыми поздравляли друг друга царь и патриарх. От думных чинов к царю обращался с речью старейший из ближних бояр. Государь в знак уважения и приязни слушал речь, сняв шапку. Любопытно, что одновременно и старейший из митрополитов поздравлял с пришествием нового года патриарха. В данном случае подчеркнутый параллелизм сценария отражал принципы «симфонии властей».
После приветственных речей все склонялись до земли перед государем. «Это была самая трогательная картина благоговейного почтения венценосцу», - замечал в 1675 г. секретарь имперского посольства Адольф Лизек35. Однако смысл происходящего был значительнее того, что усмотрел Лизек. Земные поклоны бояр, духовенства и народа адресовались не просто венценосцу. Склонялись перед Вседержителем, в образе которого пребывал государь.
Но не менее важно, что царь отвечал низким поклоном народу. Адам Олеарий стал свидетелем еще одной сцены, включенной в ритуал Новолетия. Народ, который стоял с челобитными, по завершении церемонии стал с криками бросать их «в сторону великого князя: потом прошения эти собирали и уносили в покои его царского величества»36. Государь таким образом получал возможность продемонстрировать свою неиссякаемую приверженность справедливости.
Церемонии подчеркивали и иные христианские добродетели Русских государей. Среди них особо выделялись нищелюбие и милосердие. Именно эти качества приводили царей с «порушной милостынею» в тюрьмы и богадельни. Все это было делом обыкновенным и необходимым для благочестивого и богобоязненного жития, приближающим к идеалу добродетельной жизни. Царь призван был служить примером. Но примером, заключенным в строгие рамки
269
церемонии. Раздача милостыни в праздничные и поминальные дни обыкновенно начиналась очень рано: царь подымался задолго до рассвета и в сопровождении нескольких лиц отправлялся творить милосердие. Обыкновенно царь одаривал всех одинаково. «Потому и милостыня нарицается, что всем равна», - разъяснял второй Романов. Суммы раздачи были очень внушительны37.
Для Романовых нищелюбие - государственная обязанность. Ведь молитва нищего о благополучии царя есть молитва о благополучии всего царства. Не случайно по официальной терминологии милостыня есть пожалование, как бы обязывающее нищих и убогих своею молитвою «служить» государю. Цари даже имели своих «придворных» нищих - так называемых «верховых нищих».
Формы и средства церемониального выражения менялись, отчасти видоизменяя и те смыслы, которые власть вкладывала в создаваемые ею образы. В XVII в. они стали более приземленными. Отчасти это можно объяснить влиянием Смуты: чрезмерная отвлеченность и символичность мало способствовали воспитанию «народного благочестия». Но были и более общие причины. Как уже отмечалось, эстетика барокко способствовала тому, что в середине - второй половине столетия в церемониях заметно возросла предметность и декоративность, несомненно нацеленные на большую выразительность. Церемонии, таким образом, стали выражать не только фундаментальные идеи, свойственные власти. Они оказались способны выпячивать и подчеркивать то, что с точки зрения властей было на тот момент важно и злободневно. Впрочем, возможности изменения костного по форме и средневекового по своему характеру церемониала были изначально ограничены. В итоге церемониал первых Романовых, вылившись в красноречивые, законченные образы власти, оказался малопригодным для нового времени. В итоге Петру I пришлось сохранить многие смыслы при радикальной смене самого церемониала.
1 Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М., 2002. Т. 1. С. 18-19. Подобный термин использует Н. Элиас. Историк пишет о церемонии «утреннего туалета» короля Людовика XIV: «В узком смысле эта церемония представляла значение, а в широком смысле и тип его господства» (Элиас Н. Придворное общество: Исследование по социологии короля и придворной аристократии. М., 2002. С. 105).
2 В чине венчания Алексея Михайловича Иван Грозный назван «дедом». Дьяк Федор Грибоедов в «Истории о царях и великих князьях земли Русской» возводит второго Романова в «правнуки» Грозного царя. См.: Толстиков А.В. Представление о государе и государстве в России И Одиссей. 2002. М., 2002. С. 298.
270
3 Так, в самый разгар Московского восстания 10 июня 1648 г. посадские и служилые люди в своей коллективной челобитной упрекали Алексея Михайловича в излишнем долготерпении («и твоему царскому великолю-бию и долгатерпению удивляютца, как (отец) твой государь блаженные памяти долготерпел»). Челобитчики призывали «пролить грозу» на изменников и народных обидчиков, напоминая, что «избрал Бог блаженные памяти отца твоего государева и тебя... и вручил вам государем царьские менночо-ты (меч) во оттишение злодеем, в похвалу добродеем». Авторы обращения недвусмысленно предупреждают Тишайшего, что подобная политика ведет к тому, что он ссорится со всею землею. См.: Материалы по истории СССР. Вып. 3. М., 1989. С. 147.
4 См.: Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. М., 1991. Т. 1. С. 440.
5 Вилинбахов Г.В. Основание Петербурга и имперская эмблематика // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 664. Тарту, 1984. С. 51.
6 Барсов Е.В. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство в связи с греческими их оригиналами. М., 1883. С. 138.
7 См.: Kollmann N. Ritual and Social Drama at the Muscovite Court // Slavic Review. 1986. Vol. 45. N 3. P. 500.
8 Новохатко O.B. Записные книги Московского стола Разрядного приказа XVII века. М., 2001. С. 168.
9 Не случайно в описании церемонии перезахоронения первого патриарха Иова (1652) Алексей Михайлович обращает внимание именно на эту сторону. Не без гордости он сообщает будущему патриарху Никону: «И многолюдство таково было, что не вместилися от Тверских ворот по Неглинские ворота. И по кровлям, и по переулкам яблоку негде было упасть... Старые люди говорят, лет за семьдесят не помнят такой многолюдной встречи» (Алексей Михайлович. Повесть о представлении патриарха Иосифа // ПЛДР. XVII век. Кн. первая. М., 1988. С. 502-503).
10 Маркович Н. Богомольные выходы древних русских царей по сравнению с такими же выходами Византийских императоров // Христианские древности: (Приложение к журналу «Русские древности»). 1872. Т. 1. С. 18. Примечательно, что этот сценарий был отличен от византийского. Василев-сы не были склонны «поступаться» даже перед Богом, не говоря уже о византийском духовенстве, занимавшем в их процессиях куда более скромное положение в сравнении с московским духовенством.
11 К сожалению, полную статистику трудно выстроить: в книге царских выходов существуют пробелы как по годам, так и по отдельным месяцам.
12 Алексей Михайлович любил устраивать «выходы смотреть послов». Нередко это делалось из помещения Воскресенских ворот Китай-го-рода. Для этого помещение специально «включалось» в «царское пространство»: стены, лавки, подоконники в «избах» обивались и обтягивались красным сукном. См.: Лаврентьев А.В. Люди и вещи. М., 1997. С. 155-156; Забелин И.Е. Домашний быт русских царей. Т. 1, ч. 1. М., 2000. С. 411-416.
13 Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. СПб., 2000. С. 68.
14 По-видимому, на уровне повседневных представлений анафема даже затмила все иные смыслы праздника. Когда Витсен поинтересовался ее значением, то получил такое разъяснение: это день, «когда проклинают всех Нечестивых», включая католиков и протестантов, «всех, кто желал и желает
271
зла этой стране» (Випгсен Н. Путешествие в Московию 1664—1665: Дневник. СПб., 1996. С. 118).
15 См.: Буссов К. Московская хроника: 1584-1613. М.; Л., 1961. С. 185, 320-321; Он же. Московская хроника: 1584-1613 //Хроники Смутного времени. М., 1998. С. 149-150.
16 См.: Савва В. Московские цари и византийские василевсы. Харьков, 1901. С. 158-173.
17 До этого на праздник Входа Господня в Иерусалим в Москве вокруг Соборной площади Кремля обносили икону Богоматери Одигитрии. Делали это, по-видимому, по константинопольскому образцу - икону нес дьякон на ремнях, как это изображено на пелене, вышедшей из мастерской великой княгини Елены Стефановны, вдовы Ивана Ивановича Большого (1492). Для Ивана III на тот момент параллель с Константинополем имела главное значение. См.: Кудрявцев М.П., Мокеев Г.Я. Символ Святой Руси // Москва: 850 лет. М., 1996. Т. 1. С. 178-179.
18 Флайер М.С. Расшифровка кода: Образ царя в обряде Вербного воскресенья в Московском государстве // Американская русистика. Саратов, 2001. С. 204-205, 208-209; Успенский Б.А. Царь и патриарх: Харизма власти в России. М., 1998. С. 440; Розов Н.Н. Повесть о новгородском белом клобуке как памятник общерусской публицистики XV века // ТОДРЛ. М., 1953. Т. 9. С. 218-219; Забелин И.Е. Указ. соч. С. 435.
19 См.: Успенский Б.А. Указ. соч. С. 451—453; Флайер М.С. Указ. соч. С. 210; Кудрявцев М.П., Мокеев Г.Я. Указ. соч. С. 153. Примечательно, что Соборное определение 1678 г. упоминает о шествии на «осляте» как о церемонии, появившейся достаточно поздно. По утверждению авторов, сам ход возник «не от древних век, но мало прежде нашего жития, во время мятежное, бывшу во государстве сем смятению великому, сие действие воведеся во церковь и доныне хранимо бывает безпрепятно» (Акты Археографической экспедиции СПб., 1836. Т. 4. № 227 (далее ААЭ)).
20 Возможно, именно поэтому Покровский собор с его Входо-Иерусалимской церковью «немцы зовут Иерусалимскою церковью» {Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М., 1996. С. 72).
21 Никольский К. О службах русской церкви, бывших в прежних печатных богослужебных книгах. СПб., 1885. С. 54, 73-75.
22 Об «иерусалимской направленности» русской культуры в XVII в. см.: Баталов АЛ. Гроб Господень в «Святая Святых» Бориса Годунова // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 156-157.
23 В приговоре 1678 г. утверждалось, что умножение порочной практики - прямое следствие междупатриаршества, когда «архиереи такде действие совершати обыкоша». Прибавим к этому наблюдение, сделанное Гаазским митрополитом Паисием Лигаридом в 1667 г. по поводу наказания епископов Павла и Иллариона за «бунт» при подписании соборного определения о низложении Никона. Гаазский митрополит объяснил неповиновение епископов тем, что из-за долгого отсутствия «над собой начальников и высших предстоятелей» они «привыкли быть непокорными и совершенно не послушными» (Каптперев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. М., 1996. Т. 2. С. 248 (репр. воспр.: Сергиев Посад, 1912).
24 ААЭ. № 223.
25 Речь идет об интересной и не бесспорной работе А. Кореневского. См.: Кореневский A. «Officium stratoris» и «шествие на осляти» // Ab imperio. Казань, 2002. № 1. Не вдаваясь в полемику, отметим лишь некорректность
272
сравнения А.Кореневского: «Такой подход, весьма близкий западному пониманию аналогичного обряда (верховенства церковной власти над царской. -И.А.), оказывается вполне созвучным тем процессам, которые протекали в России в XVII в. в сфере церковно-государственных отношений» (с. 197). Между тем обряд появился не в XVII, а в середине XVI в.
26 Кудрявцев М.П., Мокеев Г.Я. Указ. соч. С. 185-189.
27 Заметим, что стремление уменьшить значимость главы церкви в церемониях было свойственно и Ивану IV. Так, при митрополите Макарии чин омовения святых мощей в Страстную пятницу включал приезд митрополита на «осляти» во дворец для приглашения государя, передачу мощей митрополитом государю, который возлагал их на блюда. Позднее, после смерти Макария, и то и другое в чине было упразднено. По-видимому, параллель митрополита с Христом, въезжающим на «осляте» в Святой Град, была признана чрезмерной. Перенос же Иваном святых мощей «уравнивал» его со священнослужителями и подчинял митрополиту. Редактируя Царственную книгу, Иван Васильевич посчитал это недопустимым: «Того не надобно, что государь сам носил (святые мощи. - И.А.)».
28 Одно из описаний вербы принадлежит вездесущему А. Олеарию: «Впереди, на очень большой и широкой, но весьма низкой телеге, везли дерево, на котором было нацеплено много яблок, фиг и изюму. На дереве сидели 4 мальчика в белых сорочках, певшие: “Осанна”». См/. Олеарий А. Указ. соч. С. 147.
29 Описание праздника, которое оставил Витсен, пришлось на время конфликта царя Алексея и патриарха Никона. За отсутствием действующего патриарха в шествии на «осляти» принимал участие митрополит {Витсен Н. Указ. соч. С. 145).
30 Там же. С. 146.
31 Неизвестный англичанин из окружения Антония Дженкинсона, ставший свидетелем праздника в 1558 г., говорит о 30 человек, «расстилающих перед лошадью свои одежды». При первом Романове к участию привлекалось уже до 100 подростков; при Алексее Михайловиче их число достигло уже 800 человек. Федор Алексеевич довел его до 1000 человек. Таким образом достигалась упорядоченность и величавость, столь важные для формирования образа власти. Ведь раньше по ходу шествия подростки перебегали вперед, чтобы заново расстелить одежды и полотна. Можно представить, какая получалась сутолока.
32 Можно привести еще примеры царского смирения. Во время службы царь «того дни на своем царском месте не стоит, а стоит у другого столпа близ патриарха». Патриарх, встречая царя, сходит со своего места, «поступив мало с ковра», и т. д.
33 Митрополит Макарий в чине Новолетия в обращении к Господу провозглашал: «Благоверному царю нашему способствуй над безбожный агаря-ны, якоже иногда Давиду, яко приидоша сии во обители Твоя и всесвятое место оскверниша, но Ты даруй победы, Христе Боже, победа бо Ты православным и похвала».
34 Впрочем, если бы иноземные наблюдатели ведали о том, что желает в Новолетие патриарх государю, они бы призадумались. Речь шла об одолении «видимых и не видимых врагов», возвышении царской десницы «над бу-сурманством и над латинством» (Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы патриарха Никона. М., 1908. С. 150).
18 Образы власти...
273
35 Сказание Адольфа Лизека о посольстве от императора Римского Леопольда к великому царю Московскому Алексею Михайловичу Ц ЖМНП. 1837. №11. С. 334.
36 Олеарий А. Указ. соч. С. 65.
37 Так, 4 июля 1669 г., побывав на Тюремном, Земском дворах и в богадельнях, царь «пожаловал» 2358 человек, не считая поджидавших царя нищих. Тех было «безщетно» (Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов 1613-1725 / Сост. А. Викторов. М., 1883. Вып. 2. С. 564-566; РИБ. СПб., 1904. Т. 21, кн. 3. С. 27).
Праздники
Л.А. Пименова
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВЛАСТИ МЕЖДУ СТАРЫМ ПОРЯДКОМ И РЕВОЛЮЦИЕЙ
ОТ ПОМАЗАНИЯ КОРОЛЯ НА ЦАРСТВО К ПРАЗДНИКУ ФЕДЕРАЦИИ
Символический язык Французской революции стал одним из излюбленных сюжетов в историографии последних десятилетий. Интересующийся рождением новых символов государства, нового политического ритуала и языка может обратиться как к классическим трудам М. Агюлона, Л. Хант, М. Озуф, М. Вовеля, так и к последним работам Дж. Ландее и многим другим исследованиям политико-культурных представлений и практик революционного периода1. Исследователю непросто отыскать для себя невозделанный участок среди этого распаханного поля. В числе изучавшихся сюжетов революционные праздники также не были обойдены вниманием исследователей, показавших всю сложность этого феномена, в котором вновь созданные обряды соединились с древними традициями фольклорного праздника. Проблематика этой статьи иная: в ней анализируются взаимоотношения между королевским праздником Старого порядка и официальным революционным праздником, а именно между помазанием короля на царство и праздником Федерации 1790 г., которые представляли собой в обоих случаях «символические формы, выражающие тот факт, что правящая элита действительно правит»2. Не случайно именно эти две церемонии М. Блок упомянул в качестве двух ключевых эпизодов истории Франции, которые знаменовали начало и содержали в себе санкцию монархии божественного права, в первом случае, и конституционного режима - во втором3. Есть нечто знаменательное в том, чтобы вновь обратиться к этому сюжету в стенах Института истории Общества им. Макса Планка в Гёттингене, где более 20 лет назад Г. Вебер одним из первых в современной историографии начал изучать коронацию Людовика XVI4.
Во Франции Старого порядка в ряду всех королевских обрядов коронации принадлежала исключительная роль той церемонии, которая посредством символического языка выражала идею власти,
277
воплощенной в личности правителя. Хотя, согласно правоведам XVIII в., обряд помазания и не имел более юридической силы для облечения нового монарха всей полнотой власти и с юридической точки зрения его правление начиналось с момента смерти предшественника, в рамках политической теологии (по выражению Э. Канторовича) монархии коронация тем не менее сохраняла свое значение основополагающего обряда, призванного освятить брачный союз короля с королевством.
Законодатели 1789 г. отказались от самой идеи монархии божественного права в пользу провозглашенных ими принципов естественного права и национального суверенитета. М. Валенсиз в статье о коронации Людовика XVI, комментируя рассуждения на эту тему Ж. Мишле, подчеркивает, что «утверждение нового представления о власти, основанного на праве и принципе большинства - т.е. на математической абстракции, - не могло обойтись без символического жеста, без основополагающего акта»5. Согласно Мишле, таким основополагающим актом нового режима был процесс короля, представлявший собой попытку убить саму монархию в лице монарха. Но, очевидно, еще задолго до процесса короля революционные политические элиты совершили другой акт, призванный дать символическую санкцию их приходу к власти, не устраняя при этом полностью короля и не уничтожая его физически, но интегрируя его в новую конфигурацию власти в его новой роли короля-гражданина. Таким основополагающим актом нового режима был праздник Федерации 14 июля 1790 г. Современники придавали этому событию столь большое значение, что впоследствии, в годы Французской революции, 14 июля каждый раз отмечалось не только взятие Бастилии в 1789 г., но и праздник Федерации 1790 г.6 В стране, охваченной политическими волнениями, по-настоящему не прекратившимися и в момент парижского праздника Федерации 1790 г., это событие тем не менее оставалось символом единства французской нации.
Размышляя о влиянии праздника Федерации, М. Озуф задается вопросом: «Каким образом, несмотря на все реальные проявления недовольства, праздник Федерации смог обрести такой необычайный символический смысл?»7 В поисках ответа она предполагает, что столь сильное впечатление на современников могли произвести некоторые характерные черты самого праздника (произнесенная всеми одновременно клятва, организация пространства, сбор в Париже федератов со всех провинций) и продемонстрированная в ходе него поддержка революции регулярной армией. Очевидно, к этому стоит добавить, что сама идея праздника Федерации не могла не обрести большого символического смысла, так как речь шла о своего рода помазании нации на царство.
Подобно помазанию короля, национальная Федерация 1790 г., не имевшая никакой законной силы8, получила тем не менее важное
278
символическое значение. Примечательно, что подобно тому, как к помазанию начинали готовиться с самой кончины предыдущего монарха, уже в июле 1789 г. родилась идея организовать национальный праздник в честь «революции, которая ни с чем не сравнима»9.
Может возникнуть вопрос: не является ли искусственной эта аналогия между королевским помазанием и праздником Федерации? В оправдание предлагаемого сравнения этих двух церемоний можно сказать, что их объединяет общая магистральная идея религиозного или квазирелигиозного обновления и освящения нового царствования (или нового политического режима). Хотя Федерация и была учреждена с целью отметить день 14 июля 1789 г., она (как показывает анализ декора и организации этой церемонии) представляла собой не столько годовщину взятия Бастилии, сколько инаугурационный праздник.
Идея подобного праздника отчетливо выражена в речи мэра Парижа Ж.С. Байи на заседании Национального собрания 5 июня 1790 г., где он - от имени Коммуны Парижа - представил план торжеств по случаю заключения «федеративного пакта», призванного одновременно ознаменовать и закрепить изменение политического строя во Франции. «Мы братья, - говорил он, - мы свободны и у нас одно Отечество; мы слишком долго сгибались под ярмом, но наконец обрели гордую поступь Народа, осознавшего свое достоинство». Братское единство свободного народа-суверена предстояло консолидировать символическим жестом «священной клятвы». Тот день, когда депутаты Национального собрания, король и народ, собравшись все вместе, принесут присягу, станет «днем единения французов! Народ братьев, восстановители государства и король-гражданин, соединенные общей клятвой у алтаря Отечества, -какое величественное и невиданное для прочих Наций зрелище!»10 Решения относительно организации праздника были переданы на рассмотрение Конституционного комитета Национального собрания, что подчеркивало придаваемый этому событию конституционный характер.
Рассмотрим теперь подготовку, ход церемоний и символику последней при Старом порядке коронации Людовика XVI 11 июня 1775 г. и праздника Федерации 14 июля 1790 г., чтобы с помощью их сравнительного анализа выявить ключевые идеи двух празднеств и осмыслить отношения преемственности и/или разрыва между символическим языком старой монархической и революционной власти11.
Если сравнивать организацию двух церемоний, то видно, что инициатива в обоих случаях развивалась в противоположных направлениях. В случае коронации она исходила сверху, от короля Людовика XVI, который в мае 1774 г. отдал первым жантийомам королевских покоев (les premiers gentilshommes de la chambre du roi) и ин
279
тенданту придворной службы Малых забав Папийону де Ла Ферте распоряжение составить план церемонии. Вооружившись сведениями о предыдущих коронациях, Ла Ферте отправился в Реймс, чтобы на месте оценить масштабы предстоящих работ, и составил несколько докладных записок по поводу декора и хода празднеств. Расходы на коронацию были согласованы с генеральным контролером финансов А.Р.Ж. Тюрго. Окончательный проект празднеств был представлен королю первым жантийомом королевских покоев герцогом де Дюра, Ла Ферте и декоратором Л.А. Жиро и получил высочайшее одобрение12. Таким образом, коронация была подготовлена людьми из королевской службы Малых забав, причем за образцы были взяты детали предыдущих коронаций, приведенные в соответствие с новыми эстетическими вкусами.
Организаторы коронации явно стремились продолжать вековую традицию. Церемония помазания Людовика XVI совершалась в традиционном месте, в кафедральном соборе Реймса13. План Тюрго перенести ее в Париж с целью сокращения расходов не получил поддержки со стороны короля. Следует также заметить, что и Тюрго, аргументируя свое предложение, ссылался на прецеденты и настаивал на том, что в прошлом некоторые короли соглашались изменить место коронации14. Ход церемонии также соответствовал традиции, а именно порядку, установленному при коронациях Людовика XIV и Людовика XV. Пространство, в котором она совершалась, было по определению сакральным и в то же время закрытым; туда допускались лишь избранные. За обрядом, совершенным в Реймсском соборе, последовали торжественные молебны с исполнением Те Deum в провинциях15.
В отличие от этого, инициатива организовать в Париже праздник национальной Федерации пришла снизу, от национальных гвардейцев и членов провинциальных муниципалитетов, которые начиная с августа 1789 г. неоднократно предлагали устроить общий смотр национальной гвардии королевства. В конце концов 8 июня 1790 г. Учредительное собрание приняло декрет о созыве в Париже депутатов от национальной гвардии и войск для совместного празднования первой годовщины взятия Бастилии16. Таким образом, за многочисленными федеративными праздниками, проходившими в провинциях начиная с осени 1789 г., последовала парижская Федерация17. Подготовку к церемонии Учредительное собрание поручило Коммуне Парижа, которая организовала работу многочисленных художников и архитекторов, а также королевской службы Малых забав.
Организация пространства для праздника Федерации вдохновлялась революционной идеей tabula rasa и выражала стремление к разрыву с прошлым. Центральная церемония праздника состоялась на Марсовом поле, в то время представлявшем собой огромный
280
пустырь, который предстояло обустроить и полностью преобразовать. Все это потребовало широкомасштабных работ. Пространство праздника Федерации также являлось сакральным, но его сакральность выражалась по-иному: это пространство было открытым и соответствовало идее объединения всей нации вокруг алтаря Отечества.
Актеры церемоний в обоих случаях, а в случае коронации и публика, принадлежали преимущественно к политической элите. В ходе коронации церковные прелаты, маршалы, высшие должностные лица государства, придворные аристократы, королевские советники, иностранные представители и приглашенные гости занимали свои места внутри собора в иерархическом порядке, в большей или меньшей близости к монарху, являвшемуся протагонистом данной церемонии. Прочие ее актеры - церковные и светские пэры и маршалы, несущие инсигнии королевской власти, - ассистировали ему при совершении коронационных обрядов. Таким образом, расположение актеров и публики утверждало иерархию сословий.
Праздник Федерации освящал новую социальную иерархию и новый политический порядок. Хотя король по-прежнему фигурировал в числе протагонистов церемонии, он утратил в ней центральное место, уступив его командующему национальной гвардией Лафайету. Тот поднялся на расположенный в центре Марсова поля алтарь Отечества для принесения гражданской присяги, что явилось кульминацией церемонии и вызвало всеобщий энтузиазм. Король же все время оставался отчасти в стороне. Он прибыл на Марсово поле, вошел в здание Военной школы через заднюю дверь и проследовал затем в приготовленный для него павильон; текст присяги он произнес со своего места возле Военной школы, не поднявшись на алтарь Отечества. Таким образом, Людовик XVI упустил шанс сыграть роль национального лидера, к чему его тщетно призывали сторонники. Как писал Мирабо графу де Ламарку, «следовало бы провести различие между генералом Федерации и монархом, но сделать так, чтобы обе эти функции исполнил король. Приняв парад, генерал Федерации вновь стал бы королем, взошел на трон, а оттуда направился бы приносить присягу у алтаря»18. Но в действительности Людовик XVI не последовал советам Мирабо и не попытался завладеть вниманием публики и покорить гигантское пространство Марсова поля.
Историки, изучавшие коронации и праздник Федерации, обычно подчеркивали отсутствие народа как в одном, так и в другом случае. «Отсутствие народа на коронации» - таково название одной из глав °черка Ж.Ле Гоффа19. М. Озуф отмечает почти то же самое по поводу праздника Федерации: народ не был допущен на праздник, пишет она20. Но, во-первых, его отсутствие не было абсолютным, а по-вторых, два «отсутствия» не похожи друг на друга. Народ физи
281
чески присутствовал при целом ряде обрядов, сопровождавших помазание, в частности при королевском въезде в Реймс и при исцелении золотушных, хотя в сам день основного торжества его впустили в собор лишь на мессу, когда помазание, коронация и интронизация короля уже закончились. Во время совершения этих церемоний в замкнутом сакральном пространстве собора народ был символически представлен «элитой нации»21. Что же касается праздника Федерации, то народ физически присутствовал на трибунах гигантского, рассчитанного на 300 тысяч мест амфитеатра22, правда, в качестве не столько актера, сколько зрителя, хотя и повторявшего вслух за Лафайетом слова присяги. Роли участников кортежа, приносивших присягу у алтаря Отечества, достались нотаблям и военным: национальным гвардейцам и представителям других войск, членам муниципалитета и выборщикам Парижа, депутатам Национального собрания. Различие между актерами и зрителями совершенно стерлось во время народных гуляний, последовавших за церемонией на Марсовом поле.
В ритуале помазания нашла выражение политическая теология монархии божественного права. Он состоял из церемоний двух типов: политической инвеституры (клятвы, вручение регалий, коронация, интронизация) и религиозного освящения (помазание, благословение регалий, Те Deum, месса). В то же время присутствовавшие внутри Реймсского собора 11 июня 1775 г. ощущали себя скорее зрителями спектакля. Герцог де Крои, описывая декор собора, отмечал его «излишне театральный облик, подобный зрительному залу». Проповедь архиепископа Буажелена была встречена рукоплесканиями восторженной публики23.
Сопровождавшие коронацию атрибуты и декор представляли собой соединение разнородных элементов. При королевском въезде в Реймс путь украшали триумфальная арка, аллегорические фигуры, символизировавшие королевские добродетели (Религия, Правосудие), и алтари Верности и Милосердия, также обозначавшие свойственные монарху качества. Сам ритуал помазания, в котором были задействованы все традиционные инсигнии верховной власти (корона, скипетр, рука правосудия, расцвеченная лилиями королевская мантия), разворачивался посреди пышного театрального декора, подобного внутреннему убранству Версальской оперы.
Праздник Федерации, напротив, отличался строгостью. В нем соединились три типа церемоний: военный праздник (парад, орудийные залпы), общая гражданская присяга и религиозный ритуал (благословение знамен, месса, Те Deum), Праздник, предназначенный скрепить единение всех французов, тоже был по-своему театрален. Актеры церемонии, участвующие в кортеже и занимающие арену, с одной стороны, и зрители на трибунах - с другой, были достаточно четко отделены друг от друга. Присутствовавшие на празднике,
282
описывая его, говорили об «амфитеатре», «большом зале», «цирке» й «величественном спектакле». Изучавший декор праздника Федерации А.Ш. Грюбер характеризует его как «результат процесса, наметившегося двадцатью годами ранее», имея в виду вдохновленные римскими древностями проекты, осуществлявшиеся преимущественно в Италии в 1760-1780-е годы, и вместе с тем как прямой прообраз «гигантских современных стадионов»24.
Визуальный символический язык церемонии (надписи и аллегорические изображения) выражал новые политические принципы свободы, равенства и национального суверенитета (при этом декор триумфальной арки, провозглашавший идею равенства всех людей, противоречил строгой иерархии, установленной среди участников торжества). Декор Марсова поля был весьма сдержанным: в центре на подиуме возвышался алтарь Отечества в античном духе, со стороны Военной школы располагались украшенная сине-золотыми тканями галерея для короля и августейшей семьи и трибуна для депутатов Национального собрания, а на противоположной стороне (где сейчас стоит Эйфелева башня) - простая триумфальная арка.
Разумеется, в обоих случаях встречались одни и те же элементы декора и символы, широко использовавшиеся при оформлении праздников в Европе начиная с эпохи Ренессанса (алтари, триумфальные арки, аллегорические фигуры)25, хотя они несли и совершенно разную смысловую нагрузку. В целом же сравнение двух церемоний выявляет скорее элементы, отличающие их друг от друга. Если организаторы праздника Федерации и заимствовали детали церемониала и декора больших официальных праздников предыдущих десятилетий, то во всяком случае они обращались не к ритуалу коронации. Изучая провинциальные федеративные праздники, историки зачастую отмечали прямое влияние на них больших королевских церемоний Старого порядка (например, влияние королевских въездов на федеративные праздники в Лилле и Экс-ан-Провансе26), но парижский праздник Федерации проходил по другому сценарию. Так что сравнение двух церемоний ведет, казалось бы, к банальному заключению, что организаторы торжеств, посвященных установлению нового политического режима, не обращались к наследию старой монархии. Стоило ли вообще задаваться вопросом о возможной преемственности между архаичным ритуалом, с одной стороны, и по определению новаторским революционным праздником - с другой? Представляется, что несмотря на все глубокие и очевидные различия соотношение между двумя инаугурационными церемониями было сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Их сближают не только использование общего Иконографического языка, но и интерпретации этих двух событий с°временниками.
283
В начале царствования Людовика XVI подготовка к коронации породила дебаты и попытки модернизировать традиционную церемонию или переосмыслить ее в более современном духе27. М. Моризо и некоторые другие авторы пытались адаптировать коронацию к новым политическим принципам, истолковав ее как заключение между королем и нацией общественного договора, скрепляющего «национальный выбор» (т.е. избрание короля нацией).
В то же время генеральный контролер финансов Тюрго предложил внести в церемонию коронации ряд новшеств. В реформаторские планы Тюрго не входила отмена коронации как таковой. Он намеревался лишь видоизменить ее, в частности модернизировать ритуал и сделать его менее дорогостоящим; именно с целью сокращения расходов он и предложил перенести коронацию в Париж. Кроме того, Тюрго составил новые тексты пяти клятв, произносимых королем в ходе церемонии помазания (обязательства перед Церковью, Королевской клятвы, клятвы Великого магистра ордена Святого Духа, клятвы Великого магистра ордена Святого Людовика и клятвы соблюдать эдикты против дуэлей). Предложенные Тюрго версии клятв были лаконичнее, чем торжественные традиционные тексты, и отличались гораздо более светским языком. Он убрал все ссылки на католическую, апостольскую и римскую веру; что касается обязательства перед Церковью, то его смысл в новой формулировке полностью изменился: обещание хранить канонические привилегии Католической церкви Тюрго заменил провозглашением принципа терпимости и равенства культов. Модернизаторские устремления Тюрго также хорошо видны на примере Королевской клятвы. Следующая ниже таблица позволяет сравнить ключевые идеи и стилистические особенности трех текстов: традиционной версии Королевской клятвы; той же клятвы, составленной Тюрго, и клятвы, произнесенной Людовиком XVI на празднике Федерации.
В традиционной формулировке король предстает в качестве наместника Бога на земле и посредника между Всевышним и народом; это король-христианин, отвечающий перед Богом за свое правление, и будучи ответственным перед Богом королем-христианином, он обязан искоренять ереси. Предложенная Тюрго формулировка клятвы менее красноречива. Акцент в ней сделан на долге короля соблюдать законы, и идея законности превалирует над идеей христианского долга. Кроме того, Тюрго подчеркивает ответственность короля перед подданными, провозглашая его обязанным блюсти их индивидуальные права, защищать от притеснений и сделать счастливыми. Текст клятвы, произнесенной Людовиком XVI на празднике Федерации, самый лаконичный из всех трех. Король предстает в нем не более чем должностным лицом - носителем государственной власти, полученной от нации, согласно конституционному закону. Сравнение трех текстов показывает, что предложен-
284
Королевская клятва, произнесенная Людовиком XVI 11 июня 1775 г. (составлена и произнесена на латыни) Коронационная клятва, предложенная Тюрго (составлена по-французски) Клятва Людовика XVI, произнесенная на празднике Федерации 14 июля 1790 г.
Именем Иисуса Христа я обещаю подвластному мне народу Христианскому 1)хранить в Божьей церкви во все времена мир народу Христианскому; 2) воспрепятствовать лицам любого ранга чинить всякого рода грабежи и беззакония; 3) судить обо всем со справедливостью и милосердием, да соблаговолит Господь, который есть источник любви и милосердия, обратить их на меня и на вас; 4) с чистым сердцем употребить всю мою власть, дабы искоренить на всех подвластных мне землях еретиков, осужденных Церковью. Я скрепляю клятвою все сказанное выше: и да будут мне в помощь Бог и Святое Евангелие28. Я обещаю Господу и моим народам править королевством согласно справедливости и законам; вести войну лишь за правое дело и по необходимости; употребить всю мою власть для соблюдения прав каждого из подданных; защищать их от всяких притеснений и всю жизнь трудиться ради того, чтобы сделать их счастливыми, насколько это будет в моих силах29. Я, король французов, клянусь нации употребить всю власть, вверенную мне конституционным законом Государства, ради сохранения Конституции и исполнения законов30.
ная Тюрго редакция клятвы занимала промежуточное место - как со смысловой, так и со стилистической точки зрения - между традиционной формулировкой Королевской клятвы и присягой, принесенной Людовиком XVI на празднике Федерации.
В конечном счете 11 июня 1775 г. Людовик XVI произнес все клятвы в их традиционном варианте, так что предложения Тюрго не были приняты. Тем не менее они свидетельствуют о попытке модер
285
низировать ритуал, отразив в нем идеи монархии, основанной на договоре, и ответственности суверена перед подданными. В новой формуле коронационной клятвы король представал уже не в прежнем образе провиденциального монарха и отчасти приближался к королю-гражданину 1790 г.
Современники были чрезвычайно внимательны ко всем элементам церемонии помазания, которые допускали возможность интерпретации их как указывающих на избрание короля народом. Небольшое нововведение после принесения королем клятвы Церкви, когда два епископа молча помогли ему встать (прежде они спрашивали у присутствующих, принимают ли те своего нового короля), тотчас же было замечено и породило недоуменные и неодобрительные комментарии31.
Итак, мы видим, что архаичный ритуал помазания вполне допускал новаторское переосмысление. В дальнейшем мы увидим, что новаторский ритуал праздника Федерации не исключал такой интерпретации, которая - осознанно или нет - основывалась на одной старинной метафоре. Чтобы показать это, надо обратиться к трем памятным знакам, появившимся после праздника Федерации32. Речь идет, во-первых, о цветном медальоне из парижского музея Карнавале, на котором изображено принесение королем присяги у алтаря Отечества. В левой части медальона находится аллегорическая женская фигура Свободы - полуобнаженная, в небрежно наброшенной накидке из красной ткани, с растрепанными волосами, она держит пику с фригийским колпаком на конце. Справа король в синей с лилиями мантии склоняется к Свободе. В середине художник поместил алтарь Отечества - белого цвета, - над которым соединяются руки короля и Свободы. Все вместе - король, алтарь Отечества и Свобода - образуют композицию, окрашенную в национальные цвета. В глубине видно здание Военной школы, перед которым три федерата приносят присягу вместе с королем. Очевидно, эта композиция была весьма популярна в свое время, так как слегка видоизмененная версия ее представлена также на крышке шкатулки, хранящейся в музее Карнавале.
Третьим предметом является медаль в честь присяги короля 14 июля 1790 г., хранящаяся в Национальной библиотеке Франции. В правой части медали король в мантии с лилиями приносит присягу на конституции, лежащей на алтаре Отечества (алтарь находится в центре). Слева величественная, торжествующая Свобода, тщательно одетая и причесанная, со скипетром в руке, подает королю текст конституции. За алтарем видна мужская фигура - очевидно, собирательный образ народа. Надпись в верхней части гласит: «Присяга короля»; в нижней части - «14 июля 1790». Представленная сцена является во всех отношениях символической: в действительности, как мы знаем, король не приносил присяги у алтаря
286
Отечества, это сделал Лафайет, тогда как король не покидал своего места.
Все эти изображения короля и Свободы (вспомним, что в скором времени та же аллегорическая женская фигура станет символом Республики33), соединяющих руки у алтаря, заставляют вспомнить старинную метафору, которая стала предметом исследования Р.Десимона, - метафору политического брачного союза между королем и республикой34.
Один эпизод, также связанный с символикой политического брачного союза - а именно с вручением кольца, - имел место в ходе подготовки к празднику Федерации. В субботу 10 июля федераты, прибывшие в Париж из провинций, отдавали почести королю, проходя парадом перед его апартаментами. Как рассказывал об этом известный журналист А.Э. Лустало, «командир национальной гвардии Турского дистрикта также предстал перед королем и передал ему кольцо, которое Генрих IV пожаловал жителям Тура в признание их верности. Король взял кольцо и пообещал надеть его в день федерации»35. Можно сказать, что это вручение кольца было вдвойне символично. Принимая его - как, кстати, и во время коронации, -король возобновлял свой союз с нацией; и в то же время, принимая кольцо Генриха IV, он лишний раз подчеркивал свое сходство со столь популярным в то время предком.
Все сказанное выше позволяет сделать два типа заключений. Во-первых, совершенно очевидно различие символических смыслов двух праздников. С одной стороны, традиционалистская церемония, утверждающая сословную иерархию и выражающая старую политическую теологию. С другой - стремление утвердить принцип национального суверенитета и подчеркнуть разрыв с прошлым.
Во-вторых, не менее очевидна сложность соотношения между королевским праздником Старого порядка и революционным официальным праздником. Несмотря на разделявшие их 15 лет, в том и в Другом случае оформители говорили на общем эстетическом языке. Кроме того, между двумя церемониями существовала преемственность принципиального характера: обе они представляли собой символическое освящение режима и утверждение взаимоотношений между установленной властью и подданными/гражданами. Революционная элита ощущала потребность в изобретении новой политической символики, в том числе и государственных символов и ритуалов. Организаторы праздника Федерации ни в коей мере не имитировали ритуал и декор коронации. Но вместе с тем попытки пере-°смыслить и модернизировать церемонию королевского помазания, пРедпринимавшиеся в конце Старого порядка, нашли в официальном революционном празднике свое продолжение и развитие. ° этом смысле праздник Федерации вписывается в линию возможен, хотя и не осуществившейся эволюции королевского праздника.
287
Можно сказать, что праздник Федерации 14 июля 1790 г. стал национальной коронацией «по Тюрго»: хотя и дорогостоящей, но не чрезмерно и выражающей современные политические принципы.
Наконец, последнее размышление касается взаимодействия между политическими доктринами (старыми и новыми) и текстуальным и визуальным символическим языком (старым и новым). Влияние новых политических доктрин в конце Старого порядка породило попытку (оставшуюся безрезультатной) модернизировать церемонию королевского помазания. В период Революции ставшая официальной доктрина национального суверенитета требовала новых символических и церемониальных форм, которые зачастую не изобретались, а заимствовались из прошлого. Как показал целый ряд исследований36, традиционные символы (такие как три цвета национального знамени, белое знамя, женские аллегорические фигуры, фасции и другие антикизирующие атрибуты) могли переосмысливаться и получать новое политическое содержание. Другим примером подобного заимствования и переосмысления могут служить изображения, посвященные празднику Федерации, в которых старинная метафора брачного союза между королем и республикой использовалась для символического выражения идеи национального суверенитета.
1 См., например: Ozouf М. La fete r£volutionnaire. 1789-1799. Р., 1976; Aguilhon М. Marianne au combat: L’imagerie et la symbolique republicaines de 1789 a 1880. P., 1979; Hunt LA. Politics, Culture and Class in the French Revolution. Berkeley, 1984; Vovelle M. La Rdvolution fran^aise. Images et rdcit. Vol. 1-5. P., 1985; Singer B.CJ. Society, Theory and the French Revolution: Studies in the Revolutionary Imaginary. L.; Basingstoke, 1986; Les images de la Revolution fran^aise. Actes du col-loque, Sorbonne, 25-27 oct. 1985 / Rdunis et prdsent£s par M. Vovelle. P., 1988; Saint-Denis ou le jugement dernier des rois: Actes du colloque 1989 I Ed. de 1’espace europeen. La Garenne-Colombes, 1990; Landes J. Visualizing the Nation. Gender, Representation, and Revolution in Eighteenth-Century France. Ithaca; L., 2001; а также статьи на данную тему, опубликованные в издании: Lieux de memoire I Sous la dir. de P. Nora. P., 1984.
2 Gertz C. Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power Ц Culture and Its Creators. Essays in honor of Edward Shils. Chicago; L., 1977. P. 152.
3 «Две категории французов никогда не поймут истории Франции: те, кого не трогает память о коронации в Реймсе, и те, кто без волнения читают о празднике Федерации» {Bloch М. L’etrange defaite: Temoignage ecrit en 1940. P., 2000. P. 198).
4 Weber H. Das Sacre Ludwigs XVI von 11. Juni 1775 und die Krise des Ancien Regime // Vom «Ancien Regime» zur franzosischen Revolution: Forschungen und Perspektiven / Hrsg. von E. Hinrichs, E. Schmitt, R.Vierhaus. Gottingen, 1978. S. 536-565. (Veroffentlichungen des Max-Planck-Institut fur Geschichte, 55).
5 Valensise M. Le sacre du roi: strategie symbolique et doctrine politique de la monarchie franchise // Annales: ESC. 1986. N 3. P. 544.
288
6 «Таким образом сама Федерация (...) стала одним из великих событий революции, подобным взятию Бастилии, и ее день, в свою очередь, начали отмечать. В последующие годы праздник 14 июля был посвящен одновременно двум годовщинам» (см.: Mathiez A. Les engines des cukes Revolutionnaires (1789-1792). p„ 1904. P. 49-50.
7 OzoufM. Federation // Furet F., Ozouf M. Dictionnaire critique de la Revolution franchise. P., 1988. P. 102.
8 4 июля 1790 г. в ходе дебатов по поводу декрета об организации праздника Федерации Национальное собрание единогласно одобрило предложение Варнава, согласно которому, «чтобы предупредить неизбежный энтузиазм, порожденный всеобщей федерацией (...), Собрание не будет принимать никаких решений вне места своих заседаний» (Reimpression de 1’Ancien Moniteur depuis la reunion des Etats-Gendraux jusqu’au Consulat. P., 1841. T. 5. P. 44). Это постановление, принятое с целью обеспечить порядок и общественную безопасность во время церемонии, на которую соберутся сотни тысяч людей, интересует нас в данном случае тем, что оно отрицает за тем, что произойдет на празднике Федерации, всякую возможную законную силу и придает ему только символической значение.
9 Слова Ш. Билета цит. по: OzoufM. La fete revolutionnaire. P. 59.
10 Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel. N 158, lundi 7 juin 1790. P. 644.
11 Подробные описания обоих праздников можно найти во многих источниках. О коронации Людовика XVI см., например: Le sacre et couronnement de Louis XVI, Roi de France et de Navarre, dans 1’Eglise de Reims, le 11 juin 1775; precede de recherches sur le sacre des Rois de France, depuis Clovis jusqu’a Louis XVI; et suivi d’un journal historique de ce qui s’est passe a cette auguste ceremonie. P., 1989; Croy Due de. Journal inddit, 1718-1784. P., 1906. Vol. 3. P. 168-189. О празднике Федерации см.: Reimpression... Р. 129-131; Revolutions de Paris, dediees a la nation et au district des Petits Augustins. N 53. P. 1-13.
12 Об организации праздников в конце Старого порядка см.: Gruber А.-С. Les grandes fetes et leurs decors a 1’epoque de Louis XVI. Geneve; P., 1972.
13 Коронациям французских монархов посвящена обширная литература; о коронациях XVIII в. см. в первую очередь: Gruber А.-С. Op. cit; Weber Н. Op. cit.; Valensise M. Op. cit. P. 543-577; Giesey R.E Modeles du pouvoir dans les rites royaux en France // Annales: ESC. 1986. N 3. P. 579-599.
14 Oeuvres de Turgot et documents le concemant. Avec biographie et notes / Ed. par G. Schelle. P., 1922. T. 4. P. 119.
15 В соответствии с традиционной практикой, которая исследована в кн.: Fogel М. Les ceremonies de 1’information dans la France du XVIe au milieu du XVIIIe siecle. P., 1989.
16 Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel. N 158-160, lundi 7 juin - mercre-di 9 juin 1790.
17 Об истоках праздника Федерации см.: Toujas R. La gendse de 1’idee de federation nationale // Annales Historiques de la Revolution Frangaise. 1955. N 140. P. 213-216; Arches P. Le premier projet de federation nationale // Annales Historiques de la Revolution Fran^aise. 1956. N 144. P. 255-266; OzoufM. La fete revolutionnaire; Eadem. Federation.
18 OzoufM. La fete revolutionnaire. P. 61.
19 Le Goff J. Reims, ville du sacre // Les lieux de memoire. T. 2: La Nation. 1. P., 1987. P. 130-131.
20 OzoufM. La fete revolutionnaire. P. 99.
21 Croy Due de. Journal inedit. Vol. 3. P. 174.
19 Образы власти...
289
22 Согласно свидетельству русского посла И.М. Симолина (см.: Французская революция 1789 г. в донесениях русского посла в Париже И.М. Симолина // Литературное наследство. М., 1937. Т. 29/30. С. 435).
23 Croy Due de. Journal inddit. P. 171, 178.
24 Gruber A.-C. Op. cit. P. 151-152.
25 Об общем иконографическом языке королевских и революционных праздников см.: Hautecoeur L. Rome et la Renaissance de 1’Antiquite й la fin du XVIIIe siecle. P., 1912; Gruber A.-C. Op. cit. P. 149.
26 OzoufM. La fete revolutionnaire. P. 89; Lesaffre O. Une fete Revolutionnaire en province: la federation de Lille (6 juin 1790) // Les Images de la Revolution frangaise. P. 139-149.
27 Дебаты по поводу коронации Людовика XVI изучали Герман Вебер и Марина Валенсиз. См. их указанные выше статьи на эту тему.
28 Journal historique du sacre et du couronnement de Louis XVI, Roi de France et de Navarre // Le sacre et couronnement de Louis XVI, Roi de France et de Navarre, dans 1’Eglise de Reims, le 11 juin 1775; precede de recherches sur le sacre des Rois de France, depuis Clovis jusqu’S. Louis XVI; et suivi d’un journal historique de ce qui s’est passe a cette auguste ceremonie. P., 1989. P. 51-52.
29 Oeuvres de Turgot... P. 551.
30 Reimpression... P. 131.
31 Croy Due de. Op. cit. P. 183; Memories secrets pour servir a 1’histoire de la republique des lettres en France depuis MDCCLXII jusqu’a nos jours. 29 juin 1775. P. 554.
32 Медальон и медаль воспроизведены М. Вовелем в кн.: La Revolution frangaise. Images et rdcit. P., 1985. T. 2. P. 128, 347; крышка шкатулки воспроизведена в кн.: Histoire de la France contemporaine, 1789-1980. T. 1: 1789-1799 / Coord, par J. Elleinstein. P., 1977. P. 116-117.
33 Agulhon M. Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique r6publicaines de 1789 a 1880. P., 1979; Vovelle M. La symbolique de la Republique dans le monde des allegories Revolutionnaires // Vovelle M. Combats pour la R6volution frangaise. P., 1993. P. 317-322.
34 Descimon R. Les fonctions de la metaphore du mariage politique du roi et de la republique: France, XVe-XVIIIe siecles I I Annales: ESC. 1992. N 6. P. 1127-1147.
35 Revolutions de Paris. N 53. P. 2.
36 См., например: Agulhon M. Marianne au combat; Girardet R. Les trois couleurs // Les lieux de m£moire / Sous la dir. de P. Nora. T. 1: La Republique. P., 1984. P. 5-35.
М. Хильдермайер
СИМВОЛИКА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ПЕРВЫХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Поворот в изучении истории культуры, о котором так много говорили в последние годы, затронул и Российскую революцию. Не прошло и двадцати лет с тех пор, как стараниями прежде всего Франсуа Фюре, Моны Озуф, Ролана Шартье, Роберта Дарнтона, Линн Хант и других1 была переоценена или, по меньшей мере, заново оценена Французская революция, как в том же ключе начали меняться взгляды и на великий перелом 1917 г. в России. Пришло отчетливое понимание того, что постановка вопросов в социальноисторическом и экономическом плане, задававшая тон на протяжении последних десятилетий, не привела к осмыслению этого события в той мере, в какой можно было бы ожидать. Все яснее становится ощущение, что целый пласт событий оказался, пожалуй, слишком далеко отодвинутым на второй план.
Я не хочу, однако, подпевать тем, кто то же самое утверждал всегда. Когда социально-историческое направление возникало, альтернативой ему были только или традиционная политическая история, или классическая «история развития духа». По сравнению с ними новое направление, безусловно, представляло большой шаг вперед. Его развитие сопровождалось и в области изучения российской истории таким небывалым расширением штата научных работников и таким вливанием средств, что вряд ли будет преувеличением сказать, что именно благодаря этому направлению вообще впервые началось интенсивное изучение Российской революции (в ее широком понимании, как периода с 1900 по 1930 г.). Между тем на многие вопросы уже получены ответы, по крайней мере частично. И хотя почти столько же вопросов остаются пока открытыми, никто не ожидает, что ответы на них приведут к появлению кардинально нового взгляда. Открытие архивов также не привело к сенсациям. Оно показало, что Ленин был более жесток, чем многим представлялось До сих пор2. Оно выявило больше случаев крестьянского сопротивления, чем было известно ранее3. Оно резче, чем в работах ♦X. Карра4 и его последователей, высветило насильственный, диктаторский характер власти уже в первые годы существования
291
Советского Союза5. В остальном же, хотя целый ряд и других «белых пятен» удалось «закрасить», но в те тона, которые и так предполагались, исходя из общей композиции.
Поэтому стали раздаваться голоса, звучащие все громче и громче и утверждающие, что простое накопление сведений, так сказать, на прежнем уровне не может далеко продвинуть исследователя. Даже если откроется еще больше фактов расправ ЧК над крестьянами, останется нерешенным вопрос, почему экзекуторы полагали, что они вправе это делать, чем оправдывали революционеры чудовищные страдания, причиненные ими стране, почему так много людей словно ослепли, так что один из великих поэтов того времени не постеснялся поставить самого Христа во главе шествия красноармейцев (А.Блок. «Двенадцать»). При этом в новом свете предстает идеология нового государства и движения, его создавшего, характер ее воздействия как внутри, так и вне страны.
Разумеется, в серьезном научном исследовании не будет при этом иметь место возвращение к имманентной экзегезе «истмата» и «диамата», применявшейся в 50-е годы6. Вновь возникший в русле постсоциально-исторических штудий интерес к идеологической са-морепрезентации нового государства носит так сказать более диалогический и функциональный характер и предполагает внимание к обществу. Так, в отношении предреволюционных лет непременно требует нового рассмотрения вопрос, почему столь большая часть оппозиционной элиты России видела ее будущее только в радикальном разрыве с прошлым, в революции, а не в эволюции; в связи же с послереволюционными годами все больше на первый план выходит проблема, как удалось, с одной стороны, укоренить в сознании людей представление о новом режиме как наиболее совершенном в истории человеческого общежития, а с другой - в то же самое время оправдать жестокое насилие, им применявшееся. Легитимация и интеграция были двумя сторонами одной медали. Символы, ритуалы, церемонии, фестивали, культы и кампании служили им обеим, и именно в обеих этих своих функциях они все больше рассматриваются историками в последние годы. Кроме того, обе они напрашиваются в качестве объектов для сравнительно-исторического изучения. Ретроспективного сопоставления с Французской революцией в этом плане почти не проводилось, разве лишь в историко-архитектурном аспекте7. Зато повышенным вниманием пользуется в последние годы понятие «политическая религия»8. При этом символы и саморепрезентация (в их обозначенной выше двоякой функции) оказываются в силу очевидных причин в числе первоочередных объектов исследования, благодаря которым лучше можно понять характер воздействия движений и режимов с притязаниями на монополизм, исключительность, а частично даже на эсхатологичность. Примеры из истории Русской революции и первых лет советской
292
власти, которые будут здесь кратко обрисованы, выбирались в контексте таких сравнительно-исторических размышлений.
Начнем с символов и эмблем. С тех пор как власть не могла более легитимировать себя династически и лишь на основе традиции, а все больше должна была использовать для этого «рациональную» (в веберовском смысле) и консенсуальную аргументацию, с тех пор как она стала нуждаться в поддержке все более широких слоев общества, значение этих символов возросло, поскольку не в последнюю очередь именно через их посредство передавалась лояльность. Революционные режимы Нового времени, возникшие благодаря разрыву с легитимностью и порядком, опиравшимися на традицию, очевидно, особенно нуждались в символической саморе-презентации - ведь это ей (естественно, вместе со всем новым политическим устройством и идеологией) следовало взять на себя дополнительную функцию учреждения нового вида лояльности и, более того, воодушевления по отношению к власти. Поскольку последнее могло доходить до самопожертвования ради дела, то в нем неизбежно должны были присутствовать мотивации, близкие религиозному обету. Символы, ритуалы, инсценировки, праздники и торжества, памятники, памятные и юбилейные мероприятия, сооружения и многое другое, что было направлено на пробуждение и подкрепление столь далеко заходящего рвения, поэтому также истолковывались именно в таком ключе.
Советская Россия - благодатное поле для таких исследований. Поскольку дело шло не просто о смене одной элиты другой, а о создании снизу доверху совершенно нового в истории человечества порядка, были и потребность и стремление именно в области символики все начать с чистого листа. Царский двуглавый орел и старый гимн ушли в прошлое. Упразднение подобострастно-вычурных или же высокомерных формул обращения в обществе, до недавнего прошлого знавшем лишь благородных господ и крепостных холопов, носило программный характер. Знаменательным датам и праздникам, имевшим отношение к царю, не было места в новой Действительности. После прихода к власти большевиков официально были отменены религиозные праздники, включая Пасху и Рождество. Даже летосчисление не оставили таким, каким оно было ранее.
То, чем заменяли старые символы, соответствовало, естественно, тому, как революция осмысляла себя саму. К этому самовоспри-ятию всегда относятся и ощущение освобождения, и надежда на лучшее, и начало пути к новым берегам, что зачастую связано с воодушевлением и большим порывом. В этом энтузиазме, несомненно, Присутствовал хилиастическо-религиозный момент, к тому же грань Между надеждой и верой всегда очень тонкая. Кто рискует своими средствами к существованию или даже жизнью, чтобы сокрушить
293
существующий порядок, делает это не без серьезной надежды на щедрое вознаграждение для себя и своих «братьев» - хотя бы в длительной перспективе. И в этом плане либеральная Февральская революция 1917 г. не отличалась от большевистской Октябрьской.
Поскольку дело обстояло именно так, нас не может удивить, что многие символы социалистической России возникли сразу после свержения самодержавия. По некоторым основополагающим вопросам оппозиция была едина. Существовали, так сказать, общереволюционные элементы, находившие свое выражение именно в знаковой саморепрезентации. При этом также не удивительно, что они были распространены скорее в массах, среди демонстрантов-рабочих и прочих представителей петроградского menu peuple, чем у той элиты уже зарекомендовавших себя политиков, которые составили первый кабинет после свержения царя. Массы воспринимали себя как часть международного социалистического движения и присвоили его опознавательные знаки - не без сочувствия либеральных министров. Новый флаг был красным, а в качестве нового государственного гимна утвердилась (притом без всякого участия правительства) в адаптированной «пролетаризированной» форме «Марсельеза». И то и другое, как и эгалитарное обращение «гражданин» вместо «барин», напоминало о Французской революции. Даже главный символ «рабоче-крестьянского государства», который вскоре украсит советское знамя и станет самым популярным по всему миру отличительным знаком коммунизма, - серп и молот - возник впервые не при большевистской власти, а еще в мае 1917 г., и даже украшал Мариинский дворец - резиденцию Временного правительства9. Также и восходящее солнце, осенявшее серп и молот позже в официальном государственном гербе Советского Союза, хотя и возвещало ожидание новой эпохи, но было не большевистским изобретением, а общим достоянием социалистических Интернационалов («Bruder, zur Sonne, zur Freiheit!»). Эту линию можно легко продолжить и дальше в глубь прошлого, к тому novus ordo seclorum10, что красуется на долларовых купюрах и свидетельствует о не менее дерзкой претензии американской революции, инспирированной идеями Просвещения, на основание новой формы государства и общества11.
С другой стороны, большевистский режим должен был, разумеется, создать собственные символы, которые было бы невозможно перепутать с любыми иными. К этому не в последнюю очередь вынуждала выдвинутая им самим претензия, которой этот режим оправдывал насильственное свержение Временного правительства: согласно учению Маркса-Энгельса об историческом материализме, была открыта не просто новая глава в истории человеческого общества, но еще и последняя. Претензия большевиков на то, что их власть уже невозможно преодолеть, безусловно несла в себе новое
294
качество, которое, помимо прочего, радикализировало их попытки контролировать состояние умов населения. Обостренный Гражданской войной (которая фактически была запоздавшей войной революционной), стал резче «символический тон обхождения» с противником. Кто не был другом, тот стал врагом, грешившим исторической недальновидностью. Так возникли пролетарские Десять заповедей, учившие убежденного революционера, как он должен сам поступать или же как ему следует позволять поступать другим. Пролетарии приобрели образ змееборцев, красноармейцы изображались как всадники на крылатых конях, держащие в руках книгу, призывавшую пролетариев всех стран соединяться. Мифические и религиозные мотивы использовались очевидно для того, чтобы подчеркнуть особость новой эпохи. Однако тут следует все же предостеречь от слишком односторонней трактовки: в ходе самой ужасной бойни на российской земле за последние 300 лет была предпринята попытка «всего лишь» мобилизовать все возможные силы. Точно так же и позже, во время Второй мировой войны, будут пытаться воздействовать на сходные глубинные пласты сознания, например создавая знаменитый образ «Матери партизана», держащей на коленях павшего сына, - образ, явно навеянный «Пьетой» Микеланджело12.
Символы, церемонии, культы и празднества, официально установленные режимом, были более нейтральными, поскольку они не содержали прямого призыва к борьбе. Самые разные по типу и значению, в своей совокупности они подчеркивали выраженную претензию на создание не только нового типа общества, но и нового типа человека. В этом плане революция не должна была ограничиваться преобразованием производственных отношений и социальной структуры - она должна была идти дальше и определять поведение и образ мысли людей. Это было обновление, составлявшее ядро того, что большевистское руководство понимало под «культурной революцией», и в конечном итоге решающее для успеха материальных преобразований.
К первым новшествам такого рода, являвшим, так сказать, с непосредственной наглядностью, что началась новая эпоха, относится реформа календаря. Как было объявлено 4 января 1918 г., 1 февраля должно совпасть с западным, григорианским календарем, по которому в XX в. в году было на 13 дней больше, чем по действопавшему в России юлианскому. Тут новый режим совершил рывок навстречу прекрасному Западу - хотя бы в том, что касается летосчисления. Новые властители словно бы хотели создать хронологические предпосылки для слияния с настоящей, великой Революцией, которая должна прийти на помощь опередившей (и обреченной, если останется в изоляции, как тогда еще полагали - и полагали спра-Ведливо) русской революции. Одновременно они не только отделяли себя от летосчисления старого режима (что было, безусловно,
295
приветствуемым побочным эффектом), но и атаковали церковь в том, что относилось к ее функции задавать ритм жизни, ведь старые праздники были отменены, и освободилось место для новых, осознанно приуроченных приблизительно к тем же самым дням, чтобы составить конкуренцию старым13. Как убедительно показывают постсоветские исследования14, это наступление шло с немалыми трудностями, но оно было символом сокрушающей все основы преобразовательной воли режима и отражало ту установку, что обновление человека и его повседневного образа жизни возможно только путем присвоения функций, которые до того с незапамятных времен выполняла церковь.
Красная звезда, родившаяся как эмблема Красной армии при ее основании в январе 1918 г., сделала, пожалуй, самую блистательную «карьеру»; благодаря милитаризации Советского Союза и экспорту его идей через партизанские движения в странах третьего мира этот символ пережил свое время. При этом по-прежнему остается невыясненным, откуда же произошла красная звезда, поскольку для нее не находится прототипа. Не исключено, что она родилась под влиянием появившейся примерно в то же время утопии неортодоксального революционера Александра Богданова под названием «Красная звезда»15. Но это только предположение. Незыблемым остается лишь очевидный факт, что звезда указывает на вечные ценности за пределами человеческих возможностей и человеческого измерения - будь это неземные сферы в религиозной традиции или внеземные пространства в ранней научной фантастике.
К мечтаниям же советской власти, особенно первых ее лет, относится прежде всего «новый человек», который, как надеялись, станет результатом преобразования способа производства, содержанием «культурной революции» и гарантом социалистического будущего. Эта «цель, к коей стремилась секуляризированная религиозная история», как сформулировано в одном из недавних исследований16, долго считалась одной из самых важных. Она относилась к утопическому ядру большевистского социализма, с символической емкостью выражая его претензию быть чем-то большим, нежели просто следующей эпохой мировой истории в рамках нормального временного континуума. «Новый человек» должен быть лучшим, более совершенным и, согласно социалистической идеологии, неотчужденным и существенно более альтруистичным. Он должен был явиться еще одним видом «сверхчеловека» и стоять, так сказать, совсем близко к той грани, которую люди, будучи существами слабыми и несовершенными, переступить уже не в состоянии. Поэтому представление о новом человеке не только относилось к миру идеального, но, помимо того, несло черты совершенства, которое должно было раз и навсегда устранить все недостатки человеческой природы и обладало эсхатологическими, апокалиптическими
296
чертами - в соответствии с давней традицией, берущей свое начало, самое позднее, в эпохе Просвещения.
Конечно, лишь немногие большевики понимали свою революцию в этом смысле как революцию в человеческой сущности. К ним относился Ленин, подчеркнувший данный аспект в своей концепции «культурной революции», и прежде всего Лев Троцкий -вообще самый острый ум среди революционеров первой волны. Троцкий правильно понял, что практическое влияние церкви состоит прежде всего в морально-этическом контроле за жизнью человека во внерабочее время - в контроле, и осуществлявшемся, и выражавшемся при оформлении важнейших вех существования индивида. Крещение, свадьба, похороны - основные «ритуалы перехода» в человеческой жизни существовали как религиозно-церковные церемонии. Любая революция, желавшая создать нового человека, должна была здесь вмешаться и не могла ограничиться одним лишь запретом для церкви участвовать в этих церемониях. «Пролетарское государство» должно было создать «свои собственные праздники» и «свои [собственные] процессии [sic!]». Иконы, крещение, венчание, отпевание должны уйти. Но на их место не могут заступить одни лишь «теоретические аргументы». Троцкий видел очень ясно, что эти аргументы действовали «только на разум», а старые ритуалы, особенно православные, - также на чувства и общие настроения и даже преимущественно на них17.
Попытки оформить перечисленные выше поворотные моменты жизни в духе новой государственной идеологии можно поэтому рассматривать в качестве своего рода «красного эрзаца»18. Вместо крещения пропагандировались Октябрины, в ходе которых новорожденного не предавали божьему попечению, а освящали идеями Красного Октября. Церковь при этом заменяла фабрика, священника -директор фабрики, и торжественный протокол содержал наказ новорожденному, когда придет его время, «довершить великое дело пролетариата». Разумеется, под красными знаменами нельзя было давать освященные традицией имена церковных святых. Новые образцы и идеалы требовали и новой идентичности, выражавшейся в таких именах, как Спартак, Текстиль, Владлен (Владимир Ленин) или же Мелор, являвшем собой целое созвездие (Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция)19. В том же духе пропагандировали красную свадьбу. Даже убежденным коммунистам чего-то не хватало в сухом акте гражданской регистрации. Красная скатерть, портрет Ленина, напутствие члена партии и исполняемый стоя Интернационал, очевидно, смягчали боль утраты церковного песнопения, каждения и икон. Особенно мучительно формировался эрзац ритуала смерти и погребения. Последнему помазанию не нашлось замены. Но и заупокойную службу и отпевание не удалось успешно Перевести в светские церемонии, поскольку их невозможно было
297
отделить от веры в потустороннюю жизнь. Поэтому остановились на множестве красных знамен, революционном траурном марше и как «высшей почести» полной остановке всех станков наряду с участием в похоронной церемонии рабочего коллектива в полном составе20.
С другой стороны, вовсе не обязательно предполагать у Троцкого, Ленина и других (немногочисленных) революционеров, публично высказывавших свое мнение (прежде всего у Бухарина), намерение вступить в конкуренцию с церковью, чтобы попытаться объяснить их планы революции в образе жизни и культуре. Ведь не менее убедительно просто указать на тот известный образец, который Троцкий, конечно же, тщательно изучил, - на Французскую революцию. Новый календарь, культ Верховного Существа, изменение имен, новая иконография - все это хотя и происходило по-другому, но очень похоже в плане целеполагания, и легко проецировалось на режим, осознававший себя продолжателем дела Французской революции. И в этом отношении можно говорить о tyranny of Paris over Petrograd (тирании Парижа над Петроградом), как сформулировано в заглавии одной, часто цитируемой в недавнем прошлом статьи21.
От символа следует отличать культ. Символы хотя и воспринимаются многими, но, как правило, не пропагандируются преимущественно при помощи интенсивных массовых кампаний. В этом смысле они действуют скорее пассивно. Символическую наполненность обретают прежде всего предметы и процессы, но не лица и их действия. Там, где персона становится опознавательной фигурой государств, движений и событий, недалеко до культа; а там, где он инсценируется и надолго закрепляется, утрачивая свою изначальную спонтанную добровольность, ощущается действие политического руководства, манипулирующего этим культом и использующего его в качестве инструмента, как правило, в целях легитимировать свое существование. Такие системы строятся обычно на непротивлении большинства и выдают себя за демократические, но пытаются закрепить это непротивление, чередуя манипулирование настроениями с репрессиями. Культ личности относится к самой сердцевине управления общественным мнением. С точки зрения системы цель достигнута в том идеальном случае, если не надо больше побуждать большинство оказывать ей желанное уважение на словах и делах, а оно делает это по собственному устремлению. Этот момент был, кажется, достигнут в Советском Союзе довольно быстро. И в культе Ленина прежде всего и в последовавшем за ним культе ♦ Сталина постоянно видели ярчайшие проявления диктаторского характера советской системы не в последнюю очередь именно потому, что в этих культах имело место и совершенно искреннее поклонение.
Как следует понимать этот культ, мнения в настоящий момент расходятся. Стандартному толкованию, считающему его главной
298
чертой псевдорелигиозный характер, несколько лет назад была противопоставлена альтернативная интерпретация, в которой основной упор делается на политический расчет и в которой культ Ленина рассматривается как инсценированный политический массовый культ (разумеется, эта точка зрения учитывает опыт национал-социализма). Многое, однако, говорит за то, что противоречие между этими мнениями, несмотря на различную расстановку акцентов, преувеличено и что к постулируемой сторонниками этих суждений несовместимости их взглядов не стоит относиться слишком серьезно.
В пользу религиозного компонента говорят прежде всего два обстоятельства. Во-первых, в православной церкви существовала и существует давняя традиция ярко выраженного почитания святых. Во все времена реликвии в монастырях и скитах притягивали множество паломников. О том, насколько распространена была эта форма верования, не в последнюю очередь свидетельствует (как бы в зеркальном отражении) та грубая и осознанно богохульная атеистическая контрпропаганда, которая началась вскоре после большевистского переворота: на обозрение выставлялись открытые гробы, чтобы продемонстрировать червей на дне, и «разоблачались» ремесленники, оказавшиеся среди мумий монахов знаменитой Киево-Печерской лавры22, чтобы показать, как церковь вводила в заблуждение верующих23. Многовековая форма поклонения такого рода была готова принять и новую «икону». Во всяком случае такой расчет приписывается Сталину на основании одного его высказывания осенью 1923 г., когда Ленин был еще жив, но уже обездвижен после двух инсультов и пребывал в инвалидном кресле, лишенный речи. По словам Сталина, когда Ленин умрет, он должен быть похоронен «по русскому обычаю» - и это могло означать только одно, поскольку церковная церемония исключалась: его тело должно было подвергнуться консервации24.
Во-вторых, среди высших партийных вождей, которые после смерти Ленина 24 января 1924 г. совещались о том, что должно произойти с его телом, были некоторые влиятельные личности - прежде всего нарком просвещения и образцовый интеллектуал А.В. Луначарский, - приобщившиеся в предвоенные годы к так называемому богостроительству25. Центральную идею этого внутриболыпевист-ского направления, которое Ленин заклеймил как ересь и в очень короткое время успешно подавил, можно назвать гностической: познание мира должно вести к познанию Бога, подводя разум к трансцендентной, всякий разум превосходящей последней Истине. Когда Ленин умирал, он сам стал, согласно секулярно-религиозной интерпретации его культа, объектом возрождения этой марксистской теософии: кто хотел представить Бога в качестве высшей формы познания мира, тот был близок и к обожествлению революционного сверхчеловека путем его бальзамирования. Правда, у этой идеи были, оче
299
видно, и противники. Прежде всего, говорят, протестовала вдова Ленина, Надежда Крупская. Тогда постановили провести мумификацию лишь на определенный срок, который потом неоднократно продлевали. Только после победы Сталина над внутрипартийным левым крылом, тоже выступавшим за нормальное погребение, было принято решение построить постоянный каменный мавзолей и выставить в нем тело основателя государства навечно26.
С того времени Ленин стал, как известно, окончательно вездесущим. Его портрет не висел разве что над кроватью роженицы, но, конечно, он был уже и в яслях, и в детских садах. Он украшал школьные классы и студенческие аудитории, рабочие места и места общественного отдыха - от колхозного клуба до парка культуры. Он указывал путь к правильной жизни, придавал ей смысл и наполненность. И чем дальше в прошлое уходила его смерть, тем чаще он давал точные справки по областям знания и проблемам, которыми никогда не занимался. Ленин стал непогрешим и отошел, без сомнения, в некую надчеловеческую, квазирелигиозную сферу.
Все это не вызывает споров. Остается, однако, открытым вопрос, подходят ли названные мотивы для создания культа такого рода и не следует ли понимать его в другом ключе. Такие возражения делались в основном по поводу субъективных намерений тех, кто выступал за длительную консервацию тела Ленина27.
Во-первых, существует сомнение в правильности передачи упомянутых слов Сталина. У будущего вождя, похоже, не было и плана использовать умершего Ленина для утоления своей жажды власти. Более вероятно, что он решился на это лишь после большого успеха своей «клятвы у гроба» на официальной траурной церемонии.
Во-вторых, что важнее, невозможно доказать наличия у кого-либо из большевистских партийных вождей, выступавших за бальзамирование тела Ленина, гностических или подобных им идей, связанных с богостроительством предвоенных лет. Более того, принадлежность к этому течению «главных подозреваемых» (наркомов просвещения и внешней торговли Луначарского и Красина) можно констатировать лишь с некоторой натяжкой. Когда оба они, бывало, отходили на короткое время от большевистского мейнстрима, то высказывали идеи, не имевшие ничего общего со вставшим позже вопросом об увековечении Ленина. И вряд ли тут могли оказать какое-либо влияние, как порой утверждают, причудливые «биокосми-ческие» идеи одного пользовавшегося в те годы известностью философа, Николая Федорова28 (постулировавшего бессмертие человека на основании неразрушимости его атомов). «Создание культа вокруг умершего Ленина невозможно объяснить ни дальновидным расчетом Сталина, ни апелляцией к русской православной традиции, ни фантастическим проектом философов-сектантов по воскрешению», - вот вывод, к которому приводят подобные возражения29.
300
Тщательная проверка процедур принятия решения в период с января по апрель 1924 г., впервые предпринятая на основании архивных материалов, показывает, напротив того, что решающее значение здесь имели вполне светские политические мотивы.
Раз так, то многое действительно говорит в пользу того, что сильнейшим побуждением к созданию культа было стремление обеспечить легитимность власти и сплоченность вокруг нее. Вопреки своему аскетическому самовосприятию и без всяких усилий с его стороны Ленин уже при жизни стал объектом культа30. После его смерти население было вполне готово придать преклонению перед ним сакральный и постоянный характер. Как видно из доступных сейчас документов, в массах прокатилась волна искреннего изъявления горя. И вполне убедительно звучит вывод, что «ни один из большевистских политиков не смог бы остаться от этого в стороне»31. Однако источники показывают и то, что проявления этого массового траура были не совсем спонтанными и неизбежными. Их поощряли, например, весьма избирательно публикуя изъявления народного сострадания. Закулисным руководителем этого был, ни много ни мало, тогдашний шеф ОГПУ и основатель ЧК Феликс Дзержинский. Если у культа Ленина и был некий инициатор, то на такую честь прежде всего претендует Дзержинский.
Конечно, эту логику можно упрекнуть в том, что она ориентируется только на субъективные намерения dramatis personae (главных действующих лиц). Она, однако, вовсе не исключает из поля зрения и псевдорелигиозные ожидания населения. Напротив, раз действительно имело место массовое движение, под влиянием которого политическое руководство осознало, что не может принять иного решения, естественно предположить, что оно должно было при этом в первую очередь учитывать вековые традиции и образцы. Именно потому Дзержинский (при вскоре последовавшей весомой поддержке Сталина) и смог использовать это движение, чтобы укрепить все еще сомнительную легитимность режима, а заодно связать клятвой единения партию и народ, что окончательно выбило почву из-под ног у сторонников левого крыла.
Как известно, затем последовал культ Сталина, дату возникновения которого можно назвать с точностью до дня - 21 декабря 1929 г., день 50-летия того, кого тогда впервые назвали вождем. На этом вопросе я не буду останавливаться подробно. Культ Сталина был иным по сравнению с культом Ленина - намного больше инсценированным, намного теснее связанным с аппаратом, намного сильнее навязываемым.
Весьма показательно различие между обоими культами, соответствовавшее общему характеру предвоенных фаз развития Советского Союза. Ранние символы, церемонии и инсценировки советской власти апеллировали к народу, который тогда обхаживали,
301
потому что народ был еще далеко не убежден новым порядком. Ему показывали, что началось новое время, с новым календарем, новыми праздниками и новым режимом, который, являясь репрезентантом трудящегося люда, сделал своим символом серп и молот. У каждого режима есть свои гербы и свои эмблемы; у каждого (или почти каждого) режима есть свой миф происхождения, помогающий создать то согласие и ту лояльность, без которых ни одно государство не может долго существовать. Революционные режимы, похоже, нуждаются в большем. Они должны легитимировать и тот перелом, из которого они возникли, всеми средствами распространяя доказательства своей исторической миссии. Они репрезентируют не только свою власть в смысле властного контроля, но в то же время и свою задачу, и свою цель. Характерной манифестацией, если таковая была, самоосознания советской власти в первые годы ее существования можно считать прежде всего попытки повлиять на образ жизни людей, на общество. В этом отношении государство воспринимало себя лишь как наделенную властью и авторитетом защитную оболочку общества.
При Сталине общество отошло на второй план. Здесь власть представляет уже только саму себя. Эти отрыв и гипертрофия находят свое выражение не только в широко известном стиле монументальной архитектуры. Они наметились уже в отличии между мероприятиями 7-8 ноября, которыми режим отмечал годовщины своего возникновения: массовое театрализованное представление с чертами народного праздника в первые годы после Октябрьской революции - и военные парады на Красной площади перед мавзолеем Ленина в 30-е годы.
1 См., например: Furet F. Penser la Revolution fran^aise. P., 1985; Furet F., Richet D. Die Franzosische Revolution. Frankfurt a. M., 1997 (оригинал 1966 г.); The French Revolution and the Creation of Modem Culture / Ed. by F. Furet, M. Ozouf. Vol. 3: The Transformation of Political Culture 1789-1848. Oxford; N.Y. etc., 1989; Ozouf M. La fete r6volutionnaire 1789-1799. P., 1976; Hunt L. Politics, Culture, and Class in the French Revolution. Berkeley, 1986; Chartier R. Die kul-turellen Urspriinge der Franzosischen Revolution. Frankfurt a. M.; N.Y.; P., 1995; Darnton R. Le grand massacre des chats. Attitudes et croyances dans 1’ancienne France. P., s.a.
2 Cp.: The Unknown Lenin: From the Secret Archive / Ed. by R. Pipes. New Haven, 1995, а также разгромную рецензию А. Рабиновича на эту работу: Russian Review. 1998. Vol. 57. Р. 110-111.
3 См., например: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. «Антоновщина»: Документы / Под ред. В.П. Данилова. Тамбов, 1994; Danilov V., Berelowitch A. Les documents des VCK-OGPU-NKVD sur la campagne sovietique, 1918-1937 // Cahiers du Monde Russe 35 (1994). P. 633-682; Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД: Документы и материалы: В 4 т. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 1998; Т. 1: 1918-1922; Т. 2:
302
1923-1929; Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника головокружения: Документы и материалы / Под ред. Л. Виолы, Т. Макдональда и др. М., 1998; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы 1927-1939: В 5 т. / Под ред. В.П. Данилова. М., 1999-2000. т 1-4 [1927-1936].
4 См. прежде всего первые тома его монументального труда: Carr Е.Н. History of Soviet Russia. The Bolshevik Revolution 1917-1923. Vol. 1-3. L., 1950-1953; Idem. The Interregnum 1923-1924. L., 1954; Idem. Socialism in One Country 1924-1926. Vol. 1-3. L., 1958-1964.
5 Chlewnjuk [Chlevnjuk] O.V. Das Politburo. Mechanismen der politischen Macht in der Sowjetunion der dreiBiger Jahre. Hamburg, 1998.
6 Cp. Wetter G.A. Der dialektische Materialismus. Seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion. Wien, 1958; Bochenski J.M. Der sowjetrussische dialektische Materialismus. Munchen, 1956.
7 Cp. Vogt A.M. Russische und franzosische Revolutionsarchitektur 1917/1789. Koln, 1974; Beyme K. von. Die Oktoberrevolution und ihre My then in Ideologic und Kunst // Revolution und Mythos / Hrsg. von. D. Harth, J. Assmann. Frankfurt a. M., 1992. S. 149-177, перепечатано: Idem. Die Kunst der Macht und die Gegenmacht der Kunst. Studien zum Spannungsverhaltnis von Kunst und Politik. Frankfurt a. M., 1998. S. 266 и далее.
8 См., например: Totalitarismus und Politische Religionen. Konzepte des Diktaturvergleichs / Hrsg. von. H. Maier und M. Schafer. Bd. 1-2. Paderborn u.a., 1996-1997; Heilserwartung und Terror. Politische Religionen des 20. Jahrhunderts / Hrsg. von. Lubbe. Dusseldorf, 1995; Politische Religion - religiose Politik / Hrsg. von R. Faber. Wurzburg, 1997; вновь найденный источник: Voegelin E. Die politischen Religionen / Hrsg. von P. J. Opitz. Munchen, 1993 (оригинал 1938 г.).
9 См. первую монографию об этом: Figes О., Kolonitskii В. Interpreting the Russian Revolution. The Language and Symbols of 1917. L., 1999. P. 61-62; в слегка расширенном виде на русском языке: Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры Российской революции 1917 года. СПб., 2001. С. 250-251, 285-286.
10 Новый порядок времен (лат.) (примеч. ред.).
11 Ср. прекрасный доклад: Stolleis М. Das Auge des Gesetzes. Materialien zu einer neuzeitlichen Metapher H Jahrbuch des Historischen Kollegs. 2001. S. 15-46, здесь 34—35; по поводу советской эмблемы: Stites R. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. N.Y., 1989. P. 86-87.
12 Ср., например: Великая Отечественная война 1941-1945: События. Люди. Документы. М., 1990. С. 83, и подобные плакаты.
13 Ср. для первой пятилетки: RolfM. Constructing a Soviet Time: Bolshevik Festivals and Their Rivals during the First Five-Year Plan. A Study of the Central Black Earth Region // Kritika. 2000. Vol. 1. P. 447-473; Рольф M. Советский массовый праздник в Воронеже и Центрально-Черноземной области России, 1927-1932. Воронеж, 2000.
14 См. прежде всего разные работы М.В. Шкаровского: Skarovskij M.V. Die russische Kirche unter Stalin in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts // Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung / Hrsg. von M. Hildermeier. Munchen, 1998. S. 233-254; Шкаровский М.В. Петербургская епархия в годы гонений и утрат 1917-1945. СПб., 1995; Он же. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве: Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 г. М., 1999 и др.
303
15 Bogdanov A. Der rote Planet. Ingenieur Menni. Utopische Romane. B., 1989; Miiller D. Der Topos des Neuen Menschen in der russischen und sovjetrussischen Geschichte. Frankfurt a. M., 1998. S. 106 и далее; Stites R. Op. cit. P. 85.
16 Kiienzlen G. Der Neue Mensch. Eine Untersuchung zur sakularen Religionsgeschichte der Modeme. Munchen, 1994.
17 Cp. Trotzki L. Fragen des Alltagslebens. Die Epoche der Kulturarbeit und ihre Aufgaben. Hamburg, 1923. S. 68, 70; Stites R. Op. cit. P. 109 и далее; co многими деталями: Fiildp-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. Darstellung und Kritik des kulturellen Lebens in SowjetruBland. Zurich u.a., 1926. S. 256 и далее.
18 Fiildp-Miller R. Op. cit. S. 257.
19 Cm.: Fiilop-Miller R. Op. cit. S. 258; Stites R. Op. cit. P. 111.
20 Fiildp-Miller R. Op. cit. S. 261; Stites R. Op. cit. P. 112-113.
21 Keep J.L.H. 1917: The Tyranny of Paris over Petrograd // Soviet Studies. 1968. Vol. 20. P. 22-35; см. также: Hunt. Op. cit. P. 52 и далее, 87 и далее; Ozouf М. Op. cit. и другие работы (см. выше, примеч. 1).
22 Автор имеет в виду выставление тела фальшивомонетчика, обнаруженного в одной московской квартире спустя девять месяцев после его кончины, рядом с мумифицированными останками святых (Fiildp-Miller R. Op. cit. S. 249 и Taf. 142. - Примеч. ped.).
23 См. с впечатляющими иллюстрациями: Fiildp-Miller R. Op. cit. S. 247 и далее.
24 Ср. Tumarkin N. Lenin Lives’ The Lenin Cult in Soviet Russia. Harvard, 1983. P. 1 и далее, 112 и далее, здесь 182.
25 См., например: Manicke-Gyongyosi К. «Proletarische Wissenschaft» und «sozialistische Menschheitsreligion» als Modelle proletarischer Kultur: Zur links-bolschewistischen Revolutionstheorie A.A. Bogdanovs und A.V. Lunafcarskijs. Wiesbaden, 1982; Grille D. Lenins Rivale. Bogdanov und seine Philosophie. Koln, 1966. S. 34 и далее; Sochor ZA. Revolution and Culture: The Bogdanov-Lenin Controversy. N.Y., 1988. P. 3 и далее.
26 Детали см.: Tumarkin N. Op. cit. P. 165 и далее.
27 К этому см.: Ennker G.B. Die Anfange des Leninkults in der Sowjetunion. Ursachen und Entwicklung in der Sowjetunion in den zwanziger Jahren. Koln; Weimar; Wien, 1997. S. 315 и далее.
28 См., например: Hagemeister М. Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben und Wirkung. Munchen, 1989; Lukashevich S. N. F. Fedorov (1828-1903): A Study in Russian Eupsychian and Utopian Thought. Newark, 1977.
29 Ennker G.B. Op. cit. S. 343.
30 Ср. на удивление восторженное изображение во вполне критической новаторской работе Fiildp-Miller R. Op. cit. S. 36 и далее; добротную биографию см.: Service R. Lenin: eine Biographic. Munchen, 2000.
31 Ennker G.B. Op. cit. S. 332.
Города
О.И. Тогоева
ВОСПОМИНАНИЯ О ВЛАСТИ.
РЕЙМС 1431 г.
Судебный документ, легший в основу этого исследования, происходит из муниципального архива г. Реймса1. Он был частично опубликован еще в середине XIX в.2, однако до самого последнего времени не привлекал внимания специалистов по истории средневекового права и правосознания3. Этот документ представляет собой запись свидетельских показаний по делу о правах на два участка земли, чьи владельцы умерли, не оставив наследников.
Спор о том, в чьей юрисдикции должна отныне находиться данная земля, шел между монахами аббатства Св. Ремигия и архиепископом Реймса. Допрос свидетелей велся королевскими чиновниками: Жаном Бутийе, лейтенантом бальи Вермандуа, и Жаном Лаббе, его помощником4. Разбирательство длилось с 18 декабря 1431 г. по 17 ноября 1432 г. Был составлен вопросник из 25 статей, содержание которого до некоторой степени можно восстановить по ответам свидетелей.
Чтобы понять, кому в действительности следует присудить спорные земли, чиновникам короля необходимо было составить представление обо всей крайне сложной и запутанной системе правовых взаимоотношений аббатства и архиепископа - системе, складывавшейся на протяжении веков5. Они задавали вопросы, касавшиеся не только территорий, подвластных каждой из сторон, и их границ. Их интересовало буквально всё: права на ведение торговли и взимание пошлин; права на контроль мер и весов; наличие рынков и рыночных дней, печей для выпечки хлеба и прудов для ловли рыбы; отношения с королевскими чиновниками и городскими эшевенами; структура судебных органов и их функции.
Дела о спорных земельных владениях в XIV-XV вв. относились, как это ни странно, к ведению уголовного суда. В архиве Парижского парламента сохранилось достаточно много записей такого рода. И с этой точки зрения дело из Реймса не представляет особого интереса. Любопытно оно по иным причинам. Во-первых, документ поражает своим объемом. Показания свидетелей записаны очень подробно. Это настоящие многостраничные «воспоминания» с массой
307
деталей, «вставными» историями и повторами. Во-вторых, в данном случае мы имеем дело с жителями провинции. Будучи должностными лицами, имеющими непосредственное отношение к судебной власти, свидетели никогда не покидали Реймса, они не жили в столице, не состояли на службе в парламенте. Следовательно, у них существовал совершенно особый взгляд на судебную власть - взгляд провинциалов, который весьма отличался, как будет видно ниже, от взгляда столичных жителей.
Свидетели по делу в количестве 10 человек были выбраны из людей почтенных: уже весьма пожилых, постоянно проживавших в Реймсе и имевших достойное положение и репутацию. Семеро из них являлись чиновниками аббатства (соответственно, они выступали как свидетели защиты). Это были Готье де Руйи, шателен аббатства, 80 лет от роду; Филипп Лоппэн, сержант аббатства, 40 лет; Жан Бонбёф, 60 лет, являвшийся сержантом аббатства 20 лет назад; Ферри Тюпэн, 66 лет, бывший сержантом аббатства на протяжении 12 лет; Колессон Ле Бальи, 60 лет, нотариус, состоявший на службе в аббатстве в течение 14 лет; Жак де Шомон, старшина аббатства, 66 лет; Жан Руссель, сержант аббатства, 54 лет. Показания этих людей интересуют нас прежде всего, поскольку все они в той или иной степени были знакомы с судопроизводством, с гражданским и уголовным правом, а потому лучше прочих могли ответить на интересующие следствие вопросы6.
Однако никто из наших героев не являлся профессиональным юристом, получившим соответствующее образование. Это становится понятно по тому, как они отвечали на довольно простые вопросы, касавшиеся отправления правосудия на территории, подвластной аббатству Св. Ремигия. Так, они не знали разницы между правом высшей, средней и низшей юрисдикции7. Не могли сказать, чем отличается вынесение приговора от приведения его в исполнение8. На этот последний вопрос только один свидетель, Жан Бонбёф, ответил правильно: «...сказал, что ему кажется, что выносить приговор означает принимать решения, а приводить его в исполнение -наказывать [преступников]»9.
Представления свидетелей о судебной власти происходили не из теории, но из их собственной каждодневной практики. Юристами их сделало не образование, а сама жизнь. Именно поэтому власть для них не являлась абстрактным понятием. Напротив, она воспринималась как нечто абсолютно конкретное, даже, я бы сказала, материальное. То, что для этих людей воплощало в себе власть, можно было увидеть, пощупать руками.
В первую очередь это касалось территории, на которую распро-
странялась юрисдикция аббатства Св. Ремигия. Эта земля была до такой степени знакома свидетелям, что, по выражению ослепшего к
308
старости Готье де Руйи, «он знал бы, как по ней пройти, если бы мог видеть, но и теперь, если его проведут по этим местам, он сможет все показать рукой...»10. В показаниях де Руйи присутствует наиболее полное описание округа Св. Ремигия (ban de Saint-Remi): «...монахи Св. Ремигия являются сеньорами части города Реймса, называемой обычно округ Св. Ремигия, которая начинается у стен города напротив сада Сен-Никез и границей которой служит река чуть выше по течению, около Оссона, если идти вдоль садов Вениз до дома, выходящего на Новую улицу, недалеко от [таверны] “Студенческие бычки”, а затем вверх до места, напротив которого стоит дом, в котором раньше жил мэтр Коллар де Консор, и напротив этого дома, около стены, огораживающей его сад, находится выщербленный камень, который делит территорию господина архиепископа Реймса и территорию аббатства Св. Ремигия. И от этого камня и упомянутых стен вверх по улице до ворот Фришамбо, а оттуда до ворот Дьё-ле-Мир и обратно к этому камню вся территория подпадает под юрисдикцию аббатства Св. Ремигия. И от этого камня по улице Потерянной, до церкви на улице Мельниц и вплоть до улицы, которую называют Банной, и от угла улицы Банной вправо до улицы Потерянной, а оттуда прямо до камня, на котором стоит крест ит.д.»11.
Эти границы, в представлении Готье де Руйи и всех без исключения его коллег, являлись неизменными: они были таковыми в далеком прошлом (когда он еще мог их видеть собственными глазами) и останутся таковыми навсегда. Ничто не могло измениться в этом пейзаже: ни дома, ни виноградники, ни мельницы, ни их владельцы, ни даже камни на улицах города. Территория, подвластная аббатству Св. Ремигия, оставалась совершенно неподвластной течению времени.
Однако столь детальное знание владений аббатства распространялось только на Реймс. Стоило спросить свидетелей о других, более мелких городках, подпадающих под юрисдикцию монахов, как выяснялась интересная закономерность. Свидетели были не в состоянии сколько-нибудь детально описать эти территории. Более того, они даже не знали, где точно в том или ином городе проходят границы владений аббатства, и прибегали к помощи местных жителей, если им нужно было уточнить этот вопрос: по воспоминаниям Ферри Тюпэна, «в местечке Лэнь судебные чиновники аббатства попросили старейшин городка Базанкур указать им те места, на которые распространялась юрисдикция этого аббатства»12.
Более того, свидетели не могли описать то пространство, которое находилось между этими городками и Реймсом, никакой «пустой» территории для них просто не существовало. Это заметно, к примеру, по показаниям Колессона Ле Бальи. В его фразе: «...от ворот Дьё-ле-Мир и до городка Врилли, который расположен недалеко от Реймса и часть которого подпадает под юрисдикцию мона
309
хов»13 - отсутствуют какие бы то ни было детали, характеризующие местность между двумя населенными пунктами14.
Таким образом, представления свидетелей о территории, подвластной аббатству, касались исключительно того места, где они проживали и где отправляли правосудие. Их власть и их воспоминания были сосредоточены в Реймсе, на той земле, которую они видели каждый день, в тех границах, которые они способны были охватить взглядом и памятью. В своих показаниях они создавали свой собственный, абсолютно замкнутый мирок, неподвластный никаким изменениям.
Такое специфическое видение «своей» территории усиливалось тем обстоятельством, что свидетелей совершенно не интересовали более общие проблемы. В их показаниях практически отсутствуют отсылки к актуальной политической ситуации в стране (военным кампаниям Столетней войны, противостоянию двух королевских домов), не упоминаются никакие иные французские города (даже Париж). О «посторонних» событиях свидетели рассказывали лишь в тех единичных случаях, когда они имели непосредственное отношение к их жизни.
Так, у Готье де Руйи война упоминалась только в связи с затеянным им 25 лет назад судебным процессом: некий Гомбо де Мель, лейтенант капитана Реймса, пытался разместить артиллерию в нескольких домах около ворот Фришамбо и Дьё-ле-Мир. Эти дома принадлежали Готье как шателену аббатства, он сдавал их внаем и совершенно не собирался лишаться дохода, даже в условиях активизации военных действий15. Жак де Шомон вспоминал дело некоего Беранжье, пойманного 5 или 6 лет назад, который признался, что в город его прислали как шпиона из Нормандии, где он совершил массу преступлений16. В показаниях Жана Русселя также нашлось место некоему человеку, арестованному потому, что «он был похож на военного», и признавшему «свое участие в поджоге в Ирсоне и в военных походах»17.
Однако за пределами Реймса для наших героев не существовало ничего значительного: ведь даже король упоминался ими лишь тогда, когда в город наезжали его чиновники18. Все, что их интересовало, - это округ Св. Ремигия и та судебная власть, которую они представляли. Территория, границы которой были им так хорошо известны, не просто способствовала этому, она в некотором смысле олицетворяла их власть.
Но не только территория. Не менее важной для понимания того, чем являлась судебная власть для представителей аббатства Св. Ремигия, была категория времени. Именно время и, как следствие, традиция подтверждали, с их точки зрения, законный характер имевшихся у них прав.
310
Прежде всего свидетели настаивали на давнем существовании самого аббатства. Как заявлял Филипп Лоппэн, «он прекрасно знает, что церковь Св. Ремигия является красивой и значительной церковью, основанной очень и очень давно»19.
Все свидетели в один голос утверждали, что сосуд с елеем, предназначенным для церемонии коронации, всегда хранился именно в их аббатстве: «...это правда, что в упомянутой церкви хранится и всегда пребывал святой сосуд, при помощи которого совершается помазание королей Франции»20.
Все они были уверены, что права аббатства много раз подтверждались представителями самых разных ветвей власти: «...эта церковь Св. Ремигия была основана в давние времена, [ее права подтверждались] королем Франции по имени Людовик, его хартиями, которые он (свидетель. - О.Т.) видел и которые запечатаны печатью зеленого воска на шелковом шнурке, и [хартиями] других, последующих королей, как, например, короля Лотаря и другого, по имени Гуго, а также подтверждались папами и архиепископами Реймса»21.
Точно так же свидетели были уверены, что у аббатства всегда были собственные чиновники, отправляющие правосудие. «С тех самых пор, как он себя помнит, он видел в округе Св. Ремигия старшину, эшевенов, сержантов, стражников, бальи и т.д.», - заявлял, к примеру, Жан Руссель22. Мало того, каждый раз, когда речь заходила о том или ином должностном лице, свидетели отмечали точное время, когда этот человек исполнял свои обязанности23. То же самое касалось и каждого конкретного судебного казуса: мы всегда можем узнать из показаний, когда именно он имел место24.
Однако помимо сосуда с елеем и хартий с печатями на шелковых шнурках, подтверждавших давнее существование аббатства и его права, у монахов и их чиновников имелся еще целый набор неких очень важных знаков, неких атрибутов, олицетворявших собственно судебную власть. Именно атрибутов, а не символов, поскольку все они не просто символизировали законное право аббатства вершить суд на своей территории, но и использовались непосредственно по назначению. Наличие символов предполагает абстрактное понятие власти, тогда как в нашем случае речь шла о предельно конкретном ее понимании.
К атрибутам этой власти свидетели, в частности, относили печи для выпекания хлеба, работа которых была строго регламентирована и контролировалась чиновниками аббатства. Как вспоминал Готье де Руйи, «в свое время он видел семь печей на территории, подпадающей под юрисдикцию монахов, в которых жители округа были обязаны выпекать свой хлеб»25. Им было запрещено пользоваться другими печами, имеющимися в Реймсе, даже по празднич
311
ным дням, когда хлеба пекли особенно много. Об этом говорил Ферри Тюпэн: «...на Рождество, когда люди привыкли печь больше, чем обычно, сержанты аббатства, одним из которых он являлся, вынуждены были наблюдать за местными жителями, дабы пресекать их попытки испечь хлеб в другом месте. И для этого [им приходилось даже] забирать у них тесто и взимать с них штраф»26.
Не менее важным знаком судебной власти было в глазах наших героев особое место для заседаний гражданского и уголовного суда, имевшееся в распоряжении монахов, - «красивый и значительный зал, где с давних пор обычно собираются старшина и эшевены аббатства»27. О нем упоминали все без исключения свидетели28, что неудивительно: как отмечает Робер Жакоб, далеко не каждый средневековый суд мог похвастаться наличием собственного помещения. Такой же редкостью была и отдельная «добротная тюрьма, запирающаяся на замок»29, где чиновники аббатства содержали «своих» преступников, не обращаясь при этом за помощью к людям архиепископа30. Монахи располагали также собственным позорным столбом, «красивым и значительным», что лишний раз подчеркивало их право не только судить преступников (на что, безусловно, указывало наличие суда и тюрьмы), но и наказывать их31.
И все же монахи Св. Ремигия могли привести в исполнение не все приговоры, вынесенные самостоятельно. Права вершить смертную казнь в городе они были лишены.
Речь в данном случае шла, естественно, не о церковном, а о светском суде: как аббатство, так и архиепископ обладали в Реймсе правом светской юрисдикции.
Насколько можно судить по сохранившимся записям, именно этот вопрос больше других задел свидетелей за живое. Если во всех прочих случаях ответы их были кратки и однотипны, то здесь они сменились весьма пространными монологами, детально описывающими непростую ситуацию с уголовным судопроизводством, сложившуюся в Реймсе. Ведь борьба за обладание правом высшей юрисдикции велась между аббатством и архиепископом начиная с XII в. - с того времени, когда папа Пасхалий II в булле от 1114 г. определил и закрепил судебные права аббатства32.
Невозможно сказать, когда именно, но стороны все же пришли к некоему компромиссу. За аббатством признавалось право на светскую юрисдикцию, «свободную и независимую ни от кого, а особенно от господина архиепископа»33. Как следствие монахи могли вести уголовные дела, т.е. «хватать и заключать в тюрьму всех найденных преступников, допрашивать, пытать, судить их, а также приговаривать их к смерти, если они ее заслужили, подавать и рассматривать апелляции, изгонять [преступников] из своих земель, ставить их к позорному столбу, который имеется у этих монахов, и применять к ним прочие наказания или же освобождать их, в соответствии с
312
каждым конкретным случаем»34. Они могли также привести смертный приговор в исполнение, если осужденный проживал не в реймсе, а в одном из близлежащих городков, подпадающих под юрисдикцию аббатства35. Если же преступник проживал в самом Реймсе, монахи не имели права казнить его самостоятельно, но были обязаны передать осужденного ими человека людям архиепископа (его прево и лейтенантам), которые должны были свершить правосудие36.
Таким образом, среди атрибутов, олицетворявших судебную власть аббатства, не было, пожалуй, самого существенного - виселицы, исключительное право на возведение и использование которой еще с XIII в. принадлежало в Реймсе архиепископу37. Ее отсутствие волновало всех опрошенных свидетелей38, тем более что чиновники архиепископа всякий раз под тем или иным предлогом оттягивали приведение в исполнение приговора, вынесенного в суде аббатства. Противостояние двух юрисдикций ощущалось порой столь остро, что монахи поговаривали о строительстве собственной виселицы. Ферри Тюпэн рассказывал, как «однажды он слышал разговор других чиновников о том, что, если прево Реймса (подчинявшийся архиепископу. - О.Т.) будет отказываться приводить в исполнение приговор, вынесенный монахами тому или иному преступнику, или откладывать его казнь, эти монахи вполне могут построить виселицу на своей территории»39. И хотя дальше слов дело так и не пошло, желание представителей аббатства заполучить еще один, самый важный, знак их власти для нас совершенно очевидно. Безусловно, этот атрибут лучше всякого иного мог свидетельствовать о том, что их судебная власть - настоящая, лишний раз подчеркнуть их полную независимость от людей архиепископа.
Однако виселицы у монахов все же не было. А потому свидетели были вынуждены приводить иные аргументы, подтверждавшие самостоятельность аббатства в отправлении правосудия. И главным среди них, как представляется, было утверждение о наличии своих собственных чиновников.
Пытаясь объяснить, почему округ Св. Ремигия юридически подчинялся монахам, все свидетели использовали одну и ту же, причем Довольно странную, логику. Все они без исключения считали, что если в том или ином месте население день изо дня видит чиновников аббатства, следовательно, эта территория подпадает под его юрисдикцию. На самом деле зависимость, конечно, должна была быть обратной: если земля относилась к аббатству, то только в этом случае его представители могли осуществлять на ней свою власть. Однако наши свидетели говорили не об абстрактных понятиях, а о том, что они видели и помнили сами. Они опирались на практику, а не на теорию. И видели они не власть «вообще», а конкретных
313
людей, исполнявших свои обязанности и, тем самым, олицетворявших судебную власть.
Так, Филипп Лоппэн на вопрос, «откуда он знает, что округ Св. Ремигия подчиняется упомянутым монахам», отвечал, что «знает это потому, что всегда, на протяжении долгих лет, видел, что суд в этом округе вершится чиновниками аббатства»40. Иногда обоснование власти аббатства приобретало в показаниях свидетелей еще более странные формы. Например, Жан Бонбёф искренне считал, что власть в округе принадлежит аббатству не только потому, что здесь действуют его чиновники, но и потому, что он сам когда-то был одним из них: «Его спросили, откуда он знает, что монахи являются сеньорами этих мест... сказал, что знает это потому, что на протяжении более 30 лет он видел в этих местах чиновников-монахов, а также [потому, что] 20 лет назад он был их сержантом и исполнял эти обязанности в течение года»41. А Готье де Руйи, затрудняясь ответить, существовал ли когда-нибудь в Реймсе замок, настаивал тем не менее на том, что должность шателена (призванного в идеале этим замком управлять) имелась всегда, и он сам ее занимает42.
Весьма показательно различие, проводимое свидетелями между своими и чужими чиновниками. «Своими» были для них люди аббатства, знакомые нашим героям лично и всегда фигурировавшие в их воспоминаниях с указанием имени и должности. Например, Готье де Руйи точно помнил, кто был шателеном аббатства 64 года назад и кто сменил его на этом посту 50 лет назад43. Из 22 чиновников, упомянутых этим самым старым из всех опрошенных свидетелем, 21 человека он помнил по имени и мог указать точное время, когда они занимали свои должности44. «Чужих» представителей власти Готье де Руйи ни разу не назвал по имени, предпочитая использовать для их обозначения безличное «люди архиепископа» или «чиновники архиепископа»45.
Единственными «чужими» чиновниками, кого некоторые свидетели знали по имени, были те, с кем представители аббатства имели дело, когда им нужно было передать на казнь того или иного приговоренного ими к смерти преступника: прево Реймса Колар де Сез и сменивший его Жан Буиро46, бальи Реймса Гийом Одиерн и его предшественник Жан Робершамп47, их сержанты Вотле де Мезьер и Юссон Эрман48, прокурор Реймса Жан Брюлар49, викарий Содрэн50. Упоминаний других должностных лиц архиепископа (тем более, их имен) в показаниях свидетелей мы не найдем: точные должность и имя были для них атрибутами только «своих» людей. Как отмечал Жак Поль, анализируя материалы процесса Жанны д’Арк, эти особенности судебного дискурса указывали прежде всего на существование четких различий между «своими» и «чужими», их жесткого противопоставления, на состояние вражды, в котором они пребывали постоянно51.
314
Но не только «людям архиепископа» стремились противопоставить себя чиновники аббатства. По мнению свидетелей, эти последние занимали вообще самое высокое положение в местной должностной иерархии. Даже королевские чиновники, прибывавшие время от времени в Реймс с какими-то поручениями, обязаны были заручаться поддержкой представителей аббатства. Так, Жак де Шомон вспоминал, что «когда какие-нибудь королевские чиновники приезжали в указанный округ [Св. Ремигия], чтобы объявить вслух и опубликовать королевские приказы, они являлись к нему как к старшине [аббатства], показывали свои документы и просили об оказании помощи [в их деле]. Для этого им выделялись несколько сержантов и человек, объявляющий приказы. И когда они начинали объявлять [королевские постановления], они кричали, как это принято, такие слова: “Слушайте, слушайте, от имени господина [округа] Св. Ремигия, по поручению короля, нашего господина, бальи Вермандуа и прево Лаона...” или от имени кого-то другого, кто прислал эти постановления»52.
Свое особое положение свидетели всячески подчеркивали также ссылками на вышестоящие инстанции. Так, в число «своих» попадали святые, прежде всего, конечно, Св. Ремигий, которого наши герои все без исключения считали самым главным святым Франции. Как отмечал Готье де Руйи, «он постоянно слышал и читал в разных книгах, [а потому] считает, что господин Св. Ремигий был и остается [святым] покровителем Франции, несмотря на то что несколько раз до него доходили слухи, что господин Св. Дионисий является покровителем Франции. И ему кажется, что господин Св. Ремигий является [святым] покровителем потому, что [именно] он раскрыл [христианское] учение и предсказал [смену вероисповедания] королю Хлодвигу..., и был Хлодвиг помазан на царство из священного сосуда, принесенного с Небес господину Св. Ремигию, о чем он (свидетель. - О.Т.) читал в житии Св. Ремигия»53. Не менее важны были ссылки и на самих королей, всегда остававшихся благосклонными к аббатству и одаривавших его разными привилегиями54. И даже королевских придворных, время от времени появлявшихся в поле зрения наших свидетелей, эти последние записывали в свою «группу поддержки»: в частности, за три года до описываемых событий они должны были служить «охраной» аббату, переносившему сосуд с елеем из церкви Св. Ремигия в собор Богоматери в Реймсе, гДе предстояло состояться коронации Карла VII55.
Не менее важным условием для создания и укрепления образа собственной власти было, в представлении наших свидетелей, наличие у монахов своих преступников. Все они также хорошо были Знакомы нашим героям, которые помнили их по именам, охотно и Подробно описывали детали их судебных процессов56.
315
По единодушному мнению свидетелей, иметь дело со «своими» преступниками могли только люди аббатства. В связи с этим важно отметить одно любопытное противоречие в их показаниях. При всех сложных отношениях с чиновниками архиепископа наши свидетели с завидным упорством настаивали на полном отсутствии каких бы то ни было конфликтов с ними. По словам Жана Русселя выходило, что ни одного спора, за исключением дела о наследовании двух участков земли, между ними не возникало никогда57. Тем не менее каждый свидетель считал своим долгом припомнить хотя бы один судебный казус, где сталкивались интересы аббатства и архиепископа. Чаще всего это происходило как раз потому, что монахи не желали «делиться» своими преступниками с представителями другой ветви власти.
Так, люди архиепископа не имели права арестовывать кого бы то ни было на землях аббатства. Как рассказывал Жан Руссель, 12 лет назад сержанты бальи Реймса, Вотле де Мезьер и Юссон Эр-ман, попытались арестовать местного менялу Персона Меро за рыбную ловлю в неположенном месте - около мельницы Гуон, подпадавшей под юрисдикцию аббатства. Прокурор аббатства Удар Друэ немедленно потребовал от бальи Жана Робершампа вернуть арестованного ему, причем именно там, где он был схвачен58. Бальи приказал своим сержантам отпустить Персона, сильно отругав их59. Те поспешили исполнить приказ и пообещали впредь так не поступать, чем прокурор аббатства был особенно доволен60.
Люди архиепископа не могли также возобновлять уголовный процесс против человека, по делу которого приговор уже бывал вынесен в суде аббатства. В связи с этим Жак де Шомон вспоминал дело некоего Персона Беделе, приговоренного к смертной казни за несколько убийств и изнасилований. Как и полагалось в таких случаях, Беделе передали чиновникам архиепископа для приведения приговора в исполнение. В назначенный день его посадили в повозку, чтобы везти к месту казни, но в этот момент выяснилось, что у Жана Брюлара и Жана Буиро, прокурора и прево Реймса, в башне Порт-Марс содержится некая свинья, также приговоренная к смерти. Они предложили де Шомону заехать за ней по дороге, чтобы отвезти ее и Беделе к виселице вместе61. Чему свидетель категорически воспротивился: «Езжайте и забирайте ее, когда вам заблагорассудится, и отвозите на виселицу. Но вы ни за что не повезете в свою тюрьму Беделе, который был вам передан уже приговоренным к смерти. Везите его прямо на казнь, без нового ареста, как и должно быть»62. Именно так и пришлось поступать чиновникам архиепископа.
Однако уже у подножия виселицы они вновь попытались допросить Беделе: «...упомянутые Брюлар и Буиро спешились и хотели поговорить с этим Беделе. Они отвели его в сторону, чтобы допро
316
сить»63. Но и это было им запрещено. Чтобы подчеркнуть невозможность для людей архиепископа допрашивать «чужого» преступника in extremis, Жак де Шомон вложил эти слова в уста самого осужденного, якобы произнесшего перед присутствовавшими такую речь: «Я признался чиновникам Св. Ремигия во всем, что я совершил дурного. Я ничего больше вам не скажу, да я и не должен вам ничего говорить»64.
Похожая история происходила с преступниками, приговоренными к смерти в суде аббатства, довольно часто. Жак де Шомон вспоминал дело Этьена Бодри, обвиненного в воровстве, с которым в последний момент викарий архиепископа Содрэн так настойчиво пытался поговорить, что свидетелю пришлось вмешаться65. Та же ситуация повторилась и во время процесса Жана Ронделя, с которым желал побеседовать прево Реймса Колар де Сёз, а прокурор монахов Удар Друэ ему в этом всячески препятствовал66.
Казнь «своего» осужденного чиновники аббатства могли контролировать до самого конца67, в частности, они обязаны были проследить, чтобы «их» преступника вели на виселицу отдельно от «чужих». Так, Жак де Шомон уточнял, что уже упоминавшегося Жана Ронделя везли к месту казни вместе с уголовниками, пойманными и осужденными людьми архиепископа, - неким Жаном Гиньоле, по прозвищу Пьяница, и его бандой. Однако затем Рондель остался в повозке дожидаться своей очереди в компании с прокурором аббатства и «многими другими служителями и чиновниками этой церкви»68.
К категории «своих» преступников, по мнению наших свидетелей, могли относиться не только люди, но также неодушевленные предметы. Так, Готье де Руйи упоминал процесс 28-летней давности, когда тухлое мясо приговорили к сожжению69. Та же участь ждала гнилые овощи70 и испорченные специи71. В число «своих» преступников входили также животные, подвергавшиеся точно таким же наказаниям, что и люди72. Подобные процессы - и воспоминания о них - были призваны подчеркнуть значительность судебной власти, принадлежавшей монахам Св. Ремигия, ее поистине всеобъемлющий характер.
Чиновники аббатства всячески защищали право самостоятельно судить - и даже казнить - своих собственных преступников. Прекрасным примером их усердия может служить история, рассказанная Жаном Бонбёфом. Желая проиллюстрировать непростые отношения своих коллег с людьми архиепископа, он припомнил уголовный процесс, состоявшийся около 34 лет назад, по делу некоей женщины, служанки кюре из городка Жунивиль. Она обвинялась в Убийстве собственного ребенка и была приговорена к смертной казни73.
317
Обвиняемая не являлась жительницей Реймса, а потому монахи имели полное право лично привести приговор в исполнение. Был вызван палач, и в назначенный день телега с осужденной выехала из ворот тюрьмы и покатила прочь из города, к месту экзекуции. Однако выехать из Реймса чиновникам аббатства не дали: телегу окружили люди архиепископа и, «желая помешать тому, чтобы [преступницу] вывезли за пределы территории, находящейся под властью архиепископа», арестовали палача и отвели его в свою собственную тюрьму у ворот Порт-Марс74.
Потеря палача, однако, не смутила нашего героя и его коллег, и они спокойно продолжили свой путь, заночевав в Серне (Semay), а утром прибыли на место казни, «в городок Лэнь, находящийся в их юрисдикции, и там рано утром была [эта женщина] связана на повозке, а затем сброшена оттуда в костер, разведенный из веток терновника, и там приняла смерть»75.
История, рассказанная Жаном Бонбёфом, весьма показательна. С одной стороны, она демонстрирует те трудности, с которыми довольно часто сталкивались чиновники аббатства в отправлении правосудия. С другой стороны, она говорит о манере, в которой свидетели давали свои показания, о стиле, присущем их рассказам, их воспоминаниям о власти.
Их показания не содержат ссылок на какие бы то ни было нормативные акты: будь то королевское законодательство, обычное право или какие-то отдельные постановления. Единственный свидетель, несколько раз упоминавший подобные тексты в качестве источника своих знаний о правах аббатства, - Готье де Руйи, честно замечавший, что видел их уже очень давно. Два раза он говорил о неких королевских «хартиях»76 и один раз о «местной кутюме»77. Во всех остальных случаях самый старый и самый опытный свидетель предпочитал ссылаться на мнение «мудрецов», с которыми ему когда-то приходилось общаться78, а также на то, что он сам «видел» и «слышал».
Те же выражения («й а оу dire», «й a veu», «й a seu», «й se recorde bien») постоянно встречаются в рассказах остальных свидетелей. Ни один из них вообще ни разу не опирался в своих показаниях хоть на какие-нибудь документы. Филипп Лоппэн обращался обычно за советом к «старикам»79, так же поступал и Жан Бонбёф80. К помощи своих, очевидно, более опытных коллег прибегали Ферри Тюпэн81 и Жак де Шомон82.
Наши герои предпочитали опираться в своих рассказах на собственный опыт, на каждодневную практику, что объясняет наличие в их рассказах огромного количества ссылок на конкретные судебные прецеденты. Любой юридический вопрос описывался ими при помощи соответствующего прецедента, имевшего место в про
318
шлом. Даже когда речь заходила об особом статусе аббатства Св. Ремигия (о хранении в нем сосуда со священным елеем), в ход шли воспоминания о двух совершенно конкретных коронациях -Карла VI и Карла VII, которые видели сами свидетели83.
Что уж говорить о судебной власти, при разговоре о которой было совершенно естественно сослаться на подходящий случай из практики. Тем более что свидетели имели к ней самое непосредственное отношение: это была их повседневная жизнь, их воспоминания о собственном прошлом. Право на смертную казнь, на конфискацию имущества, на взимание штрафов, на освобождение от следствия, на помилование, на надзор за мерами и весами - абсолютно все проявления власти аббатства рассматривались нашими героями через конкретные дела. История служанки из Жунивиля вспомнилась Жану Бонбёфу в качестве иллюстрации права монахов казнить своих преступников за пределами Реймса. Процесс Персона Беделе дал сразу нескольким свидетелям возможность рассказать о процедуре передачи уголовного преступника на казнь. Из дела Пьера Пломме можно было в подробностях узнать о праве на имущество осужденного на смерть, принадлежавшем аббатству84. Из дела Гийома Тришо, продававшего тухлое мясо, - об их праве надзирать за качеством продуктов на рынках округа Св. Ремигия85. А из дела Гийометт, жены Реньо Эрбэна, и Идрон, жены Жана Миньяра, - о возможности приостановить тот или иной процесс при отсутствии улик86.
Судебная власть в глазах свидетелей и состояла собственно из одних лишь подобных прецедентов, она была прецедентна по своему характеру, абсолютно конкретна, полностью лишена абстрактного содержания.
Власть не являлась для наших свидетелей понятием, но представляла собой явление материального порядка. Именно поэтому ей еще не были присущи символы, но только определенные атрибуты, вещественные доказательства ее существования. Своя территория, которую можно было охватить взглядом и пощупать руками. Свои печи для выпекания хлеба, тюрьма, позорный столб. Свои люди, чиновники и преступники прежде всего. Определенная сумма судебных прецедентов, случившихся в прошлом и известных всем, надежных свидетельств существования власти, а потому - постоянно повторяющихся в воспоминаниях всех свидетелей, которые не знали в середине XV в. еще никакого абстрактного кодифицированного права и не умели им пользоваться.
1 Archives municipales de Reims. 56 H 39.
2 Enqueste afuture fort ample et notable pour la recognoissance des droicts de la terre et justice du ban de Saint-Remy de Reins // Archives legislatives de la ville de Reims/£d.p. Varin.P., 1840-1853. Vol. 1-6.T. l:Coutumes. P. 481-602 (далее-ER, Граница). Частичная публикация была связана с тем, что уже в середине XIX в.
319
документ находился в крайне плачевном состоянии, прочесть весь текст не представлялось возможным.
3 Частично документ был использован Пьером Депортом в исследовании по истории города Реймса в XUI-XIV вв. (Desportes Р. Reims et les femois aux XHIeme et XIVerne siecles. Lille, 1977. T. 1-2). Несколько страниц ему также посвятила Клод Товар, которую интересовали типы уголовных преступлений, волновавшие более всего жителей города в XV в. (Gauvard С. Memoire du crime, memoire des peines. Justice et acculturation рёпа1е en France a la fm du Moyen Age // Saint-Denis et la royaute. Etudes offertes a Bernard Guen£e. P., 1999. P. 691-710, здесь 700-707).
4 «Tesmoings vielz, et valetudinaires, et affutures, ou de longue absence, oys et examinez par nous Jehan Le Boutiller, dit le Gascars, lieutenant a Reins de monseigneur le bailly de Vermandois, et Jehan Labbe nostre adjoinct, commissaires du roy nostre Sire en ceste partie pour oi’r et examiner tesmoings... en une certaine cause pendant en la cours de parlement, entre monseigneur 1’arcevesque de Reins, demandeur en cas [de maintenue] de saisinne, et de nouvellefe, d’une part; et les religieux, abbe et convent de Г eglise Saint-Remy de Reins, opposans et deffendeurs d’autre part» (ER, 481).
5 DesportesP. Op. cit. P. 118, 230-234, 328-331, 422, 713-723.
6 Подробнее о чиновниках аббатства Св. Ремигия и их обязанностях см.: Ibid. Р. 331-333.
7 «Requis quelle preeminence a ung hault justicier au regart d’un moyen, et ung moyen au regart d’un bas, dit qu’il у a grant difference, mais il ne saveroit pas bien distinger ne baillier les differences qui у sont» (ER, 503; свидетельство Готье де Руйи). То же самое говорили Филипп Лоппэн (ER, 526), Колессон Ле Байи (ER, 555), Жан Руссель (ER, 596).
8 «Requis quelle difference il met entre juger un malfaiteur pour ses demerites, et le justicier, dit que peu en saveroit parler...» (ER, 502; свидетельство Готье де Руйи). Этой разницы также не знали Филипп Лоппэн (ER, 526), Ферри Тюпэн (ER, 547), Жак де Шомон (ER, 584).
9 «Requis quelle difference il у a entre jugier et justicier: dit qu’il ly samble avoir difference telle, que jugier est avoir les jugemens, et justicier avoir 1’execution du juge-ment» (ER, 540).
10 «...il saveroit bien aler, se il avoit sa veue, comme il a eu ou temps passd; et encores de present, qui le meneroit sur les lieux, il saveroit bien dire et montrer a la main comment elles vont, selon ce qu’il a veu ou temps passd» (ER, 490).
11 «...lesdis religieux de Saint-Remy...sont seigneurs d’une partie et porcion de la ville de Reins, nominee vulgaument le Banc-Saint-Remy...commengant icelle seignourie et justice aux murs de la ville estans a 1’opposite du jardin de Saint-Nicaise, et dont il dit avoir une bonde en la riviere plus avant, vers Aussons, en alant tout oultre parmi les jardinaiges de Venisse, en une maison frappant en Nuefve rue, prez et un peu oultre les Vaulx des Escoliers, en montant amont, et environ de 1’opposite d’une maison en laquelle jadis demoura maistre Collart de Consors, a 1’endroit de laquelle maison, et contre le mur du jardin d’icelle, a une pierre trouee, faisant icelle la division et separation de la terre de monseigneur 1’arcevesques de Reins et dudit ban de Saint-Remy, et depuis icelle pierre et les murs dessusdis de Folle-Peine, en montant amont tout du large, du lez et du travers jusques a la porte de Frichembault, et d’icelle jusques й Dieu-li-Mire en revenant a ladicte pierre, est de la justice et seignourie desdis de Saint-Remy; et d’icelle pierre en alant en rue Perdue, du costel de rue de Molins, et jusques a une rue que on dit rue de Bains, et d’icellui coing de rue de Bains en toumant tout droit en rue Perdue, en alant tout droit a une pierre en laquelle a une croix...etc.» (ER, 485—4-86).
320
12 «... au lieu du Leingne, auquel lieu avoit des anciennes personnes de la ville de Bazancourt qui estoient mandez pour enseingner et monstrer a la justice desdis religieux le lieu et place ou lesdis religieux avoient justice audit Leingne» (ER, 549).
13 «...depuis la porte Dieu-ly-Mire, et jusques a la ville de Vrilly, assez prez de la ville de Reins, de laquelle ville de Vrilly ilz sont seignuers en partie» (ER, 559).
14 Ту же особенность восприятия пространства отмечал Жак Поль в материалах процесса Жанны д’Арк: Paul J. Emergence du sentiment national autour de Jeanne d’Arc // Conciliarismo, stati nazionali, inizi dell’umanesimo. Atti del XXV Convegno storico intemazionale, Todi 9-12 ottobre 1988. Spoleto, 1990. P. 119-146, здесь 122.
15 «.. .et jusques environ XXV ans a, a 1’occasion de la guerre, Gombaud de Melies, pour lors lieutenant du capitaine de Reins, ly bailla empeschement, et pour 1’estaige du my lieu d’icelies portes de Frichembaut et Dieu-ly-Mire, pour у mectre I’artillerie d’icelie ville» (ER, 489).
16 «.. .il confessa.. .avoir este envoye par gens de gamison en ladicte ville pour espier ... et sy confessa pluseurs murtres, feux boutez, pilleries et roberies par lui avoir este fais, avecques autres, esdit pays de Normandie» (ER, 569).
17 «...pour ce qu’il sambloit estre homme de guerre...lequel confessa qu’il avoit este pr6sent a bouter le feu a Irson, et chevauchie avec les gens d’armes» (ER, 593).
18 «...quant aucun officier du Roy nostre sire sont venus oudit ban» (ER, 580; свидетельство Жака де Шомона). Любопытно, что в данном случае не уточнялось, какого именно короля - французского или английского - свидетель считал своим.
19 «... bien scet que I’eglise de Saint-Remy est une belle et notable eglise, de tres grant anciennete fondee» (ER, 515).
20 «... et est vray que en ladicte eglise est gardee, et a este de tout temps la sainte ampoule, de laquelle les roys de France ont este sacrez et enoins» (ER, 484).
21 «... icelie eglise de Saint-Remy est de tres-grant anciennete notablement fondee, et par ung roy de France nomme Loys, jadis roy de France, comme il dit avoir veu par lectres de chartres, scellees de cire verde en las de soye, et donees de pluseurs autres roys subsequens, comme le roy Lotaire, ung nomme Hue, et autres pluseurs confirmacions de papes, et arcevesques de Reins» (ER, 485).
22 «... des le temps qu’il a eu congnoissance, a veu oudit ban de Saint-Remy, mayeur, eschevins, sergens, messiers, bailly ou garde de justice, etc.» (ER, 592).
23 Например: «... feu damp Remy d’Ambonnay, lequel environLXIIII ans a estoit chastelain de ladicte eglise» (ER, 491; свидетельство Готье де Руйи); «А veu aussy, de son temps, Estienne Laingnel, Jehan Margouillier, Jehan Lechat, Rogier de Suippes, et a present Jacques de Chaumont, estre mayeurs d’iceulz religieux» (ER, 523; свидетельство Филиппа Лоппэна).
24 Например: «Et sy dit qu’il a environ XL ans, et plus, que pluseurs compaingnons de la ville de Beaumont...batirent tres enormement ung nomme Oudinet d’Avenay, dit La Beste...» (ER, 492-493; свидетельство Готье де Руйи).
25 «...en la seignourie et jurisdicion desdis religieux, de.son temps a veu sept fours bannelz, lesquel les habitans et demourans ou ban et justice d’iceulz religieux estoient tenus de aler cuire leur pain» (ER, 509). О том же говорил и Филипп Лоппэн (ER, 529).
26 «...sur le Noel, que les gens ont acoustume de cuire plus que autrefois, les sergens d’icellui ban, dont il estoit un, se donnerent en garde se les demourans en icellui ban yroient cuire ailleurs que esdis fours bannez, adfin de prendre leur paste, et les contrain-dre a amende» (ER, 552).
27 «...bel et notable auditoire, ouquel les mayeur et eschevins desdis religieux ont accoustume de toute anciennete illecques seoir» (ER, 524).
21 Образы власти..
321
28 ER, 536, 546, 566, 585.
29 «...une bonne prison bien ferm£e a clef et a serre» (ER, 585). *
30 Jacob R. Images de la justice. Essai sur 1’iconographie judiciaire du Moyen Age a l’age classique. P., 1994. P. 95-106. Об устройстве средневековых тюрем и зданий суда см.: Jacob R., Marchal N. Jalons pour une histoire de Г architecture judiciaire // La justice en ses temples. Regards sur Г architecture judiciaire en France. P.; Poitiers, 1992. P. 23-68.
31 «... tous les malfaiteurs trouvez... mectre a 1’eschiele, don’t iceulz religieux en ont une belle et notable dresside en leur ban» (ER, 499).
32 Поводом для появления буллы Пасхалия II послужил разгоревшийся между аббатством Св. Ремигия и более молодым аббатством Св. Никеза спор о правах на дома и земли, находившиеся между двумя зданиями церквями. Конфликт длился с 1110 по 1112 г., в него оказался втянут и папа римский. Согласно булле Пасхалия II, аббатство Св. Никеза сохраняло за собой церковь Св. Сикста, но ее прихожанами становились жители Врилли, небольшого поселения на берегу Веслы, к югу от церкви Св. Ремигия. Жители же бурга становились прихожанами церкви Св. Тимофея, подчиненной аббатству Св. Ремигия. Территория бурга отныне считалась подвластной последнему. К юрисдикции аббатства Св. Никеза относились всего несколько домов, построенных в непосредственной близости от его стен. В той же булле Пасхалий II закреплял за аббатством Св. Ремигия право светской, в том числе уголовной, юрисдикции: «...ut Beati Remigii abbas in eodem burgo teneat singulariter justitiam; et ter in anno placita; communiter vero cum Remensi archiepiscopo mensuram annonae, et vini roati-cium, et latronem, si ibi captus fuerit» (Privilegium de burgo (S. Remigii) et de concor-dia intra abbatiam S. Remigii jam dicti et abbatiam de S.Nichasio I I PL. T. 163. Col. 322-327, здесь 327.
33 «...frans, quictes, et immuns de toute autre justice temporelle, et par esp£cial dudit monseigneur 1’arcevesque» (ER, 499).
34 «...de prendre et emprisonner en leurs prisons...tous les malfaiteurs trouvez les interroguer, questionner, jugier, et condampner a mort, se deservi 1’ont, les appeller, ou faire appeller a ban, les bannir, mectre a 1’eschiele, dont iceulz religieux en ont une belle et notable dressiee en leur ban, ou autrement les punir selon 1’exigence des cas, ou les absolre, ainsi que raison le vuet» (ER, 497).
35 «...et pour ledit cas convaincus et condempnez a recevoir mort, iceulz religieux seroient tenus d’en faire Гехёсисюп en leur terre et justice hors de ladicte ville de Reins, comme de Juniville, au Laingne, aux Mortes Yaues, a Sapicourt, a Cruny, et autre part ой ilz ont justice» (ER, 497).
36 «...n’ont pas Гехёсисюп de ceulz qui sont condampnez a mort, mesmement quant ilz sont demourans a Reins; mais sont condempnez a mort, bailliez et d61ivrez a la justice de monseigneur de Reins» (ER, 499).
37 Desportes P. Op. cit. P. 118.
38 Например: «Dit oultre, sur ce requis, qu’il ne vit oncques gibet ou ban du chas-tel, que on dit le ban Saint-Remy, ne ou ban du chastelain» (ER, 498).
39 «...il oyt une fois dire aux officiers desdis religieux, que se le prevost de Reins ref-fusoit ou dёlayoit a mectre a execution aucuns malfaiteurs dёtenus prisonniers par la justice desdis religieux, lesdis religieux pouroient dressier un gibet en leur terre» (ER, 549).
40 «Requis comment il scet que lesdis religieux sont seigneurs du ban Saint-Remy: dit qu’il le scet parce que de tout le temps dessusdit il a veu exercer la justice dudit ban de par lesdis religieux...» (ER, 516).
41 «Requis comment il scet que lesdis religieux sont seigneurs dez lieux... dit qu’il le scet parce qu’il a XXX ans et plus que dedens les fins et mettes dessus dёclairiёes...
322
a veu ausdis religieux exercer toute justice; et sy a environ vint ans qu’il fut leur sergent, et exersa ledit office 1’espace d’un an» (ER, 533-534).
42 «...dit et ddpose par son serment qu’il ne vit oncques ledit chastel, ne ne sceut que en icellui eust chastelain, synon par oy dire; mais bien est vray que des LXIIII ans a qu’il fut fait religieux dudit Saint-Remy, il a veu tousjours 1’un des religieux d’icelle Eglise qui estoit chastelain, et de son temps en a veu VI ou VII, et a present occupe, lui ddposant, ledit office» (ER, 488).
43 «...feu damp Remy d’Ambonnay, lequel environ LXIIII ans a estoit chastelain de ladicte dglise... Et apres ie trespas dudit damp Remy, qui trespassa environ L ans a, ung поттё damp Jehan d’Ambonnay fut chastelain de ladicte £glise» (ER, 491).
44 Например: «...monseigneur Jehan Cannart, a prdsent abbe d’icelle dglise» (ER, 484); «...il a environ XL ans...ung поттё Oudinet d’Avenau, dit La Beste, pour lors sergent dudit ban desdis religieux... Drouart de Troissy, pour lors garde d’icelle justice... ung поттё damp Jehan Brunet, pour lors chastelain» (ER, 492—493).
45 Например: «...le doyen desdis religieux en a pluseurs prisonniers condempnez a recevoir mort, bailliez et delivrez aux officiers de monseigneur de Reins, pour recevoir mort au gibet dudit arcevesque» (ER, 502); «...les officiers de monseigneur de Reins n’ont quelque exercice de justice ou ban desdis religieux» (ER, 514). Похожие примеры: ER, 540 (Жан Бонбёф), 547 (Ферри Тюпэн).
46 ER, 549, 570.
47 ER, 568, 592.
48 ER, 591.
49 ER, 573.
50 ER, 576.
51 Paul J. Op. cit. P. 134.
52 «...quant aucun officier du Roy nostre sire sont venus oudit ban pour faire crix et publications par vertu de lettres royaulz, ilz sont venus devers lui estant mayeur, ont monstre leur mandement, et requis avoir justice; pour ce faire, leur a baillid aucuns de ses sergens, et le crieur dudit ban; et quant ilz crient, ilz dient et ont acoustumd de dire en leur crix, par telz mots: «Oyez, oyez de par monseigneur de Saint-Remy, du com-mandement du Roy nostre sire, de monseigneur le bailli de Vermandois, du prdvost de Laon», ou de cellui de qui le mandement estoit donnd» (ER, 580).
53 «...il a tousjours oy dire, et tenir, et leu en escriptures, en pluseurs lieux, monseigneur saint Remy avoir estd et estre patron de France, nonobstant qu’il ait oy dire aucune foys que monseigneur saint Denis estoit patron de France, et ly samble que 1’en dit ledit monseigneur saint Remy patron a cause de la doctrine et pr6dicacion qu’il fit au roy Clovis... et fut ledit roy Clovis enoinct de ladicte sainte ampole, епуоуёе du ciel a monseigneur saint Remy, comme on le lit en la Idgende dudit monseigneur saint Remy» (ER, 485). Святым покровителем французских королей, а впоследствии и всего королевства действительно с давних времен считался св. Дионисий. Однако в начале XV в. вера в его могущество значительно ослабла в связи с постоянными военными неудачами французской армии. Возможно, именно эти изменения в отношении к святому также отразились на показаниях Готье де Руйи, который, естественно, более других почитал святого собственного аббатства. Подробнее на эту тему см.: Beaune С. Naissance de la nation France. P., 1985. P. 83-125.
54 «...icelle dglise de Saint-Remy est de tres-grant anciennete notablement кЫёе, et par ung roy de France поттё Loys, jadis roy de France, comme il dit avoir veu par lectres de chartres, sceltees de cire verde en las de soye, et do^es de pluseurs autres roys subsdquens, comme le roy Lotaire, ung поттё Hue» (ER, 485).
55 «...et sy vit en icelle ёglise, ou mois de juillet prochain venant avera trois ans, ladicte sainte ampole, laquelle, par monseigneur ГаЬЬё d’icelle dglise, revestu de aubbe,
323
de chappe, et de mitre, et pluseurs religieux aprez lui, fut prinse en une chasse estant der-rier le grant autel d’icelle dglise, et icelie [porta?] ledit abbd acompaingnid d’aucuns de ses religieux, de monseigneur de Graville, monseigneur le mareschal seigneur de Boursac, le sire de Rays, qui la estoient venus pour estre en ostaige jusques ad ce que ladicte sainte ampole, laquelle estoit prinse pour porter en Г dglise de Reins pour sacrer le roy Charles, fut raportee de l*£glise Nostre-Dame de Reins en ladicte dglise de Saint-Remy» (ER, 515).
56 Речь шла прежде всего об уголовных преступниках. Как отмечает Клод Говар, именно уголовные преступления запоминались людьми Средневековья лучше других и во всех подробностях (Gauvard С. Op. cit. Р. 698-700).
57 «...a veu lesdis religieux...joir et user par tout le temps dont dessus а parld, con-tinuelment et derriennement, sans ce qu’il ait seu que aucun empeschement leur en ait estd mis au contraire, synon au prdsent» (ER, 586).
58 «...en requdrant reparation estre faite dudit exploit sur le lieu ой il avoit este prins» (ER, 592).
59 «...en les blasmant fort de ce qu’ilz 1’avoient prins» (Ibid.).
60 «...et requirent iceulz sergens ausdis bailly et Drouet, procureur, que ledit pris-onnier volsissent reprendre, sans ce qu’ilz fuissent contraints de le remener sur le lieu ou ils 1’avoient prins, dont ledit procureur desdis religieux fut content, parmy ce que iceulz sergens prommirent de non plus exploiter en la justice desdis religieux» (Ibid.).
61 «Jean Brulart, procureur de monseigneur de Reins, et ledit Buirot, exposerent et dirent audit ddposant qu’ilz avoit... une truye ou pourcel qu’il faloit pendre, et qu’il le failloit aler qudrir pour mectre sur ladicte cherrete» (ER, 573).
62 «...auquel ledit ddposant respondit: «Alez la querir se bon vous samble, et la faites mener au gibet; vous n’enmenrez point en vostre chastel Bede let, qui vous a estd bailie tout jugid a mort: menez-le tout droit, sans arrester, morir, comme faire le devez» (Ibid.).
63 «...lesdis Brulart et Buirot descendirent de dessus leurs chevaulz, et volrent parler audit Bedelet, et le tirer a part pour le interroguer» (Ibid.).
64 «...auxquelz ledit Bedelet respondit et dit par tels mots tout haut: «J’ay dit et con-fessd aux gens et officiers de Saint-Remy ce que j’ay meffait; je ne vous en diray plus, ne je ne vous en doys rien dire» (Ibid.).
65 «.. .ung nomme Saudrin,... en ce temps vicaire de monseigneur de Reins, se effor-9a de vouloir parler audit Estiene, auquel ledit ddposant deffendit de у parler, et n’y parla point, ne a aucuns des officiers et serviteurs dudit monseigneur 1’arcevesque» (ER, 576).
66 «Et se recorde bien, et est vray, que ledit Rondel estant sur ladicte cherrete... prevost dessudit se vot efforcier de parler a lui, et ly dit ledit Oudart qu’il ne parleroit point a lui, ne le interrogueroit...» (ER, 569).
67 «...et alerent ledit deposant, et autres officiers desdis religieux, audit gibet pour veoir quelle diligence seroit faite de exdcuter ladicte sentence» (ER, 593).
68 «...et demoura ledit Rondel sur la cherrete jusques ad ce que Г execution fut faite des dessusdis, et avec lui demourerent et se tinrent le dessudit Oudart Drouet, et pluseurs autres des serviteurs et officiers de ladicte dglise» (ER, 569).
69 «...et fut par les eschevins d’icellui ban icelle declairde mauvaise, et condamp-пёе a estre arse... et fut icelle char arse publiquement» (ER, 503).
70 «...prendre par justice aulx et oingnons pourris que 1’en exposoit en vente, et iceulx par justice publiquement et devant tout le pueple faire ardoir» (ER, 505); «...bien a oy dire que en la foire de Saint-Remy derrien passde, 1’en a ars des aulz comme mauvais» (ER, 542).
71 «А veu aussy, puis quatre ans en 9a, ardoir publiquement ou ban desdis religieux poudres d’espicerie que 1’en disoit estre mauvaises et inutiles a corps d’omme» (ER, 542).
324
72 «...se il trueve aucune personne ou beste meffeisant, de les prendre et admener prisonniers es prisons desdis religieux» (ER, 524); «...puent lesdis messies prendre et emprisonner tous meffaiteurs et bestes» (ER, 536). Подробнее о процессах над животными: Cohen Е. The Crossroads of Justice. Law and Culture in Late Medieval France. Leiden; N.Y.; Koln, 1993. P. 100-133.
73 «...une femme, baisselle du cure de Juniville, icelle ville appartenant auxdis religieux, accusee de murtre environ ХХХПП ans a, et pour ledit cas condempnee a recevoir mort» (ER, 539).
74 «.. .la joumee qu’elle fut chergiee sur ladicte cherrete pour mener en la justice... assez pres de la porte Chacre, et hors icelle, les gens de monseigneur 1’arcevesque volrent empeschier que Ten ne la menast point hors la banlieue dudit arcevesque, et de fait prinrent le bourel et le menerent prisonnier en Porte-Mars» (ER, 540).
75 «...au lieu dit Au Leingne, en leur justice, et la tout au matin fut liee sur ladicte cherrete, et renversee ce que dessoubz dessus dedens ung feu d’espines qui la estoit, et la receut mort par се» (Ibid.).
76 «...comme il dit avoir veu par lectres de chartres, scelldes de cire verde en las de soye» (ER, 485); «.. .et ces choses scet par ce qu’il en a veu par lectres de don dudit roy Lois, confirmations de papes et d’arcevesques» (ER, 487).
77 «...selon la coutume du lieu» (ER, 510).
78 «...s’en raporte aux saiges» (ER, 502).
79 «...oy dire et tenir aux anciens d’icellui ban» (ER, 517).
80 «...il a tousjours oy dire et tenir aux anciens demourans oudit ban» (ER, 532).
81 «.. .par ce qu’il a peu veoir et savoir, et aussi que ainsi le disoient lesdis mayeurs» (ER, 545).
82 «...a oy dire a pluseurs sergens desdis religieux, qui longtemps ont exerse ledit office» (ER, 562).
83 Например: «...et scet bien que d’icelle sainte ampole le roy Charles sixieme fut enoins... et ad ce faire fut present lui deposant; et sy est vray que ou mois de juillet prochain venant aura trois ans, le roy Charles septiesme fut enoins et sacrez d’icelle sainte ampole, comme il a oy dire» (ER, 484).
84 ER, 501.
85 ER, 551.
86 ER, 522.
Ш. Швайцер
ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ
ВИЗУАЛЬНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ВЕРОНЕ
Противоположные воззрения на завоевание власти и утрату ее
Середину потолка зала Большого совета (Sala del Maggior Consiglio) Дворца дожей в Венеции украшает изображение «Добровольного подчинения Венеции ее провинций» кисти Якопо Тинторетто (ил. I)1. И в иконографическом, и в идеологическом отношениях это произведение стоит в одном ряду со многими другими историко-аллегорическими картинами, посвященными событиям венецианской политической истории прошлых веков. В одном из проектов концепции украшения потолка так описывается нижняя сцена: посланцы различных народов - обитателей Греции, Далмации, Истрии и Италии, - стоя ниже дожа, членов сената и аллегорических фигур, передают Республике ключи, грамоты, печати и знамена их городов, причем эти представители одеты в наряды, принятые у них на родине2. Для автора проекта вид посланников в самых различных костюмах давал желанную возможность эффектно представить разные области на доброй половине Европы, оказавшиеся под властью Венеции.
Хотя у этой аллегории было мало общего с исторической правдой, она соответствовала символическим представлениям обеих сторон, как победителей, так и побежденных, - как своим церемониальным характером, так и тем, что в качестве сцены действия была изображена площадь Сан-Марко. Даже если принять во внимание, что исторические аллегории выстраиваются по своим собственным внутренним законам, все равно удивительно, насколько недипломатично, «сериально»3 изображается здесь «подчинение». Посланники из оккупированных коммун выражают покорность венецианскому правительству, с дожем и сенатом во главе, такими раболепными жестами, для которых не найдется аналогий среди принятых тогда
326
Ил. 1. Я. Тинторетто. Добровольное подчинение Венеции ее провинций. Венеция. Дворец дожей. Зал Большого совета
327
символических действий, да к тому же этим посланникам никогда не доводилось всем вместе участвовать в подобной демонстрации. Как и на ряде других картин, созданных для украшения потолка при последней переделке интерьера дворца, перспектива на ней была выстроена Тинторетто снизу вверх. Для этого он изобразил монументальную лестницу, развернув ее в нижней трети фронтально, а в верхней - боковой стороной к зрителю. Похожая лестница, облегчавшая то различение между «верхом» и «низом», которое часто требовали провести «проекты» этих картин, обнаруживается и на соседнем полотне - «Триумф Венеции» кисти Якопо Пальмы Джоване4. На нем изображено, как к аллегории Венеции, восседающей на троне, подводят пленников, причем у подножия лестницы помещена группа женщин, которые, по словам автора рукописного проекта, «представляют объединенные провинции, как это изображалось и старыми мастерами».
Лестница задает такое прочтение картин, при котором становится предельно ясно, что владычество Венеции на суше и на море является триумфом над другими. И действительно, «подчинение провинций» Республике, которое автор проекта особенно хотел представить как действие «спонтанное», еще и в конце XVI в. рассматривалось в качестве образца оккупации, осуществленной в ходе «справедливой войны»5.
Само собой разумеется, что эти визуализированные воззрения венецианцев, представленные во Дворце дожей - центральном пункте самостилизации и самоинсценирования Венецианской республики, - не могли остаться неизвестными и в завоеванных коммунах. Но то, что в Венеции выглядело целенаправленным и последовательным осуществлением политической линии на усиление собственной экспансии, означало для завоеванных ею коммун в Далмации, Истрии и Венето, как правило, глубокое вмешательство в их институциональную структуру, в сложные переплетения их политических и общественных взаимосвязей и особенно в их историю и самосознание. Разница в оценках одних и тех же исторических событий не могла не сказаться на дальнейшем течении истории, и прежде всего на отношении завоеванных коммун к новому центру власти - Венецианской республике. Поэтому данная статья будет посвящена прежде всего вопросу, какое визуальное выражение в самих подчиненных коммунах находило их отношение к венецианским властям - в нашем случае в позднесредневековой Вероне. При ответе на него естественно на первый план должны выйти сюжеты и объекты, значимые прежде всего для искусствоведения. Здесь нас будут особо интересовать репрезентативные ходы, направленные на визуализацию городской идентичности, а также исторические аллюзии в формах архитектурной репрезентации, использовавшихся как коммуной Вероны, так и венецианскими властями.
328
В результате экспансии Венеции на суше ее владения вдоль берегов Адриатики и в Северной Италии с XIV в. весьма существенно выросли6. Главными противниками наступления венецианцев в Северной Италии были синьории Скалигеров в Вероне и Каррара в Падуе. Только после окончания конфликта с Генуэзской республикой, завершившегося Туринским соглашением 1481 г., новые приобретения Венеции перестали оспариваться внешними силами.
После смерти в 1402 г. миланского герцога Джан-Галеаццо Висконти в городах Верона, Падуя и Виченца возник опасный вакуум власти, позволивший поднять головы претендентам - пускай и слабым - из числа потомков Скалигеров и Каррары. В 1404-1405 гг. после умело проведенного военного похода и осады Вероны, длившейся несколько месяцев, Венеция быстро положила конец этим попыткам. Положение Вероны оказалось настолько опасным и драматичным, что в глазах значительной части веронского населения Венецианская республика предстала силой, способной восстановить порядок. Такая готовность к смене власти возникла прежде всего потому, что от покровительства Венеции ожидали выгоды. Впоследствии и венецианское правительство при случае вполне официально ссылалось на то, что веронские граждане сами выразили согласие на установление над ними новой власти. В Венеции, судя по всему, с самого начала ясно понимали, насколько важно заручиться лояльностью веронцев, в связи с чем сенат уже в первый год правления в Вероне решил сократить численность венецианского гарнизона до менее чем 300 солдат и уменьшить тем самым свое военное присутствие в городе7. К годовщине завоевания, отмеченной в День св. Иоанна (14 июля), на Пьяцца Эрбе был организован праздничный турнир; согласие большинства населения с переходом власти к Венеции выразилось тогда, помимо прочего, в том, что пожертвования на свечи для молебнов по случаю этой годовщины в веронских церквях Сан-Марко и Сан-Джованни ин Валле были оплачены цехами8.
Надеждам жителей Вероны на экономическое процветание и социальный мир при венецианском правлении суждено было действительно в немалой степени сбыться, о чем можно судить по приросту населения, служащему индикатором его социального положения. Хотя в первые годы венецианского «dominio» (господства) особого роста отмечено не было (в 1409 г. насчитывалось 14 800 душ примерно в 4000 домохозяйствах), к 1456 г. эта цифра выросла до 20 000, а к 1502 г - даже до 42 000 душ примерно в 7100 домохозяйствах. Более всего от новой политической организации и социального мира, обеспеченного Венецией, выигрывала текстильная промышленность, и ее рост привлекал в город много рабочих рук9.
Городской патрициат - местная аристократия, только что лишенная власти, - в той или иной степени противостоял новым госпо
329
дам, но по большей части скрытым образом. В городском патрициате произошел раскол по вопросу о том, поддерживать ли наследников династии Скалигеров. Венецианский сенат, впрочем, оказался достаточно предусмотрительным, чтобы 19 июня 1409 г. назначить цену за голову честолюбивого Бруноро делла Скалла, которого поддерживал германский король Сигизмунд Люксембург10. Скрытое сопротивление новому порядку вещей ощущается еще и в XVI в. почти во всех городах Венето11. Исходя из того что часть местного патрициата отрицала венецианское господство, можно предположить, что должны были иметь место противоположные взгляды и на то, в каких целях следует использовать средства коммунальной репрезентации.
Смена власти внесла лишь небольшие перемены в ведущую политическую роль патрициата. Хотя высшие политические должности подеста и капитана занимали с этих пор венецианские чиновники, на городском патрициате по-прежнему лежали задачи обеспечения организации внутригородского управления и общего надзора за текущими делами. Принципиальное значение для выстраивания отношений между коммуной и присланными из Венеции магистратами имела добровольность вступления Вероны в новую политическую систему, что неоднократно декларировалось обеими сторонами. В сознании веронцев самыми важными «местами памяти» в этой связи были передача на Пьяцца Эрбе должности подеста венецианцу и прием делегации веронских граждан в Венеции, в ходе которого городские инсигнии были вручены дожу. Если хроника современника событий Пьера Дзагаты ничего не рассказывает о торжественной передаче власти на Пьяцца Эрбе, то Лудовико Москардо в 1668 г. подробно и красочно расписывает ее в «Истории Вероны»12. Очевидно, что историку Москардо даже по прошествии более чем 250 лет все еще очень важно представить смену власти в Вероне, произошедшую вместе с символической передачей должности подеста, как добровольный акт. Он так изобразил церемонию, состоявшуюся 23 июня 1405 г., что в ней не осталось и следа военного завоевания. Не Венеция оккупировала Верону, а жители Вероны ходатайствовали о переходе под господство Венеции (как будто тогда у них был хоть какой-то выбор). Тем самым понятно, что еще в XVII в. ясно ощущалась потребность в том, чтобы господство Венеции плавно состыковать с воображаемой историей Вероны периода независимости. Согласно повествованию Москардо, предводитель венецианских войск Габриэле Эмо не только был принят веронцами «с большой радостью», но и сам учтиво, «в приветливых выражениях» поблагодарил их, принимая городские ключи и жезл правителя, и, «исполненный волнения, в дружелюбных выражениях пообещал от имени Республики благое и отеческое правление».
330
От этого описания явно отличается по своему тону сообщение в Хронике Дзагаты (завершена в 1457 г.) о церемонии передачи веронских инсигний на венецианской площади Сан-Марко13. Конечно, и в ней говорится, что делегация из 40 веронских посланников была принята с большими почестями, а дож в знак радости облачился в белые одеяния. Но в самом конце этого пассажа Дзагата прибегает к формулировке, которая не маскирует основной сути происходящего - утраты Вероной политической независимости: дож передает веронским посланникам знамя, которое следует выставить на главной площади Вероны в «знак победы Венеции». Это символическое действие было совершено всего через несколько дней, 2 августа, в ходе торжественной процессии на Пьяцца Эрбе. Венецианский гуманист и историограф Марк Антоний Сабелликус в своих «Historiarum rerum Venetarum decades» (опубликованы в 1487 г.) украшает этот эпизод речью, которая также заставляет усомниться в добровольности установленных отношений. Чтобы подчеркнуть символическое значение передачи городских ключей, городской печати и знамени, историограф сочинил адресованное посланникам поучение. В нем веронцам напоминают о «былых временах» при «высокомерной тирании» и убеждают, что их долг - одобрять ныне законные распоряжения и проводить их в жизнь14. Это поучение следует считать выдумкой, однако оно хорошо передает венецианское понимание смены власти в Вероне. У этого пассажа есть структурное сходство с изображением покорствующих веронских посланцев на упоминавшейся в начале статьи картине Якопо Тинторетто.
Непосредственно вслед за передачей власти представители коммуны пришли с венецианским сенатом к соглашению о кодификации особой «Золотой буллы», в которой были бы всемерно учтены права города15. Ее важнейшие пункты гласили, что отныне Венеция будет защищать жителей города от возможности насильственного захвата, вернет во владение города отчужденные в ходе войны земли, не станет учреждать новых налогов, будет уважать законные порядки коммуны и сохранит в неприкосновенности уставы коммуны и купеческого дома (casa dei mercanti). В заключение новый покровитель Вероны заверял горожан, что он обеспечит разделение властных полномочий между коммуной и венецианскими наместниками. Тем самым кодифицированное ранее равновесие сил между коммуной и синьором было перенесено на отношения между коммуной и венецианским правительством16.
В связи с установлением нового распределения власти и введением внешне мягкого правового режима венецианской оккупации возникают прежде всего следующие вопросы. Как и какими средствами визуализировалось соотношение сил между партиями или, конкретнее, в соответствии с какими образцами осуществлялась «визуализа
331
ция городского порядка»17? Какая роль при этом отводилась прошлому Вероны и особенно историческим свидетельствам античной эпохи?
Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, заглянем прежде всего в городские статуты Вероны, заново составленные в 1450 г.
Маргиналии в правительственных документах
В Городской библиотеке (Biblioteca Civica) хранится с полдюжины экземпляров статутов веронской коммуны, отпечатанных в 1475 г., которые могут прояснить взаимосвязь между правовой системой, историческим сознанием и визуальной репрезентацией. Городские статуты в новой редакции были приняты в 1450 г. по инициативе Венеции после многолетней задержки. Нотарии коммуны и венецианской администрации пользовались рукописными копиями18, которые постоянно должны были пополняться новыми решениями Совета, обновлениями гражданских законов и указами дожей. Благодаря возможности вносить в статуты дополнения, правовая система коммуны и венецианского наместничества приобретала гибкость, сохраняя вместе с тем правовые традиции города19.
Среди экземпляров статутов, отпечатанных в Виченце в 1475 г. Эрманно Лихтенштейном - печатником, приехавшим в Италию из Кёльна, один должен нас особенно заинтересовать. На первом листе текста этой инкунабулы обнаруживаются рисунки пером, сопровождающие текст Пролога (ил. 2)20. Все остальные экземпляры этого издания, как выяснилось при их просмотре, не содержат подобных иллюстраций. Типографическая особенность ранних инкунабул, состоявшая в том, что инициалы не включались в набор, вынуждала владельцев этих книг добавлять задним числом рукописные и рисованные инициалы в начала глав и параграфов. Так появлялись «историзирующие» инициалы, цветные орнаменты и гербы владельцев, ориентированные на средневековые эстетические традиции иллюминирования рукописей21. Как правило, ближе к концу книги таких украшений становилось все меньше и сводились они по большей части уже лишь к простому разделению цветом на главы, знакам параграфов и подчеркиванию строк заголовков.
Вызванное книгопечатанием технологическое разделение печатного текста и иллюстраций касалось не только изданий с рисованными иллюстрациями, но и книг, которые предполагалось снабдить гравюрами. Технология, при которой оттиск и текста, и относящихся к нему гравюр производился одновременно, сильно усовершенствовала процесс книгопечатания и стала обычной в землях к северу от Альп, но в Северной Италии к концу XV в. лишь очень немногие типографии владели ею. Там гравюры по большей части
332
(? IN NOMINE DOMINI NOSTRi 1ESV CHRISTI.
•) ЙОНБШУМ. DVODEQM । ET QjrtNQ. VAGINTA REEP, VERONEMMS PKAESlDENTIVM IN LEGESiET STATVTA avFfATis vhionE
<’5' '' VEMADMODVM NON NVLLI SAPIEN,
> *•- \' * tcs:Er in pnmisPlato. Guit atej hinrunocorpon fimd/
я < 4И hmamefledixerunt.lu ctum leges inea unalcmquili
v V'b . С» , fangumejiuel uabdiffimos ncruasefleccnlucrunt.quia
i 4 v ’ ' i ^Kut e*ul8ur'enerue. Ita ctum hie legibus pro
7/у j . 4 л tanpore quoq; icfornrutidibus carenran peniutc itenre
"“A . |W prceluiqj diflului neceflc facer. Fuere & ahi qiu mores A ciinuns:flC nifhtutj qua! i murae.Alu autan quill tern]
cardinem зрреПдппг. Siue iguur hoc ihue illudiomnes eoin minim Iptct-ilVc inden pofl unr. Cimt ate que beau к (cmpternj optet efle oportere earn non tarn ongints uetuftatc: ac litus oppoctuiut art. Edifiooruqj magnificent; uirorum erum pftann i: q iuns;3e tuftme ortumemi; atqj prehdue preditam cflc.Et enim h ns quali nature 6c corpons boras (idendum eft л.Quts negarct ucrooi pofle cum rcbque no modo 1 tabe. Scd ex terr ana erum gentium ut bi bus coi ifitcn: ne dix enmus ahponi: I трем mu rumqj fenptores hebraxi .a ScnxNoc.filio cam condnam tradunt pofleaq; its norem lerufalem Muwnoae Locorum. agroruin ameiurare fruit uu ailluentu. latus fere tonus Gmdttudine uocnatam. Nam fle in hunc ufq? diem apud nosiut loca eidi Gc rruxnne montis doninu i qui dl ohucri motiscaliuru uallisdorruni: Naaarethi Brtlcmifcpulcri nomina coafcqueutu prellant. Qua Liude uetufbns nulla maioci aut preftItior profem poceft.Quam dande Galli gens (етох:fie bdheofa. nouas fibt Cedes poft incenfam ranum querrates due brena occupatam auxerunt. In morem deindc dirrwdu fenne parte coni urge: is 1рссм1а:дс nugiufica atce munita mcdiuj: quern Virgilius uocat amenum athelun luiaptt. Vrbi quafi u ilium atq? agro rau> rutiftimum. In quern nuUi Gnittmo populo a tridenco in marc adruticum ulque ius habendi ponnseft. Mocnu quoque:Ac pnuata:& pubbeafpcdlande magratudnns. Inter que primu omnium imphitheatrum qd uulgo arena appcllatur cminct:opus tarn fpeda nde mole: 6c тех mcabibs ftrudure ut in toco fete orbe ptr non ha ben credarar. A quo тип duo udiu brachia: uctufta quomdam urbs ALxrua le fepre (mint • Quorum in altero.qui fan таюпк:& uetetts aren шип inrermedut. Eft aptid beati Michaelis templum :quod ab ea dixit agnome porta gлампа burfan no пмпага.Гирг a cuius fornicem Epigrama uetuftum legitur. Colom < .tiguft । иетрлл noua galbemaiu Valenano.il .6c Lucillo.cofEMiart иепопепГпжп fibncati ex die .m.nod.aprdiumdedican .pr.nondecembr.iubcce S inftiflimo lull ^лю Aug. N. J
Infiftsote aur.AUrceUino.V.p.duc.doc .curante lul.Maiccllmo.bcanftini qixiq) 1
111] J i
K|L<
Ил. 2. Рисунки на полях Пролога в издании городских статутов «Leges et Statuta Civitatis Veronae». Vicenza, 1475.
Верона. Городская библиотека. Inc. 1095
333
oe:utloaievte
utqjigro max
м nulli miior: койnouas fibi runt. In moccm
illienoAug.N.
*
Ил. 3. Рисунок на полях Пролога с изображением Порта-Борсари и антикизированного бюста (фрагмент ил. 2)
par non mi Aoenijfefe
muuburbnno
впечатывали в уже оттиснутые и переплетенные книги22. Таким образом, лист веронских статутов с его разделением напечатанного текста и иллюстраций не представляет собой чего-то необычного в плане истории технологии книжного дела. О причинах же того, почему эти иллюстрации остались одноцветными, а главное фрагментарными, мы ничего не знаем и можем лишь строить предположения, тем более зыбкие, что у нас нет никакой мации о владельце инкунабулы.
Иллюстратор нашего экземпляра в основном следовал декоративной манере, обычной для миниатюриста: вдоль верхнего края листа идет декоративная полоса, составленная из гирлянд, плодов, ангелочков и канделябров. У левого поля украшена только верхняя часть: растительный орнамент вырастает из стилизованной
под старину заглавной буквы Q. Внутри буквы изображен монах, указывающий на переписанную им книгу. Необычнее выглядят иллюстрации на правом поле. То, что они выполнены контуром и не раскрашены, не свидетельствует об их незаконченности, поскольку эти рисунки сделаны, вероятно, в подражание гравюрам. Такого рода иллюстрации к инкунабулам, выполненные в стиле гравюр, появляются в Италии с начала 70-х годов XV в., притом первые - как раз в Вероне. Я имею в виду изображения в трактате о военном деле «De re militari» Роберто Вальтурио, отпечатанном в 1472 г. в веронской типографии у Джованни да Верона и снабженном гравюрами по дереву работы Маттео де Пастиса23.
В верхней части правого поля мы видим повернутую в полоборота голову в античном духе, с бородой и в лавровом венке, в которой можно, пожалуй, предположить изображение Платона. Высказывание Платона о сходстве города с человеческим телом открывает Пролог и указывает на значение закона для всего организма городской жизни. Более важным в содержательном отношении оказывается изображение городских ворот с бюстом воина (тоже в античном духе) в правой нижней трети листа (ил. 3). Наверху античных городских ворот с двумя одинаковыми проемами, над которыми
334
проходит галерея с окнами, поставлен бюст римского воина или императора в роскошном шлеме и доспехе. Фриз над арками украшен сокращенной надписью маюскулом, однако эти ворота можно без труда узнать, и не вчитываясь в надпись, приведенную полностью в тексте рядом, - это перестроенная в середине I в. н.э. Порта-Борса-ри (ил. 4), надпись на которой, однако, относится к сооружению оборонительных укреплений при императоре Галлиене в 265 г. н.э.24 Отсюда можно предположить, что бюст над воротами изображает этого самого императора. Данная латинская надпись вошла еще в эпиграфический сборник «Collectio Antiquitatum», созданный в 1460 г. Джованни Марконова. Для этого сборника веронский антиквар Феличе Феличиано изготовил изображение ворот25. Качество рисунка в издании статутов отличается от первого опыта наброска античного памятника рукой Феличиано тем, что главные конструктивные черты ворот изображены здесь с верным в целом понима-
нием строительного дела.
Не преувеличивая ценности этих контурных набросков, мы все же можем усмотреть в данном издании статутов вклад в визуализацию городской истории, опыт, который, как будет показано в дальнейшем, не остался ни единичным случаем, ни эпизодом, не вызвавшим подражаний. Шаг к наглядной репрезентации в печатном
издании обладает еще большей убедительностью по сравнению с обычной манерой оформления рукописей. Тогда как в рукописях статутов ключевые слова (такие как исторические события, влиятельные лица, имена деятелей античности или названия античных памятников) выделялись на полях просто цветом, в инкунабуле ту же задачу теперь порой начинают выполнять рисунки26. Мы наблюдаем в книгопечатании первые осторожные шаги в сторону перехода от литературного выражения исторической идентичности к изобразительному.
На этом листе античные ворота Порта-Борсари играют роль визуального символа города. Тем самым они выполняют
Ил. 4. Порта-Борсари. Внешняя сторона
роль «аббревиатуры» города27 (распространенной по всей Ев-
335
pone co времен античности) и вместе с тем свидетельствуют об anti-chita (древности) Вероны. Точно в той же самой роли городские ворота фигурируют и в поэме веронского поэта Франческо Корна да Сончино «Fioretto» («Цветочек»)28. Эта поэма, созданная в 1477 г., а в 1503 г. впервые напечатанная29, представляет собой синтез истории города и его описания, позднесредневековую laus civitatis (похвалу городу), которая использует, пассаж за пассажем, Пролог к городским статутам, к чему мы еще вернемся чуть погодя.
В поэме 256 строф-октав, и в двух из них автор говорит о Порта-Борсари. Поэт описывает их как «триумфальную арку», название которой образовано от имени гиганта «Борсеро», и упоминает надпись на воротах30. В трех строках он обнаруживает понимание ворот как визуального символа города, подобное тому, что присутствует в тексте Пролога статутов и в рисунке к нему. После лирического описания фасада автор поднимается на уровень символического: «[это строение] высокой ценности, [возведенное] из исполненных достоинства камней, чей фронтиспис [т.е. фасад] одарил Верону ее печатью»31. Корна да Сончино пользуется здесь сначала вполне привычной «аббревиатурой» города: фасад ворот, словно фронтиспис раскрытой книги, выявляет характер города и дает ему символический образ. Гораздо удивительнее термин «печать», потому что Корна не только определяет с его помощью ворота в качестве величественной визуальной репрезентации города, но, с другой стороны, ясно указывает нам на современные ему представления о том, какие символы следует изображать на городской печати32.
Объяснительные возможности историописания
Чтобы шире охарактеризовать контекст исторического сознания в позднесредневековой Вероне, как конструируемого в текстах, так и визуализируемого, нужно подробнее остановиться на содержании и характере текста Пролога и на личности его автора.
Пролог к статутам представляет собой краткий и правдоподобный очерк истории Вероны, демонстрируя лучше любого иного документа политическую роль гуманистического исторического сознания в Вероне позднего Средневековья. Он принадлежит перу юриста и канцлера городского совета Сильвестро Ландо, ученика Гварино да Верона33. Тем самым благодаря его тексту можно более или менее ясно представить себе характер и установки той культурной среды, что в значительной степени влияла на формирование исторической идентичности коммуны. Этот гуманистически образованный человек, юрист и с 1440 г. канцлер веронского городского совета, составил краткий очерк истории Вероны, чтобы предварить обновленные по инициативе Венеции статуты коммуны и предста
336
вить их в более или менее правильном историческом освещении. Кроме того, этот же главный управляющий делами коммуны возглавлял комиссию юристов, призванную переработать претерпевшие множество изменений статуты эпохи Эццелино да Романо, династии Скалигеров и владычества Висконти, чтобы составить из них в конце концов новые муниципальные уложения34. Если статуты в редакции 1276 г. кодифицировали еще владычество popolo (народа), то чуть позже измененный их вариант отразил уже политическое развитие в сторону установления сеньориальной власти. После редактирования статутов в 1328 г. Кангранде делла Скала новеллы, вносившиеся в них при Джан-Галеаццо Висконти в конце XIV в., шли в направлении интеграции коммуны в территориальное государство35.
Нас, однако, в дальнейшем будут интересовать не столько непосредственные правовые последствия тех или иных изменений в уложениях, сколько рамки, в которых происходило их составление. При этом следует разъяснить, как в течение XV в. развивалось коммунальное самосознание, основанное на исторической легитимации, которое с одинаковой силой проявлялось и в правовом устройстве города, и в литературной продукции, в нем создававшейся, и в его архитектурном облике.
Историческое происхождение Вероны возводилось в тексте Пролога к сыну Ноя Симу. Сим основал якобы «Малый Иерусалим», который идентифицировался с Вероной36. Возможность описания Вероны как «малого Иерусалима» обосновывается преимущественно при помощи топографии. Так, автор пишет, что Верона не только славится почтенными стенами, красотой площадей и плодородием окрестностей, она к тому же окружена горами, напоминающими иерусалимскую Масличную гору и Голгофу, и раскинулась в долинах, похожих на долины Назарета и Вифлеема, а к тому же в ней есть и Гроб Господень37.
Характеристика города как «Малого» или «Второго» Иерусалима прямо выражалась и в городских официальных символах. В 1473-1474 гг. Совет двенадцати и Совет пятидесяти после многолетних споров приняли решение о замене гербовой печати38. Обоснование для изменения печати было скорее идеологического, нежели практического свойства, поскольку утраченный штемпель легко можно было воспроизвести (и он скорее всего действительно сначала был воссоздан). Однако потеря старого штемпеля стала удачным поводом к смене символического изображения на печати и ее легенды. Характерно, что ко времени принятия этого решения канцлером веронского городского совета был уже не кто иной, как Сильвестро Ландо.
Новая печать заменила свою предшественницу, на которой было изображено дворцовое здание, увенчанное куполом, возвышающее-
22 Образы власти...
337
Ил. 5. Изображение на старой печати, утраченной в 1439 г.
ся над портиком (ил. 5). На фризе над арками располагалось имя города, а надпись «Est iusti latrix urbs hec et laudis amatrix» (Сей город есть податель права и ревнитель похвалы)39 обрамляла изображение. Занятно, что эта надпись была известна всему городу: она находилась на самом знаменитом памятнике Вероны - фонтане «Мадонна Верона» на Пьяцца Эрбе (ил. 6). На мраморном фонтане, возведенном в 1368 г. при Кансиньо-рио делла Скала, возвышается женская фигура, которую с XIV в. называли «Мадонна Верона»40.
В руках она держит ленту с процитированной надписью. Корпусом этой аллегорической фигуры служит античная статуя, а голова и руки являются добавлениями XIV в. Поскольку Корна да Сон-чино в своей «Фьоретто» безоговорочно объявляет эту скульптуру «воплощением города»41, возникает вопрос: почему же создатели новой печати отказались от столь авторитетной аллюзии? На совещании городского совета звучали сетования на то, что изображение на старой печати не демонстрирует какого-либо узнаваемого памятника Вероны и не является достойным и соответствующим духу времени. Можно предположить, что отказ принять статую с Пьяцца Эрбе в качестве символа коммуны связан все же с иконографией фонтана, определявшейся изображениями голов античных и средневековых властителей, помещенных в качестве водостоков ниже женской
Ил. 6. Фонтан «Мадонна Верона»
338
Ил. 7. Новая печать «Verona minor Hierusalem»
фигуры. Из них можно идентифицировать римского императора Антонина Пия, лангобардского короля Альбоина и итальянского короля Беренга-рия - у всех, согласно легендам, были резиденции в Вероне. Однако идея исторической преемственности от эпохи римских императоров до X в. намного меньше соответствовала историческому интересу коммуны XIV в. к античности, нежели пониманию истории Скалиге-рами. Норберто Грамаччини обращает в связи с этим внимание на «Historiae Imperiales», которые Иоанн Мансионарий начал писать для Кангранде делла Скал л а и которые несут отпечаток того же понимания истории, который отличает и фонтан «Мадонна Верона»42.
Историческое сознание, опирающееся на понимание Скали-герами характера своей власти и визуализированное фонтаном «Мадонна Верона», вступало с 1405 г. в явное противоречие с тем, как коммуна желала себя инсценировать. Новая печать выдвигала теперь на передний план христианские корни Вероны (ил. 7): на фоне городского пейзажа восседал на троне покровитель города Сан-Дзено, а надпись гласила: «Verona minor Hierusalem di[vo] Zenoni patron[o]» (Верона, Малый Иерусалим, божественному Зенону, покровителю). Городской совет обратился таким образом к христианскому варианту «мифа об основании». Такой способ выстраивания городской идентичности почти не имел последствий, что не вызывает удивления ввиду того, насколько глубоко в Вероне укоренилась антикварная культура. Напротив: в рамках городской репрезентации на передний план все чаще выступают узнаваемые античные постройки. Они есть даже и на новой печати: это Понте Пьетра, по левому краю, и Арена, античный амфитеатр, по правому. Христианско-мифологические корни города искусно соединяются с корнями его antichita. Упразднение дихотомии хри-стианский/античный приводит к возникновению нового стиля репрезентации, определившего муниципальную ренессансную культуру коммуны. Теперь коммуна легко могла одержать верх над Венецией в обеих исторических концепциях своего происхождения - в том, что относилось как к ее историческому, так и сакральному достоинству.
339
Ил. 8. Гравюра с изображением Арены - иллюстрация к поэме Корна да Сончино
У обращения к античному амфитеатру - Арене - и к исторической идентичности, основанной на его монументальности, есть давняя традиция, берущая свое начало еще в сочинении неизвестного автора каролингской эпохи (конца VIII - начала IX в.) «Veronae Rythmica Descriptio». Этот текст, посвященный Пипину (Карломанну), королю Италии, сыну Карла Великого, использует легенду о происхождении арены, восходящую к «Этимологиям» Исидора Севильского (XV, I, 5). Арена именуется здесь лабиринтом, а ее строитель соответственно идентифицируется с Дедалом, мифическим создателем лабиринта43. В качестве символа коммуны она проявляется еще ярче в описании Вероны, составленном в X в. епископом Ратерием44. В нем об Арене говорится: «nobile, precipuum, memorabile, grande theatrum, / ad deciis extructum, sacra Verona, tuum» (благородный, особенный, памятный, великий театр, / воздвигнутый к твоей красе, священная Верона)45. Авторы городских статутов тоже усматривали прямую связь между театром и достоинством города. Называя Арену «памятником, охраняемым статутами, порча которого наказуема», «edificium memoriale et honorificum civitati» (зданием достопамятным и составляющим честь городу)46, статуты брали этот монумент под свою защиту и назначали наказание за его повреждение.
Несколькими годами позже поэт Корна да Сончино посвятил Арене как-никак 15 строф цитировавшейся выше поэмы «Fioretto». Он также не отказался здесь от мифологических представлений о происхождении Арены: из слова «Арена» он производит «1а Rena» -имя королевы, и сцена театра предстает как триумфальная площадь47. Среди немногих иллюстраций к поэме в ее падуанском печатном издании 1503 г. одна тоже будет посвящена Арене (ил. 8)48.
Самостилизация города в коммунальных статутах и эмблемах власти сказывалась и на его архитектурном облике, о чем и пойдет речь дальше. Верона предстает в этих образах самопредъявления как обладательница выдающегося прошлого, истории, в которой коммуна пребывала на высоком политическом и культурном уровне, намного превышавшем действительное политическое значение города в XV в., воспоминание о чем помогало смягчить горечь утраты независимости и скромность нынешнего состояния. А стоит
340
лишь взглянуть на тогдашние венецианские интерпретации истории и памятников Вероны, как оказывается, что и взгляд со стороны вполне соответствовал взгляду самостилизации «изнутри», т.е. то, как коммуна инсценировала свою историю, оказывало целенаправленное воздействие и на других. Если мы, скажем, вспомним тот набор образов, в котором Арена с каролингских времен фигурирует как символ города, то удивительно, как уже упомянутый Марк Антоний Сабелликус оценивает этот бесспорно знаменитый по всей Италии монумент в качестве очевидного выражения исторического значения Вероны. Сабелликус, пробывший в Вероне несколько месяцев, сначала описывает ее живописное местоположение, а вслед за тем пишет об этом античном памятнике: «Посреди города расположен большой амфитеатр, который они называют Арена и в котором можно увидеть много арок и признаков античных времен, ясно демонстрирующих древнее богатство города»49. Этот взгляд на Арену как на репрезентанта города хорошо согласуется со вниманием коммуны к артефактам прошлого.
Итак, мы выяснили пока, что историческое самосознание коммуны, с одной стороны, опиралось на вековую традицию, с другой же -переносилось с государственной символики статутов и печати в литературу и все более на визуальные средства. На протяжении XV в. антикварная культура самоутверждения коммуны переходила в культуру визуальную, противопоставлявшую венецианскому владычеству легитимируемую исторически городскую независимость. Система образов при этом создавалась в большой степени на собственном основании: сохранность изобразительных и архитектурных свидетельств прошлого позволяла выстраивать изобразительную и архитектурную инсценировку настоящего при помощи обращения к истории.
Прежде чем рассмотреть, насколько архитектурный облик города проникнут специфической исторической идентичностью, проследим кратко, как в Прологе к городским статутам представлен очерк истории Вероны. Такое взаимопроникновение действительности и «воображаемых исторических построений» является, согласно Франтишеку Граусу, характерной чертой позднесредневекового исторического сознания, поскольку «любая историография представляет собой лишь некую часть всех факторов, образующих исторические представления определенной эпохи, и она связана с Другими факторами, воздействуя на них и испытывая их воздействия»50. Можно сделать еще один шаг в том же направлении и сформулировать следующий тезис: именно «мультимедийная» и инсценированная в различных контекстах репрезентация исторической идентичности только и формирует впервые ее самою. Она и будет рассмотрена ниже на новых примерах.
За библейским происхождением Вероны следует короткое представление городской истории при римлянах. Не только постройки -
341
стены, ворота, храмы, триумфальные арки и театры - подтверждают значение города, но в особой степени viri illustres, выдающиеся мужи веронской истории. Пролог называет Плиниев Старшего и Младшего, Эмилия Мацера, цитирует Марциала, приравнявшего великого веронского поэта Катулла к Вергилию51. После почестей античным авторам следует восхваление гуманиста Гварино Гварини, чьим учеником был составитель Пролога. Конечно, неслучайно, что веронские ученые и поэты предшествуют правителям. Среди властителей упоминаются Теодорих, Альбуин, Пипин, Эццелино да Романо и Скалигеры, но при этом им не дается никакой характеристики52. Их перечисление служит возвеличиванию Вероны, поскольку указание на территории, которыми они правили - а это державы готов и лангобардов, королевство Италия и франкское государство, - подчеркивает надрегиональное значение города. От этого текста, конечно же, нельзя ожидать, чтобы в нем, например, отразилось отчетливое представление о коммунальной автономии или же характере распределения отношений власти. Державный статус города, форма его управления во времена свободы или несвободы не играют здесь совершенно никакой роли. Только конец правления Джан-Галеаццо Висконти и попытка каррарца Франческо Новелло в 1404 г. стать синьором Вероны излагаются как драматические обстоятельства в приподнятом тоне. В конце концов, как лаконично гласит этот текст, Венецианский сенат принял бразды правления и восстановил право, порядок и веру.
И для этой оценки событий из веронской перспективы можно привести венецианские параллели. Здесь важно описание положения в Вероне в 1483 г., принадлежащее перу будущего официального хрониста Венецианской республики Марину Санудо. Санудо, родившийся в Венеции в 1466 г. и получивший гуманистическое образование, по приглашению своего кузена Марко Санудо принял участие в поездке послов по венецианской терраферме. Тогда еще весьма юный Марин Санудо использовал эту поездку для сбора впечатлений историко-антикварного свойства, о чем и свидетельствуют его заметки. Сомнительно, впрочем, чтобы его описания, собранные под общим латинским заглавием «Itinerarum Marini Sanuti Leonardi Filij Patrij Veneti cum Syndicis Тепе Firme», когда-либо предназначались для опубликования53. Самое поразительное в этих заметках, представляющихся на первый взгляд непредвзятым описанием исторической ситуации и актуальных обстоятельств, состоит в том, что Санудо, совершенно очевидно, большую часть своей информации позаимствовал из текста Пролога к городским статутам Вероны. Оба текста можно читать параллельно, абзац за абзацем, Санудо в некоторых местах даже не утруждает себя перефразировкой текста. У него есть и основание города Симом, и обозначение «Малый Иерусалим», и соответствующая сакральная топография, и
342
надпись на Порта-Борсари, и перечень правителей города, а также uomini illustri (знаменитых мужей) - т.е. все, что Сильвестро Ландо предпослал городским статутам54. Наряду с этим в сообщениях Санудо есть политические оценки и замечания, основывающиеся на его собственных наблюдениях. Так, при осмотре Арены ему бросилось в глаза, что это строение «разрушено и пребывает в плохом состоянии», к тому же оно обитаемо55. Для искусствоведов интересно его упоминание Альтикьеро и Пизанелло, двух знаменитых уже при жизни веронских художников конца XIV - начала XV в., которых он особо выделяет среди мастеров города, а также его лаконичное замечание о гробницах Скалигеров - «тагшогее et intagliate» (из мрамора и украшенные резьбой). Более существенна политическая составляющая его взгляда на город. Лейтмотив здесь в том, что лишь Венеция с ее надежным и упорядоченным правлением позволила веронцам возродить великие традиции их прошлого. С началом венецианского господства вновь возросла слава города, процветание которого нашло свое выражение в богато украшенных общественных и частных палаццо56. То, что Санудо знал дворцы наместника и военные опорные пункты, а также имена венецианских castellani, объясняется, возможно, инспекциями, проводившимися синдиками, сопровождать которых он, возможно, имел право.
Учитывая характер главного литературного источника Санудо, необходимо подчеркнуть, что этот венецианец воспринимал текст Пролога Сильвестра Ландо в качестве историографического. Хронологически организованный образ истории коммуны, созданный воображением канцлера веронского городского совета, оказался вполне убедительным для странствующего венецианца. Санудо просмотрел центральный пункт аргументации Ландо: прославление независимости города в прошлом, а значит, и в настоящем. Его же рассуждения на темы античной истории основаны, напротив, на его собственном первом личном знакомстве с античной архитектурой и эпиграфикой. Так, наряду с Ареной и Порта-Борсари он осмотрел античную Арко деи Гави непосредственно у Старого замка (Кастельвеккьо), где арка уже в течение нескольких веков служила городскими воротами. Санудо скопировал надпись, оставленную архитектором («Lucius Vitruvius L.(ucij) l.(iberti) F. Cerdo Architectus»), соорудившим эту триумфальную арку в первые десятилетия I в. н.э. Поскольку до трактата Себастьяно Серлио по истории архитектуры, написанного в третьем десятилетии XVI в., этого Витрувия постоянно путали с автором знаменитого античного трактата по архитектуре, то и Санудо допускает ту же ошибку, а кроме того, он даже принимает Витрувия за строителя Арены57.
Если отвлечься от руин амфитеатра в Падуе, древние здания в Вероне были первыми образцами античной архитектуры, которые мог изучить Санудо. Под этим углом зрения его путевые заметки
343
можно рассматривать и как свидетельство усвоения античной культуры58. Однако на зримое наследство античности - на строения, скульптуры и надписи - он смотрел не непредвзято, но взглядом читателя, сведущего в античных и современных ему текстах. Знание текста и зрительные ощущения Санудо соединяет в единую ткань, выражавшую понимание истории в его эпоху. В этом его описания оказываются близки к картине прошлого, присущей местной веронской аристократии, создававшей исторические образы тоже между изображением и текстом. Знание текста все еще было, бесспорно, куда более авторитетным, однако произведения строительного и изобразительного искусства все чаще начинали занимать его место - процесс, который как раз в Вероне был отмечен появлением ряда богато иллюстрированных печатных изданий59. Наконец, впечатления Санудо от его знакомства с античными реалиями Вероны отмечены гордостью тем, какие новые владения удалось Венеции присоединить за последние десятилетия. Но если у Санудо эта гордость только просвечивает между строк его страстных описаний античных памятников, то уже упоминавшийся Сабелликус высказывался в том же десятилетии гораздо яснее: «Приобретение такого богатого города, как Верона, возбудило в венецианцах большие надежды», и далее по поводу античных зданий и древних авторов родом из Вероны: «Эти вещи открывают венецианцам, сколь благодарны они должны быть за свою победу»60. Античная история города предоставляла возможность обеим партиям использовать ее в своих интересах. Однако если венецианские власти только и могли, что попросту выражать свое восхищение и гордость, а их гуманистически образованные представители воспринимали город как центр антикварной культуры, для веронцев история представляла собой момент коллективной идентификации. Поэтому одна только коммуна смогла в средствах своей архитектурной саморепрезентации установить убедительную связь со строительными памятниками античности. Это провоцировало зримые «архитектурно-иконографические противоречия», о которых речь ниже.
Архитектурная репрезентация Венеции в центре Вероны
Экономический и административный центр Вероны уже ряд столетий образуют две лежащие рядом площади (ил. 9). Если вытянутая в длину Пьяцца Эрбе выросла из античного форума, то Пьяцца деи Синьори возникла благодаря строительным инициативам высокого Средневековья. Важнейшим архитектурным связующим звеном между обеими площадями является Дворец коммуны, построенный в конце XII в. Северо-восточной стороной
344
Ил. 9. План Пьяцца Эрбе и Пьяцца деи Синьори
I. Пьяцца Эрбе
1 - Дворец коммуны (позже Дворец правосудия — Palazzo della Ragione);
2 - Каза деи Маццанти; 3 - Capitello; 4 - Фонтан «Мадонна Верона»;
5 - Венецианская колонна; 6 - Палаццо Маффеи и Башня del Gardello;
7 - Купеческий дом (Casa dei Mercanti); 8 - Колонна del Mercato
И. Пьяцца деи Синьори
9 - Палаццо дель Капитано; 10 - Венецианское наместничество, бывший дворец Скалигеров (Palazzo del Govemo); 11 - Церковь Санта-Мария Антика с гробницами Скалигеров; 12 - Лоджия дель Консильо
А - Лоджия венецианского наместничества (Palazzo del Govemo);
В - Лестница правосудия; С - Лоджия во дворе Палаццо дель Капитано
рн примыкает к сердцу городской экономики - Пьяцца Эрбе, которую еще первые коммунальные статуты именовали «форумом»61. Другой своей стороной прямоугольный в плане domus communis выходит на Пьяцца деи Синьори, на которой семейство Скалиге-{Юв начиная с конца XIII в. постепенно возвело целый дворцовый комплекс, заняв таким образом для себя место в самом что ни на есть городском центре Вероны62. В этот комплекс и сегодня еще входят монументальные надгробные памятники Скалигеров. Тем самым Пьяцца деи Синьори служила не только местом репрезентации живых правителей, но и пространством поминовения их мертвых предков63.
Величественный комплекс Скалигеров на Пьяцца деи Синьори Претерпел на протяжении XV и XVI вв. лишь незначительные архитектурные изменения. Одна лишь Лоджия дель Консильо - новое здание магистрата - несомненно является новым зданием. Все остальные строительные работы в центре сводились либо к пристрой-
345
Ил. 10. Лоджия первого этажа венецианского наместничества (Palazzo del Govemo)
кам, либо к перестройкам. Так, в 1419 г. венецианские власти повелели создать на первом этаже бывшего дворца Скалигеров лоджию, сохранившуюся до наших дней лишь отдельными своими частями и сильно измененную при реставрации XIX в. (ил. 10)64. Теперь полукружия лоджии раскрывали фасад дворца, обращенный к площади, что следует рассматривать как скрытый жест ее присвоения и подчинения. Благодаря ей площадь оказывалась ориентирована на дворец, который теперь занимало венецианское наместничество. Такие лоджии считались в архитектуре Ренессанса символом rei publicae, воплощением публичности, которое архитектурная теория той эпохи переняла у Витрувия65. Из античного трактата по архитектуре Витрувия могла быть заимствована и идея размещать здание магистрата, казну и темницу, т.е. центральные административные постройки, на главной площади66. Хотя в позднее Средневековье и раннее Новое время встречалось множество отличающихся вариантов сочетания этих учреждений на центральной площади города, площади того времени следовали этой античной идее форума, а значит, и принципу соединения архитектурной репрезентации с функциональной. Вмешательство венецианских властей в облик бывшей резиденции Скалигеров выглядит столь же сдержанным, сколь и эффективным: в результате его оно превратилось в полуобществен-ное здание. Даже если принять во внимание, что аркада сегодня частично перестроена, бросается в глаза то, что в нем нет ни одной архитектурной детали, которая могла бы считаться типично венецианской. А имея в виду позднейший облик площади Сан-Марко, веронскую аркаду можно считать во всяком случае предвосхищением соответствующего стиля архитектурного оформления площадей.
Второе вмешательство венецианцев в архитектуру общественных зданий Вероны прошло так же сдержанно, как и первое, но затронуло теперь средневековый Дворец коммуны, один из первых дворцов такого типа в Италии67. Строительство его было завершено еще в 1196 г., но прямоугольный внутренний двор дворца и
346
сегодня еще во многом соответствует первоначальному состоянию. Два из четырех трактов обращены своими фасадами на важные площади - к рынку и к административному центру. В помещениях верхнего этажа, в бывшем зале совета, венецианские власти расположили судебные учреждения: бывший муниципальный дворец изменил свои функции, став Палаццо делла Раджоне (Дворцом правосудия). Двор, как и прежде, служил во многие дни рынком, а в угловых башнях были устроены темницы. Вероятно, учитывая эту многофункциональность дворца подеста Микеле Веньер в 1446 г. распорядился выстроить в северо-западном углу двора лестницу, которая обеспечивала бы свободный доступ в помещения органов правосудия и вместе с тем придавала бы им достойный внешний вид со стороны двора (ил. И). Готические арки, консоли, «крабы» и капители этой так называемой Скалла делла Раджоне (Лестницы правосудия) из красного мрамора соответствуют художественному языку венецианской архитектуры поздней готики68. Надпись заказчика, подеста Микеле Веньера, на цоколе относится к 1446 г., хотя лестница могла быть окончательно достроена только в 1452 г. Не следует забывать, что такие строительные проекты в значительной степени зависели от личной «репрезентативной воли» заказчика, определявшего и идею постройки, и ее реализацию. Должности подеста и капитанов занимали, как правило, молодые венецианские аристократы, которым следовало отслужить год-другой вдали от Лагуны, прежде чем начать карьеру в Венеции. Однако в формальном отношении их легитимность была велика, поскольку они были избраны сенатом
Ил. 11. Лестница правосудия во дворе Дворца коммуны
347
Республики69. Неудивительно поэтому, что в верхней части лестницы изображен щитодержатель с гербом семьи Веньер, а надпись указывает на Микеле Веньера как на заказчика строительства. В том же, что относится ко взаимоотношениям между различными властями в Вероне, уже одно лишь местоположение лестницы показывает, насколько умеренным был этот жест репрезентации венецианской власти. С одной стороны, еще Гунтер Швейкхарт усматривал в ней символ государственного суверенитета70, с другой же -лестница создавала иерархическое членение здания, отделяя и реально, и символически размещенное в нем судебное ведомство как от рыночной торговли, так и от других учреждений во дворце и его дворе. Аналогично и лестницы в веронских частных палаццо служили как функциональным, так и символическим целям. Они встречаются исключительно во дворцах состоятельных и влиятельных патрициев. Характерным примером является перестроенный предположительно в 1364 г. палаццо семейства Ногарола, принадлежавшего к ближайшему кругу придворных Скалигеров и владевшего дворцом в непосредственной близости от резиденции Скалигеров. Мраморная лестница дворца, отделенная от улицы зубчатой стеной, прямо служила здесь визуализации общественного престижа хозяев дома - точно так же, как это будет принято и в веронской дворцовой архитектуре XV и XVI вв.71 Возведение Лестницы гигантов во дворе Дворца дожей, на которой с 1485 г. проходила инвеститура дожей, также свидетельствует о том, что в сознании людей того времени присутствовали отчетливые коннотации между устройством парадных лестниц и идеями социальной иерархии и власти72. В любом случае лестница визуализирует одно из мест венецианского господства в центре Вероны.
То, что здесь выглядит еще как скорее неспецифическая репрезентация, как скромная архитектурная переформулировка привнесенной извне модели, со всей отчетливостью выступает на первый план в лоджии соседнего Палаццо дель Капитано (ил. 12). Правда, об отношении архитектуры к визуализации власти там свидетельствует не столько форма здания с тремя ярусами стрельчатых и полукруглых арок, сколько строительная надпись73. Согласно ей, эта лоджия на юго-западной стороне дворца, обращенной к внутреннему двору, была воздвигнута в 1476 г. и заменила собой деревянный навес перед изначальным зданием, сооруженным Кансиньорио делла Скала примерно в 1363 г. Была ли какая-то функциональная необходимость в строительстве лоджии, выяснить нельзя. Как ее размер, так и очевидный характер трактовки ее как декоративного фасада служат архитектурному символизму, призванному визуализировать преобразование синьорального здания в венецианское Палаццо дель Капитано - примерно в том же плане, что и обсуждавшаяся выше Скалла делла Раджоне. В том же направлении указывает и упомяну-
348
Ил. 12. Лоджия во дворе Палаццо дель Капитано
тая любопытная надпись74. Она сообщает, что заказчик строительства Дзаккария Барбаро, префект (т.е. подеста) Вероны, обновил многие укрепления в городе и окрестностях. Он не только распорядился построить и эту лоджию с мраморными колоннами, и здание курии, но еще и расширил Пьяцца Гранде, форум. Вторая часть восхваления капитана Дзаккарии Барбаро в этой надписи относится к его общественно-политическим деяниям: во время голода он показал себя безупречным правителем, обращавшим закон во благо. В конце жители Вероны сожалеют о завершении срока его службы так сильно, что проливают слезы.
Идеологический смысл этой надписи выявил уже Эннио Кончи-но: в ней передается идеал «благого правления»75. Краса города и величие достоинства его венецианских правителей должны были предстать в ней в неразрывном единстве. В надписях заказчиков сообщаются сведения как о них самих, так и об их претензиях на служение «общественному благу», притом и то и другое предоставляет нам Ценный материал для понимания представлений современников о роли общественной архитектуры. Благодаря такой надписи здание Становилось прямым выражением деятельности правительства и его стремления к «всеобщему благу» (bonum commune). Конечно, мора-лизаторски-дидактический тон надписи выражает лишь собственные намерения заказчика. Однако помимо его личных намерений, сами ее параметры (иконография и материал) ассоциируют достоинство и мораль с другими качествами, смысл которых воспринимается визуально и тактильно. И лестница, и лоджия выстроены из Веронского красного мрамора, чем четко противопоставлены окружающим строениям, выполненным преимущественно из кирпича.
349
Только в XVI в. венецианцы усилили репрезентативный облик своей власти. Так, в 1533 г. наместничество приказало Микеле Санми-кели украсить дворцы подеста и капитана триумфальными обрамлениями порталов76, что еще сильнее развернуло центры венецианской власти в сторону Пьяцца деи Синьори.
Здание Совета и архитектурная репрезентация исторической идентичности
После этого краткого историко-архитектурного экскурса следует проанализировать, как морально-дидактическое понимание роли общественной архитектуры, сформулированное в надписи на лоджии, проявилось в самом значительном веронском здании позднего Средневековья - Лоджии дель Консильо (ил. 13).
История возведения этой лоджии по северному краю площади, ближе к дворцу ректоров, началась в 1452 г., когда городской совет в своем обращении к венецианскому сенату впервые высказал желание построить для себя новое здание77. Для такого строительного предприятия по закону требовалось получить согласие дожа: лишь он мог дать разрешение на сбор необходимых для этого строительства налогов. К тому же здание магистрата предполагалось возвести на месте бывшего дворца Скалигеров, который уже ранее перешел в собственность Венеции. Проект не имел быстрого успеха: в 1468 г. совет должен был вновь обращаться к дожу. Наконец лишь в 1476 г. дож Андреа Вендрамин дал добро на постройку магистрата78. За это время архитектурные представления изменились: ответственные за строительство лица предпочли теперь первоначальному проекту дворца с наружной лестницей план дворца с фасадом на площадь и лоджией в виде портика. Причины такого изменения первоначального плана кроются скорее всего в том обстоятельстве, что здание теперь следовало сдвинуть в глубину, чтобы его фасад заканчивался на уровне соседней Каза ди Пьета (Каза Пиетатис). Размеры здания, согласно этому плану, уменьшались, и его сторонники прямо ссылались на возможность тем самым расширить площадь. Таким образом, облик площади и архитектура лоджии в плане репрезентации были тесно связаны друг с другом. Эти изменения в проекте пришлись на 1476-1477 гг., когда работы начались с того, что под контролем строительного надзора из трех человек было разрушено предшествующее здание. Сложности с финансами в дальнейшем то и дело тормозили предприятие; лишь в 1492 г., с роспуском строительного надзора, оно было вроде бы завершено: недоставало только статуй для карниза фасада.
Первый этаж дворца покоился на низком цоколе, поднятом на пять ступеней над уровнем площади. От площади здание отграничи-
350
Ил. 13. Лоджия дель Консильо
вала балюстрада, прерывавшаяся двумя лестницами, поверх которой была воздвигнута восьмиарочная лоджия. Каждой паре арок на втором этаже соответствовало по окну-бифорию. Окна были попарно обрамлены декоративными пилястрами и объединены сверху арками, украшенными изображениями мифологических существ, представлявших щиты с гербом Вероны. Балюстрада, колонны ложи, капители и пилястры были из светлого мрамора, что придавало зданию особое благородство. Оно подчеркивалось плоской растительной, без всяких фигур, росписью верхнего этажа, ныне почти полностью утраченной79. На боковой стене, обращенной на Виколо делле Фодже, фасад был расписан разноцветными «алмазными» квадрами.
Лишь немногие элементы фасадного декора являются заимствованием конкретных античных форм. Так, арки украшены простой киматией и астрагалом, которые, как и раскреповка, были переняты от античной Арко деи Гави и Порта-Борсари80. Напротив, рельефы пилястров из ваз и цветочных украшений, кажущиеся античными, представляют собой скорее результат неспецифического усвоения античности в ломбардском стиле, который определял декоративные схемы во второй половины XV в. по всему Венето и особенно в Венеции81.
Профили древних персонажей, помещенные в середине пилястров, также отражают в основном неспецифическое восприятие античных декоративных схем. Это, впрочем, не мешает восприятию их как античного или антикизирующего художественного языка,
351
призванного выразить античные корни Вероны, что доказывает одно стихотворение Андреа Банды, сравнивавшего лоджию со сводами античных римских построек и даже находившего ее с ними совершенно схожей82. В отличие от XVI в., когда Микеле Санмикели первым из веронских архитекторов перешел к действительно «цитатной архитектуре»83, дабы угодить историческому сознанию своих заказчиков, в веке XV и заказчикам строительства, и тем, кому предстояло воспринимать его результаты, достаточно было всего лишь легкого «отражения» античности на поверхности пилястров.
Упомянутое стихотворение Андреа Банды восхваляет не только архитектуру, но и дядю поэта - Даниэля Банду - юриста, городского советника и надзирателя за строительством лоджии, который здесь и чествуется в качестве ее создателя. Хотя последнее вызывает некоторые сомнения, однако Даниэль Банда описывается как знаток Витрувия и проектировщик еще ряда зданий. К тому же хотя в стихотворении упоминаются и другие надзиратели за строительством, но в качестве архитектора автор выделяет из них только Даниэля84. В марте 1484 г. стихотворение было исполнено при Actio Pantea - церемонии увенчивания лавровым венком поэта Джованни Антонио Пантео85. Череда чтецов, состоявшая из патрициев, членов совета, юристов и ученых, т.е. представлявшая городскую элиту, прошествовала через Верону мимо исторических монументов, обрисовав тем самым историческую топографию коммуны. Процессия миновала церковь над гробницей покровителя города Сан-Дзено (св. Зенона), прошла через античные городские ворота и Арко деи Гави, прошествовала мимо Арены, и ее участники воздали почести венецианским властям на Пьяцца деи Синьори. Здесь были прочитаны стихи об истории города, потом воздано должное античным поэтам и ученым. При этом были упомянуты Плиний Старший и Плиний Младший, Катулл, Эмилий Мацер, Корнелий Непот, а также Витрувий, в которых городские представители видели олицетворение их исторической идентичности.
Речь идет преимущественно о личностях, которых Сильвестро Ландо в начале Пролога к городским статутам определил как исторических представителей Вероны. Вообще церемония Actio Pantea сильно напоминает текст этого Пролога 24-летней давности. Выразившийся в нем взгляд на историю преобразовался в театрализованную постановку, и ему же предстояло вполне выразиться в архитектуре Лоджии дель Консильо. Так что неудивительно, что городской советник по окончании строительных работ над лоджией при ратуше в 1492 г. решил водрузить над верхним карнизом группу статуй, созданных скульптором Альберто да Милано. С тех пор над Пьяцца деи Синьори и возвышаются слева направо viri illustres (выдающиеся мужи), восславлявшиеся уже в Прологе к городским статутам,
352
а затем и при увенчивании поэтов: Витрувий, Катулл, Плиний Старший, Эмилий Мацер и Корнелий Непот. Список завершает изображение Плиния Младшего на цоколе пилястра.
Историческая модель uomini illustri предоставляла коммунальному самосознанию возможность для дальнейшего продолжения традиции и, следовательно, демонстративного соединения настоящего и прошлого. После смерти прославленного уже при жизни ученого Джироламо Фракасторо, поэта, анатома, врача и астронома, в ноябре 1555 г. совет решил большинством голосов поставить в его честь статую на арке между Лоджией дель Консильо и Каза ди Пьета, исполнение которой было поручено Данезе Каттанео86. Таким образом, статуя Фракасторо оказалась в одном ряду с античными героями города, хоть и немного ниже их87. Уже упоминавшийся выше прием репрезентации, при котором упраздняется дихотомия христианского и языческого, снова претерпел изменения и приобрел новое измерение, когда снимается разделение теперь уже и между историческим и современным. Учитывая, что индивидуальная репрезентация венецианских дожей, членов сената, капитана и подесты была весьма скромной, веронская коммуна завоевала тем самым широкое поле для представления себя как равной Венеции по крайней мере по происхождению.
Заключение
Историческая идентичность города, которую активно демонстрировала собравшаяся в совете городская патрицианская элита, пронизывала все сферы позднесредневекового веронского общества. Ретроспективная линия формирования коммунальной идентичности, начатая в историографических пассажах Пролога к городским статутам, немного погодя нашла свое продолжение в литературе, в празднествах и, наконец, в коммунальной архитектуре - ряд, который можно продолжать и другими примерами. Архитектура, оставшаяся в компетенции коммуны, позволяла вновь отвоевать те части городского центра вокруг Пьяцца деи Синьори, что оказались подчинены венецианским функциональным и репрезентативным целям, и вновь представить их как элементы коммунального центра. К тому же направлению коммунальной репрезентации можно отнести, помимо приведенных выше примеров, заметное приращение высоты городской башни бывшего Дворца коммуны88, а также роспись фасада Каза ди Пьета. Здесь Доменико Моронес изобразил в самом конце XV в. сцены в духе античности с историческими образами и аллегориями, которые, хотя и давно уже утеряны, были описаны, в частности, Вазари. Аллегория Вероны обращалась к зрителю в надписи, указывающей на благотворительную цель сооружения:
23 Образы власти...
353
«Вера и милосердие никогда не угаснут»89. Каза ди Пьета и Лоджия дель Консильо образовали сплошную репрезентативную линию на Пьяцца деи Синьори - весь их декор подчинен визуализации городской идентичности. Это явственно отличало северо-восточный фасад площади от зданий, занятых венецианскими властями. Такое сознательное противопоставление построек на одной площади можно охарактеризовать как ранний пример концепта сочетания «здания» и «контрздания»90.
Как показал недавно Лукас Буркарт в своей работе по символической репрезентации в веронское позднее Средневековье, то обстоятельство, что вся общественная сфера была пронизана образами коммунальной идентичности и заданным ими историческим сознанием, объяснялось влиянием городского патрициата, связанного и с городскими учеными, и с некоторыми художниками, и уж всегда с важнейшими городскими политиками - все они, вместе взятые, и составляли в значительной степени этот патрициат. Здесь стоит вспомнить Сильвестро Ландо, канцлера городского совета и историографа в одном лице, Даниэля Банду, советника и предполагаемого архитектора Дворца коммуны, или же влиятельного юриста Кристофоро Ланфранкини, непрерывно занимавшего высокие муниципальные посты в период между 1456 и 1503 гг. (о нем подробно пишет Лукас Буркарт)91. Персональная идентичность этой социальной группы является результатом все большей «аристократизации» коммунального правления начиная с 1405 г.92 Доступ в Консильо был строго ограничен, замещение должностей происходило вопреки официально прописанной вакансии по сложной и хорошо выверенной системе смены среди членов совета. При таком доминировании политически гомогенной группы городских советников публичная репрезентация исторической идентичности превращалась в собственный социальный код патрициата. Кто из вновь поселившихся в Вероне граждан желал быть принятым в круг властителей судеб, кто пытался добиться в этих кругах уважения и почтения, тот должен был овладеть этим кодом. Наилучший пример представляет собой упоминавшееся выше печатное издание веронских статутов 1472 г. Благодаря исследованию Джан-Марии Варанини мы знаем, кто финансировал то издание: их имена перечислены в завершающем Пролог колофоне93. Это члены семейства Плацентинов (или Пьячентини), а точнее, глава рода Дзанотто и его пятеро сыновей - Антонио, Джерардо, Джованни, Пьетро и Бартоломео. Эти торговцы пряностями происходили из Пьяченцы и лишь незадолго до времени, о котором идет речь, переселились в Верону. Их дела процветали, и они сделали немалое состояние. То, что они вложили его в предприятие, приносящее, вероятно, лишь символическую прибыль, - в печатание городских статутов, показывает, что им был известен «социальный код» городского патрициата. С финансированием издания они скорее
354
всего связывали надежды на вхождение во влиятельные круги патрициата, что ввиду закрытости этой среды редко удавалось сделать семьям, лишь недавно поселившимся в городе.
Пролог к статутам, литература, празднества, архитектура, археология и историография (которая, впрочем, только с XVI в. начинает хоть сколько-нибудь соответствовать этому названию) -все вместе концентрируется в специфическую коммунальную идентичность. Так городская элита утверждала в условиях венецианского господства свое символическое «величие», создавая коммунальную традицию и визуализируя ее различными средствами, замещая образами воображаемого прошлого политические конфликты. Этот процесс основывался на инсценировании коммунальной исторической идентичности и ее стилизации и все более выражался при помощи образных средств, вплоть до архитектурных. Но, конечно, в сложившемся status quo коммуны, лишенной политической власти, они ничего не меняли.
Представители веронской коммуны оказались вынуждены после 1405 г. реагировать на радикальный политический перелом, сильно ограничивший их свободу действий. Большинство их решений, как и внесение дополнений в городские статуты нуждались в одобрении венецианских подеста и капитана или даже дожа и сената. Юрист Бартоло ди Сассоферрато давно уже легитимировал правовые изменения в таких случаях по примеру перемен в нравах: jura moralia vari-antur ex tempore secundum morum varietatem (моральные законы изменяются co временем в соответствии с изменением нравов)94. Одновременно с легитимацией изменения закона в связи с социальными и политическими преобразованиями наметился выход из ситуации конфликта: раз признание diversitas temporum (различия времен) уже «ослабляет силу действия традиционных правовых норм», как подчеркивает Клаус Шрайнер, то это же предоставляет возможность для визуализации истории как суммы mutatio temporis (перемен времен). Историческое сознание веронской коммуны, у представителей которой было гуманистическое образование, основывалось, тем самым, на согласии признать недавнюю смену власти в качестве исторического рубежа. И действительно, с 1405 г. прошло ни много ни мало 392 года, пока оккупация города Наполеоном в 1797 г. не положила конец венецианскому господству в Вероне.
1 Wolters W. Der Bilderschmuck des Dogenpalastes. Untersuchungen zur Selbstdarstellung der Republik Venedig im 16. Jahrhundert. Wiesbaden, 1983. S. 277-287. Abb. 289; картина была создана после пожара во Дворце дожей в 1577 г.
2 Текст предварительного проекта (правда, частично проигнорированного хУДожником) см. в работе: Wolters W Op. cit. S. 307-316, здесь S. 316; особенно сильно по сравнению с письменным проектом Тинторетто изменил верхнюю
355
треть картины; там же см. цитируемый далее текст к «Триумфу Венеции» Пальмы Джоване. Такие «проекты» картин сохранились в списках, предназначавшихся, по предположению В. Вольтерса (Op. cit. S. 307), чтобы и после создания изображений служить руководствами для разъяснения зрителям их смысла.
3 Burkart L. Die Stadt der Bilder. Familiale und kommunale Bildinvestition im spatmittelalterlichen Verona. Munchen, 2000. S. 286 и далее.
4 Wolters W Op. cit. S. 275-277. Abb. 285.
5 Ibid. S. 279.
6 Mallet M. La conquista della Terraferma Ц Storia di Venezia dalle origini alia caduta della Serenissima. Vol. 4: Il Rinascimento. Politica e cultura / A cura di A. Tenenti e U. Tucci. Roma, 1996. P. 181-244; Kretschmayr H. Geschichte von Venedig. Gotha, 1920. Bd 2. S. 243-249 (перепечатка; Ahlen 1964); Vecchiato L. La Vita politica economica e amministrativa a Verona durante la dominazione veneziana (1405-1797) // Verona e il suo territorio. Verona, 1995. Vol. 5/1. P. 39-44; Demo E. Dalia dedizione a Venezia alia fine del Cinquecento Ц Storia di Verona. Caratteri, aspet-ti, momenti / A cura di G. Zalin. Vicenza, 2001. P. 149-193, особенно P. 151-164; Gullino G. La politica veneziana di espansione in terraferma // Il primo dominio veneziano a Verona (1505-1509), Atti del convegno 1988. Verona, 1991. P. 7-16.
7 Law J.R. Verona and the Venetian State in the Fifteenth Century // Bulletin of the Historical Research. 1979. Vol. 52/125. P. 12.
8 Ibid. P. 14.
9 Herlihy D. The Population of Verona in the First Century of Venetian Rule // Renaissance Venice I Ed. by J.R. Hale. L., 1973. P. 91-120.
10 Cp.: Law J. Op. cit. P. 10 и 14; попытки силой вернуть Верону под власть Скалигеров предпринимались в 1412 г., а также в 1439 г. при поддержке Гонзага в Мантуе и Висконти в Милане, когда Венеции пришлось на три дня лишиться власти над этим городом.
11 О том, как семья Скалигеров продолжала влиять на веронскую политику после смены власти, см.: Law J.E. Venice, Verona and the Della Scala after 1405 // Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Letterte di Verona. Ser. 6. T. 29. 1977-1978. P. 157-185.
12 Moscardo L. Historia di Verona. Verona, 1668. P. 264 (переизд. в серии: Historiae Urbium et Regionum Italiae Rariores 126. N.S. T. 42. Bologna, 1978). Во время этой церемонии Эмо восседал на каменном троне, по форме напоминающем капитель, на Пьяцца Эрбе, которая служила местом публичного введения в должность с XIII в. городским подеста и капитанам, позже Скалигерам, а с 1405 г. - венецианским подеста; см. об этом: Gramaccini N. Mirabilia. Das Nachleben antiker Statuen vor der Renaissance. Mainz, 1996. S. 224 и 226. Этот камень был заменен в XVI в. четырехугольной эдикулой.
13 Cronica della citta di Verona descritta da Pier Zagata, ampliata, e supplita da G. Biancolini. Vol. 1-3. Verona, 1745: «Adi 5 de Luio fu facto Ambassadori in Verona per mandar a Venesia a dar la obidientia a la Signoria, & funo circa 40 Cittadini tutti ves-tidi de bianco, e adi 8 arriverono in Venesia, e furono ricevuti con grande honor, e ardono a caval infina la piaza San Marco & li desmontarono, ove trovarono il Duse & la Signoria in su uno tribunale che aspectavano, & quelli salutarono off£ronodoli la insegna del Comun de Verona, e un altra da Zentili de Verona in dui Gonfaloni & le chiave, & li zurorono de esser fedeli: de Duse se vesti de bianco in segno de alegreza, con tutta la sua famiglia, & dond un Confalon bello a li died Ambassadori, il qual dovesse fir levado per victoria de Veneziani in su la piaza de Verona»; (Ibid. Vol. 3. P. 46); об авторе см.: Avesani R. Verona nel Quattrocento. La civilta delle lettere Verona, 1984 (Verona e il suo territorio. Vol. 4. Parte 2: Verona nel Quattrocento). P. 259.
14 Цит. no: Biancolini G. OP. cit. Vol. 3. P. 51.
356
15 Law J. Verona... P. 15.
16 Vecchiato L. Op. cit. P. 39 и далее.
17 Ср. одноименный том за 1993 г. издания «Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums Niimberg» (Hrsg. von H. Майе), в котором демонстрируются возможности, открывающиеся при подобной постановке вопроса.
18 Ср. экземпляр из Библиотеки капитула «Leges et Statuta Civitatis Veronae». Cod. CCI (190); его фотографию см.: Biblioteca Capitolare Verona. Verona, 1994. p. 164; а также: I manoscritti della Biblioteca Capitolare di Verona. Catalogo descritti-vo redatto da A. Spagnolo / A cura di S. Marchi. Verona, 1996. P. 253.
19 Это касается копии рукописи у венецианского подеста, а также копий, использовавшихся городским советом. Подробно об этом: Varanini G.M. Die Statuten der Stadte der venezianischen Terraferma im 15. Jahrhundert // Statuten, Stadte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland / Hrsg. von G. Chittolini und D. Willoweit. B., 1992 (Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient, 3). S. 195-250, здесь 242. В печатных изданиях статутов их вынужденные обновления не принимались во внимание, почему эти публикации, как подчеркивает Варанини, в определенной степени «замораживали» дальнейшее развитие законодательства. Опубликование статутов стало итогом престижного проекта иммигрировавшей в город семьи Плацентинов, или Пьячентини, см. об этом: Varanini G.M. Nuove Schede e proposte per la storia della stampa a Verona nel Quattrocento // Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere. T. 163. 1987/1988. P. 243-267, особенно 248 и далее, а также здесь ниже.
20 Leges et Statuta Civitatis Veronae. Vicenza, 1475 (Verona. Biblioteca Civica. Inc. 1095); кроме того здесь используется издание текста Пролога: Statutorum Magnificae Civitatis Veronae Libri Quinque. Venedig, 1747. Vol. 1, где в Прологе отсутствует пагинация и он предшествует содержанию. Об этом издании см.: Vecchiato L. Op. cit. Р. 77 и далее.
21 Например, Leges et Statuta Civitatis Veronae. Bibl. Civ. Inc. 1098, а также Inc. 1113. Эти два издания снабжены многочисленными примечаниями, т.е. позднейшими дополнениями; также в государственной университетской библиотеке Гёттингена есть экземпляр печатного издания статутов: Statuta civitatis Veronae. Vicenza, 1475 (шифр: 4°Jus. stat. VIII, 1380 Inc.), первый владелец этого издания оставил на нижнем поле листа свой герб и инициалы А.М. Двухцветные буквицы очень простые, примечаний в тексте немного.
22 Landau D., Parshall Р. The Renaissance Print 1470-1550. New Haven; L., 1994. P. 36; Hind A.M. An Introduction to a History of Woodcut. L., 1935. Vol. 1. P. 207 и далее; Vol. 2. P. 396-405.
23 Roberto Valturio. De re militari Libri XII. Verona, 1472 (переизд.: Verona, 1483; Basel, 1535). См. об этом: Rodakiewicz E. The Editio Princeps of Roberto Valturio’s «De re militari» in Relations to the Dresden and Munich Manuscripts // Maso Finiguerra. 1940. Vol. 5. P. 15; Hind A. Op. cit. Vol. 2. P. 410 и далее; Varanini G.M. Nuove Schede... P. 245 и далее; о содержании трактата см.: Jahns М. Geschichte der Kriegswissenschaften vomehmlich in Deutschland. Bd. 1: Altertum, Mittelalter, XV. und XVI. Jahrhundert. Munchen; Leipzig, 1889. S. 358-362.
24 Beschi L. Verona romana. I monumenti // Verona e il suo territorio. Bd. 1. Verona I960. P. 367-552, здесь 475^4-80; Idem. Porta Borsari // Palladio e Verona, Catalogo della mostra / A cura di P. Marini. Verona, 1980. P. 68-71, особенно с позиции восприятия XVI в. Расшифровка этого фрагмента надписи звучит следующим образом: COLONIA AUGUSTA VERONA NOVA GALL1EN1ANA.
25 Montecchi G. Lo spazio del testo scritto nella Pagina del Feliciano // L’«anti-quario» Felice Feliciano Veronese. Tra epigrafia antica, letteratura e arti del libro, Atti
357
del convegno di Studi Verona 1993 / A cura di A. Con to e L. Quaquarelli. Padova, 1995. P. 251-288, особенно p. 278-285; а также ил. XVI с видом Порта Борсари (Modena, Biblioteca Estense, Lat. 992: Giovanni Marcanova. Collectio Antiquitatum, c. 122r).
26 Cm.: Biblioteca Capitolare Verona (Le Grandi Biblioteche d’Italia) / A cura di A. Piazzi. Fiesole, 1994. P. 164: Leges et Statuta Civitatis Veronae. Cod. CCI (190); F. 3r.
27 Schneider N. Civitas. Studien zur Stadttopik und den Prinzipien der Architekturdarstellung im friihen Mittelalter. Diss. Phil. Munster, 1972. S. 81-90.
28 Существует стандартное издание «Фиоретто»: Francesco Coma da Soncino. Fioretto. De le antiche croniche de Verona e de tutti i soi confini e de le reliquie che se trovano dentro in ditta citade, Introduzione, testo critico e glossario / A cura di G.P. Marchi e P. Bnignoli. Verona, 1980.
29 О рукописях и печатных изданиях см.: Coma da Soncino Op. cit. P. XXXI и далее.
30 Ibid. Nr. 120/121. P. 44-45.
31 Ibid. «De degne pietre, si che molto vale: / tutte ha frontespicio e travicello, /che fanno de Verona il suo sigello».
32 См. об этом: Diederich T. Siegel als Zeichen stadtischen SelbstbewuBtseins // Visualisierung stadtischer Ordnung: Zeichnung, Abzeichen, Hoheitszeichen. Niimberg, 1993. S. 142-152.
33 О личности Сильвестра Ландо и о содержании и характеристике Пролога см.: Avesani R. Op. cit. Р. 99-104.
34 Varanini G.M. Statuten... S. 210-215.
35 Ibid. S. 214.
36 Marchi G.P. Forma Veronae. L’immagine della citta nella letteratura medioevale e umanistica // Ritratto di Verona. Lineamenti di una storia urbanistica / A cura di L. Puppi. Verona, 1978. P. 3-22, здесь p. 6-10.
37 Leges et Statuta Civitatis Veronae. Bibl. Civ. Inc. 1095, Ir.
38 VecchiatoL. Op. cit. P. 57-58; Marchi G.P Op. cit. P. 10; Предложения изменить печать относятся уже к 1443 г.; см. также: Stegagno G. Sulla probabile esisten-za di un piu antico sigillo di Verona ora perduto // Atti dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. Ser. VIA. 1949-1950. P. 1-6; Sancassani G. Nuove rive-lazioni sull’antico sigillo del Comune di Verona // Vita Veronese. 1951. Vol. 5. P. 2-3.
39 Vecchiato L. Op. cit. P. 57-58.
40 Gramaccini N. Op. cit. S. 224-237, с развернутой дискуссией. Его вывод по поводу нового рисунка печати «В конце концов снова победила церковь» (Ibid. S. 233; об этом ниже) является поверхностным, а учитывая характер лиц, ратовавших за новую печать, - юристов городского совета с канцлером во главе, -даже абсурдным. Скорее здесь историографической традиции сеньории Скали-геров, опиравшейся на античных и средневековых императоров и королей, оказалась противопоставлена иная точка зрения на прошлое, трактуемое как коммунальное.
41 Coma da Soncino. Op. cit. P. 49.
42 Gramaccini N. Op. cit., S. 227; ср. также введение в работе: Simeoni L. Veronae Rytmica Descriptio Ц Rerum Italicarum Scriptores. 1930. Vol. 2/1. P. VI; об иллюстрациях с монет у Мансионария в «Historia imperialis» см.: Haskell F. Die Geschichte und ihre Bilder. Die Kunst und die Deutung der Vergangenheit. Munchen, 1995. S. 37-38.
43 Simeoni L. Op. cit. P. 5; Marchi G.P. Op. cit. P. 7; перевод хвалы городу на итальянский в контексте описания средневекового города см.: Guidoni Е. Storia dell’urbanistica. Il Medioevo, secoli VI-XII. Firenze, 1981. P. 345-347.
358
44 Текст сопровождала иллюстрация, с которой братья Пьетро и Джироламо Баллерини сделали в 1765 г. копию; об этом см.: Biblioteca Capitolare Verona. Р. 224-225.
45 Цит. по: Marchi G.P. Op. cit. Р. 8.
46 Franzoni L. L’Anflteatro H Palladio e Verona. Verona, 1980. P. 63; это место находится: Lib. IV, cap. 56 «Leges et Statuta Civitatis Veronae», где вывоз камней объявляется наказуемым.
47 Corna da Soncino. Op. cit. Nr. 149-163. P. 55-60, здесь Nr. 161. P. 59.
48 Ibid. P. 56.
49 Цит. no: Biancolini G. Op. cit. Vol. 3: «In mezzo la Citta e un grande Anfiteatro, che dicono Г Arena, dove si veggono archi e molti segni di antichita, i quali tutti dimostrano chiaramente 1’antica ricchezza della Citta» (Ibid. P. 47); о Сабелликусе см. также: Vecchiato L. Vita politica... P. 70-72.
50 Graus F Funktionen der spatmittelalterlichen Geschichtsschreibung // Geschichtsschreibung und GeschichtsbewuBtsein im spaten Mittelalter / Hrsg. von H. Patze. Sigmaringen, 1987. S. 12-55, здесь S. 54. (Vortrage und Forschungen, 31).
51 «Tantum magna suo debet Verona Catullo, I quantum parva suo Mantua Vergilio» (Leges et Statuta Civitatis Veronae - Bibl. Civ. Inc. 1095, 2v); у Марциала: (Marcus Valerius Martialis), Apophoreta (Epigrammata, liber XIV), Teubner (ed. D.R. Shackleton Bailey, 1990). P. 453-488.
52 Leges et Statuta Civitatis Veronae (Bibl. Civ. Inc. 1095, 2v).
53 Об обстоятельствах путешествия см.: Fortini Brown P. Acquiring a Classical Past. Historical Appropriation in Renaissance Venice // Antiquity and its Interpreters / Ed. by A. Payne, A. Kuttner and R. Smith. Cambridge, 2000. P. 27-39; во многом идентичные пассажи см.: Fortini Brown Р. Venice & Antiquity. The Venetian Sense of Past, New Haven; L., 1996. P. 156-160; многие утверждения автора по поводу рассказа Санудо о Вероне неточны: так Санудо в Вероне не столько постигал античность или воображал ее себе благодаря сохранившимся памятникам, сколько по большей части цитировал соответствующие места из Пролога к городским статутам (Р. 13); использовано издание текста: Sanudo М. Itinerario per la terraferma nell’anno MCCCLXXXIIIIA cura di R. Brown. Padua, 1847.
54 Sanudo M. Op. cit. P. 96-97.
55 Ibid. P. 99.
56 «Sed demum del MC.C.C.C.IV venuta soto 1’imperio veneto, per suo beneficio et liberta, in mirabille e venuta incressimento et opulenta, e di giomo in giomo melgio si rinova»; p. 99: «et da quello giomo sempre in reputatione, cressimento, opulenta, di cita-dini adomata, et palazi si punlici qual privati magnifici, et territorio pieno» (Ibid. P. 97).
57 Ibid. P. 101; о развитии этой идеи в XVI в. см.: Tosi G. L’Arco dei Gavi // Palladio e Verona. Op. cit. P. 34-49.
58 Fortini Brown P. Acquiring...
59 К упомянутым надо добавить работы Торелло Сарайна: Saraina Т. De origine et amplitudine civitatis Veronae. Verona, 1540, а также Джованни Карото: С ar о to G. De le antiquita di Verona. Verona, 1560; новое издание с комментариями: idem. Le antichita di Verona con la riproduzione in facsimilie della edizione del 1560 di К Ravagnan / A cura di G. Schweikhart. Verona, 1977 (Collana di opere inedite о rare, 4), а также: Schweizer S. Die Stadt auf dem Papier. Ubertragungs- und Visualisierungsformen der Antike im friihneuzeitlichen Verona // Ubertragungen: Formen und Konzepte von Reproduktion in Mittelalter und Friiher Neuzeit / Hrsg. von b. BuBmann. B., 2005. S. 349-370. (Trends in Medieval Philology, 5).
60 Цит. no: Biancolini G. Op. cit. Vol. 3. P. 46-47.
61 Newman G. Veronese Architecture in Quattrocento. PhD Thesis. Cortauld Institute. University of London. L., 1979. P. 15.
359
62 О резиденции Скалигеров см.: Riedmann J. Verona als Residenz der Skaliger И Fiirstliche Residenzen im spatmittelalterlichen Europa / Hrsg. von H. Patze und W. Paravicini. Sigmaringen, 1991. S. 265-291. (Vortrage und Forschungen, 36).
63 Bianchi Р.А. Il comune e le signorie // Storia di Verona. Caratteri, aspetti, momenti / A cura di G. Zalin. Vicenza, 2001. P. 93-148, здесь 144.
64 Schweikhart G. Il Quattrocento: formule decorative e approcci al linguaggio classic© H L’Architettura a Verona nell’eta della Serenissima. Verona, 1988. Vol. 1. P. 7-9.
65 Oechslin IV. Der Porticus - architektonischer Typus ftir Offentlichkeit Ц Daidalos. 1987. Bd. 24. S. 44-49.
66 Витрувий, V, 1, 105; Леон Баттиста Альберти различает в своем трактате, написанном в 1450-е годы, финансовый рынок, овощной рынок, мясной и дровяной рынки, при этом собственно центр составлял финансовый рынок, см.: Alberti L.B. De re aedificatoria, VIII, 6 / Hrsg. von M. Theuer, Darmstadt 1991. S. 438 (перепечатка: Wien; Leipzig, 1912); это место торговли соответствует главному форуму, прямоугольному по периметру и предположительно окруженному двухэтажными портиками. Только Андреа Палладио во второй половине XVI в. удалось, вспомнив Витрувия, приспособить античный форум под современные нужды, см.: Schweizer S. Forum // Der Neue Pauly. Lexikon der Antike / Hrsg. von M. Landfester, Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Bd. 13. Sp. 1152-1162.
67 Schweikhart G. Op. cit. P. 10-15.
68 Первоначальное перекрытие величественной лестницы не сохранилось; см. исторические репродукции: Schweikhart G. Op. cit. Р. 12-13; одна гравюра XIX в. наводит на мысль, что первоначально задуманная форма крыши, которая должна была опираться на консоли балюстрады, не была воплощена в окончательном варианте, а вместо нее была построена временная замена.
69 Lane F.C. Venice. A Maritime Republic. Baltimore; L., 1973. P. 97; Kretschmayr H. Op. cit. Bd. 2. S. 112-116.
70 Schweikhart G. Op. cit. P. 13.
71 Zumiani D. Modelli di edilizia privata Veronese tra Gotico e Rinascimento: «case con cortile e scala a cielo aperto» Ц Edilizia privata nella Verona rinascimentale / A cura di P. Lanaro, P. Marini, G. M. Varanini e E. Demo. Milano, 2000. P. 307-325.
72 MuirR. Civic Ritual in Renaissance Venice. Princeton, 1981. P. 265-266.
73 Schweikhart G. Op. cit. P. 17 и далее.
74 Ibid. P. 18. Текст надписи передается следующим образом: ZACH. BAR EQ. VERO PRAEF. NON / NULLAS. IN AGRO. TRIS. IN. VRBE I ARC I ES INSTAVRAVIT. PRAETORIVM. HOC / SUBLICIUM. MARMOREUM. FECIT. FO / RVM. AMPLIAVIT CVRIAM. AEDIFICA / VIT. IN PENVRIA. ANNONAE. FAMEM / DEFENDIIT. IVS. OMNIBUS. DIXIT. EIUS. DI ISCESSVM. POPVLVS. LACHRYMIS. DE / CLARAVIMCCCCLXXVI. Надпись находится сейчас на юго-восточном фасаде, выходящем во двор.
75 Concina Е. Verona veneziana е rinascimentale // Puppi L. Michele Sanmicheli. Opera completa. Milano, 1986. P. 285.
76 Ibid. P. 65, 196.
77 Наряду с работой: Brenzoni R. La loggia del Consiglio Veronese nel suo quadro documentario // Atti dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. 1957/1958. Vol. 116. P. 256-307, я ориентировался на новейшее описание процесса строительства, основанное на повторном изучении документов: Burkart L. Die Stadt der Bilder. Familiale und kommunale Bildinvestition im spatmittelalterlichen Verona. Munchen, 2000. S. 130-149; к сожалению, Л. Буркарту неизвестна следующая работа: Zimmermann P.S. Urbanistik der Hochrenaissance. Das Beispiel Verona. Bergisch-Gladbach, 1991. S. 161-162, где описывается тот же процесс в урбани
360
стическом контексте; в остальном см. прежде всего остающиеся основополагающими труды по искусствоведческому определению и оценке стиля и функции: Schweikhart G. Op. cit. Р. 19-24, а также Newmann J. Op. cit. и Idem. Loggia del Consiglio I I Palladio e Verona. P. 122-123.
78 Concina E. Op. cit. P. 284; Вендрамин и подеста Дзаккариа Барбара состояли друг с другом в родственных отношениях.
79 Schweikhart G. Fassadenmalerei in Verona. Munchen 1973. S. 204—205. (Italienische Forschungen, 3. Folge, 7). Портретные головы и все другие наличествующие сейчас мотивы восходят к реставрационным работам 1922 г.
80 Burns Н. I monumenti antiche е la nuova architettura. Le antichita di Verona e 1’architettura del Rinascimento // Palladio e Verona. P. 103 и далее.
81 См. многочисленные примеры в работе: Wolters W Architektur und Ornament. Venezianischer Bauschmuck der Renaissance. Miinchen, 2000 S. 45-50 (и др. издания).
82 «...opus, quod dum quis lumine cemit Romanos arcus asimilasse putat» (Burkart L. Op. cit. S. 185).
83 См. статьи в работе: Michele Sanmicheli. Architettura, linguaggio e cultura artistica nel Cinquecento, C.I.S.A. «Andrea Palladio». Milano, 1995.
84 Newmann J. Op. cit. P. 123.
85 Burkart L. Op. cit. S. 174-189.
86 Peruzzi E. Fracastoro, Girolamo // Dizionario biografico degli Italiani. Vol. 49. Roma, 1997. P. 543-548.
87 Еще на один пример указывает Г. Швайкхарт: Schweikhart G. Fassadenmalerei. S. 236-239; снесенный в 1981 г. палаццо Мурари далла Корте был щедро украшен настенной живописью. На одной из его сторон также был цикл, посвященный знаменитым мужам. Наряду с античными авторами Вергилием и Плинием мы вновь обнаруживаем здесь Фракасторо и поэта Джироламо Верита.
88 Schweikhart G. Il Quattrocento... Р. 14—15.
89 Schweikhart G. Fassadenmalerei. S. 199.
90 См. об этом: Politische Architektur in Europa vom Mittelalter bis heute -Representation und Gemeinschaft / Hrgg. von M. Wamke. Koln, 1984. S. 14.
91 Burkart L. Op. cit. S. 150-161.
92 Cp.: Demo E. Op. cit. P. 153 и далее; в более широком контексте: «Regimen civitatis». Zum Spannungsverhaltnis von Freiheit und Ordnung in alteuropaischen Stadtgesellschaften Ц Stadtregiment und Biirgerfreiheit. Handlungsspielraume in deutschen und italienischen Stadten des Spaten Mittelalters und der Friihen Neuzeit / Hrsg. von U. Meier und K. Schreiner. Gottingen, 1994. S. 11-34, особенно 12-16. (Burgertum. Beitrage zur europaischen Gesellschaftsgeschichte, 7).
93 Varanini G.M. Nuove Schede... P. 248-255; в гёттингенском издании этот пассаж звучит следующим образом: «ad requisitione(s) / & expesa(s), providorum virorum Antnoni / Gerardi / loanis / Petri I et Bartholomei fratru I & filiorum quonda(s). S. Zanoti de Placentia / ciuus veronae no atramento I nec plumali calamo / neq(s) stillo aereo».
94 Цит. no: Schreiner K. Sozialer Wandel im Geschichtsdenken und in der Geschichtsschreibung des spaten Mittelalters // Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein... S. 237-286, здесь 265.
А.П. Шевырев
ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА: ДВЕ СТОЛИЦЫ, ДВА ОБРАЗА ВЛАСТИ
Первейшая функция любого столичного города - быть резиденцией и репрезентацией государственной власти. Вне зависимости от того, совмещает ли столица эту функцию с другими функциями центра (финансового, торгового, промышленного, культурного, научного, образовательного и т.д.), власть так или иначе демонстрирует свое присутствие и свой приоритет в таком городе. Любой житель или гость столицы ощущает это присутствие, как символическое, так и физическое.
В столице относительно высока вероятность встреч с носителями власти, и хотя сами носители могут быть и не видны за бронированными затемненными стеклами, тем не менее такие встречи являются живым доказательством их реального, а не мифического существования. Власть в столице имеет персонифицированный образ, пусть даже этот образ является в виде автомобиля, кареты, поднятого штандарта, негаснущего света в окне. Жители столицы обладают, таким образом, привилегией близости к власти и ощущения ее реальности.
Более широко власть проявляет себя в столице с помощью своих атрибутов и символов. Названия зданий, улиц или кварталов, где располагаются резиденции верховной власти или ее институтов, служат порой политическим обозначением всей страны или отдельных отраслей ее управления. В столице эти символы локализованы в образе реальных зданий, а также уличной жизни вокруг этих зданий. Их архитектура, помимо выражения стилевых особенностей места и времени сооружения, свидетельствует весьма образно и о способах репрезентации власти. Эмблемы власти широко используются для украшения правительственных зданий, и эти эмблемы становятся привычным элементом столичной архитектурной среды.
Выразительным средством формирования и развития образа власти являются городские монументы, текст которых остается неизменным порой на протяжении столетий, но при этом может модифицироваться в соответствии с политическими и социальными потребностями. Монументы, воздвигаемые в разные эпохи и разными политическими силами, иногда перемещаясь в городском простран
362
стве, могут формировать довольно сложный дискурс о власти. Но, обладая длительным эффектом воздействия, они способны поддерживать континуитет власти даже в тех случаях, когда власть этого не желает. Постперестроечные проблемы с советскими монументами как раз отражают ситуацию неопределенности с преемственностью власти в Российской Федерации.
До появления аудиовизуальных средств массовой информации власть должна была регулярно демонстрировать себя в публичных церемониях, которые становились частью повседневной жизни столицы. В Российской империи подобные церемонии отличались высокой степенью ритуальности, поскольку, по мнению Р. Уортмана, «русские правители и их советники считали символику и образность церемоний насущно необходимыми для осуществления власти»1. Даже в частных прогулках по городу, которые были обычными до 1879 г., т.е. до того как они стали небезопасными, монархи следовали определенным поведенческим сценариям. Присутствие власти придавало столичной жизни высокий уровень театральности.
Ритуальность церемоний, равно как и повседневной столичной жизни, в значительной степени определяется участием в ней армии. Ее видимое присутствие в столице во многом отражает уровень милитаризации власти. Армия является одним из наиболее эффективных институтов репрезентации власти, и ее присутствие даже на протокольных церемониях возвеличивает власть и ее носителей. С другой стороны, она заметно повышает степень ритуальности городской жизни, в особенности если является институтом «публичным, легко обозреваемым, логично и прочно входящим в жизнь города»2.
Столичный город служит для власти той сценой, с которой она репрезентирует себя народу и элите, иностранцам и соотечественникам. Сцена эта декорируется под тот образ, которым власть хочет себя представить. Но она сама способна воздействовать на поведенческие установки власти. Эти свойства столичной среды хорошо заметны в случае существования нескольких городов, в которых верховная власть регулярно себя репрезентирует. В Российской империи с 1712 г., т.е. с переезда монарха, двора и правительства в Петербург, существовало две столицы, похожих друг на друга лишь высокой населенностью. И каждая из них давала свое представление о том, как выглядит власть, и по-своему влияла на то, как ведет себя власть.
Место власти
Санкт-Петербург был основан в довольно удаленном северо-западном углу страны. Связь столицы с остальной страной в результате переноса ее к берегам Балтики удлинилась на время, необходимое для перемещения из древней столицы в новую. В Петровскую эпоху это расстояние, по опыту иностранных посланников, преодо
363
левалось за 4—19 дней3. Более столетия понадобилось Петербургу, чтобы установить пути сообщения с остальной страной, и к середине XIX в. реки и каналы, шоссе и железные дороги соединили Петербург с Москвой, Волгой и с крупнейшими городами западных губерний и Польши. На протяжении XVIII - первой половины XIX в. национальная коммуникационная система строилась в значительной степени с ориентацией на Петербург.
Российская железнодорожная сеть также начала развиваться из Петербурга. Первая дорога связала с ним Царское Село, за ней последовала железная дорога на Москву, началось строительство линии на Варшаву и тогда же проектировалась железная дорога из Петербурга на Рыбинск4. Таким образом, Николаевская железная дорога была все же скорее дорогой из Петербурга в Москву, нежели линией, соединившей две столицы. Однако с 1860-х годов конфигурация железнодорожной сети стала меняться, в результате чего центром ее стала Москва.
В российской коммуникационной системе Петербург всегда имел лучшие пути сообщения с Великим княжеством Финляндским, прибалтийскими губерниями, Царством Польским, чем с собственно русскими губерниями. Согласно железнодорожному расписанию 1912 г., путь курьерского поезда от Петербурга до Варшавы занимал всего 18 часов, тогда как из Москвы до столицы Царства Польского поезд шел 24 часа5. Удобным было и сообщение Петербурга с европейскими странами, причем как по морю, так и по суше.
Несмотря на быстрые урбанизационные процессы в Петербурге в XIX в. и сохранение столицей статуса первого по населенности города империи, местность вокруг него оставалась малонаселенной. Уезды, окружавшие Петербург на расстоянии 300 км, насчитывали в 1897 г. 3,71 млн чел., в то время как в таком же радиусе вокруг Москвы проживало 9,42 млн чел.6
Удаленное положение столицы способствовало закреплению за ней имиджа «чужеродной» власти. Этот имидж определялся уже пространственным образом страны, когда при «смещении центра государства на северо-западную границу» «“своя земля” (...) оказалась позади, а впереди, за морем, маячили европейские “политичные” страны»7. За сменой столиц последовала и смена монаршего титула, и Петербург стал резиденцией Императора, а этот титул воспринимался как термин иноземного происхождения и употреблялся в основном в официальном языке. Общим местом было и третирование столичного чиновничества как бездушной бюрократии, отстоявшей далеко от реального понимания народных нужд, а самой столицы как города, бесполезного для страны.
В сознании славянофилов Петербург представлялся как «заграничная столица России». «Петербург поставлен на самом краю неизмеримого Русского государства, - писал Константин Аксаков
364
в 1856 г., - Петербург находится не только не в средине государственного племени, не только не среди Русского народа, но совершенно вне его, среди племени Финского, среди Чухон»8. А влюбленный в свой родной город художник А.Н. Бенуа испытывал комплекс отчужденности вследствие того, что привык слышать: «Ты чужой для настоящей России». Он писал, что Петербургу суждено было играть неблагодарную и неэффектную роль в русской истории -«служить ей уздой или рулем»9. И хотя тезис о чужеродности Петербурга многократно оспаривался в дискурсе столиц в XIX в., апологет Северной столицы В.М. Гаршин имел все основания считать более распространенным мнение о Петербурге как о «болотном, немецком, чухонском, бюрократическом, крамольническом, чужом городе» и замечать, что «привыкли говорить у нас в том смысле, что-де (...) Петербург - искусственное насаждение и искусственно питаемое растение, (...) паразит, выросший на счет народного пота»10. Другой апологет Петербурга, автор одного из лучших путеводителей по городу, И.И. Пушкарев оспаривал еще одно распространенное мнение о столице: «Говорят, что Петербург по местоположению своему никогда не будет главным городом России (la capitale), что ежели Двор оставит навсегда Петербург и переселится в Москву, то он опустеет, останется обыкновенным портовым городом и наверное станет ниже Риги»11.
С тех пор как в 1712 г. монарх, двор и правительство переехали в Петербург, Москва сохраняла за собой статус второй столицы. К моменту основания Петербурга Москва была из всех столиц самой удаленной от границ страны. После подписания Андрусовского перемирия в 1667 г. граница с Речью Посполитой прошла на расстоянии около 450 км от нее, а после второго раздела Польши ближайшим к Москве пограничным пунктом стал удаленный на 650 км Петербург. Однако расположенная в центре коммуникационной системы страны, она укрепила свое центральное положение в течение XIX в., причем во многом благодаря своей коммуникации с Северной столицей. Обширные территории страны, за исключением западных и северо-восточных губерний, не имели иной связи с Петербургом, как через Москву. В начале XX столетия Москва была настоящим Центром национальной железнодорожной сети: от Первопрестольной расходилось 11 магистральных линий, которые связывали ее с 12 портами на Балтийском, Черном и Азовском морях, с 7 портами на Волге, а также с Северным Кавказом, Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Благодаря Окружной железной дороге все эти линии были связаны в единый транспортный узел, грузооборот которого составлял около 12% всех железнодорожных перевозок страны12.
«Из русской земли Москва выросла и окружена русской землей, а не болотным кладбищем с кочками вместо могил и могилами вместо кочек», - предсказывал в 1908 г. возрождение Первопрестоль
365
ной Дмитрий Мережковский. Москва воспринималась в народном сознании как народная столица, как Царский город. Она играла особую роль в отношениях монарха со своей страной.
Даже космополитичный Александр I становился здесь Царем, хотя этот титул совершенно не шел ему. Когда он чувствовал необходимость народной поддержки, он появлялся в Москве. Именно в Первопрестольной он принял на себя роль национального вождя, когда Наполеон вторгся в пределы России.
Николай I ввел новый ритуал общения с народом, и этот ритуал исполнялся только в Москве. Это был троекратный поклон с Красного крыльца в Кремле. А его визиты в Москву стали «главным выражением национального энтузиазма»13, как пишет в своей книге о сценариях власти в России Ричард Уортман.
Для Александра II Москва была родным городом: он родился в Кремле, в Архиерейском доме, и, по его собственному признанию, она была дорога ему и как древняя столица, и как собственная колыбель14. В 1850—1860-е годы император практически ежегодно бывал в Москве и иногда отдыхал в подмосковном Ильинском. Именно во второй столице Александр II впервые заговорил перед дворянством о необходимости освобождения крестьян вскоре после своего вступления на престол.
При Александре III Москва была выбрана в 1882 г. в качестве места заседания несостоявшегося Земского собора по проекту графа Н.П. Игнатьева, но в конечном счете все-таки Петербург стал в 1906 г. резиденцией Государственной думы, парламента с русским названием, предложенного еще столетие тому назад петербургским чиновником М.М. Сперанским. Дума предоставляла Императору возможность услышать голос народных представителей, а Москва оставалась столицей, где Царь мог общаться с народом прямо, без чьего бы то ни было посредничества.
Пространство власти
Каждая столица обладает видимыми знаками резиденции государственной власти. В XVI-XVII вв. Москва как столица России концентрировала большую часть таких знаков в Кремле. Это и Кремлевский дворец - резиденция царя и его семьи, Патриаршие палаты, Грановитая палата, где проходило большинство официальных церемоний, Успенский собор, главный кафедральный храм страны, Архангельский собор, царская усыпальница; большинство приказов также располагалось в Кремле. Знаки власти за пределами Кремля были представлены другими приказами, а также множеством монастырей, посещаемых царем и боярами.
Петербург строился как открытый город. Он был основан во время Северной войны, и его защиту обеспечивали фланкировав-
366
Ил. 1. А. Шарлемань. Вид на Английскую набережную в Санкт-Петербурге (1850-е годы)
шие фарватер Невы Санкт-Петербургская (Петропавловская) и Адмиралтейская крепости и прикрывавший город с моря Кроншлот. Однако городская структура лишь в первые годы развивалась в пределах крепостных стен, в результате чего в крепости оказался Петропавловский собор, колокольня которого стала центральной вертикалью города («городской башней»15), а сам собор еще в ходе строительства обрел значение усыпальницы царской фамилии. Однако в конце концов под крепостной защитой оказались лишь промышленные объекты - Адмиралтейская верфь и Монетный двор, а также тюрьма для государственных преступников.
Пространство резиденции государственной власти было довольно обширным в этом городе. Изначально даже царская резиденция была удалена от официального государственного центра16. К XIX в. правительственный центр стал, правда, более компактным по сравнению с петровским временем. По крайней мере, все правительственные здания перебрались на левый берег Невы и сконцентрировались близ Зимнего дворца - резиденции монарха. Но если говорить о пространстве власти в целом, оно охватывало весь город. Пространство власти может быть разбито на несколько субпространств (см. вкл. I):
Императорское пространство, т.е. пространство, где монарх мог быть регулярно встречаем на улице. Монаршие передвижения
367
по городу были хорошо заметны его обитателям благодаря явственным атрибутам его экипажей. «Придворные кареты отличались золотыми коронами на фонарях, - вспоминал М.В. Добужинский, -а кучер, одетый по-русскому, всегда был украшен медалью, и издали уже было видно, что мчится кто-то из царской фамилии. Городовые тогда подтягивались, и на перекрестках движение сразу останавливалось»!7. Привычные маршруты частых визитов императоров пролегали от Зимнего дворца на юго-запад, где они могли посещать правительственные здания, Исаакиевский собор, Большой и Мариинский театры; на северо-запад - на Васильевский остров, где объектами визитов были Морской и Первый кадетский корпуса, Академия художеств, Академия наук; на север - в Петропавловскую крепость и далее на Острова, где размещались летние резиденции; на северо-восток - для прогулок в Летнем саду или в Смольный институт; на юго-восток - вдоль Невского проспекта в Аничков дворец, бывший в отдельные периоды истории резиденцией наследника престола, на Московский вокзал и в Александро-Невскую лавру; на юг - при отправлении в загородные резиденции и на вокзалы. Помимо этого, большинство монархов почти ежедневно посещали разводы войск, происходившие в разных частях города.
Правительственное пространство, где циркулировал официальный Петербург. Большинство правительственных зданий располагалось в центральной части города, а наивысшая их концентрация была в кварталах между Зимним дворцом и Сенатом. Здесь размещались Государственный совет (в Зимнем, а затем в Мариинском дворце), Сенат и Синод, военное и морское министерства, Главный штаб, министерства иностранных дел, государственных имуществ, финансов, юстиции. Границей официального Петербурга служила Фонтанка, на берегах которой стояли здания министерств внутренних дел, народного просвещения, императорского двора и путей сообщения, а также III Отделение Собственной Е.И.В. Канцелярии (а после его упразднения - Штаб Корпуса жандармов).
Военное пространство - казармы, штабы, манежи, конюшни, арсеналы, цейхгаузы, плацы, гауптвахты, госпитали и другие сооружения, в которых квартировали дислоцировавшиеся в столице гвардейские части и военно-учебные заведения. В это пространство довольно равномерно был включен весь город. В самом центре столицы, в пределах Адмиралтейской, Казанской и Спасской частей, располагались казармы Павловского, Конного, 1-го батальона Преображенского полка, 8-го флотского экипажа, Главный военный суд, Штаб Гвардейского корпуса, Академия Генерального штаба, Николаевская инженерная академия, Пажеский корпус. Здесь же располагался главный плац гарнизона - Марсово поле. Военные части дислоцировались на Васильевском и Петербургском островах, на Выборгской стороне, во всех частях левобережного Петербурга.
368
Культурное пространство, где пересекались другие субпространства. В него входили как объекты, находящиеся под эгидой императорской власти, так и места регулярного внеслужебного посещения официального Петербурга. Это театры, музеи, библиотеки, ученые и высшие учебные заведения, а также храмы и монастыри. Все Императорские театры (Большой, Мариинский, Александрийский, Михайловский, а также Певческая капелла), музеи (Эрмитаж, Русский, Румянцевский) и Публичная библиотека находились в центре города. В пределах между Невой и Фонтанкой сосредоточивалась культурная жизнь столицы, и особая роль в этой жизни принадлежала театрам, ежедневно собиравшим в своих стенах представителей петербургской элиты. Ученые и учебные заведения размещались практически во всех частях города, за исключением Коломенской, но концентрировались главным образом на Васильевском острове (Академия наук, Академия художеств, Санкт-Петербургский университет, Горный институт, два кадетских корпуса). Наконец, к числу наиболее посещаемых официальным Петербургом церковных заведений относились располагавшиеся в центре города Исаакиевский и Казанский соборы, Петропавловский собор в крепости и находившаяся почти на окраине Александро-Невская лавра. Немалую роль в церковной жизни Петербурга играли и многочисленные полковые соборы, возведенные в местах квартирования соответствующих полков.
Эти субпространства накладывались друг на друга не только в центре, но и распространялись на большую часть города, и встречи с носителями и знаками императорской власти были довольно частыми как для жителей столицы, так и для ее гостей.
В Москве пространство власти существенно расширилось с тех пор, как она утратила свой статус единственной столицы (см. вкл. II). Кремль сохранил за собой место центра власти, однако императорское и правительственное пространства развивались далеко за его пределы, прежде всего в направлении Петербурга -вдоль Тверской улицы.
Во время приездов монархов в Москву они останавливались в Кремле или в Петровском замке, и соединявшая эти две резиденции Тверская улица, вместе с продолжавшими ее Тверской-Ямской и Петербургским шоссе, стала главной осью Первопрестольной. Именно по этой оси совершался торжественный въезд монарха в столицу для коронации. Напротив Петровского замка располагалось Ходынское поле - место народных гуляний во время коронаций. На Тверской стояли Триумфальные ворота, на ее пересечении с бульварами был поставлен главный памятник Москвы - памятник А.С. Пушкину, на ней располагался губернаторский дворец.
В императорское пространство Москвы за пределами этой оси входили прилегающие к Кремлю кварталы, Нескучный сад, где
24 Образы власти
369
Ил. 2. Ж.-Б. Арну (старший). Вид на дом генерал-губернатора в Москве. Середина XIX в.
находилась еще одна императорская резиденция - Александрийский дворец, а также маршруты посещения Благородного собрания, казарм в Лефортове, московских святынь - наиболее чтимых храмов и монастырей. Вся официальная Москва умещалась в пределах Бульварного кольца, где располагались помимо губернаторского дворца Присутственные места и Городская дума, и самого Кремля (здание Сената, в котором после упразднения московских его департаментов разместились судебные установления). Военная же Москва была рассредоточена по окружности города, за пределами Садового кольца (Николаевские казармы на Ходынском поле, Спасские, Саперные в Сокольниках, Крутицкие, Александровские у Серпуховской заставы, Хамовнические), а военный центр Москвы находился в Лефортове, где размещались Алексеевское военное училище, три кадетских корпуса, Красные и Фанагорийские казармы, Военный госпиталь, военная тюрьма. Внутри Садового кольца располагались лишь Кремлевские и Покровские казармы, штабы Московского военного округа и Гренадерского корпуса, Александровское военное училище. Что же касается культурного пространства, то оно охватывало Кремль, Красную площадь и вытягивалось главным образом вдоль северо-западной стены Кремля, где размещались храм Христа Спасителя, Музей им. Александра III, Румянцевский музей, Московский университет, Исторический музей, Большой и Малый
370
театры. Особое место в московском пространстве власти занимали монастыри, в основном те из них, которые были связаны с царской династией: Чудов и Вознесенский в Кремле, Петровский, Новоспасский, Новодевичий, Донской. Посещения их, равно как и молебны в Иверской часовне, входили в программу монарших визитов в Москву и тем самым включали их в пространство власти.
Значительно расширив свои границы в императорский период своей истории, Москва тем не менее сохранила высокую концентрацию знаков власти в замкнутом пространстве внутри кремлевских стен. А некоторые субпространства власти сосредоточились в несколько удаленных районах города: военный центр оказался в Лефортове, а несколько монастырей-святынь выстроились вдоль городской границы. Обширные городские территории при этом были лишены каких-либо знаков власти вовсе.
Архитектура власти
Императорская власть в Петербурге запечатлела свой величественный образ в архитектурных формах. Центром его стала Дворцовая площадь, где резиденции императора противостояли огромная «подкова» Главного штаба и одинокая колонна с ангелом на вершине. Дворцовая площадь продолжалась цепью широких площадей, которые служили великолепной сценой для проведения парадов.
Большинство государственных зданий было сооружено в стиле ампир, ставшем стилем самого города. Это была эпоха Александра I, эпоха ампира, когда «город приобрел тот “имперский” вид, который определяет его характер, по крайней мере центра, и по настоящее время»18. Знаменитые ансамбли города были возведены (или спланированы) в царствование Александра I. За исключением Биржи, все они формировались зданиями, представлявшими императорскую власть: Главный штаб, Адмиралтейство, Сенат и Синод, Исаакиевский и Казанский соборы, Михайловский дворец, Александрийский театр, Публичная библиотека, Горный институт. С этого времени желтый цвет стал внешним признаком большинства правительственных зданий, а также казарм и других государственных учреждений. Ампир по сей день доминирует в Петербурге, и хотя архитектурная среда города представлена разными стилями, позднейшие здания лишь формируют окружение желтых зданий с белыми колоннами, подстраиваясь под главенствующий в городе стиль империи.
Даже Зимний дворец стал в конечном счете красочным дополнением к чопорному ансамблю правительственных зданий. Императорская фамилия могла позволить себе довольно широкий спектр цветов для украшения своих дворцов: зеленый, красный, бежевый, коричневый, серый, а также желтый. И эти красочные дворцы бы-
371
Ил. 3. А. Шарлемань. Вид на Михайловский дворец со стороны площади (1850-е годы)
ли возведены в наиболее живописных местах города: вдоль Невы (Мраморный и Ново-Михайловский дворцы и дворец вел. кн. Владимира Александровича), в пространстве широких площадей (Мариинский, Николаевский, Михайловский дворцы) или в окружении прекрасных парков и садов (Михайловский дворец и Михайловский замок).
Дворцы императорской фамилии, правительственные здания, гвардейские казармы играли ключевую роль градостроительных центров в Петербурге. В своем большинстве они стояли на площадях, и площадь в Петербурге была форумоподобным пространством, а не многолюдным перекрестком. Ширина улиц русских городов была достаточна для того, чтобы вместить в себя рутинные людские потоки, поэтому площади в них играли почти исключительно роль торговых центров или общегородских пространств. Количество площадей в Петербурге с лихвой превышало общественные и экономические потребности города, даже столичного, и их роль была главным образом репрезентативной. «Архитектура, по выражению Е.И. Кириченко, - самое государственное из всех видов искусств», и Петербург был ярким образцом того, как «архитектурно-градостроительное развитие городов (...) превращается в дело первостепенной важности, планируется, регулируется и контролируется государством»19.
372
Ил. 4. Б. Патерсен. Исаакиевская площадь, часть Исаакиевского собора и Адмиралтейства (1810-е годы)
Московская архитектурная среда в значительной степени также формировалась в эпоху ампира. Пожар 1812 г. почти полностью уничтожил город, и Москва была восстановлена в течение нескольких лет после войны. Именно в это время в Москве и появились многочисленные ампирные ансамбли и отдельные ампирные дома.
Кремль оказался в окружении новой архитектурной среды. Александровский сад, один из первых публичных садов в России, был заложен у подножия древних крепостных стен, а с другой стороны был фланкирован замечательным зданием Манежа. Красная площадь получила огромное здание Торговых рядов и первый в Москве скульптурный монумент - Минину и Пожарскому. На месте заключенной в трубу реки Неглинной были заложены новые площади - Театральная и Воскресенская.
Центр города получил тогда современный вид благодаря таким прекрасным ампирным сооружениям, как Манеж, Московский университет, Присутственные места, Большой и Малый театры. Они выстраивались в линию вдоль древних кремлевских и Китайгородских стен и представляли официальную Москву. Дома в ампирном стиле сооружались в эти годы по всей Москве.
Но за исключением нескольких официальных и публичных зданий, таких как казармы, институты, больницы, этот стиль был представлен в Москве более скромными, чем в Петербурге, зданиями.
373
Ил. 5. Неизвестный художник. Красная площадь в Москве (1820-е годы)
Ил. 6. О. Бове. Москва. Большой театр (1825)
374
Огромные желтые сооружения смотрелись здесь как посланники из Петербурга среди низкой застройки частных домов, окрашенных в розовые, голубые, бежевые, палевые, серые и другие цвета. Ключевую же роль в городской застройке играли монастыри, церкви и их колокольни.
В середине XIX в. в Кремле появилось два здания, построенных в новом - византийском стиле: Большой Кремлевский дворец и Оружейная палата. Кремлевский ансамбль получил свое завершение и приобрел значение религиозного центра страны и императорской резиденции. Теперь желтые здания дворцов, Сената, Арсенала и Императорского музея окружали древние кремлевские соборы и монастыри.
К концу XIX в. Москва пополнилась целым рядом сооружений, построенных в византийском или русском стилях. Храм Христа Спасителя, Исторический и Политехнический музеи, Городская дума, новые здания Торговых рядов удачно соотносились с образом Москвы как древней столицы и православного центра России. В эти же годы русский стиль ищет своего воплощения и в Петербурге и находит его главным образом в храмовой архитектуре. Но вряд ли можно согласиться с Е.Й. Кириченко в том, что церковное строительство второй половины XIX в. «превращает Петербург в то, чем он до сих пор не был - в поистине православную столицу империи, идеологический центр православия20». Думается, что власть лишь претендовала на это, возводя в русском стиле мемориальные (церковь Воскресения Спаса на Крови) или полковые храмы, однако православным центром империи северная столица так и не стала. Новые храмы дисгармонировали с уже сложившейся застройкой и выглядели чужеродными вкраплениями в ампирную среду.
В отличие от Петербурга, здания в русском стиле составили в Москве серьезную конкуренцию ампирным сооружениям, тем более что сохранить ампирные ансамбли практически не удалось: очень скоро они стали перестраиваться и оказывались в окружении хаотической и эклектичной застройки. Обращение к русскому стилю сделало центр Москвы «самым ярким и одновременно уникальным в масштабах России выражением русской идеи, подобно тому как центр Петербурга был и остается уникальным по своей грандиозности и совершенству примером воплощения государственной идеи»21.
Памятники
К 1818 г., когда первый скульптурный монумент был воздвигнут в Москве, в Петербурге было уже три памятника: два посвященных Петру Великому и один - А.В. Суворову. Еще один памятник в виде обелиска был воздвигнут в честь П.А. Румянцева.
375
Ил. 7. О. Монферран, П. Клодт Памятник Николаю I в Санкт-Петербурге. 1856-1859 гг.
Ил. 8. П. Трубецкой Скульптура памятника Александру III в Санкт-Петербурге. 1909 г.
С этого времени ландшафт обеих столиц пополнился множеством знаков исторической памяти. Но мемориализация прошлого в Петербурге происходила более интенсивно, чем в Москве. В царствование Николая I была воздвигнута Александровская колонна на Дворцовой площади в память Александра I, сооружены Нарвские и Московские триумфальные ворота, колонны Славы на Конногвардейском бульваре, перед Казанским собором были поставлены памятники М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли, а в Летнем саду - монумент И.А. Крылову. Александр II отдал дань своему отцу блестящим памятником перед Исаакиевским собором и пополнил петровиану двумя монументами. Он отметил также память своей прабабки Екатерины Великой, адмирала И.Ф. Крузенштерна, основателя Воспитательного дома И.И. Бецкого и лейб-медика и президента Медико-хирургической академии Я.В. Виллие. За короткое время царствования Александра III появились памятники Александру II, М.Д. Скобелеву, принцу П.Г. Ольденбургскому, М.В. Ломоносову, Н.М. Пржевальскому, А.С. Пушкину, В.А. Жуковскому, а также колонна Славы в память подвигов гвардии в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. При Николае II были воздвигнуты еще три памятника Петру I, памятники Александру III (на Знаменской площади и перед казармами Новочеркасского полка), вел. кн. Николаю
376
Николаевичу, К.К. Гроту, С.П. Боткину, Н.В. Гоголю, по два памятника М.Ю. Лермонтову и М.И. Глинке; два монумента были посвящены героям Русско-японской войны: миноносцу «Стерегущий» и экипажу броненосца «Александр III».
Петербург большей частью прославлял имперскую власть, возводя монументы императоров и военачальников. Из общего числа скульптурных памятников, существовавших в городе к началу Первой мировой войны, 12 посвящены монархам (особой любовью в городе пользовался его основатель - всего в Петербурге было установлено 7 памятников Петру I), 2 - государственным деятелям, 7 - военачальникам и флотоводцам и 11 - поэтам, ученым и композитору, причем среди последних трое были военными (Виллие, Пржевальский и Лермонтов, один из двух памятников которому был сооружен Николаевской кавалерийской академией).
Все памятники монархам представляют их как императоров, а не царей. Наиболее репрезентативные монументы представляют собой конные статуи, исключение было сделано для Екатерины II и
Ил. 9. А. Опекушин, П. Жуковский, Н. Султанов.
Памятник Александру II в Москве. 1898 г.
377
Александра I. Петр Великий представлен либо в римской тоге, либо в своей повседневной, «рабочей» одежде, Николай I - в военном мундире своего времени. Александр I аллегорически изображен в виде ангела, а Екатерина II - в окружении своих сановников и полководцев. Некоторые сомнения существуют относительно образа Александра III, поскольку многие критики воспринимали памятник на Знаменской площади как карикатуру: царь действительно выглядит как простой мужик. Но с другой стороны, его демонстрирующий силу образ труженика довольно динамичен, несмотря на статичность всей композиции.
Москва после открытия памятника Минину и Пожарскому более чем полстолетия не видела новых. Только в 1876 г. перед Университетом был воздвигнут памятник М.В. Ломоносову, а в 1880 г.
Ил. 10. А. Опекушин, А. Померанцев. Памятник Александру III в Москве. 1912 г.
378
произошло событие национального масштаба - открытие памятника А.С. Пушкину. При Александре III появился только один монумент - гренадерам, павшим под Плевной. Но царствование Николая II оказалось довольно плодотворным. При нем в Москве были сооружены первые памятники монархам - Александру II и Александру Ш. Были воздвигнуты также монументы, посвященные вел. кн. Сергею Александровичу, Н.И. Пирогову, доктору Ф.П. Гаазу, Н.В. Гоголю, первопечатнику Ивану Федорову, генералу М.В. Скобелеву.
Московские памятники символизировали главным образом национальную, а не имперскую славу. Из московских монументов только два были посвящены монархам, один - государственному деятелю, два прославляли военное прошлое и шесть отмечали деятелей науки и культуры. Особняком стоит первый московский монумент. Он посвящен освобождению Москвы от поляков в 1612 г. и отлит в классицистическом стиле. Риторика памятника скорее национальная, нежели имперская. Гражданин Минин обращается к князю Пожарскому с призывом освободить Москву, а не восстановить монархию. Новая династия Романовых здесь даже не подразумевается.
И Александр И, и Александр III представляют в своих позах и одеждах образ Царя. Оба изображены в мантии, Александр II стоит под сенью, а Александр III увенчан короной и восседает на троне. Статичностью фигур они резко контрастируют с петербургскими статуями. Оба памятника были снесены после революции, в то время как большинство памятников монархам в Петербурге было сохранено, хотя бы даже за счет отправления в ссылку во двор Русского музея, как поступили с монументом Александру III. Московские же цари были слишком слащавыми.
Церемонии
Официальные церемонии составляли существенную часть петербургской повседневной жизни. Все императоры, за исключением Александра III, были частыми участниками вахт-парадов, зачастую происходивших в открытом пространстве городских площадей и привлекавших внимание многочисленной публики.
Годичный цикл городской жизни был наполнен регулярными Церемониями, связанными с такими памятными днями императорской фамилии, как дни рождения, тезоименитства, годовщины вступления на престол и коронаций. Другие церемонии были связаны с разного рода текущими событиями: рождениями, свадьбами или похоронами. Практически каждый день императоры, императрицы, великие князья и княгини посещали академии, училища, институты, больницы, заводы, верфи по случаям годовщины, закладки фундамента, открытия, выпуска, спуска на воду и т.д.
379
Величественные церемонии происходили в дни орденских праздников, и пышно отмечались полковые праздники Гвардии. В Петербурге даже церковные праздники сопровождались военными парадами и благодаря этому обретали государственный образ. Пространство петербургских церемоний было довольно обширным и хорошо видимым: расходясь радиусами от Зимнего дворца, оно охватывало почти весь город. Многие церемонии сопровождались музыкой военных оркестров и салютами.
Эстетическое воздействие этих церемоний было довольно сильным. Многие мемуаристы с восторгом вспоминают о тех чувствах, которые они испытывали, присутствуя на этих церемониях. А.Н. Бенуа вспоминал о своих детских впечатлениях от выступления военного оркестра, проходившего мимо его дома: «Сколько тут было золота и серебра, как эффектны были расшитые золотом литавры... А как величественно прекрасен был гигант тамбур-мажор, шествовавший перед полковым оркестром»22. А финский писатель и художник Тито Коллиандер писал о своем детстве в мемуарах: «Однажды я видел на Марсовом поле царя. В тот день вся огромная площадь была полна солнца и блеска. Она была покрыта стройными рядами войск... Не знаю, отчего колотилось тогда мое сердце. Может быть причиной было мое глубокое преклонение перед всем военным? Или мысль о том, что могу собственными глазами видеть царя, хотя бы издали, среди моря верных солдат?.. Но возбуждали меня как повседневные мучительные переживания на Марсовом поле, так и тот торжественный вид, под магической властью которого я в тот момент находился»23.
Московские церемонии были большей частью церковные церемонии, и по контрасту с Северной столицей московский официальный мир на этих церемониях выражал скорее религиозную, нежели имперскую идею. Военные парады не были таким повседневным явлением, как в Петербурге. Они происходили в памятные дни императорской фамилии, по полковым праздникам и по случаю прибытия императора или членов династии в Москву. Но зачастую они происходили в закрытом пространстве Кремля или на полковых плацах за пределами городского центра.
Армии не было видно на московских улицах. Полковые оркестры могли быть слышны только у казарм, и по праздникам они играли в публичных садах. А военные церемонии по случаю пребывания императора в Москве происходили в замкнутом пространстве Кремля или в Лефортове.
Московскую повседневную рутину нарушали церковные праздники. Крестные ходы были частыми и порой весьма многолюдными. Календарь 1826 г. насчитывал около 30 таких церемоний, правда, половина из них не выходила за пределы Кремля. Остальные большей частью ограничивались территорией вокруг Кремля:
380
Ил. 11. Л. Беггров. Большая Морская. 1903 г. (фрагмент)
Ил. 12. Дворцовая охрана в Кремле. Почтовая открытка. 1900-е годы
381
набережной Москвы-реки, Красной площадью, Китай-городом, и лишь пять раз в году крестные ходы следовали через весь город: в Сретенский (дважды), в Новодевичий, в Донской монастыри и на Воронцово поле - в церковь Ильи Пророка24. Церковные церемонии в Москве имели мало общего с репрезентацией власти. Здесь скорее власть репрезентировала церковь. Церковные парады войск были лишь два раза в году - на Богоявление и в начале октября -в память избавления Москвы от французов. Да и монархи в Москве значительно больше времени, чем в Петербурге, проводили на церковных службах.
Москва была местом главной церемонии страны - коронации. Эта церемония была уникальной для каждого монарха, а ее сакральное значение - наивысшим. Торжества коронации длились несколько дней и втягивали в свою орбиту десятки тысяч москвичей, начиная с торжественного въезда монарха в Москву и кончая раздачей царских подарков. Коронация была подлинно народным праздником. Хотя ее церемониал был очень жестко регламентирован, тем не менее присутствие народа на улицах и в Кремле вносило элемент стихийности в этот строгий обряд. Заученные роли были только у придворных статистов, народ же выступал как зритель и поэтому мог свободно выражать свои чувства. В подлинности действий и искренности чувств заключался особый характер этой московской церемонии. Здесь Император мог чувствовать себя Царем, свободно общающимся со своим народом.
* * *
Образы государственной власти в Петербурге и Москве отражали двойной образ русских монархов - европейского Императора и русского Царя. Когда Николай I прибыл в 1851 г. в Москву, историк М.П. Погодин риторически вопрошал: «Но разве Русский Царь и Европейский Император два лица? Нет - одно!»25. Здесь, в Москве, Император легко превращался в Царя. С этого времени русские монархи в Москве по преимуществу именовались Царями и стремились демонстрировать патриархальный, а не рациональный стиль поведения.
Рост национализма с середины XIX в. способствовал укреплению столичного статуса Москвы. Александр III и в особенности Николай II демонстрировали свое предпочтение Москве и едва скрывали свою антипатию к Петербургу. В Первопрестольной последние монархи чувствовали себя народными Царями, в то время как в Северной столице они оставались главами бюрократических правительств и военными вождями. Репрезентация императорской власти в Петербурге в итоге снижалась, однако новый, царский образ оказывался в дисгармонии с имперской средой этой столицы.
382
Новая власть перенесла столицу в Москву, разорвав тем самым все связи с имперским прошлым. Большевики легко уничтожили все символы императорской власти в Москве - «памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг» и двуглавые орлы на фасадах казенных зданий и на вершинах кремлевских башен. Москва утратила и образ православного центра страны: многие церкви были снесены в советское время, а те, что остались, уже не представляли собой святынь, а лишь туристические объекты. Однако начиная с 1930-х годов Москва стала обретать имидж столицы Советской империи, и при его формировании образ имперского Петербурга сыграл не последнюю роль.
А Петербург-Ленинград сохранил почти все. Здесь тоже было разрушено немало церквей, но выбор был сделан по преимуществу против тех, что были построены в национальном стиле, и благодаря этому город приобрел еще более имперский вид. С конца 1980-х годов вопрос о возвращении Петербургу столичного статуса стал предметом общественных дебатов. И сейчас видно, как город с его имперским обаянием становится репрезентативной силой новой власти.
1 Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002. С. 18.
2 Травин И.И. Армия и город: Опыт социокультурного анализа // Мир России: Социология. Этнология. Культурология. 1994. Т. 3. № 1. С. 185.
3 Агеева О.Г «Величайший и славнейший более всех градов в свете» -град святого Петра: (Петербург в русском общественном сознании начала XVIII века). СПб., 1999. С. 205.
4 Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета министров. Исторический очерк, составленный начальником отделения Канцелярии Комитета Министров Н.А. Кислинским, под главною редакциею Статс-секретаря Куломзина. СПб., 1902. Т. 1. С. 17.
5 Для сравнения: в 1984 г. скорый поезд из Москвы до Варшавы шел 19 часов, а из Ленинграда - 23,5 часа; в настоящее время прямого сообщения между Петербургом и Варшавой нет.
6 При проведении подсчетов были избраны радиусы в 300 км как близкие к максимальным непересекающиеся расстояния. В расчет принималось население уездов, центры которых попадали в означенные радиусы. В итоге в радиус Москвы попали Московская, Владимирская, Калужская, Тульская губернии целиком и отдельные уезды губерний Орловской (Волховский и Мценский), Рязанской (Рязанский, Данковский, Егорьевский, Зарайский, Касимовский, Михайловский, Пронский, Ряжский, Сапожковский, Скопинский и Спасский), Смоленской (Вяземский, Бельский, Гжатский, Дорогобужский, Сычевский и Юхновский), Тамбовской (Елатопольский), Тверской (Тверской, Бежецкий, Вышневолоцкий, Зубцовский, Калязинский, Кашинский, Корчевский, Ново-торжский, Ржевский и Старицкий), Ярославской (Ярославский, Мышкинский, Романово-Борисоглебский, Ростовский, Рыбинский и Угличский). В радиусе Петербурга оказались целиком С.-Петербургская, Выборгская, С.-Михельская гУбернии и уезды губерний Куопиоской (Иломантский и Либелицкий), Лиф-
383
ляндской (Верроский и Юрьевский), Новгородской (Новгородский, Боровичский, Валдайский, Демянский, Крестецкий, Старорусский и Тихвинский), Нюландской (Гельсингесский и Перноский), Олонецкой (Петрозаводский, Ло-дейнопольский и Олонецкий), Псковской (Псковский и Порховский), Тавастгу-ской (Голлолаский уезд), Эстляндской (Везенбергский и Вейсенштейнский уезды).
7 Агеева О.Г Указ. соч. С. 206.
8 Москва - Петербург: pro et contra. СПб., 2000. С. 233.
9 Там же. С. 342.
10 Там же. С. 286, 287.
11 Пушкарев И.И. Николаевский Петербург. СПб., 2000. С. 100.
12 Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале XX века; Предпринимательство и политика. М., 2002. С. 31.
13 Там же. С. 400.
14 Татищев С.С. Александр II // Русский биографический словарь. СПб., 1896. Т. 1. С. 567.
15 Столпянский П.Н. Петербург. СПб., 1995. С. 36.
16 Агеева О.Г. Указ. соч. С. 227.
17 До бу жинс кий М.В. Мои воспоминания. М., 1987. С. 11-12.
18 Турчин В.С. Александр I и неоклассицизм в России: Стиль империи или империя как стиль. М., 2001. С. 319.
19 Кириченко Е.И. Запечатленная история России. М., 2001. Т. 2. С. 76.
20 Там же. С. 119.
21 Там же. С. 111.
22 Бенуа А. Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. I—III. М., 1990. С. 18.
23 Коллиандер Т. Петербургское детство: Главы из воспоминаний // Невский архив: Историко-краеведческий сборник. Вып. 2. М., 1995. С. 32-33.
24 Альманах на 1826 г. для приезжающих в Москву и самих жителей. М., 1826.
25 Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. 10. СПб., 1896. С. 234.
Вкл. I. План Санкт-Петербурга. 1901 г.
Вкл. II. План Москвы с пригородами. 1917 г.
Соборы
АЛ. Павлова
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В АРХИТЕКТУРЕ СОБОРНЫХ ХРАМОВ РОССИИ XIX в.
Обширнейшие территории, объединенные в составе Российской империи, всегда делали актуальной задачу государственного строительства, эффективность которого связывалась с развитием национальной идеи, способной объединить государство в единое целое. Отметим, что слово «национальная» не несет здесь этнического смысла, а означает «государственный», «относящейся ко всей стране», как в словосочетаниях «национальная безопасность», «национальный интерес», в том же смысле до революции часто употреблялось и слово «русский».
Проблема национальной идеи находилась в центре внимания русской философской мысли XIX в. В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин посвятили русской идее известные труды. О национальной идее писал и Ф.М. Достоевский: «При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью... Когда же утрачивается в национальности потребность общего единичного самосовершенствования в том духе, который зародил ее, тогда постепенно исчезают все “гражданские учреждения”, ибо нечего более охранять»1. Попытка подмены национальной идеи идеологией коммунистического интернационала в советское время привела к кризису самоидентификации и распаду страны как следствию «взрыва безнравственности», который предвидел в 1960-е годы выдающийся русский ученый и писатель И.А. Ефремов. В 1969 г. он писал: «Это мне кажется гораздо опаснее ядерной войны... С древних времен нравственность и честь (в русском понимании этих слов} много существеннее, чем шпаги, стрелы и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики. Все разрушения империй, государств и других Политических организаций происходят через утерю нравственности. Это является единственной причиной катастроф во всей истории, и Поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, можно сказать,
387
что разрушение носит характер саморазрушения»2. Со свойственной математику точностью академик Б.В. Раушенбах, один из отцов отечественной космической автоматики, предложил простой и ясный критерий определения, что есть и что не есть национальная идея: «Можно ли за это отдать жизнь? Если да, то это - Идея, если нет -не Идея. Вряд ли можно отдать жизнь за построение рыночной экономики, но “Встанем за Великую Россию” - Идея»3.
На протяжении всей истории России духовной основой национальной идеи служило Православие, поэтому наилучшим архитектурным воплощением этой идеи является соборный храм. Строительство соборных храмов всегда находилось под особым покровительством государственной власти, что хорошо известно по многочисленным примерам из средневековой истории, в частности из истории Древней Руси. Одним из главных условий соборного строительства был выбор образцов, источниками которых служила Святая земля (Палестина) или центры христианских империй - Рим, Константинополь (на Руси - Киев, Владимир, Москва), которые, в свою очередь, возводились к первообразам Небесным - Небесному Иерусалиму. В связи с этим можно сказать, что соборные храмы символизируют совокупность, союз Небесной Церкви во всем ее величии и Церкви земной, объединяя всех ее членов. Собор - зримое воплощение национальной идеи России, основой которой является Православие.
Если в древности (до конца XVII в.) архитектурные формы и внутреннее убранство соборов полностью соответствовали православному вероучению, то с петровских времен началось бурное освоение и активное приспособление западноевропейских влияний к символике и функциям православного храма. Естественно, что в этих вопросах самое активное участие принимали российские императоры и императрицы. (Известно, что император Петр I непосредственно участвовал в проектировании и строительстве храмов.) В рамках этой статьи не будет рассматриваться связь архитектуры и власти в Древней Руси. Отношение к соборному строительству в XVIII в. (особенно это касается столиц), как кажется, можно обобщить словами императора Александра I, сказанными им о формах Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге: собор должен «снаружи и внутри по богатству и благородству архитектуры представлять все, что возбуждает удивление в самых великолепных церквах Италии»4. Эти слова относятся приблизительно к 1818 г. - ко времени закладки Исаакия. Прошло всего 12 лет с тех пор, и в 1830 г. император Николай I, просматривая чертежи одного из санкт-петербургских храмов, произнес свою знаменитую фразу: «Что это все хотят строить в римском стиле? У нас в Москве есть много прекрасных зданий, совершенно в русском вкусе»5. Хотя и ранее художественная общественность (и, кстати, народ6) сознавала необходимость возвра
388
щения к древнерусским традициям в архитектуре, но именно после этих слов императора, которые воспринимались как закон, произошел поворот к допетровскому наследию в истории отечественного храмоздательства. Как замечает Е.И. Кириченко, «очевидно, у императора к тому времени окончательно созрела мысль об исторической исчерпанности классицизма»7. Тогда и произошел «переход от свойственного второй половине XVIII - началу XIX в. христианского универсализма к пониманию самоценности и своеобразия православия»8. Хотя конструктивные и формообразующие принципы классицизма сохранятся и в русском стиле. Именно русский стиль как уникальная часть общеевропейского ретроспективного движения, связанного с романтизмом, выразил новую формулировку национальной идеи в архитектуре. Не углубляясь в сложные терминологические вопросы русской архитектуры эпохи эклектики, условно будем объединять все периоды возрождения древнерусского (и византийского) наследия в архитектуре XIX в. («русско-византийский стиль» 1830-1900-х годов, «византийский стиль» 1850-1900-х годов, собственно «русский стиль» 1880-1900-х годов, «неорусский стиль» 1890-1910-х годов) под термином «русский стиль», который в данном случае тождественен термину «национальный стиль».
В рамки поставленной темы не входит интереснейшая проблема взаимосвязи императорской власти и церковного строительства в эпоху барокко и классицизма в России, но следует иметь в виду, что корни русского стиля следует искать именно в XVIII в. Эта точка зрения общепринята в искусствознании, ее разделяют ведущие специалисты по русскому стилю - Е.И. Кириченко в Москве и В.Г. Лисовский в Петербурге. В своей книге «“Национальный стиль” в архитектуре России» В.Г. Лисовский отмечал, что проблема национального стиля для России «приобрела гораздо большую остроту, чем для западноевропейских стран»9, что было связано с петровскими преобразованиями. Возвращение к тому, что было насильственно прервано, с энтузиазмом воспринималось в образованной среде столицы, близкой славянофильству. При этом следует иметь в виду, что в провинции русские зодчие XVIII в. полностью не отходили от традиций древнерусской архитектуры. Сохранялись строительные навыки древности, особое понимание архитектурных форм, традиционные типы храмов, материалы; на Севере древнерусские традиции не прерывались почти до середины XIX в. С другой стороны, хорошо известны еще при императрице Елизавете Петровне и в столичной архитектуре «случаи прямых правительственных указаний на необходимость проектирования новых православных храмов по образцу освященных традицией древних памятников»10.
Итак, задача воплощения национальной идеи в архитектурных формах в конце 1820-х годов выпала на долю тогда еще молодого
389
архитектора К.А. Тона (1794—1881), избранного для этого императором. Архитектор был призван создать стиль, который объединил бы идею возвращения к истокам (Древняя Русь) и идею современной империи. Поэтому при создании нового стиля Тон опирается на достижения и дух классицизма, особенно в поздней его редакции (ампир). Из недавнего прошлого он воспринимает идею сильной императорской власти.
Разработанный архитектором пятиглавый тип храма, повторяющий в своих формах крестово-купольные соборы Московской Руси, не только задал основную линию соборного строительства в России всего XIX в., но и открыл новую эпоху, в которой церковная архитектура вновь стала играть стилеобразующую роль в строительной практике и определять архитектурный облик времени11. Впервые с допетровских времен было возобновлено строительство по образцам, возрождавшим в своих формах древнерусские традиции, что отражает в архитектуре возрождение национальной идеи. Наиболее известным и совершенным собором такого типа стал храм Христа Спасителя в Москве, который соединил основные богословские, политические и художественные надежды России.
Возникновение русского стиля связано с небывалым подъемом духовной жизни в начале XIX в.: возрождением старчества (основой которого является учение о непрестанной молитве - «умное делание») и развитием богословской мысли по всем ее разделам. Если в XVIII в. государственная власть заметно стесняла церковную жизнь, то в XIX в. императорская власть стала опираться на церковь и поддерживать ее12. В царствование императора Николая I особенно очевидным стало сотрудничество государства и церкви, церковное же строительство стало частью внутренней политики по укреплению страны.
Изучение материалов архива Синода (хранящихся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге13) позволило нам прийти к следующему выводу: повсеместному желанию граждан России возводить храмы император Николай Павлович придал форму программы, манифестом которой стали альбомы образцовых проектов храмов К.А. Тона 1838 и 1844 гг.14, которые рассылались по епархиям. В двух книгах было помещено 30 чертежей, служивших основой для строительства храмов в России практически до конца XIX в. В Строительный устав, который являлся частью свода законов, в 1841 г. была введена статья, рекомендовавшая в качестве образцов для проектирования храмов для всей империи чертежи К.А. Тона15.
Строительство соборных храмов существенно связывалось с двумя основными направлениями церковной деятельности в XIX в. -миссионерством и возрождением монашеской жизни. Миссионерство часто проявлялось в учреждении новых епархий. Только в царст
390
вование Николая I их было открыто больше, чем за весь XVIII век. Именно новые епархии нуждались в храмовом строительстве, громадные просторы Российской империи предоставляли большие возможности для храмоздательства. Предстояло освоить целые области, не имевшие своей архитектурной школы (например, Крайний Север и Дальний Восток, отдельные районы Сибири); упорядочить, обновить и дополнить церковные постройки в Центральной России, особенно в бурно развивавшихся сельскохозяйственных, промышленных и торговых ее областях. Конечно, таковы были задачи всего XIX века, и решены они были частично лишь к началу XX в., но данные направления были определены именно в николаевское царствование. Учреждение новых епархий сопровождалось созданием кафедральных соборов. Почти все они начали создаваться в 1830-1860-х годах XIX в. в духе тоновской архитектуры. В этот период, как и в древности, возведение храма по образцу другого не означало копирования или создания совершенно нового облика храма. Соборы строились родственными по своим формам, что не исключало своеобразия каждого. При императоре Николае было образовано 14 епархий16 (общее их число равнялось 55), в 10 из них были сразу заложены и возведены в течение XIX в. кафедральные соборы по образцовым проектам К.А. Тона, в остальных четырех соборы были построены в более поздней редакции (но не без влияния тоновской традиции) русского стиля на рубеже XIX-XX вв.
Практически все соборы тоновского стиля последовательно уничтожались в 1930-е годы, поэтому выявление круга памятников, поиск фотографий, их атрибуция были усложнены; эта работа лишь в последнее десятилетие вошла в круг научных интересов специалистов.
Первой в царствование Николая I была возрождена Олонецкая епархия (1828). Вероятно, за образец при постройке нового кафедрального собора был взят петербургский собор Введения Божией Матери во храм (К.А. Тон, 1834—1842; см. ил. 1). Свято-Духовской собор отличают от предполагаемого образца аркатурно-колончатый пояс и особое расположение дверей и порталов, роднящее его с храмом Христа Спасителя, который в 1858 г. уже был освобожден от лесов. Петрозаводский собор не имеет скульптуры на фасадах, как и все соборы губернских и уездных городов. В 1834 г. учредили Томскую епархию, и в 1842 г. начался сбор средств на постройку кафедрального Троицкого собора (ил. 2), однако освятили собор лишь в 1900 г.; история его возведения была необычайно драматичной. В 1843 г. была учреждена Кавказская и Черноморская епархия, центральным в ней стал город Ставрополь. С 1843 по 1847 г. в нем возводился Казанский кафедральный собор. Единственным сохранившимся собором из возведенных в новых епархиальных центрах явля-
391
Ил. 1. Свято-Духовский собор г. Петрозаводска. Не сохранился. Фотография с открытки начала XX в. из собрания отдела изобразительного искусства РГБ
Ил. 2. Свято-Троицкий собор г. Томска. Не сохранился. Фотография с открытки начала XX в. из собрания отдела изобразительного искусства РГБ
ется собор в честь Рождества Богородицы в Ростове-на-Дону. Мож-но сказать, что особенно крупные и характерные соборы по образцовым проектам К.А. Тона были возведены в центральных городах новых епархий, которые открывались в наиболее важных для внутренней политики России местах и нуждались в объединении с центральными регионами страны. Для соборов в губернских городах чаще, чем для монастырских и тем более уездных, избирался крестообразный план, больше встречавшийся в столицах. Соборные храмы имели огромное градостроительное значение. Они задавали новый масштаб храмовой архитектуры, позволяющий соборам сохранять преобладающую роль в городском ландшафте, несмотря на происходившие в XIX и XX вв. рост городов и повышение их застройки.
Государственную программу соборного строительства в новых епархиях дополнило ожившее монастырское зодчество. Расцвет монашества в России XIX в. был ознаменован расширением старых и возникновением новых обителей. Строительство самых крупных монастырских соборов в России относится именно к середине - концу XIX в. При характеристике храмового зодчества нельзя обойти вниманием обновление в это время монастырских ансамблей
392
и создание монастырских комплексов нового типа в русском стиле. В тоновском стиле были возведены десятки соборных монастырских храмов. Перечислим некоторые из них: Владимирский собор Рождества-Богородицкого Задонского мужского монастыря (1845-1853; см. ил. 3); Боголюбский собор Боголюбского монастыря близ г. Владимира (1855-1866; ныне женский; см. ил. 4); собор в честь иконы Божией Матери Троеручицы (1861-1876) Иоанно-Предтеченской Белобережской мужской пустыни; Троицкий (1848-1875) и Преображенский (1905-1917) соборы Серафимо-Дивеевского женского монастыря (ил. 5); Воскресенский собор Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге (1849-1861; см. ил. 6). Монастырское строительство было масштабным и в конце XIX - начале XX в. Развитие тоновской темы в архитектуре этого времени хорошо видно на формах соборов Николо-Угрешского монастыря в Москве {Спасо-Преображенский собор, арх. А.С. Каминский, 1880-1894), Николо-Перервинского в Москве {Иверский собор, арх. П.А. Виноградов, 1904), Казанского женского в г. Данилове Ярославской епархии {Казанский собор,
арх. В.А. Косяков, 1900-1917), Матери Отрада или Утешение в с. Добрыниха, Домодедовского района, Московской области (арх. С.У. Соловьёв, начало XX в.).
Особой областью соборного зодчества стали уездные города. В середине столетия стали развиваться новые города и обновляться старые богатые города, относящиеся в основном к Югу России и Украине. Соборы в них также входят в общую картину храмового строительства по чертежам К. Тона. Число соборов в уездных городах необычайно велико. Для примера можно выделить один из наиболее известных и сохранившихся -Вознесенский собор в г. Ельце (1845-1889; ил. 7). Уникальным явлением истории русской архитектуры стало возведение храмов соборного типа в крупных селах (Никольский собор в с. Рогачеве, Дмитровского района, Московской области).
собора в честь иконы Божией
Ил. 3. Владимирский собор Рождества-Богородицкого Задонского мужского монастыря. Фотография 2003 г.
393
Ил. 4. Боголюбский собор Боголюбского монастыря близ г. Владимира. Фотография 1999 г.
Ил. 5. Троицкий (слева) и Преображенский соборы Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Фотография 2004 г.
394
Ил. 6. Вид Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Воскресенский собор - в центре. Колокольня не сохранилась, собор сохранился частично. Фотография К. Булла 1900-х годов из фондов ЦГАКФФД Санкт-Петербурга
Подъем купечества позволил в некоторых, особенно торговых, селах воздвигать громадные храмы, привлекая архиереев к служению в них. Тоновские храмы воздвигались и в дворянских усадьбах.
Вообще на всем протяжении XIX в. соборный тип храма отличается постоянством своих архитектурных форм, и это несмотря на сменившиеся идеалы и образцы зодчества второй половины -конца XIX в. Какие бы эпохи ни возрождались в формах соборных храмов рубежа XIX-XX вв., в их структуре плана, пропорциях и многом другом можно узнать тоновскую традицию, опиравшуюся на знание классической архитектуры. Соборный тип храма проходит через все этапы возвращения к традициям Древней Руси, и к концу XIX в. почти в каждом городе был возведен большой собор, созданный в стиле чертежей или непосредственно по чертежам К.А. Тона.
Соборы различались и материалами, из которых они строились, и деталями, и пропорциями, а главное, местными условиями, которые существенно преобразовывали облик каждого из них. При различиях окружающей среды, сходство играло особую, объединительную роль. Так, собор на Красной горке на берегу Вытегры на
395
Ил. 7. Вознесенский собор в г. Ельце. Фотография 2003 г.
Русском Севере удивительно похож на церковь в Бабигоне близ Петергофа. Собор у подножия горы Машук в Пятигорске на Северном Кавказе напоминает собор в центре г. Томска, а собор в Ростове-на-Дону - собор в Петрозаводске. «Сравнивая непосредственно образцовые тоновские проекты с тем, что воплощалось в натуре, видим, что ни один из этих проектов, за редким исключением... не воспроизводил точно и достоверно чертежи, предложенные в альбомах. С одной стороны, в этих альбомах архитектор получал не рабочие чертежи, а рисунок, исходя из которого, он мог сам стро-' ить так, как ему и заказчику было удобно. Но при этом все элементы в возведенных уже зданиях так или иначе имеют свои прототипы в тоновских альбомах, только скомпонованы они были по-другому. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что русский стиль был органичен для своего времени и позволял даже малопрофессиональным архитекторам, которые строили в провинции, легко компоновать “типовые” элементы в архитектурно выразительный образ, соответствовать желанию заказчика и воспроизводить тот вид храма, который соответствовал русской традиции»17. Таким образом архитектура служила цели государственной политики -сплотить разные области одной страны под знаменем национальной идеи.
Развернувшееся соборное строительство стало одной из самых главных форм сотрудничества церкви, государства и народа, осно
396
ванной на взаимной поддержке сторон. Особое внимание уделялось выбору проекта и разрешению на строительство, для чего был разработан специальный механизм, изменявшийся в течение XIX в. В царствование Николая I он действовал следующим образом: приход во главе с духовенством направлял прошение о строительстве нового собора епархиальному архиерею, иногда к прошению прикладывался проект собора и описание финансовых возможностей общины. Если местный епископ давал согласие, то он обращался за разрешением на строительство в Синод. Из Синода прошения из епархий по строительству храмов направлялись в Главное управление путей сообщения и публичных зданий, где в Департаменте проектов и смет их рассматривали специалисты по архитектуре и строительству. Свое заключение они снова посылали в Хозяйственное управление при Синоде. Интересно, что во многих случаях комиссия в Департаменте проектов и смет давала неудовлетворительную характеристику чертежам и финансовым расчетам. При неблагожелательном заключении Синод не давал разрешения на строительство; оно могло затянуться на несколько лет. Новый проект вновь проходил по тем же инстанциям. После одобрения чертежей и денежных расчетов комиссией проектов и смет весь пакет документов направлялся на утверждение императору, как того требовал Строительный устав в случае, если рассматривалась крупная постройка.
Проекты, попавшие на стол к императору Николаю I, всегда подвергались детальному анализу, это касалось не только столичных построек18. Утвержденные Николаем I документы возвращались в Главное управление путей сообщения и публичных зданий, а оттуда вместе с рекомендациями по строительству направлялись вновь обер-прокурору Синода. Окончательно утвержденные документы заказчики строительства получали из Синода.
Народ и местные церковные власти добивались разрешения на постройку храма в Синоде, причем Синод в данном случае выступал как орган совещания церкви и государства. Обер-прокурор в случае крупного замысла обращался к государю. Если в прошении убедительно излагалась необходимость постройки собора и правильно были составлены все документы, то государь, а за ним и Синод давали свое согласие. В длительном процессе получения разрешения, в течение которого проектные документы иногда переделывались несколько раз, император и Синод требовали от просителей точного соблюдения всех узаконенных условий храмового строительства. Государство давало разрешение церкви, когда Убеждалось в том, что установленный порядок будет соблюден и ито церковь разделяет интересы государства. Церковь, соглашаясь с Поставленными условиями, помогала проводить государственную Программу.
397
Важным моментом во взаимоотношениях церкви и государства был также вопрос сбора средств на постройку соборных храмов. Архитектурная политика, руководимая императором Николаем I, осуществлялась местными архиереями с помощью денег, пожертвованных всеми слоями населения епархии.
Инициатива постройки собора обычно исходила от городского общества и духовенства во главе с правящим архиереем. Успешный ход строительства зависел от согласия светских и духовных властей по этому вопросу. Усердие и самоотверженность архиерея предопределяли получение разрешения на постройку и ее успешное продвижение. В обязанности епископа входил ежегодный отчет Синоду о воздвижении собора.
Мы не случайно подробно остановились на вопросах делопроизводства: при всей сложности и негибкости этой системы, именно она обеспечивала успех государственной политики по соборному строительству, предусматривающей единый стиль и высокое качество провинциальной архитектуры. Подводя итог, можно сказать, что архитектурная политика императора Николая I дает уникальный пример соединения церковного строительства и действий по укреплению и объединению государства. В настоящее время Россия вновь переживает бурный рост церковного строительства и снова общество обращается к православной идее, служащей объединяющим началом для всей страны.
1 Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1880 г. // Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 26. Л., 1985. С. 165.
2 Ефремов И.А. Переписка с учеными. Неизданные работы // Научное наследство. Т. 22. М., 1995. С. 189.
3 Раушенбах Б.В. P.S. (Постскриптум). М., 1999. С. 210-211.
4 РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 95. Об участии Императорской Академии художеств в разработке вопросов о капитальном ремонте и исправном содержании Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. 1909. Л. 73.
5 Цит. по кн.: Славина Т.А. Константин Тон. Л., 1989. С. 218.
6 Т.А. Славина приводит цитаты из синодальных документов 1826 г., в которых говорится о желании прихожан «строить церкви сообразно древним оным видам» (Там же. С. 85).
7 Кириченко Е.И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII - начала XX века. М., 1997. С. 94.
8 Она же. Строительство храмов // Москва 850 лет. Т. 1. М., 1996. С. 288.
9 Лисовский В.Г «Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000. С. 3. Далее исследователь замечает, что «насильственное подавление национальной (“восточной”) традиции в петровское время и вытеснение ее западными влияниями привнесло в общественную жизнь России черты трагической раздвоенности, надлома, проявлявшиеся в разных исторических условиях с разной степенью определенности. Кризис классицистической культуры, олицетворяв-
398
щий процесс европеизации России, послужил стимулом к оживлению “национальной” проблематики во всех сферах общественной жизни» (Там же. С. 4).
10 Там же. С. 25. В 1745 г. при строительстве в Петербурге церкви Преображенского полка императрица потребовала сделать главы по образцу Успенского собора Московского Кремля. Те же указания касались и церкви Успения на Мокруше (1747, позднее Князь-Владимирский собор в Петербурге), ансамбля Смольного монастыря, церкви Большого Царскосельского дворца (1746).
11 В 1830-1840-е годы изменилось и отношение архитекторов к храмовому строительству: «Тон стал первым зодчим Нового времени в России, в творчестве которого... по значимости первое место занимали храмы. Это стало возможным благодаря тому, что на середину XIX в. пришлось... возрождение храмового зодчества... Храм вновь становится стилеобразующим типом зданий» (Кириченко Е.И. Два символа Москвы // Москва 850 лет. Т. 1. М., 1996. С. 300).
12 Подробнее об этом см.: Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700-1917 // История русской церкви: В 8 кн. М., 1996. Кн. 8, ч. 1. Перевод с немецкого издания: Smolitsch /. Geschichte der Russischen Kirche. 1700-1917. Leiden, 1964. Bd. 1 (Studien zur Geschichte Osteuropas. Bd. 9).
13 РГИА. Ф. 796. On. 108, 101, 118,128, 131, 184, 198; Ф. 797. On. 2-5, 11-14, 16, 19-22, 25, 27-30, 32, 34, 51, 84, 131, 139; Ф. 799. On. 16, 25, 26, 33 и др.
14 Церкви, сочиненные Архитектором Его Императорского Величества Профессором Архитектуры Императорской Академии Художеств К. Тоном. СПб., 1838; Проекты церквей, сочиненные Архитектором Е.И.В. Проф. К. Тоном. СПб., 1844. Альбомы были посвящены зодчим императору Николаю I. «Издав атлас на собственные средства, архитектор понес серьезные убытки» (Славина Т.А. Указ. соч. С. 215).
15 По пересмотру Строительного Устава. Ст. № 218. [Б.м., б.г.]. С. 270.
16 Шесть архиепископии: Херсонская, Литовская, Варшавская, Рижская, Олонецкая, Донская - и восемь епископий: Полоцкая, Томская, Саратовская, Симбирская, Кавказская, Камчатская, Самарская и Абхазская. См.: Материалы для истории православной Церкви в царствование Императора Николая I // Сб. Императорского Русского Исторического общества / Под ред. Н.Ф. Дубровина. СПб., 1902. Т. 113. Кн. 1-2. С. 399.
17 Берташ А.В. Содержание и эволюция русского стиля в церковной архитектуре середины XIX - начала XX века // Искусство христианского мира. Вып. 2. М., 1998. С. 117.
18 О проекте восстановления Десятинной церкви в Киеве (выполнен в 1826 г., не сохранился) архитектора Н.Е. Ефимова, утвержденном Академией художеств, император сказал, что он «весьма нехорош» и распорядился «поручить Стасову, чтоб сделал другой» (проект был выполнен в 1827 г., затем по нему собор был восстановлен, до настоящего времени не сохранился). См.: Лисовский ВТ Указ. соч. С. 68. Для строительства церкви Великомученицы Екатерины у Калинкина моста в Санкт-Петербурге в 1827-1828 гг. (не сохранилась) был по указу императора проведен конкурс проектов, так как поданный на утверждение не устроил его. Проект Казанского кафедрального собора в г. Ставрополе на Кавказе (закладка - 1843, освящение - 1847 г., не сохранился) император Николай I посоветовал переработать архитекторам К.А. Тону или А.П. Брюллову. См.: Прозрителев Г. Казанский кафедральный собор в Ставрополе на Кавказе. Ставрополь, 1910. С. 12. Утвердив проект Вознесенского собора в г. Ельце (1845-1889) К.А. Тона в общих чертах, государь попросил подробные чертежи карнизов и других деталей (см.: РГИА. Ф. 797. On. 11. Д. 28503. О постройке каменного собора в г. Ельце Орловской губернии. 1841-1854).
399
Утвердив проект церкви в честь Рождества Богородицы при Всехсвятской женской общине в г. Волхове (не сохранилась), император приказал исправить наличники «в виде более соответствующем общему стилю храма» (см.: РГИА. Ф. 797. Оп. 29. Д. 137. По определению Св. Синода о рассмотрении проекта на построение церкви в Волховской Богородично-Всехсвятской общине. 1859-1860). Проект храма в память Полтавской победы архитектора А.И. Мельникова (1832), «одобренный строительным комитетом,... не получил утверждения императора, начертавшего на нем: “Без вкуса; проект отдать на конкурс” (см.: Лисовский В.Г Указ. соч. С. 85). По тем же причинам в 1826-1827 гг. был проведен конкурс проектов возобновления Спасо-Преображенского собора в Нижегородском кремле, наконец, конкурс проектов храма Христа Спасителя в Москве (1830-е годы).
О.Г. Эксле
ГОТИЧЕСКИЙ СОБОР КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭПОХИ СОВРЕМЕННОСТИ
О чем здесь пойдет речь
Настоящая статья развивает тему нашего сборника - образы власти в Средние века и раннее Новое время - в двух направлениях.
Во-первых, речь пойдет об образах не «реальной», т.е. государственной, церковной или муниципальной, власти, а скорее о власти ментальной или даже спиритуальной - и соответственно об образах такой духовной или ментальной власти. Во-вторых, Средневековье как таковое не будет прямо выступать на первый план, поскольку прежде всего речь пойдет об образах средневековой власти - так, как ее понимали в эпоху современности, т.е. в XIX и XX вв.1 Именно в этих двух планах и следует воспринимать мой нижеследующий текст о «готическом соборе как репрезентации современной эпохи»2. Понятие «репрезентация» будет при этом употребляться в трех его основных значениях, а именно: «представление», «изображение» и «осовременивание»3. В качестве иллюстрации представлю прежде всего три примера, взятые мной соответственно из сфер искусства, литературы и искусствознания XIX и XX вв.
Что такое «готика» и что такое «готический собор»?
В недавно вышедшей монографии «Что такое “готика”?» первая глава («Понятие “готики” и история ее изучения») состоит из серии разделов под заголовками «Скептическая оценка»; «Взгляд антикваров-энтузиастов»; «Предметное признание»; «Научное изучение»4. Не следует ли отсюда, что «историю изучения» надо понимать как «историю прогресса в изучении»? Против такого подхода я хотел бы решительно возразить, противопоставляя ему свой взгляд на готический собор как репрезентацию современной эпохи.
26 Образы власти... 401
Но прежде всего обещанные три примера. Первый из них - это картина Карла Фридриха Шинкеля (1781-1841) «Средневековый город на реке», написанная в 1815 г. (ил. 1). На ней изображена праздничная процессия, направляющаяся к собору, выстроенному из красного камня; на заднем плане на берегу реки - средневековый город с церквями и башнями, над ним - радуга. Я оставляю все это пока без комментариев. Стоит лишь заметить, что К.Ф. Шинкель был не католиком, а протестантом.
Свой второй пример я взял из литературы. Это роман «La Cathedrale» («Собор») французского интеллектуала и писателя Жориса-Карла Гюйсманса (1848-1907), опубликованный в 1898 г.5 «Собор» Гюйсманса - это Шартрский собор. И его книга о нем -это манифест «антисовременной современности» (antimoderne Modemitat). Прежде опубликования этой книги Гюйсманс то и дело выступал с описаниями деструктивного характера «современности», как создатель мифов о моральных провалах в жизни современного большого города («Marthe. Histoire d’une fille» - «Марта. История одной девушки», 1876 г.), обличитель разнузданного индивидуализма и сексуальной беспорядочности, богохульства и сатанизма («А rebours» - «Наоборот», 1884 г.; «La-bas» - «Там внизу», 1891 г.). Во внутриполитических дискуссиях французской Третьей Республики в 1890-х годах он проявил себя ярым антидрейфуса-ром, а в своей книге, посвященной собору (вышла в 1898 г.), обратился к мистическому католицизму. Собор у Гюйсманса - место очищения современного человека от современности, место катарсиса современного «я», место освобождения и посвящения в новую жизнь, начинающуюся со спуска в крипту этой святыни. Но одновременно в книге Гюйсманса обнаруживается полный набор всех тех образов, при помощи которых наша современность (die Modeme) интерпретирует средневековые соборы. Гюйсманс развивает основные метафоры, применяемые к собору: это корабль, ларец, тело, органическое целое, лес (что обсуждалось и у Шинкеля) и т.д. Гюйсманс «читает» собор, этот, по его словам, «меморандум истории, природы и науки», этот «глоссарий морали и искусства», эту «панораму целого мира»6; причем он явно ознакомился с соответствующими средневековыми текстами, например сочинениями Гонория Августодунского и Винсента из Бове7. Собор, согласно Гюйсмансу, - это «небеса на земле», доказательство, что рай существует.
Здесь я перехожу к своему третьему примеру - из области искусствознания: удивительно, как все ключевые понятия Гюйсманса всплыли вновь в середине XX в. - в знаменитой книге австрийского искусствоведа Ханса Зедльмайра (1896-1984) «Возникновение собора» (1950)8. «Собор, - читаем мы у Зедльмайра, - средствами всех искусств передает небеса, Небесный Иерусалим - причем с теми же
402
Ил. 1. К.Ф. Шинкель. Средневековый город на реке (1815)
чертами, которые задавали образ небес в духовной поэзии XII века. При таком подходе все то, что при... рассмотрении этих феноменов должно остаться необъяснимым, наделяется смыслом и получает ясное обоснование. Только при таком понимании “трансцендентность” собора получает свой точный смысл». Готический собор -это «небесный град, небесный тронный зал, небесный замок». Я не хочу останавливаться на значении для искусствознания намерения Зедльмайра «перейти от абстрактной истории стиля к конкретной истории смыслов»9. Моя тема - это символизация Средневековья в «эпоху современности» (die Modeme) - и как раз в этом вопросе Зедльмайр настолько ясен, что лучшего нельзя и пожелать10. Архитектура готического собора для него - это «воплощение и исток (Inbegriff und Quellpunkt) всех искусств - не только архитектуры, скульптуры и живописи, но также драмы, танца и музыки, духовных и мирских элементов, религиозных мистерий и фарса»11. Собор поэтому является «упорядочивающей силой для других искусств»; он - «абсолютная вершина» нового «европейского искусства», да и вообще всей «всемирной истории искусства», сравнимая только с «Олимпией и Парфеноном». Шартр и Реймс «воплощают высшую меру искусства - классичность», соборы - это «то, в чем дух и природа пребывают в равновесии, гармонически слившись в произведение искусства..., т.е. в произведение искусства, достигшее совершенства».
403
Однако, как написано в конце книги, «уже в зрелом соборе, уже в Реймсе, наметились трещины, беспокоящие нас и по сей день». По мнению Зедльмайра, «начиная с середины XIII в. возникают те противоречия, которые, хотя временами и сглаживаемые, с тех пор то и дело возобновляются и которые в конце концов превратили XIX век и первую половину XX века во время противоречий по преимуществу - в мировремя, лишенное центра»12. Эти заключительные слова из книги Зедльмайра о соборах, вышедшей в 1950 г., отсылают к другой книге того же автора - 1948 г. издания. Ее название вошло с тех пор в поговорку: «Утрата центра»13. Эта книга вместе с книгой о соборах 1950 г. образуют в определенном смысле искусствоведческий диптих, причем две его части выстроены вокруг дополняющих друг друга и именно поэтому совершенно противоположных положений. Ведь труд под названием (оказавшимся столь влиятельным) «Утрата центра», появившийся в 1948 г., является беспощадной критикой всего европейского искусства, начиная, самое позднее, с конца Средневековья, как искусства совершенно деструктивного в его «склонности к неорганичному», в «отрыве от почвы», в «тяге к низкому» и в «низведении человека», в «устранении различия между “верхом” и “низом”»14 и т.д. Я еще вернусь к этому.
«Готика» в воображении современной эпохи
При всем том я говорю здесь не просто об идеологии и о критике идеологии и не просто о восприятии Средневековья15. Речь в большей степени идет об исторической совокупности образов, характерных для «эпохи современности», - совокупности, в которой «Средневековью» принадлежит весьма важная роль16, - об исторически обусловленных представлениях о том, что именно «современного» есть в «современной эпохе», т.е. о таких представлениях о «современности», которые выражаются прежде всего в донесенных до нас историей «образах», т.е. о символизации и репрезентации этого комплекса представлений, который, скажем это еще раз, во многом соотносится со «Средневековьем». При этом мы схватываем определяющий момент «современной эпохи», а именно свойственное этому времени (в котором мы сами живем) и характерное для него понимание того, что все сущее возникло исторически и исторически обусловлено. «Современная эпоха» в конечном счете задается через историческое воображение17. При этом совокупности представлений о Средневековье принадлежит исключительная, более того, фундаментальная и конституирующая роль: без «Средневековья» нет и «современной эпохи»18.
Современный историзм, т.е. осознание принципиальной историчности всего того, что существует19, является в сущности следст-
404
Ил. 2. К.Д. Фридрих. Монастырское кладбище в снегу (1817-1819)
вием Просвещения и Французской революции. С одной стороны, потому что сама возможность ставить под сомнение любые формы мысли и установления, приведшая к Просвещению и Революции, открыла дорогу к всеобъемлющему историзированию, а с другой стороны, потому что вызванное Просвещением и Революцией всеобщее «свержение моралей и религий» (как сформулировал Якоб Буркхардт в 1868 г.) сделало необходимым еще в ходе самой Революции создание «новых мифологий» (понятие принадлежит философу Манфреду Франку), что признали уже и сами революционеры. Однако эти «новые мифологии» легитимировались и инсценировались при помощи истории, т.е. при помощи инструментария культурной памяти. Вспомним праздники Французской революции, в которых основанию новой религии по желанию Робеспьера должны были способствовать средства старой, ’преодоленной культуры, например античной20.
Таким образом, речь здесь идет не только о романтизме, казалось бы, очевидном при взгляде на «готические» картины Карла Фридриха Шинкеля (см. ил. 1) или Каспара Давида Фридриха (1774-1840) (ил. 2). Куда больше речь идет о нбвой, ранее не существовавшей «полифокусности» (я здесь употребляю выражение искусствоведа Вернера Хофманна), а именно о воскрешении ценностных миров, вызываемых к жизни одновременно, но противоположных по своему наполнению21. И эти ценностные миры всегда к
405
Ил. 3. К. Кунтц. Храм Венеры в Вёрлитце (1797)
тому же исторически обусловлены. Одна из ранних форм этой «по-лифокусности» проявляется в том, что в парках уже второй половины XVIII в. (например, в Вёрлитцском парке под Дессау) встречаются одновременно и «готические домики», и классицистические храмы (ил. 3, 4). Для Фридрихсвердерской церкви в Берлине Карл Фридрих Шинкель предложил в 1824 г. одновременно два проекта -готический и классицистический (ил. 5). Осуществлен был готический (ил. 6). Однако не только готика и классицизм - все стили прошлого были тогда под рукой и могли быть воскрешены и использованы для новых образных воплощений - историзирующих, но одновременно и ориентированных на запросы настоящего. Поэтому весьма скоро к «медиевализму» в архитектуре добавилось еще и увлечение Ренессансом. Антагонизм между «медиевализмом» и «ренессансизмом» и их соперничество и определили во многом историю искусства второй половины XIX в., но, помимо этого, также историю литературы и всех форм мысли вообще.
Однако вернемся к готике. Она приобрела исключительную значимость во всех национальных культурах XIX в., в литературе, искусстве и архитектуре. Несколько примеров из Англии. В «средневековой секции», спроектированной О.У.Н. Пьюджином (1812-1852) для Всемирной выставки в Лондоне в 1851 г., публике было предъявлено множество произведений готического искусства (ил. 7). Необходимо вспомнить и о других так называемых прерафа-
406
Ил. 4. И.Ф. Нагель. «Готический дом» в парке Вёрлитца (ок. 1790)
Ил. 5. К.Ф. Шинкелъ
Проекты реконструкции Фридрихсвердерской церкви в Берлине (1824)
407
Ил. 6. К.Д. Фрайданк. Фридрихсвердерская церковь в Берлине (1838)
Ил. 7. Хрустальный дворец. «Средневековый двор» (1851)
408
парламента в 1857 г. Оформле
Ил. 8. Центральный вестибюль здания Парламента
элитах и об их значении для современного дизайна, прикладного искусства, живописи и архитектуры22. На ил. 8 изображено творение Пьюджина - центральный вестибюль (Central Lobby) Парламента в Лондоне, а на ил. 9 - картина Дж. Нэша, посвященная открытию сессии Верхней палаты британского
нием этого зала в готическом стиле (с 1837 по 1867 г.) мы обязаны архитектору Чарльзу Бэрри, на которого, несомненно, оказал влияние молодой Пьюджин. Вспомним далее (я ограничусь лишь немногими именами) Виктора Гюго с его романом о соборе Парижской Богоматери 1831 г. и архитектора Виолле ле Дюка (1814-1879), которого здесь можно представить его акварельным рисунком 1835 г. контрфорса из Мон-Сен-Мишель (ил. 10). Можно также вспомнить гравюры с видами Парижа Шарля Мериона (1821-1868), Огюста Родена, Марселя Пруста и Шарля Пеги, виды Руанского собора на картинах 1892-1895 гг. Клода Моне. Большим влиянием пользовалась книга о соборах искусствоведа Эмиля Маля «Религиозное искусство XIII века во Франции»23, вышедшая в 1898 г. В Германии следует вспомнить о достройке готических соборов в Кёльне, Ульме, Регенсбурге и в других местах -большом строительном предприятии XIX в., тесно связанном с главными общественно-политическими течениями и дискуссиями того времени. Показательный пример - завершение строительства Кёльнского собора24. На изображениях запечатлены самое начало этих работ в 1842 г. (ил. 11), состояние строительства в 1866 г. с юго-западной стороны, т.е. со стороны башен (ил. 12), а один снимок 1880 г., сделанный с юго-восточной стороны, так что видна строительная мастерская на переднем плане, показывает собор незадолго до его завершения (ил. 13). Стоит вспомнить и о закладке архитектором Антонио Гауди в Барселоне в 1882 г. большого собора Святого семейства (La Sagrada Familia), возведение которого продолжается еще и сегодня (ил. 14).
Дебаты о готике и Средневековье продолжали и в XX в. При этом они стали острее и основательнее. В трех последующих
409
Ил. 9. Дж. Нэш. Открытие сессии Парламента (1857)
Ил. 10. Э.-Э. Виолле ле Дюк.
Мон-Сен-Мишель.
Контрфорс (1835)
Ил. 11. Торжественное открытие работ по завершению Кёльнского собора в 1842 г. (Литография 40-х годов XIX в.)
Ил. 12. Кёльнский собор перед возобновлением его строительства. Вид с юго-востока. (Гравюра по картине того времени, 1866 г.)
Ил. 13. Кёльнский собор с юго-востока и мастерская строителей (1880)
Ил. 14. Барселона. Собор Святого семейства. Восточный фасад
разделах моей статьи я хочу пояснить на трех примерах из XX в., сколь различные формы и направления могли принимать споры о современном обществе, ведшиеся под воздействием власти образов: образов духовной власти в Средневековье, образных представлений, связанных с готикой и с готическим собором.
«Сущность готики»: трактовки в искусстве, кинематографе, фотографии, литературе и науке первой половины XX в.
Первым примером служит дискуссия о «сущности готики», начатая ок. 1910 г. искусствоведом Вильгельмом Воррингером (прежде всего его книгой 1911 г. «Проблемы готической формы»25). Она расширилась до обсуждения экспрессионизма как новой готики26. Эту линию можно проиллюстрировать двумя частными случаями: знаменитой картиной Эриха Гекеля «Стеклянный день» 1913 г. (ил. 15) и «Распятием» будущего дадаиста и сюрреалиста Макса Эрнста, выполненным также в 1913 г. (ил. 16)
Обсуждение «сущности готики» было значимо потому, что в нем вопрос о создании нового искусства соединялся с центральной проблемой так называемого кризиса историзма27 и с вопросом о возникновении новых ценностей для нового общества. В книге «Дух готики и искусство экспрессионизма» искусствовед Магдалена Бусхарт подробно разбирает дискуссии среди теоретиков и историков искусства в период между 1911 и 1925 гг.28 «Наше время тоскует по новой готике», - писал публицист Пауль Фехтер в 1914 г. в книге «Экспрессионизм», а ее титульный лист, оформленный экспрессионистом Максом Пехштейном, был прямо навеян скульптурами пророков в готических соборах (ил. 17).
Идеей соединения новой готики и нового общества были очарованы, однако, не только представители истории и теории искусств. Она проявляется также в ранних фильмах Фритца Ланга «Нибелунги» (1924) и «Метрополис» (1927). Кадр из его «Нибелунгов» (ил. 18) прямо указывает на свой готический прототип - знаменитого Бамбергского всадника XIII в. (ил. 19), история воздействия которого на культуру «современности» началась только в Первую мировую войну29. Приведенная же здесь фотография взята из книги «Особые Достижения немецкого искусства» уважаемого, но с 1933 г. «народного» и национал-социалистически ориентированного историка искусства Вильгельма Пиндера30. Сделана же она была фотографом Вальтером Хеге, человеком тех же воззрений, с которым Пиндер сотрудничал начиная с 20-х годов31.
В этой связи следует вспомнить и о романах на средневековые темы, прежде всего возникших во времена поздней Веймарской рес-
413
Ил. 15. Э. Гекель. Стеклянный день (1913)
Ил. 16. М. Эрнст. Распятие (1913)
публики, около 1930 г.32, - таких как «Нарцисс и Златоуст» Германа Гессе (1930) или его же главном труде «Игра в бисер», начатом им в 1931 г. и широко репрезентирующем представления о Средневековье и готике, распространенные в Германии после 1918 г.33 Томас Манн отдал должное этой теме в спорах между интеллектуалами Нафтой и Сеттембрини в романе «Волшебная гора» (1924), Германн Брох - в своей трилогии «Лунатики» (1931-1932). У Броха современная эпоха (die Modeme) изображена как результат «распада ценностей», начавшегося с Ренессанса, «времени преступного и мятежного», - а «преступным и мятежным» Ренессанс был потому, что положил предел
Hit 4^ Abbildungeii ^Uruhcn
Ил. 17. M. Пехштейн.
Титульный лист к книге П. Фехтера «Экспрессионизм» (1914)
Ил. 18. Ф.Ланг. «Нибелунги». Часть 1 (1922-1924)
415
Ил. 19. Бамбергский всадник
Средневековью34. В тот же контекст вписываются и дискуссии среди католических теологов о путях обновления теологии и литургии, об «объективном» Средневековье и его «субъективистском» распаде, или же о «романском порядке» и «готическом распаде», или же о «готическом порядке» и «номиналистическом разложении»35. Сюда же относятся настойчивые усилия придать особый символический смысл Наумбургскому собору (ил. 20) и его знаменитой западной алтарной части (ил. 21) со ставшими ныне невероятно известными фигурами его основателей - прежде всего Уты и Эккехарда (ил. 22). И в данном случае символическая «зарядка» этих фигур, на которые ранее обращали мало внимания, произошла только после
1918 г.36 Фотографию Наумбургского собора, представленную на ил. 23, сделал примерно в 1924 г. уже упомянутый Вальтер Хеге -но она вполне могла бы быть кадром из фильма Фритца Ланга. Оставим в стороне профессиональные качества Вальтера Хеге как фотографа; вообще-то он был несчастным, физически искалеченным ветераном войны, падким на всевозможные мистические учения, «бредившим Средневековьем как истинной Германией и... направлявшим свою... энергию на новое пробуждение» Средневековья37. Именно поэтому его наумбургский снимок производит впечатление кадра из какого-нибудь экспрессионистского фильма 20-х годов. Конечно, не случайно «Наумбургская эйфория»38 началась после 1918 г., а достигла своей кульминации между 1925 и 1945 гг. В конце концов ее использовали в своих целях и национал-социалисты - здесь стоит вспомнить хотя бы лишь о представлении ктиторов Наумбургского собора в праздничной процессии по случаю «Дня немецкого искусства» в Мюнхене в июле 1937 г. - накануне открытия выставки «Выродившееся искусство» (ил. 24). На той выставке, как известно, было представлено много работ художников-экспрессионистов, которых тем самым обесславили, а их произведения обрекли на уничтожение. «Инструментализация» Уты из Наумбурга продолжалась до самой гибели национал-социалистской Германии, как можно судить по опубликованному в конце 1944 г.
416
27 Образы власти
Ил. 20. Наумбургский собор. Клуатр.
Ил. 21. Наумбургский собор. Общий вид западной алтарной части
Ил. 22. Наумбургский собор. Западная алтарная часть. Маркграф Эккехард П и Ута
Ил. 23. Наумбургский собор с юго-востока. Фотография В. Хеге (ок. 1924)
Ил. 24. Фигуры ктиторов Наумбургского собора на передвижных платформах во время праздничного шествия в «День немецкого искусства» (Мюнхен, 1937)
Ил. 25. «Ради культуры Европы» («Специальный выпуск по культуре» газеты «Иллюстрирте Цайтунг Лейпциг». Вып. 101, июнь-декабрь 1944)
рисунку одного военного репортера «СС» (ил. 25). Он призывает защищать ценности Европы от «большевистских орд» с «варварского Востока»39. В то время, наверное, уже никто в Германии не вспоминал о «Световом соборе» Альберта Шпеера, также вдохновленном «готической эйфорией» (ил. 26).
419
Ил. 26. «Световой собор» на Имперском партийном съезде НСДАП на Поле цеппелинов в Нюрнберге (1937)
Сколь коротким был путь от готики к оправданию прихода к власти национал-социалистов, уже в 1933 г. показывает пример известного историка искусства Вильгельма Пиндера (1878-1947). Ему захват власти нацистами представлялся возвращением «новой общинности» и даже «нового Средневековья»40. «Фюрер» приносит с собой «новое Средневековье» - так высказывался Пиндер в 1933 г. Теперь, по его мнению, главным снова будет «целостность» и «форма», теперь возникнет новое искусство и новое искусствоведение при новом социальном порядке; ведь «за мыслью нашего великого фюрера» стоит «философия целостности и формы». То, что сейчас поднялось в Германии, пишет Пиндер в 1933 г., станет «новым Средневековьем в благороднейшем смысле». Именно из этих умозрительных концепций Пиндера и других явно выросли и книга Зедльмайра о соборах и парная к ней работа об «утрате центра» 1948 и 1950 гг.
420
«Новая готика» в архитектуре и архитектурной теории начала XX в.
Второй пример, заслуживающий здесь рассмотрения, - это большие дебаты о новой готике и надеждах на нее, которые вели между собой архитекторы начала XX в. Разумеется, политический контекст этих дискуссий совершенно иного рода. Ведь тут речь должна идти о Бруно Тауте (1880-1938), его знаменитом стеклянном павильоне 1914 г. и его девизе «Готический собор является прелюдией к архитектуре из стекла»41 (ил. 27 и 28). Для Таута Средневековье было «временем самой мощной европейской культуры»42. К началу XX в. Таут прославился проектами социального жилья в Берлине и Магдебурге, за которыми было будущее. В 1920 г. он сочинил симфоническую архитектурную пьесу под названием «Строитель мира», где возведение собора представало в качестве всемирно-исторического процесса, в котором метафизические силы человека, средневековое единство искусств и средневековая артель как сообщество ремесленников и художников оказывались выражением веяний, указывающих путь в современность. Схожим образом высказывался и архитектор Вальтер Гропиус (1883-1969) в одной речи, произнесенной им в 1919 г.: новая действительность должна стать, по его мнению, «лучшим временем для готики»43. В 1919 г. Гропиус говорил о «творческой концепции собора будущего» и о стремлении
Ил. 27. Б. Таут. Стеклянный павильон (1914)
421
Ил. 28. Б. Таут.
Стеклянный павильон. Звезда купола
Ил. 29. Л. Фейнингер Собор. (Проект для программы «Баухауса», 1919)
422
Ил. 30. П. Беренс. Германское посольство в Санкт-Петербурге (сразу после завершения строительства фасада)
Ил. 31. П. Беренс. «Мастерская строителей собора» на Германской выставке ремесел в Мюнхене (1922)
423
к «возрождению той духовной целостности, которая взметнулась ввысь в чуде готического собора». И в манифесте об основании «Баухауса» в 1915 г. Гропиус ссылается на средневековую строительную артель и на готический собор как пример сочетания всех искусств в качестве образцов для современности44. Художник Лионель Фейнингер (1871-1956) украсил этот манифест гравюрой, вызывавшей те же ассоциации (ил. 29). К сожалению, здесь нет возможности останавливаться подробнее на произведениях Фейнинге-ра и его акварелях, вдохновленных «духом готики», изображавших тюрингские деревенские церкви45. Архитектор Петер Беренс (1886-1940), ориентировавппшся до поры до времени на классицизм (перед 1914 г. он построил Императорское германское посольство в Санкт-Петербурге, ил. 30), в 1922 г. украсил Германскую выставку ремесел в Мюнхене «Мастерской строителей собора» (ил. 31), наводящей на мысль о необходимости использования реминисценций готического стиля в искусстве и обществе современной эпохи. Все же в 1923 г. Вальтер Гропиус порывает с ориентацией на готику и соборы46 ради лозунга «нового единения искусства и техники».
Архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ
Похоже, совсем по другому пути (и это третий пример) пошел архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ (1886-1969), чье последнее завершенное произведение - это Новая национальная галерея, построенная на площади Форум культуры в западной части Берлина в 1965-1968 гг. (ил. 32)47.
Мис ван дер Роэ считался и считается представителем бескомпромиссного функционального модернизма (см. ил. 33). Лишь начавшаяся в 1986 г. публикация его сочинений и речей, записных книжек 1927-1928 гг., а также анализ подчеркиваний и заметок на полях в приобретавшихся им книгах решительно изменили этот его образ48: теперь становится видно, сколь философичной и «медиевальной» была позиция Миса в спорах, которые, как мы уже видели, велись после 1918 г. вокруг вопроса о «кризисе историзма»49. И здесь тоже в центре общего внимания стояла проблема новых ценностей для нового общества. Мис ван дер Роэ оказывается в одном ряду, например, с историком, социологом и теологом Эрнстом Трёльчем, автором таких работ, как «Кризис историзма» и «Историзм и его проблемы» (1922), или с такими писателями, как Альфред Дёблин («Берлин, Александерплатц», 1929) и Роберт Музиль («Человек без свойств», 1930)50.
«Новые времена, - как сказал Мис ван дер Роэ в заключение своей речи на Венской конференции немецкого веркбунда в
424
Ил. 32. Площадь Форум культуры в Берлине с Национальной галереей Л. Миса ван дер Роэ. (Фотография ок. 1970)
Ил. 33. Л. Мис ван дер Роэ. Национальная галерея в Берлине. Интерьер
425
1930 г., - это реальный факт». Они наступили «совершенно независимо от того, приветствуем мы их или же нет». Важно лишь одно -«как мы выражаем себя в этих обстоятельствах. Лишь здесь начинаются проблемы духа». И «вопрос о ценностях» оказывается при этом «решающим». «Нам надо установить новые ценности, указать конечную цель, чтобы обрести критерии для оценок. Ведь смысл и правда всякой эпохи, также и этой, новой, [состоят] всецело и исключительно в том, что они предоставляют духу главную предпосылку для него самого, самую возможность его существования»51. В этих словах Мис ван дер Роэ представляет точку зрения, отвергающую чисто функционалистские доктрины, с которыми позже стало принято отождествлять современную архитектуру52. И после эмиграции в США в инаугурационной речи в качестве директора архитектурного отдела Armour Institute of Technology в Чикаго (1938) Мис ван дер Роэ снова сформулировал свой основной тезис: «истинное воспитание» имеет в виду «не только цели, но и ценности». Поэтому следует «выводить из зоны случайного и произвольного к ясной закономерности духовного порядка». В этом и состоит «предпосылка правильного действия». «Долгий путь от материала через задачу к воплощению» совершается, по его мнению, «только ради одной цели - устроения порядка в чудовищной неразберихе наших дней. Мы хотим, однако, такого порядка, который каждой вещи определял бы ее место. И мы хотим дать каждой вещи то, что ей причитается в соответствии с ее сущностью»53.
Этот призыв к «порядку» и ordo54 не только звучит как-то «по-средневековому» - это и есть средневековое утверждение, -вспомним Фому Аквинского и Августина, - в полном соответствии с замыслом автора. Мис ван дер Роэ вырос в Ахене, и уже по этому одному он всю жизнь обращался к памятникам средневековой архитектуры55, начинал же он учеником в мастерской своего отца-каменотеса. «Священный трепет перед вещами и материалом» относится с того времени к числу его максим, как он скажет позже, в 1932 г.56 Мис ван дер Роэ искал «объективное» и нашел своего учителя архитектуры в приверженце готики Хендрике Петрюсе Берлаге (1856-1934), одном из крупнейших голландских представителей современной архитектуры. Берлаге, впрочем, занимался не просто историзирующей неоготикой; для него возведение средневековых соборов было куда важнее в качестве подготовительного этапа для «разумного конструирования» и «основания нового искусства», как он заявлял в своих «Мыслях о стиле в архитектуре» в 1905 г.57 и как показывает построенное им в Лондоне в 1914 г. конторское здание (ил. 34). Берлаге видел в готике «триумф искусства, принципиально отличного от классического», и «корни искусства нового времени»58. В статье 1924 г. «Архитектура и воля времени» Мис ван дер Роэ буквально воспроизвел аргументацию Берлаге59.
426
При этом он тоже последовательно выступал против чисто подражательной историзирую-щей архитектуры («Вечный взгляд в прошлое - это наш рок... Жизнь ставит новые задачи ежедневно, и они важнее, чем весь исторический хлам»). Дело не в том, чтобы строить новые соборы, писал он в 1924 г., а скорее в том, чтобы по образцу «соборов Средневековья» возводить творения современности в качестве «охватывающей пространство воли времени» и «символов» своей эпохи60. От своего учителя Берлаге Мис ван дер Роэ перенял максиму Виолле ле Дюка: «Toute forme, qui n’est pas ordonnee par la structure, doit etre repoussee» (всякая форма, не упорядоченная структурой, должна быть отвергнута). Этой фразой, говорил Мис ван дер Роэ еще в 1960 г., можно обосновывать
Ил. 34. Х.П. Берлаге. Конторское здание в Лондоне (1914)
«истинное направление» архи-
тектуры61. И еще в 1960 г. Мис выражал свое стремление к «архитектуре, являющейся наследницей готики. Она - наша самая большая надежда»62.
Так же, как у молодого берлинского архитектора Ханса Шаро-уна (1893-1972) (ср. ил. 35), у Миса ван дер Роэ в то время рождались проекты, вдохновленные готическими соборами (ср. ил. 36). Более того, весной 1927 г. Мис познакомился в Берлине с католическим теологом Романо Гвардини (1885-1968), тогда возглавлявшим кафедру «религиозной философии и католического мировоззрения» в Берлинском университете. Мис подпадает под влияние размышлений Гвардини о Средневековье и современности - таких, которые Гвардини излагал в своих трудах, например в «Письмах с берегов Комо» (1927).
В «Письмах с берегов Комо»63 Гвардини размышляет о массови-зации и технизации современного мира в противоположность «старому миру», например «миру немецкого Средневековья». Гвардини хвалит неторопливость как противоположность резкому ускорению всех процессов жизни: «Как долго строили какой-нибудь собор! Как медленно рос город!»; далее следует хвала «четкости позиций и убе-
427
Ил. 35. X. Шароун Акварель (1920)
Ил. 36. Л. Мис ван дер Роэ Многоэтажный дом на Фридрихштрассе в Берлине (1921)
ждений», «прочным сословиям с их особыми обязанностями, правами и понятиями о чести», «ремесленным артелям и цехам, передававшим знания от поколения к поколению», «старым семействам -носителям исторической ответственности, в постоянстве образа жизни которых складывались определенные модели бытия и действия». «Архитектурные силы средневековых мастеров-строителей и их людей возникли не на пустом месте». Но «закат старого мира» теперь ощущается «на каждом шагу»: «старый мир» как «воплощение дел, установлений, порядков и жизненных позиций» ушел в прошлое. Причем «исторический рубеж» здесь составила середина XIX в. С той поры ворвался некий «новый, по-другому устроенный образ бытия и свершения». И все же философия культуры Гварди-ни не пессимистична и не исполнена ностальгии: задача современного человека состоит в том, «чтобы содержательной работой продвигать новое, дабы осваивать его». Мы должны взять верх над высвободившимися силами и выстроить их в новый порядок, ориентированный на людей». Гвардини провозглашает свою уверенность, «что на подходе новый образ. Он иной, чем образ античности; иной, чем образ Средневековья. И прежде всего принципиально иной, чем гуманизм, классицизм и романтизм... Мы видим его провозвест
428
ников. И сильнее всего в созданиях архитектуры... Я вижу здания, в которых техническая структура преобразована в подлинную форму». Проявляется «стремление к живому формообразованию», складываются «новые, глубоко лежащие точки, задающие ядро и порядок, и сила, создающая форму, выходит из них, нащупывая себе дорогу... Я ощущаю, как само собой происходит углубление... Везде на первый план выступает форма».
Среди книг, увезенных Мисом с собой в американское изгнание в 1938 г., было и это сочинение Гвардини, и ряд других. Он тщательно проработал эти труды, о чем свидетельствуют многочисленные подчеркивания и выписки. Кстати, он столь же интенсивно занимался и другими проявлениями «медиевализма» в 20-е годы, как, например, книгой 1922 г. «Мир Средневековья и мы» философа Пауля Людвига Ландсберга (1901-1944), эмигрировавшего уже в 1933 г.64 О серьезной работе Миса ван дер Роэ с этими книгами свидетельствуют его записные книжки 1927-1928 гг.65, и прежде всего до
клад «Предпосылки архитектурного творчества», с которым он выступал несколько раз в феврале и марте 1928 г.66 и который получил тогда много откликов в прессе67.
Темой Гвардини и Ландсберга являлись духовные и социальные связи человека в Средневековье, которые якобы были разорваны прежде всего номинализмом XIV и XV вв., а затем и Реформацией, гуманизмом и Просвещением, последствия чего, по их мнению, сказываются до сих пор. И как раз о том же самом говорил Мис ван дер Роэ весной 1928 г. - о «порядке Средневековья», об «организующей идее Средневековья» в духовной жизни и в обществе. В качестве визуализации этого порядка он выбрал Страсбургский собор (ил. 37). Он говорил, что существенная задача современной архитектуры состоит в том, чтобы вновь обрести ориентиры. Ведь архитектура - это «не только техническая проблема, проблема организационная и эко-
Ил. 37. Страсбург. Собор. Западный фасад
429
Ил. 38. JJ. Мис ван дер Роэ Германский павильон на Всемирной выставке в Барселоне 1929 г.
комическая». Архитектуру можно освоить, «только исходя из некоего духовного центра»; архитектура - это «всегда пространственное воплощение определенных духовных решений. Она привязана к своему времени и может проявляться, только решая актуальные задачи средствами своего времени»68. Мис говорил на эту тему как раз в то время, когда он занимался разработкой одного из важнейших произведений радикального современного зодчества -немецкого павильона для Всемирной выставки в Барселоне в 1929 г. (сохранился только как реконструкция - см. ил. 38)69. Это произведение Мис ван дер Роэ задумал как выводимое из «духа» готики «конструирование» символического порядка современной эпохи.
430
Еще раз: «готика» и «готический собор» в воображении современности
В заключение этих размышлений я выдвигаю четыре тезиса, которые подкреплю изображением Crown Hall (Иллинойсский технологический институт, Чикаго, 1950-1956), созданного Мисом ван дер Роэ (ил. 39).
1. Во-первых, «что такое готика?». Этот вопрос задается снова и снова. Чтобы ответить на него, мы должны, само собой разумеется, располагать точным знанием о средневековых постройках и средневековых сочинениях, проясняющих их смысл. Однако мы должны ясно осознавать также следующее: то, что мы называем «готический собор», является одновременно репрезентацией новой эпохи (die Modeme), предметом, который обязательным образом заново задается совокупностью образов Средневековья, присутствующих в нашей современности. Эта совокупность образов не является, конечно, досадным «загрязнением», помехой нашему взгляду на предмет, которую следует устранить, - он скорее существенный момент нашего восприятия, и более того, его существенное условие, условие как раз того, что мы узнаём этот предмет, что мы можем определить, чем «готический собор» является сейчас.
2. Во-вторых, мы узнаем при этом кое-что о характере исторического сознания новой эпохи (die Modeme) и нашего собственного настоящего. Эту историчность невозможно упразднить. Историзм «современности» невозможно обойти - хотя и предпринималось очень много попыток его преодолеть. «В поле исследовательского
Ил. 39. Л. Мис ван дер Роэ. Чикаго. Кроун-Холл (Иллинойсский технологический институт) (1950-1956)
431
Ил. 40. Реймс. Собор Нотр-Дам. Контрфорсы среднего нефа. (Фотография конца XIX в.)
Ил. 41. Париж. Зал машин на Всемирной выставке 1889 г.
интереса нашего времени стоит не только разрыв с традицией, совершенный эпохой современности, но ее сложное и противоречивое, подземное срастание с историей»70.
Медиевализм, о котором шла речь в этой статье, тоже можно отнести к числу таких попыток - по крайней мере во многих его конкретных проявлениях. Конечно, если от этой проблемы не отмахиваться, а осознать ее во всей ее важности, обходиться с ней можно по-разному. Скрытая под искусствоведческими одеждами философия истории Ханса Зедльмайра - философия противопоставления средневековой «целостности» современному «дроблению» - представляет собой один путь. На него вступали и другие. Однако продуктивное критическое осмысление исторического наследия в творчестве Миса ван дер Роэ открыло, как мы все еще можем видеть воочию, совершенно иные пути.
3. В-третьих, мы при всем этом узнаем кое-что о власти исторических образов и исторической архитектуры, об их воздействии на воображение нашей собственной эпохи, воздействии, которое можно увидеть (пускай не с первого взгляда, но наверняка со второго или третьего) в зданиях, возведенных Мисом ван дер Роэ.
4. И, наконец, в-четвертых. Общеизвестно, что существуют национальные архитектурные стили с их всякий раз специфической
432
политико-идеологической подосновой71. Но, без сомнения, существуют также (помимо индивидуальных предпочтений и вкусовых особенностей отдельных художников) национальные стили в восприятии исторических направлений в искусстве и того, как они всякий раз выражались в актуальной живописи и архитектуре. Это относится, помимо прочего, к пониманию и восприятию готического собора в XIX и XX вв. Тогда «романтические» течения и трактовки пересекались с совершенно иными, в которых особенно акцентировалось не романтическое воспевание Средневековья вообще или соборов в частности, но то, как они могут быть привязаны к будущему. Здесь стоило бы специально рассмотреть, как специфические национальные особенности сказывались всякий раз на выходившем в итоге соотношении между обеими этими тенденциями.
Особенно наглядные примеры дают английские прерафаэлиты72, у которых отнюдь не доминирует ностальгическое любование Средневековьем. Средние века были избраны средством прямого обозначения специфических проблем современности - сексуальности, женской эмансипации, миграций, социальных вопросов73. Феномены иного свойства предложила Франция. Очевидно, что готические соборы были восприняты во Франции прежде всего в качестве блистательного технического достижения. Вспомним еще раз Виол-ле ле Дюка. Бернд Карке недавно обратил внимание на то, как фотография конца XIX в. связала между собой великолепные конст-
Ил. 42. Недостроенный Кёльнский собор. Вид с севера. (Гравюра X. Винкельса по рисунку Т. Ферхаса, 1838-1840)
28 Образы в:
433
Ил. 43. Г. Остервальд. Кёльнские баррикады без их защитников (25 сентября 1848 г.)
руктивные решения готики с современными железными конструкциями74, как, например, контрфорс центрального нефа Реймсского собора (ил. 40) - с конструктивным решением Зала машин на Всемирной выставке в Париже 1889 г. (ил. 41). При такой игре воображения «Средневековье могло в любой момент вновь оказаться в центре политико-социальных смыслополаганий и оказаться нагруженным новым, сугубо идеологизированным смыслом»75. Нечто сходное можно было, как мы убедились, наблюдать и в Германии -в том, что касается переплетения готики и экспрессионизма76.
Завершение строительства Кёльнского собора в ходе XIX в. также оказалось процессом, в котором отразились крупные политикообщественные вопросы того времени, причем отразились в высшей степени противоречиво. В 40-е годы XIX в. даже в далеком Париже возникло общество помощи делу завершения строительства собора, членами которого были даже жившие во французском изгнании лидеры либерального движения Генрих Гейне и Яков Венедей77. (Правда, как раз немецкие либералы, жившие в Париже в 40-х го
434
дах, совершенно перессорились именно по вопросу о завершении строительства собора в Кёльне.) Поскольку во Франции готические соборы привлекли всеобщее внимание благодаря тому, что конструктивная система готики получила там столь высокую оценку, а также, разумеется, оттого, что готика была открыта в качестве французского «национального стиля», то мечта о готике как о «единственно обязательном стиле сакральной архитектуры» и даже об «обновлении христианства при помощи этого стиля»78 отошла здесь на второй план. В Германии же, напротив, общественно-политическая полемика о модернизации и о недостатках модернизирующегося общества велась с 40-х годов XIX в. на примере готического собора, в особенности Кёльнского. В этой полемике приняли участие и Артур Шопенгауэр, и Генрих Гейне, и Карл Маркс, и Август Рейхен-шпергер, впоследствии депутат от католической партии центра. И об этом тоже свидетельствуют изображения. Они показывают незавершенный собор в романтическом оформлении (1838-1840) (ил. 42), они показывают баррикаду в центре Кёльна в сентябре 1848 г. на фоне по-прежнему не достроенного собора (ил. 43). И они показывают технизированный образ будущего на гравюре 1860 г. (ил. 44) с медленно завершаемым собором на переднем плане справа, с пароходами на Рейне - и новым, ведущим к собору железнодорожным мостом, который, конечно же, мог быть спроектирован только в готическом стиле - и ни в каком ином.
Ил. 44. Кёльн с высоты птичьего полета. (Гравюра Карсе и А.Х. Пайне, ок. 1860)
435
1 К этой теме см.: Oexle O.G. Das entzweite Mittelalter // Die Deutschen und ihr Mittelalter. Themen und Funktionen modemer Geschichtsbilder vom Mittelalter / Hrsg. G. Althoff. Darmstadt, 1992. S. 7-28, 168-177; Idem. Die Modeme und ihr Mittelalter. Eine folgenreiche Problemgeschichte // Mittelalter und Modeme. Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Welt / Hrsg. P. Segl. Sigmaringen, 1997. S. 307-364; Idem. Das Mittelalter als Waffe. Ernst H. Kantorowicz’ «Kaiser Friedrich der Zweite» in den politischen Kontroversen der Weimarer Republik // Idem. Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Studien zu Problemgeschichten der Modeme. Gdttingen, 1996. S. 163-215. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 116; Эксле О.Г. Немцы не в ладу с современностью. «Император Фридрих II» Эрнста Канторовича в политической полемике времен Веймарской республики И Одиссей: Человек в истории 1996. М., 1996. С. 213-235; Idem. Vom «Staat» zur «Kultur» des Mittelalters. Problemgeschichten und Paradigmenwechsel in der deutschen Mittelalterforschung // Die Deutung der mittelalterlichen Gesellschaft in der Modeme I Hrsg. N. Fryde, P. Monnet, O.G. Oexle, L. Zygner. Gottingen, 2006. S. 15-60. (Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte, 217). См., кроме того, статьи в сборнике: Bilder gedeuteter Geschichte. Das Mittelalter in der Kunst und Architektur der Modeme / Hrsg. O.G. Oexle, A. Petneki, L. Zygner. Gdttingen, 2004. Bde 1-2. (Gottinger Gesprache zur Geschichtswissenschaft, 23).
2 О проблеме «готика и современность» см.: Niehr К. Gotikbilder -Gotiktheorien. Studien zur Wahmehmung und Erforschung mittelalterlicher Architektur in Deutschland zwischen ca. 1750 und 1850. B., 1999; Carqut В. Epistemische Dinge. Zur bildlichen Aneignung mittelalterlicher Artefakte in der Modeme // Bilder gedeuteter Geschichte. Bd. 1. S. 55-162. По теме «готический собор и современность» см.: Borger-Keweloh N. Die mittelalterlichen Dome im 19. Jahrhundert. Miinchen, 1986; Das Kolner Dombaufest von 1842. Ernst Friedrich Zwimer und die Vollendung des Kolner Dorns I Hrsg. N. Gussone. Ratingen, 1992; Leniaud J.-M. Les cathedrales aux XIXe si£-cle. P., 1993; Recht R. Le croire et le voir. L’art des cathddrales, ХПе - XVe sifccle. P., 1999. P. 19 и далее; Niehr К. Die perfekte Kathedrale. Imaginationen des monumentalen Mittelalters im franzdsischen 19. Jahrhundert // Bilder gedeuteter Geschichte. Bd. 1. S. 163-221; Kurmann P. Die gotische Kathedrale - Ordnungskonfiguration par excellence? // Ordnungskonfigurationen im Hohen Mittelalter / Hrsg. von B. Schneidmtiller, S. Weinfurter. Ostfildern, 2006. S. 279-302. (Vortrage und Forschungen, 64).
3 Ср. словарную статью «Representation» в работе: Historisches Wdrterbuch der Philosophie. Darmstadt, 1992. Bd. 8. Sp. 790 и далее; Die Representation der Gruppen. Texte - Bilder - Objekte / Hrsg. von O.G. Oexle, A. von Hiilsen-Esch. Gottingen, 1998. (Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte, 141).
4 Binding G. Was ist Gotik? Eine Analyse der gotischen Kirchen in Frankreich, England und Deutschland 1140-1350. Darmstadt, 2000. S. 13 и далее.
5 Huysmans J.-К. La cath£drale. P., 1992 (перепечатка издания 1908 г.).
6 Цитируется по вступлению, написанному Alain Vircondelet в издании 1992 г. (Р. 42).
7 Ibid. Р. 44.
8 Sedlmayr Н. Die Entstehung der Kathedrale. Zilrich etc., 1950 (перепечатка 1988 г.) Последующие цитаты см.: Ibid. S. 95 и 97.
9 Цит. по: Binding G. Op. cit. S. 32.
10 См. об этом перепечатанную в сборнике моих работ статью 1992 г.: Oexle O.G. Das Mittelalter und das Unbehagen an der Modeme. Mittelalterbeschworungen in der Weimarer Republik und danach Ц Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Studien zu Problemgeschichten der Modeme. Gottingen, 1996. S. 137-162, здесь S. 159. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 116).
436
11 Sedlmayr H. Op. cit. S. 45. След, цитаты см.: Ibid. S. 9, 100, 503, 507.
12 Ibid. S. 511. След, цитата - Ibid. S. 512.
13 Idem. Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit. Frankfurt a. M., 1983.
14 Ibid. S. 143.
15 См. об этом статьи в работе: Mittelalter-Rezeption. Ein Symposion / Hrsg. P. Wapnewski. Stuttgart, 1986. Понятие «рецепция» предполагает, что сначала есть «нечто», которое и воспринимается (см. констатацию литературоведа Йоахима Бумке: «Von Mittelalter-Rezeption kann man sinnvollerweise erst dann sprechen, wenn das Mittelalter zu Ende ist» - «О рецепции Средневековья имеет смысл говорить лишь после того, как Средневековье окончилось», Ibid. S. 7). Примерно то же самое относится и к рецепции литературной эстетики, и к рецепции юридической: должны быть такие инстанции, как автор, произведение и реципиент, сначала должно быть некое «право», которое затем усваивается; ср. словарные статьи: Jauss H.R. Rezeption, RezeptionsUsthetik // Historisches Worterbuch der Philosophic. Darmstadt, 1992. Bd. 8. Sp. 996 и далее; SchanbacherD. Rezeption, juris-tische // Ibid. Sp. 1004 и далее.
16 См. об этом литературу, указанную выше, в примеч. 2.
17 См. об этом прежде всего статьи в сборнике: Bilder gedeuteter Geschichte.
18 Ср.: Oexle O.G. Bilder gedeuteter Geschichte. Eine Einfiihrung // Bilder gedeuteter Geschichte. Bd. 1. S. 9-30.
19 См. об этом статьи: Oexle O.G. Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus; Idem. Kulturelles Gedachtnis im Zeichen des Historismus // Bauten und Orte als Trager von Erinnerung. Die Erinnerungsdebatte und die Denkmalpflege / Hrsg. H.-R. Meier, M. Wohlleben. Zurich, 2000 S. 59-75. (Veroffentlichungen des Institute fur Denkmalpflege an der ETH Zurich, 21); ср.: Он же. Культурная память под воздействием историзма // Одиссей: Человек в истории 2001. М., 2001. S. 176-198.
20 Об этом см.: Oexle O.G. Kulturelles Gedachtnis im Zeichen des Historismus. S. 65-66.
21 Hofmann W. Das entzweite Jahrhundert. Kunst zwischen 1750 und 1830. MUnchen, 1995. S. 129.
22 Cp.: Die Praraffaeliten. Dichtung, Malerei, Asthetik, Rezeption I Hrsg. G. Honnighausen. Stuttgart, 1992; Barringer T. Die Praraffaeliten. Wie sie malten, wie sie dachten, wie sie lebten. Koln, 1998; Gothic Revival. Architecture et arts decoratifs de I’Angleterre victorienne. P., 1999; Natur als Vision. Meisterwerke der englischen Praraffaeliten. Ausstellungskatalog. B., 2004.
23 M&le E. L”art religieux du XIII sifccle en France. P., 1898. Cp.: Schmitt J.-Cl. L’Historien et les images // Der В lick auf die Bilder. Kunstgeschichte und Geschichte im Gesprach / Hrsg. O.G. Oexle. Gottingen, 1997. S. 7-51,14, далее. (Gottinger Gesprache zur Geschichtswissenschaft, 4).
24 О Кёльнском соборе см. помимо указанного: Borger-Keweloh N. Die mitte-lalterlichen Dome im 19. Jahrhundert. MUnchen, 1986, - новую работу: Kramp M. Heinrich Heines Kolner Dom. Die «armen Schelme vom Domverein» im Pariser Exil, 1842-1848. MUnchen; B., 2002. (Passerelles, 2).
25 К последующему см.: Oexle O.G. Die Modeme und ihr Mittelalter. S. 329 и далее.
26 Об этом см. прежде всего: Bushart М. Der Geist der Gotik und die expres-sionistische Kunst. Kunstgeschichte und Kunsttheorie 1911-1925. MUnchen, 1990.
27 О «кризисе историзма» см.: Oexle O.G. Troeltschs Dilemma // Ernst Troeltschs «Historismus» / Hrsg. F. Wilhelm Graf. Gutersloh, 2000. S. 23-64. (Troeltsch-Studien, 11);
437
Idem. Aktueller Forschungsschwerpunkt: Krise des Historismus - Krise der Wirklichkeit, 1880 bis 19321I Max-Planck-Gesellschaft. Jahrbuch 2000. Gottingen, 2000. S. 803-806.
28 Bushart M. Op. cit.
29 Ullrich W. Der Bamberger Reiter und Uta von Naumburg // Deutsche Erinnerungsorte / Hrsg. Ё. Francois, H. Schulze. Munchen, 2001. Bd. 1. S. 322-334,328. Cp.: Schonemann H. Fritz Lang. Filmbilder - Vorbilder. B., 1992. S. 34-35.
30 Pinder IV. Sonderleistungen der deutschen Kunst. Munchen, 1944. Abb. 26. S. 54. О В. Пиндере см. ниже.
31 О Вальтере Хеге см. каталог: Dom - Tempel - Skulptur. Architek-turphotographien von Walter Hege / Hrsg. A. Beckmann, B. von Dewitz. Koln, 1993. О снимках Бамбергского всадника, сделанных Хеге, см.: Ibid. S. 160-161, а также S. 273. Nr. 65 и далее. О сотрудничестве Хеге с Пиндером см.: Oexle O.G. Leitbegriffe - Deutungsmuster - Paradigmenkampfe. Uber Vorstellungen vom «Neuen Europa» in Deutschland 1944 // Nationalsozialismus in den Kulturwissenschaften I Hrsg. H. Lehmann, O.G. Oexle. Bd. 2: Leitbegriffe - Deutungsmuster - Paradigmenkampfe. Erfahrungen und Transformationen im Exil. Gottingen, 2004. (Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fur Geschichte, 211). S. 13-40, здесь S. 16 и далее.
32 Об историческом романе и в особенности о романах, посвященных Средневековью, выходивших во время так называемого «кризиса Веймарской республики», см.: Heyl В. Geschichtsdenken und literarische Modeme. Zum historischen Roman in der Weimarer Republik. Tubingen, 1994.
33 См. об этом: Oexle O.G. Das Mittelalter und das Unbehagen an der Modeme. О Германе Гессе см.: Ibid. S. 151-152.
34 О Германе Брохе и его романе о Средневековье и Ренессансе см.: Oexle O.G. Die Modeme und ihr Mittelalter. S. 345.
35 К этой теме см.: Angenendt A. Liturgik und Historik. Freiburg; Basel; Wien, 2001. (Quaestiones disputatae, 189). Ср. также указания на дебаты о позднесредневековом номинализме и его «разлагающем» воздействии прежде всего у Романо Гвардини и архитектора Людвига Миса Ван дер Роэ. См. о них ниже.
36 О наумбургской Уте см.: Ullrich IV. Der Bamberger Reiter und Uta von Naumburg; Idem. Uta von Naumburg. Eine deutsche Ikone. B., 1998.
37 Так в работе: Ullrich W. Der Bamberger Reiter. S. 328.
38 Idem. Uta von Naumburg. S. 26.
39 Oexle O.G. Leitbegriffe - Deutungsmuster - Paradigmenkampfe. S. 16-17.
40 О декларациях В. Пиндера в 1933 г. см.: Oexle O.G. Das Mittelalter und das Unbehagen an der Modeme. S. 156 и далее.; Idem. Die Modeme und ihr Mittelalter. S. 352 и далее.
41 Bruno Taut, Natur und Fantasie 1880-1938 / Hrsg. von M. Speidel. B., 1995; о стеклянном павильоне см.: Ibid. S. 125 и далее. Цитата приводится из работы: Taut В. Friihlicht in Magdeburg // Fruhlicht. 1921. Bd. 1. S. 2-4, здесь S. 3.
42 Ibid. S. 3.
43 Цитата приводится no: Bushart M. Op. cit. S. 173-174.
44 Цит. в работе: Oexle O.G. Die Modeme und ihr Mittelalter. S. 337.
45 Deuchler F. Lyonel Feininger. Sein Weg zum Bauhaus-Meister. Leipzig, 1996.
46 Bushart M. Op. cit. S. 184.
47 Из необозримой литературы об архитекторе Мисе ван дер Роэ назовем здесь прежде всего каталоги: Mies van der Rohe. Mobel und Bauten in Stuttgart, Barcelona, Brno. Weil am Rhein, 1998; Mies in Berlin. Ludwig Mies van der Rohe. Die Berliner Jahre 1907-1938 / Hrsg. T. Riley, B. Bergdoll. Munchen; L., N.Y., 2001. О Форуме культуры в Берлине с постройками Шароуна и Миса Ван дер Роэ и
438
их архитектурном облике, заданном историей данного места, см.: Dolff-Bonekamper G. Das Berliner Kulturforum. Architektur als Medium politischer Konflikte Ц Bauten und Orte... S. 133-143.
48 Newneyer F. Mies van der Rohe. Das kunstlose Wort. Gedanken zur Baukunst. B., 1986. О рождении замысла этого тома см. предисловие автора (S. 7-8) и прежде всего введение главного редактора «Die Tradition der Rezeption: Mies van der Rohe in der Geschichtsschreibung zur modemen Architektur» (S. 9 и далее). Раздел, посвященный «манифестам, текстам и докладам» этого архитектора, дается в качестве приложения (S. 295 и далее).
49 См. выше примеч. 28.
50 См. об этом: Oexle O.G. Die Modeme und ihr Mittelalter. S. 338 и далее.
51 Эта речь появилась в 1930 г. под заголовком «Die neue Zeit», перепечатана в книге: Newneyer F. Op. cit. S. 372.
52 Так считает Ф. Ноймайер: Ibid. S. 10.
53 Эта речь напечатана там же (S. 380-381).
54 К этому см. статью «Ordnung» в Historisches Worterbuch der Philosophic. Darmstadt, 1984. Bd. 6. Sp. 1249-1309; из последних работ, представляющих взгляд со стороны медиевистики, см.: Ordnungskonfigurationen...
55 К этому см.: Newneyer F. Op. cit. S. 58.
56 Из рукописного черновика доклада на юбилейном заседании Немецкого Веркбунда в октябре 1932 г. в Берлине; напечатано: Ibid. S. 376.
57 Berlage Н.Р. Gedanken uber Stil in der Baukunst. Leipzig, 1905. S. 47-48.
58 Приведено в книге: Newneyer F. Op. cit. S. 101.
59 Перепечатано: Ibid. S. 303 и далее.
60 Ibid. S. 303.
61 Приведено в книге: Newneyer F. Op. cit. S. 100.
62 Ibid. S. 101.
63 Guardini R. Briefe vom Comer See. Mainz, 1927; последующие цитаты см. по третьему изданию (1953 г.) на S. 25, 60 и далее, 80, 84-85, 88,96, 111 и далее. Выписки Миса см.: Newneyer F. Op. cit. S. 340 и далее.
64 О Ландсберге и его книге 1922 г. о Средневековье см.: Oexle O.G. Das Mittelalter und das Unbehagen an der Modeme. S. 139 и далее.
65 Приведено в книге: Newneyer F. Op. cit. S. 327 и далее.
66 Напечатано: Ibid. S. 362-365.
67 См. отзывы в прессе, опубликованные: Ibid. S. 365-366.
68 Ibid. S. 362. В 1928 г. Мисс Ван дер Роэ так высказывался в связи с обликом Страсбургского собора: «Все направлено к одной духовной цели. Познание предшествует деянию. Вера и знание еще не разошлись друг с другом. Эта идея порядка является отправной точкой той перемены, которую мы хотим выявить». И далее: «Разложению средневекового образа жизни предшествует разложение духовной структуры. Процесс этого разложения начинается с попыткой Дунса Скота обеспечить для знания отдельную собственную область и собственную правоту. При преувеличении понятия всемогущества у Вильгельма Оккама разрушается идея порядка. От отнятого порядка остаются одни только пустые имена. В победе номинализма выражается победа духа, обернувшегося к реальности задолго до того, как он стал выражать себя в самой реальности. Дух этот был антисредневековым. С этого начинается Ренессанс... Если в Средневековье человек был внутренне и внешне связан с сообществом, то теперь происходит великое высвобождение индивида, видящего свою правоту в осуществлении своих планов и развитии своих сил». По поводу представления П.Л. Ландсберга о «разложении» средневекового «порядка» позднесредневеко
439
вым номинализмом см.: Oexle O.G. Das Mittelalter und das Unbehagen an der Modeme. S. 141-142.
69 Об этой постройке см.: TegethoffW. Der Deutsche Pavilion // Mies van der Rohe. Mobel und Bauten. S. 145-177.
70 Neumeyer F. Op. cit. S. 22.
71 См. об этом: Beyme К. von. Die Kunst der Macht und die Gegenmacht der Kunst. Studien zum Spannungsverhaltnis von Kunst und Politik. Frankfurt a. M., 1998. S. 221 и далее.
72 См. об этом выше, примеч. 23.
73 См. об этом: Oexle O.G. Vom «Staat» zur «Kultur» des Mittelalters. Absch. I.
74 Carque B. Op. cit. S. 152 и далее.
75 Ibid. S. 160.
76 См. выше.
77 Об этом см.: Kramp М. Op. cit.
78 Ibid. S. 96.
СОКРАЩЕНИЯ
ГИМ ЖМНП ПЛДР ПСЗ ПСРЛ РГАДА РГИА РИБ С6.РИО ТОДРЛ - Государственный исторический музей - Журнал Министерства народного просвещения - Памятники литературы Древней Руси - Полное собрание законов Российской империи - Полное собрание русских летописей - Российский государственный архив древних актов - Российский государственный исторический архив - Российская историческая библиотека - Сборник Русского исторического общества - Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом)
ЦГАКФФД - Центральный государственный архив кино-фоно-
MGH PG PL фотодокументов - Monumenta Germaniae Historica - Patrologiae cursus completus. Series graeca - Patrologiae cursus completus. Series latina
Все иллюстрации в настоящем сборнике воспроизводятся по изданию: Bilder der Macht in Mittelalter und Neuzeit. Byzanz-Okzident-RuBland I Hrsg. von O.G. Oexle und M.A. Bojcov. Gottingen: Vanden-hoeck&Ruprecht, 2007.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
ВАСИЛЕВСЫ
М.В. Бибиков. «Блеск и нищета» василевсов: структура и семиотика власти в Византии 11
М.Т. Фёген. «Armis et legibus gubemare»: о кодировке политической власти в Византии 23
ТЕКСТЫ
И.Н. Данилевский. Дискурс власти в «Повести временных лет» 37
Ф. Рексрот. Мир образов историографии Нового времени и средневековый имагинарий. О низложении английского короля
Эдуарда II в 1327 г. 51
О.Е. Кошелева. Указотворчество Петра Великого и формирование образа его власти 78
ИЗОБРАЖЕНИЯ
III. Швайцер. Exemplum servitutis? Судьба античной темы титана Атласа в Средние века и появление атлантов в средневековой архитектуре 95
Б. Карке. «Non erat homo, пес bestia, sed imago». Монументальная пластика при дворе короля Франции Филиппа IV и ее коммуникативные особенности 150
Б. Карке. Кризис королевской власти - кризис репрезентации? Придворные заказы на художественные произведения в условиях полицентризма власти во Франции на рубеже XIV и XV вв. 202
ЦЕРЕМОНИИ
А.В. Лаврентьев. Лжедмитрий I: от царя к императору 245
ИЛ. Андреев. Образ шествующей власти. Первые Романовы в церковных и придворных церемониях................... 254
442
ПРАЗДНИКИ
Л.А. Пименова. Символический образ власти между Старым порядком и Революцией: от помазания короля на царство к празднику Федерации 277
М. Хилъдермайер. Символика Русской революции и первых лет советской власти..................................... 291
ГОРОДА
О.И. Тогоева. Воспоминания о власти. Реймс 1431 г. 307
Ш. Швайцер. Идентичность в зеркале истории. Визуальная и архитектурная репрезентация коммунальной идентичности в позднесредневековой Вероне 326
А.П. Шевырев. Петербург и Москва: две столицы, два образа власти 362
СОБОРЫ
АЛ. Павлова. Национальная идея в архитектуре соборных храмов России XIX в......................................... 387
О.Г. Эксле. Готический собор как репрезентация эпохи современности 401
Сокращения........................................... 441
Научное издание
ОБРАЗЫ ВЛАСТИ НА ЗАПАДЕ, В ВИЗАНТИИ И НА РУСИ
Средние века Новое время
Утверждено к печати Ученым советом Институт&всеобщей истории Российской академии наук
Заведующая редакцией НЛ. Петрова Редактор МЛ. Береснева Художник В.Ю. Яковлев Художественный редактор Т.В. Болотина Технический редактор В.В. Лебедева Корректоры
ЗД. Алексеева, Г.В. Дубовицкая
Подписано к печати 08.06.2(Х)8 Формат 60 х 90 V|6- Гарнитура Таймс Печать офсетная
Усл.печ.л. 28,0 + 0,2 вкл. Усл.кр.-отг. 29,3. Уч.-изд,л. 33,0 Тип. зак. 3402
Издательство “Наука" 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: sccret@naukaran.ru www.naukaran.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография “Наука”» 199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
ОБРАЗЫ ВЛАСТИ на Западе, в Византии и на Руси