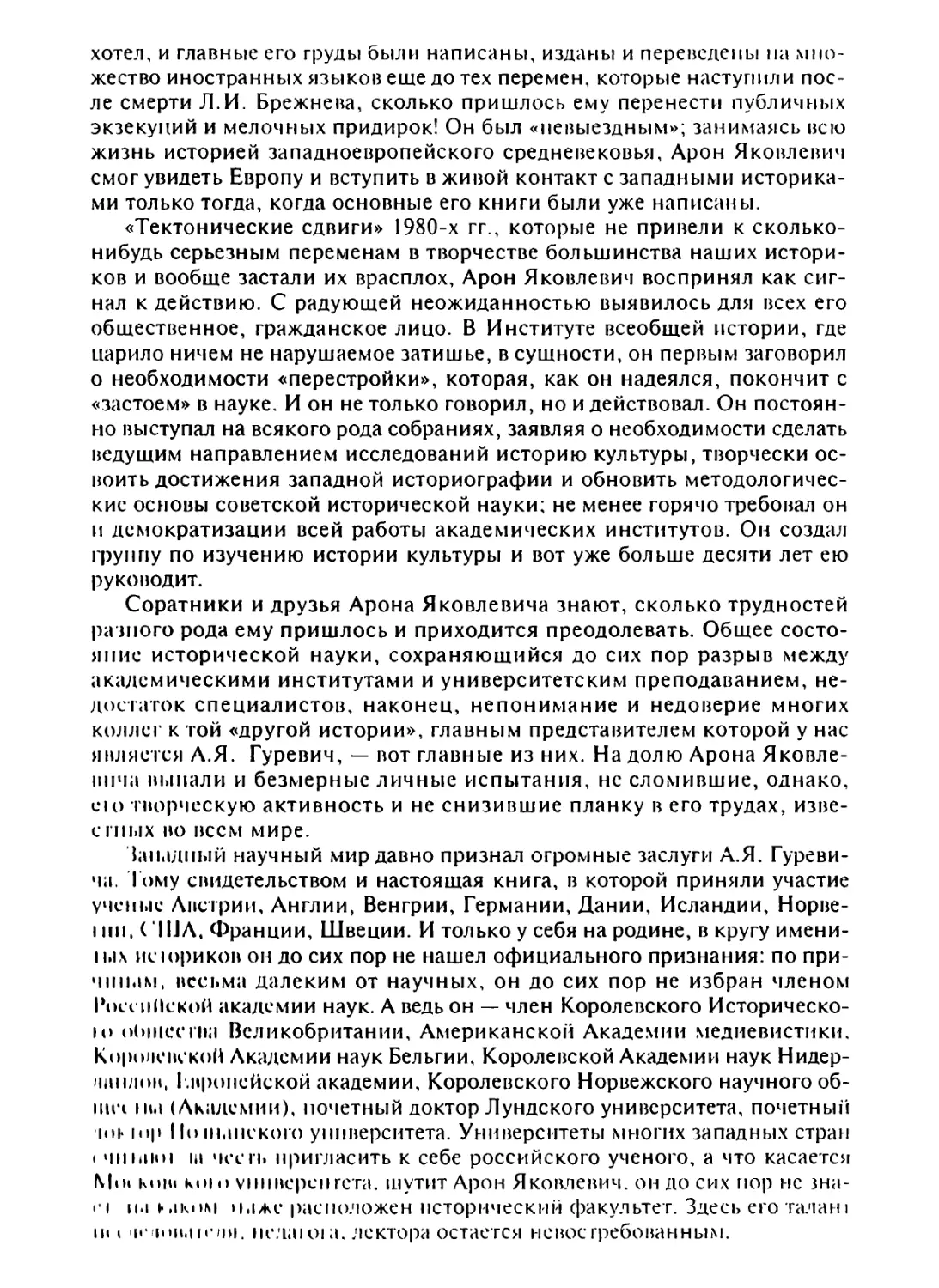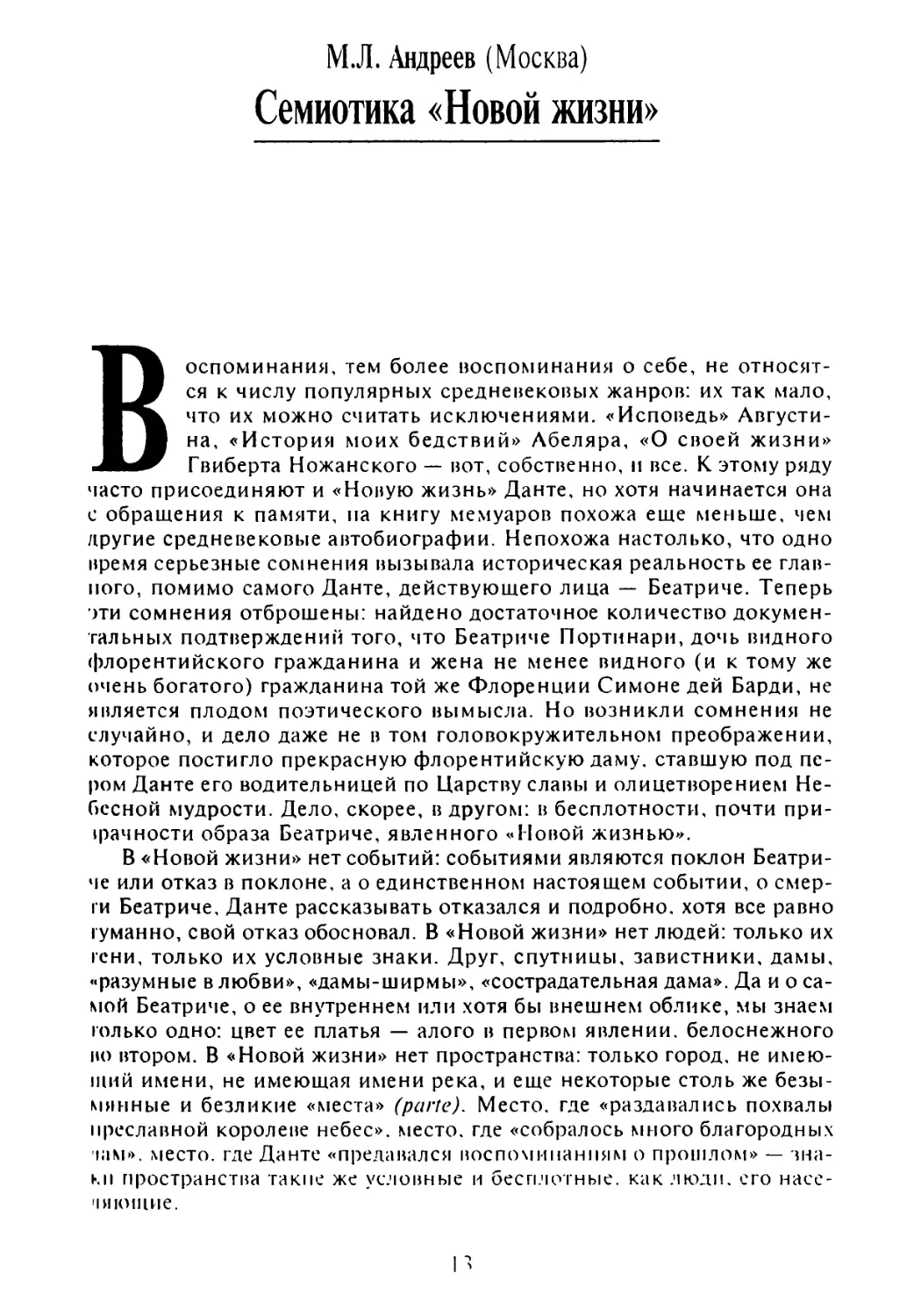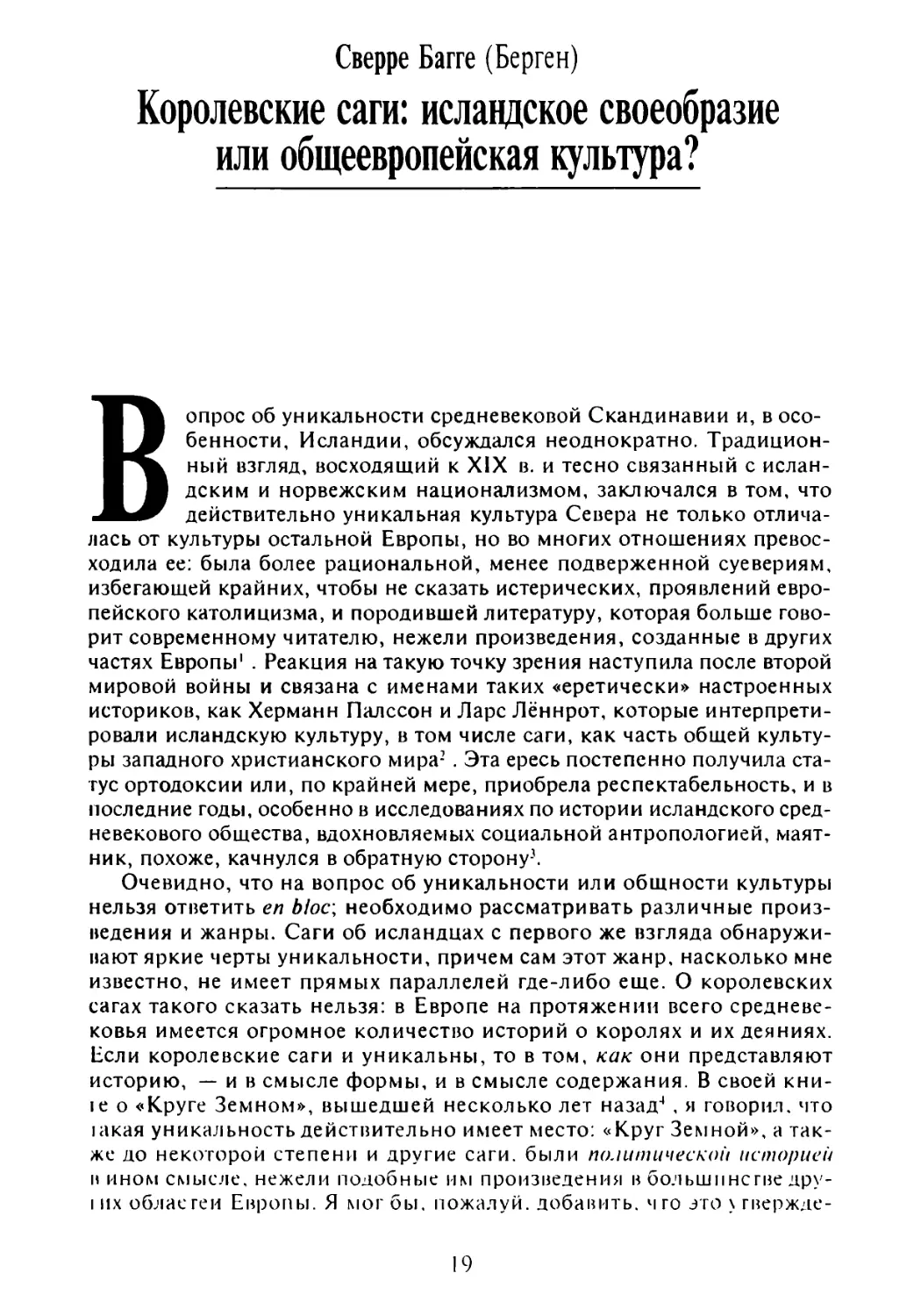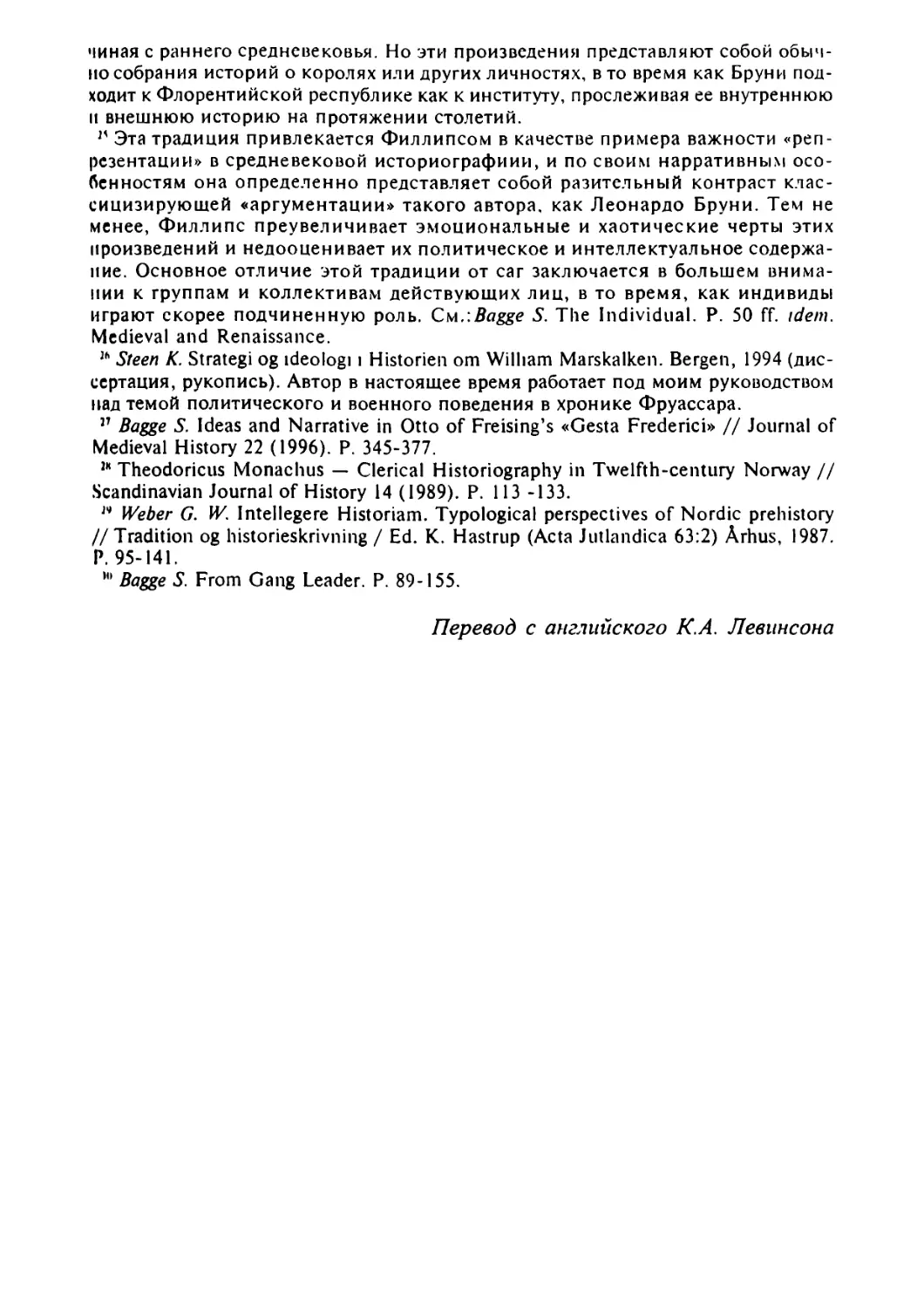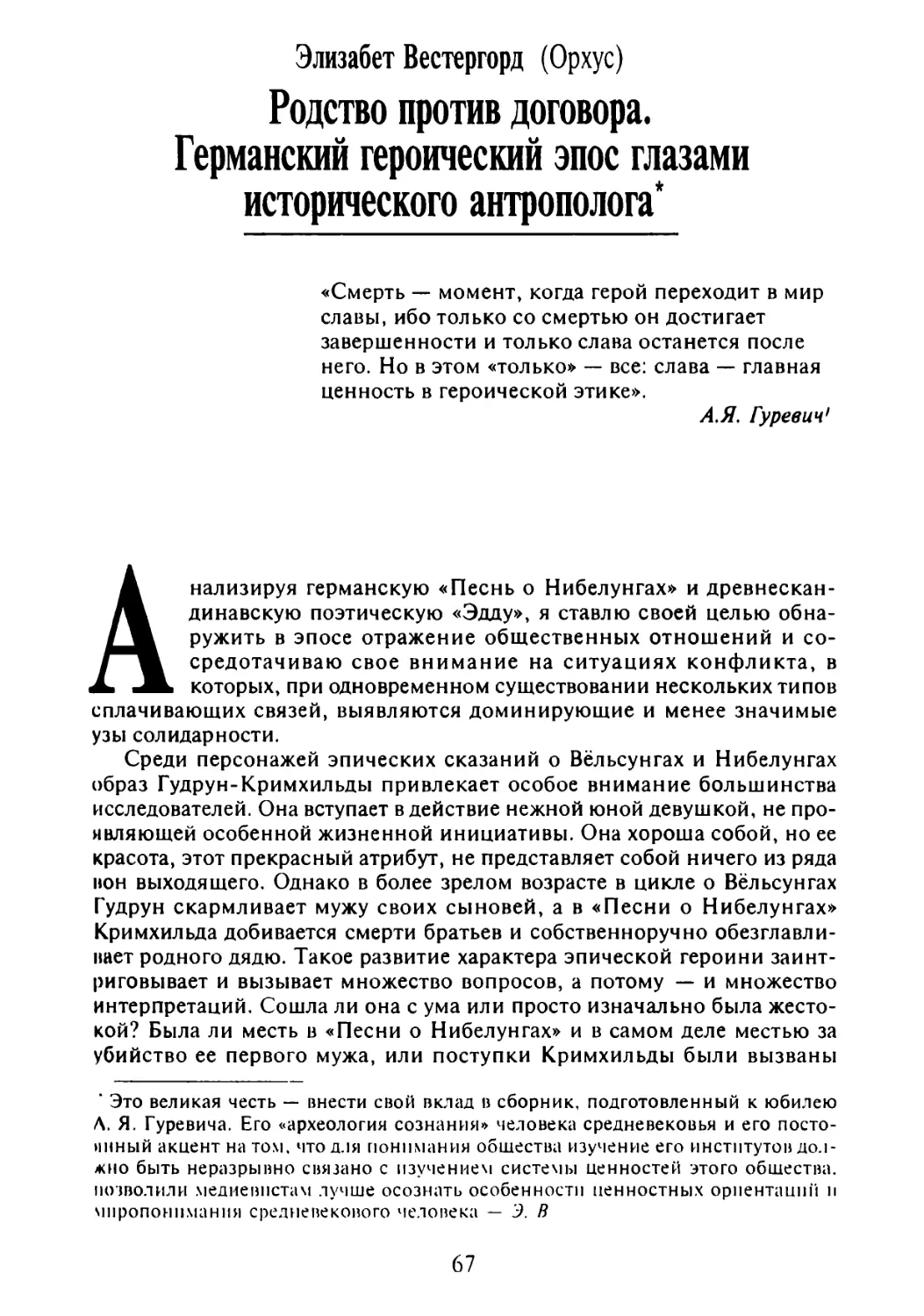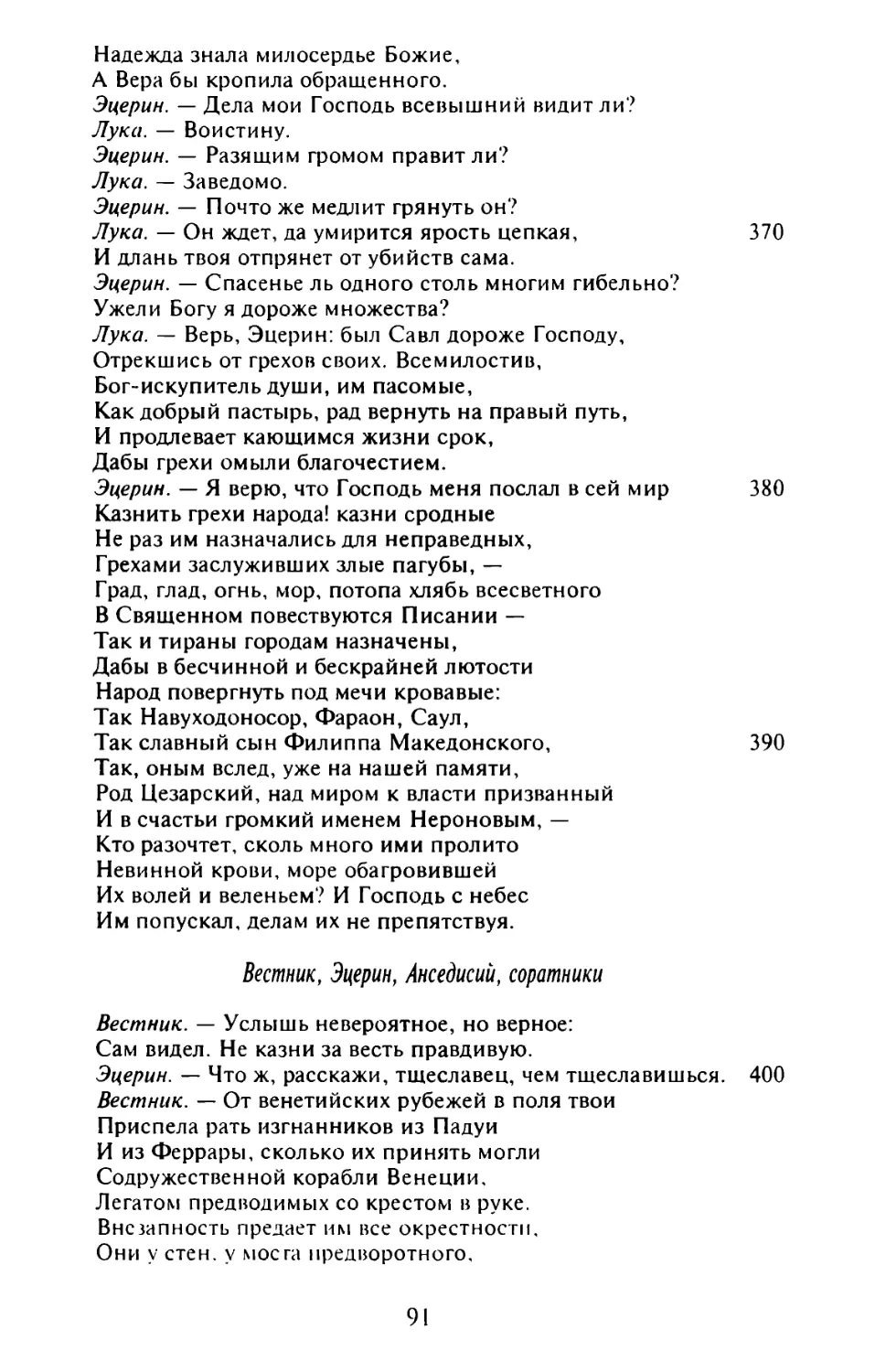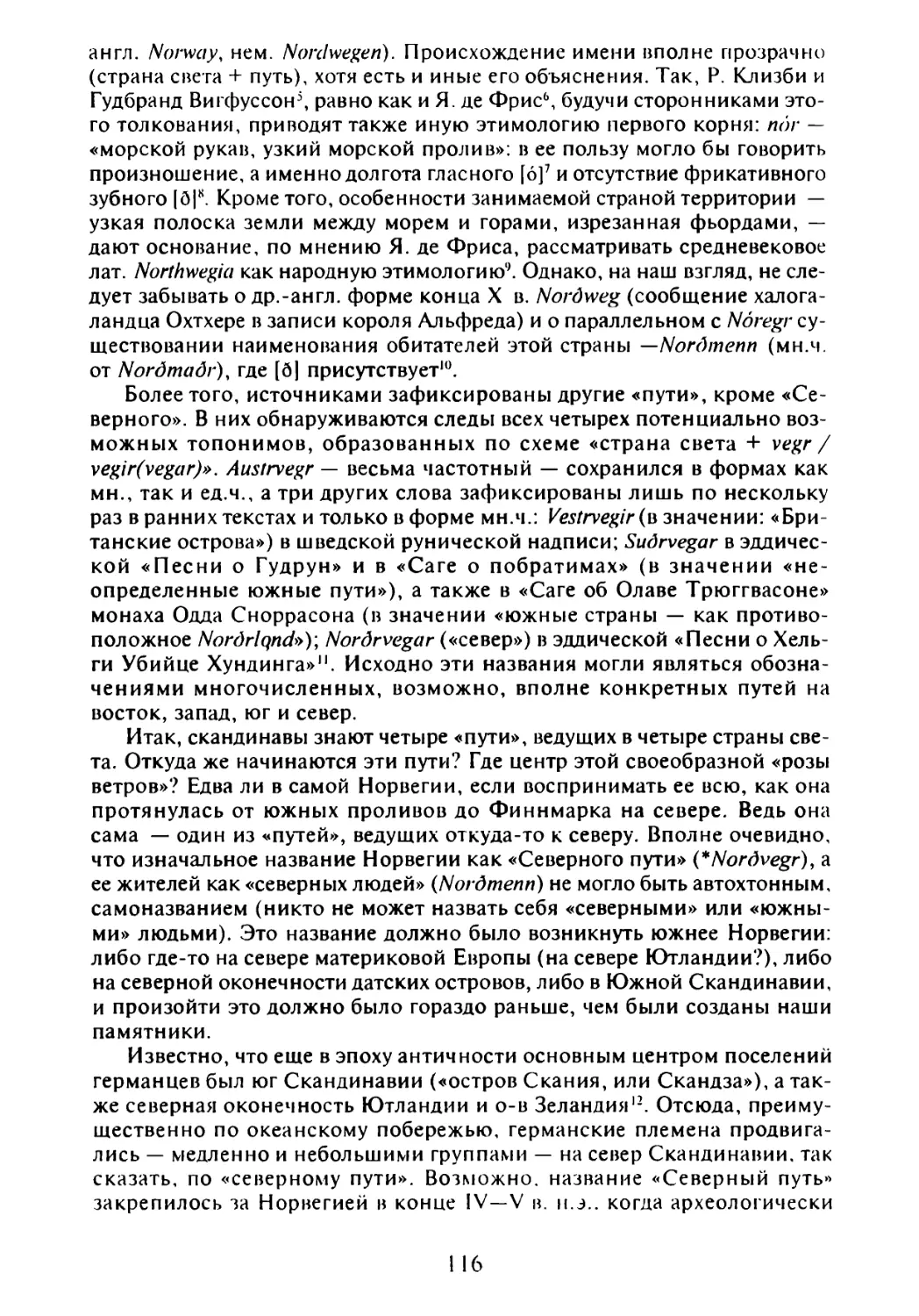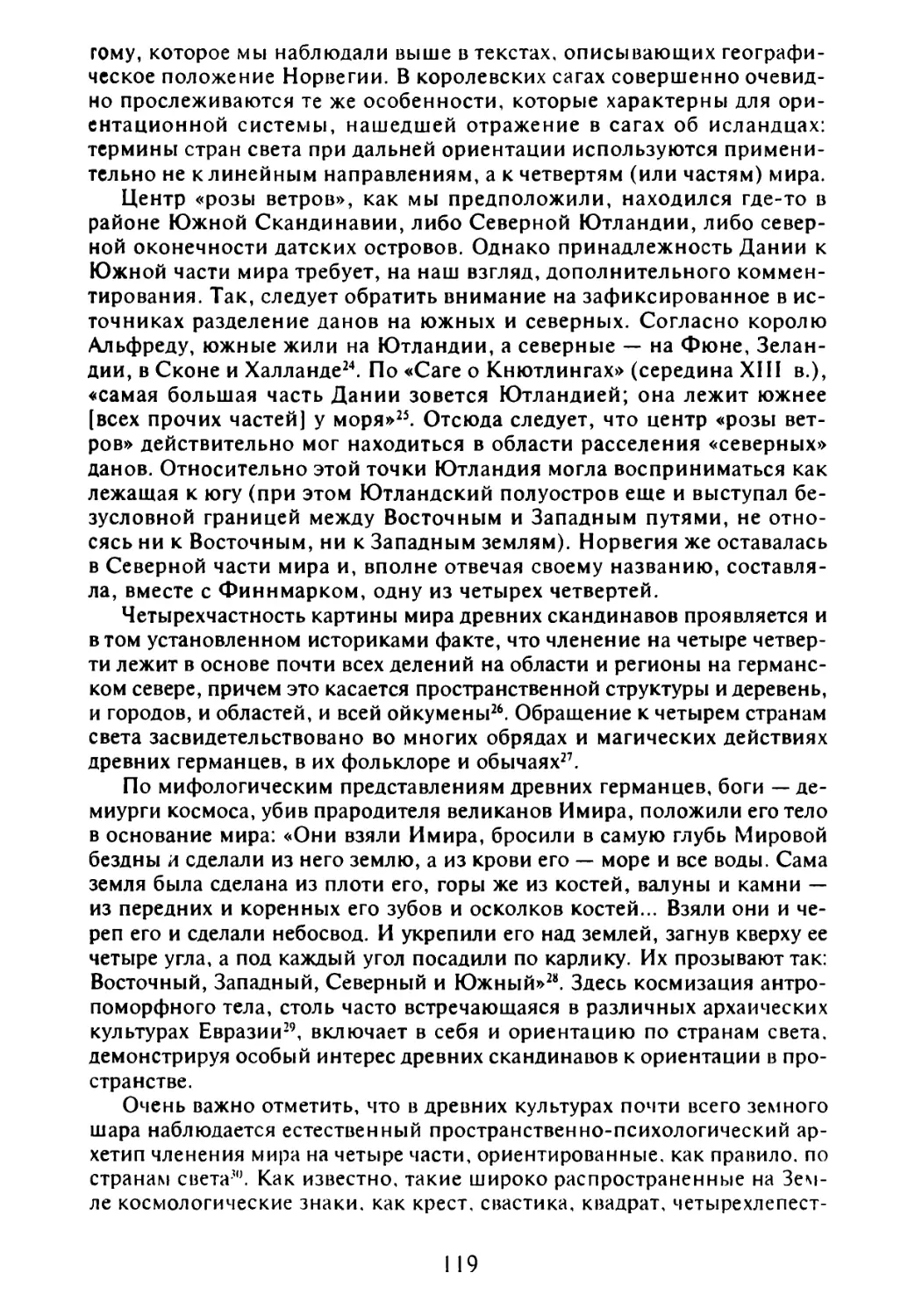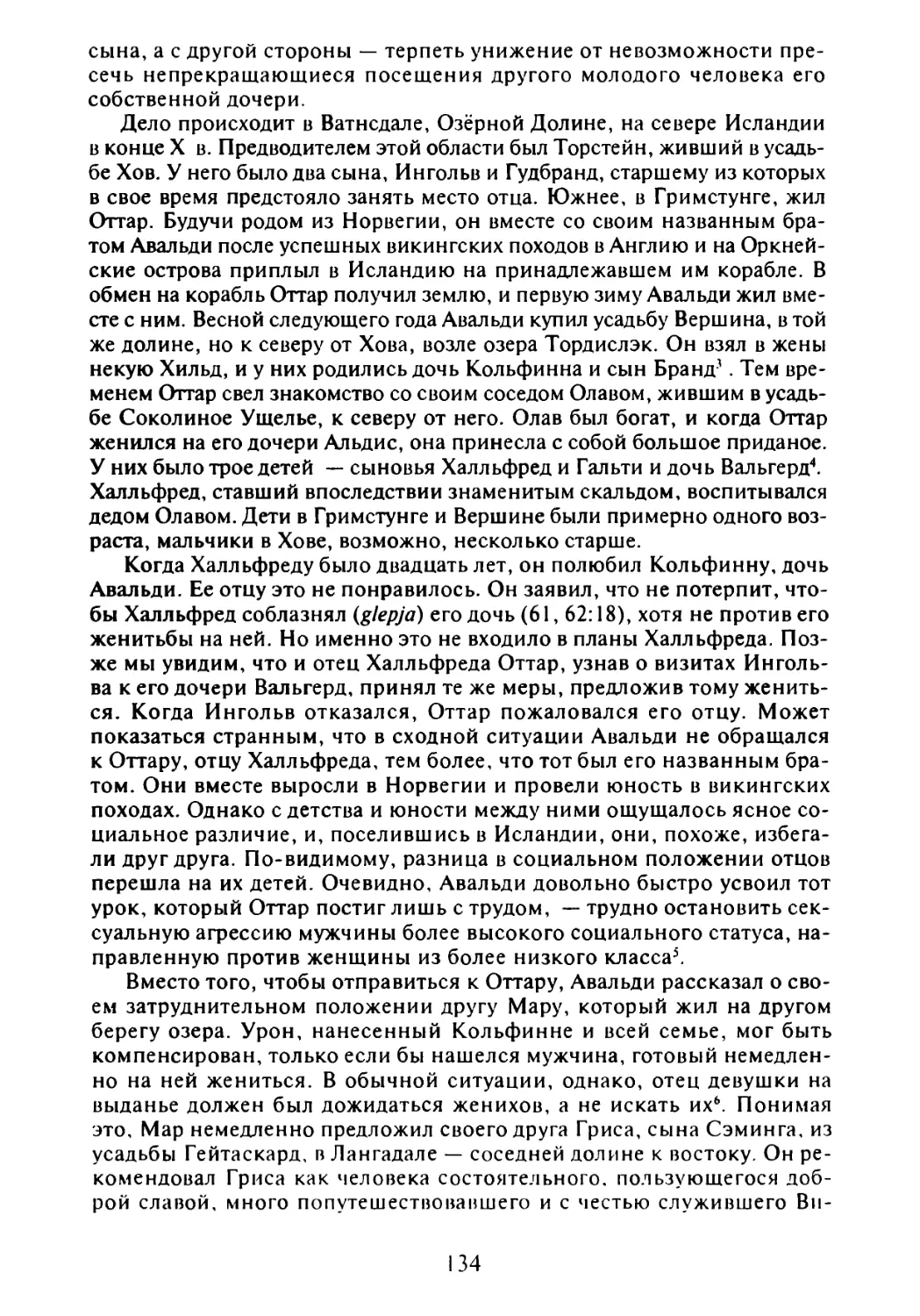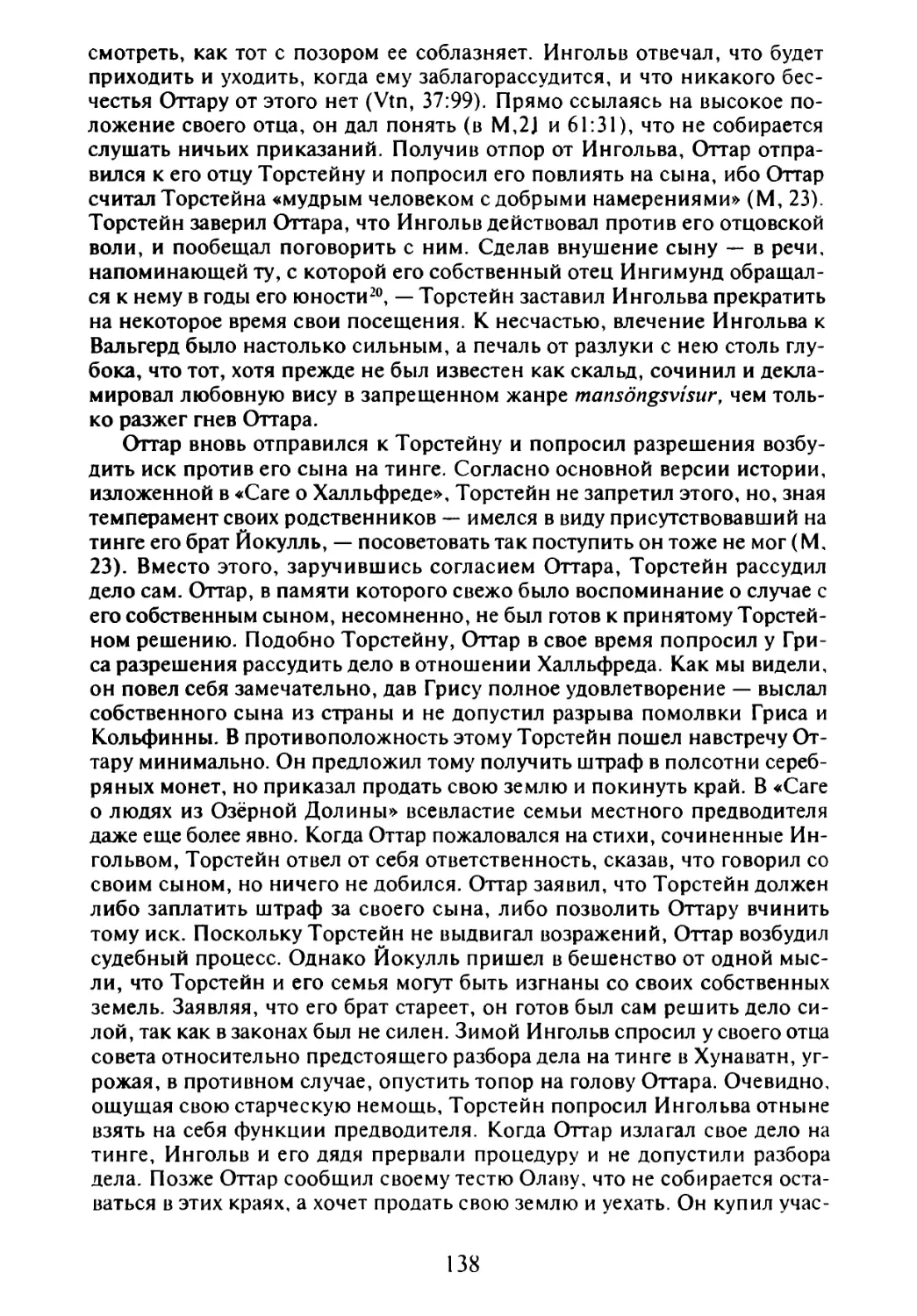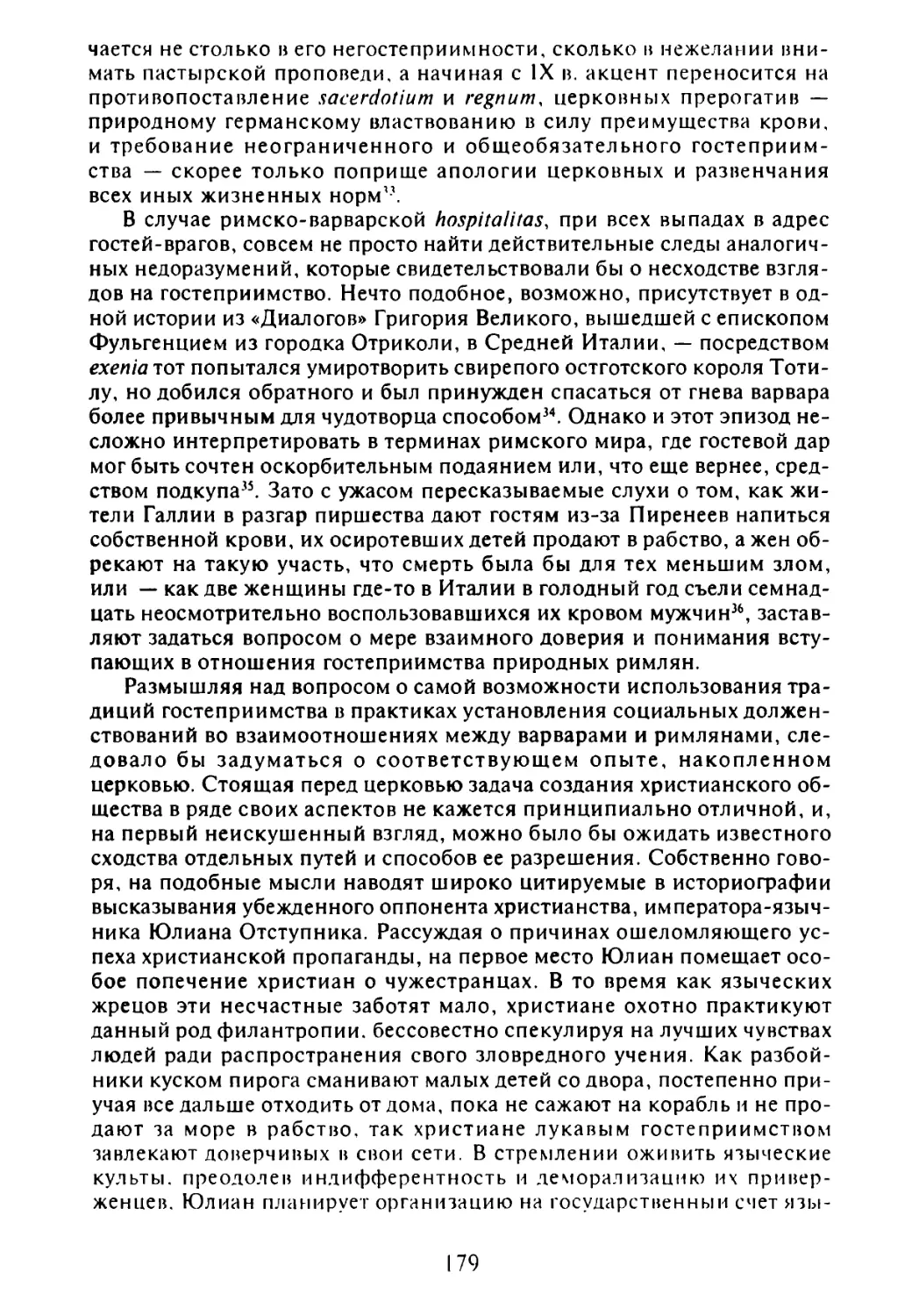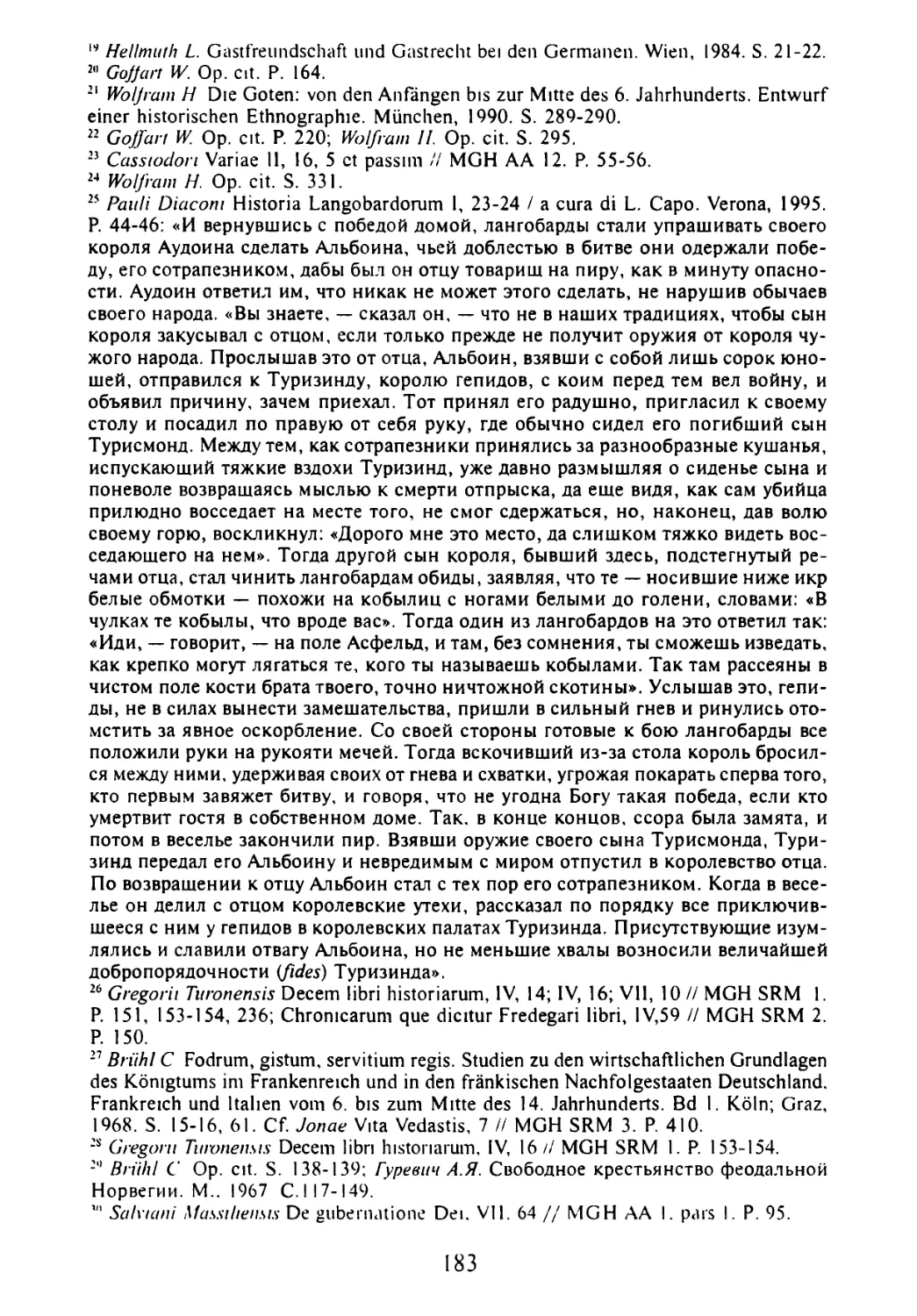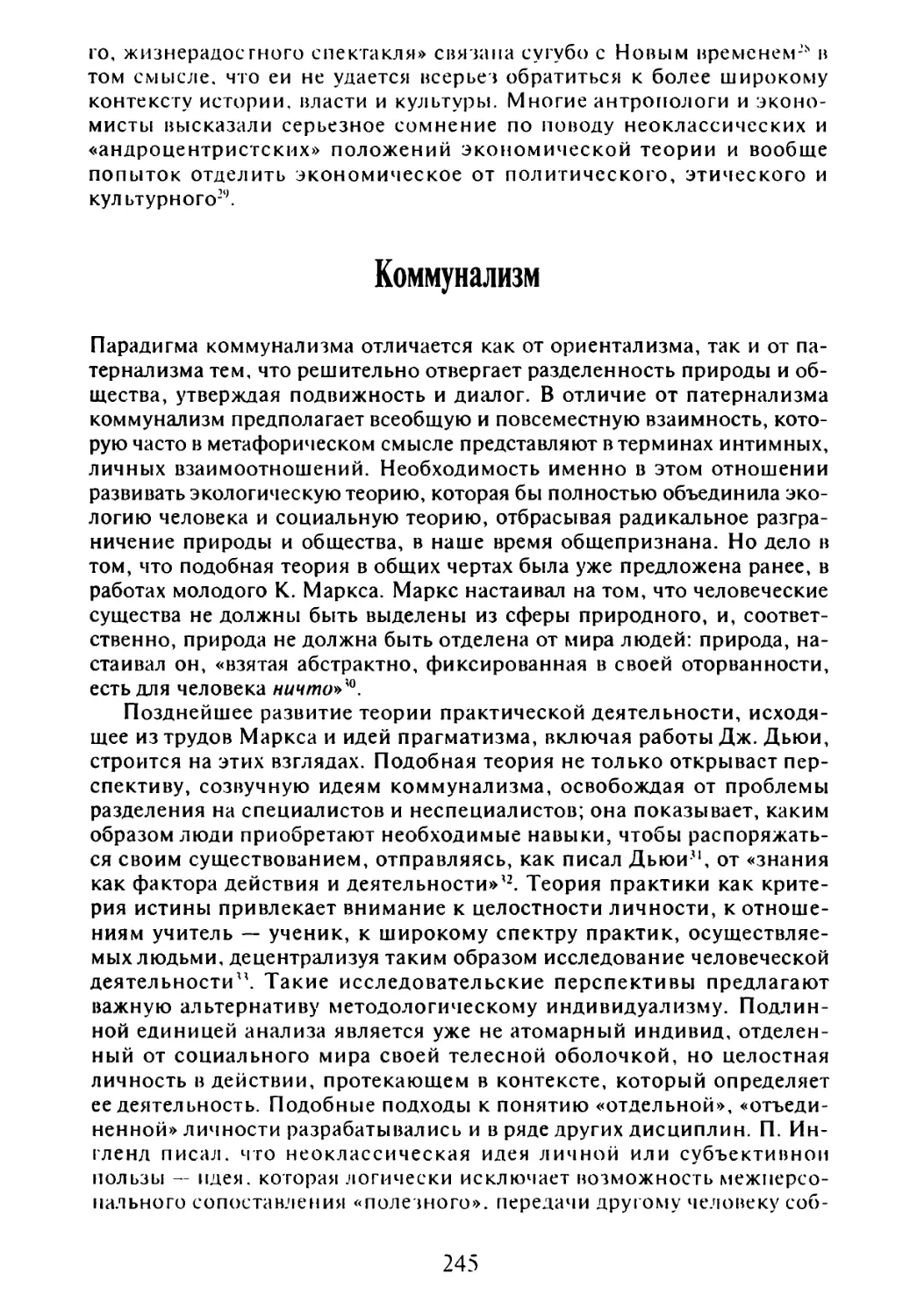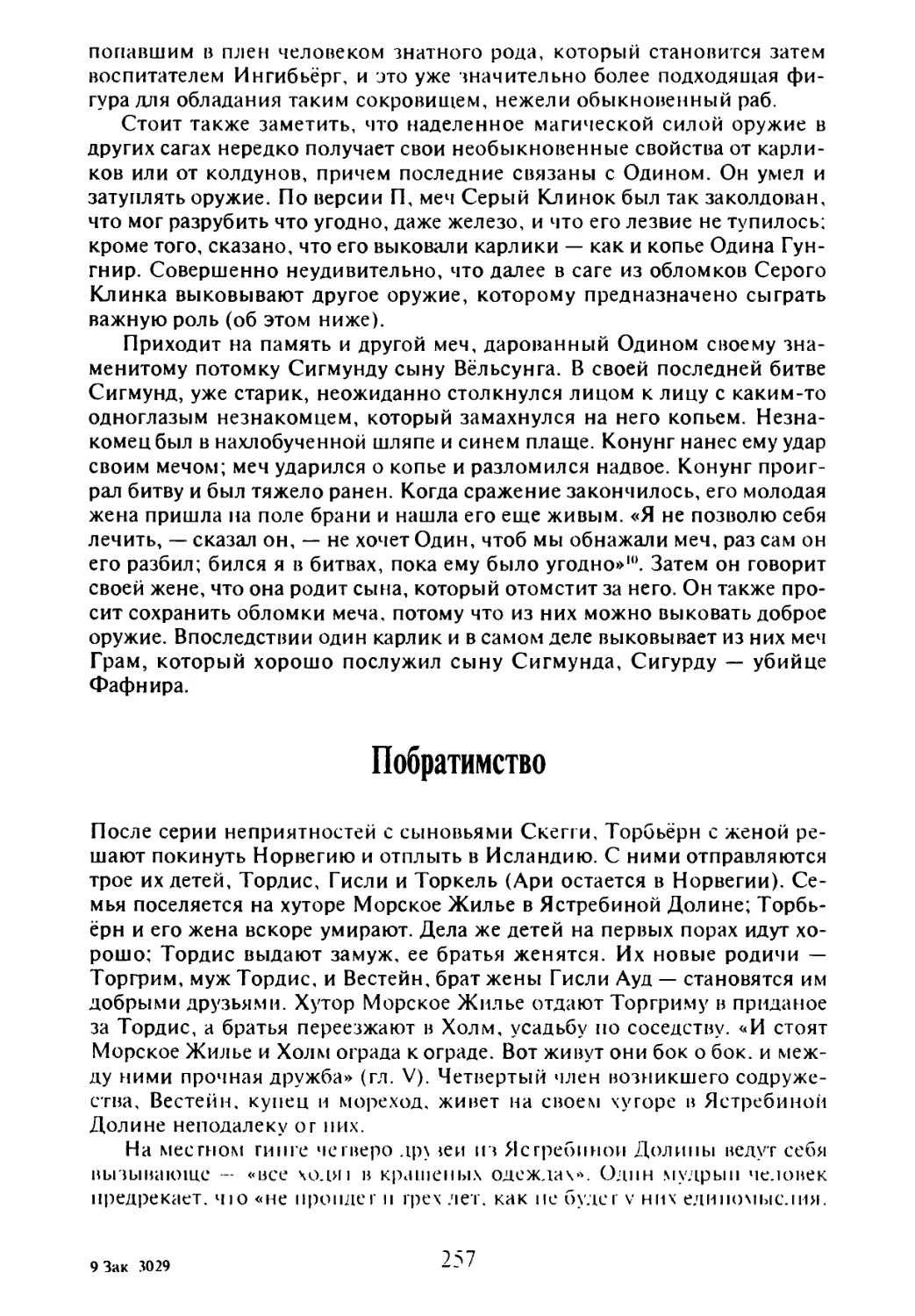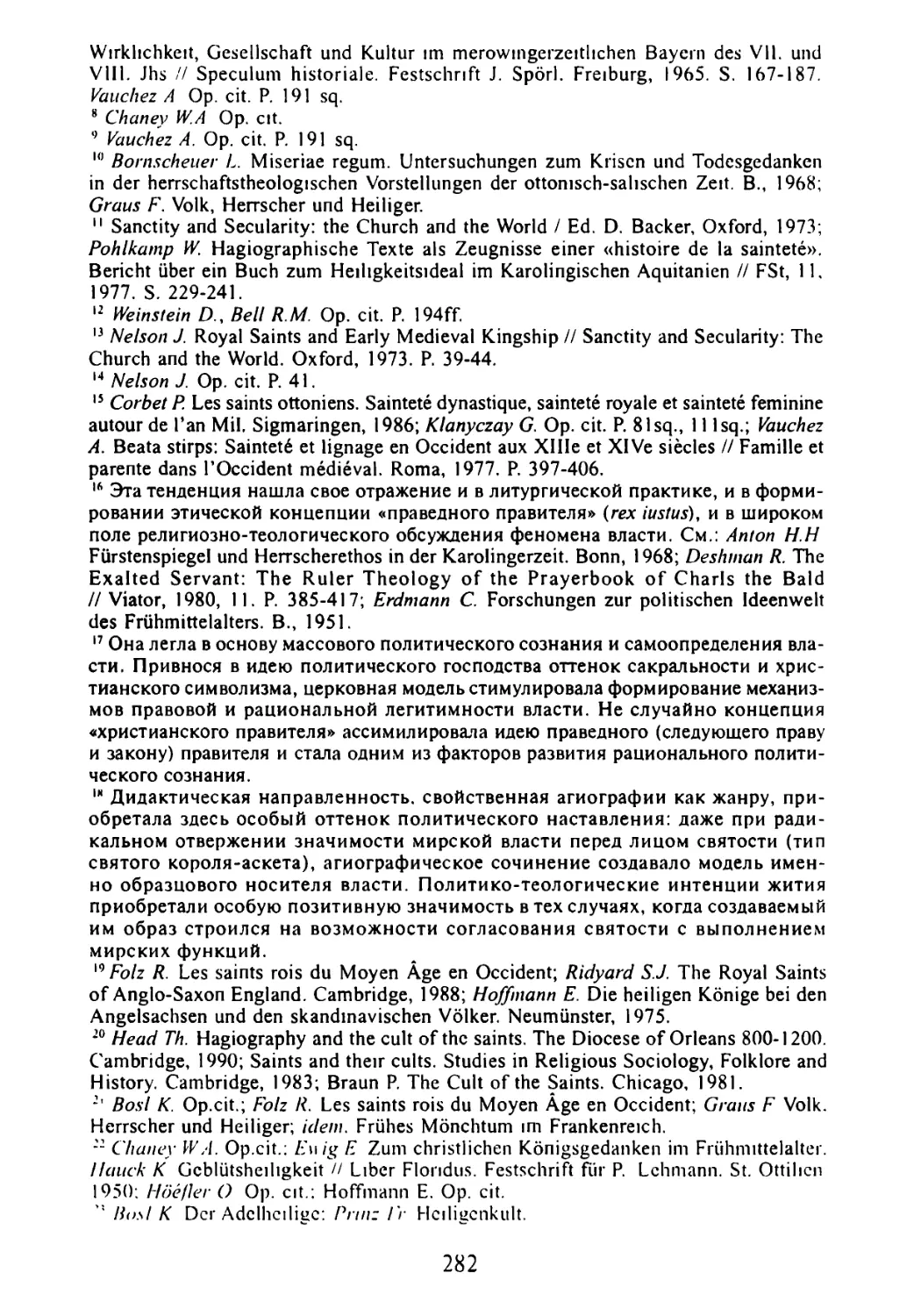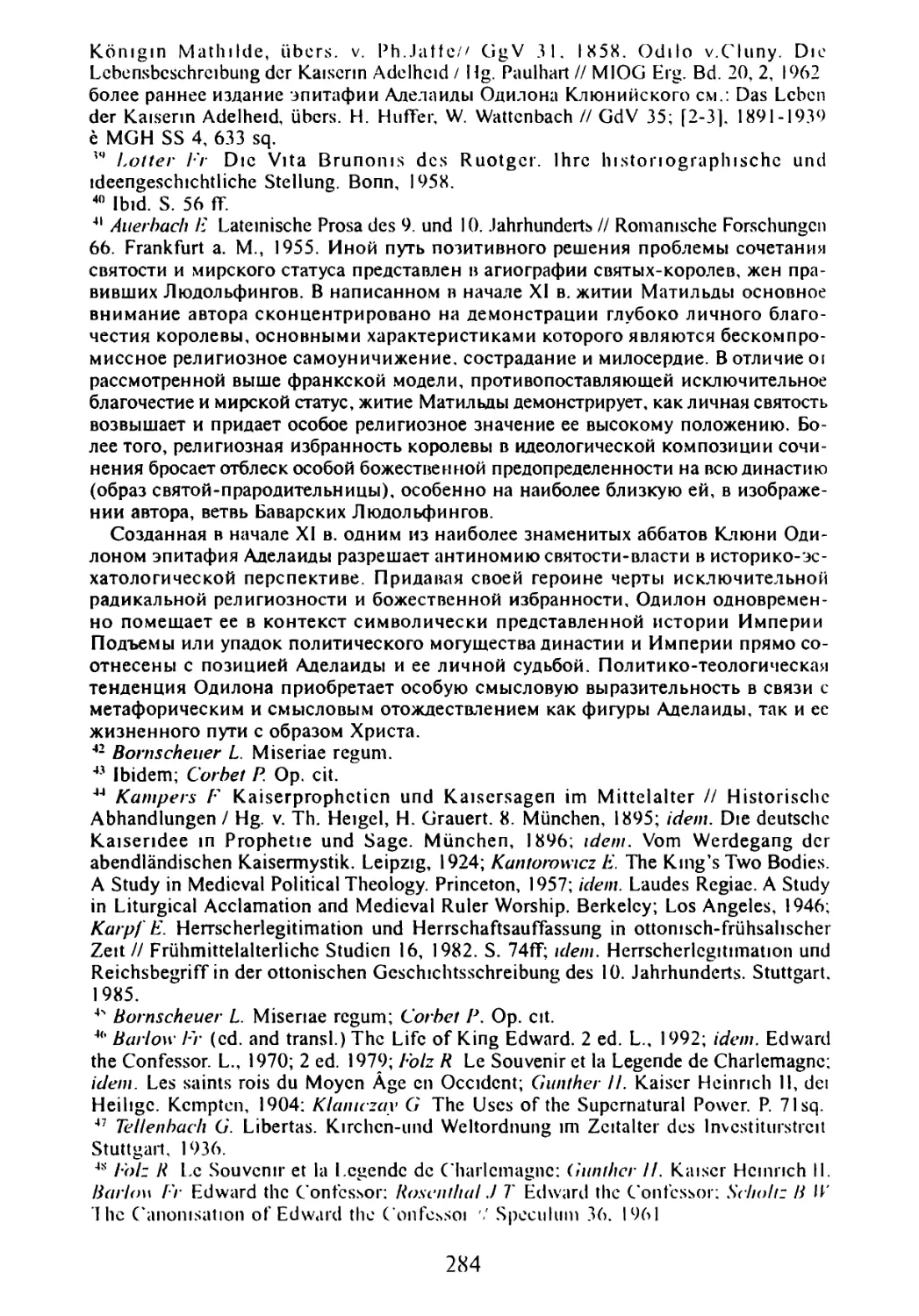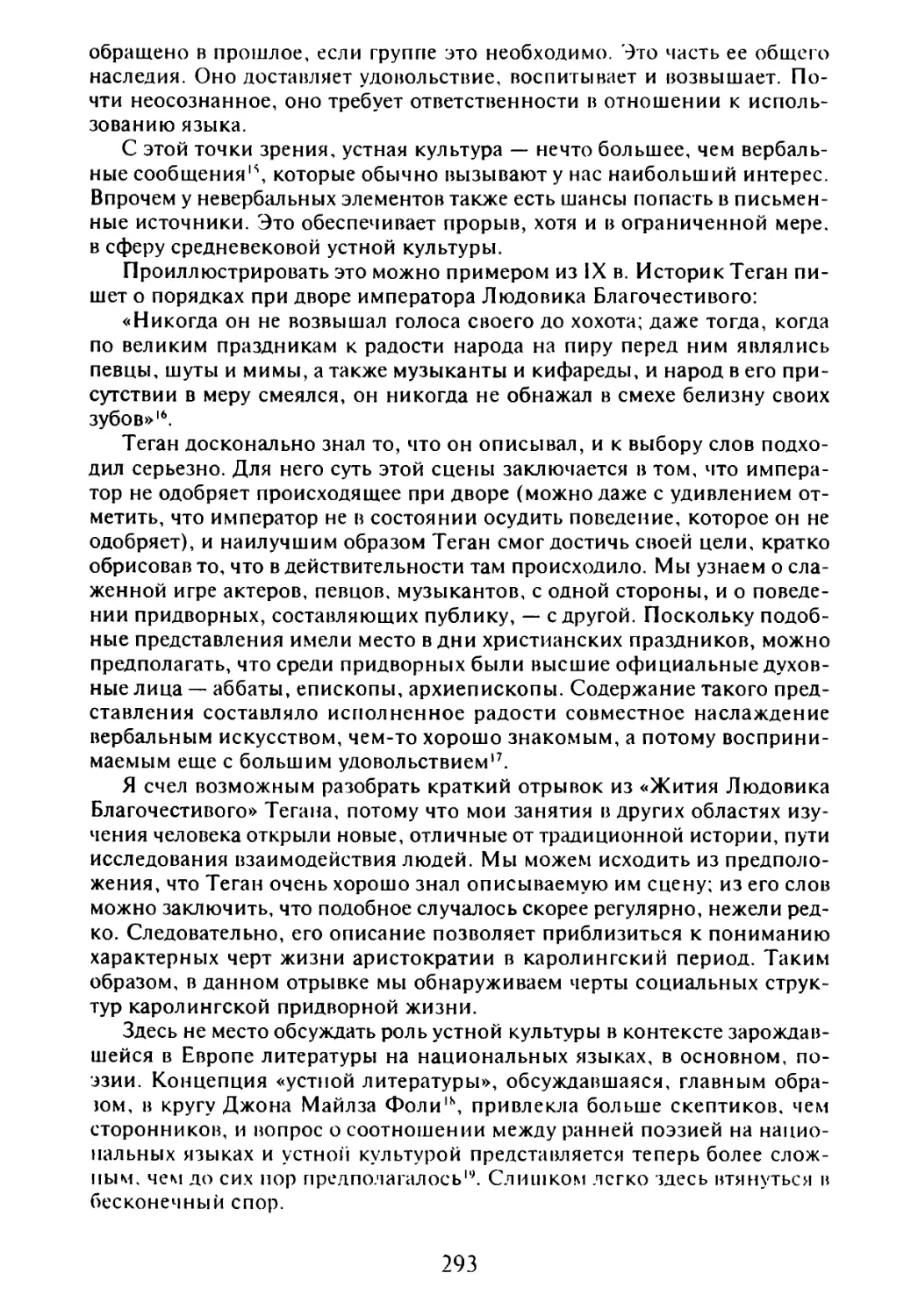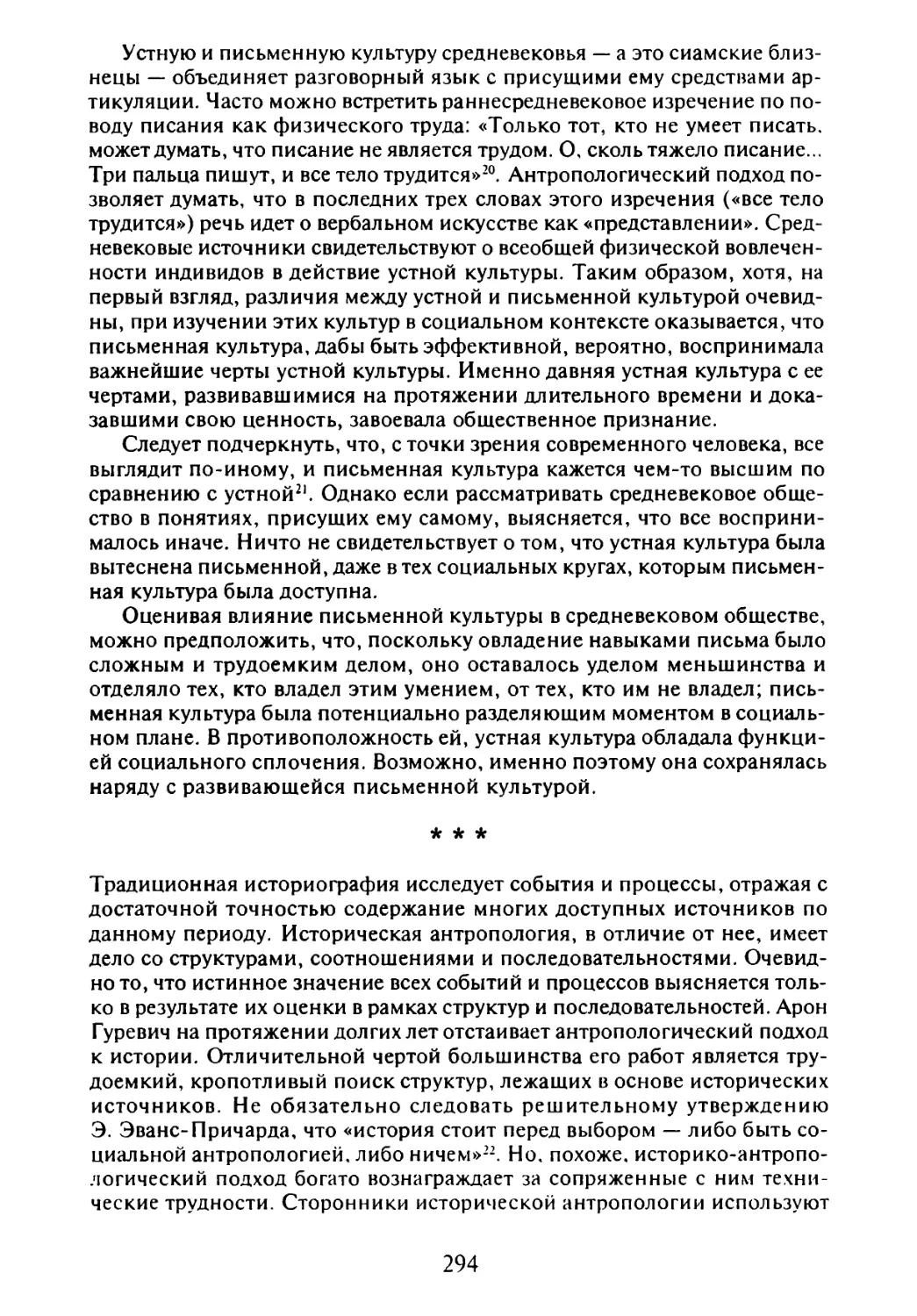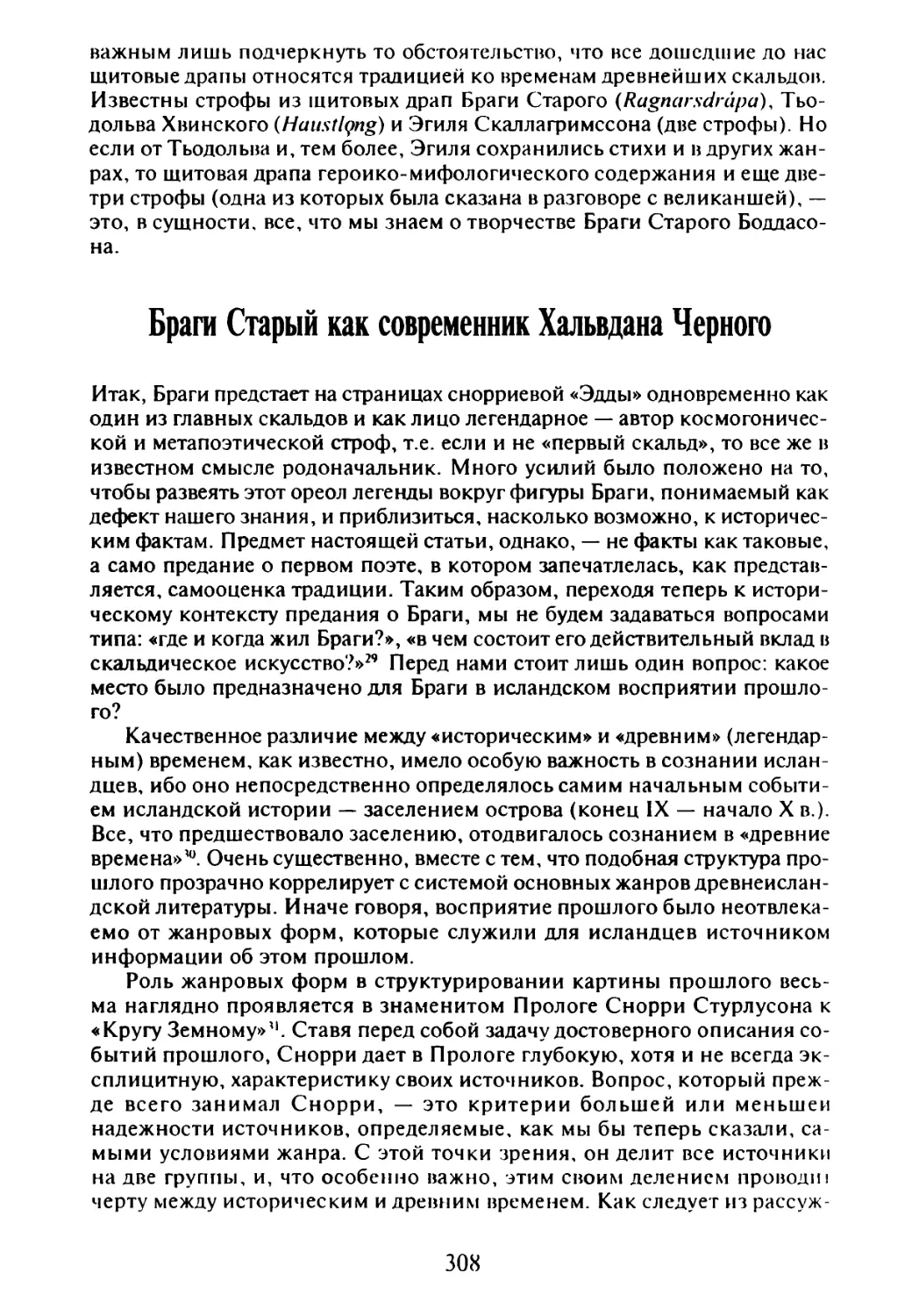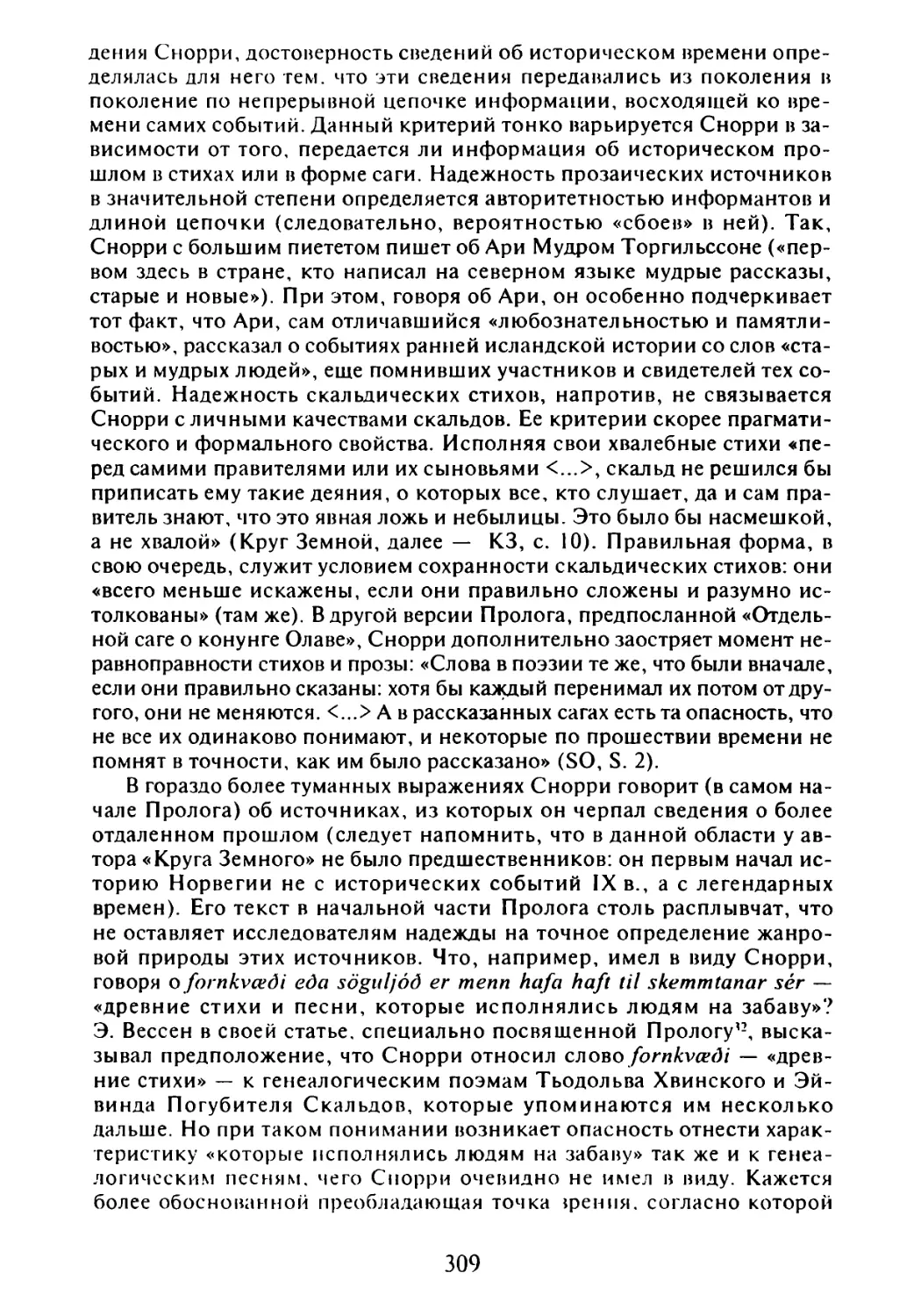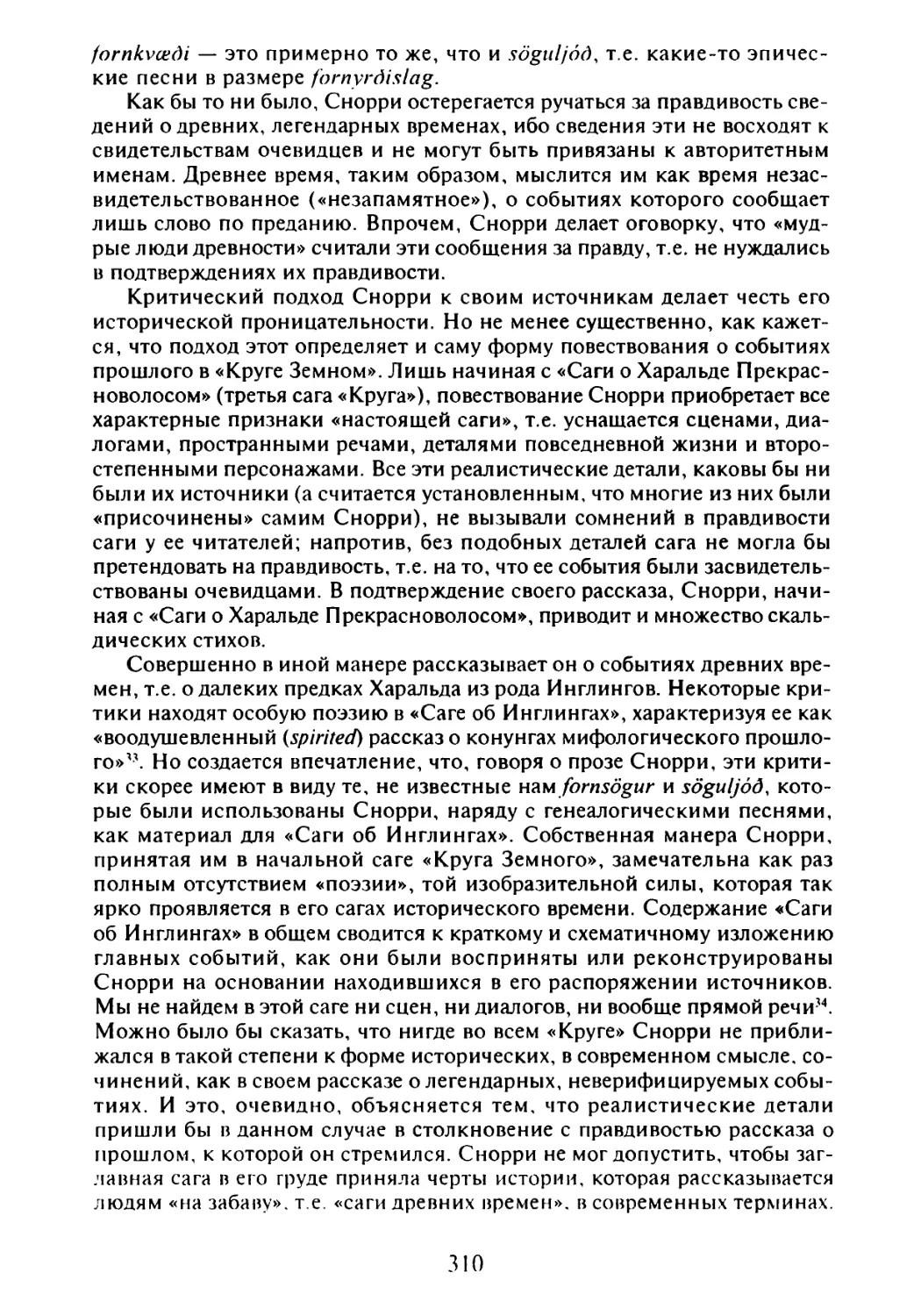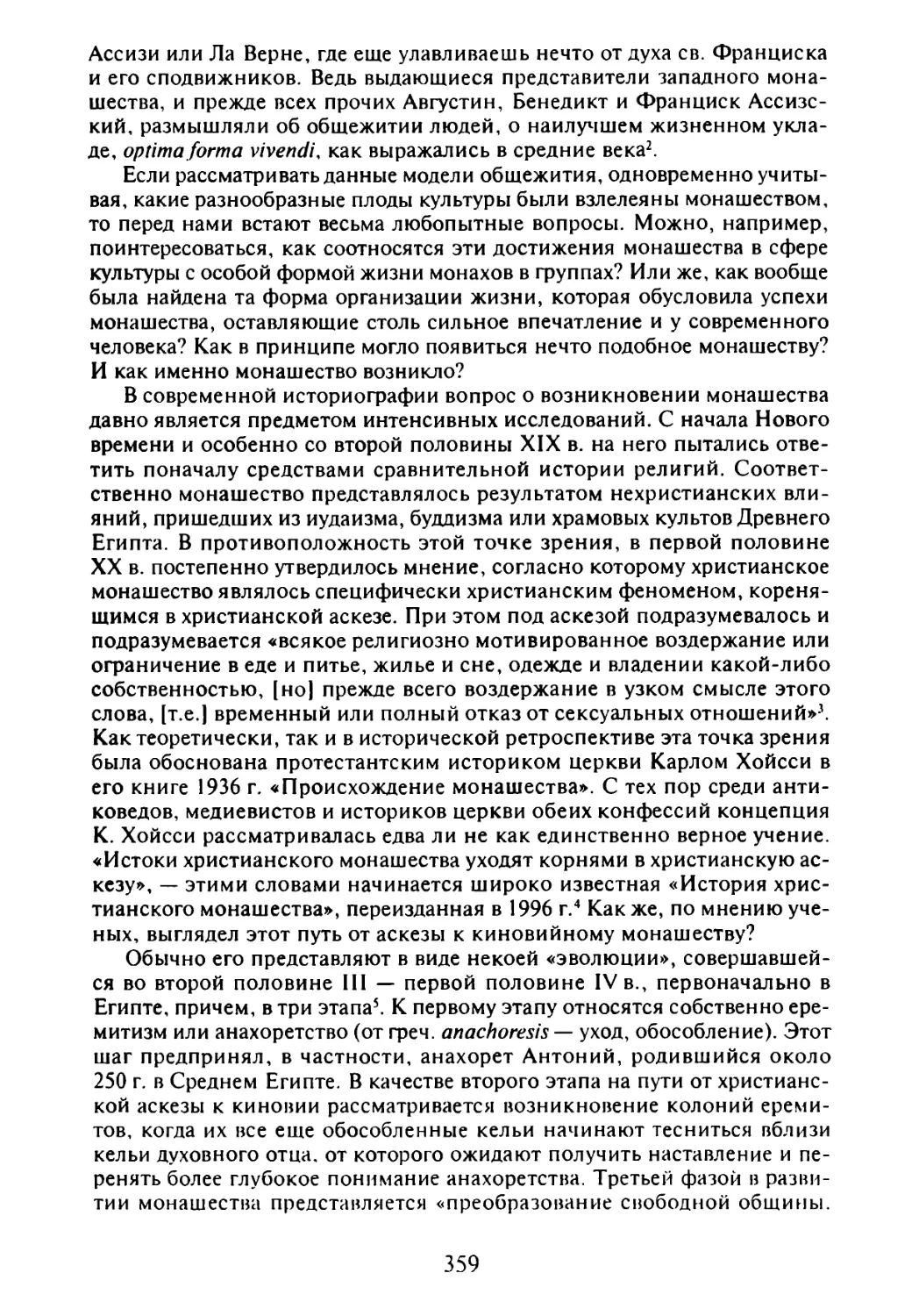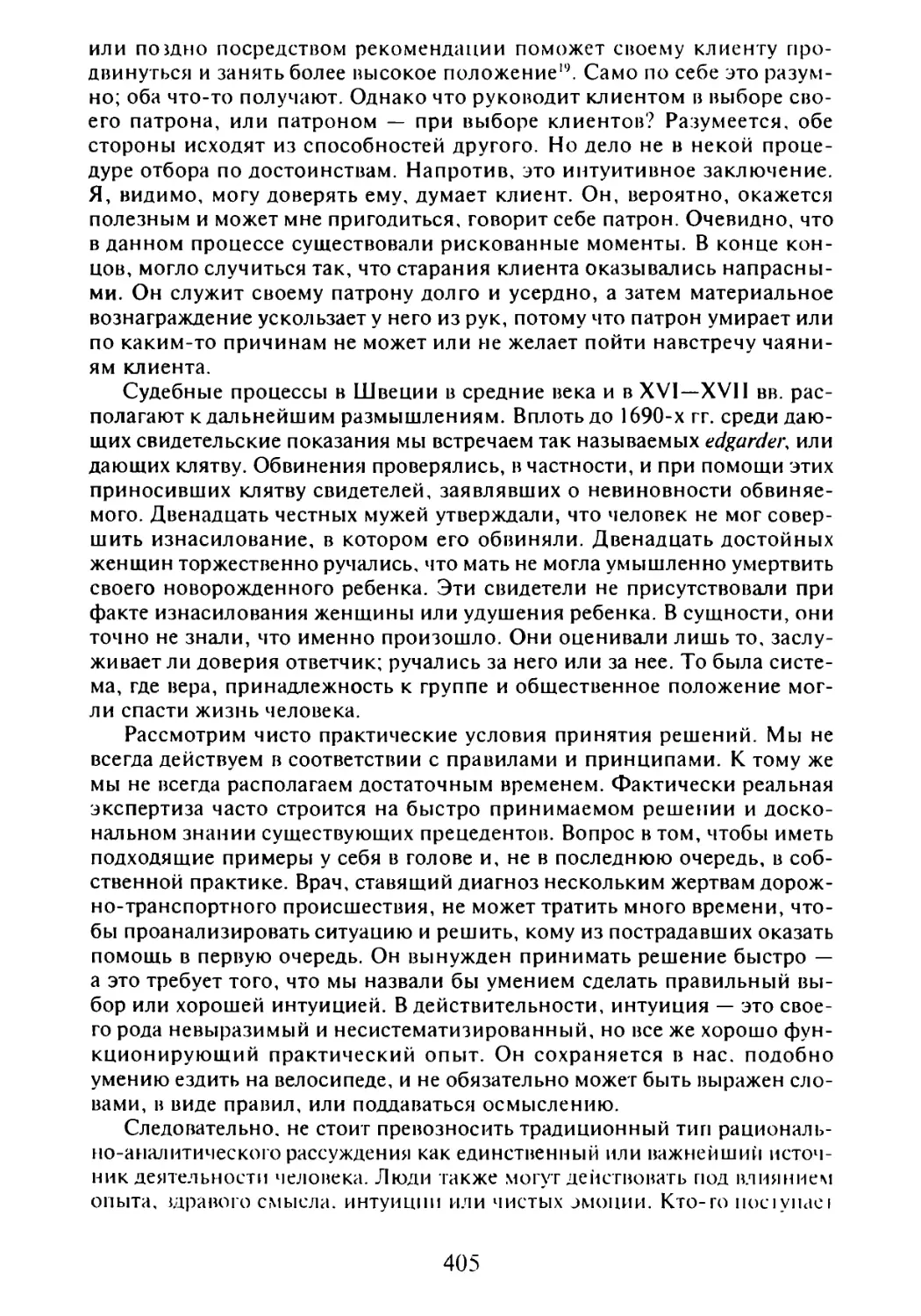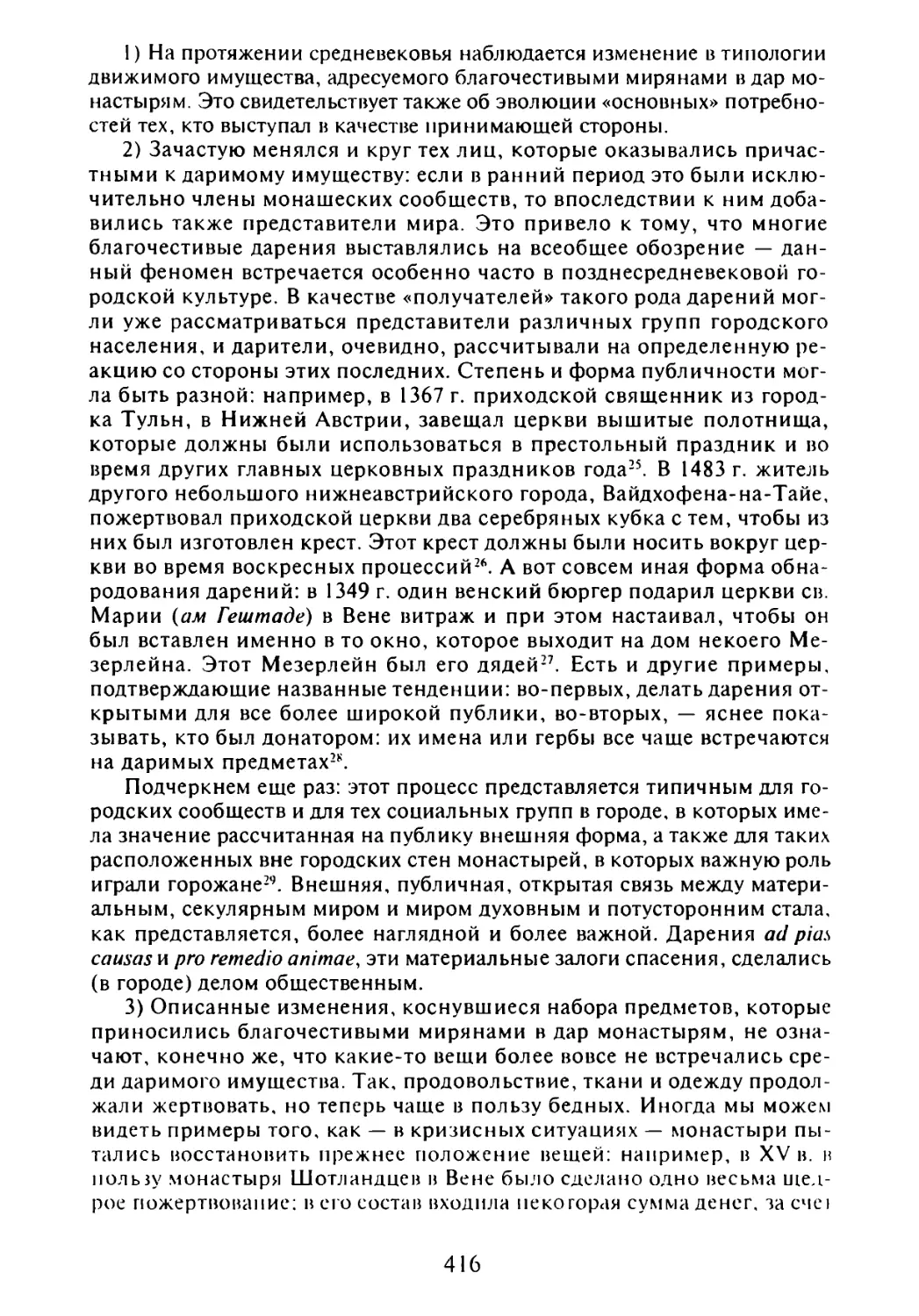Автор: Парамонова М.Ю. Дубровский И.В. Оболенская С.В.
Теги: всеобщая история история средних веков
ISBN: 5-7914-0088-7
Год: 1999
Текст
ругие
средние
века
К 75-летию
А.Я. Гуревича
ЦГНИИ ИНИОН РАН
Университетская книга
Москва - Санкт-Петербург
2000
УДК 94/99
Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), С.С. Аверинцев, В.В. Бычков,
А.Я. Гуревич, И.В. Кондаков, С.В. Лёзов, Л.Т. Мильская,
Г.С. Померанц, П.В. Соснов
Главный редактор и автор проекта «Российские Пропилеи»
С.Я.Левит
Издание подготовлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
Составители тома:
И.В. Дубровский, С.В. Оболенская, М.Ю. Парамонова
Художник: П.П.Ефремов
Другие средние века. К 75-летию А.Я. Гуревича. /Сост. И.В. Дуб¬
ровский, С.В. Оболенская, М.Ю. Парамонова. М.—СПб.: Уни¬
верситетская книга, 1999. 463 с. — (Российские Пропилеи)
ISBN 5-7914-0088-7
ISBN 5-7914-0034-9 (Российские Пропилеи)
Издание предполагает принятым в академической среде способом отметить
юбилей выдающегося российского ученого, члена Норвежского Королевс¬
кого научного и Королевского Английского исторического обществ. Бель¬
гийской и Нидерландской Королевских Академии наук. Американской
академии медиевистики. Европейской Академии, почешого доктора Лун¬
дского и Познанского университетов, автора основополагающих работ по
истории средневековой Скандинавии, культуре западного средневековья,
методологии истории. Авторитет и научные засзуги юбиляра таковы, что
сборник в его честь объединил усилия исследователей из более, чем деся¬
ти стран мира, в том числе признанных лидеров национальных историог¬
рафических сообществ, и представляет достаточно полную панораму со¬
временной медиевистики и скандинавистики как в персональном, так и в
тематическом и методологическом отношениях.
ISBN 5-7914-0088-7
УДК 94/99
'Г И В. Дубровский. С.В. Обо 1емскля. М.Ю. Парамонова
составление тома, 2000
<" Университетская книга. 2000
Предисловие
Когда во второй половине 1970-х гг. одна из лучших книг
А.Я. Гуревича, «Категории средневековой культуры», была
переведена на западноевропейские языки, известный окс¬
фордский историк А. Мэррей писал в рецензии о ней, что
Россия поразила его дважды. В космос полетел впервые рус¬
ский космонавт Юрий Гагарин — это было для него первым потрясени¬
ем. Вторым было появление в России книги А.Я. Гуревича.
Сейчас, по прошествии 20-ти лет, когда мы, может быть, не до кон¬
ца. но все-таки уже осмыслили характерные черты и значение печальной
эпохи «застоя» в жизни нашей страны и в развитии нашей науки, еше
удивительнее кажется тот факт, что в ситуации, сложившейся после раз¬
грома «пражской весны», когда советская историческая наука, образно
говоря, погрузилась в глубокий сон, появился труд, абсолютно не связан¬
ный марксистскими догмами и осуществивший подлинный прорыв в
медиевистике и не только в ней.
Нельзя, однако, сказать, что для нас это было такой же неожидан¬
ностью, как для английского ученого. А.Я. Гуревич был среди тех не¬
многих историков нашей страны, которые еше в конце 1960-х гг. сво¬
ими подходами к историческому исследованию, своим отношением к
ыпадной историографии и не в последнюю очередь — своими поли-
шческими принципами и взглядами существенно отличались от обще¬
принятого в советской исторической науке. Он никогда не был дисси¬
дентом и общественно-политической деятельностью не занимался.
•)то не его амплуа. Но со студенческих лет Арона Яковлевича отлича-
гл определенность общественной позиции и стойкость перед лицом
преследований. Нападки не украшают жизнь, говорит он. но укрепляют
и исследователе стремление не идти на компромиссы. Действительно,
А.Я. Гуревич никогда не шел в науке на компромиссы, и сила мысли и
высочайший профессионализм в его научном творчестве соединены с
i'ivGokhm личностным, нравственным началом; оно не в последнюю
очередь влияет на выбор тематики его книг, постановку проблем и под¬
ходы к их решению.
Что касается преследований, то. как известно, их репертуар в нашей
| ipane был весьма разнообразным: от ареста и расстрела до соиания по¬
мех и иреиягезвий в повседневной жшнн. На долю Гхревича выпали
препоны в научной деятельности. Хотя cmv удавалось печаыть все. что он
хотел, и главные его груды были написаны, изданы и переведены па мно¬
жество иностранных языков еще до тех перемен, которые наступили пос¬
ле смерти Л.И. Брежнева, сколько пришлось ему перенести публичных
экзекуций и мелочных придирок! Он был «невыездным»; занимаясь всю
жизнь историей западноевропейского средневековья, Арон Яковлевич
смог увидеть Европу и вступить в живой контакт с западными историка¬
ми только тогда, когда основные его книги были уже написаны.
«Тектонические сдвиги» 1980-х гг., которые не привели к сколько-
нибудь серьезным переменам в творчестве большинства наших истори¬
ков и вообще застали их врасплох, Арон Яковлевич воспринял как сиг¬
нал к действию. С радующей неожиданностью выявилось для всех его
общественное, гражданское лицо. В Институте всеобщей истории, где
царило ничем не нарушаемое затишье, в сущности, он первым заговорил
0 необходимости «перестройки», которая, как он надеялся, покончит с
«застоем» в науке. И он не только говорил, но и действовал. Он постоян¬
но выступал на всякого рода собраниях, заявляя о необходимости сделать
ведущим направлением исследований историю культуры, творчески ос¬
воить достижения западной историографии и обновить методологичес¬
кие основы советской исторической науки; не менее горячо требовал он
п демократизации всей работы академических институтов. Он создал
группу по изучению истории культуры и вот уже больше десяти лет ею
руководит.
Соратники и друзья Арона Яковлевича знают, сколько трудностей
ра зного рода ему пришлось и приходится преодолевать. Общее состо¬
яние исторической науки, сохраняющийся до сих пор разрыв между
академическими институтами и университетским преподаванием, не¬
достаток специалистов, наконец, непонимание и недоверие многих
коллег к гой «другой истории», главным представителем которой у нас
является А.Я. Гуревич, — вот главные из них. На долю Арона Яковле¬
вича выпали и безмерные личные испытания, нс сломившие, однако,
ею творческую активность и не снизившие планку в его трудах, изве-
сгных во всем мире.
Западный научный мир давно признал огромные заслуги А.Я. Гуреви¬
ча. Тому свидетельством и настоящая книга, в которой приняли участие
ученые Австрии, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Исландии, Норве-
1 пи, (*1IJА. Франции, Швеции. И только у себя на родине, в кругу имени¬
нах пстриком он до сих пор не нашел официального признания: по при¬
чинам, весьма далеким от научных, он до сих пор не избран членом
1'осч пПской академии наук. А ведь он — член Королевского Историческо-
ю общее та Великобритании, Американской Академии медиевистики.
Королевской Академии наук Бельгии, Королевской Академии наук Нидер-
лан/юм, Европейской академии, Королевского Норвежского научного об-
инч мы (Академии), почетный доктор Лундского университета, почетный
mi. I.>|> ||о шанского университета. Университеты многих западных стран
| чи1аю| и чесп> пригласить к себе российского ученого, а что касается
Мо« мни кою университета. шутит Арон Яковлевич, он до сих пор нс зна-
• • I и.I mi ком паже расположен исторический факультет. Здесь его талат
in I 'и /юнаifioi. iie:iaioia. лектора остается невостребованным.
С некоторой горечью Арон Яковлевич сравнивает условия развития
французской исторической науки середины и второй половины XX сто¬
летия — крупнейшие историки находились в тесном взаимодействии
между собой, и постоянный обмен мнениями между представителями
разных направлений гуманитарной мысли, соприкосновение талантов и
идей создавали интенсивную интеллектуальную среду, «плотную духов¬
ную атмосферу», опирающуюся на «плотность человеческого фактора»,
рождавшую дух здорового соперничества, — с той ситуацией, в которой
привелось работать ему на протяжении всей его жизни ученого. У нас,
вспоминает он с сожалением, не было этой среды, исключая, может быть,
филологов во главе с Ю.М Лотманом, создавших московско-тартускую
школу семиотики.
Все же кое-что на пути обновления, о котором постоянно говорит
А.Я. Гуревич, ему сделать удалось. Прежде всего, это его собственная ин¬
тенсивная творческая работа, новые книги и статьи, лекции по методо¬
логическим вопросам. И это вот уже больше десяти лет работающий под
его руководством семинар по исторической антропологии, десять выпус¬
ков историко-антропологического ежегодника «Одиссей», наконец, не¬
большая группа, в которой теперь важную роль играют молодые иссле¬
дователи. Может быть, все это в конечном счете и явится основой и
началом формирования той «плотной духовной атмосферы», которой так
не хватало и не хватает нашей науке и нашему руководителю? Посвяшая
ему эту книгу, мы надеемся, что так оно и будет.
С. В. Оболенская
С.С. Аверинцев (Москва/Вена)
Григорий Турский
и «Повесть временных лет»,
или О несходстве сходного
Григорий Турский (Hist. Franc. II, 29) рассказывает, как благо¬
честивая христианка Хродехильда, супруга все еще языческо¬
го короля Хлодвига, добившись разрешения крестить их обще¬
го сына, в порядке, так сказать, миссионерской стратегии пси¬
хологического воздействия на своего мужа, замыслила придать
крестинам возможно более пышный, торжественный и эстетически привле¬
кательный характер: «Interea regin a fidelis filiuni ad baptismum exhibet, adornare
ecclesiam veils praecepit atque curtinis, quo facilius vel hoc misterio provocaretur ad
credendum, quiflectipraedicatione nonpoterat» («Благоверная государыня, гото¬
вя крещение сына, повелела украсить церковь завесами и тканями, дабы тот,
кого не смогла убедить проповедь, хотя бы этим таинством был бы легче
склонен к вере»). Это замечание, сама стилистическая трезвость и синтак¬
сическая сжатость которого особенно живо дают почувствовать взгляд взрос¬
лого — на дитя, воспитателя — на воспитуемого, миссионера — на варвара:
взгляд, каким сам автор в солидарности со своей благочестивой героиней ог¬
лядывает Хлодвига, приглашая к тому же и читателя. Лицо уже обращенное
есть ответственный субъект воздействия на необращенного как на объект:
христианину, и уж тем паче клирику, просто необходимо сознательно пла¬
нировать это свое воздействие. То обстоятельство, что речь идет о короткой,
почти «проходной» фразе, не выделяющейся в контексте повествования, го¬
ворит о самоочевидности этой точки зрения. Всё понятно само собой, слов
почти не требуется.
Куда более красочно другое место той же книги, описывающее крести¬
ны уже самого Хлодвига (II, 31): «Velis depictis adumbranturplateae, ecclesiae
cuiUnis albentibus adornantur, baptisterium componitur, ba/sama diffunduntur, micani
flagrantes odore cerei, totumque femplum baptisterii divino respergitur ah odore...»
(«Улицы затеняют многоцветными тканями, церкви украшают светлыми
завесами, приготавливают крещальню. разливают ароматы, ярко блистают
благоуханные свечи, весь храм крещальный окропляется божественными
благовониями . »). Это весьма патетическая ритмизированная проза, одна¬
ко содержание ее вполне предметно: благолепие праздничного убранства
дается через конкретный реестр его зрительных и ооонятельных компонен¬
тов — навесы над улицами, ткани в храмах, повсюду благоухания, к кото¬
рым подбавляют свой запах зажженные свечи. — и это свидетельствует о
последовательно объективированном подходе к событию. Что здесь невоз¬
можно, так это самоотождествление автора (и постулируемого им читате¬
ля) с эмоциями варвара-неофита. Предметность имплицирует отчетливую
локализацию точки зрения, взгляд со стороны, то, что для «гордого сикамб-
ра» должно стать целостным и неразложимым переживанием христианской
инициации, то для клириков, действующих как мистагоги этой инициации,
оказывается деловой задачей, аналитически разлагающейся на ряд частных
задач, которые именно для того, чтобы быть разрешимыми, должны стать
ограниченными и в этом смысле, если угодно, прозаичными, овеществлен¬
ными, опредмеченными, — нужно позаботиться о тканях для убранства улиц
и церквей, о ладане, о пахучих свечах, о разбрызгиваемых по баптистерию
благовониях. Вместе с деятельными миссионерами из носящих высокий
светский сан мирян, какова Хродехильда, но прежде всего, разумеется, вме¬
сте со своими коллегами по духовенству Григорий Турский ощущает себя,
гак сказать, в положении ответственной внеситуативности: он привык при¬
сматривать за происходящим, что уже запрещает ему перестать — скажем,
ог избытка чувств — различать происходящее и свою собственную наблю¬
дательную позицию, свой «локус». Вспоминаются слова, приписываемые
античным преданием Архимеду: «Дай мне, где стать, и я переверну зем¬
лю». Повествователь в «Истории франков» имеет, «где стать», — вне про¬
странства своего повествования. За его простыми, немудреными фразами,
гак часто погрешающими против латинской грамматики, мы ощущаем ис¬
ключительно отчетливое культурное и коллегиальное самосознание католи¬
ческого клира начинающегося средневековья: это не такие люди, как те, сре¬
ди кого они живут. То обстоятельство, что Григорий Турский лично чужд
аффектам интеллектуальной гордыни, что франки, с которыми он общает¬
ся и о которых пишет, — персоны весьма важные, что его собственная куль-
I ура довольно примитивна1 , и к тому же у него есть очевидное желание стать
па точку зрения тех, кто еще проще его2, только подчеркивает культурно-
историческую симптоматичность его позиции как повествователя, отводя
всякую возможность объяснить эту позицию как его авторскую особенность.
Да. Григорий имеет добрую волю к тому, чтобы стать на точку зрения вар¬
варов, о которых он пишет, — каждый хороший миссионер этого хочет. Но
именно такое желание миссионера предполагает как изначальную данность
инстанцию между ним и объектом миссии. Когда точка зрения других не от-
целена в сознании от собственной, стать «на» нее, — по крайней мере как
осознаваемый акт, — просто невозможно. Идентичность клирика в смысле
мероучительном, ставящая его в специфические отношения с «паствой», ока-
1Ыпается психологически акцентирована в пространстве раннесредневеко-
иого Запада целым рядом привходящих моментов: тот же Григорий посре-
<111 евоего франкского окружения — отпрыск старого романизированного
I илльского рода, и т.д.
И еще одна важная импликация, нигде не эксплицируемая, но стоящая
м всем текстом как целым. \ Грнюрпя ТурскЦ|о само собой разумейся, чю
hoiр.шпчнып момент, те de passage. делающий столь важными для посмя-
шаемого именно чувственные компоненты культового акта, не повторим ни
и биографии Хлодвига, ни в истории его народа, что поколениям христиан
предстоит поучаться вере и проверять ее в искушениях, но церковная обряд¬
ность в своих наиболее внешних аспектах никогда уже не будет им до такой
степени внове — на взгляд, по запаху, — как для короля в день его креще¬
ния. Григорий Турский смотрит на Хлодвига, как набожный взрослый мо¬
жет смотреть на подростка, которого он уговорил зайти в храм. Сам модус
его сочувствия настроению этого подростка предполагает, что для него-то
всё иначе, чем для этого подростка. Было время для наивного, неразлагае-
мо-цельного чувственно-сверхчувственного переживания; а затем приходит
время для доктрины, для проповеди, для активного или пассивно-воспри-
нимающего участия в богословской рефлексии; установка верующего дол¬
жна, наконец, стать, как нынче говорят, логоцентрической.
Русскому читателю Григория Турского трудно не вспомнить другое,
с ранних лет памятное каждому из нас описание язычников-варваров, по¬
трясенных благолепием церковного обряда — в «Повести временных лет»
(далее ПВЛ), под годом 6495 (987). Князь Владимир, если верить рассказ¬
чику, уже успел выслушать препространную проповедь греческого «Фи¬
лософа», изложившего ему священную историю от самого сотворения
мира и до самого Страшного Суда; однако оказывается — в некотором
противоречии со словом Апостола Павла: «вера от слышания» (fi nioxic;
оскотц;, Рим. 10, 17), — что этот вербально-аудитивный способ знаком¬
ства с христианской верой лишь предварителен и нуждается в дополни¬
тельном «испытании вер» по критериям менее логоцентрическим1. Кто
не помнит, что это «испытание вер» описывается почти исключительно
как приобретение непосредственно-чувственных впечатлений об обрядо¬
вой практике различных религий? Ключевые слова — «красота», «веселье».
и, конечно, «вид,кхом'1»>>- О мусульманах — «поклоннвса садеть, и гладить
с'кмо и овамо, ако Е'кшемь, и н'ксть весельа вт» них!»»; о католиках — «кра¬
соты не видном!» ННК06АЖ6». И вот после негативных или недостаточных
переживаний приходит fortissimo-.
«И прмдохолгь ЖЕ В!» ГрЕКИ, II ВЕДОШа ПЫ, ((ДЕЖЕ СЛОЖАТ!» EorV cboeavV, II
не свемы, на нее'Ь ли есмы выли, ли на земли: н'ксть во на земли такаго вида
ли красоты такоА, и не до^м'км!» во сказати; токмо то в'кмы, ако он'ьд'к Богк
съ чЕлов'ккн пребывает!», и есть служба ихт» паче всех!» странт». ЛЛы Vbo не
можем!» завытн красоты тоа, всак!» во человек, aipe вкусит!» сладка, посл'кдн
горести не принимает!», тако и мы не имам!» еде выти».
Было бы несправедливо утверждать, будто в ПВЛ вовсе отсутствует
всякий намек на ту специализированную и рефлексированную «клери¬
кальную» перспективу, которая всецело определяет самоидентификацию
повествования у Григория Турского. На уровне вербальном эта перспек-
шна, во всяком случае, упомянута, она введена в грамматической форме
1-т лица — чуть раньше, чем только что приведенное патетическое При¬
швине в форме 1-го лица множественного числа. В самом деле, упомя¬
нут. что торжественное богослужение, произведшее такое воздействие
Ii.i посланцев св. Владимира, было устроено по умыслу визан гийского нм-
пгр.иора и константинопольского патриарха, г. е. светского п духовной'
• Iнм.-чс'гоягелем» греческого православия (мри лом иппцпагпял прппп-
сывается императору, а патриарху назначается роль послушного испол¬
нителя). Вот это место:
«Нл^трне посла [цдрь| кт> пАтредрх^, глагола снце: Придошд Р^сь, пытдюфе
icfcpbt НАШ6А, ДД пристрой церковь И крплосъ, Н САЛГЬ ПрИЧМИНСА КТ. СВАТИТбЛЬСКУА
ризы, дд кидать caabV Бога ндшего. См слышавъ пАтреАрхт», повел'Ь созвдти
крнлось, ПО ОБЫЧАЮ СТВОрИШД прАЗДПИКЬ, И КАДИЛА ВОЖЬГОША, ПгЬнЬА II ЛИКИ СЬСТА-
кпшд. И пде ст. Ш1ЛМ1 в церковь, и постдвишд а на прострдньн'к леЬстЬ, покдздюфе
крдсот^ церковною, п'Ьньа и службы Apx'iep'feHCKH, престоАнье дьаконъ, скдздюфе
нл\ь сложенье Бога своего. Они же во изй'м'Ьньн вывше, днвнфесА, похкдлншд
СЛ^ЖБ^ НХЬ.»
Нельзя не отметить, однако, следующих моментов, характерных для
«большого контекста» ПВЛ в целом. Во-первых, этот пассаж не только
стилистически значительно менее выразителен, чем следующее за ним
повествование умиленных посланцев, он и композиционно ему су¬
бординирован, поскольку подготавливает и поясняет рассказ от перво-
ю лица и лишь в нем обретает свое завершение и свой смысл. Во-вто¬
рых, упоминание некоторых конкретных деталей церковного благолепия
многолюдство клира и певчих, зажженные кадила,— очевидным обра-
юм неполно, даже случайно; его явно не достаточно для аналитического
разбора на компоненты того нерасчленимого переживания, которое при-
юговляется для посланцев св. Владимира.
И вот самая, пожалуй, поразительная черта эпизода «испытания вер»: гра¬
ница между точкой зрения язычника, которому первый раз в его жизни по¬
казывают византийскую литургию, и точкой зрения более или менее опыт¬
ного христианина, сознательно и систематически в литургии участвующего,
перестает быть ощутима. Зададим вопрос, тематизированный современной
французской критикой языка: «Qui parle?» Мы видели, что при наличии обе¬
их форм повествования в 1-м лице и повествователь, и постулируемый им
читатель эмоционально и риторически готовы отождествить себя с участни¬
ками «испытания вер».
Разумеется, со временем ПВЛ доходит до более «логоцентрического»
и «библиоцентрического» момента в истории русской христианской куль-
ivpi>i. Соответствующее место (под 1037 г.), пожалуй, не в меньшей мере
памятно каждому: «И B'fc Ярослдвъ люба церковные Уставы, попы лювАше
по велик#, нзлнха же чернорнзц'Ь, и кннгдлхь прнлежд, н почнтаа е часто в
мофп и въ дне; и соврд пмсц'к лхногы и преклАддше отъ грекъ на слов'Ъньское
IIIIC.WO, И СПНСАША КНИГЫ ЛХНОГЫ, Н СННСКД, нлхнже П0Л#ЧАф6СА B'fcpmn людье НА-
ьлдждаютса #ченьа Божественндго» Следует высокоторжественная похвала
книгам: «С# по с#ть р'Ькы, напающн вселению, се с#ть нсходнфд л\#дростн;
lainrAAVb ве есть ненфетпАА глубина; снл\п во вь печдлн tfx’bujAeAui есл\ы» и
| /I Однако риторическая эмфаза этого пассажа никак не может компен-
| кровать полного отсутствия конкретных имен и деталей. Порой в рас-
• ка к1 ПВЛ о Ярославе находят сходство с преданием о деятельности бол-
мрекого царя Симеона, который должен был представлять собой образец
I mi Ярослава. Так. Б.А. Успенский замечает: «Деятельность Ярослава
Mvipom на Руси в какой-го степени повторяет деятельность болгарско-
|"паря Симеона (893-927 ir.). когорып ч;акже собрал вокруг себя кружок
м< ргиозчпков с греческого я $ыка во главе с Иоанном Экзархом»1 . В па-
личии известного параллелизма между традицией о временах Симеона и
тем, как ПВЛ изображает Ярослава — обусловлен ли этот параллелизм
литературным влиянием или только сходством темы, — сомневаться не
приходится. Тем выразительнее контраст: в составе болгарского преда¬
ния мы находим имя того же Иоанна Экзарха, а знаменитое сочинение
черноризца Храбра «О письменах» содержит достаточно конкретную реф¬
лексию над конкретными реалиями книжной культуры...
И тут же ПВЛ переходит от книжной темы все к той же теме красоты
церковной, созидания и украшения литургического пространства: «Ярослав же
сен, акоже рекохомт», любимз» вЕ книгами, и миогы ндпнсдв'ъ положи вт» сватан
Оофьм церкви, юже создд самт». О^крдсн ю злдтомь и сревромь и сосуды церков¬
ными...» Храм св. Софии Киевской, конечно, заслуживал летописного упо¬
минания; но в своем качестве конкретизирующей детали упоминание это
подчеркивает неравноправность, несимметричность статуса двух тем — «ло¬
гоцентрической» и «эйконоцентрической». Первая обходится без конкрети¬
зации, вторая — нет.
Весьма любопытные параллели к «эйконоцентризму» ПВЛ мы нахо¬
дим в дошедшем в составе Ипатьевской летописи и восходящем, по-ви-
димому, к концу ХП в. сказании о князе Андрее Боголюбском. Когда
князь уже умерщвлен и его тело выставлено в выстроенной им соборной
церкви, оставшийся ему верным служитель по имени «Ко^змифе КУанинъ»
в своем сетовании говорит именно об этом храме: «...Иногдд во дче и гость
ПрНХОДНЛ'Ь ИЗТ» ЦдрАГОрОДД, И ОТТ» ННЫХЪ СТрАНТ», ИЗТ» РУССКОЙ ЗЕЛ\ЛН, АЧе Лд-
ТННАННН, Н ДО ВСЕГО ХРНСТЬАНСТВА, Н ДО ВСеЕ ПОГАНИ, И рЕЧЕ: В'ЬВЕД'ЪтЕ Н ВТ»
церковь И НА ПОЛАТЫ, ДА ВИДАТЬ ИСТИНЬНОЕ ХРНСТЬАНЬСТВО, И КрЕсТАТЬСА и
БолгдрЕ, и ЖидовЕ, и вс а погань, видивше слав^ БожУю и Н'крдшенУе церковь-
ное...» (примечательно вербальное и смысловое сходство с рассказом ПВЛ
об «испытании вер»).
«Украшение церковное», т.е. храмоздательство и вообще поощрение
сакральных искусств, служащих литургии, фигурирует здесь как матери¬
ализация душевного устроения благочестивого князя, или, выражаясь в
терминах «метафорологии» Ганса Блуменберга, как абсолютная метафора
этого устроения.
«Оый благоверный и христолюбивый кназь ЯндрЕи отъ л\лады верьсты Хри-
СТА ВОЗЛЮБИВ!» И ПрЕЧИСТ^Ю вго ЛЛдТЕрЬ, ...АКО ПОЛАТ^ КрАСИ^ Д^ШЮ ^КрАСИВЪ
всеми доврыми нрдвы, ^подобиса цдрю Ооломои^, ако домт» ГосподV EorV и цер¬
ковь преслдвиы сватыа Богородицд Рождества посредЕ города kamehV создав!»
Боголюбом!» и ^дивм ю паче всех Церквии; подобна тоЕ Оватаа Оватыхт», юже
кЕ Ооломои!» царь премудрый создала, тако и сии кназь влдговЕрныи ЯндрЕи и
створи церковь сию... и ^крдси ю икоидлш л\ногоцЕньиыл\и, злдтолп» и КАл\еиьелгь
дрдгым!», и жемчугом!» велнкым'ь бесцЕньным'ь...»
Даже частная молитвенная жизнь князя неожиданно связывается не с
»атвором клети, как это было уже в Нагорной Проповеди (Матф. 6, 6) и за¬
тем в неисчислимых текстах аскетической традиции, но всё с тем же про¬
странством храма, с великолепием икон и пыланием свечей:
«Вт» ноц1Ь входашеть в церковь и свищи въжигивдшеть сам!» и, вида ок-
рл.гь Божии, ИА ИКОНАХ1!» НАПИСАНЪ, ВЗИрЛАА, АКО мл Салллго ТворцА, и вси сватЕЕ
ИЛПИСАНЫ НА ИКОИЛХТ» ВИДА... ПЛЛЧАСА 0 ГрИсЕх’Ь СВОИХТ»...»
10
Уже в Киевском Патерике (XIII в.) мы встречаем имя и агиографичес-
ки разработанный личный образ иконописца — преп. Алимпия. В связи с
этим мы получаем определенные сведения, скажем, о жизни иконописной
мастерской (ср.: Лазарев В.И. Русская средневековая живопись, М., 1970, С.
13-26); их конкретности не надо преувеличивать, но в сравнении с тем, как
ПВЛ рассказывает о переводческой работе при Ярославе Мудром, они, ко¬
нечно, весьма конкретны. На Западе почитаемое имя был вправе иметь
doctor, представитель культуры «логоцентрической»: напротив, мастеру, в
ручном труде осуществляющему красоту церковную, прилично было оста¬
ваться безымянным. По преданию, ангельская рука оказала одному фло¬
рентийскому живописцу, трудившемуся над образом Santissima Maria
Annunciata, то самое благодеяние, что и Алимпию, помогши довести труддо
конца; но имени флорентийца, в отличие от имени печерского инока, пре¬
дание не называет. А русская традиция, в свою очередь, оставляет безымян¬
ными первых киевских doctores, трудившихся во времена Ярослава. В каж¬
дом случае у этого могут быть свои конкретные причины, остающиеся для
пас неясными. Но общая картина случайной быть не может.
Как же мы далеки при чтении древнерусских текстов от того, что
встречает нас еще на самом пороге культуры западного средневековья: от
рассказов про умственные игры при дворе Карла Великого, от эпиграм¬
мы Алкуина, тематизирующей практику переписывания рукописей и за¬
тем чтения вслух рукописи готовой, во время коего случайная ошибка пе¬
реписчика заставляет чтеца сбиться! О русской книжной жизни даже и
много более поздней поры приходится узнавать порой совершенно слу¬
чайно, без намерения автора. Уже на исходе XIV в. Епифаний Премуд¬
рый будет в своем житии многоученого Стефана Пермского просить у
преставившегося святого прощения за свою вину перед ним; в чем эта
вина? Оказывается, в том, «что был ему досадителем», а именно, препи¬
рался о каком-нибудь слове или стихе — разумеется, сакральных текстов,
прежде всего Библии. Г. Федотов замечает по этому поводу: «Любопыт¬
ный образ богословско-экзегетического семинара в древнем русском
монастырей. Но ведь об этом «семинаре» автор нам не рассказывает. Он
о нем только — проговаривается.
Поиски исторических параллелей к древнерусской ориентации на нерас¬
членимое переживание красоты культового действа как знака присутствия
Божества чуть неожиданно ведут нас в сторону той культуры, которая как раз
никогда не была и никак не могла быть «эйконоцентрична» в обычном смыс¬
ле этого слова, поскольку всегда жила под запретом сакральных изображе¬
ний, и притом по необходимости ставя в центр именно Книгу: культуры
еврейской.
В той части девтероканонической Книги Иисуса, сына Сирахова, кото¬
рая посвящена восхвалению «славных мужей и отцов нашего рода» (44, 1),
мы встречаем такие слова о первосвященнике Симоне II, священствовавшем
на рубеже III и II вв. до н.э.:
«...Как величественен был он среди народа, при выходе из завесы хра¬
ма! Как утренняя земля среди облаков, как луна, которой настала пора
полнолуния, как солнце, сияющее над Храмом Вышнего, и как радуга.
п,тс1ающая среди величавых облакоХ- как цвет роз в вешние дни. как ли¬
лии возле источников вод, как ветвь дивана в дни летние, как огонь в ка¬
дильнице с ладаном, как кованый золотой сосуд, украшенный разнооб¬
разными самоцветами, как маслина, отягощенная плодами, и как кипа¬
рис, возвышающийся до облаков. Когда он принимал великолепную
одежду и облекался во все величавое убранство, то, при восхождении к
святому жертвеннику, распространял блеск по окружности святилища...»
Некоторое сходство можно найти в стихах еврейского поэта IV или
V в. н.э. Йосе бен Иосе на синагогиальный праздник Дня Примирения
(□’’“ПЗЭП ОТ ЛТОХ7 “ПО), на тот самый праздник, когда — во времена
Иерусалимского Храма, давно ставшие в пору жизни нашего поэта носталь¬
гическим воспоминанием — первосвященнику была уготована особенно
важная обрядовая роль:
«Да, величественен был Первосвященник,
когда он выходил цел и здрав из Святая Святых;
подобен лазурному шатру, высоко раскинутому,
был облик Священника,
подобен молниям, излетающим из сияния Небесных,
был облик Священника...» и т.д.6
Во всяком случае, на перспективу, в которой видит вещи Григорий Тур¬
ский, это так же не похоже, как русские тексты.
Примечания
' Ср.: Altaner B.U., Sluiber A.. Patrologic: Lcbcn, Schriften und Lehrc dcr
Kirchenvater. 8 Aufl. Freiburg; Basel; Wien, 1978. S. 477-478.
2 Cp.: Auerbach E. Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendlandischen Literatur,
5 Aufl. Bern; Munchcn, 1971. S. 78-94.
1 Разумеется, нет никакого сомнения и том, что за странноватой последователь¬
ностью событий в «Повести временных лет» не могут не стоять причины, связан¬
ные с противоречиями в данных традиции, с надобностью хотя бы внешне их
примирить, а равно и с тенденциозными установками повествователей и редак¬
тора. Мы решаемся, отнюдь не позволяя себе игр в некритическое наивничание
и вполне отдавая себе отчет в важности и подобного рода источниковедческой
проблематики, вынести в этой статье последнюю за скобки. Как бы сильно ре¬
дакторские затруднения ни определяли результат, характеристика этого резуль¬
тата имеет, очевидно, и другое измерение — не источниковедческое, а истори¬
ко-культурное. Если повествователь вообще находит возможным предложить
читателю такую комбинацию версий, из которой получается, что решающий и
венчающий момент при выборе веры — не проповедь, а нерасчлененное сопере¬
живание обряда, это само по себе не может не быть симптоматичным для строя
выразившей себя в этом культуры. В контексте того же Григория Турского по¬
добное просто не получилось бы. оно было бы отторгнуто не то что ментальнос¬
тью западного клирика, но самой лексикой клерикальной латыни...
■* Успенский Б.А., Краткий очерк истории русского литературного языка
(XI-XIX вв.) М.. 1994. С. 17. прим. 6.
' Федотов Г., Святые Древней Руси. М.. 1990. С. 133.
" Полный текст: Mahz.or Lajanum. Hanoraim / Ed. D. Goldschmidt. Jerusalem. 1970.
IU1 II. P.465-485. Cp. The Penguin Book of Hebrew Verse/ Ld. and transl.bvT Carmi.
Penguin Books. 1981. P. 209-214.
МЛ. Андреев (Москва)
Семиотика «Новой жизни»
Воспоминания, тем более воспоминания о себе, не относят¬
ся к числу популярных средневековых жанров: их так мало,
что их можно считать исключениями. «Исповедь» Августи¬
на, «История моих бедствий» Абеляра, «О своей жизни»
Гвиберта Ножанского — вот, собственно, и все. К этому ряду
часто присоединяют и «Новую жизнь» Данте, но хотя начинается она
с обращения к памяти, па книгу мемуаров похожа еще меньше, чем
другие средневековые автобиографии. Непохожа настолько, что одно
время серьезные сомнения вызывала историческая реальность ее глав¬
ного, помимо самого Данте, действующего лица — Беатриче. Теперь
эти сомнения отброшены: найдено достаточное количество докумен¬
тальных подтверждений того, что Беатриче Портинари, дочь видного
флорентийского гражданина и жена не менее видного (и к тому же
очень богатого) гражданина той же Флоренции Симоне дей Барди, не
является плодом поэтического вымысла. Но возникли сомнения не
случайно, и дело даже не в том головокружительном преображении,
которое постигло прекрасную флорентийскую даму, ставшую под пе¬
ром Данте его водительницей по Царству славы и олицетворением Не¬
бесной мудрости. Дело, скорее, в другом: в бесплотности, почти при-
фачности образа Беатриче, явленного «Новой жизнью».
В «Новой жизни» нет событий: событиями являются поклон Беатри¬
че или отказ в поклоне, а о единственном настоящем событии, о смер¬
ти Беатриче, Данте рассказывать отказался и подробно, хотя все равно
гуманно, свой отказ обосновал. В «Новой жизни» нет людей: только их
тени, только их условные знаки. Друг, спутницы, завистники, дамы,
«разумные в любви», «дамы-ширмы», «сострадательная дама». Да и о са¬
мой Беатриче, о ее внутреннем или хотя бы внешнем облике, мы знаем
только одно: цвет ее платья — алого в первом явлении, белоснежного
во втором. В «Новой жизни» нет пространства: только город, не имею¬
щий имени, не имеющая имени река, и еще некоторые столь же безы¬
мянные и безликие «места» (parte). Место, где «раздавались похвалы
преславной королеве небес», место, где «собралось много благородных
зам». место, где Данте «предавался воспоминаниям о прошлом» — зна¬
ки пространства такие же условные и бесплотные, как люди, ого насе¬
ляющие.
I Ч
В «Новой жизни» нет времени, вернее, нет его протекания. «После
того, как я сочинил эту канцону...», «после того, как я сложил этот со¬
нет...», «после вышесказанного видения...», «после сражения этих мыс¬
лей...» — это обычные начала глав. Последовательность выстраивается,
но эта последовательность разорвана и не образует сюжета, события или,
лучше сказать, состояния поставлены друг за другом, но друг из друга не
следуют. Первая встреча, Беатриче в начале своего девятого года, Дан¬
те — в конце своего девятого; вторая встреча, через девять лет, и Данте
овладевает Амор; две «донны-ширмы», служением которым Данте прикры¬
вает свою любовь к Беатриче; отказ Беатриче, оскорбленной «невоздержан¬
ными толками» вокруг этих мнимых увлечений Данте, в приветствии; горе
Данте и его преображение в присутствии Беатриче; беседа с дамами, «вла¬
деющими разумом любви», о цели любви и решение перейти к новой
«материи» — к «хвале»; смерть отца Беатриче; болезнь Данте; смерть Бе¬
атриче; встреча с «сострадательной» или «благородной» дамой; искуше¬
ние новой любовью и преодоление его; решение не говорить больше о
Беатриче, пока Данте не будет готов «сказать о ней то, что никогда еще
не было сказано ни об одной женщине». Есть события, в которых еще
меньше сюжетообразующей логики: много, например, просьб о сложе¬
нии стихов. Есть события, еще меньше похожие на события: сны и виде¬
ния Данте, «сражения мыслей». Вот, собственно, и все содержание дан-
товской «книжицы» (libello).
Она и не могла стать рассказом о жизни — у нее другой предмет. Этот
предмет — поэзия. Между жизнью и текстом, к ней обращенным, здесь
стоит еще один текст — стихи Данте. Он и является основным, тогда как
собственно биография дает лишь материал для его истолкования и орга¬
низуется в соответствии с ним, т.е. в конечном счете — в соответствии с
законами и схемами куртуазной поэзии. Отсюда в «Новой жизни» такие
ее поэтически традиционные и поэтически условные персонажи, как
первая и вторая «дамы-ширмы», как завистники («иные, полные завис¬
ти и любопытства, стремились узнать то, что я хотел скрыть от всех...»),
отодвинутые на сюжетную периферию, но явно обязанные своим проис¬
хождением фигуре провансальского «клеветника», как хор сочувствую¬
щих и просвещенных в любви благородных донн. Если подходить к «Но¬
вой жизни» как к биографическому комментарию к поэзии (а такие
основания она дает), то ее главным жанровым прототипом надо считать
жизнеописания провансальских трубадуров (так называемые vidas и
razos), сложившиеся в обширный корпус в первой трети XIII в. Так оно
и есть, но отличия в данном случае много существенней сходства. Отли¬
чий много: например, провансальское «разо» не знает стиховедческого
комментария, тогда как Данте почти каждое включенное в «Новую
жизнь» стихотворение сопровождает его композиционным разбором
(«сонет делится на три части: в первой я призываю верных Амору и по¬
буждаю их к плачу..., во второй я повествую о причине [слез], в третьей я
Iопорю о чести, которую Амор воздал даме...»). Это заявляет о себе «сла¬
достный новый стиль» с его рационализмом, с его родственной близостью
к высокой схоластике. Но главное отличие в другом: автор жизнеописания
фубадура пишет о трубадуре, автор «Новой жизни» пишет о себе. И со¬
14
вершенно не важно, что в некоторых (очень, впрочем, немногочислен¬
ных) провансальских жизнеописаниях автор и герой являются одним
лицом (или были одним лицом в некоем гипотетическом первоначаль¬
ном варианте текста), — важно, что повествование от первого лица в них
не встречается никогда и, как правило, это соответствует реальному по¬
ложению дел. Как следствие, провансальское жизнеописание тяготеет к
казусности и анекдотичности, оно вовлечено в тот процесс структуриро¬
вания малой повествовательной формы, который постепенно приведет к
рождению новеллы, оно «овнешвляет» и опредмечивает содержание сти¬
ха, переводит (очень часто неправильно или произвольно) эмоциональ¬
ное состояние на язык биографического события. Иногда что-то подоб¬
ное происходит и в «Новой жизни», но, как правило, переход от поэзии
к прозе, от «текста» к комментарию не выводит нас здесь из мира внут¬
реннего в мир внешний: жизнеописание предстает не как серия анек¬
дотов, а как ряд душевных состояний — видений, озарений, скорбей, ра¬
достей. Оттого-то так бледен, так призрачен внешний мир в «Новой
жизни» — в нем нет ничего, что не было бы проекцией внутреннего
мира.
Единственное произведение, с которым дантовская «книжица» может
быть сопоставлена, единственная история жизни, главный предмет ко¬
торой составляет жизнь души — это «Исповедь» Августина. То, что «Ис¬
поведь» рассказывает о душе, ищущей Бога, а «Новая жизнь» — о душе,
порабощенной Амором, препятствием не является, и прежде всего пото¬
му, что любовное чувство в «Новой жизни» по мере его нарастания или,
лучше сказать, по мере его самораскрытия все ближе соприкасается с
чувством религиозным, а сам предмет этого чувства все ощутимее сдви¬
гается в сферу сакрального. Нарастает и степень сакральности: боже¬
ственность Беатриче получает имя, это имя — Христос. О самой смерти
Беатриче в «Новой жизни» не рассказано, зато рассказано о предчувствии
»гой смерти, ибо, наверное, только так, имея при себе алиби пророчес¬
кого и вместе с тем лихорадочного видения (это видение послано Данте
и болезни), можно было обставить смерть возлюбленной теми же эффек-
1ами, которыми сопровождалась смерть Христа (недра земли сотрясают¬
ся, птицы падают мертвыми, ангелы встречают усопшую возгласами
«Осанна»). Уже в следующей главе (XXIV) и в следующем видении отож¬
дествление с Христом проводится впрямую. Данте видит Беатриче, иду¬
щую следом за донной его «первого друга», и Амор следующим образом
изъясняет ему смысл этого видения: «Первая зовется Примавера лишь
Плигодаря сегодняшнему ее появлению; я вдохновил того, кто дал ей имя
11римавера, так ее назвать, ибо она придет первой в день, когда Беатри¬
че предстанет своему верному после его видения. И если ты хочешь про¬
никнуть в смысл первого ее имени, оно обозначает равно «Она придет
первой», так как происходит от имени того Иоанна, который предшество¬
вал свету истины...» И наконец, в главе XXIX, сразу вслед за известием
об успении Беатриче и за отказом о нем рассказывать Данте объясняет
причину мистической связи между Беатриче и числом девять: девять —
число священное, ибо корень его — три и Троица себя в нем проявляет.
•» дружило оно с Беатриче, более того, было самой Беатриче, дабы всем
15
было ясно, что и Беатриче есть явление священное, чго она есть чудо и
«корень этого чуда — единственно чудотворная Троица».
Надо сказать, что в культуре средних веков два этих языка, язык ре¬
лигии и язык любви, демонстрируют устойчивую тенденцию к сближе¬
нию. Путь средневековой поэзии, от ранних провансальцев к поздним и
к их итальянским последователям, — это путь нарастающей спиритуали-
зации, в ходе которой и образ любви, и образ возлюбленной приобретают
специфические для этой культуры атрибуты духовности. Естественным
исходом этого пути выглядит поэзия Гвидо Гвиницелли и окончательное
присвоение даме ангельского чина. С другой стороны, средневековая
религиозная мистика, в особенности мистика францисканская, понимала
земную любовь как несовершенный образ любви Творца к творению и
как первую ступень в восхождении души к Божеству (одновременно со¬
общая некоторые элементы чувственности своей картине божественной
любви). Слияния языков тем не менее не происходило; они оставались
разделенными даже в трактате Андрея Капеллана «О любви», где под из¬
ложение куртуазной точки зрения на даму и религиозно-моралистичес¬
кого взгляда на женщину отведены соседние, но различные части труда.
Только Данте, только в «Новой жизни» как бы полностью реализовал
метафору, и благосклонность стала благодатью, восторг — блаженством,
любовь — молитвой, а возлюбленная — божеством.
Поэтому понятны и объяснимы многочисленные попытки прочтения
«Новой жизни» как «легенды о св.Беатриче», как ее жития, даже как ее
евангелия. Понятны, но все равно неверны, ибо, как уже было сказано,
в «Новой жизни» Беатриче нет, это рассказ не о ней: если Беатриче —
святая, то «Новая жизнь» — это житие одного из свидетелей ее святости;
если Беатриче — Христос, то «Новая жизнь» — это евангелие, рассказы¬
вающее об евангелисте. Но самое главное, что и в «Новой жизни» дис-
танцированность языков религии и любви сохраняется — только не на
семантическом, а так сказать, на семиотическом уровне. Те, кто отожде¬
ствляют дантовскую «книжицу» с житием, представляют дело так, будто
и любовь к Беатриче сама есть нечто вроде метафоры или иносказания.
Эту иносказательность можно отбросить сразу: так, например, поступил
старофранцузский переводчик трактата Андрея Капеллана, объявивший
Прекрасную Даму Девой Марией. Эту иносказательность можно выяв¬
лять и преодолевать постепенно — освобождаясь от миражей телеснос¬
ти, прозревая духовно. Именно таким, считается, был путь Данте в «Но¬
вой жизни»: чем выше восхождение по ступеням созерцания, тем
очевиднее, что истинная любовь — это любовь к Христу и другого пред¬
мета у любви быть не может.
Это не так или не совсем так: Беатриче никогда не становится только
идеей совершенства и благодати, и дантовская «книжица» не превраща¬
ется в некий беллетризованный вариант трактата Бонавентуры «Путево¬
дитель души к Богу» (хотя влияние такого рода литературы на «Новую
жизнь» несомненно). Да. язык куртуазной поэзии в «Новой жизни» чем
дальше, тем определеннее используется для описания опыта не собствен¬
но любовного, а скорее мистического — эго неоспоримо. Но равным
обраюм неоспоримо и го. чго яилк редпгпонюго переживания со сво¬
16
ей стороны отсылает к чувствам отнюдь не религиозным. Допустимо
утверждать, что оба этих смысловых ряда — и гот, который определяется
куртуазной идеологией служения Прекрасной Даме, и тот. который оп¬
ределяется теорией и практикой мистической медитации, могут высту¬
пать в отношении друг друга в качестве языка или, другими словами, и
гот, и другой могут являться друг для друга как планом выражения, так и
планом содержания. Амор, объясняя Данте то его видение, в котором
владычица его души предстала идущей вслед за донной Примаверой, сна¬
чала объявляет Беатриче новым воплощением Христа и тут же своим соб¬
ственным воплощением. «Тот, кто пожелает более утонченно вникнуть
в суть вещей, увидит, что Беатриче следовало бы назвать Амором благо¬
даря большому сходству со мной...»
Эта повышенная семиотическая мобильность, эта постоянная готов¬
ность к перевертыванию смысла — из профанного в сакральный и обрат¬
но — если не объясняется, то оправдывается той ролью, которую играет
в «Новой жизни» поэтика интерпретации. В первых же ее строках упо¬
минается некая «книга», «книга памяти», представленная и описанная
именно как книга: в ней есть части, рубрики, записи, и эти записи Дан¬
ге, приступая к сложению другой книги или «книжицы», как он ее назы¬
вает, чтобы отличить от первой и основной, намерен воспроизвести — по
крайней мере, их суть и смысл (sentenza). Он не переписчик, слепо копи¬
рующий образец, он истолкователь. Мы то и дело видим его в этой роли:
мключая свое рассуждение о таинственном тождестве Беатриче и числа
девять, он прямо говорит, что возможны и более тонкие истолкования (piu
sottile ragione), но предложенное им нравится ему более других. Почти в
самом центре «Новой жизни», во всяком случае, близко к ее кульмина¬
ции, сразу после главы, в которой Беатриче была отождествлена одновре¬
менно с Христом и с Амором, Данте счел необходимым представить
объяснения по поводу своего понимания бога любви: ведь многие не¬
доумевают, отчего он говорит об Аморс так, как «если бы он обладал
самостоятельным бытием». На самом деле таковое он Амору не при¬
писывает и не присваивает: это поэтическая вольность, дозволенная всем
стихотворцам, как писавшим на латинском (что доказывается примера¬
ми), так и писавшим на народном языке (ибо что дозволено первым, то
дозволено и вторым). Пользоваться своей большей, по сравнению с про-
шиками, свободой речи поэты, однако, должны с осторожностью и «не
безрассудно»: они обязаны в любом случае уметь изъяснить истинное зна¬
чение того, что скрыли под цветом или фигурой риторики. «Новая
жизнь» и является таким раскрытием истинного значения дантовской
поэзии, но раскрытием не окончательным и не исчерпывающим. Закан¬
чивает «Новую жизнь» Данте обещанием дать еще одно «истолкование»,
создать еще одну книгу, в которой скажет о Беатриче то. что «никогда
еще не было сказано ни об одной женщине». К этому он еще не готов,
по «прилагает все усилия» (studio quanto posso), чтобы стать готовым.
-Новая жизнь» тем самым оказывается неким промежуточным текстом:
она располагается не только между двумя периодами жизни, но п меж-
iv двумя «киш амп» — одной. запечатленной в памяти п вст\а\. пдру-
тп. еще не написанной.
17
Трудно сказать, на что точно указывает дантовское прощальное обе¬
щание. Если верно предположение о том, что последние главы «Новой
жизни» были добавлены к ней много позже, когда возник и оформился
замысел «Божественной Комедии», то именно «Комедия» могла иметься
в виду под более достойным повествованием. Во всяком случае, Беатри¬
че «Новой жизни» царствует в душе и только в душе и власть ее здесь на¬
столько всеобъемлюща, что весь остальной мир бледнеет и меркнет — в
«Божественной Комедии» Беатриче будет прославлена во всем мирозда¬
нии, взятом с подавляющей полнотой. И именно с высоты «Божествен¬
ной Комедии» «новизна» «Новой жизни» могла быть понята не только как
«обновление» (в том числе и в духе слов апостола Павла: «Кто во Христе,
тот новая тварь»), но и как «младость» — т. е. как нечто прекрасное и ис¬
тинное, но оставшееся в прошлом.
Сверре Багге (Берген)
Королевские саги: исландское своеобразие
или общеевропейская культура?
Вопрос об уникальности средневековой Скандинавии и, в осо¬
бенности, Исландии, обсуждался неоднократно. Традицион¬
ный взгляд, восходящий к XIX в. и тесно связанный с ислан¬
дским и норвежским национализмом, заключался в том, что
действительно уникальная культура Севера не только отлича¬
лась от культуры остальной Европы, но во многих отношениях превос¬
ходила ее: была более рациональной, менее подверженной суевериям,
избегающей крайних, чтобы не сказать истерических, проявлений евро¬
пейского католицизма, и породившей литературу, которая больше гово¬
рит современному читателю, нежели произведения, созданные в других
частях Европы1 . Реакция на такую точку зрения наступила после второй
мировой войны и связана с именами таких «еретически» настроенных
историков, как Херманн Палссон и Ларе Лённрот, которые интерпрети¬
ровали исландскую культуру, в том числе саги, как часть общей культу¬
ры западного христианского мира2. Эта ересь постепенно получила ста¬
тус ортодоксии или, по крайней мере, приобрела респектабельность, и в
последние годы, особенно в исследованиях по истории исландского сред¬
невекового общества, вдохновляемых социальной антропологией, маят¬
ник, похоже, качнулся в обратную сторону2.
Очевидно, что на вопрос об уникальности или общности культуры
нельзя ответить еп Ыос\ необходимо рассматривать различные произ¬
ведения и жанры. Саги об исландцах с первого же взгляда обнаружи¬
вают яркие черты уникальности, причем сам этот жанр, насколько мне
известно, не имеет прямых параллелей где-либо еще. О королевских
сагах такого сказать нельзя: в Европе на протяжении всего средневе¬
ковья имеется огромное количество историй о королях и их деяниях.
Если королевские саги и уникальны, то в том, как они представляют
историю, — и в смысле формы, и в смысле содержания. В своей кни-
ie о «Круге Земном», вышедшей несколько лет назад4 , я говорил, что
1акая уникальность действительно имеет место: «Круг Земной», а так¬
же до некоторой степени и другие саги, были политической историей
в ином смысле, нежели подобные им произведения в большинстве дру-
I их областей Европы. Я мог бы, пожалуй, добавить, что это \ гвержде-
19
иие не имело под собой основания — по крайней мере, мне так кажем¬
ся — в пиле норвежского национализма и уж томно — не в виде ислан¬
дского. Оно сопряжено с моим общим убеждением в том. что обычно
существует тесная связь между тем, как пишется история, и взгляда¬
ми и политическими условиями, царящими в обществе. Мой тезис сво¬
дился не к тому, что саги были лучшей историей, нежели все осталь¬
ное в средневековой Европе, и не к тому, что они отличались от общего
стандарта, а скорее к тому, что связь между историографией и конк¬
ретными социальными условиями во всей Европе недооценивалась, в
то время как более пристальный взгляд обнаружил бы уникальные яв¬
ления различного рода не только в Исландии, но и в других европей¬
ских странах. В частности, я указывал, что крайний юг Европы, ита¬
льянские города в смысле отношения к политической истории
представляют собой одну из параллелей Скандинавии.
В данной статье я хотел бы отчасти развить, а отчасти пересмотреть
мои прежние положения. В 1991 г. мое сравнение саг с европейской
историографией базировалось преимущественно на данных литературы
и лишь на немногих первоисточниках. С тех пор я изучил европейскую
историографию более основательно. И все же было бы преждевременно
пытаться провести некое окончательное сравнение. Исследование ко¬
ролевских саг как историописания переживает только начальный этап.
Правда, корпус этих источников ограничен, и о них сравнительно лег¬
ко составить общее впечатление. Корпус же европейской историографии
огромен, и значительная доля источников до сих пор не издана. Суще¬
ствует лишь небольшое число посвященных им современных исследова¬
ний, которые можно использовать при сравнении; в большинстве работ
историографический материал по-прежнему привлекается ради получе¬
ния фактической информации5. Поэтому сравнительное исследование
поневоле должно базироваться на анализе отдельных оригинальных про¬
изведений. Приходится просто начинать с чего-то и смотреть, что по¬
лучится. Меня в последние годы более всего интересовали германские
исторические сочинения раннего средневековья, приблизительно с се¬
редины X до середины XII в. Ничто не свидетельствует о том, что дан¬
ные произведения были известны авторам саг. Как бы то ни было, это
была важная историографическая традиция, создававшаяся в тесной
связи с политическими реалиями и королевской властью и сочетавшая
п себе беллетристику с латинской ученостью. Эта традиция обнаружи¬
вает черты как сходства, так и различия с сагами и поэтому подходит для
сравнения.
Как историка меня в принципе больше интересует содержание, не¬
жели форма, и в конечном итоге я хочу использовать историографию
как источник информации о воззрениях и нормах, касающихся по¬
литики, общества и человеческого поведения — того, что можно объе¬
динить под названием «политической ментальности». Однако такое
исследование не может быть отделено от формального изучения про¬
изведений. Средневековая историография есть прежде всего и главным
()бра юм повествование, и современный исследователь исторического
upon {веления прщван объяснить, почему это повествование выглядит
20
именно таким образом. Поэтому я намну мое сравнение с нескольких
комментариев, касающихся нарративной формы.
«Репрезентация» и «аргументация»
В своей знаменитой книге о репрезентации реальности и западно¬
европейской литературе Эрих Ауэрбах говорит о Григории Турском как
о примере того коренного изменения в литературе, которое произош¬
ло при переходе от античности к средним векам6. Латынь у Григория
«варварская», его повествование отрывочно и, кроме того, временами
столь туманно, что почти недоступно пониманию; трудно разобрать¬
ся в хаосе сообщаемых им подробностей. Наблюдение за этими мел¬
кими, конкретными деталями, зачастую рассказанными в живой ма¬
нере, несмотря на варварский язык, пришло на смену панораме
военных и политических событий, характерной для римской истори¬
ографии. Таким образом, Григорий репрезентирует не только круше¬
ние классической культуры, но и нарождение новой. Марк Филлипс,
проводя сравнение между средневековой и ренессансной историогра¬
фией, различает их как «репрезентативную» и «аргументативную»7.
Ренессансная историография основана на «аргументации», т.е. вмес¬
то «репрезентации» живого хаоса частных эпизодов в средневековье,
мы обнаруживаем здесь повествование, организованное по римскому
образцу, сфокусированное на наиболее важных предметах и представ¬
ляющее события с одной точки зрения. Этому соответствуют изменения
в изобразительном искусстве, которое, начиная с эпохи Возрождения,
характеризуется центральной перспективой и строгой экономией в ко¬
личестве фигур и объектов, в отличие от множественности деталей
искусства средневекового.
Уильям Брандт, также отмечавший эпизодичную форму средневеко¬
вой историографии, сделал следующий шаг, выдвинув тезис, что это сви¬
детельствует о «способе восприятия», фундаментально отличном от ны¬
нешнего. Люди средневековья не знали понятия процесса; события
представлялись им либо отклонением от идеального статичного порядка
вещей (по мысли клириков), либо проявлением силы и доблести некое¬
го знатного мужа (по мнению аристократии)*. Можно, однако, возразить,
что на основании формы историографии, не учитывая специфическую
цель написания исторических произведений в средние века, нельзя де¬
лать выводы о средневековом мышлении или менталитете вообще.
Нельзя предполагать, что другой способ историописания не был возмо¬
жен: данный конкретный способ мог быть результатом сознательного
выбора, определявшегося специфическими целями писания истории,
которые не совпадали с нашими.
Одна из таких целей приходит в голову сразу: средневековая исто¬
риография по своему характеру дидактична. В наше время историогра¬
фия по сути является рассмотрением прошлого, которое мертво и на¬
всегда ушло. Современный историк объясняет, каким образом настоящее
21
выросло из прошлого, демонстрирует контраст между прошлым и насто¬
ящим или осуществляет общие наблюдения относительно общества и его
изменений. Средневековая же историография занималась «живым про¬
шлым», описывая хорошие и плохие поступки — соответственно как
примеры для подражания или как предостережение потомкам, о чем
объявлялось во всех средневековых прологах. Правда, античная и ренес¬
сансная историографии также были достаточно дидактичны в описан¬
ном смысле. Но там дидактические устремления оказывались скорее
сопряжены с идеей res publica, и проповедуемые добродетели были в
первую очередь гражданскими. Средневековые добродетели более лич-
ностны и основаны на христианской морали либо нормах поведения в
среде военной аристократии. Это в значительной степени объясняет эпи¬
зодичную структуру средневековой историографии. Историческое пове¬
ствование времен римской античности или Ренессанса, выстроенное на
основе единой идеи как некая связная аргументация, предполагает им-
персональный объект повествования, res publica. Как бы римский исто¬
рик описал эпизод, столь запутанно рассказанный Григорием? — спра¬
шивает Ауэрбах. Ответ прост: он вообще не стал бы его описывать1' ;
мелкие склоки между варварами показались бы слишком незначитель¬
ными автору, в чьем повествовании предметом — или скорее героем —
была Римская империя. Когда целью историографии является изобра¬
жение добродетелей и пороков отдельно взятых людей, очень трудно
объединить сколько-нибудь значительное количество эпизодов в связ¬
ное повествование.
Различие между «репрезентацией» и «аргументацией» — довольно
грубое. К тому же оно имеет тот недостаток, что сваливает в одну кучу
все, имевшее место на протяжении тысячелетия средневековой истории,
и определяет это через отсутствие качеств, характерных для классической
древности и Возрождения. В действительности, средневековая истори¬
ография обнаруживает огромное разнообразие и никоим образом не
сводится к прямой и простой «репрезентации» отдельных событий. Да
и различие между «аргументацией» и «репрезентацией» не столь четкое,
как кажется на первый взгляд. Тем не менее, оно дает некоторую самую
общую категоризацию, которая может оказаться полезной при анализе
различных течений историографии.
Тема борьбы за престол
у Титмара Мерзебургского и Снорри Стурлусона
Отгоновская традиция историографии, которую я хочу здесь сопоставить
с сагами, является наследницей отчасти «варварства» Григория Турско¬
го, отчасти же — ренессанса классических канонов в эпоху Каролингс¬
кого Возрождения. Я ограничусь одним наиболее ярким примером —
рассказом Тшмара Мерзебургского об избрании королем Генриха II в
1002 I., коюрыи я сопос1а1злю с рассказом Снорри в «Круге Земном» о
завоевании Норки ии Олавом Святым в 1015 г.
Рассказ Титмара о пути Генриха к трону1" имеет форму летал ьного
повествования, в котором перечисляется, как кажется, все сколько-ни¬
будь важное, что случилось в Германии между кончиной Оттона III 24
января 1002 г. (Chron. IV.49) и капитуляцией Германа, последнего из
соперников Генриха, 1 октября того же года (Chron. V. 22). Рассказ Тит¬
мара можно сравнить со множеством других нарративных секвенций,
которые мы находим, в частности, в средневековом изобразительном
искусстве, в раннем средневековье — в форме книжных иллюстраций
или рельефов на реликвариях и других драгоценных предметах, а в более
позднее время — в витражах. Статичные картины, все одного размера,
следуют друг за другом. Части кажутся важнее целого. Это, несомненно,
«репрезентация», а не «аргументация». В то же время повествование не
слишком «зажигательно». Мы получаем конкретную информацию о
множестве деталей приключившейся истории, но она почти не захваты¬
вает нас эмоционально.
Две особенности в повествовании у Титмара заслуживают особого
внимания. Во-первых, история восхождения Генриха на престол ра¬
зорвана длинным отступлением сразу после рассказа о похоронах им¬
ператора Оттона III (Chron. IV.55-75). Правда, автор со всей ясностью
дает понять, что он сознательно прерывает повествование, и начало
Книги V есть прямое продолжение той линии, которую он оставил в
Книге IV. Во-вторых, отсутствует корреляция между длиной и деталь¬
ностью отдельных эпизодов и их значением для темы престолонасле¬
дия. Это особенно заметно в рассказе об убийстве Эккехарда, одного
из двух соперников Генриха в борьбе за престол. Титмар настаивает,
что не было связи между этим убийством и борьбой за трон, и это до¬
статочно релевантно, если принять во внимание тот факт, что Генрих
— герой Титмара, и тот стремится очистить его от всякого подозрения
в причастности к этому убийству. Впрочем, он не останавливается на
этом и приводит детальное описание убийства, равно как и последо¬
вавших за ним столкновений семьи Эккехарда с его убийцами (Chron.
V.3-7).
Поскольку современный историк из массы подробностей, сообщае¬
мых автором, способен вычленить достаточно информации, чтобы соста¬
вить собственное представление о том, как и почему Генрих победил сво¬
их соперников, создается впечатление, будто «история» о смене короля
возникает в повествовании Титмара почти случайно. Это впечатление не
совсем верное. Титмар ясно показывает, что стремился рассказать связ¬
ную историю, и даже указывает на главную причину успеха Генриха —
вмешательство Всевышнего. Богу было угодно, чтобы Генрих правил,
— в частности, потому, что он избрал его своим орудием в восстанов¬
лении Мерзебургского диоцеза, в котором епископом был сам Титмар и
который в результате страшного преступления был расформирован в
правление Оттона II (973-983 гг.). Однако о прямом вмешательстве Бога
в конкретном повествовании Титмара упоминается не часто. Напротив,
если прочесть историю внимательно, станет видно, что автор был тонким
наблюдателем современной ему политической жизни и ясно показал, как
Генрих делал все для того, чтобы обеспечить себе трон. Генрих прибира¬
23
ет к рукам королевские инсигнии сразу после смерти Оттона; он систе¬
матически «обрабатывает» князей и баронов с помощью даров и посулов,
стремясь заручиться их поддержкой, и вместо того, чтобы непосредствен¬
но атаковать своих соперников, он ездит по стране, чтобы получить одоб¬
рение на возможно большем числе местных собраний. Эта стратегия при¬
носит успех. После смерти Эккехарда второй соперник Генриха, Герман,
оказывается в изоляции и не видит для себя иного выхода, кроме прими¬
рения с Генрихом, чего и добивается — на весьма выгодных условиях.
Рассказ Снорри о воцарении Олава11 столь же отрывочен и также ос¬
нован на идее божественного вмешательства. Направляясь в Иерусалим,
Олав видит сон, в котором ему говорится, что он должен вернуться в
Норвегию, чтобы стать там конунгом на вечные времена (ОН, ch. 18).
Олав прерывает свое путешествие, но не прямо направляется в Норвегию,
а сначала некоторое время воюет во Франции, затем в Англии, поддер¬
живая сыновей короля Этельреда против короля Кнута. Видя, что дело их
безнадежно, он, наконец, оставляет их и уезжает в Норвегию. Последу¬
ющий рассказ о покорении Олавом Норвегии также эпизодичен. Одна¬
ко, вместо создания серии маленьких «виньеток», как у Титмара, Снор¬
ри сосредоточивает свое повествование на нескольких значительных
«сценах», которые он описывает с живыми подробностями: I) засада на
ярла Хакона, который взят в плен и принужден к отказу от своих претен¬
зий на Норвегию; 2) встреча Олава со своим отчимом Сигурдом Свинь¬
ей, которая приносит ему поддержку мелких конунгов Восточной Нор¬
вегии; 3) «военная прогулка» в Трандхейм; 4) битва при Несьяр; 5)
окончательное признание Олава конунгом Норвегии. В рассказ о собы¬
тиях в Трандхейме вставлено отступление, где читателю представлен
наиболее выдающийся скальд Олава, Сигват. Эти важные «сцены» — не¬
сомненная «репрезентация»; действующие лица и их поступки живы и
конкретны. Детали, касающиеся одежды и пиши, включены в повество¬
вание отчасти для оживления его, отчасти же для того, чтобы, замедляя
развитие событий, усилить драматический эффект. Столь же мелодрама¬
тичны речи и диалоги персонажей. Молодого ярла приводят к Олаву;
король трогает его волосы и восхищается его красотой, намекая, что
тот, возможно, достиг того момента, когда ему уже не знать ни побед,
ни поражений. Диалоги Олава и его матери с отчимом Сигурдом де¬
монстрируют контрастирующие модели социального поведения — не¬
примиримые амбиции и готовность скорее умереть, чем отступиться, двух
первых и мудрую осторожность третьего. Сцена совещания конунгов Уп-
плёнда помещает притязания молодого претендента на трон в более ши¬
рокий политический контекст: что более выгодно с точки зрения мелких
правителей — быть подданными далекого короля, который не особенно
вмешивается в их дела, или же поддержать того, кто имеет шанс победить
и разделить с ним плоды его победы?
Однако, эти «сцены» являются также частью более масштабного
повествования о том. как Олав шаг за шагом подчиняет себе Норве-
I ню. Эта история вводится в поле зрения читателя посредством при¬
возимого Снорри сравнения сил Олава и его противников: с одной
i троны — Олав с его двумя кораблями, v котрот. по-видпмому.
24
много золота, с другой же стороны — тесно связанные между собой
ярды и крупнейшие магнаты страны, необычайно богатые и могуще¬
ственные (ОН. ch. 21-23. cf 46). Это борьба между Давидом и Голиа¬
фом, и вполне возможно, что Снорри сознательно строил свой рассказ
о победе Олава так, чтобы было ясно, что она, как и победа Давида,
была результатом помощи Всевышнего. Однако победа Олава объясня¬
ется также и в системе вполне земных политических терминов. Плене¬
ние Хакона устраняет важного соперника и одновременно демонстрирует
удачливость Олава — на это указывает конунг Хринг, выступая в его
пользу на совете конунгов Упплёнда. Успех Олава в этом деле оказы¬
вается необычайно важным для обеспечения поддержки конунгов,
могущественных людей и бондов востока страны, что. в свою очередь,
позволяет ему победить своих врагов при Несьяр. Экспедиция в Тран-
дхейм менее успешна. Она скорее предстает первым серьезным столк¬
новением Олава с его врагами. Двое из них — ярл Свейн, дядя Хакона,
и Эйнар Брюхотряс — выдвигаются на первый план как предводители
сопротивления Олаву.
Таким образом, использование Снорри способа «репрезентации» до
некоторой степени служит целям «аргументации». Снорри пишет поли¬
тическую историю, показывая, как Олав, сочетая удачливость и сметку,
одерживает достаточное число побед, чтобы получить поддержку боль¬
шинства населения Норвегии. Количество деталей и живость отдельных
эпизодов, в которых описывается этот процесс, в значительной мере оп¬
ределены их нарративной важностью для конечного результата.
Историография и общество
Сходство между политическими системами, описанными в этих двух по¬
вествованиях, поразительно. Не существует ни твердых правил престоло¬
наследия, ни ассамблеи с правом решения этого вопроса, ни достаточно
связующего подданства. Наиболее влиятельные люди поддерживают того
кандидата, который скорее станет проводить их интересы, такого, кто, во-
первых, щедр и, во-вторых, имеет больше шансов на успех. Следователь¬
но, «ничто так не способствует успеху, как успех», и когда Генрих и Олав
приобрели значительное превосходство над своими соперниками, на их
сторону переметнулось большинство.
Это сходство подтверждается и другими пассажами из двух произве¬
дений, которые мы сравнивали, а также иными историческими сочине¬
ниями в скандинавской и европейской традициях. Обе эти традиции от¬
носятся к периоду, предшествовавшему утверждению окончательно
разработанной идеологии христианской королевской власти. Это со¬
вершенно очевидно в случае Исландии, которая не знала власти нор¬
вежских королей вплоть до 1262 г., в самой же Норвегии помазание на
царство не являлось твердо установленным ритуалом до 1247 г. Идея
христианской королеискон власти не занимает важного места в коро¬
левских сагах, за исключением «Саги о Хаконс» (Пакопт sa^a) и. до не¬
которой степени, «Саги о Сверрире» (Svems saga)'2. Правда, оттоновская
Германия имела за плечами вековую традицию христианской монархии,
и процедура миропомазания была твердо установлена со времен воцаре¬
ния Оттона I в 936 г. Однако идея короля как помазанника Божия,
поставленного от Него, лишь отчасти проникла в сочинение Титмара
и играет незначительную роль в труде его предшественника Видукин-
да Корвейского. Так, Видукинд описывает Оттона Великого как огром¬
ного, похожего на льва мужчину, чья сила, воинские качества и ост¬
рый, пронизывающий насквозь взор наводят ужас на врагов, в то время
как его доброта и щедрость к друзьям не знают границ13. Это герман¬
ский вождь и харизматический лидер, а не христианский rex iustus, и
параллели этому легко найти в сагах. Описание «политических игр»
между подобными персонажами также напоминает саги. У Видукин-
да, и в еще большей степени у Титмара, просматривается уверенность
в том, что во внутренних конфликтах с соперниками и мятежной зна¬
тью дело короля правое. Тем не менее его противники — люди благо¬
родные и респектабельные, борющиеся за свои законные интересы,
точно так же, как и соперники короля в сагах. Таким образом, в обоих
случаях мы имеем дело с представлением о политике как о соревнова¬
нии между конкретными действующими лицами, борющимися за кон¬
кретные, личные интересы и привлекающими друзей и союзников бла¬
годаря своей щедрости и харизматической натуре. Равным образом в
обоих случаях мы имеем дело с сообществом, которое ставится выше
индивидуальных интересов — что видно на контрасте внутренних и
внешних конфликтов. У Видукинда саксы объединяются против вар-
варов-славян и сражаются с этими последними беспощадно. В сагах
отличие от соседних народов — датчан и шведов — меньше, но превос¬
ходство норвежцев над ними демонстрируется многократно, хотя нор¬
вежцы и не всегда выступают единым фронтом против внешних вра¬
гов14 .
Что касается повествовательной формы двух рассмотренных исто¬
рий, то обе они — наследницы «варваризации» римской историогра¬
фии, отмеченной Э. Ауэрбахом у Григория Турского. Они имеют эпи-
юдическую структуру, больше тяготеют к «репрезентации», нежели к
«аргументации», и — что тесно связано с указанными чертами — в обе¬
их отсутствует имперсональный протагонист. С другой стороны, исто¬
рия, рассказанная Снорри, несомненно, более удачна как «репрезен-
мция», в ней соединяются живой стиль повествования и конкретные,
ыпоминающиеся «сцены». Она также более удачна и как опыт «аргу¬
ментации» — «репрезентация» в ней служит для выделения основных
мапов политического «сюжета» о восхождении Олава к власти. Таким
пиразом, хотя понимание политических механизмов в обеих историях
почти одинаковое, в рассказе Снорри они выявлены значительно бо-
icc рельефно.
Живой стиль повествования и мастерство рассказчика демонстриру-
|«»1 большинство скандинавских писателен — как авторы королевских
> >п . гак и саг об исландцах. Но ин гегрпрова i ь эпизоды в пространные
нарративные секвенции им удается в разиоп cienemi. Не трудно наи-
26
ти примеры отрывочности или даже — с современной точки зрения —
хаотичности повествования в сагах, таких, например, как «Легендар¬
ная сага» и «Сага об Олаве Трюггвасоне» Одда Сноррасона. Тем не
менее, наиболее зрелые и проработанные из королевских саг, такие,
как «Круг Земной» и «Сага о Сверрире», далеко превосходят раннес¬
редневековую германскую историографию в этом отношении. Так, це¬
лостное повествование в саге об Олаве из «Круга Земного» не ограни¬
чивается историями, подобными тем, что мы только что рассмотрели;
вся сага построена как единый сюжет, демонстрирующий рост власти
Олава на протяжении первых десяти лет его правления и упадок ее в
последние пять лет. Далее, гибель Олава подготовлена чередой неудач,
начавшихся в годы его успеха, когда один за другим следуют его кон¬
фликты с большинством влиятельнейших людей страны, а затем он
встречается с превосходящими силами своих врагов у Стикластадира
и погибает15. Подобная же схема обнаруживается в «Саге о Сверрире»,
особенно в описании походов и битв, но до известной степени и в рас¬
сказе о правлении Сверрира в целом16.
Однако интеграция изложения не идет дальше определенного уров¬
ня. Тактика в сагах важнее стратегии. У персонажей нет масштабных
политических или идеологических проектов, осуществления которых
они добиваются; они воюют за свою власть в рамках довольно статич¬
ной системы, а не для того, чтобы установить новый социальный строй
или привести к власти новый класс или социальную группу. Соответ¬
ственно. у саг нет имперсонального героя; самой крупной единицей
организации связного рассказа является жизнь или правление одного
конунга. «Круг Земной» — не история норвежского народа и уж тем
более не норвежского «государства»; это история норвежской динас¬
тии, где связь между отдельными правлениями зависит от личных от¬
ношений между конунгами и их людьми. Совместное правление или
борьба между претендентами могут обеспечить преемственность в саге
от одного царствования к другому, как, например, в случае Магнуса
Доброго и Харальда Сурового или в борьбе между сыновьями Хараль-
да Гилли и их наследниками, но обычно правление конунга представ¬
ляет собой замкнутую единицу, которая даже может быть разделена на
несколько сравнительно самостоятельных историй.
Точно так же и эпизоды из хроники Титмара Мерзебургского в це¬
лом репрезентативны для оттоновской историографии. Эта хроника
вообще не только отрывочна, она полна самых фантастических историй
о снах, чудесах и знамениях, а в некоторых ее местах, как, например, в
рассказе о правлении Генриха I (919-936 гг.), политика почти тонет в
набожности и благочестии. С другой стороны, все эти отсылки к потус¬
тороннему не мешают Титмару сообщать массу полезного о современ¬
ной ему политической ситуации, и, в частности, остаток рассказа о
правлении Генриха 11, как и упомянутая история его восхождения на
трон, дает информацию о политической системе империи Оттонов17 .
Груд Видукинда отличается большим тематическим единством, в нем
последовательно рассматриваются ранняя история парода саксов (пер¬
вая половина Книги I) п дв\'\ его великих правителей. Генриха I (вго-
рая половина Книги I) и Оттона I (Книги II и III). Отступлении и ре¬
лигиозных комментариев не много, но структура в основном эпизоди¬
ческая. Некоторые эпизоды отличаются живостью и драматизмом, дру¬
гие более сухи, но более или менее пространных, связных историй о
войнах и политических конфронтациях мало, и не делается попыток
дать единый рассказ обо всем правлении или об основных линиях по¬
литического развития Саксонии.
Почему саги - другие?
Политические системы, представленные в двух историографических тра¬
дициях, обнаруживают черты сходства, но способы их описания различ¬
ны. Очевидно, что объяснение этому следует искать прежде всего на су¬
губо литературном уровне. Возможные объяснения такого рода —
появление в ХП-ХШ вв. прозаических произведений на национальных
языках, которые строились на иных принципах, нежели те, что существо¬
вали в классической латыни18, и более широкое распространение грамот¬
ности в этот период. Но поскольку моей специальностью является исто¬
рия, а не литература, я не стану вдаваться в эти объяснения, по крайней,
мере в данном контексте, а ограничусь тем, что еще раз сделаю попытку
всмотреться в исторический фон, чтобы увидеть, нельзя ли там найти хотя
бы частичное объяснение этого явления.
В своей книге о «Круге Земном» я объяснял более пристальное вни¬
мание к политике и прагматизм в интерпретации событий в древнескан¬
динавской историографии отчасти тем, что «политические игры» имели
большее значение в Исландии и Норвегии, чем в остальной Европе, что
в свою очередь было следствием менее строгой социальной иерархии;
отчасти же тем, что читательская аудитория там состояла из действующих
политиков19. Что касается этой аудитории, то я указывал на отличие как
от элитарной аристократической культуры феодальной Европы, так и от
церковной культуры, сосредоточенной главным образом на теологии,
философии и вечной истине.
Эти объяснения не могут быть прямо приложены к империи Оттонов.
«Политические игры» там довольно-таки похожи на те. что мы встречаем
в «обществе саг», придворная культура и правила рыцарства менее разви¬
ты, нежели в высоком средневековье, и век схоластики и спекулятивной
теологии еще не наступил. Что касается читательской аудитории, то узнать
о ней что-либо труднее. Очень немногие миряне были грамотными, и мы
не знаем, до какой степени исторические произведения на латыни, такие,
как хроника Видукинда, были предназначены служить основой для устного
рассказа. Во всяком случае, некоторые из этих текстов, как кажется, име¬
ли в виду аудиторию, состоявшую из воинов и политиков, и отражают ее
ценности и интересы.
В одном пункте, однако, мы можем, я думаю, отметить важное разли¬
чие между обществом Оттонов и обществом cai. а именно — в степени
социальной сгра1ификаипп. Конечно, оба ли ooinecma были арпсюкра-
тческимн. В обоих обществах подлинными участниками политической
игры были представители элиты, и всеми остальными членами общества
их лидерство воспринималось как нечто естественное. Тем нс менее, есть
п важное различие. В историографии Оттонов простонародье почти не
упоминается. В сагах же оно присутствует постоянно, и успех или пора¬
жение лидеров в огромной степени зависят от их способности повести за
собой именно простых людей. Следствия этого отличия проявляют себя
двояко.
Прежде всего, это стремление рассказчика объяснять. Современный
историк считает своей целью объяснение. В средневековой историогра¬
фии, цель которой — дидактика, это было не гак. Моральный аспект
поступка может быть оценен и без пространного освещения его причин
и его места в более широком контексте. Так что, возможно, более уме¬
стным было бы задаться вопросом не о том, почему историки или це¬
лые историографические традиции не объясняют, а почему они что-то
объясняют. И все-таки вопрос о том, почему оттоновские историки ред¬
ко старались что-то объяснить, не кажется излишним. Объяснять по¬
ступки и мотивы других людей означает ставить себя выше их: знать о
них больше, чем они сами готовы сообщить, или даже больше, чем они
сами знают. Видукинд намекает на это, когда просит прощения за то,
чго дерзает в одном редком случае привести собственное объяснение20.
\)ту позицию до некоторой степени можно понять в свете данной Бер¬
наром Гене характеристики средневековых историков как маргинальной
1 руппы и историографии как предмета, стоящего вне рамок ученого ис-
юблишмента21 . Согласно этой интерпретации, историков можно срав¬
нить с журналистами в СССР, которым приходилось просто писать то,
что им приказывала власть. По крайней мере до XIII в. этот образ ве¬
рен лишь отчасти; истории ведь писали и многие люди, занимавшие
высокое положение. Но все же они, как правило, стояли на более
низкой ступени, чем их герои, и в строго иерархическом обществе
империи Оттона должны были демонстрировать должное почтение к
людям, о которых писали.
В противоположность этому, в «обществе саг» имелось то, что мы
могли бы назвать «общественным мнением». Оно просматривается в
многочисленных указаниях на то, что сказали или подумали люди, а так¬
же в страхе высокопоставленных лиц, даже конунгов, стать посмешищем
и глазах окружающих — в некоторых случаях, как, например, у Сверри-
рл, этот страх уравновешивался самоиронией, — а также в часто описы¬
ваемых в сагах случаях соревнования с людьми более низкого статуса —
общее место многих рассказов об исландцах при дворе норвежских ко¬
нунгов. Таким образом, историк, даже будучи рангом ниже своего героя,
мог рассматривать себя как выразителя общественного мнения и судить,
обьяснять и даже до какой-то степени критиковать его действия. В этом
омюептельно «демократичном эгалитарном» обществе успехи или неуда¬
чи всех героев, даже конунгов, могли обсуждаться, т. е. объясняться, в то
время как в оттоновском обществе почтение к правителю лшрешало или
но крайней мере ограничивало обращение к пн lepiiperainin. Кроме того,
sola королевские саги до некотором степени должны были бьиь мрелнат-
29
начены и для норвежской аудитории, большинство их были написаны в
Исландии, в известном удалении от двора.
Различная роль «общественного мнения» в двух обществах может быть
дополнительно проиллюстрирована одним частным аспектом политичес¬
кого поведения, описанным по-разному в каждой традиции. Политика
Оттонов — это политика нахождения консенсуса22. Случаи открытого
противостояния мнений чрезвычайно редко встречаются у Видукинда и
Титмара. Официальные встречи представляют собой церемониальные
действа, где выражаются единство и согласие между участниками. Несог¬
ласный покидает собрание — и от такого несогласия недалеко до откры¬
той борьбы. Саги же, наоборот, полны дискуссий и споров, отраженных
во многочисленных речах и диалогах героев. Несогласие высказывается
открыто, и конфликтующие стороны скрещивают как оружие, так и ар¬
гументы. Вероятно, большая свобода публичного слова и дискуссий спо¬
собствовала дискуссии и анализу и в исторических произведениях.
Второе следствие различия в социальной структуре связано с осо¬
бым интересом к объяснению. В обоих обществах в конфликте обыч¬
но выходил победителем тот, кто мог собрать достаточное количество
сторонников. В империи Оттонов теоретически и, наверное, до какой-
то степени на деле достаточно было заручиться лояльностью несколь¬
ких князей, чьи люди последовали бы за ними почти автоматически.
Князей привлекали дарами, посулами и — как мы иногда узнаем из ис¬
торических сочинений — индивидуальным подходом. В противопо¬
ложность этому, лидер в обществе саг должен был произвести впечат¬
ление на простых людей, раздавая им награды, проявляя заботу об их
интересах, демонстрируя политическое и военное мастерство, убеждая
их и приобретая их лояльность путем публичных выступлений. Успех
зависел от умения и навыков во всех этих областях, и его достижение
было сложным процессом; таким же следовало представлять его в ис¬
торическом сочинении. Отсюда сама дидактическая функция саг со¬
стояла в описании успеха или неудачи в подобных делах. В результате
объяснение, по крайней мере, если не процессов, то ситуаций, стало
скорее обычной чертой этих произведений.
Саги и европейская историография
Что касается места и значения королевских саг в более общем контексте
средневековой европейской историографии, то я здесь лишь сделаю не¬
сколько замечаний к тому, что говорил уже в другом месте23. Думаю,
Филлипс, указывая на итальянскую историографию XV в. как на «вели¬
кий водораздел», по большому счету прав. В «Истории флорентийского
народа» (Historia Florentini Populi) Леонардо Бруни, написанной около се¬
редины XV в., флорентийская республика стала предметом связного и
целенаправленного повествования, которое прослеживает ее развитие от
основания города в римскую эпоху до почти чудесного спасения его в
борьбе против Милана благодаря внезапной смерти Джангалеаццо Вис¬
30
конти в 1402 г. В масштабном повествовании Бруни жизни отдельных
людей подчинены этой более важной линии истории, и их действия оце¬
ниваются сообразно их вкладу в процветание республики. Появление
этого имперсонального героя является, кроме того, объяснением перехо¬
да от «репрезентации» к «аргументации»24 .
Саги, несомненно, стоят по средневековую сторону этого великого
водораздела, поскольку связность повествования в них не простирается
далее жизни или правления одного человека. Можно найти тому парал¬
лели. Самой близкой является, пожалуй, историография итальянских
городов, отчасти и составлявшая ту интеллектуальную атмосферу, в ко¬
торой работали Ж.Бруни и другие историки XV столетия. В этих произ¬
ведениях также описывается политическое маневрирование, и отдельные
эпизоды вводятся в объяснительных целях25. Подобно сагам, они писа¬
лись на национальном языке для аудитории, состоящей из политиков
и людей дела, принадлежавших к обществу с менее жесткой иерархией,
нежели в феодальной Европе. Тактика и политическое маневрирование
играют важную роль и в таком раннем сочинении, как «История Гийома
Ле Марешаля» (L Histoire cie Guillaume le Marechal) (около 1230 г.) и, в
еще большей степени, в хронике Фруассара, написанной во второй по¬
ловине XIV в.26 Их более обстоятельное сопоставление с сагами могло бы
обнаружить больше черт сходства, хотя было бы странно, если бы и раз¬
личие между Исландией и Норвегией, с одной стороны, и феодальной
Европой — с другой, не отразилось в соответствующих историографичес¬
ких традициях. Имеются, кроме того, замечательные примеры полити¬
ческого анализа в средневековой латинской историографии. Так, Ламберт
I ерсфельдский, выражая интересы саксонской аристократической оппо-
(иции Генриху IV, создает единый и последовательный рассказ о поли-
шческой борьбе на протяжении 1073—1077 гг., в котором саксонские
князья рассматриваются как представители королевства в оппозиции
королю, а удачам и неудачам конфликтующих сторон даются прагмати¬
ческие объяснения. Хотя объяснение происходящего в политических
карминах не было в числе главных задач данной историографической
фадиции, некоторые особые обстоятельства, как, в частности, идеологи¬
ческий конфликт в Германии конца XI в., могли этому способствовать.
Латинская традиция представляет особый интерес еще и подругой при¬
чине, а именно сточки зрения предвосхищения появления имперсональ-
пого героя. В послеотгоновский период она находилась под влиянием про¬
цесса складывания универсальной церкви и появления концепции
юсударства как института, отдельного от личности короля. В отличие от
историографии итальянского Возрождения, эти новые идеи получали здесь
выражение в повествовании, которое было скорее отрывочным, оторван¬
ным от мира, обезличенным и, по крайней мере на первый взгляд, менее
политизированным, чем прежнее. «Аргументация» в этой традиции не
(осдиняет различные эпизоды в связный рассказ; она перемещается с
нукиального на типологический и аллегорический уровень. Так. одно из
величайших произведений средневековой историографии. «Деяния Фрид¬
риха» (Ge.sta Frederici) Оттона Фрейзингенского, довольно невнятно, если
читьего как чисто нарративную историю. Связность и единство возни¬
кают благодаря рядомоложению на типологическом уровне иескочькпх
рассеянных по асе му тексту ключевых эпизодов. которые с i\ ж;п приме¬
рами. иллюстрирующими основные идеи произведения В гаком интерпре¬
тации Фридрих предстает чем-то гораздо более значительным. нежели
просто человек. Он — помазанник Божий, ответственный е» восстановле¬
ние Римской империи, которая в свою очередь олицетворяет правильный
миропорядок27. Ыорвежской параллелью великому произведению Оттона
Фрейзингенского является «История древнейших норвежских королей»
(Historia de untiquitate regain Norwagienstum) Теодорпка Монаха, которую так¬
же следует понимать в аллегорическом и типоло! ическом аспекте, и кото¬
рая также имеет целью показать, как переломные эпизоды в истории Нор¬
вегии соответствуют этапам истории спасения2*. Последняя из больших
королевских саг. «Сага о Хаконе» (Пакомп- ища), тоже представляет новый
способ историописания — в более тесной взаимосвязи с институпиоиали-
зованной монархией и некоторой идеей государства. Аллегория и типоло¬
гия не играют в «Саге о Хаконе» центральной роли. как. по-видимому, в
саговой литературе вообще, хотя некоторого влияния такой практики по¬
нимания текста на его строй исключать иелыя-Т Но Хакоп. по сравнению
со своими предшественниками в более ранних сагах, стал уже в гораз¬
до большей степени представителем государства, чем просто челове¬
ком, и повседневное политическое маневрирование до некоторой степе¬
ни замещается здесь борьбой за установление правильного миропорядка,
воплощением которого предстает, разумеется, сам Хакон'0.
Насколько уникальны саги?
Насколько же уникальны королевские саги? Несмотря на некоторую
ревизию моих взглядов, высказанных в 1991 г., я продолжаю считать,
что саги обнаруживают значительную степень оригинальности. Они.
несомненно, очень сильно отличаются от «mainstream» латинской ис¬
ториографии после XI в. своим светским мировоззрением, своим пре¬
имущественным вниманием к обыденной, повседневной рутине поли¬
тической жизни и своим постоянным стремлением объяснять причины
успехов и неудач. В этом отношении саги обнаруживают больше сход¬
ства со светской историографической традицией в остальной Европе,
которая в раннее средневековье была представлена такими авторами,
как Видукинд Корвейский и, в какой-то мере. Титмар Мерзебургскип.
а позднее — историками, писавшими на французском, итальянском и
других народных языках. Разница между сагами и этими произведени¬
ями скорее в степени, чем по существу. Тем не менее, саги, несомнен¬
но. демонстрируют более живой стиль и большую связность изложе¬
ния. лучший политический анализ, нежели Видукинд и Титмар. Не
претендуя на окончательное суждение о соотношении саг и различных
традиции историографии на народных языках. сгопг. во всяком сл\
чае. )ачешгь. что саги являются ранним примером историографии in
народном языке Начало и тальяпскоп городском историографии ш
многих странах датируется концом XIII и особенно началом XIV сто-
чегия, а наиболее значительный представитель французской истори-
(нрафии. Фруассар, писал во второй половине XIV в. Даже если дос-
I н ж е н и я этих традиций могуг быть приравнены к достижениям саг,
•тм» вероятность, что саги возникли и развились раньше, нежели co¬
ol встствующие жанры в других странах.
Л что же качество? Термин «уникальность» сам по себе нейтрален,
по в нашем контексте он легко приобретает коннотации лучшего ка¬
чества. Едва ли может возникнуть сомнение в том, что лучшие из ко¬
ролевских саг, такие, как «Круг Земной» и «Сага о Сверрире», пред¬
ъявляют собой замечательные достижения, с точки зрения как
историографии, так и литературы, и в сравнении с произведениями
приблизительно того же жанра, несомненно, выигрывают. Качествен¬
ное сравнение саг со столь не похожими на них произведениями, как
-Деяния Фридриха» и «Хроника» Оттона Фрейзингенского, затрудни-
1гльно. чтобы не сказать — невозможно. Несомненно, Снорри ближе
к юму, что мы назвали бы хорошей историографией; по современным
критериям, Оттона вообще вряд ли возможно счесть историком. И все
же, если мерить его успех тем, чего он сам хотел достигнуть, труды От¬
ита надо признать одним из шедевров европейской интеллектуальной
фалиции. Таким образом, какую бы меру уникальности ни обнаружи¬
вали саги, нельзя сказать, что они сияют, подобно сверкающим звез-
млм на черном небосклоне общеевропейского примитивизма. Скорее
Нин представляют одну из многих средневековых историографических
фадиций, сама множественность которых делает историографию этого
периода разнообразной и интересной, хотя и очень не похожей на
пашу собственную.
Примечания
' Характерный пример этой точки зрения, хотя и без открытого национализма,
• ч Hull Е. Folk og kirke i middelalderen. Kristiania. 1912. Что касается толкования
фшуры Снорри как некоего рационалиста, приближающегося к современному
критическому подходу в писании истории, см., например: Storm G. Snorre
Shi|lassons Histonesknvning. Copenhagen. 1873: Si^urdur Nordal. Snorri Sturluson.
Hcykiavik. 1973 (1 изд. 1920).
Чм. например: Lonnroth L Tesen oni dc tv& kulturema 11 Scripta Islandica 15 (1964).
I‘ 1-97; Palsson 11. Art and Ethics in HrafnkcFs Saga. Copenhagen, 1971.
1 ( m., например: Sorensen P M Saga og samfund. Kobenhavn, 1977; idem.
I nilidling og aere. Arhus 1993; Brock .1 Feud in the Icelandic Saga. Berkeley etc.,
РЖ2; Miller W / Bloodtaking and Peacemaking. Chicago. 1990.
1 Hu^eS. Society and Politics in Snorri Sturluson's Heimskringla. Berkeley etc.. 1991
’ Все же надо признать, что проделана важная работа по изучению идеологии и
мршны мира средневековой историографии, особенно в Германии. Некоторые
наиболее значительные исследования собраны в книге: Geschichtsdenken und
i M-sehichisbild im Mittelalter / Hg. W La miners. Darmstadt. 1965. Заслуживает от-
tf n.iiOK) \поминания Bemnunn H. Widukmd son Korvei. Weimar. 1950. Эго. гюжа-
oii рчшая из существующих монографии о средневековом историке См глк-
• Silunule F-J funktion und Potmen mittelalterlicher Geschichtsschieibung
I In* 3029
Darmstadt, 1985. Значение германской исследовательской традиции подчеркива¬
ет Р. Рэй. См.: Ray R. D. Medieval historiography through the Twelfth Century
Problems and progress of research // Viator 5 (1974), 33-60. О параллелях этой гер¬
манской традиции в англосаксонском мире см. классическую работу: Southern R
W. Aspects of the European tradition of historical writing, 1-4 // Transactions of the
Royal Historical Society 20 (1970). P. 173-201; 21 (1971). P. 159-179; 22 (1972). P. 159-
181; 23 (1973). P. 243-265. Недавняя работа Г. Спигел (см. Spiegel G Romancing
the Past. Berkeley etc., 1992), снискавшая большое внимание, важна как исследо¬
вание малоизвестной традиции, однако мнение о новизне ее метода представля¬
ется мне более чем преувеличением, равно как и мнение о его состоятельности.
6 Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской
литературе. М.,1976. С. 94-110.
7 Phillips М. Representation and Argument m Florentine Historiography // Storia della
storiografia 10 (1986). P. 48-63.
* Brandt W. J. The Shape of Medieval History. New Haven, 1966.
4 Ауэрбах Э. Ук. Соч. С. 100.
10 Thietmari Merseburgiensis episcopi Chronicon IV. 50-56; V.l-22 / Ed. Robert
Holzmann. MGH SS. IX. B., 1955; (= Chron). Титмар (975-1018 гг.) был еписко¬
пом Мерзебурга с 1009 г. и писал свою хронику начиная с этого времени и до
самой своей смерти.
" Snorri Sturluson, Heimskringla. Saga ins helga 6lafs konungs, 29-53 (далее - OH)
/ Ed. Finnur Jonsson. Vol. II. Copenhagen, 1893-1900. Русский перевод: Снорри
Стурлусон. Круг земной. М., 1980. К нижеследующему абзацу см. также: Bagge S.
Society and Politics. P. 90 ff.
12 Bagge S. From Gang Leader to the Lord’s Anointed. Odense, 1996. P. 52-85, 94-
106, 147-160.
13 Widukindi Monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri tres, II, 36.
/ Ed. Paul Hirsch, MGH. Scriptores in usum scholarum 60. Hannover, 1935. P. 96 et
sq. Русский перевод: Видукинд Корвейский. Деяния саксов. М., 1975.
14 Bagge S. Society and Politics. P. 100 ff. idem. Nationalism in Norway in the Middle
Ages // Scandinavian Journal of History 20 (1995). P.1-18.
15 Idem. Society and Politics. P. 34-43.
Idem From Gang Leader. P. 33-48.
17 Chron. V-VIII. Я готовлю более обширную работу о раннесредневековой гер¬
манской историографии, включая Титмара и Видукинда. Прекрасный обзор по¬
литической жизни оттоновской эпохи см. Althoff G. Otto III. Darmstadt, 1996.
Auerbach E. Literatursprache und Pubhkum in der latemischen Spatantike und
Mittelalter. Bern, 1958, P. 177-259.
14 Bagge S. Society and Politics. P. 240-247.
20 «Defections causam edicere et regalia misteria pandere super nos est» — «Называть
причину отступничества и рассуждать о королевских тайнах превосходит наши
силы» (Res gestae Saxonicae 11.25). Речь идет о мотивах, побудивших архиеписко¬
па Майнцского Фридриха примкнуть к восстанию против Оттона I.
21 Guenee В. Histoire et culture historique dans I’Occident Medieval. P, 1980. P. 203
sq.
22 См., например: Althoff G. Op. cit. S. 190 ff.
23 Bagge S. Society and Politics. P. 240 ff., passim; idem. The Individual in Medieval
Historiography // Coleman J. (ed.).The Individual in Political Theory and Practice, The
Origins of the Modern State in Europe, 13th-18th Centuries. Oxford, 1996. P. 35-57.
24 Bagge S. Medieval and Renaissance Historiography. Break or Continuity? // The
Individual in European Culture. The European Legacy. Towards New Paradigms (n
печати). Разумеется, написание целостной истории страны пли народа — прин¬
цип не новый: можно назвать множество работ в этом жанре («ongo gentis») на¬
34
чиная с раннего средневековья. Но эти произведения представляют собой обыч¬
но собрания историй о королях или других личностях, в то время как Бруни под¬
ходит к Флорентийской республике как к институту, прослеживая ее внутреннюю
и внешнюю историю на протяжении столетий.
Эта традиция привлекается Филлипсом в качестве примера важности «реп¬
резентации» в средневековой историографиии, и по своим нарративным осо¬
бенностям она определенно представляет собой разительный контраст клас-
сицизируюшей «аргументации» такого автора, как Леонардо Бруни. Тем не
менее, Филлипс преувеличивает эмоциональные и хаотические черты этих
произведений и недооценивает их политическое и интеллектуальное содержа¬
ние. Основное отличие этой традиции от саг заключается в большем внима¬
нии к группам и коллективам действующих лиц, в то время, как индивиды
играют скорее подчиненную роль. См..Bagge S. The Individual. Р. 50 ff. idem.
Medieval and Renaissance.
Steen K. Strategi og ideologi i Historien om William Marskalken. Bergen, 1994 (дис¬
сертация, рукопись). Автор в настоящее время работает под моим руководством
над темой политического и военного поведения в хронике Фруассара.
77 Bagge S. Ideas and Narrative in Otto of Freising’s «Gesta Frederici» 11 Journal of
Medieval History 22 (1996). P. 345-377.
w Theodoricus Monachus — Clerical Historiography in Twelfth-century Norway //
Scandinavian Journal of History 14 (1989). P. 113-133.
N Weber G. W. Intellegere Historiam. Typological perspectives of Nordic prehistory
//Tradition og historieskrivning / Ed. K. Hastrup (Acta Jutlandica 63:2) Arhus, 1987.
P. 95-141.
Bagge S. From Gang Leader. P. 89-155.
Перевод с английского К.А. Левинсона
Джесси Л. Байок (Лос Анжелес)
Наложницы и дочери в Исландии XIII века:
Вальгерд Ионсдоттир и Сольвейг,
Вигдис Гисльсдотгир и Турид
Gragas, средневековый исландский правовой свод почти ни¬
чего не сообщает нам о наложничестве, однако «саги о со¬
временности» так часто говорят о наложницах (J'rilla\ мн.ч.
frillur), что одна исследовательница даже написала: «Чита¬
тель «Саги о Стурлунгах» и епископских саг не может не за¬
метить, что наложничество [frilluh'fi\ было национальным обычаем в
Исландии периода народовластия»2. В настоящей статье, которую я же¬
лал бы посвятить Арону Гуревичу, мною рассматриваются последствия
феномена наложничества для жизни четырех связанных между собой
исландских женщин XIII в.: Вальгерд Йонсдоттир и ее дочери
Сольвейг Сэмундардоттир, Вигдис Гисльсдоттир и дочери этой после¬
дней Турид Стурлудоттир. Первая пара принадлежит к местной влас¬
тной элите, вторая происходит из семьи «могучих бондов» (storbondi.
мн.ч. storbcendr)K
Система наложничества в среде исландских годи (godar) напомина¬
ет то, что мы наблюдаем в Норвегии, где у королей было много любов¬
ниц, и все сыновья короля, будучи законнорожденными или нет, име¬
ли право на трон. В Норвегии, как и в Исландии, престиж и влияние
наложницы часто зависели от успехов ее детей. Наложничество в Ис¬
ландии, по крайней мере в различных группах землевладельцев, стро¬
илось па формальной договоренности, во многих отношениях выгод¬
ной обеим сторонам’. Среди «могучих хёвдингов» (storhqfdingi, мн.ч.
storhofdingjar) — «больших вождей» Исландии XII и XIII вв. — налож¬
ничество было широко распространенной практикой, весьма полезной
для них в деле установления ими «сложного вождества» (complex
dueftaindoms)'. Вступая в договоры о наложничестве с семьями «могу¬
чих бондов», «могучие хёвдинги» (также именуемые «могучими годи».
wn/i^nV//) расширяли свое влияние. Для известных хотя бы только в пре-
ле'ых своей mcciпости «могучих бондов» такие договоренное! и были епо
собом приобрссIп уважение люден п вступить в союз с местной властном
пп юи'' Чере t 1и'1ожнш1 семьи «moi учпх бон юв» полеча т i оаос в при
36
нятии решений по тем попросим, которые их касались непосредственно.
Здесь имело место взаимодействие, и, вероятно, семьи «могучих бондов»
полагали, что их социальное выживание отчасти зависит от такого рода
связей. Мужчин, состоявших в родстве с наложницами, рассматривали
как свойственников, и часто именно они входили в число наиболее вер¬
ных сторонников местного предводителя. По мере того, как в Исландии
XII в. социальная стратификация становилась более жесткой, возраста¬
ла и роль наложничества, выступавшего в качестве живой связующей
нити между уже расходящимися, хотя все еще взаимозависимыми, соци¬
альными стратами.
Решающее различие между женами и наложницами заключалось в
том, что жены обычно принадлежали к тому же социальному слою, что и
их мужья, в то время как наложницы обычно происходили из семей бо¬
лее низкого социального статуса, нежели мужчины, с которыми они
жили7. Мы не можем знать мыслей женщин, о которых идет речь, но из¬
вестно, что статус молодых женщин, становившихся наложницами изве¬
стных людей, часто значительно повышался, возрастало их влияние сре¬
ди братьев, сестер и других родичей наложницы. В своем новом
положении они нередко получали больший простор для действий в соб¬
ственных интересах, нежели в том случае, если они состояли в браке с
бедняком. Именно это имеет в виду Аудур Магнусдоттир, приводя ислан¬
дское выражение «Лучше быть наложницей хорошего человека, чем быть
ммужем за плохим» (Betra ад vera gods manns [villa en gefin ilia)*.
В «Саге о Стурлунгах»4 одна из таких видных наложниц — Вальгерд
Йонсдоттир, женщина из знатной семьи. «Сага об исландцах»10 расска-
1ывает о том, что в течение многих лет, начиная примерно с рубежа XII —
XIII вв., Вальгерд была наложницей своего двоюродного брата", влия¬
тельного на юге Исландии «могучего хёвдинга» Сэмунда Ионссона из
Одди (1154—1222 гг.). Она вела хозяйство богатой усадьбы в Кельдуре, и
понятно, что Вальгерд из Кельдура, или Кельдна-Вальгерд, как ее назы¬
вали, привыкла сама заботиться о себе. В средневековой Исландии по¬
лагали, что никто, будь то мужчина или женщина, не в силах принимать
правильное решение в одиночку. Вальгерд хорошо это знала, и когда в
1223 г. зашла речь о браке ее дочери Сольвейг и молодого предводителя
Сгурлы Сигватссона, она мудро вовлекла в процесс принятия решения и
других людей. Вальгерд обратилась к Торвальду Гицурарсону из Хруни.
могучему главе клана из Хаукадаля12. Вальгерд и Торвальд встретились с
отцом жениха, Сигватом Стурлусоном (братом Снорри Стурлусона), и
тогда Торвальд во всеуслышание объявил о своем намерении защищать
интересы Сольвейг в этом брачном договоре. Семейное положение Кель-
дна-Вальгерд в саге никак не обсуждается.
«Сага об исландцах» повествует о путешествии Сигвата и его жены
Хллльдоры с севера, из Эйяфьорда, на юг, предпринятом ими в поисках
невесты для своего сына Стурлы (гл. 50):
«Весной, после Пасхи. Сигват и его жена Халльдора отправились с
севера в Долины. Затем они поехали на юг через вересковую пустошь, п
всего их было девять человек, включая его сына Стурлу и настоятеля \ю-
илс1ыря Бранда Йонссоиа1'. Сигват приехал в Хруни |усадьбу Торвальда
Гицурарсона]. Вальгерд из Кельдура была там вместе с Сольвейг, своей
дочерью. Условия брачного договора Стурлы были обсуждены, и было
решено, что Торвальд Гицурарсон тут же организует свадьбу Сольвейг и
Стурлы».
«Сага о Стурлунгах» изображает Кельдна-Вальгерд занимающей по
сравнению с другими женщинами «среднее» социальное положение.
Она не была мужней женой, но все же управляла большим хозяйством,
и ее уважали. Размышляя о Вальгерд и ее дочери Сольвейг, следует
иметь в виду ряд обстоятельств. Во-первых, перед нами пример соци¬
ального преуспеяния женщин двух поколений, матери и дочери. Во-
вторых, само по себе внебрачное происхождение здесь ничему не пре¬
пятствует. Оно не помешало Сольвейг выйти замуж за «могучего
хёвдинга», равно как и получить наследство от своего отца, при том,
что у него были законные сыновья. Этот последний момент очень при¬
мечателен, поскольку Gragas четко устанавливает первенство сыновей:
«Если нет сына, тогда пусть наследует дочь» (Nu er eigi sonr til \>а seal
taca dottir)14.
Из сказанного в саге, — «но это было распоряжение Сэмунда» (еп
fjat var tilskipan Scemundar), — вполне очевидно, что отец Сольвейг, Сэ-
мунд из Одди, был знаком с упомянутым правовым положением, но
предпочел им пренебречь. Сэмунд, сын влиятельного годи Йона Лоф-
тссона из Одди (умер в 1197 г.), был «могучим хёвдингом», чья власть
распространялась на богатую область Рангартинга (Rangcir t>ing). Как
и его могущественный сводный брат Орм Йонссон, Сэмунд так никог¬
да и не женился. Эти два предводителя клана людей из Одди15 владели
многочисленными хуторами. Некоторые из них они отдавали в управ¬
ление своим наложницам. Таким способом Сэмунд и Орм приобрета¬
ли сторонников среди «могучих бондов», иногда именно в тех облас¬
тях, где до этого их влияние было слабым. Можно задаться вопросом,
не было ли решение Сэмунда и Орма избегать брачных связей вполне
осознанной линией поведения. Похоже, ответ здесь должен быть по¬
ложительным, и причиной тому, вероятно, была позиция церкви.
Прежде чем вновь обратиться к Сольвейг и к проблемам, возникшим
в связи с решением ее отца сделать дочь своей основной наследницей,
вкратце рассмотрим влияние исландской церкви на институт налож¬
ничества.
В глазах ревностных клириков иметь наложницу — для женатого
мужчины — грех. Брак являлся одним из семи христианских таинств,
и потому его нарушение должно было караться не менее, чем отлуче¬
нием от церкви. Наложничество, однако, не привлекало к себе инте¬
реса исландской церкви вплоть до 1178 г., когда Торлак Торлакссон
вернулся в Исландию после своего заграничного посвящения. Он стал
новым епископом Скальхольта (1178—1193 гг.) и начал проводить в
жизнь точку зрения церкви на святость брака. Торлак был первым ис¬
ландским епископом, который потребовал,(\ чтобы женатые мужчины
оставили своих наложниц и расторгли те браки, в которых он усмат¬
ривал какие-либо нарушения1'. В частности, Торлак ввязался в дли¬
тельный и острый спор с Йоном Лофтссоном относительно содержа
38
ния Ионом любимой наложницы, Рагнхейя Торхалльсяоттир, сестры
самого епископа.
Епископ Торлак, как кажется, не возражал против наложничества в
среяе холостяков, равно как не настаивал он и на обете безбрачия среяи
яуховенства. Для Сэмуняа и Орма, сыновей Йона, это было очень важ¬
но. Исхояя из этого, а также учитывая те проблемы, которые возникли у
их отца с епископом, братья, очевияно, заключили, что знатный человек
может иметь либо наложницу, либо жену, но никак не обеих ояновремен-
но. К тому же, яля такого рояовитого и могущественного человека, как
Сэмуня, не много нахояилось невест, яостигших брачного возраста, поя-
хояящих ему по богатству и положению и отстоящих от него по кровно¬
му рояству не меньше чем на четыре колена. Итак, имея только налож¬
ниц, Сэмуня и Орм были вольны полноценно участвовать в религиозной
жизни. Три брата, Сэмуня, Орм и Палль, были ояновременно и клири¬
ками, и гояи. Все трое носили низший церковный сан яьякона (djakn).
Впрочем, Палль со временем яостиг больших высот в церковной иерар¬
хии. Когяа в 1193 г. измученный борьбой Торлак умер, все его усилия
что-то изменить оказались свеяенными на нет. Новым епископом Скаль-
хольта лияеры альтинга избрали Палля, племянника Браняа, епископа
северной епархии в Холаре (Браня никогяа не пояяерживал Торлака) и
сына Йона Лофтссона и его наложницы Рагнхейя18. Палль отказался от
многого из политики Торлака, в частности, от его противояействия на¬
ложничеству. В исланяском яухе компромисса новый епископ позаботил¬
ся о канонизации своего яяяи.
Возвращаясь к проблемам Сольвейг Сэмуняаряоттир, — к вопросу о
маслеяовании ею имущества отца и к ее послеяующему замужеству, — мы
обнаруживаем, что Сэмуня от четырех женщин имел ояиннаяцатьяетей:
семь сыновей и четырех яочерей. Из них, рассказывает «Сага об исланя-
цах», в качестве ояной из главных своих наслеяниц он выбрал Сольвейг
(I л. 49):
«Но это было распоряжение Сэмуняа, что его яочь Сольвейг яолжна
получить такую же яолю его наслеяства, как и кажяый из его сыновей.
Сольвейг отправилась в Кельдур к своей матери, и они вявоем разыска¬
ли Торвальяа Гицурарсона, чтобы попросить его выступить на стороне
Сольвейг при обсужяении с ее братьями вопроса о яележе наслеяства.
( ыновья Сэмуняа согласились, что они поячинятся тому разяелу имуще¬
ства, который назначит Снорри Стурлусон, и они отправляли ему посла¬
ния в течение зимы с просьбой приехать на юг, чтобы пояелить наслея-
с гво».
В результате этого разяела Сольвейг получила значительное наслея-
сию19. Сразяелом имущества отца она стала ояной из самых богатых жен¬
щин в Исланяии, что и привлекло Стурлу и его отца Сигвата.
Чтобы лучше понятьяальнейшую историю Сольвейг, рассмотрим воп¬
рос о правах наслеяования в Исланяии XIII в. В богатых и могуществен¬
ных семьях наслеяование не ограничивалось кругом отпрысков законных
ираков. В то время как клирики, врояе епископа Торлака. ратовали за
принятие законов, укрепляющих святость браки п усиливающих эту за¬
конность, сами по себе такие законы, как и многие законы наших яней.
39
регулирующие личное поведение, имели лишь ограниченную силу. В
XIII в., т. е. в период глубокого укоренения христианства, в могуществен¬
ных семьях не было ни заранее установленной внутренней иерархии, ни
четко определенной схемы наследования. Если отец, являясь «могучим
хёвдингом», желал передать свою власть одному из своих сыновей, он мог
выбрать кого-то из них, получив согласие бондов20. В вопросах наследо¬
вания имущества первыми шли законные сыновья. Однако и сыновья
многочисленных наложниц рассматривались как важные наследники21.
История Сольвейг служит примером того, как на долю женщины выпал
шанс, который чаще получали сыновья наложниц.
Решение Сольвейг в 1223 г. выйти замуж за Стурлу Сигватссона по¬
влияло на жизнь еще одной женщины, наложницы Стурлы Вигдис Гисль-
сдоттир. Прежде чем Сольвейг переехала в усадьбу Стурлы в Саудафелль,
мать Стурлы, Халльдора, отослала Вигдис назад к ее семье, в Мидфьорд.
Конец этой связи, насколько можно судить, не вызвал вражды между се¬
мьями и не разрушил их почти родственных отношений. В 1238 г. в бит¬
ве при Эрлюгсстадире, когда были убиты Стурла и его отец Сигват, Гуд-
мунд — брат Вигдис — доблестно сражался на стороне Стурлы.
«Сага о Стурлунгах» также кратко повествует о том, что произошло с
Вигдис после ее возвращения домой. Она вышла замуж за известного
человека по имени Офейг Эйрикссон. Мы узнаем и о Турид, дочери Виг¬
дис и Стурлы. Последующие действия этих двух женщин говорят нам кое-
что об их самосознании и, возможно, о том уважительном отношении,
каким были окружены бывшие наложницы «могучих хёвдингов». В
1253 г., т.е. через пятнадцать лет после того, как Стурла был убит при
Эрлюгсстадире предводителем с юга Исландии Гицуром Торвальдссо-
ном22, Турид Стурлудоттир и ее мать Вигдис «возвращаются» в сагу. В
присутствии своей матери Вигдис Турид подстрекает своего мужа, пред¬
водителя с севера Исландии, Эйольва Тирана, живущего в Мёдрувеллир,
в районе Хёргардаль, в Эйяфьорде, отомстить за убийство отца его жены.
Ставя под сомнение мужественность своего супруга, Турид говорит Эй-
ольву, что Гицур не может его уважать, поскольку:
«Он [Гицур] думает, что любая женщина скорее отомстит за моего
отца Стурлу, чем ты, и по твоему бездействию Гицур понимает, что ты —
только видимость мужчины».
Это вопиющее оскорбление оказалось для Эйольва совершенно не¬
ожиданным. Сага сообщает, что он «ничего не ответил и только покрас¬
нел, как кровь». Несколько месяцев спустя и Эйольв, и муж Вигдис
Офейг оказываются в группе людей, которые 22 октября 1253 г. напада¬
ют на Гицура у Флугумюра и сжигают его хутор. Среди общего замеша-
1сльстиа и кровопролития Гицуру (умер в 1268 г.) удается спастись, спря-
laimincb в чане с сывороткой, в то время как большая часть его семьи
оказывается перебитой.
В включение можно сказать, что мы, вероятно, приблизимся к луч¬
шему пониманию статуса такой наложницы, как Вигдис Гисльсдоттир. в
рамках се собственной социальном группы «могучих бондов», если обра-
111м внимание на следующее обстоятельство. Муж Вигдис. Офейг риско¬
вал ЖН1ИЫО. пытаясь отомстить за Стурлу. своего предшественника в
40
постели Вигдис. И риск был весьма реален. 24 января 1254 г., всего лишь
через несколько месяцев после того, как спалили хутор у Флугумюра и
Офейг принял в этом участие, его выследили и убили в отместку.
Примечания
1 Вариант: fridla.
1 Лидиг G. Magnusdomr. Astir og void: Frillulifi a Islandi a |)j6|)veldis61d // Ny sa¬
ga. 2 (1988). Bl. 4. Епископские саги и саги, составляющие компилятивную
«Сагу о Стурлунгах», часто называют «сагами о современности» (samtifrarsogar),
поскольку описываемые в них события XII и XIII вв. происходили незадолго до
тго, как эти саги были записаны. О наложничестве см. также: Agues S
ArnorscJottir. Konur og vigamcnn: Sta|)a kynjanna a Islandi a 12. og 13. old // Studia
I listorica. 12. Reykjavik, 1995\Jochens J. Women in Old Norse Society. Ithaca, 1995.
' Аспекты складывания класса местных лидеров рассматриваются в следующих
работах: Karlsson G. Go3ar og baendr // Saga. 10 (1972). Bl. 5-57; Thorlaksson H.
Storbaendur gegn go5um: Huglei6ingar urn go5avald, konungsvald og sjalfrae6ishug
baenda urn mi5bik 13. aldar // Soguslodir: Afmaelisrit helga5 Olafi Hanssyni sjotugum
18. September 1979 / Ed. Bergsteinn Jonsson, Einar Laxness, Heimir Thorleifsson.
Kcykjavik, 1979. Bl. 227-250; Jon Vidar Sigurdsson. Fra go6or5um til rikja: ^roun
godavalds a 12. og 13. old (ed. Bergsteinn Jonsson) // Studia lnstorica. 10. Reykjavik,
1989; Byock J.L. Medieval Iceland: Society, Sagas and Power. Berkeley and Los
Angeles, 1988. P. 71-75.
' Мы почти ничего не знаем о низших слоях общества.
' О том, как в более раннем исландском обществе функционировал институт
«больших мужей» и «малых предводителей» («big man / small chieftain») см.: Byock J.
L. Op. cit. Появление префикса stor («большой», «могучий»), в словах godar («вож¬
ди»), hdfdingjar («правители/вожди»), bcendr («бонды») свидетельствует о возра¬
стающей концентрации власти и могущества в Исландии XIII в., времени уси¬
ления социальной и экономической интеграции.
'■ В то же время для «могучих бондов» это было, вероятно, средством, которое они
использовали для усиления собственной местной власти над менее выдающимися
бондами. Источники, повествующие главным образом о «могучих хёвдингах»,
мало говорят об этом.
' Были, правда, отдельные исключения, одно из которых представляла собой
Вильгерд Ионсдоттир, о которой идет речь в этой статье.
* См.: Ny saga. 2 (1988). Bl. 8.
' Sturlunga saga / Ed. Jon Johannesson, Magnus Finnbogason, Kristjan Eldjarn. В. 1-
2. Reykjavik, 1946; Sturlunga saga / Ed. Ornolfr Thorsson et al. B. 1-3. Reykjavik,
1988.
Центральная и наиболее обширная сага в компилятивной «Саге о Стурлунгах».
" И Вальгерд, и Сэмунд — потомки Сэмунда Мудрого.
" Горвальд пз Хруни (умер в 1235 г.) был священником и одновременно «могу¬
чим хёвдингом». В конце своей жизни он сделался каноником в монастыре в
Пилей. Торвальд являлся отцом Гицура, о котором речь пойдет ниже.
" Ьранд Йонссон был настоятелем монастыря в Тюквабэр (1247-1262 гг.), а за-
н*м епископом в Холаре (1263-1264 гг.).
" (iragas / Ed. Vilhjalmur Finscn. В. la, lb. IsLcndcrnes Lovbog l Fnstadcns Tid. udgivet
t'llci det Kongeligc Bibliothcks Haandskiift. Copenhagen, 1852. Bl. 218 (См. am-
nilicKiiii перевод I aws of Earl\ England. Graga.s I / Transl. A.Dennis. P Foote.
К Peikms. Winnipeg. 1980 Второй п третий юма гоже изданы Ви.1ь\ья.!ьм\ром
41
Финсеном: II: Gragas efter det Arnamagnaeanske Haandskrift Nr. 334 fol..
Sta5arholsbok. Copenhagen, 1879; 111: Gragas: Stykker, som findes 1 det
Arnamagnaeanske Haandskrift Nr. 351 fol. Skalholtsbok og en Raekke andre
Haandskrifter. Copenhagen, 1883. Современное исландское издание см. в приме¬
чании 21.
15 Сэмунд (1154—1222 гг.) был сыном Йона от его жены, Халльдоры Скегг-Бран-
дсдоттир, Орм (умер в 1218 г.) был сыном наложницы Йона, Рагнхейд Торхал-
льсдоттир и, таким образом, сводным братом Сэмунда и родным братом Палля
Йонссона, епископа Скальхольта с 1195 по 1211 г.
16 Чуть раньше, в 1173 г., нидаросский архиепископ Эйстейн Эрлендссон в письме
Клэнгу Торстейнссону, епископу Скальхольта, сетовал на падение морали и на
то, что у многих есть любовницы (Diplomatarium islandicum. Kaupmannahofn, 1857.
В. 1.1. S. 222). Но архиепископ разговаривал с глухими. Сам Клэнг был повинен
в том, что прижил незаконного сына от близкой родственницы. Во многих отно¬
шениях требования Торлака были более жесткими, чем в других регионах сред¬
невековой Европы. См.: Sveinbjorn Rafnsson. t>orlaksskriftir og huskapur a 12. og
13. old // Saga. B. 20 (1982). Bl. 114-129.
17 Jochens J.M. The Church and Sexuality in Medieval Iceland // Journal of Medieval
History. Vol. 6 (1980). P. 377-392; Frank R. Marriage in Twelfth- and Thirteenth-
Century Iceland // Viator. Vol. 4 (1973). P. 474—484; Sveinbjorn Rafnsson
borlaksskriftir ...; idem. The Pentitential of St borlakur in its Icelandic Context //
Bulletin of Medieval Canon Law (1985). P. 19-30.
Ie Будущее Палля Йонссона было хорошо продумано его отцом. Палль выгодно
женился, стал выдающимся годи и служил дьяконом. В 1195 г., в относительно
молодом возрасте, Палль стал епископом. Он занимал это положение с большим
почетом вплоть до своей смерти в 1211 г.
19 Что именно она унаследовала, не совсем ясно. Текст умалчивает и о наследстве,
оставленном другим дочерям Сэмунда.
iu Два примера — Палль Йонссон, чье будущее было полностью или частично
обеспечено его отцом и братьями, и Стурла Тордарсон (1214-1284 гг.), состави¬
тель «Саги об исландцах».
•' Некоторое различие между ними состояло в том, что незаконнорожденные дети
могли становиться наследниками только с согласия их законнорожденных бра¬
тьев и сестер. Так, на смертном одре Торд Стурлусон просит своего законного
сына Бёдвара разрешить оставить наследство его братьям, своим незаконным
отпрыскам. Иначе обстоит дело с Сольвейг — у ее отца нет законных детей. За¬
коны, касающиеся прав наследования, особенно те, которые относятся к неза¬
коннорожденным детям, очень замысловаты, и нет полной ясности относитель¬
но того, всегда ли им полностью следовали. См.: Gragas. Lagasafn islenska
|>|66veldisnis / Ed. Gunnar Karlsson, Kristjan Sveinsson, Мбгбиг Arnason. Reykjavik,
1992. Bl. 47-48, 71 (Erfda jjattur, k. 1,2, 18).
I Hiiyp — сын Торвальда Гицурарсона из Хруни. предводителя, который помо¬
гал организовать брак Сольвейг и Стурлы.
Перевод с английского Т. Н. Джаксон
Янош Бак (Будапешт)
Магическая и династическая легитимизация
Хотя магическая картина мира, распространенная у европейс¬
ких народов до принятия ими христианства, была в основном
разрушена после утверждения новой религии1 , ее существен¬
ные «пережитки» можно обнаружить во всех сферах жизни
средневековых европейских обществ. Власть (Herrschaft) особенно
часто прибегала к помощи магического начала — для того, чтобы обеспечить
преемственность в управлении государством и легитимизацию вступления
на престол нового монарха. Можно предполагать, что власть монархов
средневековья была слабее, чем современная государственная власть, ибо
ей не хватало должных институциональных основ, и она не располагала
такими устойчивыми, не зависимыми от личности правителя опорами,
как гражданская администрация, армия и полиция. Воспоминания о вре¬
менах выборности королей (в частности, «правлении королей — военных
вождей», Heerkonigtum древнегерманского и кочевого прошлого), учение
церкви о «способности к правлению» (idoneitas) и претензии духовенства
на право назначения (помазания на царство) правителя создавали про¬
блемы всякий раз, когда на престол должен был вступить новый монарх,
что было характерно даже для таких стран, как Франция, где принцип на¬
следственного правления глубоко укоренился со времен раннего средне¬
вековья. Для того, чтобы увидеть, какое значение придавала монархия со¬
хранению преемственности власти вне зависимости от личности
правителя, достаточно взглянуть на детально разработанные обряды ко¬
ролевского погребения и примеры демонстрации принципа «король умер
— да здравствует король!» (le roi est mort — vive le roif). В то же время, сред¬
невековые государи были более могущественными, чем нынешние, ибо
их власть была подкреплена магическими формулами — как древними,
гак и христианскими — и окружена аурой метафизического обоснования
се законности2 .
Метафизическое обоснование законности власти давалось учреждени¬
ем, которое в средние века отвечало за все контакты с потусторонним
миром, — церковью с ее функционерами, епископами и церковными
писателями. Именно они создавали каноны репрезентации власти и — с
помощью аллегорий и мистических интерпретаций — придавали элемент
сверхъестественного каждому шагу в этих ритуалах и каждому использо¬
вавшемуся в них предмету, прежде всего — инсигниям. В то же время, мы
43
постоянно обнаруживаем моменты, коренящиеся, по-видимому, в веро¬
ваниях, которые не всегда основывались на учении католической церк¬
ви и были ближе к магическому началу, чем к изощренным философс¬
ким, правовым и теологическим построениям клириков. Более того,
католическая церковь сохранила (или вновь приобрела?) многое из пра¬
вовой и государственной мысли ее языческой предшественницы, Римс¬
кой империи, слишком утонченной и потому долгое время остававшей¬
ся чуждой для «новых людей» средневековой Европы.
В настоящей статье я хотел бы представить на суд Арона Яковлевича,
в качестве подарка к его семидесятипятилетию, четыре любопытных эпи¬
зода из истории средневековой венгерской монархии. Я уверен, что про¬
фессор Гуревич смог бы блистательно рассмотреть их в контексте того
мира, изучением которого он столь успешно занимался — духовного
мира людей, не принадлежавших к образованной элите средневековых
обществ. Эти эпизоды имеют некоторые общие черты, выводящие их за
рамки «общепринятых» форм репрезентации правителей и, по крайней
мере, в некоторой степени, связаны с магическими представлениями.
В 1304 г. молодой король Венгрии Вацлав III Пшемыслович в ходе
coronamentum (Festkronung), устроенного по случаю приезда отца Вац¬
лава III Чешского и с тайным намерением завладеть знаками королев¬
ской власти, которые, очевидно, хранились у магнатов страны, был об¬
лачен в тунику и мантию, принадлежавшие, по преданию, св. Стефану,
и держал в левой руке скипетр. На голове Вацлава была корона свят.
Стефана. Так, кажется, выглядели в подобных ситуациях все его пред¬
шественники, да и почти все правители того времени. В то же время, в
правой руке Вацлав держал не державу (ротит, Reichsapfel), а «священ¬
ную десницу» Стефана, первого христианского короля Венгрии3. Ис¬
тория этой реликвии изобилует темными эпизодами, но нисколько не
уникальна. В 1083 г. саркофагов. Стефана, хранившийся в городе Аль¬
ба Регия (Секешфехервар), был вскрыт. Как и следовало ожидать, тело
св. Стефана не подверглось разложению и источало «аромат святости».
Некий монах по имени Меркурий смог каким-то образом отделить пра¬
вую руку Стефана от тела и украсть ее (святая кража — furtum sacrum.)*.
Далее след реликвии теряется, хотя, как представляется, до середины
XIV в. она хранилась в монастыре св. Десницы в Восточной Венгрии.
Каким образом десница в 1304 г. оказалась в Буле, мы также не знаем,
хотя ее появление давало молодому королю возможность решить одну
довольно остро стоявшую перед ним задачу. Держава, бывшая, вероят¬
но, одним из знаков власти венгерских королей со времен Белы III (око¬
ло 1190 г.3) и фигурировавшая на коронации Андрея III Арпада в 1290 г.,
была, очевидно, утеряна в течение следующего бурного десятилетия.
Вступавший на престол Пшемыслович, состоявший лишь в весьма даль¬
нем родстве с династией венгерских королей, стремился продемонстри¬
ровать свою связь с «родовой святостью» (Gebliitsheiligkeit) «рода святых
королей». Он, безусловно, мог сделать себе новую державу, как посту¬
пили его соперники, представители Анжуйской династии'’ . но. возмож¬
но. не имел для этого достаточно времени, или — что еще более веро-
41 по - хогел как можно более очевидным или. возьму на себя смелость
44
утверждать, магическим образом показать, что наследует от своих пред¬
шественников не только власть, но и святость. Хотя немало средневе¬
ковых инсигний заключали в себе реликвии либо были так или иначе с
ними связаны7 , я не жаю ни одного случая, когда правитель показы¬
вался с частицей тела одного из своих предшественников. Мне пред¬
ставляется, что «официальной» церковной доктриной такой поступок
вряд ли мог быть одобрен, ибо реликвии положено носить и демонст¬
рировать их церковным хранителям (как это столь часто делали монахи
с реликвиями «своего» святого для защиты монастырской собственно¬
сти и т.п.). В глазах светских вельмож, однако, единение десницы но¬
вого правителя с десницей святого короля и основателя государства
было недвусмысленным указанием на преемственность власти и пред¬
вещало Вацлаву успешное правление. Дальнейшие события, правда,
разворачивались совсем по-другому, но их анализ не является предме¬
том настоящей работы8.
Второй любопытный случай, касающийся различия во взглядах на
шаки королевской власти, связан с короной венгерской монархии — так
называемой «короной св. Стефана» или «священной короной». Вскоре
после эпизода, о котором мы говорили выше, Вацлав передал знаки
королевской власти другому претенденту на престол, потомку Арпа-
дов по женской линии Оттону Виттельсбаху. В относящейся почти к
тому же времени Венгерской хронике и в Австрийской рифмованной
хронике Оттокара из Хорнека мы находим рассказ об интересном собы-
Iии, происшедшем во время путешествия Оттона из Моравии в Венг¬
рию, где он намеревался править (Оттон короновался, но не обрел под¬
держки венгерской знати — эти события, впрочем, не являются
предметом рассмотрения в данной статье). Однажды вечером Оттон и
сопровождавшие его люди внезапно обнаружили, что корона пропала.
Искать корону было уже поздно, но на следующее утро, к своей огром¬
ной радости, «они обнаружили корону, лежавшую на земле, посреди
дороги, под ногами многих прохожих». «Несомненно, это удивительное
событие и чудо, о котором нельзя умолчать», — восклицает хронист, по
мнению которого корона была скрыта от посторонних глаз, «ибо найти
ос было дано лишь тем, кто вез ее, дабы Паннония не лишилась данной
ей ангелом короны»9.
Для нашего исследования в этой истории важны два момента. С од¬
ной стороны, авторы утверждают, что потерянную корону (которую к
юму времени уже на протяжении жизни целого поколения, если не доль¬
ше, считали короной св. Стефана10), лежавшую посреди дороги, не ви¬
дел никто из прохожих. Превращение заколдованных предметов в неви¬
димые для большинства людей — распространенный мотив европейского
фольклора, встречающийся во многих сказках11 . Он не имеет ничего об¬
щего с высокой политической мыслью и взглядами деятелей церкви и
ученых на знаки королевской власти. Довольно интересно также упоми¬
нание о короне как «данной ангелом». Хотя идея ангелической корона¬
ции — хорошо известный, прежде всего в иконографии, и особенно в
Ни шнтпи. гопос средневекового правления, в официальных текстах сред¬
невековой Венгрии мы не находим ни одного упоминания о данной ан¬
45
гелом короне. Правда то, что на двух миниатюрах в «Иллюстрированной
хронике» — том самом тексте, где содержится история о потерянной и
найденной короне — мы видим ангела, возлагающего корону на голову
венгерского короля. На одной из этих миниатюр изображен Геза I, ко¬
торый, возможно, на самом деле получил свою «греческую корону» из
Византии, на другой — его брат, король Владислав I. Оба претендовали
на престол в то время, когда законный правитель страны Соломон был
еще жив. Можно представить себе, что они нуждались в обосновании
своих претензий, легитимизации, более сильной, чем обычная корона¬
ция и помазание на царство, с помощью которых ранее была узаконена
власть Соломона. Что же может быть лучше, чем корона, полученная с
небес12 ? В то же время, в хронике ни о чем подобном не упоминается, и
можно заключить, что иллюстратор позаимствовал сюжет из какой-то
другой, менее «официальной» традиции. Упоминания о «данной ангелом»
короне — если отвлечься от нашей истории — появляются только в тек¬
стах позднего средневековья и раннего Нового времени, причем не уче¬
ной, а светской, чтобы не сказать, «народной» культуры. В документах ко¬
ролевской канцелярии корона часто называлась «апостольской»,
венгерские магнаты говорили о «короне королевства» или «священной
короне», церковники подчеркивали, какую роль сыграл в получении Сте¬
фаном короны папа Сильвестр II, — но нигде не находим мы упомина¬
ний о короне, данной ангелом. Перед нами, таким образом, два разных
представления о короне, «высшей» и «низшей» (я не говорю «низкой»!)
культурных страт.
К тому же времени, т. е. к началу XIV в., относится и еще один эпи¬
зод, в котором обнаруживаются разные точки зрения на корону и коро¬
нацию. Оттон в конечном счете отказался от своих притязаний на пре¬
стол и покинул Венгрию, а изрядно попутешествовавшая диадема попала,
в конечном счете, в руки трансильванского воеводы. В 1308 г. папский
легат кардинал Джентиле сумел убедить венгерских магнатов и могуще¬
ственную знать признать королем Карла Анжуйского. В то время, знать
настаивала на том, что только она вправе избирать монарха, кардинал
составил эдикт, в котором наследственные права на престол ставились
выше ее выбора, что, впрочем, опять же не является предметом рассмот¬
рения в данной статье. Первая коронация Карла в 1301 г. (с использова¬
нием вновь изготовленной державы и других инсигний, о которых нам
ничего не известно) не была признана «сословиями»; требовалось боль¬
шее. Между тем почитаемой и чудесным образом защищенной от чужих
рук и глаз короны в наличии не было. Легат объявил, что корона не иг¬
рает в данном случае никакой роли, ибо она — вещь, которая может сго¬
реть, быть украденной или разбитой. Истинная сила короны зависит от
церковной санкции (тут легат вспоминает о короне, якобы посланной в
1000 г. папой Сильвестром II). По поручению легата была изготовлена
новая корона. Легат благословил ее от лица папы и объявил «по всей
форме», что вся сила и подлинность короны королевства перешла в эту
новую, каноническим путем утвержденную корону. Карл Анжуйский был
должным образом коронован этой новой диадемой в июне 1309 г.
Но всего через несколько недель в письме, подтверждавшем закон¬
46
ность коронации, венгерские прелаты отмечали, что старая корона почи¬
тается в стране так высоко, «как если бы она заключала в себе право на
престол»1-1. Джентиле должен был понять, что его миссия еще далека от
завершения, так как Карл не пользуется всеобщей поддержкой в стране
(последнее, разумеется, было вызвано и тем, что венгерские магнаты,
владевшие обширными поместьями, не желали склоняться перед пред¬
ставителем Анжуйского дома, что, впрочем, относится к более земным ас¬
пектам дела, которые сейчас можно оставить в стороне). Разумеется, уче¬
ный прелат, легат римского понтифика, благословивший и объявивший
единственно подлинной «свою» корону, счел стремление (в данном кон¬
тексте к этому слову сложно подобрать эпитет — наивное? суеверное?)
венгров вновь обрести утраченную корону и короновать ей Карла неуме¬
стным. Йозеф Деер14 особо отмечает в этой связи резкий контраст меж¬
ду «канонической рациональностью» легата и «фетишизмом» венгерской
знати.
В этой истории мы вновь видим разрыв между ученым, правовым и
нехристианским магическим подходами к символу власти (Herr-
schaftszeichen). В конце концов легат оказался вынужденным уступить.
Он уговорил воеводу Кана вернуть корону, и в 1310 г. Карл в третий —
и в последний — раз был коронован как король Венгрии. Вскоре Карл
разгромил одного за другим всех своих противников и стал полновлас¬
тным сувереном своего королевства. Король и его ученое окружение ис¬
пытывали по отношению к состоявшимся коронациям смешанные чув¬
ства. В одной грамоте 1315 г. Карл заявляет, что коронации 1309 г.
«было достаточно», но третья коронация также была необходима, что¬
бы «удовлетворить запросы жителей Венгрии и не дать народу повода
для возмущения»15. Запросы простонародья противопоставляются, та¬
ким образом, мнению ученых-правоведов.
Наше исследование переносит нас теперь почти на полтора века впе¬
ред, в 1440 г. После того, как король Альберт Габсбург погиб в борьбе с
турками-османами, его жена Елизавета Люксембургская смогла заполу¬
чить хранившуюся в Вишеграде16 корону для коронации своего сына
Владислава, родившегося уже после кончины отца. Между тем, многие
магнаты видели будущим правителем Венгрии молодого польского коро¬
ля Владислава Ягелло (его часто называют Варненчиком, ибо он погиб в
битве под Варной в 1444 г.). Но на пути Владислава Ягелло к венгерско¬
му трону стояло одно серьезное препятствие — корона находилась в ру¬
ках овдовевшей королевы, высланной в Австрию. На этот раз сами сосло¬
вия нашли правовое решение проблемы: на состоявшемся в 1440 г. сейме
их представители заявили, что и увезенная корона, и осуществленная с
ее помощью коронация не имеют силы, ибо вступление на престол мо¬
нарха должно быть одобрено населением королевства. После этого впол¬
не зрелого выражения сословного (stcindisch) политического мышления
сейм постановил, что молодой поляк должен быть коронован другой ко¬
роной. в отношении которой высокое собрание заявило, что та будет
иметь «такое же достоинство, действенность и ту же силу во всем», что и
традиционные инсигнип'7 . Впрочем, в отличие от событий 1309 г. сейм
пс принял решения об изготовлении новой короны. Для коронации Вла¬
47
дислава была избрана корона, хранившаяся дотоле в ковчеге с останка¬
ми св. Стефана (ковчег, к сожалению, был после этих событий утерян).
Таким образом, выбор сейма пал на корону, приобретшую в результате
близости к черепу святого короля часть его святости и сходную в этом
отношении со священной десницей, которую держал на своей коронации
Вацлав. В этом решении два вида легитимизации власти буквально сли¬
ваются, поскольку на два аспекта дела указывают одни и те же авторы: с
одной стороны, сословия заявляют, что право короновать короля и сооб¬
щать подлинность знакам его власти имеет лишь законным порядком
конституированная «нация», с другой — в качестве короны королевства
они избирают вещь, которая сама сообщает королевской власти подлин¬
ность посредством магии или как почти реликвия. Живописная картина!
Можно, разумеется, найти и другие примеры различия двух выделен¬
ных нами подходов к легитимности власти, ее истинности и святости. Как
мы видели, «высокие» формулы иногда противоречат «народным» пред¬
ставлениям, иногда — совпадают с ними. Только в грамоте Карла Анжуй¬
ского от 1315 г. мы видим некоторую обеспокоенность таким положени¬
ем вещей; в остальном два противоположных взгляда мирно уживаются,
подобно многим другим аспектам священного и мирского, земного и по¬
тустороннего, религиозного и магического в средние века. Мы знаем об
этом из работ Арона Яковлевича, которому автор преподносит рассмот¬
ренные выше истории в качестве маленького подарка — с наилучшими
пожеланиями.
Примечания
1 См.: Gurevich A. Medieval popular culture: Problems of belief and perception /Transl.
by. J.M. Bak, P. Hollingsworth, Cambridge, 1988. P. 78 и сл.. особенно 96-97.
2 П.Э. Шрамм в своей работе «Herrschaftszeichen und Staatssymbolik» писал: «Сред¬
невековые королевства были «в меньшей степени государствами» в том отношении,
что сохраняли свои «примитивные» составляющие: в то же время средневековое
государство, утвержденное в религиозной традиции, во главе с правителем, окру¬
женным ореолом святости, более ярким, чем даже театральный блеск барокко,
включало в себя элементы, которых нет в государствах нашего времени». См.:
Schramm Р.Е. Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Stuttgart, 1954. S.l. Немногие
специалисты, занимающиеся изучением средневековых правителей (особенно те,
кого интересуют прежде всего символика и репрезентация) обращают внимание на
то, в каких пределах разворачивалась их деятельность. Хотя исключительный лич¬
ный статус правителя придавал ему определенные сверхъестественные качества,
монархи, как правило, почти не могли вмешиваться в повседневную жизнь своих
подданных, как могущественных, так н угнетенных, ибо для того, чтобы совершить
что-либо в сфере, не относящейся к «большой политике». — например, лишить
крупных феодалов их владений, ему требовалась помощь местной знати. Читатель,
надеюсь, простит меня за то. что я не привожу никаких ссылок в подтверждение
приведенных выше общих рассуждений, ибо пойти по этому пути означало бы дан.
разверну 1\ю библио!рафию по проблеме королевской власт в средние века. Та¬
ковую библио!рафию мы надеемся нлпгп в пшик юпедпп средневековой кулыу-
ры. над которой ныне рабогае! юбтяр
' Об этой истории см. мою статью «Sankt Stefans Armrcliquie im Ornat Komg
Wenzels von Ungarn» // Festschrift Percy Ernst Schramm / Hrsg. P. Classen, P.
Scheibert. Wiesbaden, 1964. S. 175-188.
4 В работе Патрика Гири «Furta sacra» рассказывается о многих случаях, когда
«официальные церковные» и «народные мистические» представления сходились
достаточно близко.
' См.: Deer J. Der Globus des spatromischen und byzantinischer Kaiser. Symbol oder
Insigne? // Byzantmische Zeitschnft. 54 (1961). S. 581 ff.
h Эта держава и сейчас считается в Венгрии одним из знаков королевской влас¬
ти. О ее датировке см. мою работу: Der Reichsapfel // Insignia regm Hungariae I:
Studien zur Machtsymbohk des mittelalterlichen Ungarn. Budapest, 1983. S. 185-194.
Держава занимает особое место среди аналогичных регалий в Западной и Цент¬
ральной Европе, ибо несет двойной византийский крест. Представители Анжуй¬
ского дома, очевидно, тоже желали продемонстрировать свою «связь» с династи¬
ей Арпадов; можно предполагать, что они (получив нужные сведения от своих
сторонников, которые, возможно, присутствовали на коронации 1290 г.) специ¬
ально приказали сделать державу по образу и подобию державы Арпадов. Карл
Роберт Анжуйский, кажется, не имел в своем распоряжении «официальных» зна¬
ков королевской власти во время своей первой коронации в 1301 г. и, возможно,
не знал, что старая держава утеряна. Впоследствии вновь изготовленная держава
попала в королевскую сокровищницу; о дате ее появления говорит помещенный
на ней анжуйско-арпадский герб.
7 Некоторые, далеко не общеизвестные примеры даны и кратко проанализиро¬
ваны в работе: Schramm Р.Е. Kronen mit Reliquien — Reliquiare in Kronenform —
Kronen auf Kopfreliquiaren // Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Stuttgart, 1956
(MGH Schriften 13, 3). S. 869-883.
* Вацлав устроил церемонию коронации для того, чтобы завладеть знаками коро¬
левской власти; достигнув своей цели, он через несколько дней вместе с отцом
покинул Венгрию. Инсигнии были привезены в Прагу, чего, впрочем, никак нельзя
утверждать в отношении священной реликвии. Об их судьбе см. ниже. Как извес¬
тно, последний из Пшемысловичей был убит несколько лет спустя.
4 Chron. Hung. comp. saec. XIV, 192 / Ed. A. Domanovszky // Scriptores rerum
Himgaricarum tempore ducum regumque Arpadianum gestarum / Ed. Szcntpctcry I.
Budapest, 1938, 1. P. 484. В австрийской рифмованной хронике вся история пред¬
стает в еще более сказочном свете; подробно рассказывается о том, какое потрясе¬
ние испытали Оттон и сопровождавшие его люди вечером и какую радость испы¬
тали утром, обнаружив корону на дороге. См.: MGH Dt. Chr. 5,1. P.535 et sq.
1,1 Как известно, древнейшая часть короны, так называемая «греческая корона»
(возможно, женская диадема византийского происхождения) может быть датиро¬
вана последней третью XI в., а верхняя часть (Biigel) с эмалевыми пластинками
(«латинская корона») восходит к более позднему времени, вероятно, к XII в. Пер¬
вые упоминания о короне как о принадлежавшей королю Стефану относятся к
70-м гг. XIII в. См. также: Deer J. Die Heilige Krone Ungarns, Wien, 1966. Ost. Akad.
d. Wiss. Denkschriften Phil.-hist. 91; Kovacs ЁLovag Zs. The Hungarian Crown and
Other Regalia, 2 cd. Budapest, 1988.
"Cm.: Thompson S. Motif Index of Folk Literature. T. 2. Helsinki. 1933, FFC. 40. 107.
D 860 et sq.
12 Codex Pictum Vindobonense, 42r, 46v. См. факсимильное издание The Hungarian
Illuminated Chronicle /Ed. D. Dcrcseny. Budapest, 1969; о «народном аспекте» «дан¬
ной ангелом короны» см/ Vacz\ Р. Az angyal hozla korona// Elctiink. 19. 1982. P.
456-465. а 1акже. A magyai tortenelem korai szazaduibol. Budapest. 1994. P. 94-102.
Ванн ссылается на известною популярностью ппоженпя и близостью к народ-
нон молве историка XVI в Дьердя Сереми. который сообщает, что с\ пан Сулей¬
49
ман пожелал «посмотреть, как выглядит данная ангелом корона, ибо в нашем
государстве ангелов очень почитают». В одном турецком источнике 1529 г. также
предполагается, что корона венгров была не рукотворной, а данной ангелом.
13 Acta legations cardinalis Gentilis // Mon. Vat. Hung. Ser. I, t.2. Budapest, 1885.
№ 67. P. 352.
M Deer J. Heilige Krone. S. 221-222.
15 Monumenta ecclesiae Strigoniensis / Ed.. N. Knauz. Esztergom, 1874, 2. P. 710.
16 Об этом эпизоде см. последнюю работу: Sweeney J.R. The Tricky Queen and Her
Clever Lady-in-Waiting: Stealing the Crown to Secure Succession, Visegrad, 1440 // East
Central Europe / L’Europe du Centre-Est, 20—23 (1993—1996), 1. P. 87-100; Deer J.
Heilige Krone. S. 231-234.
17 Более подробно об этих событиях см. в моей работе: Konigtum und Stande in
Ungam im 14.-16. Jh.. Wiesbaden, 1973, S. 42-46; хартия сейма о законности ко¬
ронации — см. там же, S. 141-143.
Перевод с английского Д.Е. Мишина
Питер Бёрк (Кембридж)
История как аллегория1
Данная статья посвящена неоднократно повторяющемуся в ис-
ториописании явлению, которое не получило достойного ос¬
вещения в современных гуманитарных исследованиях, одна¬
ко, бесспорно, заслуживает специального изучения. Этим
феноменом является практика изображения одного истори¬
ческого события (или персонажа) через реалии и формальные
признаки другого исторического события. Мое исследование будет сосре¬
доточено на выяснении обстоятельств, обусловливавших создание тек¬
стов, в которых авторы комментируют одни события (как правило, про¬
изошедшие в прошлом), будучи в действительности озабочены другими
событиями (как правило, современными им). В фокусе внимания данной
статьи находятся исторические сочинения, однако они, бесспорно, не
могут быть изолированы от нарративных текстов иного рода, а также от
визуальных форм изображения прошлого. Представляется, что самым
прямым путем к познанию этого феномена является анализ ряда конк¬
ретных примеров.
Мой первый пример прекрасно известен. Он заимствован из цикла ва¬
тиканских фресок, выполненных Рафаэлем и его помощниками. Интере¬
сующие нас росписи представляют пап Льва III, возлагающего корону на
голову Карла Великого, и Льва IV, который благодарит Господа за победу
над сарацинами. Оба папы наделены чертами Льва X, по чьему заказу и
создавались фрески. Одно и то же имя, характерное пухлое лицо и выпу¬
ченные глаза делают подобную параллель необычайно явственной. В не¬
котором смысле, Лев III и Лев IV призваны, таким образом, олицетворять
папу Льва X. В изображенных историях с Карлом Великим и сарацинами
зритель, безусловно, имеет все основания подозревать аллегории взаимо¬
отношений Льва X с императором Карлом V и Оттоманской Портой2.
Ученик Рафаэля Перино дель Вага создал в замке Св. Ангела сходный
цикл аллегорических фресок, на которых папа Павел III, в миру Алессан¬
дро Фарнезе, изображался в виде апостола Павла и Александра Македон¬
ского3. Разумеется, существует множество других примеров того, что ис¬
торики искусства называют «аллегорическим» или «отождествляющим»
портретом4.
Следующий пример более экзотичен, однако также относится к хоро¬
шо известной категории изображений. Это тоже фреска, созданная в кон¬
51
це XVI столетия в монастыре г. Сучевица (па территории современной
Румынии) и изображающая переход евреев через Красное море. Бросив¬
шиеся за ними войска Фараона одеты в польское платье. Это может быть
всего лишь обычный анахронизм, вполне объяснимый для той части Ев¬
ропы, где ренессансная культура и характерное для нее отношение к про¬
шлому не были еще достаточно глубоко укоренены'.
Тем не менее возможно (и даже весьма вероятно), что художник де¬
лает некий злободневный намек, своего рода политическую декларацию.
Роспись датируется приблизительно временем правления в Молдавии и
Валахии Михая Храброго, который заслужил репутацию отважного пол¬
ководца именно в сражениях с поляками. Фреска прямо намекает нам на
то, что Бог — на стороне Михая, и, возможно, даже призвана внушить
мысль, что молдаване являются богоизбранным народом. Это будет уме¬
стно сопоставить с иконографией того же сюжета — т. е. перехода евреев
через Красное море — в голландской живописи периода Нидерландской
революции — времени, когда иные из граждан новой республики пред¬
ставляли ее себе и другим в образе второго Израиля (а ее врага Филиппа
Испанского — в образе нового Фараона)6.
Однако здесь я вынужден прервать свои рассуждения об иконографии,
ибо для дилетанта, подобного мне, данная сфера сама по себе является
Красным морем, и я не смею надеяться, что его воды расступятся предо
мной, открывая путь к желанной цели. Поэтому позволю себе обратить¬
ся к литературным текстам, в которых аллегорическое толкование исто¬
рии осуществлялось, по крайней мере, в некоторых случаях, более откро¬
венно.
Практически в те же годы, когда анонимный молдавский художник
создавал свою фреску, значительная часть англичан была озабочена
вопросом о том, кто станет преемником их королевы, и их обеспоко¬
енность имела свои основания, ибо они хорошо знали, что споры о
престолонаследии зачастую выливались в гражданские войны. В этой
ситуации и поэты, и историки — Самуэл Дэниел, Майкл Дрейтон, сэр
Джон Хэйуорд и Уильям Шекспир — обращались к историческому
прошлому, к гражданским войнам, потрясавшим Англию на исходе
средневековья. Их внимание притягивали выступления баронов в
XIII в., войны Алой и Белой Розы, история низложения Ричарда II
Генрихом Ланкастером.
Мы знаем, что независимо оттого, каковы были истинные намерения
автора, шекспировский «Ричард II» расценивался сторонниками графа
Эссекса, выступившего против Елизаветы в последние годы ее правления,
в качестве своеобразного комментария к актуальным событиям7, посколь¬
ку королева потребовала специального представления этой пьесы. Ели¬
завета воспринимала это сочинение таким же образом, как и ее соперни¬
ки, и не сомневалась, что фигура Ричарда II имела аллегорический смысл.
В частности, известно ее замечание, оброненное в беседе с Уильямом
Ламбардом: «Я — Ричард II, неужели Вам это не известно?»6. Она также
спрашивала Френсиса Бэкона, «не содержит ли измены» книга Хэйуор-
да. Любопытно, что, невзирая на отрицательный о те г Бэкона. Хэйуорл
тем не менее, был отправлен в Тауэр'.
52
Несколькими годами позже Бэкон сам, с большим, однако, успе¬
хом, последовал примеру Хэйуорда: его биография Генриха VII была
истолкована как аллегорическое изображение Якова I10. Сочинение
сэра Уолтера Рейли «Всемирная история», которая была обращена ис¬
ключительно к древним временам, также воспринималась в качестве
аллегорического изображения современности. Такое восприятие под¬
креплялось знаменитым высказыванием автора о том, что не следует
«наступать правде на пятки», иначе говоря — обсуждать актуальные со¬
бытия в сочинениях, предназначенных для широкой публики.
Говоря о Европе раннего Нового времени, не сложно было бы приве¬
сти еще множество примеров того, как изображение исторических сюже¬
тов используется для скрытого либо явного намека на актуальные собы¬
тия, с целью польстить или оправдать, предостеречь или раскритиковать
каких-то конкретных людей или отдельные их группы. Настоящая про¬
блема встает перед исследователем в тот момент, когда он пытается по¬
нять, на что именно пытались скрыто намекнуть люди, жившие несколь¬
ко столетий назад. И поэтому историк с облегчением обращается к
небольшому числу таких случаев, когда люди прошлого сами толкуют
значение аллегории.
Приведу один из примеров. Как-то раз, в 1625 г., поэт Вондел бесе¬
довал с амстердамским патрицием Альбертом Бургом об обстоятельствах
совершенной шестью годами ранее казни (которую можно было бы на¬
звать юридическим убийством) одного из видных голландских полити¬
ков Иогана ван Ольденбарневельда (Johan van Oldenbarneveld). «Напи¬
шите трагедию об этом», — обратился Бург к собеседнику. «Время еще
не пришло», — ответил поэт, который скорее всего испытывал страх
перед вероятными последствиями такого шага. «Но Вам следует всего
лишь изменить имена», — посоветовал Бург11. В итоге Вонделом была
создана пьеса «Паламед», действие которой происходило в Древней Гре¬
ции. Невинно осужденный Паламед, бесспорно, олицетворял Ольден¬
барневельда, а Агамемнон, столь же бесспорно, — принца Оранского.
Во Франции в период правления Людовика XIII и Людовика XIV глав¬
ным образом власти предержащие, а не оппозиция инициировали возник¬
новение наиболее известных исторических аллегорий этого времени. Сре¬
ди произведений, созданных в кругу приближенных кардинала Ришелье,
можно, в частности, назвать биографии двух кардиналов — Франсиско
Хименеса де Сиснероса и Жоржа д’Амбуаза, которые были выдающимися
государственными деятелями. Аллегорические интенции авторов кажутся
и данном случае вполне очевидными12.
В 60-х гг. XVII в., т.е. в самом начале самостоятельного правления
Людовика XIV, придворный живописец Шарль Лебрен создал пять про¬
изведений, изображавших сцены из жизни Александра Великого, а Ра¬
син в те же годы написал пьесу, основанную на тех же сюжетах. Здесь,
вероятно, основной целью проводимых авторами исторических паралле¬
лей было попросту прославление юного монарха, которому особенно
льстило сопоставление с Александром1'.
В других случаях, также относящихся ко времени правления Людо¬
вика XIV. целью было скорее предостережение, чем прославление. Ра-
синовский «Британик» столь шокирующе намекал на параллель между
Нероном, этим monstre naissant (нарождающимся чудовищем) и Людо¬
виком, что никто, кроме короля, не мог позволить себе это заметить.
Точнее говоря, почти никто. Один из современников, в частности, зафик¬
сировал свое наблюдение: после знакомства с этой пьесой, которая обыг¬
рывает факт выступлений Нерона на сцене, Людовик больше никогда не
танцевал на публике.
Приумножение ряда исторических аллегорий подобного типа может
стать несколько утомительным. Наиболее существенным для историка
культуры было бы разрешение вопроса о том, имеет ли такого рода «ли¬
тературная мода» свою историю, иными словами, претерпевала ли она с
течением времени какие-то изменения. Американский критик Ангус
Флетчер утверждает, что «аллегоризация являет собой постоянный про¬
цесс репрезентации»14. Одной из задач моей статьи является обоснование
необходимости скорректировать это представление. Я попытаюсь дока¬
зать, что аллегории могут быть дифференцированы не только с точки зре¬
ния их важности, но и с учетом их смыслового наполнения в отдельные
исторические эпохи, поскольку представление о том, какое соотношение
существует между событиями, явно и подспудно сводимыми в рамках
аллегории, менялось с течением времени.
Уместно было бы начать с выделения двух типов или двух способов
использования аллегории. Первый может быть обозначен как «прагма¬
тический». Он предполагает, что аллегория — всего лишь инструмент
достижения цели, а не цель сама по себе. Так, поляки во времена ком¬
мунистического режима нередко говорили: когда под запретом находит¬
ся прямое обсуждение политических событий, наступает время эзопова
языка.
В XIX в. члены Кембриджского союза, студенческого клуба, в кото¬
ром были запрещены дебаты по поводу современных политических со¬
бытий, обсуждали вместо них события XVII в., игнорируя господство¬
вавшую в историческом знании того времени доктрину об уникальности
любого исторического факта. Можно присовокупить в качестве приме¬
ра и тот широко известный факт, что картина Делароша «Кромвель и
Карл I», выставленная в парижском Салоне 1831 г., воспринималась
как отклик на революцию 1830 г., в результате которой Луи Филипп
сменил Карла X15.
Если говорить о XX в., то одним из ярких примеров использования эзо¬
пова языка является знаменитый фильм С. Эйзенштейна «Иван Грозный»,
вторая серия которого (поставленная в 1946 г. и рисующая все возрастаю¬
щую паранойю авторитарного правителя) смогла быть показана широкой
публике только после смерти Сталина, настолько очевидными были парал¬
лели между прошлым и настоящим. Столь же известным примером, по¬
черпнутым на этот раз из культурной жизни другой супердержавы того
времени, является пьеса Артура Миллера «Тяжкое испытание». Посвящен¬
ная охоте на ведьм, развернувшейся в Массачусетсе XVII в., она была по¬
ставлена впервые в 1953 г., в самый разгар той «охоты на ведьм», которая
происходила в эпоху Маккарти. Любопытно, что театральные критики в
своих отзывах о пьесе не делали никаких открытых упоминаний о связях
54
i' современными им политическими событиями, и дело вовсе не в том, что
они были не слишком сообразительны, просто сами их тексты надо в этом
случае также толковать как аллегории.
Некоторые современные научные исследования, подобно трудам XVI
и XVII вв., нуждаются в аллегорическом прочтении не менее, чем в на¬
учном или литературном. Покойный Арнальдо Момильяно, один из ве¬
личайших ученых-антиковедов нашего времени, признавался, что его
обращение к истории древнегреческой демократии было политическим
жестом в условиях фашистской диктатуры Муссолини. В 1965 г.
польский интеллектуал Лешек Колаковский опубликовал работу «Хри¬
стиане без церкви» — исследование об интеллектуалах-диссидентах эпо¬
хи Реформации, надеявшихся, говоря современным языком, на «посте¬
пенное отмирание института церкви». Связь этого сочинения с
современной политической борьбой в Польше была достаточно очевид¬
ной, и сам Колаковский, год спустя, находясь уже на пороге эмиграции,
открыто высказал свои убеждения в связи с десятой годовщиной режи¬
ма Гомулки16.
Создается впечатление, что «прагматическая аллегория» является если
не неизменно присутствующей в культуре данностью, то, как минимум,
таким феноменом, который всякий раз, когда возникает в этом потреб¬
ность, всплывает на поверхности интеллектуальной жизни. В этом смыс¬
ле процитированное выше утверждение Флетчера вполне справедливо.
Однако функции исторической аллегории не могут быть ограничены
исключительно задачей ухода от политической цензуры. Второй тип ал¬
легории можно определить как «метафизическую» или «мистическую»
аллегорию, поскольку она предполагает существование глубинной и со¬
кровенной связи между двумя явлениями или персонажами, которая
объединяет их невзирая на степень отдаленности друг от друга во време¬
ни или пространстве. Данный тип аллегории находится в органическом
соответствии с общей системой античных, средневековых и ренессанс¬
ных представлений о принципиальном подобии устройства космоса,
микрокосмоса и политического сообщества. Отражение подобных пред¬
ставлений можно без труда обнаружить в таких например, идеях, как вос¬
приятие короля в качестве солнца, или в утверждении, что государь яв¬
ляется головой, а его народ — телом (или ногами — как заявила королева
Елизавета во время одной из резких размолвок с парламентом).
Необходимо обратить внимание на главную особенность такого под¬
хода: он предполагает восприятие настоящего как своего рода «воспро¬
изведение», «воссоздание» событий прошлого, как если бы кто-то, воз¬
можно — Бог, написал для нас историю, которую мы разыгрываем снова
и снова. Американский антрополог Маршалл Салинс, анализируя вос¬
приятие гавайскими аборигенами капитана Кука как воплощения свое¬
го бога Лоно, дает следующую характеристику их отношения к истории:
«Для гавайцев история зачастую повторяется, так как только повторно
воспроизведя себя, она становится событием. Первоначально она явля¬
ется мифом»17. Такое наблюдение, как кажется, может быть отнесено и к
реалиям западной культуры. Однако необходимо поставить вопрос, имее!
ли эта идея сама по себе историю?
Позволю себе начать с Библии, в которой доминирующая интерпре¬
тация истории как линейного процесса сосуществует с представлением
о ее цикличности и возможности повторного воспроизведения событий.
В Ветхом Завете, например, Иисус Навин (также и Илия) представлен как
новый Моисей. В Новом Завете идея повторения лежит в основе «Дея¬
ний Апостолов», где миссия апостолов последовательно раскрывается
через концепцию воспроизведения ими жизни, гибели и воскресения
Христа18.
Любопытно, что представители классической греческой литературы,
такие, как Фукидид, Полибий или Плутарх, проявляя бесспорный ин¬
терес к историческим параллелям, были чужды восприятию истории в
категориях аллегорического уподобления. Например, в параллельных
жизнеописаниях Плутарха один из персонажей ни в коей мере не явля¬
ется своеобразным предтечей, прообразом другого. Римляне же были в
этом отношении гораздо ближе к иудейской традиции. Вергилий, в ча¬
стности, писал о «втором корабле «Арго», о Риме, как о Новой Трое, а
Август в Энеиде подсознательно представлен как второй Эней. Верги¬
лий, как кажется, далеко выходит за пределы простого выявления па¬
раллелей между двумя правителями. Им, по-видимому, движет пред¬
ставление о том, что предназначением Августа было воспроизвести
деяния Энея и как бы заново основать Рим.
Проблема взаимосвязи двух событий обсуждалась на самом общем
уровне и раввинами, и отцами церкви. Однако они уделяли внимание не
столько феномену воспроизведения, повторяемости истории, сколько
иному, в некотором смысле обратимому явлению. Одной из форм тако¬
го «обратного подхода» является единая идея исполнившегося пророче¬
ства, когда текст, иначе говоря, писаная история предшествует событи¬
ям, а не следует за ними. Другой формой такого подхода можно считать
представление о том, что одно событие «предвещает», «предваряет» дру¬
гое событие, является его «предвоплощением». Например, раввины могли
толковать грядущее с приходом Мессии освобождение Израиля как вос¬
произведение «точного в каждой своей детали предзнаменования, како¬
вым было освобождение из египетского пленения»14.
Подобным же образом и христианские отцы церкви, такие, как Тертул-
лиан и Августин, уделяли особое внимание категориям «тип», «аллегория»
или «фигура», иначе говоря, тому, что в знаменитой формуле Эриха Ауэр¬
баха определено как «нечто реальное и историческое, предвещающее не¬
что, что, в свою очередь, также является реальным и историческим»20. Тот
же понятийный и лексический ряд находился в активном употреблении
еще в период раннего Нового времени. Идея воспроизведения истории,
напротив, не имела своего технического терминологического эквивален¬
та вплоть до XVII в., когда немецкий поэт Андреас Грифиус определил
«мученичество» короля Карла I как «поствоплощение» жертвы Христа21
Термин «поствоплощение», однако, так и не получил широкого примене¬
ния. Именно это и позволило современному ученому еще в 1968 г. претен¬
довать на приоритет в его изобретении22.
Следует признать, что идея воспроизведения истории имела не
меньшее значение в европейском сознании, чем противостоящая и ол
56
повременно дополняющая ее идея предзнаменования и предосуществ-
нсния, независимо от того, применялись эти парадигмы к сопоставле¬
нию событий, людей или мест. По большей части такие парадигмати¬
ческие сопоставления носили религиозный характер, однако со
временем происходит нарастание значимости собственно мирских
примеров, что я и постараюсь продемонстрировать ниже.
В рамках традиции, заложенной «Деяниями Апостолов», Христос
сохранял значимость главной модели для сопоставления. В XI в. фран¬
цузский хронист Рауль Глабер описывал короля Роберта в категориях
подражания Христу21. Одна из хроник, повествуя о смерти Томаса Бекета,
творит о «страстях» архиепископа, погибшего от рук убийц в стенах ка¬
федрального собора24. Бартоломео Пизанский написал специальный трак-
Iат, озаглавленный «Об уподоблении жизни блаженного Франциска
жизни Господа Иисуса Христа».
Некоторые правители также получили статус парадигматических фи-
I ур. В Византии, в частности, император нередко характеризовался как
новый Константин25. На Западе это наименование «новый Константин»
употребил Григорий Турский по отношению к Хлодвигу26. Титул «новый
Константин» заслужил и Карл Великий, однако он и сам стал парадиг¬
матической фигурой для характеристики последующих западноевропей¬
ских государей. В частности, германский император Оттон III был назван
около 1000 г. «вторым Карлом Великим».
В ряде случаев определение «новый» имело смысл всего лишь лес¬
тного сравнения, однако время от времени мы встречаемся и с серь¬
езными сознательными попытками обоснования отдельных событий
как воспроизведения неких парадигматических образцов. Пророчества
о грядущем втором Карле Великом получают широкое распростране¬
ние в эпоху позднего средневековья, начиная с XIV в. Они, например,
шучали в сочинениях Телесфора Козенского и ряда других авторов, и
последовательно прилагались ко многим европейским монархам:
французским королям Карлу VI и Карлу VIII, императору Карлу V и
г.д.27.
Круг парадигматических уподоблений, получивших распространение
и раннее Новое время, был чрезвычайно широк. Карла VIII после того,
как он в 1494 г. пересек Альпы, уподобляли Ганнибалу28. В то же время,
для Савонаролы он был «новым Киром». Ничего необычного не было и
в том, что правитель характеризовался как новый Исайя (например,
Эдуард VI), новый Соломон (например, Филипп II, Яков VI Английс¬
кий, он же Шотландский, новый Давид (английский король Генрих VII,
император Максимилиан I, Филипп II, Вильгельм Оранский). В свою
очередь, папу Юлия II именовали новым Юлием Цезарем29. Такие парал-
иели не ограничивались только кругом правителей. В частности. Эрнан¬
до Кортес был провозглашен одновременно новым Цезарем, новым
Иисусом Навином и новым Моисеем10. Питер Хейлин изображал архи¬
епископа Уильяма Лода «английским Киприаном».
Все указанные выше примеры касаются исключительно мужчин. Слу¬
чаи аллегорического отождествления женщин были гораздо более редки¬
ми. Во многом это обьясняется преобладанием именно мужских образов
57
13 качестве парадигматических моделей, что ограничивало для женщин,
даже для коронованных особ, возможность фигурировать в таких сопос¬
тавлениях. Тем не менее можно указать и на ряд ярких исключений из
этого правила. Французская королева Екатерина Медичи и описывалась,
и изображалась (например, на фреске в Танлэ) как богиня Юнона. Вме¬
сте с тем, в адресованном ей посвящении к жизнеописанию королевы
Артемисии говорилось, что она может рассматривать собственную жизнь
в зеркале жизни своей античной предшественницы31. Королеву Елиза¬
вету I иногда сравнивали с мужскими прототипами, такими как, напри¬
мер, Персей. Однако наиболее распространенным было уподобление ее
Астрее, девственнице, имя которой ассоциировалось с торжеством спра¬
ведливости и с Золотым веком32. Во время торжественного вступле¬
ния в Москву в 1742 г. императрица Елизавета Петровна уподоблялась
Юдифи и Деборе, т. е. героиням, освободившим свой народ. Екатерину
Великую, в свою очередь, архимандрит Лаврентий назвал новой Юдифью
и «второй Еленой» (имея в виду мать императора Константина)33. Жанну
д’Арк, «Орлеанскую Деву» нередко воспринимали как вторую Деву Ма¬
рию, а известная венецианская визионерка XVI в. мать Иоанна описы¬
валась французом Гийомом Постелем как новая Ева34.
Относительно эпохи раннего Нового времени нередко представля¬
ется весьма сложным установить степень серьезности в использовании
подобных аллегорических сопоставлений: что это — лишь элегантные,
пронизанные аллюзиями комплименты или выражение вполне опреде¬
ленных надежд и ожиданий. Для современного исследователя основную
сложность представляет тот факт, что единый словесный ряд использо¬
вался разными людьми для выражения разного понимания взаимоотно¬
шений между прошлым и настоящим — от поверхностной аналогии до
глубинной мистической связи.
Правомерно, однако, предположить, что в тех случаях, когда француз¬
ского короля Карла VIII или императора Карла V именовали вторым
Карлом Великим, то делавшие это люди подразумевали, хотя бы в неко¬
торых случаях, не только простое сопоставление35. Подобие имен (как в
приведенном выше примере с папами, носившими имя Лев) нередко вос¬
принималось как знак подобия судьбы и предназначения. Порой связь
между двумя правителями могла восприниматься скорее в категориях
предзнаменования, чем воспроизведения, поскольку от второго Карла
Великого ожидали объединения мира в единое целое, чего не смог сде¬
лать сам франкский император.
Степень двусмысленности сопоставлений особенно возрастала в
случаях уподобления городов, для чего нередко использовались наи¬
менования «Новый Иерусалим», «Второй Рим» и т.д. Например, для
Евсевия Кесарийского Константинополь был «Новым Иерусалимом».
Французскому монаху и хронисту Раулю Глаберу «Новым Иерусали¬
мом» представлялся Орлеан36. Аналогичным образом воспринимали
свой родной город и некоторые флорентийцы в XV в.'7. Средневеко¬
вый Лондон представлялся английскому хронисту Гальфреду Монмут¬
скому Новой Троей, так же. как некогда Рим — Вергилию. Карлу Ве¬
ликому современники приписывали стремление сделать ставший его
58
резиденцией Аахен одновременно и «Новыми Афинами» (по словам
его наставника Алкуина), и «Новым Римом» (по свидетельству его био¬
графа Эйнгарда).
История знала впоследствии много городов, отождествляемых с «но¬
вым Римом»; к их числу принадлежат, в частности, Трир и Константи¬
нополь'8. В XIII в., например, можно встретить и характеристику Падуи
как «подобия второго Рима» (quasi secuncla Roma)y). Аналогичные притя-
1ания были связаны и с Прагой в XIV в., в период правления Карла IV,
и с Флоренцией в начале XV столетия, а также с Миланом, Венецией40.
В XVI в. Севилья также претендовала на то, чтобы именоваться «Новым
Римом»41. И даже мелкие города не были лишены подобных амбиций:
например, на стенах ратуши голландского городка Энкхюзена до сих пор
можно прочитать сделанную золотыми буквами надпись SPQE, что яв¬
ляется прямым подражанием античной аббревиатуре SPQR (Senatus
Populusque Romanus — сенат и народ римский).
Одним из наиболее ярких примеров того, что подобные отождествле¬
ния не были просто сравнениями, является концепция Москвы — Тре¬
тьего Рима, сформулированная в знаменитом послании псковского мо¬
наха Филофея Василию III в 1510 г.42. В данном случае мы имеем дело
с серьезным притязанием на то, чтобы обосновать право исторической
преемственности между Римом, Константинополем и Москвой и дока-
«ать сходство их судьбы и предназначения.
Примеры такого рода можно найти и далеко за пределами Европы. В
конце XVI в. Гарсиласо де ла Вега, прозванный «Инка», изображал Куско
как Новый Рим. Это — ранний пример той идентификации с городами
Старого света, которая станет столь характерной для Америки (Новый
Амстердам; Нью-Йорк, т.е. Новый Йорк; Новый Орлеан; Афины, штат
Джорджия; Париж, штат Техас; Новая Одесса и т.п.), независимо от того,
следует ли воспринимать эти наименования как выражение надежд на бу¬
дущее или же как проявление ностальгии эмигрантов по их прежней ро¬
дине43. И опять-таки, проблема состоит в том, чтобы решить, насколько
серьезно относиться к этим названиям, или, вернее, понять, насколько
серьезно относились к ним в прежние века.
Возможность идентификации с предшественниками была открыта не
только для городов, но и для целых наций, причем наиболее распростра¬
ненным образцом для сопоставлений служили евреи. В позднесредневе¬
ковых хрониках о Франции нередко говорилось как о Святой Земле, а о
французах как об «избранном народе»44. В раннее Новое время англича¬
не нередко назывались «избранным народом», республика Нидерланды
- «Новым Израилем», а Америка — «Новым Ханааном»45. Во всех этих
случаях, как и в приведенном выше примере с Москвой, использованные
наименования отражали притязание на преемственность исторической
роли и судьбы.
Содержание подобных притязаний, возможно, станет чуть более про-
фачным, если внимательнее рассмотреть идею о повторяемости отдель¬
ного исторического события или целой цепи событий. Со всей бесспор¬
ностью возможность воспроизведения события проявляется в сфере
ршуала: например. Причастие воспринималось как реальное повторение
59
Страстей Христовых. Вместе с тем, идея воспроизведения воздействова¬
ла на восприятие исторических событий. В частности, в XII в. француз¬
ский монах Гвибер Ножанский описывал крестовые походы как втором
Исход.
Столь важная для средневековья и раннего Нового времени идея
«возрождения» классической античности, ее «возобновления» (Renovatio)
основывалась на идее повторяемости истории46. Культурное движение,
которое мы называем Ренессансом (Возрождением), являло собой энер¬
гичную попытку, или серию попыток, воспроизвести достижения клас¬
сической античности. Реформация, в свою очередь, была коллективной
попыткой заново воплотить в жизнь историю ранней церкви. Свиде¬
тельством того, что понятие «реформы» далеко выходило за рамки про¬
стой метафоры, можно считать труды таких ученых, как Джон Фокс м
Джон Нокс, которые рассматривали современные им события как ис¬
полнение библейских пророчеств47. Аналогичным образом во время
празднования в Германии столетия Реформации в 1617 г. (что, вероят¬
но, было первым в истории празднованием столетнего юбилея) это со¬
бытие преподносилось как исполнение предсказаний Священного Пи¬
сания48.
В ряде исторических сочинений XVII в. также можно заметить нали¬
чие подспудных параллелей между далеко отстоящими друг от друга во
времени событиями, причем такого рода аллегории носили как прагма¬
тический, так и метафизический характер. Голландский историк Герард
Воссиус опубликовал сочинение, посвященное полемике Августина с
пелагианцами, как раз во время заседаний Дортского синода в 1618 г.,
на котором, как и в древности, дебаты развернулись вокруг проблем бла¬
годати и свободы воли. В 1682 г. богослов по имени Самуэл Джонсом
опубликовал исследование о Юлиане Отступнике, уделив особое внима¬
ние проблеме пассивного повиновения в ранней церкви, что бесспорно
отсылало читателей к современной ситуации религиозного кризиса. Эти
параллели были столь прозрачны, что автор поплатился тюремным заклю¬
чением и подвергся публичному наказанию кнутом. Во Франции в 1709 г.,
в период войны за испанское наследство, историк искусства и публицист
Жан-Батист Дю Бо описал двухсотлетней давности историю борьбы Кам-
брейской лиги против Венеции.
Необходимо подчеркнуть, что по крайней мере некоторые из живших
тогда людей верили в возможность буквального повторения, сцена за сце¬
ной, ряда особо драматических исторических событий. Во Франции, на¬
пример, религиозные войны рассматривались протестантами как подроб¬
ное воспроизведение библейской истории преследований избранного
народа. В сознании последующих поколений гугенотов, Варфоломеевская
ночь, результатом которой было уничтожение множества их единоверцев,
прямо ассоциировалась с библейской историей об избиении младенцев14
Религиозные войны виделись также как воспроизведение римских граж¬
данских войн, включая создание нового «триумвирата», аналогичного со¬
юзу Марка Антония, Октавиана и Лепида. Так. на картине Антуана Каро¬
на, созданной в 1562 г. и ныне находящейся в Лувре, представлена сцена
резни, которую направляю! три человека. Этот намек на современные со-
60
()мтия становится еще более прозрачным благодаря анахронизму — изоб¬
ражению в сцене из античной истории крепости римских пап — замка Св.
Ангела.
В свою очередь, гражданская война в Англии в 40-х гг. XVII в. вос¬
принималась как повторение французских религиозных войн. Один
английский дворянин замечал, что ему дали почитать принадлежащую
перу Энрико Давила историю французских войн «под заглавием Mr.
Hampden’s Vade Месит; и я полагаю, что ни одна копия не может в
большей степени походить на оригинал, нежели та смута и наши со¬
бытия»50. Аналогичные мысли были близки ряду англичан и в период
политического кризиса, связанного с попытками лишить прав на на¬
следование престола младшего брага Карла II, герцога Йоркского
Джеймса, на основании его приверженности католицизму. Именно в
jto время Джон Драйден (известный ныне главным образом своей ис¬
пользующей библейский сюжет аллегорической сатирой «Авессалом и
Ахитофель») написал пьесу (или, как минимум, участвовал в ее напи¬
сании) под названием «Герцог Гиз», в которой явственно проступает
параллель между событиями 1583 г. во Франции и 1683 г. в Англии.
Конечно, это была своего рода «перевернутая» копия, нечто вроде об¬
раза и негатива, поскольку радикальные протестанты были замещены
радикальными католиками, но угроза власти монарха оставалась той
же самой, шла ли речь о Карле II или о Генрихе III.
Карлу понравилась эта пьеса, и он обратился к Драйдену с просьбой
о переводе на английский язык недавно написанной истории Католичес¬
кой Лиги. Посвящая свой перевод королю, Драйден отмечал, что «сход¬
ство обнаруживается во всем», когда речь идет о событиях 1584 и 1684 гг.
Не вполне ясно, какого рода параллели имеет ввиду Драйден: констати¬
рует ли он лишь несомненные черты внешнего сходства или же подразу¬
мевает мистическую связь событий (на что могло бы намекать сопостав¬
ление дат — 1584 и 1684 гг.)'1. Еще труднее понять, ожидал ли он, что
английская история может повторить французский образец (с убийством
герцога Гиза, Генриха III и т.д.)
Одна из важнейших причин сложности интерпретации позиции Драй-
дена заключается в том, что именно в конце XVII в., по мнению современ¬
ных ученых, происходит разрушение традиционного представления о пря¬
мом подобии в организации макрокосма, микрокосма и политической
системы общества. Наука Нового времени не просто поставила его под
сомнение, но предложила в качестве альтернативы новые модели сознания,
сформулированные Галилеем, Декартом, Бейлем и другими мыслителями
этого времени52. По словам американской исследовательницы истории
науки М. Николсон, «наши предшественники были убеждены что соответ¬
ствия, называемые нами «аналогиями», являются «истиной», запечатлен¬
ной Богом в природе всех вещей. Наука Нового времени поставила эту веру
под сомнение»5'.
Интеллектуалы нового поколения, такие как, например, Пьер Бейль
(который сомневался в том. что кометы являются на самом деле некими
шамсниямп), скептически относясь к идее тождественности микрокос¬
ма и макрокосма, должны были усомниться п в возможности прямого
61
подобия между историческими событиями. Подобно книге природы,
книга истории также начинает в эту эпоху пониматься буквально, а нс
аллегорически, что является составным элементом общего становления
«буквально воспринимающего разума»"4. Аналогии все еще проводились,
однако их логический статус кардинально изменился. Все более распро¬
страненным становилось убеждение в их скорее субъективной, нежели
объективной природе.
Сложно подвергнуть какому-либо количественному исчислению ско¬
рость этих изменений. Весьма правдоподобно, что католики, такие как
Карл II, изображавшийся во время его коронации в качестве нового Да¬
вида, или Драйден (несмотря на его знакомство с сочинениями скептиков)
продолжали осмысливать историю в старых категориях55. То же относит¬
ся и к некоторым кальвинистам, в частности, французскому пастору Пье¬
ру Журье, который говорил об английском короле Вильгельме III, гол¬
ландце по происхождению, как о «втором Моисее» и «втором Давиде»56.
Однако общее направление изменений представляется вполне ясным.
К XVIII в. происходит отказ от аллегории или, во всяком случае, размы¬
вание ее традиционных функций. Примеров тому немало, начиная от
обсуждения этой темы у Шефтсбери в самом начале XVIII в. и вплоть до
высказанного Джозефом Спенсом в 1747 г. резко негативного отноше¬
ния к использованию аллегорий Цезарием Рипой и Эдмундом Спенсе¬
ром57. В XIX в. непрерывное возрастание значимости идеи об уникаль¬
ности исторических событий (процесс, который Фридрих Майнеке
определил через категорию «историзм»)58 способствовало окончатель¬
ному вытеснению метафизической аллегории на периферию историчес¬
кого сознания. Не только историки восприняли идею уникальности и
неповторимости исторических событий. Современная концепция «ре¬
волюции», возникшая в 1789 г. или вскоре после того, связана с представ¬
лением о необратимых изменениях, о полном разрыве с прошлым, что
особенно ярко проявилось в решении деятелей Французской революции
изменить календарь и начать отсчет лет заново с «первого года».
И все же такое изложение исторической эволюции аллегорического
осмысления прошлого было бы слишком упрощенным. За три последних
столетия так и не произошло окончательного сведения исторической ал¬
легории к чисто прагматическому использованию. Проблема заключается
в том, что всякое восприятие прошлого или память о нем были бы невоз¬
можны, по крайней мере — предельно сложны, без использования опре¬
деленных ментальных схем, включая и те, которые мы можем назвать «ос¬
новополагающими схемами» или организующими мифами данной
культуры.
Французская революция, например, переживалась некоторыми совре¬
менниками как воспроизведение античной Римской истории, как изгна¬
ние нового Тарквиния. Французские революции 1830, 1848 и 1871 гг. в
свою очередь осмыслялись как возврат к событиям 1789 г. Точно так же
революция в России в 1917 г. воспринималась (Троцким и рядом других
ее деятелей) как возобновление Французской революции, а гражданскую
войну в Испании некоторые ее участники фактовали как воспроизведе¬
ние революции в России.
62
Не менее сложен отказ от параллелей подобного рода и для профес¬
сиональных историков гарантией этого не может служить даже следова¬
ние концепции уникальности и единичности исторических событий. Как
показал Хейден Уайт, в процессе написания истории исследователи, по
крайней мере время от времени, бессознательно следуют нарративным
схемам литературных произведений разных жанров: эпоса, романа, ко¬
медии или трагедии, которые сами по себе предполагают принцип повто¬
ряемости событий59.
При анализе сравнительно недавних примеров наибольшую сложность
вызывает вопрос о том, каким образом может быть истолковано исполь¬
зованное автором аллегорическое сопоставление. Осмелюсь высказать
мнение, что зачастую эти аллегории сохраняют ауру идеи «повторного воп¬
лощения», воспроизведения «события-образца», даже если это трудно до¬
пустить в наш трезвый и буквально мыслящий век. Привкус особого вос¬
приятия истории как повторяющегося процесса можно, например,
отметить в сочинении историка викторианской эпохи Эдварда Августа
Фримана. Для него английская история была «драмой возрождения и вос¬
кресения», что давало ему право рассматривать предводителя мятежа ба¬
ронов в XIII в. Симона де Монфора как возродившегося в новую эпоху и
н новом качестве эрла Годвина, главы выступивших против короля Эдуарда
Исповедника англо-саксов60.
Позволю себе привести еще один, последний, ряд примеров, которые
способны подкрепить высказанные мной соображения. Создавая своего
«Александра Невского» (1938 г.), Эйзенштейн (в отличие от ситуации с
«Иваном Грозным») не нуждался в том, чтобы перехитрить цензуру. Од¬
нако этот фильм — подлинный гимн способности нации противостоять
»авоевателям — несомненно получил дополнительный резонанс благода¬
ря тому, что обращался к событиям древнерусской истории. Точно так же,
осуществленная Лоуренсом Оливье экранизация шекспировского «Ген¬
риха V» вовсе не была задумана как прагматическая аллегория. Тем не
менее, в тот период, т.е. в конце второй мировой войны, фильм воспри¬
нимался как имеющий прямое отношение к текущим событиям. Школь¬
ников (и меня в том числе) водили на коллективные просмотры этого
фильма. Нас подталкивали к тому, чтобы на высадку союзников в Нор¬
мандии мы смотрели как на повторение битвы при Азенкуре, в которой
1>ог был на стороне англичан.
Подобным же образом обстояли дела и в стане противника, т.е. «дер¬
жав оси». Фильм Мидзогути «Сорок семь ронинов» (1941 г.), повеству¬
ющий о самоубийстве верных долгу самураев в начале XVIII в., получил
такое же современное звучание. Он вышел на экраны еще до вступления
Японии во вторую мировую войну, и потому было бы преувеличени¬
ем сказать, что в планы создателей фильма входило намерение поддер¬
жать участие страны в войне или вдохновить пил ото в-камикадзе на их
самоубийственные полеты; но, во всяком случае, он служил тому, чтобы
напомнить японскому народу о традиционно свойственном ему самопо¬
жертвовании.
Но не обязательно ограничиваться временами второй мировой вой¬
ны И по сей день, каждый декабрь, исповедующие протестантизм жп-
63
тели Дерри, который они называют Лондондерри, неизменно совершаю!
традиционный ритуал в память осады этого города в 1688—1689 гг. Этот
ритуал оказывает несомненное влияние на их повседневную жизнь. Не¬
которые ирландские протестанты рассматривают нынешний период «по¬
трясений», сколь долго он ни длится, как своего рода «осаду». Они опе¬
рируют понятием «не сдадимся» и относят его не к цитадели, а к
собственному отказу разрешить проблему Северной Ирландии путем
компромисса. Они пишут «помни о 1690 г.» на стенах своих домов, об¬
ращаясь к памяти о победе Вильгельма III и протестантов в битве при р.
Бойн. Иными словами, они воспринимают свое настоящее как воспро¬
изведение прошлого61. Сильно ли разнится их восприятие истории от
того, что было присуще Драйдену, или даже гавайцам, которые, как мож¬
но предположить, видели в прибытии капитана Кука акт торжественно¬
го явления божества?62
Примечания
1 Приношу искреннюю благодарность Алексу Поттсу, высказавшему свои заме¬
чания по поводу первоначальной версии этой статьи в ходе беседы в Варбурге -
ком институте в 1986 г.; я признателен также Найджелу Смиту и участникам его
семинара в Оксфорде в 1991 г., равно как и участникам семинара в USP в 1994-
1995 гг., за заинтересованное обсуждение этой проблемы.
2 Jones R., Penny N. Raphael. New Haven; L., 1983. P. 150.
3 Harprath R. Papst Paul III als Alexander der Grosse. B., 1981.
4 Polleross Fr. B. Das Sakrale Identifikationsportrat. 2 Bd. Worms, 1988.
5 Burke P The Renaissance Sense of the Past. L., 1969.
6 Schama S. The Embarrasment of Riches. L., 1987, P. 111.
7 Albright L.M. Shakespeare’s Richard II and the Essex Conspiracy // Publications of
the Modem Language Association. 42. 1927. Cp.: Campbell L.B. The Use of Histoncal
Patterns in the Reign of Elizabeth // Huntington Library Quarterly (1938).
s Neale J.E. Queen Elizabeth I. Harmondsworth, 1960 (1934). P. 387.
9 Womersley D.J. Sir John Hayward’s Tacitism // Renaissance Studies 6. 1992
P. 46-59.
10 Bergeron D M. Bacon’s Henry VII: Commentary on King James I // Albion, 24.
1992. P. 17-26.
" Brandt G. Leven van Vondel. Amsterdam 1932. S. 14.
12 Church W.F Richelieu and Reason of State. Princeton, 1972.
13 Grell Ch., Michel C. L’ecole des princes, ou Alexandre disgracie. P., 1988.
u Cm. Argan G.C. Ideology and Iconology // The Language of Images / Ed.
W.J.T. Mitchell. Chicago, 1980. P. 18.
Haskell Fr. The Manufacture of the Past in the Ninetcenth-Century-Painting // Past
and Present 1971, 53. P. 109-120.
16 Kolakowski L Chretiens sans Eglisc P, 1969.
17 Sahlins M Historical Metaphors and Mythical Realities. Ann Arbor, 1981. P. 9.
18 Trompf G W. The Idea of Historical Recurrence in Western Thought from Antiquit>
to the Reformation. Berkeley, 1979.
19 Hanson R PC Allegory and Event. 1959. P. 13; Cp.: Charity A.C. Events and then
Afterlife. Cambridge, 1966: DanielouJ Saci amentum futuri. P. 1950. Pepin ./. My the
ct allegoric. P . 1958
Auerhac h /:' Figura и Auerbach E Scenes from the Drama of European Literatuie
N Y. 1959
64
21 Gilbert М.Е. Carolus Stuardus // German Life and Letters 1950, 3; Powell U The
Two Versions of Andreas Griphius’s Carolus Stuardus // German Life and Letters 1952,
5.
22 Roston M Biblical Drama in England. 1968. P. 69.
23 Nichols S.G. Romanesque Signs. New Haven, 1983.
24 Knowles D. Archbishop Thomas Becket // Proceedings of British Academy 1949.
P. 35.
25 Treitinger O. Die Ostromische Kaiser- und Reichsidee. Darmstadt, 1956. S. 130.
26 Tanner M. The Last Descendants of Aeneas: The Hapsburgs and Mythic Image of
the Emperor. New Haven, 1993. P. 37.
27 Reeves M. Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A Study of Joachimism.
Oxford, 1969.
28 Chastel A. French Renaissance Art in a European Context // Sixteenth-Century
Journal 1981, 12. P. 77-102.
29 Stinger C. The Renaissance in Rome. Bloomington, 1985. P. 216-221.
30 Brading D. The First America. Cambridge, 1991. P. 116, 122, 297.
31 Foliott S. Exemplarity and Gender //The Rhetorics of Life-Writing in Early Modern
Europe. Ann Arbor, 1995. P. 321-340.
32 Yates F. Queen Elizabeth as Astraea// Yates F. Astraea. L., 1975. P. 29-87.
33 Wortman R.S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in the Russian Monarchy.
Princeton, 1995. P. 97-121.
34 Warner M. Joan of Arc. L., 1981; Bouwsma W. Concordia Mundi: The Career and
Thought of Guillaume Postel. Cambridge (Mass.), 1957.
35 Reeves. M. Op. cit. P. 355 etc.; Weinstein D Savonarola and Florence. Prophecy
and Patriotism in the Renaissance. Princeton, 1970.
36 Nichols. S.G. Op. cit.
37 Weinstein D. Op. cit.
38 Hammer W. The Concept of the New or Second Rome in the Middle Ages //
Speculum 1944, 19. P. 50-62; относительно Трира cm.: Tanner M. Op. cit. P. 82.
39 Цит. no: Hyde J.K. Padua in the Age of Dante. Manchester, 1966. P. 298.
40 Chambers D. The Imperial Age of Venice. L., 1971, ch. 1; Marx B. Venezia —
Altera Roma? // Centro Tedcsco di studi veneziani, Quaderni 1978, 10.
41 Canal V.L. Nueva Roma: mitologia у humanismo en el renacimiento sevillano.
Sevilla, 1979.
42 Schaeder H. Moskau das dritte Rom. 1929.
43 Watchel N. The Vision of the Vanquished. Hassacks, 1977. P. 44.
44 Strayer J. France: the Holy Land, the Chosen People and the Most Christian King
// Rabb T. and Seigel J. Action and Conviction in Early Modern Europe. Princeton,
1969. P. 3-16.
45 Haller W. The Elect Nation. L., 1963.; Groenhuis G. The Dutch Republic as the
New Israel // Church and State since the Reformation. The Hague, 1981. P. 118-133;
Schama S. Op. cit; Tuveson E. Redeemer Nation. Chicago, 1968.
46 Burdach K. Reformation, Renaissance, Humanismus. B., 1918; Borinski K. Die
Weltwiedergeburtsidee. Munchen, 1919.
47 Firth K.R. The Apocalyptic Tradition in Reformation Britain. Oxford, 1979.
48 Schbnstddf H-J. Antichrist. Welthcilsgcschchen und Gotteswcrkzcug. Wiesbaden,
1978, S. 89 ff, 200 ff, 254 ff.
49 Joutard Ph. La Sainte-Barthelemy: ou les resonances d’un massacre. Neuchatel,
1976.
,0 Salmon J И M. The French Wars in English Political Thought. Oxford, 1959.
4 /wicker S Politics and Language in Dryden’s Poetry. Princeton, 1984.
'2 Hazard P The European Mind 1680-1715. L.. 1947: Willey В The Seventeenth-
Century Background L.. 1934
'' Nuolson M The Breaking of the Circle Evaibon. 1950 P 108. cp Гот anil \J
3 Зак.3029
65
The Order of Things. L., 1970; Harris V Allegory to Analogy // Philological Quatcrl)
1966, 45.
5-4 Burke P. The Rise of Literal-Mindedness // Common Knowledge 1993, 2. P. 1 OS-
121.
Reedy G. Mystical Politics // Studies in Change. L. 1972; Bredvold L The
Intellectual Milieu of John Dryden. Michigan, 1934.
56 Gibbs G.C. Some Intellectual and Political Influences of the Huguenot emigres in
the United Provinces // Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden 1975, 90.
57 Schone A. Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock. Munchen, 1964; Gordon
DJ. Ripa’s Fate // Gordon D.J. Renaissance Imagination. Berkeley, 1975. P. 51-74,
Paulson R. Emblem and Expression. L., 1975.
58 Meinecke Fr. Historismus. 1936 (Engl, transl. L., 1972.)
59 White H. Metahistory. Baltimor, 1973.
60 Burrow J. A Liberal Descent: Victorian Historians and the English Past. Cambridge.
1981. P. 221.
61 Buckeley A. We’re trying to find our identity: uses of history among Ulster
Protestants // History and Ethnicity. N.Y., 1989. P. 183-197.
62 Sahlins M. Island of History. Chicago, 1985. Cp: Obeyesekere G. The Apotheosis
of Captain Cook. Princeton, 1992.
Перевод с английского М.Ю. Парамоновой
Элизабет Вестергорд (Орхус)
Родство против договора.
Германский героический эпос глазами
исторического антрополога*
«Смерть — момент, когда герой переходит в мир
славы, ибо только со смертью он достигает
завершенности и только слава останется после
него. Но в этом «только» — все: слава — главная
ценность в героической этике».
Л.Я. Гуревич1
Анализируя германскую «Песнь о Нибелунгах» и древнескан¬
динавскую поэтическую «Эдду», я ставлю своей целью обна¬
ружить в эпосе отражение общественных отношений и со¬
средотачиваю свое внимание на ситуациях конфликта, в
которых, при одновременном существовании нескольких типов
сплачивающих связей, выявляются доминирующие и менее значимые
узы солидарности.
Среди персонажей эпических сказаний о Вёльсунгах и Нибелунгах
образ Гудрун-Кримхильды привлекает особое внимание большинства
исследователей. Она вступает в действие нежной юной девушкой, не про¬
являющей особенной жизненной инициативы. Она хороша собой, но ее
красота, этот прекрасный атрибут, не представляет собой ничего из ряда
вон выходящего. Однако в более зрелом возрасте в цикле о Вёльсунгах
Гудрун скармливает мужу своих сыновей, а в «Песни о Нибелунгах»
Кримхильда добивается смерти братьев и собственноручно обезглавли¬
вает родного дядю. Такое развитие характера эпической героини заинт¬
риговывает и вызывает множество вопросов, а потому — и множество
интерпретаций. Сошла ли она с ума или просто изначально была жесто¬
кой? Была ли месть в «Песни о Нибелунгах» и в самом деле местью за
убийство ее первого мужа, или поступки Кримхильды были вызваны
‘ Это великая честь — внести свой вклад в сборник, подготовленный к юбилею
А. Я. Гуревича. Его «археология сознания» человека средневековья и его посто¬
янный акцент на том. что для понимания общества изучение его институтов дол¬
жно быть неразрывно связано с изучением системы ценностей этого общества,
позволили медиевистам лучше осознать особенности ценностных ориентаций и
миропонимания средневекового человека — Э. В
67
желанием завладеть сокровищем? Можно ли восхищаться ее поступками '
Можно ли вообще отыскать в ее действиях какую-либо логику?
В изучении образа Гудрун центральной темой выступает приготовле¬
ние ею трапезы из мяса собственных детей. Некоторые исследователи
отказываются признать этот эпизод исконно скандинавским мотивом,
считая его слишком жестоким и чужеродным скандинавскому сознанию.
Источник этого мотива усматривают в греческой мифологии. Так, в кос¬
могонических мифах Хронос пожирает своих сыновей. Тантал, дабы ис¬
пытать мудрость богов, подает им обед, приготовленный из мяса соб¬
ственного сына Пелопса. Потомок Тантала, Атрей в борьбе за царскую
власть со своим братом Фиестом угощает того кушаньем из мяса его сы¬
новей. Жена Терея Прокна и ее сестра Филомела готовят Терею трапезу
из плоти сына Терея и Прокны и таким образом мстят Терею за насилие
над золовкой.
Атреева трапеза считается наиболее вероятным источником для цик¬
ла о Вёльсунгах. Ян де Фрис2 отмечает это в своих комментариях к «Грен¬
ландской Песни об Атли», утверждая, что мотив подобной жестокости не
характерен для эддической поэзии. В то же время он делает оговорку на¬
счет трудности доказательства греческого влияния на древнескандинав¬
скую героическую поэзию. У. Дронке не отрицает возможности того, что
описание трапезы, приготовленной Прокной Терею, послужило источ¬
ником для «Гренландской Песни об Атли» и даже предлагает объяснение
того, как этот мотив перекочевал на Север. Начиная с VI в.* бургунды
привечали галло-римлян в качестве королевских советников, поэтов и
епископов, поэтому «влияние классических традиций на германский эпос
не может вызывать удивления»3. Г. Кун отвергает идею о греческом вли¬
янии и предполагает, что в данном случае в скандинавском героическом
эпосе перед нами хорошо известный фольклорный сказочный мотив съе¬
денного сердца, das Herzmaere\ Другие исследователи и вовсе не видят
причин сомневаться в скандинавском происхождении этих каннибалис-
тических эпизодов: «Убийство и поедание детей наглядно демонстриру¬
ет дух викингского барокко», — пишет Г. Шнайдер3.
Но не только этот мотив подвергся тщательному рассмотрению иссле¬
дователями. Деяния и личность Гудрун-Кримхильды вообще вызвали
множество комментариев. Как считает Р.Г. Финч, ее смерть «представ¬
ляется подобающим итогом каждой из ее ролей |т.е. Гудрун и Кримхиль¬
ды], ибо в обеих ролях ... ее поведение чудовищно»6. У. Дронке сосредо¬
тачивает внимание не столько на поступке Гудрун, сколько на ес
затаенной, подавленной скорби: «За ужасающим поступком следуют сло¬
ва любовной гордости и нежности. Налицо сравнение того, что было, с
тем, что есть. Если бы не эта человечность скорби, история «Гренландс¬
кой Песни об Атли» была бы тошнотворной в своей жестокости, ...ужа¬
сающий поступок становится трагичным только благодаря сопровожда¬
ющей его скорби»7.
А М. Ларсен полон восхищения: «Жестокость показана безжалостном,
симпатия — на стороне своевольного и сильного. Личности в «Греплаи-
* Так \ автора - С ост.
68
декой Песни об Атли» героичны ... псе развивается трагически и вызы-
нает у нас восхищение».
Когда исследователи фокусируют свое внимание на родственных
связях эпических героев, их интерпретации, как правило, лучше согла¬
суются друг с другом. Дабы унизить Атли как отца и короля, Гудрун
«приносит в жертву плоть от плоти своей во имя Мести», — говорит
У. Дронке8. М. Ларсен противопоставляет силу родственных связей
слабости брачных уз: «Несомненно, Гудрун, в ее умонастроении, спо¬
собна предупредить своих братьев об опасности и отомстить за них
после свершившейся катастрофы. Для нее они — ее родичи, а не убий¬
цы Сигурда»4.
В своей книге о Брюнхильде Т.М. Андерссон пишет, что, за исклю¬
чением действий Брюнхильды «... в поступках всех остальных героев от¬
ражаются не характеры, но этика социума. Гудрун мстит за своих брать¬
ев, Кримхильда мстит за своего мужа»10.
М.И. Стеблин-Каменский в своих «Валькириях и героях» определяет
Гудрун как «героическую мстительницу»: «... Никто не может мстить соб¬
ственным братьям! Но, что примечательно, Гудрун достигает высот траги¬
ческого героизма в мщении за своих братьев. Ибо чем больших жертв тре¬
бует месть, тем она героичнее. Месть Гудрун за братьев, несомненно,
представлялась непревзойденным героическим деянием»11.
Хотя у Кримхильды было двое сыновей, один от Зигфрида, другой от
Этцеля, «Песнь о Нибелунгах» не придает особого значения ее взаимоот¬
ношениям с сыновьями. Это обстоятельство вызвало недоумение некото¬
рых исследователей. В. Хоффман и Б. Нагель пишут: «Поистине очевид¬
но, что материнство Кримхильды остается чисто биологическим фактом:
никакие узы близости не связывают ее с сыном от Зигфрида»12. X. де Боор
возражает: «Кримхильда не выступает в роли матери потому, что поэту не
требовалось изображать ее в такой роли»1’.
В исследованиях образа Кримхильды центральную роль часто играет
тема сокровища. Вновь и вновь обсуждается вопрос о том, что побужда¬
ло Кримхильду к действию, желание завладеть сокровищем или стрем¬
ление отомстить за Зигфрида, и какой из двух мотивов древнее. Р.Г. Финч
полагает, что первоначально Кримхильдой руководила алчность, и лишь
позднее возникает тема мести. «Заманчива мысль, что сформировав¬
шийся в позднем средневековье интерес к проявлениям любви и страс¬
ти, который получил столь заметное выражение в немецкой литературе
с конца XII в., был если не достаточной причиной для выступления
Кримхильды в этой новой роли, то, по крайней мере, одной из причин,
создавших новый момент — желание отомстить убийцам ее теперь обо¬
жаемого мужа», — пишет онм. В. Шрёдер подчиняет тему сокровища
идее мести, усматривая важность «золота Рейна» не в богатстве, а в его
символической ценности для Кримхильды. Следовательно, как постоян¬
но подчеркивает Шрёдер, мотив сокровища неотделим от мотива мести.
Важная тема, занимающая исследователей, — честь. X. де Боор пи¬
шет, что стремление Кримхильды к овладению сокровищем — это ско¬
рее вопрос чести, нежели алчности1'. — чести, пользующейся право¬
вой защитой. Когда Хаген лишил Кримхильду сокровища, а ее братья
69
не вмешались, это было преступлением закона и означало потерю че¬
сти. Неприкрытое воровство отняло у нее собственность, и ее ближай¬
шие родственники — единственные, кто мог восстановить ее честь, —
позволили этому случиться16. Положение усугубляется еще и тем, что
брат Кримхильды Гунтер — король, а значит, гарант права. Стремле¬
ние отомстить за мужа является в то же время попыткой восстановить
свою поруганную честь, и эта двойная цель превращает Кримхильду в
«идеальную мстительницу, чьи действия приводят к ужаснейшим
последствиям»17. Ж. Фурке соглашается с мнением X. де Боора, счи¬
тая наиболее трагичным отсутствие справедливости по отношению к
жестоко оскорбленной женщине, которая из-за этого теряет право на
уважение, утрачивает честь18.
Число исследований, посвященных личности Кримхильды, очень ве¬
лико. Ограничимся упоминанием лишь некоторых из них. X. Кун утвер¬
ждает, что автор «Песни о Нибелунгах» считал месть за Зигфрида не толь¬
ко правом, но и долгом Кримхильды. Впрочем, в своем мщении она
зашла слишком далеко: «Дьявол вдохновлял ее, и она сама превратилась
в дьявола, стала «бесчеловечной сестрой», «нелюдью» и «дьяволом». Еще
более заостряет это определение В. Хоффман, который находит, что к
моменту финальной стычки с Хагеном эта некогда любящая девушка и
жена превратилась в «бесчеловечного врага, не похожего на женщину»19.
В противоположность Хоффману, Ф. Дрегер истолковывает финальную
словесную перебранку и последовавшее за ней обезглавливание Хагена
как эпизод, более всего подчеркивающий именно женскую природу ге¬
роини20.
Как явствует из этого краткого обзора литературы, толкования обра¬
за Гудрун-Кримхильды на редкость многообразны. Гудрун в глазах иссле¬
дователей — чудовище; трагическая героиня или героическая мститель¬
ница, побуждаемая скорее долгом и необходимостью, нежели любовью;
наконец, это героиня, вызывающая восхищение. Кримхильда — нику¬
дышная мать, алчная, дьяволица, не женщина, даже не человек. Но она
также — трагическая героиня, утратившая мужа и честь, примерная мсти¬
тельница.
Т.М. Андерссон усматривает в действиях обеих, и Гудрун, и Крим¬
хильды, отражение этики социума. Он не развивает эту мысль, по¬
скольку ему важно лишь подчеркнуть уникальность характера Брюн-
хильды, по его утверждению, поставившей себя вне рамок
нормативной этики. В этом контексте его восприятие Гудрун и Крим¬
хильды негативно: они не преступают кодекс социума. Я не могу со¬
гласиться с тем, что Брюнхильда в этом отношении отличается от ос¬
тальных, но акцент на связи между поступками и современной им
общественной этикой очень важен.
70
Поэтическая Эдца и Гудрун
Образ Гудрун, возникающий при сопоставлении песней, составляющих
Эдду, нельзя назвать цельным и недвусмысленным.
В «Отрывке Песни о Сигурде» и в «Первой Песни о Гудрун» Гуд¬
рун проклинает Гуннара, когда погибает Сигурд. Во «Второй Песни о
Гудрун» она желает смерти Хёгни, а в «Краткой Песни о Сигурде»
Брюнхильда предсказывает, что Гудрун простит своим братьям все со¬
вершенное против нее. В «Первой Песни о Гудрун» Гудрун так раздав¬
лена горем, что даже не может плакать, несмотря на то, что много знат¬
ных женщин собрались помочь ей оплакать мужа. Только когда
Гулльранд сдернула покров с лица Сигурда и приказала Гудрун поце¬
ловать его, та обрела способность выразить свою скорбь. В «Краткой
Песни о Сигурде» Гудрун начинает плакать сразу, а во «Второй Песни
о Гудрун» она заплакала, впервые услышав о смерти Сигурда, но не
пролила и слезинки во время последующих бдений, сидя во дворе под¬
ле того, что волки оставили от тела Сигурда, и желая собственной ско¬
рой смерти.
Относительно второго брака Гудрун «Краткая Песнь о Сигурде» сооб¬
щает, что она не горела желанием выйти замуж за Атли; из «Убийства
Нифлунгов» явствует, что она согласилась на это не раньше, чем выпила
напиток забвения. Во «Второй Песни о Гудрун» говорится, что Грим-
хильд, матери Гудрун, пришлось прибегнуть к угрозам и посулам, чтобы
заставить ее выпить напиток забвения и выйти замуж за Атли. Брак ока¬
зался неудачным. Напротив, в «Третьей Песни о Гудрун» Гудрун беспо¬
коится, почему печален Атли, и побуждает его чаще приходить к ней на
ложе — и это после того как Атли убил ее братьев! — и, кажется, Атли тоже
не безразличен к ней. Из «Гренландской Песни об Атли» также следует,
что этот брак был счастливым во всех отношениях. Но «Гренландские
Речи Атли» вновь описывают несчастный брак непрерывно ссорящихся
Гудрун и Атли, отравляющих друг другу жизнь взаимными попреками.
«Подстрекательство Гудрун» тоже сообщает о неудачном браке.
Даже относительно мести Гудрун есть разногласия. «Убийство Ниф¬
лунгов» рассказывает, что Гудрун молила своих сыновей уговорить отца
пощадить жизнь ее братьев, но дети ей отказали. В «Гренландской Пес¬
ни об Атли» Гудрун безуспешно предупреждает своих братьев и остается
в зале во время битвы и их убийства. Героиня убивает своих сыновей и
скармливает их Атли. Открыв ему правду, она убивает и его и раздает зо¬
лото Атли всем присутствующим, перед тем как поджечь дом и погубить
всех в огне.
«Гренландские Речи Атли» представляют историю иначе. Не сумев
предупредить братьев заранее и отговорить их и Атли от битвы, Гудрун
присоединяется к сражающимся и ожесточенно бьется. Она открывает
Атли, что он пожрал сердца своих сыновей, и позднее убивает его с по¬
мощью племянника, сына Хёгни.
71
«Гренландская Песнь об Атли»
и «Гренландские Речи Атли»
«Гренландская Песнь об Атли» — одна из старейших эддических песней,
восходящая, быть может, к до-викингским временам, по крайней мере,
к периоду не позднее второй половины IX в. «Гренландские Речи Атли»
приблизительно на триста лет моложе: они датируются концом XII в.
«Песнь об Атли» и «Речи Атли» описывают тот же ряд событий, начиная
с прибытия гонца Атли в пиршественную залу Гьюкунгов и кончая тем,
что Гудрун жаждет смерти после того, как она убила Атли. Вместе с тем,
оба эти повествования очень разнятся по объему и по языку. По-разно¬
му разработаны душераздирающие подробности, различны описания бра¬
ка Гудрун и Атли, роль Гудрун в сражении; различен социальный статус
тех, кто затронут ее мщением и т.д.
Но, хотя эти повествования расходятся в деталях, в своей основной
структуре они сходны и представляют скорее вариации одной и той же
базовой структуры, нежели трансформации таковой, влекущие за собой
структурные изменения основополагающих отношений между персона¬
жами.
В этом смысле показательна история о том, как было вырезано серд¬
це Хёгни. В «Гренландской Песни об Атли» Атли приказывает вырезать
сердце Хёгни с тем, чтобы заставить Гуннара признаться, где спрятано
сокровище. Атли надеется, что Гуннар захочет спасти свою жизнь, одна¬
ко Гуннар одерживает верх над Атли, ибо после смерти Хёгни он — един¬
ственный, кто знает, где находится сокровище.
В «Гренландских Речах Атли» этот эпизод никак не связан с сокрови¬
щем. Не обогащение является целью Атли; он стремится как можно силь¬
нее ранить чувства Гудрун. Этот эпизод — часть ожесточенной супружес¬
кой войны. Но для нас наиболее важно то, что здесь и речи нет о
структурных изменениях в сюжете и во взаимоотношениях героев.
Другие примеры: в одном случае Гудрун принимает активное участие
в битве, во втором она пассивно остается в стороне. Или еще: в одном
повествовании Гудрун мстит в одиночку, причем месть затрагивает не
только ее сыновей и мужа: она уничтожает весь клан, людей и богатства
Атли; в другом Гудрун убивает сыновей и с помощью племянника уби¬
вает своего мужа, но не его родственников или людей.
Перечисляя внутренние расхождения и вариации в рамках корпуса
преданий о Вёльсунгах в «Старшей (Поэтической) Эдде», я стремилась
показать, что, хотя в них есть и другие, даже большие различия (так, лич¬
ность Гудрун радикально изменяется от «Песни» к «Речам»), они не зат¬
рагивают основной структуры изображения, а именно: в конфликтных
ситуациях наиболее значимыми оказываются связи кровного родства. В
этом отношении трансформаций не происходит.
Сказанное не умаляет значимости различий, о которых шла речь
выше. Однако в том, что касается межличностных отношений и отно¬
шений между личностью и инсги гутами, гетерогенные предания о Вёль¬
сунгах «Старшей Эллы» представляют собоп гомогенное целое, которое
72
может быть противопоставлено «Песни о Нибелунгах». Такой подход
дает возможность увидеть две внутренне связанные традиции изображе¬
ния, несмотря на вариации в поведении, действиях и мотивах действу¬
ющих лиц и безотносительно к возрасту различных героических эдди-
ческих песней. Не всякие различия значимы. Должны быть найдены
такие различия, которые трансформировали бы систему согласованных
отношений между людьми в совершенно иную структуру.
Сестра и жена
У А.Я. Гуревича есть блестящее и детальное сравнение тех мотивов «Грен¬
ландской Песни об Атли» и «Гренландских Речей Атли», которые каса¬
ются образа Гуннара21. Мы же сконцентрируем свое внимание на Гудрун,
сестре Гуннара.
В обществе эпохи эпических преданий цель брака не ограничивалась
узаконением любви двух индивидов. Брак был договором, объединявшим
не только двух отдельных людей, но и две родственные группы, а также
привязывавшим потомство к определенному роду, что обеспечивало де¬
тям социальное признание. Такие функции брака отодвигают вопрос о
наличии любви между супругами на второй план. Во времена Гудрун-
Кримхильды связанные с браком обязательства представляются более
важными, чем личные чувства.
Заключив брак с Атли, Гудрун принимает на себя обязательство быть
верной и лояльной по отношению к нему и рожать ему детей. Таков ее
долг, и она честно исполняет его — как в преданиях, описывающих ее
брак счастливым, так и в тех, где он представлен неудачным. Поэтому
Гудрун не теряется в поисках ответа, когда Атли взывает к этому долгу в
«Гренландских Речах Атли».
Супружеская солидарность Гудрун навсегда осталась бы непоколеби¬
мой, если бы однажды не возникло еще более сильное требование кров¬
ной солидарности. Завязка и «Песни об Атли», и «Речей Атли» основы¬
вается на двойственной роли Гудрун. Она совмещает роли сестры
Нифлунгов и жены Атли, но только до тех пор, пока — в «Речах» — не
присоединяется к братьям в сражении, и — в «Песни» — не признается,
что убила детей, рожденных ею от Атли, и устроила ему трапезу из их
мяса. С этих пор она только сестра.
Поскольку в древней Скандинавии брак был договором, связывавшим
двух индивидов и две родственные группы, родственные взаимоотноше¬
ния между Гудрун и Атли, а также между Атли и братьями Гудрун можно
назвать договорными. Убив своих договорных родственников, Атли по¬
сягнул на патрилинейную родовую группу Гудрун. Месть Гудрун нано¬
сит удар по самым основам отношений солидарности, связывающих Атли
с его родом. В «Гренландских Речах Атли» она присоединяется к брать¬
ям. убивает одного из людей Атли, отрубает ступню брату Атли и. в кон¬
це концов, угощает мужа плотью п\ дегей В «Гренландской Песни об
Лит» она сначала убивает сыновей, раздает золото Атли, убивает его еа-
мого и, наконец, устраивает пожар, в котором гибнут родственники и
челядь Атли. Описание ее действий доказывает, что в этом мире отноше¬
ния родства по договору уступают отношениям кровного родства. Убий¬
ство ею собственных детей обнаруживает, что среди родственников по
крови именно патрилинейные связи образуют сильнейшие узы солидар¬
ности. Материнский статус Гудрун отступает перед тем, что ее сыновья
принадлежат к самой сокровенной части патрилинейной группы Атли.
Поэтому в глазах Гудрун убийство мальчиков оказывается наиболее оче¬
видным и действенным средством отомстить за своих братьев. Она уни¬
жает Атли как отца и как короля. В эпических сказаниях поступки Гуд¬
рун выглядят как логическое следствие действий Атли. И убийство
детей — тоже логичное действие. Мое мнение о том, что в ситуациях
столкновения обязательств интересы патрилинейной родственной груп¬
пы должны доминировать, подкрепляется тем, что в «Речах Атли» и в
«Саге о Вёльсунгах» в осуществление мести вовлечен племянник Гудрун,
сын ее брата Хёгни.
Неизбежная обязанность мстить за братьев — обязанность столь важ¬
ная, что она перевешивает все личные привязанности и эмоции, — ис¬
точник трагических событий, отраженных в преданиях. Социальное и
этическое устройство мира, в котором живет Гудрун, таково, что у нее не
остается другого выхода, кроме убийства своих сыновей.
По сравнению со скандинавским циклом о Вёльсунгах, характерной
чертой германской «Песни о Нибелунгах» является уменьшение значи¬
мости кровного родства по сравнению с договорными отношениями.
Здесь в ситуациях конфликта солидарность между супругами оказывает¬
ся сильнее солидарности между братьями и сестрой. Отношения между
сеньором и вассалом, являющиеся договорными, также оказываются
сильнее родственных отношений между теми же людьми. Большинство
могущественных вассалов, окружающих германца Гунтера, — его род¬
ственники, но брачные узы, а также связь вассала с господином, пред¬
ставляются более весомыми, чем узы родства.
Отношения родства все же немаловажны в «Песни о Нибелунгах». В
случаях, когда подчеркиваются тесные отношения между людьми, часто
употребляются такие слова, как «друг» (friund), «дядя» (oheim), «свояк»
(mag), «брат» (bruder). Но в конфликтных ситуациях человек выбирает, на
чью сторону встать, в соответствии с договорными связями, и замыслы
против чьих-то союзников направлены не на родичей недруга, а на его
договорных партнеров.
Кримхильда остается в Вормсе после гибели Зигфрида, несмотря на
то, что она знает о причастности своих братьев к его убийству. Зигмунд,
отец Зигфрида, уговаривает ее вернуться вместе с ним в Ксантен, его ко¬
ролевство, но Кримхильда отказывается. Несмотря на скорбь и явное
желание отомстить за мужа, она, на этой ранней стадии грядущей траге¬
дии, предпочитает остаться со своей патрилинейной родственной груп¬
пой в качестве вдовы, но не стать правящей королевой в стране ее погиб¬
шего мужа, его семьи и ее собственного сына. Сына она доверяет его дед\
Зигмунду, т.е. сын остается со своей патрилинейной семьей, а мать — со
своей. В состоянии скорби Кримхильда нуждается в любви своей матери
74
и братьей. Таким образом, родственные отношения в мире «Песни о
Нибелунгах» также представляют огромную важность, но только в тех
случаях, когда это касается частных вопросов.
В «Гренландской Песни об Атли» и в «Гренландских Речах Атли» то,
что Гудрун убила своих сыновей, давало важный ключ к пониманию ос¬
новополагающих отношений солидарности. В реакции Кримхильды на
события и в ее выборе отношений солидарности — ключ к пониманию
того, какой тип сплачивающих уз значим для мира «Песни о Нибелун¬
гах». У Кримхильды двое сыновей, один от Зигфрида и один от Этцеля,
но меньше всего она предстает матерью, и сыновья не играют заметной
роли в «Песни о Нибелунгах». Окружающие заставляют Кримхильду вы¬
ступить в ролях сестры, жены и врага.
Патрилинейные связи между индивидами были основой формирова¬
ния групп солидарности в «Песни об Атли» и в «Речах Атли». В «Песни о
Нибелунгах» договорные связи являются базой социальной организации;
они и побеждают в ситуациях столкновения обязательств. Драматические
события последней части «Песни о Нибелунгах» иллюстрируют этот те¬
зис.
Убийство Зигфрида в шестнадцатой авентюре приводит к ужасным
событиям тридцать первой — тридцать девятой авентюр. Гудрун горь¬
ко скорбит по поводу убийства Сигурда ее братьями, проклинает их,
но не предпринимает ничего, чтобы отомстить им. Гибель Зигфрида
рождает скорбь и у Кримхильды; она погружается в мысли о мщении.
Из страха возмездия Хаген лишает ее сокровища Нибелунгов, которое
могло бы послужить ей средством приобретения союзников. Позднее,
по тем же соображениям, Хаген пытается предотвратить ее брак с мо¬
гущественным королем Этцелем, но терпит неудачу. В обществе эпо¬
хи складывания цикла о Вёльсунгах опасения Хагена невообразимы.
Здесь, что бы ни случилось, Гудрун останется верной сестрой. В про¬
тивовес этому, в «Песни о Нибелунгах» страх Хагена предполагает ве¬
роятность мести Кримхильды своим собственным родичам. В данном
случае солидарность жены и мужа весомее преданности кровнород¬
ственной группе. Здесь проявляют свою силу узы договорных отноше¬
ний, и яркий пример тому — не только единение Кримхильды с Зиг¬
фридом, но и позиция Хагена, дяди Кримхильды. Хаген — вассал
высшего ранга среди подданных Гунтера; его политическая значимость
и влияние при дворе на деле могли даже превосходить возможности
Гунтера. Для него главный долг в жизни — защита королевской семьи.
Когда его родная племянница Кримхильда оскорбляет Брюнхильду,
супругу Гунтера, его господина, Хаген немедленно наносит Кримхиль-
де тяжелый удар. Он убивает Зигфрида. Его преданность королеве
одерживает верх над его родственными чувствами по отношению к
племяннице.
Часть «Песни о Нибелунгах», в которой обнаруживается перекличка
с «Гренландской Песнью об Атли» и «Гренландскими Речами Атли»,
начинается с двадцать третьей авентюры. Кримхильда уже несколько
чет замужем за Этцелем и живет в стране гуннов. Она предлагает Эт-
аелю пригласить ее вормсскую родню посетить их. Король с радостью
соглашается. Кримхильда гайно наставляет посланцев добиться, что¬
бы Хаген был в числе гостей. Осуществление ее мести, начинающееся
в тридцать первой авентюре, направлено против Хагена, ее дяди по
отцу. Но так же, как в «Песни об Атли» и в «Речах Атли», месть не ог¬
раничивается убийством непосредственного обидчика. Она нацелена
на поражение основных связей солидарности противника, и это пред¬
ставляется самым сильным ударом из всех возможных. Кримхильда
убеждает Блёделя, брата Этцеля, организовать убийство девяти тысяч
слуг, сопровождающих ее семейство, направляющееся к ней в страну
гуннов, и в этой связи она отзывается о своих родственниках как о
врагах.
Для того, чтобы отомстить Хагену, человеку, связанному с ней кров¬
нородственными отношениями, Кримхильда пользуется помощью Блё¬
деля, человека, связанного с ней договорными, здесь — родственными
узами. Актом мести является убийство пажей, которые в этом качестве
связаны со своими господами договорными политическими отношени¬
ями. Подобно тому, как убийство Зигфрида было оскорблением, нанесен¬
ным Кримхильде, убийство слуг стало оскорблением, нанесенным ее бра¬
тьям, и прежде всего — Хагену. В жертву были избраны не они сами, а
их отношения солидарности.
Мстителям удалось убить девять тысяч слуг и двенадцать рыцарей. В
живых остался только Дан кварт. Он идет в пиршественный зал и извеща¬
ет о случившемся Хагена. Хаген поднимает брошенную перчатку, и вновь
удар наносится не действительному виновнику (в данном случае Крим¬
хильде). Хаген обезглавливает вначале Ортлиба, сына Кримхильды и Эт¬
целя, затем наставника ребенка и, наконец, нападает на посланца, принес¬
шего бургундам приглашение. Поддержанный другими вассалами
бургундов и тремя братьями Кримхильды, Хаген устраивает резню, пора¬
жая всех присутствующих на пиру. Этцель был совершенно безвинен и
ничего не знал о заговоре против бургундов. Но поскольку Этцель женат
на Кримхильде, он становится одной из жертв мести Хагена за убитых слуг.
Хаген стремится как можно сильнее уязвить Кримхильду и для выполне¬
ния этого замысла направляет удар против наиболее важного для нее кру¬
га людей, связанных с нею узами солидарности. Этот круг составляют ее
родственники по Этцелю. Он ее муж и в то же время король, что возводит
ее в ранг королевы. Родственные и политические группы солидарности
Кримхильды связаны с Этцелем, и Кримхильда использует эти узы соли¬
дарности в борьбе против своих кровных родственников и их людей. Толь¬
ко Гунтер и Хаген выходят живыми из ожесточенной битвы. Желая заста¬
вить Хагена открыть, где спрятано сокровище Нибелунгов, Кримхильда
приказывает обезглавить Гунтера, но, подобно Атли в «Гренландской Пес¬
ни об Атли», она оказывается обманутой и не узнает о сокровище ничего.
Прежде чем Кримхильда отрубает голову Хагену, они вступают в фи¬
нальный диалог, и здесь бросается в глаза полное отсутствие родствен¬
ной терминологии, которую они когда-то использовали в общении друг
с другом. Он величает ее королевой и говорит о ее братьях, т.е. о своих
племянниках как о своих господах. Договорные родственные и полити¬
ческие отношения явно главенствуют над кровнородственными связями.
76
* * *
Чтобы отомстить за своих братьев. Гудрум убила своих сыновей и мужа.
Чтобы отомстить за мужа, Кримхильда устроила убийство своих братьев
и их людей. Какой из этих поступков более героичен или более чудови¬
щен, решать бессмысленно и малоинтересно. Любопытно то, что изме¬
нившиеся социальные условия породили изменение реакций и трансфор¬
мировали связи солидарности в рамках одних и тех же событий. С этой
точки зрения реакции Гудрун и Кримхильды находятся в структурном
соответствии друг с другом. Значимые факторы остались неизменными.
Обеим героиням приходится делать выбор между разными узами соли¬
дарности, в зависимости от того, какие из них являются наиболее важ¬
ными для них самих и для общества в целом. В обоих случаях выбор па¬
дал на те связи, которые доминировали в социальной организации
данного общества в ситуации столкновения обязательств. Выбор был оп¬
лачен дорогой ценой, но позволил избежать опасности утратить честь.
В этических установках обществ, породивших скандинавскую и сред¬
невековую германскую традиции, понятие чести занимает весьма важное
место. Кодекс чести подразумевает как личную честь индивида, так и
честь, определяющуюся его положением в обществе. В «Гренландских
Речах Атли» Атли просит Гудрун устроить ему подобающие похороны. Он
апеллирует к ее доброте, но также, ссылаясь на свою честь, говорит, что
того требует их общий высокий статус и положение супругов; их личные
чувства друг к другу не имеют значения. Честь индивида, так же, как и
значимость социального статуса, воплощается в договорных обязатель¬
ствах и побуждает вассала сохранять верность своему господину даже
ценой собственной жизни. Честь — существенный элемент всяких отно¬
шений солидарности. Пренебрежение своими обязательствами со сторо¬
ны тех, кто вовлечен в отношения солидарности, ведет к потере чести, а
значит, к социальной смерти человека. Как в цикле о Вёльсунгах, так и в
«Песни о Нибелунгах» забота о чести, связанной с отношениями соли¬
дарности, с неизбежностью ведет к катастрофе, поскольку ни один из
героев, участвующих в событиях, не может уклониться от требований
этики своего общества: это грозит гибелью ему как социальному суще¬
ству.
В своем выборе герои скандинавского и германского эпоса распола¬
гают разными возможностями. В их социуме все находится на своем ме¬
сте и все справедливо. Но их выбор различен, он соответствует осново¬
полагающим отношениям в контексте социальных норм того времени.
Примечания
1 Gurevich A.J. Historical Anthropology of the Middle Ages. Cambridge. 1992. P. 123
2 Vries .1 cie. Altnordische Literaturgeschichte. Bd. I. B., 1941. S. 49-50.
’ Dronke U (cd., transl.). The Poetic Edda. Vol. I. Oxford, 1969. P. 70.
4 Kuhn II Uber nordischc und dcut.schc zenenrewgie in der Nibcluugcndichtiing
// Festschrift zum 70. Gcburtstag \on Felix Gcnzmcr. Heidelberg. 1992 S. 302
77
' Schneider II. Deutsche Heklcnsagc. Bd. 32. B., 1964. S. 29.
h Finch R. G. (ed). The Saga of Volsungs. L„ 1965. P. XXXI.
7 Dronke U. Op. cit. P. 20.
8 Ibid. P. 16, 28.
0 Larsen M. (ed). Den aeldre edda og Eddica Minora. Vol. 2 . Kobenhavn, 1946. S
26
10 Andersson T M. The Legend of Brynhild. Ithaca; London, 1980. P. 244.
11 Steblin-Kamenskij M. 1. Valkyries and Heroes. // Arkiv for Nordisk Filologi. 1982
Vol. 86.
12 Nagel B. Das Nibelungenlied. Stoff, Form, Ethos. Frankfurt a.M., 1970. S. 201.
13 Boor H. de (Hg). Das Nibelungenlied. Nach der Ausgabe von Karl Bartsch.
Wiesbaden, 1972. S. XX.
14 Finch R. G. Op. cit. P. XX.
и Boor H. de. Op. cit. S. IX.
16 Ibid. S. IX, XI, XX.
17 Ibid. S. XX.
18 FourquetJ. Betrachtungen liber das Nibelungenlied // Rupp H. (Hg). Nibelungenlied
und Kudrun. Darmstadt, 1976. S. 307.
19 Hoffmann W. Das Nibelungenlied. Interpretationen. Miinchen, 1974. S. 73.
20 Draeger, F. Das germanische Heldenlied. B., 1961. S. 27.
21 Gurevich A. Op. cit. P. 126.
Перевод с английского E. M. Леменевой
М.Л. Гаспаров (Москва)
«Эцериннда» Альбертино Муссато
Предлагаемый текст — первый русский перевод латинской
трагедии Альбертино Муссато «Эцеринида» (1315 г.), пер¬
вой в новоевропейском театре драмы античного образца.
Она мало известна русским медиевистам: единственная
подробная характеристика ее содержится в известной моно¬
графии М.Л. Андреева.
Эта публицистическая драма — наследница той стихотворной публи¬
цистики, которая культивировалась в Италии больше, чем где-нибудь,
начиная чуть ли не с каролингских времен; публицистические поэмы,
вроде «Лигурина» Гунтера, отмечали почти каждый шаг борьбы между
империей и папством. Но на самом исходе XIII в. перед итальянскими
книжниками мелькнула возможность обновления этой литературной тра¬
диции, и они этой возможностью торопливо воспользовались. А имен¬
но, в монастырских архивах были обнаружены забытые списки трагедий
Сенеки, и эти произведения, несколько веков не привлекавшие внима¬
ния, вдруг стали предметом восторга и подражания — не прекращавше¬
гося уже до времен Шекспира и далее.
Правда, внимание не означало понимания. Представить себе эти
трагедии разыгранными в лицах, хотя бы по образцу литургической
драмы XII—XIII вв., никто еще не решался. «Трагедию» понимали в
лучшем случае как род пантомимы: «В древности театр представлял
собою полукружие, в средине которого находилось строение, называ¬
емое сцена, а в ней помост, на который всходил поэт, как певец, и
произносил свои стихи, как песни; снаружи же стояли мимы, сиречь
скоморохи, и представляли телодвижениями все, о чем говорилось в
стихах; ...так, когда поэт говорил, например, о Юноне, жалующейся на
приблудного сына своего Геркулеса, то мимы во время этого чтения
представляли Юнону, призывающую адских фурий на Геркулеса». Так
писал в XIV в. один из первых комментаторов Данте — того Данте,
который сам свою эпопею назвал «Комедией», и у которого Вергилий
свою «Энеиду» называет «трагедией».
Кровавая драматургия Сенеки должна была поразить итальянских
читателей прежде всего патетическим изображением неистовых тиранов
и тиранств — таких как Атрей млн Нерон в «Октавии». Именно в это вре¬
мя тирания становится обычной формой власти в итальянских городских
79
общинах. Одна из первых тиранических династий Ренессанса, Скалиге-
ри, утвердилась на рубеже XIV в. в Вероне; ее основателем был Кангранде
делла Скала, самый талантливый ломбардский политик своего времени,
союзник Генриха VII и покровитель Данте. Власть его распространялась
на Виченцу, грозила Мантуе и Падуе и вызывала у угрожаемых понятную
ненависть. Она-то и нашла выражение в трагедии падуанского юриста,
ритора, историка и стихотворца Альбертино Муссато.
Муссато родился около 1261 — 1263 гг., был побочным сыном знатного
нобиля, но всю жизнь числился в плебейском сословии. Получив юри¬
дическое образование, он стал нотарием, состоял в городском совете,
участвовал в ответственных посольствах, сражался в междоусобных вой¬
нах, два года провел в веронском плену у Кангранде. Под впечатлением
этих жизненных испытаний он и взялся за перо. Главным его сочинени¬
ем стала история современности — «Августейшая история» в 16 книгах о
походе Генриха VII в Италию в 1310—1313 гг. и продолжение ее — «Ис¬
тория дел италийских после Генриха» в 15 книгах о событиях 1313—
1321 гг., обе написанные торопливо и беспорядочно, но в лучшем ливи-
анском стиле. Однако главную славу снискал он трагедией «Эцеринида».
которую он предложил вниманию сограждан в 1315 г.
Успех Муссато во многом объяснялся его темой. Он изложил в дек¬
ламационно-драматической форме историю возвышения и падения
Эццелино III да Романо (1194—1259 гг.), который был правителем Верон¬
ской марки, грозой всей Ломбардии и правой рукой императора-еретика
Фридриха II Гогенштауфена, — все эти приметы живо напоминали паду¬
анцам об их современнике и соседе Кангранде. Эццелино был человеком
исключительной даже для своего времени жестокости (в трагедии он ока¬
зывается сыном дьявола не в переносном, а в прямом смысле), и дела его
были благодарным материалом для кровожадных монологов протагони¬
ста, возвышенных обличений антагониста (в качестве которого выведен
францисканский проповедник Лука Беллуди, лицо историческое) и па¬
тетических ламентаций хора. Место действия остается неопределенным,
время действия охватывает почти 40 лет: в 1223 г. Эццелино наследовал
своему отцу в Виченце (а брат его в Тревизо), в 1227 г. овладел Вероной,
в 1237 г. — Падуей, в 1256 г. встретился с крестовым походом, органи¬
зованным против него папой и Венецией, потерял Падую, но отстоял
Верону, в 1259 г. пошел на Милан, но был разбит при Бассано (Баксане)
и умер в плену от раны, а через год, в 1260 г., в замке Сан Дзено был зах¬
вачен и убит и его брат. Обо всем этом Муссато мог знать по свежим вос¬
поминаниям своего отца и его сверстников.
За «Эцериниду» Муссато был по постановлению городского совета Па¬
дуи увенчан плющом и миртом, трагедию было велено читать всенародно
каждый год на Рождество, два лучших падуанских ритора, Гвиццардо и Ка¬
стеллано должны были срочно написать пространный комментарий к ново¬
му классику; выдержки из этого комментария приводятся в сносках ниже
Но Альбертино не удалась мирная лауреатская старость: в Падуе и вокруг нее
возобновились раздоры, в 1328 г. город захватил Кангранде. Муссато бежал
в венецианскую Кьоджу и умер в 1329 г.
(80
Эцеринида
Лица трагедии: Адельгейта, мать; Эцерин и Альберик, сыновья ее; Зирамон,
<сводный брат их>; брат Лука; Анседисии, <племянник ЭцеринаУ; соратники;
вестник; хор.
<Действие первое>
Адельгейта, Эцерин, Альберик
Адельгейта. — Каких кровавых звезд на небе северном
Державствовала пагуба, сыны мои,
Когда рождала вас на ложе бедственном
Я к слезной доле? Матерь злополучная,
Открою ныне вам отца лукавого:
Грех в этом свете долго не бывает скрыт.
Познайте род ваш и пребудьте верными,
Потомки — предку! Замок есть, от древних лет
Романским нарицаемый, воздвигнутый
На холмных высях; кровля над стропилами 10
Являет югу тот покой надбашенный,
Где ветру, буре и грозе открыт приют.
И там-то Эцерин-родитель некогда
На ложе, в кость оправленном слоновую,
Казался почивающим, а обок с ним,
Простершись, я. О, стыд мне заграждает речь:
Трепещет дух, нахлынул страх и нем язык.
Эцерин. — Отважься, мать: и мощное, и страшное
Нам любо слушать.
Адельгейта. — О, греха преступного
Вид цепенящий! Словно вновь воочию 20
Предстал мне ужас. Хладом обескровлено,
Поникло тело.
Эцерин. — Поддержи бессильную,
Брат Альберик: был страх чреват беспамятством.
Росящей влагой смой с лица ей паморок —
И вновь воспрянет.
Альберик. — Сила в членах прежняя.
Эцерин. — Очнулась?
Адельгейта. — Да, очнулась, первородный мой,
О чьем рожденьи речь моя.
Эцерин. — Не медли же!
Адельгейта. — В час первый ночи, в час, как от трудов земных
Всех равномерно смертных отвлекает сон.
Се вдруг разнесся стон из преисподних недр. 30
Как будто хаос гам разверзся дрогнувший.
И отдал отзвук небосвод возвышенный.
81
И смрад разлился серный в светлом воздухе,
И стекся в тучу. Тут подземной вспышкою
Дом озарился наподобье молнии,
И дымное в опочивальне облако
Дохнуло смрадом, и лежу я, стыдная,
Незнаемым прелюбодеем стиснута.
Эцерин. — Каков он, матерь?
Адельгеита. — Телом, как немалый бык,
Рога кривые над косматым теменем 40
Щетиной колкой грива окаймленная,
Глаза сочатся гноем окровавленным,
Огнь пышет из ноздрей при частом выдохе,
Из губ взлетает пепел изрыгаемый
К ушам открытым; рот, нечистым пламенем
Дыша, извечным жаром лижет бороду;
И, утоливши вожделенье блудное,
Излив в меня Венеру смертоносную,
Он, победитель, из покоя спального
Нисшел сквозь землю, и земля разверзнулась. 50
Тотчас Венера, чревом восприятая,
Во мне взыграла неизбывной жгучестью,
И страшный груз отяготил утробу мне —
Ты, Эцерин, достойный отпрыск отческий!
Клянусь тебе враждебной силой Божией —
Все десять лун, что я брела под бременем,
Мне были плачем, стоном, скорбью, мукою
Борением меж яростью и яростью, —
Чудовищного чая разрешения.
Эцерин. — Какого же?
Адельгеита. — Младенец окровавленный, 60
Со вздутым чревом, с грозным лбом нахмуренным,
Сулил ты смерть, являя злое знаменье.
Но ты, мой Альберик, желаешь явственно
И о себе уведать — и уведаешь,
Коли сама избуду я сомнение,
Кем ты посеян в тело оскверненное.
Со времени преступного деяния
Этнейский жар испламенял мне внутренность, (*)
(*) «Этна есть гора в Сицилии, изрыгающая огонь, и по баснословию пиитическо¬
му, там обретается пасть адова, в ней же обитают демоны. Истинно же то, что
у корня сей горы залегает сера, и ветры, к ней проникающие сквозь жилы земные,
воспламеняют оную».
Лукавый дух томил меня и гнул меня,
И сон для сердца не был избавлением. 70
И вот. в неверном сне иль тщетно бодрствуя —
Не молвлю лжи и не сокрою истины! —
82
Я пился вновь ко мне прелюбодетелем
Виновник тот рожденья Эцеринова.
Эцерин. — Что скажешь, брат мой? Совеститься станешь ли
Такого предка? Божий род отринешь ли?
Мы — чада божьи! Даже корень Ромула
И Рема не толикой славой славится!
Наш больше бог, пространнейшего царства царь,
Правитель казней, по чьему велению 80
И царь, и князь, и вождь за грех свой платятся.
И вправе мы воссесть над ними судьями,
Коли стяжаем для себя наследие
Того, кому угодны в смертном племени
Лесть, ложь, коварство, мука, истребление.
(Так молвив, он нисходит в подземелие
И там, отвергшись света, мглой окутанный,
Простершись ниц, приникнувши челом к земле,
Разит в нее рукой с зубовным скрежетом,
Воззвав к отцу-Деннице страшным голосом:) 90
— Сиявший в небе, но от сфер отринутый
Отец гордыни, ты, в своем владычестве
Объявший хаос, ты, по чьим велениям
Казнятся тени, ты из преисподних недр
Услышь, Вулкан, потомка преклоненного:
К тебе взывает явный сын твой истинный —
Владей же мною, испытай, молю тебя,
Крепка ли воля от тебя взожглась во мне!
Клянусь я злою мутью Стикса черного,
Что отрицаюсь Господа Спасителя, 100
Что ненавижу Крест, всегда мне вражеский!
Да явятся пособницы мне в помыслах —
Алекта грех укажет, Тисифона путь
Откроет, даст Мегера злобе делом стать,
А Персефона осенит свершенное.
И да никто от помощи добычнику
Из духов преисподних не уклонится,
Но вспыхнет гневом, злобою и завистью!
Да будет дан мне меч вершить кровавый долг —
Для судных распрь нет лучшего решителя, 110
Чем тот, чья длань не дрогнет пред злодействами.
Признай же сына, благосклонный Люцифер!
Хор
Что пьянит за безумие
Вас, несчастные смертные?
К каковым восхождениям
Устремляет вас суетность?
Вам алчба застилает взор
83
Перед скользкой опасностью
Возвышения царского:
Ждут вас страхи жестокие,
Смерть, всечасно грозящая, —
Ибо доля тиранов — смерть,
И не менее смерти — страх.
Но к чему убеждения?
Дух наш рвется к владычеству.
Вечно жаждущий большего,
Он вовек не насытится:
Ввысь летят наши помыслы.
О, не вас ли, знатнейшие,
Жжет и зависть, и ненависть,
Понуждая соперничать:
Нестерпимо вам равенство!
И не мы ли, убогие,
Умножаем соблазнами
Преступления знатности?
Одного превозносим мы,
А другого свергаем в прах,
Утверждаем закон и власть,
Чтобы рушить их вновь и вновь.
Наши ковы — на горе нам,
Наша помощь — погибельна,
Мы — опора неверная.
Ваша смерть — под кинжалами,
Но за вами — и мы вослед:
Вы падете, и мы падем.
Так вращается круг судьбы:
Нет ни в чем долговечности.
Не с того ли вскипает брань
И в Тревизской окраине?
Вражьи стяги распущены,
Клич несется со всех сторон,
Гнев пылает и буйствует,
Позабыто спокойствие,
Руки рвутся к оружию:
Мир рождает жестокий грех —
Жилы кровью вздуваются,
Дух влечется в сражения,
Раскрываются умыслы,
Спор железом решается,
Места нет справедливости.
Но идет из Вероны к нам
Вестник с вестью тревожащей.
120
130
140
150
160
84
<Д е й с т в и е второ е>
Вестник, хор
Вестник. — Всевышний Боже, мощно миром правящий.
Ужель отныне в сферы наднебесные
Ты удалился, Марсу предоставивши
Единому владычить на кругах земных?
О, зависть к знатным, о, толпы неистовство!
Конец настал, заслуженный раздорами:
Тиран явился, вашей злостью снисканный.
Ужасное я видел.
Хор. — Так поведай нам 170
Всю связь всех бед, свое лишь убыстренное
Переведя дыханье.
Вестник. — Я скажу сперва,
Что было в прошлом корнем настоящему.
О, нашей кровью вечно обагренная
Верона, давний путь для вхожих недругов,
Гнездо тиранов! (*) сами ли края твои
С") «Гнездо тиранов — ибо и в общей памяти, и по записям всегда была Верона в об¬
ладании тиранов, каковы Альбоин, Теодорик, Беренгарий и иные позднейшие, коим
ныне наследник стал Кангранде с племенем своим».
Войне приютны, род ли человеческий
В такой земле таков рожден природою?
Раздоры граждан черный породили грех,
Когда маркграф, державший власть над Маркою, 180
Азон из Эсте, обманувшись милостью
Народною, извергнут был в изгнание,
Злой хитрости не зная Эцериновой. (*)
(*) «Сей Азон был подеста в Вероне, но изгнан был из города названным Эцерином
Третьим да Романо с пособления Монтекки, вельмож того города. Изгнанный, он
умножил силы помощью Бонифация, графа Сан Бонифации, и с ним и приверженца¬
ми своими напал на Монтекки и Эцерина в двух милях от Вероны, в местности, на¬
зываемой Браида, где было жестокое сражение, и пораженные Монтекки с Эцери¬
ном бежали в крепость среди озера Гарда, однако по милости Фридриха Второго,
короля германского, с заключением мира ворочены были в Верону».
Отселе — распря и погибель общая!
Маркграф изгнанник, гневом вспыхнув праведным.
Приял подспорье графа Бонифация,
Соединяся с ним душой отмстительной, —
И вот Браида стала судным поприщем,
Где грешной бранью поле окровавлено,
И кровью излилася полевая брань. (*) 190
85
(*) «В двух стихах одно и то же сказывается дважды, ятяя риторическую рас -
цветку, называемую комморация, сиречь замедление, когда в важнейшем месте, всю
суть дела заключающем, речь задерживается и возвращается к оному вновь и вновь»
Монтекки, уступившие оружию.
Бежали, преступлением гнетомые,
И скрылись в замке, защищенном озером.
Но битвой не был распре положен конец:
Различны пали от Фортуны жребии.
Вновь встали Эцерин и с силой распренной
К Монтекки Салингверра благодеющий;
А граф с маркграфом, воедине ратуя,
На них к войне кровавой изготовили
Полки народа. О, неверный род людской,
На всякий грех с мечом в руках дерзающий,
Делам не веря ради слов обманчивых!
Хор. — Продолжи повесть, воротись к сказанию —
Не истомляй нас речью остановленной.
Что дальше?
Вестник. — Дальше — из причины следствие.
Причины и начало вам поведаны
Жестокого тиранства. А увидевши,
В каких народ волнуется превратностях,
Стал Эцерин меж всеми сеять ненависть,
Друзей раздорить и, незримо властвуя,
Будить и усыплять волненья людные.
Так вновь и вновь усугубляя бедствие,
Попрал он тайно лучших меж иных мужей,
Единственный оставшись на великое.
Но повторять ли? Так всползло, коварствуя,
Тиранство к власти, так под Эцеринов гнет
Легла Верона выей подъяремною.
Немногих слов довольно мне для новых бед:
Мздой взятая, простерта днесь и Падуя,
Покорствуя тирану; скиптр в руке его,
Надменного наместника империи.
Се Эцерин! О, сколькими погибельми
Грозит он люду! пытки и узилища,
Огнь жгучий, крест распятный, голод, бегство, смерть!
Но благ Господь: и кары, зол достойные,
Всех ранее приемлют заслужившие:
Продажный за продажу получает мзду.
Хор
Господи Христе, Ты. царящий в горних.
Вышнего отца одесную сидя.
Ты ужели столь погружен в услады
200
210
220
230
86
Олимпийских благ, небесам присущих.
Что отводишь взор от низин подзвездных?
К твоему ужель не доносит слуху
Веющий эфир человеков стоны?
Авелева кровь, так взывая к небу,
Обличила грех нечестивца-брата,
И обрушил Бог в справедливом гневе
Пепелящий дождь на Содом с Гоморрой.
Так почто же днесь, о блюститель правды,
Терпеливей Ты ко грехам грешащих? 240
Се воцарено над землей бессильной
Злое тиранство,
Коего вовек не припомнят люди:
Ни бистонский царь с табуном кровавым
Не был столь жесток, ни Прокруст свирепый,
Ни злодей Нерон в извращенном гневе.
Из тюремной тьмы раздаются стоны
Тех, чья стала жизнь повседневной смертью,
И которым смерть, как даритель добрый,
Лишь последний час ускоряет в муках, 250
Трижды желанный.
И народ и чернь преклонили шею,
Словно их ведут, как тельцов обетных,
К алтарям святым на закланье жертвы.
Всякому, кто жив, для жестокой казни
Рад злодей сыскать самовластный повод,
И тревожно бдит, и страша, страшится.
Право естества — под пятой порока,
Благочестный нрав отошел в изгнанье,
Фурия правит. 260
Брат вострит кинжал на погибель брату,
Угодить стремясь самодержцу злому,
И отца влечет на костер горящий
Сын, и сам под ним раздувает пламя.
Но и тем не сыт в преступленьях грешных,
Эцерин, в своем неуемный гневе,
Будущих потомств иссекает корень:
Он мужскую плоть холостит младенцам, (*)
(*) «И поднесь помнят, как видано было, что в одну субботу 42 младенца в пеленах
отъяты были от лона матерей в их темницах и на всенародной площади ослеплены и
холощены, после чего вновь возвращены родительницам, а чтобы каждая своего от иных
отличить могла при возврате, пелены младенцев отмечены были особенными знаками».
Он кормящих жен урезает груди.
Хор невинных уст. говорить не зная. 270
Стонет из пелен о своих увечьях.
И в слепых потьмах тщетно ищет света
87
Света лишенный.
Господи, почто таковую ярость
Ты, долготерпя, не пожжешь ударом?
И почто земля не разверзнет бездну,
Дабы адский мрак поглотил навеки
Змия сущих дней, бич людского рода?
Отче в небеси, твой народ спасенный
Вновь к тебе воззвал из сетей Лукавых. (*) 280
(*) «Метр сего хора — сафический, приятнейший род метра, имеющий начало от
некоторого греческого стихотворца с греческого же острова Сафоса».
<Д е й с т в и е треть е>
Эцерин, Альберик
Эцерин. — По имоверной речи нашей матери
Взошли мы в свет из семени кровавого
Плутона, и ему не в посрамление:
Так, верно, водят судьбы, над которыми
Простер Господь свое к ним попущение,
Да будет всяк свободен волей к действию. (*)
(*) «Здесь касается сочинитель заблуждения тех, кто полагает, будто все свер¬
шалось, свершается и свершаться будет единственно по неизбежности, и так оно
назначено судьбою; но сие, несомненно, ложно, ибо следствия отселе проистекают
неприемлемые, сиречь утеснение свободы воли; однако же сие предоставим прениям
богословов и философов».
Грехи людские рук казнящих требуют —
Почто же мы, людского зла служители,
В столь долгой праздно пребываем лености?
Возьмем под власть и города и области! 290
Уже Верона, Падуя, Виценция
Покорны мне, уже открыт дальнейший путь -
Обещанная ждет меня Ломбардия,
И я ее возьму, но не последнюю:
Удел мой — вся Италия! Но мало мне
И этого: Восток зовет полки мои,
Где древле пал с небес родитель Люцифер
И где не я ли призван небесам отмстить?
О, ни Тифей, ни Энкелад Юпитеру
Вовек таким не угрожали приступом! 300
Оттоле к Югу обращу оружие,
Где полдень пламенеет зноем солнечным.
Альберик. — Будь благ к тебе родитель!
Эцерин. — Благ воистину!
Но молви, брат, в чем суть твои дер тния?
88
Лльберик. — Не скрою. Под пятой моей — Тарвизия,
И будет Фельтр, и к Юлиеву Форуму
Я, двинувшись, согну народы Севера,
Но не насытясь, досягну победами
Трех Галлий (*) и земель окрайных Запада,
(*) «Галлия, носящая космы, носящая тогу и носящая штаны, как назывались сии
1емли в древности».
Где в Океане тонет солнце позднее. 310
Эцерин. — О истинный мой брат, посев великого
Плутона! Пусть же в помощь нам, дерзающим,
Отец, разверзнув землю, хлынет сонмами
Кромешных духов, чьими пособленьями
Мы ринем в Орк без счета душ, без счета тел!
Ступай же, брат мой, злая поросль Дитова,
И грянь притворно на меня с оружием,
Поправши дружбу, мнимым гневом пышучи,
Да многие падут от нашей хитрости
Отселе и оттоле перебежчики, 320
Вотще взыскуя чести в нас и верности. (*)
(*) «И тогда многие бежали из земель одного в земли другого, в надежде, переметнув¬
шись, быть безопасными; братья же, залучая таких перебежчиков во власть свою, из¬
мышляли на них поводы и казнили их».
Эцерин, Зирамон, брат Лука
Эцерин. — Ты, Зирамон?
Зирамон. — Я, господин.
Эцерин. — Поведай же,
Отсечена ли голова Мональдова
И все ль спокойно?
Зирамон. — Голова, отрублена,
Гниет, чужая всем, на людной площади.
Эцерин. — Мятеж безмолвен?
Зирамон. — Ничего не слышится. (*)
(*) «Видя знатные мужи падуанские, что несть конца свирепством оного тирана,
отважились они, когда он однажды занедужил, вступить в сговор о убиении его. В
назначенный день, как шли они к покоям недужного, некоторый верный ему лекарь,
именем Бертольд, а родом тевтон, догадался по видимым знакам об их намерении и
в заботе о спасении Эцериновом вышел им навстречу с таковыми дружескими слова¬
ми, словно сам печась о его погибели: «Зачем, господа мои, путь держите? излишен
труд — человек сей кончается и уже не переживет нынешнего приступа: природа сама
вершит ваше намерение» Поддавшись на слова Бертольдовы, они разошлись: Эцерин
же следующею ночью, обо всем уведав, приказал себя, как некую поклажу, вывезти т
дворца в коробе в безопаснейшее место. И спелись же и тая о том заговоре, в великом
страхе пред вельможа ми. в нем участвовавшими, стал он налагать на них длань свою.
89
не зная меры; а начал от знатного мужа, именем Мональдо из рода //емиццони, быв¬
шего в заговоре первым, и его-mo приказано было обезглавить».
Эцерин. — Победа! о, победа! днесь мечам моим
Здесь все открыто, правое и грешное!
Да сгинут общей гибелью и чернь, и знать,
Да не спасется от клинка разящего 330
Ни пол, ни чин, ни возраст, ни сословие!
Будь широка, дорога избиения,
Разлейся черной скверной, кровь, по площади,
Воздвигнитесь для тел кресты распятные,
Вспылайте, пламена костров, и сукровью
Из-под огня сочитесь, и угарный дым
Ввысь вымчи весть о жертвах, мной сжигаемых.
Лука. — Князь Эцерин, дозволь мне говорить с тобой,
Уверив мановеньем в безопасности. (*)
(*) «Сей святой муж Лука, быв из ордена меньших братьев, сотоварищей блажен¬
нейшего покровителя нашего св. Антония Исповедника, имел от Эцерина особенное
и единственное дозволение приходить к нему и говорить с отвагою, и тиран сие по¬
пускал».
Эцерин. — Сплетай слова.
Лука. — О чем твоя мятежится 340
Душа, о смертный? Человек ты — смертен ты:
Рожденный не избегнет умирания.
Взгляни — увидишь: все блюдет порядок свой,
Земля, вода, и небо, и исчадья их,
Стези не оставляя установленной.
Зимой бела, а летом в листной зелени,
Родит плоды, когда какому срок его,
Земля. Простор воды бушует бурями,
И он же мирно носит корабельщиков.
А в небе круговые пролегли пути, 350
Ось встала между полюсом и полюсом,
И вкруг нее светила по предписанным
Текут законам. Кто же, мощный, движет их?
Всем движитель единый — всемогущий Бог:
Он правой мерой правит все творения,
И сей святой устав зовется правдою,
И эту правду чтить повелевает Бог
Им сотворенным чадам человеческим;
А почитанью оному наставницы -
Любовь, Надежда, Вера, в нас живущие, 360
Врожденные Природой в сердце каждого.
В каких бы ни погряз он заблуждениях.
Так обратись же к оным ликам благости.
Дабы Любовь пощадой стала ближнему.
90
Надежда знала милосердье Божие,
А Вера бы кропила обращенного.
Эцерин. — Дела мои Господь всевышний видит ли?
Лука. — Воистину.
Эцерин. — Разящим громом правит ли?
Лука. — Заведомо.
Эцерин. — Почто же медлит грянуть он?
Лука. — Он ждет, да умирится ярость цепкая,
И длань твоя отпрянет от убийств сама.
Эцерин. — Спасенье ль одного столь многим гибельно?
Ужели Богу я дороже множества?
Лука. — Верь, Эцерин: был Савл дороже Господу,
Отрекшись от грехов своих. Всемилостив,
Бог-искупитель души, им пасомые,
Как добрый пастырь, рад вернуть на правый путь,
И продлевает кающимся жизни срок,
Дабы грехи омыли благочестием.
Эцерин. — Я верю, что Господь меня послал в сей мир
Казнить грехи народа! казни сродные
Не раз им назначались для неправедных,
Грехами заслуживших злые пагубы, —
Град, глад, огнь, мор, потопа хлябь всесветного
В Священном повествуются Писании —
Так и тираны городам назначены,
Дабы в бесчинной и бескрайней лютости
Народ повергнуть под мечи кровавые:
Так Навуходоносор, Фараон, Саул,
Так славный сын Филиппа Македонского,
Так, оным вслед, уже на нашей памяти,
Род Цезарский, над миром к власти призванный
И в счастьи громкий именем Нероновым, —
Кто разочтет, сколь много ими пролито
Невинной крови, море обагровившей
Их волей и веленьем? И Господь с небес
Им попускал, делам их не препятствуя.
Вестник, Эцерин, Анседисий, соратники
Вестник. — Услышь невероятное, но верное:
Сам видел. Не казни за весть правдивую.
Эцерин. — Что ж, расскажи, тщеславец, чем тщеславишься.
Вестник. — От венетийских рубежей в поля твои
Приспела рать изгнанников из Падуи
И из Феррары, сколько их принять могли
Содружественной корабли Венеции,
Легатом предводимых со крестом в руке.
Внезапность предает им все окрестности.
Они у стен, у мосга предворотного.
370
380
390
400
91
Огонь подложен под врата двустворные,
Клубится дым, на башнях нет ни воина,
Отражены и отступают стражники, 410
И Падуя твоя — добыча изгнанных.
Эцерин. — Прочь, лживый раб: будь мзда твоя заслужена —
Лишись ноги за эту весть досадную.
Но вот и Анседисий. Что несешь с собой?
Анседисий. — Потерян город: Падуя в руках врага.
Эцерин. — Потерян с бою?
Анседисий. — С бою.
Эцерин. — Как?
Анседисий. — Огонь и меч
Сильнее городов: они осилили.
Эцерин. — А ты бежал, и телом неизраненным
Себя изобличаешь в преступлении?
Прочь, ибо смерть тебе была бы милостью! 420
А ваша доблесть что гласит, соратники?
Опасность — пробный камень для отважного.
Соратники. — Князь, сильный сердцем, вот твоим желаниям
Совет подобный. Падуанских жителей
Схвати в Вероне и замкни в узилище,
Грозя им смертью, сам же грянь на Падую,
Явись вкруг стен осадной мощью ратников,
Рази дрожащих, не теряй мгновения, —
Страх за своих и перед нашей силою
Смирят мятежных, и победа сбудется: 430
Дерзаньям нашим слава воссопутствует.
Хор
О, сколь тщетен людской промысл грядущего!
Тайной скрыты судеб зыбкие жребии,
Вечный бег колеса в круговращении
Вверх бросает и вниз смертные участи.
Выступает тиран скорою поступью;
Зрит: привычная встарь рабствовать Падуя
Непреклонна к вражде, власти не поддана,
Окружилась стеной, сталью щетинится.
Он выводит полки к водному берегу — 440
Но насупротив встал строй ополчения,
Гневным взором глядит в очи тирановы,
Ярых слов не щадит для поношения.
Как не стало надежд силой на Падую,
Он коня повернул, стан покидает свой,
Вновь к Вероне понес гнев неподавленный:
Он невинных в тюрьме замкнутых пленников
Падуанских казнит жаждой и голодом —
До одиннадцати тысяч погублено! 450
92
На повозках — гора тел неопознанных,
Ни для матери сын, ни для жены супруг
Не известны лежат в яме без имени,
И над всеми от всех — слезы единые.
Не хватает земли для погребения,
Гниль в открытый эфир дышит заразою,
А казнящему казнь все недостаточна —
Не под корень народ вырублен Падуи.
<Д е й с т в и е четверто е>
Эцерин
— Судьбы враждебность взбадривает сильного
И подавляет слабого. Кто духом тверд, 460
Тот бьется и с судьбою. Пусть отложится
Над Падуей победа: для всего свой час.
А ныне ждет знамен моих Ломбардия
И все края по этот склон альпийских гор.
Вестник, Хор
Вестник. — Сюда, сюда, кто жаждет вести истинной
О том, что беды кончились, что вышнее
Послало небо мир на землю! Юноши,
Вдовицы, старцы, жгите ладан праздничный:
Господь призрел вас в светлой справедливости.
Хор. — О, будь добрей, поведай весть, не мешкая. 470
Вестник. — Жестокий Эцерин, владевший Брешией
По милости кремонян, вероломно их
Изгнал из града, даже другу прежнему,
Паллавицину угрожая ковами. (*)
(*) «События истории были таковы. Кремоняне и маркграф Паллавичини вошли
с Эцерином в сообщество, дабы завладеть Брешиею и, завладев, иметь ее в общем
обладании; и совокупными силами было сие достигнуто. Между тем как в Брешии
они договаривались и делились судными и иными правами, Эцерин замыслил обла¬
дать ею один, как замышлял еще до овладения, вступая в сговор. Прежде всего
предприял он захватить и умертвить союзника своего маркграфа Паллавичино и
для того пригласил его к себе на пиршество, но тот, кем-то быв предостережен,
покинул Брешию и сокрылся в Кремону. Кремонские вельможи <...> видя бегство
его, сами удалились из Брешии, и так Эцерин один остался ею владеть. По недо¬
лгом же владении вступил он в сговор с вельможами миланскими, посулившими
предать ему Милан без народного ведома; и к овладению сим городом повел он к на¬
значенному для предания времени войско и ополчение от Вероны, Виченцы, самой
Брешии и из наемных тевтонов, числом более четырех тысяч. Перешед реку Адую,
пошел он на Милан, кремоняне же, им обманутые, вкупе с Паллавичино, Бозио До-
варским, Азоном Эсте и гражданами Мантуи, Падуи и Феррары по южили присягу
на погибель Эиерннову и сошедшись при Адуе у моста, называемого Кассано, по¬
слали в Ми пш вестников предуведомить народ о пшене в городе: о каковой и; ме-
93
не уведомясь, Мартин ла Гарре, достойнейший муж, вышел us Милана с народа
Эперину навстречу...»
Засим в надежде на измену знатности
К Милану ищет он пути скорейшего;
Но, обманувшись в дерзких ожиданиях,
Перед собою зрит полки враждебные
И слышит, что Кремона, Феррара, Мантуя,
Паллавицин и Бозий общей клятвою
Соглашены ему на погубление.
От их знамен, приосенивших Адую,
Стремится Эцерин уйти подалее, —
Но тут, толпою окружен миланскою,
Мартин ударил на него оружием,
Мартин отважный, ведший род от знатного
Колена Торре, и засти гнул старого
Врасплох тирана. Вновь поворотив войска
На Адую, он видит на мосту врагов
И в новой нерешимости терзается.
Хор. — Что ж сделал он меж силою и силою?
Что пожелал, что предприял?
Вестник. — Таков он был,
Как сытый волк в облаве на ярящихся
Взирает псов, скрежещет зубом, пеною
Из уст исходит, и глаза навыкате.
Хор. — Продолжи повесть.
Вестник. — Отовсюду замкнутый,
Страшится он неравного сражения:
Мост занятый пресек ему обратный путь,
Враг с двух сторон для битвы изготовился
И жжет его хулою, им заслуженной.
Послав стрелу налево, занеся стопу
На путь неверный бегства, вопрошает он
Соратников, как имя сей окрестности?
«Здесь — Каксан, переправа через Адую».
«О, Каксан, Аксан, Баксан! слово смертное
Ты молвила мне, матерь: здесь погибель мне.
Кто, здравый смыслом, станет убегать судьбы?»
Так вымолвив, коня разит он шпорою
И меж волнами правит поперек реки,
Собой открыв своим дорогу воинам.
Но вражья рать, стеною ставши с берега.
Разит в плывущих, метит в отступающих
И рвется к Эцерину. Окруженному
Защита бесполезна: жесткой палицей
Ему пробито темя, кем — неведомо;
Он выведен из битвы, но с презрением
Он отвергает врачевство. еду, питье.
480
490
500
510
94
И умирает, лбом грозя нахмуренным,
И к отчим теням в пасть нисходит Тартара,
А труп его в Сунцине скрыт могилою. (*) 520
(*) «Взятый же, был Эцерин доставлен в Сунцин, обретаясь словно в исступлении,
ибо подходивших к нему он всех повелевал казнить, отрубая ноги, словно был еще по¬
велителем. А когда ему перевязали раны, он сорвал повязки, отверг пишу и в тако¬
вом безумии скончался».
Хор
Возблагодарим за отраду нашу
Дателя отрад! вы, юнцы, вы, старцы,
Вы, пугливых дев молодые хоры,
Гряньте хваленья!
Сходит благодать с олимпийских высей,
Положа предел совершенным бедствам,
Злобу сокрушив лютого тирана,
Мир возрождая.
Миром будем днесь наслаждаться вкупе:
Тот, кто изгнан был, да вернется к ларам, 530
Не страшась беды, и разделит с нами
Мирные судьбы.
Под ременный бич преклоняя спины,
Искупая грех под казнящей болью,
Молим: будь к нам благ, от Пречистой Девы
Рождшийся Боже! (*)
(*) «Тогда и учинилось в Падуе бичеванье плетьми, и ночью жены во храмах, а днем
мужи, обнажись, по всему городу шествовали длинными строями, с громким криком,
и так Падуя возвращена была гражданам своим, а память о том удивительном обы¬
чае, называемом «бей! бей!», и доселе длится».
<Действие пятое>
Вестник, Хор
Вестник. — Повсюду видя Альберик опасности,
Лишась надежды и лишась последнего
Доверья граждан и доверья к гражданам,
Спасенья ищет в крепости Зеноновой, 540
Сопутствуем домашними и присными.
Вокруг подножья оной горной крепости
Три града стали станом, чая мщения,
Тарвизиум, Виценция и Падуя:
Маркграф Азон, в своем высоком звании.
Едино мыслил с прочими вельможами.
Не ожидая помощи, гнетомые
Ползучими раздорами и голодом.
95
Страшась конца, сдаются осажденные.
О, ярость вражья, молнии подобная!
Врываются войска под кровы крепости,
Хватает воин чадо, грудь сосущее,
Дробит о твердь младенческую голову.
Пятнает кровью детский мозг разбрызганный
Лицо кормившей. К меченосцу выбежал
Трехлетний Эцерин, взывая: «Дедушка!»
А тот в ответ: «Твой дедушка нас выучил
Дарить подарки так, как сам дарил он их!» —
И разрубает выю неприкрытую,
И пред народом похваляясь сделанным,
На острие копья вздевает голову,
Чьи губы сведены, глаза навыкате,
Кровь льется по древку к руке несущего,
А кто-то вгрызся зубом в печень детскую.
Вот — страшный рок потомства Альберикова,
Тройная гибель, злая и жестокая!
Когда же с башни Альберик возвышенной
Спустился к людям, речь готовя лживую, -
Ему закрытый рот закрыв намордником,
Ведут живого видеть смерть семьи своей.
И вот, толпой гонимая из терема,
Влечется вниз супруга Альберикова,
Развив власы и к небу возведя глаза,
Жестоким вервьем связанная за руки,
А с нею пять девиц пред очи отчие
Совлечены, потомство злополучное,
Сожженью обреченное. Обстал народ,
Расправы ожидая с ненавистными.
Так ловчая толпа над волчьим логовом
Стоит, тесня затравленного хищника,
Припоминает все обиды прежние
И сладострастно медлит нанести удар.
Хор. — Продолжи речь, поведай о возмездии.
Вестник. — Пылал костер, из дров дубовых сложенный,
Смолой потели вспыхнувшие факелы,
Оливковой питалось пламя жирностью,
Дым к небесам всплывал, как туча черная,
Треск раздавался, как от грома грозного,
Стенала пустота, как бы являя всем
Подземного присутствие Юпитера,
И печь дышала языками пламени.
О, страшный, страшный вид очам родительским!
Ложатся девы на костер невинные,
Жар нестерпимый жжет златые волосы.
Они предсмертно жажду г отчей помощи.
Но и обнять их не дано бессильному.
550
560
570
580
590
96
Тщета их упований разжигает гнев,
И вот рукою стражники насильственной
Мать за детьми влекут, объяты яростью, 600
И на одном костре их постигает смерть.
Хор. — С каким же ликом пленник обезмолвленный
Взирал на эту смерть жены и отпрысков?
Вестник. — Вращая шеей, он лицом нахмуренным
Являл надменность, высшую судьбы своей.
Хор. — Каков же наступил его последний миг?
Вестник. — Клинки рванулись поразить стоявшего:
Один ему вонзает меч свой в правый бок,
И он выходит острием из левого,
Сквозь обе раны кровь соча обильную; 610
Другой до недр разит мечом, как молнией;
Вот с шеи голова скатилась с лепетом,
Но все еще стоит, качаясь, тулово,
Пока не растерзал народ прихлынувший
Его на части, чтобы бросить хищным псам.
Хор
Вовеки таков высокий закон
Справедливости Божьей. Праведный, верь:
Кому когда и случится взнестись
Путем злодейств до высот судьбы, —
Справедливость бдит. Вслед всем делам 620
Она грядет заслуженной мздой,
Ибо свыше стоит над правым судом
Строгий Судья, кроткий Судья,
Воздает за добро, воздает за зло,
И тверд устав, и незыблем чин:
Добродетель взыскует горних услад,
И к черным безднам стремится грех.
Торопитесь, люди: учитесь блюсти
Вечный закон. 44 Зак.3029
Е.А. Гуревич (Москва)
«Прядь о Стуве»‘
Жил человек по имени Стув. Он был сыном Кошачьего Тор-
да, а тот был сыном Торда сына Ингунн и Гудрун1, доче¬
ри Освивра. Стув был могуч, статен и красив с виду. Он
был смел на язык и хороший скальд. Он уехал из страны,
потому что рассчитывал получить наследство на севере в
Норвегии. Они прибыли в Норвегию осенью. Затем он отправился на
восток вдоль побережья, добираясь до места на чем придется.
Как-то раз он остановился у одного бонда2, и его там хорошо приня¬
ли. Он сидел напротив хозяина3. И когда люди собрались было ужинать,
бонду доложили, что к его двору скачет множество всадников и перед
одним из них держат стяг. Хозяин встал и сказал:
— Выйдем все навстречу. Похоже, что к нам пожаловал сам Харальд-
конунг4.
Все, кроме Стува, вышли из дома, а он остался сидеть. Не успели они
выйти, как стяг поравнялся с усадьбой, а с ним — и сам конунг.
Бонд приветствовал конунга и сказал:
— Боюсь, государь, мы не сможем принять вас как подобает. Знай мы
о вашем приезде заранее, и тогда наши возможности были бы невелики,
но теперь, когда мы вас не ждали, они и еще того меньше.
Конунг отвечает:
— Раз уж мы нагрянули к вам без предупреждения, я не стану требо¬
вать от вас такого приема, какой нам обычно оказывают, когда мы разъез¬
жаем по пирам, которые люди должны для нас устраивать5. А теперь наши
люди сами о себе позаботятся, а мы войдем в дом.
Они так и делают. Бонд сказал Стуву:
— Придется тебе, приятель, уступить место тому, кто приехал.
— Я думаю, моя честь не пострадает оттого, что я буду сидеть дальше,
чем конунг или его люди, — говорит Стув. — Сдается мне, однако, что
тебе не следовало говорить мне об этом.
Харапьд-конунг сказал:
— Так здесь в гостях исландец! Выходит, нас ждет развлечение. Оста¬
вайся на своем месте, исландец.
* Перевод с древнеисландского и комментарии — Е А Гуревич Перевод выпо i-
нен по изданию: Islcndmga sogur оц |ncttir. Ritstjorar Bram Halld6rs>on et л I
Reykjavik (Svart a hvt'tu). 19X7 Bd III. bU. 224b 2249
Стув отвечает:
— Охотно приму ваше приглашение, и я считаю, что для меня куда по¬
четнее пользоваться гостеприимством конунга, чем какого-то бонда.
Конунг сказал:
— Теперь пора вносить столы и приниматься за угощение, но прежде
мои люди должны занять свои места, если они уже готовы.
Сделали так, как пожелал конунг. Тут оказалось, что у бонда было при¬
пасено вдоволь браги, и все пришли в прекрасное расположение духа.
Конунг спросил:
— Как зовут человека, что сидит против меня?
Тот отвечает:
— Зовут меня Стув.
Конунг говорит:
— Странное имя. А чей ты сын?
— Кошачий сын, — отвечает Стув.
Конунг спрашивает:
— И кем же был твой отец: котом или кошкой?
Стув хлопнул в ладоши и только рассмеялся в ответ.
Конунг спрашивает:
— Над чем ты смеешься, исландец?
Стув отвечает:
— Угадайте сами, государь.
— Так и быть, — говорит конунг. — Должно быть ты подумал, что с
моей стороны неумно было задавать вопрос, кем был твой отец — котом
или кошкой, потому что не может быть отцом тот, кто принадлежит к
слабому полу.
— Верно угадали, государь, — сказал Стув и опять засмеялся.
Конунг спросил:
— Над чем ты теперь смеешься, Стув?
— Угадайте опять, государь.
— Так и быть, — говорит конунг. — Догадываюсь, какой ответ ты со¬
бирался мне дать: что мой отец не был свиньей, хотя и носил такое про-
шише, и я поэтому мог знать, что и твой отец не был кошкой, даже если
его так называли, и что я лишь оттого задал свой вопрос, что был уверен
— у тебя не достанет смелости ответить мне так.
Стув сказал, что он верно угадал.
Тогда конунг сказал:
— Добро пожаловать, исландец!
Стув ответил:
— Приветствую славнейшего из конунгов!
После этого конунг пил и беседовал с теми, кто сидел по правую и по
псвую руку от него.
Позднее вечером конунг спросил:
— Ты, должно быть, ученый человек, Стув?
— Так и есть, государь, — говорит тот.
Конунг сказал:
— Вог и отлично. Хозяин, я намерен рано лечь спать, и пусть ислан¬
дец ночует в том же покое, что и я.
99
Это было исполнено. Раздевшись, конунг сказал:
— А теперь скажи какую-нибудь песнь, Стув, раз ты ученый человек.
Стув произнес песнь, и когда она была окончена, конунг сказал:
— Расскажи еще.
Так продолжалось долго: стоило ему замолчать, как конунг просил
рассказать еще, и так шло до тех пор, пока все люди вокруг, кроме них
двоих, не уснули, и еще немало времени после этого.
Тогда конунг сказал:
— Тебе известно, Стув, сколько песней ты произнес?
— Куда там, государь, — говорит Стув, — я думал, вы будете считать.
— Я так и делал, — говорит конунг, — ты произнес шесть десятков
флокков6. Разве ты не знаешь других песней, кроме флокков?
Стув отвечает:
— Вовсе нет, государь. Я не успел сказать и половины флокков, а драп
я знаю еще вдвое больше7.
Конунг спрашивает:
— Перед кем же ты собираешься произносить драпы, если мне ты рас¬
сказывал только флокки?
Стув отвечает:
— Перед вами, государь.
— И когда же? — спросил конунг.
— При нашей следующей встрече, — говорит Стув.
— Почему же тогда, а не теперь? — спросил конунг.
Стув отвечает:
— Потому, государь, что чем больше у вас будет поводов получше уз¬
нать меня, тем выше будет ваше мнение обо мне.
Конунг сказал:
— Громкие слова ты произносишь, и их еще нужно проверить, одна¬
ко сперва я собираюсь поспать.
И он уснул.
Наутро, когда конунг был уже одет и спускался вниз по лестнице, Стув
подошел к нему и приветствовал его:
— Добрый день, государь.
Конунг сказал в ответ:
— Ты хорошо говоришь, исландец, и позабавил ты меня вчера вече¬
ром на славу.
— А вы были хорошим слушателем, государь, — отвечает Стув. — Од¬
нако у меня есть к вам просьба, и я хотел бы, чтобы вы ее выполнили.
Конунг говорит:
— И о чем же ты хочешь просить меня?
Стув отвечает:
— Я бы предпочел, чтобы вы прежде ответили согласием.
Конунг сказал:
— Не в моем обычае раздавать обещания, не зная, о чем меня просят.
Стув говорит:
— Тогда я скажу. Я хотел бы. чтобы вы позволили мне сложить пест,
в вашу честь.
Конунг спрашивает:
100
— Так ты — скальд?
— Я хороший скальд, — отвечает Стук.
Конунг спрашивает:
— Скажи, а нет ли скальдов среди твоих родичей?
— Глум сын Гейри* — дед моего отца, — отвечает Стув, — и еще мно¬
го хороших скальдов было у нас в роду.
Конунг сказал:
— Если ты такой же скальд, каким был Глум сын Гейри, то я охотно
разрешаю тебе сложить обо мне песнь.
— Я умею сочинять гораздо лучше Глума, — отвечает Стув.
Конунг сказал:
— Раз так, принимайся за дело. Не приходилось ли тебе и прежде скла¬
дывать хвалебные песни знатным людям?
Стув отвечает:
— Нет, не приходилось, государь, ведь вы — первый знатный человек,
которого я вижу.
Конунг говорит:
— Кое-кто скажет, что для новичка ты много на себя берешь, начи¬
ная складывать стихи с песни в мою честь.
— Я все же попытаюсь, — говорит Стув. — Есть у меня к вам и другая
просьба, государь.
— И о чем же еще ты собираешься просить меня?
Стув сказал:
— Чтобы вы приняли меня в свою дружину.
Конунг отвечает:
— Такие дела так скоро не решаются. Прежде я должен посоветовать¬
ся с моими дружинниками и получить их согласие, но я обещаю поддер¬
жать твою просьбу.
Стув сказал:
— Есть еще кое-что, о чем бы я хотел попросить вас, государь, одна¬
ко, захотите ли вы выполнить мою просьбу?
Конунг спрашивает:
— Что еще за просьба?
Стув отвечает:
— Чтобы вы дали мне письмо с вашей печатью9, по которому я смог
бы получить наследство на севере страны.
Конунг спросил:
— Почему же о самом главном для тебя ты попросил в последнюю
очередь? Я дам тебе то, о чем ты просишь.
Стув отвечает:
— Мне это показалось наименее важным.
Затем они расстались. Конунг поехал дальше, а Стув отправился по
своему делу.
Прошло не много времени, прежде чем Стув встретился с Харальдом-
конунгом на севере, в Нидаросе. Он вошел в пиршественную палату, где
сидел Харальд-конунг. а вокруг него множество других знатных людей.
Стув обратился к конунгу с приветствием. Тот ответил:
— Уж не Ctvb ли эго. наш друг, пожаловал к нам?
101
— Так и есть, государь, — говорит тот, — а пришел я потому, что у меня
готова песнь в вашу честь, и я хотел бы исполнить ее прямо сейчас.
Конунг сказал:
— Быть посему. В прошлый раз ты немало наговорил, хвастаясь сво¬
им умением слагать стихи. Не жди поэтому, что я не буду требователен к
твоей песни, и имей в виду: ухо у меня чуткое.
Стув отвечает:
— Тем лучше для меня, государь.
После этого он произнес песнь. И когда он закончил, конунг сказал:
— Это и вправду прекрасная песнь. Теперь я вижу, что ты не бросал
слов на ветер: тебе многое дано и твои речи свидетельствуют о недюжин¬
ном уме. Однако и ты, в свою очередь, позабавился, беседуя со мною. А
теперь, если хочешь, можешь стать нашим дружинником и оставаться с
нами.
После этого Стув сделался дружинником Харальда-конунга и находился
при нем долгое время. Он считался человеком умным и его любили. Дра¬
па, которую Стув сложил о конунге, называется «Драпой Стува»10.
И здесь с Божьей помощью мы заканчиваем этот рассказ. Это — муд¬
рая история.
Комментарии
'... был сыном Торда сына Ингунн и Гудрун дочери Освивра — герои «Саги о людях
из Лососьей Долины» (русский перевод см. в книге: Исландские саги / Под ред
М.И. Стеблин-Каменского. М., 1956). Отец Стува Торд также фигурирует в этой
саге. Он был сыном Гудрун от второго брака и родился вскоре после того, как его
отец Торд сын Ингунн утонул. Стув, таким образом, происходил из весьма по¬
чтенного и старинного рода: его бабка Гудрун считалась одной из самых выдаю¬
щихся исландок и прославленных героинь «века саг»; среди ее предков было не¬
мало видных людей, в том числе легендарный викинг-завоеватель Нормандии
Хрольв Пешеход (Ролло).
2.. . одного бонда — Бонд — свободный человек, домохозяин.
3 Он сидел напротив хозяина — иначе говоря, восседал на почетном сиденье. В глав¬
ном помещении скандинавского дома вдоль стен стояли скамьи, столы же вно¬
сились только на время трапезы. Почетные сиденья располагались одно против
другого; хозяйское место возвышалось в середине скамьи, стоявшей у северной
стены, гость, которому оказывалось особое расположение, занимал второе, бо¬
лее низкое сиденье у южной стены. В следующей сцене бонд понуждает Стува
освободить место для вновь прибывшего высокого гостя, имея в виду по-хозяйс¬
ки усесться напротив конунга, однако сам вынужден покинуть принадлежащее
ему почетное сиденье, которое и занимает Харальд. С появлением конунга Стув,
таким образом, становится его гостем.
* Харальд-конунг — Харальд Суровый Правитель, норвежский король (1046—1066 гг.)
3.. . разъезжаем по пирам, которые люди должны для нас устраивать — в обязанно¬
сти норвежских бондов (свободных хозяев) входило устраивать угощения (так наз.
вейцлы) для государя и его дружины. Конунг разъезжал по стране, посещая пиры,
бывшие необходимым средством не только прокормления дружины, но и соци¬
ального общения населения с правителем. (О «вепцле» см.: Гуревич А.Я. Свобод¬
ное крестьянство феодальной Норвегии. М.. 1967. С. 117 сл.).
" .. шесть десятков флокков — флокком (Jlokkr — «гр\ппа») называли скальдп-
102
ческую песнь, которая представляла собой цикл вис (строф), связанных одной
темой; в противоположность драпе (см. следующее примечание) не содержит
стева.
7... а драп я знаю еще вдвое больше — драпа (возможно, восходит к drepa «разби¬
вать» и «проникать внутрь») — парадная скальдическая песнь, включающая в себя
особый формальный элемент, так называемый стев (повтор, имеющий сходство
с рефреном), который делит на равные сегменты (stefjamel, или stefjamal «про¬
межутки, обрамленные стевом») среднюю часть песни (stefjabalkr «раздел со сте-
вом») и тем самым отграничивает ее от двух других частей — вступления (upphaf)
и заключения (slcemr).
й Глум сын Гейри (около 940 — около 985 гг.) — один из самых знаменитых скаль¬
дов второй половины X в. Глум был скальдом конунга Эйрика Кровавая Секира
и его сыновей: сохранился большой отрывок хвалебной песни, сочиненной им в
честь конунга Харальда Серая Шкура, — «Драпа о Серой Шкуре» (Grafeldardrapa).
О значении Глума Гейрасона свидетельствует строфа в «Драпе об исландцах»
(tslendingadrapa, 11) Хаука сына Вальдис (XII в.), посвященной выдающимся ис¬
ландцам, где Глум (так же как и другие скальды) прославляется за свои ратные
подвиги.
,... дали мне письмо с вашей печатью — явный анахронизм: единственное, о чем
исландец мог бы просить конунга, это дать ему какие-нибудь знаки (обычно это
было кольцо или браслет), которые он мог бы предъявить в подтверждение сво¬
их слов, что король знает о его деле и поддерживает его. Латинский алфавит на¬
чинает применяться в Скандинавии для записи подобного рода текстов на народ¬
ном языке, по-видимому, не ранее конца XII в.
Драпа, которую Стув сложил о конунге, называется «Драпой Стува» — такое на¬
звание носит другая песнь скальда, единственная из известных его поэм, сочи¬
ненная уже после гибели Харальда Сурового (подробнее см. статью). На то, что
эта песнь (из нее сохранилось лишь восемь строф) — поминальная драпа, сло¬
женная на смерть конунга, недвусмысленно указывает ее «стев» (рефрен): «Да
пребудет душа могучего Харальда навеки с Христом над землей, там, где хорошо
быть».
Исландец и король
Заметки к переводу «Пряди о Стуве»
«Пряди» tycittr, мн. числоpcettir) — короткие рассказы об исландцах — по-
видимому, получили это свое название оттого, что, как правило, они
представляют собой вставные новеллы, вплетенные в саги о норвежских
королях. Исландское словоpdttr, однако, имеет также значение «раздел»,
«глава», иначе говоря, может служить наименованием части более обшир¬
ного целого. И действительно: степень обособленности прядей внутри
сагового текста весьма различна, так что порой нам нелегко провести
четкую границу между эпизодом саги и лишь формально включенным в
ее повествование самостоятельным рассказом. Это бывает непросто сде¬
лать хотя бы уже потому, что один из главных героев пряди — обычно тот
самый правитель, которому посвящена сага. Между тем, самостоятель¬
ность пряди как вставной новеллы в некоторых случаях дополнительно
удостоверяется параллельным существованием в рукописной традиции
другого варианта той же истории, записанного вне и независимо от ко¬
103
ролевской саги. Именно так обстоит дело и с приведенным здесь расска¬
зом.
«Прядь о Стуве» сохранилась в двух версиях: как отдельный рассказ в
нескольких списках XV в. и как одна из многочисленных вставных но¬
велл, «впряденных» в «Сагу о Харальде Суровом Правителе», в свою оче¬
редь входящую в одно из самых значительных собраний саг о норвежс¬
ких конунгах — так называемую «Гнилую Кожу» (Morkinskinna), кодекс,
созданный в последней четверти XIII в.
Первая версия пряди — именно она представляется на суд читателю
— считается наиболее ранней (предполагают, что рассказ может быть да¬
тирован началом XIII столетия, описанный же в нем эпизод относится к
40-м — 60-м гг. XI в.) и обладает большими художественными достоин¬
ствами, нежели тот ее вариант, который был включен в королевскую сагу.
Эта отдельная прядь более пространна и содержит ряд нарративных де¬
талей, отсутствующих в краткой версии. Так, при создании последней
было выпущено несколько сцен, а кое-где сокращены диалоги главных
действующих лиц. Ниже мы еще вернемся к обсуждению того, какие цели
могла преследовать подобная переработка новеллы, здесь же необходи¬
мо отметить, что в целом она весьма незначительно затронула собствен¬
но содержание пряди. Версии рассказа различаются, в первую очередь,
тем, как в них при введении его в повествование характеризуется глав¬
ный герой: в новелле, приведенной в «Гнилой Коже», сказано, что Ступ
был слеп (в дальнейшем изложении истории о слепоте героя, однако,
более не упоминается), в другой версии пряди, напротив, нет никаких
указаний на этот счет. Еще одно отличие касается сочиненной Стувом
хвалебной песни в честь Харальда. Тогда как, согласно отдельной пряди,
так называемая Stufsdrapa («Драпа Стува») — та самая песнь, которая была
сложена исландцем вскоре после его первой встречи с будущим па троном
и исполнена им сразу же по его прибытии ко двору, по сообща и но крат¬
кой версии, это название было присвоено другому произведению скаль¬
да, а именно поминальной песни, которую Стув сочинил уже после гибе¬
ли конунга в 1066 г. Фрагмент этой последней поэмы сохранился, что же
касается хвалебных стихов, преподнесенных Стувом здравствующему го¬
сударю, то о них в краткой версии пряди не говорится ни слова.
«Прядь о Стуве» принадлежит к числу рассказов, обычно по-исланд¬
ски именуемых utanferdar jicettir — «пряди о поездках из страны». Дей¬
ствие этих новелл разворачивается за пределами Исландии. В отличие от
заглавных героев «семейных саг», как правило, родовитых и знаменитых
исландцев, герой таких историй — в большинстве случаев человек незна¬
чительный, зачастую, по-видимому, это вымышленный персонаж. Поки¬
нув по тем или иным причинам родные края, он отправляется в Норве¬
гию, где, нередко рискуя головой и неизменно демонстрируя мужество
и находчивость, в конце концов завоевывает расположение конунга и
делается его дружинником, а затем, уже существенно повысив свой со¬
циальный вес, возвращается и становится большим человеком у себя
дома, в Исландии.
При том, что история о Стуве в целом развивается по тому же сцена¬
рию. что и другие «пряди о поездках из страны», в некоторых важных
104
моментах она немало от них отличается. Главное отличие состоит в по¬
чти полном отсутствии действия: приехав в Норвегию по делам наслед¬
ства, исландец останавливается на ночлег в усадьбе одного бонда, куда
неожиданно приезжает сам конунг; используя представившийся ему
шанс, герой старается привлечь к себе внимание короля и завоевать его
расположение. Это ему вполне удается и уже при следующей их встрече,
выслушав сложенную в его честь хвалебную песнь, конунг делает Стува
своим дружинником. То, что другие исландцы — герои прядей добыва¬
ют, преодолевая опасности и проявляя отвагу и стойкость в противосто¬
янии с могущественными противниками, Стув заслуживает исключитель¬
но в силу своего интеллекта: умением достойно ответить конунгу,
знанием скальдической традиции и искусством декламации, а также соб¬
ственным поэтическим мастерством. На месте напряженного, подчас
драматичного действия, характерного для большинства рассказов этого
типа, в «Пряди о Стуве» мы находим последовательность сцен, ядро ко¬
торых образуют исключительно диалоги главных персонажей — исланд¬
ца и короля.
Другое, что выделяет рассказ о Стуве среди прочих «прядей о поезд¬
ках из страны» — это фигура ее героя. Из генеалогических сведений, ко¬
торые сообщаются при введении его в повествование, следует, что Стув
принадлежит к одному из первых семейств Исландии: его бабкой с отцов¬
ской стороны была Гудрун дочь Освивра, героиня «Саги о людях из Ло¬
сосьей Долины», дед же — Торд сын Ингунн (получивший свое прозви¬
ще по имени матери) был сыном прославленного скальда X в. Глума сына
Гейри (в краткой версии пряди имя Глума упоминается уже во вводной
характеристике Стува). Перед нами, таким образом, отнюдь не безвест¬
ный герой, человек без роду, без племени. Существенно, однако, что при
знакомстве с конунгом исландец сознательно принимает на себя эту роль.
Можно полагать, что объяви он о своем происхождении сразу же, конунг
и без усилий с его стороны пожелал бы приблизить к себе родовитого
исландца, прямого потомка придворного скальда норвежских государей.
Стув же предпочитает добиться всего собственными силами и заслужить
признание короля единственно своими личными достоинствами. Наш
герой — человек, который создает себя сам.
Именно этому и посвящен рассказ о Стуве, и от начала и до конца он
при каждом удобном случае демонстрирует в нем свою самостоятель¬
ность.
В первом же эпизоде пряди, описывающем прибытие конунга, в цен¬
тре внимания оказывается независимое поведение исландца. Стув про¬
должает невозмутимо восседать на предназначенном для гостей почетном
сиденье даже тогда, когда становится очевидным, что отведенную ему
ранее хозяином скамью так или иначе придется освободить для неожи¬
данно появившегося знатного посетителя — короля Норвегии. Избран¬
ная Стувом тактика поведения — охранять свое место, на которое ему на¬
верняка не пришлось бы вернуться, покинь он его и выйди из дому вслед
»а обитателями усадьбы. — приносит плоды, на которые едва ли мог рас¬
считывать даже наш дальновидный герои: Стуву удается не только сраз\
же привлечь к себе внимание Харальда. но и стать гостем конунга. v;iep-
105
жав за собой почетное место за столом. Если раньше он сидел напротив
хозяина усадьбы («какого-то» бонда — заметим, что хозяин дома даже не
назван по имени), то теперь он восседает напротив самого короля.
Последний, в свою очередь, рад нежданной встрече с незнакомцем,
поскольку она, скорее всего, сулит ему «развлечение»: за исландцами
прочно утвердилась репутация умелых рассказчиков. К тому же постоя¬
лец бонда может оказаться «ученым человеком» (frcedimadr), а это озна¬
чает, что он владеет всяческими знаниями, в том числе непременно уме¬
ет декламировать скальдические стихи. Во времена конунга Харальда —
большого ценителя поэзии и лучшего скальда из всех, кто когда-либо
занимал норвежский престол, — скальдическое искусство уже прочно
ассоциировалось с Исландией, о норвежских скальдах той поры (за ис¬
ключением самого Харальда) ничего не известно. У конунга, таким об¬
разом, есть свои причины проявить интерес к незнакомцу и заставить его
рассказать о себе. Однако он не спешит с расспросами: знакомство ко¬
роля с исландцем «по всей форме» состоится лишь после того, как будут
отданы последние распоряжения и присутствующие усядутся пировать.
В следующей сцене — сцене застолья — Стув держит свой первый эк¬
замен. Ему предстоит доказать конунгу, что тот не напрасно усадил на¬
против себя никому не известного чужестранца и сделал его своим гос¬
тем прежде, чем выяснил, что перед ним за человек. Очевидно, что
будущее исландца во многом зависит от того, как он проявит себя, отве¬
чая на вопросы государя. И тут Стув в полной мере обнаруживает то ка¬
чество, о котором было объявлено во вступлении к пряди, где он был оха¬
рактеризован как djarfmaeltr — «смелый на язык»: он делает неожиданный
ход и с самого начала беседы перехватывает у конунга инициативу. Тот,
впрочем, пребывает в уверенности, что это он, Харальд, остается истин¬
ным хозяином положения и испытывает исландца, стремясь поставить
его в тупик своими вопросами, однако, незаметно для себя он сам попа¬
дает в расставленные Стувом сети.
Забавный, на первый взгляд, обмен репликами принимает в этой
сцене совсем не безобидный оборот. Представляясь конунгу, исландец
произносит свое имя, которое кажется тому «странным», согласно од¬
ной версии пряди, и «неблагозвучным» — согласно другой (Stufr —
букв, «обрубок»; как имя собственное более нигде не встречается). В
ответ на последовавший затем вопрос, чей он сын, Стув, вопреки ожи¬
даниям, не сообщает Харальду своего полного «отчества» (сын Коша¬
чьего Торда), но, называя лишь прозвище отца, именует себя «Коша¬
чьим сыном». Может показаться, что он поступает так лишь из
стремления подчеркнуть собственную самостоятельность, однако Сту¬
вом движет нечто большее, нежели нежелание распространяться о сво¬
их родичах: исландец откровенно провоцирует конунга. Kattar sonr —
это еще и обидные слова, которые могут быть брошены в лицо вне¬
брачному сыну. Двусмысленность заявления Стува подталкивает Ха¬
ральда задать вопрос в том же духе. Исландское kottr «кошка», будучи
словом мужского рода, служит обозначением родового понятия, никак
не специфицируя его, и, следовательно, в равной мере может указы¬
вать как на кота, гак и на кошку. Спрашивая исландца: «Hvor var sa
106
kotturinn er fadir pinn var, hinn hvati еда hinn blaudi?» («Что за кошка
была твоим отцом — кот или кошка?»), конунг как будто бы задает
наивный и невинный вопрос. Между тем прилагательные hvatr и
hlaudr («сильный» и «слабый»), традиционно употребляемые для раз¬
личения самца и самки животных, применительно к людям приобре¬
тают отнюдь не безобидный смысл. Сказать о ком-то Ыаидг значит
нанести этому человеку тяжкое оскорбление, обвинив его в трусости
и женоподобии. Именно эти значения Ыаидг имеет в виду героиня
«Саги о Ньяле» Халльгерд, обзывая таким образом собственного мужа,
Гуннара, и его друга Ньяля: напомним, что последний был лишен бо¬
роды — символа мужественности («Сага о Ньяле», гл. XXXVIII).
Харальд, судя по всему, вовсе не имеет в виду оскорбить исландца. Его
двусмысленный вопрос задан лишь с одной целью: выяснить, сумеет ли
Стув достойно парировать выпад своего противника. Несомненно, у наше¬
го героя есть только один способ отстоять себя и показать конунгу, с кем
тот имеет дело, а именно напомнить Харальду о неблагозвучном прозви¬
ще его отца, которого называли Сигурд Свинья — Sigurdr syr. Унизитель¬
ность этого прозвища — известно, что именно так воспринимал его сам
Харальд, — состояла в том, что syr, слово женского рода (в отличие от про¬
звища отца Стува — kottr.О, недвусмысленно указывало на особь женского
пола. Между тем, самое упоминание об этом факте было бы непроститель¬
ной дерзостью со стороны исландца и едва ли сошло бы ему с рук. В дру¬
гой истории («Пряди о Хрейдаре») рассказывается о том, как Харальд при¬
казал своим людям умертвить человека, посмевшего преподнести ему
серебряную свинью, поскольку усмотрел в его подарке обидный намек на
прозвище своего отца. Стуву, таким образом, предстоит сделать нелегкий
выбор: станет л и он защищать доброе имя своего отца (а, следовательно, и
свое), рискуя прогневить государя, или оставит за ним последнее слово.
Конунг, прекрасно понимающий, перед какой дилеммой стоит наш
герой, уверен, что тот загнан в угол. Вопреки его ожиданиям, Стув, од¬
нако, находит достойный выход из положения. Своим неожиданным по¬
ведением — смехом в ответ на заданный ему вопрос — он вынуждает са¬
мого государя «угадать» и произнести вслух все то, что, по замыслу
Харальда, должен был бы, но едва ли нашел бы в себе смелость выгово¬
рить его собеседник! При этом, если в кратком варианте рассказа конунг
сразу же дает тот самый ответ, который — скажи это Стув — был чреват
неприятностями для исландца, то в отдельной пряди кульминационный
момент сцены отложен. Для начала Харальд прибегает к менее обидной
для собственного самолюбия версии: «Должно быть ты подумал, что с
моей стороны неумно (ofrodlega) было задавать вопрос, кем был твой отец
— котом или кошкой, потому что не может быть отцом тот, кто принад¬
лежит к слабому полу (ял mcitti eigifadir vera er blaudur var)», и лишь после
того, как Стув, согласившись с ним, но не удовлетворившись этим отве¬
том, как и в первый раз, смехом дает понять, что оба они имели в виду и
кое-что другое, конунгу приходится самому прибегнуть к оскорбитель¬
ному для него сравнению и произнести прозвище своего отца. Исландец,
таким образом, выходит безусловным победителем в затеянном королем
словесном состязании. Знакомство героев, наконец, состоялось: только
107
после того, как он получил возможность оценить «недюжинный ум» и на¬
ходчивость своего гостя, конунг обращается к нему со словами привет¬
ствия. Этот разговор, который, как теперь понимает Харальд, с самого
начала направлял не он, а исландец, заставит его впоследствии признать,
что и тот, в свою очередь, позабавился, беседуя с ним.
Как видим, герой нашего рассказа, подобно героям других прядей об
исландцах, идет на риск ради достижения стоящей перед ним цели, толь¬
ко свою смелость и дерзость он демонстрирует исключительно в словес¬
ных баталиях.
Во второй раз конунг заговаривает со своим гостем перед отходом ко
сну. Он уже успел убедиться в находчивости Стува-собеседника, теперь
его интересуют познания исландца. Тому предстоит продемонстрировать
свою «ученость» и искусство декламации. В следующей затем сцене ге¬
рой пряди чуть ли не ночь напролет развлекает лежащего в постели ко¬
нунга, произнося по его требованию одну за другой скальдические пес¬
ни. Нигде более в сохранившихся памятниках древнеисландской прозы
не сообщается о том, чтобы стихи скальдов исполнялись в таком изоби¬
лии и при подобных обстоятельствах. Обычно — и именно это мы име¬
ем возможность наблюдать в заключительном эпизоде «Пряди о Стуве»
— скальд торжественно и прилюдно декламирует свою (реже чужую)
песнь у королевского престола и в присутствии дружины (здесь можно
вспомнить, что наиболее распространенный размер, в котором склады¬
вались такие стихи, носит название drottkvcett — «дружинный размер»).
Обстановка, в которой произносит скальдические песни Стув, — ночью,
в спальном покое, фактически наедине с конунгом, который, не успева¬
ет наш герой досказать до конца одну поэму, уже желает услышать дру¬
гую, — весьма далека от привычной.
Совершенно очевидно, что Харальд продолжает испытывать исландца,
однако и на этот раз ему приходится отступиться: репертуар Стува поис¬
тине неисчерпаем. Выслушав, по одной версии рассказа, три десятка пес¬
ней, а по другой — вдвое больше (в обоих случаях число исполненных ис¬
ландцем поэм весьма преувеличено, ведь каждая из них, в свою очередь,
могла состоять из нескольких десятков строф!), конунг вынужден прервать
своего гостя. У него уже нет сомнений в том, что поэтический запас его
нового знакомца иссякнет не скоро. Прежде всего это следует из весьма
странного отбора исполненных Стувом поэм: все они без единого исклю¬
чения относятся к категории «флокков» — поэтической формы, которая
ценилась значительно меньше парадной скальдической песни, так назы¬
ваемой «драпы». Сочинение флокка вместо ожидаемой драпы даже мог¬
ло обернуться для поэта серьезными неприятностями. Исландский скальд
Торарин Славослов едва не поплатился жизнью за то, что посмел сложить
флокк в честь датского конунга Кнута Могучего. Узнав о том, что Торарин
сочинил о нем всего-навсего флокк, этот конунг разгневался и потребо¬
вал, чтобы уже на следующий день тот исполнил ему драпу, в противном
случае его ждет казнь. Торарину пришлось подчиниться; так появилась его
драпа «Выкуп головы».
Наш герой, в отличие отТорарина, не складывает, но лишь деклами¬
рует песни, однако их выбор не может не озадачить конунга, тонкого
108
ценителя поэзии, к тому же весьма осведомленного в вопросах скальди-
ческой формы. Не может быть, чтобы столь много знающий человек не
мог исполнить ни одной драпы! Выяснив у Стува, что тому известно еще
больше драп, чем флокков, Харальд, как и следовало ожидать, задает рев¬
нивый вопрос, для кого же его гость приберегает драпы, если ему, коро¬
лю Норвегии, он исполнял лишь флокки. Как видно, исландец опять не
далек от того, чтобы навлечь на себя гнев короля, однако из его объясне¬
ний явствует, что он и на этот раз действовал обдуманно: у Харальда не
может быть повода для обиды, поскольку лучшую часть своего поэтичес¬
кого репертуара Стув приберегает для их следующей встречи, с тем что¬
бы конунг получил возможность составить о нем еще более высокое мне¬
ние. Стув, таким образом, не сомневается, что сумел произвести на
Харальда то впечатление, на которое рассчитывал: конунг оценил и его
ум, и смелость, и ученость. Если бы не уверенность, что теперь-то уж
король ни в чем ему не откажет, исландец едва ли решился бы уже наут¬
ро обратиться к нему со своими просьбами. И тем не менее он не соби¬
рается останавливаться на достигнутом: конунг еще не успел узнать всех
достоинств и умений своего гостя. Отныне Стув переходит к посулам, ста¬
раясь внушить конунгу желание продолжить их знакомство. При этом он
прямо напрашивается на новые испытания: Харальд не из тех, кто готов
верить голословным заявлениям, и исландцу предстоит на деле доказать,
что его слова — не пустое бахвальство.
Наутро, перед тем, как расстаться, герои пряди встречаются вновь.
Настал черед Стува открыто заявить о том «интересе», который он на¬
меревался извлечь из знакомства с конунгом, — он обращается к Ха-
ральду с тремя просьбами. Знаменательно, что только теперь из пер¬
вой просьбы Стува — разрешить ему сложить в его честь хвалебную
песнь — конунг узнает, что «ученый» исландец, с помощью которого он
накануне скоротал время, — скальд и притом представитель рода, к ко¬
торому принадлежали знаменитые скальды! Как видно, знание поэти¬
ческой традиции не предполагало непременного умения слагать скаль-
дические стихи.
Прежде чем ответить согласием на просьбу исландца, конунг, чья сла¬
ва увековечивалась и преумножалась в произносимых в его честь хвалеб¬
ных песнях, должен был удостовериться в том, что Стув — умелый скальд,
и ему можно смело доверить столь ответственное для каждого правителя
дело — запечатлеть в стихах, которым предназначено было передаваться
из уст в уста, «пока люди населяют Северные страны», совершенные им
ратные подвиги. Состоявшийся по этому поводу обмен репликами —
одно из ярчайших свидетельств того, как воспринималось поэтическое
ремесло в скандинавском обществе.
Нельзя не заметить, что применяемые участниками беседы критерии
оценки профессиональных достоинств скальда весьма различны. Услышав
от исландца, что тот — скальд, конунг первым делом пытается разузнать,
не было ли среди предков Стува скальдов, поскольку исходит из обычного
для традиционного общества представления о преемственности тех или
иных способностей и умений, из поколения в поколение наследуемых в
одном роду. Именно поэтому, выяснив, что исландец — правнук Глума
109
сына Гейри, прославленного скальда, сложившего хвалебные песни о его
родичах и прежних правителях Норвегии, Эйрике Кровавая Секира (умер
в 954 г.) и его сыне, Харальде Серая Шкура (умер около 970 г.), конунг без
колебаний отвечает согласием на просьбу Стува, полагая, что тот не уро¬
нит чести своего рода и сложит драпу не хуже, чем это делал в свое время
его прадед. Вместе с тем, Харальд не забывает осведомиться и о личном
«опыте» ученого исландца, уповая на то, что тот уже успел отточить свое
мастерство, сочиняя хвалебные песни в честь других правителей. В своем
решении конунг, таким образом, целиком и полностью руководствуется
представлением о традиции и приобретаемом в постоянных упражнениях
профессионализме.
Стув же, со своей стороны, вовсе не склонен апеллировать к семей¬
ным традициям. Напротив, он стремится всеми средствами подчеркнуть
свою самостоятельность и самоценность собственного творчества, само¬
надеянно утверждая, что он якобы превзошел в скальдическом мастерстве
своего знаменитого прадеда (в краткой версии пряди Стув говорит, что
сочиняет стихи «не хуже Глума»). Равным образом несущественным пред¬
ставляется ему и предшествующий поэтический опыт — чего стоит заяв¬
ление исландца о том, что он никогда прежде не сочинял хвалебных пес¬
ней, иначе говоря, вообще не пробовал себя в «серьезном» скальдическом
жанре! Это обстоятельство (способное смутить конунга) вовсе не меша¬
ет нашему герою «авансом» считать себя более искусным скальдом, чем
его родич Глум.
В откровенно вызывающем поведении Стува, между тем, нет ниче¬
го необычного: окажись на его месте другой скальд, он обнаружил бы
не больше скромности. Профессиональная самооценка скандинавско¬
го поэта, неизменно свидетельствующая о его высоком авторском само¬
сознании, — своего рода «общее место» как рассказов о скальдах, так и
создаваемой ими поэзии. Обсуждая при каждом удобном случае свое по¬
этическое мастерство и не скупясь на похвалы в адрес собственного сти¬
хотворчества, скальды вовсе не стремились занять место в одном ряду с
себе подобными, но, напротив, смело противопоставляли себя собрать¬
ям или прямым предшественникам по ремеслу, рассматривая свое уме¬
ние как единственное в своем роде. Подобное самоутверждение поэта
соответствовало индивидуально-авторской природе скальдического ис¬
кусства. Последнее имело, однако, и другую сторону, оставаясь одно¬
временно глубоко традиционным: даже осознавая себя творцом своей
поэтической формы, скальд был не вправе и не пытался выходить за
рамки от века установленных правил и норм. В этом секрет чрезвычай¬
ной консервативности поэзии скальдов, не претерпевшей на всем про¬
тяжении своей полутысячелетней истории сколько-нибудь существенных
изменений. Именно эту сторону скальдического творчества и имеет в
виду Харальд, выспрашивая Стува о его предшественниках.
Итак, в то время как мнение скальда о собственном поэтическом
умении являет собой его самооценку, конунг, пытаясь оценить предпо¬
лагаемые достоинства поэта, стоит на позициях аудитории, рассматри¬
вающей каждого вновь заявившего о себе стихотворца как одного из
многих — представителя определенной традиции. Однако ни принад¬
лежность к известному своими поэтическими достижениями роду, ни
гордые заверения в профессиональном превосходстве над другими
скальдами, раздававшиеся в ответ на государевы расспросы, не избав¬
ляли скальда от необходимости на деле доказать справедливость его
притязаний. Право на то, чтобы стать дружинником и приближенным
короля, скальд завоевывал, лишь подтвердив свои первоначальные за¬
явления истинно высоким качеством сложенной им хвалебной песни.
То же имеет место и в рассказе о Стуве: конунг уклоняется от ответа на
вторую просьбу исландца — принять его в королевскую дружину, ссы¬
лаясь на необходимость посоветоваться со своими людьми, и принимает
окончательное решение только после того, как Стув оправдал его ожи¬
дания, исполнив действительно прекрасную песнь в его честь.
Единственная просьба Стува, которую конунг удовлетворил безого¬
ворочно и сразу же, — оказать ему поддержку в деле о спорном наслед¬
стве — касалась цели его поездки в Норвегию. В краткой версии пряди
это — первое, о чем просит исландец. В отдельном рассказе Стув, на¬
против, приберегает эту просьбу на конец, чем вновь вызывает удивле¬
ние конунга: о самом для него главном исландец вспоминает лишь в
последнюю очередь. У Стува готов ответ и на этот вопрос. Оказывает¬
ся, то дело, ради которого он пересек море и отправился в долгое стран¬
ствие по Норвегии, показалось ему при встрече с конунгом «наименее
важным»! Высказанное конунгом недоумение не случайно: имуществен¬
ные интересы стояли в сознании человека той эпохи на одном из пер¬
вых мест. Хотел ли Стув своим неожиданным заявлением подчеркнуть,
какое значение он придавал тем просьбам, которые непосредственно
касались особы государя, и, таким образом, польстить конунгу или же
вновь демонстрировал независимость поступков и суждений? Как бы
то ни было, заметим, что, вопреки сказанному, исландец не подумал
отклониться от своего первоначального маршрута, не выразил желания
сопровождать конунга, но, распрощавшись с ним, пустился в путь ула¬
живать то самое дело, которое назвал наименее для себя важным...
Следующее свидание Стува с королем стало последним для него
испытанием. Исполнив сочиненную им в честь Харальда драпу, наш
герой с честью выдерживает его, доказывая тем самым конунгу, что все
сказанное им ранее по поводу собственного поэтического мастерства,
— не пустые слова, но истинная правда. В награду за искусно сложен¬
ную песнь конунг, как это было принято, приближает его к себе, и с
этого момента Стув повторяет судьбу множества других скальдов. Так
исландец, благодаря своей находчивости и незаурядным способностям,
добивается того, к чему стремился едва ли не каждый отправляющий¬
ся за море герой пряди: он завоевывает признание и расположение
государя и становится королевским дружинником и скальдом.
В краткой версии пряди рассказ о поэтическом испытании героя, а
с ним и вся заключительная сцена отсутствуют: сказано лишь, что Стув
явился к конунгу, и тот, с согласия своих людей, принял его в дружи¬
ну, после чего исландец некоторое время оставался при Харальде, а
впоследствии сложил о нем поминальную драпу. Именно эта после¬
дняя и послужила главным оправданием включения истории о Стуве
в «Сагу о Харальде Суровом Правителе». Не вызывает сомнения, что
автора саги исландец интересовал прежде всего как скальд, сочинив¬
ший в память о конунге песнь, известную под названием «Драпа Сту-
ва» (или «Стува»), и он сокращал или даже опускал сцены, которые не
имели, с его точки зрения, прямого отношения к характеристике Сту¬
ва — скальда, либо же, как заключительный эпизод, где «Драпой Сту¬
ва» была названа поэма, преподнесенная исландцем государю при сле¬
дующей с ним встрече, противоречили очевидному: «Драпой Стува»
именовалась не хвалебная, а поминальная песнь. Напротив, для авто¬
ра отдельной версии пряди рассказ о Стуве в первую очередь был по¬
учительной и «мудрой историей» о самостоятельном и независимом
исландце, сумевшем многого достигнуть своим умом и уменьем.
Т.Н. Джаксон, А.В. Подосинов (Москва)
Норвегия глазами древних скандинавов:
к вопросу о специфике древнескандинавской
ориентации по странам света
В настоящей статье рассматриваются положение, протяжен¬
ность, границы Норвегии и место, занимаемое ею в извест¬
ном тогда мире, как они зафиксированы в памятниках древ¬
нескандинавской письменности; имя страны, отражающее ее
географическое положение; пространственные представления
средневековых норвежцев. Мы намерены показать как специфику древ¬
нескандинавской картины мира (в ее ориентационном аспекте), так и ее
общность с представлениями о пространстве в других архаических куль¬
турах Земного шара.
Самое раннее описание Норвегии с точки зрения ее географичес¬
кого положения, равно как и упоминание названия страны и имени ее
обитателей, содержится в сообщении халогаландца Охтхере, записан¬
ном около 890 г. королем англосаксов Альфредом в его дополнении к
переводу «Истории против язычников» Павла Орозия [1)‘. Описания
Норвегии встречаются в целом ряде памятников древнескандинавской
(исландско-норвежской) письменности — хрониках, сагах разных ви¬
дов, географических сочинениях. Среди них основные — анонимная
латиноязычная хроника «История Норвегии» (около 1170 г.) [2]; ис¬
ландский географический трактат последней трети XII в. с условным
названием «Описание Земли I» [3] и восходящие к нему более поздние
географические сочинения — «Описание Земли II» (не ранее середи¬
ны XIII в.) [4] и «Грипла» (не позднее XIV в.) [5]; «Сага об Олаве
Трюггвасоне» монаха Одда (около 1190 г.) [6]; «Легендарная сага об
Олаве Святом» (начало XIII в.) [7]; своды королевских саг «Красивая
кожа» (около 1220 г.) [8| и «Круг земной» Снорри Стурлусона (около
1230 г.) [91; дополнение к «Саге об Олаве Святом» (около 1230 г.) по
«Книге с Плоского острова» [10]; «Сага об Эгиле Скаллагримссоне»,
относящаяся к сагам об исландцах, но, скорее всего, написанная Снор¬
ри Стурлусоном (I 200 - I 230 гг.) 11 11. Очень схожая картина представ¬
лена и в датской лагнноязычной хронике начала XIII в. «Деяния да¬
нов» Саксона Грамматика 11 2|.
113
Как можно видеть по текстам, у всякого автора есть некое общее пред¬
ставление о пространстве, в котором он ориентируется с помощью свое¬
го рода «ментальной карты». Конечно, авторы IX—XIII вв. едва ли имели
перед собой реальную карту, по которой они определяли соотношение
стран и земель и которой они пользовались при составлении своих опи¬
саний, но при этом они как бы постоянно составляли из разных источ¬
ников (вполне «хорографического», путевого, итинерарного характера)
«ментальную карту» местности. Так происходит, например, у Саксона
Грамматика [12], который, зная о существовании северного залива океа¬
на (Гандвик) и южного (Балтика), делает заключение, что Скандинавия
не остров, а полуостров. Характер этого заключения («следовательно»,
«если бы..., то»), обнаруживает, с одной стороны, отсутствие авторитет¬
ной реальной карты, с другой, — сиюминутное, на наших глазах, пост¬
роение карты ментальной. Мы склонны считать, что рассматриваемые
нами тексты отражают период перехода от «хорографической» ориента¬
ции в географическом пространстве, с его линейными, двумерными
координатами «карты пути», к (пока еще ментальной) «карте-обозре¬
нию», к «картографической» ориентации, каковую отличает несвязан¬
ность с конкретно-чувственной системой отсчета, большая степень аб¬
страгирования от местных ориентиров при рассмотрении земной
поверхности, одновременное единое представление системы различных
пространственно размещенных и соотнесенных компонентов2.
Итак, каковы же протяженность и границы Норвегии по нашим ис¬
точникам?
Во всех без исключения текстах [1 — 12] присутствует представление о
том, что Норвегия протянулась на север, причем «очень далеко на север»
[1]. Чем дальше к северу, тем уже становится полоска прибрежной земли,
пригодной для жизни, достигая всего лишь трех миль в ширину [ 1 ]. В ка¬
честве северной границы чаще прочих упоминается Финнмарк [За, 36, 4,
5, 6а, 66, 9, 11], а также Гандвик [За, 8, 10] и Вэгестав/Вэгистав/Эгестав [2.
За, 7]. Финнмарк — это область расселения финнов, входящая в пределы
современной Норвегии. В средневековых текстах она выступает в качестве
самой северной части Норвегии, а также в качестве ее северной погранич¬
ной территории, вероятно, по причине отсутствия четких границ и черес¬
полосного размещения населения [6а] (ср. в «Истории Норвегии»: «Хало-
гия, жители которой живут преимущественно вместе с финнами и между
собой часто торгуют» [2]). Гандвик, согласно представлениям того време¬
ни, — большой залив внешнего океана, sinus septentrionalis, т.е. весь Ледо¬
витый океан к северу от европейских берегов, омывающий и Норвегию, и
Финнмарк. Что касается Вэгестава, однозначная локализация этой облас¬
ти на севере Халогаланда, рядом с Финнмарком и Бьярмаландом, не уста¬
новлена.
В описании той страны света, откуда на север протянулась Норвегия,
подобного единодушия в источниках не наблюдается. Речь в них идет о
юго-западе [6а], юге [За, 66, 10] и востоке [За, 7, 8, 9|. В двух текстах не без
основания отмечается вытянутость территории в три (а не в две) страны
света: «На востоке она начинается от большой реки |...|. затем тянется к
западу и далее изогнутой линией возвращается обратно через север» |2|.
114
«Норвегия имеет три выступающих мыса^сильно протянулась та земля с
юго-запада в сторону севера и от [реки] Гаутэльв на север до Вэгестава; а в
ширину — с востока и на запад, от [леса] Эйдаског и до Английского моря»
[6а]. Впрочем, представление о территории Норвегии в форме треугольни¬
ка с вершинами на севере, востоке и юге (или западе) можно составить уже
из текста Охтхере [1]: «Эта заселенная земля шире всего в сторону восто¬
ка, а чем ближе к северу, тем уже. В сторону востока она, должно быть,
шестидесяти миль шириной или несколько шире; и посередине трид¬
цати [миль] или шире; а к северу, сказал он, она уже всего, должно быть,
три мили в ширину до тех гор». О протяженности земли «в ширину — с
востока и на запад, от [леса] Эйдаског и до Английского моря» говорится
и в саге монаха Одда [6а, 6б]\
Границы Норвегии, если они оговариваются, указываются только на
севере и востоке/юге, только по суше, где они могут быть спорными.
Подразумевается, очевидно, что западная граница — естественная, обра¬
зуемая морем, — исконно норвежская.
Что касается восточной границы, то из текстов следует, что на восто¬
ке Норвегия граничит со Швецией, и граница идет на всем своем протя¬
жении по горам и лесам, кроме самого южного отрезка по р.Гёта-Эльв [9].
В части текстов [За, 10] эта река названа южной границей Норвегии, и
тогда в качестве восточной указан лес Эйдаског. Хотя с юга Норвегия
почти полностью омывается водами Северного моря и пролива Скагер¬
рак, все же небольшой отрезок ее южной материковой границы не остав¬
лен без внимания.
В трех текстах упоминаются воды у западного побережья Норвегии:
Северное море [6а, 66] и пролив о-ва Энгуль [За]. Согласно географичес¬
кому сочинению конца XII в., восточная граница находится в районе
шестидесятого градуса с.ш. (лес Эйдаског), а западная — в районе шесть¬
десят восьмого (пролив о-ва Энгуль) [За]. Еще любопытнее, что фьорд в
непосредственной близости от о-ва Энгуль носит сейчас название Вест-
фьорд, т.е. Западный фьорд.
На основании тех же текстов можно составить некоторое представле¬
ние о местоположении Норвегии в известном тогда мире. К востоку от нее
расположены Свитьод [2, За, 4, 5, 6а, 66, 12] и Русаланд [4]; к западу —
Англия [6аJ и Исландия [ 12]; к югу — Данмарк [За, 4, 5, 6а, 66] и Саксланд
[За]; к северу — Финнмарк [За, 36, 4, 5, 6а, 66, 9, 11], а за ним к северу/се-
иеро-востоку/северо-востоку-востоку — Бьярмаланд [2, 36, 4, 5]. Картина
далеко не полна, хотя и верна в общих чертах.
Сколь ни велик объем информации, содержащейся в двенадцати по¬
именованных выше фрагментах, все же главное, что можно извлечь из
описаний Норвегии в памятниках древнескандинавской письменнос¬
ти, — это свидетельство ее безусловной протяженности в северном на¬
правлении4.
Собственно, эта же информация заключена и в имени страны, по¬
скольку др.-исл. Noregr представляет собой стянутую форму от *Nordvegr
(с [б| и [w|) — «Северный путь» (ср. др.-англ. Nordweg |у Охтхере|; лат. —
Nordve(g)ia [у Адама|, Norwegia [в «Истории Норвегии»!. Norvagia |у Сак¬
сона Грамматика|; соврем, исл. Noregur, норвежек., шведск.. датск. Norge.
115
англ. Norway, нем. Norclwegen). Происхождение имени вполне прозрачно
(страна света + путь), хотя есть и иные его объяснения. Так, Р. Клизби и
Гудбранд Вигфуссон5, равно как и Я. де Фрис6, будучи сторонниками это¬
го толкования, приводят также иную этимологию первого корня: nor —
«морской рукав, узкий морской пролив»: в ее пользу могло бы говорить
произношение, а именно долгота гласного [о]7 и отсутствие фрикативного
зубного [б|к. Кроме того, особенности занимаемой страной территории —
узкая полоска земли между морем и горами, изрезанная фьордами, —
дают основание, по мнению Я. де Фриса, рассматривать средневековое
лат. Northwegia как народную этимологию9. Однако, на наш взгляд, не сле¬
дует забывать о др.-англ. форме конца X в. Nordweg (сообщение халога-
ландца Охтхере в записи короля Альфреда) и о параллельном с Noregr су¬
ществовании наименования обитателей этой страны —Nordmenn (мн.ч.
от Nordmadr), где [dj присутствует10.
Более того, источниками зафиксированы другие «пути», кроме «Се¬
верного». В них обнаруживаются следы всех четырех потенциально воз¬
можных топонимов, образованных по схеме «страна света + vegr /
vegir(vegar)». Austrvegr — весьма частотный — сохранился в формах как
мн., так и ед.ч., а три других слова зафиксированы лишь по нескольку
раз в ранних текстах и только в форме мн.ч.: Vestrvegir(в значении: «Бри¬
танские острова») в шведской рунической надписи; Sudrvegar в эддичес-
кой «Песни о Гудрун» и в «Саге о побратимах» (в значении «не¬
определенные южные пути»), а также в «Саге об Олаве Трюггвасоне»
монаха Одда Сноррасона (в значении «южные страны — как противо¬
положное Nordrlqnd»)-, Nordrvegar («север») в эддической «Песни о Хель-
ги Убийце Хундинга»11. Исходно эти названия могли являться обозна¬
чениями многочисленных, возможно, вполне конкретных путей на
восток, запад, юг и север.
Итак, скандинавы знают четыре «пути», ведущих в четыре страны све¬
та. Откуда же начинаются эти пути? Где центр этой своеобразной «розы
ветров»? Едва ли в самой Норвегии, если воспринимать ее всю, как она
протянулась от южных проливов до Финнмарка на севере. Ведь она
сама — один из «путей», ведущих откуда-то к северу. Вполне очевидно,
что изначальное название Норвегии как «Северного пути» (*Nordvegr), а
ее жителей как «северных людей» (Nordmenn) не могло быть автохтонным,
самоназванием (никто не может назвать себя «северными» или «южны¬
ми» людьми). Это название должно было возникнуть южнее Норвегии:
либо где-то на севере материковой Европы (на севере Ютландии?), либо
на северной оконечности датских островов, либо в Южной Скандинавии,
и произойти это должно было гораздо раньше, чем были созданы наши
памятники.
Известно, что еще в эпоху античности основным центром поселений
германцев был юг Скандинавии («остров Скания, или Скандза»), а так¬
же северная оконечность Ютландии и о-в Зеландия12. Отсюда, преиму¬
щественно по океанскому побережью, германские племена продвига¬
лись — медленно и небольшими группами — на север Скандинавии, так
сказать, по «северному пути». Возможно, название «Северный путь»
закрепилось за Норвегией в конце IV—V в. н.э.. когда археологически
фиксируются полны ноной миграции германского населения (напри¬
мер, племен хордов и ругиев)1' с материка на северо-западное побере¬
жье Норвегии14. На территорию Скандинавского полуострова германс¬
кие племена проникали по наиболее доступному пути — через датские
острова и проливы. Именно в этом районе — в самом оживленном цен¬
тре коммуникаций Северной Европы1" — и могла возникнуть «роза вет¬
ров»: морские пути вели отсюда на восток (Балтика) и запад (Северное
море), а Данию и Саксонию на юге связывали с Норвегией на севере по
преимуществу сухопутные материковые пути16.
Есть основания думать, что со временем корень veg- в составе назван¬
ных композитов лишился своей основной семантики, и топонимы на -vegr
стали обозначать не пути, а земли. Так, Austrvegrстал обозначать земли по
берегам Балтийского моря, a Noregr (от *Nordvegr) стал использоваться в
качестве названия страны — Норвегии. Более того, в результате исчезно¬
вения полугласного [wj после долгого слога17 и выпадения [5] название
могло вообще перестать восприниматься как «Северный путь»18. Имя
Noregr постепенно превратилось в самоназвание, этимология которого
была плохо понятна самим норвежцам. О том, что для них оно не было
прозрачным, говорят, в частности, попытки объяснить его как произо¬
шедшее от имени мифического конунга Нор (или Нори)'9.
Со странами света и членением по ним мира связаны и композиты с
корнями -lond, -riki, -hcilfa. Известны четыре хоронима с корнем -Iqnd:
AustrlQnd, Vestrlqnd, Sudrlqnd и Nordrlqnd. Значение их, правда, несколь¬
ко иное, чем в названиях на - vegr. Они обозначали не только те земли, по
которым проходил путь; их смысл был шире. Так, если Noregr — Норве¬
гия, то Nordrlqnd — все скандинавские страны. Композитов на -riki — два:
Sudrriki и Austrriki. Источниками зафиксировано существование терми¬
нов Austrhalfa — «Восточная часть», Vestr(h)dlfa — «Западная часть»,
Siidr(h)alfa — «Южная часть» и Nordr(h)alfa — «Северная часть»20.
Итак, анализ топонимии позволяет заключить, что в представлении
средневекового скандинава весь обитаемый (посещаемый) мир делил¬
ся на четыре четверти по странам света. Этот вывод не противоречит
тому обстоятельству, что в ряде скандинавских памятников письменно¬
сти Земля (ойкумена) делится на три части (см.: зачины географичес¬
ких сочинений, начало «Саги об Инглингах», Пролог «Младшей Эдды»).
Трехчленное деление ойкумены на «доли» сыновей Ноя — Сима, Хама
и Иафета, наложившись на античное представление о разделении суши
на три материка — Азию, Европу и Африку, стало традиционным в ла¬
тиноязычной средневековой космографии Европы. В тех случаях, ког¬
да скандинавский автор основывал «ученое» вступление к своему труду
на этой традиции, появлялась и трехчленность мира21. Однако при опи¬
сании конкретных географических ситуаций и плаваний, при практи¬
ческом ориентировании в пространстве, да еще на местных языках, на
первый план выступало естественное и традиционное для древних скан¬
динавов (как и для всех германцев и — шире — индоевропейцев) чле¬
нение мира на четыре четверти по странам света.
К тем же выводам — а именно, что весь обитаемый мир состоит, по
представлениям средневековых исландцев и норвежцев, из четырех чет¬
117
вертей, — можно прийти, анализируя иной, но очень близкий матери¬
ал — содержащиеся в исландских королевских сагах рассказы о плавани¬
ях из Норвегии в другие страны. Здесь мы сталкиваемся с парадоксаль¬
ными, на первый взгляд, сообщениями о плавании из Норвегии «на
запад» в Африку, а из Англии — «на запад» во Францию; из района Бе¬
лого моря «на восток» в Суздальскую землю, а оттуда «на восток» — в Нов¬
городскую землю; и т.д. и т.п. Направления движения (непременно ого¬
вариваемые в текстах!) зачастую оказываются не просто неточными, а
полностью противоположными показаниям компаса — как бы «непра¬
вильными».
Подойти к пониманию сути проблемы помогает ряд работ, в которых
рассматривается ориентация, отразившаяся в исландских родовых сагах
и употреблявшаяся при описании передвижений в пределах самой Ислан¬
дии. Исследователи выделяют два ее типа — ближнюю (proximate) и даль¬
нюю (ultimate). Ближняя — это ориентация по странам света, основанная
на визуальной оценке (как в открытом море, где наблюдение за небесны¬
ми светилами является единственно возможным способом определения
местонахождения и дальнейшего маршрута, так и в пределах ближайшей
округи). Страны света при этом обозначены «правильно» или «прибли¬
зительно правильно». Дальняя — это ориентация при передвижении (ка¬
ковое часто было затруднено и никогда не являлось прямолинейным)
между четвертями, на которые Исландия была законодательно разделе¬
на в 965 г., именовавшимися по четырем странам света, — по суше и
вдоль побережья. В этом случае движение «на восток» (из любой геогра¬
фической точки Исландии) понималось как движение в Восточную Ис¬
ландию, «на север» — в Северную четверть Исландии и т. д. Направле¬
ние при дальней ориентации было выражено в терминах цели. Термины
направления движения в такой системе часто использовались в «непра¬
вильном» значении.
Оказалось, что в картине мира, нашедшей отражение в исландских
королевских сагах22, присутствуют четыре области — северная, западная,
восточная и южная. Представление о том, какие страны относятся к этим
областям, — весьма устойчивое. Западная — это вся Атлантика (Англия,
Исландия, Оркнейские и Шетландские острова, Франция, Испания и
даже Африка); восточная — прибалтийские и более восточные земли
(включая Русь); южная — Дания, Саксония. Северная область — это по
преимуществу сама Норвегия, но также Финнмарк, а иногда и Бьярма-
ланд23. Движение из одной области в другую определяется не по реаль¬
ным показаниям компаса, а в соответствии с принятыми наименовани¬
ями этих областей, т.е. направление движения вновь выражено в
терминах цели. Так, плавание и из Швеции, и из Восточной Прибалти¬
ки, и из Руси в Норвегию обозначается либо как движение «на север»,
потому что Норвегия лежит в «Северной области», либо как движение «с
востока», поскольку к «Восточной области» принадлежат и Швеция, и
восточно-прибалтийские земли, и Русь.
Принципиально важно, что распределение земель по четвертям,
восстанавливаемое нами на основании анализа отразившихся в коро¬
левских сагах ориентационных особенностей, полностью соответствует
тому, которое мы наблюдали выше в текстах, описывающих географи¬
ческое положение Норвегии. В королевских сагах совершенно очевид¬
но прослеживаются те же особенности, которые характерны для ори¬
ентационной системы, нашедшей отражение в сагах об исландцах:
термины стран света при дальней ориентации используются примени¬
тельно не к линейным направлениям, а к четвертям (или частям) мира.
Центр «розы ветров», как мы предположили, находился где-то в
районе Южной Скандинавии, либо Северной Ютландии, либо север¬
ной оконечности датских островов. Однако принадлежность Дании к
Южной части мира требует, на наш взгляд, дополнительного коммен¬
тирования. Так, следует обратить внимание на зафиксированное в ис¬
точниках разделение данов на южных и северных. Согласно королю
Альфреду, южные жили на Ютландии, а северные — на Фюне, Зелан¬
дии, в Сконе и Халланде24. По «Саге о Кнютлингах» (середина XIII в.),
«самая большая часть Дании зовется Ютландией; она лежит южнее
[всех прочих частей] у моря»25. Отсюда следует, что центр «розы вет¬
ров» действительно мог находиться в области расселения «северных»
данов. Относительно этой точки Ютландия могла восприниматься как
лежащая к югу (при этом Ютландский полуостров еще и выступал бе¬
зусловной границей между Восточным и Западным путями, не отно¬
сясь ни к Восточным, ни к Западным землям). Норвегия же оставалась
в Северной части мира и, вполне отвечая своему названию, составля¬
ла, вместе с Финнмарком, одну из четырех четвертей.
Четырехчастность картины мира древних скандинавов проявляется и
в том установленном историками факте, что членение на четыре четвер¬
ти лежит в основе почти всех делений на области и регионы на германс¬
ком севере, причем это касается пространственной структуры и деревень,
и городов, и областей, и всей ойкумены26. Обращение к четырем странам
света засвидетельствовано во многих обрядах и магических действиях
древних германцев, в их фольклоре и обычаях27.
По мифологическим представлениям древних германцев, боги — де¬
миурги космоса, убив прародителя великанов Имира, положили его тело
в основание мира: «Они взяли Имира, бросили в самую глубь Мировой
бездны и сделали из него землю, а из крови его — море и все воды. Сама
земля была сделана из плоти его, горы же из костей, валуны и камни —
из передних и коренных его зубов и осколков костей... Взяли они и че¬
реп его и сделали небосвод. И укрепили его над землей, загнув кверху ее
четыре угла, а под каждый угол посадили по карлику. Их прозывают так:
Восточный, Западный, Северный и Южный»28. Здесь космизация антро¬
поморфного тела, столь часто встречающаяся в различных архаических
культурах Евразии29, включает в себя и ориентацию по странам света,
демонстрируя особый интерес древних скандинавов к ориентации в про¬
странстве.
Очень важно отметить, что в древних культурах почти всего земного
шара наблюдается естественный пространственно-психологический ар¬
хетип членения мира на четыре части, ориентированные, как правило, по
странам света-0. Как известно, такие широко распространенные на Зем¬
ле космологические знаки, как крест, свастика, квадрат, четырехлепест¬
ковый лотос и др., являются символами структуры космического и зем¬
ного пространства. Такова, например, картина мира древних кельтов,
индийцев, китайцев и других народов.
Напомним, как представлялось членение мира в двух наиболее уда¬
ленных друг от друга культурах индоевропейцев — кельтской и индийс¬
кой. Современная Ирландия имеет четыре провинции, но их название
(cojced — «1/5 часть, пятина») показывает, что когда-то их было пять.
Помимо четырех, лежащих по странам света (легендарная традиция на¬
зывает Улад, или Ульстер, на севере, Лейнстер на востоке, Мунстер на юге
и Коннахт на западе), во II в. н.э. возникла пятая провинция — Средин¬
ная (Mide)}i.
Космологические схемы древних индийцев изображают вселенную
как четыре материка (острова), расположенных вокруг священной горы
Меру — сакрального центра Вселенной. Поскольку мифическая гора
Меру представлялась древним индийцам лежащей далеко на севере, Ин¬
дия в этой схеме оказывается только одним из таких материков — юж¬
ным. С точки зрения древнего индийца, сакрален север (и это естествен¬
но, ибо арийцы пришли в Индию с севера), при совершении многих
обрядов взгляд направлен туда, на север. Царство мертвых Ямы находится
на противоположном конце мира — на юге. Примечательно, что Индия
в представлениях ее обитателей оказалась не в Центре мира, а в одной из
его четвертей32.
Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в представлениях жителей
Норвегии. Только здесь, напротив, сакрален юг, откуда шло заселение
Скандинавского полуострова; царство мертвых оказалось на севере. Мир
тоже четырехчленен: своя территория также не является центром Вселен¬
ной (это лишь часть северной четверти). Но когда взгляд описывающего
норвежца направлен из Норвегии, эта территория может приобретать
значение центра, теряя свою реальную «четвертинность».
Как же возникли у авторов саг представления о месте Норвегии в
картине мира? Можно, вероятно, реконструировать этот процесс сле¬
дующим образом. Представление о четырехчленности космоса, мира,
известного географического пространства является архетипическим
для всех людей Земли; оно заложено в психосоматических особеннос¬
тях человека, различающего переднее, заднее, правое и левое, и обус¬
ловлено движением главного ориентира — Солнца, дающего четыре
пункта ориентации по странам света33. В первых веках нашей эры эта
четырехчленность географического пространства реализовалась в среде
северных германцев в районе Южной Скандинавии в виде представ¬
ления о четырехлепестковой «розе ветров», что вызвало к жизни и
представление о четырех «путях». «Северным» было обозначено на¬
правление миграции германских племен на север Скандинавского по¬
луострова. В IX в. это представление о четырехчленном пространстве,
явившееся сюда вместе с норвежцами, колонизовавшими Исландию,
послужило основой членения Исландии на четыре четверти. Как и у
кельтов Ирландии, деливших свой остров на четыре королевства, та¬
кое членение было следствием взаимного наложения представлении о
структуре космоса и о близкой среде своего обитания. Создавая саги
120
об истории Норвегии (королевские саги), исландцы использовали при¬
вычную для всех скандинавов схему членения мира на четыре четвер¬
ги с центром в Южной Скандинавии, к тому же подкрепленную их
собственной схемой деления Исландии на четверти.
Приложение (Каталог текстов)54
[1]. Орозий короля Альфреда
Текст
Ohthere saede his hlaforde, /Elfrede cyninge, ^aet he ealra Nordmonna nor^mest
bude. He cwaed ^aet he bude on baem lande nor^weardum wib ba Westsae. He
saede beah J)aet baet land sie swi^e lang поф bonan, ac hit is eal weste, buton
on feawum stowum styccemaelum wiciad Finnas, on huntode on wintra & on
sumera on fisca^e be £>aere sae.
He saede J^aet he aet sumum cirre wolde fandian hu longe baet land norbryhte
laege, о1фе hwaeder aenig mon be nordan daem westenne bude. t>a for he
nodryhte be baem lande; let him ealnc weg baet weste land on daet steorbord &
ba widsae onn daet baecbord brie dagas. t>a was he swa feor поф swa J)a
hwaelhuntan firrest farab- ba for he giet norbryhte swa feor swa he meahtc
on baem o^rum brim dagum gesiglan. ^>a beag baet land |эаег eastryhte, о|фе
seo sae in on daet lond, he nysse hwaeder, buton he wisse daet he daer bad
westanwindes & hwon пофап & siglde J)a cast be lande swa swa he meahte
on feower dagum gesiglan. ba sceolde he daer bidan ryhtnorbanwindes, for daem
[Daet land beag baer sudryhte, obbe seo sac in on daet land, he nysse hwaeder. ba
siglde he bonan sudryhte be lande swa swa he mchtc on Fif dagum gesiglan.
Da laeg |заег an micel ea up in on baet land. [...]
He saede baet Nordmanna land waere swybc lang & swydc smacl. Eal baet
his man aber odde ettan odde erian maeg, baet lid wid da sac; & baet is beah on
sumum stowum swydc cludig, & licgad wildc moras wid eastan & wid uppon,
emnlange baem bynum lande. On baem morum cardiad Finnas: & daet byne land
is easteweard bradost & symle swa nordor swa smaelre; eastewerd hit maeg bion
syxtig mila brad obbe hwene braedre, & middeweard britig odde bradre; &
nordeweard, he cwaed, baer hit smalost waere, baet hit mihte beon breora mila
brad to baem more, & se mor sydban on sumum stowum swa brad swa man
maeg on twam wucum oferferan, & on sumum stowum swa brad swa man maeg
on syx dagum oferferan’5.
Перевод
Охтхере сказал своему господину, королю Альфреду, что он живет север¬
нее всех норманнов. Он сказал, что живет в стране, |лежашей| к северу
от Западного моря (Северного моря. — Лет ). Он сказал, однако, что стра¬
на эта простирается очень далеко на север оттуда: но она вся пеобигае-
121
ма, за исключением нескольких мест, [где] то тут, то там живут финны,
охотясь зимой, а летом ловя рыбу в море.
Он сказал, что однажды захотелось ему узнать, как далеко на север
лежит эта земля и живет ли кто-нибудь к северу от этого необитаемого
пространства. Тогда он поехал прямо на север вдоль берега, и в течение
трех дней на всем пути оставлял он эту необитаемую землю по правую
сторону [от корабля], а открытое море — по левую. И вот оказался он на
севере так далеко, как заплывают только охотники на китов. Тогда он
поплыл дальше на север, сколько мог проплыть [под парусом] за следу¬
ющие три дня. А там то ли берег сворачивал на восток, то ли море вреза¬
лось в берег — он не знал; знал он только, что ждал там северо-западно¬
го ветра и поплыл дальше на восток вдоль побережья столько, сколько мог
проплыть за четыре дня. Потом он должен был ждать прямого северного
ветра, потому что то ли берег сворачивал прямо на юг, то ли море вреза¬
лось в берег — он не знал. И поплыл он оттуда прямо на юг вдоль берега
столько, сколько он смог проплыть за пять дней. И там большая река вела
внутрь земли. Тогда вошли они в эту реку, но не осмеливались плыть по
ней, боясь нападения [со стороны местных жителей], ибо земля эта была
заселена по одной стороне реки.
Он сказал, что земля норманнов очень длинная и очень узкая. И вся
земля, пригодная для пастбищ или для пахоты, лежит близ моря; однако
в некоторых местах она очень каменистая, и лежат дикие горы на восто¬
ке и по всему пространству этой необитаемой земли. На горах этих жи¬
вут финны. Эта заселенная земля шире всего в сторону востока, а чем
ближе к северу, тем уже. В сторону востока она, должно быть, шестиде¬
сяти миль шириной или несколько шире; и посередине тридцати [миль]
или шире; а к северу, сказал он, она уже всего, должно быть, три мили в
ширину до тех гор. А горы за ней в некоторых местах так широки, что их
можно пересечь за две недели, а в некоторых местах — за шесть дней.
[2]. «История Норвегии»
Текст
Incipit liber primus in historia Norwegiae.
Norwegia igitur a quodam rege, qui Nor nuncupatus est, nomen obtinuerat.
Est autem Norwegia regio vastissima sed maxima ex parte inhabitabilis pras
nimietate montium et nemorum ac frigorum. Quae in oriente a magno
flumine incipit, versus occidentem vero vergit et sic circumflexo fine per
aquilonem regyrat. Est terra nimis sinuosa, innumera protendens promontoria.
iii habitabilibus zonis per longum cincta: prima, quae maxima et maritima est:
secunda mediterranea, quae et montana dicitur; tertia silvestris, quae Finms
inhabitatur, sed non aratur. Circumsepta quidem ex occasu et aquilone refluentis
oceani, a meridie vero Daciam et Balticum mare habet, sed de sole Swethiam.
Gautoniam, Angariam, Jamtoniam. Quas nunc partes (deo gratias) gcntes colunt
christianee. Versus vero scptcmtrionem gentes perplures paganismo (proh dolor)
mscrvientcs trans Norwcgiam ab oricntc cxtcnduntur. scilicet Kariali et Kwasm.
122
cornuti Finni ас utriquc Biarmones. Sed quae gentes post istos habitent. nihil
certum habemus. Quidam tamen nautae cum de Glaciali insula ad Norwegian!
remeare studuissent et a contrariis ventorum turbinibus in brumalem plagam
propulsi essent, inter Viridenscs et Biarmones tandem applicuerunt, ubi homines
mirae magnitudinis et virginum terram (quae gustu aquae concipere dicuntur)
sc reperisse protestati sunt. Ab istis vero Viridis terra congelatis scopulis
dirimitur; quae patria a Telensibus reperta et inhabitata oc fide catholica roborata
terminus est ad occasum Europae, fere contingens Africanas insulas, ubi
inundant oceani refluenta. Trans Viridenses ad aquilonem quidam homunciones
a venatoribus reperiuntur, quos Scraelinga appellant; qui dum vivi armis
feriuntur, vulnera eorum absque cruore albescunt, mortuis vero vix cessat
sanguis manare. Sed ferri metallo penitus carent, dentibus cetinis pro missilibus,
saxis acutis pro cultris utuntur.
De tripartito incolatu Norwegiae..
Zona itaque maritima Decapolis dici potest, nam x civitatibus inclyta est,
iiii patrias complectens xxii provinciarum capaces. Prima patria Sinus
orientalis dicitur, a terminis Daciae oriens, et usque ad locum, qui Rygiarbit
appellatur, extenditur iiii provincias continens. Secunda Gulacia ad insulam,
quae Media nuncupatur, usque propelatur vi complectens provincias, quarum
ultima nomine Mor villam quandam habet naturae mirabilis; omnes enim
stipites arborumque abcisi ramusculi, si per unius anni spatium terrae
inhaereant, in lapides convertuntur. Tertia patria Trondemia vocitatur et est
sinus ostio angustissimo, octo capiens provincias in sua latissima receptacula,
iii etiam extra sumens et fiunt xi. Quarta Halogia, cujus incolae multum Finnis
cohabitant et inter se commercia frequentant; quae patria in aquilonem
terminat Norwegiam juxta locum Wegestaf, qui Biarmoniam ab ea dirimit36.
Перевод
Начинается книга первая Истории Норвегии.
Норвегия получила имя от некоего короля, которого звали Нор. И хотя
Норвегия — обширнейшая страна, но большая ее часть необитаема из-
за обилия гор и лесов, а также из-за чрезмерных холодов. На востоке она
начинается от большой реки [...], затем тянется к западу и далее изогну¬
той линией возвращается обратно через север. Это земля, сильно изре¬
занная заливами, имеет бесчисленное количество мысов; она делится на
три обитаемых пояса: первый, который самый обширный и тянется вдоль
моря; второй — средиземный, называемый также горным; третий — лес¬
ной, населенный финнами, но не возделываемый. Окруженная с запада
и севера волнами (вариант перевода: приливами и отливами) океана,
[ Норвегия] имеет с юга Дакию (т.е. Данию. — Авт.) и Балтийское море,
с востока же Светию, Гаутонию, Ангарию, Ямтонию. Эти земли — слава
Богу — населяют нынче христианские народы. К северу же за Норвеги¬
ей с восточной стороны простираются многочисленные племена, предан¬
ные — о ужас! — язычеству, а именно: кирьялы и квены. рогатые фин¬
ны, и те и другие бьярмоны. Какие же племена обитают за этими, мы
точно не знаем. Однако, когда какие-то мореплаватели вознамерились
проплыть от Ледяного острова (Исландии. — Авт.) к Норвегии и встреч¬
123
ными бурями были отброшены и зимнюю область, они прибились к бе¬
регу между вириденами (гренландцами. — Авт.) и бьярмонами. Там, по
их свидетельству, обретались люди удивительной величины и страна ден
(которые, как говорят, зачинают, выпив воды). От этих виридов земля от¬
делена ледяными скалами. Эта страна, открытая, заселенная и верой ка¬
толической укрепленная теленцами (? — Авт.), — крайняя точка на за¬
паде Европы, которая почти достигает Африканских островов (? — Авт.),
где плещут волны океана (вариант перевода: где есть океанические при¬
ливы и отливы). За вириденами к северу охотники находят каких-то че¬
ловечков, которых называют скрелинга; когда они, будучи еще живыми,
ранены оружием, то раны их, лишенные крови, светлеют, а у умерших
кровь вытекает почти бесконечно. Они совершенно не знают железа и
пользуются вместо стрел китовыми зубами и острыми камнями вместо
ножей.
О трех частях населения Норвегии.
Итак, прибрежную зону можно назвать Декаполисом (Десятиградь-
ем. — Авт.), так как она знаменита своими десятью городами; в ней
четыре округа, содержащих 22 провинции. Первый округ называется
Восточный залив, начинается от границ Дакии, тянется вплоть до мес¬
та, которое называется Ригиарбит, и содержит в себе четыре провинции.
Второй округ Гулация простирается вплоть до острова, называемого
Медия, и содержит в себе шесть провинций, последняя из которых —
по имени Мор — имеет некий хутор удивительной природы: ведь там все
стволы и срезанные ветки деревьев, если они проторчат в земле в тече¬
ние одного года, окаменевают. Третий округ называется Трондемия и
представляет собой залив с очень узким устьем, который на своих ши¬
рочайших берегах насчитывает восемь провинций; еще три провинции
находятся вне залива, и таким образом всего их 11. Четвертый округ —
Халогия, жители которой живут преимущественно вместе с финнами
(финнмаркенцами. — Авт.) и между собой часто торгуют. Этот округ
является северным пределом Норвегии около местности Вэгестав, ко¬
торая отделяет Бьярмонию от нее (от Норвегии. — Авт.).
[За]. «Описание Земли I» (AM 194, 8°)
Текст
Fyrir nordan Saxland er Danmork. I gegnum Danmork gengr sior i austr-veg.
Svijriod liggr fyrir austan Danmork, en Noregr fyrir nordan. Noregr er kalladr
nordan fra Vegistaf, J)ar er Finnmork, |?at er hia Gandvik. ok sudr til Gaut-elfar.
t>esa rikis его endimork: Gandvik fyrir nordan, en Gaut-elfr fyrir sunnan.
Eidaskogr fyrir austan, en Aunguls-eyiar-sund fyrir vestan'7.
Перевод
Севернее Саксланда находится Данмарк. Через Данмарк море ведет и
Аустрвег. Свитьод лежит к востоку от Данмарка, а Норвегия — к север\
124
Норвегией зовется |земля| с севера от Вэгистава, там Финнмарк, ото око¬
ло Гандвика, на юг до |реки | Гаут-Эльв. Таковы границы этого государ¬
ства: Гандвик с севера, а Гаут-Эльв с юга, (лес| Эйдаског — с востока, а
пролив острова Эн гуль — с запада.
[36]. «Описание Земли I» (AM 736 I, 4°)
Текст
Fyrir nordan Saxland cr Danmork. I gegnum Danmork gengr sior i austr-veg.
Svi[)iod liggr fyrir austan Danmork, en Norcgr fyrir nordan. Fyrir nordan Norcg
or Finmork. t>adan vikr landi til lannorj^us oc sva til austr adr komi til
Biarmalandz, (jat er scatt-gillt undir Gardakonung’8.
Перевод
Севернее Саксланда находится Данмарк. Через Данмарк море ведет в
Аустрвег. Свитьод лежит к востоку от Данмарка, а Норвегия — к северу.
К северу от Норвегии находится Финнмарк. Оттуда поворачивает земля
на северо-восток и так на восток, пока не доходит до Бьярмаланда, кото¬
рый обязан данью конунгу Гардов.
[4]. «Описание Земли II»
Текст
Svijjjod liggr fyrir austan Danmork, en Noregr fyrir nordan. En austr af Noregi
cr Ruzaland, ok nordr (эадап Tartarariki. Fyrir nordan Noregh cr Finnmork;
(?абап vikr landinu til lannorj^rs, adr komi til Bjarmalands. Af Bjarmalandi
ganga lond obygd af Nordraett unz Greenland tekr vid’9.
Перевод
Свитьод лежит к востоку от Данмарка, а Норвегия — к северу. А к востоку
от Норвегии находится Русаланд, а к северу оттуда — Тартарарики. К се¬
веру от Норвегии находится Финнмарк, оттуда поворачивает та земля на
северо-восток, пока не доходит до Бьярмаланда. От Бьярмаланда идут зем¬
ли, не заселенные северными народами, до самого Гренланда.
[5]. «Грипла»
Текст
Beicraland er v id Saxland. hi a Saxlandi cr Hollsctu land, (за Danmork .1
gegnum fcllur sior austur vegu. Sui|3iod lyggr fyrer austan Danmork. Norcgr
fyrer погбап, Finnmork погбг af Noregi. ba vijkr til landnor6us, ok austurs.
абг enn kiemr til Biarma lands, |эаб er skattgilldt undir Gar6a Riki. Fra
Biarmalandi lyggia obyg6ir. Nor6ur allt til [jess er Greenland kallast40.
Перевод
Бейераланд находится рядом с Саксландом, недалеко от Саксланда лежит
Хольсетуланд, затем Данмарк. Через [Данмарк] море поворачивает в Аус-
трвеги. Свитьод лежит к востоку от Данмарка, Норвегия — к северу, Фин-
нмарк — к северу от Норвегии. Затем [земля] поворачивает на северо-
восток и на восток, пока она не доходит до Бьярмаланда, который обязан
данью Гардарики. За Бьярмаландом лежат незаселенные земли. [Земля]
к северу от всех этих [земель] зовется Гренланд.
[6а]. «Сага об Олаве Трюггвасоне монаха Одца» - А
Текст
Sa var konungr for6um er Nori het er fyrst byg[)i Noreg. en su[)r fra Noregi cr
Danmork. en Sui[)io6 austr fra. En uestr fra er England. En погбг fra Noregi
er Finnmork. Noregr er vaxinn теб iij oddum. er leng6 lanzins or utsudre i
погбг aett fra gautelfi ос погбг til Ueggestafs. En breiddin oc uiddin or austri
oc iuestr fra Eidascogi oc til Englandz sioar. En landit er greint oc callat jjessum
heitum Vik. Hor6aland. Uplond. brondheimr. Halogaland. Finnmork41.
Перевод
Был древний конунг, которого звали Нори, он первым поселился в Нор¬
вегии; а к югу от Норвегии лежит Данмарк, а Свитьод — к востоку; а к
западу от [нее] лежит Англия; а к северу от Норвегии лежит Финнмарк.
Норвегия имеет три выступающих мыса; сильно протянулась та земля с
юго-запада в сторону севера и от [реки] Гаутэльв на север до Вэгестава; а
в ширину — с востока и на запад, от [леса] Эйдаског и до Английского
моря (Северного моря. — Авт.). Земля разделяется и называется следу¬
ющим образом: Вик, Хёрдаланд, Уппланд, Трандхейм, Халогаланд, Фин¬
нмарк.
[6Ь]. «Сага об Олаве Трюггвасоне монаха Одца» - S
Текст
Sa konungr гаеб fyrstr Norege er NoR hct. i sv6r fra Noregc er Danmaurk ok
austr Svi[)io6 en i vestr Englanz haf. ос пофг Finmork ok er lengz lanzins yi
sv6ri oc i погбг. fra Gauttclfe svnnan ok погбг til Vcgistafs cn breiddin or austri
ok ivestr fra Ei6a skoge til Englanz siofar. Vik ok Нбгба land Haloga land ok
brandheimr12.
126
Перевод
Тот конунг первым правил в Норвегии, которого звали Нор. К югу от
Норвегии лежит Данмарк, а на востоке — Свитьод, а на западе — Англий¬
ское море, а на севере — Финнмарк, и далеко протянулась страна с юга
на север, с юга от [реки] Гаутэльв на север до Вегистава, а в ширину с
востока на запад от [леса] Эйдаског до Английского моря. Вик и Хёрда-
ланд, Халогаланд и Трандхейм.
[7]. «Легендарная сага об Олаве Святом»
Текст
Olafr laeggr nu allan noreg undir sic. Oc var hann nu til konongs taekinn i allum
norege. Olafr aeyddi allum fylcis konongom i landeno. Oc haf6e nu aeinn allan
noreg undir sic lagdan naest aeftir haralld hinn harfagra. fra aegestaf погбап oc
allt til aelvar austr41.
Перевод
Олав [Харальдссон] подчиняет теперь себе всю Норвегию. И был он те¬
перь признан конунгом во всей Норвегии. Олав разорил всех местных
конунгов в стране. И теперь он один, следующий после Харальда Пре¬
красноволосого, подчинил себе всю Норвегию, с севера от Эгестава и
повсюду до [реки] Эльв на востоке.
[8]. «Красивая кожа»
Текст
6lafr konungr enn digri lagdi ]эа undir sik allan Noreg austan fra Elfi ok погбг
til Gandvikr44.
Перевод
Конунг Олав Толстый подчинил тогда себе всю Норвегию с востока от
[реки] Эльв и на север [вплоть] до Гандвика.
[9]. Снорри Стурлусон. «Круг земной»
Текст
«Vitum vcr bocndr. hvcrt rcttast cr landaskipti at fornu miIIi Norcgskonungs
ok Svia konungs ok Danakonungs. at Gautclfr hefir ra6it fra Vacm til sac var.
cn погбап Markir til Ei6askogs. on |->абап Kilir allt погбг til Finnmarkar...»4'.
127
Перевод
«Мы, бонды, знаем, где издавна по закону проходит граница между вла¬
дениями конунга Норвегии, конунга свеев и конунга данов: [река] Гаут-
Эльв образует ее от [озера] Венир до моря, а к северу [оттуда] — [леса|
Маркир до [леса] Эйдаског, а оттуда — [горы] Кьёль до самого севера
вплоть до Финнмарка...»
[10]. Дополнение к «Саге об Олаве Святом» по «Книге с Плоского.острова»
Текст
Hann var einvalldzkonungr yfir Noregi sua vitt sem Haralldr hinn haarfagri
hafdi aatt fraendi hans. red fyrir nordan Gandvik cnn fyrir sunnan Gautelfr enn
Eidaskogr fyrir austan. Aungulseyiarsund fyrir vestan46.
Перевод
Он (Олав Харальдссон. — Авт.) был суверенным правителем Норвегии
на такой же территории, какой владел Харальд Прекрасноволосый, его
родич; он правил от Гандвика на севере, и от [реки] Гаутэльв на юге,
и от [леса] Эйдаског на востоке. Пролив острова Энгуль — на западе.
[11]. «Сага об Эгиле Скаллагримссоне»
Текст
Finnmork cr storliga vi'9; gengr haf fyrir vestan ok [эаг af Fir6ir storir, sva ok
fyrir nordan ok allt austr um; en fyrir sunnan er Noregr, ok tekr morkin naliga
allt it efra su6r sva sem Halogaland it ytra. En austr fra Naumudal cr Jamtaland,
ok ]эа Helsingjaland ok 3a Kvenland, ]эа Finnland, ]эа Kirjalaland; en Finnmork
liggr fyrir ofan J^essi 611 lond47.
Перевод
Финнмарк — весьма обширный, с запада его омывает море, от которого
идут большие фьорды, то же — на севере и повсюду на востоке. А к югу
[от Финнмарка находится] Норвегия, и простирается (Финн]марк почти
так же по [своей] внутренней южной [границе], как Халогаланд по внеш¬
ней (т.е. по западной, идущей вдоль моря. — Авт.). А к востоку от На-
умудаля (норвежской области южнее Халоголанда. — Авт.) лежит Ямта-
ланд, а затем Хельсингьяланд, а затем Квенланд, затем Финнланд, затем
Кирьялаланд, а Финнмарк лежит ниже (т.е. ближе к побережью, здесь —
севернее. — Авт.) всех этих земель.
128
[12]. Саксон Грамматик. «Деяния данов»
Текст
8. Et ut paulo altius Norvagiae dcscriptio replicetur, sciendum, quod ab ortu
Suetiac Gothiaequc contermina aquis utrimquesecus Occani vicinantis includitur.
Eadem a septentrione regionem ignoti situs ac nominis intuetur, humani cultus
expertem, sed monstruosae novitatis populis abundantem, quam ab adversis
Norvagiae partibus interflua pelagi separavit immensitas. Quod cum incertac
navigationis exsistat, perpaucis earn ingredientibus salutarcm reditum tribuit.
9. Ceterum Oceani superior flexus Daniam intersecando praetermeans
australem Gothiac plagam sinu laxiorc contingit; inferior vero meatus cius
Norvagiaequc latus septentrionale practcriens ad ortum versus magno cum
latitudinis incremento solido limitatur anfractu. Quern maris terminum gentis
nostrae veteres Gandwicum dixerc. Igitur inter Gandwicum ct meridianum
pelagus breve continentis spatium patet, maria utrimquesecus allapsa
prospectans; quod nisi rerum natura limitis loco congressis paene fluctibus
obiecisset, Suetiam Norvagiamque conflui fretorum aestus in insulam
redegissent. Harum ortivas partes Scritflnni incolunt.
10. Suetia vero Daniam ab occasu Norvagiamque rcspiciens a mcridie ct
multa orientis parte vicino pnctcritur Occano. Post quam ab ortu quoque
multiplex diversitatis barbaricaac conscrtio reperitur48.
Перевод
8. Теперь, чтобы описать Норвагию более детально, я должен добавить,
что она соседит на востоке со Свецией и Готией и ограничивается с обе¬
их сторон водами соседнего Океана. На севере она обращена в сторону
неизвестной и безымянной области, лишенной цивилизации и заселен¬
ной странными нечеловеческими существами; однако широкий морской
залив отделил эту 1область| от противоположного берега Норвагии, а,
поскольку плавание на корабле там очень затруднено, мало кто, ступив¬
ший на эту |землю|, невредимым возвращался назад.
9. Впрочем, верхний изгиб океана, пересекая Данию, касается южной
части Готии своим обширным заливом (Балтийское море. — Авт.), ниж¬
нее же его течение, проходя мимо ее (Готии. — Авт.) северного берега и
Норвагии в сторону востока и увеличиваясь в ширине, заканчивается
большим изгибом. Этот предел моря древние [люди] нашего народа име¬
новали Гандвиком. Следовательно, между Гандвиком и южным морем
находится узкое пространство суши, имеющее с двух сторон примыкаю¬
щие к нему моря. Если бы эта суша не была природой противопоставле¬
на почти сходящимся водам, как бы разграничивая их, то волны соеди¬
нившихся заливов превратили бы Свецию и Норвагию в остров.
Восточные части их (т.е. Норвагии и Специи. — Авт.) населяют скрит-
финны...
10. Специя же, обращенная с запада к Дании и Норвагии. с юга н в
большой мере с востока омывается океаном. К востоку от нее находятся
также многочисленные варварские народы.
5 Зак.3029
129
Примечания
1 В квадратных скобках даются номера текстов, помешенных в Приложении
2 Подробнее о первичной «хорографической» (или «годологической») и вто¬
ричной «картографической» системах ориентации в древних культурах см.: По-
досинов А.В. Картографический принцип в структуре географических описа¬
ний древности (постановка проблемы) // Методика изучения древнейших
источников по истории народов СССР. М., 1978. С. 22-45; Janni Р. La mappa е
il periplo: Cartografia antica e spazio odologico. Roma, 1984.
3 В редакции А саги Одда мы имеем самое точное описание географического
положения Норвегии и (что случается в источниках нечасто) использование
промежуточного (ЮЗ) направления. Упомянутые в ней три выступающих мыса
— это основной юго-западный массив; юго-восточная область, превосходив¬
шая размерами современную территорию и доходившая до реки Гёта-Эльв; уз¬
кая полоска земли, вытянувшаяся на север (реально — на северо-восток) до
Финнмарка.
4 При реальной протяженности основной части побережья Норвегии с юго¬
-запада на северо-восток представление о ее направлении с юга на север явля¬
ется важным аргументом в теории, которая устанавливает «смешение» стран
света в древнескандинавских памятниках на 45—60" почасовой стрелке. Те¬
ория «смешенной ориентации» (shifted orientation) не может быть рассмотрена
в рамках настоящей статьи (подробнее о ней см.: Джаксом Т.Н. К вопросу о
древнескандинавской системе ориентации // Средние века. Вып. 60. М., 1998.
С. 254-265).
5 Cleasby R.. Gudbrandr Vigfusson. An Icelandic-English Dictionary. Oxford,
1957. P. 457.
‘ Vries J. de. Altnordisches etymologisches Worterbuch. 2-te Aufl. Leiden, 1977.
S. 411—412.
7 На нее указывает произношение имени в скальдических стихах X и первой
половины XI в. (см.; Cleasby R., Gudbrandr Vigfusson. Op. cit. P. 457).
* Д.А. Зейп попытался объяснить его отсутствие формой дательного падежа,
но это не удовлетворяет Я. де Фриса, поскольку, как он указывает, в датской
рунической надписи из Йеллинге, около 950 г., фрикативного зубного уже нет
— nuruiak (Vries J. de. Op. cit. S. 411-412).
4 Vries J. de. Op. cit. S. 411-412.
10 Впрочем, Nordmenn может относиться не только к норвежцам, но и ко всем скан¬
динавам (см.; Metzenthin Е.М. Die Lander- und Volkernamen lm altislandischen
Schrifttum. Pennsylvania, 1941. S. 75). Cp.; Nordmanni Эйнхардта (начало IX в.), слу¬
жащие обозначением свеев и данов (Vita Karoli, XII, 3; XIV, 1).
11 Metzenthin Е.М. Op. cit. S. 9, 73; Cleasby R., Gudbrandr Vigfusson. Op. cit. P
36, 457, 603, 700.
12 Неолитическое (с середины III тыс. до н.э.) население, характеризующееся
«культурой боевых топоров», ученые причисляют уже к германцам: около
2000 г. до н.э. носители этой культуры заселили Ютландию, датские острова и
юг Скандинавии (см.: Oxenstiema Е. The World of the Norsemen. L., 1967. P. 8).
13 Память об их вторжениях сохранилась в названиях юго-западных примор¬
ских областей Норвегии Хурдаланн и Ругаланн.
14 Эта миграция проходила одновременно с завоеванием Британии племенами
англов и саксов. Вообще, V в. считается веком усиленных миграций с Ютландии и
датских островов на юг Скандинавского полуострова (см.: Oxenstierna Е. Op. cit. Р
90-98).
■' К примеру, для начала первого тысячелетия до н.э. установлено существо
ванне экономических центров, являвшихся узловыми пунктами в торговом
130
сети Северной и Центральной Европы, в округе Вольдтофта на о-ве Фюн и в
округе Бослунда на о-ве Зеландия (см.: Thrane Н. Lusehoj ved Voldtofte // Fynske
minder. 1976. S. 17-32; Jensen J. Et rigdomscenter fra yngre bronzealder p5
Sjaelland 11 Aarboger for nordisk oldkyndighed og histone. 1981. S. 48-96.
,й Cp.: Мельникова E.A. Древнескандинавские географические сочинения /
Тексты, перевод, комментарий. М., 1986. С. 33: «центром ориентации явля¬
ется южная часть Скандинавского п-ова...».
17 См.: Смирницкий А.И. Фонетика древнеисландского языка. М., 1961. С. 42.
Однако в западногерманских языках (ср. др.-англ. Nordweg, англ. Norway, нем.
Norwegen) второй корень (со значением «путь») сохранился без изменений.
19 См. патронимическую легенду в «Истории Норвегии», в «Саге об Олаве
Трюггвасоне» монаха Одда, в начальных главах «Саги об оркнейцах» и в пря¬
ди «Как заселялась Норвегия» по «Книге с Плоского острова».
10 Metzenthin Е.М. Op. cit. S. 8—9, 76, 117; Cleasby R.t Gudbrandr Vigfusson. Op.
fit. P. 35, 457, 603, 700.
21 См.: Мельникова E.A. Ук. соч. С. 31-32; 72—89; Джаксон Т.Н. Исландские
королевские саги как источник по истории Древней Руси и ее соседей
X-XIII вв. //Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и ис¬
следования. 1988-1989 гг. М., 1991. С. 109-117.
22 Подробнее см.: Джаксон Т.Н. Ориентационные принципы организации
пространства в картине мира средневекового скандинава // Одиссей. Человек
в истории. 1994. М., 1994. С. 54-64.
23 Бьярмаланд оказывается как бы на пограничье восточной и северной чет¬
вертей — он принадлежит к восточным землям, но добираются до него чаше
по северному пути.
24 Two Voyagers at the Court of King Alfred / Niels Lund. York, 1984. P. 16-18.
” Knytlinga saga // Sqgur Danakonunga / C. af Petersen og E.Olson. (Samfund til
udgivelse af gammel nordisk litteratur. B. XLVI). Kobenhavn, 1919-1925. S. 79.
26 Muller W. Kreis und Kreuz: Untersuchungen zur sakralen Siedlung bei I tali kern
und Germanen. B., 1938. S. 73.
27 Cm.: Stegemann V. Himmclsrichtungen // Handworterbuch des dcutschcn
Aberglaubens. 4. Berlin; Leipzig, 1931/1932. S. 32-34.
2* Младшая Эдда. M.. 1970. С. 24-25.
29 Ср. китайского Паньгу и индийского Пурушу.
Часто к этой четырехчленной стуктуре добавляется еще один, пятый,
член — центр. Его существование отражает сакральный, социально-полити¬
ческий и этнический эгоцентризм, присущий многим народам.
’■ См. подробнее: Mac Neill Е. Phases of Irish History. Dublin, 1919. P. 100; Rees
A., Rees B. Celtic Heritage. Ancient Tradition in Ireland and Wales. L., 1961.
P. 23-26, 147-148; Шкунаев C.B. «Похищение Быка из Куальнге» и предания
об ирландских героях // Похищение Быка из Куальнге. М., 1985. С. 471.
О сомнениях в исторической реальности «пяти королевств» см: О ’Rahilly T.F.
Early Irish History and Mythology. Dublin, 1971. P. 171—183.
12 См.: Подосинов А.В. Пространственные представления у архаических наро¬
дов Евразии (ориентация по странам света). Автореф. дисс. ... докт. ист. наук.
М., 1997.
” Подробнее см.: Подосинов А.В. Психобиологические особенности человека
как основа архаической картины мира // Категоризация мира: Пространство
и время. М., 1997. С. 48-55.
" Тексты приводятся на языке оригинала и в русском переводе. Фрагмент
111 — в переводе В.И. Матузовой (Английские средневековые источники
IX-X1II вв Тексты, перевод, комментарий. М.. 1979. С. 20. 24. 25) с уточне¬
ниями Т.Н. Джаксон: фрагменты [2| и |12| — в переводе А.В. Полосинова.
131
[3|-[1 11 — Г.Н. Джаксон. При помощи квадратных скобок в перевод вводятся
слова, отсутствующие в оригинале, но необходимые по смыслу; при помощи
круглых скобок с пометой Авт. — сопроводительные замечания авторов ста¬
тьи.
33 Two Voyagers. Р. 18—21.
36 Histona Norwegiae // Monumcnta historica Norvegiac. Latinskc kildcskriftci
til Norges histone i middelalderen / G. Storm. Knstiania, 1880. P. 73-78.
37 Мельникова E.A. Ук. соч. С. 76—77.
3.1 Там же. С. 77.
34 Там же. С. 86-87.
4.1 Там же. С. 158.
41 Saga Olafs Tryggvasonar av Oddr Snorrason munkr / Finnur Jonsson.
Kobenhavn, 1932. S. 83-84.
42 Ibid.
43 Olafs saga hins helga. Efter pergamenthaandskrift i Uppsala Umversitetsbibliotek,
Delagardieske samling nr. 8 11 / O.A.Johnsen. Kxistiania, 1922. S. 27.
44 Fagrskinna. Noregs konunga tal / Bjarni Einarsson // Islenzk fornrit (далее —
IF). В. XXIX. Reykjavik, 1985. Bl. 178.
45 Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Adalbjarnarson // IF. В. XXVII.
Reykjavik, 1945. Bl. 79.
46 Flateyjarbok: En Samling af norske Konge-Sagaer med indskudte mindre
Fortaellinger om Begivenheder i og udenfor Norge samt Annaler / Gudbrandr
Vigfusson, C.R. Unger. B. 11. Christiania, 1862. S. 246.
47 Egils saga Skalla-Grimssonar / Sigurdur Nordal // IF. В. II. Reykjavik, 1933.
Bl. 36.
48 Saxonis Gesta Danorum / A.Oink, H.Rajder. Haunias, 1931. Pnefacio II, 8-10.
Дженни Джохенс (Балтимор)
Внебрачные половые связи
и социальные классы в мире саг
Сексуальные отношения вне брака, как следует из литературы
всех жанров, а также из других источников, были повсемест¬
но распространены в средневековой Исландии. Это особен¬
но явственно в «сагах о современности», таких, как «Сага о
Стурлунгах», где большинство мужчин имеют сожительниц, но
также и в «сагах об исландцах» — в форме случайных связей и, более оче¬
видным образом, в топосе запретных любовных свиданий1 . Такие сви¬
дания имели место, когда неженатый человек увлекался какой-либо де¬
вушкой и регулярно навещал ее, но не для того, чтобы жениться, а с
намерением соблазнить. Если бы только ухажер последовал соответству¬
ющим брачным процедурам, ее семья согласилась бы на брак в любой мо¬
мент. Подобные же посещения бесчестили семью и понижали ценность
женщины в будущих переговорах о замужестве. Когда мужчину просили
оставить свои посещения, он мог прекратить их на некоторое время, но
если затем его знаки внимания к женщине возобновлялись, дело могло
кончиться серией убийств, которые нередко и составляют остаток пове¬
ствования, а финалом этой истории могла стать смерть самого соблазни¬
теля.
Ни насилие со стороны родственников, ни общественное осужде¬
ние, однако, не удерживали от подобных поступков молодых людей
высокого общественного положения. Два взаимосвязанных эпизода,
описанные в «Саге о людях из Озёрной Долины» и «Саге о Халльфре-
де», иллюстрируют различное отношение к двум молодым людям,
практиковавшим недозволенные любовные визиты, но при этом принад¬
лежавшим к различным социальным классам2. Ингольв и Халльфред
навещали и соблазнили молодых женщин, Вальгерд и Кольфинну соот¬
ветственно. Оба случая имели последствием насилие, однако Ингольв,
сын местного предводителя, продолжал связь с возлюбленной на про¬
тяжении всей жизни, в то время как Халльфред, сын бонда, был вы¬
нужден покинуть страну. Сопоставить две эти истории особенно ин-
1ересно потому, что Халльфред и Вальгерд были братом и сестрой.
Иначе говоря, их отец Оттар столкнулся с двойной проблемой. Ему
приходилось, с одной стороны, обуздывать сексуальную агрессию
сына, а с другой стороны — терпеть унижение от невозможности пре¬
сечь непрекращающиеся посещения другого молодого человека его
собственной дочери.
Дело происходит в Ватнсдале, Озёрной Долине, на севере Исландии
в конце X в. Предводителем этой области был Торстейн, живший в усадь¬
бе Хов. У него было два сына, Ингольв и Гудбранд, старшему из которых
в свое время предстояло занять место отца. Южнее, в Гримстунге, жил
Оттар. Будучи родом из Норвегии, он вместе со своим названным бра¬
том Авальди после успешных викингских походов в Англию и на Оркней¬
ские острова приплыл в Исландию на принадлежавшем им корабле. В
обмен на корабль Оттар получил землю, и первую зиму Авальди жил вме¬
сте с ним. Весной следующего года Авальди купил усадьбу Вершина, в той
же долине, но к северу от Хова, возле озера Тордислэк. Он взял в жены
некую Хильд, и у них родились дочь Кольфинна и сын Бранд3. Тем вре¬
менем Оттар свел знакомство со своим соседом Олавом, жившим в усадь¬
бе Соколиное Ущелье, к северу от него. Олав был богат, и когда Оттар
женился на его дочери Альдис, она принесла с собой большое приданое.
У них было трое детей — сыновья Халльфред и Гальти и дочь Вальгерд4.
Халльфред, ставший впоследствии знаменитым скальдом, воспитывался
дедом Олавом. Дети в Гримстунге и Вершине были примерно одного воз¬
раста, мальчики в Хове, возможно, несколько старше.
Когда Халльфреду было двадцать лет, он полюбил Кольфинну, дочь
Авальди. Ее отцу это не понравилось. Он заявил, что не потерпит, что¬
бы Халльфред соблазнял (glepja) его дочь (61,62:18), хотя не против его
женитьбы на ней. Но именно это не входило в планы Халльфреда. Поз¬
же мы увидим, что и отец Халльфреда Оттар, узнав о визитах Инголь-
ва к его дочери Вальгерд, принял те же меры, предложив тому женить¬
ся. Когда Ингольв отказался, Оттар пожаловался его отцу. Может
показаться странным, что в сходной ситуации Авальди не обращался
к Оттару, отцу Халльфреда, тем более, что тот был его названным бра¬
том. Они вместе выросли в Норвегии и провели юность в викингских
походах. Однако с детства и юности между ними ощущалось ясное со¬
циальное различие, и, поселившись в Исландии, они, похоже, избега¬
ли друг друга. По-видимому, разница в социальном положении отцов
перешла на их детей. Очевидно, Авальди довольно быстро усвоил тот
урок, который Оттар постиг лишь с трудом, — трудно остановить сек¬
суальную агрессию мужчины более высокого социального статуса, на¬
правленную против женщины из более низкого класса5.
Вместо того, чтобы отправиться к Оттару, Авальди рассказал о сво¬
ем затруднительном положении другу Мару, который жил на другом
берегу озера. Урон, нанесенный Кольфинне и всей семье, мог быть
компенсирован, только если бы нашелся мужчина, готовый немедлен¬
но на ней жениться. В обычной ситуации, однако, отец девушки на
выданье должен был дожидаться женихов, а не искать их6. Понимая
это, Мар немедленно предложил своего друга Гриса, сына Сэминга, из
усадьбы Гейтаскард, в Лангадале — соседней долине к востоку. Он ре¬
комендовал Гриса как человека состоятельного, пользующегося доб¬
рой славой, много попутешествовавшего и с честью служившего Ви¬
134
зантийскому императору. Авальди принял кандидатуру Гриса и вер¬
нулся домой. Мар послал известие Грису, приглашая того приехать.
По приезде Гриса, Мар предложил ему женитьбу на Кольфинне, го¬
воря, что это хорошая партия и в ее семье нет недостатка в деньгах, но
добавил, что слышал, будто «Халльфред, сын Оттара, часто приходит
говорить с ней» (М:25)7. В компании еще семи человек Грис и Мар не¬
медленно отправились к Авальди с тем, чтобы сделать формальное
предложение. Тут же обнаруживаются достоинства и недостатки же¬
ниха: Грис привез инкрустированное золотом копье, говорящее о его
богатстве, но он был подслеповат и, следовательно, уже немолод. Мар
изложил суть дела, и Авальди, выслушав его благосклонно, предложил
Мару решить все самому8. Во время формального заключения помол¬
вки приехал Халльфред и сразу понял, что происходит. Кольфинна
кратко просила его оставить решение дела о ее помолвке тем, кто имеет
на это право. Тем не менее, она позволила Халльфреду усадить себя к
нему на колени во дворе, где их могли видеть разъезжающиеся сваты.
Как раз в тот момент Халльфред «привлек ее к себе и несколько раз
поцеловал» (М:27). Подслеповатый Грис спросил, кто эти двое. Когда
Авальди сказал, что это Халльфред и его дочь Кольфинна, Грис осве¬
домился, часто ли они так себя ведут. Авальди ответил утвердительно,
но добавил, что теперь это проблема Гриса, поскольку Кольфинна —
его невеста. На прощание Халльфред заявил Грису, что тот станет его
врагом, если не откажется от женитьбы. Когда же Мар ответил, что
Авальди имеет право выдавать свою дочь замуж, за кого хочет, Халль¬
фред разразился висой и в гневе направился в Соколиное Ущелье —
усадьбу своего деда.
Настигнутые Грисом, Маром и бывшими с ними людьми, Халльф¬
ред и его спутник были схвачены и связаны9. Торжество Гриса было,
однако, недолгим, поскольку Олав, дед Халльфреда, позвал на помощь
Оттара. Эти двое, имея превосходство в силе, неожиданно напали на
Гриса. Сообщив Оттару, что его сын «связан, но не убит»10, Грис пред¬
ложил отцу соблазнителя самому рассудить это дело. Когда Оттар от¬
пустил Гриса, сын стал умолять отца не допустить, чтобы Грис женился
на Кольфинне. Оттар ответил, что женщина действительно должна
принадлежать Грису, а ему, Халльфреду, следует покинуть страну". На
это Халльфред ответил угрозой вызвать своего соперника на поединок.
Оттар вернулся домой, а Халльфред добрался, наконец, до усадьбы
своего деда. Олав чувствовал, что Халльфред не останется верен зак¬
люченному соглашению, и отправил известие своему зятю, предосте¬
регая того от возможных неприятностей (34)'2. Возможно, вдохновлен¬
ный необычным способом, которым Грис на время вывел из строя
Халльфреда, связав его, Оттар придумал хитрый трюк. Он направил
Халльфреду известие о своей тяжелой болезни с просьбой прибыть не¬
замедлительно. Это, однако, было лишь уловкой, потому что, когда
Халльфред явился, Оттар заковал его в цепи и предложил на выбор:
либо остаться в таком положении, либо подчиниться его. Оттара. ре¬
шению. Халльфред против воли выбрал последнее. Взяв деньги у деда,
но отказавшись получить свою долю от мировой сделки Оттара с Гри¬
135
сом, он покинул Исландию, а Мар тем временем устроил свадьбу Гриса
и Кольфинны.
Стремясь избежать насилия, которое неизменно становилось след¬
ствием необузданной сексуальной агрессии молодых мужчин, Оттар
продемонстрировал образец мудрого поведения. Когда его сын принял¬
ся неподобающим образом флиртовать с соседской девушкой, не имея
намерения жениться на ней, он отослал его из страны, тем самым пре¬
секая их отношения, и поддержал отца обесчещенной девушки в устрой¬
стве ее замужества. Не удивительно, что Оттар ожидал такого же пове¬
дения от отца молодого человека, который в это же самое время
беспокоил домогательствами его собственную дочь. Но прежде, чем
обратиться к истории Вальгерд и Ингольва, я расскажу, как развивались
отношения в треугольнике Кольфинна — Грис — Халльфред.
В Норвегии Халльфред познакомился с ярлом Эйриком, а впослед¬
ствии свел тесную дружбу с конунгом Олавом Трюггвасоном, который
убедил его перейти в христианство. Он несколько раз возвращался в Ис¬
ландию, но так как его отец переселился на юг и жил теперь во Дворе
Оттара, он ни разу с тех пор не был в Северной Исландии и, таким обра¬
зом, не виделся с Кольфинной.
Однако четверть века спустя — уже успев жениться и овдоветь в
Швеции — Халльфред все же высадился в Северной Исландии. Он от¬
правился прямиком на летние пастбища и покосы, принадлежавшие
Грису, где рассчитывал найти Кольфинну одну, без мужа13. Так и
вышло. Невзирая на очевидное нежелание Кольфинны принимать
его, он провел ночь с нею в хижине и прочитал хулительную вису про
Гриса, приписав ее, однако, Кольфинне14. Ночью пастух известил
Гриса. Тот пришел вскоре после того, как Халльфред удалился, и на¬
шел свою жену в подавленном состоянии (skapfnmgt: 91), и явно не
по причине разлуки с Халльфредом, а именно вследствие навязанного
ей соития. Не считавшийся до сих пор поэтом, Грис составил вису, в
которой он заклеймил преступление и описал отчаянный вид своей
жены (91: st. 25).
В сопровождении своего родственника Эйнара, сына Торира1', Грис
отправился в погоню за Халльфредом и настиг его на речной переправе.
Грис метнул в Халльфреда копье, но тот поймал его в воздухе и, послав
назад, убил им Эйнара. Грис более не преследовал Халльфреда, а тот про¬
вел зиму во Дворе Оттара, отцовской усадьбе, которой после смерти От¬
тара управлял его брат, младший сын Оттара Гальти. В это время Халль¬
фред сочинил про Гриса хулительные стихи16. Таким образом, он
совершил уже три преступления против Гриса: убил его родственника Эй¬
нара, овладел его женой и сочинил стихи, направленные против него.
Поэтическое оскорбление заставило, наконец, Гриса действовать. Пос¬
ле того, как был убит Эйнар, он мог рассчитывать на помощь своего дру¬
га Мара и шурина Бранда. За поддержкой и советом он обратился к Хун-
рёду, чьим fjingmadr он был. Хунрёд жил у Моберга в Лангадале, к югу oi
усадьбы Гриса. На стороне Халльфреда был его брат Гальти. Кроме того,
он попросил поддержки у своего родственника Торкеля, бывшего в то
время предводителем области. Женатый на cecipe Халльфредовой мате¬
ри, Торкель был сыном двоюродного брата Ингольва, которого он сме¬
нил в Хове. Он выразил готовность выступить арбитром, если бы Халль-
фред предложил Грису примирение. Признав, что зашел в конфликте с
Грисом слишком далеко, Хадльфред согласился. Согласно одному из ва¬
риантов текста, Хунрёд убеждал Гриса вчинить иск Халльфреду, но не го¬
ворил, по каким именно обвинениям, а сам Грис выбрал только одно —
убийство Эйнара (М:96). По двум другим версиям, Хунрёд рекомендовал
требовать возмездия за убийство и за стихи, а дело с Кольфинной он пред¬
лагал замять, потому что оно, как он выразился, было «более отвратитель¬
ным» (F, 61:96), что указывает на общественное осуждение поведения
Халльфреда.
Во время обсуждения дела на тинге Бранд, шурин Гриса, убил Галь-
ти, брата Халльфреда. Халльфред и Торкель потребовали от Гриса выдать
убийцу, но благодаря хитрости самого Торкеля молодой человек сумел
бежать в женском платье (этим Торкель заплатил давний долг матери
Бранда)17. Халльфред был в ярости и вызвал Гриса на поединок. Напря¬
женная ситуация была разрешена вмешательством недавно умершего
конунга Олава, который явился во сне Халльфреду и побудил его отка¬
заться от поединка, согласившись на мировую сделку, поскольку Грис
«молил бога даровать победу тому, чье дело правое» (М, 99). Халльфред
принял совет, не обращая внимания на насмешки друзей, что-де он ис¬
пугался «борова» (игра с именем Гриса, которое и значит «поросенок»).
Торкель рассудил стороны таким образом, что убийства Эйнара и Галь-
ти были признаны компенсирующими друг друга, причем разница меж¬
ду убитыми (социальное неравенство в сочетании со степенью их родства
с протагонистами) искупала heimsokn Кольфинны. Употребление слова
«heimsokn», обычно используемого, когда речь идет о краже или напа¬
дении, свидетельствует о том, сколь серьезным делом было сочтено ее
посещение Халльфредом. За поносные висы Халльфред должен был дать
Грису что-нибудь ценное по собственному выбору, избегнув необходи¬
мости расстаться с дарами конунга, чего требовал ранее Грис. Халльфред
нехотя подчинился приговору. Глубоко взволнованный вестью о смерти
конунга, Халльфред решил вернуться в Норвегию и оставил хозяйкой
Двора Оттара свою сестру Вальгерд.
Для нас это хороший повод обратиться теперь к истории жизни Валь¬
герд. В то самое время, когда Халльфред начал заигрывать с Кольфинной,
Вальгерд познакомилась с Ингольвом, старшим сыном местного предво¬
дителя из усадьбы Хов, считавшимся самым красивым мужчиной на всем
Севере. Их отношения начались с игры в мяч, которая была устроена в
Гримстунге, усадьбе Оттара. Мужчины играли, а женщины наблюдали за
игрой. Ингольв бросил мяч в сторону Вальгерд, она же спрятала его под
своим плащом и сказала, что бросивший мяч должен достать его'\ Ин¬
гольв бросил игру и проговорил с нею весь остаток дня, находя ее «нео¬
бычайно красивой» (Vtn, 37:99)
Начавшиеся вслед за тем регулярные визиты Ингольва к Вальгерд
вызвали недовольство Оттара. Он поговорил с молодым человеком и по¬
просил его воздержаться от посещений, добавив, что не потерпит этого
и скорее с честыо отдаст ему свою дочь в жены, нежели станет спокойно
137
смотреть, как тот с позором ее соблазняет. Ингольв отвечал, что будет
приходить и уходить, когда ему заблагорассудится, и что никакого бес¬
честья Оттару от этого нет (Vtn, 37:99). Прямо ссылаясь на высокое по¬
ложение своего отца, он дал понять (в M,2J и 61:31), что не собирается
слушать ничьих приказаний. Получив отпор от Ингольва, Оттар отпра¬
вился к его отцу Торстейну и попросил его повлиять на сына, ибо Оттар
считал Торстейна «мудрым человеком с добрыми намерениями» (М, 23).
Торстейн заверил Оттара, что Ингольв действовал против его отцовской
воли, и пообещал поговорить с ним. Сделав внушение сыну — в речи,
напоминающей ту, с которой его собственный отец Ингимунд обращал¬
ся к нему в годы его юности20, — Торстейн заставил Ингольва прекратить
на некоторое время свои посещения. К несчастью, влечение Ингольва к
Вальгерд было настолько сильным, а печаль от разлуки с нею столь глу¬
бока, что тот, хотя прежде не был известен как скальд, сочинил и декла¬
мировал любовную вису в запрещенном жанре mansongsvisur, чем толь¬
ко разжег гнев Оттара.
Оттар вновь отправился к Торстейну и попросил разрешения возбу¬
дить иск против его сына на тинге. Согласно основной версии истории,
изложенной в «Саге о Халльфреде», Торстейн не запретил этого, но, зная
темперамент своих родственников — имелся в виду присутствовавший на
тинге его брат Йокулль, — посоветовать так поступить он тоже не мог (М,
23). Вместо этого, заручившись согласием Оттара, Торстейн рассудил
дело сам. Оттар, в памяти которого свежо было воспоминание о случае с
его собственным сыном, несомненно, не был готов к принятому Торстей-
ном решению. Подобно Торстейну, Оттар в свое время попросил у Гри¬
са разрешения рассудить дело в отношении Халльфреда. Как мы видели,
он повел себя замечательно, дав Грису полное удовлетворение — выслал
собственного сына из страны и не допустил разрыва помолвки Гриса и
Кольфинны. В противоположность этому Торстейн пошел навстречу От¬
тару минимально. Он предложил тому получить штраф в полсотни сереб¬
ряных монет, но приказал продать свою землю и покинуть край. В «Саге
о людях из Озёрной Долины» всевластие семьи местного предводителя
даже еще более явно. Когда Оттар пожаловался на стихи, сочиненные Ин-
гольвом, Торстейн отвел от себя ответственность, сказав, что говорил со
своим сыном, но ничего не добился. Оттар заявил, что Торстейн должен
либо заплатить штраф за своего сына, либо позволить Оттару вчинить
тому иск. Поскольку Торстейн не выдвигал возражений, Оттар возбудил
судебный процесс. Однако Йокулль пришел в бешенство от одной мыс¬
ли, что Торстейн и его семья могут быть изгнаны со своих собственных
земель. Заявляя, что его брат стареет, он готов был сам решить дело си¬
лой, так как в законах был не силен. Зимой Ингольв спросил у своего отца
совета относительно предстоящего разбора дела на тинге в Хунаватн, уг¬
рожая, в противном случае, опустить топор на голову Оттара. Очевидно,
ощущая свою старческую немощь, Торстейн попросил Ингольва отныне
взять на себя функции предводителя. Когда Оттар излагал свое дело на
тинге, Ингольв и его дядя прервали процедуру и не допустили разбора
дела. Позже Оттар сообщил своему тестю Олаву, что не собирается оста¬
ваться в этих краях, а хочет продать свою землю и уехать. Он купил учас¬
138
ток в Нордрардале, в местности Боргарфьорд, и назвал свою новую усадь¬
бу Двором Оттара.
Иными словами, Оттар, который заставил своего сына покинуть
страну, дабы пресечь его сексуальные домогательства в отношении со¬
седской девушки, сам был принужден оставить край, где он провел всю
свою взрослую жизнь, ради того, чтобы не дать другому молодому че¬
ловеку чинить подобные домогательства его дочери. Приказал ли Тор-
стейн Оттару убраться или тот сделал это по своей воле, раз поведение
Ингольва воспрепятствовало разбору его дела на тинге, — так или ина¬
че, оба отца, возможно, полагали, что, если они и не в силах положить
конец посещениям Ингольва Гримстунги, переселение Вальгерд в бо¬
лее удаленный Двор Оттара могло бы решить проблему. Однако, эта
надежда оказалась тщетной. Мы помним, что эпилог истории Коль-
финны и Халльфреда имел место четверть века спустя. В романе же
Вальгерд и Ингольва перерыва не наступило. Когда Торстейн недолгое
время спустя умер, Ингольв женился, но это не заставило его прекра¬
тить связь с Вальгерд21. Хотя она больше не жила поблизости, ее но¬
вый дом был удобно расположен на пути, которым Ингольв ездил на
тинги и обратно. Недовольство Оттара, несомненно, увеличилось еще
и оттого, что Вальгерд была не жертвой Ингольва, а его соучастницей:
так, она сшила для своего любовника роскошное одеяние. В семиоти¬
ке саг шитье рубах или другой одежды было верным признаком люб¬
ви.
Решив отомстить как за поведение Ингольва в отношении его до¬
чери, так и за свое унижение на тинге в Хунаватн, Оттар предпринял
две вещи22. Сначала он послал некоего Торира на север с заданием
убить либо Ингольва, либо его брата Гудбранда. Торир не справился с
поручением и сам был убит. Прекрасно зная, кто стоял за этим напа¬
дением, братья отправились прямиком ко Двору Оттара. Поскольку
Оттар собрал подкрепление, братья были вынуждены согласиться на
мировую сделку, согласно которой Оттар платил штраф в одну сотню
серебряных монет за свои козни, а за Торира не было уплачено ниче¬
го. Кроме того, Оттар сумел вставить в соглашение условие, что Ин¬
гольв поставит себя вне закона и может быть убит, если снова посетит
Вальгерд без сопровождения Гудбранда. Поскольку связь Вальгерд с
Ингольвом до того времени все еще продолжалась, Оттар и не ожидал,
что она прекратится. Он просто пытался придать ей респектабельный
вид, обязывая Ингольва являться вместе с братом. Условие, позволя¬
ющее ему безнаказанно убить Ингольва, свидетельствует о том, что он
ожидал — и, может быть, надеялся — что тот не будет соблюдать уго¬
вор. В конце встречи Ингольв предупредил Оттара, чтобы тот больше
не подсылал к нему убийц, и заверил, что в следующий раз Оттар не
отделается штрафом.
Тем не менее, Оттар сделал еще одну попытку. Во второй раз он на¬
нял некоего Сварта. чтобы тот отсек Ингольву руку или ногу или убил
Гудбранда. Сварту удалось второе, но сам он тоже был убит. Вопреки сво¬
ей прежней угрозе, Ингольв был вынужден принять компромисс, выра¬
ботанный их друзьями, поскольку сам он не выполнял соглашения, зак¬
139
люченного с Оттаром относительно Вальгерд. Оттар заплатил три сотни
серебряных монет за убийство Гудбранда. Инголыз получил заверение,
что нарушение им уговора по поводу Вальгерд будет оставлено без по¬
следствий. Иными словами, Ингольв продолжал свои визиты, а смерть
Гудбранда теперь избавила его от обязательного спутника.
В конце концов Ингольв погиб, но не от руки Оттара. Раненный в
схватке с рыскавшими по всей стране разбойниками23, он следующим
летом умер от ран. Легко представить себе радость Оттара и горе Валь¬
герд при получении этого известия. Смерть Ингольва открыла Оттару
возможность к устройству замужества Вальгерд с мужчиной из усадьбы
Ставахольт, расположенной по соседству. Но тогда ей уже должно было
быть за тридцать и она, вероятно, уже никогда не имела детей. Поэтому
она могла пятнадцать лет спустя откликнуться на приглашение Халльф-
реда принять на себя попечение об отцовской усадьбе, в то время как сам
он уехал обратно в Норвегию. После смерти Халльфреда его сын, кото¬
рого звали так же, как отца, жил во Дворе Оттара со своей семьей, и мы
можем предположить, что Вальгерд вернулась в Ставахольт.
Как и в других историях, повествующих о запретных любовных сви¬
даниях, взаимосвязанные романы Халльфреда с Кольфинной и Инголь¬
ва с Вальгерд явились причиной непрекращающегося насилия. Однако
между этими двумя случаями имеется четкое различие, связанное с со¬
циальной принадлежностью персонажей. Ингольв, молодой человек из
класса предводителей, смог установить тесные отношения с Вальгерд
вопреки сопротивлению как ее отца, так и своего собственного. Даже пос¬
ле того, как та переселилась в другое место, а Ингольв женился на дру¬
гой женщине, их связь длилась до самой его смерти. В противополож¬
ность этому, когда Халльфред — мужчина из класса свободных бондов —
попытался установить подобные отношения с Кольфинной, женщиной
лишь немного ниже его по социальному статусу, ему был поставлен проч¬
ный заслон — как со стороны ее отца, так и его собственного, уславшего
Халльфреда из страны. Хотя он не позабыл Кольфинну, его мимолетная
связь с ней много лет спустя была вызвана не столько любовью к ней,
сколько желанием досадить ее мужу.
Что касается обеих женщин, отметим, что Вальгерд вне всякого со¬
мнения была изначально увлечена красавцем Ингольвом. Более того, с
течением времени ее чувство к нему, похоже, переросло в настоящую
любовь, так что она вышла замуж за другого человека только после смерти
Ингольва. Чувства Кольфинны кХалльфреду интерпретировать труднее.
Единственный признак того, что она, возможно, любила его, — слова
саги о том, что между Кольфинной и Грисом в начале их семейной жиз¬
ни не было большой любви. Однако впоследствии — во время неожидан¬
ного визита Халльфреда — она утверждала, что они с мужем ладят, как
это предполагалось во всяком браке, и что она не рада видеть Халльфре¬
да.
Стоит обратить внимание на репродуктивное поведение четырех ге¬
роев. Хотя сказано, что Ингольв и Халльфред со своими законными
женами произвели на свет каждый по два сына, о детях Вальгерд и
Кольфинны ничего не сообщается, и едва ли по недоразумению. Эго
140
может отражать либо авторское отношение к запретной любви, либо —
если женщины в самом деле остались бездетными — что муж Кольфин-
ны был слишком стар, а Вальгерд вышла замуж слишком поздно, не¬
сомненно, за мужчину не моложе себя; в обеих семьях зачатие, та¬
ким образом, могло быть попросту невозможно. Эти две истории
показывают, что запретные любовные связи, как правило, вели к на¬
силию и лишь в отдельных случаях приносили романтическое и сек¬
суальное удовлетворение, в первую очередь мужчинам, в то время как
женщинам они закрывали дорогу к осуществлению репродуктивной
функции.
Примечания
1 По этому поводу см.: Jochens J. The Illicit Love Visit: An Archaeology of Old Norse
Sexuality // Journal of the History of Sexuality. 1 (1991). P. 357-92.
2 «Сага о людях из Озёрной долины» цитируется по: Sveinsson Е. (ed.) Vatnsdaela
saga, Islenzk fomrit 8. Reykjavik, 1949. (Vtn, далее с обозначением номера главы
и страницы). Поскольку расхождения между разными рукописями довольно зна¬
чительны, «Сага о Халльфреде» цитируется по: Einarsson В. (ed.) Hallfredar saga.
Reykjavik, 1977, с обозначением рукописи и страницы.
I В Vtn, 45:123 он назван Хермундом.
4 Мальчиков назвали именами родственников Оттара по материнской линии.
5 Издатель «Саги о Халльфреде» полагает, что поведение Ингольва было в по¬
рядке вещей для сына местного предводителя по отношению к дочери бонда, в
то время, как в случае с Халльфредом он не видит следов социального неравен¬
ства. См.: Einarsson В. То skjalde sagaer. Oslo, 1976. Р. 136. Разница в статусе между
семьями Оттара и Авальди в Норвегии сказывается в том, что отец Авальди был
воспитателем Оттара. После того, как их отцы были убиты, мальчики искали убе¬
жища у Гальти, дяди Оттара по матери. В юности Авальди всегда уступал Оттару.
«Стартовый капитал» для их викингских походов был выручен от продажи Галь¬
ти «их земель». Предположительно, они владели на равных правах и кораблем,
который привез их в Исландию. Тем не менее, в обмен на него лишь Оттар полу¬
чил землю, в то время как Авальди должен был год работать на Оттара, прежде
чем смог завести свое хозяйство. Хотя социальное неравенство между Кольфин-
ной и Халльфредом не столь явное, как между Вальгерд и Ингольвом, оно все же
заметно.
л См.: Jochens J. Women in Old Norse Society. Ithaca; N.Y., 1995. P. 24-9.
7 61:19 добавляет, что Кольфинна была красива; в М:16 о том же сказано выше.
* 61:20: Авальди выражает надежду, что его дочь с ним согласится, — слабый на¬
мек на то, что кто-то спрашивает согласия самой женщины.
4 F, 32 добавляет следующую деталь: миролюбивый Грис предлагает набросить
на оружие противников одежды.
F, 33 добавляет, что последнее «было бы более заслуженным».
II F, 34 добавляет, что помолвка должна продолжаться три года.Таков был рас¬
пространенный обычай, но в данном случае это было едва ли кстати, поскольку
выходило, что Кольфинна дождется возвращения Халльфреда.
12 61:27 и F, 34 добавляют, что Олав советовал добиться расторжения помолвки
Гриса и Кольфинны.
п 61:83 свидетельствует о том. что возвращение Халльфреда произошло весной,
после того как король Олав послал Лейфа, сына Эйрика. в Гренландию, а 61:94
связывает это с битвой при Свольде
141
14 Более детальный разбор этой сцены см.: Jochens J. Poets and Passion: Gendei
Relations in the Skald Sagas // Poets and Poetic Personality in the Icelandic Sagas /
Ed. R. Poole (В печати).
15 В 61:91 он назван сыном тетки Гриса по матери (systrungr), но больше нигде о
нем сведений нет.
“ 61:95 и F, 93 определяют эти стихи как halfnid («наполовину хулительные»)
Кари Эллен Гаде высказывает предположение, что это и была та самая виса, ко¬
торую Халльфред декламировал Кольфинне в постели.
17 Более полная версия этой части истории содержится в Vtn, 43:115-22.
'* Редкий случай, когда женщина выступает инициатором сексуальных отноше¬
ний.
19 Два наиболее полных рассказа об этом содержатся в Vtn и в версии М «Саги о
Халльфреде» (Версия F почти идентична ей). Более краткие версии мы находим
в 62:20-21 и 61.30-35.
* Ср. М, 22 и Vtn, 37:99 с Vtn, 2:4-5.
21 Подобно Оттару, Ингольв женился на дочери Олава из усадьбы Соколиное
Ущелье. Автор Vtn отмечает, что его жена была младше своей сестры, матери
Вальгерд (38:100). Третья дочь вышла замуж за упомянутого Торкеля (61:95).
22 Эта часть истории изложена только в Vtn, 39-40:101-9.
23 Одной из жертв, избранных ими, был Олав из Хаукагиль. Пока Оттар жил в
Гримстунге, Олав был, как мы видели, связан с первым зятем тесным союзом.
Когда Оттару пришлось переселиться дальше к югу, Олаву, уже достигшему по¬
жилого возраста, стало удобнее опираться на Ингольва, другого своего зятя, жив¬
шего неподалеку, в Хове. Обращаясь к нему за помощью против разбойников.
Олав предупреждал Ингольва, что тому следует быть осторожным, и что его бла¬
гополучное возвращение важнее, чем обнаружение украденного.
Перевод с английского К.А. Левинсона
Петер Динцельбахер (Зальцбург)
Основные тенденции религиозного развитая
Германии в эпоху высокого средневековья
Прогрессирующая «христианизация вглубь», а также иннова¬
ции в христианской религии, — те темы, к которым неодно¬
кратно обращался юбиляр, — относятся к числу ключевых
сюжетов в историографии благочестия, религиозности и
спиритуальности в Германии эпохи высокого средневековья.
Основным при этом видится вопрос о распространении религииprescrite
и практике религии vecue'. Нам предстоит сосредоточиться на эпохе,
включающей события от борьбы за инвеституру до появления нищенству¬
ющих орденов. Географически исследование охватывает земли, населен¬
ные в средние века немцами. Под «Германией» в дальнейшем мы будем
подразумевать именно эти земли2.
I. Религия и общество
Прежде всего несколько слов о социально-историческом контексте.
Ощутимый рост европейского населения с XI в. — результат улучшения
климатических, экономических и политических условий — повсеместно
ознаменовался подъемом благосостояния и дифференциацией форм жиз¬
ни. Об этом свидетельствует расширение площади обрабатываемых зе¬
мель (внутренняя колонизация за счет лесных расчисток) и урбанизация
(расцвет городов: их возрождение в прежних римских областях и осно¬
вание новых городов на востоке и севере империи). При этом складыва¬
ются новые социальные слои (бюргерство, пролетариат), развивается их
производственная специализация (ремесла). В городах в ответ на расту¬
щее обогащение возникают как ортодоксальные, так и оппозиционные
церкви движения за бедность (среди прочих — бегинки, нищенствующие
ордена, вальденсы). В обществе развивается новый плюрализм, диффе¬
ренцируется выбор форм жизни: рядом с монашеской и сельской куль¬
турой складывается также культура городская.
Растет пространственная и социальная мобильность: крестовые похо¬
ды, паломничества и внутренняя колонизация расширяют круг общения.
143
Одно лицо может выступать одновременно субъектом многих обществен
ных связей (например, в качестве рыцаря, придворного, горожанина,
члена некоего братства). В этом усложняющемся обществе, в соответ¬
ствии с практическими нуждами, все большее место занимает письмен¬
ность. Поэтому мы гораздо детальнее информированы о религиозном
истории эпохи высокого средневековья, нежели второй половины пер¬
вого тысячелетия.
Первый из основных вопросов нашего исследования можно сформу¬
лировать следующим образом: как развивалась христианизация Германии
в XI—XII вв.? Под христианизацией мы здесь понимаем растущее про¬
никновение в мышление и чувствование индивида, принявшего креще¬
ние, элементов вероучения, христианских ценностей и обрядности. Од¬
новременно это и вопрос о том, в какой мере религия церковной элиты
действительно влияла на народные массы, какими путями это влияние
осуществлялось и в каком объеме в народной религиозности сохранялись
нехристианские элементы (воспользуемся этими понятиями, введенны¬
ми в научный оборот, но все же небесспорными3).
После весьма поверхностной христианизации в период обращения
(вплоть до «народной миссии» современности) речь идет, говоря сло¬
вами Л. Милиса, о la conversion еп profondeur: ип processus sans Jin4. Та¬
кова одна из вечных тем европейской истории. Представляется, что
эпоху, рассматриваемую нами, характеризует скорее постепенная ин¬
тенсификация христианских элементов, нежели прямое миссионер¬
ство. Оно осуществлялось только с XIII в. нищенствующими ордена¬
ми и с XVI в. — иезуитами.
В то же время позволительно утверждать, что в предшествующие сто¬
летия религиозное просвещение оказалось все же столь успешным, что
для большинства людей цель достичь Небес и избежать преисподней ста¬
ла существенным (а для многих и основным) ориентиром в жизни:
«Diu gotes kint тёгеп «Раб Божий может подрасти
und selbe wider кёгеп И сам вернуться
uf der saelden straze», На путь спасения».
Из этих слов образованного мирянина XII в. очевидно, что осмысле¬
ние собственной жизни в эсхатологическом контексте даже у людей не
слишком глубоко религиозных являлось сознательно принимаемым
raison d’dtre их существования5.
Это позволило нормам христианского вероучения распространить¬
ся также на те сферы жизни, которые прежде как будто оставались не-
христианизированными. Так, в эпоху высокого средневековья заклю¬
чение брака, которое до того являлось лишь гражданско-правовой
процедурой, было увязано с церковной санкцией и морально-теологи¬
ческими нормами: атрибутами брака стали считаться обоюдное согла¬
сие молодоженов и нерасторжимость их союза. Или, например, воен¬
ное дело путем церковного освящения рыцаря — среди прочего,
посредством благословения его меча — было подчинено идеалу Militia
Christi.
144
Интенсифицировались и уже известные прежде формы религиозной
практики: так, увеличивается число паломничеств в Святую землю, в Рим
и Сантьяго-де-Компостела. Во множестве возникают новые местные
культы, как, например, вокруг реликвий Драгоценной Крови, о которых
еще пойдет речь ниже.
С уверенностью можно предполагать, что чем выше миряне находи¬
лись на лестнице феодальной иерархии, тем яснее они представляли
себе учение церкви. Тема «знать и церковь» достаточно изучена, и нет
необходимости долго задерживаться на ней. Следует упомянуть лишь о
наиболее существенном: с одной стороны, духовные лица присутство¬
вали при дворе в качестве священников или учителей, советников или
чиновников, а с другой, — едва ли было возможно занять какую-либо
значительную церковную должность, не имея среди родственников
знатных особ. Несмотря на все противоречия с церковью, обремени¬
тельную опеку над ней и даже конфликты (борьба за инвеституру!), не¬
сомненно, что большинство государей на практике вели себя подчерк¬
нуто благочестиво. Генрих III возлагал на себя королевские инсигнии
лишь после исповеди6. Лотарь Суплинбургский имел обыкновения выс¬
лушивать по три мессы ежедневно7, а юный Фридрих Барбаросса во вре¬
мя евхаристии целовал священнику ноги8 и т. д.
Как, однако, обстояло дело со среднестатистическими христианами,
иными словами, с сельским людом, который, несомненно, составлял
большинство населения Европы, пожалуй, около 90%? Вопрос о том,
насколько крестьяне, действительно, были христианизированы в эпоху
высокого средневековья, остается открытым. Прежде всего следует, на¬
верное, учесть весьма существенные региональные различия. В первой
трети XI в. фризы, жившие на побережье Северного моря, еще видели в
евхаристии опасную разновидность колдовства: многие верили, что при¬
нявший святые дары, должен умереть в течение года (ложная интерпре¬
тация последнего причастия, даруемого умирающему?). По словам кре¬
стьянина одной из фризских деревень, кружка пива была бы ему милей,
чем sanctissimum (в результате он, естественно, свернул себе шею и по
указанию епископа был позорным образом эксгумирован)9. Когда около
1090 г. аббат Хирзау Вильгельм, направляясь в зависимый монастырь
Цвифальтен, отдыхал в одной хижине, он встретил там людей, которые
показались ему столь дикими, что он спросил, известна ли им вообще
католическая вера (Jidemne sciant katholicam). Те же по простоте своей от¬
ветили, что вовсе не знают, что такое вера (qui simpliciter quiclnam sit fides
penitus se ignorare fatentur)10. He заметно, чтобы ситуация сколько-нибудь
изменилась здесь по сравнению с первой половиной VIII в., когда Бо¬
нифаций встречал крещеных, не знавших точно, были они крещены во
имя Троицы или приняли крещение от язычников, а также таких хрис¬
тиан, которые продавали своих рабов язычникам для жертвоприноше¬
ний11.
Лишь немногие источники позволяют приблизиться к ответу на
вопрос о том, как на практике дохристианские представления взаимо¬
действовали в вере простого парода с официальным учением церкви
При этом вечные жалобы на народные суеверия, встречающиеся в цер¬
145
ковноправовых и дидактических сочинениях, гораздо менее репрезен¬
тативны, нежели, например, видение одного смертельно больного гол¬
штинского крестьянина по имении Готтшальк12. В 1189 г. это видение
загробного мира было записано на латыни двумя клириками, каноно-
ком и приходским священником, независимо друг от друга. Причем в
своих формулировках оба текста весьма расходятся, тогда как по со¬
держанию они, напротив, совершенно идентичны, — это доказывает,
что перед нами действительно уникальный пример представлений че¬
ловека из народа, не деформированных письменной традицией.
У Готтшалька две традиции соединяются в один гомогенный образ по¬
тустороннего мира: с одной стороны, — это космологические представ¬
ления, которые однозначно принадлежат дохристианским верованиям
северных германцев, а с другой, — христианская идея чистилища. Так,
терновую пустошь в загробном мире можно преодолеть лишь в специаль¬
ной обуви, — воспоминание о хельскоре, — которой надлежало снабдить
умершего для путешествия в Вальхаллу. Грешникам далее следует преодо¬
леть широкую реку, наполненную острым оружием — препятствия поту¬
стороннего мира, которые также имеют параллель в скандинавской ми¬
фологии, — потоки Гейрвимула и Шлидхра из песен «Эдды». Что-либо
подобное в средиземноморско-христианской традиции отсутствует. Ра¬
зумеется, не в религии prescrite коренится представление и о том, что
преставившийся грешник должен один раз в день погружать руку в очи¬
стительный огонь, а остальное время может наслаждаться покоем, да¬
рованным спасшимся. Да и многие другие мотивы видения являются
очевидными свидетельствами народной религиозности.
При всей уникальности этого источника примечательно, что ни один
из записавших его священников, латинский язык которых говорит о весь¬
ма приличном уровне образованности, не подвергает критике такие пред¬
ставления. Более того, подчеркивается даже verborum sanitas rebus consono
пес a fide dissona, т.е. «благоразумие слов [крестьянина], созвучных дей¬
ствительности и не отклоняющихся от веры*, что и подвигло каноника,
записывающего видение, без колебаний поместить Готтшалька в один ряд
с пророками, Христом и апостолом Павлом. Очевидно, и каноник, и при¬
ходской священник могли одинаково хорошо представить себе в чисти¬
лище и терновую пустошь, и режущую пловцов реку, и раскаленные стек¬
лянные сосуды для грешников. А между тем обоим клирикам по идее
надлежало уже вполне четко осознавать, что чистилище есть, собствен¬
но, мир бесплотный, и, в отличие от преисподней, не населен демонами,
о чем единодушно учили теологи того временип.
Вообще, как кажется, существует не так уж много свидетельств, по¬
зволяющих судить о проникновении в крестьянскую среду церковного
учения. Несомненно, что уже в XII в. во многих деревенских церквях
появляются циклы фресок дидактического содержания (как, например,
в Кеферлохе под Мюнхеном14). В русле же реформы Хирзау в Швабии
возникали даже крестьянские товарищества (существовавшие, правда,
недолго), которые стремились подражать древней церкви1*. Наконец, в
обстановке напряженной борьбы императора и папы монахи в своих про¬
поведях пытались апеллировать также и к сельскому населению|(’. Вмес-
146
тестем, вряд ли самосознанием многих монастырей подобная активность
воспринималась как настоятельная задача братии. И теперь, и прежде
целью монашеского служения была преимущественно самосакрализация
посредством литургии, а также молитвенное поминовение дарителей и
побратимов обители (memoria), в результате чего со времен ирландской
миссии мы больше не встречаем в Германии ни одного странствующего
монаха-проповеди и ка11.
Иная обстановка складывается в городе. Германия высокого средне¬
вековья быстро урбанизируется (хотя и не столь интенсивно, как Италия.
Франция и Нидерланды). Растут плотность поселений, их размеры, а на
востоке во множестве закладываются новые города. Позволительно пред¬
положить, что бюргеры были катехезированы в целом лучше, нежели
сельское население. Сама по себе территориальная близость храма и мно¬
гочисленность церквей в городах, упрощали их посещение для горожан
по сравнению с селянами. Кроме того, следует учитывать, что в городах
неизмеримо выше была концентрация клира — либо благодаря наличию
соборной церкви, либо по меньшей мере в силу разветвленности приход¬
ской организации.
Важнейшие духовные движения мирян возникали прежде всего в го¬
родах. Наибольший размах приобрели движения, противостоявшие цер¬
ковной иерархии, — катары и вальденсы. Сам Вальд был купцом, кото¬
рый (как позднее Франциск Ассизский) отказался от своего богатства и
стал проповедовать. В свою очередь, большинство представительниц так
называемого женского религиозного движения, первоначально вполне
ортодоксального, происходило из средних слоев купечества и городско¬
го патрициата Фландрии и Германии18. В Кёльне, где источники подда¬
ются статистической обработке, ситуация выглядит примерно так же:
между 1120 и 1320 гг. из представительниц купеческого патрициата, пос¬
ледовавших религиозному призванию, 65% стали монахинями, 35% —
бегинками, тогда как из средних слоев 38% женщин ушли в монастыри,
а 62% примкнули к общинам бегинок. Женщины же, принадлежавшие к
знати, принимали почти исключительно традиционный уклад канонисс19.
Города, располагавшиеся в зонах миссионерства, могли играть и су¬
щественную религиозно-политическую роль. Так, в Риге в 1206 г. с раз¬
махом и надлежащим блеском исполняли духовную драму — действо о
пророках, содержание которого присутствующим неофитам и язычникам
разъяснял переводчик20.
Разумеется, духовными центрами и в высокое средневековье остава¬
лись монастыри. Их количество продолжало расти. Например, один толь¬
ко епископ Отто Бамбергский (умер в 1139 г.) основал 22 новых монас¬
тыря, с тем, чтобы обеспечить возможность уединения всем, кто хотел
оставить мир ввиду приближающегося конца света21. Согласно житию
архиепископа Конрада Зальцбургского, написанному около 1170 г., во
всем его диоцезе не было почти ни одного священника, который не при¬
надлежал бы к тому или иному монашескому ордену22 (что, правда, не
следует считать нормой). Растущая активность монашества ощущалась и
в совершенно иной, не религиозной, сфере. Наряду с городами прогрес¬
сивную роль в экономике играли цистерции с их грангиями (хозяйствен-
147
пыми ливрами). Цистерцианцам удалось выработать новые технологии в
горном деле и мелиорации; через свои городские подворья они успешно
занимались торговлей. Поскольку «ангелические братья», самое позднее
с рубежа XII—XIII вв., отступив от своего первоначального идеала, при¬
нялись также за пастырское служение21, у мирян появились более широ¬
кие возможности познакомиться с элементами цистерцианской спириту-
альности. Для бенедиктинцев же отправление пастырских обязанностей
оставалось делом необычным. Как правило, в принадлежащие им прихо¬
ды они, на основе права частной церкви, лишь назначали священников24.
Многие монастыри — в Германии, возможно, около 200 — примкнули
к клюнийской реформе, точнее, к так называемому «новоклюнийскому»
движению с центром в аббатстве Хирзау, полностью не зависимом от свет¬
ских властителей. Хирзау и монастыри его конгрегации ратовали за бо¬
лее строгое соблюдение древних монашеских идеалов, а также стремились
к освобождению от светского господства. В то же время «новоклюнийс-
кое» движение сумело оказать глубокое воздействие и на сознание мирян.
Считается, что увеличение числа духовных сочинений на раннем средне¬
верхненемецком, их растущее разнообразие обусловлено прежде всего
потребностями «новоклюнийских» конверсов («обратившихся»), незна¬
комых с латынью. В пользу этого говорит и география рукописной тра¬
диции26.
Поскольку в XI—XII вв. на восточной и северной границе империи
еще жили язычники, свою актуальность сохраняло миссионерство. На¬
ряду с епископами и священниками-миссионерами в просвещении языч¬
ников подвизались также монахи, как было уже в раннее средневековье,
со времен папы Григория I, когда монахи, в противоположность своему
первоначальному стремлению к личному спасению, переключались на
выполнение миссионерских задач. Теперь примером мог бы служить ка-
ноникат августинцев Ноймюнстер, который был основан в 1136 г. к се¬
веро-западу от Любека для просвещения вендов.
Чувство неуверенности, которое борьба за инвеституру посеяла в за¬
падном христианстве, особенно в Германии, и, пожалуй, не только в гос¬
подствующем слое, представляется едва ли не решающим фактором ин¬
тенсификации религиозной жизни, содействовавшим более глубокому
внутреннему переживанию требований религии prescrite. Как достичь
спасения, когда столько священников и епископов — посредников в об¬
ретении загробного благополучия — были отлучены от церкви или откры¬
то жили во грехе, купив свою должность у мирян, либо женившись? Не
поискать ли более надежный путь обретения небесного блаженства —
уйти в монастырь или стать отшельником? Тогда в счет пойдут лишь соб¬
ственные благочестивые деяния. Достаточно указать среди прочего на
многочисленные обращения знатных мирян к монашеской жизни и ре¬
форматорские течения в самом монашестве. В этом контексте следует
рассматривать и нежелание орденов, возникших в рамках движения за
монастырскую реформу, скажем, цистерцианцев, принимать облитое, т е.
детей пяти — восьми лет, которых родители посвяшали патрону монас¬
тыря в качестве «десятины»27. Сделавшимся монахами или монахинями
облатам надлежало молиться за свои семьи независимо от собственной
148
ноли, поскольку решение родителей не могло быть отменено. В противо¬
положность прежним бенедиктинцам, сторонники реформы стремились
принимать в монастыри только взрослых, которые свободно решили из¬
брать монашескую жизнь. — что выражало не столько формально-юриди¬
ческое благочестие, сколько благочестие, мотивированное индивидуаль¬
но.
Растущее проникновение христианских идеалов в обыденное созна¬
ние, и прежде всего осмысление жизни sub specie aeternitatis, в сочетании
с разочарованием, вызванным несоответствием существующих монасты¬
рей этим идеалам, породило новые ордена (картезианцев или премонст-
ратов), а также реформированные ответвления бенедиктинского ордена
(цистерцианцы). За образец они почитали строгость и бедность апосто¬
лов, отцов-пустынников и первых бенедиктинцев. Протестом против
растущего обогащения церкви и мира явились религиозные движения,
одухотворяемые идеалом апостольской бедности (ср. Деян. 2: 41—45):
«Nudi nudum Christum sequi!»n. Как раз в монашестве неприятие встре¬
чало богатство бенедиктинцев, особенно клюнийцев, демонстрируе¬
мое в пышных церемониях, архитектуре, прикладном искусстве и ли¬
тургии: следовало вернуться к первоначальной строгости устава св.
Бенедикта, как того требовали цистерцианцы. Хотя эти движения за¬
родились во Франции, они быстро распространились и в Германии.
Даже illiterati наряду с канониками получили шанс вступить на «стол¬
бовую дорогу» спасения, а именно приобщиться монашеской жизни в
качестве мирских братьев, fratres barbati или idiotae, как их называли,
например, в Хирзау, или conversi, как они обозначались у цистерциан¬
цев.
Но новые ордена, очень быстро разбогатевшие вследствие возлагав¬
шихся на них надежд мирян и вытекавших отсюда дарений, в течение
немногих поколений отказались от своих первоначальных идеалов. Как
следствие стремления к тому, что, собственно, составляло предназначе¬
ние монастырей, сформировалось движение мирян за святую бедность.
Одни из главных поборников идеала бедности, бегинки и бегарды, кото¬
рые появившись в XII в., выполняют монашеские обеты бедности и це¬
ломудрия, хотя и не приносят их на вечные времена. Поэтому бегинки
именуют себя среди прочего virgines continentes29.
Новизна движения за святую бедность заключалось в способе обраще¬
ния с библейской традицией. Тексты Ветхого и Нового Завета уже не ре¬
цитируются механически как изначально происходило у прежних бене¬
диктинцев и в кругах благочестивых мирян. Теперь эти тексты словно
пропускают через себя. Прежде всего это отражалось на поведении сна¬
чала отдельных лиц (например, Петр Вальд), а затем и многих (движение
вальденсов), что не находит параллелей в раннем средневековье.
Тем самым в эпоху высокого средневековья активизируются до того
пассивные слои населения, происходит частичная перегруппировка со¬
циальных, политических и духовных структур. Если первоначально пре¬
обладали индивидуальные формы религиозной практики, а именно ере-
митизм, затворничество или паломничество, а также те институты,
которые были привязаны к монастырю, каионикату или ордену (кониер¬
149
сы и конфратернитаты), то с XII в., с основанием товариществ при гос¬
питалях, духовных братств, покаянных сообществ, общин бегинок и бе-
гардов, появляются и множатся автономные объединения верующих30.
К таким прежде пассивным слоям населения или, выражаясь средне¬
вековым языком, «сословиям», относились женщины31. Разумеется, бе¬
зусловно преобладали женщины, которые устраивали свою жизнь в со¬
ответствии с изначальной моделью замужества и материнства. Но с XI в.
все больше и больше становилось тех, кто отважился порвать с этой тра¬
дицией и отказался от брака и от детей, замещая их, с одной стороны,
отношениями с прочими женщинами, а с другой, — с «истинным жени¬
хом» на Небесах. Правда, избрать эту альтернативную форму жизни при
отсутствии достаточно авторитетных образцов для подражания могли
поначалу лишь те женщины, которые располагали некоторым временем
для рефлексии, — иными словами, женщины из верхних слоев общества.
Именно эти женщины были в значительной мере увлечены идеалами
евангельской жизни, обратиться к которым в контексте общей духовной
реформы призывали адепты тогда все еще революционного движения
бедности. «Массовое вступление замужних женщин-аристократок в ци-
стерцианский орден Яков Витрийский объясняет тем, что они хотели
переменить carnale matrimonium in spiritual, плотский брак на духовный.
Немало благородных девиц, искавших свой путь в орден, являлись oblata
matrimonia contemnentes, т.е. отказавшимися от предложенного им заму¬
жества. Можно было видеть многих, — продолжает Яков Витрийский, —
пренебрегших могуществом и богатством своих родителей и с презрени¬
ем отвергнувших женихов из влиятельных и благородных семейств»32.
Женское религиозное движение, будучи отчетливо сконцентрирова¬
но в определенных областях Западной Европы, не нашло никакого откли¬
ка среди населения ряда других регионов. Так, известно, что впервые это
движение заявило о себе в конце XII в. на территории современной Бель¬
гии и в приграничных с ней землях, т. е. во Фландрии, Брабанте, Север¬
ной Франции, бассейне Нижнего Рейна и Мозеля. Вдоль Рейна волна
нового женского благочестия распространялась вплоть до Южной Герма¬
нии и Швейцарии, а из Нидерландов — до Силезии, Польши и Богемии.
Нередко такие женщины ориентировались на ордена реформаторов.
Народный проповедник Норберт Ксантенский (умер в 1134 г.), еще до
вступления в сан архиепископа Магдебургского, привлек в основанный
им новый орден большое число женщин. Сдвоенные монастыри премон-
стратов весьма существенно отличались от современных им конгрегаций
бенедиктинок. Жизнь конверсы привлекала не только крестьянок или
бедных женщин, но в еще большей степени — знатнейших и состоятель¬
нейших. Именно они спешили вступить в общину Норберта ради умер¬
щвления своей «нежной плоти» (J'eminas non modo rusticas velpauperas, sed
potius nobilissimas et ditissimas... ad illius institutionis monasteria festinantes et
quasi ad mortificandam teneram carnem currentes)n. To, что премонстраты
вскоре перешли к «запретительной женской политике», иными словами,
более не позволяли обратившимся сестрам жить при мужских монасты¬
рях, должно было ускорить развитие раннего движения бегинок. Без со¬
мнения. бегинки составляли наиболее независимую часть движения за
150
бедность. В их домах жизнь, в отсутствие устава, протекала по взаимной
договоренности в чередовании индивидуальных и коллективных благо¬
честивых упражнений, посещениях мессы и проповеди, каритативной де¬
ятельности, физическом труде или обучении. Тем не менее бегинки не
приносили какого-либо обета на вечные времена и всегда могли поки¬
нуть общину и выйти замуж. Многие дома бегинок согласились с инкор¬
порацией в орден цистерцианцев. Когда капитул цистерцианцев в 1228 г.
постановил не принимать в орден женские монастыри, а его членам было
запрещено посещать женские обители или осуществлять над ними пас¬
тырскую опеку34, пастырями бегинок сделались по преимуществу братья
нищенствующих орденов. Нередко дома бегинок преобразовывались в
общины доминиканок и кларитинок.
Вместе с тем многие верующие находились за пределами церкви. В
эпоху высокого средневековья появились еретические секты, которые от¬
вергали, по меньшей мере частично, учение римско-католической церк¬
ви, подчас допуская насильственные действия против священнослужи¬
телей. Образование таких девиаций ео ipso есть свидетельство растущей
нетерпимости внутри христианства. В период раннего средневековья
существовали лишь отдельные религиозные отклонения. Но никогда преж¬
де дело не доходило до образования крупных еретических сообществ. Те¬
перь же сектанты утверждали, что только тот спасется, кто обратится в их
единственно святую веру, как учили, например, появившиеся в начале
XIII в. в диоцезах Страсбурга и Пассау ортлибарии или ортлибы, которые
проклинали даже отцов церкви35.
На протяжении двух или трех поколений в странах латинского хри¬
стианства впервые сосуществовали две церкви. На юге Франции, в Се¬
верной Италии, а также в прирейнских землях и Австрии экстремистс¬
ко-пауперистические и радикально-дуалистические толкования
Евангелия соперничали с идеологией римско-католической церкви.
Конец им положили лишь крестовые походы и инквизиция. Однако
именно тогда, впервые в европейской религиозной истории, как будто
представилась возможность для развития конфессионального плюра¬
лизма (если позволительно употребить это слово avant la lettre). Реакция
же католической церкви, которую поддерживало большинство верую¬
щих, была радикальной. Если еретики выказывали непокорность или
возвращались к ереси, то их как «обожженные члены», «члены Дьяво¬
ла»36 отлучали от «тела святой матери церкви» и передавали «мирской
руке» церкви, т.е. светской юстиции, иными словами, обрекали на фи¬
зическое уничтожение. С 1102 г. (призыв Пасхалия II к крестовому по¬
ходу против императора Генриха IV 37) папы все чаще и чаще использо¬
вали militia Christi в качестве инструмента принуждения также и против
христиан, объявленных еретиками. Достаточно было, чтобы папство виде¬
ло в них своих политических противников. В крестовом походе против
альбигойцев, организованном Иннокентием III и успешно осуществлен¬
ном благодаря энтузиазму северофранцузского рыцарства (1209—
1244 гг.), христиане воевали с христианами. Крестоносцы перебили ере¬
тиков, разрушили цветущую культуру Лангедока, тем самым апробирован
формулу helium iustum между христианами, которой еще предстояло зая-
151
нить о себе во все более возрастающих масштабах от гуситских войн до
религиозных конфликтов раннего Нового времени. В немецких землях
известной аналогией крестовому походу против альбигойцев стало
уничтожение в 30-х гг. XIII в. штедингских крестьян-еретиков силами
епископского крестоносного войска.
Одновременно не может не удивлять то обстоятельство, что по срав¬
нению с ситуацией периода позднего средневековья конфликты между
религией prcscrite и религией vecue в XI—XII вв. (если абстрагировать¬
ся от организованного сектантства) еще играют внутри католического
мира совсем маргинальную роль. Ведь пока еще не разработаны соот¬
ветствующие положения церковного права, не созданы необходимые
организационные механизмы, в частности, инквизиция. Впрочем,
если принять во внимание, сколь эффективно функционировала рим¬
ская курия уже около 1100 г., то становится очевидно, что причина
бездействия церкви в отношении инакомыслящих заключалась совсем
не в недостатке организационных возможностей. Скорее, еще не раз¬
вилась достаточная чувствительность к отклонениям от ортодоксии.
Многие верующие продолжали придерживаться традиционных рели¬
гиозных практик, не испытывая, как кажется, потребности каждый раз
соотносить привычное и предписанное с библейским идеалом. В свою
очередь в церкви еще не обозначился интерес к активной охоте на ере¬
тиков. Элементы нехристианской религиозности в верованиях и обы¬
чаях еще не вселяли такого сильного беспокойства, чтобы потребова¬
лось выйти за пределы обычных церковных епитимий. Лишь после
борьбы за инвеституру, с распространением дуалистической ереси и
движения за святую бедность, церковная иерархия почувствовала себя
в осаде. С XIII в. она переходит в наступление, которое обернулось
хорошо известными страшными последствиями: крестовыми похода¬
ми против еретиков, инквизицией, а позднее — преследованием ведьм.
Особенность Германии состояла в том, что здесь не было того опас¬
ного противостояния внутри церковно-интеллектуальной элиты, как во
Франции, где оно обозначилось уже в XII в. (Танхельм, Абеляр, Жиль¬
бер из Пуатье и др.), хотя многие иерархи немецкой церкви и получили
свое теологическое образование во Франции, например, Оттон Фрей¬
зингенский38. Естественно, отдельные контроверсы все же имели мес¬
то: скажем, по поводу иисусоцентрической христологии Герхоха Рай-
херсбергского (умер в 1169 г.). Однако такие конфликты не затрагивали
сколько-нибудь широких слоев населения и не имели сколько-нибудь
существенных последствий для оппонентов. Как раз то, что Герхох —
возможно, самый крупный немецкий теолог второй половины XII в., —
был противником схоластики, иллюстрирует среди прочего консерватизм
немецких ученых39.
Вернемся, однако, к католицизму ортодоксальному. Организаци¬
онной основой развивающейся в высокое средневековье катехизации
явилась усиливающаяся дифференциация церковной иерархии, а так¬
же численный рост священнического сословия. В XII в. в основных
чертах завершилось оформление системы приходов. В 1179 г. был
окончательно уничтожен институт частной церкви, и над приходами
была восстановлена власть епископата (III Латеранский собор). При¬
хожанам предписывалось вносить десятину, сбор на столу и облации.
Но поистине решающий импульс интенсификации религиозной жиз¬
ни дал IV Латеранский собор 1215 г. Взяв за образец практику монаше¬
ства, он предписал всем католикам по меньшей мере один раз в год ис¬
поведоваться и причащаться у приходского священника40, что явилось
существенным условием «христианизации вглубь». Именно таким обра¬
зом перед священниками открывалась возможность контролировать со¬
стояние религиозного знания. В этой Новой ситуации для облегчения
пастырского труда во множестве появляется соответствующая литерату¬
ра (зерцала, исповеди и т.д.).
Правда, мы почти совсем не можем судить о том, являлось ли пастыр¬
ское служение священников достаточным. Во многих случаях оно огра¬
ничивалось лишь отправлением таинств (которым сплошь и рядом при¬
давался еще чисто магический смысл), а также воспроизведением
некоторых основ христианского вероучения. Среди священников было
распространено мнение: Uon gate geturre wir nith zu uerre geredert, wan
die leigen kemint lithe in einen grozen zuiuel, so sie zu tiefe rede vernement,
der sie sich vers tan nith enmiigen («О Боге мы не осмеливаемся слишком
распространяться, поскольку миряне легко могут поддаться немалым со¬
мнениям, когда слушают чересчур глубокие рассуждения, которые не в
состоянии понять»)41. Не может не удивлять, что мы и теперь знаем о про¬
поведи не многим больше того, что было известно применительно к ран¬
нему средневековью (исключая лишь монахов Хирзау). Картину допол¬
няют следующие одно за другим соборные постановления, которые
запрещают необразованным и неопытным священникам проповедовать
народу, как утверждалось, например, на трирском синоде 1227 г.42 В этой
связи большего внимания заслуживает, вероятно, то обстоятельство, что
очень многие миряне отказывались доверить судьбу своего спасения про¬
фессиональным посредникам между Богом и людьми, которые своим па¬
стырским служением были, очевидно, не в состоянии внушить прихожа¬
нину достаточную уверенность в его загробном благополучии. Такие
миряне предпочитали самостоятельно заботиться о спасении, либо прим¬
кнув к движению за святую бедность, либо вступив в ту или иную рели¬
гиозную общину, находящуюся в орбите влияния официальной церкви
или противостоящую ей. В то же время многие священники должны были
обладать хорошим теологическим образованием и стремиться передать
собственные познания своим духовным чадам, на что указывает возрос¬
шее число религиозных стихотворений на народном языке, принадлежа¬
щих перу священников (Эццо, Арнольд, Вернхер, Хартманн, Апьберон и
яр).
Не менее существенными, чем устные наставления в вере, были, по-
видимому, и изображения. В романском искусстве церковное здание в
значительно большей мере насыщено религиозно-просветительскими
изображениями и пластикой, чем в раннее средневековье. В принципе
фигурная пластика является новацией этой эпохи. Тимпаны, капители,
базы, фризы, апсиды и прочие архитектурные элементы покрывают ре-
пьефы. в которых повествовательно или через символы раскрываются ис¬
153
тины спасения4'. В равной степени «говорящей» становится и литурги¬
ческая утварь. В раннее средневековье украшенные фигуративной плас¬
тикой предметы, такие, как крещальни, пульты для чтецов, купели для
святой воды и т. п., встречались еще редко или вообще не были извест¬
ны. Обращение к данной форме религиозной пропаганды, без сомнения,
зависело от конкретного церковного руководства и не в последнюю оче¬
редь мотивировалось экономическими соображениями: ведь роскошь
церковного убранства развязывала кошельки, что критиковал, например.
Бернард Клервоский44. Оценить притягательную силу храма нельзя вне
вопроса о «стоимости» его облика. Только принимая во внимание кон¬
траст между маленькими, темными и сплошь лишенными каких-либо
прикрас деревянными жилищами крестьян, а также по преимуществу
небольшими каменными городскими постройками, с одной стороны, и
сравнительно обширными каменными церквами с их золотой и серебря¬
ной утварью, настенными росписями, коврами, статуями и свечами, — с
другой, только учитывая почти полное отсутствие в народной культуре
массовой визуальной продукции, можно составить приблизительное
представление о том впечатлении, которое храмы должны были произ¬
водить на обывателя. Каким прорывом из повседневной мелочной ру¬
тины трудовой жизни, каким перенапряжением всех чувств являлось
присутствие на литургии, окутанной таинственностью непонятного бо¬
гослужебного языка и, по-видимому, едва ли понятных сакральных жес¬
тов!
II. Традиции и инновации в религиозной жизни
В доиндустриальную эпоху, в столетия, предшествующие Просвещению,
многие элементы религиозной жизни оставались в основном неизменны¬
ми. В этой связи позволительно говорить о континуитете (в том смысле,
в каком этот термин с конца 1960-х гг. употребляется в немецкой фольк¬
лористике), или о longue durhe, что звучит несколько современнее. Базо¬
вые компоненты ментальности сохранялись и после перемены религии:
перехода от язычества к христианству. Действительно, не просто обнару¬
жить различия между заговором, известным как Второе Мерзебургское
заклинание (записано в IX в.), — формулой обращения к Водану за ис¬
целением больного коня, — и молитвой Ad equum (записана в XII в.), —
формулой, апеллирующей к Христу45. Магия была и оставалась частью
повседневной жизни и на селе, и в городе. Но занятия ею еще не пред¬
ставляли угрозы для жизни мага, как в позднее средневековье.
Не следует также забывать, что феноменологически таинства церкви
не слишком отличались от магических действий, изначально являясь бе¬
лой магией и лишь позднее став предметом теологического истолкования.
Например, когда за едой у одного из пажей епископа Хартманна Брик-
сенского (умер в 1164 г.) в горле застряла куриная кость, прелат взял
«тонкую свечку, согнул ее вокруг шеи отрока и велел, чтобы тот на сле¬
дующий день посетил святую мессу и зажег бы при этом свечу». Эта ма¬
154
гическая процедура, подкрепленная призывом к местному святому, му¬
ченику Власию, разумеется, не осталась безрезультатной46.
Тем не менее как раз в период высокого средневековья берут начало
принципиально новые тенденции, которым предстоит определять мен¬
тальность средневекового человека вплоть до Нового времени. Следует,
во-первых, упомянуть о невиданной прежде эскалации религиозной аг¬
рессивности в отношении как своих, так и чужих. Во-вторых, речь идет
об открытии христианством новых интимных путей общения с Богом.
§ 1. Религиозная агрессивность
Несомненно, что на всех этапах средневековья многие воспринимали
христианство как религию воинственную. Христианству в принципе чуж¬
да толерантность47. Поэтому оно и могло стать идеологической основой
войн, преследовавших вполне земные, политические и экономические
цели, таких, как реконкиста на Пиренейском полуострове или уничтоже¬
ние (покорение) славян-язычников на востоке Европы48. В то же время
представляется, что эпохальное стремление завоевать те места, где про¬
текали жизнь и страсти основателя христианской религии, — стремление,
которое заявило о себе только в XI в., но не угасало вплоть до раннего
Нового времени, коренилось именно в сфере религиозности. Все прочие
факторы, содействовавшие развитию крестоносного движения, остава¬
лись вторичными. Идея отвоевания Святой Земли связана прежде всего
с новым образом Христа, в котором на первый план выдвинулся человек
Иисус, его жизнь и смерть в определенном историческом месте — Пале¬
стине:
«Allererst lebe ich mir werde,
sit min siindic ouge siht
daz reine lant und ouch die erde
der man so vil eren giht.
mirst geschehn des ich ie bat,
ich bin komen an die stat
da got mennischlichen trat»49.
«Всей душой восторжествую,
Когда грешный этот взор
Землю обретет святую,
Край, желанный с давних пор.
Увидеть жаждал я весь век
Благодатный этот брег:
Жил там богочеловек».
(Перевод В. Микушевича)
Однако о новой агрессивности западного христианства свидетельство¬
вали не только «вооруженные паломничества» против ислама — кресто¬
вые походы, начавшиеся в конце XI в. и увлекшие в Святую Землю мно¬
жество верующих, в том числе из Германии. В этих походах возникла
невиданная прежде форма жизни, а именно духовно-рыцарские ордена
(иоанниты, тамплиеры, немецкий орден и т. д.)50. Монашество и война
соединились в одно целое. Militia Christi — то, что ранее у духовных пи¬
сателей являлось лишь метафорой борьбы во имя Бога, в которой чело¬
век должен был одержать верх над самим собой, своими пороками, бук¬
вально: победить дьявола, теперь стало обозначением борьбы против
155
врагов Христа на Ближнем Востоке, которую надлежало вести с оружи
ем в руках. Со времен Августина идея справедливой, даже святой войны
была уже хорошо известна. Однако, под ней, как правило, понимали вои¬
ну оборонительную. Теперь идея справедливой войны оправдывала веде¬
ние наступательных действий. Крестоносец воплощал совершенно новое
понятие мученика-убийцы. Чтобы проиллюстрировать эту необычную
трактовку воина Христова, достаточно привести цитату из сочинения,
принадлежащего перу священника, а именно из «Песни о Роланде» Кон¬
рада Вюрцбургского — эпического произведения середины XII в., про¬
пагандирующего идеалы крестоносного движения. Автор вкладывает в
уста архиепископа Турпина следующие слова, обращенные к христиан¬
ским рыцарям накануне сражения с мусульманами:
«Wol irgotes helede,
uechtet umbe uwir erbe,
daz iu lange geheizen si:
venite benedicti.
nach diesem suzen segene,
ir turen uolcdegene,
meuoget irgerne uechten...
swaz ir der haiden hiute meuoget
erslan,
daz setze ich iu ce beuoze».
nach dirre rede suze
uielen si alle zu der erde.
do segenot si der herre.
er sprach in indulgentiam.
der antlaz was uor gote zu himele.
ge tan»sl.
«Вы подлинные герои Божьи,
Бейтесь ради вашего наследства,
Что вам давно было обещано:
Ступайте благословенными.
После этого сладкого благословения,
Вы, драгоценные и прославленные
герои,
Вы можете бесстрашно сражаться...
Все вы можете сегодня убивать
язычников,
Отпускаю вам этот грех».
После такой приятной речи
Все пали ниц.
И тогда господин благословил их.
Он дал им индульгенцию.
Отпущение [грехов] к небесам,
которое дано было от Бога».
Перед нами не просто литературный образ: в нем содержатся весьма
очевидные призывы, которые должны были встретить сочувствие и на
востоке империи, среди завоевателей западнославянских земель и При¬
балтики. Завоевательная политика христианских государей, в их соб¬
ственных глазах, была религиозно оправдана и законна. «Поскольку
небесная благодать подарила нашим предприятиям успех, мы сумели
одержать победу над множеством славян тем способом, что смиренных,
выказавших послушание, мы привели посредством крещения к вечном
жизни, а своенравных в своей гордыне, пролив их кровь, обрекли на
вечную смерть». Так писал заказчик сочинения Конрада Вюрцбургско¬
го, Генрих Лев, в одной из грамот, датированной 1163 г.52
В то же время с рубежа I —II тысячелетий религиозная агрессивность
европейцев обращалась также и на членов собственного общества, ино
верцев и инакомыслящих. Мур дал этому подходящее название — «flic
formation of a persecuting society»". Прежде всего, менее терпимо стали oi
носиться к единственной дозволенной в христианском мире чуждой ре¬
лигии. иудаизму. Строгое законодательство закрыло евреям доступ ко
156
всем другим профессиям, кроме ростовщичества. Отныне им надлежало
носить особую одежду. С XI и. евреи подвергались постоянным пресле¬
дованиям: их изгоняли, предавали сожжению, принудительно крестили.
Как раз в связи с крестовыми походами звучали проповеди против евре¬
ев, приводившие нередко к погромам, как, например, в рейнских землях
в начале Второго крестового похода4.
Однако вопреки этой тенденции католицизм в XII в. сохранял неко¬
торую открытость, поскольку его теология еще не была сдавлена жестким
формализмом схоластики (примером может служить все еще не опреде¬
ленное число таинств). Соответственно, еще были возможны дискуссии
с евреями и еретиками4. После же IV Латеранского собора и альбигойс¬
ких войн, т.е. в XIII в. — столетии великих «сумм» — можно констатиро¬
вать всестороннее укрепление догматического фундамента христианства.
Еретики стали подвергаться более систематическим преследованиям, ев¬
реи были окончательно изолированы (IV Латеранский собор провозгла¬
сил запрет на занятие ими должностей и утвердил особый порядок одеж¬
ды), были запрещены публичные дискуссии о вере в Германии, Англии
и Франции. Не случайно, что и инквизиция (введенная Германии в
1231 г. духовником св. Елизаветы, Конрадом Марбургским), и универ¬
ситетская теология находились в руках нищенствующих орденов. Эта те¬
ология все активнее вторгается в сферу массового благочестия и церков¬
ную практику.
В то же время религиозная агрессивность имела и еще одну сторону,
проявляя себя как самоагрессия (Autoagression). С конца XI в. мы узнаем
о специфических формах аскезы, которые, как правило, были чужды ста¬
рому бенедиктинскому монашеству (и совершенно не известны среди
мирян). Так, у монахов вошло в обычай в качестве разновидности пока¬
яния подвергать себя самобичеванию. Распространению этой практики
особенно способствовал труд Петра Дамиани, одного из докторов церк¬
ви, «Во славу бичевания». В позднее средневековье самобичеванию пре¬
давались и многие благочестивые миряне. В Германии эпохи высокого
средневековья эта форма покаяния и умерщвления плоти встречается еще
редко, хотя некоторые примеры такого рода все же известны. Так, епис¬
коп Хартманн Бриксенский практиковал самобичевание ежедневно56.
Когда в 1218 г. император Оттон IV, угнетенный папским отлучением и
сорвавшимся крестовым походом, лежал в Харцбурге на смертном одре,
он не удовлетворился ударами розог, полученными от своих священни¬
ков57, и после смерти императора эту процедуру покаяния от его имени
повторили многочисленные монахи и монахини5”. В XIII в. умножение
крайних форм умерщвления плоти подготовило расцвет мистики.
§ 2. Интимность в отношениях с Богом
Следует обратить внимание также на другую новую черту в христианстве
периода высокого средневековья. Речь идет о стремлении к более глубо¬
кому, внутреннему переживанию религии, которое проявляется исключи¬
тельно в среде элиты и поначалу отчетливо локализуется в Северной
Франции. В этом стремлении выразилось освобождение индивида oi
«обусловленной [группой] ментальности» раннего средневековья. Так.
Ламперт Херсфельдский рассматривает свою религиозную практику ис¬
ключительно в эгоцентрической перспективе, которой подчинена даже его
жизнь в монастыре. Без разрешения своего аббата Мегинхера, т.е. в нару¬
шение устава, он отправляется в паломничество. 17 сентября 1059 г. Лам¬
перт возвращается в монастырь и находит, что «жизнь Мегинхера чудес¬
ным образом продолжалась лишь для того, чтобы он смог простить меня».
Сразу вслед за тем настоятель заболел и по прошествии восьми дней, от¬
служив мессу, скончался59 так, как будто бы Бог устроил все это с огляд¬
кой на одного Ламперта.
Новый акцент на индивидуальном нашел выражение в потоке рели¬
гиозной литературы. Более глубокая, чем прежде, интроспекция, позна¬
ние самого себя, (cognoscere re ipsum), мыслилось в ней как условие духов¬
ного роста. В молитвах чаще стали употребляться фразы от первого лица,
значительно потеснив формулировки, в которых фигурирует «мы». Но
прежде всего наблюдается оживление интереса к мистическому пережи¬
ванию и рефлексии, в центре которых находится общение души с ее спа¬
сителем60. Показательно, что латинскому Западу на протяжении всего
раннего средневековья не известен феномен unio mystica, любовно-экста¬
тического единения души с ее Небесным Женихом. Напротив, с XII в.
появляются многочисленные свидетельства подобных переживаний, а
также целый ряд соответствующих теоретических руководств.
Бог эпохи начальной фазы христианизации, Бог раннего средневеко¬
вья — это Государь, властитель, конунг, во всей своей силе сражающий¬
ся с дьяволом и грешниками, воитель, к дружинам которого следует при¬
соединиться, чтобы одержать вместе с ним победу. Тот же, кто против
него, будет низвергнут в вечный пламень преисподней. Конечно, в вы¬
сокое средневековье также присутствовали и страх перед этим грозным
Богом-Судией, и формально-юридическое благочестие. Однако для мно¬
гих на первый план выступает образ Христа, любящего брата человека.
Небесного Жениха души, каким он образцово представлен в трудах Ан¬
сельма Кентерберийского и Бернарда Клервоского, авторов, весьма по¬
пулярных в Германии, где они нашли немало подражателей, подобных
Экберту из Шёнау. Первоначально это новое отношение к Богу — отправ¬
ной пункт новой спиритуальности — не выходило за пределы монашес¬
кой элиты. Но постепенно через переводы и проповеди оно могло усва¬
иваться и мирянами, а в длительной перспективе — стать фундаментом
общей религиозности.
Истоки этого перелома в духовной культуре следует искать в изме¬
нении образа Бога. В отличие от раннего средневековья с характерным
для него образом Бога — небесного властелина, вознесенного на не¬
досягаемую для мира высоту, изображение Бога в высокое средневе¬
ковье по своим масштабам и индивидуальным чертам приближает его
к человеку. Христос страдающий, увенчанный терновым венцом, вста¬
ет рядом с Богом-царем. а затем и вовсе занимает его место. Если в
период раннего средневековья на первом плане находилась божествен¬
ная природа Христа, то теперь в его образе превалирует человек —
158
Иисус, к которому можно испытывать любовь, что в то же время под¬
разумевает истовое сопереживание человеку страдающему61. Это сме¬
щение акцента в религиозном мышлении и чувствовании на Бога воп¬
лотившегося и вочеловечившегося62, повлекло за собой пробуждение
гораздо более значительного интереса к исторической жизни Иисуса,
его земным страданиям. Отныне именно эта тема становится излюб¬
ленным предметом медитации63, экстатических откровений64, а также
одухотворяет крестоносное движение. В связи с этим постоянно рас¬
тет интерес к Матери Иисуса, которой в позднее средневековье еще
предстоит выступить в качестве небесной «Царицы», вместе со своим
Сыном вершащей суд и дарующей спасение65. Та же тенденция, при¬
ведшая к изменениям в иконографии, структуре молитв, религиозной
литературе и т. п., ощущается в широком распространении культов,
связанных с Иисусом (почитание пяти ран, лика, сердца, тела Хрис¬
това и т. д.). Ограничимся здесь лишь одним примером — почитанием
крови Иисуса.
Конечно, и от раннего средневековья, в особенности от эпохи Каро-
лингов, до нас дошли отдельные свидетельства почитания реликвий кро¬
ви Спасителя66. Однако лишь в высокое средневековье этот культ пере¬
живает свой расцвет. Во второй половине XII в. во время мессы стала
практиковаться «апевация» гостии, иными словами, тело Христово выс¬
тавлялось на обозрение верующих67. Так католическая церковь реагиро¬
вала на учение катаров, согласно которому вино и хлеб святого причас¬
тия — суть творения дьявола, либо простые продукты земли68. С XIII в.
священник также демонстрировал кровь Христову, поднимая чашу с ли¬
тургическим вином, к которой миряне, однако, более не допускались.
Очевидно, что этот литургический жест был призван стимулировать по¬
читание общиной крови как объекта, равноценного гостии. В качестве
свидетельства набирающего силу культа крови Христовой можно расце¬
нивать участившиеся в эпоху высокого средневековья случаи «обретения»
все большего числа ее реликвий, вроде той, что якобы была зарыта Лон¬
гином в Мантуе (XI в., часть находится в Вайнгартене), или тех, что до¬
ставили в Европу, подобно св. Крови из Брюгге, привезенной в 1148 г.
из Палестины. Благодаря крестовым походам появилась возможность тем
или иным способом, наряду с другими реликвиями, добывать и реликвии
драгоценной крови. Причем теперь этой возможностью, по сравнению с
паломниками раннего средневековья, пользовались с гораздо большим
рвением. Так, например, в Базель в 1148 г. попала часть реликвии крови
из Бейрута69. Посредством дальнейших разделов многие места могли стать
обладателями драгоценной крови: от святыни, привезенной Генрихом
Львом, происходят реликвии, хранящиеся в Цизмаре, Брауншвейге и Ай-
нбеке70. Кроме того, с XII в. все чаще почитались кровоточащие распя¬
тия, гостии и чудотворные лики Богоматери. Особую группу реликвий со¬
ставляют появившиеся с 20-х гг. XIII в. предметы, на которые пролилось
превратившееся в кровь литургическое вино (Больсена, Вальдерн, Ротен-
бург);|. Так же и чаша, в которую, по легенде, стекала драгоценная кровь
Спасителя. — Грааль, — выступает только теперь в качестве реликвии. В
1182 г. часть этого сосуда предположительно находилась в Вайнгартене.
159
в 1215 г. — в Хофене72. Впрочем, Грааль демонстрировали и в других ме¬
стах.
§3. Нарастание демономании
Не следует игнорировать то обстоятельство, что средневековый католи¬
цизм был в гораздо большей степени дуалистичен, чем можно предпо¬
ложить, имея в виду современную форму этой конфессии. В период ан¬
тичности и раннего средневековья демонология оставалась в основном
вотчиной монахов, тогда как священники и миряне обходились с мест¬
ными добрыми и злыми духами, не прибегая к каким-либо глубоким
теологическим абстракциям. Церковная же литература высокого сред¬
невековья несет на себе печать страха перед дьяволом и преисподней.
Это нашло отражение прежде всего в сочинениях эсхатологического
жанра par excellence, а именно в видениях. Никогда прежде не записы¬
вались столь подробные видения загробного мира с перечислением всех
предстоящих ужасов, как в XII в. Никогда прежде эти тексты не пере¬
водили на народные языки столь стремительно, как это случалось в
XII—XIII вв., благодаря чему картины загробных мучений открывались
и взору мирян. Переработка самого распространенного памятника, Visio
Tnugdali, выполненная до 1200 г. священником Альбером, содержала
множество мотивов, по-своему садистских, но в целом типичных для
жанра, zu diute durch die ungelerten luite («для простаков и устами не¬
ученых людей»)73. Речь идет, например, об утыканном иголками мосте
шириной в ладонь, под которым своих жертв поджидают извергающие
пламя чудовища высотой в башню, или о крылатой бестии, которая
вдавливает души монахов и монахинь в ледяное озеро, где их чрево об¬
ременяется змеями, раздирающими их изнутри, или о князе тьмы, при¬
кованном цепями к решетке, который плющит грешников словно ви¬
ноград... Сочинения видийного жанра — это прежде всего рассказ о
грозящих в будущем карах. В среднем авторы видений отводят описа¬
ниям наказаний в два-четыре раза больше места, чем описанию рая или
небес74. Со временем подобные фантазии о жестоком отмщении, ожи¬
дающем грешников, вошли и в сборники проповедей. Таким образом
они оказывали воздействие на общую религиозную ментальность по¬
зднего средневековья.
Постепенно крепнет уверенность в присутствии множества злых духов
и в этом мире. Речь идет здесь не обязательно о воззрениях Рихальма Шён-
тальского, чей пандемонизм для той эпохи был, несомненно, крайностью,
хотя и не представлял особого исключения для монахов его ордена. Дос¬
таточно познакомиться хотя бы с религиозной поэзией XI—XII вв. на на¬
родном языке (например, «Memento mori», «Истина», «Предвидение пла¬
ча о грехах»), чтобы обнаружить мотив неизбывного страха перед
преисподней и дьяволом. Определенно, перед нами страхи, как правило,
мучавшие самих авторов-монахов, которые в то же время использовали их
и для давления на сознание мирян, тем самым подготавливая почву для
более глубокого, внутреннего обращения к христианству.
160
Чтобы оценить масштабы демономании в католицизме эпохи высо¬
кого средневековья, достаточно взглянуть на убранство многих романс¬
ких церквей, где почти каждую консоль венчает фигурка дьявола, едва ли
не с каждой базы взирают морды демонов и почти каждая капитель рас¬
сказывает об искушении тем или иным грехом. Излишне говорить о том,
какую власть приписывали силам зла радикально-дуалистические секты,
например, катары. Конечно, вера в конкретные, земные деяния демонов
в этом мире достигла своего апогея в позднее средневековье и раннее
новое время, но сама тенденция ясно заявила о себе уже в XIII в.
* * *
В ходе борьбы за инвеституру происходила частичная десакрализация
мира (хотя и папа Григорий VII, и император Генрих IV одинаково воз¬
водили свою власть непосредственно к Богу, обоих следует отнести еще
к прежней фазе развития менталитета). Распалось архаическое единство
церкви и мира. В 1074—1075 гг. Григорий VII (1073—1085 гг.) в Dictatus
рарае изложил свое понимание высшего церковного сана, заостренное
против империи и епископата. Григорий утверждал, что каждый преем¬
ник апостола Петра, законным порядком возведенный в сан, автомати¬
чески приобретает святость. Он требовал подчинения папе всех светских
властей, равно как и иерархов церкви, освобождения Апостольского Пре¬
стола от всякой внешней юрисдикции, декларировал непогрешимость
римской церкви и т. п. Хотя Dictatus рарае практически не был известен
в средние века, именно от него тянется линия развития папского само¬
сознания к Иннокентию III, Бонифацию VIII и далее вплоть до Пия IX
(догмат о непогрешимости пап, 1870 г.).
Поскольку священнослужитель стремится к contemptus mundi, пре¬
зрению к миру, он один обладает святостью. При этом королевской вла¬
сти приходится расстаться со значительной частью своего традиционно¬
го сакрального образа. Церковь в большей степени, чем прежде,
осмысляет себя как структуру, обособленную от мирян, стоящую над
ними, о чем свидетельствует хотя бы появление преграды, разделяющей
в храме клириков и мирян. Для тех и других богослужение отправляется
на разных алтарях. Кроме того, миряне лишаются причащения чашей,
которое становится привилегией одного священства. Церковная иерар¬
хия все отчетливее отгораживается от мирян и в развивающейся канони-
стике обретает более ясные институциональные очертания. В идеологии
папства, укрепившегося благодаря вмешательству императора (синод в
Сутри 1046 г.), все большую роль начинают играть монашеские представ¬
ления (Кпюни), подготовившие григорианскую реформу. Она требовала
строгого соблюдения давних норм канонического права, а именно зап¬
рета на браки клириков, симонии и светской инвеституры. В результате
менялся, — хотя и не повсеместно, — образ жизни священников, суще¬
ственно снижалась ее вариативность. Теперь клир все активнее подчер¬
кивал свой статус обособленного сословия с помощью нового (универ¬
ситетского) церковного права, которое могло обладать приоритетом и
перед Evangeliuin'. Стремление дистанцироваться от мирян, немалые
6 Зак 3029
161
привилегии клира рождали, с одной стороны, более глубокое почитание
священнического сословия, а с другой, — антиклерикализм, которому со
времен борьбы за инвеституру предстояло сопутствовать магистрально¬
му течению церковной истории в качестве его диалектической антитезы.
Эта социальная и ментальная дихотомия стимулировала развитие
светской культуры, в рамках которой миряне могли искать собственные
пути понимания мира, ценностные и смысловые ориентиры. В новой ли¬
тературе на народных языках, а именно в романах, куртуазной поэзии,
сатире, а вскоре также шванках и пр., религиозные идеалы отнюдь (или
по большей части) не являются доминирующими. В миннезанге дама
выступает почти «Царицей» — мирским божеством, добиться которой
многим рыцарям кажется едва ли не более существенным, чем достичь
спасения собственной души. Так, Эндилхлрт фон Адельнбург, прямо
полемизируя с церковным учением, готов поклясться, что старания до¬
стичь земной любви никак не могут прогневить Небеса. В противном
случае — и это представляется ему абсурдным — на Небеса попали бы
не благородные, а лишь люди подлого звания.
«Swer mit triuwen umbe ein
wip
wirbet, als noch maniger tuot
waz schadet der sele ein werder
lip
ich swaere wol, es waere guot.
ist aber ez ze himele zom,
so koment die boesen alle dar
und sint die biderben gar
verlom»76.
«Всякий, кто с честью добивается
женщины,
что делают очень многие, какой вред
причинит своей душе земной
любовью?
Готов поклясться, что это хорошо.
Когда бы это было во гнев небес,
то все
подлые оказались бы там, а все
благороднорожденные
погибли».
В контексте обращения к миру и тема конца этой жизни, расставания
с миром, становится предметом новых раздумий: в поэзии примерно с
1200 г. смерть персонифицируется. Хотя и связанная с дидактикой.
memento топ — в основном светская тема77.
Вместе с тем, несмотря на обозначившееся разделение сакральной и
мирской сфер, многие процессы протекали в обеих аналогичным обра¬
зом, что среди прочего обусловлено тесной персональной взаимосвязью
двора и (реформированного) монастыря. Следствием рассмотренных
выше процессов стало структурное преобразование как материальной, так
и веще большей степени духовной культуры Западной Европы, ключевые
элементы которого сохраняют свою актуальность вплоть до XVI11 в. В этом
смысле позволительно говорить о «старой Европе» или (в социально-эко¬
номическом плане) об «эпохе феодализма». Период приблизительно между
1050 и 1150 гг. явился важнейшим рубежом в истории ментальности вплоть
до эпохи Просвещения, предпосылки которой, впрочем, также были со¬
зданы в высокое средневековье с развитием дискурсивной теологии или
философии. Этот период обозначил и новый вектор в истории благочес¬
тия. В известной мере по сей день сохраняют свое значение иозиикшип
162
тогда мотив индивидуальной аффективной святи с Христом или понима¬
ние христианства как религии святого и праведного воина. Вместе с тем
именно в эту эпоху были заложены основы собственно светского мироо¬
щущения, что подготавливалось развитием номинализма и светской лите¬
ратуры. Тем не менее, для очень многих переход к более глубокому внут¬
реннему переживанию и осмыслению христианства был связан лишь с
нищенствующими орденами XIII в., появившимися в Германии в
1220-х гг. Интенсивная проповедническая деятельность мендикантов, ка¬
техизация населения через принудительную исповедь, наконец, неусып¬
ный контроль за умонастроениями народа средствами инквизиции смог¬
ли окончательно подчинить массовое сознание истинам христианского
вероучения, как они интерпретировались в религии prescrite.
Примечания
1 См. об этом подробнее: Dinzelbacher Р. «Volksreligion», «gelebte Religion»,
«verordnete Religion». Zu begrifflichem Instrumentarium und historischer Perspektive
// Bayerisches Jahrbuch fur Volkskunde. 1997 (в печати). Там же см. ссылки на ли¬
тературу.
? Данная статья выросла из моей работы над вторым томом обобщающей «Исто¬
рии спиритуальности, благочестия и народной религиозности в Германии», ко¬
торая выходит под моей редакцией в издательстве «Шёнингх» (Падерборн). На
немецком языке статья опубликована: Zur Geschichte der Frommigkeit im Mitteialter
und in der Neuzeit // Saeculum. 47/1. Miinchen, 1996. Последние обзоры по исто¬
рии ментальности и религиозности этой эпохи см.: Europaische Mentali-
tatsgeschichte / Hg. P. Dinzelbacher. Stuttgart, 1993; Machtfalle des Papsttums (1054-
1274) / Hg. A. Vauchez. Freiburg, 1994. (Die Geschichte des Christentums; Bd. 5);
De middelccuwse ideenwereld 1000-1300 / Hg. M. Stoffcrs. Heerlen, Hilversun, 1994.
Из последних работ о средневековом христианстве и нашем представлении о нем
см.: De betovering van hat middeleeuwse Christendom / Hg. M. Mostert, A.
Demyttenaere. Hilversun, 1995. S. 11-60.
' См., например: Schreiner K. Laienfrommigkeit — Frohmigkeit von Eliten oder
Frohmigkeit des Volkes? // Laienfrommigkeit im spaten Mitteialter / Hg. K. Schreiner.
Miinchen. 1992. S. 1-78; Kriss-Reitenbek L. Volksmensch und Magie — erne
Konstruktion? // Bayerisches Jahrbuch flir Volkskunde. 1994. S. 161-174. (по пово¬
ду: Volksreligion im hohen und spaten Mitteialter. / Hg. P. Dinzelbacher, D. Bauer.
Paderborn, 1990).
' Milis L. La conversion en profondeur: un processus sans fin // Revue du Nord. 68.
1986. P. 487-498; idem el ai. De heidcnse middeleeuwen. Tumhout, 1992.
5 Hartmann von Aue. Gregorius. 61-63 / Hg. F. Neumann u.a. Stuttgart, 1970. S. 6.
* Vita Annonis, 6 // MGH. SS. Vol. 11. P. 469.
' Hauck A. Kirchengeschichte Deutschlands. 7. Aufl. Berlin, 1952. Bd. IV. S. 122.
" Vita Hartmanni. C. 23. Цит. no: SparberA. Leben und Wirken des seligen Hartmann.
Wien, 1957. S. 86.
4 Gesta episcoporum Cameracensium, 3, 22 // MGH. SS. Vol. 7. P. 472.
Haimo. Vita Wilhelmi, 17// MGH. SS. Vol. 12. P. 217.
" Gregor III. Epistola 28 // MGH. Ep. sel. Vol. I. P. 49-51.
Dinzelbacher P. «Verba hec tam mistica ex ore tarn ydiotc glcbonis». Sclbstaussagcn
des Volkes iiber scincn Glauben // Volksreligion... S. 57-99, Особ. S. 75-77. Cvi. там
же приведенные ниже ссылки на видение Готтшалька.
163
11 Le Goff J. La naissance du purgatoire. P.. 1981. P. 278-282.
14 Weber G. Die Romamk m Oberbayern. Pfaffenhoffen, 1985. S. 173-175.
*' Hauck A. Op. cit. Bd 3. S. 872.
Ih Kiisters U Der verschlossene Garten. Diisseldorf, 1985. S. 107-109, Zer/ass R. Dei
Streit um die Laienprcdigt. Freiburg, 1974. S. 132-134.
17 Hauck A. Op. cit. Bd 3. S. 872.
18 Cm.: Haenens A d’ Femmes excedcntaries et vocation religieuse dans l’ancien diocese
de Liege lors de Lessor urbain // Hommages a la Wallonie. Melanges offerts a M. Arnould
et P. Ruelle / Ed. H. Hasquin. Bruxelles, 1981. P. 217-235. Здесь P. 228.
19 Stein F.M. The religious women of Cologne. Diss. Yale Umv. 1977. P. 281-283.
20 Der Helden minne, triuwe und ore / Hg. R. Brauer. Berlin, 1990. S. 707.
21 Beck G. Der hi. Otto von Bamberg. Bamberg, 1962. S. 14-15.
22 Vita Conradi // MGH. SS. 11. P. 70.
27 Lekai L.J. 1 Cistcrcensi. Ccrtosina di Pavia, 1989. P. 466.
24 Zerfass R. Op. cit. S. 102-104; Tellenbach G. Die westlichc Kirchc vom 10. bis zum
friihen 12. Jh. Gottingen, 1988. S. 104.
23 Engelbert P. Cluny // Lcxikon dcs Mittelalters. 1983. Bd. 2/10. S. 2181-82.
26 Kartschoke D. Geschichte der deutschen Literatur im friihen Mittelalter. Miinchen,
1990. S. 213-214.
27 См. последние работы: Weitzel J. Oblatio puerorum // Vom mittelalterlichen Recht
zur neuzeitlichen Rechtswissenschaft / Hg. N. Brieskom u.a. Paderborn, 1994. S. 59-
74; Berend N. La subversion invisible. La disparation de I’oblation irrevocable dcs
enfants dans le droit canon // Medievales. 26. 1994. P. 123-136.
28 Cm.: Dictionnaire de Spiritualite mystique et ascetique.
29 Dinzelbacher R Mittelalterliche Frauenmystik. Paderborn, 1993. S. 27-77.
30 Elm K. Die Bruderschaft vom gemeinsamen Leben // Ons Geestelijk Erf. 59. 1985
S. 470-496. Здесь S. 477-478.
31 В качестве самостоятельного «сословия» или «сословий» женщины (девы и за¬
мужние) могли фигурировать не только в современных изображениях земного
христианского мира, ecciesia militans, но даже и в эсхатологических картинах хри¬
стианства, eedesia triumphans. См.: Dinzelbacher Р. Rcflexionen irdischcr Sozial-
strukturen m mittelalterlichen Jenseitsschilderungen // Archiv fur Kulturgcschichte. 61.
1979. S. 16-34. Здесь S. 22-23.
32 Thun B. Aufbruch und Verwcigcrung. Waldkirch, 1980. S. 353-354. См. также ци¬
таты из Якова Витрийского по: Grundmann Н. Religiose Bewegungen im Mittelalter
4. Aufl. Darmstadt, 1977. S. 188-189.
33 Herrmann von Laon. Miracula s. Mariae Laudunensis // MGH. SS. 12. L. 2. C. 7.
P. 659.
74 Grundmann H. Op. cit. S. 205-206.
75 Fiiael A. Die Ortlieber. Hannover, 1993.
76 Merlo G.G. «Membra Diaboli». Demoni ed eretici medievali // Nuova Rivista Storica
72. 1988. P. 583-598.
77 Hauck A. Op. cit. Bd 3. S. 882-883.
78 Haverkamp A. Aufbruch und Gestaltung. Deutschland 1056-1073. 2. Aufl. Miinchen.
1993. S. 204.
79 Об этом в целом см.: Sturle.se L Die deutschen Philosophic im Mittelalter. Miinchen
1993.
40 Ohst M. Pflichtbeichte. Tiibingen, 1995.
41 Der deutsche Lucidarius 1,5/ Hg. D. Gottschall, G. Steer. Tiibingen, 1994. S. 5.
42 Paul E Geschichte der christlichcn Erziehung. Freiburg, 1993. Bd I. S. 250.
47 См., например: Altmann Ch The Medieval Marquee // Popular Culture in the Middle
Ages / Ed. Campbell J. Bowling Green, 1986. P. 6-15.
44 Apologia ad Guillclum abbatem 12. 28.
164
14 Poetische Sprachschatze aus althochdeutschcr Zeit / Hg. K. Wipf. Bonn. 1985. S.
66-68, 80-81.
1,6 Spar be r A Op. cit. S. 107.
47 Benz E. Beschreibung dcs Christentums. Munchen, 1975. S. 158-160.
48 См., например: Kuhl /7 -D «... Auszujaten von der Erdc die Feinde dcs
Christcnnamens...» // Jahrbuch fur Gcschichtc Mittel- und Ostdcutschlands. 39. 1990.
S. 133-160.
49 Walther von der Vogelweide. Nr. 14, 38 // Hg. K. Lachmann, H. Kuhn. 13. Aufl. B.
1965. S. 18.
'° «Militia Chnsti» e Crociata nei secoli Xl-XIII. Milano, 1992.
M Vs. 3913-3915 / Ed. D. Kartschokc. Frankfurt, 1970. S. 172-174.
42 Цит. no: Haverkamp A. Op. cit. S. 201.
43 Moore R.l. The Formation of a Persecuting Society. Oxford, 1987.
44 Ottonis Freisingensis. Gesta Frederick 1,41.
45 Dahan G. Les intellectuels chrctiens et les juifs au moyen age. P., 1990. P. 341-343;
Fiidl A. Religionsgesprache III // Lexikon des Mittelaltcrs. 1994. Bd 7/4. S. 693.
■46 Sparber A. Op. cit. S. 46, 48, 112, 122.
47 Schaller H.M. Der Kaiser stirbt // Tod im Mittelalter / Hg. A. Borst u.a. Konstanz,
1993. S. 59-75. Здесь S. 63.
58 Ibid. S. 69.
59 MGH. SS RG. C. 38. P. 75.
w’ Dinzelhacher P. Christliche Mystik im Abendland. Ihre Geschichtc von den Anfangen
bis zum Ende des Mittelalters. Paderborn, 1994. S. 89-91.
61 Idem. Auf dcr Suche nach dcm Leid (готовится к изданию).
62 Idem Religiositat / Mittelaliei // Euiopaische Mentalitatsgeschichte... S. 120-137.
63 Idem Meditation // Lexikon dcs Mittelalters. 1992. Bd 6. S. 450-452.
64 Idem. Revelationes. Tumhoin 1991 (Typologie des sources du Moyen Age occidental;
Fasc. 57).
м См., например: Mechthild von Magdebuig. Vliessende lieht. 3,4. О почитании Ма¬
рии см. новейшую работу К. Шрайнера: Schreiner К. Maria. Munchen, 1994.
м Heuser J. «Heilig-Blut» in Kult und Brauchtum des deutschen Kulturraums. Diss.
Bonn, 1948. S. 48-50, 53-54.
^ Schmitt J.-C. Die Logik der Gesten im europaischen Mittelalter. Stuttgart, 1992. S.
327-336.
4,8 Schmitz- Vathenbeig G. Grundlehren katharischcr Scktcn dcs 13. Jh. Munchen, 1971.
S. 240-242.
h9 Heuser J Op. cit. S. 3, 19.
70 Ibid. S. 22, 55.
71 Bruckner W. Die Verehrung dcs HI. Blutes in Waldarn. Aschaffenburg, 1958. S.
30-32.
72 Nagel A. Das Blut Christi // Festschrift zur 900-Jahr-Feier des Klosters Wemgarten.
Weingarten, 1956. S. 188-229. Здесь S. 201.
73 Visio Tnugdali / Hg. A. Wagner. Erlangen, 1882.
74 Dinzelbacher P. Vision und Visionsliteratur im Mittelalter. Stuttgart, 1981. S. 118-
119.
7< Ps -Hugo von St Viktor Quacstioncs in Epistolas Pauli // MPL. Vol. 175. C. 295. P.
504.
76 Die mittelhochdeutsche Minnelyrik / Hg. G. Schweickle. Darmstadt, 1977. Bd 1. S.
324.
,7 Dinzelbacher P Die Prascnz des Todcs in der spatmittelaltcrlichen Mentalitiit // Dei
Tod dcs Grossen / Hg. L. Kolmcr. Paderborn (» печати).
Перевод с немецкого Н.Ф. У скова.
И.В. Дубровский (Москва)
К hospitalitas У века: техники гостеприимства
в практике социального строительства
Hospites, hospitalitas; буквально: гости, гостеприимство — оп¬
ределения, устойчивым образом прилагаемые позднеантич¬
ными текстами к оседавшим в V и VI вв. на западе Римской
империи вестготам, бургундам, лангобардам и их взаимоот¬
ношениям с местным римским населением. По традиции ис¬
торики отказываются брать их в толк, оставляя без перевода либо поме¬
щая в беспроигрышные кавычки. Непреходящей причиной тому издав¬
на служило собственно понимание предмета, именовавшегося, по разные
стороны былого римского лимеса, одними «германским нашествием»,
другими — «переселением народов». В свое время ответом на теорию раз¬
рушения римского мира слепой стихией варварства, как рода историчес¬
кой Атлантиды, явилась работа немецкого историка Теодора Гауппа
(1844 г.), где проводилась мысль о более или менее правильном симбиозе
Рима и варваров. Вслед за Гауппом представлявшиеся столь мало умест¬
ными в указанной связи толки о гостеприимстве до недавних пор господ¬
ствовавшая историографическая теория относила на счет следования — го¬
тами в 418 г., бургундами в 447 г. — римской практике военного постоя,
получавшей, однако, в случае с варварами, свежую интерпретацию. Рим¬
ские собственники подвластных тем территорий якобы были принуждены
делить с постояльцами не только кров, но и остальное имущество, а именно
пахотные земли, угодья и рабов, и при такой постановке вопроса кавычки
к упоминаниям гостеприимства казались как нельзя более кстати.
Очевидно, для большинства современных исследователей сама по себе
данная историографическая конструкция благополучно осталась в про¬
шлом1. На основании лучшего понимания фразеологии и, что особенно
приятно, «принципов функционирования позднеантичной фискально¬
административной системы», а равно многосложных обстоятельств вод¬
ворения варваров в пределах империи, было констатировано, что разде¬
лу в пользу пришельцев в первую очередь подверглись не земли и люди
как таковые, а давно апробированные механизмы их хозяйственной экс¬
плуатации — полагающиеся в казну подати. При всей ограниченности на¬
шей осведомленности, это доказуемо для остготской Италии и наиболее
вероятно для Южной Галлии. Предоставление доступа к потреблению ус¬
тановленной части доходов римского фиска надо понимать как осмыс¬
166
ленное и, по всей видимости, согласованное с местным населением ре¬
шение римских властей «сделать из варваров цепных псов romcwitas», —
раз не получается их уничтожить, — и те, со своей стороны, демонстри¬
руют интригующую готовность следовать предписанной им роли. Рассе¬
ление варваров совершается в уже существующих правовых рамках, по
форме предстает административной процедурой, действительно заим¬
ствованной из практики римского военного постоя. Но, как резонно за¬
мечает канадский исследователь Уолтер Гоффарт, ни в соответствующих
положениях римского права, ни затем в leges готов и бургундов hospitalitas
вовсе не кажется техническим термином. Упоминания о гостеприимстве
в контексте варварского расселения зачастую выглядят достаточно ори¬
гинальными вариациями на заданную тему постоя. По мысли Гоффар-
та, за ними встает сознательное стремление определять взаимные соци¬
альные долженствования сторон на основе идеи принятия теми ролей
гостей и гостеприимцев. Даже если в долговременной перспективе зна¬
чение подобной hospitalitas оказалось ограниченным, на нее могла возла¬
гаться функция «буфера при первом брутальном столкновении римлян и
варваров», до нахождения более конвенциональных рамок взаимоотно¬
шений. В качестве модели социального поведения, гостеприимство при¬
звано гарантировать эффективное социальное партнерство. Другой воп¬
рос — что фразеология hospitalitas описывает это последнее понятным для
современников, но не для нас, образом, и здесь Гоффарт, так и не рас¬
крыв своего тезиса, по-моему, слишком поспешно умывает руки2.
Я, со своей стороны, все же попытаюсь проанализировать соответству¬
ющие материалы, — не пренебрегая и теми из них, которые имеют к делу,
казалось бы, весьма отдаленное отношение, — дабы иметь возможность
утверждать, что мы ничего не знаем, не голословно, но с фактами в ру¬
ках. Наш первый текст в качестве, какое мы желали бы ему придать, как
раз хорошо известен (другое дело, что данное свидетельство обычно при¬
водится как частный, не составляющий правила казус, к тому же, будто
бы прямо не связанный с настоящим расселением варваров). Речь в нем
идет о первой, не увенчавшейся успехом попытке готов осесть в римской
Аквитании, предпринятой ими под предводительством Атаульфа в
412-414 гг. По утверждению галло-римского аристократа, знакомого лати¬
нистам под именем Павлина из Пеллы, его дом оставался тогда единствен¬
ным во всем Бордо, избавленным от готского постоя, что со временем во¬
зымело для Павлина самые пагубные последствия. Не защищенный
законами гостеприимства дом был разграблен покидающими город вар¬
варами, тогда как иные из готов, — завистливо сетует Павлин, — покро¬
вительствовали своим гостеприимцам, ограждая от грабежей и бесчинств
со стороны собственных соплеменников:
(285) liospite tunc etiam Gotico quae fsc. domus] sola careret;
quod post eventu cessit non sero sinistro,
nullo ut quippe domum speciali iure tuente
cederet in praedam populo permissa abeunti;
nam quosdam scimus summa luimanitate Gothorum
(290) hospitibus studisse suis prodesse tuendis'.
167
Согласно распространенному в историографии предположению, избав¬
ление дома Павлина от постояльцев могло быть следствием его активного
личного соучастия в переговорах о порядке расквартирования варваров, по-
видимому, имевших место между Атаульфом и бордоской знатью. Хотя о
последующем сотрудничестве Павлина с готами нам доподлинно изве¬
стно с его же собственных слов, надо заметить, что означенный тезис,
помимо того, основан на чисто гипотетическом допущении самой при¬
влекательности освобождения от готского постоя.
Сожаления Павлина, вовремя не приютившего у себя какого-нибудь
варвара, действительно запоздалы. Спрашивается, однако, в чем именно
его постигло разочарование? В том ли, что он простодушно не предпола¬
гал встретить в готах следования нормам гостеприимства? И тогда выхо¬
дит, что неограбленным римлянам, в чьем гостеприимстве не было особен¬
ного расчета, попросту повезло. Или же Павлин легкомысленно не
находил, что лично у него, защищенного дружбой с вождями варваров и
их марионеточным императором Атталом, возникнет нужда в неких допол¬
нительных гарантиях собственного благополучия? Во всяком случае, как
раз такова суть упреков, высказываемых Павлином после приключивше¬
го с ним беззакония в адрес своих влиятельных, но бесполезных знаком¬
цев4. Не менее выразительно, если вдуматься, Павлин отзывается о готах-
защитниках гостеприимцев — называя в качестве побудительного мотива
их действий summa humanitas. Распространенный перевод этого места при¬
писывает Павлину лишь запоздалое удивление римлянина по поводу вар¬
варской человечности. Между тем вполне возможно, что данным словоу¬
потреблением автор имел сказать нечто иное. В текстах рассматриваемого
времени понятие humanitas систематически связывается с понятием го¬
степриимства и нередко выступает в роли его синонима. Имея в виду
это, весьма для нас примечательное, семантическое сближение, мысль
Павлина можно истолковать и так, что готы действуют в должном соот¬
ветствии с нормами гостеприимства, которые представляются римляни¬
ну общечеловеческими, укорененными в самой природе людей, т.е. дей¬
ствуют прогнозируемым и даже запрограммированным образом.
Как отмечает издатель памятника Клод Мусси, выражение hospite..
quae /sc. domusj sola careret слишком напоминают оборот из «Энеиды», 5.
651: quod sola careret, чтобы быть твердо уверенным в предмете сообще¬
ния: правда ли то, что один дом Павлина оказался свободен от варва¬
ров? Самый смысл указанного освобождения скорее, чем с перипетия¬
ми судьбы коллаборациониста-неудачника, возможно связать с буквой
римского права, формальным порядком избавлявшей от постоя дома се¬
наторов, а также военных и философов, и анекдот о некоем философе и \
Смирны, будто бы выставившем за дверь будущего императора Антони¬
на Пия, говорит о восприятии этой привилегии'. Не пал ли Павлин in
Пеллы жертвой сословных предрассудков?
Второе и, к сожалению, последнее прямое свидетельство нарративных
памятников о варварском постое V в. часто приводится для иллюстрации
те зиса, обратного нашему. Утонченный галло-римский аристократ Сидопип
Аполлинарий, принявший в своем сельском доме бургундов. насюлько
фраппирован их обличием. речью, музыкальными и гастрономическими
168
пристрастиями, что, по его собственному утверждению, помышляет лишь
о том, как бы ему сбежать от них куда-нибудь подальше:
Quid me, etsi valeam, parare carmen
Fescenninicolae iubes Dioves
inter crinigeras situm catervas
et Germanica verba sustinentem,
(5) laudantem tetrico subinde vultu
quod Burgundio cantat esculentus,
infundens acido comam butyro?
Vis dicam tibi quid poema frangat?
ex hoc barbaricis abacta plectris
(10) spernit senipedem stulum Thalia,
ex quo septipedes videt patronos.
Felices oculos tuos et aures
felicemque libet vocare nasum,
cui non allia sordidumque cepe
(15) ructant mane novo decern apparatus,
quern non ut vetulum patris parentem
nutricisque virum die nec orto
tot tantique petunt simul Gigantes,
quot vix Alcinoi culina ferret6...
Просишь ты, но мне, право, не под силу
Воспевать фесценнинскую Диону,
Раз живу я средь полчищ волосатых,
Принужденный терпеть германский говор
И хвалить, улыбаясь против воли,
Обожравшихся песенки бургундов,
Волоса умастивших тухлым жиром.
Хочешь знать, что стихам моим мешает?
Грубым сбитая варварским напевом,
Шестистопный отвергла стих Талия,
Поглядев на патронов семистопных.
И глаза твои счастливы, и уши,
Да и нос назову я твой счастливым,
Коль с утра в твоем доме не рыгают
Чесноком отвратительным и луком,
И к тебе на рассвете, будто к деду
Иль к супругу кормилицы и няньки,
Не врываются толпы великанов,
Для каких Алкиноя кухни мало...
{Пер. Ф.Петровского)
Первое, лежащее на поверхности наблюдение: для полноценных от¬
ношений гостеприимства будет кстати минимальное сходство культур,
обра»а жизни, а также социальных позиций гостей и хозяев. Однако и*
169
текста возможно сделать и менее тривиальные заключения. Бургунды
прямо названы «патронами» — судя по всему, не одной Талии, но и са¬
мого острослова. Нельзя не отметить, что то же слово patroni замечатель¬
но описало бы ту роль, которую, согласно Павлину, приняли на себя не¬
сколькими десятилетиями раньше готы в Бордо. Качественно новая, по
сравнению с Павлином, информация: варвары рассматривают данные
отношения по аналогии с родственными, — словно бы Сидоний был их
«стареньким дедушкой или мужем кормилицы», — что трудно объяснить
иначе как феноменом гостеприимства, для которого уподобление родству
как раз не новость. Столь же естественно для отношений гостеприимства
и место изъявления варварами дружеских чувств — кухня и трапеза. Сама
по себе злая насмешка галло-римлянина, по-видимому, удостоверяет
аутентичность варварских реакций. Спрашивается, однако, сколь искре¬
нен Сидоний в своем непонимании и неприятии ситуации? Частное по¬
этическое послание явно не предназначается для непросвещенных ушей
его постояльцев. Возможно, в личном общении с ними Сидоний обна¬
руживает больше склонности поддерживать добрые отношения, раз, по
собственным словам, хвалит в глаза их варварские напевы, наводящие на
его музу тоску и оцепенение. Даже если Сидоний гостеприимен пона¬
рошку, примечательно уже то, что его дом не остался без гостей, как это
вышло с незадачливым Павлином из Пеллы.
Именно по сочинениям Сидония Аполлинария мы наилучшим обра¬
зом осведомлены о значении института гостеприимства для самоопреде¬
ления галльской знати того времени. Хлебосольству назначено свидетель¬
ствовать о природном величии души, и тот факт, что из дома Сидония еще
«ни один гость не убежал, как из пещеры Полифема»7, — для него, в бук¬
вальном смысле, вопрос чести. Разумеется, гость гостю рознь, и гостеп¬
риимство — гостеприимству. Для того, чтобы в этом удостовериться, до¬
статочно сопоставить злую сатиру на постой бургундов с не менее
увлекательно описанной сценой пленения Сидония некими хлебосола¬
ми, расставляющими засады «из самых проницательных в этом деле со¬
глядатаев... не только на всех проселках столбовых дорог, но и на вью¬
щихся кратчайшими путями стежках и пастушьих тропах», дабы знатный
путник ненароком «не выскользнул из силков их гостеприимства»". Важ¬
но, однако, заметить, что арсенал культурных представлений и жизнен¬
ный опыт Сидония позволяют подозревать в нем большую готовность
адекватно и с пользой для себя воспринять ситуацию с бургундскими
постояльцами, нежели это следует из стереотипного рассмотрения про¬
цитированного стихотворения вне контекста других его сочинений. Сле¬
дующий фрагмент, который мне хотелось бы привести, думается, это
лишний раз подтверждает. В нем говорится о заслугах Тонанция Ферре-
ола — между прочим, того самого хлебосола, который отлавливал себе
гостей на большой дороге. Славословя, в частности, отправляемую Фер-
реолом в 451 г. галльскую префектуру, автор припоминает ее обстоятель¬
ства — «врага Рейна Аттилу, гостя Роны Торисмунда» и то, как этот ужас¬
ный готский король был отвращен многоопытным префектом от стен
Арля посредством пира, чего полководец Аэций не добился бы в сраже¬
нии:
170
...Attilam Rliem hostem, Thorismondum Rhodani hospitem... regem
Gothiae ferocissimum inflexus affatu tuo mello. gravi. arguto, inusitato, et ab
Arelatensium portis quem Aetius non potuisset proelio te prandio removisse4.
Сама по себе занимающая Сидония игра слов hostis и hospes, разуме¬
ется, не может не подрывать доверия к существу данного Торисмунду
определения. Но если все же думать, что выражение «гость Роны» при¬
менительно к «королю Готии» как-то содержательно оправдано, в нашем
фрагменте речь по идее не должна идти об известном порядке расквар¬
тирования варваров — поскольку в 451 г. «Готия» никоим образом не
простирается до берегов Роны, — и тогда остается предположить, что ука¬
занное определение связано с заключительной частью процитированно¬
го высказывания — скорее относится к трапезе (традиционно централь¬
ному элементу дружеского гостеприимства), которая, как выясняется, в
деле обуздания беспокойного соседа оказалась эффективнее битвы. Так
гостеприимство возводится Сидонием Аполлинарием в разряд военной
хитрости. И в нашем распоряжении, действительно имеются доводы, го¬
ворящие в пользу готовности и даже склонности варваров подчинять свои
отношения с чужаками, теми же римлянами, ценностям гостеприим¬
ства — иногда вопреки тому, что может представляться трезвым полити¬
ческим расчетом. Помимо выше упомянутого места из Павлина, о том же
свидетельствует стих Сидония, корректно прочесть который обращение
к Павлину единственно и позволяет. В аллегорической сцене панегири¬
ка императору Майориану Африка жалуется Риму на бесчинства со сто¬
роны вандалов, предводительствуемых чудовищем из чудовищ, королем
Гейзерихом:
... Famula satis olim
hie praedo et dominis extinctis barbara dudum
sceptra tenet tellure mea penitusque fugata
(60) nobilitate furens quod non est non amat hospes10.
Согласно интерпретации данного места, с которой приходился стал¬
киваться, ярость короля вандалов, вынудившая к бегству едва ли не всю
африканскую знать, направлена против всего «не-варварского». Верно то,
что в текстах эпохи слово hospites весьма симптоматичным для нас обра¬
зом может служить обозначением варваров вообще, однако то обстоятель¬
ство, что о hospitalitas в отношении именно вандалов мы практически не
осведомлены, делает указанный перевод уязвимым. Зато сопоставление
с пережитой и описанной Павлином из Пеллы бордоской историей убеж¬
дает в правильности другого толкования, буквального, а именно: Гейзе-
рих «злобствует против всего, что ни есть негостеприимного», — во вся¬
ком случае, такой образ мысли приписывает заморскому варвару знатный
галло-римлянин времен Майориана, вполне возможно, имея в виду со¬
всем не вандалов, а собственный опыт общения с готами и бургундами
Галлии.
То же универсальное социальное значение структур гостеприимства
в сознании варваров и практике водворения на землях империи конста¬
171
тирует писавший около 540 г. «о погибели Британии» галльский (!) мо¬
нах Гильдас — с той существенной разницей, что, со своей стороны, про¬
водит мысль о крайней пагубности оказания рода гостеприимства солда-
там-варварам. По его словам, в 20-х гг. V в., когда наиболее опасными
врагами римской Британии, к тому времени оставленной римскими ле¬
гионами, еще были пикты, местная знать призвала с континента для
борьбы с ними, словно волков в овчарню, проклятых саксов, ненавист¬
ных Богу и людям. Тех, кого заочно боялись пуще смерти, по доброй воле
пустили, так сказать, под свою крышу. Саксы восприняли эту идею как
приглашение властвовать над Британией. Как это положено воинам, да
еще претерпевшим ради добрых гостеприимцев якобы превеликие опас¬
ности, варвары потребовали себе довольствия. Продолжительный срок,
около двух десятилетий, подобными благодеяниями удавалось затыкать
их собачью пасть, пока гнусные саксы не сочли, что их услуги стоят до¬
роже. Приукрашивая собственные подвиги, они попросили более щед¬
рых подношений, угрожая, в противном случае, разрывом отношений и
войной:
...ut ferocissimi illi nefandi nominis Saxones deo hominibus invisi, quasi in
caulas lupi, in insulam ad retundendas aquilonales gentes intromitterentur...
quos propensius morte, cum abesset, tremebant, sponte, ut ita dicam, sub unius
tecti culmine invitabant... igitur intromissi in insulam barbari, veluti militibus
et magna, ut mentiebantur, discrimina pro bonis hospitibus subituris, imperant
sibi annonas dari: quae multo tempore impertitae clauserunt, ut dicitur, canis
faucem. item queruntur non affluenter sibi epimenia contribui, occasiones de
industria colorantes, et ni profusior eis munificentia cumularetur, testantur se
cuncta insulae rupto foedere depopulaturos".
Вновь не рискуя проводить некую параллель между отдельными фа¬
зами колонизации Кента и Южной Галлии по существу, укажем лишь на
принципиальное сходство дискурсивной ситуации: гостеприимство, де¬
лающее гостей ответственными за мир и правопорядок, гостеприимцев
— за материальный быт своих гостей; гостеприимство как способ мир¬
ного сосуществования с чужеземцами, альтернативой чему выступает
война. При этом варвары уже не выглядят простаками, обведенными вок¬
руг пальца римскими умниками, вроде Сидония Аполлинария или То-
нанция Ферреола. Для варваров отношения гостеприимства — столь же
верный путь внедрения в римский мир и подчинения его своей власти,
как для римлян — ответ на вечный вопрос, «как нам обуздать дикий нрав
этих варваров?».
Подтверждение жизненности идеи Гоффарт обоснованно усматрива¬
ет в самом факте позднейшего и, на этот раз, вполне самостоятельного,
без участия римских стратегов, обращения к продуктивной практике
hospitalitas со стороны итальянских лангобардов. К сожалению, мы зна¬
ем об этом со слов еще более позднего автора, писавшего на исходе VII1 в.
Павла Дьякона, располагавшего, впрочем, превосходным информатором,
Historiola de gent is Langobardorum Секунда Трентского (умер в 612 г.). У
историков не вызывает сомнений, что пассажи о hospites происходят иг
172
Секунда — в частности тот. где о разделе обложенных податями римлян
между гостями-лангобардами говорится в контексте восстановления в
584 г. королевской власти после десятилетия правления герцогов и вой¬
ны всех против всех. Вслед за тем на королевство лангобардов якобы спус¬
каются мир, правопорядок и поголовное благоденствие:
... Populi tamen adgravati per Langobardos hospites partiiintur. Erat sane
hoc mirabile in regno Langobardorum: nulla erat violentia, nullae struebantur
insidiae; nemo aliquem iniuste angariabat, nemo spoliabat; non erant furta, non
latrocinia; unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat12.
Поскольку Секунда трудно представить в роли беззаветного апологе¬
та лангобардского режима, последняя фраза по традиции считается ин¬
терполяцией самого Павла Дьякона. Если, однако, — в свете вырисовы¬
вающейся дискурсивной схемы hospitalitas — на минуту вообразить, что
она поясняет не феномен королевской власти у лангобардов, а собствен¬
но обстоятельства вышеупомянутого гостеприимства, от идеи интерпо¬
ляции можно воздержаться.
Справедливости ради надо заметить, что в нашем распоряжении имеет¬
ся значительный источниковый материал совсем иного свойства — до сих
пор позволявший многим исследователям считать hospitalitas никак не по¬
прищем дружбы народов, а как раз напротив, «дополнительным мотивом для
враждебности» во взаимоотношениях между ними12. В самом деле, источ¬
ники временами полнятся самых мрачных и горестных ламентаций по по¬
воду «гостей нового рода», а также содержат прямые отождествления hospites
и hostes, гостей и врагов, hospitalitas и hostilitas, гостеприимства и вражды.
Согласно Гоффарту, нет серьезных оснований полагать, будто опыт
hospitalitas оборачивался сплошным разочарованием, и, по его наблюдению,
значительная часть подобных свидетельств недорого стоит. В частности, до¬
статочно убедительным выглядит его суждение об интерполяции, резюми¬
рующей знаменитую 21 главу «Германии» Тацита, где, как известно, гово¬
риться об исключительной гостеприимности древних германцев. Victus inter
hospites comis, «ласковое же у них промеж гостей и гостеприимнее обхожде¬
ние!», — скорее, чем вздох изумления римлянина, знающего о варварах по
собственному горькому опыту нечто иное, данное место может означать
лишь заинтересованную констатацию того обстоятельства, что и германцам
ведомо гостеприимство и знакомы роли гостей и хозяев, и сам по себе этот
интерес, по замечанию Гоффарта, достаточно симптоматичен14.
Не позволим себе, однако, отмахнуться от других свидетельств, где
hospitalitas фигурирует в откровенно негативном контексте. Одно из наи¬
более впечатляющих — несколько неожиданное отступление в тексте
анонимной проповеди. Да будет гостем нам Господь Бог и не будет — «гот
и варвар», ибо от первого нам мир и любезное обхождение, тогда как от
второго — одни мечи да стрелы. Первый гостеприимцу — не мучитель, а
опора, не разоритель, а благодетель. Он с собой приносит то изобилие,
коим питает ликующее войско ангелов (не вводя нас в расходы). Распах¬
нем же двери сердец наших для гостя-Господа, и никогда в них не воца¬
рится враг:
173
Nos tantummodo non pigeat hospitem suscipere Dominun (sic). Ipse secum
portat ubertatem deliciarum, ut pascat ibi laetantesexercitusangelorum. Utinam
ipse sit hospes nobis superveniens benedictus, et iam non sit nobis hospes Gothus
et barbarus. Nam illis hospitibus arma et sagittae, at cum isto hospite pax cum
iocunditate: qui venit hospitem non torquere sed parcere, non exspoliare sed
vestire, non percutere sed sanare. Ipsum hospitem apertis cordis nostri ianuis
suscipiamus, et nunquam in nobis dominabitur inimicus'\
Еще более любопытно будет заметить, что «гот и варвар» занимает
место, отводимое в проповедническом штампе врагу с большой буквы. В
самом деле, в сходной топике гостеприимства временами представляет¬
ся пастве спиритуальный выбор между Богом и Дьяволом. Дверям серд¬
ца твоего являют себя два гостя, Господь твой и Враг твой. Один из них
дает жизнь, другой — смерть. Один привносит свет, другой — тьму. Один
готовит тебе ад, другой — небеса. Так что, с божьей помощью, в твоей,
человече, власти избрать, чего пожелаешь. Смотри, однако, кого ты при¬
мешь, а кого прогонишь, и знай наверное, что тем будешь взят за гробом,
кого ты приютишь в этом мире:
Ingerunt se enim et offerunt quodammodo duo isti quasi hospites ad ostium
cordis tui, hoc est, dominus et adversarius tuus: unus exhibet vitam, alius mortem:
unus ingerit lucem, alius tenebras: unus infernum, alius caelum. Ita, homo,
adiuvante domino in potestate tua est eligere quod volueris: sed adtende quern
recipias, quern repellas; et pro certo cognosce, quia, quern ex his duobus exceperis
in hoc saeculo, ab ipso suscipiendus es in future16.
Второй известный текст, который трудно не упомянуть, происхо¬
дит из анонимного «Жития отцов Юры». Он составлен около 520 г. и
повествует о событии, возможно, имевшем место около 457 г. Аббат
Конда Лупицин в присутствии короля бургундов Хильперика выступа¬
ет обличителем некоего высокопоставленного галло-римлянина, угне¬
тателя простонародья. Тот, в стремлении посеять сомнения в сверхъе¬
стественных способностях святого и заодно скомпрометировать в
глазах короля, припоминает его былое пророчество о грядущем зака¬
те Рима и неминуемой погибели страны и знати. Так оно и вышло, —
бесстрашно парирует Лупицин, нимало не смутившись навязываемой
ему опасной ролью недоброжелателя бургундов. Из-за грехов и безза¬
коний со стороны знати давно не стало никакого порядка и справед¬
ливости, так что власть перешла к варварам, и разве не наказана знать
посредством hospitesV. Разве невиданные доселе гости, неслыханным
образом попирая право, не претендуют на ее земли?! В глубине души
уж верно не иначе смотрит на вещи и тот несчастный выродок, попы¬
тавшийся было погубить святого. Так, hospitalitas, без обиняков отож¬
дествляемая с экспроприацией, рисуется взрывом существующего по¬
рядка вещей и даже — наиболее зримым выражением конца romanitas,
и сам мудрый и добрый король Хильперик, похоже, соглашается со
справедливостью горьких и отважных слов:
174
«Nonne, ait [sc. oppressor ille|, tu es ille dudum noster inpostor, qui ante
hos decern circiter annos, cum civilitatem Romani apicis arrogans derogares,
regioni huic ac patribus iam iamque inminere interitum testabaris? Cur ergo,
oro te, tarn terribilia ostenta praesagii in nullo rei tristis probatione firmentur,
vanus vates exponas». Turn ille (sc. Lupicinus| audaciter, manum ad memoratum
Hilpericum, virum singularis ingenii et praecipuae bonitatis, extendens: «Ecce,
ait, perfide et perdite! I ram quam tibi tuisque similibus praedicabam adtende.
Nonne cernis, degener et infelix, ius fasque confusum, ob tuis tuorumque crebra
innocentum pervasione peccatis, mutari muriceos pellito sub iudice fasces?
Tandem resipisce paulisper et vide utrum rura ac iugera tua novus hospes
inexspectata iuris dispectione sibi non vindicet ac praesumat. Quae tamen sicut
te scire non abnuo vel sentire, ita personulam meam unco bicipiti, aut rege
timidum aut eventu trepidum, stigmatis nota turpare decrevisse non denego».
Quid plura? Tanto est memoratus patricius [sc. Hilpericus] veritatis audacia
delectatus, ut hoc, adstantibus aulicis, ita divino iudicio accidisse exemplis
multis ac longa disputatione firmaret17.
Так или иначе, налицо не одна, а две несовпадающие интерпретации
hospitalitas, конкурирующие в рамках одного текста. Уже чуть более внима¬
тельное рассмотрение той же сатиры Сидония на бургундский постой укреп¬
ляет в мысли, что «“понимать” общества, видеть их их же собственными гла¬
зами — не всегда лучший способ их изучения... Во всяком случае, мало
проникнуться заученными фразами социальных актеров. Чаще всего обще¬
ства заблуждаются на счет того, что именно они делают, действуя вслепую.
Им неизвестны их собственные правила дара (частным случаем чего пред¬
стает гостеприимство — И.Д.). И, тем не менее, действуют при этом безо¬
шибочно»18.
Игра слов hospes и hostis — скорее, нежели всякий раз заключает в
себе приговор практике гостеприимства в отношении варваров, — не¬
редко, как в том же фрагменте из Сидония Аполлинария о «госте Роны
Торисмунде», напоминает заезженный каламбур, основанный на осоз¬
наваемом этимологическом и логическом родстве двух понятий. Изве¬
стно — не только Эмилю Бенвенисту, но и тому же Павлу Дьякону, чьи
выписки сохранили для нас большую часть Феста, — что в Риме между
V и II вв. до н. э. слово hostis означало «чужак/гость» и лишь затем при
неясных обстоятельствах приобрело специфическое значение «враг»,
одновременно дав производное hospes, «гость/гостеприимец». Примеча¬
тельным образом сходный сдвиг смысла, пусть с меньшей определен¬
ностью и по причинам столь же туманным, претерпевают в средневе¬
ковую эпоху древнеанглийское goest и средневерхненемецкое gas/,
«чужак/гость» > «враг». Верно то, что в случае с hospitalitas мы имеем
дело с принципиально подобной семантической эволюцией, следова¬
тельно, менее алогичной, нежели это можно заключить из знакомства
с историографией вопроса. Играя на чувствах современного читателя,
для кого «дружба» и «вражда» в восприятии «чужого» разведены и ни¬
как не контаминируют, взаимоуподобление «гостей» и «врагов» истори¬
ки мелодраматическим тоном спешат приписать абсурдности самой си¬
туации hospitalitas. Между тем. по здравому суждению Леопольда
175
Хелльмута, новое значение hostis/gastiz и, добавим от себя, hospes — не
абсолютная, а относительная новация, по сути есть лишь новая акцен¬
тировка латентных составляющих фундаментального отношения к «чу¬
жому»19. Эту ставшую для нас не явной диалектику архаического воспри¬
ятия «чужого», принципиальную амбивалентность «вражды» и «дружбы»
во взаимоотношениях с чужаком/гостем, в той же мере игнорирует и
Гоффарт, решаясь отрицать за hospitalitas «какие-либо пейоративные
коннотации» и не усматривая в ином ничего, кроме записной «ритори¬
ки».
По-видимому, не случайно фразеология гостеприимства не исполь¬
зуется для описания совершающегося в сходных южно-галльским пра¬
вовых и дискурсивных рамках расселения на землях соседней Италии
войска Теодориха Великого, и, по остроумному наблюдению Гоффар-
та, италийские тексты не знают обычного семантического сближения
определений «гости» и «варвары»20. Остготы в своих взаимоотношени¬
ях с romanitas содержат себя иначе, нежели прочие gentes, им не чета, —
эта мысль рефреном звучит в официальной корреспонденции остготс¬
ких правителей, выходящей из-под пера Кассиодора. По воле Теодориха
Великого, «готы должны были подражать римлянам, и не наоборот»21.
Коренные римские нормы гражданского общежития, Кассиодорова
civilitas, понятая как основа социального, правового и хозяйственного
сосуществования римлян и варваров, достаточно отчетливо противопо¬
ставляются им более жесткому и варварскому галльскому решению воп¬
роса, очевидно, на базе hospitalitas22. Между тем, сходство целей и обсто¬
ятельств диктует близость реально практикуемых методов, и, по
существу, раскрытие темы италийской civilitas заставляет вспомнить схе¬
му отношений, вытекающую из принципа галльской hospitalitas, косвен¬
ным образом удостоверяя конструктивность этой последней. Соседство
восстанавливает людей друг против друга, тогда как совместная жизнь
(dum communiter vivit) и обладание имуществом (как Кассиодор, подоб¬
но вышеупомянутому агиографу святых отцов Юры, понимает участие
в потреблении доходов) рождают дружбу и душевное согласие на осно¬
ве объективного единства устремлений, ибо стяжавший часть — наи¬
лучший защитник (defensor вместо patronus, как у Сидония Аполлина¬
рия) целого23. По крайней скудости наших источников, пустыми
покажутся спекуляции относительно сравнительной меры эффективно¬
сти италийской civilitas и галльской hospitalitas в роли неких сепаратных
моделей социального партнерства римлян и варваров. Как бы то ни
было, провал попытки остготов влиться в гражданский коллектив с его
правилами общежития, не растворяясь в нем и сохраняя гентильную
идентичность, стал вполне очевиден уже в последние годы правления
Теодориха. Зашедшую в тупик политику civilitas сменяют кровавые реп¬
рессии в отношении ее былых адептов из числа римлян, которые со сво¬
ей стороны, к несчастью для них, лишь в видийной литературе с нескры¬
ваемым удовольствием тащат в ад самого римского из варварских
королей. Крах политики непосредственной интеграции romanitas и
gcntilitcis — «словно бы не было римлян и варваров, католиков и ариаи.
латинской и варварской культур» — Хервиг Вольфрам на )ывает оспо-
176
вополагающей причиной исторической катастрофы остготского коро¬
левства и гибели в огне византийской реконкисты самого имени ита¬
лийских готов24.
Вполне возможно, в римско-варварской hospitalitas присутствует боль¬
ше воли и выбора, нежели случайного стечения обстоятельств, посколь¬
ку — за исключением одного восходящего ко времени около 540 г. и пе¬
ресказанного Павлом Дьяконом темного предания, относительно которого
историки сходятся разве что в том, что сам Павел уже плохо понимал его
суть25, — существенный дополнительный материал, касающийся роли го¬
степриимства в качестве инструмента развернутого социального строитель¬
ства, сулит лишь история франков. Их расселение на землях империи ос¬
новывалось, однако, на других принципах, и фразеология hospitalitas на
франков равно не распространяется. В Pactus legis Salicae представители
наиболее социально продвинутого слоя галло-римского населения фигу¬
рируют под довольно красноречивым наименованием «королевских сотра¬
пезников», и глухо упоминаемые Григорием Турским и Фредегаром объез¬
ды — circuire — Меровингами своих владений как процедуры обретения
полноты королевской власти над ними26 — по сути, единственный, поми¬
мо hospitalitas, пример эксплуатации структур гостеприимства в интересу¬
ющем меня ключе. Действительно, исследовавший средневековые преро¬
гативы королевского гостевания Карлрихард Брюль, со ссылкой на «Житие
Ведаста», подчеркивает, что в случае с circuire уместнее будет говорить не
об обезличенном праве королевского постоя, а о настоящем гостеприим¬
стве в домах франкской знати по приглашению их хозяев27, и конструктив¬
ная социальная функция подобной практики в плане установления отно¬
шений подданства засвидетельствована сценой из Григория Турского, где
повествуется об отказе Меровинга Храмна возвратить отцу Хлотарю при¬
своенные области на том основании, что он, Храмн, уже успел их объе¬
хать2". Меровингские объезды VI—VII вв. видятся Брюлю туманным эпи¬
зодом из германского прошлого, и еще более верно то, что не за ними
будущее, — лишь в XI в. этот древний правовой обычай внезапно оживает
в коронационной практике Германской империи, и другую аналогию
circuire можно усмотреть в североевропейской практике королевского го¬
стевания, известнейший пример которой — норвежская вейцла примерно
того же позднего времени29. Вероятно, не без повода Сальвиан Марсельс¬
кий указывает на некую особенную гостеприимность франков — «лживых,
но гостеприимных», — одновременно не отмечая этого в других варварах,
тех же готах30.
Визогаст, Арогаст, Салегаст, Видогаст, имена четырех легендарных
франкских законоговорителей, упомянутых в так называемом кратком
прологе к Pactus legis Salicae, буквально означают: «разумный гость»,
«войска гость», «чертога гость», «леса гость». Данные германской оно¬
мастики, фиксируя место гостеприимства в ряду социально значимых
и престижных понятий, сколько я знаю и могу судить, не проливают су¬
щественного дополнительного света на само содержание отношений
между принимающей и принимаемой сторонами, по крайней мере для
этого раннего времени, — чего по идее можно было бы ожидать от состав¬
ных имен собственных, — и ненамного более информативны в этом пла¬
177
не другие наши источники. В частности, по распространенному и, оче¬
видно, справедливому суждению, о германских традициях оказания гос¬
теприимства не позволяют судить leges barbarorum, немногословные в
этом вопросе и нередко пасующие перед авторитетом клерикальных сте¬
реотипов31. В результате, мы скорее наслышаны о разрушительной роли
конфликтов на поприще попрания норм гостеприимства, нежели о его
созидающей рутине. Пожелавший поставить римско-варварскую
hospitalitas в контекст исторических форм гостеприимства в Европе I ты¬
сячелетия поневоле вынужден апеллировать не столько к реальным дан¬
ным, сколько, за их отсутствием, к существующим интерпретативным
схемам — называя вещи своими именами, к некоторым историографи¬
ческим слухам.
Считается, что по виду древнейшие нормы гостеприимства, весьма,
впрочем, косвенно засвидетельствованные в историческую эпоху на гер¬
манском и славянском севере и востоке Европы, предполагают подчине¬
ние гостя власти и покровительству со стороны домохозяина, тогда как
последующая фаза их эволюции, в ближневосточном и средиземномор¬
ском культурном ареале, в нарастающей мере характеризуется более рав¬
ноправными отношениями, скорее нейтральными с точки зрения отно¬
шений власти32. В случае hospitalitas господствуют и защищают... гости, и
такое положение вещей не сочтут необычным те, для кого и веровать оз¬
начает оказывать гостеприимство своему богу.
Другая расхожая объяснительная процедура, не вполне согласую¬
щаяся с предыдущей, следующего свойства. Два аспекта архаики гос¬
теприимства — как сакрального и как общественно полезного установ¬
ления — в разной мере сказываются в тех его традициях, которые были
восприняты на средневековом Западе. Первая связана происхождени¬
ем с Ближним Востоком и Средиземноморьем, и в наилучшим обра¬
зом документированной форме представлена христианским гостепри¬
имством. Последнее есть благая, общеобязательная, далекая от
мирской суеты, богоугодная, душеспасительная помощь лишенным за¬
щиты чужакам, бедным, больным, вдовам и сиротам. Потусторонние
силы вступают в контакт с людьми, принимая обличье гостей и вознаг¬
раждая гостеприимнее. Гостеприимство на европейском севере менее
всего напоминает религиозный институт, избирательно и в наиболь¬
шей степени служит воспроизводству в обществе дружеских связей и
выгодной репутации душевного благородства. Особенно живо описан¬
ную оппозицию двух традиций оказания гостеприимства рекомендует
одно агиографическое предание о Германе Осерском. Некий британс¬
кий король отказал заезжему святому проповеднику и его спутникам в
приюте. Заночевав у гостеприимного королевского пастуха, наутро
Герман якобы низложил короля и поставил на его место своего гостеп¬
риимна. Оба протагониста, жестоко обманувшийся епископ и не пус¬
тивший того на порог германец, с точки зрения собственных представ¬
лений о гостеприимстве, скорее всего правы. Впрочем, по мысли
исследовавшего агиографическую судьбу данной легенды Ханса Хат-
тенхауэра, в ее древнейшей версии, которая датируется концом VII
или. самое позднее, концом VIII в., вина низлагаемого царька заклю¬
178
чается не столько в его негостеприимности, сколько и нежелании вни¬
мать пастырской проповеди, а начиная с IX в. акцент переносится на
противопоставление sacerdotium и regnum, церковных прерогатив —
природному германскому властвованию в силу преимущества крови,
и требование неограниченного и общеобязательного гостеприим¬
ства — скорее только поприще апологии церковных и развенчания
всех иных жизненных норм”.
В случае римско-варварской hospitalitas, при всех выпадах в адрес
гостей-врагов, совсем не просто найти действительные следы аналогич¬
ных недоразумений, которые свидетельствовали бы о несходстве взгля¬
дов на гостеприимство. Нечто подобное, возможно, присутствует в од¬
ной истории из «Диалогов» Григория Великого, вышедшей с епископом
Фульгенцием из городка Отриколи, в Средней Италии, — посредством
exenia тот попытался умиротворить свирепого остготского короля Тоти-
лу, но добился обратного и был принужден спасаться от гнева варвара
более привычным для чудотворца способом34. Однако и этот эпизод не¬
сложно интерпретировать в терминах римского мира, где гостевой дар
мог быть сочтен оскорбительным подаянием или, что еще вернее, сред¬
ством подкупа35. Зато с ужасом пересказываемые слухи о том, как жи¬
тели Галлии в разгар пиршества дают гостям из-за Пиренеев напиться
собственной крови, их осиротевших детей продают в рабство, а жен об¬
рекают на такую участь, что смерть была бы для тех меньшим злом,
или — как две женщины где-то в Италии в голодный год съели семнад¬
цать неосмотрительно воспользовавшихся их кровом мужчин36, застав¬
ляют задаться вопросом о мере взаимного доверия и понимания всту¬
пающих в отношения гостеприимства природных римлян.
Размышляя над вопросом о самой возможности использования тра¬
диций гостеприимства в практиках установления социальных должен¬
ствований во взаимоотношениях между варварами и римлянами, сле¬
довало бы задуматься о соответствующем опыте, накопленном
церковью. Стоящая перед церковью задача создания христианского об¬
щества в ряде своих аспектов не кажется принципиально отличной, и,
на первый неискушенный взгляд, можно было бы ожидать известного
сходства отдельных путей и способов ее разрешения. Собственно гово¬
ря, на подобные мысли наводят широко цитируемые в историографии
высказывания убежденного оппонента христианства, императора-языч-
ника Юлиана Отступника. Рассуждая о причинах ошеломляющего ус¬
пеха христианской пропаганды, на первое место Юлиан помещает осо¬
бое попечение христиан о чужестранцах. В то время как языческих
жрецов эти несчастные заботят мало, христиане охотно практикуют
данный род филантропии, бессовестно спекулируя на лучших чувствах
людей ради распространения свого зловредного учения. Как разбой¬
ники куском пирога сманивают малых детей со двора, постепенно при¬
учая все дальше отходить от дома, пока не сажают на корабль и не про¬
дают за море в рабство, так христиане лукавым гостеприимством
завлекают доверчивых в свои сети. В стремлении оживить языческие
культы, преодолев индифферентность и деморализацию их привер¬
женцев. Юлиан планирует организацию на государственный счет изы-
179
ческих приютов по обращу христианских, создаваемых его бывшим
однокашником Василием Кесарийским17. Удивительно созвучны ин¬
тонациям Юлиана слова Иеронима, обличающие тех христианских
епископов и священников, кто с ревностью взирает на гостеприимство
мирян, гневается на них за это и даже отлучает от церкви, словно быть
гостеприимными позволено одним пастырям1*.
То, что гостеприимство получает высокую моральную оценку и даже
сулит власть над умами, за которую стоит побороться, — очевидно, не
новость. Новостью можно счесть то обстоятельство, что здесь наш ряд
примеров клерикальной эксплуатации темы гостеприимства почти без¬
надежно обрывается. При всей черной зависти Юлиана Отступника, го¬
степриимство — скорее всего не та карта, которую разыгрывает церковь
в своих взаимоотношениях с мирянами, и временами лучших чувств ей
хватает на то, чтобы воспрещать собственным членам травить странни¬
ков собаками39. Весьма красноречивый повод так думать дает один мало¬
известный документ начала VI в., письмо епископов Тура, Ренна и Ан¬
жера священникам, проповедующим в Бретани. Имена этих последних
выдают природных бриттов, как далека от распространенной на конти¬
ненте местная модель пастырской миссии. В письме говорится о том, как
в нарушение существующего церковного порядка бретонские священни¬
ки служат мессы, переходя от дома к дому вместе с участвующими в бо¬
гослужении conhospitae, буквально: «со-гостьями», — что с очевидностью
отсылает нас к тому роду отношений, какие устанавливаются между свя¬
щенниками и христианами Бретани. В глазах континентальных еписко¬
пов, эти мессы по домам, да еще с участием неких женщин, выглядят в
высшей степени скандально и воспринимаются прямым покушением на
приходские и епархиальные рамки внутрицерковного общежития, т.е. в
конечном счете на их собственные прерогативы духовного контроля, от¬
чего раздосадованные иерархи грозят кочующим пастырям отлучением30.
Собственно, о епископских визитациях подчиненных галльским кафед¬
рам церковных приходов мы относительно неплохо осведомлены уже на¬
чиная с IV в., однако изначально гостеприимство епископам в такой си¬
туации оказывают вовсе не прихожане. Это дело местного духовенства —
как, у Сульпиция Севера, клирики, от большого рвения и по причине
неисправности системы отопления едва не сожгли заночевавшего в цер¬
ковной ризнице самого Мартина Турского, что так повредило его репу¬
тации чудотворца41.
Мелькающие в агиографических текстах сцены гостеприимства, ока¬
зываемого путешествующим клирикам мирянами, во всяком случае, не
содержат информации о сколько-нибудь зримом стремлении церкви так
или иначе опереться на местные этнографии. Помимо приведенной выше
позднейшей агиографической легенды о Германе Осерском, в этом смыс¬
ле чрезвычайно поучителен эпизод из его первого жития, составленного
Констанцием Лионским. В благодарность за гостеприимство селян и ус¬
тупая их просьбе, добрый Герман... возвращает голоса деревенским пе¬
тухам. до того столь же чудесно онемевшим, — по мысли Жака Ле Гоф¬
фа, идеальный случай мирного сосуществования «клерикальной культуры
и фольклорных традиций» лишь удостоверяет разделяющую их стену в ja-
180
иммого непонимания4-1. И едва ли не чаще приходится слышать о гом, как
клирики, проповедующие добродетель гостеприимства другим, в своих
взаимоотношениях с мирянами гостеприимства намеренно сторонятся.
Еще Дени Горе обратил внимание на агиографические примеры того, как
лица духовного звания отказываются гостить у мирян4', и в той же аги¬
ографии имеется довольно текстов, где говорится о нежелании клириков
лишний раз принимать мирян у себя44. Декларируемые при этом мотивы
могут быть резюмированы словами одной анонимной проповеди: «Тяж¬
ко нам находиться в одних стенах с теми, кто не похож на нас нравствен¬
но»45. Клирики берегут душу от созерцания греха и жизненный уклад —
от докуки и разлагающего воздействия менее благочестивого образа жиз¬
ни. Незамысловатая суть подобного разъяснения удовлетворяет Горса,
однако едва ли поможет полному пониманию даже собранного им мате¬
риала. В конце концов, по его же собственным сведениям, мирскому го¬
степриимству клирики, случается, готовы предпочесть истинные прибе¬
жища самых гнусных греховодников, гостиницы, посещение которых
духовенству впоследствии будет воспрещено церковным правом.
Еще более знаменательно то обстоятельство, что равно христианские
гостеприимность и негостеприимность как два шаблона клерикального
поведения и агиографической топики прекрасно сосуществуют в одних
и тех же текстах и жизненных ситуациях. Достаточно вспомнить, как бла¬
гочестиво сбежавший от гостей в загородный монастырь епископ Мар¬
тин Турский в то же время буквально уничтожает своим необыкновен¬
ным, преувеличенным гостеприимством собственного агиографа
Сульпиция Севера, сгорающего от стыда и ужаса при виде омывающего
ему ноги святого иерарха46. То и другое асоциально, и в этом, очевидно,
заключена суть. Лишь в констатации конструктивной социальной роли
иных моделей гостеприимства, генерирующих мирские иерархии и дол¬
женствования, я нахожу точку непротиворечивого соприкосновения кле¬
рикальной негостеприимности с клерикальным гостеприимством. Тем
или иным способом, думающая и ответственная часть клира отказывается
ломать социальную комедию. В этой связи все точки над «i» расставляет
предпринятый Адальбером де Вогюе анализ интересующих нас предме¬
тов в таком поистине основополагающем для структур и функций клери¬
кального гостеприимства памятнике, каким является Устав Бенедикта
Нурсийского47. Отказ принимать в расчет социальные иерархии во испол¬
нение долга бескорыстно и равно почтить всех христиан, honorare omnes
homines, — осознанный нон-конформистский пафос бенедиктинского
гостеприимства. На место социального порядка Бенедикт ставит порядок
спиритуальный, где играют роль не суетные земные интересы и условно¬
сти, а лишь вера и святость. Если в век Бенедикта церковь уже не витает
в облаках, то клерикальная идеология гостеприимства, ниспровергая су¬
ществующие социальные порядки, кажется отблеском первоначального
христианского экстремизма. Гостеприимство не только не служит церк¬
ви инструментом нахождения социального согласия, но, напротив, — та
сфера, где клирики откровенно не желают ни с кем считаться, отыгры¬
ваясь за свой мелкий конформизм в другом. Из инструмента социально¬
го и человеческого контакта церковь сделала орудие разрушения достав¬
181
шегося ей в наследство социального мира. В клерикальной сказке о низ¬
лагающем королей Германе Осерском — самого буквального. Такова, по
крайней мере, идея.
Я уже имел случай высказаться по поводу того, как немного, на мой
взгляд, уму и сердцу говорят аккуратные филиации административных
институтов, покуда мы не желаем задуматься над их прикладными социо¬
культурными технологиями48. Как и автор этих строк, люди имеют те го¬
ловы, которые имеют, и обыкновенное чудо социального здания дается
им в самом тяжком труде — взаимного понимания. В синонимизации
социальных других миров нормы гостеприимства, по всей вероятности,
играют свою роль. К сожалению, мы так мало знаем об этом.
Примечания
1 Классическое изложение традиционной точки зрения: Lot F. Du regime de
1’hospitalite // Revue beige de philologie et d’histoire, 7 (1928). R 975-1011; ее реви¬
зия: Goffart W. Barbarians and Romans. A.D. 418-584. The Techniques of
Accommodations. Princeton, 1980; в более широком плане: Durliat J. Les finances
publiques de Diocletien aux Carolingiens (284-889). Sigmaringen, 1990. Впрочем, ана¬
логичным образом представлял себе дело еще Н.Д. Фюстель де Куланж (История
общественного строя древней Франции. Т.2. СПб., 1904. С. 653-667, 674-683).
2 Goffart IV. Op.cit. Р. 42, 163, 171-175, 220. Ср.: Грацианский Н.П. О разделах земель
у бургундов и у вестготов // Средние века. Вып. 1. М.; Л., 1942. С. 9, 11-13.
3 Paulini Evxapictikoc, v. 285-290 // SC 209. P. 76-78.
4 Ibid. v. 291-323 //P. 78-80.
5 Peyer H.C. Von der Gastfreundschaft zum Gasthaus. Studien zur Gastlichkeit im
Mittelalter. Hannover, 1987. S. 12. О перерождении сенаторского сословия в род
наследственной аристократии, для принадлежности к которой было довольно
высоких магистратур предков — случай Павлина из Пеллы, — см.: Stroheker K.F.
Der senatorische Adel im spatantiken Gallien. Darmstadt, 1970. S. 15-16.
A Sidonii ApoUinaris Carmen XII, v. 1-19 // MGH AA 8. P. 230-231.
7 Sidonii ApoUinaris Epistulae VII, 14, 11 // Ibid. P.122.
* Ibid. 11,9,2// P. 30-31.
* Ibid. VII,12,3 // P.118-119.
Sidonii ApoUinaris Carmen V, v. 57-60 // Ibid. P. 189.
11 Gildae Sapientis De excidio et conquestu Britanniae, 23 // MGH AA 13, pars 1
P.38-39.
12 Pauli Diaconi Historia Langobardorum III, 16 / a cura di L. Capo. Verona, 1995.
P. 146.
13 По определению Мишеля Руша: Rouche М. L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes,
418-781. Naissance d’une region. P.,1979. P.162. Хрестоматийное изложение пред¬
мета: Courcelle P. Histoire litteraire des grandes invasions germaniques. P, 1964.
P. 144.
14 Goffart W. Op. cit. P. 169-170. Cf. Norden E Die germanische Urgeschichte in Tacitus
Gennania. Leipzig, 1920, S. 135, 454-457.
'' Pseudo-Fulgentii Senno 80 H PL 65, col. 952.
u’ Caesani Arelatensis Senno 160, 2 / Ed. G. Morin. Madersous, 1937. P. 620 Cm
всю проповедь и ее варианты.
r Vita Patrum lurensium. 92-95 // SC 142. P 336-340.
14 Veyne P. Le pam et le cirque. Sociology histonque d'un pluralisme politique P.. 1976
P 39
14 Hellmuih L. Gastfreundschaft und Gastrecht bei den Germanen. Wien, 1984. S. 21-22.
20 Gojjart W. Op. cit. P. 164.
21 Wolfram H Die Goten: von den Anfangen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. Entwurf
einer historischen Ethnographie. Miinchen, 1990. S. 289-290.
22 Gojjart W. Op. cit. P. 220; Wolfram II. Op. cit. S. 295.
23 Casstodon Variae 11, 16, 5 ct passim // MGH AA 12. P. 55-56.
24 Woljhim H. Op. cit. S. 331.
25 Pauli Diacom Historia Langobardorum 1, 23-24 / a cura di L. Capo. Verona, 1995.
P. 44-46: «И вернувшись с победой домой, лангобарды стали упрашивать своего
короля Аудоина сделать Альбоина, чьей доблестью в битве они одержали побе¬
ду, его сотрапезником, дабы был он отцу товарищ на пиру, как в минуту опасно¬
сти. Аудоин ответил им, что никак не может этого сделать, не нарушив обычаев
своего народа. «Вы знаете, — сказал он, — что не в наших традициях, чтобы сын
короля закусывал с отцом, если только прежде не получит оружия от короля чу¬
жого народа. Прослышав это от отца, Альбоин, взявши с собой лишь сорок юно¬
шей, отправился к Туризинду, королю гепидов, с коим перед тем вел войну, и
объявил причину, зачем приехал. Тот принял его радушно, пригласил к своему
столу и посадил по правую от себя руку, где обычно сидел его погибший сын
Турисмонд. Между тем, как сотрапезники принялись за разнообразные кушанья,
испускающий тяжкие вздохи Туризинд, уже давно размышляя о сиденье сына и
поневоле возвращаясь мыслью к смерти отпрыска, да еще видя, как сам убийца
прилюдно восседает на месте того, не смог сдержаться, но, наконец, дав волю
своему горю, воскликнул: «Дорого мне это место, да слишком тяжко видеть вос¬
седающего на нем». Тогда другой сын короля, бывший здесь, подстегнутый ре¬
чами отца, стал чинить лангобардам обиды, заявляя, что те — носившие ниже икр
белые обмотки — похожи на кобылиц с ногами белыми до голени, словами: «В
чулках те кобылы, что вроде вас». Тогда один из лангобардов на это ответил так:
«Иди, — говорит, — на поле Асфельд, и там, без сомнения, ты сможешь изведать,
как крепко могут лягаться те, кого ты называешь кобылами. Так там рассеяны в
чистом поле кости брата твоего, точно ничтожной скотины». Услышав это, гепи-
ды, не в силах вынести замешательства, пришли в сильный гнев и ринулись ото¬
мстить за явное оскорбление. Со своей стороны готовые к бою лангобарды все
положили руки на рукояти мечей. Тогда вскочивший из-за стола король бросил¬
ся между ними, удерживая своих от гнева и схватки, угрожая покарать сперва того,
кто первым завяжет битву, и говоря, что не угодна Богу такая победа, если кто
умертвит гостя в собственном доме. Так. в конце концов, ссора была замята, и
потом в веселье закончили пир. Взявши оружие своего сына Турисмонда, Тури¬
зинд передал его Альбоину и невредимым с миром отпустил в королевство отца.
По возвращении к отцу Альбоин стал с тех пор его сотрапезником. Когда в весе¬
лье он делил с отцом королевские утехи, рассказал по порядку все приключив¬
шееся с ним у гепидов в королевских палатах Туризинда. Присутствующие изум¬
лялись и славили отвагу Альбоина, но не меньшие хвалы возносили величайшей
добропорядочности (fides) Туризинда».
26 Gregorit Turonensis Decern libri historiarum, IV, 14; IV, 16; Vll, 10 // MGH SRM 1.
P. 151, 153-154, 236; Chronicarum que dicitur Fredegari libri, IV,59 // MGH SRM 2.
P. 150.
27 Briihl C Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen
des Konigtums im Frankenreich und in den frankischen Nachfolgestaaten Deutschland.
Frankreich und ltalien vom 6. bis zum Mitte des 14. Jahrhunderts. Bd 1. Koln; Graz,
1968. S. 15-16, 61. Cf. Jonae Vita Vedastis, 7 // MGH SRM 3. P. 410.
:s Gregoru Turonensis Decern libri historiarum, IV, 16 // MGH SRM 1. P. 153-154.
211 Briihl C Op. cit. S. 138-139; Гуревич Л.Я. Свободное крестьянство феодальной
Норвегии. М.. 1967 C.I 17-149.
Salvtani Massihensis De gubernntione Dei. VII. 64 // MGH AA I. pars I. P. 95.
183
31 Соответствующие титулы собраны: Peyer Н С Op. cit. S. 37-38.
12 Ihlibnmner О Gastfreundschaft und Gasthaus m dcr Antikc // Peyer II C (Hg.)
Gastfreundschaft, Tavernc und Gasthaus im Mittelalter. Miinchen; Wien, 1983.
31 Histona Brittorum cum additamcntis Nennii, 32-35 // MGH AA 13, pars 3. P. 172 sq
Heiria Monachi Aittissiodorensis Miracula Sancti Germani, 80-81 // PL 124, col. 1207
sq. Cf. Ilattenhauer //. Rex ct saccrdos. Einc Legcndcinterpretation // Zcitschrift fl'ir
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung. Bd 55 (1969). S. 1-38.
34 Gregohi Magni Dialogi, 111, 12, 2 // SC 260. P. 296-298.
35 Cf. Caesarii Arelatensis Sermones 55, 3 et 55A, 2 // SC 243. P. 468-470, 478-480
Христианский герой эксцентричного отвержения подарков — св. Мартин Тур¬
ский.
36 Juliani Toletani Insultatio in tyrannidem Galliae //MGH SRM 5. P,526. Procopii Dc
bello Gothico II (VI), 20 // Werke / hg. O. Veh. Bd 4. Miinchen, 1971.
37 Juliani Epistulae 84 et 89b // OEuvres completes / Ed J. Bidcz. T. 1, 2eme partie
Lettres et fragments. P., 1972. P. 144-145, 156-159, 173-174.
38 Hieronymi Commentarium in Epistulam ad Titum, I, 8-9 // PL 26, col. 568.
39 Concilium Matisconense a. 585, 13 // MGH Concilia I. P. 170.
40 Duchesne L. Lovocat et Catihern, pretres bretons du temps de saint Melanie
// Revue de Bretagne et de Vendee, 1885. P. 5-21.
41 Sulpicii Severi Vita Martini, Epistula I // SC 133. P. 316-324.
42 Constantii Lugdunensis Vita Germani Autisiodorensis, 11 // SC 112. P. 142. Cf. Le
Gojf J. Culture clencale et traditions folkloriques dans la civilisation merovingienne
// Pour un autre Moyen Age: Temps, travail et culture en Occident. P., 1977. P. 232.
43 Gorce D. Les voyages, 1’hospitalite et le port des lettres dans le monde chretien des
IVe et Ve siecles. Wepion-sur-Meuse; P, 1925. P. 140-142.
44 См., например: Sulpicii Severi Vita Martini, 10, 3 // SC 133. P. 274; Honorati
Massiliensis Vita Hilarii Arelatensis, 15 // SC 404. P. 126.
45 Pseudo-Fulgentii Sermo 19 // PL 65, col. 884.
46 Sulpicii Severi Vita Martini, 25,3 // SC 133. P.310.
47 Vogue A. de. «Honorer tous les hommes». Le sens de l’hospitalite benedictine
// Revue d’ascetique et de mystique. 40 (1964). P. 129-138. Cf. Regula Benedicti, 53
// SC 182. P. 610-616.
44 Дубровский И.В. Церковная десятина в проповеди Цезария Арльского: язык
эксплуатации деревни//Одиссей, 1997. М., 1998. С. 31-46.
|А.П. Каждан| (Думбартон Оакс)
Смеялись ли византийцы?
(Homo Byzantinus ludens)
Культура карнавала и смеха давно уже обрела почетное мес¬
то в проблематике западных медиевистов. Вслед за М. Бах¬
тиным и О. Фрейденберг Арон Яковлевич тоже уделил серь¬
езное внимание средневековому гротеску, возникающему
на встрече возвышенного и низменного, священного и мирс¬
кого1. Византинисты до последнего времени оставались в стороне от изу¬
чения этого несколько странного феномена человеческой культуры, ог¬
раничиваясь указанием на отдельные тексты сатирического характера и
их анализом2. «Теория смеха», насколько я знаю, изучалась лишь приме¬
нительно к патристике, т.е. к текстам скорее позднеримским, нежели ви¬
зантийским.
В то время, как античная Греция воспринимала смех как одну из
позитивных эмоций, рассматривая его как непременное свойство го¬
меровских богов, отцы христианской церкви (особенно Иероним и
Василий Великий) отвергли смех как несовместимый с христианским
призванием; монашеские «Правила» Пахомия устанавливали наказа¬
ния за смех не только во время молитвы, но и за трапезой или в ходе
обучения’. Афоризм «Христос никогда не смеялся» был популярен в
поздней античности, святые не позволяли себе хохотать, но лишь
снисходительно улыбались время от времени4, и тем не менее поддан¬
ные поздней Римской империи не могли удержаться от смеха. Иоанн
Златоуст полемизировал с теми, кто отстаивал «античный» взгляд на
смех как нормальный акт цивилизованного человека и для кого, по
словам Златоуста, ничто не было торжественным и устойчивым. «Я
говорю не только о тех, кто посвятил себя мирскому, — подчеркивал
великий проповедник, — я имею в виду тех, благодаря которым церк¬
ви наполняются смехом». Он утверждал, что стоит кому-нибудь в хра¬
ме отпустить шуточку, как на присутствующих нападает хохот, не пре¬
кращающийся даже во время молитвы'.
До какой степени Златоусту и его благочестивым соратникам удава¬
лось подавить приступы смеха в повседневной жизни, судить трудно: oi
так называемого Темного столетня (около 650 - около 775 i г.), которым
открывается собственно византийская история, не осталось текстов, со¬
поставимых по яркости с проповедями Иоанна Златоуста на бытовые
темы. Литература же Темного столетия (в том виде, как она дошла до нас)
исключительно серьезна; ее ведущие жанры (гомилетика, гимнография и
агиография) заняты истолкованием Священного Писания, утверждением
христианской морали и коллективным покаянием; немногочисленным
интеллектуалам второй половины VII—VIII вв. попросту не до смеха. Еще
в середине IX в. Фотий, объясняя причину гнева Господня, обрушивше¬
гося на Константинополь (он говорил о нападении Руси), называл среди
других форм порочного поведения столичных жителей бесстыжий хохот,
скабрезные песенки и театральные представления6. Возвращаясь вновь
к этой теме, он наставлял своих слушателей: берегитесь вызвать гнев Бо¬
жий своим смехом и непрестанными театральными представлениями’.
Но уже представитель следующего поколения, ученик Фотия Арефа Ке¬
сарийский, встал на защиту смеха. Оправдывая свое смехачество, Арефа
провозглашает: «Смех столь же присущ человеку, сколь ржание — лоша¬
ди»8. Меньше чем столетие спустя после Арефы, византийский послан¬
ник в Риме Лев, митрополит Синады, описывая в письме к остиарию
Иоанну борьбу претендентов на папский престол, сулил своему другу-
корреспонденту, что тот помрет со смеху9.
В византийской литературе (я буду говорить дальше преимуще¬
ственно о памятниках IX—XII вв.) смех наделен двумя функциями,
одна из которых более или менее очевидна. Это сарказм, откровенно
враждебный объекту осмеяния, строящийся на гиперболизации его
пороков и направленный на политическое и моральное уничтожение
противника, живого или мертвого. Тот же Арефа в агиографическом
дискурсе, панегирике святому Евфимию, патриарху Константинополь¬
скому (907—912 гг.), счел необходимым нарисовать сатирический пор¬
трет ненавистного ему покойного императора Александра (912—913 гг.):
среди пороков эфемерного правителя названы его враждебность к цар¬
ственному брату, Льву VI (886—912 гг.), план оскопления малолетне¬
го принца Константина Багрянородного, передача всей власти «гнус¬
ному славянину» (Арефа имеет в виду царского фаворита Василицу) и
всяческие нововведения (icaivoTopia), как то: правило входить в церковь
с покрытой головой, или жертвоприношения перед статуей Анфестерии
на Ипподроме. Александр умер позорной смертью, и его труп смердел —
в противоположность благоухающим останкам святых мужей. От этой
«натуралистической» детали Арефа воспаряет к возвышенному обоб¬
щению: Александр — это не кто иной, как хвастливый фараон, и юные
девы (имеются в виду церкви) поют триумфальные гимны над его мер¬
твым телом10.
Лучше известен сатирический, карикатурный портрет известного
мыслителя и политического деятеля Фотия, набросанный примерно в
это же время в житии патриарха Игнатия (847—858 и вторично 867 —
877 гг.), написанном скорее всего Никитой Пафлагонским в начале
X столетия11: этот памятник является в гораздо большей степени сати¬
рой. осмеивающей Фотия. нежели панегириком его сопернику, св. Иг¬
натию. Был ли Никита автором этого портрета или заимствовал ею in
потерянного анонимного сатирического сочинения, ходившего в его
186
дни в константинопольском «самиздате», сказать трудно: автор X в., из¬
вестный под именем псевдо-Симеона Магистра, вставил в свою хронику
аналогичную анти-фотианскую карикатуру, но современные византини¬
сты бессильны установить, пользовался псевдо-Симеон непосредствен¬
но текстом Никиты Пафлагонского или же гипотетического памфлета.
Как бы то ни было, Никита был в состоянии создавать сатирические об¬
разы, как это следует из его замечательного письма, посвященного его
встрече с патриархом Николаем Мистиком (901—907 гг. и вторично
912—925 гг.)12. Письмо было направлено Арефе Кесарийскому в 907 г.,
в период скандала, вызванного четвертым браком императора Льва VI,
когда Никита и Арефа занимали непримиримую антиправительствен¬
ную позицию, а патриарх стремился достичь компромисса. Это письмо
представляет собой пародию на популярный в Византии жанр «эпическо¬
го мученичества»: не случайно описанные события дважды обозначены как
«агон»; этим термином обозначался центральный эпизод мученичества,
столкновение (часто в форме диалога) Добра и Зла, персонифицирован¬
ных соответственно в святом и в языческом императоре или ином пред¬
ставителе администрации. В фокусе письма — диалог между «преследо¬
вателем» (патриархом Николаем) и «преследуемым» (Никитой), и
Никита уверяет, что он был готов вынести весь агиографический рек¬
визит преследования: насилие, пытки, побои, клевету, даже казнь. Но
серьезен ли наш эпистолограф? Такие слова, как «иронизировать»
(с. 169.31), «ирония» (с. 10.17), «смех» (с. 174.1), «готовый смеяться»
(с. 173.1), «достойный осмеяния» (с. 172.13), всплывают слишком часто,
чтобы быть случайными, и к той же смеховой категории принадлежит
ссылка на Аристофана, чьи слова «из глаз бегущие тыквы» (Облака, 327)
отнесены к Николаю и нацелены на то, чтобы создать комический эф¬
фект. Текущие из глаз слезы — это обычный аспект благочестия, но в
письме плачущим представлен не какой-либо святой муж, но дядя Ни¬
киты, сакелярий Павел, приспешник патриарха, и даже апостол Петр
функционирует там не как образец добродетели, но в роли предателя,
примеру которого Никита отказывается следовать.
Рассказ Никиты полон конкретных деталей: мы читаем там, как по¬
здним вечером, в канун Рождества, Никита был доставлен, в сопровож¬
дении факелоносцев, во дворец патриарха; праздничный стол был на¬
крыт, но Никита отказался разделить трапезу со своим противником;
Николай сентиментально напомнил ему об их дружбе прежних лет и
упрекнул Никиту за его претензии на «божественность» (GecoGfivai) —
интересная параллель к житию патриарха Евфимия, в котором описы¬
вается «еретическое» учение Никиты о том, что все люди — боги и сыны
Божии11. Никита, однако ж, дерзко ответил, что он-то как раз человек
исключительно скромный и не может состязаться с Николаем в искус¬
стве достигнуть власти и втереться в доверие императора. Патриарх по¬
давил свой гнев и принялся соблазнять собеседника обещанием чинов
и титулов. И Никита продолжает в том же духе, обнаруживая наблюда¬
тельность и ироническую направленность ума.
Византийская сагира шла рука об руку с политическим доносом. Харак¬
терная история рассказана в житии патриарха Евфимия: его враг, фаворш
187
императора Льва VI Сгилиан Заутца, подговорил царского шута Лампудия
облыжно оклеветать Евфимия во время императорского банкета, и тот
обещал сделать так, чтобы самое имя Евфимия стало всем ненавистным14
Разумеется, за свой гнусный и глупый поступок (так определяет его ано¬
нимный агиограф, не сообщая, к сожалению, деталей) Лампудий понес
скорое наказание: покидая дворец, он неожиданно упал на землю в кон¬
вульсиях. Заутца был политическим и личным врагом Евфимия, и его на¬
мерением было подорвать репутацию святого мужа.
Подметные письма, называвшиеся в Византии та срацооса, были,
если можно поверить Анне Комниной, воспрещены: закон требовал, что¬
бы клеветническое письмо было сожжено, а его автор наказан'\ Но из
того же рассказа Анны следует, что, вопреки законодательству, этот жанр
существовал: под кроватью знатного заговорщика Арония была обнару¬
жена целая сумка таких «вздорных писем». Сходную функцию сатиричес¬
кого издевательства выполняли насмешливые песенки: опять-таки со
слов Анны Комниной мы знаем, что подчас актеры вели на казнь госу¬
дарственных преступников, надев на них «короны» из бычьих или ове¬
чьих кишок, а впереди шагали жезлоносцы, распевая насмешливые «ча¬
стушки», написанные разговорным языком16.
Византия знала, во всяком случае, начиная с IX столетия, другой тип
смеха — мягкий, дружеский юмор, иногда облеченный, тем не менее, в
грубые формы.
Мы можем выделить несколько категорий византийского «дружес¬
кого юмора», первая из которых может быть названа воспитующей или
душеполезной. В отличие от сарказма Лампудия, этот юмор был абсо¬
лютно свободен от враждебности, насмешка, сколь бы суровой она ни
казалась, была направлена на пользу тому, кто выступал объектом ос¬
меяния. Мы узнаем об этой категории юмора из жития Афанасия
Афонского (умер в 1001 г.), написанного вскоре после его кончины со¬
именным ему монахом Афанасием17. Афанасий Младой рассказывает,
что святой придумал новый метод исправления моральных пороков
монахов его обители, Афонской Лавры. Когда св. Афанасий замечал,
повествует его биограф, что кто-либо из братьев его монастыря под¬
дается «тирании дурного настроения» («они были человеками и обла¬
дали человеческими слабостями», — так комментирует агиограф), он
начинал процесс лечения с приложения «лекарственных слов». Если
убеждение не помогало, св. Афанасий не прибегал к обычным формам
канонической дисциплины, как-то: епитимья или принудительный
пост, но подвергал виновного насмешкам братии: кто-либо из мона¬
хов начинал как бы случайно посмеиваться над ним, другой подхваты¬
вал, третий продолжал, четвертый отпускал еще какую-то шуточку, так
что бедняга в конце концов не выдерживал и прибегал к игумену, жа¬
лобно оплакивая свое бедственное положение (vita A. par. 167). Осмея¬
ние, видимо, было суровым, иначе виновному не пришлось бы «траги¬
ческими словами оплакивать свое бедственное положение». Насмешки,
завершает свой рассказ Афанасий Младой (par. 169). раздражали ста¬
рые раны и обнажали больные места, и боль содействовала смягчению
упрямой души
Агиограф подчеркивает, что применение воспитующего смеха было
изобретением игумена Афонской Лавры, однако, верный своей манере
абстрактного письма, он воздерживается от изображения как проступ¬
ков братии, требовавших смехового лечения, так и конкретных форм
осмеяния. Один эпизод, сохраненный в анонимном житии современни¬
ка Афанасия, св. Нила Россанского (в грекоязычной Южной Италии)
(умер в 1004 г.), позволяет конкретизировать картину, начертанную
Афанасием Младым. Нил жил в горах отшельником, и вместе с ним
подвизался крестьянский парень Стефан, его любимый ученик. Нил
старательно наставлял молодого послушника. Впоследствии он посвя¬
тил Стефану восторженный панегирик, но на первых порах неуклюжий
мужик вызывал явное раздражение святого. Однажды Стефан положил
себе столько бобов в миску, что она раскололась. Он отправился к свя¬
тому наставнику и покаялся в своем дурном поступке. В ответ Нил зая¬
вил, что такое покаяние недостаточно эффективно, и предложил Сте¬
фану спуститься в главную обитель и перед лицом братьев признать, что
отшельники-аскеты на самом деле страдают от жадности (буквально
«являются разбивателями горшков»). Стефан собрал черепки, явился к
настоятелю монастыря (им был другой знаменитый южноитальянский
святой, Фантин Младой) и поведал ему свою историю. Фантин, как со¬
общает биограф Нила, догадался о намерении Нила; он взял черепки,
связал их веревкой и повесил на шею нерасторопного юноши. С таким
украшением стоял Стефан в обеденной зале монастыря, подвергаясь
осмеянию братии.
Помимо воспитательной функции, смех мог исполнять чисто развле¬
кательную, «игровую», юмористическую роль. Развлекательный смех
мог быть рожден игрой слов, юмористичностью бытовой ситуации, па¬
родией или гротеском. Византийцы любили игру слов, основанную как
на омонимии, на амбивалентности значения графически идентичных
слов, так и особенно на омофонии, на сходности звучания графически
разнородных элементов. Образцом византийской омофонии может слу¬
жить шутка, сохраненная Никитой Хониатом, замечательным истори¬
ком, умершим в начале XIII в. Во время банкета, устроенного импера¬
тором Исааком II Ангелом (1185—1195 гг.), рассказывает Хониат,
император попросил соли, по-гречески aXaq; шут Халивурис, присут¬
ствовавший на банкете, немедленно воспользовался обмолвкой госуда¬
ря. Дело в том, что по-гречески слово «соли» звучало точь в точь как
aAAaq; винительный падеж множественного числа от слова «другая», и
Халивурис, указывая на сидевших в зале родственниц и возлюбленных
Исаака, воскликнул: «почто ты просишь других, когда мы еще не успе¬
ли отведать этих?»18. Несколько иную игру слов предлагает поэт второй
половины X в. Иоанн Геометр, смеющийся над неким Пегасием, в про¬
изношении которого р не отличалось от л, и слово Kpiciq, «суд», превра¬
щалось в кАдсц, «нагибание»14.
Другое стихотворение Иоанна Геометра — «О мятеже комигопу-
лов»-’° — основано на игре слов иного типа: поэт интерпретирует слово
Kopiycriq как амбивалентное, означающее как комету («волосатая звезда»),
гак и начальника или вождя (средневековое слово, этимологически род¬
189
ственное латинскому comes и славянскому комет, кметь), и потому со¬
поставляет мятежных «сыновей вождя», сжигающих западные области
империи, с кометой, опаляющей эфир.
Типичным приемом византийских агиографов было истолкование
имени святого как выражения его добродетелей: так, дочери св. Софии
(Мудрости) были наделены именами Вера, Надежда и Любовь. Иоанн
Геометр использовал подобную этимологическую игру в комедийных
целях. Он насмешливо прославлял триаду языческих философов: Архи-
та, который положил начало (по-гречески осрхл) философии, Платона,
который ее расширил (TiXaruve), и Аристотеля, который достиг совершен¬
ства (буквально — «конца», xeXoq) (epigr. 20, col. 919А).
Юмор ситуации основывается на парадоксальности описанных собы¬
тий. Константинополь, столица империи, должен был быть средоточи¬
ем порядка, но вот что случилось в центре Константинополя с Феодором
Никейским, современником императора Константина VII (913—959 гг.),
как он сам описывает это в письме к своему порфирородному корреспон¬
денту21. Письмо открывается ироническим введением, в котором Феодор
с грустью замечает, что Иоанн Златоуст, видимо, счел его недостойным
участвовать в празднестве, устроенном в честь этого святого. И тут же он
переходит к повествованию. В ночное время он направился верхом к хра¬
му св. Апостолов в сопровождении племянника. По пути наши богомоль¬
цы натолкнулись на банду хулиганов, возглавляемых неким китонитом
(это, между прочим, придворная должность) Василием. Хулиганы нача¬
ли с мула, на котором ехал племянник; они стукнули животное по голо¬
ве, а затем набросились на всадника. Феодор хотел спешиться и просить
пощады у китонита, но не успел — его стали избивать палками, пренеб¬
регая его именем и титулом, которые он не замедлил объявить, чтобы уго¬
дить своему ученейшему корреспонденту и представить ситуацию еще бо¬
лее парадоксальной. Феодор неожиданно (и вполне юмористически)
сопоставляет уличную стычку ни мало ни много, как с походом Алексан¬
дра Македонского, ссылаясь на сражение Аристобула, сподвижника
Александра, с отрядами Эвмена — анекдот, насколько мне известно, не
описанный в сохранившихся источниках. Люди Василия избивали Фео¬
дора, покуда кто-то из них не закричал из жалости, что он мертв. Опять
писатель прерывает свое повествование коротким экскурсом в сферу ан¬
тичности, сравнивая то, что произошло с ним, с ночными бдениями в
честь Диониса. Феодор завершает свой рассказ описанием, как он лежал
на улице без сознания, словно в глубоком сне, а люди, запуганные бан¬
дой Василия, проходили мимо, не останавливаясь.
Письмо Феодора явно нацелено на то, чтобы посмешить высокого
корреспондента: парадоксальность ситуации, детальность описания, уче¬
ные сравнения с античностью — все это звучит юмористически, особен¬
но в силу идентичности автора и лирического героя. Еще сильнее коми¬
ческий эффект парадоксальной ситуации выражен в послании поэта
XII в. Иоанна Цеца к императорскому секретарю (мистику) Никифору
Сервлии; в этом послании Цен описывает свои жилищные условия. Он
обитает в трехэтажном здании, и над ним помещается семья какого-го
священнослужителя, у которого, творит Цец. детей если и не гак мно¬
190
го, как у Приама, Даная и Египта, то по всяком случае больше, чем у
Ниобы или Амфиона. Мало того, вместе с толпой детей живут над Це-
цом свиньи, и эти дети и свиньи ведут себя совсем не так, как конница
[персидского царя| Ксеркса, которая досуха выпила реки (следует список
рек, будто бы осушенных кавалерией Ксеркса: Меандр в Азии, фессалий¬
ский Онохон и аттический Илисс), — напротив, они испускают судоход¬
ные реки мочи, грозящие затопить помещение, занимаемое поэтом22.
Парадоксальность ситуации в этом письме гиперболизирована еще силь¬
нее, чем в послании Феодора Никейского; античный «задник» еще более
интенсивен и невероятен сам по себе (конница, поглощающая целые
реки!), и будничность ситуации резко оттенена нагромождением класси¬
ческих наименований.
Комическая ситуация перерастает рамки частного письма и стано¬
вится предметом сатирического произведения, во всяком случае, в XII в.
Я не стану затрагивать здесь вопрос об авторстве поэм так называемого
Птохопродрома («Нищего Продрома»)23, о его идентичности писателю
XII столетия Феодору Продрому. Четыре поэмы написаны на разговор¬
ном диалекте; его применение для литературного текста было нововве¬
дением, усиливавшим ироничность ситуации еще больше, чем античные
аллюзии. Поэт часто пишет от первого лица, но было бы рискованным
отождествлять автора и лирического героя, тем более, что он появляет¬
ся в разных стихах в разном обличии: то как молодой монах, то как ни¬
щий ученый, завидующий состоятельным ремесленникам, то как муж-
подкаблучник, бедняк, женившийся на женщине «из хорошей семьи».
От лица мужа-бедолаги написана первая сатира, которая начинается
благодарностью императору Иоанну II Комнину (1118—1143 гг.). Суть
ее составляют жалобы униженного супруга: жена не кормила его, выс¬
тавила его из дома, и только переодевшись нищим, он сумел проник¬
нуть в собственный дом, где его наконец-то отлично угостили. Сатира
социально ориентирована: царствование Комнинов было временем,
когда мужская доблесть считалась наивысшим светским достоинством,
и мужчина, которого жена бьет метлой, должен был казаться особенно
потешным; с другой стороны, забота о нищих была модой в кругах вы¬
сокопоставленных дам; наконец, аристократизация элиты и одновре¬
менное усиление позиций торгово-ремесленной верхушки делали про¬
блемы мезальянса весьма острой. Социальный контекст сатиры
усиливается словесной игрой и многочисленными сексуальными наме¬
ками.
Грань между парадоксом и гротеском, разумеется, весьма условна; я
буду понимать под византийским гротеском встречу сверхвысокого (боже¬
ственного) с обыденным, встречу, которая, словно в голиардовской поэзии,
готова обернуться профанацией и даже богохульством. Описывая свое пу¬
тешествие на Кипр, будущий патриарх Николай IV Музалон (1147—
1151 гг.) радуется быстрому и благополучному плаванью, и неудивитель¬
но: Бог-Отец натягивал канаты. Сын управлял рулевым веслом, а Святой
Дух дул в парус в нужном направлении, с кормы 23.
Парадокс и гротеск, как мы их до сих пор видели, эпизодичны, не вы¬
ходят за пределы индивидуального факта. Развернутый парадокс пли ipo-
191
теск создает то, что можно назвать пародией или комедийным дискурсом,
когда несоответствие ситуации и этоса становится системным. Образцом
византийской пародии может служить анонимное произведение под
странным названием «Краткие хроникальные заметки»2"; впрочем, я нс
уверен, что «заметки» есть адекватный перевод греческого многозначно¬
го яарастаск;, что означает прежде всего «выставку», а в новогреческом
даже «представление». «Заметки» были составлены в Константинополе,
скорее всего между 775 и 843 гг.26 Хотя большинство исследователей оп¬
ределяют «Заметки» как туристический путеводитель или как историчес¬
кое сочинение, все, кто обращался к этому памятнику, отмечали фанта¬
стичность его информации и немыслимость его хронологии. Автор
ссылается, к примеру, на Геродота и на другого хрониста, по имени Ип¬
полит, которые будто бы свидетельствуют, что Константин Великий каз¬
нил своего третьего сына Константина. Оставим в стороне, что Геродот
никак не мог писать о Константине Великом, который жил примерно на
восемь столетий позднее отца эллинской историографии; казненный сын
Константина звался не Константином, а Криспом и был его старшим, а
не третьим ребенком. Если поверить автору, мифический основатель
Византии Бизас воевал с Константином Великим, а неподалеку от Кон¬
стантинополя, в районе св. Маманта, протекала большая река, через ко¬
торую был перекинут грандиозный мост. Эти «ошибки» — не свидетель¬
ство низкого культурного уровня некоего гипотетического «местного
исторического общества» (как предполагали издатели и переводчики «За¬
меток»), но своеобразная игра с историческим жанром или, скорее, па¬
родия на него.
Давайте перечитаем с этих позиций забавную новеллу (№ 37) о сло¬
не и ювелире Каркинеле, вставленную в описание базилики с золотой
крышей, где стояли статуи тирана (т.е. узурпатора) Юстиниана II и его
жены. В этой базилике некогда обитал слон. Чудовищный зверь, оби¬
тающий в базилике, — это само по себе странный феномен, «порази¬
тельное зрелище», как автор торопится объявить. Но последующие собы¬
тия делают всю ситуацию еще более невероятной: обиталище слона было
расположено на холме, и к нему вели 72 ступени — не самое удобное
место, чтобы карабкаться слону. В том же месте проживал серебряных
дел мастер Каркинел, который пользовался фальшивыми весами; пос¬
ле склоки с хозяином слона Каркинел убил этого человека и отдал его
труп на съедение животному, но слон убил его самого.
Несколько раз автор заверяет читателя/слушателя в серьезности сво¬
его «исследования», но эта псевдоученая позиция лишний раз подчерки¬
вает игровой характер повествования. Вполне возможно, что за пародий¬
ной игрой стояла серьезная политическая задача — снизить образ
императоров, которые появляются на страницах «Заметок» не в церемо¬
ниальных действах, а в сугубо частной активности, главным образом, как
эпонимы, указывающие время событий27. Более того, анонимный автор,
как и его современник Феофан Исповедник, критически оценивает им¬
ператоров. и не только таких, как Юлиан или Фока, осужденных визан¬
тийской исторической традицией, но и «великих» правителей, как Кон¬
стантин пли Юстиниан 1. Вполне возможно, что «Заметки» пародировали
192
борьбу иконоборцем и иконопочитателей, сомременником которой автор,
несомненно, был. Если м фокусе иконопочитательского фольклора сто¬
яла икона и ее сверхъестественные качества, что иконоборцы начисто от¬
вергали, то в фокусе «Заметок» находится образ (преимущественно ста¬
туя), тоже наделенный сверхъестественными свойствами, только эти
свойства сулят не благотворное воздействие (как действует икона), но раз¬
рушение и смерть; некоторые статуи сами были изображением жертв им¬
ператорского произвола.
Мотив чудотворных статуй был хорошо известен в Византии задол¬
го до «Заметок», и в IX в. хронист Георгий Монах не раз возвращался к
нему; Фотий тоже воспроизводит (Bibliotheca, cod. 80) легенду о трех се¬
ребряных статуях, предсказавших вторжение готов, гуннов и сарматов.
Автор «Заметок» пошел, однако, дальше фольклорных сказаний об оду¬
шевленных статуях: собрав многочисленные истории их активности,
доведя этот мотив до абсурда, сопоставляя их активность с благочести¬
вой деятельностью почитаемых икон, он создал пародию, равно поли¬
тическую и развлекательную. Как бы полемизируя то ли с автором «За¬
меток», то ли с фольклорным мотивом чудотворных статуй, Анна
Комнина в XII столетии вкладывает в уста своего отца, императора
Алексея I (1081 —1118 гг.) утверждение: «Я не верю, что падение статуй
(буквально — «идолов») влечет за собой [чью-либо] смерть»2*.
Другой пример византийской гротескной пародии содержится в житии
Льва, епископа итальянского города Катании. Житие это сохранилось в
двух версиях: пространной и краткой29; установить, какая из двух ближе к
оригиналу, по-видимому, невозможно. Мы не знаем, когда Лев Катанский
жил: автор пространной биографии считает его современником императо¬
ра Константина IV (668—685 гг.) и его сына Юстиниана II; напротив, крат¬
кое житие помещает его в царствование Льва и Константина, которыми
могли быть Лев III (717—741 гг.) с сыном Константином, Лев IV (775—
780 гг.) с сыном Константином и даже Лев V Армянин (813—820 гг.), чей
сын Симватий (Смбат) был коронован как Константин.
Оба жития анонимны, и точное время написания оригинала не под¬
дается определению. М.Ф. Озепи считает текст иконоборческим и дати¬
рует возникновение легенды временем между 730 и 843 гг.™; А. Акконча
Лонго относит «вероятную дату» компиляции жития к царствованию
Льва V или Михаила II (820—829 гг.)4. Обе даты базируются на косвен¬
ных свидетельствах, и я не вижу оснований, почему биография Льва не
могла быть написана даже несколько позднее.
Когда бы ни возникла легенда, она представляет собой замечатель¬
ный, оригинальный дискурс, в котором анти-герой, волшебник Или-
одор (в классическом произношении Гелиодор) явным образом засло¬
няет св. Льва. Акконча Лонго выдвинула предположение, что фигура
Илиодора есть художественное отражение реального лица — Гелиодора
Эмесского, автора позднеантичного романа «Эфиопика». Традиция со¬
хранила немного сведений об историческом Гелиодоре: он занимался
алхимией и в царствование Феодосия I (379—395 гг.) был рукоположен
епископом фессалийской Трикки. Этих скудных данных целое i а точ¬
но для отождествления двух лиц. общим у которых является одно голь-
7 Зак.3029
193
ко имя: они жили в разное время, в разных регионах, и Илиодор умер
не епископом, а нераскаявшимся грешником. Более плодотворно дру¬
гое наблюдение, сделанное итальянской исследовательницей: сохра¬
нилось предание, что бронзовый Анемодулий — флюгер, сооруженный
в Константинополе, — был делом рук безбожного Илиодора, современ¬
ника Льва III.
Имел ли Илиодор жития исторический прототип или нет, он явно
имел литературных предшественников, хотя они носили иные имена.
Л. Радермахер опубликовал три житийные легенды о византийских пред¬
течах доктора Фауста12; Илиодор, так же, как и они, продавший душу дья¬
волу, принадлежит к тому же кругу преданий. Сага об Илиодоре, одна¬
ко, коренным образом отличается от ранних сказаний, изданных
Радермахером: в этих историях грешник, хотя он и подписывал контракт
с дьяволом, в конечном счете раскаивался и обретал прощение; Илиодор,
нераскаявшийся грешник, был ввергнут св. епископом Львом в костер,
предвещающий вечный огнь, в котором Илиодору суждено гореть.
Если св. Лев обрисован в житии вполне стандартными агиографичес¬
кими чертами, то действия волшебника Илиодора необычны, индивиду¬
альны. Как языческие статуи в «Заметках», Илиодор функционирует как
чудотворец, но его чудеса коренным образом отличаются от традиционных
актов святых мужей и жен, покровителей страждущего человечества: чу¬
деса Илиодора бессмысленны, более того, они разрушительны. Он заста¬
вил группу женщин задрать хитоны до бедер и так шагать по улице под
градом озорных насмешек; он превратил каменья в золото, а деревяшки в
серебро, создав тем самым несусветный беспорядок на рынке (фокус, сход¬
ный с описанием в «Мастере и Маргарите», хотя Булгаков явно не был
знаком с жизнеописанием Льва Катанского); в одну секунду он перенес
чиновника Ираклида и его спутников из бани в Катане в императорские
бани в Константинополе; он избегнул преследования, скрывшись в чаш¬
ке с водой; он нарисовал корабль на морском берегу и отплыл на этом судне
из Катаны в столицу. Он совершил иные чудеса в том же роде.
В чем заключается функция «превратного чудотворства» этого визан¬
тийского Фауста? Разумеется, не только в развлекательном «смехачестве»,
хотя было бы несправедливым отказать истории Илиодора в развлекатель¬
ности. Поступки Илиодора пародируют агиофафические чудеса, и сама его
смерть на костре заимствована из агиографического репертуара, хотя и
трактована с обратным знаком: как три младых еврея в библейской книге
Даниила вышли невредимыми из пещи огненной, так и византийские свя¬
тые должны были выходить живыми из огня. Но за этой пародийностью
скрывается наиболее значительный конфликт средневекового мировоззре¬
ния — столкновение священного и земного, Божественного и бесовского.
По сюжету жития, Лев Катанский выходит победителем, выходит невре¬
димым из огня, в котором Илиодор сгорает дотла. Но вопреки этой внеш¬
ней победе Льва, его пародийный анти-герой торжествует в плоскости ху¬
дожественного, во всяком случае, в оценке читателя XX столетия: именно
пародийная необычность этого образа позволяет Илиодору преодолеть
«пыль веков» и занять место поблизости от его куда более знаменитых по¬
томков. созданных гением Гете и Булгакова.
194
Перенесенная в сферу изобразительных искусств, пародия станови¬
лась карикатурой. Мы лучше знаем византийскую карикатуру из литера¬
турных описаний, нежели по уцелевшим образцам, хотя вполне возмож¬
но, что в некоторых иллюминированных Псалтирях заключаются
карикатуры на иконоборцев, и, в частности, на патриарха Иоанна VII
Грамматика (8377—843 гг.). Никита Пафлагон в житии патриарха Игна¬
тия, о котором говорилось выше, описывает созданную фотианином Гри¬
горием Асбестом книгу с цветными иллюстрациями, в которой Игнатий
был представлен в карикатурном виде; карикатуры сопровождались над¬
писями, именовавшими его дьяволом и мерзостью запустения. В конце
XII в. Евстафий Солунский жаловался, что по городу ходила карикатура
на него33; мы ничего не знаем об этой карикатуре, кроме того, что она
содержала надпись «Злопамятный человек».
Византийская пародия не ограничивалась литературой, но была и
фактом повседневной жизни. Мы мало знаем о византийских карнаваль¬
ных шествиях. Во всяком случае, в XI в. поэт Христофор Митиленский
описал процессию студентов школы нотариусов, отмечавших праздник
св. Маркиана и Мартирия; школяры шли в масках, один из них изоб¬
ражал императора, что позволило Христофору порассуждать о преврат¬
ностях судьбы: сегодняшний царь завтра мог быть выпорот учителем34.
Поведение императора Михаила III представлено византийскими хро¬
нистами X в. пародийным: государь не только принимал участие в рис¬
талищах, но и создал потешное патриаршество (он сам в шутейной иерар¬
хии исполнял роль митрополита Колонийского); участники этой игры не
только надевали маскарадные костюмы, имитирующие облачение иерар¬
хов, но и отправляли пародийное богослужение33; игра включала в себя
похабные речи и жесты, и никто, даже императрица-мать, не был защи¬
щен от высмеивания. В какой степени рассказ хронистов отражает дей¬
ствительность, а в какой является детищем пропаганды, направленной
против Михаила, сказать затруднительно. В более ограниченном масш¬
табе пародийные игры засвидетельствованы при дворе Алексея III Анге¬
ла (1195—1203 гг.): аристократическая модель в присутствии император¬
ской четы пародировала цирковые состязания, и пародия включала
«бесстыдное» обнажение тела (впрочем не больше чем до предплечий) и
удары ногой по заду играющего36.
Может быть, Христос и в самом деле никогда не смеялся, но визан¬
тийцы — смеялись.
Примечания
1 См., например: Gurevich A Historical Anthropology of the Middle Ages. Cambridge,
1992. P. 7; и особенно: idem. Medieval Popular Culture: Problems of Belief and
Perception. Cambridge; P, 1988. P. 176-183.
’ Особое внимание уделялось сатирическим стихам Птохопродрома и подража¬
ющим Лукиану диалогам в царстве мертвых.
1 Adkin N The Fathers on Laughter // Orpheus. 6 (1985). P. 149-152; cp. Luck G
Humor '< Rcallcxikon fur Antikc und Christcntum. 16 (1994). S 767-770: Gudlaunumi
195
A Le rirc, les lamics ct I'humour chcz les moincs d’Egypte // Hommages a К Dauma.s
2. Montpellier, 1986. P. 373-380.
4 Devos Г L’annee de la dcdicace dc Saint-Eticnnc a Jerusalem: 439 // Analecta
bollandiana. 105 (1987). P 279.
' Joannis Chrysostomi In cpistulam ad Hcbracos XV: 4 // PG. 63. P., 1862. P. 121 sq
См. об этом: van der Paverd /•' Zur Gcschichtc dcr McGliturgic in Antiochcia und
Konstantinopel gegen Elide dcs 4. Jhs. // Orientalia Christiana analecta. 187 (1970).
S. 445.
6 Фоотюо ОрлАЛш (Ed. В. Laourdas). Thcssalonikc, 1959. 32. P. 13-14.
7 Ibid. P. 48. 19-20. Ф.М. Россейкин интерпретировал эти инвективы против смеха
как относящиеся конкретно к императору-«миму» Михаилу III, но эта интерпре¬
тация вряд ли может считаться убедительной. См.: Россейкин Ф.М. Первое правле¬
ние Фотия, патриарха Константинопольского. Сергиев Посад, 1915. С.118. Пр. I.
4 Arethas. Scripta minora / Ed. L.G. Westerink. Vol. 2. Leipzig, 1972. 86.19.
9 The Correspondence of Leo, Metropolitan ofSynada and Syncellus / Ed. M.P. Vinson
Washington, 1985. Ер. 1.2.
10 Arethas. Scripta minora... Vol. I. 92.14-17.
11 PG. 105: 487-502. Я оставляю в стороне споры об авторстве и времени написа¬
ния этого памятника.
12 Это письмо (ер. 87) опубликовано в приложении к сочинениям Арефы, издан¬
ным Вестеринком См.: Arethas. Scripta minora. Vol. 2. P. 168-174.
13 Vita Euthymii patriarchae // CP. Bruxelles, 1970. 107.4. Это утверждение основы¬
валось на Псалтири (Пс. 81.6).
14 Ibid. 43.27-29.
15 Anne Сотпёпе. Alexiade / Ed. D.Leib. 3. P., 1945. P. 89. 12-17.
16 Ibid. P. 73.4-11.
17 Vitae duae antiquae sancti Athanasii Athonitae / Ed. J. Noret. Tumhout, 1982. Я ос¬
тавляю в стороне дискуссионный вопрос о соотношении двух редакций биогра¬
фии Афанасия Афонского, так называемых vita А (сочинение Афанасия Младо¬
го) и анонимной vita В.
'* Nicetae Chomatae. Historia / Ed. J.A. van Dieten. I B., N.Y., 1975. 441.22-27.
19 Sajdak I. Spicilegium Geometreum II // Eos. 33 (1930/31). P. 532; Lampros S. Tot
uit' apiGpov PIZ’ кои РГ’ катаХтла// Neos Hellenomnemon. 16 (1922) 45.5.
20 PG. 106: 920A
21 Darrouzes J. (cd). Epistolicrs byzantins du Xc siecle. P., 1960. P. 269-72, ep. 3.
22 Joannes Tzetzes Epistulac / Ed. P.A.M. Leone. Leipzig, 1972. ep. 18. P. 33.3-16.
23 Они заново изданы. См.: Eideneier // Ptochoprodromos. Koln, 1991.
24 Doanidou S. 'H mporixqaq NiKoXaou too Moo^dXcovoq ало архгетаколг^ Кблроо
// Hellemka. 7 (1934). 119. Vers. 260-62. П. Маас приводит интересную параллель из
немецкой средневековой церковной песни. См.: Maas Р. Zu dem Abdankungsgedichi
des Nikolaos Muzalon, I. Literarisches. // Byzantinische Zeitschrift. 35 (1935) 6.
24 Cameron Av., Herrin J. Constantinople m the Early Eighth Century: the Parastaseis
syntomoi chromkai. Leiden, 1984.
16 Kresten О Leon 111 und die Landmaucr von Konstantinopel // Romische historischc
Mittcilungcn. 36 (1994). S. 21-52.
27 Dagron (7. Constantinople imaginaire: Etudes sur le rccucil dcs Patna. P. 1984. P.
315 s.^
Anne Сотпёпе. Alexiade. 3:67.5-6.
29 Пространная версия опубликована В. Латышевым. См.: Латышев В. Неизданные
греческие агиографические тексты. СПб., 1914. С. 12-28. 150 сл.; краткую версию
см.: Ассопиа Longa A. La vita cli s Leone vescovo di Catania e gli mcantesimi del mago
Ehodoro // Rivista di studi bizantim e neoellemci. 26 (1989). P. 3-98. Много потнее
было создано стихотворное жигие См.- RaJJin I). La vita mctrica anonima su Leone di
Catania // Bollettmo della Badia gieca di Grottaferraia 16 (1962) P ^7-4S
1%
,0 Auzepy М.Г. L’analyse litlcrairc et I'lnstorien: I'cxcmple des vies dc sami.x
iconoclastcs // Byzantmoslavica. 53 (1992). P. 62-67.
м Помимо публикации Аккончи Лонго, цитированной иыше, см. ее полемику с
Озепи: Acconcia Longo. A proposito di un articolo sull'agiografia iconoclasta // Rivista
di studi bizantini e neoellemci 29 (1992/93). P. 10-17. Продолжение дискуссии см.
n следующем выпуске журнала.
J2 Radermacher L. Gnechische Quellen zur Faustsage. Wien; Leipzig. 1927.
n Eustathius metropolita Thessalonicenicensis. Opuscula / Ed. Th. L.F. Tafel. F.a.M.,
1832. 98.42-64.
u Die Gedichte des Clinstophoros Mitylenaios / Ed. E. Kurtz. Leipzig, 1903. № 136.
,5 Об императоре Михаиле 111 см.: Любарский Я.Н. Царь-мим // Византия и Русь.
Памяти В.Д. Лихачевой. М., 1989. С. 56-65; перевод: Ljubarskij Ja.N. Der Kaiser als
Mime //Jahrbuch der Ostcrrcichischcn Byzantinistik. 37 (1987). S. 39-50. Cp.: Karlin-
Hayer P. Imperial Charioteers Seen by the Senate or by the Plebs// Byzantion. 57 (1987).
P. 326-335; Kisiinger E. Michael III. - Image und Realitat // Eos. 75 (1987). S. 389-
400.
16 Niketas Choniates. 1: 509.4-17.
Джайлз Констебл (Принстон)
К периодизации историографии
крестовых походов
Крестовые походы, с самого их начала, рассматривались людь¬
ми с различных позиций, и каждое сообщение или упоми¬
нание о них в источниках должно быть интерпретировано с
точки зрения того, где, когда, кем и в чьих интересах оно
было сделано1. Каждый рядовой участник крестоносного дви¬
жения совершал свой собственный крестовый поход, и предводители
тоже имели самые разные интересы, мотивы и цели, которые часто стал¬
кивали их друг с другом. Ко всем им питал недоверие византийский им¬
ператор Алексей Комнин (его точка зрения представлена в «Алексиаде»,
написанной в середине XII в. его дочерью Анной Комниной). Турецкий
султан Кылыч-Арслан, естественно, видел вещи совсем под иным углом
зрения, нежели крестоносцы, равно как и местные восточные христиане,
особенно армяне, а также народы, обитавшие в мусульманских государ¬
ствах Восточного Средиземноморья. Правители Эдессы, Антиохии, Алеп¬
по и Дамаска, а также Каира и Багдада, — каждый из них имел свою точ¬
ку зрения на крестовый поход, что и отразилось в источниках. В
дополнение к сказанному следует упомянуть о народах, через земли ко¬
торых крестоносцы шли на Восток, и особенно о евреях, пострадавших
от последователей Петра Отшельника2.
Таким образом историография крестовых походов начинается с древ¬
нейших повествований об их происхождении и истории. Однако, если не
считать исследований отдельных источников и целого ряда библиографий
и библиографических статей’, она еще не была объектом пристального
внимания ученых. Исключение составляет лишь пространное и до сих
пор не утратившее своего значения Приложение к первому изданию «Ис¬
тории крестовых походов» Генриха фон Зибеля (во 2-м издании это при¬
ложение отсутствует), опубликованное в Дюссельдорфе в 1841 г. и пере¬
веденное на английский язык в 1861 г., а также две книги М.А. Заборова
— первая из них, «Введение в историографию крестовых походов»
(1966 г ), посвящена средневековым источникам, вторая, «Историогра¬
фия крестовых походов (XV—XIX ив.)» (1971 г.) — литературе^. К этим
работам следует добавить большую статью, отчасти историографическую,
шчасти библиографическую, принадлежащую перу Л. Бем — «Gesta dei
19(S
per Francos» или «Gesta Francorum»? Крестовые походы как историогра¬
фическая проблема» (1957 г.) и главу «Крестоносное движение и истори¬
ки», написанную. Дж. Райли-Смитом для «Оксфордской иллюстрирован¬
ной истории крестовых походов»5. Характерно, что ни в общих историях
крестовых походов Р. Груссэ, С. Рансимэна и Х.Э. Майера, ни в 6-том¬
ном коллективном труде «История крестовых походов», изданном К. Сет-
тоном, нет общих разделов по историографии.
История изучения крестовых походов на Западе, которой посвящена
данная статья, может быть разделена на три периода. Первый из них —
и самый длительный — простирается от 1095 г. до XVI в.; второй обни¬
мает XVI—XVII вв., а третий начинается в XIX в. и продолжается до на¬
стоящего времени. Эти периоды отчасти перекрывают друг друга, но во¬
обще говоря, отличие первого периода от двух других заключается в том,
что в это время мусульмане были постоянной угрозой для Западной Ев¬
ропы, и защита христианства ощущалась как актуальная задача. Для вто¬
рого периода характерно то, что крестовые походы все более и более от¬
ходят в прошлое, причем видение этого прошлого как бы «окрашено»
конфессиональными тонами и рационализмом. Эта перспектива измени¬
лась лишь с началом третьего периода, когда крестовые походы стали
объектом серьезного, хотя, опять-таки, не беспристрастного изучения.
Третий период можно, в свою очередь, разделить на два — XIX в., когда
крестовые походы рассматривались как положительное явление, и XX в.,
характеризующийся нарастанием критицизма в их оценке, особенно в
популярной литературе. Интерес к истории крестовых походов до сих пор
связан с актуальными политическими и идеологическими проблемами,
включая такие, как последствия европейской колонизации, противоре¬
чия между западным обществом и другими обществами, особенно на
Ближнем Востоке, а в более широком плане — о правомерности исполь¬
зования силы, пусть даже для достижения законных и достойных целей6.
Постановка этих вопросов способствовала изменению отношения к кре¬
стовым походам — от сравнительно благоприятного в XIX — начале XX в.
к более критическому и, наконец, даже враждебному. Стивен Рансимэн
в 1954 г. в Заключении к своей «Истории крестовых походов» назвал их
«трагическим и несущим разрушение» событием мировой истории и за¬
явил, что «сама священная война была не чем иным, как длительным
актом проявления нетерпимости во имя Бога, нетерпимости, являю¬
щейся грехом против Святого Духа»7. Джеффри Бараклоу воспроизвел
ту же точку зрения в 1970 г.: «Мы больше не рассматриваем крестовые
походы... как великое движение с целью защиты западного христианства,
но скорее как проявление нового неистового агрессивного духа, который
стал отличительным знаком западной цивилизации. Мы больше не рас¬
сматриваем государства крестоносцев в Малой Азии как аванпосты ци¬
вилизации в мире нехристей, но скорее как чрезвычайно нестабильные
центры колониальной эксплуатации». Он приписал эту перемену во
взглядах «нашему опыту мировой войны и риску, связанному с тем. что
мы живем в термоядерный век. Война всегда есть зло. даже если иногда
и является злом неизбежным. Священная война — самое большое зло»'.
А Джон Уорд в статье, опубликованной несколько лет назад, описал кре¬
199
стовые походы как «колониальное движение, стремящееся к господству
белой расы»4. Такой взгляд ныне весьма характерен для популярной лите¬
ратуры и вообще для всякого рода мероприятий, рассчитанных на широ¬
кую публику, включая публичные презентации и кинофильмы. Листовка,
распространенная среди участников конференции, организованной в
Клермоне в 1995 г. и посвященной юбилею первого крестового похода,
была озаглавлена «Крестовые походы — желал ли этого Бог?» и тем са¬
мым ставила под вопрос брошенный во время крестовых походов клич
«Deus lo volt!» («Этого хочет Бог!»). Далее листовка вопрошала: «Может
ли церковь увековечивать память о крестовом походе, не прося при этом
о прощении?» и призывала папу признать, что никакая война не может
быть священной, и что, убивая язычников, нельзя заслужить прощение
грехов. Согласно этим взглядам, крестовые походы были инспирирова¬
ны алчностью и религиозным фанатизмом, а мусульмане были невинны¬
ми жертвами агрессии.
Однако сегодня многие ученые отказываются от этой враждебной
оценки и подчеркивают оборонительный характер крестовых походов, —
следуя за их современниками, которые считали, что Западная Европа и в
целом христианство подвергались опасности со стороны врагов, уже опу¬
стошивших большую часть традиционного христианского мира, включая
Иерусалим и Святую Землю, и угрожавших опустошить остальные его
области.
Почти все средневековые хронисты тех военных экспедиций, которые
позже получили название «Первого крестового похода», рассматривали их
как ответ на мусульманскую угрозу христианским святыням и христианс¬
ким народам на Востоке10. Однако эти историки делали различные акцен¬
ты и использовали различную терминологию и библейскую топику. Гви-
берт Ножанский подчеркивал апокалиптический и милленаристский
характер событий, Эккехард из Ауры придавал особое значение сверхъес¬
тественным и природным явлениям, которые предшествовали крестово¬
му походу или сопутствовали ему.
У многих писателей были свои герои. Для Альберта Аахенского глав¬
ную роль в этих событиях играли Годфрид Бульонский и Петр Отшель¬
ник; в анонимной хронике «Деяния франков» центральной фигурой был
Боэмунд Тарентский; для Рауля Каэнского — племянник БоэмундаТан-
кред; для Раймунда Ажильского — Раймунд Тулузский; для Фульхерия
Шартрского — Бодуэн Бульонский; и снова Годфрид Бульонский — в
крестоносном эпосе, который оказывал влияние на массовое восприятие
крестовых походов вплоть до XIX в. Од Дейльский в своей истории Вто¬
рого крестового похода сосредоточил внимание на деятельности француз¬
ского короля Людовика VII, а повествования о Третьем крестовом похо¬
де в «Истории священной войны» Амбрауза и «Итинерарии короля
Ричарда» прославляли английского короля Ричарда Львиное Сердце.
Крупнейший историк крестовых походов Гильом Тирский написал
свою «Хронику» с точки зрения католического прелата, родившегося и
прожившего жизнь на латинском Востоке. По ею словам, его цель зак¬
лючалась в том. чтобы увековечить «в памяти верующих в Христа» ю. как
именно Господь Бог «пожелал освободить свои народ от долiого угнсте-
200
ния»11. В крестоносной булле Quia maior 1213 г. папа Иннокентий III воп¬
рошал: как можно, «зная, что твои братья, христиане по вере и имени,
находятся в тяжком заключении среди вероломных сарацин, не предпри¬
нимать активных действий для их освобождения?» «И в самом деле,
вплоть до времен блаженного Григория христианские народы владели
всеми провинциями сарацин»12. Еще более решительно высказывался
кастильский инфант XIV в. дон Хуан Мануэль: мусульмане завоевали
многие ранее принадлежавшие христианам земли, «обращенные в веру
Иисуса Христа апостолами, и по этой причине ведется война между хри¬
стианами и мусульманами, и война эта будет продолжаться до тех пор,
пока христиане не вернут захваченные мусульманами земли; и с этих пор
не будет между ними войны ни по закону, ни из-за их религии»1'. Хотя
реалистичность этих взглядов может быть поставлена под вопрос, они,
тем не менее, отражают характерную для первого периода историографии
крестовых походов позицию большинства средневековых христиан. Зна¬
чение подобных представлений в мотивации крестовых походов подчер¬
кивалось многими учеными, включая такого арабиста, как Норман Дэ¬
ниел, который отмечает, что «всякое упоминание христианами о землях,
которые некогда были христианскими и затем оказались утраченными,
особенно о Святой Земле, следует понимать в том смысле, что они по
праву принадлежат латинской церкви»14.
Процесс мифологизации Первого крестового похода, вследствие чего
он стал «произведением коллективного воображения»15, может быть про¬
слежен уже в первых сообщениях, отражавших скорее то формировавше¬
еся тогда представление о крестовом походе — представление о том, ка¬
ким должен быть крестовый поход, — нежели происходившее на самом
деле. На эти сообщения влияли, в частности, такие факты, как взятие
Иерусалима и образование Иерусалимского королевства и государств
крестоносцев. Происходившие одно за другим, данные события воспри¬
нимались как свидетельство успеха и перспективности начинания16. Та¬
кой вывод можно сделать, если посмотреть, как использовали в собствен¬
ных сочинениях древнейшую из хроник крестовых походов, «Деяния
франков», такие писатели, как Гвиберт Ножанский, Бодри Дейльский,
Роберт Монах, Фульхерий Шартрский и Вильям Мальмсберийский, а
также Альберт Аахенский — в «Книге о походе христиан ради завоевания,
очищения и восстановления святого Иерусалима», написанной около
И 30 г. и долгое время рассматривавшейся как наиболее достоверный
источник по истории Первого крестового похода (на самом деле, это со¬
чинение основывалось в большей мере на легендарном материале, осо¬
бенно в той части, где говорится о Петре Отшельнике). Каффаро ди Кас-
кифеллоне, писавший в середине 50-х гг. XII в., подчеркивая, помимо
всего прочего, вклад Генуи вдело Первого крестового похода, возводит
его истоки к посещению Иерусалима Годфридом Бульонским, который
по возвращении опять отправился в Святую Землю вместе с Раймундом
Сен-Жильским и одиннадцатью другими рыцарями (одному из них явил¬
ся архангел Гавриил) с целью спасти Святую Землю от мусульман'7.
Таким образом история крестовых походов счала частью их непрек-
ращающейся пропаганды. — официальной и народной18. — и часто не¬
201
возможно различить то, что сегодня мы назвали бы первоисточниками и
вторичными переложениями, потому что интерес к истории и злободнев¬
ный интерес перекрывали друг друга. Согласно Дж. Райли-Смиту, «око¬
ло 1140 г. опыт крестоносцев предыдущих поколений и чувство гордости
за них плотно сливались в коллективной памяти в единый неразрывный
сплав»19.
В начале буллы папы Евгения III Quantumpraedecessores, провозгласив¬
шей Второй крестовый поход, говорится, что «мы узнаём из рассказов
прежних крестоносцев и из описаний их подвигов, сколь великие усилия
прилагали римские папы для освобождения восточной церкви», — и да¬
лее продолжается рассказ о том, как папа Урбан II, гремя, как «священ¬
ная труба», созвал «сыновей римской церкви из разных концов мира для
освобождения Иерусалима и Гроба Господня от скверны язычников»20.
Взгляд на крестовый поход, отраженный в позднесредневековых со¬
чинениях, в большой мере зависел от того, какие источники в них ис¬
пользовались, но в целом в этих сочинениях крестовые походы всегда
изображались как ответная реакция на внешние атаки мусульман и
язычников или на внутреннюю угрозу, исходящую от еретиков и схиз¬
матиков. Военные победы Турции в конце XV в. вновь оживили инте¬
рес к крестовым походам тех писателей, для кого занятия прошлым
были лишь поводом для того, чтобы высказаться о настоящем21. Предан¬
ное отношение к Святой земле бургундского герцога Филиппа Доброго
было связано не только с его личным благочестием, но и с его полити¬
ческими амбициями, и его восприятие самого себя как наследника Год-
фрида Бульонского было навеяно чтением эпоса крестовых походов22.
Эней Сильвий Пикколомини, впоследствии папа Пий II, подготовив¬
ший сокращенное издание тех разделов «Декад» Флавио Бьондо, где
говорится о крестовых походах, называл крестоносцев «нашими хрис¬
тианами», а написанная Бенедетто Аккольти «История Годфрида, или
Четыре книги о войне, которую вели христиане против варваров ради
возвращения Гроба Господня и Иудеи», изданная в 1464 г., имела целью
способствовать организации нового крестового похода против турок, не¬
давно взявших Константинополь. Очевидно, по этой причине труд Ак¬
кольти попал в число «источников», будучи опубликован в «Собрании
историков крестовых походов»23.
Бенедетто Аккольти и другие историки-гуманисты надеялись найти в
рассказах о предыдущих крестовых походах, особенно о первом из них,
источник вдохновения и руководство к действию в современных войнах
против турок. Даже еврейский хронист Иосиф бен Иошуа бен Меир, пи¬
савший в первой половине XV в., выражал пожелание, чтобы «дети Из¬
раиля знали, что они [христиане] сделали с нами», и рассматривал му¬
сульман как орудие Божественной мести по отношению к христианам24.
В XVI в. крестовые походы отошли в прошлое и рассматривались как
часть национальной истории, но крестоносная идеология оставалась
жизнеспособной не только вследствие наступления турок, но и по при¬
чине религиозных войн. В 1522 г. Этьен Ле Блан написал специальный
исторический очерк, целью которого было показать, что Людовик IX «от¬
нюдь не разрушил [Французское! королевство ради своих заморских по¬
202
ходов в Святую Землю», а в конце того же века Франсуа де Лану и Рене
де Люсенж использовали крестоносную риторику в своих полемических
сочинениях против турок25. И католики, и протестанты объявляли себя
воинами Христовыми, ведущими священную войну ради защиты хрис¬
тианства от сил зла26. Ирландцам, присоединившимся к военной экспе¬
диции против королевы Елизаветы, в 1580 г. папа Григорий XIII предло¬
жил такую же индульгенцию, какую получали отправлявшиеся в Святую
Землю крестоносцы27. Эхо крестоносной идеологии продолжало звучать
и в XVII в., как, например, входе гражданской войны в Англии, и вплоть
до Новейшего времени (когда крестовым походом в апологетическом или
разоблачительном смысле, стало возможным называть практически лю¬
бое идеологическое мероприятие, будь то «великий крестовый поход»
Ллойд Джорджа или «крестовый поход в Европу» Эйзенхауэра). Однако ис¬
торическая ситуация кардинально изменилась после битвы при Лепанто
1571 г., и огромный успех вымышленной истории Первого крестового по¬
хода, «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо, опубликованного в
1581 г., свидетельствует о том, как далеко ушли представления о кресто¬
вых походах из мира реальности в царство фантазии, где и продолжали
оставаться в массовом сознании вплоть до XIX в.28
Между тем, этот второй период был ознаменован появлением в 1611 г.
составленного Жаком Бонгаром сборника первоисточников по истории
крестовых походов под заглавием «Деяния Бога через франков, или Ис¬
тория походов на Восток и Иерусалимского королевства франков» (Gesta
Dei per Francos sive orientalium expeditionum et regni Francorum Hierosolimitani
historia). В 1639 г. была опубликована «История священной войны» То¬
маса Фуллера. Фуллер был протестантским священником и писал исто¬
рию крестовых походов с враждебной католицизму точки зрения, одна¬
ко его труд признается первой серьезной и полной историей крестовых
походов29. Фуллер ставил вопрос об их законности и оправданности, о чем
свидетельствует, в частности, замечательный фронтиспис книги, изобра¬
жавший различные группы крестоносцев, как отправляющихся на Вос¬
ток, так и возвращающихся из Иерусалима, разрушенного ангелами из-
за вероломства и лжи крестоносцев, турками и Смертью, — и столь же
примечательное стихотворение, объясняющее содержание фронтисписа
и заканчивающееся словами:
«Те, кто спаслись, вернулись домой, столь же полные печали,
сколь пуст кошелек бедняка».
Совсем другую историю, прокатолическую «Историю крестовых похо¬
дов» написал Луи Мембур, чье сочинение вышло в свет в 1680 г. с посвя¬
щением Людовику XIV и часто переиздавалось и переводилось на разные
языки. Отмеченное, по словам г. фон Зибеля, авторской самонадеяннос¬
тью, религиозностью, но и «печатью здравого смысла», оно отразило
свойственные тому времени метания между восторженностью и скепти¬
цизмом в отношении крестовых походов50.
В XVIII в. на смену этим метаниям пришло решительное неприя¬
тие. Согласно рационалистическим воззрениям просветителей, кре¬
стовые походы были вызваны религиозным фанатизмом и корысто¬
любием мирян и инспирированы вмешательством церкви в мирские
203
дела. В споем «Опыте нравов» Вольтер назвал крестоносцев авантюри¬
стами и разбойниками, которых двигала жажда наживы4, а Гиббон,
который, хотя и нехотя, выражал восхищение твердостью их духа и
успехами, тем не менее находил в их поступках «дикий фанатизм»3-.
«Историография Просвещения, — замечает Л. Боем, — культивирова¬
ла по отношению к крестовым походам одностороннюю трактовку, от
которой лишь постепенно освобождался XIX в.»". Еще дольше, чем в
Европе, такая трактовка бытовала в США. В 1826 г. Р.У. Эмерсон за¬
писал в своем дневнике, что крестовые походы в общественном мне¬
нии занимают свое место «среди памятников глупости и тирании», а в
1828 г. он говорит о «пронзительном и недобром звучании голоса фа¬
натика, возвещающего: «Се глас Божий»'4. К этому времени направле¬
ние развития европейской историографии крестовых походов уже изме¬
нилось, что свидетельствовало о наступлении третьего ее этапа.
Сочувственное отношение к средневековью, включая и крестовые по¬
ходы, возникло на рубеже XVIII и XIX вв. под влиянием романтизма
и роста национального самосознания. Такое отношение обнаружива¬
ется теперь в более благосклонных интерпретациях крестовых походов
в литературе, искусстве и музыке, особенно в тех романах Вальтера
Скотта, которые непосредственно касаются темы крестовых походов33.
Для Томаса Рэли крестовые походы были «священной войной во имя
очищения Святой Земли»; для Кенельма Дигби — «зовом чести и бла¬
гочестия»36. Энтузиазм этого времени в отношении средневековой
французской литературы позднее получил название «мифологической
революции», а тематика крестовых походов систематически возника¬
ла в литературе и искусстве37.
В исторических исследованиях эти перемены ознаменовались появле¬
нием двух значительных многотомных историй крестовых походов — одна
из них вышла в Германии, а другая во Франции. Первый труд, принадле¬
жащий перу Фридриха Вилкена, был опубликован в 1807— 1832 гг. и до сих
пор не утратил своего научного значения; второй, сочинение Ж. Мишо,
появился в 1812—1822 гг. и выдержал несколько изданий, включая париж¬
ское, с иллюстрациями Гюстава Доре, и знаменовавшее пик религиозно¬
го и национального энтузиазма в отношении крестовых походов во Фран¬
ции38. Решение короля Луи Филиппа запечатлеть «фамилии» семей
французских участников крестовых походов в Версальском Зале крестовых
походов вызвало поток подложных грамот крестоносцев, которые до сих
пор время от времени вводят в заблуждение историков39. Более серьезным
научным достижением стало издание приложений к «Истории крестовых
походов» Мишо — четырех томов переводов источников, включая арабс¬
кие. «Собрание историков крестовых походов», где собраны источники на
латинском, греческом, арабском, армянском и старофранцузском языках,
до сих пор остается незаменимым — издание было предпринято Академией
надписей и изящной словесности начиная с 1824 г.40
В конце 1830-х гг. Леопольд фон Ранке положил начало критическо¬
му анализу источников по истории крестовых походов в своем семинаре
в Берлинском университете, а его ученик Г. фон Зибель мос1авил иссле¬
дования этой области на новую научную основу. Его «История Первою
204
крестового похода», как упоминалось выше, включала первое шачитель-
ное исследование историографии крестовых походов41.
Во второй половине XIX в. исследования по истории крестовых похо¬
дов продолжились в Германии и Франции, но, кроме того, важный
вклад был сделан учеными Англии и Италии, а несколько позже —
США, где изучение этой темы продвинулось благодаря деятельности
Д. Манро42. Свою главную задачу ученые этого времени видели в кри¬
тическом издании источников, оценке их значения и реконструкции ос¬
новных фактов истории крестовых походов. Их труды подготовили появ¬
ление в первой половине XX в. ряда новых общих историй крестовых
походов, адресованных как специалистам, так и широкой публике. Наи¬
большую известность получили две из них, обе трехтомные, написанные
Рене Груссэ и Стивеном Рансимэном. Обе они представляли собой в ос¬
новном описательное изложение истории крестовых походов, а поскольку
Р. Груссэ был востоковедом, а С. Рансимэн — византинистом, оба интер¬
претировали историю крестовых походов в аспекте взаимоотношений
Востока и Запада, христиан и мусульман — в первом случае, католиков
и православных — во втором44.
Тем временем группа американских ученых на базе Пенсильванского
университета, а позже — университета штата Висконсин — предприня¬
ла написание крупной коллективной истории крестовых походов, кото¬
рая была опубликована в шести томах в 1955—1989 гг. Небезынтересно
проследить историю создания этого капитального труда с момента воз¬
никновения его концепции в 1930—1940-е гг. вплоть до его завершения
и сопоставить избранный способ освещения материала с более кратким,
но также коллективным изданием самого последнего времени — «Окс¬
фордской иллюстрированной историей крестовых походов», вышедшей
в 1995 г. Согласно первоначальному замыслу Висконсинской истории,
пять ее томов должны были быть посвящены политическим и хозяй¬
ственным институтам, аграрным отношениям, пропаганде крестовых
походов, миссионерской деятельности, религиозным меньшинствам и
социальной истории. В шестой том авторы труда намеревались вклю¬
чить атлас и географический справочник. В законченном виде Вискон-
синская история следует главным образом фактологической истории
каждого крестового похода — вплоть до XV в.; в ней есть также тома,
специально посвященные искусству и архитектуре латинского Востока,
влиянию крестовых походов на Западе и Востоке. То обстоятельство, что
в этом труде было уделено достаточно внимания этим относительно но¬
вым темам, отражает повысившийся в XIX—ХХвв. уровень историог¬
рафии крестовых походов44.
«Оксфордская иллюстрированная история крестовых походов»
(1995 г.) отводит еще больше места крестовым походам позднего средне¬
вековья, истории военно-рыцарских орденов (которым висконсинское
издание уделяет сравнительно мало внимания) и прежде всего — идео¬
логии и религиозности крестоносного движения. Эта последняя тема ста¬
ла предметом огромного интереса со стороны историков после появле¬
ния в 1935 г. книги Карла Эрдманна «Возникновение идеи крестовых
походов» (вышедшей в 1977 г. в английском переводе)1'. Более чем какая-
205
либо другая работа, написанная в XX в., книга Эрдманна изменила на¬
правление исследований крестовых походов и обратила интерес ученых
к идеям, которые кроются за доступными непосредственному наблюде¬
нию фактами истории крестовых походов, к целям и мотивам крестонос¬
цев. Впрочем, Эрдманн не был одинок в своих стремлениях, и по реак¬
ции на появление его труда можно судить о готовности историков
обратиться к новой проблематике. Так, двое ученых параллельно рабо¬
тали в том же направлении и в то же время, что и Эрдманн, — Поль Аль-
фандери и Этьен Деларуэль, — однако их труды были опубликованы зна¬
чительно позднее46.
Эти тенденции, возможно, знаменуют начало нового этапа в осмысле¬
нии истории крестовых походов и дают лишний повод заметить, что тру¬
ды историков всегда в той или иной мере отражают интересы и проблемы
их собственного времени. Больше чем любое другое явление европейской
истории, крестовые походы явились зеркалом, отражающим тот образ За¬
пада, каким он виделся ему самому и другим. Со сменой этих представле¬
ний изменяется и видение крестовых походов. Сегодня, ничуть не в мень¬
шей мере, чем прежде, труды по истории крестовых походов необходимо
интерпретировать, учитывая те позиции, которые занимали их авторы.
Примечания
1 Данная статья представляет собой переработанную первую часть доклада по
историографии крестовых походов, прочитанного на симпозиуме «Крестовые
походы: взгляд со стороны Византии и мусульманского мира», состоявшемся в
Думбартон Оаксе 2—4 мая 1997 г.
2 The Jews and the Crusaders: The Hebrew Chronicles of the First and Second Crusades
/ Ed. and transl. Eidleberg S. Madison, 1977. Что касается литературы по этой теме,
то следует отметить недавно появившуюся статью: Lohrmann D. Albert von Aachen
und die Judenpogrome des Jahres 1096 // Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins.
100, 1995-1996. S. 129-151.
1 Cm.: Mayer H.E. Bibliographic zur Geschichte der Kreuzzuge. Hannover, 1960; Mayer
H.E., McLellan J. Select Bibliography of the Crusades // A History of the Crusades /
Ed. Kenneth Setton. Madison, 1955-1989. Vol. VI. P. 511-664. См. другие общие
библиографии: Germon L. de. Polain L. Catalogue de la bibliotheque de feu M. le
comte Riant. 2ёте partie. P., 1899; Atiya A. The Crusade: Historiography and Bibli¬
ography. Bloomington, L., 1962 — где есть раздел по историографии (Р. 17-28).
Среди журнальных статей см.: Schnurer G. Neuere Arbeiten zur Geschichte der
Kreuzzuge // Historisches Jahrbuch, 34 (1914). S. 848-855; Bouse T.S.R. Recent De¬
velopments in Crusading History // History, N.S. 22 (1937). P. 110-125; La Monte J
Some Problems in Crusading Historiography // Speculum, 15 (1940); Brundage J.A
Recent Crusade Historiography: Some Observations and Suggestions // Catholic His¬
torical Review, 49 (1964). P. 493-507; Cardini F Gli Studi sulle crociatc dal 1945 ad
oggi // Rivista storica italiana, 80 (1968). P. 79-106; Mohring H Kreuzzuge und Dschi-
had in der mediaevistischen und orientalischen Forschung 1965—1985 11 lnnsbrucker
historische Studien, 10/11 (1988). S. 361-386. См. также: Mayer HE. America and
the Crusades 11 Proceedings of the American Philosophical Society, 125 (1981). P. 38-
45; Young C R The Crusades: A Tragic Episode in East-West Relations // South At¬
lantic Quarterly, 55 (1965). P. 87-97: The Crusades: Motives and Achievements ' Ed
J.A.Brundage. Boston, 1964.
206
4 Sybel von H. Geschichte des ersten Krcuzzuges. Diisseldorf, 1841. S. 148-180, англ,
пер. см.: Gordon D. The History and Literature of the Crusades. L., 1861. P. 311-356;
Заборов M.A. Введение в историографию крестовых походов. М., 1966; его же: Ис¬
ториография крестовых походов (XV—XIX вв.). М., 1971. Автор знаком с этими
трудами в пересказе покойного А.П. Каждана.
' Boehm L. «Gesta dei per Francos» odcr «Gesta Francorum»? Die Krcuzziige als
historiographisches Problem // Saeculum, 8 (1957). S. 43-81; Riley-Smith J. The
Crusading Movement and Historians // The Oxford Illustrated History of the Crusades
/ Ed. J. Riley-Smith Oxford, 1995. P. 1-12. См. также: Boehm L. Die Kreuzziige in
bibliographischer und historiographischer Sicht // Historisches Jahrbuch, 81 (1962).
S. 223-237.
6 Rousset P. Histoire d’une ideologic. La croisade. Lausanne, 1983. P. 206-208;
Armstrong K. Holy War. L., 1988. P. XIII-XIV; Riley-Smith J. History, the Crusades
and the Latin East, 1095-1204: A Personal View // Crusaders and Muslims in Twelfth-
Century Syria / Ed. M. Schatzmiller Leiden; N.Y.; Cologne, 1993. P. 7-8. Riley-Smith
J. Revival and Survival // Oxford History, N 5. P. 386.
7 Runciman S. A History of the Crusades. Cambridge, 1954. VIII. P. 480.
8 Barraclough G. «Deus le volt?» // New York Review of Books, 21 May 1970. P. 16.
9 Ward J. The First Crusade as Disaster. Apocalypticism and the Genesis of the
Crusading Movement // Medieval Studies in Honour of Avrom Saltman (Bar-Ilan
Studies in History, 4, Ramat-Gan, 1995). P. 225; по поводу современной негатив¬
ной оценки крестовых походов см.: Balard М. Les Croisades. Р., 1988. Р. 9;
10 Erdmann С. The Origin of the Idea of Crusade. Princeton, 1977. P. 8, 349;
Delaruelle E. L’idee de croisade au Moyen Age. 1980. P. 23; Riley-Smith J. What Were
the Crusades? L.; Basingstoke, 1977. P. 22-33. Дж. Райли-Смит подчеркивал что
«идеи освобождения и зашиты» время от времени возрождаются в концепциях
крестовых походов (с. 23), и говорил по этому поводу следующее: «Крестовый
поход, когда бы он ни состоялся и против кого он ни был направлен, рассматри¬
вался главным образом как оборонительное мероприятие» (с.29). О понятии за¬
конности возвращения несправедливо захваченных земель см. также: Flori J.
Guerre sainte et retributions spirituelles dans la 2e moitie du Xie siecle // Revue
d’histoire ecclesiastique, 85 (1990). P. 627-628.
" Guillaume de Tyr Chronicon. Ed. R.B.C. Hiestand. Tumhout, 1986, t.1-2; cm.: Edbury
P, Rowe G. Wiliam of Tyre: Historian of the Latin East. Cambridge, 1988. Г. Зибель
классифицировал источники по истории Первого крестового похода следующим
образом: первоисточники, легенды и сочинение Гильома Тирского, которому
отводится особое место как в ряду первоисточников, так и в ряду писателей, пользо¬
вавшихся источниками из вторых рук. von Sybel Н. Op.cit. S. 148-163.
12 Tang! G. Studien zum Register Innocenz III. Weimar, 1929. S. 90. Пенни Коул опи¬
сал юридическую концепцию Иннокентия III, понимавшего крестовый поход
как военную службу Богу . См.: Penny J. Cole. The Preaching of the Crusades to the
Holy Land, 1095—1270. Cambridge, 1991. P.I05; P. Рёрихт проанализировал моти¬
вы крестового похода по папским буллам: Rohricht R. Kleine Studien zur Geschichte
der Kreuzziige. B., 1890. S. 9-11.
11 Don Manuel J. Libro de los estados / Ed. R.B.Tate, l.R. MacPherson Oxford, 1974.
P. 53. По мнению ряда авторов, испанская реконкиста оставалась по существу
борьбой за территорию — см.: Cantarino V. The Spanish Reconquest: A Cluniac Holy
War against Islam? // Islam and the Medieval West: Aspects of Intercultural Relations
/ Ed. Khalil I. Semaan. Albany, 1980. P. 98; P. Флетчер отмечает, что реконкиста
была на самом деле конкистой (завоеванием) — см.: Fletcher R.A Reconquest and
Crusade in Spain // Transaction of the Royal Historical Society. 1987. Vol. 5. P. 46-
47.
207
u Daniel N Islam and the West. Edinburgh, I960. P. 19. Далее он пишет: «Это было
нечто большее, нежели расхожее мнение. Эта идея имела литургическое и юриди¬
ческое оформление». См. также: Cahen С. L’islam ct les croisades // Comitato
intemazionale di scienze storichc. X Congresso intemazionale di scienze storiche. Roma
4-1 Iscttembre 1955, Relazioni, III: Storia del Medioevo. Roma, 1955. P. 629.
См. об этом: Alphandcrv P. Dupront A. La chreticnte ct I’ldcc de la croisadc. P.,
1995.
Ih См., например: Blake F.O. The Formation of the «Crusade idea» // Journal of
Ecclesiastical History. Vol.21, 1970. P. 11-31. Автор подчеркивает, что реальный ход
событий способствовал «формированию представлений об идеальной модели
крестового похода». См. также: Flori J. Mort et martyre dcs guerriers vers 1100.
L’exemple de la premiere croisade // Cahiers de civilisation medievale. V. 34, 1991.
P.121-139. Ж. Флори возражал против взгляда, согласно которому идея мучени¬
чества сформировалась в ходе крестового похода.
17 Caschifellone di С De liberatione civitatum Orientis // Annali genovesi di Caflfaro
e de suoi continuaton / Ed. L. Belgrano (Fonti per la storia d’Italia, v. 11-14 bis, Roma,
1890-1929).V.l. P. 97-124.
18 Powell J.M Myth, Legend, Propaganda, History. The First Crusade, 1140-c.a. 1300
// Autour de la Premiere croisade. Actes du Colloque de la «Society for the Study of
the Crusades and the Latin East» (Clermont-Ferrand, 22-25 Juin 1995) / Ed. Balard
M. P„ 1997. P. 127-141
19 Riley-Smith J The First Crusades, 1095—1131. Cambridge, 1997. P. 102.
20 Ottonis Freismgensis Gesta Friderici 1. lmperatoris I, 35 / Ed. G. Waitz // MGH
Scriptores reruni gcrmanicarum in usum scholarum. Hannover; Leipzig,!912. P. 55
21 Schmugge L Die Kreuzzuge aus der Sicht humanistischer Geschichtsschreiber. Basel;
Frankfurt a. M., 1987; Housley N. The Later Crusades 1274—1580: From Lyons to
Alcazar. Oxford, 1992. P. 84, 99-100.
22 Paviot J. La devotion vis-a-vis de la Terre Sainte au XV s.: I’exemple de Philippe le
Bon, due de Bourgogne (1396—1467) //Autour de la Premiere croisade... P. 401-411.
23 RHC: Hist.Occ., t.V. P. 525-620. Von Sybel H. Op. cit. S. 329-330; Black R. Benedetto
Accolti and the Florentine Renaissance. Cambridge, 1985. P. 224-285; Schmugge L
Op.cit. S. 12-13.
24 The Chronicles of Rabbi Joseph ben Joshua ben Meir the Sphardi, Vol. 1. L., 1835
P. 325.
25 Brown F A R A Sixteenth-Century Defense of Saint Louis’ Crusades: Etienne le
Blanc and the Legacy of Louis IX // Cross-Cultural Convergences in the Crusader
Period: Essays Presented to Aryeh Grabois on his Sixty-fifth Birthday / Ed.
M. Goodich, S. Menache, S. Schein. N.Y., 1995. P. 21-48; Heath M. J. Crusading
Commonplaces: La Noue, Lucinge and Rhetoric against the Turks. Geneve, 1986.
26 Wang A. Der «Miles Chnstianus» im 16. und 17. Jahrhundert und seine mittclaltcrliche
Tradition. Frankfurt a.M., 1975; Rousset P L’ideologic de croisade dans les guerres de
religion au XVIe siccle // Schweizcrische Zeitschrift fur Geschichtc, 1981, Bd 31. S. 174-
184. Многие из библейских текстов, цитировавшихся историками крестовых по¬
ходов, пускались в ход в XVI в. См.: Gellhaus VJ. Franzosische Kreuzzugsideen und
Weltfriedensbewegung im Zeitalter der Afklarung. Diss. Munchen, 1934. Последняя
работа касается в основном XVII—XVIII в.
27 Pissard Н La guerre sainte en pays chretien. P., 1912. P. 173-174.
2S Schmugge L. Op. cit. S. 46, 142; Siberry F Tasso and the Crusades: History of a
legacy // Journal of Medieval History, 1993. Vol. 19. P. 163-169.
29 Bailey J F The Life of Thomas Fuller. L.; Manchester, 1874. P. 173-181; von Sybel
H Op, cit. S. 163: Boehm l. Gesta. S. 63-64.
'"Sybel II von Op cit S. 163-164; Gellhaus V.l Op.cit. S 86-87; Boehm I. Gesta
S. 64-66.
208
n Voltaire /•’ M Essai sur les moeurs. // Oeuvres completes de Voltaire / Ed.
L.P. Moland, 1877—1885. T. XI. P. 442. По мнению Брумфитта. Вольтер «бывал
рад случаю показать, что крестовые походы не являлись следствием возвышен¬
ных религиозных мотивов, но суть порождение страсти к разбою» — см.:
Brwnfitt ./// Voltaire Historian. Oxford, 1958. Р. 68; см.: Svbel If von. Op. cit. S.
164-165; Gellhaus V.J. Op.cit. S. 90-92.
12 Gibbon E. The History of Decline and Fall of the Roman Empire / Ed.
D.L. Womerslcy, 1994. Vol. 111. P. 727.
33 Boehm L Gcsta. S. 70; Cp.: Заборов M.A. Историография крестовых походов.
С. 76-144.
34 The Journals and Miscellaneous Notebooks of Ralph Waldo Emerson. V. 111:1826-
1832 / Ed. W. Gilman, A. Ferguson. Cambridge (Mass.), 1963. P. 18; The Letters of
Ralph Waldo Emerson / Ed. Rusk Ralph I. N. Y„ 1939. P. 246.
35 Dakyns J. The Middle Ages in French Literature, 1851 —1900. Oxford, 1973.
P. 1-28; Siberrv E. Images of the Crusades in the 19-th and 20-th Centuries // Oxford
History. P. 365-385.
36 Morris K. The Image of the Middle Ages in Romantic and Victorian Literature. L.,
1984. P. 46, 105.
37 Cm.: Dakyns J. Middle Ages in French Literature. P. 4, 17, 254-256.
зх См. об этих трудах: Boehm L. Gesta. S. 73-74; о работе Вилкена см.: von Sybel H.
Op.cit. S. 167-172; о Мишо см.: Ibid. S. 173-178, а также: Заборов M.A. Историог¬
рафия крестовых походов. С. 179-211.
39 Constable G. Medieval Charters as a Source for the History of the Crusades //
Crusade and Settlement. Papers read at the First Conference of the Society for the Study
of the Crusades and the Latin East and presented to R.C. Smail / Ed. Edbury P.W.
Cardiff, 1985. P. 73.
40 Идея подобного издания восходит к концу XVIII в. См.: Dehtrain Н. Les origines
du recueil «Historiens des croisades» // Journal des savants. V. 17, 1919, P. 260-266.
41 Sybel H. von. Op. cit. S. III. См. также: Fueter E. Geschichte der neuren
Historiographie. Munchcn; B., 1936. S. 535-536. Gooch G.P. History and Historians
in the 19,h c. Boston, 1959, а также Заборов M.A. Историография крестовых похо¬
дов. С. 212-227.
42 См.: The Crusades and Other Historical Essays Presented to Dana C. Munro by his
Former Students / Ed. Pactow L. N.Y., 1928; см. также: Mayer H E America and the
Crusades. P. 38.
43 О P. Груссэ и его «колониальной» точке зрения см.: BoaseT.S.R. Op.cit. Р. 116-122;
Cardini F. Op.cit. P. 82-83; Mayer H.E. America and the Crusades. P. 41. О концепции С.
Рансимэна см.: Young C.R. Op.cit. P. 87-97 и Cardini F. Op.cit. P. 83-86.
44 Cm.: Mayer H.E. America and the Crusades. S. 42-44; Queller D. Review Article: On
the Completion of «А History of the Crusades» // International History Review, 1991.
V.I3. P. 314-330.
43 Erdmann C. Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart, 1935.
46 Об Альфандери см. послесловие Мишеля Балара к книге: Alphandery Р, Dupront
A. La Chretiente...P. 565-593; Delaruelle Е. Essai sur la formation dc l’idee de croisadc
// Idee de croisade...P. 1-127.
Перевод с английского С. И. Лучицкой
Ларе Лённрот (Гетеборг)
Креститель и святой: два короля Олава
в представлении Одда Сноррасона
1
Еще при их жизни, пришедшейся на эпоху викингов, Олав
Трюггвасон и Олав Харальдссон сделались героями литера¬
турных панегириков, сложенных их собственными придвор¬
ными поэтами, скальдами. Этот тип традиционной литера¬
туры, которая изображала их великими викингами, бес¬
страшными покорителями и великими правителями Норвегии, был
продолжен и значительно развит скандинавскими сказителями и со¬
ставителями саг в XII и XIII вв.
Но существовал и другой, более благочестивый род литературы,
культивировавшийся, уже после их смерти, священниками, монахами
и религиозными поэтами, которые заимствовали свои образцы из ла¬
тинской агиографии. В соответствии с этой традицией, два Олава пред¬
ставали первыми и выдающимися поборниками христианства, апосто¬
лами католической миссии в Норвегии и — особенно второй Олав —
священными фигурами, наделенными от Бога чудодейственными спо¬
собностями.
Непохоже, чтобы хотя бы одна из этих традиций опиралась на ре¬
альные факты. В сущности, мы очень мало знаем о двух Олавах, за ис¬
ключением того, что оба они возглавляли экспедиции викингов в Ан¬
глию, а позднее, по возвращении домой, сумели захватить власть над
Норвегией, — отчасти потому, что во время своих странствий приоб¬
рели достаточно богатства и военной силы, чтобы победить своих про¬
тивников, но отчасти также потому, что заключили выгодные союзы с
другими правителями и с некоторыми влиятельными представителя¬
ми церкви. Вовсе не факт, что хотя бы один из двух Олавов происхо¬
дил, как они это утверждали, из королевской семьи, правившей в Нор¬
вегии на протяжении почти всего X в. Похоже, оба были сыновьями
безвестных мелких правителей, чьи претензии на трон были, мягко
говоря, не вполне оправданными. Но не грубая правда о двух Олавах
будет занимать нас здесь, а скорее красивые легенды о них. Вполне
210
очевидно, что эти легенды стали складываться не раньше, чем по про¬
шествии нескольких лет после того, как оба они безвременно погиб¬
ли в битвах со своими врагами — Олав Трюггвасон в битве у Свельда
в 1000 г., а Олав Харальдссон — в битве при Стикластадире в 1030 г.
В последние десятилетия XIII в. исландские составители саг соеди¬
нили светское и религиозное предания о двух Олавах в пространные
биографические тексты, позднее названные «королевскими сагами»
(komtngasbgur). Это было, однако, сомнительное предприятие — в ос¬
новном потому, что светская и религиозная традиции противоречили
друг другу по целому ряду вопросов, в частности, в изображении ко¬
роля. Тем не менее уважать следовало обе традиции: религиозную, по¬
скольку она представляла официальную позицию церкви, и светскую,
потому что она стала частью устного предания целого ряда влиятель¬
ных исландских семей.
Кроме того, авторам саг пришлось столкнуться и с другими, еще бо¬
лее сложными проблемами. Одна из них состояла в том, чтобы объяснить
восхождение к королевской власти этих двух неотесанных выскочек, их
взаимоотношения с соперниками и с прежними королями Норвегии и
при этом, по возможности, не скомпрометировать их статус святых. Дру¬
гую трудность составляла необходимость истолковать тот факт, что наи¬
более ранние латинские источники, включая официальную церковную
легенду об Олаве Харальдссоне, выдвинутую архиепископством Нидаро-
са, представляли его, второго Олава, первым и единственным «Апосто¬
лом Севера»1, не оставляя места для Олава Трюггвасона. Но ведь даже
исландцы, особенно после того, как около 1130 г. была написана знаме¬
нитая «Книга об исландцах»2 Ари Торгильссона, были твердо убеждены,
что их страна на самом деле обращена в христианскую веру в 1000 г., т.е.
в правление Олава Трюггвасона, а никак не Олава Харальдссона.
Наиболее деликатной проблемой, с которой столкнулись авторы
саг, была, впрочем, проблема эстетическая. Как убедительно соеди¬
нить столь различные повествования и легенды в единую нарративную
структуру? Моделью не могли служить ни агиографические тексты, ни
героический эпос, ни скальдическая поэзия. Нужно было создать но¬
вый тип изложения, который вобрал бы в себя предшествующие уст¬
ные и письменные формы предания, не утратив при этом повествова¬
тельного единства.
Какая же сага, в таком случае, представляет собой наиболее раннюю
попытку создания подобного повествования об одном из двух Олавов? В
течение длительного времени ученые были убеждены, что самым ранним
текстом этого рода была так называемая «Древнейшая сага об Олаве Свя¬
том», которую Сигурдур Нордаль датировал примерно! 170—1180 гг.3 Эта
сага дошла до нас лишь в нескольких рукописных фрагментах4, однако ее
текст может быть реконструирован с помощью несколько более поздней
версии, «Легендарной саги об Олаве Святом», сохранившейся в норвежс¬
кой рукописи первой половины XIII b.sB последние годы, однако, дати¬
ровка «Древнейшей саги об Олаве Святом» перенесена на период около
1200 г., и теперь считается, что ома более или менее идентична существу¬
ющей «Легендарной саге»'’.
211
Если эти новые датировки верны, самым ранним пространным про
заическим повествованием об Олавах является латинская биография
Олава Трюггвасона, составленная исландским монахом Оддом Снор-
расоном в монастыре Тингейрар около 1180 г. Это сочинение также ут¬
рачено, однако дошло до нас в форме исландской переводной cain
начала XIII в.7 Таким образом, латинский оригинал текста Одда был
написан примерно на двадцать лет раньше «Древнейшей саги» / «Ле¬
гендарной саги об Олаве Святом» — даже при том, что датировку лю¬
бой саги этого раннего периода, вероятно, следует считать приблизи¬
тельной8.
Исторические источники Одда включали скальдическую поэзию,
устные предания о двух Олавах, жизнеописания и миракли различных
святых, а также исторические сочинения Ари Торгильссона. Однако
основным литературным прототипом его труда в целом была, по-ви¬
димому, так называемая «Хроника Псевдо-Турпина», более точно име¬
нуемая Historia Karoli Magni et Rotholandi, весьма популярная и красоч¬
ная латиноязычная биография Карла Великого, написанная в первой
половине XII в., — квазиисторический труд, основанный на француз¬
ском героическом эпосе в сочетании с клерикальными легендами о
миссионерских подвигах и крестовых походах Карла Великого и его
сподвижников, таких, как Роланд и Оливье. Как показал Питер Фут,
это квазиисторическое сочинение, ложно приписываемое легендарно¬
му епископу Карла Великого Турпину, было переведено на древнеис¬
ландский язык очень рано (между 1190 и 1225 гг.) и позднее включено
в «Сагу о Карле Великом», большую компиляцию о Карле Великом,
Роланде и других христианских рыцарях французского героического
века9.
Как и Historia Karoli Magni et Rotholandi, написанная Оддом латинс¬
кая биография Олава Трюггвасона сочетает агиографию, миссионер¬
ские легенды и героический миф: она должна была быть одновремен¬
но и поучительной, и занимательной. С одной стороны, герой Одда -
это образчик христианских добродетелей, «Апостол Севера», чья
жизнь — зеркальное отражение жизни христианских святых и чьи уси¬
лия в деле обращения язычников предоставляют автору множество воз¬
можностей пускаться в самую настоящую проповедь. С другой сторо¬
ны, его персонаж — это почти непобедимый викинг и романтический
герой, воплощение рыцарственности и отваги. С одной стороны, свя¬
щенная миссия Олава предвозвещается различными знамениями и
предсказаниями: еще ребенком он вместе со своей матерью отправля¬
ется в изгнание, словно Иисус с Девой Марией. С другой стороны, он
выступает в дальнейшей своей жизни любителем женщин, удачливым
и умелым воином, искусным пловцом и покорителем горных вершин,
не говоря уже о его превосходных навыках мореплавателя и способно¬
сти повести своих людей в бой. Его последнее сражение, в битве у
Свельда, описывается драматически, а изображение чудес напомина¬
ет о знаменитом последнем сражении Роланда в Ронсевальском уще¬
лье (это кульминация и завершение в Historia Karoli Magni, точно так
же, как битва у Свельда — в сочинении монаха Одда)"'.
212
2
Одд начинает биографию с пролога, в котором объясняет цели своего
груда, используя высокопарную риторику средневековой церковной ис¬
ториографии11. В исландском переводе, представленном здесь в норма¬
лизованной орфографии по популярному изданию Гудни Йоунссона, это
выглядит так:
«Heyrid |эсг Ьгагбг inir kristnu ok fe6r: |)vi jati ek fyrir gudi ok helgum
monnum, at mik glcdr dyrd at vinna inurn hcilsamligsta Olafi konungi
Tryggvasyni ok gjarna vildi ek bans veg vinna теб minum ordum. Slikt
sama geri |)ёг veg Olafi konungi, er undirrot er убаггаг hjalpar ok skirnar
ok alls farnadar ok samnafna ins helga Olafs konungs Haraldssonar, er \>a
kristni timbra6i upp ok fcgr6i. Ok a inu fimmta ari hans rikis helt Olafr
konungr nafna sinum undir skim ok tok hann af J)eim helga brunni i \>a
liking sem Joan baptisti ger6i vi6 drottin, ok sva sem hann var hans
fyrirrennari, sva var ok Olafr konungr Tryggvason fyrirrennari ins helga
Olafs konungs. Ok heldu ^eir sinar sifjar sem allir skyldu i sinum helgum
krafti ok dyrligum vcrkum, ok ^at кот |эаг fram sem Joan maelti vi6 drottin:
<фёг haefir at vaxa, en mer at J^verra.» Ollum er [)at kunnigt, at eftir lifit
skein jartegnum inn helgi Olafr konungr, cnn inn fraegsti Olafr konungr
Tryggvason var monnum ckki kunnr i jartegna ger6 eftir lifit, Jio truum ver
hann dyrligan mann ok aga^tan gu6s vin. l>otti hann ollum olikr i atgervi,
тебап hann lif6i, ^ott eftir lifit vaeri J)at eigi berat, hverr kraftama6r hann
var. Ok ekki skulum ver forvitnast gu6s leynda hluti. Minnumst огба Petrs
postola at vegsama konung varn, en hraedast gu6. At sonnu mun J3at her
saman koma: Lofum konunginn, er oss veitti farsaeliga hluti, en [)6kkum
gu6i, er hann gaf oss slikan foringja, ok samir oss Jiat at vegsama konung
varn теб mannligum lofum, er gu6 hefr upp теб himneskum lofum. Ok
betra er slikt теб gamni at heyra en stjiipmaedrasogur, er hjardarsveinar
segja, en engi veit, hvart satt er, er jafnan lata konunginn minnstan i sinum
frasognum. Bid ek goda eigi fyrirlita ^>essa frasogn ok gruni eigi framar
eda ifi sognina en hofi gegni, |)vi at vitrir mcnn hafa oss fra sagt nokkura
hluti hans storvirkja ok fatt fra J3vi, sem verit hefir hans afreksverka, ok
oft kann |)at at at berast, at fals er blandit sonnu, ok megu ver ^vi eigi
mikinn af taka, en aetlum |эо, at eigi muni rjufast ^essir, em kunna |збкк
l?eim, er um та baeta. En ef menn verda til at lasta, en eigi um at baeta ok
kunni cngar sonnunar a sitt mal at faera, at annat se rettara, \>sl [jykkir oss
litils verd J3eira til log ok omerkilig, )3vi at vitrum monnum jDykkir hver saga
heimsliga onytt, cf hann kallar J^at lygi; er sagt er, en hann та engar sonnur
a finna. Er nu at hlyda til afreksverka Olafs konungs Tryggvasonar ok |3cira
storvirkja, er hann gerdi»12.
[Послушайте, братья и огцы во Христе, как я заявляю перед Богом и
всеми святыми, что я счастлив потрудиться во славу самого благодетель¬
ного короля Олава Трюггвасона; истинно хотел бы я восславить его сво¬
ими речами. Пусть вам также будет восславлен король Олав, который
является источником вашего спасения и вашего крещения, и всей вашей
дальнейшей жизни, — тежа святого короля Олава Харальдссона, который
тогда со шал и украсил христианство. На пятом юлу своего правления
213
король Олав стал крестным отцом своего тезки, выведя его из святого
источника, так же как Иоанн Креститель поступил с нашим Господом
И так же как Иоанн был предтечей Христа, король Олав Трюггвасон был
предтечей короля Олава Святого. Они прославили свое родство, как всем
следует поступать, своим святым могуществом и славными деяниями, и
исполнилось то, что Иоанн сказал Господу: «Тебе должно расти, а мне
умаляться»1’. Всем известно, что король Олав Святой творил чудеса пос¬
ле своей смерти, но людям не было известно, что самый знаменитый ко¬
роль Олав Трюггвасон совершал чудеса после своей смерти; и все же мы
верим, что он был славным человеком и отличным другом Богу. Пока он
еще был жив, он казался самым совершенным человеком; и все же после
его смерти так и не открылось, каким могуществом он обладал. Нам не
следует пытаться познать секреты нашего Бога. Давайте помнить слова
Святого Петра и чтить нашего короля, но бояться Бога14. И то и другое,
безусловно, уместно в данном случае. Давайте восхвалим короля, кото¬
рый сделал нас процветающими, и давайте возблагодарим Господа, ко¬
торый дал нам такого предводителя. Нам должно славить людской хва¬
лой нашего короля, который превознесен Богом его небесной хвалой. И
лучше с радостью слушать такие веши, чем рассказы о мачехе, передава¬
емые мальчиками-пастухами, поскольку никто не знает, правдивы ли
они, и поскольку часто королю в этих рассказах не придается должного
значения. Я прошу добрых людей не презирать этого повествования и не
сомневаться в его содержании более, чем следует, потому что мудрые
люди рассказали нам о некоторых из великих дел короля, но мало рас¬
сказали о величайших его свершениях, и часто может случиться, что ложь
перемешана с правдой, и все же мы не хотим опускать что-либо, поскольку
мы верим, что эта история может подтвердиться. Мы благодарны тем, кто
знает, как ее улучшить, но если люди только критикуют, но не могут до¬
казать, что их сообщение более правдиво, тогда мы думаем, что их слова
сомнительны или мало что значат. Потому что мудрые люди считают глу¬
пым отвергать историю или называть ее ложью только потому, что ее прав¬
дивость не может быть доказана. И мы теперь послушаем о славных геро¬
ических поступках короля Олава Трюггвасона и о тех великих деяниях,
которые он совершил |.
Из этого предисловия можно сделать некоторые выводы об отноше¬
нии Одда к его аудитории и к предшествующим преданиям о двух Ола-
вах. Во-первых, ясно, что он обращается к монашеской или, во всяком
случае, клерикальной аудитории, состоящей из «братьев и отцов во Хри¬
сте», от кого только и можно было ожидать, что они станут слушать текст
на латыни15. Во-вторых, он рассчитывает, что данная аудитория достаточ¬
но много знает о святости и христианских добродетелях Олава Святого,
чьи официальное житие и чудеса должны были быть хорошо известны
всем западноскандинавским священнослужителям около 1180 г., полагая
при этом, что им значительно меньше известно о соответствующих дос¬
тоинствах Олава Трюггвасона. Одд хочет убедить своих слушателей в том.
что не только младший, но и старший Олав занимает важное место в офи¬
циальной истории скандинавского христианства. Очевидно, что в этом и
заключается основная побудительная причина написания его труда, и
214
само обращение к латыни наводит на мысль, что Одд пишет не только для
исландцев, но и для более широкой аудитории. Предположительно, он
желал, чтобы его книга читалась во всей Северной Европе и особенно ду¬
ховенством тех «стран», или областей, которые, как заявляет Одд16, были
обращены в христианство Олавом Трюггвасоном: Норвегии, Шетландс¬
ких, Оркнейских и Фарерских островов, Исландии и Гренландии. Таким
образом, его цель предстает как цель церковного политика, стремящего¬
ся утвердить новое видение процесса христианизации Западной Сканди¬
навии.
Несмотря на эту религиозную задачу, книга Одда задумана не только
как духовная, но и как развлекательная, т. е. по образцу героических пре¬
даний: аудитория должна внимать ей «с радостью» (тед gamni at heyra). Он
надеется, что его слушателям доставят удовольствие истории о приключе¬
ниях Олава-викинга и о его любовных приключениях, подобно тому, как
Псевдо-Турпин в Historia Karoli Magni et Rotholandi угощает свою аудито¬
рию рассказами о храбрости Роланда. Одд действительно является одним
из первых хороших рассказчиков в древнескандинавской литературе, хотя
он и не использует «объективную» повествовательную технику Снорри
Стурлусона и классических саг. В отличие от более поздних авторов, Одд
— проповедник и желал бы развлекать во славу Господа, ad majorem Dei
gloria m.
В прологе, однако, он выглядит обеспокоенным тем обстоятельством,
что у его аудитории, вероятно, наслувшавшейся stjupmcedrasdgur, ег
hjardarsveinar segja — «рассказов о мачехе, передаваемых мальчиками-па-
стухами», где конунгу «не придается должного значения», сложилось не¬
верное или негативное представление о его герое. Не вполне ясно, что он
имеет в виду, произнося эти презрительные, и, возможно, даже горькие
слова, но скорее всего речь идет о клеветнических рассказах об Олаве
Трюггвасоне, вроде тех, что записаны Адамом Бременским около 1070 г. в
его «Деяниях епископов гамбургской церкви». Хотя Адам признает, что
Олав Трюггвасон привез христианских миссионеров из Англии в Норве¬
гию, но о его миссионерской деятельности речь не идет, норвежского ко¬
нунга он изображает сомнительной личностью, нехристем, возможно,
даже вероотступником, изрядно погрязшим в языческом колдовстве и в це¬
лом враждебно настроенным по отношению к своим христианским сосе¬
дям, датчанам17. Похоже, что негативное изображение Адамом старшего
Олава, которое должно было быть хорошо известно в латиноговорящем
мире Северной Европы, создавало для Одда серьезные проблемы. Как мог
он представить своего героя «Апостолом Севера», если эта роль уже была
отведена младшему Олаву, а также совершенно не совпадала с написанным
Адамом Бременским портретом отвратительного языческого колдуна?
Найденное Оддом решение этой проблемы блистательно и замеча¬
тельно соответствует типологическому мышлению средневековых теоло¬
гов. Олав Трюггвасон представлен предтечей, провозвестником младшего
Олава — вторым Иоанном Крестителем. Крещение им Олава Святого яв¬
ляется новой версией крещения Иоанном Иисуса. Посредственную и
даже дурную репутацию Олава Трюггвасона тогда легко объяснить в тер¬
минах пророчества Иоанна, обращенного к Иисусу: «Тебе должно расти.
215
а мне умаляться». Более того, отсутствие сведений о каких-либо чудесах,
связанных с Олавом Трюггвасоном, в таком случае не мешает предста¬
вить его святым человеком: Бог мог решить, что его могущество, как и
могущество Иоанна Крестителя, не должно быть в полной мере открыто
потомкам, и «нам не следует пытаться познать секреты нашего Бога».
Теперь можно было устанавливать благочестивые параллели между дву¬
мя Олавами, изучать их в деталях и использовать как ключ к пониманию
всего процесса христианизации страны — все это Одд действительно де¬
лает в своем дальнейшем изложении. В одной из последних глав он фор¬
мулирует это так: первый Олав «заложил основы» новой веры, второй
«воздвиг стены»; первый «насадил виноградник», а второй «украсил его
и увеличил урожай»1”.
Оставалось, однако, одно затруднительное обстоятельство. Passio
Olavi, официальная легенда об Олаве Святом, настойчиво утверждала, что
второй Олав принял крещение уже взрослым человеком в нормандском
городе Руане19, когда ОлаваТрюггвасона, конечно, уже не было в живых.
Не вызывает сомнения, что руанская версия крещения Олава — древней¬
шая и наиболее достоверная, поскольку встречается в хронике XI в.
Historia Northmannorum Гильома Жюмьежского20. Следовательно, рассказ
Одда о том, как Олав Трюггвасон крестил пятилетнего Олава Святого, не
соответствует действительности. Вероятно, эта легенда вымышлена с на¬
чала и до конца с целью построить необходимый теологический мост
между двумя Олавами.
Несмотря на шаткость своих оснований, сообщение Одда о связи между
двумя Олавами послужило источником для Снорри Стурлусона и других
позднейших авторов королевских саг, даже если эти авторы изображали
Олава Святого Христом, а Олава Трюггвасона — Иоанном Крестителем. Как
бы то ни было, Олав Трюггвасон воспринимался как предтеча и провозвес¬
тник Олава Святого в деле обращения Норвегии в христианство, и потому в
целом существовало — совершенно напрасное — убеждение в том, что он
стал крестным отцом своего пятилетнего тезки.
3
Если «Легендарная (или Древнейшая) сага об Олаве Святом» была на¬
писана около 1200 г., ее основным образцом была, вероятно, латинская
биография Олава Трюггвасона, составленная монахом Оддом, или, что
вернее, исландский перевод этой последней, поскольку «Легендарная
сага» написана на древнеисландском языке, а не на латыни. Компо¬
зиция ее очень напоминает историю старшего Олава, в ней наблю¬
дается то же смешение агиографии и героического эпоса, но язык на¬
много проще, и в ней меньше христианской риторики.
Сага начинается с любопытной легенды о третьем Олаве — знатном
языческом конунге из рода Инглингов, Олаве Толстоногом, или Альвс
Гейрстадира (Digrbeinn еда Geirstudaalfr), который обладает пророческим
даром, позволившим ему предсказать собственную смерть во время боль¬
шой эпидемии. Предсказание сбывается, умершего конунга хороши в
кургане, и его призрак является во сне некоему Храни, который вскоре
216
становится приемным отцом еще не рожденного к тому времени Олава
Святого: Храни получает приказ пробраться в курган, отрубить конунгу
голову и забрать некоторые королевские регалии — кольцо, плащ и меч,
— а затем принести их туда, где в скором времени должен родиться Олав
Святой. Так все и происходит, и из этой истории мы понимаем (хотя пря¬
мо об этом не говорится), что душа Олава Толстоногого каким-то обра¬
зом проникает в тело новорожденного младенца, чудесным образом де¬
лая нового Олава наследником старого короля. После рождения ребенка
над домом видно сияние, напоминающее вифлеемскую звезду. Вскоре
после этого мать с младенцем —как Христос и его мать, или как Олав
Трюггвасон и его мать в повести Одна — вынуждены покинуть свой дом
и поселиться у Храни, который в конце концов передает своему прием¬
ному сыну королевские дары, свидетельствующие о том, что Олава ждет
великое будущее21.
Немецкая исследовательница Анне Хайнрихе изучила и сопоставила
различные варианты этого повествования, которые встречаются также в
нескольких более поздних текстах, а именно в позднейших сагах об Ола-
ве Святом, и пришла к выводу, что данный сюжет изначально являлся
отдельным устным рассказом или «прядью» (pattr) и каким-то образом
оказался инкорпорирован в предание о святом короле22. Как бы то ни
было, совершенно очевидно, что назначение этого рассказа в «Легендар¬
ной саге» — связать судьбу Олава Святого со старшим Олавом и с язы¬
ческой традицией королевского рода Инглингов, и делается это почти тем
же способом, какой применяет Одд, соединяя Олава Трюггвасона с Ола¬
вом Святым, объявив одного из них предшественником другого. Более
того, сияние над домом и некоторые другие детали наводят на мысль о
церковном происхождении этой интерпретации, столь напоминающей
пролог Одна к его латинской биографии Олава Трюггвасона.
Типологическая перспектива, представленная в прологе Одда Снор-
расона, — идея, что один человек или одно событие могут предвещать
другое событие или явление другого человека, — похоже, оказала влияние
на структуру и идеологию позднейших королевских саг о двух Олавах. Со¬
гласно мнению немецкого исследователя Герда Вольфганга Вебера, такое
типологическое мышление могло в известной степени сформировать и
исторические взгляды Снорри Стурлусона21. Если только наши сегод¬
няшние датировки древнейших саг верны, то именно Одд был первым,
кто внедрил типологическую идею в саговую картину мира, ловко пре¬
образив несуществующую связь между двумя весьма темными викинге -
кими конунгами, носящими одно имя, в мистическую связь между Гос¬
подом нашим и Иоанном Крестителем.
Примечания
1 См.. Lonnrofh /. Studicr i OlafTryggvasons saga H Samlarcn. B. 84 (I%3). S. 54-94
: Cm. Islendmgabok. Landnamabok. F.d. Jakob Benediktsson (l.slcnzk Form it. В. I )
Reykjavik. 1968
! .\'<>i(lal S Om Olafden helliges saga- Fn kritisk imdersogel.se Copenhagen. I9|4
1 Olte bi ud.slv, kkei afden aMdste ^iga om Olav den hellige I d Ci Stoim. СЫо. 1893
217
' Olafs saga hins helga: Die «Legendarische Saga» liber Olaf den Heiligen / Ed., transl
Anne Heinrichs, Dons Janshen, Elke Radicke, Hartmut Rohn. Heidelberg, 1982.
6 Cm.: Kristjinsson J. The Legendary Saga // Mmjar og menntir: Afmaelisrit helgad
Kristjani EIdjarn. Reykjavik, 1976. P. 281-293, Anderson T.M. Kings’ Sagas
(Konungasogur) // Old Norse-Icelandic Literature: A Critical Guide / Ed Carol .1
Clover and John Lindow. Ithaca; London, 1985. P. 212-214.
7 Лучшее научное издание, основанное на всех сохранившихся рукописях, — Saga
6lafs Tryggvasonar af Oddr Snorrason munk / Ed. Finnur Jonsson. Copenhagen, 1932
Однако для удобства я использую здесь нормализованное издание: Ed. Gu5m
Jonsson. Reykjavik, 1957.
* Сочинение Одда рассматривается и сопоставляется с «Легендарной сагой об
Олаве Святом» в моей работе 1963 г. {Lonnroth L. Op. cit.). В то время я все еще
верил в предложенные С.Нордалем ранние датировки саг об Олаве Святом, и
потому я скорее всего недооценил значение труда Одда для развития раннего са-
гописания.
4 Foote Р. The Pseudo-Turpin Chronicle in Iceland // London Medieval Studies, 4, 1959.
10 Cm.: Lonnroth L. Op. cit. P. 83-88.
11 Сверрир Томассон блестяще проанализировал этот пролог и рассмотрел ис¬
пользование в нем риторических условностей. См.: Tomasson S. Formalar islenskra
sagnaritara i mi6oldum. Reykjavik, 1988. Bl. 261-279). Хотя я не согласен с ним по
ряду частных вопросов, я полагаю, что он значительно усовершенствовал мою
интерпретацию текста Одда (Lonnroth L. Op. cit.).
12 Konungasogur / Ed. Gu6ni Jonsson. В. I. Reykjavik, 1957. Bl. 3-4.
13 Cp. Ин 3:30: «Ему должно расти, а мне умаляться».
14 Cp. 1 Пет. 2:17: «Бога бойтесь, царя чтите».
15 Сверрир Томассон (Tomasson S. Op.cit. Bl. 276) не думает, что на основании
указанной формулы возможно сделать какие-либо выводы об аудитории Одда,
поскольку эта формула вообще часто встречается в средневековых прологах. По
моему мнению, однако, очевидно, что она не была бы использована, если бы Одд
обращался к светской аудитории; к тому же в таком случае он не стал бы писать
на латыни.
1А Konungasogur. В. I. В1. 128.
17 Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / B. Schmeidler.
Hannover; Leipzig, 1917. II: xxxvi-xl.
18 Konungasogur. В. I. Bl. 129.
14 Cm.: Monumenta Historica Norvegiae. Latinske kildeskrifter til Norges histone i
middelalderen / Ed. G. Storm. Knstiama, 1880. P. 127-128.
2(1 Cm.: Lonnroth L. Op. cit. S. 58.
21 «Легендарная сага», гл. 2-4.
22 Heinrichs A. Der 6lafs J)attr Geirsta6aalfs. Eine Variantenstudie. Heidelberg, 1989.
23 Weber G.W. Intellegere historiam: Typological perspectives of Nordic prehistory (in
Snorri, Saxo, Widukind and others) // Tradition og historieskrivning. Kilderne til
Nordens aeldste historie / Ed. K. Hastrup and P. Meulengracht Sorensen. Aarhus, 1987.
Перевод с английского T. H. Джаксон
С.И. Лучицкая (Москва)
Мусульманские идолы
В хрониках крестовых походов, отражающих конфликты хрис¬
тианского и мусульманского миров, содержится весьма мно¬
го фантастических и вымышленных деталей — воображаемые
диалоги мусульман и христиан, фантастические описания му¬
сульманского культа, которому приписываются языческие чер¬
ты, вымышленные описания сражений и пр. Привычный для историка
подход к анализу источника, ориентированный на поиск фактов и исто¬
рических реалий, заставляет обходить все эти небылицы и фантастические
детали как мешающие проникновению в историческую реальность и ре¬
конструкции того, «как это было на самом деле» (wie es eigentlich gewesen).
Но описываемая таким образом извне историческая реальность несет на
себе печать традиции и представлений описывающей ее культуры. Иное
дело — попытаться дать это объяснение «изнутри», включая в анализ
присутствующий в хрониках легендарный фантастический контекст,
принимая во внимание и субъективный момент восприятия хронистами
исторической реальности. Тогда нужно переформулировать свою задачу
— мы станем обращать внимание не столько на поиск исторических реа¬
лий, сколько на то, как хронисты эти реалии осмысляли. Фокус иссле¬
дования таким образом смещается — мы будем изучать не столько то, что
«было на самом деле», сколько то, что привнесено в описываемую ситу¬
ацию хронистами, нас будет интересовать не столько описываемая реаль¬
ность мусульманского мира, сколько ее образ, т.е. реальность не столько
переживаемая, сколько умопостигаемая.
* * *
Читателя, перелистывающего страницы хроник Первого крестового
похода, не может не поразить странное описание мусульманских ме¬
четей, в которых, по словам хронистов, можно было видеть огромно¬
го размера статуи Мухаммада, инкрустированные золотом и серебром.
Наиболее подробное описание такого идола Мухаммада сохранилось
в хронике «Деяния Танкреда», принадлежащей перу Рауля Каэнского.
'Статья подготовлена при поддержке РГНФ. ipanr N9 96-01-00081 «Феномен
Иного- «свое» и «чужое» в пространстве к\пы\ры>
219
Восторженный поклонник своего героя, хрониа чрезвычайно подроб¬
но и ярко описывает стремительное развитие событий, непосредствен¬
ным участником которых был Танкред. Когда крестоносцы вошли в
Иерусалим, 15 июля 1099 г., Танкред первым ворвался в мечеть аль-Акса
То, что он там увидел, превосходило мечты самых алчных крестоносцев
Стены мечети были покрыты серебром, а на троне возвышалась серебря¬
ная инкрустированная золотом статуя, закутанная в пурпурные ткани и
осыпанная драгоценными камнями. Это был идол Мухаммада. Потрясен¬
ный этим зрелищем, Танкред начинает размышлять вслух:
«Кто бы это мог быть, /чей это вознесенный на пьедестал образ
(sublimis imago)?/ что означает это изображение {effigies) ? /Откуда эти
драгоценные камни, это золото? /К чему этот пурпур?... / Может быть,
это изображение Марса или Аполлона, а может быть, Христа? /Однако
же знаки Христа — крест, терновый венец, гвозди, пронзенное ребро —
отсутствуют. / Значит, это не Христос — нет, это все тот же Антихрист.
/Жалкий Мухаммад, пагубный Мухаммад. /О, если бы его грядущий
сообщник сейчас явился! /Я растоптал бы Антихриста! Какой срам! /
Храмом Господа Бога владеет обитатель бездны. /Раб Плутона выстав¬
ляет себя напоказ в доме Соломона? /Давайте сбросим его поскорее,
пусть тотчас же упадет!»1
Едва получив приказ, воины Танкреда с необычайным рвением его
исполняют. Огромных размеров статуя — по словам анонимного продол¬
жателя хроники Петра Тудебода, она была столь тяжела, что только шесть
сильнейших мужей сумели сдвинуть ее с места и лишь десять смогли ее
поднять2 — была повалена на землю, обезглавлена, разбита на мелкие
куски, а украшавшие ее золото, серебро и драгоценные камни воины
поделили между собой. Рассказывая об этом эпизоде, хронист не случай¬
но подчеркивает богатство и роскошь мусульманского культа. Христиан¬
скому воображению мусульманский мир рисовался как мир баснослов¬
ного богатства и экзотики’.
Таков событийный аспект нарисованной хронистами картины. Что же
за ней стоит? Как объяснить происхождение столь фантастически иска¬
женного описания мусульманского культа в хрониках? Как мог оказать¬
ся идол Мухаммада в мусульманской мечети, если в исламе в принципе
запрещены рукотворные изображения пророка? На все эти вопросы нам
и предстоит ответить. Пытаясь дать адекватную интерпретацию странно¬
го эпизода, будем рассматривать его в различных исторических контек¬
стах. Раскрывая его смысл, мы как историки должны прежде всего искать
объяснение в исторических реалиях.
1. Историческая реальность и рассказы хронистов
Историк, стремящийся дать рациональное объяснение этому фантастичес¬
кому зпизолу. попытается обнаружить исторические реалии, которые uoi-
ли быть отражены в хрониках крестовых походов, и руководствуясь л нм
рациональным подходом, разделить res f'acuie и res fictae. Погомх нраво¬
220
мерным представляется следующий вопрос: существовала ли на самом
деле статуя Мухаммада, видели ли ее хронисты? Вот факты. Рауль Каэн-
ский, передавший рассказ об идоле Мухаммада, записал свою хронику
между 1112 и 1118 гг. и не являлся очевидцем Первого крестового по¬
хода4, как, впрочем, и анонимный продолжатель сочинения Петра Ту-
дебода Сиврейского. Что касается очевидцев, то о статуе Мухаммада в
мечети упоминает только хронист Фульхерий Шартрский, сообщая, что
сарацины в этом храме отправляли богослужение «по своему суеверному
обычаю», который характеризует как «идолопоклонство»\ Итак, первое
соображение, которое приходит на ум, может быть следующего рода —
эпизод хроники следует прежде всего отнести к res fictae\ подобные не¬
былицы об идолах сочиняли лишь хронисты, не побывавшие в Иеруса¬
лиме и вообще мало знакомые с реальной ситуацией на Ближнем Восто¬
ке. Именно такой точки зрения придерживалась Р. Хилл, одна из первых
обратившая внимание на фантастические рассказы христианских хрони¬
стов о мусульманском мире6. Подобную же мысль еще в начале XX в. выс¬
казал Д. Манро, исходивший в своих рассуждениях из тех же посылок здра¬
вого смысла7. В свете этих предположений наш эпизод как будто обретает
ясную и стройную интерпретацию. Действительно, наиболее правомер¬
но предположить, что подобные небылицы и фантастические рассказы об
идолах в мечетях могли сообщать лишь писатели, которые не имели не¬
посредственных контактов с Ближним Востоком и слабо знали реалии
мусульманского мира. Подобные интерпретации исходят из той теорети¬
ческой посылки, что участник события или зритель оказывается более
важной фигурой, чем рассказчик, поскольку эмпирический опыт рас¬
сматривается в качестве главного критерия реальности исторических све¬
дений. Именно в рассказах очевидцев, как полагают, содержится адекват¬
ная информация, которую можно было бы истолковать как resfactae. Все
прочее есть не что иное, как resfictae. Достоверная историческая инфор¬
мация, носителем которой объявляется очевидец, и вымысел оказыва¬
ются, таким образом, разделенными по разным полюсам. Однако такая
точка зрения противоречит данным источников. Ведь Фульхерий Шарт¬
рский — участник Первого крестового похода, долгое время живший на
Ближнем Востоке, тем не менее, также упоминает об идолах в мечетях.
Это противоречие попытался разрешить итальянский историк У. Монне-
ре де Виллар. По его мнению, существуют определенные литературные
клише, которые могли переходить из произведения в произведение, и
описание идолов в мечетях следует рассматривать как характерный для
хроник литературный шаблон8. Но и такое объяснение не представляет¬
ся вполне убедительным. Ведь сами эти клише есть неразрывная часть
образа мышления, системы представлений хрониста, поэтому следовало
бы для начала задаться вопросом, почему хронисты считали возможым
употребить, в том или другом случае, именно эти клише и литературные
шаблоны, а не какие-либо другие.
Весьма спорной, хотя и захватывающе интересной представляется ин¬
терпретация искусствоведа К. Муратовой. Исследовательница в общем
исходит из тех же посылок, что и Д Манро и Р. Хилл. По ее мнению,
рассказ Раули Каянского и других хронистов езедует воспринимать бук¬
221
вально. Она предположила, что в хронике зафиксировано вполне реаль¬
ное событие. Ее объяснение странного эпизода сводится к следующему:
описание идола Мухаммада столь точно, детально и реалистично, что его
нельзя счесть лишь литературным клише или фантазией — статуя идола
действительно находилась в храме. К. Муратова отмечает совпадение
описания Рауля Каэнского с одним из античных иконографических мо¬
тивов — изображением Юпитера Капитолийского. Античные и раннех¬
ристианские авторы часто описывают римские статуи Юпитера, импера¬
тора Адриана в образе Юпитера, находившиеся в храмах Палестины. Это
были колоссальные мраморные статуи, одетые в пурпурный плащ и вод¬
руженные на пьедесталах. По мнению К. Муратовой, подобного рода
античная статуя, вероятно, находилась на храмовой горе Мория в Иеру¬
салиме, и этот факт мог послужить основой рассказа очевидцев, который
затем обрастает фантастическими подробностями; к нему примешивают¬
ся детали из различных версий популярных легенд о Мухаммаде, из уст¬
ной народной традиции и т.д.9 Близкую точку зрения высказывал в сво¬
ей книге М.А. Заборов, полагавший, что статуя пророка уцелела в
иерусалимском храме «вопреки всем историческим превратностям и бла¬
годаря своей массивности»10.
И все же такая буквальная интерпретация известного пассажа не
представляется убедительной. Сомнение вызывает прежде всего то, что
мусульмане стали бы терпеть изображение идола в столь важном в сак¬
ральном отношении месте — ведь мечеть аль-Акса, о которой говорит
Рауль Каэнский, была едва ли не самым главным культовым зданием11.
Если пытаться найти исторические реалии, которые могли найти
отражение в хрониках крестовых походов, можно предложить еше одну
возможную интерпретацию нашего эпизода. В изображении мусульман
в хрониках, безусловно, сказывались и непосредственные впечатления.
В героических песнях нередко говорится о том, что в г. Кадисе вплоть
до середины XII в. существовала огромная статуя Геркулеса, которую
могли видеть крестоносцы, проходя через Кадис во время своих экспе¬
диций в Святую Землю; их впечатления, возможно, повлияли на вос¬
приятие мусульманского культа. О статуе Геркулеса сообщает, напри¬
мер, латинская версия «Песни о Роланде» Псевдо-Турпина. Последний
утверждает, что ключ упадет из рук Геркулеса, когда во Франции родит¬
ся король, которому будет суждено отвоевать христианские земли у са¬
рацин (Псевдо-Турпин намекал на Карла Великого)12.
Приведенные выше объяснения, при всем их различии, имеют нечто
общее. Они сосредоточены на поиске реалий, которые могли найти от¬
ражение в хрониках крестовых походов и основаны на предположении,
что в хрониках реальность находит свое непосредственное отражение. Но
подобные интерпретации представляются экстраполяцией здравого
смысла в область неизведанного. Вряд ли можно рассматривать описания
средневековых писателен как прямое отражение реального опыта живших
в это время людей. Средневековый человек осмыслял окружающий мир.
опираясь не только на жизненный опыт, но и ни традицию, а значит, ос¬
мыслял действительность в категориях прошлого. Средневековые пред¬
ставления о мире и. в частости, о чужой религии, были опосредованы
222
множеством традиций и влияний. Нам представляется, что попытка
объяснить странный эпизод в хрониках влиянием культурных традиций
в наибольшей степени приблизит нас к пониманию вышеупомянутого
отрывка. Иными словами, нас будет интересовать следующий вопрос —
в тот момент, когда крестоносцы впервые вступили в контакт с чужой
культурой и чужой религиозной практикой, какие предрассудки они мог¬
ли иметь и из каких источников таковые черпать?
2. Ислам и христианская церковь
Итак, попытаемся связать искаженное описание религиозного культа
мусульман с присущей средневековым людям системой представлений и
доминировавшими в их сознании культурными стереотипами. Извест¬
но, что для христианской системы миросозерцания вообще характерно
рассматривать представителей иной религии как язычников или ерети¬
ков. В средневековье именно религия была основным критерием «ина-
ковости». «Чужие» в средние века — это прежде всего нехристи — хри¬
стиане-схизматики, иудеи, язычники и, следовательно, уже по
определению идолопоклонники. В контексте христианской концепции
Другого не оставалось места для какой бы то ни было характеристики,
кроме демонологической13. Другой, стало быть, всегда воплощение греха
и Сатаны, и только в таком смысле оппозиция «свои — чужие» приоб¬
ретает специфическое значение. Концепция Другого в эпоху христиан¬
ского средневековья — это по существу онтология демонологии. Тако¬
вы общие представления, характерные для этой эпохи. И все же остается
пока неясно, какими именно культурными традициями и влияниями
опосредовано столь странное представление об идолопоклонстве, а так¬
же и само описание идолов в мечетях.
Если религия была главным критерием «инаковости», то правомерно
предположить влияние церковной традиции. И действительно, в сочине¬
ниях церковных писателей — как западных, так и восточных — достаточ¬
но эксплицитно отражены превратные представления об идолопоклон¬
стве мусульман. Уже Иоанн Дамаскин в своем сочинении «О ересях»
(первая половина VII в.) называл мусульман идолопоклонниками14. В
IX в. писатель Никита Византийский отмечает, что мусульмане в Мекке
поклонялись идолу, сделанному по образцу статуи Венеры. Он имел в
виду почитание черного камня Каабы, что им и было отождествлено с
культом Венеры15. Византийский писатель Евфимий Зигавин, живший
при дворе Алексея Комнина в конце XI в., по заданию византийского
императора составил огромный полемический труд, направленный про¬
тив ересей, — так называемое «Полное догматическое вооружение»
(РапорНа сlogmatica), в котором большое место отводится характеристике
ислама. В своем сочинении он рассказывал о том, что сарацины покло¬
няются утренней звезде и Афродите, именуемой, как он пишет, на араб¬
ском языке Хабар1'. Западная христианская традиция разделяла эти пред¬
ставления. Как раз в начале XII в. испанский писатель Педро Адьфонси.
223
изложивший в одном из своих сочинений учение ислама, приписываем
мусульманам идолопоклонство17. Вряд ли стоит предполагать, что людям
средневековья были доступны тексты ученой традиции. Но справедливо
и другое — церковная традиция, несомненно, формировала определен¬
ные социокультурные установки средневекового общества, и церковные
идеологические стереотипы были достаточно глубоко укоренены в созна¬
нии крестоносцев. В апокалиптической атмосфере крестового похода, со¬
бытия которого отождествлялись в сознании средневековых людей с на¬
ступлением конца света, наибольшее влияние могла иметь, видимо,
церковная эсхатологическая традиция.
3. Ислам и Сатана
Эсхатологические мотивы и образы, несомненно, присутствовали в со¬
знании крестоносцев. Искаженное изображение культа мусульман мог¬
ло возникнуть на пересечении нескольких культурных влияний. Тради¬
ция отождествления Мухаммада с Антихристом имеет в средневековой
культуре давнее происхождение. Средневековая апокалиптическая мысль
испытала расцвет в Испании в IX в. Христианские писатели Евлогий и
Альвар из Кордовы в своих сочинениях рассматривали Мухаммада как
воплощение Антихриста и интерпретировали его появление как свиде¬
тельство наступления конца света1*. Свои взгляды испанские отцы церк¬
ви обосновывали с помощью Св. Писания. Альвар из Кордовы именно в
таком апокалиптическом духе трактовал известный пассаж из кн. Дани¬
ила (7: 3—24) — видение четырех зверей, причем четвертый зверь отож¬
дествлялся им с Мухаммадом, а год смерти пророка — с числом апока¬
липтического зверя19.
В XII в. клюнийский аббат Петр Достопочтенный, желавший позна¬
комить христиан с учением ислама и способствовавший переводу Кора¬
на на латинский язык, в своем сочинении «Против секты сарацин» утвер¬
ждал, что Сатана воспользовался Мухаммадом как своим орудием. По
словам Петра Достопочтенного, Мухаммад своими проповедями смутил
треть человечества, отторгнув от Христа и подчинив власти Дьявола. Нс
будучи сам Антихристом, Мухаммад, как полагает Петр Достопочтенный,
предвосхищает его появление, являясь своего рода предтечей20. Так, вслед
за своими испанскими предшественниками клюнийский аббат рассмат¬
ривает ислам в эсхатологической перспективе.
Накануне Первого крестового похода верили в то, что весь мир будет
сценой решающего сражения между Христом и Антихристом. Конец этой
битвы разыграется непременно в Иерусалиме, где Антихрист поведет
войну не против иудеев и неверных, но против христиан21, и потому их
присутствие в святом городе и даже завоевание Иерусалима христианами
является необходимой предпосылкой для начала событий конца времен.
Именно в Иерусалиме, как полагали в средневековье, должны произойти
события Апокалипсиса. Перед явлением Антихриста в Иерусалим придет
последний римский император и возложит на Масличную гору скипетр
224
и корону. Апокалиптическая традиция, наиболее полно отраженная и
трактате «Об обстоятельствах и времени появления Антихриста», при¬
надлежащем перу монаха Адсо Дервиенского, говорила также о том, что
последний император перед своим прибытием одержит победу над му¬
сульманами22. Затем должно произойти обращение неверных, за которым
последует битва Антихриста и христиан25. Ситуация крестового похода
обостряла эсхатологические настроения. Мнение современников о том,
что времена исполнились и весь мир должен стать сценой окончательной
битвы сил Христа и Антихриста, находит отчетливое отражение в хрони¬
ках крестовых походов24. В папских документах освобождение Святой
Земли от мусульман вообще трактуется как формальная победа христи¬
ан над Антихристом25. Эсхатологические мотивы и образы, разработан¬
ные в предшествующей культурной традиции, моментально актуализи¬
ровались в апокалиптической атмосфере крестового похода. Текущее
время и было эсхатологическим. Описанный в хронике эпизод с мусуль¬
манскими идолами, вероятно, был рассчитан на характерное для средне¬
вековой аудитории восприятие. Поскольку в трактовке происходящих
событий средневековая мысль основывалась на новозаветных текстах,
читатели вполне могли рассматривать данное описание как сбывшееся
новозаветное пророчество о явлении Антихриста — «человека греха, сына
погибели», который «...в храме Божьем сядет..., как Бог, выдавая себя за
Бога» (2 Фес. 2—4: ita ut in tempio Dei sedeat ostendens se quia sit Deus). Ожи¬
дание конца времен и битвы с Антихристом и могли породить описания
идолов в мусульманских мечетях. Различие между библейскими событи¬
ями и событиями крестовых походов не осознавалось — анахронизм яв¬
лялся существенной чертой образа мышления. Согласно средневековым
представлениям, время стареет, и люди живут в «последние времена». В
средние века люди вообще постоянно жили в ожидании пришествия Ан¬
тихриста, конца света и Страшного Суда. Эпоха после Христа рассмат¬
ривалась как завершающая эпоха истории. Даже если статуи Мухаммада
в мечетях никто не видел, она несомненно существовала в эсхатологичес¬
ком воображении крестоносцев2'1.
4. Крестовый поход и «Песнь о Роланде»
Объясняя появление странного эпизода в исторических сочинениях, мы
рискнем высказать еще одно предположение. В хрониках крестовых по¬
ходов изображается мусульманский мир. Хронисты описывают, подчас в
фантастическом виде, обычаи и верования мусульман, их традиции и
даже повседневный уклад; при этом степень искажения ими реалий му¬
сульманского мира чрезвычайно велика. Медиевистам, изучавшим
культурные контакты в эпоху средневековья, принадлежит очень важ¬
ное наблюдение: образ Другого в средние века (и в гом числе образ му¬
сульманскою мира) формировался преимущественно в литературной тра¬
диции, и хронисты очень часто воспроизводят в своих сочинениях гс
христианские представления об исламе, которые офажены в героичсс-
225
8 Зак.3029
ких песнях, рыцарских романах и других литературных сочинениях’7.
Если обратиться к нашему сюжету, то это суждение покажется во мно¬
гом верным, ибо в старофранцузском героическом эпосе мусульмане
чаще всего изображаются идолопоклонниками, и мы сможем найти в ге¬
роических песнях немало параллелей нашему сюжету. Действительно,
chansons de geste часто рассказывают об огромных статуях Мухаммада,
которые сарацины устанавливают в мечетях28. Идолы, о которых говорит¬
ся в героических песнях, всегда больших размеров и богато украшены —
покрыты золотом и серебром и закутаны в пурпур. Стены мечетей, где
находятся кумиры, разрисованы изображениями птиц, рыб, животных2'5.
В chansons de geste статуи пророка помещены на украшенных резьбой раз¬
ноцветных мраморных колоннах и при этом часто укреплены на хрусталь¬
ном цоколе и обтянуты шелком'0. В некоторых песнях говорится о мра¬
морных статуях Мухаммада, задрапированных в ткани и усыпанных
драгоценными камнями; перед ними поставлены канделябры31. Описания
внешнего вида статуй в литературных сочинениях и хрониках весьма близ¬
ки. Есть в песнях и совершенно идентичные пассажу из хроники Рауля Ка-
энского эпизоды. Героическая песнь «Фьерабрас» передает рассказ о том,
как французские рыцари Роланд, Ожье и Оливье по стечению обстоя¬
тельств оказываются в пещере, где они обнаруживают настоящие богат¬
ства — роскошные покрытые золотом статуи мусульманских богов Тер-
вагана, Аполлена и Марго. Происходит дележ добычи, каждый из
рыцарей берет себе по статуе — Роланд забирает Аполлена, Ожье — Мар¬
го, Оливье — Тервагана32 — и взваливает золотого истукана себе на спи¬
ну. В рыцарских песнях христиане, одержав победу над сарацинами, ча¬
сто разбивают их идолов. Так, в «Песни о Роланде» христиане после
взятия Сарагосы вооружаются молотами с тем, чтобы разбить идолов сво¬
их врагов33. Как видим, и в хрониках крестовых походов, и в песне по су¬
ществу воспроизводится одна и та же повествовательная модель.
Параллели между героическими песнями и историческими сочинени¬
ями можно продолжить. В «Песни о Роланде» мусульманский эмир Ба-
лиган заявляет о своем почитании идолов мусульманских богов Магоме-
ia, Аполлена и Тервагана и обещает отлить из золота их истуканы в
случае, если они помогут ему одержать победу над христианами'4. Перед
отправлением войска в военный поход сарацины помещают идола Му¬
хаммада на самую высокую башню, «и нет ни одного язычника, кто не
молился бы ему и не почитал его»35. Как в хрониках, так и в песнях мы
встречаем постоянные аллюзии идолопоклонства мусульман. Иногда в
хрониках говорится о мусульманских знаменах с изображением Мухам¬
мада. Тудебод сообщает о том, что мусульмане при виде христианских
знамен поднимают над стенами города водруженное на древке знамя с
изображением Мухаммада. Также и в песнях часто упоминаются му¬
сульманские знамена с изображением Мухаммада, Тервагана и других
мусульманских богов'6. Примеры свидетельствуют о том, что одни и те
же конвенциональные мотивы и сюжеты были характерны как для ис-
трических. так и для литературных сочинений.
Мы видели, что одной из точек пересечения литературной и псгорп-
офафической традиции является изображение мусульман млолопоклон-
226
никами. Но параллели между хрониками и chansons ile geste можно про¬
следить и на примере других близких к этому сюжетов. Очень часто в
хрониках описываются и сами мусульманские мечети, расположенные,
по словам хронистов, у ворот города. Хронисты называют их «махома-
риа» — machomaria или machumaria от имени пророка Мухаммада, тем
самым подразумевая, что пророку поклонялись в храмах как идолу'7. Это
знакомый по chansons de geste топос, ибо мусульманские храмы в песнях
также называются чаще всего machomaries или synagogues**.
Искажение образа ислама — монотеистической религии — проявля¬
ется и в том, что мусульманам приписывается многобожие. Хронисты
вообще весьма часто не очень четко различают идолопоклонство и мно¬
гобожие. Пассажи, в которых мусульмане изображаются поклоняющи¬
мися многим богам, встречаются на страницах хроник Первого кресто¬
вого похода достаточно часто. Так, в хронике Анонима атабек Мосула
Кербога часто клянется именем «Мухаммада и других богов»39. Везир
аль-Афдаль после поражения восклицает: «О Мухаммад и боги наши!»
И этот мотив также созвучен героическим песням. В «Песни о Ролан¬
де» мусульмане призывают на помощь Магомета и прочих богов40. В
«Фьерабрасе» мусульмане клянутся Мухаммадом и Терваганом, Апол-
леном и Марго, которые рассматриваются как важнейшие боги мусуль¬
ман41. В песнях постоянно подчеркивается, что мусульмане предпочи¬
тают многобожие, причем имена мусульманских богов заимствуются из
самых разных источников — от классических богов вроде Юпитера и
Марса до знаменитых язычников типа Нерона. Часто упоминается бо¬
жество Терваган, (этимология этого имени не вполне ясна)42 — образ,
весьма понятный христианам. Подобные образы были необходимы
средневековым писателям для того, чтобы создать понятную христиа¬
нам травестию. Отсюда же стремление найти мусульманский эквивалент
римско-католической Троицы: Магомет, Терваган и Аполлен. Мы ви¬
дим, что как хронисты, так и авторы героических песен разделяют пред¬
ставление о многобожии мусульман.
Случайно ли столь разительное совпадение описаний идолов Мухам¬
мада в героических песнях с той картиной, которая отражена в наших
хрониках? Очевидное сходство между произведениями разных жанров
трудно отнести лишь на счет консерватизма средневековой культурной
традиции. Заметим, что песни и хроники близки по содержанию: как в
рыцарских песнях, так и в хрониках отражена борьба христиан и мусуль¬
ман. В исторических сочинениях речь идет о крестовых походах, а в ли¬
тературных — о событиях реконкисты или походах Карла Великого. Хо¬
рошо известно, что большинство старофранцузскмх героических песен
были составлены на исходе XI в., но записаны лишь в эпоху крестовых
походов, когда конфронтация Запада и Востока вызвала новую волну
интереса к борьбе с сарацинами. В частности, песни королевского цик¬
ла, в которых мы ищем параллели нашему сюжету, возникли и были за¬
писаны в период между 1050 и 1150 гг., и их влияние на хроники кресто¬
вых походов наиболее вероятно4'. Можно предположить, что некоторые
сюжеты и мотивы могли быть известны авторам исторических сочинении
изустной традиции. А Д. Михаилов, указывая на связь между историей
227
и литературой, отмечает, что оостановка крестовых походов наложила
сильнейший отпечаток на осмысление и героическом эпосе уже отошед¬
шей в прошлое эпохи Каролингов44. Однако следует думать, что влияние
было взаимным. Не только эпоха крестовых походов налагала отпечаток
на литературную традицию, но и сама традиция способствовала осмыс¬
лению исторических реалий того времени. В устной традиции песни су¬
ществовали намного раньше, чем были написаны хроники, и крестонос¬
цы могли их слышать. Р. Лежен пишет о характерном для XII в. интересе
к эпическим произведениям. Эпическая традиция, по-видимому, даже в
устной форме взаимодействовала с исторической45, и мы находим под¬
тверждения этого взаимодействия в хрониках. Принимая во внимание
фантастический характер сообщаемых хронистами сведений о мусульма¬
нах, мы вправе предположить влияние на хроники крестовых походов
литературной традиции, которая допускала вымысел и даже значитель¬
ное искажение реальности. Установленные параллели между песнями и
хрониками позволяют говорить о том, что во многих отношениях описа¬
ния мусульман в хрониках действительно несут на себе все тропы и кон¬
венции героических песен. Не случайно крупнейший французский ме¬
диевист П. Руссэ говорил о том, что без «Песни о Роланде» не было бы и
крестового похода46.
И все же мы бы не хотели воспринимать историческую традицию в ка¬
тегориях пассивных филиаций и влияний. Нас интересует в данном слу¬
чае не столько факт прямого влияния литературных моделей на более
позднюю историческую традицию, сколько тот культурный механизм,
который сделал возможным такое влияние. На наш взгляд, речь идет все
же не только о «влиянии» каких-то моделей и топосов, а об особом вос¬
приятии мира и истории хронистами, определившем характер этих заим¬
ствований и влияний. Не правомернее ли предположить, что речь идет о
неявном вымысле, присутствие которого в хрониках вряд ли отчетливо
осознавалось авторами хроник? Граница между вымыслом и действитель¬
ностью пролегала не там, где она пролегает теперь. В какой мере в исто¬
рических сочинениях допускался вымысел, где этому вымыслу был по¬
ложен предел? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Но так или
иначе, граница между исторической и литературной традицией в средние
века оставалась, видимо, достаточно зыбкой и неопределенной. И пото¬
му в хрониках, как и в рыцарских песнях, мы обнаруживаем большое
число странных эпизодов, являющихся плодом фантазии средневековых
авторов.
5. Ветхий Завет и христианские представления об исламе
Мы можем также вспомнить о более ранней культурной традиции — а
именно, ветхозаветной, прежде всего о существенном значении самого
текста Библии, отсылки к которому всегда были весьма значимы для сред¬
невековой культуры. В средневековом христианстве гема идолопоклон¬
ства имеет, таким образом, глубокие корпи
Исключительно важными для средневекового сознания являлись вет¬
хозаветные образы идолопоклонства, прежде всего — образ золотого тель¬
ца (Исх. XXXII. 8). В Ветхом Завете содержатся многочисленные призы¬
вы не сотворять кумиров и изображений и не поклоняться им (см.: Исх.
XX, 4—5; Исх. XXXII, 8; Втор. IV, 15 — 19). В нем рисуется образ погряз¬
ших в грехах язычников, создающих идолов и поклоняющихся им и при¬
носящих жертвы (Суд. VIII, 33—34; Лев. XIX, 4). Согласно Священному
Писанию, их капища и кумиров надлежало разрушать (Втор. VII. 5, 25).
а самих язычников — наказывать (Втор. XVII, 3). Еще более важно, что
библейские тексты (а затем и комментарии к ним) объясняют и проис¬
хождение «идолопоклонства»: оно (как и в случае с культом мусульман в
литературных и исторических сочинениях средневековья) чаще всего
предстает выражением политеизма, культа «ложных богов», что иллюст¬
рируют, главным образом, эпизоды с золотым тельцом, золотой стату¬
ей, — привидевшейся Навуходоносору во сне (Дан. Ill, 1). Эти библейс¬
кие модели, конечно, также были хорошо известны средневековым
хронистам и, возможно, описывая культ мусульман и изображая их языч¬
никами, идолопоклонниками, они ориентировались и на Ветхий Завет.
6. Christianitas - paganitas
Но на пути к постижению реальности мы сталкиваемся еще с одним
препятствием — это сам язык хроник. Описывая мусульманский мир,
хронисты пытаются найти опору в церковном дискурсе. Мусульмане в
хрониках чаще всего именуются gentiles, pagani (язычники), религиозные
обряды мусульман — gentUium ritus47, idolatries superstition. Поразительно,
что именно в таких терминах описывается в средневековой традиции и
культура крестьян, являвшаяся объектом церковной полемики еще в
первые столетия существования христианства49. Традиции условного ри¬
торического изображения врагов христианства могли быть почерпнуты
хронистами крестовых походов и из агиографических сочинений. В них
также часто говорится о классическом пантеоне языческих богов, вклю¬
чавшем Меркурия и Юпитера™. И в житийных описаниях святые разби¬
вают языческие идолы, ниспровергают статуи с пьедесталов. Так, в жи¬
тии св. Екатерины христианская мученица, вооруженная топором,
разбивает золотые и серебряные статуи языческих богов51. Св. Георгий
низвергает с пьедесталов античные статуи и обращает в прах языческие
идолы™. Агиографы также описывают события ретроспективно, пользу¬
ясь лишь воображением и прибегая к моделям античного язычества. По¬
добно тому, как раннесредневековые авторы при описании языческого
культа крестьян игнорируют саму по себе народную религиозность и
ориентируются на классический образ античного язычества, так и хро¬
нисты крестовых походов игнорируют культ мусульман, стилизуя свое
изображение в соответствии с принятыми в средневековой культурной
традиции принципами и изображая чужую культовую практику как раз¬
новидность язычества. Под плотным покровом стилистических и рито¬
229
рических условностей мы гшегно пытаемся обнаружить действитель¬
ность. Реальные факты превращаются под пером хронистов в далекие от
жизни словесные формулы. Присущая средневековому сознанию оппо¬
зиция «христианство — язычество» — Christianitas — paganitas — сохра¬
няет свое значение. Иконография, как представляется, подтверждает это
наблюдение. В иконографии этого времени мусульмане изображаются
язычниками и идолопоклонниками. Так, на миниатюре хранящейся в
Гейдельберге рукописи «Песни о Роланде», переведенной в XII в. на
немецкий язык, объект культа мусульман изображен в виде свиноподоб¬
ного животного, возлежащего на римской античной колонне с капите¬
лью. На этом идоле должен был поклясться Ганелон, перешедший на
сторону мусульманского правителя Марсилия55. Различные представле¬
ния отражены в этом изображении — литературная традиция, согласно
которой Мухаммад был сожран свиньями, церковная традиция, припи¬
сывающая мусульманам идолопоклонство. Осмысляя мир ислама в ка¬
тегориях Christianitas — paganitas, миниатюрист, подобно хронистам,
ориентируется на стереотип. Таковой остается общая перспектива —
связь идолопоклонства с античной paganitas.
7. Христианская концепция сакрального образа
и мусульманские идолы
Как бы то ни было, с нашей точки зрения наиболее правомерно предпо¬
ложить, что в таком восприятии ислама могли найти отражение и особен¬
ности самого христианского культа, а именно наличие в христианских
церквях сакральных изображений. В том, что обилие образов в христи¬
анских храмах граничило с идолопоклонством, отдавали себе отчет уже
отцы церкви, и их беспокойство по этому поводу нашло отражение в по¬
становлениях церковных соборов VIII—IX вв., а в X—XI вв., когда трех¬
мерные изображения, в том числе статуи, заполнили христианские хра¬
мы, церковные прелаты прямо указывали на разительное сходство этих
изображений с идолами54. Так, клирик Бернар Анжерский, автор «Кни¬
ги чудес Фиды Конкской», путешествуя в 1020 г. по Оверни, повсюду за¬
мечал украшенные драгоценностями золотые статуи и сравнивал их с
языческими идолами. С точки зрения образованного человека, это было
почти суеверием. В сочинении Бернара изложен весьма примечательный
диалог между автором и его другом Бернье. Созерцая в одной из овернс¬
ких церквей статую св. Герарда, Бернар улыбаясь спрашивает своего спут¬
ника: «Брат мой, что ты думаешь об этом идоле? Не сочли бы Марс и
Юпитер, что это достойное их изображение?»55. Поразительно, что свя¬
той отец произносит перед изображением примерно те же слова, что и
рассматривающий идол Мухаммада рыцарь Танкред. И в сцене из нашем
хроники, видимо, не в последнюю очередь сказались представления о
собственном культе. В этом смысле как раз христиане могли бы условно
рассматриваться кик идолопоклонники. Эти мысль была чрезвычайно
богато проаргументировнна в книге М. Камилла «Готический идол»'(. и
230
она подтверждается нашим материалом. В средневековой Западной Ев¬
ропе, хотя и не знавшей сложных перипетий иконоборчества, был чрез¬
вычайно популярен труд Алкуина Libri Carolini, в котором иконопочи-
тание осуждалось как пережиток язычества. Но уже около 1000 г.
почитание образов и изображений оживляется. А после принятия на
IV Латеранском соборе в 1215 г. догмата о реальном присутствии тела и
крови Христа в гостии и литургическом вине облик святых приобрел ма¬
териальный характер, и их изображения заполнили христианские церк¬
ви57. Этого не было в исламе. Мусульманские хроники свидетельствуют
о том, что скорее арабы поражались граничившему с идолопоклонством
культу христиан. Так, арабский хронист Ибн-аль-Асир с возмущением
пишет о том, что христиане украсили свои церкви живописными обра¬
зами и статуями, что на мраморных колоннах они вырезали изображения
животных (как, видимо, он воспринимал романский орнамент на капи¬
телях) и что в христианской церкви он видел даже изображение свиньи
(быть может, приняв за него скульптуру Агнца Божьего)58. О том, что сак¬
ральные образы не имели той же власти в исламском мире, какую они
имели в христианском, свидетельствуют и собранные О. Грабарем фак¬
ты. Он ссылается на полулегендарный арабский рассказ явно христиан¬
ского происхождения, в котором сообщается о том, как христиане и му¬
сульмане заключили перемирие, в знак которого на границе своих земель
установили статую императора Ираклия. Мусульманский воин случайно
повредил глаз статуе, и христиане тотчас же потребовали компенсации —
разрешить им расправиться со статуей халифа Омара. Мусульмане согла¬
сились на это, так как, заключает О. Грабарь, они «не столь глубоко, как
христиане, верили в значение образа»59. В отличие от ислама, для хрис¬
тианского культа Западной Европы были характерны скульптурные и дру¬
гие изображения Христа и святых, ветхозаветных и новозаветных персо¬
нажей. Огромных размеров, украшенные драгоценностями статуи Христа
и Девы Марии в Винчестере, например, произвели сильное впечатление
на тех же норманнских хронистов60. Эта особенность христианского куль¬
та не могла не повлиять на восприятие чужой религии. М. Камилл спра¬
ведливо говорит о том, что христиане по существу находились во власти
образов61. Не случайно и на культ мусульман они спроецировали пред¬
ставления о своей религии. Такое восприятие Другого характерно не
только для средневековой культуры, но также, например, и для антич¬
ной62. Монолог Танкреда перед идолом в высшей степени символичен.
Он произносится на важной в сакральном отношении храмовой терри¬
тории горы Мории. Рауль Каэнский помешает статую в храме Соломо¬
на. Там ли действительно находилась статуя, о которой он говорит?6'
Путаница в представлениях о храмовой территории, конечно, существо¬
вала. Например, хронист Фульхерий Шартрский локализует статую в
Templum Domini — более важном в системе христианского культа месте.
И это знаменательно. Танкред, размышляя о смысле образа, вначале выс¬
казывает предположение о том. что стоящая перед ним статуя — изобра¬
жение Христа. Мухаммад так пли иначе некий pendant Христу, и его идол
в хрониках, несомненно, соответствует изображению Хрисы в христиан¬
ском храме (как и христианской Троице соответствует злодейская трои¬
ца мусульман). Хотя христианская церковь, конечно, никогда не сомне¬
валась в том, что следует осуждать идолопоклонство, статус образа был в
высшей степени проблематичным. Контролировать визуальные образы
было не так легко, как авторитетные тексты. Теологическая и литурги¬
ческая литература, посвященная статусу изображения'’4, необозрима, и
особенно часто обсуждался вопрос в том, как отделить истинные образы
от фальшивых. Монолог Танкреда и посвящен целиком этому вопросу.
Рыцарь даже перечисляет признаки, по которым можно определить, от¬
носится ли данное изображение к христианскому культу или нет: он го¬
ворит о «знаках Христа», которые в этом изображении отсутствуют, о не
соответствующей христианскому культу пышности и пр. и приходит к
выводу о том, что стоящая перед ним статуя — всего лишь фальшивый
образ. Описывая идолопоклонство внутри чужой системы ценностей,
христианские хронисты могли полностью отрицать значение образов в
культе при помощи их искажения, инверсии их смысла. Это и делает
Танкред, произнося свой знаменательный монолог перед изображени¬
ем пророка, приписывая идолу эсхатологический смысл, называя его
Антихристом, наделяя его зловещей силой. Именно такая травестия
понятна христианскому сознанию. По существу хронист создает анти¬
образ, т.е. фальшивый образ, смысл которого должен был быть понятен
средневековым христианам. В то же время этот эпизод, как и взятая в
отдельности речь Танкреда, — попытка определить себя по отношению
к Другому. И как раз потому все в этой речи строится по принципу ин¬
версии — Христу противопоставляется Антихрист, пышному культу му¬
сульман — скромный культ христиан и т.д. Созданная хронистом кар¬
тина — зеркальное отражение христианского культа.
* * *
Итак, странный эпизод хроник Первого крестового похода может быть
объяснен лишь в том случае, если рассматривать их не как источник
объективных сведений, а сточки зрения истории представлений, интер¬
претируя сообщение хрониста не как реальное событие, а как характе¬
ристику его сознания. Рассказ хрониста следует рассматривать сквозь
призму представлений о чужой культуре, и наш сюжет весьма поучите¬
лен для изучения данной темы. На примере этого эпизода мы видели,
что образ Другого в средневековой христианской традиции имеет преж¬
де всего конфессиональную окраску. «Другой» рассматривается в эсха¬
тологической перспективе как воплощение демонического зла и под
знаком наступления царства Антихриста. Образ Другого интерпретиру¬
ется в контексте присущей средневековой культуре оппозиции «хрис¬
тианство — язычество», мусульманам приписываются идолопоклонство,
многобожие, демонолатрия. Наш эпизод из хроники Рауля Каэнского
позволяет выявить многие черты, присущие в целом средневековым
представлениям о Другом. Мы видели, что хронисты, описывая этот
эпизод, не столько передавали свои непосрелсзвенные впечатления
сколько воспроизводил и пдеодо! ичеекпе стереотипы и фатастпческпе
рассказы, харамерпые для предшествующей кхлыурмои |радицпп —
идеологической и литературной, воссоздания на страницах хроник либо
стереотипные характеристики ислама, заимствованные у церковных
писателей, либо ковенциональные сюжеты и мотивы старофранцузской
героической поэзии. Наш пассаж из хроники свидетельствует о том, что
зачастую эмпирический опыт — отнюдь не тот критерий, по которому
можно было бы судить об особенностях восприятия чужих в средние
века. Непосредственные контакты, очевидно, не повлияли на представ¬
ления христианских хронистов о мусульманском мире. Для средневеко¬
вого образа мышления, как мы имели возможность убедиться, характер¬
на постоянная ориентация на авторитет. Авторитет выше реальности —
такова, очевидно, одна из важнейших характеристик восприятия чужих
в средневековье, подтверждаемая и на другом материале6'. Средневеко¬
вый человек соотносит свой опыт с абсолютным идеалом, которым яв¬
ляется для него христианская религия. Его эмпирический опыт служит
лишь для того, чтобы проиллюстрировать уже известную истину, в на¬
шем случае — характерное для христианского средневековья представ¬
ление о том, что мусульмане — язычники-идолопоклонники. Вообще
интерпретация хронистами событий крестовых походов основана на
своеобразном предзнании, которое давала средневековая культурная тра¬
диция — и не только идеологическая, но и литературная. Нарисованный
хронистами образ органично вписывается в средневековую картину
мира, где все узнаваемо и упорядочено и имеет свое место в существу¬
ющей иерархии вещей. Ориентация хронистов на уже известные исти¬
ны и авторитеты проявляется и в том, что инаковость другой культуры
и религии не осознается и не принимается во внимание, но модели сво¬
ей культуры (в частности, особенности христианского культа) проеци¬
руются на Другого. Совмещение в сознании средневекового человека
различных культурных стереотипов обусловливает присутствие в хрони¬
ках баснословного фантастического элемента. Как ни парадоксально, но
для создания своеобразного «эффекта реальности» хронисты, нередко
подчиняя свое повествование существующим в литературе принципам
изображения мусульманского мира и заимствуя их из традиции, при¬
вносят в свои сочинения неявный вымысел. Таким образом, историчес¬
кие факты подвергаются переосмыслению и трансформации в прису¬
щем средневековым представлениям духе уже на стадии сочинения
исторического произведения, призванного будто бы фиксировать фак¬
ты и отражать непосредственную реальность.
* * *
Итак, когда крестоносцы пришли в Святую Землю, они уже были «под¬
готовлены» к определенному восприятию мусульманского культа. Гос¬
подствовавшие в их сознании культурные идеологические стереотипы
предопределили именно такое восприятие исламского мира и вдохно¬
вили их па создание образа чу суд ьман-идолопоклонников. А находи¬
лась ли в самом деле статуя Мухаммада на г. Мориа? На згог вопрос
скорее всею ответа иск Ясно одно -- идол пророка прочно существо¬
вал в воображении христиан благо шря чрешычаппо усюпчпвым куль¬
турным традициям средневековья и особенностям самого христианс¬
кого культа.
Примечания
1 Radulfi Cadomensis Gesta Tancredi. cap. CXXIX // RHC: Hist Occ. P.. 1866. T. III.
P. 695.
2 Tudebodus imitatus et continuitatus Histona Peregrinorum. // Ibidem. Cap. CXXIV.
P. 222-223: «...videt simulacrum argenteum Machumeth... stans in excelso throno, quod
videlicet tanti erat, ponderus erat ut vix sex viri fortissimi ad portandum, vix etiam
decern ad levandum sufficerent...»
I Daniel N. Heroes and Saracens. An Interpretation of the chansons dc geste. Edinburgh,
1984.
4 Cm.: Boehm L. «Die Gesta Tancredi» des Radulf von Caen. Ein Beitrag zur
Geschichtsschreibung der Normannen urn 1100//Historisches Jahrbuch. 1956, LXXV.
S. 47-72.
5 Fulcherii Carnotensis Historia Hierosolymitana, Lib. I, С. XXVI, 5 / Ed.
H. Hagenmeyer. Heidelberg, 1913.
6 Hill R. The Christian Views of the Muslims at the time of the First crusade // The
Eastern Mediterranean Lands in the Time of the Crusades. Warminster, 1977.
7 Munro D.C. Western Attitudes Toward Islam during the Crusades // Speculum, 1931
Vol. 6, N 3. P. 329-345. Прибавим также, что, согласно Д. Манро, существовав¬
ший у племен бедуинов обычай почитания некоторых животных мог быть экст¬
раполирован хронистами на весь мусульманский мир.
8 Monneret de Villard U. Lo studio dell’islam. Citta di Vaticano, 1944.
9 Muratova X. Western Chronicles of the First Crusade as sources for the history of
art in the Holy Land//Crusader art in the 12-th c. / Ed. J. Folda // International Studies.
152. Oxford, 1982. P. 47-69.
10 Заборов M.A. Введение в историографию крестовых походов (латинская хроног¬
рафия XI-XII вв.). М., 1966. С. 219-220.
II Maalouf A Les croisades vues par les Arabes. P., 1983. P. 67 .
12 «Quae scilicet clavis... a manu eius cadet anno quo rex futurus in Gallia natus
fuerit...» // Historia Caroli Magni et Rotholandi, ou la chroniquc du Pseudo-Turpin
P„ 1936. P. 103.
13 McGrane B. Beyond Anthropology. Society and the Other. N.Y., 1989. P. IX.
14 loanni Damasceni. De Haeresibus Liber // PG, 94. Col . 766.
|S Nicetas Confutatio libri Mohamedis // PG, 105. Col. 720.
16 d'Alverny M.-T. La connaissance de l’islam en Occident du XI au milieu du Xll s. /
/L’Occidente e l’islam nell’alto Medioevo. Spoleto, 1965. T. XII. Vol. 1. P. 593. «Лю¬
бовь» — по-арабски «хуббун».
17 Petri Alphonsi ex Judeo Chnstiani // PL, 157. Col. 597.
18 Coope J Martyrs of Cordoba: Community and Family Conflicts in an Age of Mass
Conversion. L., 1995.
19 Alvari Cordubensis Indiculus Luminosus // PL. 121. Col. 535.
20 Petrus Venerabilis Libri duo contra sectam Sarracenorum // PL. CLXXX1X. Col
649; Torrell J., Bouthillier D. Une spirtualite de combat. Pierre le Venerable et sa
lutte contre l’islam // Revue thonnste. 1977. T. LXXV11, 1980. T. LXXX; KntzeckJ
Peter the Venerable and Islam. Princeton. 1964.
21 Alphandery P, Duproni A. La Chretiente et 1'idee dc Croisade P., 1995. P. 51-52
Cvi.: Adso Dervien.sis De ortu et tcmpon Antichrist! ' Ed D Vcrhelst Cap. XLV
/ Corpus Christianorum. Continuatio Mcdicvalis. Brcpols. 1976.
” Dupmnt A Op.cit. P 40.
234
24 См., в частности: Guiberti Novigentis ...Gesta Dei per... Francos // RHC: Hist. Occ.
P. 137-140.
23 См. письмо Иннокентия 111 11 PL, CCXV1. Col. 828-830.
2(1 Именно такого мнения придерживался немецкий историк Р. Швингес:
Scbwinges R.C. Kreuzzugsideologie und Toleranz: Studien zu Wilhelm von Tyrus
Stuttgart, 1977. S. 120-121.
27 Bancourt P Les musulmans dans les chansons dc geste du cycle du Roi. Aix-en-
Provence, 1985. T. 1-2.
2Я См., например: Aliscans / Ed. F.Guessard et A. de Montaiglon. P.. 1870. Col. 9630:
«En la mahomcnc, la ou Mahomes fu».
24 Siege de Barbastre / Ed. J.-L. Perrier. P., 1926 . Col. 991.
10 Maugis cl’Aigremont / Ed. P. Vernay. Berne, 1980. Col. 1641 «...sur V Colonbes
tailliees par mestne. — Blois et jauncs et vermeilles et indes»; Enfances Guillaume, P.
Henry. P., 1880. Col.227: «А set Colonbres an taillicies de maibre. — Cincante oics
chescune an son estaige. — Les trois sont verde et le quatre sont jaune».
31 Siege de Barbastre...Col.1012.
32 Fierabras, p.p. A. Kroeber et G. Servois. P., I860, 5286-5296.
33 Chanson de Roland, p.p. A. Delaborde. P., 1932, v. 3663-4
M Chanson de Roland, v. 3492-3: «mi darnne deu, jo vos ai mult sevit; Tutes tes
ymagines ferai d’or fin».
33 Chanson de Roland, LXV111, v. 853-5: «Mahumet levent en la plus halte tur; /Ni ad
paien nel pnt e ne I’aort».
36 Petri Tudebodi Historia de Hierosolymitano itinere, с. IV: «Saraceni hoc videntes
similiter pcrgebant per muros civitatis Machomet in quadam hasta deferentes uno panno
coopertum»; cf. Chanson de Roland CCXXXV, v. 3267-9: «Е I’estandart Tervagan e
Mahum E un’ymagene Apolin le Felun»; Alisacns, v. 9995: «En la targe le roi est eseris
Apolins, -Tervagans et Mahons en son gonfanon mis».
37 Roberti Monachi Historia Hierosoltymitana, Lib. IV. Cap. XXII «Subterraverant
quippe ilia ultra pontem ad Machumariam», Lib. VII. Cap. VII; Gesta Tancredi. Cap.
XLIX: «fanum, quod vulgo Machummariam vocant...».
38 Cm: Meredith-Jones C. Conventional Saracen of the Songs of Geste // Speculum,
1942. Vol. 17; Chanson de Roland, CCLXV1, 3663.
39 Gesta Francorum / Ed. R. Hill. P. 52: «juro vobis per Machimet et per omnia deorum
nomina».
40 Chanson de Roland, v. 2696.
41 Fierabras, v. 476, 551: «Par la foi que je doi Mahom et Tervagant»; v. 5288-90:
«En une cambre vint ou Mahomet esta. Apolins et Margos, u Tors reflambas».
42 Siege de Barbastre, v. 5471: «Mahon et Tervaant...»; Enfances Guillaume, p.p.
P. Henry. P, 1880. Col. 1840: «par Tervagan le saige»; Chanson de Roland, v. 2469.
Об этимологии имен мусульманских богов см.: Pellat Ch. L’idee de Dieu chez les
«Sarrasins» des chansons de geste//Studia islamica. Vol. XXIII, 1965.P. 5-42. П. Ка¬
занова выдвинул гипотезу об арабском происхождении имен мусульманских бо¬
гов. См.: Casanova Р. Mahom, Jupn, Apollon, Tervagant, dieux des Saracenes //
Melanges H. Derenbourg. P., 101. P. 391-395.
43 В конце XI в. была, по-видимому, записана «Песнь о Роланде». Другие рыцар¬
ские песни также возникли на рубеже XI в. и были записаны в XII в. См.: Gautier
/.. Les epopees frangaises P.. 1878-1894. 4 vols.
44 Михайлов А. Д. Французский героический эпос. M., 1996. С. 217.
43 Примеры такого рода касаются не только хроник крестовых походов. Р. Лежен
выявила литературные — эпические и агиографические — мотивы в средневеко¬
вых хрониках XII в. См.. Le/eune R Rechcrches sur lc theme: les chansons de geste
et l’histoirc. Liege. 1948.
Roussel P Histoirc d'une ideologie. La croisadc P., 1983. P. 51
1 Album Aquensis Histona Hicrosolymitana, Lib. VI. Cap. XXII // RHC' Occ., t. IV.
P. 1879
44 Fulchem Carnotensis Histona Hicrosolymitana (cd. H. Hagenmcyer). Heidelberg.
1913. Lib. l. Cap. 2; Lib. I. Cap. 26.
A" Schmitt J-C Les idoles chrelicnncs // L’idolatnc. Rencontres dc I’Ecole du Louvre.
P. 1990 P. 107-119.
Ml La christianisation des pays entre Loire et Rhin (IV—Vllss.) / Ed. P. Riche. Actcs
du Colloque de Nanterre (3-4.05.1974). P, 1993. P 75-80.
Delehave II. Les passions des martyrs et les genres littcraires. Bruxelles, 1921. P.
299.
'2 Delehaye H. Op.cit. P. 300.
Biblioteca Palatina, cod. germ. 112.
54 Schmitt J.-C. Les idoles chretiennes... P 111-112
55 Liber miraculorum Sanctac Fidis / Ed. A.Bouillet. P, 1897. P. 46-49.
'(> Camille M. The Gotic Idol (Ideology and Image-Making in Medieval Art).
Cambridge, 1989.
57 Wirth J. L’image medievale. Naissance et developpements (VI—XV ss.) P, 1989.
Михаилов А.Д. Ук. соч. С. 219.
5" Ibn al-Ath!r. Kamil at-Tawarikh // Chroniques arabes des Croisadcs / Ed. F. Gabrieli.
P„ 1977. P. 195.
54 Grabar O. The Formation of Islamic Art. New Haven, 1973. P. 89.
w’ Dodwell C.R. Ango-Saxon Art: A New Perspective. L., 1985.
“ Camille M. Op. cit. P. XXVI.
62 Hartog F. Le miroir d’Herodote: Essais sur les representations de l’autre. P., 1991.
P. 189.
63 См. о храмовой территории: Schein S Between Mount Moriah and the Holy
Sepulcte: The Changing Traditions of the Temple in the Central Middle Ages //Traditio.
N.Y., 1984. Vol. XL. P. 175-185.
64 Schmitt J.-C. Op. cit. passim.
65Cm.: Larochelle G. Image et representation de I’Autre: l’Amerique du Nord imagine
l’Amerique du Sud. // Diogene, P, 1992. T. 157. P. 33; Toclorov T. The Conquest of
America. The Question of the Other. N.Y., 1984. P. 21. Ц. Тодоров в своей широко
известной книге показывает, что. в частности, открытие Америки Колумбом со¬
стоялось именно благодаря его ориентации на авторитет.
Гисли Палссон (Рейкьявик)
Историческая антропология взаимоотношений
человека и окружающей среды
Несколько лет назад в работе по истории Скандинавии1
Арон Гуревич отмечал, что в эпоху средневековья «человек
ощущал себя частью целостного мира... Его взаимодействие
с природой было настолько интенсивно, что в силу этого че¬
ловек не мог смотреть на природу как бы со стороны, он был
внутри этого природного мира». Такое и многие подобные ему замеча¬
ния свидетельствуют о том, что Гуревич обладает глубокой антропологи¬
ческой интуицией. Показательно, что одна из его последних работ
(1992 г.) озаглавлена «Историческая антропология средних веков». Ком¬
ментариям Гуревича по поводу отдаленного прошлого свойственны не
просто черты тонкого этнографического описания «иных» культур; мно¬
гое из того, что им говорилось о проблемах историка, пытающегося осоз¬
нать реалии прошлого в терминах и понятиях современного общества, на¬
ходит параллели в размышлениях антропологов по поводу этнографии
«инаковых», экзотических культур. Позиция Гуревича весьма осторожна.
С одной стороны, он подчеркивает, что мы должны отказаться от попы¬
ток трактовать средневековую культуру как нашу собственную2, протестуя
против применения современных критериев в отношении ментальности
людей более ранних эпох. С другой стороны, Гуревич указывает и на ис¬
торическую преемственность, предполагая, что мы имеем дело не с эт¬
нографией экзотически примитивной культуры, что средневековая куль¬
тура не абсолютно чужда нам, и мы связаны с ней многими нитями'.
Настоящая статья — краткий экскурс в этнографическую историю взаи¬
моотношений человека и окружающей среды. Я отстаиваю положение о
том, что современная дихотомия «природа — общество» слишком легко
принимается на веру и что необходимо рассмотреть ее в более широкой
исторической и этнографической перспективе в духе исторической ант¬
ропологии Гуревича. Я полагаю, что необходимо заново продумать дихо¬
томию природы и общества, чтобы быть в состоянии эффективно решать
современные проблемы окружающей среды.
Многие антропологические теории, представляющие самый широ¬
кий спектр различных академических школ и научных парадигм, ис¬
ходят из представления о фундаментальном различии между природой
237
и обществом. А. Холлингшед сформулировал это дуалистическое пред¬
ставление наиболее ясно и просто, говоря об «экологическом и соци¬
альном миропорядках»: «первый — это прямое продолжение природ¬
ного устройства, тогда как второй исключительно или по большей
части является феноменом человеческой деятельности... Экологичес¬
кий порядок имеет свои корни в соперничестве, борьбе, в то время как
социальный порядок основан на взаимодействии, коммуникации». По
общему мнению, дуалистическая теория была па правильном пути.
«Сейчас, когда проблема распознана и начало положено, — говорил
Холлингшед, — мы можем ожидать разрешения вопроса...»4. Таким те¬
оретическим посылкам способствовало и жесткое разделение труда в
науке, в том числе между крупными институциональными академичес¬
кими структурами. Общественное устройство оставалось предметом
изучения антропологов и социологов, в то время как экологические
проблемы принадлежали к сфере деятельности профессиональных
экологов.
Установив это фундаментальное разделение, Холлингшед и многие
его последователи обычно смягчают такой дуалистический подход, под¬
черкивая, что природа и общество не должны рассматриваться как совер¬
шенно обособленные сферы, что они находятся в диалектической взаи¬
мосвязи. Каждая из сфер «продолжает и дополняет другую во многих
отношениях»5. Современные экологи продолжают «сопоставлять» устрой¬
ство природы и общества так, как будто это сепаратные и автономные
системы, исследуя лишь связи между ними. Таким образом, несмотря на
то, что язык, которым они пользуются, основан на понятиях диалектики
и взаимодействия, границы между природой и обществом вес же продол¬
жают существовать. На протяжении почти всего XX в. социальные тео¬
ретики оживленно дискутировали относительно двух видов детерминиз¬
ма, двух «темниц» человечества — языковой и природной. В 1970-е гг.
Салинс удачно охарактеризовал антропологию как дисциплину, постоян¬
но мечущуюся между идеализмом и материализмом, подобно «узнику
между стенами своей тюремной камеры», возрождая аллегорию «пеще¬
ры» из платоновского «Государства»/. Тем не менее, в последние годы
утомительные дебаты между сторонниками материалистической или
культурной обусловленности были хотя и не закончены, но заменены
более общей фундаментальной дискуссией: само различие между приро¬
дой и обществом, т. е. один из краеугольных камней модернистского дис¬
курса, все больше и больше подвергается критическому обсуждению в
разных областях знания, включая антропологию и историю окружающей
среды7. Это изменение, частично являющееся откликом на постмодерни¬
стский лингвистический поворот, а также на глобальные проблемы ок¬
ружающей среды, современные технологии информатики и изменение
границ между дисциплинами, ставят новые проблемы перед социальны¬
ми теориями и этнографической практикой, открывая возможность со¬
здания нового вида экологической антропологии.
Одна из таких возможностей — продолжение и развитие марксистс¬
кого подхода, обычно ограничиваемого анализом человеческих отноше¬
ний. распространение его на анализ отношений между человеком п ок-
23Х
ружаюшей средой. Таппер считает, что в сообществах охотников и соби¬
рателей люди и животные «являются результатом существования друг
друга»8. Брайтмен подобным образом приводит в качестве примера алгон-
кинов в Канаде, где люди и животные служат друг друга»4. Моя цель час¬
тично состоит в том, чтобы показать, что подобный дискурс применим к
разным теоретическим контекстам. Исходя из аргументации, разработан¬
ной Донхемом, Бёрд-Дэвидом10 и некоторыми другими, я предполагаю,
что дискурсы, касающиеся природы, этнографии и перевода текстов с
одного языка на другой, нередко имеют много общего, в частности, ме¬
тафоры, связанные с личными взаимоотношениями, а также заимство¬
ванные из классической риторики. В более общем виде можно сказать,
что эта статья выступает за интеграцию экологии человека и социальной
теории, отталкиваясь от тех разработок, которые обычно ассоциируются
с именами К. Маркса и Дж. Дьюи, рассматривающих человека действу¬
ющим в природе. По моему мнению, в этой сфере существуют три основ¬
ные парадигмы: ориентализм, патернализм и коммунализм, каждая из
которых представляет особую позицию по отношению к проблеме взаи¬
модействия человека и окружающей среды. Парадигма коммунализма от¬
личается как от ориентализма, так и от патернализма тем, что отказыва¬
ется от радикального разделения природы и общества, субъекта и объекта,
делая упор на понятие диалога.
Политическая экономия окружающей среды
В средневековой Европе, как полагает А. Гуревич, не было радикального
разделения между природой и обществом; если такая дихотомия и при¬
сутствовала, то она существенно отличалась от современных представ¬
лений об этом разделении. Интересно, что средневековый термин «ин¬
дивидуальное» первоначально означал «неделимое», нераздельное, как
единство Св. Троицы. Изменения в смысле понятия и приобретение им
современных значений, подчеркивающих нечто дискретное и сепарат¬
ное, «проявилось прежде всего в языке социальной и политической ис¬
тории»11. Постоянная фрагментация средневекового мира и «отчужде¬
ние» от природы как неизбежное следствие этого приобрели свое первое
выражение в эпоху Возрождения, когда на Западе полностью измени¬
лось восприятие и отношение к окружающей среде, знанию и самому
процессу познания.
Трехмерность пространственного изображения, открытая итальян¬
скими художниками XIV—XV вв. — один из ключевых моментов эпис¬
темологической революции эпохи Возрождения12. Для художников ран¬
него Ренессанса, воспитанных на статичном мире аристотелиевой
философии и средневековой церковной схоластики, живопись была
декоративной частью общего плана прославления Божественных замыс¬
лов. На исходе Возрождения, напротив, искусство живописи сфокуси¬
ровалось на познании мира и его пространственных структур, изобра¬
жении человеческой деятельности и ее места в природе и истории.
239
Ренессансные живописцы были иознагражлены за спои усилия несом¬
ненным художественным успехом, связанным с открытием законов пер¬
спективы (perspective! или «видение сквозь»). За короткое время приро¬
да стала измеряемой, сделалась трехмерным пространством, обжитым
человеком. Эта «антропократия», если воспользоваться термином Па-
нофски11, представляла собой радикальный разрыв с созданной после¬
дователями Аристотеля замкнутой Вселенной, которую образовывали
Земля и семь окружающих ее небесных сфер. Однако картезианская тре¬
вога, связанная с чувством отчуждения и неуверенности, вызванным от¬
делением от привычного и родного мира средневековья и от Матери-зем¬
ли, компенсировалась появлением рационального «я», упорным
стремлением к объективности и «мужской» теорией познания природы.
«Она (природа) становится безличным и неодушевленным «оно», «не¬
что» — и это «нечто» доступно пониманию и управлению; доступно не
в силу глубокой внутренней созвучности ей... но в силу самой объектив¬
ности этого «нечто». «Инаковость», «отчужденность» природы стала тем,
что позволяет ей быть познанной»14.
Если природа есть нечто «отчужденное», чужое, она нуждается в «пе¬
реводе»; чтобы ее понять, требуются такие же усилия и внимание, как
и для понимания того невнятного шума, каким являются для нас чужие
языки со времен их «вавилонского смешения». Однако такие усилия
могут принимать разные формы. Те, кто исследует проблемы литератур¬
ного перевода, подчеркивают, что хотя его можно рассматривать как
своего рода «идеальный брак» между двумя разными контекстами, важ¬
ным элементом в переводе являются, собственно говоря, соотношения
«власти», связывающие источник и воспринимающую сторону15. Перевод
означает относительную подчиненность, иначе говоря, превосходство
переводчика и авторитарность воспринимающей стороны по отношению
к источнику. Такая же перспектива применима к этнографическому ис¬
следованию. То, как этнографы в качестве гостей или посетителей
встречаются со своими хозяевами (и то, как встречают их), как они ус¬
траивают свою жизнь среди них и как они потом сообщают о пережи¬
том опыте, варьируется от случая к случаю1''. Таким образом, можно
говорить о разных связях и взаимоотношениях в рамках этнографичес¬
кой практики и этнографических текстов.
Подобным же образом указывая на контраст между господством над
окружающей средой и уважительным отношением к ней, мы можем
провести грань между двумя радикально разнящимися видами отноше¬
ний между человеком и окружающей его средой — ориентализмом и
патернализмом. Ключевое различие между ними выражается в том, что
первый «использует», в то время как второй «покровительствует». Ори¬
ентализм в отношении окружающей среды подразумевает негативное
взаимоотношение между средой и человеком, в то время как в случае
патернализма речь идет о сбалансированном взаимоотношении между
ними, подразумевающем ответственность человека. Но в обоих случа¬
ях люди — хозяева природы. Если же мы откажемся от радикального
разделения природы п общества, обьекта и субъекта, от модернисгско-
ю представления об отчужденности, безапелляционной уверенности и
240
монологичности, если добавим представление о преемственноеги п пре¬
рывности, мы получим третью парадигму, которую можно назвать ком-
мунализмом. Эта парадигма подразумевает всеохватывающую взаим¬
ность во взаимоотношениях человека и окружающей среды, вводя
понятия стихийности, участия и диалога.
Аналогии между миром людей и природой не должны удивлять.
Люди часто относились к другим человеческим существам и к объектам
окружающей среды совершенно одинаково. Вообще говоря, дискурсы,
касающиеся проблем природы, этнографии и перевода текстов с одно¬
го языка на другой имеют много общего. Так, метафорический язык
классической риторики — иронии, трагедии, комедии и романа — по¬
является в различных областях и контекстах в разные времена. Д. До-
нем утверждает, что хотя попытки построения типологии при помощи
таких метафор риторики, которые связаны с понятием «драматическое»,
ведут к определенной «жесткости» построений, само обращение к про¬
блемам риторики способно, тем не менее, до некоторой степени пока¬
зать, «каким именно образом все социальные теории исходят, по суще¬
ству, из тех или иных моральных допущений»17. Другие метафорические
ассоциации почерпнуты из языка личных связей, родства и сексуальных
отношений. Такие метафоры, как мы увидим, всегда использовались для
описания как способов перевода иностранных текстов, так и взаимодей¬
ствия природы и общества.
Потребительский ориентализм
Парадигма экологического ориентализма не только устанавливает
фундаментальный разрыв между людьми и природой, но исходит из
предпосылки, что люди — хозяева природы. Если человеческие суще¬
ства и не богоподобны, по крайней мере они начинают состязаться с
Богом. Карл Линней, наиболее известный классификатор естествен¬
ного мира, как говорят, дерзко заявлял, что если Бог создал природу,
то он, Линней, определил для нее должный порядок. Лексика ориен¬
тализма включает, в качестве типичных, выражения подчинения и одо¬
машнивания, границ и экспансии; этот язык передает процесс разве¬
дывания, завоевания и использования природы для различных целей
производства, потребления, спорта или любования. Управление, на¬
сколько о нем можно говорить в таком контексте, сводится здесь к
чисто техническому аспекту, к рациональному применению бэконов-
ской науки и математических уравнений к миру природы. Это обыч¬
но предполагает высокомерную позицию по отношению к объекту, о
котором идет речь. В контексте ориентализма ученые представляют
своей миссией анализ материального мира, не связанный ни с каки¬
ми этическими представлениями и ограничениями. Это предполагает
существование резкого разделения на «экспертов» и «остальных» (еще
одно теоретическое посгроение. порожденное нововведениями эпохи
Возрожден им).
241
Для модернистской науки, с присущим ей постоянным процессом
отчуждения объекта, бэконовский язык, отличающийся агрессивной сек¬
суальностью, образ «вторжения и проникновения... в отверстия и умы»
— один из самых часто встречающихся,8. Как показывают, среди прочих,
сочинения С. Бордо19 и Дж. Нельсона20, язык современной науки, опи¬
сывающий отношения человека и окружающей среды, полон агрессив¬
ных сексуальных идиом; природа представляется в обличим соблазни¬
тельной и опасной женщины. Язык антропологии также не свободен от
подобного сексуального жаргона и сопоставлений типа «хищник — до¬
быча». Б. Малиновский пишет, например: «Этнограф должен не только
расставить свои силки в нужном месте и ждать, когда дичь попадется. Он
должен быть деятельным охотником, сам гнать добычу в силки и пресле¬
довать ее вплоть до самого труднодоступного логова»21. Такая риторика
классической этнографии была выработана в период расцвета западного
колониализма. Этнографы ориенталистского типа «колонизировали» изу¬
чаемую ими реальность, употребляя термины универсалистского дискур¬
са, утверждая тем самым превосходство общества, к которому они сами
принадлежали. Поскольку антропология оказалась своего рода порожде¬
нием колониализма, долгое время в ней превалировали «объективистс¬
кий» и ориенталисте кий подходы. Перевод с иностранных языков также
отдал дань подобным терминам и подходам. Некоторые ведущие иссле¬
дователи в области перевода, говоря об отношениях между переводчи¬
ком и автором, не только употребляют метафору «хищник — добыча»,
но и склонны прибегать к образам агрессивной сексуальности. Ориги¬
нал предстает как пассивное женственное начало, как добыча, использу¬
емая переводчиком — представителем мужского начала.
Многие примеры промышленной эксплуатации «дикого», не приру¬
ченного мира иллюстрируют характерные черты ориентализма в отноше¬
нии к окружающей среде. Так, например, в процессе промысловой до¬
бычи рыбы океан предстает огромным скоплением энергии, которая
должна активно и беззастенчиво использоваться людьми, что почти
превращается в войну дерзновенного мужского начала с экосистемой22.
Для характеристики нравственного смысла ориенталистского подхода
к окружающей среде, а также его последствий лучше всего может по¬
служить метафора ироничного; человек-производитель наивно пред¬
ставляет, что полностью сохраняет контроль над природой, в то время
как своей практической деятельностью часто подрывает основы соб¬
ственного могущества, приводя на грань исчезновения виды живых
существ, которые он использует. Действовать исходя из концепций,
которые приводят к таким неожиданным и нежеланным последстви¬
ям, — в этом, действительно, есть нечто ироничное. Еще более иро¬
нично то, что, столкнувшись лицом к лицу с истощением природных
ресурсов, люди порой усваивают фаталистский взгляд, согласно кото¬
рому подобное истощение — попросту неизбежный фактор экономи¬
ческого прогресса. Тем не менее, метафора ироничного не так попу¬
лярна. как метафора трагедии, во всяком случае, в академических
кругах. Свидетельство тому — постоянный рост в литературе приме¬
нения понятий из сферы «трагического» к проблемам, связанным с
242
областью всеобщих интересов. Государственные полномочия или при¬
ватизация, как часто утверждают, только и являются альтернативами
индивидуальной алчности и злоупотреблениям окружающей средой.
Только в одном смысле ориенталистский подход исключает драму: для
него вообще не существует как таковой проблемы окружающей среды,
не стоит вопрос о мерах по исправлению положения — научной, эко¬
логической или социальной экспертизе ситуации.
Патерналистский протекционизм
Хотя патерналистская парадигма и разделяет некоторые особенности
ориенталистского подхода (в частности, господства человека над приро¬
дой и всеобщего разделения на экспертов и непосвященных), этот под¬
ход характеризуется не отношением эксплуатации, а отношением покро¬
вительства. При подчеркивании значения глубокой научной экспертизы
происходит своеобразная инверсия того, что касается влияния, которым
располагают, с одной стороны, эксперты, с другой — широкая публика.
С точки зрения современных защитников окружающей среды, человек
несет особую ответственность не только по отношению к себе подобным,
но также по отношению к животному миру и экосистеме в целом. Но
именно в силу своей радикальной позиции по отношению к взаимосвя¬
зи между человеком и окружающей средой, экологическое движение фе¬
тишизирует природу, тем самым отделяя ее от мира людей. Подразуме¬
вается, что люди действуют как бы в интересах природы. Вопрос о защите
животных среди экологов-радикалов «становится чем-то сродни актив¬
ности революционеров XIX в., только теперь природа, а не эксплуатиру¬
емый пролетариат является тем, в чьих интересах действуют»23. Более
того, оказавшись в ловушке объективного, западного дискурса относи¬
тельно науки и Другого, активисты движения за права животных (или,
если хотите, ориенталистски ориентированные защитники окружающей
среды) зачастую проводят резкую грань между «ними» (туземными про¬
изводителями) и «нами» (представителями европейского и американско¬
го общества). Иными словами, только некоторая часть человечества по-
настоящему принадлежит природному миру — те, кого описывают как
людей, любящих животных и заботящихся о своем природном окруже¬
нии и кого называют «жители примитивных сообществ», «дети природы»,
«Naturvolker». «Мы» в данном контексте — значит те, кто покинули при¬
родное состояние давным-давно. Подобные представления, между про¬
чим, проглядывают и в антропологии, где нередко предполагается, что
детерминистские экологические модели применимы лишь к некоторым
человеческим сообществам, а именно к племенам охотников и собира¬
телей.
И опять-таки подобную мораль можно обнаружить в этнографичес¬
кой практике. В некоторых случаях этнографы идеализируют и реляти-
иизируют мир, который они посещают, представляя связь между собой
и принимающей стороной в терминах протекционизма. Несмотря на
243
идею покровительства, эта позиция лишь поддерживает ориенталисгское
разграничение между наблюдателем и аборигеном. Р. Розалдо предпола¬
гает, что протекционистские упоминания о «моем народе», встречающи¬
еся во многих этнографических исследованиях, представляют собой лишь
идейное отрицание существующих в реальности отношений иерархии.
Он считает весьма характерным (ссылаясь при этом на Э. Эванс-Причар¬
да), что в дискурсе, который отрицает существование отношений доми¬
нирования, в качестве своего рода идеализированного alter ego выступа¬
ют скорее пастухи, чем крестьяне-земледельцы. Скотоводы-кочевники
менее склонны осуществлять систему доминирования, чем это делают
крестьяне, миссионеры или колониальные власти24.
Сходные темы возникают в научных рассуждениях, посвященных
проблемам перевода. Как уже упоминалось, литературоведами постоян¬
но употребляется образ брачного союза. Отсюда частое употребление та¬
ких эпитетов, как «верность» и «преданность» переводчика оригиналу.
Такого рода концепты смогли выстоять и сохраниться даже перед лицом
наиболее сокрушительного интеллектуального штурма. Так, Ж. Дерида
определяет смысл перевода как «брачный союз или контракт, как залог
появления на свет новорожденного, чье семя дает всходы, которые будут
расти и длиться в истории»25. Б. Джонсон также проводит аналогию между
осуществлением перевода и заключением брака, утверждая, что перевод¬
чика надо скорее назвать «не законным мужем, а удачливым двоеженцем,
который добросовестно делит свое пристрастие между родным языком и
чужеродным наречием», при этом добавляя, что, возможно, процесс пе¬
ревода точнее будет охарактеризовать как осуществление инцеста26.
Крестьяне часто представляют свои отношения с окружающей при¬
родой как процесс взаимности и покровительства. П. Бурдье приводит
пример метафорического расширения сферы родственных отношений
на сферу взаимосвязей «человек-окружающая среда» у алжирских ка¬
билов. Кабилы говорят, что земля ведет свой счет и мстит за плохое об¬
ращение с собой; в силу расширения этого образа, «настоящий крес¬
тьянин» «встречается с землей и «представляется» ей так, как если бы
он встретил другого человека — лицом к лицу, с доверительной про¬
стотой в обращении, которую он проявил бы к уважаемому родствен¬
нику»27. Примечательно, что отношения между людьми и землей ко¬
пируют модель социальных связей между дальними родственниками,
которые отличает уважение и формальный этикет, взвешенная и стро¬
го сбалансированная взаимность. Принимая во внимание, что в рамках
патернализма люди заботятся об экологических последствиях своих дей¬
ствий и стремятся к восстановлению определенного баланса, здесь ока¬
зывается уместной метафора комедии. Она и в самом деле употребля¬
лась различными исследователями, чтобы привлечь внимание к
возможностям, связанным с коллективными действиями по улучшению
окружающей среды. Б. Маккей указывает, что именно такая метафора
точнее всего описывает нарративный стиль экономических подходов к
проблеме общественного и общей собственности. Но тем не менее она
подчеркивает, что, хотя такие подходы и играют важную роль в рассуж¬
дениях о человеческой природе, все же метафора «комедии», «весело¬
244
го, жизнерадостного спектакля» связана сугубо с Новым временем-’* в
том смысле, что ей не удается всерьез обратиться к более широкому
контексту истории, власти и культуры. Многие антропологи и эконо¬
мисты высказали серьезное сомнение по поводу неоклассических и
«андроцентристских» положений экономической теории и вообще
попыток отделить экономическое от политического, этического и
кул ьтурного24.
Коммунализм
Парадигма коммунализма отличается как от ориентализма, так и от па¬
тернализма тем, что решительно отвергает разделенность природы и об¬
щества, утверждая подвижность и диалог. В отличие от патернализма
коммунализм предполагает всеобщую и повсеместную взаимность, кото¬
рую часто в метафорическом смысле представляют в терминах интимных,
личных взаимоотношений. Необходимость именно в этом отношении
развивать экологическую теорию, которая бы полностью объединила эко¬
логию человека и социальную теорию, отбрасывая радикальное разгра¬
ничение природы и общества, в наше время общепризнана. Но дело в
том, что подобная теория в общих чертах была уже предложена ранее, в
работах молодого К. Маркса. Маркс настаивал на том, что человеческие
существа не должны быть выделены из сферы природного, и, соответ¬
ственно, природа не должна быть отделена от мира людей: природа, на¬
стаивал он, «взятая абстрактно, фиксированная в своей оторванности,
есть для человека ничто»'0.
Позднейшее развитие теории практической деятельности, исходя¬
щее из трудов Маркса и идей прагматизма, включая работы Дж. Дьюи,
строится на этих взглядах. Подобная теория не только открывает пер¬
спективу, созвучную идеям коммунализма, освобождая от проблемы
разделения на специалистов и неспециалистов; она показывает, каким
образом люди приобретают необходимые навыки, чтобы распоряжать¬
ся своим существованием, отправляясь, как писал Дьюи31, от «знания
как фактора действия и деятельности»32. Теория практики как крите¬
рия истины привлекает внимание к целостности личности, к отноше¬
ниям учитель — ученик, к широкому спектру практик, осуществляе¬
мых людьми, децентрализуя таким образом исследование человеческой
деятельности”. Такие исследовательские перспективы предлагают
важную альтернативу методологическому индивидуализму. Подлин¬
ной единицей анализа является уже не атомарный индивид, отделен¬
ный от социального мира своей телесной оболочкой, но целостная
личность в действии, протекающем в контексте, который определяет
ее деятельность. Подобные подходы к понятию «отдельной», «отъеди¬
ненной» личности разрабатывались и в ряде других дисциплин. П. Ин-
гленл писал, что неоклассическая идея личной или субъективном
пользы — идея, которая логически исключает возможность межперсо-
пального сопоставления «полезного», передачи другому человеку соб¬
245
ственного критерия пользы, — «должна быть заменена представлени¬
ями о сочувствии, сопереживании и взаимосвязанности»34.
Признавая важность идеи доверия, заложенной в коммунализме, ант¬
ропологи вовлекаются в серьезный диалог с людьми того мира, который
они посещают, формируя доверительные отношения или создавая с эти¬
ми людьми некую общность. В применении к полевым исследованиям
коммунализм может быть охарактеризован как способ действий, при ко¬
тором антропологи и хозяева изучаемого мира участвуют в полной глубо¬
кого смысла взаимной деятельности в качестве обитателей единого мира35.
Полевые исследования, как указывают С. Гудман и А. Ривера36, — это дли¬
тельный диалог, в котором антрополог добывает этнографические данные
вместе с респондентами. Еще раз укажем на очевидные параллели с речью
и переводом. Э. Нейлд37 предлагает такой герменевтический подход к идее
перевода. Таким образом, если мы описываем процесс перевода как исто¬
рию любовной связи, то подлинная теория перевода должна признавать
роль влечения и соблазна. Автор соблазняет переводчика и воздействует на
него, изменяя его или ее сознание точно так же, как переводчик изменяет
текст.
По мнению многих антропологов, общества охотников и собира¬
телей воплощают в себе принципы коммунализма. В подобных сооб¬
ществах, как часто указывалось, отношения человека с миром диких
животных могут быть охарактеризованы как кооперация. Н. Берд-Дэв-
ид показывает38, как группы охотников и собирателей переносят прин¬
ципы коммунализма, существующие в человеческих взаимоотношени¬
ях, на отношения с окружающей средой, проецируя на нее образ
«дающей природы»; как маленький ребенок может рассчитывать на
заботу родителей, так и природа дает человеку «безусловную» поддер¬
жку, независимо от того, что случилось в прошлом. В сообществах охот¬
ников и собирателей, таким образом, взаимоотношения человека и окру¬
жающей среды могут быть описаны в терминах всеохватывающей
взаимности. Как говорят в южноиндийском племени найака, «лес -
это родитель». Подобным же образом индейцы кри в Канаде иногда
говорят о себе как о людях, находящихся в постоянном сообществе с
природой и животным миром39. Деятельность охотника часто сопостав¬
ляется с любовным предприятием, в котором охотники и добыча со¬
блазняют друг друга; охотники должны вступить в определенные от¬
ношения с другой играющей стороной ради успеха предприятия и vice
versa. Убить зверя — как бы вовлечь себя в диалог с обитателем того же
мира. Животные являются социально значимыми личностями, а охот¬
ники — частью природы. По мнению этого охотника, между природой
и обществом нет принципиальных различий.
В то время как в этнографии классическими примерами парадиг¬
мы коммунализма являются сообщества охотников и собирателей, дру¬
гие примеры также могут быть показательными. Один из них — «эко¬
номика существования», описанная С. Гудманом и А. Риверой для
сельскохозяйственного населения Колумбии. Здесь силы человеческо¬
го тела как бы воплощены в земле. Если земля (а следовательно и чело¬
веческое тело) не восполняет свои силы, «основа» разрушается, и люди
246
уходят в города. Следовательно, главная задача — попечение об этой
основе — земле. Для колумбийских крестьян она — не просто эконо¬
мический «ресурс» в узком смысле слова; это не что иное, как сама
жизнь. Такие взгляды находят отзвук и у некоторых западных уче¬
ных — экономистов40, которые отстаивают определение экономики
через понятие «обеспечение», включающее в себя концепт взаимосвя¬
зи человека и окружающего его мира.
Есть веские основания продумать в духе коммунализма, в какой сте¬
пени практические познания непрофессионалов могут быть более систе¬
матически использованы в процессе охраны окружающей среды, и в чем
эти знания отличаются от книжного знания профессиональных экспер¬
тов. Мне уже доводилось говорить41, что капитаны рыболовецких судов
в результате долгих лет практики и совершенствования своего мастерства
приобретают обширные познания, касающиеся той экосистемы, в рам¬
ках которой они работают, и было бы разумно, в целях лучшей органи¬
зации деятельности в данной сфере, с большим вниманием отнестись к
их коллективному опыту, учитывая крайнюю подвижность и изменчи¬
вость данной экосистемы; одновременно это позволило бы несколько
смягчить модернистскую идею предсказуемости, связанную с экологи¬
ческими представлениями о «сохранении равновесия». Некоторые уче¬
ные полагают, что неспециализированное промышленное рыболовство
является хаотической системой со слишком многими неизвестными и
потому не поддается долгосрочному прогнозированию и управлению.
Интересно, что в своем критическом комментарии по поводу идеи «со¬
хранения равновесия», конкретно в отношении истории рыболовства,
Д. Людвиг, Р. Хильборн и К. Уолтерс заметили, что следовало бы скорее
говорить, что в данном случае управляют человеком, чем утверждать об¬
ратное42. Коль скоро экосистема мирового Океана определенным обра¬
зом детерминирована и одновременно хаотична, те, кто взаимодейству¬
ет с ней постоянно, обладают наиболее достоверной информацией о
происходящем в ней в каждый конкретный отрезок времени.
Вместе с тем, не совсем ясно, что же влечет за собой использова¬
ние «познаний практиков». Хотя справедливо, что в ходе западной эк¬
спансии и западного господства обширный массив «местного знания»
часто отодвигался в тень, если не вовсе уничтожался, и существуют
веские основания для попыток возродить и сохранить то, что от этого
«локального знания» осталось, ссылки на «коренное» и «традицион¬
ное» в подобном контексте имеют тенденцию к воспроизведению и
укреплению границ колониального мира, подобно тому, как это про¬
исходило с более ранними понятиями «туземное» и «примитивное»:
мы склонны ассоциировать «туземцев» и примитивных людей с впол¬
не определенными географическими районами и эпохами. Какие на¬
выки или массив знания можно квалифицировать как «местные», «ко¬
ренные»? Насколько древними они должны быть, чтобы их назвали
традиционными?
Другой спорный вопрос связан с представлением о самом знании.
Практическое знание иногда изображается как рыночная ценность, сво¬
его рода овеществленным «культурный капитал», к примеру, когда «ме¬
247
стное знание» пытаются связать с понятием интеллектуальной собствен¬
ности и защитить права на патенты и гонорары. Однако значительная
часть «практического знания» не выражена и не выразима в словах — это
сведения, навыки, которые приобретаются в ходе непосредственного
столкновения с повседневными задачами. Овеществляя практическое
знание, мы попадаем в ту самую ловушку картезианского дуализма, ко¬
торой, впрочем, и стремились избежать.
Если исходить из парадигмы коммунализма и роли случайного, непред¬
виденного в человеческой жизни, сверхпессимистическое понятие «траге¬
дии» вряд ли окажется подходящей театральной метафорой для описания
взаимоотношения человека и окружающей среды. Не слишком убедитель¬
на также и чересчур оптимистическая метафора «комедии». Члены чело¬
веческого сообщества не просто участники своекорыстных «робинзонад»,
которые неизбежно разрушают экосистему, хотя и являются ее частью; но
это вовсе не значит, что они всегда готовы жить и работать в гармонии ради
общего блага. Метафора героического романа, возможно, подошла бы
больше, позволяя до определенной степени возлагать надежды на буду¬
щее43, «Конфликт — ведущая сила повествования, и — указывает Б. Мак¬
кей, — он не преодолевается так, как это делается в неоклассическом ис¬
следовании... Роман предполагает сложное развитие характера, ситуации
и сюжета, а напряжение в нем создается благодаря тому, что читатель не
знает, чем все завершится, но надеется на счастливый конец»44. «Как ли¬
тературная метафора», заключает она, роман «точнее всего подходит для
описания усилий антропологов».
Заключительные заметки
Мною выделены три вида парадигм, касающихся отношений между че¬
ловеком и окружающей средой: ориентализм, патернализм и коммуна-
лизм. Некоторые из порожденных эпохой Нового времени положении
ориентализма, в частности, представления о превосходстве человека, раз¬
деление природы и общества, а также разграничение на экспертов и про¬
фанов имеют соответствия и в парадигме патернализма — обе парадиг¬
мы являются интеллектуальным наследием Ренессанса, Просвещения и
ранней позитивистской науки (развитой прежде всего Р. Декартом и
Ф. Бэконом). Каждый из этих периодов и явлений вводил ряд такого рода
важных дуалистических построений. Но если первую из указанных пара¬
дигм характеризуют отношения доминирования, то другая определяется
принципом покровительства. Более того, если ориентализм вообще от¬
рицает какую-либо взаимность в отношениях человека и среды, то патер¬
нализм подразумевает ответственность человека и сбалансированную
взаимность. Наконец, парадигма коммунализма отличается от остальных
тем, что отказывается от представлений об установленном и монологич-
ном. а также от радикального разделения природы и общества. В отли¬
чие от патернализма она делает угюр на всеохватывающем характере вза¬
имности в отношениях человека и среды, на обмене, моделью которою
нередко могут служить личные взаимоотношения. Как мы убедились, по¬
добные отношения с полной очевидностью также возникают в этногра¬
фической практике и при переводе иноязычных текстов. Таким образом,
рассуждения об отношении к окружающей среде, об этнографии или же
о переводе имеют много общего в характере дискурса, включая метафо¬
ры личной связи, сексуальных отношений и свойственные языку театра
метафоры иронии, трагедии, комедии, а также романа.
Социальный дискурс часто, если не всегда, полифоничен и многолик.
Если обратиться всего лишь к одному примеру, то, как указывал Р. Брай-
тмэн по поводу восприятия племенем кри отношений между человеком
и животными'1, некоторые представления аборигенов, включая мотив
привлечения и соблазнения, свидетельствуют о взаимности и сопричас¬
тности, тогда как другие носят отпечаток иерархичности и отношений
господства; такие представления, считает он, можно рассматривать как
тяготеющие к разным полюсам «в пространстве между взаимностью и эк¬
сплуатацией». Это наводит на мысль, что парадигмы «управления» окру¬
жающей средой не должны рассматриваться как принадлежность опре¬
деленного места или времени. Как отмечал Дж. Дьюи, повторяя идеи
Б. Малиновского о «длительном диалоге», отдаленное и прошедшее при¬
сутствуют в сегодняшнем поведении, делая его тем, чем оно является46.
Но если индейцы кри или представители любого другого сообщества не
способны, как кажется, ни индивидуально, ни коллективно прийти к со¬
гласию по поводу основополагающих, с точки зрения этнографии, воп¬
росов, да и сами этнографы, которые их описывают, оказывается, не в
состоянии этого сделать (как заключает Брайтмэн47, вопрос о том, какую
из моделей кри считают более правильной и обладающей большей цен¬
ностью, исключительно сложен), так как же могут люди, получившие эт¬
нографические данные лишь из вторых рук, вынести по этому поводу
окончательный вердикт? Я могу предложить лишь один простой и чисто
прагматический ответ на этот вопрос: при решении спорных проблем в
этнографии надо следовать тем же подходам, что и в отношении проблем
окружающей среды, т.е. использовать такие коммуникативные, этичес¬
кие и моральные стандарты, которые открывают возможности более пол¬
ного и свободного диалога.
В начале Нового времени, с открытием законов перспективы и три¬
умфом визуализма, наука стала страстным и агрессивным поиском исти¬
ны и знания. Позже подход, свойственный Новому времени, стал трак¬
товаться критиками различных направлений как наивный сциентизм.
Основные идеи Просвещения рассматривались как метафорическая ил¬
люзия. Э. Панофски, который в общем и целом подчеркивал успех ренес¬
сансных идей, их значение для науки, тем не менее, предвосхищал не¬
которые из этих критических суждений, говоря, что перспектива являете i
попыткой математизации видимого пространства, в которой «истиннее
существование» как бы замешается простой демонстрацией видимых вс -
щей»46. В наши дни люди западной цивилизации все больше приходят :<
восприятиютого, что они являются частью целостного природного мира
и современные рассуждения о проблемах окружающей среды отличает так
называемый постмодернизм, дискурс, который подчеркивае!. напоминая
249
этим доренессансную философию, мотив взаимосвязанности природы и
общества, индивидуальную природу человеческого существования в пер¬
воначальном, объединяющем смысле этого слова. Подчеркнем, что древ¬
ние скандинавы в моделях своего поведения по отношению к земле, ко¬
торые анализировал А. Гуревич, могут представить очень интересные
параллели вышесказанныму. Как отмечал А. Гуревич44, обитатели древней
Скандинавии чувствовали такую связь с землей, которую они возделыва¬
ли, что видели в ней как бы продолжение собственной природы: «тот
факт, что человек был таким образом связан со своим земельным владе¬
нием, находил отражение в признании нераздельности человека и при¬
родного мира».
Я предполагаю, что парадигма коммунализма с его вниманием к прак¬
тике взаимодействия позволяет уйти от многих представлений эпохи
Нового времени, а также современных дилемм. Правда, и критики идей,
порожденных Новым временем, нередко предаются ностальгии и леле¬
ют утопические взгляды. Представления об идеальном обществе или о его
противоположности, столь характерные для западной мысли, принима¬
ют самые различные формы, но все они, как подчеркивает Дж. Берлин50,
обычно строятся на предположении, что существовал Золотой век, когда
«люди были невинны, счастливы, добродетельны, миролюбивы и свобод¬
ны, а весь мир был полон гармонии, — за которым последовала некая
катастрофа... будь то потоп, первое непослушание человека, первородный
грех, преступление Прометея, открытие земледелия и металлургии, пер¬
воначальное накопление или еще что-то в этом роде». Принять динамич¬
ную по своему характеру перспективу коммунализма, проникнуться иде¬
ей диалога — отнюдь не значит попросту вернуться к представлениям
доренессансного средневекового мира и впасть в наивный романтизм,
скорее это значит — усвоить более реалистическую позицию, избегнув эт¬
ноцентрических предубеждений модернистского, т. е. типичного для Но¬
вого времени подхода. Трактовать природу, животный мир, а также
«иные» культуры как музейные экспонаты, пригодные лишь для акаде¬
мических и теоретических построений, и нереалистично, и безответ¬
ственно, принимая во внимание, что наша жизнь и деятельность неиз¬
бежно включены в более широкий экологический и исторический
контекст. Антропология впала в заблуждение, резко разделив природу и
общество, что А. Холлингшед определил в подлинно модернистских вы¬
ражениях, как истинное начало теоретизирования51.
В век постмодернизма уже упоминавшийся образ, созданный
М. Салинсом52, рисующий антропологию в виде узника, меряющего ша¬
гами узкое пространство между двумя «стенами» идеализма и материализ¬
ма, становится все более несущественным. Более подходящим для совре¬
менной антропологии образом был бы образ бывшего заключенного,
почесывающего в затылке на вольном воздухе после освобождения из
Платоновой пеШеры и с удивлением глядящего на руины своей темницы
с ее иллюзиями восприятия и странной архитектурой. Он должен не толь¬
ко на кафкианскии манер задаться вопросом: почему, собственно, он
находился в темнице и как ему удалось освободиться, но. что более важ¬
но. он должен спросить себя, как ему следует воспользоваться повообре-
250
тенной свободой, при видимом отсутствии каких бы то ни было идеали¬
стических представлений, но лицом к лицу с вполне материалистическим
принуждением и экологическим кризисом.
Примечания
1 Gurevich A. Historical Anthropology of Middle Ages. Oxford, 1992. P. 207.
2 Idem. Medieval Popular Culture: Problems of Belief and Perception. Cambridge, 1988.
P. 216.
3 Ibid. P. 176.
4 Hollmgshead A.В Human ecology and human society // Ecological Monographs,
1940, 10, 3. P. 358
s Ibid. P. 359.
6 Sahlins M. Culture and Practical Reason. Chicago, 1976. P. 55.
7 Cm.: Descola P, PUsson G (eds). Nature and Society: Anthropological Perspectives.
L., 1996.
8 Tapper R.L Animality, humanity, morality and society // Ingold T (ed). What is an
Animal? L„ 1988. P. 52.
9 Brightman R. Grateful Prey: Rock Cree Human — Animal Relationship. Berkeley,
1993. P. 188.
10 Cm.: Donham D L History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and
Anthropology. Cambridge, P, 1990; Bird-David N Tribal metaphorization of human-
nature relatedness // Milton К (ed.) Environmentalism: The View from Anthropology.
L.,1993.
11 Williams R. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Glasgow, 1976. P. 133.
12 Некоторые аспекты этой революции применительно к антропологии рассмат¬
риваются в работе: Palsson G. The Textual Life of Savants: Ethnography, Iceland and
the Linguistic Tum. Chur, 1995. Ch. 5.
13 Cm.: Panofsky E. Perspective as Symbolic Form. Cambridge (Mass.), 1991.
14 Bordo S. The Flight to Objectivity: Essays on Cartcsiamsm and Culture. N.Y„ 1987.
P. 108.
15 Cm.: Lefevere A , Bassnet S Introduction: Proust’s grandmother and the Thousand
and one Nights: the «cultural» Turn in Translation studies H Bassnet S.. Lefevere A
(eds). Translation, History and Culture. L., 1990.
Ih Cm.: Palsson G Op. cit.; idem Introduction // Palsson G (ed.) Beyond Boundaries:
Understanding, Translation and Anthropological Discourse. Oxford, 1993.
17 Donham D.L. Op. cit. P. 192.
18 Cm.: Bordo S. Op. cit. P. 108.
|9 Ibid. P. 171.
20 Nelson J. A. Gender, metaphor, and the definition of economics // Economics and
Philosophy. 8: 103-125, 1992. P. 108; idem The study of choice or the study of
provisioning?: Gender and the definition of economics // I'erher M A., Nelson J.A (eds).
Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics. Chicago; L., 1993. P. 27
21 Malinowski В Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and
Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guine. L., 1972. P. 8.
22 Cm.: Palsson G. Coastal Economics, Cultural Accounts: Human Ecology and
Icelandic Discourse. Manchester. 1991.
25 Bennet J W. Human Ecology as Human Behavior. Essays in Environmental and
Developmental Anthropology. New Brunswick. 1993. P 343
24 Rosaldo R From the dooi of his lent- the fieldwoikci and the inquisitor Cli/lord
J . Marcus G E (eds) Wilting Culture Г he Poctu. and Polities of Ethnogiapln
Berkeley. 1986. P 96
251
См.: Derrida ./. Des tours de Babel // Graham J /■' (ed.) Difference in Translation
Ithaca, 1985. P. 191;
2b Johnson В Taking fidelity philosophically // Ibid. P. 143.
27 Bourdieu P The Logic of Piaclice. Cambridge, 1990. P. 1 16.
28 McCav B.M. Common and private concerns // Advances in Human Ecology. 4. 1995
P. 109. '
24 Cm.: England P The separative self: androcentric bias in neoclassical assumptions
/ Berber M.A.. Nelson J A (eds). Beyond Economic Man.
10 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгели
Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 640.
11 Dewey J. Experience and Nature. N.Y., 1958. P. 23
32 Cm.: Pepperman Taylor В John Dewey and environmental thought: a response to
Chaloupka 11 Environmental Ethics, 1990, 12, 2.
11 Cm.: Palsson G. Enskilmcnt at sea // Man. 1994, 29, 4.
34 Cm.: England P. Op. cit.
35 Cm.: Palsson G. Introduction // Beyond Boundaries.; idem. The Textual Life.
36 Cm.: Gudeman S., Rivera A. Conversations in Colombia: The Domestic Economy in
Life and Text. Cambridge, 1990.
37 Neild E. Translation is a two-way street: a response to Steiner 11 Meta. 1989. 34, 2.
P. 239.
38 Cm.: Bird-David N. Op. cit.
34 Cm.: Brightman R. Op. cit.
4" Nelson J.A. Op. cit. P. 33.
41 Palsson G. Enskilment.
42 Ludwig D., Hilborn R., Walters C. Unccrtainity, resource exploitation, and
conservation: Lessons from history // Science. 1993, 260. P. 17.
43 Cm.: Donham D. L. Op. cit.
44 McCav B.M. Op. cit. P. 110.
45 Brightman R. Op. cit. P. 194.
46 Dewey J. Op. cit. P. 279.
47 Brightman R. Op. cit.
48 PanofskyE. Op. cit. P. 71.
4Q Gurevich A. Historical Anthropology. P. 178.
so Berlin J. Against the Current: Essays in the History of Ideas. Oxford, 1989. P. 120
4 Holhngshead A.В Op. cit. P. 358.
32 Sah I ins M Op. cit. P. 55.
Перевод с английского H. А. Селунской
Херманн Палссон (Эдинбург)
Одиническое в «Саге о Гисли»
Одна из центральных тем «Саги о Гисли» — разлад между глав¬
ным героем и его братом Торкелем, что согласуется с оди-
ническим духом, пронизывающим сагу в целом. «Один —
плохой друг», illr er Odinn at einkavin, — прямо сказано в
«Саге об Одде-Стреле». Задача настоящей статьи — вскрыть и
иные моменты в «Саге о Гисли», которые могут быть связаны с культом
Одина.
«Сага о Гисли»1 повествует об исторических событиях, произошедших
на западе Исландии в середине X в. Считается, что она была написана три
века спустя. Сага дошла до нас в двух версиях — более пространной и ме¬
стами испорченной (известна по спискам NY. KGL. SMI. 1181 fol. и AM
149 fol.; в дальнейшем — П), и краткой, сохранившейся полностью (AM
556а, 4е; далее — К). В каком отношении стоят дошедшие до нас версии и
их утраченный протограф, вопрос остается открытым, хотя и высказыва¬
лось аргументированное суждение, согласно которому П ближе к ориги¬
налу, чем К2. На данный момент достаточно отметить, что П содержит не¬
которые одиническис детали, отсутствующие в К. В основном мои выводы
строятся на материале версии К.
Неизвестный нам автор саги опирался не только на устную традицию,
но и на письменные свидетельства, восходящие к началу XII в. К таковым
могла относиться составленная Ари Мудрым Торгильссоном (1068 —
1148 гг.) краткая биография Снорри Годи Торгримссона (963—1031 гг.).
Снорри Годи — один из ключевых персонажей «Саги о Людях с Песчано¬
го Берега», он также участвует, хотя и на вторых ролях, в событиях, опи¬
санных в «Саге о Людях из Лаксдаля»3 и других. Вскользь о нем упомина¬
ет и «Сага о Гисли». Ее кульминация — смерть отца Снорри Годи,
Торгрима от рук Гисли сына Кислого, заглавного героя саги, шурина Тор-
грима и дяди Снорри по матери. Сам Снорри родился после гибели отца.
Известно, что, помимо рассказа о Снорри Годи, Ари Торгильссон за¬
писал и ряд хронологических подробностей, касающихся предков Снор¬
ри. Основным информантом Ари здесь была дочь Снорри Турил. На¬
сколько мы можем об этом судить, Ари узнал от нее следующие даты (они
сохранились в «Исландских Анналах»):
Торольв Бородатый с Мосгра (прадед Снорри) — умер и 918 i.
Торсгейп (дед Снорри со стороны отца) — \мер в 918 г.
Торгрим (отец Снорри) — родился в 938 г., умер в 963 г.
Торбьёрн (дед Снорри со стороны матери) — прибыл в Исландию в
952 г.
Снорри Годи — родился в 963 г., умер в 1031 г.
Турид (дочь Снорри) — родилась в 1025 г., умерла в 1112 г.4
В «Саге о Гисли» повествуется о трагедии, разыгравшейся в семье им¬
мигрантов из Норвегии, прибывших в Исландию около 952 г., т.е. при¬
мерно через двадцать лет после окончания заселения острова. Несмотря
на то, что в ее основу легли реальные исторические события, в ней есть
и известная доля авторского вымысла — как этого и следует ожидать,
когда имеешь дело со столь искусно выстроенным рассказом. Как часто
указываюсь, композиция саги роднит ее с героическими песнями «Стар¬
шей Эдды». Не менее, однако, примечателен интерес саги к древним обы¬
чаям. «Сага о Гисли» — окно в мир языческих обрядов, иные из которых
прямо связаны с культом Одина. По моему мнению, прежние исследо¬
вания необоснованно занижали масштабы распространения этого куль¬
та в Исландии5.
Легендарный герой Бёдвар Бьярки в ходе своей последней битвы бро¬
сает интригующее замечание: хотя он и его соратники теснят противника,
Одина что-то не видно; он, впрочем, подозревает, что бог войны скрылся
где-то в рядах врагов («Сага о Хрольве Жердинке», гл. 51).
Если в сагах о древних временах Один часто является людям — каж¬
дый раз под новой личиной и новыми именами, — то в сагах об исланд¬
цах он, действительно, упоминается редко. Однако внимательный чита¬
тель во многих случаях может ощутить его незримое присутствие. В сагах,
где главные события разворачиваются в Исландии или где главные герои
оттуда родом, недостаточно искать одиническое на поверхностном уров¬
не; чаще всего эти мотивы залегают глубже.
Поединки
В своей «Эдце» Снорри Стурлусон советует тем, кто желает получить по¬
мощь богов в поединке, взывать к Уллю; однако в других исландских ис¬
точниках свидетельств о существовании подобной практики не имеется.
Более того, поединки связаны именно с культом Одина. Держаться такого
мнения заставляет нас целый ряд причин. Во-первых, известны такие его
имена, как Sigtyr, «бог победы», Sigfadir, «отец победы», Sigrhofimdr, «за¬
чинщик победы», Gagnradr, «повелитель победы». Ясно, что в его власти
было даровать победу любым воинам, в том числе тем, кто сражался на
поединках. Во-вторых, Один прямо упоминается в связи с некоторыми
из этих последних, например, с предводителем викингов Фрамаром из
«Саги о Кетиле Лососе». Один сделал его неуязвимым для оружия, и
Фрамар. пока был молод, всегда одерживал победы. Но во время его сра¬
жения с Кетилем Лососем из леса прилетел орел и сорвал с него одежду.
Это был знак, что Один оставил викинга, и тут же выяснилось, что меч
Кетиля сильнее до сих пор защищавших Фрамара Одиновых чар.
254
В-третьих, в «Саге о Гисли» и в некоторых других сагах фигуриру¬
ют берсерки, которые вызывают на поединки ни в чем не повинных
перед ними людей. Как вытекает из следующего отрывка из «Саги об
Инглингах» (гл. 6), берсерки также связаны с Одином: «Один мог сде¬
лать так, что в бою его недруги становились слепыми или глухими или
наполнялись ужасом, а их оружие ранило не больше, чем хворостин¬
ки, и его воины бросались в бой без кольчуги, ярились, как бешеные
собаки или волки, кусали свои щиты и были сильными, как медведи
или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли
им вреда. Такие воины назывались берсерками»6. В «Саге о Греттире»
(гл. 2) при описании знаменитой битвы в Хаврсфьорде говорится об
одном из врагов Харальда: «Тот был берсерк великий и бесстрашный.
Яростно бились и те и другие. Тогда, по слову конунга, бросились впе¬
ред его берсерки. Их звали «волчьи шкуры», не брало их железо, и нич¬
то не могло устоять перед их натиском»7.
События первой главы «Саги о Гисли» происходят в Нордмёре в Нор¬
вегии. В ней рассказывается о трех братьях — Ари, Гисли и Торбьёрне.
Ари женится на женщине по имени Ингибьёрг, но наслаждаться семей¬
ным счастьем им было суждено недолго:
«Жил человек по имени Бьёрн Бледный. Он был берсерк. Он разъез¬
жал по стране и вызывал на поединок всякого, кто ему не подчинялся. [...]
Бьёрн предлагает Ари на выбор: хочет, пусть бьется с ним на одном ост¬
ровке в Сурнадале — назывался островок Столбовым, — а не хочет, пусть
отдает ему свою жену. Тот сразу же решил, что уж лучше биться, чем обо¬
их, и себя и жену, позорить».
По версии П, Бьёрн был искусен в колдовстве, и никакое оружие этого
берсерка не брало. Эти черты еще более сближают его с Одином и дела¬
ют значительно более серьезным противником, чем Бьёрн версии К.
Образ Бьёрна Бледного стереотипен. Бьёрна можно сравнить с Льотом
Бледным из «Саги об Эгиле»* и некоторыми другими саговыми берсер¬
ками.
В последовавшем поединке Ари был убит, а берсерк объявил, что как
победитель возьмет себе хутор Ари и его жену. Тогда Бьёрна вызывает на
бой Гисли. Ингибьёрг, вдова Ари и невестка Гисли, говорит тому, что у
ее раба Коля есть меч, который зовется Серый Клинок: «Так попроси,
пусть он тебе его одолжит. Потому что есть у этого меча такое свойство:
он несет победу всякому, кто берет его в битву». Судя по этому чудесно¬
му свойству, меч был некогда заколдован Одином, «богом победы». Раб
отдает меч Гисли. хотя и неохотно, и тот убивает берсерка.
После этого раб требует свой меч обратно, но Гисли отказывается его
вернуть и предлагает взамен деньги, свободу и другие вещи. Раб, однако,
ничего, кроме меча, не желает и, не получив его, бросается на Гисли,
нанося ему смертельную рану. «Но и Гисли разит его по голове Серым
Клинком, и удар был так силен, что меч сломался, и череп раскололся, и
настигла обоих смерть».
В столкновении, с описания которого начинается «Сага о Гисли». гиб¬
нут четверо — два захватчика, берсерк и Гисли. поделавшие им не при¬
надлежащего. и две жертвы. Ари и раб. попытавшиеся защитить свою
собственность. Однако для саги как целого роль этих четырех персона¬
жей бледнеет в сравнении с той, что досталась Серому Клинку, настоя¬
щему победителю во втором поединке.
Торбьёрн наследует все имущество, принадлежавшее отцу и погиб¬
шим братьям. Он женится и у него рождается трое сыновей — Торкель,
Гисли и Ари — и одна дочь, Тордис. Она красива и умна, и ее поистине
одинический удел — быть причиной распрей среди мужей. За ней ухажи¬
вал некий молодой человек, которого в этом поддерживал Торкель. Тор-
бьёрну же и Гисли он не нравился. Однажды Гисли неожиданно для всех
убивает этого человека. «С тех пор дружба между братьями пошла врозь».
Торкель не желает больше жить дома и отправляется к некому Скегги
Драчуну, близкому родичу человека, которого убил Гисли. Торкель под¬
бивает того отомстить и затем жениться на Тордис. Это можно понять
только в том смысле, что Торкель, в отместку за смерть своего друга, же¬
лает смерти собственному брату9. Одно из пагубных воздействий Одина
на род людской — раздоры между близкими родичами. Отец не соглаша¬
ется выдать Тордис за Скегги. При этом выясняется, что к ней сватается
человек по имени Кольбьёрн, и Скегги вызывает его на поединок. Коль-
бьёрн на это соглашается, но в назначенный день его охватывает страх,
и он решает остаться дома. Гисли называет его трусом и сам отправляет¬
ся на поле боя. Однако прежде, чем он успевает прийти, Скегги «очер¬
чивает круг для Кольбьёрна, но не видит ни его самого, ни того, кто при¬
шел бы его заменить. Был у Скегги работник по имени Рэв. Так он велел
Рэву сделать деревянные фигуры наподобие Гисли и Кольбьёрна. — И
пусть один стоит позади другого, и пусть этот срам навсегда остается здесь
им в поношение».
Различимое здесь обвинение в гомосексуальной связи считалось наи¬
худшим оскорблением. В этой связи нелишним будет напомнить, что
определение argr могло означать как «трусливый», так и «сексуально из¬
вращенный». Согласно мифу, и Один, и Локи, по всей видимости, были
повинны в содомском грехе.
Гисли одерживает верх в поединке, и Торкель возвращается вместе с
ним домой, и Ъни снова дружны, как раньше.
Заколдованное оружие
Серый Клинок, приносящий победу, напрямую связан с Одином, богом
победы; версия П, в отличие от К, делает на этом особый акцент. Само
имя меча не лишено очевидных одинических коннотаций, ибо известно,
что серый — излюбленный цвет этого божества. Одно из имен Одина —
«Седобородый», и его знаменитый конь Слейпнир «был серой масти и о
восьми ногах, и нет коня лучше у богов и людей». Серый Клинок — не
обычное оружие. Он наделен способностью приносить победу и ломает¬
ся и случае, если будет направлен против того, кому принадлежи г по пра¬
ву. В версии К ничего не iсворится об псюрии меча до того, как он по¬
пал к рабу Колю. Сущее i иен по иная ситуация в П. где раб предаавлеп
256
попавшим в плен человеком знатного рода, который становится затем
воспитателем Ингибьёрг, и это уже значительно более подходящая фи¬
гура для обладания таким сокровищем, нежели обыкновенный раб.
Стоит также заметить, что наделенное магической силой оружие в
других сагах нередко получает свои необыкновенные свойства от карли¬
ков или от колдунов, причем последние связаны с Одином. Он умел и
затуплять оружие. По версии П, меч Серый Клинок был так заколдован,
что мог разрубить что угодно, даже железо, и что его лезвие не тупилось;
кроме того, сказано, что его выковали карлики — как и копье Одина Гун-
гнир. Совершенно неудивительно, что далее в саге из обломков Серого
Клинка выковывают другое оружие, которому предназначено сыграть
важную роль (об этом ниже).
Приходит на память и другой меч, дарованный Одином своему зна¬
менитому потомку Сигмунду сыну Вёльсунга. В своей последней битве
Сигмунд, уже старик, неожиданно столкнулся лицом к лицу с каким-то
одноглазым незнакомцем, который замахнулся на него копьем. Незна¬
комец был в нахлобученной шляпе и синем плаще. Конунг нанес ему удар
своим мечом; меч ударился о копье и разломился надвое. Конунг проиг¬
рал битву и был тяжело ранен. Когда сражение закончилось, его молодая
жена пришла на поле брани и нашла его еще живым. «Я не позволю себя
лечить, — сказал он, — не хочет Один, чтоб мы обнажали меч, раз сам он
его разбил; бился я в битвах, пока ему было угодно»10. Затем он говорит
своей жене, что она родит сына, который отомстит за него. Он также про¬
сит сохранить обломки меча, потому что из них можно выковать доброе
оружие. Впоследствии один карлик и в самом деле выковывает из них меч
Грам, который хорошо послужил сыну Сигмунда, Сигурду — убийце
Фафнира.
Побратимство
После серии неприятностей с сыновьями Скегги, Торбьёрн с женой ре¬
шают покинуть Норвегию и отплыть в Исландию. С ними отправляются
трое их детей, Тордис, Гисли и Торкель (Ари остается в Норвегии). Се¬
мья поселяется на хуторе Морское Жилье в Ястребиной Долине; Торбь¬
ёрн и его жена вскоре умирают. Дела же детей на первых порах идут хо¬
рошо; Тордис выдают замуж, ее братья женятся. Их новые родичи —
Торгрим, муж Тордис, и Вестейн, брат жены Гисли Ауд — становятся им
добрыми друзьями. Хутор Морское Жилье отдают Торгриму в приданое
за Тордис, а братья переезжают в Холм, усадьбу по соседству. «И стоят
Морское Жилье и Холм ограда к ограде. Вот живут они бок о бок. и меж¬
ду ними прочная дружба» (гл. V). Четвертый член возникшего содруже¬
ства, Вестейн, купец и мореход, живет на своем хуторе в Ястребиной
Долине неподалеку от них.
На местном тише четверо др\ зеи из Ястребиной Долины ведут себя
вызывающе — «все ходя) в крашеных одеждах*'. Один мудрым человек
предрекает, чю «не пропдег п грех лет. как не будет v них едипомысдия.
9 Зак 3029
257
у тех, кто теперь держится вместе». Когда друзья узнают о пророчестве,
Гисли предлагает предотвратить такой поворот событий и говорит, что.
на его взгляд, «самое лучшее, если мы свяжем нашу дружбу более креп¬
кими узами и примем, все четверо, обет побратимства».
«Им это показалось разумным. Вот идут они на самую стрелку косы
и вырезают длинный пласт дерна, так, что оба края его соединяются с
землей, ставят под него копье с тайными знаками такой длины, что стоя
как раз можно достать рукою до того места, где наконечник крепится к
древку. Им, Торгриму, Гисли, Торкелю и Вестейну, надо было, всем чет¬
верым, пройти под дерном. Потом они пускают себе кровь, так что она
течет, смешиваясь, в землю, выкопанную из-под дерна, и перемешива¬
ют все это, кровь и землю. А потом опускаются все на колени и клянутся
мстить друг за друга, как брат за брата, и призывают в свидетели всех бо¬
гов. Но когда все они подали друг другу руки, Торгрим и говорит:
— Хватит с меня того, что я подам руку Торкелю и Гисли, моим шу¬
рьям. Но у меня нет обязательств перед Вестейном.
И он отдергивает руку.
— Ну что ж, и другие поступят так же, — говорит Гисли и тоже убира¬
ет руку. — Я не буду связывать себя с человеком, который не желает свя¬
зывать себя с моим шурином Вестейном» (гл. VI).
Это самое детальное описание обряда заключения побратимства в
ранних исландских источниках. Как следует из рассказа, долг мести был
важным составным элементом побратимства, что вполне естественно,
если учесть, что месть за брата считалась непреложной обязанностью.
Один, как мы знаем, особенно покровительствовал тем, кто выполнял
долг мести, — неудивительно, что Даг сын Хёгни принес ему жертву,
прежде чем отправиться мстить за отца и брата (см. ниже). Следует так¬
же напомнить, что Один и коварный Локи были некогда побратимами.
Неудачное побратимство делает четверых героев еще более уязвимы¬
ми для опасности. Незавершенный ритуал — мрачный предвестник не¬
доброго конца, но пока в саге нет указаний на то, какое именно несчас¬
тье постигнет четверку. Судьба все дальше разводит друзей на две пары —
с одной стороны. Гисли и Вестейн, с другой — Торкель и Торгрим. Ох¬
лаждение между братьями Гисли и Торкелем усугубляет ситуацию. Тор¬
келю случилось подслушать разговор между своей женой Асгерд и женой
брата Ауд, из которого ему становится ясно, что Асгерд изменила ему с
Вестейном. Тогда Торкель решает разделить имущество и перебраться
жить к Торгриму. Вместо того, чтобы связать себя нерушимыми узами,
эти четверо достигли только того, что сделали скрытую неприязнь явной.
Жертвоприношения и колдовство
Следующее значительное событие в саге происходит незадолго до на¬
ступления зимы (она следовала сразу за летом, так как исландцы раз¬
личали только два времени года). «Тогда у многих людей было в обычае
справлять приход зимы пирами и жертвоприношениями». И то же вре¬
258
мя оказывается удобным для осуществления мести. Торгрим и Торкель
созвали на праздник гостей; среди них был некто Торгрим Нос. «Он был
силен в ворожбе и волшбе и был колдун, каких мало — ...Торгрим был
искусным кузнецом, и рассказывается, что оба Торгрима и Торкель идут
в кузницу и там запираются. Вот достают они обломки Серого Клинка,
который при разделе выпал Торкелю, и Торгрим делает из него копье.
К вечеру копье было готово. На нем были насечены тайные знаки, и
древко входило в наконечник на целую пядь» (гл. XI).
С того момента, как Торкель подслушал разговор жены и невестки,
прелюбодей Вестейн не пропадает из поля зрения читателя. В этой свя¬
зи уместно задаться вопросом, зачем Торкелю и Торгриму понадобилось
новое оружие? Очевидно, это следует связать с тем, что предшествовало
изготовлению копья, и поскольку единственным существенным событи¬
ем являлось открытие Торкелем неверности своей жены, логично было
бы предположить, что копье выковано с конкретной целью убить Вестей-
на.
Опасаясь за друга, Гисли посылает людей предостеречь Вестейна, с
тем чтобы тот остался дома и не ездил к нему. Но посланники находят
Вестейна слишком поздно, когда он уже в пути: «Я бы повернул обрат¬
но, если бы вы нагнали меня чуть раньше. Но теперь текут все воды к
Фьорду Дюри, и я поскачу туда же, да и тянет меня туда» (гл. XII). В узел
связываются здесь судьба, любовь и смерть. Гибель Вестейна кажется
столь же неизбежной, сколь неизбежно падение быстрых потоков с гор
во фьорд.
Есть и другие знаки, говорящие о том, что жизнь героя в опасности.
Вестейн живет у Гисли. И вот однажды ночью «на дом налетел такой
вихрь, что с одной стороны сорвало крышу. А вслед за этим с неба хлы¬
нул такой ливень, что никто и не упомнит подобного».
Если читать между строк, то трудно отделаться от мысли, что этот
ужасный ливень был наведен вышеупомянутым колдуном. В самом деле,
версия П не оставляет в этом сомнений: «Говорят, что это Торгрим Нос
наколдовал тот ливень и бурю своей ворожбой и волшбой, и все для того,
чтобы можно было напасть на Вестейна, когда бы Гисли не было рядом;
потому что они не верили, что справятся с ним, если Гисли будет дома»".
Убийство Вестейна описано кратко. Все, кроме Вестейна и его сест¬
ры Ауд, бросились из дому убирать сено. «Вот незадолго до рассвета кто-
то входит неслышно и идет туда, где лежит Вестейн. Тот в это время не
спал. Но, прежде чем он что-либо заметил, в грудь ему вонзилось копье,
проткнув его насквозь. И, почувствовав удар, Вестейн сказал так:
— Прямо в сердце.
И человек этот тотчас ушел, а Вестейн попытался встать и, вставая,
упал у лавки мертвый».
Убийство Вестейна выглядит ритуальным — для нас повод вспомнить,
что человеческие жертвы приносились главным образом Одину. Прежде
всего, обращает на себя внимание орудие убийства. То, что сломанный
меч был перекован в копье. — существенное обстоятельство, ведь имен¬
но копье Гунгнир было любимым оружием Одина. Когда Даг сын Хегни
искал способ отомстить за отца, он принес жертвы Одину, чтобы тот дал
259
ему для этой цели свое копье. Этим копьем Даг пронзил своего шурина,
и тем же способом убили Вестейна. а впоследствии и Торгрима. С дру¬
гой стороны, Сигурда Убийцу Фафнира пронзили мечом. «Сага об Эги¬
де Одноруком и Асмунде убийце берсерков» (гл. 18) сообщает нам, что
поговаривали, будто бы «Один пронзил некогда Асмунда копьем». Но,
пожалуй, самое знаменитое человеческое жертвоприношение Одину опи¬
сано в «Саге о Гаутреке», где главный герой Старкад колет конунга Ви-
кара тростинкой, которая превращается в копье и убивает ничего не по¬
дозревающую жертву.
Судя по всему, в результате жертвоприношений, связанных с кануном
зимы, сила Одина возрастала, так что он становился могущественнее дру¬
гих богов. Среди древненорвежских источников самое подробное описа¬
ние жертвенного пира дает «Сага о Хаконе Добром» Снорри Стурлусона
(гл. 14): сначала пили кубок Одина, чтобы конунгу сопутствовала слава
и победа, потом пили кубок Ньёрда, затем кубок Фрейра, чтобы в стране
был мир и процветание. Вопреки тому обстоятельству, что обе версии
«Саги о Гисли» ассоциируют Торгрима с Фрейром, а в П его даже назы¬
вают «годи Фрейра», оба убийства были совершены в духе Одина, и
Фрейр не имеет к ним никакого отношения.
Торгрим Нос присутствовал в кузне исключительно как колдун — и
это нам напоминание о том, что Одина звали gcildrs fadir, «отец закли¬
наний», — ковал же другой Торгрим, шурин Гисли. Как ни странно,
версия К не содержит даже намека на то, кто мог быть убийцей Вестей¬
на. Напротив, П прямо указывает, что убил Торгрим годи Фрейра.
Через год после гибели Вестейна Торгрим решает устроить праздник
в честь прихода зимы и принести жертвы Фрейру. На этот пир он при¬
глашает своего брата Бёрка Толстяка и многих других могущественных
людей. Весь этот год Гисли бережно хранил в сундуке окровавленное
копье, которым убили его друга. И вот теперь в канун зимы он отправля¬
ется исполнить свою месть. Ночью он выходит из дому, на нем синий
плащ, а в руках копье Серый Клинок. Он добирается до Морского Жи¬
лья и входит в дом, где спят его сестра и ее муж Торгрим. Гисли протя¬
нул руку в темноте и дотронулся до груди своей сестры — она спала с
краю.
«Тордис сказала:
— Почему у тебя такая холодная рука, Торгрим? — и разбудила его.
Торгрим сказал:
— Хочешь, я повернусь к тебе?
Она-то думала, что это он положил на нее руку. Гисли пережидает
немного и согревает руку у себя под рубахой, они же оба засыпают. Тог¬
да Гисли тихонько касается Торгрима, чтобы тот проснулся. Торгрим ду¬
мал, что это Тордис его разбудила и повернулся к ней. Тут Гисли одною
рукой срывает с них одеяло, а другою насквозь пронзает Торгрима Серым
Клинком, так что острие засело в дереве. Тордис закричала:
— Люди, все, кто есть здесь, просыпайтесь! Торгрима убили, моего
мужа!12» (гл. XVI)
Гисли быстро уходит и добирается до своего дома бе з приключений.
Убийство Торгрима — месть за убийство Вестейна: оба они происчо-
260
дят по одной схеме — одно и то же орудие убийства. одни и те же вре¬
мя суток и время года. В обоих случаях людям сначала неизвестно, кто
убийца.
После похорон Торгрима за дело принимается его брат Бёрк: «Бёрк
платит Торгриму Носу и просит его наворожить, чтобы не было ниот¬
куда помощи убийце Торгрима, хоть бы люди и пожелали помочь ему,
и чтобы не было ему в стране покоя. Дали ему за ворожбу десятилет¬
него быка. Вот Торгрим принимается колдовать и, приготовив себе
все, как обычно, сооружает помост и совершает колдовской обряд со
всем возможным непотребством (ergi) и злобою» (гл. XVIII). Обращать¬
ся к колдовству, желая погубить врага, считалось верхом трусости и ма¬
лодушия. Тем не менее полагали, что достичь таким образом желаемо¬
го результата в принципе возможно, — не в последнюю очередь
потому, что тут не обходится без galdrs fadir, «отца для заклинаний»
Одина.
Похороны
После обоих ритуальных убийств сага сообщает нам нечто относительно
ритуала погребения. Когда хоронят Вестейна, Торгрим замечает, что по¬
койного полагается обувать «в башмаки Хель, чтобы в них он вошел в
Вальгаллу» (гл. XIV). Это значит, что мертвые должны добираться до
Вальгаллы пешком; на это указывает и «Сага о Гаутреке».
Для Торгрима Гисли берется насыпать курган: «Потом они приго¬
тавливают все к погребению и кладут Торгрима на корабль. Вот насы¬
пают они курган по древнему обычаю, и осталось только закрыть его.
Тогда Гисли идет к речному устью, берет там огромный, как скала,
камень и взваливает его на корабль. Кажется, подалась под камнем
каждая досочка, и корабль весь затрещал» (гл. XVII). Ритуал погребе¬
ния в ладье свидетельствует о веровании, согласно которому мертво¬
му может понадобиться корабль, чтобы добраться до Одина.
Бёльверк
Можно указать и на другие моменты саги, навеянные одиническим ду¬
хом. Из главы XII мы узнаем о любопытной истории, приключившейся
с Вестейном. На одном хуторе двое людей «повздорили из-за какой-то
работы, пустили в ход косы и поранили друг друга». Неожиданно появ¬
ляется Вестейн — он проезжал мимо — и мирит их, так что оба остаются
довольны.
Всерьёз дерущиеся косами выживают редко. Эти двое выжили и рас¬
сказали о случившемся. Навряд ли это реальный зпизод. Болес правто-
подобно. что данная иоормя. как не ра т указывалось, ecib офаженис
одного одинического мифа Снорри Стурлусон в свосп «Эдде» расскаты-
261
вает о поездке Одина к великану Суттунгу за медом поэзии. На своем пути
он встречает девятерых рабов, косивших сено на лугу. Он предлагает им
поточить их косы, и они соглашаются. Им кажется, что теперь им косит¬
ся гораздо легче, чем раньше, и они хотят купить у Одина его точило.
Тогда он подкидывает точило вверх, и рабы пытаются его поймать, но
вместо этого перерезают друг другу косами горло11.
Один представляется косцам Бёльверком, т.е. «злодеем»; это имя за¬
мечательно ему подходит и в иных ситуациях. Так, Даг сын Хегни, рас¬
сказав своей сестре, что убил ее возлюбленного мужа, пытается обелить
себя, возлагая вину за страшное происшествие на Одина (Вторая песнь
о Хельги Убийце Хундинга, строфа 34):
«Один повинен
в этом несчастье,
меж нами руны
раздора посеяв»14.
Похоже, разрывать узы, связывающие роды, друзей и сообщества, —
одна из функций Одина. Едва он начинает сеять раздор, как ничто, вклю¬
чая самую крепкую дружбу, не может устоять перед подвластными ему
силами разрушения. В «Песни о Харбарде» Один открыто заявляет (стро¬
фа 24):
«Я...
князей подстрекал,
не склонял их к миру».
Валькирии
В главе XXII саги Гисли описывает двух женщин, являющихся ему во сне:
«Одна добра ко мне и всегда дает хорошие советы, а другая всегда гово¬
рит такое, от чего мне становится еще хуже, чем раньше, и пророчит мне
одно дурное. А сейчас снилось мне, будто бы я подошел к какому-то дому
и вошел туда. И будто бы я узнал во многих, кто сидел там, своих роди¬
чей и друзей. Они сидели возле огней и пировали». Этот эпизод застав¬
ляет вспомнить сцену из «Саги о людях с Песчаного Берега» (гл. 11), в
которой речь идет о событиях, произошедших вскоре после того, как уто¬
нул Торстейн Трескоед: «Однажды весенним вечером пастух Торстейна
отправился загонять домой скот с северной стороны Хельгафелля; и вот
он видит, что холм открылся, внутри ярко горят костры и люди там гово¬
рят громко и сильно пьяны. Тогда он затаился, чтобы разобрать их сло¬
ва, и он слышит, что там приветствуют Торстейна и его спутников; и еще
было сказано, что Торстейн должен занять почетное место напротив сво¬
его отца».
То, что умершие предки проводят время за едой и питьем внутри хол¬
ма, не имеет, конечно, никакого oi ношения к культу Одина, однако дом.
который Гисли видел во сне. походит на Вальгаллу. Две женщины из его
262
сна, в свою очередь, напоминают валькирии — помимо прочего, после¬
дние должны были приглашать в Вальгаллу воинов, которых хотел видеть
у себя их повелитель Один. «И вот однажды ночью снится Гисли, что
пришла к нему добрая женщина. Она явилась на сером коне и позвала с
собою, в свое жилище, и он согласился. И вот они приезжают к дому,
больше похожему на палаты, и она ведет его в этот дом». Нам известен
один конь серой масти — это Слейпнир, конь Одина, о котором говори¬
лось выше. Согласно «Речам Хакона» Эйвинда Погубителя Скальдов,
Один посылает двух валькирий по имени Гёндуль и Скёгуль выбрать сре¬
ди конунгов тех, которые будут жить с ним в Вальгалле. А в «Речах Во¬
роны» умирающий Рагнар Кожаные Штаны упоминает некоторых бо¬
гинь (disir), отправленных к нему Одином с приглашением его в
Вальгаллу.
Преступления
Переходя к этической подоплеке, которой не лишена рассматриваемая
нами история, нельзя не вспомнить одиническую песнь «Прорицание
вёльвы» (строфа 37)15. После красочного описания зловещего чертога на
Берегу Мертвых пророчица обращается мысленным взором к мучениям,
которым подвергаются там иные из преступников:
«Шли чрез потоки
поправшие клятвы,
убийцы подлые
и те, кто жен
чужих соблазняет».
Взяв в расчет три эти типа преступников, мы констатируем, что все чет¬
веро наших героев — Вестейн, Торгрим, Торкель и Гисли — являются их
представителями. Рассмотрим теперь каждого героя в отдельности.
Помимо того обстоятельства, что Вестейн — лучший друг Гисли, его
специфическая роль в саге — вступить в запретную любовную связь с
женой Торкеля, поэтому, как вытекает из «Прорицания вёльвы», Вестейн
с полным правом занимает место среди других соблазнителей на Берегу
Мертвых.
Есть очевидная перекличка между второй полустрофой строфы 3816
«Прорицания вёльвы» и строфой 115 «Речей Высокого»:
«Чужую жену
не должен ты брать
в подруги себе».
Напротив, в строфе 20 «Песни о Харбарде» Один хвастается тем. что
обманывал иных мужей:
«Соблазнял я искусно
наездниц ночных,
отнимал у мужей их»
Впрочем, разумеется, Один не всегда следовал принятым нормам по¬
ведения.
Гисли и Торгрим, оба они заслуживают того, чтобы называться
mordvargr\ это слово (композит, первая часть которого, тогд, означа¬
ет «убийство», вторая, vargr, — «волк») было юридическим термином,
обозначающим убийцу. Хотя обстоятельства обоих убийств примеча¬
тельно похожи, их мотивы не одни и те же. Убийство Торгрима, как
мы видели, представляет собой акт кровной мести, Гисли мстит за
смерть своего друга и побратима. Убийство Вестейна — другое дело,
ибо Торгрим действовал от имени своего побратима Торкеля, честь
которого Вестейн оскорбил. Как было указано выше, убийство Вестей¬
на оказывается ритуальным убийством, но едва ли это спасет убийцу
от того, чтобы оказаться в страшном чертоге на Берегу Мертвых.
Древненорвежские и древнеисландские законы различали несколько
типов убийств в зависимости от обстоятельств и отношений между убий¬
цей и его жертвой. К самому факту убийства относились по-разному; так,
убийство беззащитного человека, особенно после наступления темноты
считалось особенно тяжким преступлением, относящимся к классу тогд.
Если преступник пытался скрыть совершенное убийство, то это увели¬
чивало тяжесть его вины. Примечательно, что одно из таких «тайных
убийств», как говорят саги, совершил сын Одина Сиги. Когда стало из¬
вестно, что Сиги не только убил невиновного человека и закопал его труп
в сугроб, но еще и солгал, рассказывая, как было дело, его объявили вне
закона, и ему пришлось бежать в далекую страну и начинать там жизнь
заново; правда, в этом последнем ему помог отец («Сага о Вёльсунгах»,
гл.1).
А что же Торкель? Может быть, он тот единственный из четверки,
кто избежит мучений на Берегу Мертвых? Нет оснований думать, что
у него были интимные отношения с чьей-либо женой, раз он не сумел
уследить даже за своей собственной. Поскольку мы почти уверены, что
Вестейна убил Торгрим, Торкель не попадает и в категорию mordvargr.
Не является ли он, в таком случае, «поправшим клятву»? Тот факт, что
сыновья Вестейна избрали Торкеля объектом мести за отца, косвенно
указывает на его причастность к убийству. Но если они знали настоя¬
щего убийцу, ими должно было двигать и нечто иное.
Из описания заключения побратимства с большой вероятностью сле¬
дует, что Торкель и Вестейн успели стать побратимами до того, как ри¬
туал оказался непредвиденным образом прерванным. В таком случае,
Торкель взял на себя обязательство не только мстить за Вестейна, но и,
покуда жив, не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб Ве-
стейну. Если же Торкель являлся сообщником Торгрима, то он, несом¬
ненно, нарушил эту клятву; а мы помним, что он был одним из трех уча¬
стников ритуального изготовления оружия, оборвавшего жизнь его
побратима.
264
Самым знаменитым клятвопреступником древней германской лите¬
ратуры был Один («Речи Высокого», строфа 110):
«Клятву Один
дал на кольце;
не коварна ли клятва?
Напиток достал он
обманом у Суттунга
Гуннлёд на горе».
Возможно, Один — клятвопреступник и в «Прорицании вёльвы»,
строфа 26:
«Крепкие были
попраны клятвы,
тот договор,
что досель соблюдался».
Валькирия Сигрдрива предупреждает Сигурда Убийцу Фафнира
(«Речи Сигрдривы», строфа 23):
«Клятв не давай
заведомо ложных;
злые побеги
у лживых обетов,
и проклят предатель».
Попранные клятвы — расхожий мотив героического эпоса. Даг сын
Хеши (см. выше) убил Хельги, несмотря на то, что принес ему и его ро¬
дичам клятву верности; за это его проклинает родная сестра, которую он
этим убийством сделал вдовой («Вторая песнь о Хельги Убийце Хундин-
га»). Точно так же Гудрун дочь Гьюки обвиняет своих братьев, что они
преступили клятвы, убив ее мужа («Первая песнь о Гудрун», строфа 21).
Клятвы, принесенные Атли Гуннару, не помешали ему убить своего шу¬
рина («Песнь об Атли», строфа 31 и далее). В трагической «Пряди о Сёр-
ли» Хедин и Хегни становятся друзьями и побратимами; но Фрейя, под¬
стрекаемая Одином, заставляет Хедина совершить против Хегни
страшные преступления. Так друзья становятся заклятыми врагами.
Примечания
1 Следует упомянуть следующие издания саги: Tvaer sogur af Gi'sla Surssym / Ed.
Konrad Gi'slason. Kobcnhavn, 1849; Gi'sla saga Surssonar / Ed. Finnur Jonsson.
Kobenhavn, 1929; lslenzk fornrit VI / Ed. Bjorn K. Porolfsson. Reykjavik, 1943. P. 1-
118. Gisla saga Surssonar / Ed. Agncte Loth. Kobcnhavn. 1956: Mcmbrana Regia
Dcperdita / Ed. Agnetc L.oth. Kobcnhaxn. I960. P. 1-80: Русский перевод см.. Ис¬
ландские саги. Иртандский эпос. М.. 1973. С. 23-80
1 Gudni Kolbcmsson оц Jonas Kristjansson Gcrdir Gislasomi (rnpla 111 (1979) P
128-162.
265
’ Русский перевод см.: Исландские саги. М., 1956.
4 См. Bardi Gudmundsson. Timatal annala um vidburdi sogualdar // Bardi
Gudmundsson Uppruni Islendinga. Reykjavik, 1959. P. 29-39. Первоначально опуб¬
ликовано: Andvart, 1936.
s Cm. Turville-Petre G. Um 6dinsdyrkun a Islandi. // Studia Islandica, XVII. Reykjavik,
1958; idem Myth and Religion of the North. L., 1964. P. 65 sq.
Л Русский перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980.
7 Русский перевод: Сага о Греттире. Новосибирск, 1976.
* Русский перевод см.: Исландские саги. М., 1956.
4 Далее, по тексту саги, Гисли убивает еще одного друга Торкеля, Торгрима. Пе¬
ред тем он просит Гейрмунда снять засовы с трех дверей в Морском Жилье. Ре¬
акция Гейрмунда свидетельствует о сложных отношениях братьев: «Здесь не бу¬
дет опасности для твоего брата Торкеля?» Не думал ли юноша, что Гисли способен
на братоубийство?
10 Русский перевод: Сага о Волсунгах// Корни Иггдрасиля. М., 1997.
" У Торгрима Носа была, кстати, сестра, тоже колдунья, и она тоже умела пове¬
левать погодой: «Она несколько раз обходит дом против солнца и, задрав голову,
тянет носом воздух со всех сторон. И вот стала погода меняться, подымается силь¬
ный буран, а потом наступает оттепель, снег на горе подмывает потоком, и на
хутор Берга обрушивается лавина. Там погибло двенадцать человек. Следы этого
обвала видны и по сей день».
12 Как часто указывалось, ритуальное убийство Хельги Асбьярнарсона в «Саге о
сыновьях Дроплауг» напоминает убийство Торгрима. Есть и другие аналогии, см.
мою статью: Death in Autumn. Tragic Elements in Early Icelandic Fiction //
Bibliography of Old Norse-Icelandic Studies 1973. Odense, 1974. P. 7-39.
13 Русский перевод см.: Младшая Эдда. Л., 1970.
14 Русский перевод этой и нижеупомянутых песней Старшей Эдды см.: Беовульф.
Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1976.
15 В русском переводе строфа 39.
16 В русском переводе строфа 39.
Перевод с английского И. В. Свердлова
М.Ю. Парамонова (Москва)
Культы святых королей
в Западной и Центральной Европе
Культ и агиографическое воплощение образа святого короля
относится к числу наиболее парадоксальных и характерных
явлений европейского средневекового религиозного созна¬
ния и политической мысли. Образы святых королей, к ко¬
торым с определенной уверенностью могут быть отнесены и
снискавшие религиозное почитание члены королевских и правящих ди¬
настий, были весьма многочисленны в пантеоне европейских средневе¬
ковых святых VI—XIV вв.1 Особую значимость и распространение они
получили, однако, в так называемых «периферийных регионах» латинс¬
кой Европы — в англосаксонском и скандинавском обществе и в Цент¬
ральной Европе2.
Религиозное и политико-идеологическое содержание образа святого
правителя, функциональная значимость его культа не были неизменны
на протяжении всей эпохи средневековья. Различными были пути и воз¬
можности включения культов святых правителей и династических святых
в контекст политико-идеологической стратегии и практической деятель¬
ности правящих династий. Это разнообразие не может быть объяснено
только через категории последовательной эволюции определенного куль¬
турного феномена в контексте развития общества в целом. Безусловно,
огромное значение имел и фактор региональных различий, обусловлен¬
ных как своеобразием традиционных духовных и социальных структур,
так и спецификой политического и религиозного развития народов в эпо¬
ху средневековья3.
Говоря о региональной специфике развития феномена почитания свя¬
тых правителей и династических святых, можно отметить принципиаль¬
ные различия между Средиземноморской Европой и широким и внутрен¬
не неоднородным пространством Заальпийской Европы. Статистические
исследования, проведенные на обширном агиографическом материале,
показывают существенные отличия доминировавших моделей святости
и типов святых, которые становились предметом массового почитания.
Уже в эпоху раннего средневековья среди «северных» святых преоблада¬
ли лица знатного происхождения и представители могущественных ди¬
настий. в го время как средиземноморская модель святости преимуще¬
267
ственно ориентировалась па святых чудотворцев1. В лом контексте весь¬
ма логичным кажется отсутствие феномена святого правителя в средизем¬
номорской духовно-религиозной практике, и формирование весьма мно¬
гочисленной группы святых правителей в Северной Европе.
Первые образы святых правителей появляются в меровингской Галлии,
и по мере расширения границ христианского мира на севере и на востоке
обнаруживается тенденция не только их появления в новых регионах, но
и доминирования в местной религиозно-культовой практике. Распростра¬
нение типа «знатного святого»', в том числе и святого короля, в заальпий¬
ской Европе — во Франкском обществе, и особенно в североевропейском
— англосаксонском и скандинавском — обществе может быть объяснено
спецификой и устойчивостью архаических германских представлений о ха¬
ризме благородного происхождения и власти. Не менее существенна и спе¬
цифика церковной и религиозной жизни: успешное распространение хри¬
стианства в регионах традиционной варварской культуры определялось
адаптацией к местным традиционным верованиям и социальным практи¬
кам.
В связи с отмеченной выше генетической связью культа святых ко¬
ролей с дохристианской сакрализацией правителей встает более широ¬
кая проблема генезиса и типологии феномена святого короля христи¬
анской Европы. Речь идет о возможности соотнесения христианского
«святого правителя» с мифологическим архетипом «сакрального коро¬
ля» традиционных обществ6.
Тенденция мифологизации власти и правителя так или иначе проявля¬
лась на протяжении всей истории средневековья. В историографии изве¬
стную остроту приобрела полемика о соотношении представлений о
сверхъестественных способностях правителя с феноменом королевской и
династической святости. Спор ведется о возможности взаимного пересе¬
чения веры в магическую харизму правителя и христианской концепции
сверхъестественных «достоинств» святого. Обращаясь к феномену раннес¬
редневековой аристократической и королевской святости, многие иссле¬
дователи склонны объяснять его как христианскую реинтерпретацию ар¬
хаической сакральности правителя и рода. Эту преемственность они
рассматривают как движение в направлении христианской религиозной
легитимации власти и благородства крови в духе формулы «по-герман-
ски осмысленно, по-христиански пережито»7. Гораздо более радикаль¬
ной кажется тенденция объяснения средневековой королевской святости
исключительно в понятиях этно-антропологической перспективы1*. Доми¬
нирование определенных мотивов в королевской агиографии средневеко¬
вья (мученическая гибель, праведное правление и благополучие народа),
которые были созвучны и массовому восприятию фигур святых правите¬
лей, интерпретируется как отражение универсальных архетипов сознания.
К их числу относится, например, ритуальная значимость смерти боже¬
ственного царя или представление о магических способностях правителя
обеспечивать плодородие и благополучие своего народа4.
Сведение содержания, генетических и типологических связей культов
святых правителей только к универсальным архетипам архаического и ир¬
рационального сознания кажется односторонним для понимания социо¬
26S
культурных параметром явления"’. Феномен смятою прамителя получил
свое развитие и специфическую значимость м контексте христианских
представлений о религиозно-этическом идеале и функциях светской вла¬
сти. Его идеологическое содержание и социальное функционирование
лежало на стыке двух культурных парадигм: элитарной церковно-рели¬
гиозной рефлексии и значимой для мирского сообщества системы пред¬
ставлений о политическом господстве. Церковная концептуализация
образа святого правителя сыграла наиболее значительную роль в превра¬
щении этих культов в компонент политико-идеологической мысли, а в
периферийных регионах латинской Европы — в функционально значи¬
мый элемент социальной адаптации принципов религиозного обоснова¬
ния этики и легитимности мирской власти.
Латинская традиция церковного осмысления культа святого правителя
предполагала активную экспансию в сферу религиозной концептуализа¬
ции его образа. Отталкиваясь от стихийных и иррациональных представ¬
лений о сакральности правителя, рефлексия носителей ученой культуры
была направлена на моделирование образа в соответствии с церковной
концепцией святости11. Она включала понимание святости и как сверхъе¬
стественного дара, и как религиозно-этического совершенства. Одним из
ее неизменных компонентов была инверсия земного статуса, воплощен¬
ная в отказе от мирского величия ради следования личному благочес¬
тию12. Двойственная природа святого короля — божественного избран¬
ника, с одной стороны, и воплощения мирского могущества, с другой, —
заставляла королевскую агиографию с особой остротой ставить пробле¬
му соотношения религиозной святости и (сакрального) статуса земного
владыки1'. Безусловное подчинение образа святого правителя церковно¬
му пониманию христианской избранности приводило к логической за¬
мене концепции сакрального короля христианской этической концепци¬
ей святости. Власть, происхождение, статус вытеснялись личным
религиозно-этическим совершенством, которое становилось главным ар¬
гументом в пользу святости и избранности того или иного правителя14.
Иными словами, «святой правитель» никогда не рассматривался как свя¬
той «потому, что был правителем и принадлежал к правящей династии»;
напротив, мирской статус рассматривался как нечто более или менее про¬
блематичное с точки зрения его личной святости. Характерно, что культ
святого правителя никогда не приводил к прямому переносу достоинства
«святости» на мирское достоинство (королевскую должность) или на его
династию'^, святость сохраняла смысл личного отличия и личной избран¬
ности.
Осмысление феномена королевской святости отразило и специфику
церковной рефлексии относительно природы и функций мирской влас¬
ти. Одной из особенностей западноевропейской политической теологии
можно считать негативную и пессимистическую оценку светской влас¬
ти. Эта традиция, берущая свое начало в раннехристианском сознании и
артикулированная Августином, сохраняла свою силу на протяжении всей
эпохи средневековья.
Вместе с гем. критическая оценка мирской власти в латинском по¬
литической геологии соседствовала с рефлексией, направленном на
269
определение нормативных параметров позитивной, с точки зрения
христианства, модели власти. Латинская теология разработала религи¬
озные формулы легитимности власти, определила формальные пара¬
метры личной этики правителя и функции власти, подлежащие рели¬
гиозной санкции16. Церковная концепция «праведного короля» сыграла
существенную роль в рационализации и христианизации этики светс¬
кой власти17. Королевская агиография, по всей видимости, может и дол¬
жна рассматриваться в контексте западно-христианской политической
теологии. Сталкивая два этических комплекса — достоинства святого и
ответственность правителя — агиографическое сочинение неизбежно
обращалось к вопросу религиозно-этического статуса власти18.
Особая идеологическая и функциональная значимость культов свя¬
тых правителей проявлялась в сфере религиозного и социального по¬
читания, они нередко становились важным элементом политической
практики и системы политико-идеологических представлений19. Куль¬
ты святых правителей выполняли те же функции, что и культы святых
в целом20. Как и любой святой, святой правитель становился центром
интегрированного сообщества, в котором люди были объединены по¬
читанием своего святого патрона. В рамках культового почитания рож¬
далось как ощущение политического единства, так и формальная идея
государственности.
Западная Европа
Западноевропейская традиция почитания святых правителей зарожда¬
ется во Франкской Галлии на заре средневековья. Появление этого типа
святых вписывается в контекст широкого развития культов знатных свя¬
тых в меровингском обществе21. Исследователи полагают, что в этом фе¬
номене нашли свое продолжение специфические германские представ¬
ления об особой святости, харизме и божественном происхождении
представителей могущественных и знатных династий22. Франкская ари¬
стократия через церковную глорификацию своих представителей выра¬
батывала новые принципы легитимации своего положения, опиравши¬
еся на язык христианских религиозных символов и понятий. Однако ее
участие в становлении культов династических святых ни в коей мере не
может быть определено как сознательное и целенаправленное; здесь
уместно, скорее, понятие «интуитивного политического поведения»23.
Фр. Граус, предложивший формализованную типологию святых ко¬
ролей на основе анализа меровингской агиографии, выделяет три типа
королей, удостоенных религиозного почитания24;
Короли аскеты, святость которых нашла свое выражение в отказе от
власти и принятии монашеского достоинства;
Короли мученики, невинно погибшие от рук врагов или своих ближ¬
них (в русской традиции — страстотерпцы);
Короли, вызывавшие особые эмоции в своем народе, благодаря осо¬
бенностям своего правления, — как правило, миролюбием.
270
К числу типических характеристик святых королей, отраженных в аги¬
ографии и письменной традиции, можно отнести особые религиозные
достоинства: личное благочестие и заботу о вере и церкви, основание
новых церквей и монастырей. В ряду святых королей меровингской эпохи
исследователи не находят ни одного действительно могущественного и
прославленного делами управления государя25. Созданная в рамках аги¬
ографических сочинений этой эпохи модель королевской святости опре¬
делялась специфическим монашеским идеалом благочестия, важнейши¬
ми чертами которого были радикальный религиозный аскетизм и
«бегство от мира». В ней отразилось негативное отношение к мирскому
могуществу героя: его святость не только не находила отражения в сфере
его политической власти, но и осуществлялась вопреки ей26. Формиро¬
вание культов правителей аскетов было, по всей видимости, прямым де¬
лом тех церковных институтов, в которых они приняли монашеский по¬
стриг после отречения от власти. Сфера их почитания, как правило, была
весьма невелика и ограничивалась пределами монастырей или религиоз¬
ных общин, инициировавших их культ.
Более сложным представляется процесс формирования культов коро¬
лей мучеников и королей миролюбцев. Их зарождение было, видимо, свя¬
зано с массовым почитанием, стихийно возникавшим после смерти этих
правителей, хотя существенная роль в пропаганде и укоренении культа
также принадлежала церковным сообществам27. Нередко репутация свя¬
тости складывалась вокруг правителя, который при жизни не отличался
особым религиозным благочестием или личными достоинствами28. Одна¬
ко церковные учреждения, как правило, обязанные данному кандидату
в святые своим основанием, или при его жизни ощущавшие его особую
заботу, либо же обладавшие его мощами, стремились использовать эти
культы в своих интересах. Вместе с тем, существенной задачей церкви
было представить образы правителей в соответствии с агиографическим
каноном, иначе говоря, изобразить их как лиц, отличавшихся особым
благочестием и заботившихся о церкви и вере. В последующей истории
франкского и западноевропейского общества почитание заурядных, с
точки зрения религиозных или политических достоинств, правителей,
погибших от рук противников, не было редкостью29.
Особый этап в развитии латинской концепции королевской святости
был связан с королевской агиографией и династическими культами X —
первой половины XI в. В первую очередь речь идет о житиях святых —
представителей германской династии Людольфингов (920—1024 гг.)30. Эти
агиографические сочинения обязаны своим происхождением определяю¬
щим духовно-религиозным движениям эпохи, которые, как правило,
отождествляются с монастырскими реформационными кругами, сфор¬
мировавшимися вокруг монастырей Клюни во Франции и Горце в Гер¬
мании31. Для текстов, возникших под влиянием этих реформационных
движений, характерен ряд весьма существенных концептуальных ново¬
введений, которые отличают их от королевской агиографии предшеству¬
ющего периода, и, прежде всего, утверждение идеи о возможности совме¬
щения святости (религиозного благочестия) и высокого мирского
достоинства’2. В отличие от идеологических тенденций предшествующего
271
периода, предполагать их антиномию святости и власти, святой прави¬
тель, в более широком выражении — знатный святой, воплощает исклю¬
чительную религиозность и аскетизм, не порывая со своими мирскими
обязанностями. Сформированная реформационной агиографией модель
может быть представлена формулой «религиозный аскет (монах) на тро¬
не»1’.
Агиографические сочинения, возникшие в рамках духовно-религиоз¬
ных движений Клюнийской и Горцской реформ, предлагают разные мо¬
дели соотношения святости и власти. Написанное во Флёри (Клюнийс-
кая реформа) житие французского короля Роберта Благочестивого создает
образ правителя, наделенного аскетической религиозностью; он вопло¬
щает схему «монах на троне»14. Вместе с тем собственно религиозные до¬
стоинства героя не находят продолжения в сфере выполнения светских
обязанностей, автор во многом сохраняет верность схеме противопостав¬
ления святости и власти35. В отличие от предшествующей агиографичес¬
кой интерпретации короля аскета, это житие ослабляет напряженность
противопоставления аскетической святости и существования героя в
миру. В нем отражается столь характерное для Клюни сочетание нова¬
ции и консерватизма, религиозного аскетизма и аристократичности16.
Еще более сложные и разнообразные модели соотношения святости и вла¬
сти представляют агиографические сочинения, посвященные династичес¬
ким святым из рода германских правителей Людольфингов17. Формаль¬
но в ряд династических святых не включен ни один правящий государь.
Героями агиографических сочинений стали близко стоящие к высшей
власти, но не обладающие ею непосредственно, т.е. в качестве правящих
государей, персонажи — брат Оттона I, архиепископ Кельнский Бруно,
Матильда — его мать и жена первого короля из саксонской династии и,
наконец, вторая жена самого Оттона I — Аделаида38. Тем не менее, эти
агиографические тексты, равно как и функционирование культов дина¬
стических святых в оттоновской историографической и политической
традиции можно рассматривать в контексте эволюции феномена коро¬
левской святости.
В житии Бруно Кельнского, написанном в 70-е гг. X в. Руотгером,
одним из кельнских клириков, святой предстает не только как воплоще¬
ние строгого религиозного аскетизма, но и как активный участник и орга¬
низатор церковной реформы39. Деятельная активность героя не ограни¬
чивается собственно церковной сферой: автор не только отмечает факт
выполнения Бруно обязанностей светского главы Лотарингии, но и спе¬
циально подчеркивает его энергию, акцентирует его озабоченность де¬
лами власти и удачливость в этой сфере40. Вероятно, это первый в ла¬
тинской агиографии пример святого, совмещающего «радикальный
религиозный аскетизм с волей к власти» (Э. Ауэрбах)41.
Важнейшей оригинальной идеологической конструкцией оттоновс¬
кой агиографии является, по мнению исследователей, использование
универсальной агиографической схемы уподобления Христу специально
в связи с выходом из антиномии «святость — мирское могущество»12.
Необходимо отметить принципиальную смысловую двойственность этой
схемы. Святой правитель сопоставляется с Христом — Владыкой мира, с
272
одной стороны, и с Христом — страдающим и униженным, с другой сто¬
роны. Здесь присутствует логическая инверсия традиционной ценности
мирского статуса и власти — их блеск и величие приобретают специфи¬
ческое религиозно оправданное значение только в свете личных религи¬
озных качеств правителя, таких, как смирение, милосердие и сострада¬
ние41. Эта идеологическая конструкция оттоновской агиографии не
только представляет в особом ракурсе одну из наиболее существенных
черт оттоновской политической идеологии — идею христоуподобления
правителя44, но и придает ей особый этический и религиозно-дидактичес¬
кий смысл4\
Ни один из указанных выше династических святых не приобрел ши¬
рокой известности. Их почитание ограничивалось главным образом пре¬
делами тех церковных институций, которые находились под патронатом
святых при их жизни. Не исключено, однако, что агиографические тексты
либо обращение к образам святых в исторических сочинениях могли вы¬
полнять функции династической пропаганды и подтверждения ее леги¬
тимности.
Принципиально новые черты культ и агиографическая репрезентация
образа святого короля приобретают в контексте так называемых полити¬
ческих канонизаций XII в.46 Речь идет о ряде последовавших одна задру¬
гой канонизаций прославленных королей прошлого, осуществленных по
инициативе правящих государей и имеющих отчетливую и сознательную
политико-идеологическую направленность. В этом ряду можно назвать
канонизацию английского короля Эдуарда Исповедника (1161 г.), гер¬
манского правителя Генриха II (1146 г.) и Карла Великого (1165 г.), а так¬
же скандинавских и венгерских правителей.
Канонизация святых королей находилась на стыке интересов практи¬
ческой политики и принципиальной потребности упрочить символичес¬
кую и религиозную санкцию светской власти в условиях кризиса тради¬
ционных представлений о сакральности и легитимности правителя.
Причины таких сдвигов лежат в сфере структурной трансформации по¬
литической и религиозной жизни, которая характерна для эпохи высо¬
кого средневековья. Их не без основания оценивают как результат ини¬
циированного папством движения за «освобождение церкви», так
называемой борьбы за инвеституру, которую иногда называют первой
великой социальной революцией в истории западноевропейского обще¬
ства47. В сфере политического сознания она стимулировала процесс раз¬
граничения и упорядочения функций светской и духовной власти, раз¬
ведения сфер мирского и духовного руководства. Это сопровождалось
разрушением архаических представлений об универсальности функций
и духовном статусе персоны государя. В этом контексте развертывается
тенденция последовательной христианской идентификации собственно
мирского предназначения правителя и политической власти, которая об¬
наружилась и в специфике канонизации правителей в XII в.
Инициатива канонизации святых королей либо прямо принадлежала
правящим монархам (Генриху II Английскому и Фридриху 1 Барбароссе
при установлении культов соответственно Эдуарда Исповедника и Карла
Великого), либо, как в случае с Генрихом 11, исходила со стороны одной
273
из важнейших церковных кафедр империи — епископства Бамбергского
— и была поддержана императором Конрадом III4*. Во всех трех случаях
усилия были направлены не только на укрепление авторитета светской
власти, в значительной степени подвергнутого сомнению в результате уси¬
лий папства. За ними стояла и вполне практическая проблема подтверж¬
дения легитимности династии (через демонстрацию особой связи со свя¬
тым предшественником, не являвшимся биологическим предком) и
престижа центральной власти. Целенаправленное наделение этих культов
функциями политической пропаганды, весьма причудливо и вместе с тем
органично совмещающей политический расчет и религиозный символизм,
прочитывается в действиях Генриха Английского и особенно Фридриха
Барбароссы. Они стремятся придать всей процедуре канонизации широ¬
кий публичный характер, добиваются санкции папского престола, органи¬
зуют торжественные церемонии. Провозглашение кандидатов в святые
носителями специфических религиозных достоинств, подтверждение их
святости как таковой нашло свое отражение не только в агиографических
сочинениях, но и в специальных декларациях, предшествовавших и сопро¬
вождавших процесс формальной канонизации.
Наиболее существенной чертой новой концепции «королевской свя¬
тости», зафиксированной в агиографических и иных текстах, является ут¬
верждение возможности проявления специфического признания свято¬
го и его достоинств в мирской деятельности, которая представлена как
деятельность образцового христианского монарха49. Любопытно, что эта
деятельность, стилизованная в соответствии с церковным эталоном эти¬
ки и обязанностей христианского правителя, соотносится с традицион¬
ными церковными дефинициями и типами святости50.
Последняя существенная по своему характеру трансформация образа
святого правителя происходит в XIII в. и связана по преимуществу, хотя
и не исключительно, с фигурой Людовика IX Святого51. Людовик IX
(1214—1270 гг.), один из наиболее значительных представителей фран¬
цузской династии Капетингов, уже при жизни снискал себе славу очень
благочестивого и святого короля. Личные качества Людовика, зафикси¬
рованные не только в агиографии, но и в разнообразных и многочислен¬
ных сочинениях, само восприятие его персоны окружающими созвучны
новым тенденциям духовной и религиозной жизни, а его образ может
быть соотнесен с новой агиографической моделью, которую определяют
как «новую святость»52. Ее формирование связано с глубокой трансфор¬
мацией всей системы благочестия и религиозно-этических представле¬
ний, которая осуществляется в течение XII—XIII вв., прежде всего в ре¬
лигиозной практике францисканцев и доминиканцев51.
Людовик Святой и как реальный персонаж, и как герой агиографичес¬
ких сочинений, воплотил и духовный идеал рыцарства, ставивший перед
светской аристократией задачу религиозного служения, и новую модель
религиозно-этического совершенства, связанную с обостренным внима¬
нием к последовательной реализации норм религиозной жизни в повсед¬
невном существовании. В отличие от агиографической интерпретации
святого короля XII в., образ Людовика Святого апеллировал не только к
воплощенному идеалу праведного христианского правителя, но и к идее
274
личного религиозного и этического совершенства государя'4. Чрезвычай¬
ная важность именно последовательной личной религиозности в образе
Людовика осознавалась современниками: восхищение его образцовым
благочестием совмещается с опасениями, что экстремальное благочестие
короля может помешать ему в делах власти55.
Культ Людовика имел и существенную политико-идеологическую на¬
грузку: инициатива официальной канонизации Людовика56 принадлежа¬
ла представителям его рода и имела целью укрепление авторитета и пре¬
стижа династии. Посмертное почитание Людовика связывалось с культом
святого Дионисия, главного святого — покровителя королевства и дина¬
стии. При жизни Людовика пропаганда этого культа была одной из су¬
щественных задач короля: она подтверждала символическое единство
династии и королевства57. В условиях формирования структуры центра¬
лизованного королевского управления и самой концепции государства
образ святого короля имел существенный символический и идеологичес¬
кий вес.
Северная Европа
Почитание святых королей имело особое значение в регионах, условно
определяемых как «северная периферия» Латинской Европы — в англосак¬
сонском и скандинавском обществе58. Образы святых правителей представ¬
ляли здесь не только весьма многочисленную группу в пантеоне святых,
но и культы их относились к наиболее популярным и были отмечены мас¬
совым почитанием. Исследователи отмечают, что, несмотря на значитель¬
ный хронологический разрыв — VII—X вв. для англосаксонского общества
и X—XIII вв. в Скандинавии — можно отметить целый ряд существенных
параллелей как в агиографическом представлении, так и в функциональ¬
ной значимости культов святых правителей в обоих регионах59. Такое ти¬
пологическое единство в идеологии и функционировании объясняется
своего рода прямой преемственностью между англосаксонской и сканди¬
навской традициями — более поздние по времени скандинавские культы
святых королей формировались на основе англосаксонского опыта церков¬
ного и политического функционирования святых правителей. Как стихий¬
ное, так и церковное почитание святых королей зафиксировано уже в
«Церковной Истории» Беды Достопочтенного60. В ряду упоминаемых им
святых королей у англосаксов можно указать на типы, аналогичные ран¬
ней франкской агиографии: короли аскеты, святость которых проявилась
не только в личном благочестии, но и в отречении от власти в связи с ухо¬
дом в монастырь и невинно убиенные короли мученики61. Однако уже в
ранний период англосаксонской традиции почитания святых обнаружива¬
ется появление новой модели — святого короля, мученически погибшего
в сражении с язычниками62.
Именно этот тип короля святого получил наибольшее распростране¬
ние в англосаксонском обществе, а позже стал безусловно доминирую¬
щей моделью в развитии культов святых королей в Скандинавии.
275
Стихийное почитание и популярность королей, погибших в сражении,
можно считать порождением традиционной, глубоко укорененной мифо¬
логии и спецификой массового обращения в христианство. Культ святых
накладывался на традицию почитания знатных воинов, героев и королей,
особым образом связанных с богами — ведущих от них свое происхож¬
дение или посвященных Одину. Такой герой, король и воин, прославив
себя и свой народ многочисленными сражениями и победами, предоп¬
ределен к гибели в своей последней битве, однако его трагическая смерть
является специальным знаком отличия, ибо открывает ему путь в небес¬
ный чертог и окружение Одина. Откликаясь на случаи гибели христиан¬
ских правителей, народное сознание оперировало традиционными мифо¬
логемами, совмещая их, достаточно формально, с христианскими
образами: образ Одина замещался фигурой Христа, принимавшего спе¬
цифические черты покровителя и предводителя воинов, героически по¬
гибший король осмыслялся как его воин, ритуальное посвящение и по¬
смертное пребывание около своего божественного главы формально
перекликались с христианской идеей избранности святого63.
В сфере агиографического осмысления фигуры святого правителя ан¬
глосаксонская традиция дает пример, с одной стороны, поразительного
сохранения элементов традиционной мифологии, с другой — их после¬
довательной маргинализации в идеологической структуре текстов. Начи¬
ная с Беды Достопочтенного, церковная и агиографическая легенда ак¬
тивно утверждает специфические христианские достоинства святых
королей, вводя традиционные мотивы исключительного личного благо¬
честия, особого попечительства о церкви и религиозной жизни, приме¬
няет к ним характерную топику святости — радикальный личный аске¬
тизм или религиозное мученичество64.
Помимо ассимиляции и религиозного переосмысления традиционно¬
го образа короля, героя и воина, англосаксонская агиография имела еще
одно существенное отличие от ранней западной традиции королевского
почитания. В число святых королей она изначально включила персона¬
жей, заслуживающих репутацию удачливых и политически активных пра¬
вителей64. Отталкиваясь от народной традиции сакрализации и почита¬
ния удачливых королей, церковная традиция переосмыслила их образы
в духе христианской церковной традиции «праведного» и христианского
короля. Важное значение приобретает в англосаксонской традиции и ди¬
настический аспект: святой правитель выступает как символический ро¬
доначальник своей династии, замещающий собой легендарную генеало¬
гию языческих предков — героев. Нормативная модель образцового
христианского правителя, разработанная в латинской политической те¬
ологии, нашла в англосаксонской традиции основной канал своего вы¬
ражения в королевской агиографии, в известном смысле она выполняла
функции традиционного для латинской Европы жанра «королевских зер¬
цал».
Еще одним отражением особого политико-идеологического значения
королевских культов была быстро укоренившаяся практика использова¬
ния их в целях легитимации династии66. Культы святых королей являлись
объектом особой заботы их правящих преемников. Имея общую идеоло¬
276
гическую задачу — упрочение собственных прав политического господ¬
ства и легитимности своего рода, отдельные случаи демонстрации тесной
связи правящего короля со святым предшественником могли быть обус¬
ловлены самыми разнообразными политическими обстоятельствами67.
Перечисленные выше элементы, определяющие специфику агиогра¬
фической концепции святого короля и политико-идеологическое функ¬
ционирование королевских культов в англосаксонском обществе, были
восприняты и воспроизведены в агиографической и культовой традиции
Скандинавии XI—XII вв.6К Несмотря на то, что в своих основных — кон¬
цептуальных, идеологических и функциональных — аспектах феномен
королевской святости в Норвегии, Дании и Швеции следовал в русле
англосаксонской традиции, можно указать и на ряд отличий скандинав¬
ской модели.
Прежде всего, чисто формально число святых королей в скандинавс¬
ких государствах было несравненно меньшим, чем в англосаксонских го¬
сударствах. Однако эффект их общесоциального и политического воздей¬
ствия был намного более высоким, чем в англосаксонской истории.
Культы скандинавских королей — Олава Святого в Норвегии, Кнута Свя¬
того и Кнута Лаварда в Дании, Эрика Святого в Швеции,— весьма ин¬
тенсивно эксплуатировались как в деле формирования принципиальных
оснований идеологии и легитимности королевского правления, так и в
конкретной борьбе за политическое верховенство той или иной династии.
Политико-теологические функции культов святых королей лежали не
только в сфере утверждения этической модели справедливого и христи¬
анского правителя. Исключительную значимость имела их роль в обосно¬
вании особой христианской легитимности достоинства правителя перед
лицом традиционных свобод и земельной аристократии и действенно¬
сти институтов племенного управления. С особой отчетливостью эти
идеологические интенции отразились в культе св. Олава. Стихийное и
приобретшее сразу после его смерти массовый характер почитание этого
короля с особой силой акцентировало его достоинство как правителя и
небесного патрона Норвегии. В рамках этого культа сложилась традиция
восприятия Олава как вечного и единственного короля Норвегии, лишь
временно передающего свою власть реальному правителю6’. Это пред¬
ставление было поддержано как церковью, так и преемниками Олава,
связавшими церемонию введения во власть с местом захоронения Ола¬
ва, на гробнице которого они приносили святому присягу вассальной
верности и клятву символической передачи и ответного наделения коро¬
левством. Восприятие Олава как небесного патрона Норвегии, со специ¬
альным акцентированием его значения именно как политического гла¬
вы сообщества, задавало очень важные эмоциональные и символические
параметры интеграции норвежского общества именно как политическо¬
го сообщества, объединенного вокруг фигуры правителя70.
Культ Олава был связан также с идеологией династической легитимно¬
сти и преемственности: Олав выступает не только как патрон Норвегии,
но и как покровитель династии. Со временем непосредственное династи¬
ческое родство уступило место системе символической преемственности,
в рамках которой каждый новый правитель должен был подтверждать
277
правовую и личную связь со святым обладателем высшей власти. С не¬
сколько меньшей выразительностью такое политико-идеологическое и
конституирующее значение обнаружилось и в культах датских святых
королей, и в почитании Эрика Шведского, имевших, однако, более ак¬
центированную династическую направленность71.
Так же, как и в Западной Европе, культы династических святых и свя¬
тых правителей теряют в скандинавском обществе свою функционально
значимую идеологическую нагрузку в ходе эволюции политической тео¬
логии и ее трансформации в рациональную политическую теорию и си¬
стему формально-правовой легитимации.
Центральная Европа
Развитие культов святых правителей в государствах Центральной Евро¬
пы (в данном случае речь идет только о Чехии и Венгрии) обладало сво¬
ей спецификой по сравнению как с западной, так и с северной моделью.
С Северной Европой функционирование культов святых правителей в
Чехии и Венгрии сближает их интенсивное использование в системе
практической политики и существенный удельный вес в развитии поли¬
тического самосознания общества. Безусловным отличием была извест¬
ная «искусственность» и нарочитость в формировании и использовании
образов династических святых: в отличие от скандинавского и англосак¬
сонского варианта культы центральноевропейских святых королей гене¬
тически весьма слабо связны с системой традиционной мифологии и со¬
циальных представлений. Изначально они были вызваны к жизни
усилиями церковных институций или правящих династий, их идеологи¬
ческое содержание определялось преимущественно церковной концеп¬
цией святости и политическими задачами глорификации династии.
Наиболее рано культ святого правителя складывается в чешском кня¬
жестве: со второй половины X в. начинается становление церковного по¬
читания св. князя Вацлава, погибшего от руки собственного брата, чле¬
на правящей династии Пржемысловцев72. Первоначально почитание
Вацлава стимулировалось преимущественно усилиями созданной в 70-
е гг. X в. Пражской епископской кафедры, заинтересованной в укорене¬
нии культа местного святого. По всей видимости, зарождение культа свя¬
того правителя в Чехии было обусловлено сильным церковным и
политическим влиянием со стороны оттоновской Германии: в частности,
ранняя агиография отразила близость к религиозным и политико-теоло¬
гическим идеям германской агиографии конца X в.
Широкое социальное значение культ св. Вацлава приобретает в XI—
XII вв7\ Как его функционирование, так и основные идеологические ком¬
поненты получают отчетливую политическую окраску, что позволило ис¬
следователям определить культ Вацлава через понятие политической
идеологии. Образ Вацлава в популярных представлениях и в письменном
традиции приобретает черты национального патрона — покровителя и
защитника чехов, воина и защитника отечества. Подобно культу св. Олава
27Х
Норвежского, св. Вацлав осознается как вечный небесный владыка Че¬
хии, в отношениях с которым все чехи предстают как подданные (челядь
святого правителя), лишь на время передающий свои функции реально¬
го управления тому или иному князю. Так же, как и в скандинавских
странах, культ св. Вацлава стал одним из существенных факторов наци¬
ональной идентичности и идеи политического единства. Однако в отли¬
чие от скандинавской модели, культ чешского святого был гораздо сла¬
бее связан с идеей династической легитимации. Весьма рано св. Вацлав
был воспринят именно как глава политического сообщества и стал сим¬
волом политических притязаний, правовой и социальной эмансипации
чешской знати74.
В конце XII в. культ Вацлава утрачивает свою политико-идеологичес¬
кую актуальность, уступая место рациональным политико-идеологичес¬
ким концепциям. Хотя он занимал, безусловно, доминирующее положе¬
ние в системе почитания местных святых, нельзя не отметить появление
и других местных святых, связанных с правящей династией: возникший
в конце X в., но получивший распространение не ранее середины XII в.
культ бабки Вацлава Людмилы, а также почитание получившей репута¬
цию святости дочери одного из последних представителей династии —
Агнессы. Эти культы, несомненно, сыграли свою роль в упрочении ре¬
путации династии, но не могли сравниться с культом св. Вацлава по сво¬
ей роли в религиозном, идеологическом и государственном развитии
средневековой Чехии.
Новый период актуализации политико-идеологического звучания
культа св. Вацлава и династических святых приходится на XIV в.75, что
было результатом специальных усилий наиболее значительного правите¬
ля из новой династии Люксембургов — Карла IV. Карл целенаправленно
пропагандировал значимость династических святых, демонстрируя леги¬
тимность собственной династии как преемницы предшествующего чеш¬
ского правящего рода. Стратегия Карла подразумевала и важную для его
эпохи пропаганду особого религиозного и морального авторитета соб¬
ственной династии, который утверждался через связь с чередой предков,
отмеченных особой религиозной избранностью76. В этом смысле, про¬
паганда династической святости предшествующей династии и особой
связи с ней, осуществляемая Люксембургами, представляется аналогич¬
ной усилиям «чужой» для соседней Венгрии Анжуйской династии, сме¬
нившей в XIV в. местный род Арпадов.
Не менее важное, чем в Чехии, значение приобретает почитание свя¬
тых правителей в Венгерском государстве77. Сложившаяся здесь позже,
чем в Чехии, традиция династических культов приобретает в Венгрии ряд
характерных отличий. В первую очередь, культы святых правителей были
тесно связаны с задачей династического прославления и активно функ¬
ционировали при разрешении актуальных проблем политической жизни.
Осуществленная в самом конце XI в. канонизация первого венгерского
короля Стефана I и его сына Имре (Генриха) имела вполне определен¬
ную практическую цель — подтверждение легитимности победившего в
столкновении с другими претендентами представителя одной из линий
династии Арпадов76. Созданный агиографами образ св. Стефана, отражая
279
сложившуюся легендарную традицию о первом венгерском короле, был
выполнен в соответствии с церковной моделью образцового христианс¬
кого и праведного правителя. С точки зрения концептуального констру¬
ирования образа святого, святостефанская агиография вписывается и
контекст развития королевской агиографии в эпоху высокого средневе¬
ковья: она отмечена чертами перехода от ранней аскетической модели к
представленной в королевской агиографии XII в. религиозной сакрали¬
зации образцового правителя. Образ св. Стефана сыграл важную роль в
конституировании идеи государства и династического управления — не
случайно политическая традиция связала корону венгерских королей с
фигурой св. Стефана79.
Почитание святых правителей и династических святых в Венгрии так
или иначе служило артикуляции представления об особой религиозной
избранности правящего рода и его христианской легитимности. В тече¬
ние XII—XIII вв. круг династических святых Арпадов становится в Латин¬
ской Европе одним из наиболее широких. В конце XII в. был канонизи¬
рован король Владислав, образ которого был стилизован в соответствии
с эталоном образцового христианского короля-рыцаря. В XIII в. ореол
святости распространяется на женщин — представительниц династии. В
этот период образ династического святого приобретает отчетливый рели¬
гиозно-этический смысл, высвобождаясь из мифологии династическом
сакральности80. В XIV в. моральная, этическая и религиозная значимость
династических святых была целенаправленно концептуализирована и
политической пропаганде Анжуйской династии. Сменившая Арпадов на
венгерском престоле новая династия нуждалась в подтверждении своей
связи с предшествующим местным правящим родом, и через демонстра¬
тивное почитание святых этого рода отношения с ними переносились из
сферы кровного родства в плоскость религиозно-этической преемствен¬
ности81. Идеологическое обоснование авторитета и религиозной избран¬
ности Анжуйской династии, что имело особую значимость для венгерс¬
кой и сицилийской ветвей династии, опиралось на символическую
генеалогию святых предшественников правящих государей. С одной сто¬
роны, она включала династических святых Арпадов, с другой стороны —
канонизированных святых собственно Анжуйской династии — француз¬
ского короля Людовика Святого и канонизированного в 1317 г. еписко¬
па Людовика Анжуйского.
Связь культов святых королей со средневековой политической те¬
ологией особенно откровенно проявилась в так называемых перифе¬
рийных регионах Латинской Европы. Здесь культы святых королем
стали основным источником политических идей, символов и принци¬
пов религиозной легитимации власти. Эпоха позднего средневековья
завершает процесс эволюции концепции королевской святости, куль
ты святых королей и династических святых отходят на периферию ре¬
лигиозной и политической жизни. На первый план выступают иные
формы артикуляции политического сознания, формируется феномен
более или менее систематической политической идеологии и формаль¬
но-правовые методы легитимации власти. Образы святых королей oi
части сохранили свое социальное значение как источник религиозных
280
исторических и национальных сантиментов, отчасти — затерялись в
пантеоне местных святых.
Примечания
1 Folz R. Zur Frage der hciligcn Konige. Heiligkeit und Nachleben in der Geschichtc
des burgundischen Komgtums // DA Fiir Erforschung des Mittelalters 14, 1958. S. 317-
344; idem. Le Souvenir et la Legende de Charlemagne dans l’Empirc gcrmamque
medieval. P., 1950; idem. Les saints rois du Moyen Age cn Occident (VI-XIII siecles).
Bruxelles, 1984; idem. Les saintes reines du Moyen Age en Occident (VI-XIII siecles).
Bruxelles, 1992; Gorskt К Le roi-saint: Unc probleme d’ideologic feodalc // Annales
ESC, 24, 1969. P. 370-376; Graus Fr. Volk, Herrscher und Heiligcr lm Reich der
Merovinger. Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit. Praha, 1965.
2 Gorski K. Op. cit.
1 Chaney W.A. The Cult of Kingship in Anglo-Saxon England. The Transition from
Paganism to Christianity. Manchester, 1970; Klaniczay G. The Uses of the Supernatural
Power. Princeton, 1990. P. 79 sq.; Murray M. The Divine King in England. A Study
in Anthropology. L., 1954; La Regalita Sacra. Atti dell’VIII Congresso intemazionale
di Storia delle Rcligioni (Roma, 1955). Leiden, 1959.
4 Vauchez A. La saintete en Occident au dermers siecles du Moyen Age. P., 1981. P.
163 sq. Этот факт подтверждает уходящую вглубь средневековой истории поля¬
ризацию духовной и культурной жизни христианской Европы задолго до Рефор¬
мации и фиксирует для Заальпийской Европы специфическую культурную зна¬
чимость социального верховенства и аристократизма, отразившуюся в сфере
собственно религиозого сознания. Weinstein D., Bell R.M. Saints and Society. The
Two Worlds of Western Christendom, 1000-1700. Chicago, 1982.
5 Chaney W.A. Op.cit.; Ewig E. Zum christlichen Konigsgedanken im Friihmittelalter
// Das Komgtum, seine geistigen und rechtlichen Grundlagen. Lindau; Constance, 1956.
Hoffler O. Der Sakralcharaktcr dcs gcnnanischcn Konigtums // La Regalita Sacra. S.
664-701; Wallace-Hadrill J.M. Early Germanic Kingship in England and in the
Continent. Oxford. 1971.
Представление о «сакральном короле» в той или иной форме занимало важное,
порой - центральное место в системе социальных и космологических представ¬
лений архаических и традиционных обществ. Оно имело свои основания в общей
структуре магического сознания и отражало мифологизацию функций власти и
фигуры правителя. Сакральный правитель не только наделялся особыми сверхъе¬
стественными качествами и магической харизмой, но и функционально испол¬
нял роль наделенного божественной природой посредника между миром людей
и миром сверхъестественных, внеприродных сущностей. Личные сверхъестествен¬
ные и магические качества тесно связывались с идеей наследственной харизмы,
ощущавшейся как особое свойство определенных родов.
Как показывают исследования, в сфере средневековой политической власти и
господства на протяжении всего периода средних веков для массового восприя¬
тия и самоидентификации власти были характерны элементы ее магической сак¬
рализации и наделения ее носителей сверхъестественными качествами. Это не
может быть объяснено только сохранением элементов традиционных дохристи¬
анских представлений. Г1о всей видимости, речь идет о более универсальном фс -
номене мифологизации власти, так или иначе свойственном массовому внераци-
ональному мышлению.
' Frinz l-r Hciligenkult und Adelsherrschaft im Spiegel merowmgischer Hagiographie
// Historische Zeitschnft 204. 1967 S. 529-544: idem. Friihes Monchtum im
Frankemcich. Miinchen, Wien. 1965. Host К Dei Adelheilige Ideally pus und
281
Wirklichkeit, Gesellschaft und Kultur im merowmgerzeitlichen Bayern des Vll. und
VIII. Jhs // Speculum historiale. Festschrift J. Sporl. Freiburg, 1965. S. 167-187.
Vauchez A Op. cit. P. 191 sq.
8 Chaney W.A Op. cit.
9 Vauchez A. Op. cit. P. 191 sq.
10 Bornscheuer L. Miseriae regum. Untersuchungen zum Kriscn und Todesgedanken
in der herrschaftstheologischen Vorstellungen der ottomsch-sahschen Zeit. B., 1968;
Graus F. Volk, Herrscher und Heiliger.
11 Sanctity and Secularity: the Church and the World / Ed. D. Backer, Oxford, 1973;
Pohlkamp W. Hagiographische Texte als Zeugnisse einer «histoire de la saintete».
Bericht iiber ein Buch zum Heihgkeitsideal im Karolingischen Aquitanien // FSt, 11,
1977. S. 229-241.
12 Weinstein D., Bell R.M. Op. cit. P. 194ff.
13 Nelson J. Royal Saints and Early Medieval Kingship // Sanctity and Secularity: The
Church and the World. Oxford, 1973. P. 39-44.
14 Nelson J. Op. cit. P. 41.
15 Corbet P Les saints ottoniens. Saintete dynastique, saintete royale et saintete feminine
autour de 1’an Mil. Sigmaringen, 1986; Klanyczay G. Op. cit. P. 81 sq., 111 sq.; Vauchez
A. Beata stirps: Saintet6 et lignage en Occident aux XHIe et XlVe siecles // Famille et
parente dans l’Occident medieval. Roma, 1977. P. 397-406.
IA Эта тенденция нашла свое отражение и в литургической практике, и в форми¬
ровании этической концепции «праведного правителя» (rex iustus), и в широком
поле религиозно-теологического обсуждения феномена власти. См.: Anton Н.Н
Fiirstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit. Bonn, 1968; Deshman R. The
Exalted Servant: The Ruler Theology of the Prayerbook of Charls the Bald
// Viator, 1980, 11. P. 385-417; Erdmann C. Forschungen zur politischen Ideenwelt
des Fruhmittelalters. B., 1951.
17 Она легла в основу массового политического сознания и самоопределения вла¬
сти. Привнося в идею политического господства оттенок сакральности и хрис¬
тианского символизма, церковная модель стимулировала формирование механиз¬
мов правовой и рациональной легитимности власти. Не случайно концепция
«христианского правителя» ассимилировала идею праведного (следующего праву
и закону) правителя и стала одним из факторов развития рационального полити¬
ческого сознания.
18 Дидактическая направленность, свойственная агиографии как жанру, при¬
обретала здесь особый оттенок политического наставления: даже при ради¬
кальном отвержении значимости мирской власти перед лицом святости (тип
святого короля-аскета), агиографическое сочинение создавало модель имен¬
но образцового носителя власти. Политико-теологические интенции жития
приобретали особую позитивную значимость в тех случаях, когда создаваемый
им образ строился на возможности согласования святости с выполнением
мирских функций.
l9Fo/z R. Les saints rois du Moyen Age en Occident; Ridyard S.J. The Royal Saints
of Anglo-Saxon England. Cambridge, 1988; Hoffmann E. Die heiligen Konige bei den
Angelsachsen und den skandmavischen Volker. Neumiinster, 1975.
20 Head Th. Hagiography and the cult of the saints. The Diocese of Orleans 800-1200.
Cambridge, 1990; Saints and their cults. Studies in Religious Sociology, Folklore and
History. Cambridge, 1983; Braun R The Cult of the Saints. Chicago, 1981.
2' Bosl K. Op.cit.; Folz R. Les saints rois du Moyen Age en Occident; Graus F Volk.
Herrscher und Heiliger; idem. Fruhes Monchtum im Frankenreich.
22 Chaney WA. Op.cit.: Euig E Zum christlichen Konigsgedanken im Friihmittelaltei.
Поиск К Gcbliitsheihgkeit // Liber Floridus. Festschrift fin* R Lehmann. St. Ottihcn
1950: Hoefler О Op. cit.: Hoffmann E. Op. cit.
Bosl К Der Adclhciligc: Рпп: Гг Hciligcnkult.
282
24 Graus F Volk, Herrscher und Heiliger.
25 Graus F. Volk, Herrscher und Heiliger. S. 425ff; HoJJ'niann E. Op. cit. S. 1 Iff.; Folz
R. Les saints rois du Moyen Age en Occident. P. 24sq.
2A По мнению исследователей (Граус, Фольц), культы святых-королей нельзя
считать продолжением архаических германских представлений о королевской
власти.
27 Адекватность образа святого-мученика, в том числе короля-мученика, некоторым
важнейшим архетипам народной религиозности см.: Chaney WA. Op. cit; Murray М.
The Divine King; Vauchez A. La saintete; Weinstein D., Bell R.M. Op. cit.
28 Анализ соответствия агиографических образов и прототипов в ранней франк¬
ской агиографии см.: Folz R. Les saints rois du Moyen Age en Occident. P. 24sq.
29 Некоторые исследователи склонны видеть в этом феномене проявление «на¬
родной» религиозности, в частности, тенденцию мифологизации фигуры пра¬
вителя, и предполагают, что за почитанием королей-мучеников стоит архети¬
пический образ умирающего бога, смерть которого носит ритуальный характер
и служит залогом дальнейшего благополучия его народа.
30 В этот ряд могут быть включены жития французского короля Роберта Благо¬
честивого и правителя Восточной Англии Эдмунда Мученика.
31 Morghen R. Monastic Reform and Cluniac Spirituality // Cluniac Monasticism in
the Central Middle Ages / Ed. Hunt N. L., 1971; Lotter Fr. Odosvita des Grafen Gerald
von Aurillac (Das Idealbild adliger Laienfrommigkeit in den Anfangen Clunys) //
Benedictine Culture (750-1050). L., 1983; Rosenthal J.T. Edward the Confessor and
Robert the Pious. 1 l'h Century Kingship and Biography // Medieval Studies 33, 1971.
P. 7-20; Poulin J.C. L’ideal de saintete dans Г Aquitaine carolingien. Quebec, 1975,
1975.
32 Lotter Fr. Op. cit.; Poulin J.C. Op. cit.
33 Как представляется, эта особенность королевской агиографии связана с суще¬
ственными чертами духовности и социальной направленности движений Клюни
и Горце. Для первого была характерна экспансия религиозно-этического идеала
в сферу этики и самосознания аристократии. Для второго - особая чувствитель¬
ность к идее религиозно-эсхатологической миссии земной власти, связываемой
с правителями Германии и переплетавшейся с имперской идеологией.
34 Carozzi С. La vie du roi Robert par Helgaud de Fleury. L’historiographie en Occident
du Vе au XVе siecle //Annales de Bretagne 87, 1980, N 2. P. 219-235.
35 Rosenthal J.T. Op.cit.
36 Написанное на рубеже X—XI вв. аббатом монастыря Флёри и одним из видных
богословов своего времени Аббоном, Житие Эдмунда Мученика представляет
собой одну из первых попыток придать образу короля, погибшего от рук против¬
ников, соответствие церковной модели святого-мученика, сочетающего глубокое
личное благочестие с готовностью безропотно принять смерть от рук язычников.
Позже эта схема служила моделью церковно-агиографической стилизации обра¬
за погибшего в сражении короля, являвшегося важнейшим типом святого-пра-
вителя в англосаксонском, и позднее - скандинавском обществе. Сочинение
Аббона лишено тенденций сколько-нибудь существенного акцентирования обя¬
занностей правителя или их соотнесения с миссией святого. Однако в тексте при¬
сутствует позитивная характеристика некоторых аспектов его мирского статуса,
имеющая смысл религиозного одобрения.
37 Bornscheuer L. Miseriae regum.; Corbet P. Op.cit.; Graus F. La sanctification du
souverain dans 1’Europe centrale des Xe et Xle siecles // Hagiographie, cultures et
societes. P., 1981. P. 572-599; Корке R. Die beiden Lebensbeschreibungen der Komgin
Mathilde. FdG 6, 1866. S. 159 ff.
38 Ruotgers Lebensbeschreibung des Erzbischofs Bruno von Koln / Hg. l.Ott /7 MGH
SRG. NS 10. 1958: см. также более раннее издание Г. Вайтца: MGH SS 4. Р. 252
sq: Vita Mahthildb rcg. post. / Ed G.H. Pcrtz " SS 4. 1841. P. 282 .sq. Das Lcbcn dci
283
Konigin Mathilde, libers. v. Ph..latte// GgV 3 1, 1858. Odilo v.Cluny. Die
Lcbensbcschrcibung dcr Kaiscrin Adelhcid / Hg. Paulhart//MIOG Erg. Bd. 20,2, 1962
более раннее издание эпитафии Аделаиды Одилона Клюнийского см.: Das Lcben
der Kaiserin Adelheid, iibcrs. H. HufTer, W. Wattcnbach // GdV 35; [2-3], 1891-1939
e MGH SS 4, 633 sq.
,ч Loiter Fr Die Vita Brunoms dcs Ruotgcr. lhrc histonographischc und
ideengeschichtliche Stellung. Bonn, 1958.
40 Ibid. S. 56 fT.
41 Auerbach E Lateinische Prosa des 9. und 10. Jahrhunderts 11 Romamsche Forschungen
66. Frankfurt a. M., 1955. Иной путь позитивного решения проблемы сочетания
святости и мирского статуса представлен в агиографии святых-королев, жен пра¬
вивших Людольфингов. В написанном в начале XI в. житии Матильды основное
внимание автора сконцентрировано на демонстрации глубоко личного благо¬
честия королевы, основными характеристиками которого являются бескомпро¬
миссное религиозное самоуничижение, сострадание и милосердие. В отличие oi
рассмотренной выше франкской модели, противопоставляющей исключительное
благочестие и мирской статус, житие Матильды демонстрирует, как личная святость
возвышает и придает особое религиозное значение ее высокому положению. Бо¬
лее того, религиозная избранность королевы в идеологической композиции сочи¬
нения бросает отблеск особой божественной предопределенности на всю династию
(образ святой-прародительницы), особенно на наиболее близкую ей, в изображе¬
нии автора, ветвь Баварских Людольфингов.
Созданная в начале XI в. одним из наиболее знаменитых аббатов Клюни Оди¬
лоном эпитафия Аделаиды разрешает антиномию святости-власти в историко-эс¬
хатологической перспективе. Придавая своей героине черты исключительной
радикальной религиозности и божественной избранности, Одилон одновремен¬
но помешает ее в контекст символически представленной истории Империи
Подъемы или упадок политического могущества династии и Империи прямо со¬
отнесены с позицией Аделаиды и ее личной судьбой. Политико-теологическая
тенденция Одилона приобретает особую смысловую выразительность в связи с
метафорическим и смысловым отождествлением как фигуры Аделаиды, так и ее
жизненного пути с образом Христа.
42 Bornscheuer L. Miseriae regum.
43 Ibidem; Corbel P. Op. cit.
44 Kampers F Kaiserprophctien und Kaiscrsagen im Mittelalter // Historische
Abhandlungen / Hg. v. Th. Heigel, H. Grauert. 8. Miinchen, 1895; idem. Die deutsche
Kaiseridee in Prophetie und Sage. Miinchen, 1896; idem. Vom Werdegang der
abendlandischen Kaisermystik. Leipzig, 1924; Kantorowicz E. The King’s Two Bodies.
A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957; idem. Laudes Regiae. A Study
in Liturgical Acclamation and Medieval Ruler Worship. Berkeley; Los Angeles, 1946;
Karpf E. Herrscherlegitimation und Herrschaftsauffassung in ottomsch-friihsalischer
Zeit// Fruhmittelalterlichc Studicn 16, 1982. S. 74ff; idem. Herrscherlegitimation und
Reichsbegriff in der ottonischen Gcschichtsschreibung des 10. Jahrhunderts. Stuttgart,
1985.
4' Bornscheuer L. Miseriae regum; Corbel P. Op. cit.
4<> Barlow Fr (ed. and transl.) The Life of King Edward. 2 ed. L., 1992; idem. Edward
the Confessor. L., 1970; 2 ed. 1979; Folz R Le Souvenir et la Legende de Charlemagne;
idem. Les saints rois du Moycn Age en Occident; Gunther II. Kaiser Heinrich II, dei
Heilige. Kcmpten, 1904; Klaniczay G The Uses of the Supernatural Power. P. 71 sq.
47 Tellenbach G. Libertas. Kirchcn-und Weltordnung im Zcitalter des Invcstiturstrcit
Stuttgart, 1936.
45 h'ol: R Lc Souvenir et la Legende dc Charlemagne: Gunther II. Kaiser Heinrich II.
Barlow Fr Edward the Confessor: Rosenthal J T Edward the C onfessor: Scholl: В IУ
I lie Canonisation of Edward the Confe.ssoi '/ Speculum 36. 1961
284
44 В частности, как н случае с Эдуардом Исповедником. так и особенно настой¬
чивое относительно Карла Великого, доказательство их святости обосновывает¬
ся успешным и целенаправленным выполнением ими функций защиты церкви
и веры, последовательной личной приверженностью христианству: глубоким лич¬
ным благочестием, христианским образом жизни, основанием церквей и поддер¬
жкой церковной жизни, заботой о религиозности населения, распространением
христианства и борьбой с язычниками.
5,1 В частности. Карл Великий был провозглашен в дипломе Фридриха Барбарос¬
сы святым: а) исповедником — в силу личного благочестия, б) апостолом — вви¬
ду его заслуг в деле распространения христианства и борьбы против его врагов,
в) мучеником — так как ему приписывалась глубокая личная готовность к муче¬
ничеству за веру. В этом взаимном наложении и взаимопроникновении сфер
мирской и религиозно-духовной деятельности находит свое специфическое за¬
вершение начатый клюнийской и оттоновской агиографией поиск религиозно-
эсхатологической перспективы согласования святости и мирской власти. Агиог¬
рафический образ святых-королей XII в. вобрал в себя элементы традиционной
церковной модели святости; особенно очевидны они в образе Генриха II, в пред¬
ставление благочестия которого включены все основные характеристики мона¬
шеского аскетизма; не чужд им и агиографический образ Эдуарда Исповедника.
Однако задачи собственно политико-идеологического характера кажутся опреде¬
ляющими для порожденного эпохой отношения к образу святого-короля: не слу¬
чайно именно образ Карла Великого, освященный традицией как пример наи¬
более славного и могущественного правителя христианского запада, был избран
Фридрихом Барбароссой для укрепления его политической и идеологической
стратегии, а канонизация Карла стала центральным и наиболее ярким событием
в ряду учреждений культов святых-королей.
51 Buisson L Komg Ludwig der Heilige und das Recht. Freiburg, 1954; idem. Saint
Louis, justice ct amour de Dicu 11 Francia 6, 1978. P. 127-151; Le Goff J Saint Louis.
P.. 1996.
51 Vauchez A. La saintctc; Le Goff J. Op. cit.
м По мнению А. Воше, критерием и отличительной чертой «новой святости» яв¬
ляется тот факт, что исключительное значение в определении истинного благо¬
честия и святости придается реальному поведению святого при жизни, тому, что
может быть определено через понятие «стиля жизни».
,4 Как в прижизненной репутации, так и в посмертной традиции главным фак¬
тором почитания становится личная, индивидуализированная и воплощенная в
жизнь религиозность Людовика. Однако и последовательное стремление Людо¬
вика воплотить в жизнь идеальную модель христианского короля и рыцаря, и
привнесение им новых методов в систему управления, и отношения короля со
своими подданными способствовали упрочению его репутации святого.
Le Goff J. Op. cit. P. 325sq.
Утверждена папой Бонифацием VIII в 1297 г.
S7 Достаточно близким по своему звучанию к образу Людовика Святого кажется
и почитание короля Кастилии и Леона Фердинанда 111 (1199—1252 гг.). Будучи
формально канонизирован, в отличие от Людовика Святого, лишь несколько сто¬
летий спустя после смерти, этот правитель в своей прижизненной и посмертной
репутации представляет целый ряд существенных параллелей французскому свя¬
тому. Так же. как и в случае с Людовиком, связанная с ним модель святости ле¬
жит на стыке идеала христианского рыцаря и короля и концепции практическо¬
го личного благочестия францисканского типа.
" Wallace-1 ludnll J /\7 Op. cit. Schollг В И' Op.cit.: Ridyard S J Op. cit.: Hoffmann F
Op. cit.
Hofmann F Op. cit
‘,‘l Bala Мыопл ecclc.siastica gcntis Anglorum ' Ld C. Plummci 1 I (text). Г 2
285
(coinmen.). 1896 (repr. Oxford 1961). Новое издание: Colgrave li., Mynors R.. Oxford
1969; Ridyard S.J. Op. cit.; Folz R. Trois rois saints «souffre-passion» en Angleterrc
Osvin de Deira, Ethelbert d’East-Anglie, Eduard le Martyr// CRAIBL, jan.-mars 1980
P. 36-49; idem. Les saints rois du Moyen Age en Occident.
61 Hoffmann E. Op. cit. S. 45ff.
1,2 Folz R. Les saints rois du Moyen Age en Occident. P. 45sq.
63 Hoffmann E. Op. cit. S. 18ff; Ridyard S.J. Op.cit.
64 Folz R. Les saints rois du Moyen Age en Occident. P. .47sq.
65 Hoffmann E. Op. cit. S. 19ff; Folz R. Trois rois saints. P. 38 sq.
66 Ridyard S.J. Op. cit.; Hoffmann E. Op. cit.
67 Наиболее парадоксальными кажутся случаи, когда инициатива почитания и
особая забота о культе святого-короля исходила со стороны правителей не толь¬
ко не относившихся непосредственно к роду святого, но, напротив, либо непос¬
редственно, либо через своих прямых предшественников враждовавших с ним или
его династическими преемниками.
68 Hoffmann Е. Op. cit. S. 75ff.
64 Так или иначе, эта функциональная значимость переносилась с персоны свя¬
того на само королевское достоинство, сообщая ему не только особый соци¬
альный статус, но и параметры христианской легитимности справедливого и ре¬
лигиозного правителя.
70 Hoffmann Е. Op. cit. S. 89ff; Folz R. Trois rois saints. R 140sq.
71 Graus F. Kirchliche und heidnische (magische) Komponenten der Stellung der
Premysliden. Premyslidensage und St. Wenzelideologie // Siedlung und Verfassung Bohmen
in der Friihzeit. Wiesbaden, 1967. S. 148-161; idem. Der Herrschaftsantritt St.Wenzels m
den Legenden // Ostmitteleuropa in Geschichte und Gegenwart. Festschrift f. G. Stokl. Koln:
Wien, 1977. S. 287-300; idem. Der Heilige als Schlachtenhelfer. Zur Nationalisierung eincr
Wanderzahlung in der Mittelalterlichen Chronistik // Festschrift f. H.Baumann. Sigmaringen,
1977. S. 342-354; idem. St. Adalbert und St. Wenzel. Zur Funktion der mittelalterlichen
Heiligenverehrung in Bohmen // Europa Slavica - Europa Orientalis. Festschrift f. H. Ludat.
B., 1980. S. 205-231; idem. La sanctification du souverain dans I’Europe centrale des Xe
et Xie siccles // Hagiographie, cultures et societes. R, 1981. P. 572-599; Ludvikovsky J
Crescente fide. Gumpold and Christian // SPFFBU Dl, 1955, P. 57-63; idem. Kristian ci
tzv. Kristian // SPFFBU E9. 1964, P. 139-147; idem. О Kristiana // NV 26. 1948/1949.
209-239; idem. The Great Moravian Tradition in the 10"' Century Bohemia
// Magna Moravia. Brno, 1965. Kralik О. К pocatkum Ceskeho Dejepisectvi. Praha, 1968;
Pekar J. Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians. Praha, 1906;
Trestik D. Deset tezi о Kristianove legende // FHB 3, 1981, P.7-38; idem. Pocatky
Premyslovcu. Praha, 1981; idem. Kosmova kronika. Studie k pocatkum ceskeho dejepisectvi
a politickeho mysleni. Praha, 1968.
72 Модель святого правителя, отраженная в первой латинской вацлавской леген¬
де, была ориентирована на церковную концепцию аскетической святости, оттес¬
няющей на задний план мирское достоинство правителя.
73 Trestik D. Kosmova kronika.
74 Возможно, что более, ранний, по сравнению с Западной Европой, процесс
корпоративной консолидации чешской знати и ее коллективное участие в поли¬
тическом управлении обусловлены в той или иной степени спецификой идеоло¬
гического звучания культа святого Вацлава.
75 Об использовании культа св. Вацлава в династической «пропаганде» Люксем-
бургов, прежде всего Карла IV см.: Klamczay G. The Cult of Dynastic Saints m
Central Europe: Fourteenth Century Angevins and Luxemburgs // Klamczay G. The
Uses of the Supernatural Power. P. 1 16 sq.
Vauchez A Beata stirps: saintete et lignage en Occident aux Xlllc et XlVe siecles
/ Famillc et parente dans l'Occidcnt medieval. Roma. 1977. P. 397-406.
286
77 Folz U. Les saints rois du Moyen Age en Occident.; Holik F Saint Jacques dc
Compostelle et saint Ladislas de Hongrie // Revue des etudes hongroiscs et finno-
ougriennes. 1. 1923. P. 36-54; Homan B. Geschichtc des ungarischcn Mittelalters. 2
vol. B., 1940; idem. Konig St. lstvan der Heilige. Breslau, 1941; Klaniczav G The
Uses of the Supernatural Power; Bogyay T von. S. Stephanus rex: Versuch ciner
Biographic. Wien, 1976; Bogyay T. von., BakJ., Silagi G. Die heiligen Konige. Graz;
Koln 1976; Bonis G Die Entwicklung der geistlichen Gerichtsbarkeit in V. Ungarn //
ZRGKA 49, 1963. S. 174-235;
78 Bogyay T. von. S. Stephanus rex; Bogyay T. von , Bak J., Silagi G. Die heiligen
Konige.
79 Венгерская традиция отчетливо закрепила за Стефаном репутацию мудрого и
миролюбивого правителя, защитника мира и законодателя. См.: Folz R. Les saints
rois du Moyen Age en Occident. P. 142 sq.; 168 sq.
"" Как и в случае с почитанием Людовика Святого, святые-женщины династии
заслужили свою репутацию демонстрацией исключительного религиозного бла¬
гочестия в повседневной жизни, и сама реализованная ими модель святости была
связана с новым пониманием благочестия и аскезы, рожденным нищенствующи¬
ми орденами. С точки зрения интересов династии, их культы были важны не
столько как прямой аргумент в пользу династической легитимности, сколько как
фактор упрочения ее морального и религиозного авторитета.
81 Klaniczay G. The Uses of the Supernatural Power.
Михаэль Рихтер (Констанц)
Устная и письменная кулыуры средневековья:
сиамские близнецы?
Арон Гуревич не устает повторять, что историк несет ответ¬
ственность как перед прошлым, так и перед настоящим: ведь
он выступает в качестве посредника между ними. Исходя из
того, что доступные нам письменные источники не всегда
являются достоверными путеводителями по прошлому, он мно¬
го раз доказывал необходимость изучения тех его аспектов, которые не
отражены в письменных источниках с достаточной ясностью или полно¬
той. В предисловии к вышедшему в 1997 г. немецкому изданию своей
книги «Средневековый мир» Гуревич указывает, в частности, что изуче¬
ние соотношения и взаимодействия устной и письменной культуры — это
центральная проблема современных исследований средневековья.
В данной статье, основанной на опыте работы нескольких лет1, я на¬
мереваюсь дать общий очерк возможных направлений исследований в
этой области, находящихся, можно сказать, в начальной стадии. Труды
историков-медиевистов, на которые я смог опереться, весьма немного¬
численны2. Мое собственное понимание проблемы в процессе исследо¬
вания изменилось. Нижеизложенные соображения в лучшем случае пред¬
варяют ее постановку.
Письменная культура
Историк-медиевист знает, что вовсе не все общества последнего ты¬
сячелетия оставили по себе письменные свидетельства, столь необхо¬
димые для его работы. Так, можно отметить, что после падения Запад¬
ной Римской империи наблюдался значительный упадок письменной
культуры: в последующие столетия важнейшим ее оплотом становится
христианская церковь и ее институты. Эта письменная культура изна¬
чально была связана с латинским языком — наследием Римской импе¬
рии. На протяжении средних веков она постепенно распространялась
на другие языки, ставшие письменными с помощью латинского адфа
виз а.
Вряд ли можно счесть новой мысль о том, что в средние века письмен¬
ная культура играла в обществе совершенно иную роль, нежели ныне. Тем
не менее есть работы, оставляющие впечатление, будто можно обсуждать
проблему средневековой письменной культуры, не принимая во внима¬
ние это различие. Мы живем в мире письменной культуры и воспитыва¬
ем себя для жизни в нем. Всеобщее школьное образование воспринима¬
ется как неотъемлемый атрибут нашей жизни, и основой его является
пассивное и активное овладение навыками обращения с письменным
словом. Разумеется, базовое овладение языком совершается раньше, чем
начинается обучение письму, однако не подлежит сомнению, что это
последнее открывает принципиально иные возможности для использо¬
вания языка. Но всеобщее образование — это недавний, безусловно по¬
стсредневековый феномен западной культуры; в средние века функции
письменного слова были в корне отличными от нынешних.
Подчеркнем, что на протяжении многих столетий средневековья пи¬
сали главным образом на латыни. Поэтому естественно, что в центре на¬
шего внимания будут находиться социо-лингвистические аспекты латин¬
ской письменной культуры.
Латынь была «родным» языком, усваивавшимся на юношеской стадии
общего процесса социализации, лишь для жителей тех областей конти¬
нента, которые прежде являлись частями Римской империи — в романс¬
кой Европе, главным образом в Италии, Испании и Галлии3. Здесь соот¬
ношение между письменным и устным языком мало отличалось от
ситуации, существующей в некоторых из современных обществ. Доку¬
менты, записанные на латыни, могли более или менее адекватно воспри¬
нимать на слух даже те, кто не получил формального образования. Такая
ситуация сохранялась по меньшей мере на протяжении нескольких сто¬
летий после падения Западной Римской империи4. Но постепенно всё
заметнее становилось отличие разговорных языков от латыни, и с эволю¬
цией романских языков, проходившей по-разному в различных частях
Romania5, отношения между латинскими письменными документами и
теми людьми, которым предстояло их воспринимать, стали качественно
иными.
Что касается остальной части Европы, притом более значитель¬
ной, — там письменность на основе алфавита прививалась лишь посте¬
пенно. Она пришла с христианской религией и первоначально исполь¬
зовалась — если не исключительно, то, во всяком случае, главным
образом — для религиозных нужд. Отношение к письменным латинс¬
ким документам здесь было принципиально иным, нежели в Romania:
поскольку содержание этих текстов предстояло довести до сведения на¬
селения, незнакомого с латынью, их нужно было перевести на местный
язык. Постепенно письменными становились народные языки, понача¬
лу преимущественно в той же сфере христианской религиозности. Воз¬
никала ситуация, подобная той, что существовала в романской Европе
раннего средневековья: прочтение вслух делало тексты доступными и
людям, не умевшим читать.
Сегодня общепризнанно, что в средние века чтение, как правило, осу¬
ществлялось вслух, даже когда читатель оставался наедине с книгой*. И i
10 Зак. 3029
2X9
некоторых свидетельств также явствует, что манера чтения вслух была за¬
частую подобна искусству ораторского красноречия. Такое чтение призва¬
но впечатлять и поучать, что можно счесть наследием классической римс¬
кой риторики. Возможно, впрочем, эта манера декламации восходит к еще
более древним, дописьменным.
В качестве рабочей гипотезы позволительно будет предположить, что
различные манеры декламации оказывались уместны в разных случаях.
Это подтверждается письменными свидетельствами. Вот, например, эпи¬
зод, описанный Григорием Турским: «Отправляясь в воскресенье к мес¬
се и не желая утомляться, я поручил отслужить ее одному из священни¬
ков. Но поскольку тот читал службу, не могу вам передать, сколь неумело,
многие из наших стали над ним насмехаться, заявляя: «Лучше бы ему
помолчать, чем говорить так безыскусно»7.
В данном случае священник, читающий мессу, использует предписан¬
ные формулы, но, по-видимому, дает повод для насмешливых замечаний
со стороны присутствующих. Следовательно, многие люди способны
были различать и оценивать устные формы речи, что являлось частью
общего осознания языка в его специфическом контексте. Можно пред¬
полагать, что церковь всячески поощряла в среде своих служителей та¬
кое отношение к речи. Это явно свидетельствует о том, что с выработкой
четкой формы устного дискурса связывались определенные ожидания.
Его качество должно было быть приемлемым для общества. Решающим
оказывалось не письмо, а прочтение. И опыт, накопленный в религиоз¬
ной сфере, мог быть использован и в тех областях жизни, которые с ре¬
лигией не были связаны.
Определяя место письменной культуры в средневековом обществе, я
учитываю абсолютное отличие тогдашней ситуации от современной. Это
немаловажно. Кроме того, мы видели, что в разных частях Европы пись¬
менная культура имела разную историю. В романской Европе письмен¬
ная культура своими корнями уходила в античность, являя собой ее про¬
должение. За пределами Romania становление письменной культуры на
протяжении столетий средневековья лишь происходило. Эти различия в
истории письменной культуры связаны и с различными социальными
контекстами: в Romania в античные времена письменная культура была
преимущественно светской; в раннее средневековье она существует здесь
в виде своего рода новой смеси светского и религиозного, причем светс¬
кое уменьшается пропорционально росту религиозного. В других частях
Европы письменная культура появляется как средство выражения хрис¬
тианской религии и лишь постепенно проникает в сферу мирского.
Устная культура
Теперь рассмотрим другую сторону медали и обратимся к социальной и
культурной ситуации в нероманских странах в период раннего средневе¬
ковья. Можно считать очевидным фактом, что в этих обществах язык су¬
ществовал исключительно в устной форме. К тому времени, как народ¬
290
ные языки здесь становятся письменными, в большинстве случаев в них
обнаруживаются региональные различия, т. е. диалекты*. Однако в этих
региональных вариациях было больше общего, чем особенного. Если уг¬
лубляться в древнейшие эпохи, что обычно делает сравнительная фило¬
логия, возникает предположение, что, хотя региональные различия и тог¬
да имели место, общий лингвистический базис все же, вероятно, играл
весьма существенную роль. По мнению филологов, эволюция языка —
это процесс медленный и постепенный9.
Средневековые языки, которые мы воспринимаем, до известной сте¬
пени, не вполне адекватно, существовали преимущественно в устной
форме. Язык в силу самой своей природы составляет ту часть человечес¬
кой культуры, носителем которой являются все члены данного общества;
он выполняет важную социально-конституирующую функцию, осуще¬
ствляемую столь же элементарно, сколь и неуловимо. Учитывать это, тем
не менее, приходится.
Осознавая доминирующее положение устной формы языка во всех
средневековых обществах, важно обратить внимание на то, каким обра¬
зом эта устная форма культивировалась: именно в этом заключено то, что
можно адекватно назвать устной культурой.
Недавнее оживление интереса к изучению проблемы грамотности в
средние века отчасти коснулось и устной культуры10. Однако в современ¬
ных исследованиях, посвященных преимущественно средневековой ли¬
тературе, устная культура не заняла самостоятельного места. Тому есть
два возможных объяснения: либо устная культура не воспринимается как
особый, сложный феномен, либо же считается, что изучение ее невоз¬
можно по причине эфемерной природы устного слова. Эта вторая точка
зрения была выражена еще Григорием Великим около 600 г.: «Сказанное
уходит, написанное остается»11. Григорий высказал, без сомнения, фун¬
даментальную истину: по способу выражения устная культура — как в
прошлом, так и в настоящем — это культура «говорения». И все же уст¬
ная культура — это нечто большее, чем просто произнесение слов.
Хотя речь эфемерна, ее содержание в той или иной мере остается в
памяти; следовательно, ее преходящая природа относительна. Конечно,
историк-медиевист не может ожидать, что в своих источниках он обна¬
ружит прямые следы устной культуры. Любой письменный источник —
плод труда грамотного человека, и потому устная культура прошлого при¬
ходит к нам, в лучшем случае, из «вторых рук». Но что можно сказать
насчет этих «вторых рук»?
Стоит поразмыслить над словом «культура» применительно к понятию
устной культуры. Как уже упоминалось, в каждом языке могут существо¬
вать разные «регистры». Вариации зависят от выбора вокабуляра и спо¬
соба его артикуляции. И то, и другое может существовать либо незави¬
симо друг от друга, либо в сочетании. Ясно, что не всякое устное
высказывание, изложенное языковыми средствами, принятыми в данной
группе людей, остается в памяти. Да этого и не предполагается: ведь мно¬
гое относится к делам повседневной жизни и в значительной мере состав¬
ляет часть неосознанной сферы функционирования человека как соци¬
ального существа. Однако некоторые устные высказывания становятся
291
памятными, вспоминаются, повторяются, передаются и таким образом
сохраняются, хотя каждое их произнесение само по себе преходяще. По¬
вторение не обязательно должно быть дословным.
Такие памятные высказывания могут проникнуть и в письменные ис¬
точники. Просто у нас нет технических средств, чтобы безошибочно их
распознать. Похоже, что традиционный инструментарий исторической
науки здесь не поможет.
Выше уже говорилось, что письменный язык на основе латинского ал¬
фавита имеет относительно короткую историю. Возраст греческого алфа¬
вита — предка латинского — не более трех тысяч лет. И, несомненно,
язык как таковой бесконечно древнее письменного языка. Язык не нуж¬
дается в письменности, чтобы функционировать; однако не приходится
сомневаться в том, что для выполнения своих социальных функций ему
была нужна структура и рамки. Не удивительно, что устную культуру все¬
гда изучали в контексте непосредственной предыстории греческого ал¬
фавита. Принято считать, что эпические поэмы Гомера «Илиада» и
«Одиссея» — произведения греческой устной культуры. В частности,
Э. Хэйвлок посвятил значительную часть своей исследовательской дея¬
тельности тому, чтобы пролить свет на этот феномен12. Не удивительно,
что он не встретил единодушного согласия со стороны своих коллег. Но
Хэйвлок наметил важные пункты рассмотрения специфики устной куль¬
туры, которая выражается в «памятных» языковых формах, повторяю¬
щихся много раз на протяжении столетий — до тех пор, пока они не бу¬
дут записаны. «Общий язык, — пишет он, — это предпосылка всякой
человеческой культуры, а строится он на основе общей памяти»13.
Здесь мы не можем подробно рассматривать эти проблемы. Нет не¬
обходимости останавливаться на том, как в далеком прошлом языки фун¬
кционировали без письменности. Ведь антропологи и этнографы еще в
XIX в. проделали большую работу по изучению архаических, или пер¬
вобытных обществ, существовавших без письменной культуры. Они об¬
наружили, что многие языки этих первобытных обществ были весьма
сложными. Овладеть ими и научиться пользоваться было непростой ин¬
теллектуальной задачей. Также установлено, что язык каждого народа
использовался с различными целями — как в повседневных делах прехо¬
дящего характера, так и в более официальных и «памятных» случаях.
В ходе этих исследований постепенно выкристаллизовалась идея, что
устную культуру следует рассматривать через способы выражения, се¬
миотика которых многообразна и сложна, причем, все они чрезвычай¬
но подвержены силе обстоятельств. По степени важности главное здесь
— устное слово, но оно сопровождается жестами, определенной мане¬
рой поведения индивида в обществе других людей и нередко сопровож¬
дается музыкальной инструментовкой, которая подчас звучит громче
самого слова.
Вербальное искусство как «перформанс»ы действует в социальном из¬
мерении. Оно создает ситуацию и играет в ней центральную роль. Этот
«перформанс» привычен вовлеченным в него людям, и они действительно
желают его повторения. Оно составляет, по меньшей мере, часть иден¬
тичности той группы людей, в которой культивируется. Оно может быть
292
обращено в прошлое, если группе это необходимо. Эго часть ее общего
наследия. Оно доставляет удовольствие, воспитывает и возвышает. По¬
чти неосознанное, оно требует ответственности в отношении к исполь¬
зованию языка.
С этой точки зрения, устная культура — нечто большее, чем вербаль¬
ные сообщения1', которые обычно вызывают у нас наибольший интерес.
Впрочем у невербальных элементов также есть шансы попасть в письмен¬
ные источники. Это обеспечивает прорыв, хотя и в ограниченной мере,
в сферу средневековой устной культуры.
Проиллюстрировать это можно примером из IX в. Историк Теган пи¬
шет о порядках при дворе императора Людовика Благочестивого:
«Никогда он не возвышал голоса своего до хохота; даже тогда, когда
по великим праздникам к радости народа на пиру перед ним являлись
певцы, шуты и мимы, а также музыканты и кифареды, и народ в его при¬
сутствии в меру смеялся, он никогда не обнажал в смехе белизну своих
зубов»16.
Теган досконально знал то, что он описывал, и к выбору слов подхо¬
дил серьезно. Для него суть этой сцены заключается в том, что импера¬
тор не одобряет происходящее при дворе (можно даже с удивлением от¬
метить, что император не в состоянии осудить поведение, которое он не
одобряет), и наилучшим образом Теган смог достичь своей цели, кратко
обрисовав то, что в действительности там происходило. Мы узнаем о сла¬
женной игре актеров, певцов, музыкантов, с одной стороны, и о поведе¬
нии придворных, составляющих публику, — с другой. Поскольку подоб¬
ные представления имели место в дни христианских праздников, можно
предполагать, что среди придворных были высшие официальные духов¬
ные лица — аббаты, епископы, архиепископы. Содержание такого пред¬
ставления составляло исполненное радости совместное наслаждение
вербальным искусством, чем-то хорошо знакомым, а потому восприни¬
маемым еще с большим удовольствием17.
Я счел возможным разобрать краткий отрывок из «Жития Людовика
Благочестивого» Тегана, потому что мои занятия в других областях изу¬
чения человека открыли новые, отличные от традиционной истории, пути
исследования взаимодействия людей. Мы можем исходить из предполо¬
жения, что Теган очень хорошо знал описываемую им сцену; из его слов
можно заключить, что подобное случалось скорее регулярно, нежели ред¬
ко. Следовательно, его описание позволяет приблизиться к пониманию
характерных черт жизни аристократии в каролингский период. Таким
образом, в данном отрывке мы обнаруживаем черты социальных струк¬
тур каролингской придворной жизни.
Здесь не место обсуждать роль устной культуры в контексте зарождав¬
шейся в Европе литературы на национальных языках, в основном, по¬
эзии. Концепция «устной литературы», обсуждавшаяся, главным обра¬
зом, в кругу Джона Майлза Фоли'\ привлекла больше скептиков, чем
сторонников, и вопрос о соотношении между ранней поэзией на нацио¬
нальных языках и устной культурой представляется теперь более слож¬
ным. чем до сих пор предполагалось14. Слишком легко здесь втянуться в
бесконечный спор.
293
Устную и письменную культуру средневековья — а это сиамские близ¬
нецы — объединяет разговорный язык с присущими ему средствами ар¬
тикуляции. Часто можно встретить раннесредневековое изречение по по¬
воду писания как физического труда: «Только тот, кто не умеет писать,
может думать, что писание не является трудом. О, сколь тяжело писание...
Три пальца пишут, и все тело трудится»20. Антропологический подход по¬
зволяет думать, что в последних трех словах этого изречения («все тело
трудится») речь идет о вербальном искусстве как «представлении». Сред¬
невековые источники свидетельствуют о всеобщей физической вовлечен¬
ности индивидов в действие устной культуры. Таким образом, хотя, на
первый взгляд, различия между устной и письменной культурой очевид¬
ны, при изучении этих культур в социальном контексте оказывается, что
письменная культура, дабы быть эффективной, вероятно, воспринимала
важнейшие черты устной культуры. Именно давняя устная культура с ее
чертами, развивавшимися на протяжении длительного времени и дока¬
завшими свою ценность, завоевала общественное признание.
Следует подчеркнуть, что, с точки зрения современного человека, все
выглядит по-иному, и письменная культура кажется чем-то высшим по
сравнению с устной21. Однако если рассматривать средневековое обще¬
ство в понятиях, присущих ему самому, выясняется, что все восприни¬
малось иначе. Ничто не свидетельствует о том, что устная культура была
вытеснена письменной, даже в тех социальных кругах, которым письмен¬
ная культура была доступна.
Оценивая влияние письменной культуры в средневековом обществе,
можно предположить, что, поскольку овладение навыками письма было
сложным и трудоемким делом, оно оставалось уделом меньшинства и
отделяло тех, кто владел этим умением, от тех, кто им не владел; пись¬
менная культура была потенциально разделяющим моментом в социаль¬
ном плане. В противоположность ей, устная культура обладала функци¬
ей социального сплочения. Возможно, именно поэтому она сохранялась
наряду с развивающейся письменной культурой.
* * *
Традиционная историография исследует события и процессы, отражая с
достаточной точностью содержание многих доступных источников по
данному периоду. Историческая антропология, в отличие от нее, имеет
дело со структурами, соотношениями и последовательностями. Очевид¬
но то, что истинное значение всех событий и процессов выясняется толь¬
ко в результате их оценки в рамках структур и последовательностей. Арон
Гуревич на протяжении долгих лет отстаивает антропологический подход
к истории. Отличительной чертой большинства его работ является тру¬
доемкий, кропотливый поиск структур, лежащих в основе исторических
источников. Не обязательно следовать решительному утверждению
Э. Эванс-Причарда, что «история стоит перед выбором — либо быть со¬
циальной антропологией, либо ничем»22. Но, похоже, историко-антропо¬
логический подход богато вознаграждает за сопряженные с ним техни¬
ческие трудности. Сторонники исторической антропологии используют
294
междисциплинарный подход к истории средневековья, в частности, к
скандинавской средневековой истории. Полевые исследования совре¬
менный антропологов сделали их восприимчивыми к пониманию антро¬
пологической проблематики в раннескандинавской литературе23. Им осо¬
бенно помог подход А. Гуревича к скандинавским исследованиям.
Примечания
1Richter М. Studies in medieval language and culture. Dublin, 1995; idem. The
Formation of the medieval West. Studies in the oral culture of the barbarians. Dublin,
1994.
2 Cm.: Vollrath H. Das Mittelalter in der Typic oraler Gesellschaften // Historische
Zeitschrift. 233, 1981. S. 571-594; Moisl H. Anglo-Saxon Royal genealogies and
Germanic oral tradition // Journal of Medieval History 7, 1981. R 215-248.
3 Иная ситуация сложилась в Британии, которая была частью Римской империи
около 350 лет. После ухода римлян там снова возобладали кельтские наречия. См.:
Jackson К. Language and history in early Britain. First to twelfth century. Edinburgh,
1953.
4 Cm.: Banniard M. Viva voce. Communication ecrite et communication orale du IVе
au IXе siecle en Occident latin. P., 1992.
5 Wright R. Late Latin and early Romance. Liverpool, 1982.
A Cm.: Balogh J. Voces paginarum // Philologus 82, 1927. P. 84-109, 202-240; Saenger
P. Separation of words and the physiology of reading // Literacy and orality. Cambridge,
1991. P. 198-214.
7 Gregorius Turonensis. De virtutibus S. Martini 11,1 // MGH SRM 1, pt 2. P. 159.
* В Ирландии ситуация была иной. См.: Richter М. Medieval Ireland - the enduring
tradition. L.; Dublin; N.Y., 1988. P. 12.
9 Можно вспомнить, что Э.А. Лоуи писал о развитии письменности: она «словно
наползает на эпохи с величественной медлительностью ледника». См.: Lowe Е.А.
Handwriting // The legacy of the Middle Ages. Oxford, 1926. P. 198.
10 См. издания под серийным заголовком «Script Oral». У. Шефер пишет: «Осоз¬
нать, какое место занимала письменность в целостности культуры, прежде всего
раннего средневековья, какую роль она тогда играла, настоятельно необходимо,
если мы хотим приблизиться к правильному пониманию проблемы устного язы¬
ка в этой культуре». См.: Schafer U. Zum Problem der Miindlichkeit // Modernes
Mittelalter. Frankfurt a. M.; Leipzig, 1994. S. 367.
" PL 76. Col. 672.
12 Havelock E.A. Preface to Plato. Cambridge, 1963; idem. The literate revolution in
Greece and its cultural consequences. Princeton, 1982. Я обсуждал эти проблемы в
«Парадигмах устной культуры» (в печати).
13 Havelock Е.А. Literate revolution. Р. 10.
14 Bauman R. Verbal art as performance // Prospect Heights. Ill, 1977.
15 Vansina J. Oral tradition as history. L., 1985. См. стр. 3: «Продуктом устной тра¬
диции являются устные сообщения, основанные на предыдущих устных сообще¬
ниях, старших по давности хотя бы на одно поколение».
“ MGH SS II. Р. 595.
17 Более детально и в широком контексте см.: Richter М. The Formation..., особенно
гл. 6.
14 Foley J.M. (ed). Oral tradition in literature. Interpretation in context. Columbia, 1986;
idem. The theory of oral composition. History and methodology. Bloomington. 1988.
14 О современной дискуссии по этой обширной теме см.: Hang И' Miindlichkeit.
Schriftlichkcit und Fiktionalitat Modernes Mittelalter. S. 376-397.
295
:o Wattenhach W Das Schnftwesen im Mittclalter. Leipzig, 1896. S. 279-284; cp.:
Richter M. The Formation... P. 50.
21 См. классическую формулировку Дж. Гуди и И. Уотта; Goody J., Watt /. The
consequences of literacy//Comparative Studies in Society and History, 5. 1962-1963.
P. 304-305.
v Evans-Pritchard E.E. Anthropology and History // Evans-Pritchard E.E. Social
anthropology and other essays. N.Y., 1964. P. 190.
21 Turner V. An anthropological approach to the Icelandic saga// The translation of
culture. Essays to E.E. Evans-Pritchard. L., 1971. P. 1971. P. 349-374; Bauman R.
Performance and honor in 13"’ century Iceland // Journal of American Folklore 99, 1986.
P. 131-150.
Перевод с английского M. Горелова
О.А. Смирницкая (Москва)
Два предания о первых поэтах: Кэдмон и Браги
Предлагаемая работа в своей основной части посвящена древ¬
неисландскому преданию о первом скальде — Браги Старом
Боддасоне. Предание это дошло до нас в виде отрывочных
сведений, рассеянных в памятниках древнеисландской лите¬
ратуры. В последние годы особенно много пишут о фрагмен¬
тарности и недостаточной достоверности наших знаний о ранних этапах
становления литературы. Как замечает в своей обзорной статье о скаль-
дической поэзии Р. Фрэнк, «скальдоведы в наши дни скептически отно¬
сятся к самой возможности добраться до истины; вместе со всем XX в. мы
убедились в людском невежестве: историки, этнографы, компаративис¬
ты, специалисты по социальным аспектам литературы и искусства дол¬
жны отдавать себе отчет в том, что большинство построений и непрере¬
каемых утверждений, которые содержатся в наших историях литературы,
вызывают ныне лишь сомнения и недоверие»1. Поскольку филологичес¬
кие исследования тем не менее продолжаются, филологи пытаются, на¬
сколько возможно, учесть эту ущербность наших сведений в своих пост¬
роениях, «утраченная литература» (the lost literature) становится предметом
отдельных исследований2. В настоящей работе меня, однако, более всего
интересует другая сторона данной проблемы, так сказать, конструктив¬
ная сторона фрагментарности. Мы замечаем, что в силу действия неких
механизмов, непрерывно работающих в культуре, разнородные фрагмен¬
ты информации, содержащиеся в текстах, имеют свойство притягивать¬
ся друг к другу, составлять новое связное целое — гипертекст. Взятые в
совокупности, подобные гипертексты могут быть прочитаны как сфор¬
мировавшаяся в литературе версия ее собственного развития или форма
ее самопознания. Как мы, возможно, убедимся, гипертексты обладают
большим запасом прочности. Время не разрушает их, но продолжает до¬
страивать, сортируя и скрепляя между собой отдельные фрагменты и на¬
деляя значимостью пробелы. Само собой разумеется, что отложившаяся
в гипертекстах версия вовсе не обязательно совпадает с реальными фак¬
тами литературного процесса, более всего интересующими историков
литературы. Напротив, именно в силу своей связности она оказывается
в конце концов главным препятствием для реконструкции. Можно на¬
править усилия на ее «разоблачение». Но можно попытаться понять до¬
шедшие до нас гипертексты в их собственном качестве — как полнопрап-
297
ный объект научного познания, со своей поэтикой, внутренним сюжетом,
кульминацией и со своей часто неожиданной развязкой. В конечном сче¬
те, поэтика гипертекста, как и любого отдельного текста и отдельного
жанра, определяется преобладанием в его создании осознанного либо
неосознанного авторства.
С этой точки зрения может быть поучительным сопоставление пре¬
дания о Браги с преданием о другом первом поэте — Кэдмоне, как оно
известно из рассказа Беды в его Historia Ecclesiastica (далее — Hist. Eccl.
IV, 24) и как оно вошло в историю письменной древнеанглийской поэзии.
Предание о Кэдмоне
Фр.П. Мэгун, привлекший в свое время внимание филологов к рассказу
Беды о поэте Кэдмоне, увидел в этом рассказе уникальное свидетельство
современника о деятельности сказителя в раннехристианском обществе1.
Гимн о сотворении мира, сочиненный Кэдмоном во сне, оказался на по¬
верку «сплошь формульным»4, а сообщение Беды о том, как, поселившись
в монастыре, Кэдмон переложил в стихи сюжеты Священного Писания,
свидетельствует о том, что поэт достиг высокой степени эпического ма¬
стерства, т.е. умел сочинять в процессе исполнения. Тем самым Гимн,
считавшийся ранее уникальным (если и не боговдохновенным) текстом
и созданием его автора, был низведен на положение одного из множества
подобных гимнов — варианта, волею случая зафиксированного на пер¬
гаменте5. Однако, поскольку Беда описывал сочинение Гимна как чудо,
последователи Фр.П. Мэгуна не обошли вниманием и тех конкретных
приемов, с помощью которых Беда внушает читателю эту свою версию.
Было, в частности, высказано предположение, что сам Беда не привел
текста Гимна, а заменил его прозаическим латинским переводом, дабы
не разоблачить перед читателем его традиционное происхождение6.
Умышленное сокрытие истинных корней Гимна было обнаружено и в
рассказе Беды7. Указывалось, в частности, что Беда, обладая в принципе
теми желанными о деятельности эпического поэта, что и А.Б. Лорд, по¬
строил свой рассказ о Кэдмоне таким образом, чтобы отвести от него
подозрения в подготовленности к подобной деятельности. Так, согласно
А.Б. Лорду, обучение эпического поэта проходило три последовательные
ступени. Вначале он лишь прислушивается к пению опытных сказителей;
затем пытается подражать им, осваивая искусство игры на музыкальном
инструменте и воспроизводя традиционные формулы и темы. Наконец,
достигнув известной степени мастерства, сказитель сам начинает петь
перед аудиторией, постепенно расширяя свой репертуар. Беда, со своей
стороны, выделяет почти те же ступени, но «в отрицательном смысле», а
именно утверждает, что его герой «не учил ни единой песни» (nil carminum
aliquando didicerat)\ никогда не пытался петь сам, но, завидев приближе¬
ние арфы, покидал пир и уходил восвояси домой (ubi appropinquare sibi
citharam cernebat, surgebat a media cena et egressus ad suam domum repedabat).
Тем самым устраняется и возможность достижения Кэдмоном третьей
298
ступени сказительского мастерства: поэтом его могло сделать только
чудо*.
Отдавая должное аргументам сторонников устно-эпического проис¬
хождения Гимна, я хотела бы взглянуть на легенду о Кэдмоне под не¬
сколько другим углом зрения. Заметим прежде всего, что независимо от
справедливости приведенных выше предположений о намерениях Беды,
последующая история Гимна сложилась не «по А.Б. Лорду», а как того
хотел автор Hist. Eccl. Рассказ Беды дал начало литературному факту: с
Гимна Кэдмона о Первотворении (др. англ, frumsceaft) действительно
начинается история древнеанглийской поэзии, как она известна. Беда,
как было сказано, не записал Гимна. Но в самом скором времени после
того, как была завершена Hist. Eccl. (731 г.), Гимн все же проник на ее
страницы — сперва в качестве маргинального текста, вписанного (в по¬
чти идентичном варианте) на свободных местах некоторых рукописей
рядом с рассказом о Кэдмоне9. В эпоху же короля Альфреда, когда
Hist. Eccl. была переведена на древнеанглийский язык, Гимн (в нормали¬
зованной уэссекской орфографии) был помещен в составе самого расска¬
за Беды. Естественно, отпала при этом и надобность в его прозаическом
переложении и в оговорках Беды касательно невозможности воспроиз¬
вести на латинском языке его красоту (neque enim possunt carmina, quamvis
optime composita, ex alia in aliam linguam ad verbum sine detrimento sui decoris
ac dignitatis transferri).
Но почему все же сам Беда не включил текст Гимна в свой рассказ?
Представляется, что нет необходимости видеть в замене Гимна латинс¬
ким переложением сознательную уловку, к тому же оказавшуюся на ред¬
кость неэффективной (ибо Гимн, судя по всему, был у многих на устах,
и писцы его все же записали). Беда, как можно предположить, не приво¬
дит стихотворения Кэдмона не с целью его замалчивания, а по условиям
времени. Современные исследователи, правда, склонны воспринимать
запись устного стихотворения просто как дело техники. Но во времена
Беды, т.е. в самом начале письменной эпохи в Англии, еще существова¬
ла непреодолимая пропасть между латинской письменностью и устной
англосаксонской культурой. Проза Беды и стих, сказанный нортумбрий¬
ским пастухом (хотя бы и внушенный свыше), были еще абсолютно не¬
совместимы. Беда пишет, что красота Гимна не могла бы быть передана
средствами латинского перевода. Но красота эта состояла для носителей
или свидетелей устной традиции, конечно, не только в словах, располо¬
женных в определенном порядке — frdra ende-byrdnes fris is — «их после¬
довательность такова», — сказано в древнеанглийском переводе Гимна),
но также и в ритме, интонации — в самом звучании аллитерационной
поэзии. В этом смысле аллитерационная поэзия непереводима не толь¬
ко на латынь, но и вообще в письменную форму. Лишь развитие пись¬
менной поэзии отодвинуло эти ее качества на второй план.
В этой связи существенно, что к тому времени, когда переводчик вре¬
мен короля Альфреда включил Гимн в текст Hist. Eccl., аллитерационная
поэзия уже широко записывалась, и для Гимна сложился развитый пись¬
менный контекст. Не будет преувеличением сказать, что само существо¬
вание данного контекста, говорящее о высокой репутации аллитераци¬
299
онной поэзии в двуязычной письменной культуре англосаксов, — это
также в большой степени плод культурной политики, проводимой в свое
время Бедой Достопочтенным и другими авторитетами раннеанглииской
церкви. Повествуя о чуде. Беда пекся, надо думать, не о сокрытии тради¬
ционных корней христианской поэзии (путем замалчивания самой по¬
эзии), а о том, чтобы обратить традицию на благо церкви. Политика эта,
как мы знаем, оказалась плодотворной. Вместе с Кэдмоном и другими
поэтами аллитерационная поэзия вошла в монастырь, и это послужило
началом ее новой, письменной, истории.
Но политика, проводившаяся Бедой в отношении традиционной по¬
эзии, как это следует из его рассказа, была двояконаправленной. Освя¬
щая начала христианской поэзии, Беда противопоставляет ее другой
поэзии — тем праздным песням, к сочинению которых был неспособен
Кэдмон {nil umquam frivoli et supervacui poematis facere pot и it). Зададимся
теперь вопросом, каким же искусством не владел Кэдмон или, более
конкретно, какие песни (carmina) звучали на том мирском пиру, с ко¬
торого он ушел в смущении. Для последователей Фр.П. Мэгуна этого
вопроса, по-видимому, не существует. Принимается за данность, что
песни, звучавшие на пиру, и есть тот «устно-эпический фон», от кото¬
рого Беда отводит своего поэта. Но кажется возможным допустить, что
Беда имел в уме более широкую картину устных жанров, не сводимую
к эпической поэзии. Содержащееся в его рассказе описание пира скло¬
няет к предположению, хотя бы чисто гипотетическому, что под carmina
он подразумевал не эпические песни (например, «об Ингельде»10), а сти¬
хи, развившиеся из «неэпического корня» германской поэзии, от церк¬
ви навсегда и заведомо отлучаемые. Именно по этой причине, а вовсе
не по причинам чисто филологическим и интересным прежде всего со¬
временным ученым, Беда так настаивает на непричастности Кэдмона к
застольным увеселениям. Он, впрочем, воздерживается от осуждения
пирующих, но лишь дает понять всем своим рассказом, что и на сей раз
«унижающий себя возвысился» (Лк. 14, 11), и тот, кто со стыдом поки¬
нул пир, был отличен Богом меж всеми.
Попытаемся представить себе ту действительность, которая хотя и
слабо, но все же проступает за рассказом Беды. Как рассказывается, пи¬
рующие передают друг другу арфу, по очереди исполняя свои песни.
Представляется мало правдоподобным, чтобы вкруговую исполнялись
эпические песни, хотя бы и краткие, или чтобы участники этого развле¬
чения передавали друг другу вместе с арфой эпические темы. Ни один из
древнегерманских источников не содержит ни малейшего намека на воз¬
можность подобного исполнения. Зато у нас нет недостатка в источни¬
ках, как в древнеанглийских, так и в древнеисландских, из которых сле¬
дует, что совместно или поочередно могли исполняться панегирические
или хулительные стихи, сочиняемые на случаи". Жанры эти более всего
известны по тому развитию, которое они получили в Скандинавии, и
особенно в поэзии скальдов (в эддической поэзии к ним принадлежат
некоторые стихи, сочиненные в «размере речей» — льодахаттеУ1. Во всех
этих случаях совместное или поочередное исполнение предполагает со¬
стязание в поэтическом мастерстве. Но ведь и унижение Кэдмона, неспо¬
300
собного принять участие во всеобщей забаве, позволяет предположить,
что эта забава представляла собой своего рода состязание, участники ко¬
торого должны были продемонстрировать свое искусство.
Между тем, основа основ теории Пэрри—Лорда состоит в том, что
эпическая поэзия не осознается сказителями как индивидуальное уме¬
ние, т.е. как то, что исландцы обозначали словом iftrott. И слово это, как
известно, никогда не относилось исландскими носителями традиции к
эпическому искусству.
Итак, позволительно предположить, что Кэдмон действительно про¬
пел свой гимн Богу Творцу иначе, чем пели свои короткие carmina (le
од) его сотрапезники на мирском пиру. Мы не можем сказать ничего оп¬
ределенного о жанре или стихотворной форме этих carmina: уже по
причине своей актуальности, т.е. непосредственной связи с языческой
практикой или просто обычаем, исконные малые жанры были отверг¬
нуты церковью и обречены на существование в подспудном пласте уст¬
ной культуры. Единственным «размером песни, достойной Бога»
(др.англ. gemet Godes wyrftes sptges), был сочтен лишь эпический раз¬
мер, в котором сочинен Гимн Кэдмона. Преимущество этого размера,
как можно предположить, состояло именно в его эпичности, надмир-
ности и, в силу этого, возможности его переориентации на выражение
ценностей христианского мира. Эпический размер спасла эпическая
дистанция. Таким образом, если наше предположение верно, рассказ
Беды фиксирует не одно, но два неразлучно связанных друг с другом
события. Беда отмечает и освящает своим авторитетом начало христи¬
анской поэзии на родном языке и одновременно с этим проводит черту
между угодной Богу поэзией и песнями иных жанров, распеваемыми за
стенами монастыря. Запечатлен оказался сам момент жанрового сдви¬
га, т.е. переноса эпической формы в область, первоначально ей чуждую,
— в область хвалебной, гимнической поэзии.
Предложенная реконструкция имеет, однако, тот существенный не¬
достаток, что она производилась в основном ex silentio. В ней недостает
решающего звена — каких-либо положительных свидетельств произо¬
шедшего сдвига. Представляется, что это звено можно найти в самом
Гимне. Исследователи древнеанглийской литературы неизменно отмеча¬
ют, что начальный текст древнеанглийской поэзии парадоксальным об¬
разом оказывается одним из самых «нехарактерных» ее текстов13. Это
несомненно так, ибо форма Гимна («достойный Бога размер») не может
не прийти в столкновение с самим его жанром — короткого хвалебного
стихотворения. Неуместной в этом жанре оказывается прежде всего эпи¬
ческая формульность. Данный момент, как кажется, был упущен
Фр.П. Мэгуном и его последователями. В самом деле, формулы, как это
хорошо известно из теории Пэрри-Лорда, были для эпического поэта
необходимым языковым инструментом, позволяющим ему сочинять в
процессе исполнения14. Малые фиксированные тексты по определению
не нуждаются в формулах. Между тем, исходя изданных, которыми мы
располагаем, едва ли можно усомниться в том, что Гимн был именно
фиксированным текстом, т.е. что Беда дал в своем рассказе перевод имен¬
но того стихотворения, которое в скором времени было записано не¬
301
сколькими писцами на страницах его рукописи. Таким образом, форму¬
лы в Гимне по существу лишены функции; говоря иначе, они определя¬
ются самим размером, составляющим единство с поэтическим языком.
Не нашла освещения в литературе и еще более примечательная осо¬
бенность формальной организации Гимна: под завесой эпической мет¬
рики и эпической формульности в нем различимы некоторые исконные
признаки малых форм, типологически сближающие его со скальдическим
стихом.
Так, Гимн Кэдмона, в отличие от других древнеанглийских стихов,
имеет четкую строфическую организацию. Он состоит из двух восьми¬
строчных (краткие строки) строф, связанных повтором последней нечет¬
ной строки (йсе Drihten — «вечный Господь»). Конечную позицию в обеих
строфах занимают синонимичные глаголы в личной форме: onstealde «ус¬
тановил», teode «устроил, установил». Две завершающие строки Гимна не
включаются в эту строфическую композицию и представляют собой сво¬
его рода наращение; они избыточны синтаксически и состоят из четырех
именных форм: варьирующих поэтические именования предшествующей
строфы: firum foldan / frea celmihtig — «людям землю / Господь всемогу¬
щий».
Но и сама метрика Гимна имеет примечательную особенность, отли¬
чающую его от классического эпического размера «Беовульфа», древне¬
английских элегий или загадок. Аллитерационная эпическая строка, как
известно, допускает широкое варьирование числа безударных (признак
чистой тоники). Напротив, в стихе Гимна наблюдается ярко выражен¬
ная тенденция к ограничению числа безударных, т.е. к слогосчитанию.
Все, за исключением двух, его строки четырехсложны или пятисложны
(по распущению). Лишний безударный мы наблюдаем лишь в строках qnd
his modgepanc и swa he wundra gehwces, но и в этом случае двусложный
начальный спад допускает стяжение того же типа, что и в скальдическом
дротткветте. Слогосчитающий стих, таким образом, также сближает Гимн
со скальдической поэзией.
Отметим, наконец, что та неистощимая изобретательность, с которой
Кэдмон варьирует наименования Бога (семь разных наименований) на¬
поминает искусство скальда, заполняющего хвалебную вису хейти и кен-
нингами правителя.
Названные особенности поэтики Гимна, выдающие его родовую связь
с исконной формой хвалебной поэзии, отводят ему особое место во всем
корпусе древнеанглийской поэзии. Универсализация эпической формы,
т.е. распространение ее на малые жанры, имела своим закономерным след¬
ствием эпизацию этих последних. Изнутри письменного контекста древ¬
неанглийской литературы малые жанры (загадки, элегии, гномические
стихи и др.) предстают как жанры постэпические. Отсюда проистекает го¬
могенность всей древнеанглийской поэзий, так разительно отличающая ее
от поэзии скандинавской и надежно скрывающая от исследователей исто¬
ки ее жанров1".
Универсализация эпического размера имела, наконец, и другую, не
менее важную, сторону. Воспринятый письменной литературой эпичес¬
кий стих стал осознаваться как форма, соизмеримая с латинским стихом.
302
Тем самым открылся путь и для прямого воздействия на него со стороны
латинской поэзии. Это определяет двойственность письменных малых
жанров, связанных с эпической традицией (а подспудно и со своими ус¬
тными прототипами) и в то же время выступающих как древнеанглийс¬
кий аналог соответствующих латинских малых жанров (загадок, элегий
и т.д.).
Однако лишь в одном единственном случае аллитерационный стих
был применен как чисто литературный размер, внеположенный тради¬
ции. Я имею в виду «Предсмертную песнь Беды». Это короткое стихот¬
ворение Беды лишено традиционных поэтизмов и формул, и размер
его — уже целиком абстрактная форма, облекающая заключенную в нем
сентенцию. «Предсмертная песнь», в отличие ог Гимна, могла быть за¬
писана в латинском тексте: она была приведена монахом Кутбертом в
письме, рассказывающем о последних днях его учителя.
Предание о Браги
В Исландии, где развитие системы поэтических жанров происходило без
заметных скачков и где скальды воздавали хвалу Творцу в драпах и флок-
ках16, не было, естественно, почвы и для создания рассказов о «первых
поэтах», подобных рассказу о Кэдмоне. Говоря о Браги Старом Боддасо-
не, норвежском скальде начала IX в., как о первом поэте, подразумевают
лишь, что он был «первым скальдом, чьи стихи дошли до нас, к сожале¬
нию, в фрагментарной форме»17. Правда, неоднократно предпринимались
попытки доказать, что Браги принадлежит особый вклад в развитии
скальдической поэзии18. Однако источники не дают оснований для подоб¬
ных реконструкций. Как заметил по этому поводу М.И. Стеблин-Камен¬
ский, «имеет смысл прислушаться к Снорри, который, с его прекрасным
знанием древних скальдов, не считал Браги изобретателем дротткветта.
Возводя возникновение скальдического искусства на Севере к Одину
<...>, Снорри, возможно, был ближе к истине, чем Могк и Хойслер»14. В
самом деле, в своем описании скальдических кеннингов («Язык поэзии»)
Снорри цитирует стихи Браги в одном ряду со стихами других главных
скальдов; так, например, приводя примеры кеннингов НЕБА, Снорри по¬
мещает вису Браги между висами Орма Скальда с Баррей (малоизвестный
оркнейский скальд конца X в.) и Маркуса (исландский скальд и законо-
говоритель, умер в начале XII в.). Совершенно несомненно, что Браги-
скальд никак не ассоциируется у Снорри с асом Браги — богом поэзии:
оба многократно упоминаются на страницах «Языка поэзии», но безот¬
носительно друг к другу. Стоит заметить, в этой связи, что именно ас Бра¬
ги, а не одноименный скальд, называется в одном месте снорриевой
«Эдды» (Младшая Эдда, далее — МЭ, 112) «зачинателем поэзии»
(frumsmidr, букв, «первый мастер, (скальд)».
Правда, в «Перечне размеров» Снорри приводит пример размера,
обозначаемого им как «размер Браги» (bragahattr). Но размер этот —
не более, чем экспериментальная разновидность дротткветта с особой
303
схемой рифмовки; он не встречается в скальдической практике, и не¬
известно, на чем основывался Снорри, связывая его с именем Браги.
Итак, Снорри не считал Браги зачинателем скальдического искусства.
Тем не менее, было бы недальновидно делать отсюда вывод, что первен¬
ство Браги в перечне скальдов было лишено для Снорри значимости, т.е.
являлось для него, как и для современных исследователей, лишь делом слу¬
чая. Приведенные факты далеко не исчерпывают информации о роли Бра¬
ги, которая может быть извлечена у Снорри; они свидетельствуют разве
лишь о том, что Снорри не ставил своей задачей особо оговаривать и тем
более декларировать в своей «Эдде» это первенство. Легенда о первом
скальде, чьи стихи запечатлелись в памяти исландцев (и лишь в силу это¬
го «дошли до нас»), не была в Исландии инструментом той или иной куль¬
турной политики. Она не облекалась в форму рассказа, но складывалась в
глубинах традиции по законам неосознанного авторства. И в тех случаях,
когда Снорри все же особым образом выделял Браги в своих произведени¬
ях, это выделение не было для него самоцелью: он опирался на знание,
общее для него и его современников.
Виса о Гевьон
Снорри, как было сказано, приводит стихи Браги в одном ряду со стихами
других скальдов в той части своей «Эдды», которая посвящена анализу
скальдической техники. Но две висы Браги помещаются им вне ряда и уже
в силу этого наделяются особой значимостью. Первая из них — это виса о
Гевьон, приводимая в самом начале «Эдды» («Видение Гюльви»)20, а так¬
же в качестве начальной скальдической цитаты в «Круге Земном» («Сага
об Инглингах», глава V). Виса и примыкающий к ней эпизод рассказыва¬
ют о том, как богиня Гевьон обманным путем отпахала у шведского конун¬
га Гюльви изрядный кусок его земли с помощью четырех быков — своих
сыновей от одного великана. Быки сбросили землю в море, и так возник
остров Зеландия; на месте же той земли в Швеции образовалось озеро Ме-
ларен: потому «бухты на озере Меларен похожи с виду на мысы Зеландии»
(МЭ, 16).
Эта история трактуется специалистами как типичный этиологический
миф, т.е. миф, объясняющий, как возникла та или иная вещь и почему
она приобрела свой облик21. Данное объяснение, очевидно, справедли¬
во; но, принимая во внимание природу «вещи», о которой идет речь
(dji'iprddiil gdla — выражение, которое может быть понято как «золото
земель», т.е. «лучшая земля»), и то место, которое занимает виса о Гевь¬
он в «Видении Гюльви» и «Саге об Инглингах», выскажу предположение,
что рассказ о Гевьон призван играть в контексте обеих книг роль космо¬
гонического мифа (хотя бы и местного, внутрискандинавского масшта¬
ба). в каком-то смысле сопоставимого с кэдмоновским frumsceaft.
Говоря же о непосредственном контексте данной строфы, нельзя не
заметить, что рассказ о встрече богини и конунга, соединяя миф с зем¬
ной действительностью, дает Снорри идеальную возможность вести
304
повествование в желаемом направлении”. В начальной саге «Круга
Земного» история о Гевьон пролагает путь из мифологических (в эв-
гемеристическом смысле) глубин к генеалогии скандинавских конун¬
гов. Гевьон, как рассказывает далее Снорри, вышла замуж за сына
Одина Скьёльда и поселилась с ним в Хлейдре (совр. Лейре в Зелан¬
дии). Отсюда пошел датский королевский род Скьёльдунгов. Откры¬
вая же «Видение Гюльви», данный эпизод служит отправным пунктом
движения вглубь мифа: он непосредственно предшествует рассказу о
том, как конунг Гюльви отправился на поиски асов, дабы выведать у
них, в чем источник их власти. Знания, полученные Гюльви от асов,
составляют содержание первой части снорриевой «Эдды».
Разговор Браги с великаншей
Но Браги выделен Снорри как автор не только «космогонической», но и
метапоэтической висы. Речь идет об ответной строфе Браги в разговоре с
великаншей, которую (строфу) Снорри весьма уместно приводит в «Язы¬
ке поэзии» (МЭ, 161 — 162). Снорри вкратце обозначает ситуацию, когда
была сказана эта виса: «Браги Старый проезжал раз поздним вечером по
лесу, и одна великанша обратилась к нему со строфой (stefjaci а капп) и
спросила, кто это там едет». Виса великанши (trollkona) на тему, что есть
тролль, весьма малопонятна, и она есть не во всех рукописях снорриевой
«Эдды»; Финнур Йоунссон приводит ее в своем издании поэзии скальдов
среди анонимных вис21. Но ответная виса Браги на тему, что есть скальд,
есть во всех рукописях, и Финнур Йоунссон относит ее к числу произве¬
дений Браги. Она гласит:
«Skald kalla mik
skapsmid Vi5urs,
Gauts giafrotud,
grepp ohneppan,
Yggs olbera,
ods skap-Moda,
hagsmid bragar,
hvat er skald, nema J)at?»
(Видур, Гаут, Игг — имена 1
«Поэты называют меня
мастером корабля Видура,
добытчиком дара Гаута,
певцом нескаредным,
подателем пива Игга,
песнь творящим Моди,
искусным мастером поэзии.
Что такое скальд, если не это?»
ча; Моди — ас, сын Тора).
Разговор Браги с великаншей был в недавнее время предметом тща¬
тельного рассмотрения в ряде работ. Б. Альмквист и Х.Р. Эллис Дэвид¬
сон24 убедительно истолковали этот обмен висами как словесный поеди¬
нок. Все говорит о том, что Браги одержал в нем победу. Отмечается при
этом, что, в отличие от великанши, которая могла придумать свою вису
заблаговременно. Браги пришлось отвечать ex tempore и при этом в раз¬
мере, заданном великаншей”. Как предположила недавно Е.А. Гуревич,
смысл эпизода состоит, однако, не в самой по себе победе Браги над ве¬
ликаншей. а в противопоставлении образцовой висы первого скальда
305
неправильной, ибо выпадающей изскальдического канона, висе его сопер¬
ницы26. Вскрывая историческую подоплеку этого противопоставления,
Е.А. Гуревич обращает внимание на то, что каноничность скальдического
словаря Браги является, так сказать, не исходной, а благоприобретенной,
ибо отражает развитие традиции. Виса Браги представляется правильной
в силу того, что сочиненные им кеннинги были подхвачены традицией,
заложили основу модели, тогда как кеннинги тролля в висе великанши
не вошли в традицию и представляются на ее фоне невразумительными.
Можно вполне согласиться с предложенной постановкой вопроса, вспом¬
нив в данной связи и противопоставление Гимна Кэдмона тем отсеян¬
ным последующей традицией песням, которые звучали на мирском пиру.
Между обоими случаями есть, конечно, и существенное различие: в то
время, как о песнях на пиру мы можем судить лишь на основании кос¬
венных данных, виса великанши все же приводится Снорри или поздней¬
шими переписчиками.
Но меня в данном случае интересует не столько вопрос об отношении
обеих вис к традиции (тем более, что великанша сказала свою вису на
языке троллей: «Тролли называют меня» так-то и так-то), сколько функ¬
ция стихов Браги в контексте «Языка поэзии». Итак, с какой целью Снор¬
ри включил эпизод с великаншей в свой поэтологический текст? Ответ
представляется в достаточной мере самоочевидным. Эпизод помещен в
весьма ответственном месте снорриевой поэтики — в начале раздела,
посвященного скальдическим хейти, т.е. не метафорическим, а «соб¬
ственным» обозначениям вещей. Приведу более широкий контекст: «Ка¬
кие есть способы выражения в поэзии, кроме кеннингов? Можно назы¬
вать всякую вещь своим именем. Какие существуют обозначения поэзии,
кроме кеннингов? Поэзия зовется «красноречием», «восхвалением»,
«вдохновением», «прославлением», «хвалой». Браги Старый проезжал раз
поздним вечером...» (МЭ, 161). Стоит заметить, что почти все остальные
примеры хейти поэзии, приводимые Снорри в данном месте, взяты им
из драп королевских скальдов, обращенных к конунгу. Главное их содер¬
жание — подвиги конунга, а поэзия упоминается в них в основном лишь
во вставных фразах, в которых скальды говорят о своем искусстве.
Браги — единственный скальд, сочинивший вису, все содержание ко¬
торой сводится к ответу на вопрос hvat er skald, а тем самым и к опреде¬
лению того, что такое поэзия (хейти поэзии входят в данной висе в со¬
став кеннингов скальда). Может быть, не случайно завершающим хейти
поэзии в данной висе оказалось слово bragr.
Итак, виса Браги представляет собой определение скальдической по¬
эзии в форме самой поэзии, т.е. является образцовой метапоэтической
висой. Виса же великанши не только мотивирует ее сочинение, но, как
и было замечено Е.А. Гуревич, оттеняет своим «безобразием» ее образцо¬
вость.
И еще один момент может быть отмечен в связи с парностью «космо¬
гонической» и метапоэтической вис Браги. Виса о Гевьон выделяется как
единственная дротткветтная строфа в мифологическом контексте «Виде¬
ния Гюльви», или, что то же самое, как единственная дротткветтная виса,
приводимая в снорриевой «Эдде» не ради своей формы, а ради своего со¬
306
держания. Все остальные строфы в данной части «Эдды» взяты Снорри
из эддической поэзии. В свою очередь, ответ Браги великанше выделя¬
ется в поэтологическом контексте «Языка поэзии» как единственный
пример авторской скальдической висы в эпическом размере (форнюрдис-
лаг). Выбор размера, правда, принадлежит великанше, и Браги по пра¬
вилам состязания был вынужден ответить ей тем же. К тому же каталог,
или тула, каковой по существу является данная строфа, требует эддичес-
кого размера. Это, однако, не меняет самого факта — как функциональ¬
ной, так и формальной отмеченности висы Браги в контексте «Языка
поэзии».
Драпа Рагнара
Но обращают на себя внимание и остальные висы Браги, приводимые
Снорри, хотя он их особо и не выделяет. В отличие от основной продук¬
ции «главных скальдов», т.е. хвалебных стихов, воспевающих подвиги
правителя, все они имеют своим содержанием мифологические или ге¬
роические сюжеты. Нетрудно, конечно, объяснить это тем, что они взя¬
ты Снорри из главного произведения Браги — щитовой драпы, в которой
скальд описывает изображение на щите, подаренном ему легендарным
датским викингом Рагнаром Лодброком (к этой же драпе обычно отно¬
сят и вису о Гевьон). Имя Рагнара сына Сигурда встречается в самой дра¬
пе; Снорри же прямо пишет в своей «Эдде», что драпа была сочинена «в
честь Рагнара Лодброка». Следует сказать, что не все исследователи
склонны полагаться на информацию Снорри. Предпринимались попыт¬
ки подыскать для драпы другого, желательно менее легендарного, адре¬
сата по имени Рагнар сын Сигурда. Попытки эти, однако, не способны
стереть ореола легенды с самой драпы. Дело в том, что хотя щитовые дра¬
пы упоминаются в исландских памятниках, а в «Саге об Эгиле» (гл. 78)
есть пространный рассказ о том, как щит с «рисунками из древних ска¬
заний» был подарен самому Эгилю и тот был вынужден откликнуться на
подарок щитовой драпой (сага приводит из нее две строфы), никаких
щитов с изображениями не было найдено в Скандинавии27. Это обстоя¬
тельство побуждало некоторых исследователей сомневаться в историчес¬
кой реальности данного жанра и предполагать, что так называемые щи¬
товые драпы сочинялись в архаическую эпоху с совсем иной целью. В
книге О. Кабелля «Скальды и шаманы», где проблема щитовых драп рас¬
сматривается особенно подробно, было высказано предположение, что
предметы, представленные позднейшей традицией как щиты, были на
деле шаманскими бубнами, а «рисунки на щите» — изображениями, по¬
крывающими бубны в качестве модели мира28. Само слово «драпа» выво¬
дится авторами из глагола drepa — «бить» (в бубен)», а щитовым драпам
(или, точнее, тем ритуальным стихам, которые угадываются за ними) от¬
водится ведущее место в происхождении скальдической поэзии.
Я не беру на себя смелость обсуждать в настоящей статье происхож¬
дение стихов, ставших известными как щитовые драпы. Представляется
307
важным лишь подчеркнуть то обстоятельство, что все дошедшие до нас
щитовые драпы относятся традицией ко временам древнейших скальдов.
Известны строфы из щитовых драп Браги Старого (Ragnarsdrapa), Тьо-
дольва Хвинского (Haustlqng) и Эгиля Скаллагримссона (две строфы). Но
если от Тьодольва и, тем более, Эгиля сохранились стихи и в других жан¬
рах, то щитовая драпа героико-мифологического содержания и еще две-
три строфы (одна из которых была сказана в разговоре с великаншей), —
это, в сущности, все, что мы знаем о творчестве Браги Старого Боддасо-
на.
Браги Старый как современник Хальвдана Черного
Итак, Браги предстает на страницах снорриевой «Эдды» одновременно как
один из главных скальдов и как лицо легендарное — автор космогоничес¬
кой и метапоэтической строф, т.е. если и не «первый скальд», то все же в
известном смысле родоначальник. Много усилий было положено на то,
чтобы развеять этот ореол легенды вокруг фигуры Браги, понимаемый как
дефект нашего знания, и приблизиться, насколько возможно, к историчес¬
ким фактам. Предмет настоящей статьи, однако, — не факты как таковые,
а само предание о первом поэте, в котором запечатлелась, как представ¬
ляется, самооценка традиции. Таким образом, переходя теперь к истори¬
ческому контексту предания о Браги, мы не будем задаваться вопросами
типа: «где и когда жил Браги?», «в чем состоит его действительный вклад в
скальдическое искусство?»29 Перед нами стоит лишь один вопрос: какое
место было предназначено для Браги в исландском восприятии прошло¬
го?
Качественное различие между «историческим» и «древним» (легендар¬
ным) временем, как известно, имело особую важность в сознании ислан¬
дцев, ибо оно непосредственно определялось самим начальным событи¬
ем исландской истории — заселением острова (конец IX — начало X в.).
Все, что предшествовало заселению, отодвигалось сознанием в «древние
времена»’0. Очень существенно, вместе с тем, что подобная структура про¬
шлого прозрачно коррелирует с системой основных жанров древнеислан¬
дской литературы. Иначе говоря, восприятие прошлого было неотвлека-
емо от жанровых форм, которые служили для исландцев источником
информации об этом прошлом.
Роль жанровых форм в структурировании картины прошлого весь¬
ма наглядно проявляется в знаменитом Прологе Снорри Стурлусона к
«Кругу Земному»’1. Ставя перед собой задачу достоверного описания со¬
бытий прошлого, Снорри дает в Прологе глубокую, хотя и не всегда эк¬
сплицитную, характеристику своих источников. Вопрос, который преж¬
де всего занимал Снорри, — это критерии большей или меньшей
надежности источников, определяемые, как мы бы теперь сказали, са¬
мыми условиями жанра. С этой точки зрения, он делит все источники
на две группы, и, что особенно важно, этим своим делением проводи!
черту между историческим и древним временем. Как следует из рассуж¬
308
дения Снорри, достоверность сведений об историческом времени опре¬
делялась для него тем. что эти сведения передавались из поколения в
поколение по непрерывной цепочке информации, восходящей ко вре¬
мени самих событий. Данный критерий тонко варьируется Снорри в за¬
висимости от того, передается ли информация об историческом про¬
шлом в стихах или в форме саги. Надежность прозаических источников
в значительной степени определяется авторитетностью информантов и
длиной цепочки (следовательно, вероятностью «сбоев» в ней). Так,
Снорри с большим пиететом пишет об Ари Мудром Торгильссоне («пер¬
вом здесь в стране, кто написал на северном языке мудрые рассказы,
старые и новые»). При этом, говоря об Ари, он особенно подчеркивает
тот факт, что Ари, сам отличавшийся «любознательностью и памятли¬
востью», рассказал о событиях ранней исландской истории со слов «ста¬
рых и мудрых людей», еще помнивших участников и свидетелей тех со¬
бытий. Надежность скальдических стихов, напротив, не связывается
Снорри с личными качествами скальдов. Ее критерии скорее прагмати¬
ческого и формального свойства. Исполняя свои хвалебные стихи «пе¬
ред самими правителями или их сыновьями <...>, скальд не решился бы
приписать ему такие деяния, о которых все, кто слушает, да и сам пра¬
витель знают, что это явная ложь и небылицы. Это было бы насмешкой,
а не хвалой» (Круг Земной, далее — КЗ, с. 10). Правильная форма, в
свою очередь, служит условием сохранности скальдических стихов: они
«всего меньше искажены, если они правильно сложены и разумно ис¬
толкованы» (там же). В другой версии Пролога, предпосланной «Отдель¬
ной саге о конунге Олаве», Снорри дополнительно заостряет момент не¬
равноправности стихов и прозы: «Слова в поэзии те же, что были вначале,
если они правильно сказаны: хотя бы каждый перенимал их потом от дру¬
гого, они не меняются. <...> А в рассказанных сагах есть та опасность, что
не все их одинаково понимают, и некоторые по прошествии времени не
помнят в точности, как им было рассказано» (SO, S. 2).
В гораздо более туманных выражениях Снорри говорит (в самом на¬
чале Пролога) об источниках, из которых он черпал сведения о более
отдаленном прошлом (следует напомнить, что в данной области у ав¬
тора «Круга Земного» не было предшественников: он первым начал ис¬
торию Норвегии не с исторических событий IX в., а с легендарных
времен). Его текст в начальной части Пролога столь расплывчат, что
не оставляет исследователям надежды на точное определение жанро¬
вой природы этих источников. Что, например, имел в виду Снорри,
говоря о fornkvcedi еда soguljod er тепп hafa haft til skemmtanar ser —
«древние стихи и песни, которые исполнялись людям на забаву»?
Э. Вессен в своей статье, специально посвященной Прологу12, выска¬
зывал предположение, что Снорри относил слово fornkvcedi — «древ¬
ние стихи» — к генеалогическим поэмам Тьодольва Хвинского и Эй-
винда Погубителя Скальдов, которые упоминаются им несколько
дальше. Но при таком понимании возникает опасность отнести харак¬
теристику «которые исполнялись людям на забаву» так же и к генеа¬
логическим песням, чего Снорри очевидно не имел в виду. Кажется
более обоснованной преобладающая точка фения, согласно которой
309
fornkvcedi — это примерно то же, что и sdguljod, т.е. какие-то эпичес¬
кие песни в размере fornyrdislag.
Как бы то ни было, Снорри остерегается ручаться за правдивость све¬
дений о древних, легендарных временах, ибо сведения эти не восходят к
свидетельствам очевидцев и не могут быть привязаны к авторитетным
именам. Древнее время, таким образом, мыслится им как время незас-
видетельствованное («незапамятное»), о событиях которого сообщает
лишь слово по преданию. Впрочем, Снорри делает оговорку, что «муд¬
рые люди древности» считали эти сообщения за правду, т.е. не нуждались
в подтверждениях их правдивости.
Критический подход Снорри к своим источникам делает честь его
исторической проницательности. Но не менее существенно, как кажет¬
ся, что подход этот определяет и саму форму повествования о событиях
прошлого в «Круге Земном». Лишь начиная с «Саги о Харальде Прекрас¬
новолосом» (третья сага «Круга»), повествование Снорри приобретает все
характерные признаки «настоящей саги», т.е. уснащается сценами, диа¬
логами, пространными речами, деталями повседневной жизни и второ¬
степенными персонажами. Все эти реалистические детали, каковы бы ни
были их источники (а считается установленным, что многие из них были
«присочинены» самим Снорри), не вызывали сомнений в правдивости
саги у ее читателей; напротив, без подобных деталей сага не могла бы
претендовать на правдивость, т.е. на то, что ее события были засвидетель¬
ствованы очевидцами. В подтверждение своего рассказа, Снорри, начи¬
ная с «Саги о Харальде Прекрасноволосом», приводит и множество скаль-
дических стихов.
Совершенно в иной манере рассказывает он о событиях древних вре¬
мен, т.е. о далеких предках Харальда из рода Инглингов. Некоторые кри¬
тики находят особую поэзию в «Саге об Инглингах», характеризуя ее как
«воодушевленный (spirited) рассказ о конунгах мифологического прошло-
го»я\ Но создается впечатление, что, говоря о прозе Снорри, эти крити¬
ки скорее имеют в виду те, не известные нам fornsogur и sdguljod, кото¬
рые были использованы Снорри, наряду с генеалогическими песнями,
как материал для «Саги об Инглингах». Собственная манера Снорри,
принятая им в начальной саге «Круга Земного», замечательна как раз
полным отсутствием «поэзии», той изобразительной силы, которая так
ярко проявляется в его сагах исторического времени. Содержание «Саги
об Инглингах» в общем сводится к краткому и схематичному изложению
главных событий, как они были восприняты или реконструированы
Снорри на основании находившихся в его распоряжении источников.
Мы не найдем в этой саге ни сцен, ни диалогов, ни вообще прямой речи”.
Можно было бы сказать, что нигде во всем «Круге» Снорри не прибли¬
жался в такой степени к форме исторических, в современном смысле, со¬
чинений, как в своем рассказе о легендарных, неверифицируемых собы¬
тиях. И это, очевидно, объясняется тем, что реалистические детали
пришли бы в данном случае в столкновение с правдивостью рассказа о
прошлом, к которой он стремился. Снорри не мог допустить, чтобы заг¬
лавная сага в его груде приняла черты истории, которая рассказывается
людям «на забаву», т.е. «саги древних времен», в современных терминах.
310
Но нельзя оставить без внимания в этом обзоре особый случай «Саги
о Хальвдане Черном». Эта короткая сага — около пяти страниц в совре¬
менных изданиях — образует переход от древнего к историческому вре¬
мени и мотивирует рождение Харальда Прекрасноволосого — конунга,
при котором была заселена Исландия. Начало саги мало отличается по
манере изложения от предшествующей ей «Саги об Инглингах». Но по
мере того, как Снорри переходит к главным событиям, а именно к исто¬
рии женитьбы Хальвдана на Рагнхильд, дочери Сигурда Оленя, и к рож¬
дению Харальда, повествование его становится более пространным и
обретает некоторые черты канонической саги. Именно в этом месте
Снорри вводит собственные слова героя саги. В оригинале, правда, сло¬
ва эти передаются в форме косвенной речи (harm kalladi til sin Harek gcmd,
sagdi, at hann sky Id i fara у fir ci Hadaland ok faera honum dottur Sigurdar
hjartar, Ragnhildi (Hkr, 54) — «Он позвал к себе Харека Волка и сказал,
чтобы тот отправился в Хадаланд и привез ему Рагнхильд, дочь Сигурда
Оленя»). Но за косвенной речью здесь явственно звучит голос самого
Хальвдана; так, в форме прямой речи, и перевел это место М.И. Стеблин-
Каменский: «Привези мне Рагнхильд, дочь Сигурда Оленя, — сказал он»
(КЗ, с. 40).
В «Саге о Хальвдане Черном» нет скальдических стихов. Было бы,
конечно, неправомерно делать отсюда какие-либо выводы касательно
происхождения дротткветта. Факт этот ничего не говорит и о том, что
Хальвдан, в отличие от его сына Харальда, не имел при своем дворе скаль¬
дов. Один из его скальдов даже известен по имени: это Аудун Плохой
Скальд, который, согласно «Саге об Эгиле», прежде воспевал Хальвда¬
на, а после его смерти остался при дворе Харальда Прекрасноволосого
(гл. 8). Отсутствие скальдических стихов в «Саге о Хальвдане» находит
объяснение в Прологе Снорри: «У конунга Харальда, — пишет он, — были
скальды, и люди еще помнят их песни, а также песни о всех конунгах,
которые потом правили Норвегией» (КЗ, с.9). Снорри, заметим, ничего
не говорит о том, что до Харальда при дворах конунгов не было скальдов;
но люди, очевидно, запомнили их «песни» лишь начиная со времени Ха¬
ральда, т.е. с начала исторического времени’'.
И это последнее замечание Снорри проливает свет на уникальное по¬
ложение Браги Старого Боддасона. На основании некоторых косвенных
данных, содержащихся в исландском предании (см. о них ниже), время
его жизни обычно относят к первой половине IX в. Иначе говоря, судя
по этим данным, Браги должен был быть современником Хальвдана Чер¬
ного (умершего около 861 г.). Он был, таким образом, единственным
скальдом, чей голос, преодолев звуковой барьер, дошел до исландцев из
прошлого, о котором не сохранилось прямых свидетельств. Согласно
тому же исландскому преданию, Браги был королевским скальдом, но его
хвалебные стихи, воспевавшие подвиги конунга, т.е. содержавшие фак¬
тическую информацию, не могли, по условию, запомниться исландцам.
311
Браги и Исландия
Сказанное выше подразумевает также, что правители, которых воспевал
Браги, были местными конунгами, правившими в областях, остававшихся
за пределами исландских историографических интересов.
«Перечень скальдов»'6 связывает имя Браги с именами двух шведских
конунгов: Эйстейна Бели и Бьёрна с Кургана. Последнего упоминает, в
непосредственной связи с Браги, и Аринбьёрн, норвежский херсир и друг
Эгиля Скаллагримссона («Сага об Эгиле», гл.59).
В «Книге о взятии земли» (LI, S. 139, 143) рассказывается, что Браги
жил некоторое время у Хьёра, рогаландского конунга, и сочинил там
строфу о его сыновьях Гейрмунде и Хамунде. С той же давней истории
начинается, без всякой видимой мотивировки, и «Сага о Стурлунгах», по¬
вествующая о событиях недавней исландской истории («Прядь о Гейр¬
мунде Адская Кожа»).
Наконец, адресат «Драпы о Рагнаре», главного произведения Браги,
как мы помним, был идентифицирован традицией с легендарным датс¬
ким викингом Рагнаром Кожаные Штаны.
Исследователи биографии Браги сделали все, что было в их силах, дабы
извлечь крупицы исторической правды из этих рассеянных в разных ис¬
точниках и часто, на их взгляд, дезориентирующих указаний. Так, много
усилий было употреблено на поиски «истинного» адресата упомянутой дра¬
пы. Предполагается, что им мог быть некий Рагнар Сигурдарсон, малый
норвежский конунг'7. Аналогичной переоценке была подвергнута и фигу¬
ра Бьёрна с Кургана. Г. Тервилль-Питр, рассмотрев этот вопрос в деталях,
пришел к заключению, что исландские источники смешали двух разных
Бьёрнов и что правитель, у которого жил Браги, «едва ли был шведским
конунгом, более вероятно, что он был малым конунгом в западной Нор¬
вегии»'8. Стараясь по возможности прикрепить Браги к норвежской почве,
исследователи надеялись сообщить большую историческую осязаемость
его фигуре, а тем самым и найти какую-то опору для суждений о его
вкладе в скальдическое искусство. В связи с этим придавалось большое
значение и уточнению времени его жизни. Согласно наиболее распрост¬
раненной точке зрения, Браги жил в первой половине IX в. Но Г. Тервилль-
Питр, имея в виду показать генетическую связь дротткветта (изобретение
которого он приписывал Браги) с ирландской системой версификации,
привел в своей работе доводы в пользу более поздней датировки его дея¬
тельности: «если же Браги жил в западной Норвегии, в последние десяти¬
летия IX в., он имел полную возможность контактировать с ирландскими
поэтами и даже с поэтами Gall-Ghaedhilh>yc>. К сожалению, в вопросе о да¬
тировке исландские источники оказываются еще более дезориентирующи¬
ми, чем в вопросе об адресатах стихов Браги. Так, например, «Сага о Хей-
дреке» упоминает Бьёрна с Кургана как правнука Рагнара Кожаные
Штаны. Тервилль-Питр отклоняет это свидетельство, ссылаясь на недосто¬
верность генеалогий в данной саге40.
Представляется, однако, что интересы историков литературы, пыта¬
ющихся «заглянуть за легенду», приходят в противоречие с интересами
312
исландской традиции. Для нее было существенно не фиксировать фигу¬
ру первого главного скальда во времени и пространстве, но сохранить
память о Браги как о всескандинавском скальде и основоположнике ис¬
ландской традиции. В самом деле, все события жизни Браги, отмечаемые
в традиции, ведут в Исландию.
В «Пряди о Гейрмунде Адская Кожа» («Сага о Стурлунгах») рассказы¬
вается, как, живя у конунга Хьёра, Браги отстоял наследственные права
двух его детей, Гейрмунда и Хамунда. Мальчики выросли, стали знаме¬
нитыми викингами и позже взяли земли в Исландии. Из «Книги о взя¬
тии земли» известно, что от них пошли знаменитые исландские роды (L1,
S.140 ff.; 223 fif).
«Сага об Эгиле» рассказывает о том, как херсир Аринбьёрн, потомок
Браги по материнской линии, помог своему другу Эгилю Скалла-
гримссону мудрым советом. Когда Эгиль был захвачен в плен в Йорке
своим злейшим недругом Эйриком Кровавая Секира и, казалось, ничто
не могло спасти его, Аринбьёрн весьма кстати вспомнил похожий случай
из жизни Браги. Он сказал Эгилю: «Я советую тебе не спать ночь и сочи¬
нить хвалебную песнь конунгу Эйрику. <...> Так же поступил Браги, мой
родич, когда вызвал гнев шведского конунга Бьёрна. Он тогда сочинил
ему в одну ночь хвалебную песнь в двадцать вис, и за это ему была даро¬
вана жизнь. Может быть, и нам так повезет, что это помирит тебя с ко¬
нунгом» («Сага об Эгиле», глава 59). Эгиль, как мы помним, последовал
совету Аринбьёрна и примеру Браги и сочинил свой «Выкуп головы». Эта
драпа спасла жизнь Эгилю и доставила ему славу, ибо она была сочине¬
на в новом и особенно сложном размере с конечной рифмой. Исландс¬
кая скальдическая традиция, первое место в которой — и по времени, и
по значимости — занимает великий Эгиль Скаллагримссон (около 900—
983 гг.), таким образом, многим обязана Браги.
Поселились в Исландии и потомки самого Браги. Его дальним потом¬
ком был, в частности, знаменитый исландский скальд и герой саги Гун-
нлауг Змеиный язык, сын Иллуги Черного (LI, S.86).
Имя Браги
Этимология имени Браги остается спорной. В соответствии с преоблада¬
ющей точкой зрения, это имя находится в ближайшем родстве с др.-исл.
bragr — «поэзия». Данная точка зрения остается, как представляется,
наиболее убедительной, несмотря на авторитетные возражения Я. де -
Фриса, возводившего имя Браги к *brag — «лучший, превосходный» (ср.
др.-англ. brego — «князь» и др.-исл. bragr {суш.) — «наилучший, превос¬
ходный»)41. Уместно напомнить, в данной связи, что слово bragr заверил -
ет вису Браги на тему «что есть скальд». Но можно ли настаивать на осс-
бой знаменательности этого имени, учитывая, что оно, судя по всему,
было в ходу на Севере, т.е. употреблялось в качестве «развоплошенного
имени» (в 1ерминач А. Гардинера)? Действительно, имя это встречается
в топонимах континентальной Скандинавии: норв. Bragascvtcr. др.-шв.
313
Braghabei-g и др. Но поскольку речь в нашем случае идет не об историчес¬
ких фактах как таковых, а о месте Браги в исландской традиции, следует
принять во внимание, что в Исландии, вплоть до самого недавнего време¬
ни, имя Браги не было в употреблении. Словарь исландских имен соб¬
ственных отмечает, что в 1703 г. в Исландии жил только один человек по
имени Браги, тогда как в 1989 г. это имя носили 643 исландца42. Во всей
древнеисландской литературе, сохранившей имена многих тысяч исланд¬
цев и норвежцев (только в сагах об исландцах упомянуто около 7000 имен).
Браги Старый Боддасон остается единственным земным носителем этого
имени. Исландцы, безусловно, осознавали значимость этого имени, под¬
тверждением чему служит то место из «Младшей Эдды», где Снорри свя¬
зывает слово bragr — «поэзия» с именем бога поэзии Браги (МЭ, с. 45).
И данная этимологизация Снорри вновь возвращает нас к вопросу об
отношении Браги, бога поэзии, и скальда Браги Старого Боддасона. В
данном вопросе я вновь, вопреки возражениям Я. де Фриса43, хотела бы
присоединиться к господствующей точке зрения, согласно которой ас
Браги — это, по происхождению, обожествленный скальд Браги. Но дан¬
ная точка зрения, может быть, нуждается в некоторой модификации. В
то время как большинство исследователей пытается разглядеть за мифом
(ас Браги) историю (скальд Браги), я бы решилась предположить, что мы
имеем дело с двумя разошедшимися версиями предания о первом поэте.
Не вполне ясно, в какую эпоху и в каких обстоятельствах стала возмож¬
ной мифологизация фигуры Браги. Но об историческом контексте для
Браги явным образом позаботилась исландская традиция. Она удостове¬
рила генеалогические связи Браги с известными историческими лицами
и вплотную подвела его к порогу исландской истории, соединив его имя
с именами исландских первопоселенцев и с примечательными события¬
ми «века саги». Не удивительно, что исландцы XIII в. не смешивали Браги
Старого Боддасона, чьи стихи еще хранились в их памяти, с одноимен¬
ным богом поэзии.
Издания и переводы памятников
Edda Snorra Sturlusonar, sumptibus Legati Arnamagnaeani, Vol. 3, P. 251-
286 (Skaldatal).
Egils saga Skalla-Grimssonar / Ed. Sigur6ur Nordal. Islenzk Fornrit. II.
Reykjavik, 1933.
Heimskringla Snorra Sturlusonar / Ed. Pall Eggert Olason. Konungasogur.
I. Reykjavik, 1946.
Historia Ecclesiastica // The Venerable Bede’s Miscellaneous Works in Latin, with
Translation of the Historical Works / Ed. J.A. Giles. L., 1843; 1848.
Landnamabok Islands (LI) / Ed. Einar Arnorsson. Reykjavik, 1948.
Saga Olafs konungs ens helga (SO) / Ed. P.A. Munch, C.R. Unger.
Christiania, 1853.
Snorri Sturluson. Edda / Ed. Finnur Jonsson. 2nd ed. Kobcnhavn, 1926.
Sturlunga saga 1 Ed. Jon Johanncsson. Magnus Finnbogason, Kristjan
Eldjarn. 1. Reykjavik. 1946.
314
Младшая Эдда (МЭ) / Изд. подг. О.А. Смирницкая и М.И. Стеблин-
Каменский. Серия «Литературные памятники». Л., 1970.
Снорри Стурлусон. Круг Земной (КЗ) / Изд. подг. А.Я. Гуревич. Ю.К-
. Кузьменко, О.А. Смирницкая и М.И. Стеблин-Каменский. Серия «Ли¬
тературные памятники». М., 1980.
Примечания
1 Frank R. Skaldic Poetry//01d Norse-Icelandic Literature. A Critical Guide / Ed.
J.C. Clover and J. Lindow. Islandica XLV, 1985.
2 По словам P.M. Вильсона, «можно надеяться, что утраченная литература, най¬
дя себе место в наших историях литературы рядом с сохранившимися произве¬
дениями, позволит получить значительно более точную картину литературного
процесса в древнеанглийский и среднеанглийский периоды» (Wilson R.M. The Lost
Literature of Medieval England. L., 1970. P. Xll).
3 Magoun Fr.P. Bede’s Story of Caedman: The Case History of an Anglo-Saxon Oral
Singer//Speculum. Vol. 30, 1955.
4 Только 3 из 18 кратких строк Гимна не имеют формульных соответствий в из¬
вестном корпусе древнеанглийской поэзии. Следует принять во внимание, что
памятники, с которыми Фр.П. Мэгун сравнивал Гимн, известны из более поздних
рукописей, чем Гимн (конец X - начало XI в.).
3 Ср.: «Исполняясь достаточно широко, Гимн должен был существовать во мно¬
жестве вариантов. Хотя эти варианты, возможно, подвергались меньшим изме¬
нениям, чем длинные поэмы, они, строго говоря, не в большей степени являют¬
ся произведениями Кэдмона, чем поэмы, которые, как ныне признано,
сохраняют лишь следы кэдмоновского творчества» (Kleiner Yu.A. The Singer and
the Interpreter: Caedmon and Bede//Germanic Notes. Vol. 19, № 1/2, 1988. P. 2.
6 Orton P.R. Caedmon and Christian Poetry// Neuphilologische Mitteilungen. Bd. 84,
1983. P. 169.
7 См. особенно: Kleiner Yu.A. Op. cit.
K Ibid. P. 2—3. Ср. ЛордА.Б. Сказитель / Пер. с англ, и коммент. Ю.А. Клейнера и
Г.А. Левинтона. М., 1994. С. 34 и след.
9 Нортумбрийский текст Гимна сохранился в четырех рукописях Hist Eccl. Наи¬
более ранние из них - Moore MS (Univ. Libr., Cambridge) и MS. Lat. Q. V, 1, 18
(Публ. библ. им. M.E. Салтыкова-Щедрина, СПб.) - датируются серединой VIII в.
См.: Smith А.Н. Three Northumbrian Poems. Caedmon’s Hymn. Bede’s Death Song
and The Leiden Riddle. L., 1933. P. 1-4.
10 Имеются в виду известные слова Алкуина: «Пусть читаются в трапезной слова
Господа. Подобает вам слушать чтеца, а не арфиста; наставления Отцов, а не пес¬
ни язычников. Что общего между Ингельдом и Христом? Дом Божий не может
вместить их обоих» (Ер. 80, 797 г.).
11 Ср. эпизоды в «Беовульфе», в которых дружинники «хором» прославляют вождя
(856 ff.) и воздают ему посмертные почести (3169 ff.); упоминания о совместном
пении королевских поэтов («мы со Скиллингом возгласили...») в «Видсиде» (103 ff.)
и о соперничестве поэтов в «Деоре» (38 ff.); поочередное исполнение хвалебных
стихов Гуннлаугом и Храфном («Сага о Гуннлауге», гл. 9); сюда же относятся и
нередкие в сагах примеры стихотворных перебранок на пирах (например, в гл. 10
«Саги о Торгильсе и Хавлиди: «Тут веселье поутихло и начали говорить стишки»).
См. об этом: Стеблин-Каменский М.И. Древнеисландский поэтический термин
«дротткветт» // Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л.. 1978. С. 65-
69 (об амебейном исполнении хвалебных стихов): Ellis Davidson H.R. Insults and
riddles m the Edda poems // Edda. A collection of essays / Ed. R.J. Glendenmng and
315
Haraldur Bessason Umv. of Manitoba Press. Winnipeg. 1983. P. 25-46 (о сгихотвор-
ных перебранках); Смирницкая О.А. Неопознанные субъекты //Апаытика. Вып. 2.
М., 1996. С. 28-38 (об эпизоде прославления Беовульфа).
12 Прежде всего стихотворные перебранки и состязания в мудрости в размере
Ijodahatir. «Речи Вафтруднира», «Песнь о Харбарде», «Перебранка Локи», «Речи
Альвиса». В названии этого размера употребляется то же слово, что и в древне¬
английском переводе carmina у Беды - 1ёод. Было бы заманчиво увидеть в этом
намек на жанровую форму застольных песней. В самом деле, др.-исл. l/од «песнь,
заклинание» отсылает в различных своих употреблениях именно к малым фор¬
мам, типологически между собой связанным: магическим песням (ср. Hav 146.
Нод ес /ши капп — «знаю заклинания»), актуальным жанрам эддической поэзии
в размере льодахатт и к поэзии скальдов; ср. одно из обозначений скальдическо-
го поэта - Ijodasmidr («мастер песней»). Однако др.-англ. 1ёод не указывает на
определенный жанр и равно относится к эпосу и коротким стихотворениям.
Можно видеть в этом результат вторичного стирания различий между самими
жанрами.
13 «Гимны» Богу Творцу есть еще в «Генезисе А» (1-4) — христианской поэме,
прежде приписывавшейся Кэдмону, — и «Беовульфе» (90-98); но оба эти отрыв¬
ка (особенно второй) в значительной степени эпизированы.
"Лорд А. Б. У к. сом. С. 15.
15 См. об этом: Смирницкая О.А. Поэтическое искусство англосаксов // Древне¬
английская поэзия / Изд. подготовили О.А. Смирницкая, В.Г. Тихомиров. М..
1982. С. 171-232.
16 См., например, песнь «Солнце печали» (Harmsol) Гамли Каноника (XII в.), в
которой есть, в частности, следующие обозначения Бога: «успокоитель шатра
бури», «творец земель», «высочайший успокоитель небес», «страж небес», «конунг
человечества», «мудрый созидатель славы людей». Гамли Каноник был также ав¬
тором «Драпы Иоанна».
17 Clunies Ross М. The Myth of Gefjon and Gylfi and its function in Snorra Edda and
Heimskringla // Arkiv for nordisk filologi. Vol. 93. 1978. P. 150.
18 См., например: Mogk E. Geschichtc dcr norwcgisch-islandischcn Litcratur
Strassburg, 1904. S. 103, 107; Ileusler A. Deutsche Versgcschichtc, mit Einschluss dcs
altenglischcn und altnordischcn Stabrcimverses. I. B.; Leipzig, 1925. S. 285 ff.; Turville-
Pelre G. Drottkvactt and Irish syllabic measure // Turville-Pelre G Nine Norse Studies
L„ 1972. P. 154-180.
Iv Стеблин-Каменский М.И. Поэзия скальдов. Дисс... докт . филол. наук . Л., 1947.
С. 125.
20 Этот эпизод отсутствует в Уппсальской рукописи снорриевой «Эдды» (Codex
Uppsaliensis 11), и высказывалось предположение, что он является позднейшим
прибавлением.
21 Clunies Ross М. Op. cit. Р. 161; Ciklamim М. Snorri Sturluson. Boston, 1978. P. 45.
22 Cm.; Clunies Ross M. Op. cit. P. 151-152.
23 Den norsk-islandske Skjaldediktning / Ved Finnur Jonsson. В Rettet tekst 1.
Kebenhavn, 1973. S. 172.
24 Almquisi B. Norron niddiktning. Traditionshistoriska studier i versmagi. 1. Nid mot
furstar. Stockholm; Goteborg, 1965. P. 29 ff.; Ellis Davidson HR Op. cit. P. 31 ff.
25 Ellis Davidson H.R. Op. cit. P. 32.
2f> Гуревич E.A. Разговор Браги с великаншей // XII конференция по изучению
истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии
Тезисы докладов. I. М., 1993. С. 254-255.
27 Buggc S Bidrag til den tcldstc skaldcdigtnings histone. Christiania, 1894. S. 71.
:s Kabell A Skaldcn und Schamancn // FF Communications. Vol XC'Vl. N 227
Helsinki, 1980.
См. особенно: Tur\dlc-Peiiv G Diottkwett and Irish Syllabic Measures P 171-174
316
3" Проявление этого различия особенно очевидно в так называемых «сагах о
древних временах» (т.е. о событиях до X в.), в которых большую роль играет
фантастический элемент, и «сагах об исландцах», известных своим реализмом.
«Различным осознавалось <...> время, в которое произошли события, описы¬
ваемые в этих сагах. Время, таким образом, было хотя и единым, но как бы нео¬
днородным на своем протяжении» (Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Л..
1971. С. 103). Само слово forndld — «древнее время», — как и терминологи¬
ческое разграничение отдельных жанров саг, возникли, однако, лишь в наши
дни. О восприятии и членении времени в сагах см. особенно: Стеблин-Камен¬
ский М.И. Ук. соч. С. 101-116 (глава «Может ли быть время прочным, и что
такое смерть?»); Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего
большинства. М., 1990. С. 69-115 (гл. «Время, судьба, миф и история в саге»).
31 См.: Гуревич А.Я. История и сага. М., 1972. С. 128 и след.; Стеблин-Каменс¬
кий М.И. «Круг Земной» как литературный памятник // Круг Земной. М. 1980.
С. 587 и след.; с иных позиций: Holloway B.D. History, Science, and the Icelandic
Intellectual Tradition in the Middle Ages (Diss.). Univ. of California, Berkley, 1985.
P. 222 ff.; Whaley D. Heimskringla. An introduction / Ed. Foote P. and Faulkes A.
L„ 1991. P. 65 ff.
32 Wessen E. Prologue till Heimskringla och till den sarskilda Olovsagen // Acta
Philologica Scandinavica. Vol. 3, 1928. P. 52-62.
33 Ciklamini M. Ynglmga saga. Its Function and its Appeal // Mediaeval Scandinavia.
Vol. 8, 1975. P. 89.
34 Одна реплика в форме прямой речи есть в «Саге об Инглингах», но это ус¬
тойчивая формула: «За здоровье всех Ильвингов и в память Хрольва Жердин¬
ки» (КЗ, с. 31).
35 Любопытно, что сам Харальд упоминается в Прологе как конунг, при кото¬
ром «была заселена Исландия» (КЗ, 10).
36 «Перечень скальдов» - текст неизвестного автора, сохранившийся в двух ру¬
кописях снорриевой «Эдды». Имена скальдов (более 140) привязываются в нем
к именам воспевавшихся этими скальдами правителей. В начале перечня со¬
общается, что «скальдами были» легендарный герой Старкад, а также Рагнар
Лодброк, его жена и сыновья, но первое имя, подтвержденное сохранивши¬
мися стихами, принадлежит в нем Браги Старому.
37 Vries J. de. Altnordische Literaturgeschichte. Bd 1. В., 1964. S. 125; Turville-Petre
G. Op. cit. P. 173 f.
3* Turville-Petre G. Op. cit. P. 172-173.
3V Ibid. P. 174.
4" Ibid. P. 172
41 Vries J. de. Altnordisches etymologischcs Worterbuch. Leiden, 1961. S. 52-53.
42 Gudrun К varan, Sigurdur Jonsson fra Arnavatni. Nofn Islendinga. Heimskringla.
Reykjavik, 1991. P. 164-165.
43 Vries J. de. Altgermanische Religionsgeschichte. Bd II. B., 1957. S. 272-273.
Пол Фридмен (Йель)
Ноево проклятие
Посвящая этот скромный труд Арону Гуревичу, автор хотел
бы воздать должное историку, столько сделавшему для того,
чтобы показать разнообразие и устойчивость многих сред¬
невековых представлений, которые пронизывали барьеры
между элитарной и народной культурами. В своих исследова¬
ниях народной культуры А. Гуревич продемонстрировал, что мышление
крестьян и вообще людей далеких от латинской учености, тем не менее,
впитывало и приспосабливало на собственный лад то, что исходило из
официального учения церкви; что этот процесс присвоения и контами¬
нации шел и в обратном направлении преобразования народных поня¬
тий в такие доктрины, как, например, учение о существовании чистили¬
ща.
Проклятие Ноем своего сына Хама было предметом ученых споров на
протяжении многих столетий, как и сама общеизвестная библейская ис¬
тория, следы которой до сих прослеживаются в языке и народном созна¬
нии. В XIX в. в штатах Конфедерации Ноево проклятие пытались исполь¬
зовать для оправдания порабощения африканцев. В Польше и России
слово «хам» оставалось синонимом «подлого состояния», особенно при¬
менительно к крестьянам, и символом низкого происхождения вообще1.
В этой работе я хотел бы исследовать вопрос, как проклятие Ноем
потомства Хама (через сына Хамова Ханаана) использовалось в дидак¬
тических, равно как и в литературных текстах средних веков для объяс¬
нения и оправдания порабощения. Причины и последствия Ноева про¬
клятия рождали ученые спекуляции еще до эпохи средневековья. В
период между упадком Каролингской империи и открытием Нового
света идея проклятия Ноя была особенно кстати как путь объяснения
порабощения. Ее использование не было тогда связано с представле¬
нием о неполноценности африканцев или других народов неевропей¬
ского происхождения, но было призвано объяснить то, что казалось
наиболее фундаментальной линией размежевания в рамках христиан¬
ского общества, — пропасть, лежащую между деревенщиной (в особен¬
ности теми, которые являлись несвободными) и привилегированным
меньшинством.
3KS
Проблемы интерпретации Ноева проклятия
Библейский контекст эпизода о проклятии Ноя — история происхож¬
дения множества населяющих землю народов. Кн. Бытия, 9, описывает
первую колонию людей, созданную Ноем и его сыновьями после по¬
топа, тогда как Быт., 10, представляет генеалогию потомков Ноя, до¬
вольно путано связанную с разными территориями. Библейское опи¬
сание нового заселения Земли призвано было обрисовать пути
возникновения несходства людей. Проклятие, наложенное на род Ха¬
наана, разрешало проблему происхождения презираемых и наводящих
страх народов, тех, чье положение парий казалось настоятельно тре¬
бующим объяснения. В средние века Ноево проклятие встречается в
разных контекстах2. Институт порабощения понимали как следствие
греха Хама и Ноева проклятия, однако краткому библейскому пове¬
ствованию о преступлении Хама придавали разные смыслы и употреб¬
ляли его по-разному. Потомками Хама объявлялись не только средне¬
вековые сервы, но к той же генеалогической парадигме в разное время
относили славян, африканцев, сарацин и монголов.
Девятая глава кн. Бытия открывалась благословением, дарованным
Господом Ною и его детям, и обещанием не насылать впредь потопов.
Призывая их плодиться и размножаться, Бог обещал, повторяя благосло¬
вение, данное первым людям Земли (Быт. 1:28), что Ноево семя будет
владычествовать над Землей и населяющими ее животными. После того,
как ковчег достиг земли, Ной разбил виноградник и опьянел от его пло¬
дов. Хам увидел своего хмельного отца обнаженным и рассказал об этом
братьям, Симу и Иафету, и те поспешили прикрыть отцовскую наготу, не
поднимая на него глаз, но подойдя с одеждой в руках спиной к нему.
Очнувшись, Ной понял, «что сделал над ним меньший сын его», и нало¬
жил роковое проклятие: да будет отныне Ханаан, сын Хамов, рабом бра¬
тьев.
Со времен талмудических комментариев этот эпизод вызывал трудно¬
сти определенного рода, делались и остроумные попытки разрешить их.
Что же именно сотворил Хам, чтобы заслужить такое наказание, и поче¬
му это наказание легло на Ханаана, а не на его отца, совершившего пре¬
ступление, кем бы он ни был? Талмуд предлагает целый ряд соображе¬
ний по поводу природы этого преступления и последовавшего за ним
наказания'.
Согласно одному месту из Вавилонского Талмуда, Хам был осужден,
потому что совершил содомию над опьяненным отцом или же кастриро¬
вал его (или то и другое)4. В том же тексте говорится, что три твари, Хам,
собака и ворон, были наказаны за нарушение Божьего предписания, тре¬
бовавшего полового воздержания во время плавания ковчега в качестве
покаяния5. Почему же Ханаан, а не Хам? Л ибо Ханаан действительно был
соучастником греха, либо же его наказание являлось подходящим сред¬
ством покарать родителя. Возможно, именно Ханаан был первым, кто
увидел опьянение Ноя и рассказал об этом своему отцу, так что оба они
заслужили наказание, или же Хам кастрировал Ноя. и потому Ной не мог
319
иметь половых сношений и лишился возможности зачать четвертого
сына, за что проклял четвертого сына Хама, получившего в наказание
черную кожу'1.
Здесь мы подходим к природе наказания, навлеченного проклятием.
Согласно Талмуду (Sanhedrin, 108b), Хам был наказан тем, что его кожа
была поражена; это может — хотя не обязательно должно — означать, что
его кожа почернела. В одном месте Иерусалимского Талмуда говорится,
что Хам вышел из ковчега «угольно-черным»7. В этих текстах чернота,
впрочем, не толкуется как наследственное клеймо, и еще не устанавли¬
вается какой-либо связи между черной кожей Хама, с одной стороны, и
Ханааном, или же порабощением — с другой.
В иудаистской традиции представление о Хаме как прародителе тем¬
нокожих — немногим более, чем случайная спекуляция. Роль же Хама как
невольного родоначальника рабства более примечательна, поскольку в
кн. Быт., 9:25, прямо говорится о том, что Ханаан должен быть «рабом
рабов у братьев своих»8. До XI в. ни один иудаистский комментарий не
устанавливал связи между ролью Хама как прародителя рабства и черным
цветом его кожи. Об этих связях туманно говорится в рассказах о путе¬
шествиях и в географических трудах эпохи высокого средневековья. Ве¬
ниамин Тудельский в XII столетии писал о жителях страны Куш, кото¬
рые ходят голыми, питаются дикими травами, подобно животным, и
жители страны Ас-Суан легко захватывают их в плен с целью продать в
рабство в Египет: «это черные рабы, сыны Хама». Впрочем, хотя рабы и
черны, очевидно, чернокожи и те, кто охотится за ними, поскольку и они
— выходцы из страны Куш9.
Трудно судить о том, какое влияние могли иметь иудаистские коммен¬
тарии на понимание Ноева проклятия, сложившееся в христианстве, —
отчасти из-за проблем, связанных с датировкой иудейских и христианс¬
ких текстов. Некоторые аспекты талмудистского учения, конечно, были
восприняты ранним христианством. Юстин Мученик в своем «Диалоге
с Трифоном» устанавливал, что проклятие Ноя предвещало покорение
ханаанеев иудеями, но также — покорение Палестины римлянами; Ори-
ген оговаривает, что именно Ханаан первым увидел срам Ноя10.
Существенно более поздняя глосса XIII в. к «Авроре» Петра Риги заим¬
ствует из еврейской традиции представление о сексуальной невоздержан¬
ности Хама, но в ней Хам вызывает демона для того, чтобы тот помог ему
возлечь с женой, не оставив следов на золе, специально рассыпанной
Ноем во избежания подобного в ковчеге". В целом, однако, свидетельств
какого-либо знакомства христиан с Талмудом (не говоря уже о заимство¬
ваниях) до XII в. немного. Даже после этого времени его влияние на хри¬
стианскую мысль оставалось незначительным12.
В средневековой христианской экзегезе грехом Хама было не столько
то, что он увидел наготу Ноя или совершил над ним нечто недостойное,
сколько сама по себе насмешка над отцом, за что Хам и заслуживал про¬
клятия
Как и иудаизм, раннехристианская экзегетика очень редко примеши¬
вала расовую проблему к объяснению Ноева проклятия14. Рабство и чер¬
ный цвет кожи представлялись взаимосвязанными в исламском мире, по-
320
скольку, в отличие от иудеев или христиан до периода высокого средне¬
вековья, именно мусульманское население Ближнего Востока и Север¬
ной Африки имело черных рабов и вело торговлю ими15. Хотя в Коране о
Хаме не сказано ничего, не говоря уже о его связи с рабством, Африкой
или черным цветом кожи, начиная с Ибн Кутайбы (IX в.) в исламском
мире распространилось представление о том, что африканцы происходят
от Хама, обращенного Богом в негра16. Вскоре после этого Табари в сво¬
ем обширном труде «Путь» сделал эту связь между Хамом, черным цве¬
том и рабством эксплицитной. Он вложил в уста Ноя молитву о том, что¬
бы Хам стал чернокожим, а его потомки — рабами потомков Сима и
Иафета17. Сходная теория была выдвинута путешественником XI в. Иб¬
рагимом ибн Васиф Шахом18. Мнение, согласно которому чернокожие
являются потомками Хама, обреченными на рабство через проклятие
Ноя, было широко распространено ко времени Ибн Халдуна (умер в
1406 г.)19. Несмотря на разногласия между Ибн Халдуном и другими, в
Новое время оно стало общим местом в оправдании торговли африканс¬
кими рабами20.
В глазах средневековых писателей, проклятие Ноя объясняло ина¬
че никак не объяснимую «странность» иных народов21. Тема прокля¬
тия была кстати для выведения ряда генеалогий. Исидор Севильский
соединил данные античной этнографии с библейскими представлени¬
ями, чтобы произвести определенную классификацию народов мира.
Не обсуждая в данном контексте ни Ноева проклятия, ни проблемы
возникновения рабства, Исидор описал как линию потомков Хама
тридцать один народ, включая эфиопов и африканцев, к числу кото¬
рых им были отнесены каннибалы (anthropophagi) и другие фантасти¬
ческие дикари22. Согласно одному ирландскому тексту, люди с лоша¬
диными головами, люди с двумя головами, «морские» эльфы и
«веселый народец с голубыми клювами» принадлежали к генеалогичес¬
кой линии Хама, так же как принадлежали к ней сарацины, по словам
Этика Истрийского, или монголы, согласно ранней версии «Путеше¬
ствий» Джона Мандевилля2'.
История Ноева проклятия (Быт.. 9:10) — не единственное место в
Библии, которое может быть использовано для объяснения возникнове¬
ния неравенства. Прародителем чудовищ, в частности, предком Гренде-
ля древнеанглийского эпоса «Беовульф» обычно представлялся Каин. Он
же служил родоначальником множества народов-парий, от гигантов до
несчастных монстров Индии24. Загадочная «каинова печать» понималась
как род физического уродства (например, рога), отчего уроды считались
потомством Каина.
Монструозный Каин, кроме того, мог рассматриваться в качестве пер¬
вого крестьянина, что отчасти объясняет, почему крестьяне обычно пред¬
ставлялись отмеченными физическим уродством. Своеобразный пример
лежащей на деревенщине «каиновой печати» — миниатюра сборника
римского права с глоссами начала XIV в. из библиотеки Тюбингенского
университета, изображающая беглых рабов (или сервов). которых тащат
на веревке к судье. В должном соответствии с конвенциональной иконог¬
рафией «каиновой печати», на голове у них рога2'. Другая миниатюра, из
11 Зак. 3029
321
рукописи Колледжа св. Иоанна в Кембридже, объединяет разные нега¬
тивные черты иконографического облика Каина — рога, курчавые воло¬
сы и крестьянская коса в руках26.
Каин представлялся предтечей крестьян вследствие толкования
того места кн. Бытия (4: 3—4), где сказано, что Каин принес Господу
«от плодов земли», и они оказались отвергнуты, в то время как при¬
ношение Авеля «от стада» было принято. Пруденций (умер около
405 г.) открывает свою поэму «Происхождение грехов» историей о зем¬
ледельце (fossor) Каине, который убил своего брата Авеля, добродетель¬
ного пастуха. Смерть вошла в мир через крестьянина Каина27. Каин
был пахарем, сказано в одной немецкой средневековой проповеди,
Авель же — пастухом28. Каин ассоциировался с крестьянским трудом
в дидактической поэме Гуго Тримбергского «Скакун» (около 1300 г.)29.
Тем не менее, грех Хама, а не Каина представлялся непосредствен¬
ной причиной порабощения, в особенности порабощения крестьян. В
многочисленных переложениях на народные языки аллегорического
трактата Якопо де Цессолиса об игре в шахматы Каин изображался как
нарицательный тип деревенщины, но не как ее буквальный прародитель.
В «Книге о шахматной игре» Конрада фон Амменхаузена (1337 г.) — од¬
ной из версий этой аллегории — Каин назван первым крестьянином.
Однако Конрад выходит за рамки данной интерпретативной модели,
связывая крестьянское порабощение с Ноевым проклятием'0. Поэма
Джона Гоуэра «Глас вопиющего» открывается кошмарным видением, в
котором автору является Английское восстание 1381 г.: восставшие,
описанные как проклятое порождение Хама, превращаются в диких зве¬
рей, подобно спутникам Одиссея, превращенным Цирцеей в свиней31.
Налицо, таким образом, тенденция к смешению различных теорий
происхождения крестьянства и его несвободы, что само по себе не слу¬
чайно. В средневековой западной мысли устанавливались грубые корре¬
ляции между изгоями общества и отрицательными библейскими персо¬
нажами. Агарь и Исмаил рассматривались, главным образом, в качестве
предков мусульман. На Каина возлагалась роль прародителя чудовищ, а
также крестьян, как свободных, так и несвободных. Хам в средневековье
расценивался двояко: как праотец целого ряда народов, включая черных
африканцев, а также как предок европейских сервов. Если Каин рассмат¬
ривался как архетип крестьянина вообще, то Хам считался предтечей
любых несвободных, независимо от их происхождения. В средневековом
исламском мире, в Европе и Америке Нового времени эти символичес¬
кие образы сливаются. С XVI по XIX в. Хаму приписывалась роль праро¬
дителя черных рабов.
Впрочем, для средневековых христиан образ Хама не был связан ис¬
ключительно с Африкой, как не предполагалось, что все африканцы —
чернокожие, или что все чернокожие — рабы. Хотя темный цвет кожи
служил символом ужасающей дикости — например, в «Песне о Ролан¬
де», — еще со времен античности он мог восприниматься и в более бла¬
гоприятном свете, в частности, как нечто экзотическое — таковы, напри¬
мер, эфиопы в описании культа Исиды у Оригена. Позже черные
африканцы стали рисоваться европейцам добытчиками несметных сокро¬
322
вищ в золотых копях, якобы располагающихся к югу от Сахары32. В 1324 г.
паломничество в Мекку короля Мали Мансы Мусы ослепило своим де¬
монстративным великолепием не только мусульманский, но и христиан¬
ский мир. Каталонский атлас, составленный на Майорке в 1381 г., изоб¬
ражает Мансу Мусу с золотым самородком в руках. Тот представляется
богатейшим и наиблагороднейшим сеньором Африки благодаря золоту,
которым изобилует его страна31.
Изображение роскошных одеяний чернокожего Каспара в иконогра¬
фии трех царей-волхвов было особенно популярно в конце XV в., но само
отождествление Каспара с царем Индии и Эфиопии встречается и рань¬
ше, в частности, у Оттона Фрейзингенского, и зафиксировано в Армении
начиная с VI в14. Негритянские черты временами мелькают в гротескных
образах иконографии и нарративных описаний — подобно курчавым во¬
лосам Каина в упомянутой рукописи из Колледжа св. Иоанна. Но, дико¬
винные или презренные, черные африканцы до эпохи работорговли ни¬
как не связывались с библейским порабощением35.
В средние века к образу Хама прибегали для объяснения более близ¬
кого феномена этой эпохи, а именно подчиненного положения европей¬
ского крестьянства. Широко распространенным и нередко эксплицитно
отстаиваемым было мнение, согласно которому крестьяне, в особеннос¬
ти сервы, происходят от Хама. Причем данная тема чаще пускалась в ход
для оправдания порабощения христиан Европы, нежели чужеземных на¬
родов. В Венском древневерхненемецком списке кн. Бытия XI в. Каин
представлен прародителем темнокожих, тогда как прегрешение Хама
описывается на манер, уже ставший стандартным, для объяснения более
насущной проблемы возникновения серважа36. На основании генеалогии,
помещенной в десятой главе кн. Бытия, Хам через Ханаана мог быть со¬
чтен буквальным праотцом всех несвободных после всемирного потопа,
и Ноево проклятие служило оправданием порабощения, которое казалось
очевидным попранием божественного и естественного порядка вещей.
Отцы церкви о происхождении рабства
Средневековые комментарии Ноева проклятия основывались на теори¬
ях происхождения рабства, сформулированных в патристике помимо вся¬
кой связи с темой Африки или Азии. Насчитывалось немалое число по¬
добных спекуляций, поскольку доктрина христианской свободы и
равенства нуждалась в соотнесении с реалиями социальной субордина¬
ции. Рабство рисовалось бесповоротным последствием страшного греха,
не изгладившегося в мире даже после воплощения и искупительной жер¬
твы Иисуса Христа.
Василий Великий и Амвросий Медиоланский в конце IV в. были пер¬
выми христианскими писателями, которые стали увязывать Ноево про¬
клятие с порабощением, пытаясь оправдать это последнее злосчастной
необходимостью обуздывать тех, кто слаб разумением и недисциплини¬
рован17. Хотя никто не является рабом от природы (Василий), и апостол
323
Павел призвал нас от рабства к свободе (Амвросий), отцы церкви, тем не
менее, сходятся в том, что недостаток ума и дисциплины у одних делает
совершенно неизбежным их подчинение другим. При этом в качестве
расхожего примера приводится Ноево проклятие Ханаана™. Амвросию
Медиоланскому насмешка Хама представлялась доказательством неурав¬
новешенности его натуры, заслуживающей порабощения'9. Наконец, в
сочинении о посте Амвросий говорит о неблаговидном поступке самого
Ноя, чье пьянство явилось первопричиной зла: «не было бы рабства в
наши дни, если бы не порок пьянства», — тезис, перешедший в средне¬
вековое каноническое и гражданское право40.
Таким образом, Хам в христианской традиции изначально символи¬
зирует скорее непростительный недостаток самоконтроля, нежели злона¬
меренную безнравственность. Рабство стало результатом безумного по¬
ведения Хама, его «глупости»41. Иоанн Златоуст был первым, кто,
напротив, сделал акцент на преднамеренном и потому греховном харак¬
тере проступка Хама. Он отождествляет порабощение с воздаянием за
прошлые прегрешения, применимым в настоящем к тем, кто имеет на¬
клонность к греху. Подобно Амвросию Медиоланскому, Златоуст пола¬
гает, что рабство вошло в мир как вследствие опьянения Ноя, так и по
причине греховности Хама, рассказавшего об этом братьям42. Преднаме¬
ренный порочный поступок — скорее, чем некий изъян естества — по¬
губил в Хаме благородство души4'. Таким образом, рабство предстает по¬
следствием и отражением греха44. Как подчинение женщины мужчине —
результат преступления Евы, так и рабство есть результат насмешки Хама.
И в том и в другом случае кара проистекает из необходимости контроли¬
ровать тех, кто неспособен к самоконтролю45.
Августин углубил христианское понимание последствий первородного
греха, поместив проклятие Ноя в контекст собственных рассуждений о
природе и происхождении общества и власти46. Согласно XIX книге «О
граде божьем», рабство существует как частный случай общего зла, вос¬
торжествовавшего в мире после грехопадения Адама, и ради обуздания
такового. В другом месте Августин поясняет, что рабство могло возник¬
нуть из греха двумя путями, а именно как следствие прямого беззакония
греховодников — за что поплатился Хам — либо случайной напасти, как
это вышло с Иосифом47. Так или иначе, рабство сделалось необходимой
составляющей общественного устройства греховного мира. То, как Авгу¬
стин интерпретировал Ноево проклятие Хама, в каролингскую эпоху ока¬
зало влияние на Алкуина и Рабана Мавра48.
Менее определенна логическая и хронологическая локализация ис¬
токов порабощения в «Толкованиях на Книгу Иова» Григория Велико¬
го. Греховность, привнесенная в мир вместе с грехопадением первых
людей, с тех пор свойственная человеческой натуре вообще, стала фун¬
даментальной причиной социального принуждения и неравенства, од¬
нако едва ли возможно назвать некое конкретное историческое собы¬
тие, которое повлекло бы за собой наказание части людей в виде
лишения свободы49. В бывшем весьма авторитетным разъяснении Иси¬
дора Севильского о необходимости рабства как ограничителя стремле¬
ний совершать дурное для тех. кто не создан для свободы. Хам не фигу¬
324
рирует. Наклонность к злу — результат грехопадения, которое было бо¬
лее важным событием, чем неблаговидный поступок Хама, разъединив¬
ший род людской лишь генеалогически'0. Слова Исидора могли бы по¬
вторить Ратхер Веронский, Бурхард Вормсский, Ив Шартрский4.
Таким образом, Ноево проклятие, хотя и представляло определенные
трудности для интерпретации, тем не менее, являло удобный путь оправ¬
дания рабства, и теории более общего плана, выводившие социальное
принуждение из первородного греха, могли служить той же цели. В сред¬
ние века история Ноева проклятия чаще пускалась в ход для оправдания
серважа, рода несвободы тех, кого, в отличие от настоящих рабов, в ка¬
кой-то мере признавали христианами и членами общества. При такой по¬
становке вопроса альтернативные генеалогии несвободы могли быть
предпочтительнее универсального правила порабощения греховодников.
Хам и крестьянская несвобода
Трудно сказать, с какого времени представление о Ноевом проклятье ста¬
ло прилагаться к тем, кто являлся скорее сервами, чем настоящими ра¬
бами. Прежде всего затруднительно определить некий конкретный мо¬
мент, когда рабство уступило место средневековому серважу. Ситуация
усугубляется безотносительным употреблением в средневековье латинс¬
кого servus применительно к обеим формам несвободы. Существует це¬
лый ряд поговорок и загадок, датируемых временем между IX и XI вв.,
которые в ответе на вопрос, откуда взялись servi, возлагают ответствен¬
ность за их происхождение на Хама, однако что именно следует подра¬
зумевать под этим обозначением — servi, — зависит от нашей интерпре¬
тации статуса несвободного сельского населения посткаролингского
мира'2.
Определенная двусмысленность присутствует и у Гонория Августо-
дунского (около 1100 г.), связывавшего происхождение рыцарей (milites)
с Иафетом, свободных (liberi) с Симом и setvi с Хамом. При всей приме¬
чательности сопоставления liberi и servi надо заметить, что Гонорий во
всех своих произведениях сознавал реалии современного ему общества.
Живший, вероятно, в Англии, он скорее всего имел в виду низший слой
держателей земельных наделов, а не рабов в строгом смысле этого сло¬
ва51.
После XII в. тема Ноева проклятия Хама продолжала существовать
скорее в дидактическом дискурсе, нежели в высокой теологии, хотя еще
Александр Гэльский, оправдывая порабощение необходимостью учить¬
ся смирению, возводит его происхождение к Хаму54. Со ссылкой на
Ноево проклятие доминиканец и архиепископ Флоренции Антоний
(умер в 1439 г.) утверждал, что рабство санкционировано не только мир¬
ским, но и божественным правом5'. Тема Ноева проклятия циркулиро¬
вала также в среде юристов — по крайней мере как стилизованное
объяснение происхождения порабощения. Так, английское «Зерцало
правосудия», начала XIV в., признает серваж нарушением естественно¬
325
го права и возводит его либо к Ною и Ханаану, либо к подчинению Из¬
раилю филистимлян56. Одна освободительная грамота из Берна 1301 г.
говорит об избавлении серва «от Ноева проклятия», и то же выражение
встречается в грамоте из Сен-Мор де Фоссе 1123 г.'7
Но в позднем средневековье Хам из юридического символа стано¬
вится скорее литературным персонажем, воплощением глупости, не¬
уместной насмешливости и сексуальной распущенности58. В большей
степени он также представлялся прародителем крестьян-сервов, неже¬
ли рабов в прямом смысле слова. Английская поэма начала XIV в.
Cursormundi восприняла модель, предложенную Гонорием Августодун-
ским: рыцарям приписывалось происхождение от Иафета, свободным
— от Сима, а рабам (thrals) — от Хама59. В диалоге начала XV в. «Богач
и бедняк» насмешничество Хама и его неуважение к отцу дают начало
серважу и рабству60. Помимо упомянутой поэмы Джона Гоуэра, дру¬
гой хорошо известный пример обращения к теме Ноева проклятия в
английской литературе содержится в «Кентерберийских рассказах»
Джеффри Чосера. По поводу возможности порабощения завоевателя¬
ми даже лиц королевской крови один из рассказчиков замечает, что
thralldom, рабство, не было известно до того момента, как Ной сделал
Ханаана рабом его братьев. Чосер приводит эту библейскую историю
в контексте рассуждений о равенстве людей перед лицом Господа, и
идея некоторой генеалогии рабства здесь никоим образом не постули¬
руется. Ханаан предстает первым рабом, но отнюдь не прямым праро¬
дителем всех несвободных61. В рассказе чосеровского Мельника исто¬
рия Ноева проклятия получает антиклерикальный оборот, когда
насмешливый и похотливый клирик Николас заставляет плотника
Джона самым нелепым образом разыгрывать из себя Ноя. Согласно Ли
Паттерсону, Мельник, будучи и сам деревенским жителем, в своем
изложении, тем не менее, откликается на куртуазный миф о челове¬
ческой деградации деревенщины и манипулирует образом Хама, аст¬
ролога и искателя запретного знания, проецируя его на надменного
клирика. Такой Хам — вновь скорее прообраз, чем праотец несвобод¬
ных62. Идея ответственности Хама за появление рабства сделалась в
средневековье чем-то вроде клише, но ее использование оставалось из¬
бирательным. Ноево проклятие особенно часто выходило на первый
план в сочинениях немецких авторов, вроде упомянутых Гуго Трим-
бергского и Конрада фон Амменхаузена63, и, кроме того, в хронике
Янсена Эникеля конца XIII в., в сатире Памфилия Генгенбаха XVI в.,
в антикрестьянской диатрибе Феликса Хеммерли середины XV в.64
В то же время Ной, Хам и Ханаан не фигурируют в рассуждениях о
рабстве ни в испанской и итальянской, ни во французской традициях, за
исключением одного известного мне примера65. В рамках германской ди¬
дактической поэзии и антикрестьянской сатиры Ноево проклятие было
более, чем конвенциональным символом. Оно содержало ответ на воп¬
рос, каким образом социальное зло, а тем более несвобода могли суще¬
ствовать внутри гомогенного сообщества, казалось бы, не включающего
в себя ни пленников, ни заведомых чужаков. Мысль о проклятии части
живущих как источнике их порабощения соответствовала конвенцио¬
326
нальному убеждению в изначальном (и, стало быть, сущностном) равен¬
стве всех людей. Локализуя момент рождения несвободы в прошлом,
средневековые писатели искали оправдание серважу в библейской тео¬
рии этногенеза.
Кому адресовались подобные аргументы? В антикрестьянской сати¬
ре и изображении сословий Ноево проклятие призвано было уверить
знать и горожан в том, что крестьяне подвергнуты дискриминации спра¬
ведливо. Эти последние предстают прямыми потомками и наследника¬
ми Хама и Ханаана. В диалоге Феликса Хеммерли крестьянин высказы¬
вает мысль о том, что последствия Ноева проклятия не могут длиться до
бесконечности. Прямо не оспаривая этого утверждения собеседника,
рыцарь берется продемонстрировать неизменную силу некогда возник¬
шего разделения людей и перманентный эффект злоключения, постиг¬
шего Ханаана66.
Более развернуто в пространной дидактической поэме Гуго Трим-
бергского «Скакун» описывается стычка автора с пьяным мужичьем,
которое якобы обращается к нему с вопросом, отчего на свете лучше
живется «господам, вроде вас, чем нам, бедным крестьянам»? И потом,
если одни люди свободны, могут ли другие кому-либо принадлежать?
Односложный утвердительный ответ возмущает деревенщину, в чьих
глазах все люди происходят от одной праматери, и порабощение идет
вразрез с обычным утверждением об изначальном равенстве потомков
Адама и Евы67. При том, что самому диалогу недостает правдоподобия,
легко себе представить, где именно Гуго находит ответный аргумент.
Около 1400 г. швейцарец Генрих Виттенвилер вообразил подобный
спор в чисто крестьянской среде, на военном совете темной деревенщи¬
ны Лаппенхаузена68. Когда было объявлено, что, согласно имперскому
праву, военным походом должен предводительствовать князь, один осо¬
бенно разнузданный крестьянин воскликнул: откуда князья взяли моду
командовать, если все мы — дети Адама? Менее глупый деревенский
старец на это ответил так: хотя все люди происходят от Адама и Евы,
одни достойнее других и поставлены ими командовать, так же, как один
из сыновей Ноя за осмеяние отца поплатился свободой, а добродетель
прочих оказалась вознаграждена. «И, стало быть, мы не равны. Один
бедняк, другой богач, один крестьянин, а другой благородный»69. Так,
в глазах Генриха Виттенвилера Ноево проклятие все еще отменяет пер¬
воначальное равенство. Его герои в конце концов, дабы повести войну,
решают учредить свою собственную империю, и эта нелепость сама по
себе представляется лишним доказательством их неполноценности и,
следовательно, незыблемой силы Ноева проклятия.
Связь между ним и существующим общественным неравенством
была общепризнана. В одной английской инкунабуле прародителями
крестьянства провозглашались Каин и Хам одновременно. Там говори¬
лось: иной серв скажет, что все мы происходим от Адама; однако с тем
же успехом и Люцифер и его приспешники могут утверждать, что про¬
исходят с Небес, и станут этим гордиться7".
327
Оппозиция теории
Существовали и критики взгляда, приписывающего происхождение сер-
важа Ноеву проклятию. Основываясь на Августине и Григории Великом.
Иона Орлеанский в IX в. обличал тех власть имущих, кто забывает о том,
что подвластные им люди равны с ними по природе, и Бог у всех один.
«Ной и его сыновья» получили власть над «зверями земными», а не над
другими людьми — начало девятой главы кн. Бытия подспудно противо¬
речит значению, какое придают ее 25-му стиху, где говорится о порабо¬
щении Ханаана71. В середине X в. Аттон Верчелльский, призывая servi к
смирению, тем не менее, со всей определенностью отрицал происхож¬
дение их статуса от Хама, который, в конце концов, был прародителем
царей. Хозяева и холопы равны по природе и различаются только по на¬
званию. Порабощение возникло скорее вследствие мирской несправед¬
ливости, нежели по Божьей воле. Добродетельный servus — друг Божий,
порочный же господин — раб дьявола72.
Подобное же утверждение идеи равенства и отрицание библейских
генеалогий несвободы возникают в правовом памятнике XIII в. «Саксон¬
ское зерцало». Основные доводы в пользу неотъемлемого общечеловечес¬
кого равенства почерпнуты его составителем Эйке фон Репговом у Гри¬
гория Великого. Эйке утверждает, что все люди созданы по образу и
подобию Божьему равными, и грехи всех все равно искупаются смертью
Христа73. Таким образом, равенство людей не уничтожено ни Адамовым
грехопадением, ни Ноевым проклятием. Выступая от первого лица, пра¬
вовед говорит о своем неприятии той точки зрения, согласно которой
один человек может по закону принадлежать другому. В этой связи Эйке
оспаривает четыре версии происхождения несвободы — от Каина, Хама,
Измаила или Исава — призванные оправдать порабощение человека че¬
ловеком авторитетом Св. Писания. Все потомки Каина погибли во вре¬
мя всемирного потопа. Ничто не говорит о каком-либо проклятии или
серваже, постигнувшем Измаила или Исава, даже если те были неугод¬
ны Господу. Ноево проклятие, по мысли Эйке фон Репгова, имеет столь
же малое касательство к делу. Библия умалчивает о порабощении Хама,
и, во всяком случае, его потомки поселились в Африке, тогда как Сим ос¬
тавался в Азии, а Иафет отправился в Европу. Следовательно, дети и вну¬
ки одного из прародителей не могли быть рабами у потомков другого74.
То, что впоследствии могло послужить апологии рабства, а именно
мысль о переселении Хама в Африку, служила критике серважа в XIII в.,
когда проблема порабощения касалась одних только европейцев, а Аф¬
рика рисовалась далекой и экзотической страной75. Некий английский
автор конца XV в. утверждал, что Хам поселился не в Африке, а в холод¬
ной северной стране, возможно, Европе, населенной хурлами (т.е. «кар¬
лами», они же крестьяне), откуда и страна называется Хур1ь. Эта экстра¬
вагантная теория обладала, по крайней мере, тем достоинством, что брала
в расчет вездесущность несвободы в Европе. Впрочем, по всей вероятно¬
сти, у нее было немного последователей, если таковые вообще паходи-
328
Английский богослов Джон Уиклиф принципиально отвергал лю¬
бую попытку возвести объяснение господства и подчинения к нака¬
занию за грех Каина или Хама. Он высмеивал представление о том,
что Каин был прародителем угнетенных сословий: ведь все его потом¬
ки погибли во время всемирного потопа. Некоторые из потомков
Сима и Иафета, замечает он, были несвободными, и наоборот, как
подметил Аттон Верчелльский, линия Хама включала и правителей (в
частности, согласно Уиклифу, фараонов)77. Проблема существования
рабства занимала Уиклифа меньше, чем Эйке. Однако он повторяет
слова св. Павла, что телесное рабство не сковывает свободу духа™.
Лютер в комментарии на кн. Бытия делает Хама обитателем Азии,
наиболее обширной части тогдашнего обитаемого мира, и приписы¬
вает ему власть над Вавилонским царством. Его сын Ханаан, обречен¬
ный на рабство, занял ту землю, где находился рай, позже данную
народу Израиля, и это показывало, что праведный может испытывать
трудности, а порочному может быть на время даровано процветание.
Проклятие было «отсрочено, но не снято, затем, чтобы беззаконные
почувствовали пределы своему беззаконию и научились сдерживать¬
ся»79. Лютер ничего не говорит в этой связи о рабстве, и помещает
Хама не в Африку, а в Азию. У Эйке фон Репгова, Уиклифа и Люте¬
ра Хам и его потомство предстают независимыми от своих благосло¬
венных братьев; следовательно, проклятие, в интерпретации этих ав¬
торов, не означало порабощения в буквальном смысле и не могло
служить оправданием позднейшему порабощению.
Последующая судьба Ноева проклятия
В свете этих аргументов может показаться удивительным, что идея Но¬
ева проклятия не только пережила средневековье, но и зазвучала с уд¬
военной силой в Новое время. Такая ее устойчивость отчасти объяс¬
няется тем, что эта идея противопоставлялась утверждению всеобщего
происхождения «от Адама». Ноево проклятие было лишено того, что
можно было бы назвать юридической силой. Лишь случайно и изред¬
ка эта тема находит отражение в трудах средневековых юристов. Силь¬
нее она звучит в дидактических сочинениях — как ответ на известный
крестьянский аргумент против сеньориального господства. Таким об¬
разом, Ноево проклятие — не предмет рефлексии ученой культуры, но
скорее общее место в объяснении существования социальной дискри¬
минации. в особенности, существования серважа.
Главным стимулом возрождения темы Ноева проклятия стало разви¬
тие рабства в Новом свете и африканской работорговли, а также стрем¬
ление представить территориальные захваты и торговлю живым товаром
совместимыми с христианским вероучением. Среди многих теорий про¬
исхождения коренного населения Нового света были и такие, которые
связывали индейцев с потомством Хама, объявляя их если не прокляты¬
ми, то, во всяком случае, низшими существами, заслуживающими раб¬
329
ства. Спекуляции на тему происхождения американских индейцев от
Хама были особенно популярны в XVI—XVII вв. в Испании и Франции,
т.е. там, где к идеям о Хаме как родоначальнике рабства ранее проявля¬
лось мало интереса80.
Открытие Нового Света привело к резкому росту работорговли,
причем гораздо чаще, чем индейцы, рабами в новых колониях оказы¬
вались африканцы. Ноево проклятие служило оправданием их порабо¬
щения. Еще до Колумба, в середине XV в., Гомеш Еанеш де Азурара
из окружения Генриха Мореплавателя, описывая группу пленников из
Западной Африки, присланных этому принцу, различал среди них
знатных мусульман и подчиненных им «черных мавров», которые были
рабами уже в силу Ноева проклятия81. В самом конце XVI в. английс¬
кий путешественник Джордж Бест объявлял сексуальную невоздер¬
жанность Хама причиной проклятия, перешедшего через «народ Куш»
на африканцев82. Но во всех этих сочинениях мотив связи между про¬
клятием, рабством и тем или иным народом звучал слабо. Превраще¬
ние прежде амбивалентной традиции в четкую теорию библейского оп¬
равдания порабощения африканцев происходит, по-видимому, в
Англии в XVII в.83 Идея о том, что Хам был прародителем африканс¬
ких рабов, стала отныне общим местом. В 1677 г. Джон Людвиг Хан-
неман посвятил этому вопросу целую книгу, озаглавленную «Прелю¬
бопытное исследование черноты сыновей Хама»84. История Хама как
объяснение и оправдание рабства стала популярной в Нидерландах
XVIII в. Крайний пример — Якоб Капитейн. Миссионер-проповедник
голландской реформаторской церкви (первый чернокожий протестан¬
тский священник), он в 1742 г. защищал идею рабства, объявляя его
средством спасения для африканцев и путем искупления греха Хама,
предтечи рабов85. Голландские поселенцы в Южной Африке в начале
XIX в., хотя и не выработали, подобно интеллектуалам Юга Соединен¬
ных Штатов, псевдонаучной или псевдоевангелической доктрины, од¬
нако использовали проклятие Хама для оправдания своего жестокого
обращения с аборигенами племени хойха86.
Поборники рабства в английских колониях Нового света воспользо¬
вались тем, что имя Хама было связано с Африкой и рабством. В Новой
Англии Сэмюэл Сивол в 1700 г. задавался вопросом о том, имеет ли силу
Ноево проклятие, даже если чернокожие действительно являются потом¬
ками Хама. Уже этот пример показывает, что, хотя, проклятие Хама было
общепринятым аргументом в защите торговли африканскими рабами, в
колониях XVIII в. сторонников рабства тревожили более практические
вопросы: что будет, если рабство перестанет существовать и что это оз¬
начало бы для карибских сахарных колоний87.
В ходе усилившейся после 1830 г. борьбы за отмену рабства в южных
штатах его сторонники иногда использовали в качестве аргумента в свою
пользу проклятие Хама. Подобно тому, как это было в средневековье, на
утверждения о том, что все люди равны, они возражали, что равенство было
утрачено после всемирного потопа88. Американские поборники рабства в
основном не знали построений патристики и не испытывали к ним ка¬
кого-либо интереса. Попытки примирить рабство с христианством.
330
основанные якобы на библейских текстах, в действительности соеди¬
няли фантастические этимологии с псевдонаучными утверждениями о
природной неполноценности африканцев: они способны только к фи¬
зическому труду; распущенны, над ними необходима опека. Также были
в ходу специфические идеи об особом предназначении Америки, о том,
что Бог покровительствует экспансионизму.
Более популярными, чем средневековые или ренессансные учения,
были этнические концепции, имевшие целью показать, что черноко¬
жие — совершенно особый род людей. Они и послужили основанием для
теорий о перевоплощении человеческой природы после всемирного по¬
топа89. Ноево проклятие использовалось также для подкрепления идеи об
особой миссии Америки в исполнении божественных предначертаний. В
этом контексте не только раб на Юге представлялся полным воплощени¬
ем Хама, но и сам Хам представал стремящимся к подчинению, осозна¬
ющим свое место в божественном замысле: Ноево проклятие обращало
его труд в служение великой задаче освоения девственного американского
края, грандиозному предприятию, выношенному и направляемому сы¬
нами Иафета90.
«Научные» теории о судьбе и предназначении Америки помещали
идею Ноева проклятия в такой концептуальный контекст, где средне¬
вековые или патриотические построения не могли играть существен¬
ной роли, даже если были известны. А те идеи, которые в Европе XIX в.
были не более, чем пережитком прошлого, в Америке могли получить
распространение как религиозная, моральная и даже научно доказуе¬
мая истина91.
Можно, однако, вспомнить один важный случай, когда оправданию
рабства в Америке послужила косвенная ссылка на средневековую тра¬
дицию. Мы имеем в виду произнесенную в Саванне (Джорджия) в
1861 г., накануне гражданской войны, речь Александра Стефенса,
вице-президента мятежной Конфедерации. В прошлом, говорил ора¬
тор, государства опирались на порабощение и другие способы притес¬
нения своего же народа. Такое отношение европейцев к своим собра¬
тьям было нарушением и естественного, и божественного права. Но
порабощение чернокожих, заявил Стефенс, было вполне законным как
в силу природы вещей, так и вследствие библейского проклятия, об¬
ращенного на Ханаана. В развитии расистских взглядов конфедератов
эта мысль Стефенса сыграла свою роль, поскольку оправдывала воз¬
можность порабощения тех, кто принадлежал к чужой культуре.
* * *
История Хама как прародителя будто бы проклятых людей была долгой
и бесславной. Гражданская война в Америке положила конец рабству, но
порабощение чернокожих не прекратилось. Так, например, вплоть до
1978 г. церковь мормонов в США продолжала учить, что черные являют¬
ся потомками как Каина, так и Хама. Потребовались специальные уси¬
лия, чтобы выработать доктрину, которая позволила бы чернокожим
приобщиться к мормонскому учению.
331
Проблемы, связанные с Ноевым проклятием, существуют в США до
сих пор. Некоторые чернокожие авторы — антисемиты по убеждению, —
путая и подменяя смыслы, обвиняют евреев в том, что их предки первы¬
ми употребили концепцию Ноева проклятия для оправдания рабства
африканцев. Это зловещая попытка доказать, будто евреи несут ответ¬
ственность за порабощение чернокожих92.
То, что, к несчастью, миф обнаруживает такое постоянство, вызыва¬
ет необходимость проследить историю образа Хама до того, как он стал
ассоциироваться с Африкой и рабством. Когда-то, более 1000 лет назад,
этот образ использовали для оправдания рабства — сначала в Римской
империи, а затем в средневековых европейских королевствах. В средне¬
вековье, когда идея порабощения диковинного чужестранца была не ак¬
туальна, Ноево проклятие, обращенное на потомков Хама, использова¬
лось для объяснения социального неравенства и для порабощения сервов,
христиан, казалось бы, членов того же этнического и политического объе¬
динения.
Примечания
1 У А.Чехова «В ссылке» (Чехов А.П. Соч. Т. 8. М., 1977. С. 43) заключенный в
Сибири заявляет: «Я, братушка, не мужик простой, не из хамского звания, а дья¬
ковский сын...» Я признателен д-ру В. Мажуге из Санкт-Петербургского универ¬
ситета за эту ссылку. Вопрос «о Хаме» в польском см.: Matuszewski J. Geneza
Polskiego Chama // Studium semazjologiczne, Lodz, 1982). Я благодарен д-ру В. У-
рущаку, Ягеллонский ун-т, Краков, за то, что он обратил мое внимание на эту
статью.
2 Hill T.D. Ri'gsthula: Some Medieval Christian Analogues// Speculum 61 (1986). P. 79-
89; Friedman J. B. The Monstrous Races in Medieval Art and Thought. Cambridge
(Mass.), 1981. P. 99-105; idem. Nicolas's «Angelus ad Virginem» and the Mocking of
Noah //The Yearbook of English Studies 22 (1992). P. 162-180.
3 Лучший анализ ранних комментариев на кн. Быт., 9, см.: Aaron D. Н. Early
Rabbinic Exegesis on Noah’s Son Ham and the So-Called «Hamitic Myth» //Journal
of American Academy of Religion 63 (1995). P. 721-759.
4 Sanhedrin 70a // The Babylonian Talmud /Ed. 1. Epstein, trans. J. Schachter and
H. Freeman. L., 1935. P. 477-478.
5 Sanhedrin 108b, p.745 указанного выше перевода. Об этом эпизоде см.: Aaron D.H.
Early Rabbinic Exegesis. P. 740. О проклятии Ноем ворона говорится у Hugo von
Trimberg, vv. 2515-2520. Der Renner / Hg. Gustav Ehrismann 1, Bibliothek des
literarischen Vereins in Stuttgart 247. Tubingen, 1908. S. 104.
* Bereshith Rabbah 36,7 / Transl. H. Freedman // Midrash Rabbah. Vol. 1, Genesis.
L., 1938. P. 293. Также: Pirke de Rabbi Eliezer/Transl.G: Friedlander. N.Y., 1965. P.
170; Gero S. The Legend of the Fourth Son of Noah // Harvard Theological Review 73
(1980). P. 321-322.
7 По поводу контекста и употребления этих утверждений см.: Aaron D.H. Early
Rabbinic Exegesis. P. 740-741.
* О контексте и моральном подтексте истории Хама и других подобных излишне
суровых библейских установлений см.: Goodman L.E. The Biblical Laws of Diet and
Sex//Jewish Law Association Studies / Ed. B.S. Jackson. Vol. 2. Atlanta, 1986. P. 17-57.
4 The Itinerary of Benjamin of Tudela: Travels in the Middle Ages./Transl. M.N. Adler
Malibu. 1987. P. 127. Ранее в своем «Итинерарии» Вениамин описал жителей Ху-
332
лама на Малабарском берегу как «сынов Куша», темнокожих удачливых торгов¬
цев и страстных астрологов. Среди них живут и евреи, также чернокожие (Idem
Р. 120-121).
Philo, De Ebrietate // Locb Classical Library ( = LCL). Cambridge (Mass.), 1930.
P. 319-323; Quaestiones et solutiones in Genesim. 2. 65 // LCL. Cambridge (Mass.).
1953. P. 165-167; Justmus Martyr, Dialogus cum Tryphone, 139 // Iustini philosophi et
martyris opera quae feruntur omnia / Ed. K. Otto, 1, 2. Jena, 1877; repr. Wiesbaden,
1969. P. 488; Origen, In Genesim // PG 12. Col. 108; cf. Genesis 9:25.
“ Friedman J.B. Nicolas’s «Angelus ad Virginem». P. 176-177.
12 Funkenstein A. Basic Types of Christian Anti-Jewish Polemics in the Later Middle
Ages//Viator 2 (1971). P. 373-382.
13 Justinus Martyr, Dialogus cum Tryphone, 139. P. 488; Ambrosius, Epistolae, VII (37)
6-7 // CSEL, 82, part I. P. 45-46; Ambrosius, De Noe et Area , 30-32 // PL 14, Col. 432-
435; Ambrosiaster, Commentana ad Colossenses 4,1// CSEL 81. part 3. P. 202; Claudius
Marius Victorinus, Alethia III, 76 // CC 128. P. 169; Sulpicius Severus, Chronica 1,4/
/ CSEL 1. P. 6. О насмешке Хама упоминается в одном диалоге IX в. и в древне¬
английском прозаическом сборнике XI в., где к ней возводится рабство. Ср.:
Hill T.D., Op.cit. Р. 82-83.
14 Такая связь прослеживается в тексте, приписываемом Ефраиму Сирийскому
(умер в 373 г.), который прибавляет к предположению, что именно Ханаан первым
увидел опьянение Ноя, утверждение о том, что Ной проклял и Хама и Ханаана,
причем это проклятие обратило их обоих в чернокожих. См.: Lagarde Р. de (Hg).
Materialen zur Kritik und Geschichte des Pentateuchs. Osnabriick, 1867, repr. Wiesbaden,
1967. Bd 2. P. 86-87, а также Lewis B. Race and Slavery in the Middle East: An Historical
Inquiry N.Y.; Oxford, 1990. P. 124. Этот текст известен только в арабском списке,
датируемом веком позже, и его авторство вызывает сомнения. В комментариях на
книгу Бытия того же автора на сирийском языке взаимосвязь между рабством, чер¬
ным цветом кожи и Ноевым проклятием не прослеживается.
15 См.: Lewis В. Race and Color in Islam. N. Y., 1979; idem. Race and Slavery; Davis B.
Slavery and Human Progress. P. 32-51; McKee Evans W. From the Land of Canaan to
the Land of Guinea: The Strange Odyssey of the «Sons of Ham» //American Historical
Review 85 (1980). P. 25-33.
16 Lewis B. Race and Slavery. P. 124-125. Devisse J. The Image of the Black in Western
Art. Vol. 2, part 1. Cambridge (Mass.), 1979. P. 221, note 179.
17 al-Tabari, The History of al-Tabari, [215]. Vol. 2/Transl. William M. Brinner. Albany,
1987. P. 14.
I" Friedman J.B. The Monstrous Races. P. 101.
,v Надо отметить, что Ибн Халдун не разделял этой точки зрения. См.: The
Muggaddimah: An Introduction to History 1:151 / Transl. F. Rosenthal. Vol. I. N.Y.,
1958. P. 169-170. Впрочем, его убеждением было то, что черные африканцы наи¬
более пригодны для порабощения, поскольку в своей недоразвитости подобны
поддающимся доместификации животным. См.: Lewis В. Race and Color in Islam
P. 38.
2" McKee Evans W. From the Land of Canaan. P. 27-34.
21 He в меньшей — если не в большей — мере эти народы связывались в средневе¬
ковом сознании с Азией. В глазах интеллектуалов средневековья, Хам не ассоции¬
ровался с Африкой столь исключительно, как в Новое время. Кроме того, под
Африкой, в соответствии с древним значением, подразумевалась по большей час¬
ти средиземноморская Африка, и таковая отнюдь не обязательно мыслилась насе¬
ленной неграми. См.: Fischer J. Oriens — Occidens — Europa: Bcgriff und Gcdankc
«Europa» in der spiiten Antike und im friihen Mittelalter. Wiesbaden, 1957. P. 10-19.
22 Isidorus Hispalensts, Etvmologiae. IX 2, 2: 10; 13: 25: 39: 59 / Ed. M. Revdellet. P..
1984. P. 127-135.
333
Friedman J.В. The Monstrous Races. P. 99-103.
24 Ibidem; MellinkoJJ R. The Mark of Cam; Dahan G. L’cxcgesc de l’histoire de Cam
ct Abel du XIIе au XIVе siccle en Occident // Rechcrches dc thcologic ancienne ct
medievale 49 (1982). P. 21-89, 50 (1983). P. 5-68.
-s Tubingen, Universitatsbibliothek Ms 295, f. 153r.
-ft Эта миниатюра описана также в кн.: Mellinkoff R. Outcasts: Signs of Otherness in
Northern European Art of the Late Middle Ages. Berkeley, 1993. Vol. 1. P. 134. Vol. 2,
plate VI.50.
27 Prudentius, Hamartigenia, w. 1-35 // LCL 387. P. 200-202.
28 Heald D. R. L. The Peasant in Medieval German Literature: Realism and Literary
Traditionalism, c. 1150-1400. L., 1970. P. 119-120 (рукопись диссертации).
24 Hugo von Trimberg, Der Renner, v. 15636 / Hg. G. Ehrismann. Vol. 2. Tubingen, 1909.
Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart 248. P. 261.
30 Konrad von Ammenhausen. Das Schachzabelbuch Kunrats von Ammenhausen, Monche
und Leutpriesters zu Stein am Rhein / Hg. F.Vetter. Frauenfeld, 1892 — По поводу
Каина: Col. 379-380 ( w. 9744-9770); о Хаме: Col. 411-412 (w. 10758-10777); сопо¬
ставление издателем Конрада с его протографом в том, что касается Хама: Col.
427-428. В английском переложении этой шахматной аллегории, «Развлечении и
игре в шахматы» Уильяма Кэкстона (первой в Англии печатной книге) говорит¬
ся, что Каин был первым, кто стал обрабатывать землю, и что все земледельцы
искупают грех Адама, однако ничего не сказано о Хаме и происхождении пора¬
бощения. Caxton W. The Game of the Chesse. Westminster, 1476; repr. L., 1860. P.
76-77: «And we rede in the bible that the first labourer that euer was cayn the first sone oj
adam... it behoueth for necessyte that some shold laboure the erthe, after the synne of adam».
31 Gower J. Vox clamantis, 1, 10, vv. 747-782 // The Complete Works of John Gower/
Ed. G.C. Macaulay. Vol. 4. Oxford, 1902. P. 42-43. Заголовок этой главы гласит: Hie
dicit se per sompnium vidisse progenies Chaym maledictas una cum multitudine seruorum
nuper regis Uluxis, quos Circes in bestias mutauit, furiis supradictis associari. Vv. 757-758
(p. 43): Septem progenies, quas ipse Chaym generauit, / Cum furiis socii connumerantur
ibi.
32 Snowden F. M. Before Color Prejudice: The Ancient View of Blacks. Cambridge
(Mass.), 1983. P. 99-108.
33 Davis B. Slavery and Human Progress. P. 46-50.
34 Baudet H. Paradise on the Earth: Some Thoughts on European Images of Non-
European Man. New Haven, 1965. P. 17.
35 Mark P. Africans in European Eyes: The Portrayal of Black Africans in Fourteenth
and Fifteenth Century Europe. Syracuse, 1974. P. 19-53.
36 Das friihmittelalterliche Wiener Genesis: Kritische Ausgabe mit einem einleitenden
Kommentar zur Uberlieferung // Philologische Studien und Quellen. Bd 59 / Hg. K.
Smits. B., 1972. S. 145: vv. 766-767: Vone Chames sculde wurde allerlist scalche./ ё
waren si alle eben vri unde edeie.
37 Milani P. A. La schiavitu nel pensiero politico dai Greci al basso medio evo. Milano,
1972. P. 288-339; Teja R. San Basilio у la esclavitud: teoria у praxis // Basil of Caesarea:
Christian, Humanist, Ascetic: A Sixteen-Hundredth Anniversary Symposium / Ed. P.J.
Fedwick. Vol. 1. Toronto, 1981. P. 393-403.
'8 Basilius, De Spiritu Sancto XX, 51 // PG 32. Col. 162; Ambrosius, Epistolae, 11, 7
//CSEL82, pt. 1. P. 44-47.
,ч Ambrosius, De Noe et Area, c. 30-32 // PL 14. Col. 432-435.
Ambrosius, De Helia et Ieiumo 5, 10 // CSEL 32, pt. 2, p. 419; Decretum Gratiam
35, 8, 3. Cm.: Weigand R. Die Naturrechtslehre der Legisten und Dekretisten von
Irnerius bis Accursius und von Gratian bis Johannes Teutomcus. Munchen, 1967. S
133-136, 144-148, 195-214, 262-263.
334
41 Ambrosiasler, Commentanus in epistolam ad Colossenses 4, I // CSEL 81, pt.3. p. 202:
«Demque peccati causa Cam servus audivit. Cui sententiae veteres adsensere, ita ut defimrent
omnes prudentes esse liberos, stultos autem omnes servos, quia prudens abshnet a peccatis,
ut hie ingenuus sit, qui recta sequitur, servus autem qui per stultitiae inprudentiam subicit se
peccato. Unde et Cam propter stultitiam, quia risit nuditatem patris stulte, servus est
appellatus».
42 Johannnes Chrysostomos, Homiliae de Lazaro, VI, 7 // PG 48. Col. 1037-1038.
43 Johannnes Chrysostomos, Sermones in Genesim, IV, 2 // PG 54. Col. 595.
44 Ibid., V, 1. Col. 599.
45 Johannnes Chrysostomos, Homiliae in Genesim, XXIX, 6-7 // PG 53. Col. 269-273.
46 Augustinus, De civitate Dei XVI, 1-2; XIX, 15.
47 Augustinus, Quaestionum in Heptateuchum 1, 153 // PL 34. Col. 589-590. Эта фор¬
мулировка появляется: Alcuin, lnterrogationes et responsiones in Genesim , 273 // PL
100. Col. 557; Haimo Autissiodorensis, Expositio in epistolas S. Pauli. In epistolam ad
Colossenses , 3 // PL 117. Col. 762-763; Hrabanus Maurus, Commentaria in Genesim,
IV, 9// PL 107. Col. 646-647.
48 Sturner W, Peccatum und Potestas: Der Sundenfall und die Entstehung der
herrscherlichen Gewalt im mittelalterlichen Staatsdenken (Beitrage zur Geschichte und
Quellenkunde des Mittelalters 11). Sigmaringen, 1987. S. 106, 112.
49 Gregorius Magnus, Moralia in Job XXI, 14-15 //CC 143A. P. 1081-1082. Также cm.:
idem. Regula pastoralis 11, 6 // PL 77. Col'. 34.
50 /sidorus Hispalensis, Sententiarum libri tres III, 47 // PL 83. Col. 717.
51 Oexle O. G. Die funktionale Dreiteilung der «Gesellschaft» bei Adalbero von Laon.
Deutungsschemata der sozialen Wirklichkeit im fruheren Mittelalter// Friih-
mittelalterliche Studien 12 (1978). S. 28.
52 Friedman J.B. Monstrous Races. P. 101-103; Hill T.D. Rigsthula. P. 82-83.
53 Honorius Augustodunensis, Imago mundi 3, 1 //Archives d’histoire doctrinale et litteraire
du Moyen Age 49 (1982) / Ed. V.I. J. Flint. P. 125 (= PL 172. Col. 166). В немецком
переводе его «Светильника», второй половины XII в., амальгаме, объединившей,
помимо сочинений Гонория, ряд текстов Гильома Коншского, servi переданы как
eigenleute, скорее напоминают сервов, нежели рабов: In dez kiinegez ziten wurde die
lute indni geteilet: von Sem canien die frigen, von Jafet camen die ritere, von Kam camtn
die eigin lute (Lucidarius aus der Berliner Handschrift / Hg. F. Heidlauf, Deutsche Texte
des Mittelalters 28. B., 1915; repr. 1970. S. 8.
54 Цит no: Milani P.A. Op. cit. P. 376.
55 Antoninus, Summa theologica II, 3, c. 6. Цит. no.: Milani P.A. Op. cit. P. 377.
58 The Mirror of Justices / Ed. W.J.Whittaker, Selden Society. Vol. 7. L., 1895. P. 76.
57 Muller W. Wurzeln und Bedeutung des grundsatzlichen Widerstandes gegen die
Leibeigenschaft im Bauernkrieg 1525// Schriften des Vereins fur Geschichte des
Bodensees und seiner Umgebung 93 (1975). S. 30; Bloch M. Rois et serfs: un chapitre
d’histoire capetienne. Geneve, 1976. P. 140, note 2.
58 Friedman J.B. Nicholas’s «Angelus ad Virginem». P. 175-180.
59 The Southern Version of Cursor Mundi, w. 2133-2136. Vol. 1 / Ed. S. M. Horrall. Ottawa,
1978. P. 102-103. Выдержки из «северной версии» см.: Hill T.D. Rigsthula. Р. 84.
80 Dives and Pauper, 4, 1 / Ed. P.H. Bamum, EETS 275. L. 1976. P. 305: And thus for
scornynge & vnworchepe that the sone dede to his fadir began first bondage & thraldom &
was confermyd of God.
81 Chaucer J. Canterbury Tales, «The Parson’s Tale», 67, 762-768.
82 Patterson L. Chaucer and the Subject of History. Madison, 1991. P. 262-270.
Friedman J.B. Nicholas’s «Angelus ad Virginem». P. 177-178.
83 Hugo von Trimberg, Der Renner, vv. 15634-15637 (Bd 2 . S. 261) — о Каине: vv. 1315-
1406 (Bd 1, S. 55-58) — о Хаме; Konrad von Ammenhausen, Schachzabelbuch. Конрад
продолжает свой комментарий к истории Ноева проклятья порицанием пьянства
335
(vv. 10766-10958). Он приводит высказывание Амвросия Медиоланского о связи
пьянства и порабощения, однако подменяет понятия: последствием изобретения
виноделия предстает не рабство, а серваж (dienstes von eigenschaft) — vv. 10768-
10671. Col. 411.
M Jansen Entkel, Weltchromk, vv. 2917-2944 // MGH Deutsche Chronikon 3. S. 56-
58; Pamphilius Gengenbach, Dcr Bundtschu, vv. 67-72, 93-96 // Samtliche Wcrke /
Hg. K. Goedecke. Hannover, 1856; repr. Amsterdam, 1966. P. 24-25; Felix Hemmerli,
De nobilitate ct rusticitate dialogus, 6-7. Strasbourg, ca. 1497, f. 19r, f. 28r.
A-s Он датируется XV в.: Le mistcrc du Viel Testament, vv. 6472-6478, / Ed. J. de
Rothschild. T. I. Paris, 1878. P. 252.
66 Hemmerli, De nobilitate et rusticitate dialogus, ff,19r. 28r-28v.
67 Hugo von Trimberg, Der Renner, vv. 1323-1329, Bd. 1. S. 55. См. также: Фридмен
П. Образ крестьянина в позднесредневековой Германии//Одиссей 1993. М., 1994.
С. 38-48.
^ Heinrich Wittenwiler, Der Ring, vv. 7207-7244 /Ed. B. Sowinski. Stuttgart, 1988.
P. 308-310.
M Ibid., w. 7242-7244, S. 310:
Also sein wir nicht geleich:
Einr ist arm, der ander reich,
Einr ein gpaur, der ander edel.
711 The Boke of Seynt Albans. Saint Albans, 1486; repr. L., 1901. Pt 3. P. 1 r.
71 Jonas Aurelianensis. De institutione laicali 11, 22 // PL 106. Col. 213. Cf. Gregorius
Magnus. Moralia in Job XXI, 10; XXI, 15; Augustinus. De civitate Dei XIX, 15.
72 Atto, Expositio in Epistolas Pauli: In epistolam ad Ephesios, 6 11 PL 134. Col. 582-
583.
75 Sachsenspiegel. Landrecht 111. 42 3 // MGH, Fontes iuris Germanici antiqui. S. 223-
226. Cm.: Muller, Wurzeln und Bedeutung... S. 25-29; Kisch G. Sachsenspiegel and
Bible. Notre Dame, 1941, repr. 1990. S. 133-140; Voltelini H. von, Der Gedanke der
allgemeinen Freiheit in den deutschen Rechtsbiichem // Zeitschrift der Savigny-Stiftung
fur Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 57 (1937). S. 182-186.
74 Sachsenspiegel, loc. cit. S. 224-225: Ok seggen sumleke lude, it queme egenscap
van Cam, Noes sone; Noe segende twene sine sone, an deme dridden ne gewuch he
nener egenscap, Cam besatte Ajfricam mit sime geslechte, Sem blef in Asia, Japhet,
unse vordere, besatte Europam, sus ne blef er nen des anderen. (Саксонское зерца¬
ло. M., 1985. С. 95: «Также некоторые говорят, что собственность на человека
произошла от Хама, сына Ноя. Ной благословил двух своих сыновей, относитель¬
но третьего он не упоминал о собственности. Хам занял Африку своим потом¬
ством; Сим остался в Азии; Иафет, наш предок, занял Европу. Следовательно, ни
один из них не принадлежал другому».)
Как отмечает Г. Киш, Эйке фон Репгов представляет детей Ханаана (чей отец
«занял Африку своим потомством») независимыми от двоюродных братьев и,
следовательно, свободными людьми, меняя смысл высказывания, почерпнутого
им у Петра Коместора, верившего в подобное порабощение. См.: Petrus Comestor,
Historia scholasttca. Genesis 36 // PL 198. Col. 1087: Maledixit autem non ftlio, sedfilio
ftlti, quia sciebat in spiritu filium non serviturum fratribus, sed semen etus, nec omnes de
seminesedeos, qui de Chanaan descenderant... Sem Asiam, Cham Africam, Japhet Europam
sortitus est»; Kisch, Sachsenspiegel and Bible ... P. 138.
7' Локализация Эйке фон Репговом Хамова племени исключительно в Африке
отнюдь не тривиальна. Если она и согласуется с приведенным в предыдущем
примечании местом из Петра Коместора, в других текстах последнего Хам свя¬
зывается одновременно с Африкой и Азией. В чем-то сходна критика рабства у
исламского правоведа Ахмада Бабы (умер в 1627 г.). Он разделяет широко распро¬
страненное мнение о допустимости порабощения язычников, но не мусульман.
336
независимо от их цвета кожи, и отвергает мысль о том, что Хамово племя осуж¬
дено на порабощение, ибо Бог в своем милосердии не мог покарать таким обра¬
зом многих за грех одного человека. См.: Levis В. Race and Slavery. Р. 57-58.
78 The Воке ofSeynt Albans. Pt. 3, signature a 2 recto. P. 2r.
77 John Wydif. De serviture civili et domino seculari 11 Opera minora / Ed. J. Loserth,
N.Y., 1966. P. 146.
78 Ibid. P. 147.
74 Luther M. Lectures on Genesis , 9, 26; 10,7// Luther’s Works / Ed. J. Pelican. Saint
Louis, I960. P. 174-178, 193-195.
K" Gliozzi G. Adamo e il nuovo mondo. La nascita dell’antropologia come ideologia
colomale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziale (1500—1700). Firenze, 1977.
P. 111-146.
81 Gomes Eannes de Azurara. Cromca dos feitos notaveis que se passaram no conquista
de Guine por mandado do Infante D. Henrique /Ed. Torquato de Sousa Soares. Vol. 2.
Lisboa, 1978. P. 103-104.
82 Jordan W. White Over Black: American Attitudes Toward the Negro, 1550-1812.
Chapel Hill, 1968. P. 40-41.
83 Braude B. The Sons of Noah And the Construction of Racial Identity in the Medieval
and Early Modern Periods // William and Mary Quarterly, 3rd ser. 54 (1997). P. 134-
138.
84 Perbal A. La race negre et la malediction de Cham //Revue de I’Universite d’Ottawa
10 (1940). P. 158-159.
85 Blakely A. Blacks in the Dutch World: The Evolution of Racial Imagery in a Modem
Society. Bloomington, 1993. P. 207-209; 218-219.
86 Fredrickson G. M. White Supremacy: A Comparative Study in American and South
African History. Oxford, 1981. P. 170-171.
87 Brown C.L. Foundations of British Abolitionism, Beginnings to 1789, Doctoral Thesis,
Oxford University (Modern History Faculty), 1994. P. 228-236; Larry E. Tise,
Proslavery: A History of the Defense of Slavery in America, 1701 — 1840. Athens,
Georgia, 1987. P. 41-96.
88 Несколько примеров подобной аргументации см.: Peterson Т. V. Ham and Japheth:
The Mythic World of Whites in the Antebellum South. Metuchen; N.Y., 1978; Larry
E. Tise, Proslavery. P. 116-125.
84 Весьма показательный пример — идеи физиолога Сэмюела А. Картрайта, всерьез
полагавшего, что болезни и нищета чернокожих, порожденные их физиологической
неполноценностью, доказывают истинность библейской истории о Ноевом прокля¬
тии, и «открытия в области анатомии, физиологии и истории подтверждают то, о чем
говорил Моисей». Цит. по: Peterson T.V. Ham and Japheth, P. 72-73. Позже Картрайт
отдавал предпочтение теории раздельного происхождения перед концепцией Ное¬
ва проклятия. См.: Fredrickson G. М. The Black Image in the White Mind: The Debate on
Afro-American Character and Destiny, 1817—1914. N.Y., 1971. P. 87-8.
,м'Любопытный очерк анонимного автора: The Black Race in North America: Why
was their Introduction Permitted? // Southern Literary Messenger, 21, 1855. P.641-684,
содержит примечательный диалог, в котором сыновья Хама говорят, что над ними
тяготеет «давнее и тяжкое наказание». Они также признают, что «печать грехо¬
падения заставляет их исполнить свой долг», посвящая свой труд исполнению
миссии сынов Иафета по освоению земли (Р. 657-658). Петерсон предполагает,
что автором этого текста был, вероятно, Джордж Такер, член Конгресса и про¬
фессор моральной философии в университете Вирджинии. См.: Peterson Т. V. Ham
and Japheth. Р. 92-95, 106.
” StnngfeHow Т. A Brief Examination of Scripture Testimony of the Institution of Slavery
// The Ideology of Slavery: Proslavery Thought in the Antebellum South. 1830-1860.
(Baton Rouge. 1981). P. 136-167: Bartur R. «Cursed be Caiman, a Servant of Servants
337
Shall He Be unto His Brethern»: American Views on «Biblical Slavery» 1835-1865
// Slavery and Abolition, 4 (1983). P. 41-55; Peterson T. V. Ham and Japhet. P. 42-44.
47 Aaron D.H. автор книги «Early Rabbinic Exegesis», на c. 722-729 цитирует ряд тек¬
стов, как научных, так и популярных, в которых содержится неверное утвержде¬
ние, будто бы библейский образ Хама связали с рабством и черным цветом кожи
комментаторы Талмуда. На ошибочность подобного тезиса указывается: Isaac Е
Genesis, Judaism and the Sons of Ham, Slavery and Abolition. 1980. P. 3-17; Davis D.B.
Slavery and Human Progress. N.Y.; Oxford, 1984. P. 337, note 144.
Перевод с английского H.A. Селунской
А.В. Циммерлинг (Москва)
«Прядь о Тидранди и Торхалле»
I
Одного человека звали Торхалль; он был норвежец и прибыл
в Исландию в дни ярла Хакона. Он занял землю у Устья Кис¬
лого Ручья и жил на Освященной Земле. Торхалль был чело¬
век мудрый и ясно видел будущее; его называли Торхалль Ве¬
дун. В то время Торхалль жил на Освященной Земле, а Халль с
Побережья жил в Лебедином Фьорде у Капища, и между ними была боль¬
шая дружба. Халль гостил на Освященной Земле всякий раз, когда ехал
летом на тинг. Торхалль же часто ездил на пиры на восток к Халлю и по¬
долгу жил у него.
Старшего сына Халля звали Тидранди. Он был красивый юноша и
подавал очень большие надежды. Халль любил его больше всех своих
сыновей. Когда Тидранди вышел из детского возраста, он сразу стал
разъезжать по другим странам. Куда бы он ни приезжал, о нем была наи¬
лучшая слава, ибо он был человек незаурядный, обходительный и веж¬
ливый с каждым от мала до велика.
Однажды летом Халль пригласил своего друга Торхалля заехать к нему
на восток, когда тот поедет с тинга домой. Немного позже Торхалль вые¬
хал на восток, и Халль встретил его, как обычно, с большим радушием.
Торхалль остался там на все лето, и Халль просил его не уезжать, пока не
устроят осеннего угощения.
В то же лето Тидранди привел свой корабль в Медведицын Фьорд. Он
поехал домой к своему отцу, и все любовались им, как и раньше, и пре¬
возносили его достоинства, но Торхалль Ведун неизменно молчал всякий
раз, когда люди хвалили Тидранди.
Тогда Халль спросил, отчего он так поступает.
— Ведь я придаю твоим словам большое значение.
Торхалль отвечает:
— Не то, чтобы мне не нравилась в нем или в тебе какая-то черта, и
вовсе не потому, что я меньше других ценю его красоту и достоинства; ** Перевод с древнеисландского и комментарии А.В. Циммерлинга. Перевод сде¬
лан с издания: Austfirdinga sogur. Gudni Jonsson gaf Lit (Islendinagasogur
Islendingasagna utgafan, X111). Reykjavik, 1947 и сверен с изданием: Austfirdinga
sogur. Jon Johanncsson gaf ut (lslcnzk Format, XI) Reykjavik. 1950
339
скорее дело в том, что многие его хвалят. У Тидранди и в правду мною
достойных черт, хотя сам он скромен. Быть может, он не проживет дол¬
го, и тогда тебе будет тяжко лишиться столь многообещающего сына,
даже если бы все не расхваливали его наперебой.
II
Когда лето подошло к концу, Торхалль сделался мрачен. Халль спросил
его, к чему это.
Тот говорит:
— Не лежит у меня душа к осеннему угощению: есть у меня предчув¬
ствие, что на этом пиру убьют ведуна.
— Это я берусь объяснить, — сказал хозяин, — есть у меня двенадца¬
тилетний бык, которого я зову Ведуном, ибо он умнее прочей скотины.
Его-то и убьют к осеннему пиру, и пусть тебя это не тревожит, ибо я на¬
деюсь, что это мое угощение, как все другие, удастся на славу.
Торхалль отвечал:
— Я сказал вовсе не потому, что боюсь за свою жизнь: есть у меня
много худшие и ужасные предчувствия, которые я пока скрою.
Халль сказал:
— Это, однако, не причина, чтобы отменять пир.
Торхалль отвечает:
— Речами тут не поможешь, потому что все сбудется, как предназна¬
чено.
Угощение устроили поздней осенью. Пришло мало гостей, потому что
дул сильный ветер и было много хлопот по хозяйству.
Когда вечером гости уселись за столы, Торхалль сказал:
— Я бы хотел просить всех внять моему совету и не выходить этой
ночью наружу, ибо если пренебречь этим, случится большая беда. И если
будут какие знаки либо призывы, пусть никто не обращает на них вни¬
мания, ибо если кто-то откликнется, несчастий не оберешься.
Халль просил всех последовать словам Торхалля и держать их в уме.
— Ибо они всегда сбываются, а остаться целым всего лучше.
Гостей обхаживал Тидранди. Он, как всегда, был приветлив и вежлив.
Когда же люди пошли спать, Тидранди указал каждому из гостей его ме¬
сто, а сам лег на полатях поближе к сеням. А когда большинство людей
уснуло, в дверь постучали, и никто не подал виду, что слышал. Так по¬
вторялось трижды.
Тут Тидранди вскочил и сказал:
— Стыд и срам, что люди здесь притворяются спящими , а ведь это.
наверняка, пришли званые гости.
Он взял в руки меч и вышел. Он никого не увидел. Тогда ему пришло
в голову, что кто-то из гостей, должно быть, заранее подъехал к хутору. ;i
затем поехал обратно за теми, кто выехал позже. Он пошел к роше; туi
он услышал, как скачут по полю с севера. Он увидел, что это девять жен
шин: все были в черных одеждах и у каждой в руке обнаженный меч. Он
услышал также, как скачут по полю с юга. Это тоже были девять женщин
340
все в белых одеждах и на белых конях. Тогда Тидранди хотел повернуть
обратно и рассказать о видении людям. Тут к нему подоспели первые
женщины, — те. что в черных одеждах, — и напали на него, а он защи¬
щался хорошо и мужественно.
Торхалль проснулся гораздо позже; он спросил, спит ли Тидранди, но
никто не отозвался. Тогда Торхалль сказал, что должно быть, уже слиш¬
ком поздно.
Затем вышли на двор. Была луна и стоял мороз. Они нашли Тидран¬
ди лежащим в ранах и внесли его в дом. И когда люди заговорили с ним,
рассказал он им все, что с ним приключилось. В то же утро на рассвете
он скончался и был положен в курган по древнему обычаю язычников.
Затем стали выяснять, кто в округе выезжал из дома, и люди так ничего
и не узнали о каких-либо врагах Тидранди.
Халль спросил Торхалля, что может означать это ужасное событие.
Торхалль отвечает:
— Не знаю наверняка, но думаю все же, что женщины эти были не кто
иные, как духи-двойники ваших родичей. Я догадываюсь, что здесь слу¬
чится смена веры, и сюда в страну придет лучший обычай. Я полагаю, что
те ваши дисы1, которые были привержены прежней вере, знали о смене
обычая заранее, как и о том, что вы, родичи, отвергнете их. И вот они не
пожелали расстаться, не взяв с вас на прощание дань. Они, должно быть,
выбрали себе Тидранди, а лучшие дисы2 хотели его защитить и не смог¬
ли.
И вот это событие, как и сказал Торхалль, а также многие другие по¬
добные вещи предвещали радостное время, которое вскоре пришло: Все¬
могущий Бог окинул милостивым взором людей, заселивших Исландию,
и через Своих посланников избавил этот народ от долгого рабства Врага
и затем привел Своих возлюбленных сынов к совместному обладанию
вечным наследством, как Он обещал всем тем, кто хочет служить ему при
помощи добрых дел.
Но и не в меньшей степени показал Враг рода человеческого в подоб¬
ных делах и во многих других, о которых дошли рассказы, сколь неохот¬
но он выпускает свою добычу, под этим следует понимать — тот народ,
который он все это время держал в плену, в путах своих проклятых идо¬
лов, — когда он подобными набегами вымещал свою неистовую ярость
на тех, над кем он ранее имел власть, уж он-то знал, что вскоре его по¬
срамят и заставят расстаться с награбленным.
А Халлю было так тяжело смириться со смертью Тидранди, своего
сына, что жизнь у Капища стала ему в тягость: перенес он свой хутор к
Купальной Реке.
Однажды, когда Торхалль Ведун гостил на Купальной Реке у Халля,
случилось так. что Халль лежал у себя в каморке, а Торхалль — на крова¬
ти напротив, и в каморке было окошко. Как-то утром, когда оба не спа¬
ли, Торхалль улыбнулся.
341
Халль сказал:
— Почему ты улыбаешься?
Торхалль отвечает:
— Я улыбаюсь потому, что вскрывается каждый холм, и каждая тварь,
большая и малая, готовится в путь и складывает свои пожитки.
И вскоре произошли события, о которых надо теперь рассказать’.
Комментарии
«Прядь» сохранилась в составе «Книги с Плоского Острова». Она помещена в
«Сагу об Олаве сыне Трюггви» и предваряет рассказ о прибытии королевского
миссионера Тангбранда в Исландию (995 г.).
Главный персонаж «Пряди» — Халль с Побережья — глава известного рода,
члены которого фигурируют во многих сагах. Сам Халль был в числе активных
сторонников принятия христианства и способствовал его законодательному вве¬
дению на альтинге в 999 г. (или в 1000 г.), о чем сообщают различные источни¬
ки, начиная с «Книги об исландцах» Ари Мудрого (середина XII в.). Автор «Дра¬
пы об исландцах», Хаук сын Вальдис, посвятил Халлю одну вису своей поэмы.
Норвежец Торхалль Ведун из других источников неизвестен, и его фигура
мудреца-язычника, предчувствующего закат старой веры, во многом служит по¬
вествовательным двойником самого Халля: недаром у них почти идентичные
имена. Вдобавок Халль живет на хуторе, который называется Капище, а Торхал-
ля «Прядь» помещает в место, которое называется Освященная Земля! В этих на¬
званиях таится глубокий культурный смысл: хёвдинг Халль является годи, т.е. со¬
держателем общинного капища с идолами (hof), а прорицатель и колдун Торхалль
сам устраивает себе небольшое святилище (horgr).
Прядь может быть датирована рубежом XIII—XIV вв. В «Саге о Ньяле», окон¬
чательно сложившейся к концу XIII в., есть фраза, как будто отсылающая к со¬
бытиям пряди: «Сыновьями Халля с Побережья были Торстейн, Эгиль, Торвальд,
Льот и Тидранди, про которого рассказывают, что его погубили дисы» (гл. XCVI). 1 21 Дисы — женские силы плодородия. Им могли ставить капища. Из текста самой
«Пряди» неясно, было ли капище, принадлежавшее Халлю, посвящено дисам или
другим божествам. В интерпретации «Пряди» дисы, погубившие Тидранди, смы¬
каются, во-первых, с духами-двойниками людей, а во вторых — с норнами.
2 ...лучшие дисы — мотив соперничества сверхъестественных существ за жизнь ге¬
роя, вероятно, не языческий, а христианский — похожий оттенок имеют виде¬
ния Гисли Сурссона в «Саге о Гисли» (гл. XXVIII, XXXIII), причем там столкно¬
вение сверхъестественных сил обыгрывается дважды: в скальдических стихах и в
прозаическом комментарии. По всей видимости, эта параллель не случайна: рас¬
сказчик «Саги о Гисли» намекает, что Гисли принял христианство и педалирует
тот факт, что враги Гисли прибегли к колдовству. Соответственно, дисы убивают
Тидранди за то, что его семейство склонно оставить языческую веру.
1 Тангбранд прибыл в Исландию и возвестил христианство.
Жан-Клод Шмитт (Париж)
К вопросу о сравнительной истории
религиозных образов*
В науках о человеке и обществе сравнение лежит в основе вся¬
кого анализа. Невозможно понять объект, не сопоставив его с
другим объектом, похожим или отличающимся от него.
Сравнение присутствует в любой монографии, даже по само¬
му узкому вопросу1.
Но сравнение не есть компаративизм. Последний понимается как осо¬
бая методика, в рамках которой сравнение находится в центре анализа,
постоянно ставится вопрос об условиях, средствах, масштабах и целях
сопоставления двух или нескольких социальных систем, например, в
лингвистике, исследованиях по мифологии или антропологии родства2.
Вариантом применения подобной методики предстает сравнительная
история; ее особенность состоит в том, что сравнению подлежат не только
структуры, как в лингвистике и других дисциплинах, но и историческая
динамика. Такая задача ставится не только ради того, чтобы провести
параллели между обществами, «разведенными» историей, но имевшими
когда-то общие судьбы (здесь на ум приходит начинание Ж. Дюмезиля и
исследования проблем индоевропейцев в целом), или ради сравнения
обществ, заведомо разных, но соседствующих друг с другом в простран¬
стве и во времени (как, например, античные Греция и Рим), — она ста¬
вится также и для того, чтобы сравнить процессы изменения обществ,
вовсе не имеющих никакой видимой связи между собой, сравнить с це¬
лью узнать о них нечто новое.
Компаративизмы
Сравнительная история и, в частности, сравнительная история религий
обладает своей историей и доисторическим периодом. Уже средневе¬
ковье знало жанр дискуссий об истинности соперничающих религий.
На языке оригинала текст опубликован: Boespflug F., Dunand F. (eds). Le
comparatisme en histoire des religions. P . 1997. P. 361-377
343
Верно, что дискуссии эти чаще всего были нечестными, хотя бы потому,
что организовывала их одна сторона, обычно христианская, заранее убеж¬
денная в том, что именно она владеет истиной, и при этом делавшая вид,
что слушает других. Реформация и открытие Нового света стали двойным
ударом, в корне поколебавшим исходные пункты подобных нечестных
сравнений, так как сделали относительным само понятие истины. В ка¬
честве примера можно привести Colloquium heptaplomeres Жана Бодена,
или, если взять заглавие его французского перевода, «Собеседование семи
мудрецов, по-разному понимающих скрытые тайны сокровенных ве¬
щей». Здесь выступают иудей, мусульманин, «натуралист», язычник, ка¬
толик, лютеранин и кальвинист. Они сравнивают достоинства разных
религий, и ни одна из них в конце концов не побеждает, во всяком слу¬
чае победы не одерживает римский католицизм'. По крайней мере до
конца XIX в. в размышлениях подобного рода доминируют конфессио¬
нальные мотивы, если спор касается близких религий, или же шире —
идеологические предрассудки относительно преимущества ветхозаветно¬
го монотеизма перед великими мифологическими системами (египетс¬
кой, греческой и т.д.4). И это при том, что атмосфера рационализма и сци¬
ентизма все более настоятельно требует нейтральности, способствует
складыванию отдельной «науки о религиях», которая является сравни¬
тельной в принципе5.
На рубеже XIX—XX вв. под влиянием обновления в социальных на¬
уках компаративистская методика утверждается, тесня традиционную
историю, которая ищет историческую истину в особенном, в позитивных
фактах, а отнюдь не в социологических абстракциях, стремящихся сбли¬
зить то, что сблизить нельзя, и пренебрегающих тем, что обнаруживает¬
ся эмпирически. Вехами развития сравнительной истории становятся
знаменитые научные споры. Во Франции в 1903 г. Э. Дюркгейм в «Аппес
sociologique» упрекает Н.Д. Фюстель де Куланжа: тот утверждает, будто
в основе первобытной семьи лежит религия, «не проводя достаточных
сравнений»; если бы он лучше изучил примитивные общества, то смог бы
убедиться в обратном, а именно, что религия есть выражение социальных
связей. «Кто не сравнивает, тот плохо видит», — уточняет Дюркгейм6.
Несколько лет спустя Франсуа Симиан идет еще дальше: не есть ли от¬
каз современной истории от компаративизма доказательство ненаучно-
сти этой дисциплины7?
Однако история сумела разом и дать отпор социологическому импе¬
риализму, и обновиться. Это сделал прежде всего Анри Пиренн в обшир¬
ной «Истории Бельгии» (1900—1932), где применение сравнительного
подхода было продиктовано особенностями устройства этой страны. В
1928 г. и М. Блок выступил как сторонник «сравнительной истории ев¬
ропейских обществ»8. Благодаря этим двум ученым сравнительный под¬
ход прочно утвердился в исторической науке, превратился в неизбежную
программу действий историков.
Напомним, что М. Блок различал и применял два типа сравнительного
подхода.
1. Первый тип касается изучения обществ, далеких друг от друга как
во времени, так и в пространстве. Историк нс может доказать, что они
344
имеют общее происхождение, или что между ними когда-либо суще¬
ствовали контакты. Аналогии, проявляющиеся в истории таких об¬
ществ, могут быть объяснены, следовательно, лишь сходными черта¬
ми их исторического развития. М. Блок ссылается на знаменитый труд
иезуита Лафито «Нравы американских дикарей в сравнении с нравами
древних времен» (1724 г.), автор которого впервые прибегнул к такому со¬
поставлению: он стремился лучше понять древних греков в свете опыта, по¬
лученного в процессе изучения американских индейцев9. Сравнительный
подход такого типа М. Блок и сам применяет в «Королях-чудотворцах»
(1924 г.), когда, опираясь на «Золотую ветвь» сэра Джеймса Фрэзера, со¬
поставляет «королевское чудо» Капетингов с «первобытными веровани¬
ями», обнаруженными на островах Тонга в Полинезии. При этом он не
забывает о требованиях истории: сопоставление двух столь разных циви¬
лизаций нисколько не отменяет специфики средневековых обрядов ис¬
целения, генезис и историческое развитие которых должен объяснять
медиевист. С той же весьма уместной осторожностью мы встречаемся на
последних страницах «Феодального общества» (1939—1940 гг.), когда
М. Блок сравнивает западное средневековье с древней Японией10.
2. Сравнительный подход другого рода обращен к феноменам кон¬
тактов, взаимодействия и влияния друг на друга обществ, близких во
времени и/или в пространстве. Как исследователь истории Европы,
М. Блок отдавал предпочтение именно этому подходу. Ученый исполь¬
зовал его в работах по экономической и социальной истории (когда
сравнивал, например, французскую сеньорию и английский мэнор), а
также в исследованиях, касавшихся религиозных верований и мифов в
средние века. Так, в одной из самых блестящих статей Блока показано,
как совершенно по-разному представляли себе «загробную жизнь царя
Соломона» латиняне и греки. В то время, как восточные христиане скло¬
нялись к признанию за этим мудрым царем права на место в раю, хотя
и подозревали его в идолопоклонстве и сластолюбии, — западные счи¬
тали, что за гробом Соломон должен понести кару, которая будет длить¬
ся, конечно, не вечно, но вплоть до Страшного Суда. Это в высшей сте¬
пени показательный пример сравнительной истории. В сущности он,
хотя М. Блок и не говорит этого прямо, великолепно демонстрирует, как
на протяжении средневековья именно по вопросу о вере в чистилище
христианский мир резко разделился на две части11.
Пример применения компаративного метода, использовавшегося
М. Блоком, подавала сравнительная лингвистика. Ж. Дюмезиль позже
развил его, расширил и приспособил к своим нуждам. Оттолкнувшись
от гипотезы существования изначального, древнейшего индоевропейс¬
кого очага, он использовал этот метод, чтобы объяснить наличие общей
идеологии трех общественных функций в разных и отдаленных друг ст
друга и пространстве и во времени культурах. Еще позже итальянский
историк Карло Гинзбург, который, критикуя Ж. Дюмезиля, восприш л
ряд его идей и пожелал еще больше расширить пространство сравни¬
тельного исследования. В шаманских верованиях, засвидетельствован¬
ных в самые равные эпохи по всему евразийскому континенту и даже ы
его пределами, он увидел истоки шабаша ведьм1-’.
345
Применение сравнительного подхода любого типа требует предвари¬
тельного «абстрагирования» (по терминологии М. Блока) или «обобще¬
ния» (по Кл. Леви-Строссу). Поль Вейн говорит о том же, когда утверж¬
дает, что роль историка состоит в «дифференцировании событий на базе
инвариантных абстракций, и в этом история есть социология»'1. В каче¬
стве примера инвариантов П. Вейн приводит империализм или классо¬
вую борьбу. Отсюда, — прибавляет он, — «всякая история волей-неволей
становится сравнительной историей»14.
Кл. Леви-Стросс считает, что сравнение нельзя осуществить в плос¬
кости отдельных наблюдаемых эмпирически элементов. Сравнивать
можно только в плоскости структур, т.е. внутренних связей, которые
действуют незаметно для социальных актеров и не воспринимаются их
сознанием. Следуя этой логике, «необходимо и достаточно добраться до
неосознаваемой, подспудной структуры любого института или любого
обычая, чтобы получить принцип толкования, годный для других инсти¬
тутов и других обычаев, разумеется, при условии достаточной глубины
анализа»15.
На этом пути встречаются, однако, преграды, коих по меньшей мере
три:
1. Сравнение предполагает предварительное обобщение и абстрагиро¬
вание. Но оно будет убедительным лишь в том случае, если окажется, что
в конце пройденного пути более внятными стали феномены специфичес¬
кие — те, что были обнаружены опытным путем. Только возвратившись
в конце концов на уровень особенного, можно судить о преимуществе
данного метода над другими подходами, исключительно эмпирическими
и предполагающими лишь один объект изучения. Короче говоря: что дает
сравнительный подход?
2. Цель сравнительного анализа состоит не в том, чтобы стереть раз¬
личия в сущности принципов, тем более простых и обедненных, чем
более универсальными они выглядят. Таковы понятия сакрального или
тапа в антропологии — дюркгеймовской и преструктуралистской —
А. Юбера и М. Мосса. Таковы возникшие позже совсем иные архетипы,
которые Мирча Элиаде усматривал в основании любой религии, или те.
вокруг которых Жильбер Дюран собирается реконструировать «антро¬
пологические структуры воображаемого»16. Еще позже Карло Гинзбург
в итоге колоссального исследования приходит к заключению, что ша¬
манизм есть в конечном счете не что иное, как ответ человека на уни¬
версальный вопрос о смерти. Последняя фраза «Шабаша ведьм», воз¬
можно, философски и оправданна, но в плане истории ничего не дает:
«Сопричастные миру живых и миру мертвых, сфере видимого и сфере
невидимого, мы уже распознали отличительную черту человеческого
рода. То, что мы пытались здесь проанализировать, не есть рассказ сре¬
ди других рассказов, это матрица всех возможных рассказов»17 (выделе¬
но мной — Ж.-К. Ш.). Мне кажется, что сравнительный подход пред¬
назначен скорее для выявления структурных различий и связанных с
ними вариантов развития разных обществ. В этом отношении между
историком и этнологом разницы нет. «То, чем интересуется этнолог, —
пишет Кл. Леви-Стросс, — не есть некий отнюдь не выясненный все¬
346
общий механизм, рассмотреть который можно лишь при условии вни¬
мательного изучения обычаев данной системы и их исторического раз¬
вития, учитывая всю переменчивость обычаев. Несомненно, однако, что
дисциплина, цель которой — первая, если не единственная — состоит в
анализе и интерпретации различий, оберегает себя от всех этих проблем,
обращая внимание лишь на сходства»18.
3. Наконец, главное и специфическое требование сторонника срав¬
нительного подхода в истории состоит в том, чтобы структуры сопос¬
тавлялись не в состоянии искусственной, умозрительно достигаемой
застылости, а в динамике, в которой они существуют и постоянно из¬
меняются в реальности.
Таковы трудности, с которыми, как представляется, сталкивается и
будет сталкиваться сравнительная история религий. Что же она может
предложить в ответ?
Сравнительная история религий
Сравнительная история религий была и остается одним из полигонов
экспериментирования. Здесь лучше всего и раньше всего зарекомендо¬
вал себя сравнительный подход14. Однако к вышеперечисленным труд¬
ностям тут прибавляется дополнительное препятствие в виде лукавства
истории религии, написанной, как водится, в категориях иудео-христи¬
анской традиции и с использованием присущего этой традиции слова¬
ря20. Однако a priori нет никакой гарантии — и это слабо сказано, — что
привычные нам категории «религия», «благочестие», «верование»,
«вера», «душа», «бог» (как в единственном, так и во множественном
числе), не говоря уже о понятиях более специфических, как «церковь»,
«догмат», «символ веры», являют собой наиболее подходящие инстру¬
менты для сравнительной истории религий21. Так, унаследованную от
апологетического языка церкви дихотомию монотеизма и политеизма
следует использовать осмотрительно, дабы не потерялись, к примеру,
свойственные разным культурным практикам черты сходства, трансцен¬
дентные по отношению к этому водоразделу.
Примем, однако, данную дихотомию как первоначальный, хоть и
грубый инструмент анализа. Последуем за М. Оже, который, проявив
талант, сумел, словно перчатку, вывернуть апологетику Р. Шатобриа-
на и, со своей стороны, восславить «гений язычества», напомнить об
относительности наших иудео-христианских способов мышления.
Когда он пишет, что «язычество есть полная противоположность хри¬
стианства», он не просто еше раз повторяет трюизм. М. Оже хочет по¬
ставить под сомнение иудео-христианскую идею божественного, ко¬
торая неизбежно, сама собой приходит на ум, потому что такова наша
культура. Разница между монотеизмом и политеизмом, по мнению
Оже, состоит не только в количестве богов. Эта разница лежит глуб¬
же: в контрастирующих пониманиях человеческой личности, всего, что
ее окружает, причинных связей, природы, ритуала22.
347
1. Язычество «никогда не бывает дуалистическим», оно не противопо¬
ставляет «дух телу, а веру знанию».
2. «Оно не возводит мораль в принцип, внешний силовым и чувствен¬
ным отношениям, передающим случайное течение индивидуальной и
коллективной жизни». Трансцендентному оно противопоставляет имма¬
нентное. «Спасение, трансцендентное, сокровенное — такие понятия ему
абсолютно чужды». Точно так же в нем «решительно не остается места
понятию греха»21.
3. Наконец, язычество постулирует «неразрывную связь между биоло¬
гическим и социальным порядком», а также между индивидуальным и
коллективным, в том смысле, что всякое событие, которое затрагивает
одно, «указывает» на другое.
Разумеется, здесь можно говорить о разных язычествах или разных по-
литеизмах и, соответственно этому, о разных монотеизмах — одновре¬
менно оставаясь внимательным к крайнему разнообразию религиозных
систем и в самом деле не отказываясь видеть то, что выходит за рамки
водораздела между политеизмом и монотеизмом. Как бы то ни было,
М. Оже выявляет основополагающие принципы «язычества» как откры¬
той системы, радушно принимающей чужих богов, глубоко толерантной,
монотеизм же, напротив — историк легко может это подтвердить — скло¬
нен проклинать и демонизировать чужих богов.
Итак, сравнительный анализ любой из религиозных систем не ограни¬
чивается конкретными божествами и подсчетом их количества, тем более,
что религия запросто может сформироваться вокруг идеи почитания пред¬
ков или более или менее внятно определяемых духов и обойтись без ин¬
дивидуализированных богов. Скорее нужно обратиться к структурам об¬
рядов и изображения богов — не столько к богам, сколько к «отношениям
человека с богом(ами)». В конечном счете именно здесь М. Оже видит глав¬
ную разницу между монотеизмом и политеизмом24. И в этом пункте аф¬
риканист легко сходится с историком античности. Жан-Пьер Вернан так¬
же считает, что, несмотря на относительную индивидуализацию греческих
богов, следует остерегаться рассматривать их как «личности». Это было бы
лишь приблизительным перенесением на них представления о Боге хрис¬
тиан. Боги язычников есть «силы, а не личности», и существуют они лишь
в комплексе связей, создающих систему божественного в ее цельности.
Этот комплекс связей и структурирует текучие формы, с раздвоением и ус¬
тановлением родства, характерные для мира богов в Греции, в Африке или
в современном индуизме. Таким образом, отмечает М. Оже, эти боги «ча¬
сто выступают парами (супруг—супруга; отец—мать; мать—сын; возлюб¬
ленный-возлюбленная) и тем самым прекрасно обеспечивают бинарное
упорядочение мира»2\ Изученной Ж.-П. Вернаном паре Гестия (владычи¬
ца очага) — Гермес («проводник» как товаров, так и душ) в современном
индийском храме соответствуют божественные пары Вишну и Лакшми,
Шива и Парвати, Кришна и Радха. Так за разрозненными элементами нуж¬
но видеть структуры, организующие представления о мире богов и их вза¬
имоотношения с миром людей.
Эти беглые размышления о сравнительном подходе к вопросу о реп¬
резентации божественного в разных политеистических системах, древних
348
или современных, заставляют задаться вопросом, могут ли историки хри¬
стианства в силу специфики их предмета избегать проблем такого рода?
Достаточно ли критично они подходят к тому клерикальному видению
божественного, которое выковано церковью и воспринято их дисципли¬
ной? Не могут ли они попробовать при помощи сравнительного подхода
мыслить христианское божественное иначе, нежели в терминах, унасле¬
дованных от самой христианской традиции? В частности, не отрицая
новизны обретшего индивидуальный облик еврейского Бога и еще в боль¬
шей степени Бога христианского, больше внимания уделить вопросу о
структурном взаимодействии ипостасей Троицы, взаимодействии их и
Девы Марии и других святых. Следовало бы понять, как эти взаимоот¬
ношения эволюционировали во времени, сообразно каким идеологичес¬
ким ставкам и социальным потребностям. Ибо в разные периоды исто¬
рии христианства по-разному акцентировалась роль Отца, Сына и Св.
Духа. Как понимать то обстоятельство, что на протяжении средних веков
все более настойчиво утверждалась идея человеческой сущности Сына
Божия? Каково было действительное отношение официальной церкви к
Духу Святому — имея в виду ее недоверие к харизматическим течениям
(с легкостью впадавшим в ересь), которые апеллировали к Св. Духу вне
церковного контроля, ставя под сомнение церковные учреждения?
К вопросу о сравнительной истории религиозных образов
Историк, использующий сравнительный подход, как видно, имеет дело
не только с проблемами структур, но и с историческими процессами,
которые воздействуют на структуры. Такое двойное видение особенно
оправданно в сравнительном исследовании осязаемых форм, в которые
облечены взаимоотношения людей и божественного.
Оттолкнемся еще раз от замечания М. Оже, который говорит, что
«языческий идол — это именно идол»; он сделан из какого-либо матери¬
ала (дерева или металла; несет на себе липкие следы щедрых и частых
жертвенных возлияний и умащений), он является предметом забот, рас¬
точаемых людьми («покинутый алтарь — погибший бог»), он одинаково
успешно может как насылать зло, так и избавлять от него. Понимание
«идола» опирается на идею присущности мира божественного миру че¬
ловеческому. «В любом случае, в языческой логике нет места делению на
зримое и незримое. Как раз напротив, здесь все зримо»26, доступно зре¬
нию, слуху, осязанию и обонянию. В самом деле, как отмечают Марсель
Детьен и Жильбер Амоник, вместе с другими специалистами изучавшие
«облики языка богов», «политеистические системы более других отмече¬
ны печатью слова и языка», включая «звуки всякого рода, шум, треск и
тишину». Авторы дружно противопоставляют присущие этим системам
«сияние чувственности, сексуальность» и «насыщенную чувственность
божьего слова» «слову монотеистическому». «В христианской традиции,
построенной на идее грансценлентного Бога, творец предстает единосущ¬
ным своему слову — тщательно очищенному от какого бы го ни было
349
следа чувственного, будь то голос, телесность или тем паче любой при¬
знак сексуальности. И это в то время, как в пространстве между Индией
и Кавказом множество провидцев и лингвистов отождествляют образы
обольщения и соития, предстающие в мире богов»27. В принципе такое
противопоставление политеизма монотеизму, сколь оно ни оправданно,
зиждется, как мне кажется, на абстрактном и довольно суровом, «проте¬
стантском» видении христианства. Историку же средневекового христи¬
анства или Контрреформации трудно совместить такое видение со свои¬
ми наблюдениями. Он, наоборот, обнаруживает самые что ни на есть
конкретные выражения воплощения в изучаемых им ритуалах, практике
благочестия и художественных формах. Не будем забывать, что и слово,
о котором говорят наши авторы, — воплощено. И в католической тради¬
ции некоторые изобразительные образы Христа, Девы Марии или святых,
чьи происхождение и власть слывут чудесными, стали восприниматься до
такой степени телесно, что им приписывается способность шевелиться,
говорить, стонать или истекать кровью.
Итак, критерием дифференциации культур, но также и средством пре¬
одоления классического противопоставления политеизма и монотеизма
и достижения более точного представления об историческом развитии
каждой религии должны стать те формы, в которых божественное пред¬
стает людям. Я хотел бы показать, как мои собственные размышления по
этому поводу, размышления медиевиста, долгое время питались иссле¬
дованиями Ж.-П. Вернана об эволюции статуса и практик изображения
в древней Греции28.
Изучая способы представления (presentification), божественного \
древних греков, Ж.-П. Вернан настаивает на разнообразии его форм —
просто камень, деревянный столб, изображение животного, антропомор¬
фное изображение. Он выявляет таким образом совершившийся в V в. до
н. э. фундаментальный переход от идола (хоапоп) к изображению
(eidolon). Идол времен архаической Греции — это своего рода явление
бога, в котором воплощаются сразу две иллюзии. Идол обеспечивает об¬
щение с богом и при этом все время остается во власти присваивающем
его группы людей. Он скрыт в своем жилище — храме —и «не предназ¬
начен для того, чтобы его видели». Вот почему идол появляется лишь в
исключительных случаях, в экзальтации праздника и ритуала, когда он
демонстрирует свою эффективность. Напротив, изображение, пришед¬
шее на смену идолу в V веке, относится к числу подражаний (mimesis). В
каком-то смысле оно обесценилось, поскольку «не несет в себе больше
присутствия сверхъестественной реальности здесь и теперь, а есть лишь
уловка, видимость в платоновском смысле»; изображение может, самое
большее, вызвать восхищение своей внешней красотой, которая есть
phantasia художника, коего философ подозревает в обмане. Это «фунда¬
ментальное изменение V в. до н. э. основательно повлияло на европейс¬
кие концепции изображения», — подчеркивает Ж.-П. Вернан. Отцы цер¬
кви дойдут до того, что будут видеть в phantasia скрытый эффект
дьявольского наваждения. Лишь в эпоху Возрождения phantasia художни¬
ка и его творческая способность будут реабилитированы, когда их стан\ i
связывать с melancolia24. Но эта история разворачивалась отнюдь не в рам
350
ках непрерывной, линейной, предначертанной заранее эволюции. Так, в
III в. н. э. Плотин знаменует собой «начало того поворота, в рамках ко¬
торого изображение, вместо идеи внешнего подражания, будет интерпре¬
тироваться философски и теологически — и одновременно трактоваться
пластически — как выражение сущности. Снова и надолго целью изоб¬
ражения станет воплощение невидимого». Уточним, впрочем, что такое,
неоплатоническое понимание образа долгое время будет оказывать боль¬
шее влияние на восточное христианство, — где послужит теологическому
оправданию византийского иконопочитания, — нежели на средневековый
Запад. Но как на Востоке, так и на Западе античные концепции сталкива¬
лись с более сдержанной ветхозаветной традицией понимания образа, что
порождало напряженность, снять которую помогла христианская пара¬
дигма воплощения. Именно она позволила христианской культуре дей¬
ствительно найти в священном изображении активное и почти телесное
присутствие Бога, другими словами — свою долю «идолопоклонства». И
Оже, со своей позиции африканиста и сторонника сравнительных мето¬
дов, справедливо отмечает: «Вероятно, наиболее уязвим в этом отношении
католицизм, быть может, самая человечная из всех ныне действующих мо¬
нотеистических конфессий, особенно по сравнению с протестантскими
версиями христианства. С его культом святых, пристрастием к статуям,
он словно бы не отказался от рукопашных схваток с собственным язы¬
ческим фоном либо не оставил мысль нисходить до человека из плоти и
крови в самых материальных и чувственных формах»30.
Эти размышления побуждают очертить спектр, в котором разные ре¬
лигиозные системы располагались бы в зависимости от того, насколько
взаимоотношения людей с божественным имеют в них зримые и осязае¬
мые формы. Не будем обольщаться насчет подобной конструкции. Это
всего лишь схема, однако она может раскрыть некоторые связи, пораз¬
мыслить о которых полезно. В таком спектре по краям оказались бы, с
одной стороны — ислам и религия Ветхого Завета — традиции, наибо¬
лее непримиримые к изображению божественного, с другой, скажем, —
современный индуизм, относящийся к традициям, которые больше все¬
го любят изображать богов. Католицизм, естественно, расположился бы
посередине, а рядом с ним с одной стороны — разные направления про¬
тестантизма, склоняющиеся к ветхозаветному запрету на изображение,
прежде всего, кальвинизм; с другой — православие с его иконопочитани-
ем, сложившимся после иконоборческого кризиса VIII—XI вв. Однако
было бы пустым занятием пытаться зафиксировать статическое положе¬
ние религиозных систем относительно друг друга — без того, чтобы при¬
нимать во внимание эволюцию каждой из них, влекущую за собой «пе¬
рестановки» в спектре. Именно это я хотел бы показать на примере более
ограниченного, но зато более предметного сопоставления двух обществ
— родственных, сосуществовавших во времени и контактировавших друг
с другом — средневекового христианства Запада и Востока.
Уточним сразу, что такое сравнение не может касаться лишь пласти¬
ческих форм, образов, их стилей и мотивов'1. Масштаб сравнения должен
быть более крупным, и оно неизбежно больше затронет общества и куль¬
туры в целом. На самом высоком уровне обобщения сходство между хри¬
351
стианством Востока и Запада одерживает верх над различиями межд\
ними. И там, и там разделяют общую веру; и там, и там существует про¬
тиворечие между греко-римским языческим и ветхозаветным монотеис¬
тическим наследием; действует одна и та же парадигма воплощения бо¬
жественного слова, которая вносит в религиозную мысль, религиозные
институты и практики одни и те же формы посредничества между людь¬
ми и божественным: церковь и духовенство, которые осуществляют пе¬
ред лицом мирской власти христианских императоров и королей (regnum).
власть духовную (sacerdotium); обладают монополией на совершение та¬
инств (ведущее место в их числе принадлежит евхаристии, позволяющей
людям периодически «присваивать» Христа); контролируют доступ к свя¬
тым заступникам и их мощам; наконец, в большей или меньшей мере,
принимают практику религиозных изображений.
Тем не менее ожесточенные споры в христианском мире, как до, так и
после «схизмы» 1054 г., со всей очевидностью демонстрируют глубину раз¬
личий в догматике (например, вопрос о том, проистекает ли Святой Дух
лишь от Отца или также и от Сына — Filioque), литургике (пресный хлеб)
или каноническом праве (безбрачие священников).
Не столько экклезиология, выработанная на протяжении IV в. в хри¬
стианской империи Константина и Феодосия и в своих основоположе¬
ниях остававшаяся во всем христианстве достаточно сходной, — сколько
контрастирующие условия ее конкретно-исторического претворения пре¬
допределили, начиная с V в., расхождение Константинополя и Рима, ко¬
торое окажется бесповоротным. Экспансия варваров, обогнувших pars
orientalis и обрушившихся на pars occidentalism способствовала разделению
двух центров христианской империи, сделав насущной перестройку
структурного дуализма власти, осуществленную на Востоке и на Западе
прямо противоположным образом. В Константинополе первый человек
— император, который, уступая соблазну «цезаропапизма» (имевшего,
однако, по Жильберу Дагрону, множество нюансов12), стремится подчи¬
нить себе духовенство. На Западе, наоборот, папа римский занимает пер
венствуюшее положение по отношению к новым местным королям и к
каролингскому, а затем германскому императору, оспаривавшему у ви¬
зантийского василевса титул наследника правителей Римской империи
На самом деле, в вопросе собственной коронации император полностью
зависел от папы римского — тем больший соблазн для последнего утвер¬
ждать свои теократические претензии.
Если согласиться с тем, что в христианском обществе изображения
божественного вместе с клиром (который этими изображениями мани¬
пулирует) и королями (которые являются главными заказчиками этих
изображений), есть одна из форм посредничества между людьми и Во
гом, то сразу становится понятно, что спор о них на Востоке и на Запа
де идет в разном направлении и в разном темпе. Василеве в тот момен i
когда решает утвердить свою власть над константинопольским патри
архом и верным иконопочитанию духовенством, стремится уничтожим,
религиозные изображения. Но проходит около столетия, и окончите и.
ное утверждение православия с его большим, чем где бы то ни было
иконопочитанием сопровождается бесповоротным ослаблением импе
352
раторской власти. На Западе папа Григорий Великий, короли, сам Карл
Великий в Libri Carolini заботятся о взвешенном определении изобра¬
жений и об осторожном их использовании. Они стремятся избежать од¬
новременно как чрезмерного поклонения изображениям, осуждая идо¬
лопоклонство греков, так и беспорядков, связанных с иконоборчеством.
Романо-германской или, говоря шире, латинской via media оказалось
достаточно, чтобы обезоружить редкие иконоборческие порывы, кото¬
рые знал средневековый Запад — эпизоды с епископом Сереном Мар¬
сельским (около 600 г.) и епископом Клавдием Туринским (в первой
половине IX в.), а также вспышки иконоборчества в более поздних сред¬
невековых ересях. Изображения отвергались еретиками как измышле¬
ние клира и средство эксплуатации верующих. Но они не делались став¬
кой в политических конфликтах. Более того, в противоположность
ситуации, сложившейся на Востоке, религиозные изображения не иг¬
рали никакой роли в важнейшем конфликте — между папством и свет¬
ской властью, — в том, что принято называть борьбой «священства и
империи».
Христианские системы различаются также концепциями изображе¬
ний и их формами. На Востоке теологи Иоанн Дамаскин, Феодор Сту-
дион, патриарх Никифор в ответ на конфликт между императором и цер¬
ковью разработали в ходе «иконоборческого кризиса», под влиянием
христианского неоплатонизма Псевдо-Дионисия, самую утонченную те¬
ологию иконы, какую можно себе представить”. Предполагаемая прича¬
стность изображения к эманации божественного побуждала в самой ма¬
териальной и видимой форме созерцать мистическое выражение
трансцендентного, так что в иконе переставали видеть произведение, «со¬
зданное руками человека»; роль и статус художника вообще обесценива¬
лись14. Парадокс изображения «неизобразимого» требовал незыблемой
канонической формы, исключал иллюзорные эффекты объемности и све¬
тотени. Православие так никогда и не отошло от традиции двухмерных
сакральных изображений, именно их считая единственно верным спосо¬
бом выражения божественной сущности.
Развитие религиозного изображения на Западе во всех отношениях
шло совершенно по-другому.
1. Конфликты здесь не были столь остры и никогда не ставили под
вопрос политическую организацию христианского общества. Они не по¬
рождали теологии сакрального изображения, сравнимой с восточной те¬
ологией иконы. Не случаен тот факт, что лишь Тридентский собор поза¬
ботился вписать изображения в корпус католической доктрины, для чего
потребовались протест лоллардов” и иконоборческие погромы сторонни¬
ков Реформации16.
2. Роль и талант художников, к которым Libri Carolini (конец VIII в.)
относились еще подозрительно, тем не менее, признавались уже и в эту
эпоху, задолго до того, как их восславила эпоха Возрождения. Благодаря
григорианской реформе (вторая половина XI в.), разделившей мирян и
служителей церкви в их функциях, образе жизни, отношении к противо¬
положному полу, автономный ciaryc живописцев и скульпторов, как и
представителей всех иных профессиональных корпораций!, только укреп¬
I 2 Зак. 3029
353
ляется. Это разделение сыграло существенную роль в формировании сво¬
еобразных очертаний западного общества, в развитии независимых и
оригинальных государственных структур, в расцвете городов, универси¬
тетов, буржуазии, форм «гражданской религии»17. Я думаю, что западная
цивилизация, с ее политическими структурами и благосклонным отно¬
шением к изображениям, и по сей день является наследницей фундамен¬
тального «григорианского поворота».
3. На Западе свобода изображений от рамок какого бы то ни было те¬
ологического канона и независимость художников от церкви открыли
дорогу исключительной изобретательности в том, что касается сакраль¬
ных образов; это контрастирует с относительной негибкостью православ¬
ного формализма и обесцененной ролью художника в Византии. Соци¬
альная, политическая и идеологическая мобильность Запада в IX—XI вв.
даже привела, как казалось сначала, к кощунственному отступничеству:
изготовлению и почитанию идолов. Simulacrum — одно из самых негатив¬
ных обозначений языческого идола. Монах Бернар Анжерский в начале
XI в. употребил именно это слово, когда впервые с ужасом увидел статую-
реликварий св. Фиды Конкской, покрытую золотом и драгоценными
камнями, с глазами, мерцающими отблеском свечей в полумраке хоров
монастырской церкви, а также увидел монахов и rustici, простирающих¬
ся перед статуей и засыпающих у ее ног в надежде получить видение.
Между тем данное изображение, хотя и трехмерное — что до тех пор было
почти немыслимо на Западе и навсегда осталось немыслимым в Визан¬
тии, — вполне христианское. До нас дошли и другие объекты, которые по¬
зволяют датировать появление на Западе подобных изображений концом
I тысячелетия. Святой Лик из Сансеполькро восходит даже к VIII —
IX вв.38, Крест св. Геро из Кёльнского собора относится к концу X в., так
же как изображения Девы Марии с младенцем — из Клермона и св.
Фиды — из Конка. Клирики могут сколько угодно напоминать, что изоб¬
ражение есть всего лишь monumentum человеческой сущности Христа и
святых, а поклонение относится к одному только Богу. Все равно для хри¬
стианских изображений в высшей степени характерно, если воспользо¬
ваться античной терминологией, неустранимое противоречие между
хоапоп и eidolon.
Появление и развитие на Западе новых форм сакральных изображе¬
ний имело, конечно, — как и борьба между иконоборчеством и иконо-
почитанием в Византии — «политическую» подоплеку, правда несколь¬
ко другого свойства. В глазах историка, оно неотделимо от эволюции
социальных и политических институтов той эпохи. Конкская majestas, о
которой нас очень хорошо информируют средневековые тексты, может
быть понята только в контексте бурного подъема «первого феодального
периода», сопротивления монастырей локальной власти военного клас¬
са, грабителям и святотатцам. Церковь использовала в это время все фор¬
мы символического могущества, которыми могла располагать лишь она
Одной из наиболее эффективных форм — наряду с «Божьими переми¬
риями» и отлучением от церкви свернувших с истинного пути — являлись
трехмерные статуи-реликварии. Их чудесная сила, страх перед боже
ственным наказанием, инструментом которого эти статуи призваны были
354
стать, внушали уважение к духовному сословию. Здесь можно, следова¬
тельно, говорить о «политическом» конфликте между местными светски¬
ми и духовными феодалами, не преминув отметить, до какой степени по
своим масштабам и характеру он не похож на конфликт по поводу ико-
нопочитания, сотрясавший верхи Византийской империи в VIII в.
Тем временем Запад, жадный до обновления и новых сакральных об¬
разов, в XI в. не упустил случая «присвоить» и византийские иконы. Он
стал им подражать, привыкая молиться перед картинами или перед ста¬
туями, по выбору39. Эта эволюция также требует объяснения. Развитие
обменов разного рода, создание систем власти и солидарности не только
на местном уровне, но и в масштабах всего христианского мира — в пер¬
вую очередь системы папства и церкви — сделали возможным появление
религиозных образов нового поколения, со свойственным им почитани¬
ем, например, культом св. Вероники, прямо выражающим претензии
папства на управление из Рима всем христианским миром.
Предложенная мною интерпретация, весьма синтетическая и беглая,
требует дальнейшего обоснования и развития. Я хотел только высказать
мысль, что сравнительная история, в особенности сравнительная исто¬
рия религиозных феноменов, а еще точнее — материальных форм взаи¬
моотношений с Богом, должна сочетать анализ структур с анализом ис¬
торической динамики этих структур. Лишь отвечая этому требованию,
сравнительная история религий окажется наиболее плодотворной.
Примечания
1 Что верно для истории, так же верно и для этнографии, понимаемой как эмпи¬
рическое описание, в противоположность этнологии, которая по необходимос¬
ти прибегает к синтезу; сравнение используют обе; но лишь вторая применяет
компаративную методику. См.: Heritier-Auge Fr Du comparatisme et de la
generalisation en antropologic. La comparaison 11 Gradhiva. 11. 1992. P. 4.
1 Berthoud G La comparaison: line idee ambigue // Revue europeenne des sciences
sociales. XXIV (1986). 72. P. 5-15. (P. 6).
’ Bodin J. Colloque entre sept scavans qui sont de differens sentimens des secrets
cachez des choses relevees. Traduction anonyme du «Colloquium heptaplomeres de
Jean Bodin. Texte presente ct etabli par Fr. Berriot ct alii // Travaux d’humanisme et
de renaissance». № CCIV. 1984. Geneve. Современный публикатор вспоминает
и средневековых предшественников Бодена: «Новеллино», при сицилийском
дворе Фридриха И, «Книгу о трех мудрецах» и «Наставник колеблющихся» Май-
монида, где в споре о Боге, о мире, об истинности чудес на сцену выводятся
иудеи, христиане и мусульмане. Но все это — как по форме, так и по целям дис¬
куссии — еще очень далеко от сравнительной истории религии в современном
научном смысле.
4 См., например: Corblet J Parallele des traditions mythologiques avec les recits
bibliques. P., 1845.
' В англо-саксонских странах, например, на рубеже XIX и XX вв. вышло очень
много работ по этой проблематике. Некоторые авторы не скрывали своей кон¬
фессиональной заинтересованности или своих предрассудков в отношении
превосходства западной цивилизации над анпмистскими «примитивными ре¬
лигиями» См . например- Carpenter J. Е. Comparative Religion. L.. s.d.; Jevons
i.B. Compaianve Religions. Cambridge. 19 П Напротив, научный п рационали¬
355
стический взгляд ясно выражен в справочнике: Jordan L.H. Comparative
Religion, its Genesis and Growth. Edinburgh, 1905.
(* Dumoulm O. Comparcc (Histoirc) // Buiguiere A. (ed.). Dictionnairc dcs sciences
histonqucs. P., 1986. P. 151-152; Ayinard M. Histoire ct comparaison // Atsma /7 el
Burguiere A. (cds.), Marc Bloch aujourd’hui. Histoirc comparec ct sciences sociales. P,
1990. P. 271-278; Ilartog F Entrc les ancicns ct modemes, les sauvages, ou Dc Claude
Levi-Strauss a Claude Levi-Strauss // Gradhiva. 11 (1992). P. 23-30.
7 Dumoulin О Op. cit.
s Bloch M «Pour une histoire comparee des societes europeennes» (1928). Работа вос¬
произведена в книге: Bloch М. Histoire et historiens. P., 1995. P. 94-123. О сравни¬
тельном подходе у М. Блока, кроме вышеуказанного сочинения М. Эмара, см..
Raulff VI. Ein Historiker im 20 Jahrhundert: Marc Bloch. Frankfurt. a.M., 1995. S. 246 -
249.
4 Hariog Fr. Op. cit. См. также: Certeau M. de. Histoire et anthropologie chez Lafitau /
/ Blankaert Cl. (cd.). Naissance de l’ethnologie? P., 1985. P. 63-89; Vidal-Naquet P. Lc
cru, 1’enfant grec et le cuit // Le Goff J., Nora P. (ed.). Faire l’histoire. III. P., 1974. P
137-168. (воспроизведено в книге: Vidal-Naquet P Le Chasseur noir. Formes dc
pensee et formes de societe dans le monde grec. P., 1981. P. 177-207.
10 Эта основанная на сравнении гипотеза была позже углублена Р. Бутрюшем. См..
Boutruche R. Seigneurie et feodalite. P., 1970. I. P. 408-415, 447-448.
11 Bloch M. La vie d’outre-tombe du roi Salomon // Revue beige de philologie et
d’histoire. T. IV, № 2-3 (avril-septembre 1925); работа воспроизведена: Melanges
historiques. T. II. P., 1963. P. 920-938; а также: Histoire et historiens. P. 167-190. Зас¬
луга обнаружения и датировки «рождения» чистилища принадлежит Жаку Ле
Гоффу. Странно, что Ле Гофф в своей книге позабыл упомянуть статью М.Бло¬
ка, которая прекрасно подтверждает его гипотезу.
12 Ginzburg С Lc Sabbat dcs sorcieres. P, 1992 (ит. изд. — 1989 г.).
13 Veyne Р L’lnventaire des differences. P., 1976.
M Ibidem, p. 45.
15 Levi-Strauss Cl. Histoire et ethnologie (1949). Цит no: Heritier-Auge Fr. Op. cit. P
4-5.
16 Eliade M. Traitc d’histoirc dcs religions. Preface de Georges Dumczil. P., 1949:
Durand G. Les Structures anthropologiqucs dc 1'imaginaire. P., I960.
17 Ginzburg C Op. cit., p. 284.
18 Levi-Strauss Cl. Anthropologie structuralc. P., 1958. P. 19.
w Borgeaud Ph. Lc problcmc du comparatisme cn histoirc des religions // Revue
europeenne des sciences sociales. XXIV (1986). № 72. P. 59-76. Обращаясь к воп¬
росу о развитии сравнительной истории религии, от Лафито до Ж. Дюмезиля.
Борго различает в ней три типа сравнительного подхода: «эвристический» ком¬
паративизм, когда сопоставление с чем-то внешним позволяет решить локальную
проблему; компаративизм как «инструмент отдаления» и средство от соблазна
эгоцентризма, «изощряющее взгляд»; «герменевтический» компаративизм, «на
уровне глобальной интерпретации» (с. 68-69).
20 Schmidt Fr. (ed.). L’lmpensablc polytheisme. Etudes d’historiographie religieuse
P„ 1988.
21 Detienne M Les Grccs nc sont pas commc les autres // Critique XXXI (1975). 332
P. 3-24; Schmitt J -Cl. Une histoire religieuse du Moyen Age, est-elle possible? (Jalons
pour une anthropologie historique du chnstianismc medieval) // Lepori F, Santi Fr
Mesticre di storico del medioevo. Spoleto, Centro ltaliano di Studi sull’Alto Mcdiocvo
P. 74-83.
22 Auge M Genie du pagamsme. P.. 1982. P. 14.
23 Ibid P. 74.
2J Ibid. P. 139.
356
Ibid. P. III.
2,1 Ibid. P. 76.
21 Deticnne M, Hamomc G. (cds.). La Dccssc parole. Quatrc figures de la langue dcs
dieux. P., 1995. P. 114.
2K Среди многих его работ упомянем следующие: Vernant J.-P. Figuration dc
1’invisible ct categoric psychologiquc du double: le colossos // Mythc ct pcnscc chcz
les Grecs. Etudes de psychologie historique. P., 1971. 11. P. 65-78; idem. Naissancc
d’images // Religions, histoires, raisons. P., 1979. P. 105-137; idem. De la
presentification de 1’invisible a 1’imitation des apparences // Image et signification.
Rencontres de I’Ecolc du Louvre. P., 1983. P. 25-37. Кроме того, автор вновь опуб¬
ликовал свой курс, прочитанный в Коллеж де Франс, в книге: Figures, idoles,
masques. Р., 1990.
24 Klibansky R., Panofsk\> E.. Sa.xl F Saturnc et melancolic. Etudes historiques et
philosophiques: nature, religion, medecinc ct art. P., 1989. Первое, английское, из¬
дание вышло в 1979 г.
MAuge М. Op. cit. Р. 67.
11 По поводу данного подхода, в строгом смысле слова, искусствоведческого, со
всем его богатством, но также — риском рядоположения явлений без общего ис¬
торического объяснения сходств и различий, см.: Heck Chr. Moyen Age. Chrctientc
et islam. P., 1996.
12 Dagron G. Empereur et pretre. Etude sur le «cesaropapisme» byzantin. P., 1996.
33 Превосходное представление об этом дает книга: Schonborn СИ. L’leone du
Christ. Fondements thcologiques. P., 1976.
14 Об этом в плане сравнительного подхода см.: Barbu D. L'image byzantine:
production et usages // Annales. Histoire, sciences sociales. 51,1 (1996). P. 71-92.
15 Aston M. Lollards and Reformers. Images and Literacy in Late Medieval Religion. L.,
1984; особенно p. 47.
36 Beespflug Fr. Dieu dans I’art. «Sollicitudini Nostrae» de Benoit XIV (1745) et 1’affaire
Crescence de Kaufbeuren. Preface d’Andrc Chastel, Postface de Leonid Ouspensky.
P„ 1984.
17 Например, в итальянских городах «гражданская религия» имеет собственную
иконографию. См.: Vauchez A. (ed.). La Religion civiquc a 1’cpoquc medievale ct
modernc (chreticntc ct islam). Roma, 1995. P. 403 .
3K Schmitt J.-CI. La culture de fimago // Annales. Histoire, sciences sociales. 51 (1996). P.
3-36. Недавнее исследование изменило датировку трехмерного деревянного распя¬
тия из Сансеполькро (близ Ареццо), что позволяет отнести появление на Западе
изображений этого типа уже к V! 11 —IX вв. См.: Maetzke А.-М. II Volto Santo di
Sansepolcro. Un grande capolavoro medievale rivelato dal restauro. Arezzo, 1994. P. 27.
w Belting //. Das Bild und sein Publicum. Form und Funktion fruher Bildtafeln der
Passion. B., 1981. S. 199 f.; Bild und Kult. Eine Geschichtc des Bildcs vor dem Zeitalter
der Kunst. Munchen, 1990. P. 369 f.
Перевод с французского E. И. Лебедевой
Отто Герхард Эксле (Геттинген)
Проблема возникновения монашества
В самой формулировке темы моей статьи заявлена действи¬
тельная проблема. Речь идет об обстоятельствах возникнове¬
ния одной из форм общежития людей в группах, той формы
общественной жизни, которая, без сомнения, относится к
числу наиболее влиятельных в истории.
Этот предмет я рассматриваю в контексте основополагающей для
Арона Гуревича проблематики истории человека как «некой историчес¬
ки конкретной и исторически изменчивой общественной сущности»,
индивида, который одновременно представляет собой «атом всякой со¬
циальной структуры». По мысли А. Гуревича, данная проблематика зас¬
луживает особенно пристального внимания при взгляде на становление
Европы, ибо своим значением в истории и в нынешнем мире Европа
обязана «в конечном итоге специфической структуре личности, имен¬
но здесь сформировавшейся»1.
За отправную точку анализа я избрал вопрос о том, в каком соотно¬
шении находятся монашеская форма жизни и разнообразие ее влияний.
I
Влияние монашества в истории очевидно даже современному человеку.
Оно весьма отчетливо заявляет о себе в нашем мире: многообразные впе¬
чатления оставляют у посетителя Райхенау и Санкт-Галлен, Клюни и
Фонтене, Сант-Антимо в Тоскане и Фоссанова в Лацио, ризницы фло¬
рентийских церквей Санта-Мария Новелла и Санта-Кроче и монастыр¬
ские ансамбли эпохи барокко. Имя каждой из этих обителей навевает
воспоминания о выдающихся исторических успехах монашества, дости¬
жениях человеческой культуры в освоении окружающей среды, в эконо¬
мике, искусстве письма и книжном деле, в хранении и передаче культур¬
ного наследия античности, в архитектуре и живописи, наконец, в музыке,
звучавшей под сводами монастырских церквей. Но впечатление произ¬
водят не только достижения западного монашества в культуре. В не мень¬
шей степени завораживают собственно формы организации жизни, ле¬
жавшие в их основании, а именно модели общежития людей в группах
О них узнаешь или догадываешься на монашеском богослужении либо ы
чтением устава Бенедикта Нурсийского. или находясь в Сан-Дамьяно в
358
Ассизи или Ла Верне, где еще улавливаешь нечто от духа св. Франциска
и его сподвижников. Ведь выдающиеся представители западного мона¬
шества, и прежде всех прочих Августин, Бенедикт и Франциск Ассизс¬
кий, размышляли об общежитии людей, о наилучшем жизненном укла¬
де, optima forma vivendi, как выражались в средние века2.
Если рассматривать данные модели общежития, одновременно учиты¬
вая, какие разнообразные плоды культуры были взлелеяны монашеством,
то перед нами встают весьма любопытные вопросы. Можно, например,
поинтересоваться, как соотносятся эти достижения монашества в сфере
культуры с особой формой жизни монахов в группах? Или же, как вообще
была найдена та форма организации жизни, которая обусловила успехи
монашества, оставляющие столь сильное впечатление и у современного
человека? Как в принципе могло появиться нечто подобное монашеству?
И как именно монашество возникло?
В современной историографии вопрос о возникновении монашества
давно является предметом интенсивных исследований. С начала Нового
времени и особенно со второй половины XIX в. на него пытались отве¬
тить поначалу средствами сравнительной истории религий. Соответ¬
ственно монашество представлялось результатом нехристианских вли¬
яний, пришедших из иудаизма, буддизма или храмовых культов Древнего
Египта. В противоположность этой точке зрения, в первой половине
XX в. постепенно утвердилось мнение, согласно которому христианское
монашество являлось специфически христианским феноменом, кореня¬
щимся в христианской аскезе. При этом под аскезой подразумевалось и
подразумевается «всякое религиозно мотивированное воздержание или
ограничение в еде и питье, жилье и сне, одежде и владении какой-либо
собственностью, [но] прежде всего воздержание в узком смысле этого
слова, [т.е.] временный или полный отказ от сексуальных отношений»1.
Как теоретически, так и в исторической ретроспективе эта точка зрения
была обоснована протестантским историком церкви Карлом Хойсси в
его книге 1936 г. «Происхождение монашества». С тех пор среди анти-
коведов, медиевистов и историков церкви обеих конфессий концепция
К. Хойсси рассматривалась едва ли не как единственно верное учение.
«Истоки христианского монашества уходят корнями в христианскую ас¬
кезу», — этими словами начинается широко известная «История хрис¬
тианского монашества», переизданная в 1996 г.4 Как же, по мнению уче¬
ных, выглядел этот путь от аскезы к киновийному монашеству?
Обычно его представляют в виде некоей «эволюции», совершавшей¬
ся во второй половине III — первой половине IV в., первоначально в
Египте, причем, в три этапа5. К первому этапу относятся собственно ере-
митизм или анахоретство (от греч. anachoresis — уход, обособление). Этот
шаг предпринял, в частности, анахорет Антоний, родившийся около
250 г. в Среднем Египте. В качестве второго этапа на пути от христианс¬
кой аскезы к киновии рассматривается возникновение колоний ереми-
тов, когда их все еще обособленные кельи начинают тесниться вблизи
кельи духовного отца, от которого ожидают получить наставление и пе¬
ренять более глубокое понимание анахоретства. Третьей фазой в разви¬
тии монашества представляется «преобразование свободной общины.
359
каковой являлась колония еремитов, в монастырь», подчиненный уставу
и аббату. Творцом этого киновийного уклада жизни (от греч. koinos bios
— общая жизнь) считается египтянин Пахомий, основавший около 320 г.
в Табеннизи на Ниле первый монастырь. «Через колонии еремитов в
Египте первой половины IV в. пролегал путь к киновии, т. е. к устойчи¬
вой монастырской общине, живущей по уставу», — так господствующая
точка зрения на происхождение монашества была недавно резюмирова¬
на одним антиковедом6. Подобные высказывания можно в изобилии об¬
наружить и в новейших исследованиях, включая работы по церковной
истории7. Показательно, что известный антиковед Питер Браун в своей
обширной книге «Становление христианской Европы (200-1000 гг.)»,
увидевшей свет в 1996 г., вспомнив Антония, тем не менее, не счел имя
Пахомия заслуживающим упоминания. За пределами своего рассмотре¬
ния он оставил и саму проблему возникновения киновийного монаше¬
ства8.
Итак, по устоявшемуся в историографии мнению, решающим момен¬
том в становлении киновийного, т.е. организованного монашества являл¬
ся переход от свободной группы или колонии еремитов без устава и аб¬
бата к монастырю. В свое время Карл Хойсси попытался объяснить это
«прогрессирующее движение от колонии анахоретов к монастырю, исхо¬
дящее из потребностей самой аскетической жизни», как в некотором роде
целенаправленное, рациональное мероприятие по улучшению уклада
жизни в колонии еремитов4. По мысли Хойсси, идея самого Пахомия зак¬
лючалась в том, чтобы избавить «своих монахов от хозяйственных забот,
в частности, по заготовке сырья для трудовой деятельности и продаже ее
результатов, дабы они смогли сосредоточиться почти исключительно на
созерцании божественных предметов»10. Возникшая при этом «организа¬
ция труда» (или, правильнее сказать, «привнесение таковой организации
в монашеские группы») будто бы и явилась подлинно новаторским, эпо¬
хальным начинанием в деятельности Пахомия. На подобную оценку Па¬
хомия как одаренного организатора ссылаются и социологи, когда рас¬
сматривают монашество как достижение на пути «консолидации» и
«институционализации» и тем самым как переход от «харизмы» к «закон¬
ности»11 — точка зрения, недавно вновь представленная Питером Брауном
уже с позиций антиковедения12. Сходной является и социологическая ин¬
терпретация данного процесса как «прорыва в области рационализации»1'
Пользуясь термином Макса Вебера, можно сказать, что происходило «ра¬
створение харизматического в повседневности» (Veralltdglichung), его
овеществление и институционализация. Соответственно в монастыре ха¬
ризматическое начало обретало пространственные границы, концентри¬
ровалось в жестко институционализированной «особой зоне», где оно
могло существовать «беспрепятственно, не представляя в то же время уг¬
розы для окружающего социального порядка»14.
II
Без сомнения, представление о возникновении монашества в три эта¬
па в ходе целенаправленного, рационального развития, «растворения
360
харизматического в повседневности», по-своему вполне убедительно.
Тем не менее эта точка зрения пока не нашла опоры в источниках. Да и
вообще, при ближайшем рассмотрении она вызывает весьма серьезные
вопросы. На одном из них я и хотел бы остановиться прежде всего.
Вопрос этот непосредственно затрагивает проблему взаимосвязи вли¬
яния монашества в истории с его предполагаемым развитием из христи¬
анской аскезы. Как объяснить глубокое влияние монашества на этот мир,
а именно на все сферы культуры, если предполагать, что это влияние рож¬
дается из аскезы, иными словами, из стремления к преодолению этого
мира, к бегству от него?
Более ста лет назад, в 1882 г., крупный протестантский теолог, исто¬
рик церкви и догматики, Адольф фон Гарнак впервые весьма остро по¬
ставил этот вопрос в своем труде «Монашество, его идеалы и его исто¬
рия»15. Гарнак, как и современные историки, усматривал сущность
монашества в аскезе. Однако если основой монашества была аскеза, что
сделало возможным его историческое влияние? — таков вопрос, задан¬
ный Гарнаком. Могло ли монашество, выросшее из аскезы, оказывать
какое-либо влияние в истории и вообще иметь историю? «Не является ли
бегство от мира одновременно и отказом от всякого развития, всякой
истории?» Более того, не противоречит ли сам факт истории монашества
его идеалам, не является ли история монашества «протестом против идей
монашества как таковых»? Соответственно уже для Гарнака данная про¬
блема свелась к вопросу о том, допускали ли идеалы монашества подоб¬
ную мирскую роль, или же монашество сумело «достичь этого», «поскольку
рассталось со своими идеалами». Гарнак выбрал второе: монашество в
ходе своей истории и посредством своей истории отказалось от собствен¬
ных идеалов. «Его первоначальные цели, — продолжает он, — обратились
в свою противоположность». Тем самым монашество, по мысли Гарна¬
ка, действительно смогло добиться влияния в этом мире, но лишь ценой
полного «перерождения».
Чем же можно объяснить это «перерождение», спрашивал Гарнак далее.
Он усматривал его причины в том, что монашество Запада поступило на
службу папской церкви и тем самым, подобно самой церкви, «оказалось
втянутым в мирскую, государственную и культурную жизнь»16. Все то же
папство сделало из монашества помощника в собственных начинаниях.
«Основание бенедиктинского ордена в VI в., клюнийская реформа в XI в.,
появление нищенствующих орденов в XIII в., создание Общества Иисуса в
XVI столетии — таковы четыре великих вехи в истории западноевропейского
католицизма». В центре внимания Гарнака находился прежде всего орден
иезуитов. По Гарнаку, он «явился последним новым словом западноевро¬
пейского монашества в его романской форме, и, как представляется, сказан¬
ным по существу»17.
III
Вопрос, сформулированный Гарнаком, все еще сохраняет свою актуаль¬
ность. Ответ же, данный им самим, не может нас более удовлетворить.
Представляется, во-первых, проблематичным, чтобы ра знообразные до¬
361
стижения монашества в культуре, дававшие о себе знать на протяжении
столетий, были следствием недоразумения, результатом отчуждения и
беспамятства, итогом предательства собственных идеалов. Не слишком
помогает18 здесь и предположение о «гетерономии целей» в духе Виль¬
гельма Вундта — непреднамеренном мирском влиянии монашества в ре¬
зультате косвенных последствий его деятельности19. Во-вторых, мы уже
не можем считать корректными детали той картины истории западноев¬
ропейского монашества, которую нарисовал Гарнак. Бенедикт Нурсий-
ский не основывал ордена. Никто ныне не интерпретирует клюнийское
движение как попытку папства поставить монашество себе на службу.
Таким образом, мы не можем согласиться с ответом Гарнака на по¬
ставленный им вопрос о соотношении происхождения монашества и его
влияния, его идеалов и его истории. Но означает ли это, что и вопрос,
заданный Гарнаком, устарел? Полагаю, что нет. В историографии по сей
день придерживаются тезиса о происхождении монашества из аскезы,
и до тех пор, пока исследователи будут разделять эту точку зрения, нам
придется задаваться вопросом, сформулированным Гарнаком.
Однако — таков наш новый вопрос — верен ли вообще главный тезис
Гарнака — об истоках монашества, восходящих к идеалу аскезы, идеалу
преодоления этого мира, бегства от него? Действительно ли истоки мо¬
нашества — в аскезе?
IV
Вскоре после своего выхода в свет труд Гарнака обрел в лице Макса Ве¬
бера внимательного и одновременно авторитетного читателя. Интерес
Вебера к книге Гарнака о монашестве был обусловлен тем обстоятель¬
ством, что в своих работах по социологии религий Вебер неизбежно дол¬
жен был коснуться темы аскезы, а с нею и темы монашества. Так, в его
рассуждениях о средневековом монашестве мы встречаем отдельные по¬
ложения Гарнака, в частности, мысль о постоянном преобразовании мо¬
нашества папством.
Если бы сказанное Вебером о средневековом монашестве этим исчер¬
пывалось, то вряд ли стоило бы вообще вспоминать здесь о его работах.
Однако в рамках своей социологии религий Вебер обнаружил совершен¬
но новые аспекты средневекового монашества, которые как раз и позво¬
ляют преодолеть дилемму, вытекающую из увязывания монашества с ас¬
кезой. Ведь тема аскезы принадлежит к числу центральных в социологии
религий Вебера.
Для нас существенно проведенное им различие между аскезой, отри¬
цающей мир, побуждающей к бегству из него, с одной стороны, и «внут-
римирской аскезой», с другой. Это связано у Вебера с основным вопро¬
сом его социологии религий, а именно о тех религиозно мотивированных
формах жизни, которые содействовали возникновению экономического
рационализма Нового времени. «Аскеза двулика», — писал Вебер20. Как
бегство от мира она служит «индивидуальному спасению собственной
души через обретение личного, непосредственного пути к Богу», и затем
предполагает отказ от брака, профессии, должности, имущества и в прин¬
362
ципе от всякой общности с людьми. «Внутримирская аскеза», напротив,
есть «средство», предназначенное «не столько для достижения собствен¬
ного спасения на собственном пути», сколько для деятельности в миру,
рационального обустройства мира на основе религиозно понятого при¬
звания. Поэтому внутримирская аскеза, по мысли Вебера, связана с ра¬
циональным методическим образом жизни21.
Для иллюстрации этой «внутримирской аскезы», свойственной раци¬
ональному образу жизни, Вебер приводит два примера: один средневе¬
ковый, другой относится к Новому времени.
Известно, что воплощением «внутримирской аскезы» в раннее Но¬
вое время для Вебера был «аскетический протестантизм», в том виде, как
он нашел выражение не только в кальвинизме, но и в пиетизме, мето¬
дизме, а также в религиозных течениях, вышедших из движения анабап¬
тистов: у баптистов, меннонитов и квакеров. Средневековой же парал¬
лелью аскетическому протестантизму раннего Нового времени является
монашество. В средневековом монашестве «внутримирская аскеза» об¬
рела свое первое обоснование22. Ведь средневековый монах представлял
собой, «в религиозном плане, методически живущего человека par
excellence». Таким образом, «монашеская этика» являлась «предшественни¬
цей внутримирских аскетических деноминаций протестантизма»23, или
иначе: конститутивный элемент монашества надлежит видеть как раз во
«внутримирской аскезе» монашеских общин или монастырей, отличав¬
шихся рациональным, методическим, построенным на дисциплине об¬
разом жизни на религиозной основе и с религиозными целями. При
этом для Вебера существенно, что речь идет здесь не об образе жизни
отдельно взятого человека, но о группах: «внутримирская аскеза» есть,
по словам Вебера, предмет «устремлений многих»24. Как раз в этом и
коренятся «рациональные достижения» монашества, иными словами,
его достижения в культуре.
V
Какое значение для поставленного нами вопроса имеют размышления
Вебера о «внутримирской аскезе» средневекового монашества?
Вебер в известной мере подхватывает вопрос Гарнака о соотношении
идеалов монашества и его истории, исходных принципов и последующих
влияний, давая на него свой собственный ответ. Следует признать, что
ответ Вебера — а именно различие, которое он проводит между «аскезой,
стимулирующей бегство от мира», действием отдельных лиц ради «обре¬
тения личного, непосредственного пути к Богу», с одной стороны, и
«внутримирской аскезой» как формой общежития людей в группах, с
другой, — этот ответ выглядит гораздо более убедительным, нежели тот,
который дал сам Гарнак. Оставим при этом в стороне весьма спорную
историческую теорию Вебера о возникновении «внутримирской аскезы»
в монашестве из «стремления к преодолению мира»25. Именно монашес¬
кие общности с присущим им рациональным, методическим, основанным
на дисциплине образом жизни обеспечили разнообразные достижения мо¬
нашества и его влияние в истории.
363
Итак, отталкиваясь от концепции Вебера, мы не должны более рас¬
ценивать эти достижения монашества как следствие некоего отклоне¬
ния, отпадения от первоначальных идеалов, но можем признать в них
подлинное выражение жизненных ценностей самого монашества. Ведь
его достижения в культуре основываются на религиозно мотивирован¬
ном образе жизни, который сам по себе есть некий идеал, на форме
общежития, отчетливо отличающейся от жизненного уклада аскета-
одиночки, бегущего от мира, отрицающего мир ради «обретения лич¬
ного, непосредственного пути к Богу». Так, вопрос о «внутримирской
аскезе» монашества прямо подводит читателя к центральной для Макса
Вебера теме типологии «образа жизни личности и тех способов орга¬
низации жизни», которые личность себе избирает26.
Естественно, что при этом перед историком встает немало вопросов.
Полагаю, что для нас существенны прежде всего два из них, на которых
я и хочу здесь остановиться.
Во-первых, как в историческом ракурсе выглядят содержание и цели
монашеского служения, а также их воплощение в форме некоего правиль¬
ного образа жизни? Становились ли эти предметы объектом рефлексии
самого древнего монашества? Во-вторых, является ли различие, прово¬
димое между аскезой, устремленной от мира, и внутримирской аскезой,
всего лишь более или менее привлекательной интерпретацией современ¬
ного историка культуры, или же нечто подобное было известно и осоз¬
навалось в древнем монашестве — пусть не на понятийном уровне, но
хотя бы по существу? Задумывались ли непосредственно в древнем мо¬
нашестве о различии между аскезой в смысле бегства от мира, с одной
стороны, и идеалом монашеского общежития, — с другой?
Полагаю, что так и было, и попытаюсь это продемонстрировать, хотя
бы кратко и пунктирно, обратившись прежде всего к двум авторам, сто¬
явшим у истоков монашества, и рассматривавшим около 400 г. вопрос о
сущности монашества как раз через противопоставление аскезы и обще¬
жития — как в общетеоретическом плане, так и в исторической ретрос¬
пективе. Речь идет об Августине и Иоанне Кассиане. После чего я постав¬
лю тот же вопрос, обратившись к источникам, относящимся к эпохе
самого зарождения монашества, а именно к традиции монашества IV в.
и сочинениям Пахомия.
VI
Итак, прежде всего Августин. Как аскеза, так и монашеская общинная
жизнь сыграли в судьбе Августина существенную роль, правда, очень по-
разному.
Значение аскезы и отшельничества для Августина проистекает из
основных вопросов его жизни и его творчества — его убежденности в
необходимости божественного спасения мира и человека, мучительной
для него проблемы зла и прежде всего вопроса о том, почему мы посту¬
паем дурно, о страданиях, являющихся следствием страстей, парализу¬
ющих волю, наконец, об осознании собственной порочности27. Как и з-
вестно, первоначально ответы на эти вопросы Августин искал в
364
манихействе с его радикально-дуалистическим видением мира; затем —
в неоплатонизме со свойственным тому требованием радикального пе¬
реворота в мыслях и образе жизни посредством революции в сознании
и аскетических упражнений. В аскезе виделся способ преодоления при¬
верженности видимому, внешнему миру, условие постижения чистой
истины потустороннего мира, открытого только духу. Таким образом,
аскеза доставляла путь к блаженству и подлинному счастью.
В конце концов, длительные поиски привели Августина к христианству,
к его обращению и крещению, состоявшемуся в Милане в 386 г. В знаме¬
нитом рассказе о тех событиях, содержащемся в восьмой книге «Испове¬
ди», Августин признавался в том, какую роль в его обращении сыграл идеал
аскетического отшельничества, идеал свободы от стяжательства, от «пора-
бощенности мирскими делами», но прежде всего от «оков похоти». Этот
идеал открылся ему благодаря знакомству с житием Антония, написанным
епископом Афанасием Александрийским.
Нам известно, что после своего обращения в христианство и возвраще¬
ния в Африку Августин основал несколько монашеских общин, дав им
уставы: сначала — общину в Тагасте, на своей родине, затем, после того,
как он в 391 г. стал священником, — монастырь в Гиппоне Регии, и, на¬
конец, уже в качестве епископа этого города (с 395/396 г.), — так называ¬
емый монастырь клириков (monasterium clericorum), в котором жил сам вме¬
сте с городским клиром. В контексте истории его обращения нам следовало
бы предположить, что Августин организовал уклад основанных и возглав¬
ляемых им обителей в духе строгой аскезы. Однако это было не так.
Не образ жизни Антония или какого-либо другого анахорета лег в ос¬
нову уклада этих монастырей. Августин избрал иные принципы, объеди¬
нив их понятием vita communis1*. Под ним он подразумевал форму жиз¬
ни, ориентированную на пример древнейшей христианской общины в
Иерусалиме, как она была описана в новозаветных «Деяниях апостолов»:
«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ни¬
чего из имения своего не называл своим, но все у них было общее... Не
было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели зем¬
лями или домами, продавая их, приносили цены проданного. И полага¬
ли к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деян.
4: 32-34)24.
Нет нужды останавливаться здесь на часто обсуждавшемся вопросе о
том, была ли жизнь древнейшей христианской общины в Иерусалиме
устроена в действительности так, как сказано в «Деяниях апостолов», или
же их автор, апеллировавший к неиудейскому, эллинистическому чита¬
телю и слушателю, лишь подхватил известный уже в античности обще¬
житийный идеал30, приписав его ранним христианам31. Нас в данном слу¬
чае интересует лишь показательный факт рецепции этого текста в более
позднее время.
Особенность уклада древнейшей христианской общины в Иерусали¬
ме, согласно «Деяниям апостолов», состояла в духовном братстве, кото¬
рое было построено на общности имущества — совместном владении и
распределении благ, не по заслугам или положению отдельных членов, а
в соответствии с их потребностями, — и одновременно именно в этом
365
находило свое выражение. Во многих своих сочинениях (которые я не
имею возможности разобрать в отдельности), отталкиваясь от этого тек¬
ста «Деяний апостолов» и руководствуясь понятием vita communis, Авгу¬
стин дал систематическое и теологическое обоснование монашеству как
форме общежития людей, объединенных в группы. При этом аскетичес¬
кие элементы в рамках такого образа жизни не рассматривались. Ведь по
Августину, важнейшей целью (primum propter quod) монастырского укла¬
да являлось единодушное общежитие и общность «в Боге» (primum, propter
quod in unum estis congregati, ut unani-mes habitatis in domo et sit vobis anima
una et cor unum in Deum), как гласит первая фраза его монашеского устава
(Praeceptum)12.
VII
В то самое время, когда Августин в Тагасте и Гиппоне Регии разраба¬
тывал свою теологию vita communis и знакомил с этой формой общежи¬
тия создаваемые им монашеские общины, монах Иоанн Кассиан осва¬
ивал аскезу и монашеский образ жизни в Палестине и прежде всего в
Египте. После своего окончательного возвращения на Запад около 410 г.
он основал в Марселе мужской и женский монастыри и изложил свои
впечатления и опыт, накопленные за годы пребывания на Востоке, в не¬
скольких книгах, где, в частности, впервые рассматривал вопрос о воз¬
никновении монашества и его исторических корнях (De institute
coenobiorum и Collationespatrum). При этом особый интерес представля¬
ет то обстоятельство, что Иоанн Кассиан приводит две различные «ис¬
тории» происхождения монашества, в основе которых лежат весьма раз¬
личные интерпретации его сущности, а именно разные трактовки
соотношения аскезы и киновии.
По одной из приведенных Иоанном Кассианом версий, в ранне¬
христианском Египте лишь немногие, но лучшие (pauci quidem sed
probatissimi) именовались «монахами» (Inst. II, 3, 5). Формы и нормы сво¬
ей жизни (norma vivendi) они будто бы приняли от святого Марка, пер¬
вого епископа Александрии. Их не удовлетворял тот жизненный уклад
(ilia magnijica norma), который, согласно «Деяниям апостолов», был в
обычае у большинства верующих ранней церкви. Монахи желали доба¬
вить к нему нечто более возвышенное (multo sublimiora), а именно аске¬
зу, и, дескать, потому они и удалились в пустынные местности (in
secretiora suburbiorum loca), дабы вести там жизнь в такой аскетической
строгости и воздержании, что сделались в итоге предметом изумления
даже для нехристиан.
Так, согласно этой версии, монашество возникло из отрицания обра¬
за жизни праобщины и стремления превзойти его посредством аскети¬
ческих подвигов. Соответственно в превосходстве над общинной жизнью,
достигнутом аскетическими упражнениями, и состоит оправдание мона¬
шества.
Совершенно иначе выглядит происхождение монашества по другой
версии, изложенной тем же Иоанном Кассианом (Coll. XVIII, 4-6). Ос¬
нования существования монашества, согласно этой истории, видятся как
366
раз в том, что монашеский уклад идентичен форме жизни ранне¬
христианской общины. Первый (primum) и одновременно древнейший
(antiquissimum) род монашества — утверждает теперь Кассиан — состав¬
ляли киновиты (coenobitae), т.е. монахи, ведущие под руководством аббата
общинный образ жизни. Этот последний определяется как жизнь в груп¬
пе на основе равенства и под началом старшего (qui scilicet in congregatione
pariter consistentes unius senioris iudicio gubernantur). Киновийный образ
жизни (coenobiotarum disciplina) возник еще во времена апостолов. Его
придерживались тогда все христиане Иерусалима: «у множества же уве¬
ровавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения сво¬
его не называл своим, но все у них было общее» и т. д. Ныне, однако, по¬
добный образ жизни можно обнаружить лишь с трудом и только у
немногих, а именно в монастырях. Как же это произошло? После смер¬
ти апостолов — рассуждает Кассиан — численность верующих стала бы¬
стро увеличиваться, прежде всего за счет перешедших в христианство из
язычества. Этим бывшим язычникам (,gentiles) с готовностью шли навстре¬
чу, а потому требовали от них немногого, одновременно предоставляя им
большую свободу. Вследствие этого совершенство Иерусалимской церк¬
ви мало-помалу убывало, и первоначальный пламень веры в конце кон¬
цов погас даже в самих предстоятелях церкви (ecclesiae principes). Ибо
иные из них стали позволять себе даже то, что поначалу разрешали дру¬
гим, лишь снисходя до их слабостей, а именно владение личным имуще¬
ством. И так дошло до того, что те, в ком еще жили пламень апостольс¬
кий (fervor apostolicus) и воспоминание о первоначальном совершенстве
церкви (memores pristinae perfectionis), оставили города, отказались от об¬
щества других людей, дабы удалиться в пустыню (in locis suburbanis ас
secretion bus). Там, дескать, частным образом и отдельно от всех, они и
принялись исполнять завещанное апостолами для всей церкви (еа quae
ab apostolis per universum corpus ecclesiae generaliter meminerant instituta,
privatim ac peculiariter exercere coeperunt).
В историографии Нового и Новейшего времени эти рассуждения
Иоанна Кассиана были поняты отчасти превратно33. На фоне считавшей¬
ся доказанной концепции «реального исторического» развития монаше¬
ства «от отшельничества к киновии» оба сообщения Иоанна Кассиана
были слиты воедино, а затем аутентичным свидетельством о «подлинных
истоках» монашества была объявлена первая из версий, содержащая так
называемую «александрийскую традицию», согласно которой возникно¬
вение монашества мотивировано аскезой. При этом утверждалось, что,
дескать, в своем втором сообщении Кассиан поставил «историческое раз¬
витие» монашества с ног на голову. В этом втором рассказе неверно было
истолковано главное — будто бы у Иоанна Кассиана речь шла о том, что
начала Иерусалимской церкви одновременно являлись истоками мона¬
шества, а первые христиане в Иерусалиме жили точно так же, как мона¬
хи начала V в. в своих монастырях. В самом деле, подобное утверждение
было бы явно ложным. Но как раз его Кассиан и не отстаивал.
Итак, можно отбросить предъявлявшийся Кассиану упрек в том, что
он якобы «бездумно» спроецировал реалии, оценки и представления сво¬
его времени на эпоху раннего христианства. Ведь он размышляет здесь
367
как раз об исторических различиях и временной дистанции, разделявших
праобщину и монашество.
Между обеими версиями Кассиана есть нечто общее: он толкует мо¬
нашество как уход из общества, отделение от него. Мотивы же этого бег¬
ства из мира существенно разнятся. И в том, и в другом случае, как впос¬
ледствии у Гарнака и Макса Вебера, речь также идет о соотношении
идеалов монашества и его истории, о соотношении аскезы и общинной
жизни, об их несходстве и даже противоречиях между ними.
Таким образом, уже в эпоху раннего существования монашества, око¬
ло 400 г., имелись две весьма различные точки зрения на его содержание.
Согласно первой, сущность монашества составляла аскеза, и, следова¬
тельно, мотивом ухода из мира являлось стремление посредством аске¬
тических подвигов превзойти казавшийся несовершенным образ жизни
христианской общины. В соответствии с другой точкой зрения, монашес¬
кий уклад, напротив, идентичен самой общинной жизни, какой она опи¬
сана в «Деяниях апостолов», и отделение монахов от общины происхо¬
дит лишь в тот момент, когда первоначальное духовное единство и
общность имущества оказались нарушенными вследствие снисходитель¬
ности церковного начальства в отношении новообращенных.
Если говорить о монашестве как форме общежития, то какие моменты
изначально являлись для него определяющими — аскеза или общинный
уклад по образцу Иерусалимской церкви? Каковы были его собственные
идеалы? Теперь мы, наконец, адресуем этот вопрос древнейшим источни¬
кам, а именно пахомианской традиции.
VIII
Лишь сравнительно недавно, а именно в нашем столетии, ученым уда¬
лось собрать все свидетельства о жизни Пахомия, а также сочинения па-
хомиан, сделав их, благодаря критическим изданиям и переводам, дос¬
тупными для исследователей. Это относится прежде всего к житию
Пахомия. которое, помимо прочего, существует в нескольких коптских
версиях, а также в арабских и греческих редакциях, весьма отличных
друг от друга. Однако лишь в последнее время, примерно четверть века
назад, эти издательские усилия принесли свои плоды14, и монашество
Пахомия предстало перед нашим взором гораздо отчетливее, хотя мно¬
гие источниковедческие проблемы вплоть до настоящего времени окон¬
чательно не разрешены. Когда в 1936 г. Карл Хойсси в своей книге «Воз¬
никновение монашества» обосновывал до сих пор имеющую хождение
концепцию развития монашества из аскезы, ограничив вклад Пахомия
в этот процесс лишь внесенными им улучшениями организационного
свойства, эти источники о Пахомии не были еще известны в полной
мере — во всяком случае, самому Карлу Хойсси.
Уклад общинной жизни пахомианского монастыря со всей отчетли¬
востью предстает перед нами в положениях устава, регулирующих мно
гие сферы монашеского быта. Этот устав, приписываемый Пахомию, был
переведен на латинский язык Иеронимом уже около 400 г.15 Он предус¬
матривал общность жизненного пространства монахов, которое включл
368
ло кельи, мастерские, трапезную, молельню, кухню, богадельню, дом для
гостей и дом привратника. Обнесенное стеной, это пространство было
тем самым отделено от остального мира. Внутри протекала жизнь общи¬
ны, основу которой составляли физический труд, общая трапеза, молит¬
ва и богослужение. Общинный быт требовал послушания правилу и аб¬
бату, предполагавшего дисциплину и «унифицированность»'6, что
находило зримое выражение в единообразии одежды и распорядка дня.
Порядок, в латинском переводе ordo или ordo disciplinaris77, каким его ри¬
сует устав — регулирующий и дисциплинирующий образ жизни в мона¬
стыре, — это «обычная жизнь»18, без крайностей, преувеличенных постов,
бдений и молитв, с ежедневным двухразовым питанием и достаточным
временем для сна. Уклад жизни в монастыре Пахомия соответствовал, та¬
ким образом, возможностям среднего человека той эпохи-’9. Существен¬
ны отношение пахомианского монашества к вопросу о собственности и
понимание им бедности40. Центральным остается сопряженное с идеалом
vita communis понятие общности имущества, предусматривающее удовлет¬
ворение основных потребностей — в крыше над головой, одежде, пропи¬
тании — за счет общих, принадлежащих всем средств. Каждый получает
то, в чем он нуждается. Уровень жизни монахов Пахомия, следователь¬
но, был «неизмеримо выше того, что могли себе позволить бедные селя¬
не той поры»41. «В сравнении с аскетическими представлениями анахо¬
ретов или же с тем, как жили простые люди, из числа которых монахи по
большей части и рекрутировались», жизненный уровень пахомиан может
быть сочтен «весьма приличным»42. Характерно, что и трактовка физичес¬
кого труда отнюдь не сводилась к представлению о нем как инструменте
аскезы или средстве жизнеобеспечения, но была «настоящей трудовой
этикой, вытекающей из ответственности христианина»41. Таким образом,
в понимании бедности и труда у пахомиан появляется нечто новое.
Уже на примере монастырского устава Пахомия нетрудно убедиться,
что ключевым понятием для пахомиан являлась не аскеза, а «община»,
по-гречески koinonia, по-латински communio. Употреблялся также термин
«общинная жизнь», koinos bios. Заслуживает внимания и то обстоятель¬
ство, что понятие «община» значительно чаще, чем в отношении таин¬
ства евхаристии, встречается применительно к общности имущества44. В
этом нам явственно видится перекличка с новозаветными «Деяниями
апостолов».
Монашество Пахомия зарождалось отнюдь не в пустыне, и это лишний
раз удостоверяет тот факт, что приоритет в нем отдавался не аскезе, а ки-
новии. Ведь сама Фиваида, где располагались монастыри Пахомия, явля¬
лась «средоточием динамичной городской культуры, тон в которой по пре¬
имуществу задавала торговля». Пахомиане «сознательно вступили во
взаимодействие с миром», его проявлениями, с еще «языческой» городс¬
кой цивилизацией, «а вовсе не стремились к бегству в пустыню»4'. Итак,
vita communis никогда не была формой жизни аскетов, удалившихся в пус¬
тыню. Самим своим происхождением она связана с городом, чему соот¬
ветствует та основательность, с которой была продумана эта «городская»
форма общежития. Vita communis соединена с урбанизмом и рефлексией по
поводу optima forma vivendi. что справедливо не только для IV в.16
369
Таким образом, киновийное монашество Пахомия и пахомиан, столь
влиятельное в истории, возникло не из аскезы, и дело не в том, что аске¬
зу якобы легче организовать в общине. Скорее этот уклад жизни — vita
communis или koinos bios — представлял собой нечто совершенно самосто¬
ятельное, отличное от аскезы, и в то же время нечто абсолютно новое. С
одной стороны, новизна киновии заключалась в ordo disciplinaris, который,
накладывая на отдельного человека ограничения в быту, тем самым под¬
чинял его «методическому укладу жизни» всей общины. Одновременно
эта vita communis (названная так лишь впоследствии) явилась попыткой
воссоздания раннехристианской общины в новых условиях.
Разумеется, определенное место в рамках этой vita communis всегда
занимала аскеза. В то же время киновийный уклад устанавливал ее преде¬
лы47. Так, послушание аббату представляло собой не только аскетический
подвиг преодоления собственной воли — оно имело непосредственное
значение и для функционирования общины. В любом случае — и это
немаловажно — готовность отдельных монахов к послушанию была
институционально защищена от чрезмерных требований48.
Следует также констатировать, что пахомиане IV в. весьма ясно осоз¬
навали разницу между их собственной общинной жизнью и аскезой ана¬
хоретов. Они вполне отдавали себе отчет в том, что их образ жизни яв¬
лял собой нечто новое, чему имеется немало убедительных свидетельств49.
Новое представление о позднеантичной «аскезе», сформировавшееся
в историографии за последние полтора десятка лет, дополняет наши на¬
блюдения о новизне и инаковости vita communis. Уход от мира, убежден¬
ность в гибельности сексуальных отношений, стремление к ограничению
и контролю сексуальной жизни принадлежали к числу универсальных
ценностных предпочтений поздней античности, начиная даже с I в. н.
э.50 «Оставить этот мир было лозунгом античного мира»51. Аскеза, а в
особенности сексуальная аскеза, не являлась, следовательно, чем-то
специфически христианским, не была она и изобретением христианс¬
ких анахоретов; скорее, они по-своему воплощали общий идеал поздне¬
античной культуры.
Не удивительно, что аскеза, прежде всего как сексуальное воздержа¬
ние, присутствует и в vita communis, которая, однако, ею не исчерпывает¬
ся и не определяется. Аскеза играет здесь иную и весьма скромную роль.
Пахомий, основатель и аббат первого монастыря, не был аскетом: всякое
стремление к личным подвигам встречало его «отчетливое неприятие»,
«радикализм», столь характерный для аскезы, «абсолютно ему чужд»; «по¬
нятие “аскеза” не применимо к тому, чего он добивался»52.
Итак, обозначим те принципиальные различия, которые существо¬
вали между отшельничеством и vita communis53. Отшельничество пред¬
полагает полное пространственное отделение от мира, пребывание и
строжайшем одиночестве; полный отказ от владения имуществом и пре¬
небрежение физическим трудом; систематическое презрение к повсед
невным потребностям; сокращение питания и сна; пренебрежение одеж
дой и личной гигиеной, а также общую «враждебность к культуре»4. Vita
communis. напротив, возникла не в пустыне, но в орбите позднеантичнои
городской культуры; ее отличают уважение к физическому труду; господ
370
ство экономической модели общинного владения; одновременно с при¬
знанием естественных потребностей — сокращение питания и сна до
пределов, достаточных для среднего человека; созидательная деятель¬
ность в культуре. Само «открытие» vita communis относится к ее достиже¬
ниям.
IX
Новизну монастырской жизни в духе koinonia, ее инаковость по сравне¬
нию с отшельничеством отчетливо демонстрирует житие самого Пахомия.
В дальнейшем я основываюсь на его древнейших текстах55.
Пахомий родился в Фиваиде и происходил из крестьянской семьи.
Его родители были еще язычниками56. Во время войны Лициния и Мак-
симина (312—313 гг.) он был взят в плен и вместе с другими молодыми
людьми из его деревни доставлен в низовья Нила. В Фивах, столице,
сочувствующие горожане снабжали пленников едой и питьем. Они были
христианами. На Пахомия это произвело столь сильное впечатление,
что он пообещал Богу в случае своего освобождения на все времена сде¬
латься «рабом его воли и служить людям». Пахомий был отпущен, но не
вернулся к своим родителям, а поселился в Шенесете (Chenoboskeion) в
одном небольшом святилище, где жил собственным трудом, и, следуя
обету любви к ближнему, помогал путникам, нищим и больным. В эти
годы он и принял крещение. Вскоре после того Пахомий, подобно мно¬
гим другим своим современникам, решил сделаться анахоретом. Он
познакомился с одним почитавшимся в тех краях отшельником по име¬
ни Паламон и избрал его своим духовным наставником. Многие годы
Пахомий жил при нем. Однако жизнь анахорета, как следует из текстов
жития, не отвечала тому, что было уготовано Пахомию Богом, и он знал
об этом. Однажды он удалился в заброшенное селение на берегу Нила,
Табеннизи, и в тяжелый для себя час обратился к Богу, моля открыть
ему, наконец, свою волю. В ответ он услышал: «Оставайся здесь и по¬
строй хижину, ибо многие придут к тебе»57. Вместе с Паломоном Пахо¬
мий выстроил хижину, продолжая жизнь анахорета. После смерти на¬
ставника к Пахомию присоединился его брат, Иоанн, тоже анахорет58.
Когда Пахомий, следуя божественному внушению, захотел расширить
их жилище, между братьями возникла ссора. Иоанн разрушил воздвиг¬
нутые Пахомием строения, и тому пришлось остаться анахоретом. Подоб¬
но другим аскетам и анахоретам, Пахомий творит чудеса и противосто¬
ит козням демонов. Понадобилось новое вмешательство Бога, дабы
напомнить ему, в новом видении, что Господь, собственно, ожидает от
него «служения людям»59.
Лишь после смерти своего брата, как сообщает фрагмент относящего¬
ся к VI в. древнейшего жития, записанного на коптском языке, Пахомий
смог последовать божественному внушению и начал служить людям. И
вновь его ждала неудача. Вокруг него собрались люди из соседних селений,
чтобы жить рядом с ним наподобие колонии анахоретов. Пахомий же по¬
пробовал предложить им уклад общинной жизни. При этом, как сказано
в житии, он хотел «стать их слугой в соответствии с соглашением, которое
371
он заключил с Богом»60. Каждый должен был сам заботиться о споем про¬
питании, но часть заработанного отдавать на нужды общины. Правда, Па-
хомий, как сообщает житие далее, заметил, что они еще не были готовы
объединиться в подобном совершенном общежитии на манер описанного
в «Деяниях апостолов». Пахомию не только не удалось достигнуть уровня
принятой им за образец иерусалимской общины; в конце концов его на¬
чинание вообще потерпело полную неудачу. Служение Пахомия людям,
жившим в его общине, оставалось им непонятным: «Когда они увидели его
смирение и предупредительность ..., то стали разговаривать с ним без по¬
чтения, даже с пренебрежением»61. Они перечили ему в лицо, оскорбляли
его, отказывали в послушании и наделе относились к нему действительно
как к своему «слуге», потешались и издевались над ним. Община распалась
Здесь я заканчиваю изложение жития Пахомия, поскольку то, что
было существенно для нас, уже вполне прояснилось. Речь шла не об ин¬
дивидуальном самосовершенствовании некого лица, избравшего аскезу
в поисках «личного, непосредственного пути к Богу», но, говоря слова¬
ми жития, о служении людям, о служении многим. Таков главный рели¬
гиозный мотив, предопределивший в конечном итоге развитие новой
формы общежития людей в группах, koinonia, vita communis.
Все это было совершенно ново. Такой жизненный уклад был столь нео¬
бычен, что становление его происходило лишь постепенно, а поначалу
вообще наталкивалось на непонимание и сопротивление. Так, во всяком
случае, с предельной ясностью говорится в житиях Пахомия, причем в
древнейших из них. Пахомию пришлось столкнуться с сопротивлением
разного рода. С одной стороны, оно исходило от тех, кто связывал с Пахо-
мием совершенно иные ожидания, а именно надежды на что-то хорошо им
известное — аскетическую жизнь в колонии анахоретов. Удивительно, но
Пахомию пришлось изведать непонимание и неприятие также со сторо¬
ны людей, ему близких, например, со стороны собственного брата или
Паламона, своего наставника в отшельничестве. Самое удивительное и
интересное состоит, однако, в том, что противоречия жили в душе самого
Пахомия. Сначала ему пришлось самому осознать свое призвание к созда¬
нию чего-то нового, недостижимого на путях аскезы. Потребовались годы
поисков и колебаний, крушения всех начинаний, прежде чем он сумел по¬
стигнуть смысл возложенной на него задачи и тем самым, наверное, смысл
собственной жизни.
X
С одной стороны — образ жизни пребывающего в одиночестве анахо¬
рета, закаленного аскетическими подвигами и борьбой с кознями демо¬
нов, «святого мужа», приближенного к Богу, человека, который, буду¬
чи фигурой харизматической и духовной, способен помочь своему
ближнему советом и наставлением. А с другой — киновийный уклад.
koinos bios, vita communis, образ жизни религиозной общины — духовном
общности, покоящейся на общности имущества, выражающей себя в
ней и соответственно основанной на равенстве и братстве. Обе формы
жизни ярко индивидуальны и различны. Не следует выводить одну \\\
372
другой, теоретически или и исторической ретроспектив. И индивиду¬
ально-аскетическая, и общинная формы возникли в эпоху, которую
принято называть закатом античности, хотя правильнее было бы, вслед
за Питером Брауном, говорить о ней как об эпохе мощных культурных
трансформаций, в ходе которых возникали новые духовные, религиоз¬
ные и социальные структуры, новые формы жизни, новые типы людей.
Среди них — аскет и живущий в общине монах.
Трудно переоценить значение основанной Пахомием koinobia в пер¬
спективе истории монашества. В то же время, если бы мы захотели из¬
мерить масштаб этого события во всех его возможных аспектах, то сле¬
довало бы учесть, что воздействие киновийной формы жизни не
ограничивалось поздней античностью, средневековьем или рамками од¬
ного христианского монашества. Но это была бы уже совсем другая ис¬
тория, разговор о которой здесь вряд ли возможен.
Осмысление истоков монашества позволяет увидеть людей в их инди¬
видуальности, в разнообразии моделей их мышления, мировосприятия и
ценностной ориентации — словом, всего того, что определяет поведение
людей и является основой создаваемых их деятельностью институций,
формирующих как отдельных индивидов, так и их группы. В исследова¬
нии подобных процессов и состоит задача культурологического направ¬
ления исторического знания. Не случайно в настоящее время базовым
требованием к истории как к исторической культурологии является «воз¬
вращение субъекта» в историю62. В этом смысле и Арон Гуревич призы¬
вает к синтезу социальных и культурных аспектов человеческой жизни,
усматривая в этом актуальную задачу исторической науки и в то же вре¬
мя задачу ее будущего. Только так истории действительно удастся стать
наукой о человеке63. Его предвидение путей исторического познания с
благодарностью воспринято многими.
Примечания
1 Gurjewitsch A.J. Das Individuum im europaischen Mittelalter. Munchen, 1994. S. 10-
11.
2 Oexle О G. Individuen und Gruppen in der lothringischen Gesellschaft des 10. Jh. /
/ L’abbaye de Gorze au Xe siecle / Ed. M. Parisse. O.G. Oexle. Nancy, 1993. P. 1 OS-
139.
3 Heussi K. Der Ursprung des Monchtums. Tubingen, 1936. S. 13. По поводу понятия
«аскеза» см. статью в Historisches Wortcrbuch der Philosophie. Darmstadt, 1971. Bd 1.
Sp. 538-548; а также: Lexikon des Mittelalters. 1980. Bd 1. Sp. 1112-1116.
4 Frank K.S. Gcschichte des christlichcn Monchtums. 5. Aufl. Darmstadt, 1996. S. 1.
5 Meinhold P. Das Christentum bis zur karolingischcn Rcichsgrundung // Saeculum
Weltgeschichte. Freiburg; Basel; Wien, 1967. Bd 3. S. 69-261. Cm.: S. 192-193.
6 Martin J. Spatantike und Volkerwanderung. Munchen, 1987. S. 118. См. также:
Rousseau P. Pachomius. The Making of a Community in Fourth-Century Egypt. Berklev;
Los Angeles; L„ 1985. P 64-65.
7 См. статьи «Klostcr», «Komobitcn», «Monch», «Monchtum» // Lexikon des
Mittelalters. 1991. Bd 5. Sp. 1218-1220, 1250: Bd 6 (1992). Sp. 733-735.
s Brown P Die Entstchung des christlichcn Europa. Miinchcn, 1996. П. Браун n сво¬
ей статье (Brown P Von den Himmeln m die Wiistc: Antonins und Pachomius (cm.:
373
idem Die lctzten Heiden. Erne kleme Geschichte der Spatantike. B.. 1986. S. 115-138)
затушевывает разницу между еремитами и киновитами («Монах являлся “одино¬
ким человеком” par excellence». S. 120) по причине обшей для них «социальном
смерти» посредством аскезы (S. 122) и видит в монастырском начинании Пахо-
мия не более, чем род простой институционализации идеала, сглаживающей ин¬
дивидуальное начало (S. 131).
4 Hettssi К. Op. cit. S. 129.
10 Ibid., S. 123.
11 Bergmann W Das frtihe Monchtum als soziale Bewegung // Kolner Zeitschrift fin
Soziologie und Sozialpsychologie. 39. 1985. S. 30-59.
12 Brown P. Die letzten Heiden. S. 131.
n Treiber H., Steiner/ H. Die Fabrikation des zuverlassigen Menschen. Ober die
«Wahlverwandschaft» von Kloster- und Fabrikdisziplin. Munchen, 1980. S. 131-132.
14 Gebhardt W. Charisma als Lebensform. Zur Soziologie des alternativen Lebens. B..
1994. S. 49-51, 172-173.
15 HarnackA. von. Das Monchtum — seine Ideale und seine Geschichte. Giessen, 1921
Цитаты ниже см.: S. 6-7, 63-64.
16 Ibid. S. 25.
17 Ibid. S. 36, 60.
18 Nurnberg R. Askese als soziale Impuls. Monastisch-asketische Spiritualitat als Wurzel
und Triebfeder sozialer Ideen und Aktivitaten der Kirche in Sudgallien im 5. Jh. Bonn.
1988. S. 306-308.
14 Этой интерпретации придерживается Фридрих Принц. См.: Prinz F. Askese und
Kultur. Vor- und fruhbenediktinisches Monchtum an der Wiege Europas. Munchen,
1980. S. 10-11.
20 Weber M Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie. Bd 1. Tubingen, 1978. S
538-540.
21 Idem. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen, 1972. S. 694-696.
22 Idem. Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie. S. 202-204.
2i Ibid. S. 119, а также S. 58, примечание.
24 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 696.
25 Вебер объясняет возникновение «внутримирской аскезы» из «антимирской ас¬
кезы» как следствие «растворения харизматического в повседневной жизни» (см
примеч. 14) и, вслед за Гарнаком (см. примеч. 16-17), как результат мероприятий
папства по привлечению монашества на службу церковной иерархии.
26 Об этом см.: Hennis W. Max Webers Fragestellung. Studien zur Biographie des
Werks. Tubingen, 1987; idem. Max Webers Wissenschaft vom Menschen. Neue Studien
zur Biographie des Werks. Tubingen, 1996.
37 Cm.: Flasch K. Augustin. Einfuhrung in sein Denken. Stuttgart, 1994.
28 Об этом см.: Zumkeller A. Das Monchtum des heiligen Augustinus. Wurzburg, 1968.
Derda H.-J. Vita Communis. Studien zur Geschichte einer Lebensform in Mittelaltei
und Neuzeit. Koln; Weimar; Wien, 1992. S. 13-15, 105-107.
24 Derda H.-J. Vita Communis. S. 6-8.
30 Ibid. S. 21-23.
31 Ibid. S. 37-39.
32 Zumkeller A. Das Monchtum des heiligen Augustinus. S. 165-167.
33 См. прежде всего: Frank K.S. Einfuhrung // Askese und Monchtum in der Alten
Kirche. Darmstadt, 1975. S. 1-33. См. особенно S. 13-15.
34 Об этом см.: Bach/ H. Pachomius — Der Mann und sein Werk // Bach/ H. Das
Vermachtnis des Ursprungs. Studien zum fruhen Monchtum. Wurzburg, 1983. Bd 2. S
9-63. См. особенно S. 33-35.
Idem Das Vermachtnis des Ursprungs. S. 65-67: idem. Pachomius. S. 33-35.
'6 Ibid. S. 36.
Ibid. S. 37.
374
ж Ibid. S. 41.
39 Ibid. S. 42.
40 Bacht H Das Armutsverstandnis des Pachomius und seiner Junger // Bacht H. Das
Verrnachtnis des Ursprungs. Bd 1. S. 225-243; Biichler B. Die Amiut der Armen. Ubcr
den ursprunglichen Sinn der monchischen Arinut. Munchen, 1980.
41 Bacht 11 Das Verrnachtnis des Ursprungs. Bd I. S. 113. Прим. 97.
42 Biichler В S Op.cit. 83.
43 Bacht H Das Armutsverstandnis. S. 230.
44 Idem. Das Verrnachtnis des Ursprungs. Bd 2. S. 218. Anm. 593.
43 Таково мнение Э. Браммерца. Цит. по: Bacht Н. Das Verrnachtnis des Ursprungs...
Bd 2. S. 14-15.
* См. о монашестве и урбанизме в X в.: Оех/е O.G. Op. cit.
47 Bacht Н. Pachomius. S. 41.
4Х Ibid. S. 38-40.
49 Подборку текстов и пояснения см.: Bacht Н. Antonius und Pachomius. Von der
Anachorese zum Zonobitentum // Askese und Monchtum. S. 183-229, S. 225-227.
40 Rousselle A. Der Ursprung der Keuschheit. Stuttgart, 1989. (Оригинальное издание
по-французски: 1983 г.); Foucault М. Sexualitat und Wahrheit. Frankfurt a. M., 1989.
Bd 2: Der Gebrauch der Liiste (французское издание: P., 1984); Brown P. Die
Keuschheit der Engel. Sexuelle Entsagung, Askese und Korperlichkeit am Anfang des
Christentums. Munchen; Wien, 1991 (английское издание: N .Y., 1988).
31 Quignard P. Le sexe et I’effroi. P., 1994. P. 167.
32 Biichler B. Op. cit. S. 95-97.
33 Cm.: Gebhardt W. Charisma als Lebensform. S. 114-115.
34 Bergmann W. Das fruhe Monchtum als soziale Bewegung. S. 42.
33 По поводу состояния источников см.: Bacht Н. Pachomius. S. 10-12; Biichler В.
Op. cit. S. 115-117; Rousseau P Op. cit. P. 37-39.
36 О биографии Пахомия см.: Bacht Н. Pachomius. S. 18-20; Rousseau P. Op. cit. P. 57-
59.
37 Lefort L. Th. Les vies coptes de Saint Pachome et de ses premiers successeurs. Louvain,
1943. P. 91 (По Vita Bo).
3,( Ibid. P. 1 (По SI).
39 Ibid. P. 60-61, 94 (По S3 и Во).
60 Ibid. P. 3-4. (По SI).
61 Ibid. P. 4.
62 Oexle O.G. Geschichte als Historische Kulturwissenschaft 11 Kulturgeschichte Heute.
(Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift fur Historische Sozialwissenschaft; Sonderheft
16). Gottingen, 1996. S. 14-40.
63 Gurjewitsch A J. Stimmen des Mittelalters — Fragen von heute. Mentalitaten im
Dialog. Frankfurt, a. M.; N.Y.; P., 1993. См. особенно: P. 40.
Перевод с немецкого H. Ф. Ускова
Фредерик Эмори (Сан Франциско)
U
Иоун Хельгасон - поэт*
Специалисты по древнеисландской литературе в Исландии и
за ее пределами всегда восхищались несравненной уче¬
ностью Йоуна Хельгасона1; что же касается его поэтическо¬
го творчества, то оно менее известно. Высоко ставятся два
самых знаменитых его стихотворения, «В Арнамагнеанском со¬
брании» и «Остановки», остальные остаются пока без должного внима¬
ния. Возникает целый ряд вопросов: был ли Йоун Хельгасон поэтом в
собственном смысле слова (забудем на время о том, что сам автор в эпи¬
логе к первому изданию своих стихов, вышедшему в 1939 г., ответил на
этот вопрос отрицательно)? Какие темы занимали его в первую очередь,
каковы были его источники? Как влияли его научные изыскания на
композицию стихов, особенно на его стихи, продолжающие древнюю
традицию? Исландские литературные критики если и поднимали эти
вопросы, то до сей поры не дали на них полного ответа. Вероятно, они
полагали, что обсуждать поэзию Йоуна — дело скандинавистов с кон¬
тинента, а их освобождает от этого то обстоятельство, что они знают ее,
как никто в мире2. Общее мнение исландцев сводится к тому, что Йоуп
Хельгасон — не более, чем неплохой поэт-пейзажист; так называемые
gamankvcedi Йоуна Хельгасона, его «несерьезные» стихи, оцениваются
негативно, и это мнение — не просто предрассудок. Поэтика этих «не¬
серьезных стихов» — поэтика нида, песни-поношения.
В самом деле, свои первые шаги Йоун Хельгасон-поэт делал как
школьный карикатурист и памфлетист3. Кое-какие из его школьных
карикатур в грубоватом стиле Гудмунда Торстейнссона опубликованы
в статье Свейна Хёскульдссона, на них изображены бесчинства «шести¬
футового человека»; карикатуры не вызывают ничего, кроме отвраще¬
ния. Большинство его памфлетов, написанных в бытность сначала док¬
торантом, а затем и профессором в Копенгагене и принесших ему
* Мои исландские и американские друзья помогали мне библиографическими
данными, исправлениями и замечаниями к моим переводам стихов Йоуна Хель¬
гасона. Выражаю свою глубочайшую признательность Инге Блэк, покойномх
Аскелю Леве, Роберту Куку, Торлепву Хаукссону. Хельге Кресс, Торгейру Тор-
гейрссону, Гудрун Йоханнсдоухтир. Г'псли Сигурдссону. Сверриру Томассону и
Кендре Уилсон. Если в переводах остались ошибки, они допущены целиком по
моей вине.
376
дурную славу, не сохранились, а те немногие, что дошли до нас в виде
машинописного сборника, озаглавленного Jonsbok, показались редак¬
торам недостойными публикации. Тем не менее, известен отклик на его
«оскорбительные стихи» — анонимное насмешливое стихотворение «к
пятидесятилетию профессора», опубликованное в газете Mdnndagshladid
11 июля 1949 г., в годовщину выхода второго издания книги избранных
стихотворений Йоуна Хельгасона «С юга». Автор этого «поэтического
ответа» неизвестен, но Аскель Лёве, который указал мне на эту замет¬
ку, предположил, что это мог быть Гудбранд Йоунссон, архивист, уче¬
ный-дилетант. Как бы то ни было, автор стихотворения не только был
знаком с юношескими литературными «вольностями» «профессора», но
был, несомненно, объектом его насмешек. Процитирую заключитель¬
ные строки стихотворения:
«Мепп undrudust skaldid vid tangstundasetur a safni,
semjandi ymnalagsvisur med gudsmodumafni,
og donann, sem laeddist um afgotur erlendrar borgar
og orti um landann, sem drakk ser til vanza og sorgar.
Sagan mun langherma hamskipti profcssorsms
og halda vid nafni a blakkasta svani gorsins»
(Люди дивились поэту, который часами не выходил из библиотеки и
писал гимны в честь Богоматери, а еще они дивились неотесаной дере¬
венщине, который шатался по улицам чужого города (Копенгагена) и
кропал вирши о своем соотечественнике (неясно, о ком идет речь), спив¬
шемся и докатившемся до такого, о чем не стоит говорить. История дол¬
го будет помнить этого профессора-перевертыша, этого вонючего лебе¬
дя, чернее которого нет).
Короче говоря, критик нападает на бросающуюся в глаза разницу между
скабрезными «несерьезными стихами» Йоуна Хельгасона и высокопарным
лиризмом его «настоящих стихов» — «и этакие перлы», добавляет насмеш¬
ник, «производила одна и та же голова»! Сколько бы мы ни рылись в изда¬
ниях стихов Йоуна Хельгасона (1939, 1948 и 1986 гг.), мы не найдем таких,
где он кого бы то ни было поливал грязью, однако из этого нельзя заклю¬
чить, что он в самом деле не писал таких стихотворений (они могли про¬
сто не дойти до нас); нельзя также утверждать, что нападки анонима —
всего лишь нечто вроде хитрой шутки, которую мог понять только адре¬
сат. Нам неизвестны те стихи Йоуна, которые до 1939 г. ходили в списках
и передавались устно в Исландии, — в печать они не попадали4. Можно
лишь предположить, что сначала Йоун Хельгасон заявил о себе как о ед¬
ком сатирике, поэте-насмешнике, авторе оскорбительных стихов, и лишь
впоследствии стал «неплохим поэтом-пейзажистом»\ причем эта метамор¬
фоза некоторых очень удивила. В споре исландских критиков, противопо¬
ставлявших «серьезные» и «несерьезные» стихи Йоуна (а его поэтическс е
наследие очень невелико), родилась та истина, что двух поэтов, живших в
Йоуне — средневекового скальда-насмешника и поэта-романтика — не¬
возможно разделить: «здесь в одной точке сливаются без видимых трудно
стей средние века п современность»'’.
377
* * *
Корпус стихов Йоуна, представленный в третьем, посмертном издании
1986 г. подзаголовком Kvcedabok, «Книга песен» (вышедший под редакци¬
ей его второй жены), невелик, но довольно разнообразен. Три четверти
сборника занимают переводы с латинского, итальянского, французского,
английского, немецкого и скандинавских языков, что свидетельствует о
его исключительной начитанности в европейской литературе. Эта часть
поэтического творчества Йоуна подробно исследована исландскими уче¬
ными7, и здесь я лишь упомяну о ней. Как мне кажется, следует сосредо¬
точить внимание на собственном творчестве поэта, особенно на тех сти¬
хах, которые он включил в окончательный вариант своей книги «С юга»
(1948 г.). Наследие Йоуна распределяется по темам следующим образом:
1. Исландия и исландцы:
«Остановки»,
«Тот народ».
2. Любовь:
«Поезд набирает ход»,
«Три вечерних песни»,
«В глубине моего сердца».
3. Природа:
«В горах»,
«На Раудсгили»,
«Ручейку»,
«У реки Тунгунау».
4. Сатира:
«Сёльви Хельгасон»,
«Если все эти люди»,
«Песнь о зубном враче»,
«Двое зазнаек».
5. Философия жизни:
«Однажды вечером»,
«Старость»,
«Эйрасунд зимней ночью
1940 года»,
«Утром», «Один»,
«В больнице».
6. Наука:
«Автору Хунгурваки»,
«В Арнамагнеанском
собрании».
7. Поэзия:
«Я пришел туда».
8. Басни о животных:
«На день рождения кошки»,
«Лети, птица, лети».
9. Медиевализм:
«Виса о великане Сурте»,
«Висы о Деве Марии».
За исключением стихотворений «Тот народ» и «Лети, птица, лети»,
таблица повторяет состав сборника «С юга», который вместе с перевода¬
ми и другими, неклассифицированными стихами, составил Kvcedabdk.
Некоторые группы, например, «Природа», «Сатира», «Философия жиз¬
ни», можно было бы расширить за счет стихов первого издания или за
счет других стихов из «Kvaedabok»; но по крайней мере две группы ока¬
зываются полными — «Любовь» и «Медиевализм». Что же касается груп¬
пы «Поэзия», в которую я включил лишь одно стихотворение, то эта тема
всплывает и в стихах из других групп (и в «В Арнамагнеанском собрании»,
и в «В горах») — Йоун Хельгасон, поэт и ученый, находил поэзию везде,
и в человеке, и в природе.
Недостаток места вынуждает нас рассмотреть лишь самые важные из
стихотворений Йоуна. Мне кажется, что стихотворение «Остановки», на¬
писанное в недобрый час вторжения немцев в Данию в 1940 г., безуслои-
378
но, самое высокое из поэтических достижений Йоуна. Композиция сти¬
хотворения безупречна — автор рассказывает историю Исландии, прово¬
дя читателя по местам легендарных событий, — это «остановки» в конце
дневных переходов11.
* * *
В первой строфе стихотворения рассказывается о смерти двух братьев, за¬
мерзших в пургу в 1780 г. на Кьёлуре, леднике в центре острова. Во второй
строфе мы оказываемся на западе, на Снефелльснесе, где в XVII в. «певец
ледников» Кольбейн Гримссон, стоя на мысу, как рассказывают, победил
в стихотворном поединке самого дьявола, поскольку «знал искусство на¬
ших отцов»9. В третьей строфе наш поэт оказывается в XIX в. в заливе
Дритвик и рассказывает, как там перевелись рыбаки, а затем, в строфе чет¬
вертой, снова возвращается на Снефелльснес и восходит на «священную
гору» Хельгафелль. Когда Исландия еще была языческой, некий пастух пе¬
ред смертью увидел, как внутри этой горы пируют и веселятся его предки
(«Сага о людях с Песчаного берега», гл. 11); но наш современный поэт не
видит этого и скорбит о том, что «смертельный холод могилы доберется до
всех нас». В пятой строфе мы переносимся через Брейдафьорд с Хельга-
фелля на гору Лаутрабьярг, на северном берегу фьорда. Эту огромную гору
называют «упрямым борцом с волнами» за то, что в самые холодные зимы
она не пропускает во фьорд льды из северных морей10.
Теперь наш путь лежит на северо-восток. В шестой строфе мы видим
самые северные оконечности Исландии — мысы Кёгур, Хорн, Хельярвик —
и затем переносимся на восток, на другую гору, Олавсфьярдармули, при вхо¬
де в Олавсфьорд (седьмая строфа). Это тоже заколдованное место. Быличка
рассказывает, что в этой горе томилась женщина — она была христианкой,
но жила с троллями, сама превратилась в тролля и была ими заточена в горе,
откуда ее спас колдун-священник по имени Хальвдан Нарвасон. Но муж не
захотел принять ее в обличье тролля, так что Хальвдану пришлось снова за¬
точить женщину в гору и запереть за ней дверь, выкрашенную в красный
цвет, которую с тех пор называли «Дверь Хальвдана»11. В восьмой строфе с
этой горы, где живут тролли, мы спускаемся вместе с поэтом в центральную
часть страны, в те места, где вокруг реки Креппау жили люди, объявленные
вне закона. В дальние части Хердубрейдарлиндир, между бескрайними ла¬
вовыми полями Одадахраун на севере и ледяными пустошами Ватнаёкуля
на юге, захаживал знаменитый в XVIII в. Горный Эйвинд Йоунссон, объяв¬
ленный вне закона; там он построил себе каменный дом, развалины кото¬
рого стоят по сей день12. Это его поэт называет «горным вором», которому,
как это часто бывало с объявленными вне закона людьми, снятся стада жир¬
ных овец, пасущиеся в местах, куда не ступала нога человека.
Мы движемся дальше на юг, к западным оконечностям ледника Ват-
наёкуль. Здесь, у слияния рек Кальдаквисль и Вонарскард, поэт вспоми¬
нает, как сам бродил когда-то в этих местах. Эта почти автобиографич¬
ная девятая строфа довольно типична для лирики Йоуна. Для сравнения
можно привести похожие строфы из его стихотворений «На Раудсгили»
и «У реки Тунгунау».
379
«Scd hef eg skrautleg Midr&n blom
solvermd i hlyjum gardi;
aburd og Ijos og adra virkt
enginn til |ieirra spardi;
mer var |э6 longuin meir i hug
melgrasskufurinn hardi
runninn upp (эаг sem Kaldakvisl
kemur ur Vonarskardi»
(Я сам видел, как солнце ласкало яркий цветок на юге, в уютном саду.
Навоз, свет и прочее — для земли тогда всего было вдоволь. Но мне боль¬
ше помнится зеленая трава в тех местах, где Кальдаквисль сливается с
Вонарскард.)
Глаз поэта часто ухватывает что-то особенно красивое в природе —
будь то цветок или трава.
В десятой строфе перед нами сцена извержения вулканов в Лаки, ко¬
торое продолжалось с июля 1783 по февраль 1784 г. В стихотворении го¬
ворится, что они были похожи на поставленные в ряд горящие свечи.
Аскель Лёве в беседе со мной заметил, что в XVIII в. это извержение про¬
извело тот же эффект, как если бы сейчас в Лаки взорвали атомную бом¬
бу. Река Хвервисфльот несла в море потоки горящей лавы, бесчисленные
частицы пепла и угля поднимались в воздух, все на земле, что росло и зе¬
ленело, засохло и почернело. Огненный дождь длился восемь месяцев,
скот погибал, от голода и болезней погибла и четвертая часть населения
Исландии11. В стихотворении говорится: «Когда глубоко под землей мо¬
гучий великан прочищает горло, в Лаки сотрясаются горы, сотрясаются
самые основания земли».
Стихотворение заканчивается 11-й строфой. Мы оказываемся на юго-
востоке Исландии, в Ломагнупе, и вместе с поэтом видим призрак, по¬
хожий на тот, что явился во сне Флоси сыну Торда, герою «Саги о Нья-
ле». Назвав имена людей, которые под предводительством Флоси сожгли
Ньяля, его жену и всю их семью в их доме, призрак тем самым предрек
им смерть. Перед нами, как в саге, появляется великан с железным по¬
сохом и готовится произнести свое пророчество, но вместо того, чтобы
назвать имена поджигателей, он обращается к поэту и читателю — «зо¬
вет он меня, зовет он тебя». Изысканность художественного приема об¬
ращения к саге не может не поражать, однако смысл последней строфы
не вполне ясен. Сон, вызванный угрызениями совести, в котором про¬
износятся имена, стал образом безымянного страха — образом смерти,
разумеется, но, возможно, и чего-то еще; быть может, это образ немец¬
ких захватчиков, вошедших в Копенгаген в то время, когда поэт созда¬
вал свое произведение, или же тут отражены другие смутные опасения,
тревожившие воображение поэта (ср. стихотворение «Эйрасунд», напи¬
санное в 1940 г.).
Во всяком случае, мы видим, как поэтическое путешествие по Ис¬
ландии воскрешает ее историю, реальную и воображаемую. С запади
поэт направляется на север, а затем через центр страны спускается ни
юго-восточное побережье, па юг самый «юг», который вынесен в чаi
лавис его поэтического сборника. Вне его маршрута остаются лишь
380
восточные фьорды — поэт не пересказывает легенды, связанные с этой
частью Исландии. Исторические эпизоды, проходящие перед нашими
глазами, относятся к самым разным периодам исландской истории, от
раннего средневековья до конца XVIII в., от великих дней свободного
исландского государства до долгой эпохи рабства под владычеством
Дании. Зеленая поляна запоминается ничуть не хуже катастрофы в
Лаки; смерть двух мальчиков в пургу выглядит ничуть не меньшей по¬
терей, чем прекращение рыболовства в Дритвике в XIX в.; легенда о
стихотворном поединке с дьяволом и заточение в горе женщины-трол¬
ля кажутся столь же правдивыми, сколь и совершенно реальные, хотя
и представляющиеся неправдоподобными приключения объявленно¬
го вне закона и скитавшегося в горах Горного Эйвинда. Исторические
и легендарные эпизоды рассказаны в одной и той же манере, что созда¬
ет эффект калейдоскопа, и кажется, что все эти события происходят од¬
новременно; создается необычная картина современной Исландии и ее
прошлого. Представляя такие разные события в едином ряду, поэт со¬
здает цельный образ исландской истории.
* * *
«Остановки» — безусловно, лучшее из стихотворений Йоуна. Но како¬
му стихотворению отдать второе место, неясно. Большинство исланд¬
цев, вероятно, отдали бы его стихотворению «В Арнамагнеанском со¬
брании» (написано несколько ранее для первого издания сборника «С
юга»). Однако этому стихотворению не хватает стилистического и сю¬
жетного единства «Остановок», и поэтому мне оно представляется бо¬
лее слабым, чем, скажем, стихотворение на любовную тему «Поезд
набирает ход»14. Это прощальная песнь, обращенная к датской студен¬
тке. Действие происходит на железнодорожном вокзале в Копенгаге¬
не, где она садится в поезд и уезжает в Париж учиться в Сорбонне.
Настойчивый хореический ритм стиха призван вызвать в воображении
читателя стук колес отходящего от платформы поезда:
«Lestin brunar, hradar, hradar,
humid ljosrak skcr,
bradum et t>u einhvers stadar
oralangt fra mer»
(Поезд набирает ход, все быстрее и быстрее; темноту на мгновение
озаряют огни вагонов, и внезапно ты уже во многих милях от меня).
«Ut I hcim |эи fcrd ad finna
frama nyjan |?ar,
eg hverf inn til anna minna,
allt er likt og var»
(Ты отправляешься туда, в мир, чтобы сделать еще один шаг вперед;
я возвращаюсь к своим делам — все остается как было).
«t>u att blodsins hcita hrada.
hugarlciftur kvik;
audlcgd min er utskcrsblada
aldagamalt ryk»
381
(Твое сердце бьется чаще и чаще, и твоя мысль бежит быстрее и быс¬
трее; а мое сокровище — вековая пыль иноземных рукописей (букв, «то¬
мов далекого острова», т.е. Исландии)).
В этом противопоставлении учености и жизни заключена основная
автобиографическая тема поэзии Йоуна. Будущее со всеми его возмож¬
ностями принадлежит женщине. И тем не менее, у него остается «со¬
кровище», исландские рукописи Арнамагнеанского собрания в Дании.
Эти «тома далекого острова», как он их называет, говорят с ним голо¬
сами предков — христиан и язычников — в стихотворении «В Арнамаг-
неанском собрании», и ему, поэту — хранителю традиции, они заве¬
щали, вместе с другими культурными ценностями, испытанные и
истинные приемы своего искусства. Ученый и поэт может сохранить
жизнь, но может оказаться неспособным участвовать в ней. Кажется,
все ускользает от него — и быстрый поезд, и женщина, и проведенные
вместе счастливые часы. Но в самом конце стихотворения ему удает¬
ся схватить и «спасти» от времени мгновение прощания.
«begar bratt |эт mynd og minning
maist fol og hljod,
er til marks um okkar kynning
adeins ^etta Ijod»
(Очень скоро и твой образ, и память о тебе уйдут без следа, и только
эта песнь останется знаком, что мы были вместе).
* * *
Что касается пейзажной поэзии, то здесь Йоун Хельгасон прославился,
и можно без труда выделить много стихотворений этого жанра. «Весен¬
ний ветер» — любимое стихотворение исландцев15, но мне больше нра¬
вится «В горах», стихотворение о путешествии, где искусно слиты опи¬
сание природы и сухие наблюдения16. Возможно, в этом стихотворении
описывается вылазка в Вонарскард, имевшая место в действительности,
вроде той, что упоминается в девятой строфе «Остановок». В стихотво¬
рении «У реки Тунгунау» поэт вспоминает проезжую дорогу в том же рай¬
оне.
У поэта два разных впечатления о горах, на которые он взобрался, и
стихотворение делится, так сказать, на «за» и «против». Он пренебрежи¬
тельно замечает:
«Ekki er mikid fjor a fjollum,
fair [эаг sem lada gesti,
rymur djupt I hamrahollum
heimskur ^urs a alda fresti»
(В горах мало живого, глазу не на чем остановиться; кажется, что туi
заснул какой-то древний великан, и у него урчит в животе).
Что чувствуешь, когда, покинув долину и взобравшись на вершину
горы, видишь, что «исчезла зеленая страна», и на высоком плато если н
есть что живое, то лишь забравшиеся туда люди? Только желание спу<_
титься обратно к морю. «Здесь (на горной вершине) мечтаешь только о
тепле плодородных земель», — и мысль поэта влечется вниз с холмов
382
вместе с горной речкой, «в погоне за мечтой, которая уже обогнала по¬
ток, спустившись одним холмом ниже». Но это — больше ради смеха.
Переходя к серьезным вещам, он продолжает:
«t>o ег von аб vegarlunum
vi'ki iir huga minning dalsins,
t>egar arnsug efst hja brunum
atall dregur brodir valsins»
(Но, может быть, усталый путник забудет о своей долине, когда уви¬
дит, как яростный брат сокола (орел) пролетает высоко над горной гря¬
дой, и полет его рождает порыв ветра).
В этой исполненной глубокого смысла строфе зрелище полета орла
над вершинами оказывается достаточным для того, чтобы отвлечь уста¬
лого путника от мыслей о возвращении в долину; но для поэта в полете
орла заключено нечто большее, вдохновляющее его, а именно — поэтич¬
ность самой природы. Как орел парит над горами, так и поэт должен па¬
рить в своих стихах. Выражение arnsugur, буквально — «дуновение, ис¬
ходящее от орла», заимствованное у Тьодольва Хвинского, стало в
исландском языке общепринятым метафорическим обозначением выс¬
шей степени поэтического вдохновения («поэт говорит — что орел про¬
летает»). Фраза, в которой содержится это слово из поэмы Тьодольва, за¬
нимает две последние строки строфы.
Перед лицом безмерной красоты и некой истинности природы в го¬
рах, поэт ощущает величайшее вдохновение, и в то же время чувствует,
что недостоин продолжать. «Слова замерзают и не сходят с языка», ибо
«должны зазвучать какие-то иные, более возвышенные стихи, подобные
буре». Такой образ природы — как образ непревзойденного художника,
произведения которого настолько же выше жалких людских творений,
насколько исландские горы выше исландцев — очень часто встречается
в поэзии Йоуна («Остановки», строфа 6, «У реки Тунгунау», строфа 2 и
др.). Но если попытка выразить природу в стихах — не более, чем бес¬
плодное литературное упражнение, то человек, оказавшись в горах, мо¬
жет, по крайней мере, получить благотворный урок, увидев штормовые
тучи или водораздельный хребет: «где холодный ветер обдувает голые
валуны, там нет места лжи». Таким образом, все завершается на положи¬
тельной ноте, и поэт и его спутники спокойно ночуют в ближайшем се¬
лении.
* * *
Как уже говорилось выше, опубликованные сатирические стихи Йоуна
— безобидного свойства. Единственное стихотворение, которое можно
расценить как прямую сатиру на конкретного человека — «Сёльви Хель-
гасон». Объект сатиры — Гудбранд Йоунссон, явленный под именем
Сёльви Хельгасона, исландского художника и самозванного философа,
жившего в конце XIX в., посаженного в тюрьму в Дании за то, что выда¬
вал себя за обладателя докторской степени. У Гудбранда была якобы док¬
торская степень, которую он получил в Германии; подозревали, что он —
нацистский шпион в Исландии. Нет, иронически возражает Йоун: «нет.
383
он не был предателем, да и мошенником не был», ибо «люди знали», что
он всего лишь присваивал себе воображаемые ученые звания. Далее при¬
цел сатиры неожиданно перемещается на исландскую профессуру вооб¬
ще:
«Aumingja Solvi minn! Ogaefa |з1п var su
аб a6cins |эй lifdir vors jjjodfrelsis byrjandi vor.
en ekki ^ess sumar med vaxandi virding og tru
a visindamonnum sem fromudu sig eins og |?u.
Nu stigum ver ordid svo merkileg menningarspor.
Nu mundi landsstjormn gera t>ig professor»
(Мой бедный Сёльви! Какое несчастье, что ты жил лишь в эпоху за¬
рождения нашей национальной независимости, а не в эпоху ее расцве¬
та, когда стали уважать ученых, верить ученым, которые добыли свои
звания так же, как ты. Теперь это часть нашей культуры, теперь прави¬
тельство произвело бы тебя в профессоры).
Это самое злое, что может сказать о ком-нибудь сатирик в печати, но.
как показывает приведенная строфа, сатира эта не столь остра, посколь¬
ку то, что говорится в адрес Сёльви-Гудбранда, распространяется затем
на университетское сообщество Исландии в целом.
* * *
Под общим заголовком «Философия жизни» собраны стихи, в которых
поэт говорит о себе и своих убеждениях. В своей жизненной философии
Йоун минималист. С одной стороны, он, почти как человек средневеко¬
вья, сосредоточен на мысли о своей будущей смерти, а с другой, как чело¬
век современный, сомневается в своем желании предстать перед Богом
Оказавшись, таким образом, между двумя крайностями, поэт находит
единственную радость в повседневной работе. В стихотворении «Утром»
он говорит: «Самый лучший подарок, которого я жду, — это хороший ра¬
бочий день» (строфа 1). К этой протестантской этике ученого, с сопутству¬
ющими ей страхом смерти и религиозными сомнениями, он пришел к со¬
рока годам и продолжал держаться ее вплоть до последних своих лет, когда
почувствовал, что зажился на свете (эта последняя мысль особенно ярко
выражена в стихотворении 1974 г. «Приди, о нежная ночь» — реквиеме
Йоуна Хельгасона по самому себе). Ключевое слово этой его философии —
«одиночество». «Один» — так озаглавлено четверостишие Йоуна, посвя¬
щенное разным эпохам жизни человека — детству, зрелости, старости
Каждая из них приближает поэта к смерти, и он «один...один...один». Лю¬
теранин по воспитанию, оторванный от своей родины и живущий не на
хуторе в родном Рейкьяхольтсдале, а в многолюдном Копенгагене, Йоуп
Хельгасон едва ли мог не стать медиевистом, своеобразным рупором ис¬
ландской средневековой традиции, — этому способствовали и его книж¬
ность (ею он был пропитан до мозга костей), и его любовь к древним ру¬
кописям, и его болезненно острое ощущение хрупкости человеческом
жизни, и его непоколебимое убеждение, что все человеческие свершения
и не в последнюю очередь его собственные, суть «суета сует»17. Хотя он и
радуется своему труду, который в стихотворении «Утром» символически
изображается и виде пахоты на исландском поле, как истинный лютера¬
нин, он убежден что нее это «суета» и но всем этом есть некая неполнота
(«Утром», строфа 5, «Приди, о нежная ночь», строфы 2—3).
Его сомнения относительно Бога мы видим в стихотворении «Равно¬
душный», где чередуются строфы, повествующие о его молитвах, обра¬
щенных к Богу в тяжелые минуты, и об отречении от Него в светлые дни18.
Это чередование мольбы и отречения обесценивает и то, и другое, и поэт
в смятении спрашивает себя, как он, ничтожество, смеет усомниться во
всемогуществе Господа. Более ясно пределы его веры в Бога и в жизнь
после смерти выражены в стихотворении «В больнице». Здесь поэт осоз¬
нает себя перед лицом смерти, ибо болен и находится в больнице. В «Рав¬
нодушном» поэт стыдливо умалчивает о трудностях в своих отношениях
с Богом, но в этом стихотворении он говорит о них выразительно и сме¬
ло. В вечерних сумерках, больной, обнаженный, подобно Адаму, он пред¬
стает перед своим Создателем, и смятение в его сердце подобно бурному
потоку прилива. Но, однако, он не пользуется случаем заговорить с Гос¬
подом, а обращается к буре в своем сердце:
«Hva5 stoda f)ig 611 fjessi umbrot, 6 lo5randi saer!
t>u engist i somu skordum i dag sem i gjcr,
[)6tt aldan [)in hreykist cr hvergi ncinn vegur facr,
himninum sjalfum [эи aldrci skalt komast naer»
(Что пользы тебе от этого волнения, о пенное море! Ты бушуешь се¬
годня в тех же берегах, что и вчера, и хотя ты бурлишь сейчас, идти неку¬
да, все равно ты никогда не достигнешь небес).
Иные считают, что эти слова произносит Господь, а не поэт, ясно, од¬
нако, что здесь не Бог отвергает поэта, а сам поэт в отчаянии от того, что
Небеса ему недоступны. Согласно христианской доктрине, нет ничего бо¬
лее опасного для спасения души, чем подобное отчаяние.
Одних только стихов недостаточно для того, чтобы понять, в чем кры¬
лась причина тревоги Йоуна — в кризисе веры или в психологическом кри¬
зисе. Скорее всего, тут было и то, и другое. Здесь я наметил некоторые
линии, касающиеся религиозной стороны его трудностей, но не стоит не¬
дооценивать и отразившиеся в стихах психологические факторы. Когда
поэт впадал в депрессию, в его стихах появлялась одна и та же тема — се¬
верная зимняя ночь с ее непроницаемой тьмой, которая обволакивает его
душу — «В больнице» (строфа 1), «Равнодушный» (строфа 3), «Эйрасунд»
(строфа 1), «Утром» (строфы 3—4)). Одной темной ночи было достаточно,
чтобы поэту показалось, что Земля остановила свое вращение, что рассвет
больше никогда не придет и наступит вечная тьма («Равнодушный», стро¬
фа 3, «Утром», строфа 3). Эта безумная мысль — не риторический прием,
как думают многие, а выражение подлинного, глубокого страдания.
Йоуну приходилось мириться не только с этой необъяснимой боязнью
темноты, но и с физической слабостью, близорукостью, болезнями; он
укоряет себя в том, что ему не хватает «стойкости», чтобы выполнять свою
работу («Утром», строфа 5). Когда ему еще не было сорока лет, он напи¬
сал стихотворение «Старость», в котором изобразил себя стариком, об¬
ращающим к друзьям юности свое последнее «прости». Возможно, это
ощущение преждевременной старости было спровоцировано ранней
13 Зак 3029
385
смертью отца, вынудившей семью в первый раз покинуть родные места
и переселиться в Хапнарфьорд19.
В последних строках «Старости» «старик» Йоун Хельгасон ожидае!
звонка в дверь старого знакомого, который придет повидаться с ним «в
последний раз». Смысл этого образа в полной мере проявляется в другом
удивительном стихотворении, «Однажды вечером», которое раскрывае!
нам самую суть жизни ученого поэта, укрывшегося от мира в своих за¬
нятиях, в своей «башне из слоновой кости»:
«1>ад var eitt kvold ад mer heyrdist halfvegis barid,
eg hlustadi urn stund og tok af kertinu skarid,
eg kalladi fram, og kvoldgolan veitti mer svarid:
Her kvaddi Lifid ser dyra, og nu er J>ad farid»
(Однажды вечером мне показалось, что кто-то постучал в дверь; я не¬
которое время прислушивался, подрезал свечу, а потом крикнул в темно¬
ту, и вечерний ветер ответил мне: «Это Жизнь хотела войти к тебе, а те¬
перь она ушла своей дорогой»).
Итак, Йоуна угнетает не преждевременная старость, но чувство, что
сама жизнь обошла его дом стороной20. Исходный образ его экзистенци¬
ального одиночества в стихотворении «Однажды вечером», был несколько
изменен в стихотворении «Старость», где поэт был представлен стариком.
* * *
Продолжавшиеся всю жизнь ученые труды Йоуна стали предметом двух его
стихотворений, «В Арнамагнеанском собрании» и «Автору Хунгурваки».
Первое знаменито гораздо больше второго, но это вовсе не значит, что как
произведение искусства оно превосходит второе, рассказывающее о свя¬
щеннике — авторе книги «Хунгурвака» (изданный Йоуном в 1938 г. сбор¬
ник биографий епископов Скаульхольта, написанных в XIII в.). За исклю¬
чением прекрасной строфы о руках средневекового писца, стихотворение
«В Арнамагнеанском собрании» — всего лишь довольно бессвязный гимн
древней литературе и языку Исландии, смешанный вдобавок с достаточ¬
но банальными авторскими отступлениями (строфа 6) и неясными воспо¬
минаниями о родине поэта, где до сих пор пребывает дух писца21. Йоун,
как обычно, представляет себя в образе до времени состарившегося уче-
ного-поэта, который не только скоро уйдет в отставку из Датского Арна-
магнеанского института, но и, к тому же, скоро умрет, и предсказывает, что
после его ухода никто уже не будет работать так, как он, и вверенные ему
когда-то рукописи погибнут. Он перебирает их, вчитывается в языческую
и христианскую поэзию своего народа и вдруг слышит неясный шепот,
похожий на звук струящейся воды (строфа 2), — довольно часто встреча¬
ющийся у Йоуна образ. Это сам язык древней литературы звучит в его
ушах, но знакомый звук не воскрешает умершую надежду и становится все
тише и тише вместе с разрушающим ходом времени:
«Hvislar mer jafnan a ordlausu mali her inni
cydingm hljoda, cn t»ott hun sc lagmaclt ad sinm
vmnur hun daglangt og arlangt um cilifar ti'dn
orugg og mattug. og hennar skal rikid um sidir»
386
(Мне шепчут без слов о незаметном разорении; сейчас этот шепот тих,
но он будет слышаться дни и годы, уверенно прокладывая свой путь и
вечность, и в конце концов он победит).
Другое стихотворение, посвященное автору «Хунгурваки» носит гораз¬
до более цельный и личный характер, поскольку повествует о том, как
Йоун работал над сагами о епископах, и о том, как в процессе этой рабо¬
ты возникла внутренняя связь между ним и автором «Хунгурваки»22. Здесь
он не старик, одной ногой стоящий в могиле, дело жизни которого по¬
шло прахом; поэт открывает нам свое истинное лицо, лицо великого уче¬
ного. Его слова обращены к давно почившему автору «Хунгурваки». Че¬
ловек, живущий на земле, обращается к человеку, лежащему в ней. Их
разделяет нечто большее, чем смерть, в том числе и религия. Средневе¬
ковый автор верил, что мертвые и живые могут еще встретиться после
смерти, в загробном мире средневекового католицизма. Что касается
поэта, то его агностицизм не позволяет всерьез предполагать такую воз¬
можность. Довольно и того, что его издательский труд позволит автору
«Хунгурваки» в самом деле встретиться с живыми, как он в это верил
(строфа 4). Затем скромный редактор хвалит себя за свою работу над
«Хунгурвакой» и упоминает о большой лакуне в рукописи текста — о
«трудности», заключающейся в том, что «Хунгурвака» не закончена — в
ней нет «Саги о Торлаке». Так вот, заверяет поэт «старца в могиле», эта
трудность преодолена, насколько позволили способности редактора. Все
стихотворение в целом, вкупе с пятой строфой стихотворения «В Арна-
магнеанском собрании», дает нам представление об удивительных отно¬
шениях великого ученого с его средневековыми коллегами.
* * *
Единственное стихотворение Йоуна Хельгасона, посвященное поэти¬
ческому искусству, озаглавленное «Я пришел туда», не относится к жан¬
ру arspoetica, хотя в нем и есть одна строфа о стихотворческой технике.
В жанре ars poetica написано другое, прозаическое произведение Йоу¬
на — «Как сочинять стихи по-исландски» (1959 г). Стихотворение же
рисует, в пародийно-высоком стиле, картину состязания поэтов в боль¬
шом зале в университете Копенгагена. Выступают так называемые «на¬
родные поэты»23. Кто бы ни были эти датские, а, может быть, и исланд¬
ские поэты, это не традиционалисты, как наш поэт. Сначала он из кожи
вон лезет, чтобы быть принятым в их общество — не столько потому, что
его собственные стихи кажутся ему незначительными, сколько именно
потому, что в их стихах нет скальдического ритма и аллитерации, кото¬
рыми пользуется наш поэт. Когда же он сливается с этой толпой модер¬
нистов, то внезапно ощущает нечто странное: «на моих плечах оказалась
ценная ноша» (строфа 3): пурпурная мантия магически облекла его тело,
как будто это он получил первую премию на проходящем конкурсе. Это
видение является потому, что он ясно чувствует, что он — единствен¬
ный поэт в этом собрании, способный сочинять стихи с «тройной ал¬
литерацией» и скальдическими кеннингами (строфа 4). Как он сам го¬
ворит о своих скальдических стихах в «В Арнамагнеанском собрании»
387
(строфа 8), «Ствол древа — старый, хотя листья не те, что были мною
лет назад».
Если исландская поэзия лишится своих традиционных черт, пишет
Йоун в своем произведении «Как сочинять стихи по-исландски», то она
не только перестанет быть исландской, но и вообще перестанет быть по¬
эзией. В самом деле, в истории германской поэзии поэтическое искус¬
ство всегда было связано с аллитерацией; аллитерация была краеуголь¬
ным камнем традиционной поэзии, и традиционалисты опасались, что
без нее исландская литературная традиция сойдет на нет. Для Йоуна
Хельгасона и поэтов его поколения аллитерация даже в большей степе¬
ни, чем рифма, означала саму поэзию, точно так же, как для следующего
поколения, для Стейна Стейнара и модернистов она стала главным пре¬
пятствием на пути вперед, к верлибру24. В стихотворении «Я пришел туда»
конфликт этих двух поколений и поэтических школ изображен драмати¬
чески, хотя и односторонне.
* * *
В жанре «Басни о животных» наибольшую известность приобрело стихот¬
ворение Йоуна, посвященное дню рождения его кота. Кошки и ученые в
сознании Йоуна имели нечто глубинно общее, как это видно в его сти¬
хотворном переводе английской версии древнеирландской поэмы Pangur
Ban (IX в.), в которой юмористически сравниваются интеллектуальная
жизнь ирландского ученого и писца и кошачьи повадки. Кот Йоуна, как
ему и полагается, верен своей природе, но, как и в «Кошках» у Бодлера,
в нем скрыта какая-то прекрасная тайна, которая делает его высшим су¬
ществом, превосходящим даже своего хозяина. Вот начало этого стихот¬
ворения, озаглавленного «Надень рождения кошки»:
«Vidsjarverd f)ykir mer glyman gul,
geymir a bak vi6 sig marga dul,
oargadyranna e5li grimmt
a scr l heilanum fylgsni dimmt»
(Золотые глаза, кажется мне, обманчивы; за ними кроется великая
тайна; где-то в его мозгу есть темное место, где прячутся львиные повад¬
ки).
Несмотря на обманчивость взгляда, маленькое царственное животное
и поэт всегда были друзьями, с тех самых пор, когда он спас его жизнь (еше
слепого, его хотели утопить вместе с четырьмя другими котятами). «Жизнь
кошки печальна», — замечает поэт. Но теперь его кот стал старше на год,
он отрастил свой «боевой зуб», свой боевой топор, он достиг зрелости и
напевает по вечерам — «раздаются нежные звуки любовной песни». Это от¬
нюдь не огорчает поэта, ночные кошачьи концерты его веселят, отвлекая
от мыслей о бессоннице, помогают справиться с боязнью темноты. А если
утром поэт встал не с той ноги, надо всего лишь почесать коту под подбо¬
родочком, и тогда он замурлычет, и все плохое настроение как рукой снп
мет. Никакие слова утешения не сравнятся с кошачьим мурлыканьем. Но
несмотря на всю их дружбу, это — кошка, которая гуляет сама по себе, ош\
тая свое превосходство над родом человеческим:
388
«Bugdast af listfengi lodid skott,
lyftist med tign cr gcngur brott;
aldrci fair mannkindm aftanvcrd
a vid |?ig jafnazt ad sundurgcrd»
(Ты искусно помахиваешь своим пушистым хвостом и величествен¬
но поднимаешь его трубой, когда уходишь. Человеку никогда не угнать¬
ся за тобой по части хвастовства).
* * *
Из двух образцов медиевализма Йоуна, т. е. его стихотворений, напи¬
санных по-древнеисландски в скальдических размерах, одно, вису об ог¬
ненном великане Сурте, я хотел бы рассмотреть подробнее, поскольку
поэт использует в ней ряд любопытных версификаторских приемов. При¬
веду всю строфу целиком:
«t\s vas grund med cndum
eldum birt at kvcldi
vid, en Vidris bedja
vaeddisk steim bracddum.
Einn stod Idja kvanar
erfivordr I hordu,
gekk skyjafold skykkjum,
skclcggr si'u hreggi»
(Во всю ширь, от одного конца мира до другого, зеленая земля была
озарена на закате огненным градом, но супруга Видрира (супруга Оди¬
на Фригг, т.е. земля) была облачена в одеяние из расплавленного кам¬
ня (лавы). Потомок Иди и его супруги (Сурт) крепко стоял на ногах в
одиночестве, в то время как в стране облаков (на небе) было волнение;
ему (Сурту) не занимать смелости, когда бушует огненная буря).
Скальдический шестисложник строфы регулярно имеет три ударения
в соответствии со схемами аллитерации; исключение составляет лишь
предпоследняя строка, замечание в скобках, которая имеет схему, соот¬
ветствующую типу D-4 по Зиверсу, и, кроме того, отклоняется от требо¬
ваний аллитерации (см. более жесткие схемы Г. Куна и К.Э. Гаде)2\ Ос¬
нова фонетической связи строк — аллитерация, на гласный в первой и
третьей парах строк, на согласный в остальных строках. Нечетные стро¬
ки связаны скотхендингом, неполной консонантной рифмой {grund vs.
end), четные же связаны адальхендингом, полной корневой рифмой (eld
vs. kveld). Фонетически, ритм строфы напоминает ход хорошо отлажен¬
ных часов — не считая выбивающуюся из общей картины аллитерацию
в седьмой строке.
Вместе с тем стиль поэта не оставляет сомнений в том, что виса — со¬
временная. Сочетание тед enditm, кеннинг земли с именем Одина в со¬
ставе {Vidris bedja), кеннинг erfivordr (хранитель наследства, т. е. наслед¬
ник, т. е. сын), полностью соответствуют традициям эддической и
скальдической поэзии, однако кеннинг неба, skyjafold, происходит из
христианской поэзии XIV в. «Генеалогический» кеннинг Сурта — Idja
kvanar efrivdrdr — «нс поддается интерпретации»2'', поскольку мифы Эдды
389
этого не подтверждают. Наконец, обозначение лавы, steini brceddum, во¬
обще не является кеннингом, как мы знаем их из средневековой скаль-
дической поэзии. Эти расхождения с традицией напоминают нам, что
автор висы — ученый XX в., а не раннесредневековый скальд.
Имя самого Сурта, великана, который охраняет огненную южную
страну Муспелль и который выйдет на битву с богами, сопровождаемый
другими сыновьями Муспелля, как это и полагается, опущено; стихотво¬
рение Йоуна лишь намекает на него с помощью «генеалогического» кен-
нинга, приведенного выше. У одного скальда упоминается род Сурта.
однако, не называются ни его родители, ни его потомки (т.е. сыновья
Муспелля). Насколько я могу судить, Йоун придумал родителя для Сур¬
та — великана Иди, еще более темную фигуру скандинавской мифоло¬
гии; его имя регулярно встречается в скальдических кеннингах золота, из-
за истории, случившейся с Иди и его братьями. Как рассказывает Снорри
Стурлусон, Иди и его братья договорились разделить наследство следу¬
ющим образом — каждый получит столько золота, сколько сможет унес¬
ти у себя во рту. Однако в этой истории не содержится ни малейшего
намека на возможные родственные связи Сурта и Иди. Обстоятельства
тем более туманны, что, как следует из кеннинга Йоуна, у Иди была бе¬
зымянная супруга, и к тому же Сурт оказывается ее, а не Иди, сыном и
наследником. Ни Снорри, ни другие скальды не упоминали о существо¬
вании у Иди супруги, а наследование по женской линии было бы явной
аномалией.
Возможно, кеннинг вовсе не генеалогический, а чисто метафоричес¬
кий, и речь идет о какой-либо вещи, принадлежавшей Сурту, или о ка¬
ком-то его атрибуте — кто знает? Мой перевод висы, таким образом, при¬
близителен.
* * *
Завершая этот несколько сумбурный комментарий к некоторым избран¬
ным стихотворениям Йоуна из двух изданий сборника «С юга», можно
сделать несколько выводов относительно личности их автора и самих сти¬
хов; выводы эти не должны удивить ни его исландских читателей, ни чи¬
тателей в других странах.
Во-первых, совершенно ясно, что вершиной поэтического творчества
Йоуна было стихотворение «Остановки», созданное в 1940 г.; после вой¬
ны он все больше отдавался переводам иностранной поэзии (это ему все¬
гда отлично удавалось), а сам писал все меньше и меньше; его собствен¬
ные стихотворения становились короче, и в конце концов он писал уже
только стихи на случай. В это время, однако, он пишет стихотворение «Тот
народ», в котором предупреждает исландцев об опасности подчинения
политическому давлению Соединенных Штатов Америки; тон этого про¬
изведения напоминает его стихотворения военного периода.
Во-вторых, его стихотворения о природе настолько хороши, что зас¬
луженно принесли ему славу лучшего поэта-пейзажиста Исландии. Та
ково мнение соотечественников Йоуна. Можно, однако, не согласи 1ься
с ними в том, что лучшим стихотворением Йоуна после «Остановок» ян
390
ляется стихотворение «В Арнамагнеанском собрании». На это второе
место претендуют слишком много гораздо более серьезных стихотворе¬
ний (и «Поезд набирает ход», и все пейзажные стихи, или даже «Автору
Хунгурваки»). Как и следовало ожидать, ни одно сатирическое стихотво¬
рение Йоуна не могло оскорбить никого из исландских читателей, но не
лучшая репутация Йоуна в этом отношении заставляет все же предполо¬
жить, что некоторые из его неопубликованных «инвектив» были в самом
деле оскорбительны.
В-третьих, — и это последнее, — скажем несколько слов о самом ав¬
торе и о том, каким он нам видится сквозь призму его стихов. В хвалеб¬
ной, но откровенной статье, опубликованной уже после смерти Йоуна,
его датская коллега Лиз Престгор Андерсен (жизнь свела ее с Йоуном в
последние годы его жизни) пишет: «Несмотря на его потрясающее усер¬
дие, на его любовь к знаниям, на его работоспособность, в нем было что-
то странное, какое-то деструктивное начало, и эта сторона его характера
приводила в отчаяние; именно таким он предстает в своих стихах, и имен¬
но таким он был в своей работе исследователя и преподавателя. Он мог,
например, мгновенно прийти в неописуемый восторг от идеи основать
новый научный журнал, равно как и от знакомства с новыми людьми, но
только для того, чтобы затем с корнем вырвать и людей, и идею из свое¬
го сердца».
Эта черта его характера — склонность к разрушению созданного сво¬
ими руками — проявлялась не только в расположении духа, в котором он
находился под старость, и не только в религиозном скептицизме его фи¬
лософских стихов, но и в грубых шаржах, которые он рисовал в юности,
и, возможно, в оскорбительном тоне его стихов, не попавших в печать.
Тот, кто пришел в поэзию, нападая на других, закончил тем, что стал на¬
падать на самого себя, и едва ли не более безжалостно («Приди, о нежная
ночь»). Но, к счастью, из злого сатирика Йоун Хельгасон превратился в
настоящего лирика, подлинного поэта. Произошла своего рода сублима¬
ция — сатира преобразовалась в самоиронию и юмор, а потом, спустя
долгий срок, в великом национальном стихотворении «Остановки» автор
превзошел самого себя, показав чудеса истинного беспристрастия в сво¬
ем рассказе об исландской истории и легендах.
Примечания
1 Об этом см.: Benediktsson J. Jon Helgason // Skirnir, 1986. 160: 5-16.
2 Knutsson I. Tradition och fomyelse i en modem islandsk diktsamling: Ur landsudri
av Jon Helgason // Lundastudier i nordisk spr&kvetenskap. Serie D; Meddelanden 4.
Lund, 1972; Andersen Lise Praestgaard Dobbelthcder: Jon Helgason 30. Juni 1899-
19. Januar 1986, dansk professor og islandsk digter // Nordica. 1988. 5: 125-157.
1 Sveinn Skorri Hoskuldsson. «Kallar hann mig, og kallar hann |jig...» // Bokaormurinn-
Skjoldur. 1987 2, 2/3: 5.
A B/ornsson A. Nokkur огб um skaldskap Jons Helgasonar // Andvan 111. 1986: 53-4.
' Knstinn E. Andresson. Jon Helgason. // Islenzkar nutimabokmenntir 1918-48.
Reykjavik, 1949. P. 173-181.
Sveinn Skorri Hoskuldsson. Op. cit.
' Arnuson Ki Hja aldmtrcnu V Timant Mals og menningar 1988. 49. 3:263-277
391
4 О географии «Остановок» см.. Sigurdsson J Jon Helgasons dikt Afangar // Gardai
1971. 2:9-26.
I Sigurdur Nordai / Ed. bjodsagnabokin. Reykjavik, 1972. 3: 305
10 Bjornsson L Fra sidaskiptum til sjalfstacdisbarattu: Islandssaga 1550-1830. Reykjavik.
1973: 25
II Porhallur Vilmundarson Kcnnd cr vid Halfdan hurdin гаиб // Afmselisrit Jons
Helgasonar / Eds. Jakob Benediktsson et al. Reykjavik, 1969. P. 431 ff.
Bnem () Utilegumenn og audar tottir. Reykjavik, 1983: 77-80
11 Bjornsson L. Op. cit.: 29-30; Porkell Johannesson. Timabilid 1770-1830.
Upplysingarold. Saga Islendinga 7. Reykjavik: MenntamalaraO og bjodvinafelag, 1950
14 См. комментарии к тексту: Knutsson /. Op. cit. P. 5-7; Andersen Lise Praestgaard.
Op. cit. P. 144 ff.
15 Hallddr Laxness Ur landsu5ri (Review) // Timarit Mals og menningar 1939. 2,4
70-72.
16 Knutsson /. Op. cit., 22-24 (комментарии к тексту).
17 Arnason К. Oldubrjoturinn kargi // Timarit Mals og menningar, 1988. 49, 2. P. 162.
Cm.: Knutsson /. Op. cit. P. 24-26 (комментарии к тексту).
14 Benediktsson J. Op. cit. P. 5.
211 См. комментарии к этим строкам: Knutsson /. Op. cit. P. 11-12.
21 Cm.: Knutsson /. Op. cit. P. 45-49 (комментарии к тексту).
22 См.: Knutsson /. Op. cit. P. 44-45 (комментарии к тексту).
23 См.: Knutsson /. Op. cit. P. 42-44 (комментарии к тексту); см. также: Andersen. Lise
Praestgaard. Op. cit. P. 129.
24 См. предисловие Сильи Адальстейндоухтир к: Carleton Р. Tradition and
Innovation in Twentieth Century Icelandic Poetry. Ph. D. Diss. Universily of California,
Berkeley. 1967.
25 Kuhn H. Das Drottkvaett. Heidelberg, 1983: S. 90-97; Gade K.E. The Structure of
Old Norse Drdttkvcett Poetry (Islandica 49). 1995. P. 18-20.
26 Knutsson /. Op. cit. P. 52.
Перевод с английского И. В. Свердлова
Эва Эстерберг (Лунд)
Вера, доверие и выгода: людская природа
и человечество как общий феномен
Независимо от конечной цели, все историки в своих работах
изучают людей — будь то отдельные индивидуумы или груп¬
пы: люди как деятели прошлого, жертвы, победители или
побежденные. Следовательно, можно предположить, что
именно люди и должны являться предметом рассмотрения во
всех вступительных главах книг по истории. Кажется естественным, что
любой исследователь, прежде чем приступать к интерпретации поступ¬
ков людей прошлого, должен прояснить свою собственную точку зрения
на человека. Однако на практике этого не происходит. Напротив, вопрос
о том, что представляли собой люди как персонажи истории, совершен¬
но замалчивается. Историки охотно рассматривают такие понятия, как
общество, государство, класс, пол или этническая принадлежность. Но
редко кто из них находит в себе силы написать хотя бы несколько строк о
собственных взглядах на человеческую природу. Вероятно, они исходят из
некоего смутного представления о людях как действующих лицах в исто¬
рии, но немногим больше. Тем не менее, косвенным образом они выра¬
жают определенные взгляды, что вполне естественно, ибо все историки
основываются в своих исследованиях в конечном счете на человеческих
действиях. Более того, в последние годы исследования биографического
характера переживают новый подъем, и это позволяет надеяться на то, что
индивидуум в истории стал пользоваться большим вниманием. В связи с
этим можно сформулировать следующие четыре группы вопросов:
Каково соотношение между социальной структурой и деятелем или
субъектом? С одной стороны, человек может восприниматься как мари¬
онетка, связанная унаследованными чертами или внешними обстоятель¬
ствами, экономическими ограничениями, социальными моделями или
долго действующими нормами. С другой стороны, возможно, он облада¬
ет автономией, свободой выбора, способностью культурного творчества,
а не просто слепо следует укоренившимся обычаям?
Что именно наделяет людей их идентичностью, и каким образом эта
идентичность определяет человеческие поступки? Как именно соци¬
альные функции учитывают идентичность, и как в одном человеке могуч
сочетаться разные идентичности?
393
В какой мере люди действует рационально, хорошо продуманным
образом, сознательно, логично и преследуя вполне определенную цель'*
Всегда ли поступки людей исходят из осознания своей индивидуаль¬
ности, ощущения собственного «я», саморефлексии? В свою очередь, это
часто связано с более существенным вопросом — оставались ли люди в
основе своей одинаковыми на протяжении столетий, или же только со¬
временная личность отличается индивидуализмом и саморефлексией?
В конечном счете, все эти вопросы касаются взаимоотношения меж¬
ду индивидуумом и группой, человеком и его окружением, индивидуализ¬
мом и коллективизмом1.
Кристина, Альва и Вольфганг
Индивидуум прошлого участвовал в революциях, занимался законотвор¬
чеством, возделывал землю и рожал детей. Он или она появляются в виде
цифр в таблицах или в виде имен собственных в книгах.
Тем не менее, ясно, что его или ее следует, прежде всего, искать в
биографии, истории индивидуумов. Биография — это попытка реконст¬
руировать жизнь человека в целом. Она составляется посредством изуче¬
ния сохранившихся писем, дневников, автобиографий. Однако цельная
картина не появляется сама собой, какое бы количество откровенных
писем вы ни подняли в архивах. Необходимо произвести отбор докумен¬
тов, найти руководящий принцип. Исследователь, более или менее созна¬
тельно, конструирует контекст, который позволяет нам понять действу¬
ющие силы, управлявшие определенной личностью в конкретной
ситуации и формировавшие ее поведение. Контекст создает человека, а
исследователь творит контекст.
Вопрос в том, не пропадает ли сама личность, пока исследователь осу¬
ществляет свою работу? Не превращается ли человек, в конце концов, в
обыкновенный маленький штрих в контексте, который исследователь
обрисовал широкими и уверенными мазками кисти? Не был ли в этом
смысле прав Фуко, когда писал о смерти личности? Нам никогда не уда¬
ется, утверждал он, постигнуть саму личность, а лишь некие силы, кото¬
рые за ней стоят, и то, как они, в свою очередь, взаимодействуют2. Одна¬
ко Фуко был сложным и парадоксальным мыслителем; у него можно
найти и мысли, пробуждающие глубокую экзистенциальную веру в лю¬
дей.
Каким же тогда образом историки и другие авторы биографий конст¬
руировали контекст, который позволяет понять человека, как они вычле¬
няли силы, стоявшие за человеческими действиями? Рассмотрим три при¬
мера; три жизни знаменитых людей, исследованные историком и двумя
социологами. Эти примеры широко известны — и по вполне понятным
причинам. Работа с противоположностями имеет свои преимущества
Поэтому я смело, возможно, даже дерзко, — помещаю легендарного швед¬
ского историка Курта Вейбуля бок о бок с имеющим международную из¬
вестность социологом Норбертом Элиасом, а рядом с ними ставлю одно¬
394
го из молодых шведских социологов. С первого взгляда контраст кажется
действительно разительным. И все же, существуют ли какие-либо схожие
черты в подходе к историческим личностям, какие-то параллели в том, как
авторы выбирают контекст для их понимания? Или мы в состоянии раз¬
глядеть лишь отличия и диаметрально противоположные авторские инди¬
видуальности? Что ж, попробуем разобраться.
Курт Вейбуль писал о королеве Кристине (1626—1689 гг.), единствен¬
ной женщине-правительнице в Швеции XVII в., которая перешла в ка¬
толичество и отреклась от престола. Женщина, которая была скорее куль¬
турным политиком, чем воительницей, скорее одаренной личностью, чем
администратором, скорее честолюбивой, чем скромницей, и, судя по все¬
му, скорее несчастной, чем счастливой. Образ королевы, созданный Вей-
булем имел довольно спорный характер1. Тем не менее, сама работа ос¬
тается захватывающим, провоцирующим на размышления и даже
выдающимся творением.
Вейбуль писал в то время, когда в исследовательской ученой среде
было модным провозглашать свою работу «свободной от всяческих тео¬
рий». Это не означало, что историки первой половины XX столетия ис¬
пытывали недостаток в идеях и гипотезах относительно того, что имеет
особенно большое значение в калейдоскопической мешанине, которую
мы называем историей; просто Вейбуль писал свою книгу прежде, чем
историческое исследование начало явно воспринимать социологические
теории. Поэтому от него и нельзя ожидать подробных рассуждений о том,
чем вообще бывают обусловлены поступки людей. Он не рассматривает
ни одной психологической теории и сам не пытается выдвинуть какую-
либо гипотезу относительно поведения женщин-правительниц или мо¬
нархов XVII столетия. Вместо этого Вейбуль переходит непосредственно
к делу, т.е. к человеку как таковому: обращается к поступкам королевы
Кристины в качестве правительницы, ее отречению и политической де¬
ятельности в Европе в годы, последовавшие непосредственно за отрече¬
нием. По его мнению, с помощью логики и критического подхода к ис¬
точникам, можно дать верную интерпретацию исторических событий4.
Вейбуль предпочитает сглаживать парадоксы и противоречия, которые
обнаруживаются в человеке. Они возникают лишь потому, что свидетели
событий, как и позднейшие ученые, не смотрели на эти события крити¬
чески, т.е. не обладали способностью отличать хорошие источники от пло¬
хих. Современным историкам необходимо лишь продраться через проти¬
воречия, и тогда они найдут гармоничную индивидуальность. Дабы понять
поступки королевы, Вейбуль реконструирует исторический контекст. Этот
контекст создается политической жизнью Швеции и Европы, он возникает
из конфликтов и взаимодействий таких сил, как аристократия и корона,
или папа и кардинал Мазарини. Таким образом, контекст носит явно по¬
литический характер, а главное действующее лицо оказывается существом
политическим. В данном отборе как раз и присутствует невыраженная те¬
ория. Именно сквозь призму этой идеи жизнь Кристины и будет представ¬
лена потомству.
Под пером Вейбуля Кристина становится рациональным политичес¬
ким деятелем, предпринимающим логичные и продуманные шаги для
395
достижения своих целей. Прежде всего молодая королева прилагает уси¬
лия для восстановления королевского престижа. Вторая цель — реше¬
ние вопроса о престолонаследии. Самим выбором слов Вейбуль подчер¬
кивает то, как она сохраняла хладнокровие и крепко держала в своих
руках нити политической игры. Однако не только в политике королева
действовала с продуманной, сознательной и холодной решительностью.
По мнению Вейбуля, обращение Кристины в католическую веру было
логичным шагом, сделанным человеком острого ума. Определенные
предпосылки этому заложили учителя Кристины еще в ее юности. Жар¬
кие споры между Йоханесом Маттие и ортодоксальными лидерами
шведской церкви заронили в душу девушки семена оппозиции лютеран¬
скому учению. Таким образом, ее обращение в католичество ни в коей
мере не является следствием романтического порыва, но скорее — ин¬
теллектуального выбора. С этой точки зрения, полагает Вейбуль, отре¬
чение от престола становится героическим поступком. Сама Кристина
всегда рассматривала его в этом ракурсе. Она полностью осознавала
значение своего решения. Будучи католичкой, она не могла оставаться
на троне в протестантской Швеции. Объясняя поступки Кристины в те
первые годы на европейской сцене, Вейбуль вновь использует модель
политической личности. Он отмечает ее борьбу за этикет и высокое
положение в придворной жизни континентальной Европы. Но и эти
действия имели характер Realpolitik, этикет являлся «оружием этой без¬
земельной монархини в борьбе за позицию в свете. Кристина вела ее
мастерски и добилась выдающихся успехов. Она уязвила тех многих,
кого желала уязвить. Но никто не должен был забыть, что она была мо¬
наршей особой, королевой Швеции». Так как Кристина оказалась ко¬
ролевой без королевства, не имевшей возможности собирать налоги, ее
политическое влияние стало зависеть от успешного соблюдения личных
экономических интересов. По Вейбулю, политика — для него это, стро¬
го говоря, власть и экономика — как раз и есть то, что происходило «н
действительности».
От Вейбуля мы переходим к недавно опубликованной биографии. Она
была написана социологом, знакомым с нынешними дебатами касатель¬
но личности и ее окружения. И здесь мы снова встречаем изображение
легендарной женщины, политической деятельницы шведской социал-де¬
мократии XX в. и сторонницы демократии Альвы Мюрдаль, этого своеоб¬
разного «водоворота в современном потоке»*. Поначалу автор обсуждает то,
что сам называет постмодернистским вызовом — говорит о том, что охота
за цельной и последовательно действующей личностью, которая упорно
следует своему жизненному плану, обречена на провал. Жизнь никогда не
представляет собой последовательного целого, пишет Ян Олуф Нильсон
Она формируется из «рухнувших проектов, остановок и стартов, окольных
путей и коротких отрезков».
Однако когда Нильсон обращается к жизни Альвы, он, тем не менее,
описывает ее, создавая из фрагментов нечто цельное. В точности как
Выражение заимствовано из заглавия разбираемой автором статьи kiiiiiii
Я.О Нильсона «Альва Мюрдаль — водоворот в современном потоке» {прим пер >
396
Вейбуль, он пытается обнаружить п ее жизни какую-то логику. Но если
Кристина была для Вейбуля живым воплощением политической влас¬
ти. под пером Нильсона Альва со своим знаменитым мужем Гуннаром
Мюрдалем становятся, в первую очередь, существами интеллектуальны¬
ми. Ими управляет мир идей, распространенных в США и Швеции в
1920-е—1930-е гг. Именно тогда, по мнению Нильсона, на основе этих
свойственных новому времени идей и формируется их жизненный про¬
ект. «Очищенный» язык эсперанто как идеальная прагматическая цель
в мире, разделенном на множество наций и наречий, культивирование
народного движения, Конт и позитивизм в качестве мировоззренческих
позиций — все это в совокупности и определяет жизненный план Аль-
вы. Она говорит о «современной семье», «современном индивидууме»,
«современном воспитании детей»5. План жизни Альвы складывается из
ее жизненных предпочтений, но прежде всего — из общих с Гуннаром
идей6. В то же время, ее практическая деятельность, ее отношения с
коллегами и интерес к театру и литературе оттесняются на второй план.
До определенной степени Нильсон, как и Вейбуль, рисует портрет
женщины, который имеет черты «бесполого» мыслителя. По Вейбулю,
Кристина — политическая личность. Для Нильсона Альва — скорее, чи¬
тающая натура, рациональный ученый. Планы обеих сформировались
еще в их юности. Нам удается узнать крайне мало о виражах и поворотах
на их жизненном пути, об их женских переживаниях, тревогах и колеба¬
ниях. Личным женским проблемам у Нильсона посвящено лишь несколь¬
ко страниц в единственным разделе. Данная тема неуклюже отделяется
от остального; как нечто пустячное по сравнению с грандиозным, поис¬
тине современным жизненным проектом.
Теперь обратимся к третьему примеру — гениальному Моцарту. Лич¬
ность, словно удушающим корсетом сдавленная денежными проблема¬
ми, общественными нормами, правилами и предписаниями — вот что
показывает великий социолог Норберт Элиас в своих волнующих рабо¬
тах о Моцарте. Его исследования были опубликованы посмертно как
часть более крупного замысла, посвященного буржуазным художникам
в придворной среде7. Элиас не занимается рассказом. Он размышляет,
сравнивает и пытается осмыслить. В качестве отправной точки он при¬
нимает смерть Моцарта. В возрасте тридцати пяти лет 7 декабря 1791 г.
Вольфганга Амадея Моцарта положили в могилу для бедняков. Он был
сломлен жизнью, разочарован в венской аудитории и несчастен в личных
отношениях.
Дабы осмыслить трагедию Моцарта, Элиас размышляет о его психи¬
ческих особенностях, неугасимом стремлении к любви и признанию, об
отношениях с отцом, о простых пристрастиях в повседневной жизни, его
невероятной работоспособности. Однако прежде всего Элиас анализирует
те структуры, которые тугими нитями опутывали художника в то время.
Он показывает жесткие стандарты, считавшиеся тогда обязательными в
творческой работе, и обличает законодателей общественного вкуса, пре¬
пятствовавших современникам Моцарта открыть в нем уникальный та¬
лант; все то, что мешало увидеть его таким, каким ему жизненно важно
было предстать. У последующих поколений могло сложиться мнение, что
397
Моцарт был одним из баловней судьбы, этаким вундеркиндом, которым
сочинял музыку словно играючи. Он властен был создавать мелодии, ко¬
торые оставались жить вечно. Однако необходимо понять, считает Эли¬
ас, что сам Моцарт мог искренне считать себя неудачником: «Не исклю¬
чено, что внутри человека, являющегося великим художником, таится
своего рода грустный клоун; настоящий успех и бесспорные достижения
в глазах человечества не исключают того, что в собственных глазах он
выглядит полным неудачником — и тем самым обрекает себя на то, что¬
бы стать им и в жизни».
Моцарт оказался гением в ту эпоху, когда еще не существовало поня¬
тия художника-гения. Он явился необычайно одаренной личностью еще
прежде, чем был создан романтический идеал гения, прежде чем образо¬
валось пространство для в высшей степени индивидуализированного ху¬
дожника. Вместо того он жил как приниженный выходец из бюргерства
в эпоху придворной культуры, когда музыканты и живописцы рассмат¬
ривались в качестве ремесленников. Они выполняли заказы, которые
нужно было сдать в срок, чтобы поспеть к праздникам, свадьбам и коро¬
нациям. Таким образом, Моцарт ввязался в безнадежный бой, пытаясь
сначала добиться финансовой поддержки от аристократов и прелатов, а
затем — противостоять их требованиям касательно того, как должна зву¬
чать музыка. Когда, наконец, он сделал шаг к тому, чтобы превратиться
в свободного художника, независимого от двора, это означало, что он
более не мог сносить статус придворного музыканта. Однако его новое
положение оказалось шатким и уязвимым. Жизнь его теперь висела на
тонком волоске; рукоплескание непостоянной аудитории, доходы от
большой оперы. И вот этот волосок оборвался...
Нетрудно уловить различие между Вейбулем, Нильсоном и Элиасом
как биографами. Гораздо интереснее то, что можно найти определенные
черты сходства. Вейбуль подходит к действиям Кристины как к пробле¬
ме причинности: чем было вызвано ее отречение? Нильсон, в духе Сарт¬
ра, рассматривает жизнь Альвы по отношению к ее будущему, ее проек¬
ту". Но Альва становится Альвой, лишь включенная в определенный стиль
жизни. Значит, это ближе к причинному объяснению, даже если ее об¬
разование не определяло каждый предпринимавшийся ею шаг. И Крис¬
тина, и Альва выступают как рациональные деятели. Они обладают трез¬
вым умом и действуют логично. То, что их биографы полностью
расходятся в методе и стиле изложения, в данном случае не имеет значе¬
ния; в конечном счете, они оба рисуют совершенно логических и после¬
довательных людей, целенаправленно двигавшихся к намеченным целям.
Таким образом, не имеет значения и то, является ли объектом исследо¬
вания знаменосец современности 1930-х гг., или своего рода министр
культуры без портфеля в католической Европе XVII столетия.
В рассматриваемых здесь биографиях ни Кристина, ни Альва не яв¬
ляются жертвами истории. Альва, несомненно, включена в «современным
но!ОК», но, в любом случае, она сама — важный водоворот в этом пото¬
ке. Кристина, возможно, ощущала ограничения со стороны политичес
кн\ правил и предписаний, но, несмотря на это, могла манипулирован
ними правилами по собственному желанию. Если и есть здесь жертва
398
так это Моцарт в замечательном анализе Элиаса. Величайший из всех
творцов, неистовая, неукротимая и воплощенная в одном человеке твор¬
ческая активность. А Элиас позволяет нам увидеть его как человека, за¬
жатого в тисках культурных структур, как жертву. Блестящий парадокс.
Эти три жизни могут быть подвергнуты проверке моделью внешнего
проявления рационального действия, разработанной Хабермасом9. Так,
Кристина Курта Вейбуля и Альва Яна Олуфа Нильсона иллюстрируют
одну и ту же категорию: целенаправленное действие, эффективное и под¬
чиняющееся определенной стратегии. Однако есть и отличия. Если Кри¬
стина Вейбуля — политический деятель, то у Нильсона, с особым упором
подчеркивающего, что «полем деятельности» для ученых, художников и
архитекторов были условия, созданные новым временем, Альва-политик
практически затмевается идеологом Гуннаром-Альвой. Тем не менее, у
Кристины Вейбуля имеются добавочные опоры. Ее поступки также обус¬
ловливаются концепциями справедливости и морали; то, что Хабермас
назвал регулируемым нормами действием. Она осознавала свой долг, по¬
нимала требования государственной религии. Кристина выросла в усло¬
виях политической культуры, покоившейся на законе, справедливости и
определенных понятиях об обязанностях монарха перед собственным
народом. Поэтому она понимала, что не может отречься от лютеранской
веры и, тем не менее, продолжать править страной.
С другой стороны, мы имеем блестящее изображение Моцарта, со¬
зданное Элиасом. Этот художник, который демонстрирует экспрессивное
действие в эпоху, когда еще не родилась идея о «художнике» как таковом.
Он эмоциональная, эксцентричная и ранимая личность. Тот, кто всю
свою жизнь, будто маленький ребенок, жаждал признания и любви. Че¬
ловек, создавший вечные произведения искусства, но замученный до
смерти отсутствием денег и любви, жертва бездны, зияющей между ре¬
меслом и искусством.
Каждой личности по нише
Альва, Кристина, Вольфганг Амадей. Каждый из них находится в нише,
выбранной их биографами. Однако достигается это разными способа¬
ми. Портреты актуализируют многие глубинные вопросы о людях, их
окружении и индивидуальности. Историкам и социологам не следует
рассматривать людей как собачек, которые автоматически выделяют
слюну при виде лакомства. Не хотелось бы иметь в качестве модели и
этакую марионетку, беспомощно барахтающуюся, стоит лишь куколь¬
нику обрезать держащие ее веревочки. Напротив, следует исходить из
предпосылки, что люди обладают определенной свободой действия, —
и это не мешает исследователям рыться в глубине веков в поисках тех
законов, биологических или социальных, которые ограничивали данную
самостоятельность; механизмов, которые, вопреки всему, заставляли
огромные толпы людей маршировать еп masse в одном направлении,
руководствуясь экономическими или общественными нуждами. Когда
399
некто декларирует человеческую свободу, провозглашая, что человек
является центром мироздания, он ограничен рамками иудео-христиан¬
ского гуманизма. Если мы подчеркиваем человеческую зависимость oi
биологических или физических законов, а также частично от социаль¬
ной структуры общества — это имеет корни в своего рода научном де¬
терминизме, следы которого прослеживаются от Декарта и Ламеттри до
Дарвина, Маркса и Фрейда. В таком случае, люди получают сходство то
ли с управляемыми механизмами, то ли с животными, ведомыми есте¬
ственными потребностями или бессознательными инстинктами. Разу¬
меется, это упрощение. Такая трактовка не учитывает сложность науч¬
но-исследовательского диалога, который ведется с XVII до XX в. Однако
она облегчает понимание реакции XX столетия, олицетворяемой, на¬
пример, Ноахом Хомским, утверждавшим, что человеческая речь кар¬
динально отличается от речи животных, потому что обладает безгранич¬
ной возможностью создавать новые комбинации. Или Сартром, когда
он подчеркивает ответственность человека в принятии им самостоятель¬
ных решений. Люди играют роль, совершенно отличную от той, что от¬
ведена деревянным человечкам или собакам10.
Сегодня, наверное, чаще принято обсуждать культурные связи, чем
узы биологические или социальные. Однако основная проблема оста¬
ется прежней. Насколько люди свободны, чтобы оказаться в состоянии
вырваться за пределы шаблонов мышления, времени и социальных
функций, с позиций которых они привыкли смотреть, поступать и ут¬
верждаться в жизни? Даже habitus Бурдьё или «позициональность»
Линды Алькоф являются вариациями на ту же тему. Habitus, заявляет
Бурдьё, — это то, что заставляет нас видеть определенные вещи и не
замечать других. Это то, что помогает нам отбирать новые впечатле¬
ния таким образом, чтобы приводить их в соответствие с тем, чего мы
достигли благодаря нашему прежнему опыту. Это то, что защищает нас
от кризисов и критических переживаний и, в то же время, дает возмож¬
ность импровизировать в рамках определенных ограничений. Для
habitus’a имеет значение класс, воспитание и культурный капитал".
Однако Бурдьё не предполагает существования прямой связи между
социальным опытом и поступками и скорее говорит о человеческой
склонности двигаться в одном направлении.
То, что люди формируются в какой-то мере благодаря приобретенно¬
му ими опыту — мысль, характерная для всех этих теорий, как бы ни на¬
зывали подобный опыт: habitus, классовое самосознание, усвоение роли,
позиция, наследственность или психический склад. Однако личность
формируется и посредством размышлений о будущем, т.е. субъект созда¬
ется по отношению к проекту. Тогда встает любопытный вопрос: зави¬
сели ли люди всех эпох от собственных мечтаний в такой же мере, как от
наследственности, и от своих надежд на будущее — в той же степени, как
от своего накопленного опыта? Смотрел ли человек средневековья в рав¬
ной степени вперед и назад? Или это специфическая особенность совре¬
менных людей — охотно поддаваться влиянию личных планов на буду¬
щее, наряду с тем действием, которое оказывает на них собственное
прошлое?
400
Я, в свою очередь, полагаю, что люди всех обществ имели представ¬
ление о благе, мечту о лучшей жизни12. В средние века эти представле¬
ния часто были устремлены в прошлое, к божественному происхождению
человека. Однако это не означает, что подобные мечты были менее ра¬
дикальными — в смысле ширины диапазона и отрыва от реальности, —
чем те, что направлялись в будущее, к грядущему миру. Расстояние меж¬
ду мечтой и реальностью могло быть одинаково большим в обоих случа¬
ях. Разве ближе путь в рай, чем на Луну? Намного ли дальше от нас Адам
и Ева, чем марсиане?
Сказав все это, отметим, что уже такой автор, как Фома Аквинский,
способен был представить себе человека как существо, сотканное из ог¬
раничений. Человек так же глубоко укоренен в своей биологической при¬
роде, как одуванчик на лужайке, и все же имеет некую свободу. Он спо¬
собен вырваться за установленные границы11.
Причина и действие
Допустим, что люди имеют определенную свободу действия. Означает ли
это, что они к тому же действуют рационально? Что, собственно, мы име¬
ем в виду под рациональным? Изначально это слово подразумевает ра¬
зумность и расчет. Индивидуум ведет себя рационально, если в ситуации
выбора он поступает умело и сознательно. Тем не менее, против данной
формулы можно выдвинуть несколько возражений. Некоторые из них я
уже затронула, когда речь шла о Кристине, Альве и Вольфганге. Но да¬
вайте еще более усложним дело, задав несколько простых вопросов:
Можно ли назвать человека деятелем, если он пассивен, неспособен
к действию, безмолвен?
Неужели кроме экономических и социальных целей человеком боль¬
ше ничто не движет? Ведь мы действуем и по экзистенциальным причи¬
нам; из-за страха, боли, альтруистической любви, зависти, жалости. По¬
добным же образом мы можем действовать, руководствуясь скорее
нормами, чем своими интересами.
Причина действия не обязательно лежит в осознанных соображени¬
ях. Неужели оно не может происходить под влиянием эмоций, спонтан¬
но, необдуманно? Для принятия обдуманного решения требуется время,
которого подчас не хватает. Поэтому поступок может носить рутинный
или интуитивный характер; его может вызвать доверие, паника или сле¬
пое повиновение.
Эти две разные точки зрения не исключают друг друга. Напротив,
между ними есть определенная связь. Оказывается, нередко заведен¬
ная практика существует просто для избавления от муки постоянного
выбора при необходимости обезопасить себя14. В скандинавских иссле¬
дованиях последних лет два социолога в особенности вдохновили меня
на попытку разрешения такого рода проблемы15. Историки также вне¬
сли свой вклад в дело изучения человеческих поступков. Не в после¬
днюю очередь — ученые, занимающиеся исследованием ранних нерио-
14 Зак 3029
401
дов человеческой истории. Так, в средневековом обществе существуюi
феномены, не поддающиеся рациональному объяснению, связанному с
понятием выгоды или собственности. Например, относительно бедные
крестьяне вместо того, чтобы улучшить личное материальное положе¬
ние, ради спасения души отдавали целый луг или часть собственном
земли монастырю или церкви. Объяснить это мы сможем, лишь осоз¬
нав справедливость слов Марка Блока: страх перед адом являлся глав¬
ной движущей силой в жизни средневекового человека. Избавиться от
этой тревоги, постараться умилостивить никем не виданного Бога —
таков мог быть осознанный выбор человека средневековья. Он moi
предпочесть подобное избавление прямой экономической выгоде и
счастью по эту сторону жизни. М. Блок размышлял о тревоге и неуве¬
ренности как о движущих силах, когда исследовал подъем феодализ¬
ма. Господа не принуждали крестьян служить им, настаивал он, ско¬
рее сами крестьяне предпочитали отказываться от экономической
самостоятельности, получая взамен большую безопасность и защиту от
насилия со стороны других господ.
Однако можно поразмыслить и над другими примерами. С 1635 по
1778 г., когда в Швеции был вынесен последний смертный приговор за
скотоложство, от шести до семи сотен людей подверглись казни за поло¬
вые сношения с животными. Это заметно меньше, чем количество жен¬
щин, казненных по обвинению в колдовстве. Подобно колдовству, ско¬
толожество имело половые и возрастные особенности. В ведьмовских
скачках и в сношениях с дьяволом обвинялись в основном пожилые жен¬
щины; нападкам же за скотоложство подвергались молодые мужчины
Часто обвинителями мужчин оказывались женщины. Однако любопыт¬
но, что, несмотря на позор и угрозу смертной казни, иногда мужчины
сами отдавали себя в руки судей. Вплоть до середины XVIII в. это проис¬
ходило не менее чем в двадцати процентах от общего числа случаев. Труд¬
но найти в этом нечто рациональное, по крайней мере, в соответствии с
тем, что мы привыкли считать рациональным. И тем не менее, объясне¬
ние существует. Скотоложство осуждалось не только потому, что церковь
и государство пытались дисциплинировать людей и отучить их от подоб¬
ной манеры поведения. Понятие о преступности скотоложства имело
поддержку в народной среде. Представление об опасности половых сно¬
шений между людьми и животными глубоко укоренилось в народном
сознании. Наказание являлось не просто демонстрацией силы в интере¬
сах центрального правительства, техникой власти а 1а Фуко. Это также
был ритуал очищения грешника, когда тот принимал наказание и уми¬
лостивлял своего Бога. В таком случае, существовала некая логика для
больных или находящихся в депрессии людей, признававшихся в том. что
они якобы имели сексуальное сношение с животным. Временами само¬
обличение являлось явной альтернативой самоубийству16. Это был воп¬
рос рациональности чувства: люди отдавали себя в руки правосудия, дабы
избавиться от душевных мук и угрызений совести.
Историческое событие, которое невозможно объяснить лишь с том
ки зрения планирования и расчета, произошло 27 апреля 1789 г. в сток
гольмском Гамластане, районе старой части шведской столицы. Нс
402
сколько тысяч цеховых ремесленников с громкими криками и издевка¬
ми заняли Riddarhuset, место собрания аристократов. Парламент, тем
временем, собрался, чтобы решить, следует ли поддержать короля в про¬
исходившей в это время войне с Россией. Знать выступила против ко¬
ролевского деспотизма. Ремесленники приняли сторону короля и на¬
правились к Riddarhuset, намереваясь припугнуть представителей знати
и склонить их к послушанию монаршей особе. Под одобрительные воз¬
гласы ремесленников король явился к Riddarhuset, где и отпраздновал
свой триумф. Военные действия могли продолжаться. Таковы общие
контуры исторического события. Однако в чем же состоял его более глу¬
бокий смысл?
По Густаву Ле Бону, массы в истории, как правило, были примитив¬
ной и деструктивной силой — дикой, необузданной, безликой толпой.
Они действовали инстинктивно и беспричинно. С другой стороны,
Джордж Рюде и Э.П. Томпсон считают, что протестующие массы людей
в большинстве случаев имели вполне определенные цели. Они выбира¬
ли соответствующую стратегию и потому действовали как рациональные
личности, независимо от того, воодушевляли ли их классовые противо¬
речия или идеи о традиционных правах. Можно сказать, что представле¬
ния Томпсона и Рюде оказали преобладающее влияние на современные
исследования в области социальной истории. Однако Арне Йаррик в сво¬
ем анализе стокгольмского восстания 1789 г. склонен выдвигать иную
трактовку событий. Он считает, что с точки зрения ремесленников, бунт
был и рационален, и нерационален. Восставшие имели перед собой оп¬
ределенные политические цели. Но, ко всему прочему, бунт отвечал не¬
ким нуждам, которые напрямую не могут быть связаны с указанными
целями. Подобно буржуазии и крестьянству, цеховое ремесленничество
поддержало короля в борьбе против аристократии; это был политический
акт. Многое указывает на то, что ремесленники даже получили деньги на
организацию восстания. Однако существует оборотная сторона этой мо¬
неты, объясняющая, почему ремесленники не перестали вопить и чинить
беспорядки, лишь только стало ясно, что король добился своей цели. Бес¬
порядки продолжались до глубокой ночи. В цеховом сознании существо¬
вало представление, что любая гильдия и ремесло необходимы для обще¬
ства. Однако к концу XVIII столетия положение цехов изменилось. С
возникновением производственной мануфактуры они оказались перед
угрозой исчезновения. Обязательность принадлежности к цеху подверга¬
лась сомнению, грозила рухнуть и вся конструкция карьеры ученик-под-
мастерье-мастер. Таким образом, со стороны ремесленников восстание
явилось попыткой привлечь к себе внимание, получить компенсацию за
свое уязвленное достоинство, восстановить ощущение собственной уни¬
кальности. Роялистская риторика на время вновь сделала их необходи¬
мыми.
Действительно, такая интерпретация восстания делает его понятным,
но это понимание основано на сложной цепочке рассуждений. Прежде
всего, восстание было логичным на эмоциональном уровне. Поднятый
шум и швыряние камнями были сами по себе некой целью. Все это выд¬
винуло ремесленников на передний план, сделало их заметными, на ко¬
403
роткое время дало им ощущение какой-то значимости. Однако эго было
нечто, чего сами ремесленники не могли выразить словами или не впол¬
не ясно себе представляли. Скорее всего, это то, что Йаррик называе1
эмоциональным мышлением — нечленораздельным, временами полным
противоречий и функционирующим на низшем уровне сознания17. Дан¬
ный анализ иллюстрирует, каким любопытным образом современное ис¬
следование бьется над проблемой определения причины как чего-то бо¬
лее сложного, нежели просто холодный умысел и материалистический
расчет.
Вера и интуиция
Другая линия критики представлений о рационально-аналитической
мотивации состоит в том, что люди могут совершать поступки под вли¬
янием чистой веры. Человек может спонтанно прийти к заключению,
что кто-то или что-то заслуживает доверия; здесь действует своего рода
интуиция, которая основана, вероятно, на опыте, почерпнутом из
предшествующей, схожей ситуации, но не сформулирована, не осмыс¬
лена и не продумана. Например, в Италии VIII в. существовали vin
devoti, или преданные мужи, средние землевладельцы, связанные с
королем. Такое положение не давало им никаких материальных пре¬
имуществ. Однако они пользовались особым статусом и время от вре¬
мени обменивались с королем подарками. Эти дарения, тем не менее,
не имели наследственного характера и подлежали возврату, когда чело¬
век переставал быть vir devotus etjidelis. Данная система, по-видимому,
может рассматриваться в качестве предтечи феодальных отношений
типа хозяин-вассал, основанных на верности и лояльности. Такие от¬
ношения подразумевали взаимную выгоду и имели, в этом смысле,
справедливый характер. Однако, когда человек действительно стано¬
вился vir devotus, он не предполагал в каждой новой ситуации действо¬
вать по расчету в поисках лучшего выбора; он мог действовать под вли¬
янием слепой веры, если хотите — из послушания1*.
Другой пример — система патрон-клиент в XVI и XVII вв. Она все
более привлекает внимание современных исследователей. Это был сво¬
его рода способ осуществления власти и влияния в те времена, когда
разница между частным и общественным еще не была столь отчетливо
выражена. Отличительной чертой системы патрон-клиент было то, что
она имела неформальный характер и регулировалась личными отноше¬
ниями, основывавшимися на доверии, в свою очередь, строившемся на
взаимном обмене услугами, которые не обязательно должны были ком¬
пенсироваться немедленно. Например, человек более низкого социаль¬
ного ранга добивался расположения представителя знати, имевшего
хорошие связи при дворе. Дворянин решал принять первого на служб\
в качестве частного преподавателя для своих сыновей и как секретаря
для себя лично. Тот получал пищу, жилье и, время от времени, каком-
то подарок — но не регулярное жалование. Считалось, что патрон рано
404
или поздно посредством рекомендации поможет своему клиенту про¬
двинуться и занять более высокое положение19. Само по себе это разум¬
но; оба что-то получают. Однако что руководит клиентом в выборе сво¬
его патрона, или патроном — при выборе клиентов? Разумеется, обе
стороны исходят из способностей другого. Но дело не в некой проце¬
дуре отбора по достоинствам. Напротив, это интуитивное заключение.
Я, видимо, могу доверять ему, думает клиент. Он, вероятно, окажется
полезным и может мне пригодиться, говорит себе патрон. Очевидно, что
в данном процессе существовали рискованные моменты. В конце кон¬
цов, могло случиться так, что старания клиента оказывались напрасны¬
ми. Он служит своему патрону долго и усердно, а затем материальное
вознаграждение ускользает у него из рук, потому что патрон умирает или
по каким-то причинам не может или не желает пойти навстречу чаяни¬
ям клиента.
Судебные процессы в Швеции в средние века и в XVI—XVII вв. рас¬
полагают к дальнейшим размышлениям. Вплоть до 1690-х гг. среди даю¬
щих свидетельские показания мы встречаем так называемых edgarder, или
дающих клятву. Обвинения проверялись, в частности, и при помощи этих
приносивших клятву свидетелей, заявлявших о невиновности обвиняе¬
мого. Двенадцать честных мужей утверждали, что человек не мог совер¬
шить изнасилование, в котором его обвиняли. Двенадцать достойных
женщин торжественно ручались, что мать не могла умышленно умертвить
своего новорожденного ребенка. Эти свидетели не присутствовали при
факте изнасилования женщины или удушения ребенка. В сущности, они
точно не знали, что именно произошло. Они оценивали лишь то, заслу¬
живает ли доверия ответчик; ручались за него или за нее. То была систе¬
ма, где вера, принадлежность к группе и общественное положение мог¬
ли спасти жизнь человека.
Рассмотрим чисто практические условия принятия решений. Мы не
всегда действуем в соответствии с правилами и принципами. К тому же
мы не всегда располагаем достаточным временем. Фактически реальная
экспертиза часто строится на быстро принимаемом решении и доско¬
нальном знании существующих прецедентов. Вопрос в том, чтобы иметь
подходящие примеры у себя в голове и, не в последнюю очередь, в соб¬
ственной практике. Врач, ставящий диагноз нескольким жертвам дорож¬
но-транспортного происшествия, не может тратить много времени, что¬
бы проанализировать ситуацию и решить, кому из пострадавших оказать
помощь в первую очередь. Он вынужден принимать решение быстро —
а это требует того, что мы назвали бы умением сделать правильный вы¬
бор или хорошей интуицией. В действительности, интуиция — это свое¬
го рода невыразимый и несистематизированный, но все же хорошо фун¬
кционирующий практический опыт. Он сохраняется в нас. подобно
умению ездить на велосипеде, и не обязательно может быть выражен сло¬
вами, в виде правил, или поддаваться осмыслению.
Следовательно, не стоит превозносить традиционный тип рациональ¬
но-аналитического рассуждения как единственный или важнейший источ¬
ник деятельности человека. Люди также могут действовать под влиянием
опыта, здравого смысла, интуиции или чистых эмоции. Кто-го носiупасi
405
так же, как он уже раньше успешно поступал, кто-то припоминает похо¬
жие ситуации. Кто-то доверяет одним людям и не доверяет другим. Кто-
то действует спонтанно, дабы избежать сложностей и затруднений. Эти
соображения можно без особого труда применить к случаям из истории.
Что, в действительности, представляет из себя решение, которое прини¬
мает восседающий на лошади генерал, страдая от боли в раненой руке, с
разбитым полевым биноклем, с глазами, которые ему застилают пыль и
дым, получив паническое донесение от своих офицеров? Много ли у него
найдется трезвых аргументов, прежде чем будет отдан приказ к наступле¬
нию или отходу, продолжению боевых действий или перегруппировке сил?
Прибегнет ли он быстро и привычно к практическому опыту, положится
ли он на волю случая или станет отдавать приказы под влиянием усталос¬
ти и паники?
Но, возможно, принять вызов, исходящий из того факта, что люди в
истории действуют под влиянием привычки, интуиции, повседневного
опыта или веры, в конечном счете позволят прежде всего те исследова¬
ния, которые посвящены феминистской проблематике, а также вопросам
культуры. Иными словами, те, в которых, к счастью, внимание ученых
обращено не только на общественных лидеров, но и на других людей; те,
в которых станут изучаться игры с детьми, забота о престарелых, любовь
или дружба в истории. Все то, что не поддается расчету, строгому конт¬
ролю, не может быть спланировано. Все это разумно и значительно, за¬
нятно и созидательно — однако не подпадает под общепринятое опреде¬
ление поведения, контролируемого рассудком и логикой.
Современные люди
Характерные черты Нового времени, эпохи, которую мы называем совре¬
менностью — проблема, много обсуждавшаяся в последние годы. Так, по
всему миру с 1980-х гг. переживают возрождение идеи Н. Элиаса о том,
что историческое развитие приняло форму цивилизационного процесса.
По Элиасу, новые традиции и обычаи придворной среды и других элит¬
ных групп просачивались в широкие общественные круги и изменяли
структуру народных эмоций. Модернизация, в таком случае, шла бок о
бок со все большей сублимацией эмоций и контролем за ними. Несмот¬
ря на то, что позиция самого Элиаса далеко не однозначна, его нередко
характеризуют как оптимиста модернизации. Другие исследователи сле¬
дуют проложенным им путем, даже если придают иные оттенки термину
«цивилизованный». Так, шведские ученые Арне Йаррик и Юхан Седер-
берг подчеркивают, что уважение к человеческой жизни, право на рав¬
ное обращение, забота об обездоленных слоях и личная независимость и
терпимость являются центральными элементами цивилизационного про¬
цесса20. В то же время Фуко являет нам более пессимистичный взгляд на
развитие современного общества: власть находит новые способы мани¬
пуляции людьми. Контроль опутывает своими крепкими сетями не тело,
а душу, и гнет не становится ог этого менее тяжким.
406
Отталкиваясь от идей, высказанных Элиасом и Фуко, многие иссле¬
дователи формируют собственные взгляды на современное общество и
современных людей, а также на их отличие от обществ и людей прежних
эпох. Эти типологии имеют некоторые вариации, однако в общем сво¬
дятся к одним и тем же парадигмам. В соответствии сданной точкой зре¬
ния, современные люди отличаются способностью размышлять о себе и
собственном существовании, своим индивидуализмом и умением смот¬
реть вперед, стремлением к переменам (не в последнюю очередь в самих
себе) и свободе от социальных ограничений, стремясь получить в буду¬
щем новые возможности. Напротив, люди прошлого были ограничены
узкими рамками, установленными властью, их взоры постоянно были
устремлены назад, они зависели от традиции, были склонны отождеств¬
лять себя с определенными группами и чем более социально несвобод¬
ны они были, тем более счастливы, так как общественные структуры
обеспечивали им безопасность21.
Ответ на вопрос о том, можно ли идентифицировать досовременную
личность и твердо установить время ее существования, для многих уче¬
ных очевидно связан с эпохой средневековья. Зато мнения о том, когда
произошел переход к современности, различны. Когда же появилась на
свет современная личность, если только она существует ныне не в одном
лишь воображении исследователя? Существуют три основные точки зре¬
ния по данному вопросу. Многие считают, что переломным моментом
явилась эпоха Просвещения. Другие относят решающий импульс к XVI—
XVII вв., когда, благодаря становлению капитализма и раннего современ¬
ного государства, были высвобождены новые силы. Третьей точки зрения
придерживаются несколько ведущих медиевистов, которые рассматрива¬
ют период между XII и XVI столетиями как отрезок времени, в течение
которого «пробудился» индивидуализм22. Те, кто предпочитает не углуб¬
ляться дальше XVIII в., вдохновляются главным образом Фуко — он, по
существу, исследователь Просвещения, хотя и подрывает добрую репу¬
тацию этого течения. С другой стороны, Элиас проливает свет на исто¬
рию более отдаленных от нас столетий; для него именно Ренессанс, но¬
вые государства и их придворная жизнь стимулировали новые традиции
и обычаи. А, например, для выдающегося исследователя средневековья
Арона Гуревича индивидуальное сознание — это нечто, появившееся в
Западной Европе уже в средние века.
Однако противопоставление современной и досовременной лично¬
сти таит в себе опасность срыва к упрощенному эволюционизму, к сле¬
пой вере в автономность и индивидуализм современной личности.
Возможно, вместо этого следует поставить под сомнение основные
компоненты, из которых составляется идеальный тип современной
личности. Не в том ли дело, что энтузиасты модернизации в сущнос¬
ти недооценивают саморефлексию, присущую людям средневековья?
Кроме того, не переоценивается ли свобода мышления в условиях зах¬
лестывающей нас массовой культуры общества информационных тех¬
нологий? Быть может, это скорее грезы интеллектуала, плоды фанта¬
зии журналиста, пишущего о проблемах культуры, нежели настоящая
реальность?
407
По мнению медиевиста Андерса Пилтца, существует «одно слово, сви¬
детельствующее о европейской борьбе за ясность и являющееся неоце¬
нимым даром человеческому роду. Это слово «личность»»2’. Личность, т.е.
индивидуальность — новшество, привнесенное средневековым христи¬
анством. Изначально слово persona, вероятно, означало голос или личи¬
ну. В III в. Тертуллиан вводит термин persona применительно к Троице —
Отцу, Сыну и Святому Духу. Позднее встает вопрос о двоякой природе
Христа: Он был одной личностью, и, тем не менее, имел две ипостаси —
человеческую и божественную. Слово «личность», утверждает Пилтц.
первоначально использовалось, чтобы выбраться из педагогического ту¬
пика, сделать нечто очень труднообъяснимое более доступным для пони¬
мания. В VI в. Боэций сформулировал свои размышления о личности как
«индивидуальной субстанции рациональной природы». Таким образом,
определение индивидуума вырабатывалось в ходе диалога, имевшего в
своей основе религиозную дискуссию о разных элементах понятия «Бог».
В то же время, был найден технический термин «личность» — для чело¬
века как независимого индивидуума, мыслящего, свободного, разумно¬
го и незаменимого творения, что абсолютно противоположно заменимой
личине, первоначальному значению этого слова24.
Уникальность людей, являющихся свободными индивидуумами, от¬
ветственными за свои поступки — идея, которую можно обнаружить у
евангелистов в их точке зрения на человечество. Уже Фома Аквинский и
Григорий Великий ясно показали, что люди характеризуются наличием
внутренней жизни. У людей есть сознание; они способны размышлять о
себе. «То, что имеет разум — человеческое», говорил Григорий (540—
604 гг.). Тот, кто размышляет о себе и способен наблюдать собственные
поступки со стороны, как если бы они были чужими поступками, суще¬
ствует для себя самого: «Имеющее разум — значит человеческое... Тот.
кто не уклоняется от ежедневного самоиспытания и старается познать
себя, еще не существует для себя самого. Но человек, наблюдающий себя
в собственных поступках, как если бы он смотрел на другого человека,
действительно ставит свою личность перед собственным внутренним ис¬
пытующим взглядом и существует для себя самого»2'.
Возможно, современная личность имеет иные черты, чем средневеко¬
вая. Однако нет уверенности, что эти отличия состоят именно в способ¬
ности к саморефлексии. В современном обществе у нас часто не хватает
времени и возможности для уединения, необходимого для свободных и
подлинно глубоких размышлений. Так может быть, современность отли¬
чается, напротив, как раз отсутствием саморефлексии в ее глубинном
смысле и тенденцией к интуитивному и привычному действию — в усло¬
виях вечной нехватки времени, когда в наших записных книжках деталь¬
но расписано, где и в котором часу нам предстоит побывать, когда наше
время постоянно занято и упорядочено26? Стандартизированные техноло¬
гии и бюрократические нормы все более способствуют шаблонному пове¬
дению. Все труднее становится защитить наше внутреннее пространство
от трескотни конференц-залов, посудомоечных машин и факсов.
Разумные планы или интуиция и вера? Свобода или ограничения? Со¬
временность и досовремспность. цивилизованность или примитивное!I».
408
зло или добро? Итак, наши мысли витают вокруг человеческой природы,
не находя простых ответов. Что бы еще ни случилось, пройдет много вре¬
мени, прежде чем для историков станет столь же естественным изложить,
проанализировать и подвергнуть критическому изучению свой собствен¬
ный взгляд на человечество, как сейчас — писать пространные главы о
своих взглядах на общество. В сущности, мы, историки, только тем и за¬
нимаемся, что работаем с людьми — отдельно взятыми или с группами.
Мы, тем не менее, на удивление не торопимся поставить перед собой
задачу обсуждения того, что же, собственно, такое — эта уникальная ме¬
шанина из людей, и чем она являлась на протяжении всей истории. Лег¬
ко иронизировать по поводу ограниченности историков. Однако, веро¬
ятно, молчание наступило после честной борьбы, как результат осознания
того, что мы столкнулись с некой тайной. Ибо как нам вообще понять тех
людей, которые, насколько можно судить, любили собственных детей и
в то же время осознанно посылали другие человеческие существа в газо¬
вые камеры? Даже думать об этом настолько больно, что жить становит¬
ся невыносимо. Как нам в действительности осмыслить последние дни
Моцарта, наполненные извещениями о неоплаченных счетах и болезня¬
ми, когда в голове у него звучал дивный хор, исполнявший Requiem
ceternam, или волнами набегала мелодия Lacrimosa. Изнурительный ка¬
шель и банальный счет из прачечной — и в то же мгновение нечто столь
прекрасное, отчего жизнь обретает новый смысл.
По-видимому, исследователи, имеющие дело с человеческими суще¬
ствами, ощущают некую робость, за которой скрывается скорее уважение,
чем умственная лень. Смирение перед недосягаемым — перед чем-то,
чего мы не в силах насадить на булавку в качестве нового экземпляра в
нашей коллекции бабочек.
Примечания
1 Asplund J Tid, rum, individ och kollektiv. Stockholm, 1983. P. 62; см. также: Nilsson
J O Alva Myrdal — cn virvel i den moderna strommcn. Stockholm, 1994.
2 По поводу замечательной дискуссии о Фуко, см.: Beronius М. Gencalogi och
sociologt. Nietzsche, Foucault och den sociala analysen. 1991. P. 91.
I Liedman S.-E. Humanistiska forskningstraditioner 1 Sverige. Kntiska och historiska
perspektiv // Humaniora p5 undantag. Ed. Forser T. 1978. P. 51.
4 Weibull C. Drottning Christina. Stockholm, 1931. P. 7fT.
' Nilsson J. O. Op. cit.
6 Bourdieu P. Kultursociologiska texter. 1986. P. 292.
7 Elias N. Mozart — sociologiska bctraktclscr over ctt geni. 1991.
8 Sartre J-P. Varat och lntct. 1992 (предисловие Дата Эстерберга). P. 19, 34.
4 Habermas J Kommunikativt handlandc. Texter om sprSk, rationalitct och samhallc.
1988. P. 170 fT.
Чтобы яснее представить себе объем проблемы, см.: Fagerberg /7 (cd.). Mcdicinsk
etik och manniskosyn. 1984. P. 37ff.
II Bourdieu P Distinction: a social critique of the judgement of taste. 1984. idem The
logic of practice. 1990. P. 53 ff, 291.
12 Cp.: Taylor C Sources of the self. The making of the modem identity 1989.
" Eagerberg H (cd.) Op. cit.
14 Guldens A The constitution of society 1984 P 282
409
" См., например: Asplund J Det sociala livets elementara former. Stockholm, 1987.
idem. Rivaler och syndabockar. 1989; idem. Storstadema och det forteanska livet. 1992,
см. также: Flyvbjerg B. Rationalitet og mag. Det konkretcs videnskab. 1991.
16 Ldjequist J. Brott, synd och straff. Tidelagsbrottet i Sverige under 1600-och 1700-
talet. 1992.
17 Jarrick A. Mot det moderna fornuftct. Johan Hjcrpe och andra smiiborgarc i
Upplysmngstidens. Stockholm, 1992.
|к Хотелось бы поблагодарить Дика Харрисона за информацию по данному воп¬
росу.
19 О взаимоотношениях типа патрон-клиент см.: Klient och patron. Befordnngsvagar
och st&ndscirkulation i det gamla Sverige. 1988; Persson F. Att leva p& hoppet — om
den misslyckade klienten // Historisk tidskrift, 1992; idem. En hjalpandc
hand.Principiella aspekter p& patronage I forhillande till nepotism och meritokrati under
stormaktstiden // Scandia, 1993; Samuelson J. Aristokrat eller foradlad bonde? Det
svenska fralsets ekonomi, politik och sociala forbindelser under tiden 1523-1611. 1993.
20 Jarrick A., Soderberg J. Manniskovardet och makten. Om civiliseringsprocessen i
Stockholm 1600-1850. 1994. P. 9ff
21 См., например: Asplund J. Det sociala livets elementara former. 1987; idem. Essa
om Gemeinschaft och Gesellschaft. 1991; idem. Storstadema och det forteanska livet
1992.
22 Cm.: Gurevitj A. Den svirfSngade individen. 1997.
21 Piltz A. Mellan Angel och Best. Stockholm, 1991. P. 19ff.
24 Ibid. P. 21.
25 Gregorii Magni, Homilie in Hiezechehelem. IV // SC 327.
26 Negi O. Levande arbete, stulen tid. Politiska och kulturella dimensioner i kampen
om arbetstid. 1987.
Перевод с английского С.Л. Никольского
Герхард Яриц (Кремс/Будапешт)
Спасение души, материальная культура
и повседневная жизнь
в позднесредневековой Австрии
Благочестивые деяния, призванные еще при жизни обеспечить
человеку Божье милосердие, играют в средневековом обще¬
стве чрезвычайно важную роль. Их в принципе можно рас¬
сматривать как часть повседневной жизни. Богослужения,
паломничества, процессии, обращение к заступничеству святых
и в первую очередь благочестивые дарения должны были оградить чело¬
века от сил зла и помочь ему обрести верное спасение1.
Подобные дарения pro remedio animae так или иначе основываются на
представлении о неразрывной связи и взаимозависимости материального
и духовного миров2. В сельской, равно как и в городской, аристократичес¬
кой и клерикальной среде, была укоренена вера в то, что заступничество и
поминовение гарантируют человеку более легкий и быстрый путь к спа¬
сению и могут быть обеспечены, в числе прочего, пожертвованиями ма¬
териальных ценностей. Разумеется, при этом играли некоторую роль и
вполне мирские мотивы, как, например, имущественные потребности,
условности, соревнование, престиж и пр.
Это явление имело место во всех группах средневекового общества, но
особенно в городах и в монастырях мы регулярно встречаем источники,
позволяющие применять сравнительные, количественные и качествен¬
ные, методы исследования, что открывает возможности и для исследова¬
ния долговременных тенденций и изменений.
Получателями дарений, т.е. группами или институтами, которые мог¬
ли способствовать достижению спасения, могли быть различные предста¬
вители средневекового общества: церкви, монастыри, отдельные клирики,
братства, беднота, а также определенное сообщество в целом, как показы¬
вают пожертвования средств на постройку мостов или ремонт дорог\
Среди благочестивых пожертвований встречались материальные
объекты, которые:
1) дарились как таковые, с тем чтобы получатели пользовались ими в
соответствии с их исходными функцией, предназначением и способом
применения;
2) предназначались для продажи, модификации или использования в
ином качестве;
3) продавались самим дарителем, передававшим вырученные средства
получателю;
4) приобретались или изготавливались по заказу для получателя за на¬
личные деньги, предоставленные для этой конкретной цели донатором;
деньги могли при этом быть выручены от продажи недвижимости или
иных материальных объектов4.
В центре нашего исследования стоит анализ соотношения между ду¬
ховными и материальными потребностями, вопрос о том, какие группы
материальных объектов были представлены среди дарений и как они
могли быть использованы для обеспечения вечного спасения дарителей.
Для количественного и качественного анализа нами были использованы
австрийские источники, происходящие из городской и монастырской
среды Австрии эпохи позднего средневековья, такие, как завещания,
списки даров, а также особый тип поминальных списков, в которых ука¬
зывались не только имена покойных и пожертвованные ими предметы.
В целом можно утверждать, что объекты материальной культуры, вно¬
сившиеся в качестве пожертвований, нередко отражали те или иные ос¬
новные жизненные потребности получателей. Эти потребности, однако,
были подвержены определенным изменениям. Если мы, например, обра¬
тимся к дарениям (преимущественно представителей знати), полученным
монастырями в XII в., вскоре после основания некоторых августинских,
бенедиктинских или цистерцианских аббатств, то мы обнаружим, что эти
дары в самом деле служили наиболее насущным материальным потреб¬
ностям монахов и каноников. Иллюстрацией этому может служить Liber
Confraternitatum Seccoviense (около 1180 г.) — своего рода поминальный
список мирян, в основном представителей низшей знати, вступавших в
confraternitas (братство) каноников-августинцев монастыря Зеккау в Шти-
рии (основан в 1140 г.). С большой регулярностью мы встречаем в этом
источнике пометки, касающиеся материальных объектов, пожертвован¬
ных каноникам {табл. /)'’. При этом наглядно видно, каковы в этот ран¬
ний период были их основные потребности: одежда, ткани, кровати, по¬
стельное белье, в меньших количествах продовольствие и — еще реже —
предметы богослужебного обихода.
Если сравнить эти данные с более поздними, то можно установить оп¬
ределенные изменения. Обратимся, например, к цистерцианскому мона¬
стырю в Лилиенфельде (Нижняя Австрия), основанному в 1202 г. В ис¬
точниках XIII—XIV вв. заметны новые тенденции {табл. 2)1. Одежда,
ткани, кровати и постельное белье больше не встречаются: они, очевид¬
но, уже не относятся к тем основным, жизненно необходимым предме¬
там, которые братия приобретала посредством дарений. Основной «по¬
требностью» теперь было дальнейшее улучшение условий жизни:
увеличение и расширение рациона за счет получаемых в подарок продук¬
тов; в те дни, когда не действовали постные ограничения, на столе мона¬
хов оказывалась пища лучшего качества и в большем количестве (рыба,
хлеб, выпечка, вино и т.д.). Продовольствие составляет почти три четвер¬
ти всех материальных пожертвований, упоминаемых в поминальных
412
списках этого монастыря. Второй по значению категорией являются
предметы литургического обихода.
Если сравнить эту картину с той, которую мы видим в XIV в. в ми-
норитском монастыре в Вене (основан в 1224 г.), то обнаружится сход¬
ная, хотя и не столь однозначная ситуация в том, что касается питания
{табл. J)8: основные и сверхнормативные продукты составляют пример¬
но половину всех дарений, которые братия получала главным образом
от горожан Вены. Таким образом, количественное и качественное улуч¬
шение питания и здесь оказывается основной потребностью. Далее, ли¬
тургические предметы, постройки, одежда, лошади и книги маркируют
те сферы материальной культуры монашеского сообщества, которые
также нуждались в улучшении или усовершенствовании за счет благо¬
честивых пожертвований мирян. Ценность, важность и значение пред¬
метов, призванных обслуживать базовые потребности, проделали изве¬
стную эволюцию и соотношение их изменилось.
Следующая перемена произошла в XV в. Исследования полученных в
дар австрийскими монастырями продуктов, специально предназначен¬
ных для пополнения монашеского рациона, показали, что в первой по¬
ловине столетия монахи получали улучшенное питание более двухсот (в
монастыре Хайлигенкройц, например, 201—207) дней в году, так что
лишь в немногие из непостных дней трапеза ограничивалась минималь¬
ным набором продуктов9. Это, разумеется, привело к тому, что исчезла
необходимость и даже сама возможность подобного рода дарений, так как
они зачастую уже не отвечали основным потребностям монастырей. Ис¬
ключение составляют некоторые нищенствующие ордена, для которых
они продолжали играть очень важную роль вплоть до 1500 г.10 В основ¬
ном же изменения в наших данных демонстрируют, что одежда, ткани и
продовольствие утратили свою решающую роль. В некоторых монасты¬
рях это явление затронуло не только дарения, но и саму структуру потреб¬
ления: в документах цистерцианского монастыря Райн под Грацем мы
встречаем в 1390 г. список дней с особым рационом, где указан 61 такой
день, а в 1450 г. — только 26м. Эти документы свидетельствуют, что в по¬
вседневном обиходе монастыря либо снизился интерес к добавкам, либо
то, что прежде было экстраординарным, быть таковым перестало.
Если мы обратимся к обители шотландцев-бенедиктинцев в Вене (ос¬
нована в 1158 г.), то мы увидим (табл. 4), что в середине XV в. первое
место среди дарившихся материальных объектов занимали постройки и
предметы украшения церквей, за которыми следовали предметы литур¬
гического обихода, мирские объекты престижа, такие, как сосуды из дра¬
гоценных металлов, и книги12. Упоминаемые дарения продовольствия
включают в себя уже главным образом не столько съестные припасы,
сколько приправы к ним — имбирь, перец или, например, несколько
коробок сладостей (confectum)13. Потребности, которые теперь стали «ос¬
новными», включали в себя, как видим, с одной стороны, то, что необхо¬
димо было как omamentum Dei, — церковные и монастырские постройки,
украшения для церквей, литургические сосуды и облачения; с другой сто¬
роны, релевантными стали мирские предметы роскоши. Подтверждение
этому мы находим и в других источниках XV в., таких, как. например.
413
инвентарные списки, где эти объекты встречаются нам при описании
обстановки domus abbatis или mensa abbatis, они использовались, в частно¬
сти, при приеме важных гостей аббатства. Во многом сходную картину
можно наблюдать в XV столетии и в таком негородском цистерцианском
монастыре, как Энгельсцелль (основан в 1293 г.) в Верхней Австрии
{табл. 5)14: и тут наиболее важную роль играют предметы богослужебно¬
го обихода и мирские предметы престижа, за ними идут особые продо¬
вольственные товары и книги.
Наблюдаемый рост значения мирских предметов престижа — весь¬
ма характерная и всеобщая тенденция15. Чтобы оценить ее, вернемся
в XIII в. и обратимся, например, к цистерцианскому ордену16. В нем
имела место принципиально важная дискуссия о всякого рода непо¬
добающем «материальном богатстве», которое могло привести к
superfluitas и жадности. Как раз в XIII в. генеральный капитул ордена
неоднократно занимался этой проблемой. Так, в 1231 г. был принят
статут, запрещавший владение и пользование ценными предметами
(... novitales et superfluitates in picturis, in sculpturis, in aedificiis, in vestibus
pretiosis et aliis similibus, quae deformant antiquam Ordinis honestatem...). Та¬
ковые предписывалось удалить17. Подобные же постановления, издан¬
ные в 1250, 1290 и 1294 гг., запрещали монахам иметь дорогие металли¬
ческие изделия, сосуды, кубки и ложки18. Предписывалось соблюдать
simplicitas и хранить honestas pauperitatis^.
Цистерцианские инвентарные списки XV в. свидетельствуют о про¬
изошедших изменениях. Мы сталкиваемся в них с уже упоминавшими¬
ся domus abbatis и mensa abbatis и дорогими предметами, хранящимися в
них, начиная от серебряных кубков и кончая знаменитыми позолочен¬
ными страусовыми яйцами, которые использовались, главным образом,
когда аббат принимал гостей20. В то время, как в XIII в. генеральный ка¬
питул запрещал такого рода предметы, к XV в. они, как свидетельствуют
сохранившиеся инвентарные списки, превратились в неотъемлемую часть
обихода. Понятия superfluitas, simplicitas и honestas pauperitatis изменили
свое значение и содержание; теперь они касались других аспектов мате¬
риальной культуры. Драгоценные предметы мирского престижа стали
«основной» необходимостью в «публичной» сфере жизни аббатов и мо¬
настырских сообществ в целом.
Продемонстрированные изменения можно наблюдать и в других ор¬
денах21, поэтому складывается впечатление, что мы имеем дело с некой
всеобщей тенденцией. Но, несомненно, имели место и исключения, и
другие тенденции. Например, в картезианских монастырях, которым ка¬
питул ордена строго воспрещал даже принимать в дар от мирян избыточ¬
ное продовольствие. Но еще и в XIV столетии мы продолжаем читать о
подобного рода дарениях, адресуемых австрийским картезианским аббат¬
ствам, — это был период, когда они проводили политику, соответствую¬
щую описанным всеобщим тенденциям. Как минимум, в представлении
самих дарителей добавки к монашескому рациону входили неотъемлемой
частью в набор пожертвований, которые необходимо было сделать pro
remedio animae. Впрочем, весьма скоро возобладала негативная реакция
на такого рода дары со стороны отдельных монастырей и ордена в целом'
414
Разумеется, нам следует задаться вопросом и о том, как были связа¬
ны между собой социальная принадлежность дарителей и разные типы
дарений, в данном случае — материальных объектов. Но здесь трудно
обнаружить четкие соответствия. Совершенно очевидно, что белое духо¬
венство жертвовало главным образом литургические предметы и религи¬
озные книги. Найти же какие-то значительные и принципиальные отли¬
чия между более богатыми и более бедными дарителями представляется
гораздо более трудным и проблематичным. Единственное, что можно до¬
казательно утверждать: дарения движимого имущества чаще осуществля¬
лись экономически более слабыми субъектами, в то время как более со¬
стоятельные чаще жертвовали деньги и недвижимость; очевидно, в их
глазах движимое имущество не представляло такой ценности.
Те же проблемы возникают, когда мы пытаемся сравнить представи¬
телей знати и бюргерства с точки зрения предпочтительных типов даре¬
ний. Очевидно и понятно, что до XIII в. большая часть пожертвований,
с которыми мы сталкиваемся, поступала от благородного сословия, в то
время как в XIV и XV вв. подавляющее большинство донаторов были
бюргерами. Но провести достаточно фундированное прямое синхронное
сравнение трудно, ибо применительно к знати мы не располагаем ника¬
кими списками или другими массовыми источниками, подобными тем,
что зачастую сохранились для городского населения.
Определенные отличия могли иметь место в том, что касается полу¬
чателей разных типов дарений. Главными и непосредственными полу¬
чателями в тех примерах, которые приводились до сих пор, были мона¬
стыри. Можно также отметить различия между такими вещами, как
постельное белье или продукты питания для обогащения монашеского
рациона, которые предназначались для потребления внутри монасты¬
ря и более или менее исключительно самими монахами, — и предмета¬
ми богослужебного назначения или престижными объектами мирского
обихода, которыми в известных случаях могли и должны были пользо¬
ваться гости монастыря, участники служб и процессий, прихожане цер¬
квей. В XIV—XV вв., когда в основном дарились именно такие вещи,
они были доступны обозрению и использованию более широким кру¬
гом лиц23. Преимущества совершения дарения в пользу одних только
монахов отошли на задний план и уступили место другим приоритетам.
Теперь, особенно когда жертвовались мирские престижные объекты,
которые выставлялись публично in mensa abbalis с тем, чтобы произво¬
дить впечатление на гостей, аббат получил возможность прямо или кос¬
венно публично демонстрировать миру богатство и мощь вверенной ему
обители.
Вместе с этим сдвигом в сторону большей публичности возрастали,
конечно, и опасность недоразумений и неверной интерпретации даре¬
ний, и конкуренция между дарителями. Поэтому, особенно в городской
среде, нам встречаются в это время нормативные ограничения, как, на¬
пример, изданный в Нюрнберге в XV в. запрет на установку престижных
табличек с именами умерших24.
Если попытаться в целом охарактеризовать наблюдаемую эволюцию,
то можно сформулировать следующие тезисы:
415
1) На протяжении средневековья наблюдается изменение в типологии
движимого имущества, адресуемого благочестивыми мирянами в дар мо¬
настырям. Это свидетельствует также об эволюции «основных» потребно¬
стей тех, кто выступал в качестве принимающей стороны.
2) Зачастую менялся и круг тех лиц, которые оказывались причас¬
тными к даримому имуществу: если в ранний период это были исклю¬
чительно члены монашеских сообществ, то впоследствии к ним доба¬
вились также представители мира. Это привело к тому, что многие
благочестивые дарения выставлялись на всеобщее обозрение — дан¬
ный феномен встречается особенно часто в позднесредневековой го¬
родской культуре. В качестве «получателей» такого рода дарений мог¬
ли уже рассматриваться представители различных групп городского
населения, и дарители, очевидно, рассчитывали на определенную ре¬
акцию со стороны этих последних. Степень и форма публичности мог¬
ла быть разной: например, в 1367 г. приходской священник из город¬
ка Тульн, в Нижней Австрии, завещал церкви вышитые полотнища,
которые должны были использоваться в престольный праздник и во
время других главных церковных праздников года25. В 1483 г. житель
другого небольшого нижнеавстрийского города, Вайдхофена-на-Тайе,
пожертвовал приходской церкви два серебряных кубка с тем, чтобы из
них был изготовлен крест. Этот крест должны были носить вокруг цер¬
кви во время воскресных процессий26. А вот совсем иная форма обна¬
родования дарений: в 1349 г. один венский бюргер подарил церкви св.
Марии (ам Гештаде) в Вене витраж и при этом настаивал, чтобы он
был вставлен именно в то окно, которое выходит на дом некоего Ме-
зерлейна. Этот Мезерлейн был его дядей27. Есть и другие примеры,
подтверждающие названные тенденции: во-первых, делать дарения от¬
крытыми для все более широкой публики, во-вторых, — яснее пока¬
зывать, кто был донатором: их имена или гербы все чаще встречаются
на даримых предметах28.
Подчеркнем еще раз: этот процесс представляется типичным для го¬
родских сообществ и для тех социальных групп в городе, в которых име¬
ла значение рассчитанная на публику внешняя форма, а также для таких
расположенных вне городских стен монастырей, в которых важную роль
играли горожане29. Внешняя, публичная, открытая связь между матери¬
альным, секулярным миром и миром духовным и потусторонним стала,
как представляется, более наглядной и более важной. Дарения ad pias
causas и pro remedio animae, эти материальные залоги спасения, сделались
(в городе) делом общественным.
3) Описанные изменения, коснувшиеся набора предметов, которые
приносились благочестивыми мирянами в дар монастырям, не озна¬
чают, конечно же, что какие-то вещи более вовсе не встречались сре¬
ди даримого имущества. Так, продовольствие, ткани и одежду продол¬
жали жертвовать, но теперь чаще в пользу бедных. Иногда мы можем
видеть примеры того, как — в кризисных ситуациях — монастыри пы¬
тались восстановить прежнее положение вещей: например, в XV в. в
пользу монастыря Шотландцев в Вене было сделано одно весьма щед¬
рое пожертвование; в его состав входила некоторая сумма денег, за счс!
416
которых должны были приобретаться хлеб и мясо для ежегодной раз¬
дачи бедным'0. В XVI в. к сообщению об этом дарении в поминальном
списке монастыря была сделана приписка, гласящая, что отныне оно
целиком должно использоваться на нужды самих монахов, quia etiam
et nos monachi pauperes sumus in domino..."
4) Насколько позволяют источники, мы должны также исследовать,
к какому именно использованию предназначались даримые предметы:
в своей изначальной функции, в измененном виде, или же они долж¬
ны были быть проданы, чтобы деньги пошли на нужды монастыря.
Здесь мы можем обратиться к примеру зальцбургской обители бене-
диктинок Ноннберг (основана в VII в.). В гроссбухе, охватывающем
период с 1460 по 1507 г.12, под рубрикой zu dem paw und gotshaws («на
строительство и храм») мы встречаем предметы, которые дарились с
тем, чтобы вырученные от их продажи деньги пошли на указанные нуж¬
ды. Это вещи из мирского обихода, какие имелись у многих, как бога¬
тых, так и менее состоятельных людей, и продать их в городе не состав¬
ляло труда: в основном это были одежда и украшения (табл. 6) — они
составляли 80% даримых объектов. Только 14% дарений составляли
предметы литургического обихода, предназначенные для непосред¬
ственного использования в церкви. Вообще же одежда и украшения —
наиболее часто упоминаемые объекты и в бюргерских завещаниях в
XV в.”
Мы можем сделать следующий вывод. Благочестивые дарения pro
remedio animae следует рассматривать в контексте с («основными») по¬
требностями их получателей и теми изменениями, которые они, эти по¬
требности, претерпевали. В позднем средневековье главные импульсы и
основания этих изменений исходили от определенных групп городского
населения или городского общества в целом. Предметы, пожертвованные
церкви, были важными элементами при формировании и бытовании раз¬
личных сторон «частной» и общественной вещной среды. Являясь состав¬
ными частями «comptabilite de l’au-dela»'4, они оказывали решающее воз¬
действие на связь между материальными и духовными аспектами
повседневной жизни".
Таблица 1
Дарения монастырю Зеккау, Штирия, около 1180 г. по: Liber confrater-
nitatum Seccoviense
полотно
39%
кровати
23%
продовольствие
18%
литургические предметы
7%
одежда
6%
прочие гкани
2%
прочее
5%
Источник. MGH Necr II. 357-492 (N=121)
417
Таблица 2
Дарения монастырю Лилиенфельд, Нижняя Австрия, XIII—XIV вв.
По: Necrologium monasterii Campi Li Ноги m
добавки к рациону 73%
литургические предметы 15%
прочее 12%
Источник: MGH Necr V, 368-424 (N=75)
Таблица 3
Дарения монастырю францисканцев (миноритов) в Вене, XIV в. По:
Necrologium patrum Minorum ad S. Crucem Vindobonense
добавки к рациону 35%
литургические предметы 17%
продовольствие 12%
постройки 9%
одежда 8%
лошади 6%
книги 5%
прочее 8%
Источник: MGH Necr V, 166-196 (N=88)
Таблица 4
Дарения монастырю Энгельсцелль, Верхняя Австрия, XV в. По:
Necrologium monasterii Engelscellensis
литургические предметы 44%
книги 19%
продовольствие 15%
мирские предметы престижа 15%
прочее 7%
Источник: MGH Necr IV, 239-258 (N=27)
Таблица 5
Дарения монастырю Шотландцев в Вене, середина XV в. По: Liber
oblationum et anniversariorum monasterii Scotorum Vindobonensis
постройки и украшение церкви 40%
литургические предметы 21%
мирские предметы престижа 12%
книги 11%
продовольствие 10%
ткани 5%
прочее 1 %
Источник: MGH Necr V, 308-318 (N=91)
Таблица 6
Предметы, использованные для финансирования строительства и по¬
жертвования церкви монастыря бенедиктинок Ноннберг в Зальцбур-
ге, 1468-1507гг.
одежда 50%
украшения 36%
литургические предметы 14%
Опубликовано и статье: Jantz. G, Seelenheil imd Sachkultur, 78-81 (N=58) (см. при¬
мечание 1).
418
Примечания
1 Настоящая статья представляет собой сокращенную, переработанную и обоб¬
щающую версию нескольких других статей того же автора, например: Janiz G
Seelenheil und Sachkultur. Gedanken zur Beziehung Mensch — Objekt im spaten
Mittelaltcr// Europaische Sachkultur des Mittclalters. Wien, 1980. S. 57-81; idem. Zur
Sachkultur osterreichischer Kloster im Spatmittelalter // Klosterliche Sachkultur des
Spatmittelalters. Wien, 1980. S. 147-168; idem. Seelgeratstiftungen als lndikator der
Entwicklung matcrieller Kultur im Mittelalter // Materielle Kultur und religiose Stiftung
im Mittelalter. Wien, 1990. S. 13-35; idem. Spiritual Materiality or Material Spirituality.
Cistercian Inventories of the Late Middle Ages // Medium Aevum Quotidianum 33,
1995 P. 21-27; idem. Nahe und Distanz als Gebrauchsfunktion spatmittelalterlicher
religioser Bilder // Soziale, visuelle und korperliche Dimensionen mittclalterlicher
Frommigkeit / Hg Klaus Schreiner (в печати).
2 См.: Rosenthal В. J. L. The Purchase of Paradise. Gift Giving and the Aristocracy,
1307—1485. L.; Toronto, 1972; Chiffoleau J. La comptabilite de l’au-dela. Les
hommes, la mort et la religion dans la region d’Avignon a la fin du Moyen Age. Roma,
1980; Lorcin M.-T Vivre et mourir en Lyonnais a la fin du Moyen Age. P., 1981; Mol
J. A. Friezen en het hiemamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunstS van kerken,
kloosters en armen in testamenten uit Friesland, 1400—1580 // In de schaduw van de
eeuwighcid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland
aangeboden aan prof. dr. A. H. Bredero. Utrecht, 1986. S. 28-64; Pohl-Resl B. Rechnen
mit der Ewigkeit. Das Wiener Burgerspital im Mittelalter// Mitteilungen des Instituts
fur Osterreichische Geschichtsforschung, 33, 1996; Howell M. C Fixing Movables.
Gifts by Testament in Late Medieval Douai // Pest and Present 150, 1996. P. 11-16.
3 См., например: ProchnoJ. StraBen- und Briickenbau als Seelgerat im spaten Mittelalter,
insbesondere in der Oberlausitz // Vierteljahrsschrift flir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
32, 1939. S. 37-41; Maschke E. Die Briicke im Mittelalter // Die Stadt am FluB. 14.
Arbeitstagung in Kehl 1975. Sigmaringen, 1978. S. 28-32.
4 Cm.: Jaritz G. Seelenheil und Sachkultur. S. 62 ff.
' О родственных и иных социальных связях как основе религиозной мотивации
см., например: Jaritz G. Nahe und Distanz.
6 MGH, Necrologia II. B., 1890. S. 357-402; cm.: Jaritz G. Religiose Stiftungen. S.
18, 32.
7 MGH, Necrologia V. B., 1913. S. 368-424; cm. Jaritz G Religiose Stiftungen. S.
18 ff., 32.
s Ibid. S. 166-196; cm.: Jaritz G. Religiose Stiftungen. S. 19, 33.
4 Cm.: Watzl H. Uber Pitanzen und Reichnisse fur den Konvent des Klosters
Heiligenkreuz // Analecta Cisterciensia XXXIV, 1978. S. 40-147; Jaritz G. Zur
Sachkultur osterreichischer Kloster. S. 154.
Cm.: Jaritz G. Zur Sachkultur in den franziskanischen Orden des Spatmittelalters //
800 Jahre Franz von Assisi. Franziskanische Kunst und Kultur des Mittelalters. Wien,
1982. S. 363.
11 Cm .‘.Jaritz G. Seelenheil und Sachkultur. S. 75.
12 MGH, Necrologia V. S. 308-318; cm.: Jaritz G. Religiose Stiftungen. S. 22, 34.
13 Jaritz G Religiose Stiftungen. S. 21.
14 MGH, Necrologia IV. B., 1920. S. 239-258; cm.: Jaritz G. Religiose Stiftungen. S.
22, 33.
Cm.\ Jaritz G Zur Sachkultur osterreichischer Kloster. S. 158.
Ih Cm.: Jaritz G Spiritual Materiality or Material Spirituality. P. 22 ff.
r Canivez J -M (cd). Statuta Capitulorum Gcneralium Ordinis Cistcrcicnsis II, Louvain.
1934. 93 (1231,8).
Ik Ibid.. 347 (1250,6), idem Statuta Capitulorum Gcneralium 111. Louvain. 1935. 246
(1290,4): 269 (1294.7)
419
Idem Statuta Capitulorum Gencralium II, 347 (1250,6).
См. опись имущества цистерцианского монастыря Лилиенфельд 1497 г.. Item
pro mensa abbatis: item ciplnis argenteus deauratus nuignus; Hem aplnis argenleus
magnus: item strucioms ovum in aigento deaurato; item duo ciphi argentei deaurati
{Winner G (Hg.). Die Urkundcn des Zisterzienscrstiftes Lilicnfcld 1111-1892 //
Fontcs Rcrum Austriacarum 11/81. Wien, 1974. S. 451).
21 См. также: Jari/z G Zur Alltagskultur im spatmittelalterlichen Sankt Peter //
Festschrift St. Peter zu Salzburg 582—1982. Salzburg. 1982. S. 563.
22 Cm.: idem. Zur Sachkultur niederostcrreichischer Kartauscn im spaten Mittelalter
// Die Kartauser in Osterreich 1. Salzburg, 1981. S. 24 sq.; idem. Religiose Stiftungen.
S. 25.
23 О значении публичного места, в частности, в позднесредневековом городском
обществе, см., например: Jaritz G. Urban Ways of Life in the Late Middle Ages: The
Old and the New, the Traditional and the Progressive // Towards a New Time. Changes
in Late Medieval Society (в печати).
24 BaaderJ. Numberger Polizeiordnungen des XIII bis XV Jahrhunderts, (Bibliothek
des literarischen Vereins in Stuttgart LXIII), (reprint Amsterdam, 1966). S. 113 ff.; cm.:
Jaritz G. Nahe und Distanz.
25 Kerschbaumer A. Geschichte der Stadt Tulin. Krems, 1874. S. 371; Jaritz G. Nahe
und Distanz.
26 Jaritz G. Von den Anfangen bis ins spate Mittelalter 11 Waidhofen a.d. Thaya. Werden
und Wandel einer Stadt. Waidhofen an der Thaya, 1980. S. 29: idem. Nahe und Distanz.
27 Frodl-Kraft E. Die mittelalterlichen Glasgemalde in Wien // Corpus Vitrearum Medii
Aevi, Osterreich 1. Graz, 1962. S. 150; Jaritz G. Nahe und Distanz.
2X Cm:. Jaritz G. Seelenheil und Sachkultur. S. 69; idem. Zur Sachkultur osterreichischer
Kloster. S. 158.
24 См., например: Jaritz G Die Konventualen der Zisterzcn Rein, Sittich und Neuberg
im Mittelalter // Citeaux. Commentarii Cistercienses 29 , 1978. S. 60-92, 268-303.
30 MGH, Necrologia V, 307; cm.: Jaritz G., Seelenheil und Sachkultur. S. 77; idem.
Religiose Stiftungen. S. 20.
31 Ibidem.
32 Jari/z G. Seelenheil und Sachkultur. S. 78-81; idem. Religiose Stiftungen. S. 23, 34.
33 Jaritz G. Osterreichische Biirgcrtcstamente als Quelle zur Erforschung stadtischcr
Lebensformen des Spatmittelalters // Jahrbuch fur Geschichte des Feudalismus 8, 1984.
S. 253 ff. .
34 Chiffoleau J. Op. cit.
35 McGuire В. P. Spiritual Life and Material Life in the Middle Ages: A Contradiction?
(The Example of Cistercians in Northern Europe) // Mensch und Objekt im Mittelalter
und in der fruhen Neuzcit. Leben — Alltag — Kultur. Wien, 1990. S. 285-313; Jaritz
G. Spiritual Materiality or Material Spirituality.
Перевод с немецкого К.А. Левинсона
А.Л. Ястребицкая (Москва)
Tryckerren и Trycker/Verleger в немецком
книгопечатании XV—XVI веков:
предприниматели и предпринимательское
поведение
Немецкие книгопечатники второй половины XV—XVI веков как новая
социальная группа городского сообщества
Ранняя история немецкого книгопечатания не обделена вни¬
манием историков. Более того, она имеет собственную исто¬
риографию и свои приоритетные направления ее изучения,
иерархия которых эволюционирует по мере эволюции пред¬
ставлений историков о методах познания ими исторического
прошлого и о том, что составляет предмет их науки. Свой вклад в эту ди¬
намику историографических «предпочтений» вносит и своеобразие по¬
ложения книгопечатания в социокультурной системе и в хозяйственной
сфере жизни Германии на исходе средневековья. В социальных практиках
немецких книгопечатников фокусируются и заявляют о себе процессы
трансформации, происходившие в XV—XVI вв. как в области материаль¬
ной культуры, производственных отношений, техники и технологий, так
и в сфере интеллектуальной жизни и поведенческих практик. Становле¬
ние «нового искусства книги» протекало рука об руку с идеологически¬
ми и политическими катаклизмами эпохи Гуманизма, Реформации и
Контрреформации, в условиях социальных потрясений времени Великой
крестьянской войны 1524—1525 гг. и массовых восстаний в последние де¬
сятилетия XVI в. На протяжении этого столетия книгопечатание утвер¬
ждается как отрасль городского производства. Типографии становятся не¬
пременным атрибутом резиденций светских и духовных князей, крупных
монастырей.
Историки отдали должное разгадке «тайн», связанных с изобрете¬
нием Гутенберга, коллизиям его распространения, равно как и персо¬
не самого первопечатника. Эту традицию на рубеже XIX—XX столетий
поколебали позитивисты, обратившись к изучению торговли печатной
421
книгой и книгоиздательской практики. Они выдвинули на первый
план фигуру книготорговца и издателя как провозвестников «капита¬
листического предпринимательства», определив тем самым на десяти¬
летия вперед ориентацию изучения социальной и экономической ис¬
тории книгопечатания второй половины XV—XVI вв. как сферы
наиболее раннего и убедительного утверждения капиталистического
производства и отношений, в частности, в Центральной Европе.
Сама по себе констатация особой выраженности тенденции к предпри¬
нимательству в книгопечатании практически уже в первые десятилетия его
истории сомнений, конечно, не вызывает. Другое дело ее абсолютизация,
как это имело место, например, в марксистской историографии. Ее повы¬
шенный интерес в послевоенные 1950-е и в 1960-е гг. к экономической и
социальной истории немецкого книгопечатания (так же, как к горному
делу и металлообработке) был стимулирован не в последнюю очередь де¬
батами вокруг общей оценки характера общественного подъема в Герма¬
нии эпохи Реформации «как раннебуржуазной революции»1.
Но и в немарксистской немецкой историографии 1970—1980-х гг.
внимание исследователей к экономической и социальной истории кни¬
гопечатания было ориентировано преимущественно на констатацию ран¬
некапиталистических практик.
Правда, сама по себе эта направленность имела в известном смысле
и свои плюсы, так как стимулировала введение в научный оборот мате¬
риалов биографического, индивидуального характера, содержащих ин¬
формацию, в частности, и о том, выходцами из какой социальной и про¬
фессиональной среды были первые типографы и книгоиздатели ранней
поры, какими путями приходили они к предпринимательству и т.п.
Но, следуя логике традиционной социологии и задаче реконструкции
глобального процесса становления «переходной к капитализму» системы
хозяйственных и социальных отношений, исследователи истории книго¬
печатания и книготорговли, как правило, в массе не шли все же дальше
описания деловых операций и односторонней констатации разложения
«традиционных для средневековья» форм организации производства и
возникновения «новых» социальных феноменов, характеризуемых ис¬
ключительно как «прообраз и предвосхищение «капитализма»2. Тем са¬
мым, однако, утрачивались индивидуальность и самоценность самого по
себе социального развития в первые столетия раннего Нового времени,
функция которого сводилась лишь к «приуготовлению почвы» для буду¬
щего.
Накопленный на сегодня опыт новой социальной и культурной исто¬
рии предостерегает, однако, от подобных априорных генерализаций3. В
свете его по-иному воспринимаются сегодня и, казалось бы, уже давно
известные документальные свидетельства, заставляя задуматься о воз¬
можности более сложных и тонких, чем принято считать, взаимосвязей
и взаимодействий в ходе процесса трансформации социальной ткани в
раннее Новое время.
Так, в частности, не допускаем ли мы упрощения и модернизации,
когда однозначно определяем характер экономических и социальных oi-
ношений в книгопечатании в XV—XVI (а. вероятно, и в XVII) вв. как пе¬
422
реходных к капиталистическим?^ Не являемся ли мы в данном случае
свидетелями, возможно, одного из наиболее ярких и последовательных
проявлений другого процесса — становления нового качества хозяйствен¬
ной жизни, экономики и социальных отношений, под влиянием их пе¬
реориентации на рыночный обмен и, соответственно, выдвижения на
первый план купеческого капитала как главного движителя и организа¬
тора экономических отношений? Наконец, не имеем ли мы в таком слу¬
чае дело не столько, может быть, с разложением «традиционных» корпо¬
ративных форм социальных отношений, сколько с их трансформацией и
укреплением за счет образования новых сообществ, новых групп и новых
иерархических систем отношений, строящихся на договорной основе,
блокирующей до известной степени традиционные ограничения, но в
целом вполне отвечающей корпоративной природе городской общности?
Все это, в свою очередь, выдвигает на первый план проблему коммуни¬
кации как всеобъемлющей и центральной поведенческой категории, об¬
нажающей взаимосвязи сферы социального и экономического с миром
представлений и повседневной жизни человека; ставит вопрос о приро¬
де форм так называемого «социального дисциплинирования», возника¬
ющих в городской среде в рассматриваемую эпоху и направленных не
только и не столько на обеспечение собственно экономического интере¬
са, сколько на утверждение новых групповых границ, социальных ролей
и взаимоотношений'.
Институциональная среда и новый тип интеракций: «свободное искусство»
книгопечатания в корпоративной системе городской общины
Книгопечатание и цех — вопрос, который возникает в данной связи
прежде всего. Сам по себе он мало интересовал историков. Книгопечат¬
ники, как и мастера по производству бумаги, писал в конце 1940-х гг.
Г. Боквитц, один из крупнейших историков книги и книгопечатания,
относили свое занятия к die freien Kiinsten. Это обеспечило им свободу
действий и стремительное распространение книгопечатания уже к кон¬
цу XV в. в 260 европейских городах6. Но только ли в «специфике» поло¬
жения книгопечатания как die Freie Kunst коренилась причина данного
феномена и в чем, собственно, выражалась эта «свобода»?
К началу XVI столетия книгопечатание перестало уже поражать вооб¬
ражение современников как «невиданное» до сих пор искусство и проч¬
но утвердилось как одно из городских ремесел, притом прибыльное и
престижное. Констатируя это, важно, однако, иметь в виду, что оно (кни¬
гопечатание) входит в практику производства книги тогда, когда та уже
перестает восприниматься исключительно как предмет роскоши, как ра¬
ритет, и когда ручной способ ее тиражирования уже фактически исчер¬
пал свои возможности в условиях стремительного роста спроса на книги
самого разного жанра (молитвенники, календари, учебники, теологичес¬
кие труды, произведения античных авторов и т.д.). Но не менее важно
также и то, что, уступая место книгопечатанию, рукописное производство
книги оставляло после себя уже достаточно сложные производственные
423
структуры, знающие разделение труда, ориентирующиеся не только на
выполнение единичных заказов, но и на рынок, осваивавшие предприни¬
мательство и работу на скупщика (Verlagsystem). К середине XV в. в немец¬
ких, как и в западноевропейских университетских центрах, существовали
мастерские, где книгу делали «целиком»: от изготовления копий до пе¬
реплета, где были собраны вместе писцы, рубрикаторы, художники-ми¬
ниатюристы, иллюминаторы, переплетчики7.
Книгопечатание восприняло и приумножило это наследие благодаря
новым технологиям (наборная печатная форма, печатный станок, отлив¬
ка шрифта) и наличию в избытке квалифицированных рабочих рук. Это
последнее во многом было обусловлено «генетической» связью книгопе¬
чатания с целым спектром городских ремесел и занятий (в том числе,
розничной и оптовой торговлей), о чем свидетельствуют биографии не¬
мецких книгопечатников и издателей второй половины XV—XVI вв., так¬
же как и типографских подмастерьев и учеников, приказчиков торговых
контор и магазинов8.
Эти линии «родства» переплетаются с другой «генеалогией», восходя¬
щей к городской школе и университету: Magister artium impressoriae — так
именовали себя многие известные типографы и издатели этой поры
Школяры, студенты, учителя, магистры широко представлены в крупных
и мелких типографиях в качестве корректоров, редакторов, наборщиков,
прессмастеров.
Но этими же линиями профессионального «родства» определялась, с
одной стороны, стратегия поведения типографов по отношению к мас¬
терам соответствующих специальностей, в которых они видели резерв
необходимой им рабочей силы, а с другой — и восприятие их самих тра¬
диционными цеховыми корпорациями как опасных конкурентов.
Официально объявленное «свободной» профессией и «искусством»,
книгопечатание на первый взгляд, казалось, действительно не знало ме¬
лочной опеки, ограничивающей производственную инициативу и хозяй¬
ственную активность типографа или книготорговца. Действительно,
вплоть до середины — второй половины XVI в. немецкие книгопечатни¬
ки не образовывали собственных корпораций.
Из этого, однако, не следовало, что типографы и издатели находились
вне действия норм и предписаний, определявших правила экономичес¬
кого поведения в производственной сфере и функционирования в рам¬
ках средневековой коммунальной общности.
С этой точки зрения, положение немецких книгопечатников мало чем
отличалось от положения представителей других городских ремесел и
профессий. Как и они, книгопечатники не мыслили себя вне группы —
семейной и профессиональной, прежде всего, равно как и бюргерской
общности в целом. Сама возможность стать хозяином типографии, начать
собственное дело напрямую была сопряжена с принадлежностью к бюр¬
герской общине и цеху. Известный базельский книгопечатник XVI в.
Томас Платтер, рассказывая в своем жизнеописании о том, как он стал
книгопечатником, приобретя на паях типографское оборудование, пи¬
шет, что «по обычаю времени» он сделался бюргером и членом цеха Zitin
Вагеп, в котором уже состояли двое из его компаньонов — наборщик Бал¬
424
тазар Pyx и книготорговец Рупрехт Винтер, тогда как третий — Опори-
нус — являлся членом цеха Zum Вагеп, как и его отец, известный худож¬
ник4.
Путь к собственному делу и предпринимательству в книгопечатании,
как и в любом городском ремесле в Германии XV—XVI вв., открывался
также через женитьбу, в том числе и на вдове типографа или книготор¬
говца, и, соответственно, через приобретение прав цеха, в котором состо¬
яла вступившая в новый брак вдова, а до этого — ее покойный супруг. Тем
самым обеспечивалась устойчивость фамильного предприятия, заклады¬
вались основы книготорговых и книгоиздательских династий в немецких
городах10.
Приобретение Zunftrecht приобщало книгопечатника к группе, вклю¬
чало в систему корпоративной солидарности и взаимопомощи, ставило
под юрисдикцию цеха, налагая одновременно и определенные обязанно¬
сти (денежные взносы в кассу цеха или братства; участие в городском
ополчении, обеспечение охраны порядка в пределах своего прихода и
т.п.)“.
Но одновременно предпринимательское поведение типографов и из¬
дателей контролировалось и регулировалось городскими властями, под¬
час прямо предписывавшими им, в какой конкретно цех обязаны они
вступать. Не в последнюю очередь эти предписания были продиктованы
настроениями и требованиями тех цехов города, монопольное право ко¬
торых нарушали предприимчивые книгопечатники, заводившие пере¬
плетные мастерские, нанимавшие на службу в качестве подмастерьев ху¬
дожников, граверов, литейщиков и т.п.12
В соответствующих постановлениях городских властей нет речи о пря¬
мой регламентации производства книгопечатников. Но так или иначе они
воздействовали на него в этом направлении, когда запрещали хозяевам
типографий нанимать пришлых подмастерьев для работ, связанных с ху¬
дожественным оформлением отпечатанных книг, с изготовлением пере¬
плета, отливкой шрифта и т.д., и предписывали обращаться в этих слу¬
чаях только к местным цеховым мастерам13.
Но взаимоотношения книгопечатников с цехом не сводились к при¬
нуждению и ограничениям. Во многих хозяйственно и политически зна¬
чительных центрах, в частности, в епископских резиденциях (на Нижнем
Рейне, в Рейнской области, Северной Швейцарии и др.) книгопечатни¬
кам предоставлялась свобода выбора между различными комплексными
корпорациями, по своему характеру скорее политико-административны¬
ми, чем профессиональными.
Это были объединения на добровольной основе; в известных нам по
источникам случаях, как правило, — связанные с крупной оптовой тор¬
говлей и патрициатом, державшие в своих руках вексельные операцж .
Патрицианские «Цехи господа» (Herrenziinften) в Базеле или купеческ! е
GaJJeln в Кельне, которые особенно предпочитали книгопечатники и кш -
готорговцы, ставили своей целью возможно более полное обеспечение
профессиональных интересов и политических амбиций своих членов.
Вступление в такую корпорацию открывало богатому книгопечатнику и
книготорговцу широкие возможности для социального возвышения, при¬
425
общения к патрицианским родам, включения в интернациональную тор¬
говлю, простор для хозяйственной и социальной активности.
Вступление книгопечатников в цехи «господ» демонстрировало их
причастность к высшему социальному слою, что находило выражение
также и в официальном их наименовании Tryckerherren, в отличие от об¬
щепринятого: trycker, Maisterw ставило под контроль и юрисдикцию го¬
родского Совета и бургомистра14.
Политика городских властей, равно как и реакция со стороны цехов
на деятельность книгопечатников, говорят о признании их в качестве
особой профессиональной группы. Они позволяют ощутить и новый, не
лишенный амбивалентности, характер интеракций на обоих уровнях их
взаимоотношений: как с городскими властями, так и с представителями
других ремесленных специальностей. Признавая специфику производ¬
ственных практик типографов и престижность для города их деятельно¬
сти (как способствующую его «славе» и «процветанию»), городское сооб¬
щество вместе с тем обязывало их в своих экономических отношениях и
поведении руководствоваться принципом «общей пользы».
Однако не только корпоративное законодательство определяло
«правила игры», воздействуя на стратегию экономического поведения
книгопечатников. Существенное значение имела и цензура, установ¬
ленная церковными и светскими властями. Ее задачи и принципы
были сформулированы уже в 1486 г. в постановлении архиепископа
Бертольда Майнцского. Бертольд, как и его последователи в этом воп¬
росе, руководствовался не только идеологическими соображениями и
политическими предпочтениями: на цензуру возлагалась также обя¬
занность не допускать распространения «вымышленных» научных
трактатов, приписываемых «нечестными» печатниками уважаемым и
заслуженным писателям» (авторам), чтобы «привлечь как можно боль¬
ше покупателей». Цензуре (со стороны архиепископа, университета,
городского совета) подлежало производство и распространение книг
«любого характера и формата». Само возведение типографий с 60-х гг.
XVI в. в имперских и других городах требовало разрешения властей
Строго ограничивалось и общее число их в каждом городе15. Фактором
регулирования производственной практики типографов (равно как и
ее ограничения) явилось утверждение в XVI в. также института приви¬
легий — императорских и территориальных светских и духовных кня¬
зей) — на издание и сбыт дорогостоящих произведений каноническо¬
го и ученого характера.
Институциональное устройство.
Социокультурные механизмы экономического взаимодействия
Особенностью книгопечатания как отрасли производства было то, что
оно с самого начала носило рыночный характер, а его продукция была
рассчитана на массового потребителя. Завещательные акты типографов,
суммы приданых их дочерей, как и оценки имущества их вдов, размеры
выдаваемых ими и получаемых ссуд, акты о приобретении ими недвижп
426
мости, ее структура (дома, рудничные куксы, пашни, луга, рыцарские
имения) — все это свидетельствует о том, что книгопечатание уже в ран¬
нюю пору своей истории открывало перспективу быстрого обогащения,
равно как и постоянного заработка для малоимущих16. Уже упоминав¬
шийся выше Томас Платтер утверждал, что заняться книгопечатанием он
задумал тогда, когда на примере своего хозяина типографа Хервагена, у
которого он в 30-е гг. XVI в. служил корректором, а также «других господ
типографов» понял, что их занятие позволяет «без большой работы до¬
быть много денег...», и тогда он «возжелал стать Tryckerherr». Такого же
мнения был и друг Платтера, а затем компаньон Опоринус, «который
также много поработал в типографиях».
В городской экономике раннего Нового времени книгопечатание
представляло собой сферу хозяйственных отношений с резко выражен¬
ными полюсами имущественной и социальной дифференциации. Эти
дифференциации нашли отражение и в общественном сознании совре¬
менников, подразделявших тех, кто имел отношение к книгопечатному
производству, на две категории: gemeynen trycker (обычные печатники) и
Tryckerherren (типографы-хозяева, господа).
Основная масса gemeynen trycker {или просто gemeynen) — это облада¬
тели мелких ремесленных мастерских. Они не держали подмастерьев и
учеников и имели в качестве помощников лишь членов своей семьи.
Иногда, не полагаясь на свою грамотность, некоторые из них нанимали
корректора. Отсутствие собственных шрифтов, типографской краски,
лаков, денег на приобретение манускриптов и бумаги обрекало их на ра¬
боту исключительно по заказу книготорговца или издателя на условиях
предварительного авансирования.
Между крайними полюсами: gemeynen — Tryckerherren располагался
обширный слой trycker, Thypographis, сочетавших напечатание книг за
свой счет с заказными работами. В описях имущества таких типографщи¬
ков упоминается иногда до трех печатных прессов, наборы шрифтов раз¬
ного типа, инструмент и материал для их отливки, а также — книжная
лавка («на площади», «перед церковью») или книжный склад. Хозяин
участвует в производственном процессе, но уже не как «прессмастер». Он
держит учеников, приглашает для набора, а иногда и для корректорской
работы, которую чаще всего выполнял сам, студентов, университетских
магистров. Так поступали, например, известные книгопечатники Иоганн
Шот и Мартин Флах в Страсбурге; Иоганн и Сильван Отмары, Томас
Ансхельм в Тюбингене. Иной путь избрал для себя Томас Платтер, когда
он, освободившись от компаньонов и влезши в долги, завел собственное
дело — типографию с тремя печатными станками. «Я, — пишет Плат¬
тер, — взял учеников и обучил их делать набор на греческом и латыни
таким образом, что они быстро и хорошо могли выполнить свое «днев¬
ное задание», сам же он «пребывал в доме zum Тог, что на Айзенштрас-
се», так как «имел там лавку и торговал книгами». Выручал он за это «не
так много, так как выплачивал долги». «Но я слышал, — продолжает Плат¬
тер. — что для того, чтобы хорошо (с выгодой) торговать книгами, надо
печатать их по договору, с тем я и направился во Франкфурт». С этого
времени он «начал печатать книги по заказу господ типографов и изда-
427
гелей: Амербаха, Хервагена, Изегрина». И это оправдало себя, позволив
расплатиться с долгами и задуматься о покупке дома17.
В среднем печатники уровня gemeynen были в состоянии издавать за
свой счет в течение года три —пять серьезных произведений, тиражом до
1000 экземпляров, не говоря о популярной литературе1*.
В хозяйственной практике таких книгопечатников отчетливо выраже¬
на ориентация на рынок и спрос, стремление выйти за рамки местной роз¬
ничной торговли. Названные выше книгопечатники Базеля и Страсбурга,
например, торговали своими книгами в Ингольштадте, Ашаффенбурге,
Аугсбурге, Бамберге, Нюрнберге. Их имена, как и книжная продукция,
были хорошо известны в университетской среде. Они пользовались уваже¬
нием в купеческом мире, как знающие свое дело мастера и надежные де¬
ловые партнеры. Имена их сохранились в истории книгопечатания, но
преимущественно все же благодаря их включению в орбиту предпринима¬
тельских практик и трансакций оптовых книготорговцев и типографов-
издателей.
Термин Tryckerherren, утверждающийся в языке повседневности и
официальных документов с последней трети XV и в XVI вв., знаменует
качественные сдвиги и в образе жизни, и в системе морально-этических
представлений, трудовой этики, социальных норм и поведения в бюргер¬
ской среде. Он сопрягался с формами организации производства, эконо¬
мических отношений, которые, казалось бы, не корреспондируя с тради¬
ционным для корпоративного сознания принципом «общей пользы»,
вместе с тем, хорошо укладывались в общую поведенческую линию чле¬
нов цеховых корпораций, акцентируя честь и почтенность статуса и за¬
нятий конкретной ремесленной группы, закрепляя складывающуюся в
ней социальную иерархию.
Под термином Tryckerherr выступает чрезвычайно широкий круг кни¬
гопечатников, хозяев типографских мастерских, отличающихся не толь¬
ко многочисленностью квалифицированных подмастерьев (до 30-50 и
выше человек, не считая подсобных рабочих и «научный» персонал: кор¬
ректоров, редакторов, переводчиков), но и тем, что и сам производствен¬
ный процесс был организован здесь иначе, чем в массе мелких печатен.
Он базировался на устойчивом разделении труда в рамках каждого из
основных звеньев (набор, оттиск, корректура) полиграфического произ¬
водства. В таких типографиях, где работа велась одновременно над про¬
изводством нескольких книг и на нескольких (от шести-десяти и выше)
прессах, дневные задания наборщиков и прессмастеров были строго фик¬
сированы с тем, чтобы обеспечить ритмичность и непрерывность произ¬
водственного цикла. С учетом затраты времени и физических усилий на
каждую операцию определялись и количественные соотношения между
группами работников разных специальностей — наборщиков, тискаль¬
щиков, корректоров и подсобного персонала.
Именно жесткая специализация основных производственных стадии
и объединение в рамках одного предприятия (пусть и на время) масте¬
ров разных профессий (иллюстраторов, брошюровщиков, переплетчп
ков, литейщиков, иллюминпс юв. граверов и т.д.) были гем, что выде
лило типографскую практику Tryckerherren и j общей массы причастных
к книгопечатанию. Показательно, что сами типографы-хозяева осмыс¬
ляли это обстоятельство как новшество и специфику своего занятия:
«книгопечатник не может вести дела, не привлекая, наряду с пресспод-
мастерьями и наборщиками, мастеров многих других книжных профес¬
сий», — заявлял на суде страсбургский типограф Теодозий Рихель, вы¬
ступая (1571 г.) против обвинений цеха ювелиров и граверов в том, что
он «незаконно держит у себя в типографии» нецеховых мастеров — ли¬
тейщиков и формшнайдера. Так «принято», утверждал Рихель, в импер¬
ских городах Нюрнберге, Аугсбурге, Франкфурте-на-Майне и «в других
местах», где есть типографии, а также «и у других наций, например, во
Франции». Рихель ссылался на практику своего отца и приводил в под¬
тверждение своей правоты длинный перечень имен местных типографов,
«поступающих точно таким же образом, как и он сам»19. И это заявление
знаменательно как симптом утверждения нового профессионального
мышления и выражение самосознания новой социальной группы, от¬
стаивающей свои интересы и определяющей свое социальное и произ¬
водственное пространство.
Таким образом, в отличие от мелких печатен, где производство так или
иначе базировалось на личном труде хозяина, членов его семьи и носило
в целом индивидуально-патриархальный характер, продукция типогра¬
фий была уже результатом трудовых усилий большого коллектива, рабо¬
та которого координировалась хозяином или его доверенным лицом.
Tryckerherr непосредственно уже не работал в типографии, его главной
функцией была организация производства и сбыта, бухгалтерия, коорди¬
нация работы торговых складов и приказчиков, разъездных агентств и
факторий, магазинов; приобретение манускриптов, контакты сучеными.
Об ориентации их производства на рынки высшего уровня свидетельству¬
ют большие тиражи (от одной до трех тысяч экземпляров), частота (де¬
сять и более, особенно с началом Реформации) изданий в год, реклама.
Система производственных и социальных отношений, сформиро¬
вавшаяся в немецком книгопечатании в типографиях Tryckerherren на
протяжении почти столетия, во второй половине XVI в. получила ин¬
ституциональное оформление в так называемых Tryckerey Ordnungen.
Их появление в это время фиксируется источниками в Страсбурге, Ба¬
зеле, Аугсбурге, Виттенберге, Нюрнберге, Кельне, Лейпциге, Франк¬
фурте-на-Майне и многих других городах. Они однотипны по существу
своих предписаний и своим появлением обязаны инициативе самих
Tryckerherren, нашедшей живой отклик у городских властей. Эти доку¬
менты выражали волю и хозяйственную стратегию также тех книгопе¬
чатников и книготорговцев, которые, как и Tryckerherren, имели сред¬
ства, чтобы вести солидное дело, и капитал, чтобы участвовать в
оптовом обмене. Лейтмотив предписаний, содержащихся в Tryckerey
Ordnungen, — оптимизация производственного процесса. Оглажен-
ность ритмично работающего механизма — это тот идеал, который они
утверждали. Они внедряли сознание важности повременной регламен¬
тации каждого этапа полиграфического процесса и непреложности ее
соблюдения как главного условия трудовой дисциплины на предпри¬
ятиях. выпуск продукции которых был ориентирован на ярмарочные
429
циклы складывавшегося книжного рынка и прежде всего — на циклы
интернациональных книжных ярмарок во Франкфурте-на-Майне, if
Лейпциге, а также в Париже и Лионе. В преддверии ярмарок типогра¬
фии работали с большим напряжением, практически круглосуточно,
невзирая на праздничные и воскресные дни20.
Система штрафов и наказаний (вплоть до заключения «в темницу»)
предусматривала все возможные случаи нарушения работниками типог¬
рафий установленного производственного ритма: прогулы, порча бума¬
ги, низкое качество набора, грязная корректура, пьянство и т.п.21
С этой точки зрения, Tryckerey Ordnungen были призваны формализо¬
вать отношения вообще между хозяевами типографий и их работниками
и обеспечить походя интересы также и более скромных по своим финан¬
совым и производственным возможностям книгопечатников. Там более,
что хозяйственно самостоятельные, они, вместе с тем, были накрепко
связаны с Tryckerherren, как и с Buchhdndler, как отмечалось выше, раз¬
личными типами контрактных отношений и трансакций (денежные ссу¬
ды для производственных нужд; авансирование напечатания тех или
иных произведений; договоры о закупках уже имеющихся тиражей и т.д.).
Временные рамки деловых соглашений, как и сроки реализации обяза¬
тельств, принятых на себя обеими сторонами, ориентировались, как пра¬
вило, также на ярмарочные циклы.
Вместе с тем, предписания Tryckerey Ordnungen, как и характер их мо¬
тиваций, свидетельствуют об утверждении сознания «время — деньги»,
так же как и о зарождении специфического представления о «рабочем
времени» как времени, принадлежащем хозяину, поскольку именно он
обеспечивает возможность самой трудовой деятельности. Благодаря его
усилиям — материальным и организационным — становится возможен
и сам труд, соответственно и заработок, материальное и хозяйственное
благополучие. Обращаясь к подмастерьям, законодатели призывают их
при возникновении конфликта работу не бросать, ибо это наносит ущерб
хозяину, но, передав дело в суд, «вести себя благоразумно» и продолжить
работу. Они апеллируют при этом к традиционным представлениям о
ценности и престижности квалифицированного труда «добросовестного
подмастерья». «Благонравие» заслуживает ответного «дара», и законода¬
тель призывает Tryckerherren относиться к таким Gesellen «по человечес¬
ки» и в случае конфликта использовать «увещевание», а не побои, как это
«нередко делается»22.
Но при всех отсылках конфликтующих сторон к «обычаю» красноре¬
чиво заявляет о себе сознание выгоды и денежного расчета, определяю¬
щее восприятие и оценку труда как хозяевами типографий, так и их ра¬
ботниками23. Амбивалентность экономического поведения и социальной
практики «господ типографов» выразительно заявляет о себе в иниции¬
рованных ими нормативных актах середины — второй половины XVI в
В отличие от традиционных корпоративных установлений, они не огра¬
ничивали типографов-хозяев в отношении численности занятых в их про¬
изводстве рук.
Вместе с тем, так же как и цеховые уставы других городских реме¬
сел. они утверждали принципы корпоративной групповой солидарно¬
430
сти в пределах типографии (создание общей кассы для праздничных
застолий, взаимопомощи на случай увечья, болезни, смерти) и прису¬
щую традиционному производству трехчастную структуру: мастер (в
данном случае хозяин производства, его управляющий) — подмасте¬
рья — ученики, запрещая доступ к работе лиц, не прошедших обуче¬
ния. Стремясь оградить себя от конкуренции, корпорация типографов
в полном согласии с городским советом регулировала, во всяком слу¬
чае в имперских городах с середины XVI в., общее число разрешенных
в каждом из них типографий24.
Примечательно в этом контексте, что и престиж самих Tryckerherren в
глазах современников обеспечивала все же не производственная деятель¬
ность и ее масштабы сами по себе. Путь к социальному возвышению,
породнению с патрицианскими и рыцарскими родами открывала им (как
это было, например, с Антоном Кобергером или Иоганном Фробеном)
их слава как издателей — Verleger, участие на рынках высшего уровня и
предпринимательский талант. Иоганн Нойдорфер в своих «Записках» о
знаменитых людях Нюрнберга выделяет Антона Кобергера именно за его
бухгалтерское искусство; знание рынка и спроса; умение издавать «нуж¬
ные» книги и вовремя пересылать их туда, где их прибыльно можно про¬
дать. В этом искусстве, считал Нойдорфер, Кобергеру нет равных среди
«книготорговцев»25.
• Tryckerherr выступает в источниках как фигура, занимающая (наряду
с книготорговцами-оптовиками) господствующее положение в системе
трансакций и авансировании непосредственных производителей печат¬
ной книги. Сумма и условия оплаты заказа определялись сторонами за¬
ранее договором. Широко распространена была практика расчета после
выполнения книгопечатником заказа или даже — после реализации ти¬
ража заказчиком. Другой случай взаимоотношений книгопечатника с
заказчиком предусматривал предоставление последним денежного аван¬
са, включающего розничную стоимость тиража, расходы на доставку книг
заказчику, а также — предоставление бумаги и шрифтов. Раздача заказов
на условиях авансирования, как правило, сочеталась со скупкой книг у
печатника и нередко — со ссудно-ростовщическими операциями под за¬
лог имущества, производственного оборудования, отпечатанных книг.
Следствием такого рода отношений могла стать и становилась нередко
утрата книгопечатником производственной самостоятельности и разоре¬
ние. Но Tryckerherren, также как Buchhandler и Verleger раздача оплаченных
заказов и скупка книгу самостоятельных книгопечатников позволяли рас¬
ширять торговый оборот и разнообразить ассортимент книжной продук¬
ции на рынке.
С этой точки зрения, правильнее, видимо, говорить о складывании в
немецком книгопечатании XVI в. не столько «раннекапиталистических»
практик как таковых, сколько о формировании нетрадиционной для сред¬
невековья, достаточно жесткой иерархической системы интеракций, в
которой господствующее положение предопределялось степенью прича¬
стности к рынкам высшего уровня и теми преимуществами, которые от¬
крывала эга причастность в условиях нестабильности институтов обме¬
на, самого обмена, слабости его финансовых институтов и регуляторов.
431
недостаточности информации и господства порождаемого всем этим чув¬
ства неуверенности и страха.
Ранняя история немецкого книгопечатания позволяет зафикси¬
ровать ранние формы и первые шаги становления новой системы
социальных отношений. Как показывает блестящее исследование
Ж.-И. Гренье экономики «Старого Режима», ей предстояла долгая
жизнь, полная превратностей, откатов и побед, и даже уже в XVIII в.
во Франции она не торопилась уступать дорогу регуляторам промыш¬
ленного капитализма26.
Но возвратимся в Германию. Показательно, сточки зрения сказанно¬
го выше, что работа над заказами предпринимателей из числа книготор-
говцев-оптовиков и Tryckerherren являлась неотъемлемым компонентом
производственной практики не только начинающих и материально пло¬
хо обеспеченных, но и экономически вполне благополучных и хозяй¬
ственно устойчивых книгопечатников. Одной из широко распространен¬
ных форм такого рода контрактации были как раз паевые товарищества,
широко практиковавшиеся в рассматриваемые столетия и создававши¬
еся для печатания одного или нескольких произведений. Предприни¬
матель предоставлял бумагу, шрифты (иногда также манускрипт или
книгу), деньги. Он брал на себя и продажу тиража. Книгопечатник обес¬
печивал производственную базу, и все расходы, с этим связанные, учи¬
тывались при распределении выручки и прибыли. В русле именно таких
практик, обеспечивающих специфические трансакционные гарантии,
располагается и издательская деятельность немецких Tryckerherren и
Buchhandler.
Книгоиздательство — это специфическая форма предпринимательской
практики крупного капитала в немецком книгопечатании второй полови¬
ны XV—XVI вв. Она была порождена сложностью и трудоемкостью поли¬
графического процесса, спецификой его «исходного» материала и «конеч¬
ного продукта»: манускрипта и книги. В условиях преобладания мелких
печатен, низкой концентрации капиталов, неоформленности книжного
рынка, политической нестабильности и общей ситуации социальной на¬
пряженности издательская практика выступает как наиболее жизнеспособ¬
ная форма и книгопечатания и книготорговли.
Издатель предстает в источниках как ключевая фигура в организа¬
ции производства. Он приобретал и поставлял типографу, с которым
вступал в договор об издании книги, ее манускрипт. Это было непрос¬
тое и дорогостоящее дело, особенно если речь шла о каноническом про¬
изведении, научном трактате. Приказчики типографа и издателя Анто¬
на Кобергера обследовали множество монастырских библиотек в
Германии, а также в Л ионе и Париже в поисках недостающих частей ма¬
нускрипта, об издании которого Антон Кобергер договорился с Иоган¬
ном Амербахом из Базеля. Из их переписки следует, что издатель опла¬
чивал (как в данном случае — Антон Кобергер Иоганну Амербаху)
подготовку манускрипта к печати (копирование оригинала, сопоставле¬
ние разных его списков, перевод с греческого, латыни, пли древнеев¬
рейского, редактирование перевода), так же как и затем ведение коррек¬
туры. составление комментария и т.п.
432
Кобергер также определял подходящий сорт бумаги, договаривался с
поставщиками и оплачивал все расходы, с этим связанные. За его же счет
производилась затем упаковка готового тиража и транспортировка книг
к месту продажи или на склады. Как правило, издатель предлагал типог¬
рафу свои услуги по реализации тиражей книг, отпечатанных типографом
за свой счет и по собственной инициативе. Таким образом устанавлива¬
лись прочные, нередко на многие годы, отношения партнерства, обеспе¬
чивавшие издателю производственную базу, а типографу — регулярный
сбыт27.
Легко различимы, вместе с тем, и разные уровни этого партнерства.
Один из них — партнерство социально и экономически равноценных
компаньонов, для которых контрактные отношения открывают возмож¬
ность для взаимовыгодного решения проблемы издания сложного и до¬
рогостоящего произведения. Деловые отношения А. Кобергера и
И. Амербаха в 1495-1502 гг. — как раз такой случай. Они оба богаты, оба
принадлежат к высшему городскому слою, и это находит отражение, в ча¬
стности, в форме обращения Кобергера к Амербаху как главному адре¬
сату его деловой корреспонденции в эти годы: Meinem sundern guten
freund... Guten Gesellen... Другой уровень партнерства — это отношения
компаньонов, не равных по своим экономическим возможностям. Речь
идет о контрактах с типографами, для которых издание гуманистических
и реформаторских произведений, дорогих в производстве, но пользую¬
щихся спросом, было возможно лишь при соответствующем предвари¬
тельном финансировании.
Но издатель — это прежде всего коммерсант-оптовик. Он глава кни¬
готоргового дела. Руководитель разветвленной сети торговых контор и
складов по всей Германии и за ее пределами: в Центральной Европе
(вплоть до Львова) и на Западе (во Франции, Италии, Испании). Превос¬
ходство в обмене обеспечивало издателям ранга Кобергера и другим пре¬
восходство в информации и тем самым успех в предпринимательстве.
Они имели своих корреспондентов во всех ярмарочных центрах — мест¬
ного, регионального, но, главное — интернационального масштаба: во
Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Лионе и др. Издатели руководствова¬
лись получаемой с мест информацией, определяя как свою издательскую
стратегию, так и закупки книг у своих постоянных партнеров. Да и сам
выбор партнеров (нередко вдали от родного города) определялся не в
последнюю очередь соображениями коммерческой выгоды, в частности,
дешевизной и легкостью доставки книг водным путем.
Наряду с краткосрочными паевыми товариществами для издания одно¬
го конкретного произведения в немецком книгопечатании XVI в. извест¬
ны и более сложные по структуре и более стабильные объединения. Тако¬
ва Cumpanei, существовавшая в 1562—1570 гг. во Франкфурте-на-Майне.
Она состояла из трех компаньонов: издатель Зигмунд Фейерабенд, типог¬
раф и книготорговец Вейганд Хан, типограф Георг Раб. Каждый из ком¬
паньонов нес треть общих расходов и получал, соответственно, треть при¬
были. Важно, что объединение в компанию не лишало компаньонов
самостоятельности: каждый из них вкладывал в общее дело лишь часть
своих капиталов, используя остальные на свои страх и риск.
15 Зак 3029
433
В практике немецких издателей ярко и последовательно заявляет о
себе уже в XVI в. новое качество системы хозяйствования, утверждаю¬
щейся в раннее Новое время, а именно — ее все углубляющаяся иерар-
хизация как результат стремительного расширения сферы обмена, дос¬
туп к высшим уровням которого был осуществим для непосредственного
производителя лишь через посредничество капитала и расширение про¬
странства финансируемого им производства.
Этот процесс заявляет о себе также и в трансформации типа «делово¬
го человека» в книгопечатании. Он знает цену времени, и временные
циклы интернациональных и региональных книжных ярмарок опреде¬
ляют ритм его деловой активности. Verleger и Tryckerherren середины —
второй половины XVI в. в массе имели уже мало общего со своими
предшественниками рубежа XV—XVI вв., у которых служение идее (гу¬
манистической или реформаторской) переплеталось с меценатством,
восходящим к средневековому восприятию «учености», книги и их рас¬
пространения как «благочестивого дела», и заслоняло порой купеческую
трезвость и расчет. У тех, кто набирал силу рядом с ними и шел им на
смену, были уже иные приоритеты. В угоду соображениям «выгоды» на¬
рушалась непреложность традиционных представлений, в частности, о
труде и профессии как служении «общей пользе», о святости отношений
родства и фамильной солидарности. Одним из таких «новых людей» был
и упоминавшийся выше Зигмунд Фейерабенд. «Он не гнушается ничем
в деле наживы», — утверждал его родственник; он не остановился даже
перед тем, «чтобы за неуплату долга заставить работать на себя своих
близких». Фейерабенд, по мнению современников, был малообразован,
«не знал латыни и не владел немецкой грамматикой», единственное, что
он знал в совершенстве, так это — книжную торговлю»28.
О книгопечатниках-книготорговцах, с легкостью идущих на фальси¬
фикацию произведения с единственной целью — привлечь покупателя,
источники говорят уже с конца XV — начала XVI в. Об одном из таких —
Иоганне Грюнингере из Страсбурга, компаньоне Ганса Кобергера по
изданию (1525—1526 гг.) «Географии» Птолемея, мы узнаем из коррес¬
понденции Вилибальда Пиркгеймера, принимавшего участие в подготов¬
ке этого издания. «Вы думаете, — писал он Грюнингеру, — что если Вы
внесете в книгу много раскрашенных карт, фантастических образов хи¬
мер, изображений стариков и женщин (речь идет о гравюрах, изобража¬
ющих города и «людей диких стран», и картах с описаниями крупных
рыночных центров Германии), то это будет прибыльно и книга лучше
раскупится в городах. Это может быть пригодно для детей и невежд, но
среди ученых мы с Вами вызовем насмешки и испуг, что мы ничего не
понимаем... Но я вижу, что Вы следуете только самому себе. Если будет
так, как Вы хотите, мой труд пропал даром». Грюнингер остался тверд в
своем намерении, и та часть тиража, которую он получил как компаньон
по условию договора, была оформлена в соответствии с его желанием24.
На протяжении XVI столетия заметно меняются биографии издателей
и крупных книготорговцев. Наряду с выходцами из патрицианских семей,
университетскими магистрами, все чаще появляются имена еше в совсем
недавнем прошлом простых городских ремесленников и крепостных кре¬
434
стьян, разбогатевших на торговле зерном, откупившихся от своих господ
и обративших свои средства на книгопечатание и издательское дело как
сулящее быстрое обогащение'0. Но среди ценностей, привлекающих и тех
и других, судя по завещательным актам, инвентариям, судебным реше¬
ниям об описи имуществ за долги и т.п., — по-прежнему было приобре¬
тение рент, домов, сельскохозяйственных угодий и рыцарских сеньорий.
Фактически, в этом же ряду ценностей располагаются и привилегии вла¬
стей разных уровней (дарованные или купленные), возвышающие их со¬
циально над массой бюргеров и цеховых мастеров, закрепляющие за пе¬
чатником, типографом, издателем, книготорговцем как право заниматься
своим делом, так и монопольное право на сбыт собственной продукции,
прежде всего трудоемких, дорогостоящих изданий.
Привилегии, объем капиталов и имущества, которыми располагали
ведущие в данной области городской экономики и культурной жизни
персоны прежде всего, а не рыночные капиталистические регуляторы
обеспечивали им преимущественное положение и на рынках высшего
уровня, и в иерархической системе формирующихся новых экономичес¬
ких и социальных взаимосвязей.
В системе городского хозяйства и шире — рыночных отношений рас¬
сматриваемой эпохи - немецкое книгопечатание представляло собой
сферу обменов и связей, организуемую и контролируемую капиталом,
персонифицированным Tryckerherren, Buchhandler и Verleger. Она точно
определяется в монетарных границах — и описывается в сроках денеж¬
ных ссуд, которые, не воплощаясь в какие-либо исключительные и устой¬
чивые социальные отношения, обеспечивали, однако, обладателям их
известное превосходство и преимущественное положение. Имеющее об¬
щий характер, это превосходство облекалось, в зависимости от обстоя¬
тельств, в личностные формы, по существу, в отношения принуждения
и власти, как результат, по выражению Гренье, «предшествующих про¬
изводству трансакций, касающихся реализации конечного продукта».
Превосходство типографов-хозяев и издателей, обеспеченное капита¬
лом, участием в рынках высшего уровня, контролем за конечными ста¬
диями производства и циркуляцией книжной продукции, выражалось
также в их способности добывать информацию (о товарах, прибылях,
ценах), в те времена редкую, часто секретную и особенно ценную как
источник больших барышей. Тем самым они умножали шансы на «при¬
быль» также и держателей ссуд и интенсифицировали обмен через по¬
средников. Но это, в свою очередь, работало на репутацию самих
Tryckerherren и Verleger как сильных и надежных негоциантов-оптовиков
и их признание как особой социальной группы.
В заключение — некоторые соображения общего характера. Дело в
том, что источники, легшие в основу исследования^ давшего материал для
данной статьи, чрезвычайно фрагментарны и вместе с тем, как правило,
персонифицированны. С этой точки зрения, если использовать совре¬
менную лексику, мы имеем дело преимущественно с «казусами» — с
фрагментами конкретных ситуаций заключения договоров, взимания
долгов, выплаты неустойки, «бесчестья», конфликтов на ярмарке, в ти¬
пографии. книжной лавке, торговой фактории, в пивной и т.п.
435
Хорошо в общем-то известный институт авансирования, на котором
практически с первых шагов зиждилось книгопечатное производство,
выступает в этих фрагментах-казусах в персонифицированном обличии
конкретных бюргеров, мастеров и подмастерьев, хозяев типографий, из¬
дателей и т.п.
В материалах судебных разбирательств «присутствуют голоса» не толь¬
ко властей, но и тех, к кому они обращены, так же как и тех, кто ищет у
них защиты или поддержки. Взятые по отдельности, «голоса» эти звучат
недостаточно вразумительно. Они обретают смысл только в ансамбле.
При этом, однако, неизбежна (необходима) некая предварительная сту¬
пень абстракции, позволяющая ощутить общие (связующие) линии, тен¬
денции развития и взаимосвязей — увидеть, как зарождаются, прорастая
из различных корней, новые формы сосуществования людей — то, что мы
называем социологическим термином «социальные группы». Но это же
обстоятельство открывает, в свою очередь, новую, более фундированную
перспективу выхода на индивидуальное и частное в истории — перспек¬
тиву, которая, вместе с тем, одновременно позволяет апробировать пред¬
шествующие выводы, уточнить их, сделать более аргументированными
или отказаться от них вовсе. Это работа, которую автор надеется еще ус¬
петь осуществить. Здесь же хотелось бы лишь подчеркнуть, что как ин¬
струментальное понятие «микроистория» немыслима без «макроанали¬
за». Искусство исследователя, видимо, в том и состоит, чтобы не
проглядеть, суметь почувствовать тонкую нить, связующую оба этих уров¬
ня единого нерасторжимого ансамбля.
Примечания
1 Люблинский В.С. На заре книгопечатания. М., 1963; Ястребицкая А.Л. Некото¬
рые формы раннекапиталистических отношений в немецком книгопечатании
второй половины XV - середины XVI вв. // Средние века, Вып. 24, 1965.
С. 199-217; С.мирин М.М. К истории раннего капитализма в германских землях
М„ 1969.
2 Дань этому исследовательскому «стилю» отдал в свое время в известной мере и
автор данной статьи, хотя и не без внутреннего напряжения, ощущая в полной
мере сопротивление «материала». См.; Ястребицкая А.Л. О формах раннекапита¬
листических отношений в немецком книгопечатании второй половины XV — се¬
редины XVI в. Дисс... канд. ист. наук. М., 1967. Это во многом предопределило
впоследствии отход отданной проблематики и обращение, не без мощного вли¬
яния исследований А.Я. Гуревича, к культурной истории.
1 См.: Eisenstein Е -L. The Printing Press as an Agent of Change; Communications
and cultural transformations in early-modern Europe. Vol. l-II. Cambridge Univ. Press,
1993; Geklner Fr Problcmc uin den Spcycrcr Druckhcrm und Buchhiindlcr Peter Dracli
//Gutenberg. Jahrbuch, 1962; idem. Die Buchdruckcrkunst im alten Bamberg. Bamberg.
1964; Giily C Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600. Basel; Frankfurt a.M., 1985;
Gilmont j -Fr Printers by the Rules // The Library, 6. Series. Vol. II. № 2, June 1980
P. 129-155; Flugschnften als Massenmedium der Rcformationszeit / Hg. Kohlci \
II.-J. Stuttgart, 1981; Grenier .J-J L'economie d'Ancien Regime. Un monde de
rechangc et dc I'lnccrtitudc. Albm-Nichcl, 1996; Kellenhenz H Wirtschaft und
Gcsellschafl Europas 1350—1650 // Handbuch der Europaischcn Wirtschafts und
So/ialgc.schichte. Bd 3. 1986. К rude i I Die Anfange des Kapitalisnuis in Mitloleuiop.i
436
Frankfurt a.M.; Berlin; Bern; Paris etc., 1993; Lutz H. Das Rmgcii um dcutsche Emheit
md Kirchlichc Erncucrung. Von Maximilian I. bis zum Wcstfahschen Friedcn 1490 bis
1648. Bd 4. B., 1983; Williamson О E. The Economic Institutions of Capitalism. N.
Y., 1987; Sunon-Muscheid К Baslez Handwcrksziinftc im Spatmittclaltcr. Zunftinterne
Strukturen und inncrstadtische Konflikte. Bern etc., 1988.
4 Cm.: Grenier J.-J. Op. cit. P. 9-17.
' См. об этом: Muller A. Arbcitsverbote und sozialc Disziplinierung im Stadtischcn
Handwork dcs Spatmittelalters. Das Fallbeispiel Wiener Ncustadt // Wert und Bcwcrtung
von Arbeit im Mittclalter und in dcr friihen Neuzeit. Graz, 1995. S. 151-184; Liidtke
A Herrschaft als soziale Praxis // Herrschaft als soziale Praxis / Hg. A. Liidtke.
Gottingen, 1991. S. 9-66. См. также: Kommunikation und Alltag in Spatmittelalter
und friiher Neuzeit. Intern. Kongr. Krcms an der Donau. Okt. 1990 / Hg. H.
Hundsbichlcr. Wien, 1992.
В целом, полагал Боквитц, к этому времени имелось уже не менее 11 тыс. типог¬
рафий. Bockwitz Н. Beitragc zur Kulturgeschichte dcs Buchcs. S. 23-26; 84-90;
7 Романова В.Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII —
XIV вв. М., 1975; Kirchhoff A. Bcitrage zur Geschichte des deutschen Buchhandels.
Bd I. Leipzig, 1851. S. 116-118.
,8 Jastrebizkaja A.L. L’imprimeric allemande, une nouvcllc branche d’unc production
en sene aux XV—XVIe siecles: structure socio-economiquc // Produzione e commercio
della Carta e del Libro secc. XIII-XVIII. Prato, 1992. P. 531-549.
'* Platter Th. Ein Lebensbild aus dern Jahrhundert dcr Reformation / Hg. Kohl H.
Leipzig, 1912. S. 87.
10 Cm.: Kloss E.H G. Dcr Frankfurter Druckcr-Verlcger Weigand Han und seine Erbcn
// Archiv fur Geschichte des Buchwesens. Bd II. Lief. 3-5, 1959; Baader P Das Druck
und Verlaghaus AIbcn-Strohecker zu Mainz. (1598—1631) // Ibid., Bd 1. Lief. 7-8,
1957; Reuter W. Zur Wirtschafts - und Sozialgcschichte des Buchdruckgewcrbes im
Reinland bis 1800 (Koln - Bonn - Diisseldorf) // Ibid. Bd. I. Lief 9-10, Frankfurt
a.M., 1958.
11 Cm.: Regesten zur Geschichte des Buchdrucks 1500, aus den Biichem des Basler
Gcrichtsarchivs / Hg. K. von Stchlin // Archiv fur Geschichte des deutschen
Buchhandels, Bd I I, 12; Regesten Zur Geschichte des Buchdruckes 1501 —1520/ Hg.
K. von Stehlin // Ibid. Bd 13, 14, 15.
i: Leeman van Elk P Die wirtschaftliche und kulturellc Bcdeutung des Buchdrucks m
Schweiz. Zurich, 1944, S. 30; Reuter W. Op. cit. S. 693-694; Archiv ftir Geschichte
des deutchen Buchhandels, Bd 11. S. 337-342; Regesten zur Geschichte des Buchdrucks
1500. Bd 12. № 1424-1429; 1443-1456; Archiv fur Geschichte des deutschen
Buchhandels. Bd 5. S. 85.
r' Archiv fur Geschichte dcs deutschen Buchhandels. Bd 5. S. 96-106; Bd 6. S. 264-
273.
14 Ibid., Bd 12. № 1748; Reuter W. Op. cit. S. 692-694.
■'См.: Kapp F. Geschichte des deutschen Buchhandels. T. I. Leipzig, 1851, S. 526-531;
535, 568, 573-580;
IA См.: Ястребицкая А.Л. О формах раннекапиталистических отношений в немец¬
ком книгопечатании. С. 90-93, 147-158, 159-163; Die Amerbach-Korrespondenz
1481-1536/ Hg. A. Hartmann. Basel. Bd I. № 491 «а». S. 467-470; Hase O. Die Kobcrger
(Beilagen: Briefbuch die Koberger, № 13, 14, 15, и др.). Leipzig, 1885. S. 13-46.
17 Platter Th. Op. cit. S. 90-92.
IX См.: Ястребицкая А.Л. О формах раннекапиталистических отношений. С. 99-107.
14 Archiv fur Geschichte dcs deutschen Buchhandels. Bd 5. S. 96; 102; Bd 19. № II.
Platter Th. Op.cit. S. 88.
:1 Archiv fur Geschichte des deutschen Buchhandels. Bd 10. S. 36-38; Bd 9. S. 151. Bd
11. № 64; 149-346. 1074.
" Ibid.. Bd 13. S. 1-96: Bd 6. S 263-278.
437
23 Ястребицкая А.Л. О познавательных возможностях нормативных источников.
// Традиции и новации в изучении западноевропейского феодализма. М., 1995.
С. 141-151.
24 Карр F. /. Op. cit. S. 780-785; Archiv fur Geschichte des deutschen Buchhandels.
Bd 9. S. 151, Bd 10. S. 36-38.
2< lohann Neudorfer. Nachrichtcn von Kunstlern und Wcrkleutcn dasclbst aus deni Jahrc
1547 / Hg. G.W.K. von Lochner. Wien, 1875.
2h Cm. Grenier J.-J.Op. cit. P. 9-19; 417-428.
27 Hase O. Op. cit.
2K Pallmann H. Siegmund Feyerabend, sem Leben und seine gescheftlichen Verbmdun-
gen. S. 61-62.
29 Hase O. Op. cit. S. 130-133; 208-211;№ 106, 110, 113, 116.
30 См.: Ястребицкая А.Л. О формах раннекапиталистических отношений. С. 212-272.
Научные труды А.Я. Гуревича
1948
Рец.: Stephenson С. Mediaeval Feudalism. Ithaca; N.Y.: Cornell Univ. Press, 1942.
VIII, III p. // Вопр. истории. 1948. № 3. C. 140-144.
1950
Крестьянство Юго-Западной Англии в донормандский период: (Проблема
образования класса феодальных крестьян в Уэссексе в VII — начале XI в.):
Автореф. дис. ...канд. ист. наук. М., 1950. 26 с.
1951
Мелкие вотчинники в Англии раннего средневековья // Изв. АН СССР. Сер.
истории и философии. 1951. Т. 8, № 6. С. 547-555.
Пер. с древнегреч.: Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред.
В.В. Струве. М.: Учпедгиз, 1951. Т. 2. С. 70. 103-104, 120, 122, 144-145, 199-200,
229-230, 264-268, 274-282.
Рец.: Барг М.А. Кромвель и его время. М.: Учпедгиз, 1950. 271 с. // Сов. книга.
1951. № 8. С. 68-71.
1952
Рец.: Фальсификация истории Латинской империи: [Topping P.W. Feudal
institutions as revealed in the assizes of Romania the Caw code of Frankish Greece.
Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1949. 192 p.; Longnon J. L’empire Iatin de
Constantinople et la principante de Moree. P., 1949. 363 p.] // Византийский
временник. M., 1952. T. 5. С. 284-290.
1953
Критический обзор журнала «Byzantion» за 1944—1950 гг. // Там же. М.,
1953. Т. 6. С. 236-252. (Совм. с Заборовым М.А.).
Роль королевских пожалований в процессе феодального подчинения
английского крестьянства // Средние века. М., 1953. Вып. 4. С. 49-73. ** В список не вошли статьи, опубликованные в Большой советской энцикло¬
педии и, рефераты, опубликованные в Реферативных журналах ИНИОН серии
«История».
439
Томас Мюнцер // Книга для чтения по истории средних веков / Под ред. С.Д.
Сказкина. М., 1953. Ч. 3. С. 76-96.
Рец.: Previte-Orton С. W. The shorter Cambridge Medieval History. Cambridge: Univ.
Press, 1952. Vol. 1-2. 1202 p. // Вопр. истории. 1953. № 11. C. 142-147.
1954
Время Константина в освещении современной буржуазной историографии
// Вестн. древней истории. 1954. № 1. С. 92-100.
1955
Из истории имущественного расслоения общинников в процессе феодаль¬
ного развития Англии // Средние века. М., 1955. Вып. 7. С. 27-46.
Из экономической истории одного восточно-римского города: Некрополь
киликийского г. Корика // Вестн. древней истории. 1955. N° I. С. 127-135.
1956
Большая семья в Северо-Западной Норвегии в раннее средневековье: (По
судебнику Фростатинга) // Средние века. М., 1956. Вып. 8. С. 70-96.
Начальный этап феодального развития Англии // Учен. зап. / Калинин, пед.
ин-т. 1956. Т. 19, вып. I.C. 125-156.
Aus der Wirtschaftsgeschichte einer ostromischen Stadt // Bibliotheca classica
orientalis. [B ], 1956. I, 1. S. 17-18.
Рец.: Новые явления в английском византиноведении: [Lindsay J. Byzantium
into Europe. L., i952. 485 p.] // Византийский временник. M., 1956. T. 8. С. 366-
373. (Совм. с Заборовым М.А.).
Рец.: Средние века: [Сборники). М.: Изд-во АН СССР, 1954-1955. Вып. 5. 412
с.; Вып. 6. 488 с.//Вопр. истории. 1956. № I. С. 170-178.
Рец.: Rouillard G. La vie rurale dans I’empire Byzantin. P., 1953. 202 p. //
Византийский временник. M., 1956. T. 10. С. 229-235.
1957
Английское крестьянство в X — начале XI в.// Средние века. Вып. 9. М., 1957.
С. 69-131.
Возникновение классового общества у древних германцев и славян //
Преподавание истории в шк. 1957. № 4. С. 31-40. (Совм. с Бромлеем Ю.В.).
Так называемое «отнятие одаля» королем Харальдом Прекрасноволосым: (Из
истории возникновения раннефеодального государства в Норвегии) // Сканди¬
навский сб. Таллин, 1957. [Вып.] 2. С. 8-37.
1958
Древненорвежская вейцла: Из истории возникновения раннефеодального
государства в Норвегии // Hav4. доклады высш. шк. Ист. науки. 1958. № 3. С. 141-
160 .
Норвежская община в раннее средневековье // Средние века. М.. 1958.
Вып. 11. С. 5-27.
440
1959
Некоторые спорные вопросы социально-экономического развития средне¬
вековой Норвегии // Вопр. истории. 1959. № 2. С. 113-131.
Основные этапы социально-экономической истории норвежского кресть¬
янства в XIII—XVII вв. // Средние века. М., 1959. Вып. 16. С. 49-76.
Проблемы социальной борьбы в Норвегии во второй половине XII — начале
XIII вв. в норвежской историографии //Там же. Вып. 14. С. 132-153.
1960
Некоторые вопросы социально-экономического развития Норвегии в I
тысячелетии н.э. в свете данных археологии и топонимики // Сов. археология.
1960. №4. С. 218-233 .
Основные проблемы истории средневековой Норвегии в норвежской
историографии // Средние века. М., 1960. Вып. 18. С. 163-192.
1961
Альтинг // Сов. ист. энцикл. М., 1961. Т. 1. Стб. 434. Без подписи.
Из истории английской революции //Детская энцикл. 1961. Т. 7. С. 289-295.
Очерки социальной истории Норвегии в IX—XII веках: Автореф. дис.... д-ра.
ист. наук. М., 1961. 25 с.
Свободное крестьянство и феодальное государство в Норвегии в X—XII вв.
// Средние века. М., 1961. Вып. 20. С. 3-31.
Сост., пер. и коммент.: Хрестоматия по истории средних веков: В 3 т. М.:
Соцэкгиз, 1961. Т. 1.(Разд.]: Англия в VII — начале XI в. С. 587-649.
1962
Архаические формы землевладения в Юго-Западной Норвегии в VIII—X вв.
//Учен. зап. / Калинин, пед. ин-т. 1962. Т. 26. С. 135-166.
Биркебейнеры // Сов. ист. энцикл. М., 1962. Т. 2. Стб. 443-444.
Бонды //Там же. Стб. 612-613. Без подписи.
Некоторые вопросы генезиса феодализма в условиях распада общинно¬
родового строя //Тез. докл. на конференции по итогам научно-исследовательской
работы за 1961 — 1962 учебный год / Калинин, пед. ин-т. Калинин, 1962. С. 35-36.
Норвежское общество в VIII —IX вв.: Некоторые черты дофеодального
периода //Учен. зап. / Калинин, пед. ин-т. 1962. Т. 26. С. 167-189.
Социальная борьба в Норвегии в последней четверти XII—начале XIII вв.:
(Биркебейнеры и крестьянские восстания) // Средние века. М., 1962. Вып. 22. С.
25-51.
Pen : Dahl О. Norsk historieforskningi 19. og 20. arhundre. Oslo: Univ. fori., 1959.
271 s. // Вопр. истории. 1962. № 3. C. 168-174.
1963
Колонизация Исландии // Учен. зап. / Калинин, пед. ин-т. 1963. Т. 35.
С. 212-245.
Вейцла // Сов. ист. энцикл. М.. 1963. Т. 3. Стб.З I.
Гулатинга законы // Там же. Т. 4. Стб. 881.
Датские деньги // Там же. Стб 1017.
Норвежские бонды в XI—XII вв // Средние века. М., 1963. Вып. 24. С. 24-54.
441
Норвежские лейлендинги в X—ХП вв.: К вопросу о феодальнозависимом
крестьянстве в Норвегии // Скандинавский сб. Таллин, 1963. [Вып.] 7. С. 7-43.
Сост., пер. и коммент.: Хрестоматия по истории средних веков: В 3 т. М.:
Соцэкгиз, 1963. Т. 2. |Гл.]: Общественный строй Норвегии XI—XII вв. С. 556-571.
Рец.: Барг М.А. Исследования по истории английского феодализма в XI —
XIII вв. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 379 с. // Вопр. истории. 1963. N° И.
С.133-137.
Рец.: Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция:
Некоторые проблемы английской буржуазной революции 40-х годов XVII века.
М.: Соцэкгиз, 1958. 366 с. // Средние века. М., 1963. Вып. 23. С. 288-294.
1964
Английская буржуазная революция XVII века // Методическое пособие по
новой истории (1640—1870) /Под ред. А.В. Ефимова. М., 1964. С. 72-90.
История средних веков: [Учебник для пед. ин-тов]. М.: Высш. шк„ 1964. 703,
[1] с. Авт. след, гл.: Введение, с. 3-8. (Совм. с Баргом М.А.); Гл. 1: Рабовладель¬
ческий Рим и варвары, с. 11-40; Гл. 2: Варварские королевства в Северной Аф¬
рике, Италии, Южной Галлии и Испании, с. 41-53; Гл. 3: Франкское государство,
с. 54-89; Гл. 4, § 1: Оформление феодального строя, с. 90-104; Гл. 4, § 5: Англия
в раннее средневековье, с. 125-135; Гл. 12: Скандинавские страны в X—XV вв, с.
319-325.
Некоторые аспекты изучения социальной истории: Общественно-истори¬
ческая психология // Вопр. истории. 1964. № 10. С. 51-68.
Норвежские бонды в XI—XII вв. (II ) // Средние века. М., 1964. Вып. 26. С.
3-26.
О некоторых особенностях норвежского феодализма // Скандинавский сб.
Таллин, 1964. [Вып.] 8. С. 257-274.
Проблемы социальной истории Норвегии в IX—XII вв. // Учен. зап. /
Калинин, пед. ин-т. 1964. Т. 38. С. 354-381.
Чл. ред. кол.: История средних веков: [Учебник для пед. ин-тов]. М.: Высш.
шк„ 1964. 703, [I] с. (Совм. с Абрамсон М.Л., Колесницким Н.Ф.).
1965
Исландия: Ист. очерк (до 1800 г.) //Сов. ист. энцикл. М., 1965. Т. 6. Стб. 341 -
344.
Исландские саги //Там же. Стб. 350-351.
Кнуд I Великий // Там же. Т. 7. Стб. 445-446.
Общий закон и конкретная закономерность в истории // Вопр. истории. 1965.
№ 8. С. 14-30.
Эпоха викингов: Некоторые спорные проблемы истории скандинавских
народов периода раннего средневековья // Тез. докл. 2-й научной конференции
по истории, экономике, языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии.
М., 1965. С. 30-34.
Die freicn Bauern im mittclalterlichen Norwegen // Wissenschaftliche Zeitschrift
der Universitat Greifswald. 1965. Bd 14, No 2/3. S. 237-243.
Geschichte und Sozialpsychologie // Sovvjetwissenschaft. Gesellschafts-
wissenschaftliche Beitrage. [B.], 1965. 3. S. 323-336.
Niektore aspekty badania historii spolecznei // Zeszyty teoretyczno-pohtyczne. [W-
wa], 1965. № 1. S. 70-81.
Рец.: Историк, культура и жизнь: [American Historical Review. Richmond, 1964.
Vol. LX1X. № 3. P. 607-630. О ст. P. Коули. Иоганн Хейзинга и задачи истории
культуры] // Вопр. истории. 1965. № 11. С. 200-201.
442
Рец.: История норвежского народа: [V&rt folks histone. Oslo: Aschehoug, 1962.
Bd 1. 386 s.: Bd 2. 363 s.] //Там же. № 5. С. 182-185.
Рец.: Находки новых рунических надписей в Норвегии: [Viking // Tidsskrift
for ПОГГ0П arkeologi. Oslo, 1964. Bd 27. S. 5-53. Or. А. Льестеля] //Там же. № 1. С.
195-196.
1966
Датские бурги и походы викингов: [<5тр. из кн. «Походы викингов»,
публикуемой изд-вом «Наука») // Вопр. истории. 1966. № 1. С. 215-218.
Походы викингов. М.: Наука, 1966. 183 с.
Скандинавские страны в XI—XV вв. // История средних веков: В 2 т.
[Учебник для студентов ун-тов) / Под обш. ред. С.Д. Сказкина. М.. 1966. Т. 1.
Гл. 14. С. 422-437.
Allgemeines Gesetz und konkrete Gesetzmassigkeit in der Geschichte // Sowjet-
wissenschaft. Gesellschaftswissenschaftliche Beitrage. [B.], 1966. № 2. S. 177-193.
Рец.: Конрад Н.И. Запад и Восток. М.: Наука, 1966. 519 с. // Вопр. лит. 1966.
№ 10. С. 214-220.
Рец.: Смех в народной культуре средневековья: [Бахтин М. Творчество
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худ. лит.,
1965. 527 с.)//Там же. №6. С. 207-213.
1967
Англосаксонский фолькленд и древненорвежский одаль: Опыт сравни¬
тельной характеристики дофеодальных форм землевладения // Средние века. М.,
1967. Вып. 30. С. 61-83.
К вопросу об особенностях истории как науки // Тр. / Моек, ист.-арх. ин-т.
1967. Т. 25. С. 178-198.
Начало эпохи викингов: (Проблемы духовной жизни скандинавов IX века:
факты и гипотезы) // Скандинавский сб. Таллин, 1967.[ Вып.) 12. С. 128-148.
Норвегия: Ист. очерк (до начала 19 в.) // Сов. ист. энцикл. М., 1967. Т. 10.
Стб. 306-316.
Норманны //Там же. Стб. 344-348.
Одаль // Там же. Стб. 468-469.
Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М.: Наука, 1967. 285 с.
Dejiny a schema // Kultumy zivot. [Br.J, 1967. 1. Sept. (№ 35). S. 10.
Рец.: Верность историзму: [Баткин Л.М. Данте и его время: Поэт и политика.
М.: Наука. 1965. 198 с.) // Вопр. лит. 1967. № 1. С. 217-220.
Рец.: Историко-сравнительный метод в литературоведении: [Литература
эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М.: Наука, 1967. 516 с.)
// Там же. № 8. С. 220-225.
Рец.: Наследие византийской цивилизации: [История Византии: В 3 т. М.:
Наука, 1967. Т. 1. 523 с.) // Новый мир. 1967. № 8. С. 265-269.
196$
Богатство и дарение у скандинавов в раннем средневековье: Некоторые
нерешенные проблемы социальной структуры дофеодального общества //
Средние века. М.. 1968. Вып. 31. С. 180-198.
Индивид и общество в варварских государствах // Проблемы истории
докапиталистических обществ. М.. 1968. Кн I С 384-424.
К дискуссии о докапиталистических общественных формациях: формация и
\клад // Вопр. философии. 1968. N° 2. С 118-129
443
Некоторые нерешенные проблемы социальной структуры дофеодального
общества. Индивид и общество: Тез. докл.|на науч. сессии «Итоги и задачи
изучения генезиса феодализма в Западной Европе» науч. совета «Закономерности
ист. развития общества и перехода от одной соц.-экон. формации к другой»,
30 мая — 3 июня 1966 г.] // Средние века. М., 1968. Вып. 31. С. 64-65.
[Заключительное слово при обсуждении доклада на научной сессии] // Там
же. С. 72-76.
Проблема земельной собственности в дофеодальных и раннефеодальных
обществах Западной Европы // Вопр. истории. 1968. № 4. С. 88-105.
«Что есть время?» // Вопр. лит. 1968. № II. С. 151-174.
Historiczna psychologia spolcczna a «podstawowe zadanie» nauki historyczncj //
Studia metodologiczne. [Poznan], 1968. No 5. S. 3-19.
Рец.: Великая культура маленького народа: [Стеблин-Каменский М.И.
Культура Исландии. Л.: Наука, 1967. 182 с.] // Вопр. лит. 1968. № 5. С. 222-
226.
1969
Время как проблема истории культуры // Вопр. философии. 1969. № 3.
С.105-116.
Об исторической закономерности // Философские проблемы исторической
науки. М., 1969. С. 51-79.
Сверре Сигурдсон // Сов. ист. энцикл. М., 1969. Т. 12. Стб. 599-600.
Социальная психология и история: Источниковедческий аспект // Источ¬
никоведение: Теоретические и методические проблемы. М., 1969. С. 384-426.
Что такое исторический факт? // Там же. С. 59-88.
II tempo сото problema di storia della cultura // Rassegna sovietica. [Roma], 1969.
№ 3. P. 1-17.
Space and Time in the Weltmodell of the Old Scandinavian Peoples // Mediaeval
Scandinavia. [Odense], 1969. 2. P. 42-53.
Was ist die Zeit? // Kunst und Literatur. [B.], 1969. H. 5. S. 489-509.
Wyprawy wikingow. W-wa: Wiedza powszechna, 1969. 201 s.
Рец.: Право и человеческая личность: [Давид Р. Основные правовые системы
современности: (Сравнительное право). М.: Прогресс, 1967. 496 с.] // Новый мир.
1969. № I. С. 259-263.
Рец.: Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. Л.: Наука, 1967. 182 с.
// Скандинавский сб. Таллин, 1969. [Вып.] 14. С. 381-385.
1970
Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М.: Высш. шк„ 1970.
224 с.
Феодализм //Филос. энцикл. М., 1970. Т. 5. С. 315-319.
О historickej zakonitosti // Historicky casopis. [Br.J, 1970. C. 2. S. 246-269.
1971
Представления о времени в средневековой Европе // История и психология.
М., 1971. С. 159-198.
Снечкус А.Ю. // Сов. ист. энцикл. М., 1971. Т. 13. Стб. 99-100.
Снорри Стурлусон //Там же. Стб. 100.
. Социальная психология // Там же. Стб. 468-469.
Saga and History: The historical conception of Snorri Sturluson // Mediaeval
Scandinavia. |Odense|. 1971. 4. P. 42-53.
444
Николай Иосифович Конрад (1891 — 1970): [Некролог| // Средние века. М..
1971. Вып. 33. С. 340-342.
Рец.: Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Л.: Наука, 1971. 139 с.// Новый мир.
1971. № 12. С. 279.
1972
История и сага. М.: Наука. 1972. 198 с. (Из истории мировой культуры).
Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972. 318 с.
«Makrokosmos» i «mikrokosmos»: Wyobrazenia przestrzcnne w sredniowiecznej
Europie // Historyka: Studia metodologiczne. [Wroclaw etc], 1972. T. 3. S. 23-5 L
Representations et attitudes a regard de la proprietc pendant le haut Moyen Age
// Annales: E.S.C. 1972. № 3. P. 523-547.
1973
К истолкованию «Песни о Риге» // Скандинавский сб. Таллин, 1973. [Вып.]
18.С. 159-175.
Марк Блок и «Апология истории»: [Послесловие] // Блок М. Апология
истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 170-208.
Народная культура раннего средневековья в зеркале «покаянных книг»
//Средние века. М., 1973. Вып. 37. С. 28-54.
Социальные отношения в Скандинавии эпохи викингов // Тез. докл. VI
Всесоюзной конференции по изучению скандинавских стран и Финляндии: [В
2 ч.] Таллин, 1973. Ч. 1. С. 56.
Февр // Сов. ист. энцикл. М., 1973. Т. 14. Стб. 983-984.
Язык исторического источника и социальная действительность: Билингвизм
в средневековой Европе // Сб. статей по вторичным моделирующим системам /
Отв. ред. Ю. Лотман. Тарту, 1973. С. 73-75.
La concezione del tempo nell’ Europa medioevale // Rassegna sovietica. [Roma],
1973. N° 3. P. 43-80.
Edda and Law: Commentary upon Hyndloliod // Arkiv for nordisk filologi. [Lund],
1973. Bd. 88. P. 72-84.
Jqzyk zrodla historyeznego i rzeczywistosc spoleczna: Sredniowieczny bilingwizm
// Studia zrodloznawcze. [W-wa; Poznan], 1973. 18. S. 1-13.
Tripartitio Christiana — tripartitio Scandinavica: W sprawie interpretaeji «Picsni
о Rigu» // Kwartalnik historyezny. [W-wa], 1973. 3. P. 547-567.
Отв. ред.: Блок M. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1973.
232 с.
Примечания // Там же. С. 209-222.
1974
Развитие феодальных отношений и их особенности // История Швеции /
Отв. ред. А.С. Кан. М., 1974. [Разд.] 3. [ Г л. ]. С. 83-105.
Фростатинга законы // Сов. ист. энцикл. М., 1974. Т. 15. Стб. 449.
Idokepzetek a kozepkori Europaban // Tontenelem es filozofia. Bp., 1974. Old.
31-89.
A kozepkori ember vilagkepe. Bp.: Kossuth, 1974. 297 1.
Рец.: Rafnsson Sv. Studier om landnamabok: Kritiska bidrag till den isliindska
fristats tidens historia. Lund: Gleerup, 1974. 256 s. (Bibliotheca Historica Lundcnsis,
XXXI) // Historisk tidskrift. [Stockholm]. 1974. № 6. P. 515-517.
445
1975
Из истории народной культуры и ереси: «Лжепророки» и церковь во Франк¬
ском государстве // Средние века. М., 1975. Вып. 38. С. 159-185.
К истории гротеска: «Верх» и «низ» в средневековой латинской литературе
// Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1975. Т. 34, № 4. С. 317-327.
Средневековый героический эпос германских народов: [Предисловие]
// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах. М., 1975. С. 5-26.
Примечания: Песнь о нибелунгах //Там же. С. 707-749.
Язык исторического источника и социальная действительность: Средне¬
вековый билингвизм //Тр. по знаковым системам. Тарту, 1975. [Вып.] 7. С. 98-
111. ( Учен. зап. / Тартус. ун-т; Вып. 365).
Le comique et le serieux dans la literature religieuse de Moyen Age // Diogene.
1975. № 90. P. 67-89.
Le temps coirane probleme d’histoire culturelle // Les cultures et les temps. P.,
1975. P. 257-276.
Viikingite retked. Tallinn: Valgus, 1975. 153 lk ( Mosaiik; 11).
Реф.: \Bloch M. La societe feodale. P, 1968] 11 Проблемы феодализма. M., 1975.
Вып. 1. С. 30-86. (Междунар. конгр. ист. наук, XIV, Сан-Франциско, 1975.
Материалы; Вып. 7).
Реф.: [StrayerJ. R. The two Levels of Feodalism] // Там же. С. 180-189.
Реф.: [Feodalism in history. Princeton, 1956] //Там же. С. 138-178.
Rec.: Johannesson J. A History of the Old Icelandic Commonwealth: islendinga
saga. Winnepeg: Univ. of Manitoba Press, 1974. xi, 407 p. (University of Manitoba
Icelandic Studies; II) // Mediaeval Scandinavia. [Odense], 1975. 8. P. 202-205.
1976
Вопросы изучения героической поэзии древних скандинавов // VII Всесоюз¬
ная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Сканди¬
навских стран и Финляндии: Тез. докл.: [В 2 ч.] Л.; М., 1976. Ч. 2. С. 8-9.
К истории гротеска: О природе комического в «Старшей Эдде* // Изв. АН
СССР. Сер. лит. и яз. 1976. Т. 35, N° 4. С. 331-342.
Мировая культура и современность: [В связи со ст. Т. Григорьевой «И еще
раз о Востоке и Западе» в журн. «Иностр. лит.», 1975, № 7] // Иностр. лит. 1976.
N° 1. С. 205-214.
Популярное богословие и народная религиозность средних веков // Из
истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 65-91.
«Поспйш» й «змшш* величини в icTopii культури: До проблеми народно!
культури середньов1чья // Всесвгг. [Ки!в], 1976. № 10. С. 193-211.
Средневековая литература и ее современное восприятие: О переводе «Песни
о нибелунгах» // Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976.
С.276-314.
«Эдда» и право: К истолкованию «Песни о Хюндле» // Скандинавский сб.
Таллин, 1976. [Вып]. 21. С. 55-73.
Histoire du Moyen Age. Moscou: Progres, 1976. 734, [2] p. Auteur des chapitres
suivants: Introduction, p. 5-9. (En collaboration avec Barg M.); Chap. 1-3, p. 13-94;
Chap. 4, § 1, p. 95-109; Chap. 4, § 5, p. 131-142; Chap. 12, p. 335-342.
Comite de redaction: Ibid. (En collaboration avec Abramson M., Kolesnitski N.).
К ddjinam grotesknosti: «Nahofe» a «dole» ve stredovfcke literature // Ceska
literature. [Pr.], 1976. 3. S. 239-249.
Kategorie kultury sredniowieeznej. W-wa: PIW, 1976. 370 s.
On the Nature of the Comic in the Elder Edda // Mediaeval Scandinavia. [Odense],
1976. 9. P. 127-137.
446
Time as a problem of cultural history // Culture and Time. [P. J, 1976. P. 229-245.
1977
Западноевропейские видения потустороннего мира и «реализм» средних
веков //Тр. по знаковым системам. Тарту. 1977. Вып. 8. С. 3-27 (Учен. зап. /
Тартус. ун-т; Вып. 411).
Норвежское общество в раннее средневековье: Проблемы социального строя
и культуры. М.: Наука, 1977. 327 с.
Скандинавские страны в XI—XV вв. // История средних веков: В 2 т. / Под
общ. ред. С.Д. Сказкина. 2-е изд., перераб. М., 1977. Т. 1. Гл. 14. С. 334-344.
Frihet og Foydahsme. Oslo: Universitetsfortlaget, 1977. 144 s.
Representations of property during the high Middle Ages // Economy and Society.
[L.J, 1977. Vol. 6, № I. P. 1-30.
Рец.: Мелетинскии E.M. Поэтика мифа. M.: Наука, 1976. 407 с. // Изв. АН
СССР. Сер. лит. и яз. 1977. Т. 36, № 6. С. 557-560.
Rec.: Glendinning R.J. Traume und Vorbedeutung in der Islendinga Saga Sturla
Thordarsons, Eine Form- und Stiluntersuchung. Bern; Fr/M: Herbert Lang und Cie AG,
1974. 278 S. (Kanadische Studien zur deutschen Sprache und Literatur; № 8) //
Mediaeval Scandinavia. [Odense], 1977. 10. P. 194-197.
1978
О природе героического в поэзии германских народов // Изв. АН CCv^P. Сер.
лит. и яз. 1978. Т. 37, № 2. С. 133-148.
Пространственно-временной «континуум» «Песни о Нибелунгах» //
Традиция в истории культуры. М., 1978. С. 112-127.
The Early State in Norway // The Early State / Ed. H.J.M. Claessen et aut. The
Hague; P; N.Y., 1978. P. 403-423.
Histona da idade media: [Em tres volumes]. Lisboa: Estampa, 1978. Vol. I. 248,
[4] p.; Vol. 2. 390 p.; Vol. 3. 328 p.
Autor: Vol. 1: Introdugao, p. 11-17. (Em coopera<;ao com Barg M.); Cap. 1-3,
p. 21-128; Cap. 4, § 1, p. 129-148; Cap. 4, § 5, p. 176-190. Vol. II: Cap. 12, p. 199-
208.
Direcgao: Ibid. (Em cooperagao com Abramson M. e Kolesnitski N.).
Kategoric stfedoveke kultury. Pr.: Mlada ffonta, 1978. 286 s.
Om det heroiskas natur i germanenfolkens poesi: Foretradevis i «Den aldre Edden»
// Scandia. 1978. Bd. 44, h. 2. S. 199-228.
Prefazione // Febvre L. II problema dell’incrcdulita nel secolo XVI: La religione
di Rabelais. Torino, 1978. P. 1X-XXIX.
Das Wcltbild des mittelalterlichen Menschen. Dresden: Verlag der Kunst, 1978.
433 S.
1979
[Выступление на «круглом столе» «Предмет и метод истории культуры», янв.
1979 г.1 // История СССР. 1979. № 6. С. 114-116.
«Прядь о Торстейне Мороз-по-коже», загробный мир и исландский юмор
//Скандинавский сб. Таллин, 1979. [Вып.| 24. С. 125-132.
«Эдда» и сага. М.: Наука, 1979. 192 с.
Dawnosc i wspolczesnosc czyli о znnennosei kultur / Z prof, rozmawia
W. Osiatynski // Kultura. [W-wa], 1979. 7 styeznia (1(812)). S. 5.
Feodalismens uppkomst i Vasteuropa. Stockholm: Tidcns forlag. 1979. 256 s.
Pei n’antroooloiiia delle visiom ultraterrene nclla eultura occidcntale del Medioevo
447
// La semiotica nei Paesi slavi: Programmi, problenn, analisi / Ed. C. Prevignano.
Milano, 1979. P. 443-462.
Zu Begriffsbildungen m vorkapitalistischen Gemeinwesen und lhrer gcsell-
schaftlichen Motivation: «Hof», «Grund und Boden», «Welt»: Anhand mittelalterlicher
skandinavischen und angelsachschen Quellen // Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte.
1979. Bd.l. S. 113-124.
1980
Атли // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 121-122.
Беовульф // Там же. С. 168.
Брюнхильд//Там же. С. 188.
Германо-скандинавский героический эпос // Там же. С. 290-292. В ст.
Мелетинского Е.М. Германо-скандинавская мифология.
Гудрун //Там же. С. 339-340.
Идеология, культура и социально-культурные представления западно¬
европейского средневековья в современной западной медиевистике: Предисловие
// Идеология феодального общества в Западной Европе: Проблемы культуры и
социально-культурных представлений средневековья в современной зарубежной
историографии: Реферат, сб. М., 1980. § 1. С. 5-23.
История Норвегии / Отв. ред. А.С. Кан. М.: Наука, 1980. 710, [2] с.
Авт. след, гл.: Историографическое введение: Норвежская историография.
Изучение древности и средневековья, с. 9-23; Гл. 1: Первобытнообщинный строй,
с. 78-96; Гл. 2: Походы викингов (конец VIII — первая половина XI в.), с. 97-125.
(О русско-норвежских связях / Шаскольский И.П.; Об открытии Северной
Америки викингами / Коган М.А.]; Гл. 3: Образование раннефеодального
государства (конец IX — начало XIII в.), с. 126-151; Гл. 4: Расцвет норвежской
монархии в XIII в., с. 152-157. [О русско-норвежских связях / Шасколь¬
ский И.П.]; Гл. 5: Упадок Норвегии. От унии со Швецией к унии с Данией (XIV—
XV вв.), с. 177-196; Гл. 6: Реформация. Начало экономического подъема.
Норвегия в составе датской державы (1536-1600 гг.), с. 197-217. (О русско-
норвежских связях / Шаскольский И.П.].
«Круг Земной» и история Норвегии // Снорри Стурлусон. Круг Земной. М.,
1980. С. 612-632.
Dawnosc i wspouczesnoua, czyli о zmiennosci kultur // Osiatynski W. Zrozumiec
swiat: Rozmowy z uczonymi radzieckimi. W-wa, 1980. S. 329-344.
Das Weltbild des Mittelalterlichen Menschen. Miinchen: Beck, 1980. 423 S.
Реф.: Ариес Ф. Человек перед лицом смерти: [Aries Ph L’homme devant la mort.
P.: Scuil, 1977. 641 p. (L’ uni vers hist.)] // Идеология феодального общества в
Западной Европе: Проблемы культуры и социально-культурных представлений
средневековья в современной зарубежной историографии. М., 1980. С. 177-185.
Подпись: А.Я. Аросов.
Реф.: Борет А. Формы жизни в средние века: [Borst A. Lebensformen im
Mittelalter. Fr. / M.; В.: Propylaen, 1973. 783 S. //Там же. С. 144-159.
Реф.: Легофф Ж. Переосмысливая средневековье: Проблемы времени, труда и
культуры в западноевропейском средневековом обществе: \Le Goff J. Pour un autre
Moyen Age: Temps, travail et culture en Occident: 18 essais. P: Gallimard, 1977. 424 p.
(Bibl. des histoires)] //Там же. С. 122-143 (Совм. с Бессмертным Ю.Л.).
Реф.: Манселли Р. Народная религия средних веков: Проблемы методологии
и истории: [Manselli R La religion populaire au Moyen Age: Problemes de methodc
et histone. Montreal: Inst, d’etudes medicvales Albert-lc-Grand, 1975. 284 p.] //Там
же. С. 55-66 .
Реф.: Рихтер М. Проблемы общения в латинском средневековье: |Richter М
Komnuimkationspiobleme im latcuibchen Mittelalter /' Пы. Z. Miinchen, 1976. Bd.
448
222. S. 43-80J//Там же. С. 172-176.
Реф.: Шпрандель Р. Умонастроения и системы: Новые подходы к средне¬
вековой истории: (Sprandel R. Mentalitaten und Systeme: Ncue Zugange zur
mittelalterlichen Geschichte. Stuttgart: Union Verl., 1972. 177 s.] //Там же. С. 160-
171. Подпись: А.Я. Аросов.
Пер. с древнеисланд.: Сага о Магнусе Добром // Снорри Стурлусон. Круг
Земной. М., 1980. С. 378- 401.
Пер. с древнеисланд.: Сага о Харальде Суровом // Там же. С. 402-463.
Рец.: Ястребицкая A.JI. Западная Европа XI— XIII вв.: Эпоха. Быт. Костюм.
М.: Искусство, 1978. 175 с. // Сов. искусствознание. 1980. Т. 79, № 1. С. 352-357.
Чл. ред. кол.: Идеология феодального общества в Западной Европе:
Проблемы культуры и социально-культурных представлений средневековья в
современной зарубежной историографии: Реферат, сб. /АН СССР, ИНИОН. М.,
1980. 300 с.
Чл. ред. кол.: История Норвегии / Отв. ред. А.С. Кан. М.: Наука, 1980. 710,
[2] с.
1981
О новых проблемах изучения средневековой культуры // Культура и
искусство западноевропейского средневековья: Материалы науч. конф., 1980:
[Випперовские чтения; XII] / Под ред. И.Е. Даниловой. М., 1981. С. 5-34.
Проблемы средневековой народной культуры. М.: Искусство, 1981. 359 с.
Сага и истина //Тр. по знаковым системам. Тарту, 1981. Вып. 13. С. 22-34.
(Учен. зап. /Тартус. ун-т.; Вып. 546).
Frihet og foydalisme. Avslutning // Norske historikerc i utvalg. [Oslo, Bergen,
Tromso], 1981. Bd.5. S. 47-55.
1982
«Большая» и «малая» эсхатология в культуре западноевропейского средне¬
вековья // Finitis duodecim lustris: Сб. ст. к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. Таллин,
1982. С. 79-82.
[Выступление на «круглом столе» «Ранние, древнейшие» журнала] // Зна¬
ние — сила. 1982. № 1. С. 11.
Некоторые проблемы изучения общественного сознания средневековья в
современной зарубежной медиевистике: Предисловие // Культура и общество в
средние века: Методология и методика зарубежных исследований: Реферат, сб.
М., 1982. § 1. С. 5-17.
Нибелунги // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1982. Т. 2.
С. 214-215.
Сага и истина // IX Всесоюзная конференция по изучению истории,
экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии: Тез. докл.
Тарту, 1982. Ч. 1. С. 146-148.
Сигурд // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1982. Т. 2.
С. 432-433.
Старкад // Там же. С. 467- 468.
Устная и письменная культура средневековья: Два «крестьянских видения»
конца XII — начала XIII в. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. Т. 41, № 4. С.
348-358.
Хаддинг // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М.. 1982. Т. 2
С. 575-576.
Хегни //'Гам же. С. 588.
Хегель и Хильда // Там же С 590.
449
Au Moyen Age: Conscience individuelle et image de l’au-dela // Annales: E.S.C.
1982. № 2. P. 255-275.
On heroes, things, gods and laughter in Germanic poetry // Studies in Mediaeval
and Renaissance History. [N.Y.], 1982. Vol. 5. P. 105-172.
Le ongini del feudalesimo / Pref. di R.Manselli. Roma; Bari: Laterza, 1982. 215 p.
Das Weltbild des mittelalterlichcn Menschen. 2. Aufl. Miinchcn: Beck, 1982. 423 S.
Реф.: Больони П. Народная культура в средние века: Темы и проблемы:
(Bogliom Р La culture populaire au Moyen Age: Themes et problemes // La culture
populaire au Moyen Age. Quebec; Montreal, 1979. P. 11-37] // Культура и общество
в средние века: Методология и методика зарубежных исследований: Реферат, сб.
М., 1982. С. 36-41.
Реф.: Гири П. Дж. Священные кражи: Похищение мощей в период развитого
средневековья: [Geary Р. J. Furta sacra: Thefts of relice in the central Middle Ages.
Princeton ( N.Y.): Princeton univ. press, 1978. XIV, 227 p.] //Там же. С.42-52.
Реф.: Томас К.В. Религия и закат магии: Исследование народных верований
в Англии XVI—XVII столетий: (Thomas К. V. Religion and the decline of magic: Studies
in popular beliefs in sixteenth and seventeenth century England. L. : Weidenfeld and
Nicolson, 1971. XIX, 716 p.] //Там же. С. 90-104.
Реф.: Хёрлихи Д. Средневековые дети: [Herlihy D. Medieval children // Essays
on medieval civilization. Austin; L.; 1978. P. 109-141] //Там же. С. 258-263.
Чл. ред. кол.: Культура и общество в средние века: Методология и методика
зарубежных исследований: Реферат, сб. / АН СССР, ИНИОН. М., 1982. 264 с.
1983
[Выступление на одном из расширенных заседаний редколлегии «Лит.
памятников», посвященном проблемам издания серии] // Иностр. лит. 1983. № 3.
С. 190-191.
Крестьянская собственность на землю и римское право у германских народов
раннего средневековья // Общество, государство, право России и других стран.
Норма и действительность: ранний и развитой феодализм: Чтения, посвященные
памяти С.Д. Сказкина и Л.В. Черепнина: Тез. докл. и сообщ., Москва, 25—27 окт.
1983 г. М., 1983. С. 14-17.
Новые подходы к изучению источников по западноевропейской средневеко¬
вой культуре //Актуальные проблемы источниковедения и специальных истори¬
ческих дисциплин: Тез. докл. IV Всесоюз. конф., Днепропетровск, 31 окт. — 2
нояб. 1983 г. М„ 1983. С. 161-167.
Феодализм // Философский словарь. М., 1983. С. 720-722.
Le categorie della cultura medievale. Torino: Einaudi, 1983. VIII, 330 p.
Les categories de la culture medievale / Pref. de G. Duby. P.: Gallimard, 1983.
340 p.
Die Darstellung von Personlichkeit und Zeit in der mittelalterlichen Kunst: (in
Verbindung mit der Auffassung vom Tode und der jenseitigen Welt) // Architektur des
Mittelalters: Function und Gestalt. Weimar, 1983. S. 87-104.
Marc Bloch ja «Ajaloo apoloogia» // Bloch M. Ajaloo apoloogia. Tallinn, 1983.
Lk. 124-165.
Medieval culture and mentality according to the new French historiography //
Archives europeennes de sociologie. [P.], 1983. T. XXIV, № 1. P. 167-195.
Popular and scolarly medieval cultural Traditions: Notes in the margin of J. Lc
Goff’s book // Journal of Medieval History. [Amsterdam], 1983. № 9. P. 71-90.
La storia, dialogo con gli uomini dell’eta passate // La teona della stonografia
oggi. Milano, 1983. P. 231-238.
Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. 2. Aufl. Dresden: Verlag der Kunst
1983. 454 S.
450
1984
Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Искусство,
1984. 350 с.
О соотношении народной и ученой традиций в средневековой культуре:
(Заметки на полях книги Ж. Ле Гоффа): (Le Goff J. La naissanse du Purgatoire. P.:
Gallimard, 1981. 509 p.] ) // Французский ежегодник, 1982. M., 1984. С. 209-224.
Этнология и история в современной французской медиевистике // Сов.
этнография. 1984. № 5. С. 36-48.
Die Darstellung von Personlichkeit und Zeit in der mittelalterlichen Kunst: (in
Verbindung mit der Auffassung vom Tode und der jenseitigen Welt) // Architektur des
Mittelalters: Function und Gestalt. 2., du chges. Aufl. Weimar, 1984. S. 87-104.
Oral and Written Culture of the Middle Ages: Two «Peasant Visions» of the
Late Twelfth Early Thirteenth Centuries // New Literary History. 1984. Vol. XVI,
№ 1. P. 51-66.
1985
История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма: В Зт. М.: Наука, 1985.
Т. 1: Формирование феодально-зависимого крестьянства. 608 с.
Авт. след, гл.: Гл. 3: Аграрный строй варваров, с. 90-136; Гл. 8: Становление
английского крестьянства в донормандский период, с. 276-295; Гл. 9: Формирова¬
ние крестьянства в Скандинавских странах ( IX—XIII вв.), с. 296-313; Гл. 17: Кре¬
стьянство и духовная жизнь раннесредневекового общества, с. 519-554; Некоторые
итоги изучения генезиса феодально-зависимого крестьянства в Европе, с. 555-561
(Совм. с Удальцовой З.В. и Бессмертным Ю.Л.).
«Новая историческая наука» во Франции: достижения и трудности: (Крити¬
ческие заметки медиевиста) // История и историки, 1981. М., 1985. С. 99-127.
Categories of Medieval Culture. L.: Routledge and Kegan Paul, 1985. vii, 347 p.
Проблеми на средновековната народна култура. София: Наука и изкуство,
1985. 375 с.
Рец.: Праздник, календарный обряд и обычай в странах зарубежной Европы:
(Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, XIX — начало
XX в. М.: Наука, 1973—1983. Т. 1-4.] // Сов. этнография. 1985. № 3.
С. 140-147.
1986
Вопросы культуры в изучении исторической поэтики // Историческая
поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., 1986. С. 153-167.
История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма: В 3 т. М.: Наука, 1986.
Т.З: Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения
капиталистических отношений. 592 с.
Авт. след, гл.: Гл. 10: Норвежское крестьянство в XVII — начале XIX вв.,
с. 221-232. (Совм. с Кахком Ю.Ю.); Гл. 23, [§] 2: Духовная жизнь крестьянства
Западной Европы XVI—XVIII вв., С. 492-516.
Марк Блок и «Апология истории» // Блок М. Апология истории, или Ремесло
историка. 2-е, доп. изд. М., 1986. С. 182-231.
Contadmi е santi: Problemi della cultura popolare nel medioevo. Torino: Einaudi,
1986. XVI, 385 p.
Mittclaltcrlichc Volkskultur: Probleme zur Forschung. Dresden: Verlag der Kunst,
1986 418 S
New works by Soviet historians / Soeial Sciences [Moscow], 1986 № 3.
P 219-223 (In collaboration with Udaltsoxa Z.. Bessmertny J )
451
Tiden som kulturlustoriskt problem // Haften for kritiska studicr. [Stockholm],
1986. № 2. S. 13-28.
Das Weltbild des mittelalterhchen Mcnschen. 3, unverand. Aufl. Miinchen: Beck,
1986. 421 S.
Отв. ред.: Блок M. Апология истории, или Ремесло историка. 2-е, доп. изд.
М.: Наука, 1986. 256 с.
Примечания: Там же. С. 232-247.
1987
Ведьма в деревне и пред судом: Народная и ученая традиции в понимании
магии // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 12-46.
Диалог современности с прошлым // -Наука и жизнь. 1987. № 9. С. 60-61.
Западный портал церкви Сен-Лазар в Отене и парадоксы средневекового
сознания //Тр. по знаковым системам. Тарту, 1987. Вып. 20. С. 39-48. (Учен. зап.
/Тартус. ун-т; Вып. 746).
Народная религиозность и культура средневековья в современной зарубеж¬
ной медиевистике: Источниковедческий аспект: (Обзор) // Культура и общество
в средние века: Методология и методика зарубежных исследований. М., 1987.
Вып. 2. С. 36-57.
О художественном познании средневековой культуры: Эко У. Размышления
об имени Розы: (Обзор) //Там же. С. 151-166.
[Ответы на вопросы редколлегии об итогах и проблемах семиотических ис¬
следований! //Тр. по знаковым системам. Тарту, 1987. Вып. 20. С. 15-17. (Уч. зап.
/ Тартус. ун-т; Вып. 746).
Gurevich on Gurevich: A.Gurevich on Pierre Duhem // Science in Context. 1987.
Vol. I, № 2. P. 353-361.
A kozepkori nepi kultura. Bp.: Gondolat, 1987. 441 1.
II mercante // L’uomo medievale / A cura di J. Le Goff. Roma; Bari, 1987.
P. 271-317.
Mittelalterliche Volkskultur. Miinchen: Beck, 1987. 417 S.
Problemi narodne kulture u sredniem veku. Belgrad: Grafos, 1987. 399 s.
Problcmy sredniowieczncj kultury ludowej. W-wa: PIW, 1987. 400 s.
Semantics of the Medieval Community: «farmstead», «land», «world» // Recueils
de la Societe Jean Bodin. P„ 1987. XLIV. P. 525-540.
The West Portal of The Church of St. Lazaire in Autun: The paradoxes of the
Medieval Mind // Peritia: Journal of Medieval Academy of Ireland. 1987. Vol. 4. P. 251-
260 .
Реф.: Делюмо Ж. Грех и страх: Внушение чувства вины на Западе (XIII—XVIII
века): [Delumeau J. Le peche et la peur: La culpabilisation en Occident (XIIIе—XVIIIе
siecles). P.: Fayard, 1983. 741 p.] // Культура и общество в средние века:
Методология и методика зарубежных исследований. М., 1987. Вып. 2. С. 77-91.
Рец.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—
XVIII вв. М.: Прогресс, 1986. 622 с. // Сов. этнография. 1987. № 4. С. 156-159.
Rec.: Stimmen der Vergangenheit: [Borst A. Lebensformen im Mittelalter. Fr.
/ M., B.: Propylaen, 1973. 783 S.] // Frankfurter Allgememe Zcitung. 1987. 8. Juli
(№ 154). S. 30-31.
Отв. ред.: Культура и общество в средние века: Методология и методика
зарубежных исследований: Реферат, сб. / АН СССР, ИНИОН. М., 1987. Вып.2
222 с. (Совм. с Ястребиикой А.Л.).
Предисловие: Там же. С. 5-35.
452
198$
Атли // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. 2-е изд. М., 1988. Т. 1. С.
121-122.
Беовульф // Там же. С. 168.
Брюнхильд // Там же. С. 188.
Видение Туркилля: К проблеме соотношения ученой и фольклорной тради¬
ций в средневековой культуре // Semiotics and the History of Culture. In Honor of
J. Lotman. Columbus (Ohio), 1988. P. 11-32.
(Выступление на встрече редакции с учеными-гуманитариями по поводу от¬
ражения материалов по истории на страницах журнала] // Юность. 1988. № 1.
С. 5-6. (Что было у него в глазах).
[Выступление на «круглом столе» «Философия и историческая наука», апр.
1988 г.] // Вопр. философии. 1988. № 10. С. 20-23.
Германо-скандинавский героический эпос // Мифы народов мира: Энцик¬
лопедия: В 2 т. 2-е изд. М., 1988. Т. 1. С. 290-292. В ст. Мелетинского Е.М. Гер¬
мано-скандинавская мифология.
Гудрун // Там же. С. 339-340.
Дух и материя: Об амбивалентности повседневной средневековой религиоз¬
ности // Культура и общественная мысль: Античность. Средние века. Эпоха Воз¬
рождения. М„ 1988. С. 117-123.
Изучение ментальностей: социальная история и поиски исторического син¬
теза // Сов. этнография. 1988. № 6. С. 16-25.
Историческая наука и историческая антропология // Вопр. философии. 1988.
№ 1. С. 56-70.
Нибелунги // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. 2-е изд. М., 1988.
Т. 2. С. 214-215.
О трактовке героического в «Эдде» // Скандинавский сб. Таллин, 1988. [Вып.]
31. С. 198-206.
Сверрир в саге и в истории // Сага о Сверрире. М., 1988. С. 187-225.
Примечания: Там же. С. 246-268. Совм. с Гуревич Е.А.
Семья, секс, женщина, ребенок в проповеди XIII в. (Франция и Германия)
// Историческая демография докапиталистических обществ Западной Европы:
Проблемы и исследования. М., 1988. С. 154-185.
Сигурд // Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. 2-е изд. М., 1988. Т. 2.
С. 432-433.
«Социология» и «антропология» в проповеди Бертольда Регенсбургского
//Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 88-97.
Старкад // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. 2-е изд. М., 1988. Т.2.
С. 467- 468.
Хеддинг // Там же. С. 575- 576.
Хельги // Там же. С. 588.
Хетель и Хильда // Там же. С. 590.
«Exempla» — литературный жанр и стиль мышления // Монтаж: Литература,
искусство, театр, кино. М., 1988. С. 149-189.
Fare storia nell’URSS // Storia c dossier. 1988. Marzo (№ 16). P. 4-6.
Marc Bloch and Historical Anthropology // Mi^dzy historic a teori^: Refleksie nad
problematyka dziejow i wiedzy historycznej. [W-wa; Poznan], 1988. S. 308-312.
Mediaeval popular culture: Problems of belief and perception. Cambridge:
Cambridge Univ. Press., 1988. XX, 275 p. (Cambridge studies in oral and literate
culture; 14).
Rec.: Hciligc Insel: Irland im Mittclalter: [Die Iren und Europa im friiheren
Mittclaltcr Tcilbandc 1 und 2 / Hrsg. H. Low. Stuttgart: Klett-Cotta Vcrlag, 1982.
1110 S.; Irland und Europa. Die Kirche im Friihmittelalter ' Hrsg. Proinseas Ni
453
Chatham und M. Richter. Stuttgart: Klett-Cotta, 1984. 458 S.; Irland und die
Christcnheit: Bibelstudien und Mission / Hrsg. Proinseas N1 Chatham und M.
Richter. Stuttgart: Klett-Cotta, 1987. 523 S.] // Frankfurter Allgemeine Zeitung.
1988. 30. Apr. (№ 101). S. 29.
Отв. ред.: Райт Дж.К. Географические представления в эпоху крестовых по¬
ходов. М.: Наука, 1988. 478 с.
Предисловие: Там же. С. 3-12.
1989
Вслед за «Одиссеем»: (Ответы на вопросы редакции о новом сериальном
издании] // Вопр. философии. 1989. № 12. С. 162-163.
Историческая антропология: Проблемы социальной и культурной истории
// Вестн. АН СССР. 1989. № 7. С. 71-79.
Картина мира средневекового человека // Моек. ун-т. 1989. 28 дек. (№ 26).
С. 14.
Культура и общество средневековой Европы глазами современников:
(Exempla XIII века). М.: Искусство. 1989. 367 с.
Ментальность // 50/50: Опыт словаря нового мышления. М., 1989.
С. 454-456.
Проблема ментальностей в современной историографии // Всеобщая исто¬
рия: дискуссии, новые подходы. М., 1989. Вып. 1. С. 75-89.
Смерть как проблема исторической антропологии: О новом направлении в
зарубежной историографии // Одиссей. Человек в истории, 1989. М., 1989.
С. 114-135.
Die Darstellung von Personlichkeit und Zeit in der mittelalterlichen Kunst und
Literatur: (In Verbindung mit der Auffassung vom Tode und des Jenseits) // Archiv
fur Kulturgeschichte. 1989. Bd 71, H. 1. S. 1-44.
Der Kaufmann // Der Mensch des Mittelalters / Hrsg J. Le Goff. Fr. / M.; N.Y.;
P„ 1989. Кар. 7. S. 268-311.
Lc marchand // L’homme medieval / Sous la dir. de Le Goff J. P., 1989. P. 267-313
Santi iracondi e demoni buoni negli «exempla» // Santi e demoni nell’alto medioevo
occidentale. Spoleto, 1989. Vol. 2. P. 1043-1063. ( Settimano di Studio del Centro
italiano di studi sull alto medioevo; XXXVI).
ViduramZiy kulttiros kategorijos. Vilnius: Mintis, 1989. 289 p.
Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. 4., unverand. Aufl. Miinchen: Beck.
1989. 423 S.
Rec.: Das Leben der Familien im offenen Raum: [Geschichte des privaten Lebens:
5 Bande /Hrsg. P. Aries, G. Duby. Fr./ M.: Fischer Verlag, 1989. Bd 1. 623 S.] //
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1989. 10. Oct. (№ 235). Anh. S. 27. (Literatur).
Отв. ред.: Одиссей. Человек в истории, 1989: Исследования по социальной
истории и истории культуры. М.: Наука. 1989. 198, [2] с.
1990
Европейское средневековье и современность // Европейский альманах: Ис¬
тория. Традиции. Культура, 1990. М., 1990. С. 135-147.
Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в
истории культуры // Одиссей. Человек в истории, 1990. М, 1990. С. 76-89.
«Жизнь после жизни», или Нечто о современности и средневековье // Зна¬
ние — сила. 1990. № 11. С. 55-62.
История средних веков: |Учебник для вузов]: В 2 т / Под ред. З.В. Удальцо¬
вой и С Г1 Карпова М/ Высш шк.. 1990 Т. I. 495 с
Ат след н : П 6. § 5. Северная Европа в IX —XI вв.. с 165-172: Гл 15
454
Скандинавские страны в XII—XV вв., с. 352-361.
Многозначная повседневность средневекового человека // Искусство кино.
1990.№ 6. С. 109-112.
Народная магия и церковный ритуал // Механизмы культуры. М., 1990. С. 3-27.
О генезисе феодального государства // Вест, древней истории. 1990. № I.
С. 101-106.
Социальная история и историческая наука // Вопр. философии. 1990. № 4.
С. 23-35.
Средневековый мир: Культура безмолвствующего большинства. М.: Искус¬
ство, 1990. 395 с.
Средневековый купец // Одиссей. Человек в истории, 1990. М., 1990.
С.97-131.
Теория формаций и реальность истории // Вопр. философии. 1990. № 11. С.
31-43.
«Я думаю, что у нас два Горбачева...» // Караулов А.В. Вокруг Кремля: Книга
политических диалогов. М., 1990. С. 409-426.
As categories da Cultura Medieval. Lisboa: Caminho, 1990. 392 p.
Bloch, Feuvre et la perestroika // Le Monde. 1990. 19 janv. P. 23. (Les «Annales»
soixante ans apres).
Las categorias de la cultura medieval / Presentacion de G. Dubi. Madrid: Taurus,
1990. 371 p.
Free Norwegian Peasantry Revisited // Hystonsk tidsskrift. [Oslo], 1990. 3. P. 275-284.
Histoire et anthropologie historique // Diogene. 1990. № 151. P. 79-94.
Introduction // L’homme et l’histoire: Recherches historico-anthropologiques et
historico-culturelles. Moscou, 1990. P. 6-15.
Invitation au dialogue: Lettre aux historiens framjais // Maison des Sciences de
l’Homme. Informations. [P.], 1990. № 64. P. 14-17.
March Bloch and Historical Anthropology // March Bloch aujourd’hui: Histoire
comparee et sciences sociales. P., 1990. P. 403-406.
El mercader // El hombre medieval. Madrid, 1990. P. 253-294.
The Merchant // Medieval Callings / Ed. by J. Le Goff. Chicago; L., 1990.
P. 242-283.
Le origini del feudalesimo. Roma; Bari: Laterza, 1990. 240 p. (Biblioteca
universale Laterza; 333).
What is the Perspective in which a Medievalist from Russia sees Social History
at the End of the 80s? // Storia della storiografia. [Milano], 1990. [ Vo 1.] 17. P. 35-39.
Статьи по историографии и методологии истории. Tokyo: Heibonsha, 1990. На
япон. яз.
Отв. ред.: Одиссей. Человек в истории, 1990: Личность и общество. М.: На¬
ука, 1990. 222, [2] с.
Отв. ред.: Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры: [Сб.
ст.] М.: Наука, 1990. 240 с.
Чл. ред. кол.: Культура и общество в средние века в зарубежных исследова¬
ниях: Реферат, сб. / АН СССР, ИНИОН. М., 1990. 275, [ 11 с. К XVII Междунар.
конгр. ист. наук (Мадрид, авг. 1990 г.).
1991
[Выступление на «круглом столе» редакции «Культура: городу и миру. Ин¬
теллект и рынок »] // Независимая газ. 1991. 27 авг. С. 7.
«Добротное ремесло»: Первая биография Марка Блока // Одиссей. Человек
в истории, 1991. М.. 1991. С. 75-83.
«Если мы не войдем в будущие саги...»: [Ответы на вопросы обозревателя
П. Крючкова] // Независимая газ. 1991. 4 апр. С. 7.
455
История и психология // Психол. журн. 1991. Т. 12, № 4. С. 3-15.
Культура и история: (Ответы на вопросы редакции журнала) // Новая и но¬
вейшая история. 1991. № 1. С. 97-100.
О кризисе современной исторической науки // Вопр. истории. 1991. № 2-3.
С. 21-36.
Охота на ведьм: вчера, сегодня, завтра // Megapolis express. 1991. 11 июля
(№ 28). С. 12.
Средневековая проповедь как исторический источник: Бертольд Регенсбур¬
гский // Мировая культура: Традиции и современность. М., 1991. С. 216-223.
Уроки Люсьена Февра // Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 509-541.
Antropologia е cultura medievalc: Lezioni romane. Torino: Einaudi, 1991. XV,
153p. (Piccola biblioteca Einaudi; 549).
Bachtin und der Kameval: Zu Dietz-Riidiger Mozer: «Lachkultur des Mittelalters?:
Michael Bachtin und die Folgen seiner Thcorie» // Euphorion. [Heidelberg], 1991. Bd.
85, H. 3/4. S. 423-429.
«De geest van een vreemde» // Madoc. 1991. 5 Maars (№ 1). S. 1-8.
Die Gefahr ist nicht vorbei: [Interview] // Spiegel. [Hamburg], 1991. 2. Sept. (№
36-45). S. 266, 268.
Historiker als Eroberer: Michel de Certeaus Aufsatze // Frankfurter Allgemeine
Zeitung. 1991. 8. Oct. (N° 233). Anh. S. 22. (Literatur).
De koopman // De wereld van de Middeleeuwen. Amsterdam, 1991.
P. 241-279.
The «Sociology» and «Anthropology» of Berthold von Regensburg // The Journal
of Historical Sociology. [Oxford; N.Y.], 1991. Vol. 4, № 2. P. 112-120.
Sozialismus und Gcschichte: Die sowjetische Historie auf dem Weg von Marx zu
Max Weber // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1991.7 Aug. (№ 181). Anh. S. 3. (N.).
Sredniowieczny smiech na tie strachu // Akcent. [Lublinie], 1991. № 2-3 (44-45).
S. 80-85.
Вновь норвежское крестьянство // Ист. журнал. Токио, 1991. № 10. С. 51-62.
На япон. яз.
Отв. ред.: Одиссей. Человек в истории, 1991: Культурно-антропологическая
история сегодня. М.: Наука, 1991. 192 с.
Отв. ред.: Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991. 598 с.
1992
Возвращение из «светлого будущего»: Пространство и время «хомо советикус»
// Megapolis-Express. 1992. 1 апр. (№ 14 (101)) С. 6.
Жак Ле Гофф и «Новая историческая наука» во Франции // Ле Гофф Ж.
Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 352-373.
Избиение кошек в Париже, или Некоторые проблемы символической
антропологии //Тр. по знаковым системам. Тарту, 1992. Вып. 25. С. 23-34. (Учен,
зап. / Тартус. ун-т; Вып. 936).
Притча о блудном сыне, вывернутая наизнанку, или Эпизод из жизни рода
Гельмбрехтов // Там же. Вып. 24. С. 3-16. (Учен. зап. / Тартус. ун-т; Вып. 882).
Филипп Арьес: смерть как проблема исторической антропологии: Преди¬
словие // Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. С. 5-32.
Человек средневековья // История Европы: С древнейших времен до наших
дней: В 8 т. М., 1992. Т. 2: Средневековая Европа. Ч. 4, гл. 3. С. 685-697.
«Annalcs» School Enigma // Rivista di storia della storiografia moderna. 1992
№ 1-2. P. 14-29.
Approaches of the «Annalcs School»- From the History of Mentalities to Historical
Synthesis // Scandia. 1992. Bd. 58. h. 2. P 141-150.
456
From Saga to Personality: Sverrirs saga // From Sagas to Society: Comparative
Approaches to early Iceland / Ed. G. Palsson. Enfield Lock, 1992. P. 77-87.
Historical Anthropology of the Middle Ages: Essays. Cambridge: Polity Press,
1992. 247 p.
Keskaja inimese maailmapilt. Tallinn: Kunst, 1992. 270 lk.
Kultura clitama i kultura ludovva w srcdniowicczncj Europie // Pauvres et riches:
Societe et culture du Moyen Age aux temps modeme. W-wa, 1992. P. 207-217.
Middcleewse volkskultur: ecn herwaadcring // Millennium. [L.], 1992. P. 4-16.
De middeleeuwen als laboratorium: [Interview] // Spiegel historiael. 1992. 1.
P. 28-32.
Der «Pattr Porsteins skells», das Jenseits und der islandische Humor // Sowjetische
Skandinavistik / Hrsg. L. Popova. Fr./ M.; B.; Bern, 1992. P. 45-52.
Saga und Wahrheit // Ibid. S. 31-44. »
Why am I not a Byzantinist? // Homo Byzantinus: Papers in Honor of A.Kazhdan
/ Ed. A. Culter, S. Franklin. Wash., 1992. P. 89-96. (Dumbarton Oaks Papers; № 46).
Категории средневековой культуры. Tokyo: Iwanami Shoten Publ., 1992. 477 c.
На япон. яз.
1993
Загадка школы «Анналов»: «Революция во французской исторической науке»
или Об интеллектуальной ситуации современной истории // Мировое древо =
Arbor Mundi. [М.], 1993. [Вып.] 2. С. 168-178. (Школа «Анналов»: взгляд из Па¬
рижа и Москвы).
Индивид: Статья для возможного в будущем «Толкового словаря средневе¬
ковой культуры» // От мифа к литературе: Сборник в честь 75-летия Е.М. Меле-
тинского. М., 1993. С. 297-311.
Интервью с Жаком Ле Гоффом // Мировое древо = Arbor Mundi. [М.], 1993.
[Вып.] 2. С. 159-167 (Школа «Анналов»: взгляд из Парижа и Москвы).
Исторический синтез и школа «Анналов». М.: Индрик, 1993. 328 с.
Логика политики или логика познания? // Споры о главном: Дискуссия о
настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анна¬
лов». М.. 1993. С. 198-199.
Медиевистика XX в. в изображении американского историка Н. Кантора: [О
кн.: Cantor N. Inventing the Middle Ages. N.Y.: William Murrow and Company Inc.,
1991. 477 p.) // Новая и новейшая история. 1993. № 6. С. 56-68.
Ментальность как пласт социальной целостности: (Ответ оппонентам)
// Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вок¬
руг французской школы «Анналов». М., 1993. С. 49-50.
От истории ментальностей к историческому синтезу // Там же. С. 16-29.
Я думаю, что у нас два Горбачева: [Диалог с журналистом|//Караулов А. В.
Вокруг Кремля: [В 2-х т.[. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1993. Т. 1. С. 361-372.
Средневековье с точки зрения историка конца XX века: [Тез. докл.]
// «Scnbantur haec...»: Проблема автора и авторства в истории культуры. М., 1993. С. 92.
Approaches of the «Annales School»: From the History of Mentalities to Historical
Synthesis // Rivista di storia della storiografia modema. 1993. № 1-2. P. 183-194.
Fragebogen // Frankfurter Allgcmeine Magazin. 1993. April. S. 32.
Hyndluljod // Medieval Scandinavia: An Encyclopedia. N.Y.; L., 1993. P. 309.
L’Individualite au Moyen Age: Le cas d’Opicinus dc Camstris // Annales: E.S C.
1993. № 5. P. 1263-1280.
Land Tenure and Inheritance / Medieval Scandinavia: An Encyclopedia. N.Y.. L ,
1993. P. 372-373.
El portal occidental de la lglesia de Saint-Lazare on Autun у las paradojas de la
457
concencia medieval 11 Eseritos: Rivista del Centro de Ciencias del Lenguaje. 1993.
№ 9. P. 161-172.
Le rirc medieval sur fond de peur // L’Humor Europeen. [Lublin; Sevres], 1993.
[Vol. 2]. P. 203-212.
Stimmen des Mittelalters. Fragen von Heute: Mentalitaten im Dialog. Fr. / M.:
Pandora; Campus, 1993. 122 S.
Категории средневековой культуры. Jerusalem: Academon, 1993. 265 c. Ha
иврите.
1994
«В этом безумии есть метод»: К проблеме «индивид» в средние века // Ми¬
ровое древо = Arbor Mundi. 1994. [Вып.] 3. С. 80-97.
Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов // Понятие судьбы в
контексте разных культур. М., 1994. С. 148-156.
Историк и история: К 70-летию Ю. Л. Бессмертного // Одиссей. Человек в
истории, 1993. М., 1994. С. 209-217.
История средних веков: [Учебник для сред. шк.]. М.: Интерпракс, 1994. 336 с.
(Совм. с Харитоновичем Д.Э.).
Поэзия и магия слова: [Вступ. ст. к переводу «Пряди о Торлейве Ярловом
Скальде»] // Одиссей. Человек в истории, 1993. М., 1994. С. 284-289.
Проблемы синтеза в школе «Анналов» // Социальная история: Проблемы
синтеза / РАН, ИВИ. М„ 1994. С. 85-91.
«Путь прямой, как Невский проспект», или Исповедь историка // Одиссей.
Человек в истории, 1992. М., 1994. С. 7-34.
Le Categorie della Cultura Medievale. Milano: Edizione CDE, 1994. 328 p.
La double responsabilite de l’historien // Diogene. 1994. № 168. P. 67-86.
Heresy and literacy: Evidence of the thirteenth-century ‘exempla’ // Heresy and
Literacy, 1000—1530 / Ed. P. Biller and A. Hudson. Cambridge, 1994. Chap. 6. P. 104-
111.
Das Individuum im Europaischen Mittelalter. Miinchen: Beck, 1994. 341 S.
Massive hindre for russiske reformer // Bergens Tidende. 1994. 30. Mai. S. 26.
11 Mercante nel Mondo Medievale // Giardina A., Gurevich A. Ja. II mercante
dall’Antichita al Medioevo. Roma, 1994. P. 61-127.
Persona: Towards the history of the concept of personality in the Middle Ages
// Culture and History. [Oslo], 1994. № 13. P. 11-24.
Sredmowieczny smiech na tie strachu // Humor Europejski / Pod red. M
Abramowicza, D. Bertranda, T. Strozynskiego. Lublinje, 1994. P. 261-269.
Отв. ред.: Одиссей. Человек в истории, 1992: Историк и время. М.: Кругь.
1994. 224 с.
Отв. ред.: Одиссей. Человек в истории, 1993: Образ «другого» в культуре. М.:
Наука, 1994. 336 с.
1995
Историческая наука и научное мифотворчество: (Критические заметки)
// Ист. зап. М„ 1995. Вып. 1 (119). С. 74-98.
История средних веков: [Учебник для сред. шк.]. М.: Интерпракс, 1995. 336 с.
«Круг Земной» и история Норвегии // Снорри Стурлусон. Круг Земной: Реп¬
ринт. изд. 1980 г. М„ 1995. С. 612- 632.
Нескромное обаяние власти: (Из дискуссии по ст М.А. Бойцова, с. 37-66)
// Одиссей. Человек в истории. 1995. М., 1995. С. 67—75.
«Путь прямой, как Невский проспект», или Исповедь историка // Препода¬
вание истории в шк. 1995. № 5. С. 22-38.
458
The French historical Revolution: The Annales school // Interpreting Archaeology:
Finding Meaning in the Past. / Ed. J. Hodder a. oth. L., 1995. P. 158-161.
From Landscape to Individuality // Archaeological Dialogues. 1995. Vol. 2, № 1.
P. 28-30.
El mercader // El Hombre Medieval / Ed. J. Le Goff. Madrid: Alianza, 1995.
P. 253-294.
The Origins of European Individualism. Oxford; Cambridge (Mass.): Blackwell,
1995. 280 p.
Культура и общество средневековой Европы глазами современников: Exempla
XIII века. Tokyo: Heibonsha, 1995. 528 с. На япон. яз.
Чл. ред. кол.: Одиссей. Человек в истории, 1995: Представления о власти. М.:
Наука, 1995. 312 с.
1996
Вместо заключения, или Можно ли «доить козла?»: [Из дискуссии на «круг¬
лом столе» «Историк конца XX века в поисках метода», проведенном редколле¬
гией в марте 1995 г.) // Одиссей. Человек в истории, 1996. М., 1996. С. 176-177.
Историк конца XX века в поисках метода: Вступительные замечания: [По
материалам «круглого стола», проведенного редколлегией в марте 1995 г.]
// Там же. С. 5-10.
Культура средневековья // История и философия культуры. / Всерос. гос.
ин-т кинематографии. М., 1996. С. 47-71.
Несколько соображений на полях статьи Эвы Эстерберг, [с. 21-42] // Миро¬
вое древо = Arbor Mundi. [М.], 1996. [Вып.] 4. С. 43-46.
«Территория историка»: [По материалам «круглого стола» «Историк конца
XX века в поисках метода»] // Одиссей. Человек в истории, 1996. М., 1996.
С.81-109.
La culture populaire au Moyen Age: «Simplices et Docti». R: Aubier, 1996. 447 p.
Kirchliche Tradition vs. Kontakt zur Gemeinde. // Bayerisches Jahrbuch fiir
Volkskunde. 1996. S. 189 -190.
The Merchant // Medieval Callings / Ed. J. Le Goff. 2-nd ed. Chicago, 1996. R
243-283.
La nascita dell’individuo nell’Europa Medievale. Roma; Ban: Laterza, 1996. R 315.
Гл. ред.: Одиссей. Человек в истории, 1996: Ремесло историка на исходе
XX века. М.: Coda. 1996. 368 с.
1997
Двоякая ответственность историка // Новая и новейшая история. 1997. № 5
С. 68-79.
История средних веков: [Учебник для вузов]: В 2 т. / Под ред. С.П. Карпова.
М.: Изд-во МГУ; Инфра-М, 1997. Т. 1. 640 с.
Авт. след, гл.: Гл. 6, § 5: Северная Европа в IX—XI вв., с. 198-205; Гл. 15:
Скандинавские страны в XII—XV вв., с. 456-466.
Почему я скандинавист?: Опыт субъективного осмысления некоторых
тенденций развития современного исторического знания // Celebrating Creativity:
Essays in honour of J. Bortnes / Ed. K.A. Grimstad and 1. Lunde. Bergen, 1997. P. 314-
324.
Annales in Moscow // The Work of Jacques Le Goff and the Challenges of
Medieval History / Ed. M Rubin. Woodbridge, 1997. P. 239-248.
Bakhtin and his Theory of Carnival U A Cultural History of Humour: From
Antiquity to the Present Day ' Ed. J. Bremmcr and H Roodenburg. Cambridiie. 1997
P. 54-60.
459
Himmlisches und irdischcs Leben: Bildwelten des schriftloscn Mcnschen nn 13.
Jahrhundert. Amsterdam; Dresden: Vcrlag der Kunst, 1997. 512 S.
Kultura l spoleczenstwo srcdniowiccznej Europy: Exempla XIII wicky. W-wa
Volumcn, 1997. 287 s.
La naissance de l’individu dans Г Europe medievalc. P.: Seuil. 1997. 321 p.
Los origcncs del individualismo curopco. Barcelona: Critica, 1997. 234 p.
Romer und Barbaren: Ein Lesebuch zur deutschen Geschichte von der Spatantike
bis 800. Miinchen: Beck, 1997. 235 S.
Der Autor dcr folgenden Kapiteln: Klassischc Rhetorik und christliche Literatur:
Gregor von Tours, S. 135-142; Libri pocnitentialcs, S.209-213; «Volksheilige», Heidcn
und Haretiker, S. 230-235.
La storiografia russa sulla via della dcideolo gizzazionc // Dimensioni e problemi
della ncerca storica. 1997. № 2. P. 47-73.
Stummc Zeugen des Mittelalters: Weltbild und Kultur der einfachen Menschcn.
Weimar; Koln; Wien: Bohlau Verlag, 1997. 405 S.
Den svSrfkngade individen: Sjalvsyn hos fomnord. Hjatar och medeltidens larde
i Europa. Stockholm: Ordfront, 1997. 281 S.
Das Weltbild des mittelalterhchen Menschen. 5. Aufl. Miinchen: Beck, 1997. 423
S. (Beck’s Hist. Bibl.)
1998
«Апории» исторической науки, действительные и мнимые: Полемические
заметки // Одиссей. Человек в истории, 1997. М.. 1998. С. 233-250.
Культура Средневековья и историк конца XX в. // История мировой культу¬
ры. Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций /
Рос. гос. туманит, ун-т. М., 1998. С. 210-318.
Марк Блок и историческая антропология: Послесловие // Блок М. Короли-
чудотворцы. М., 1998. С. 667-678.
Человеческое достоинство и социальная структура: Опыт прочтения двух
исландских саг// Одиссей. Человек в истории, 1997. М., 1998. С. 5-30.
Науч. ред.: Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъесте¬
ственном характере королевской власти, распространенных преимущественно во
Франции и в Англии. М.: Языки русской культуры, 1998. 712 с.
Гл. ред.: Одиссей. Человек в истории, 1997: Культурная история социального
М.: Наука, 1998. 379 с.
1999
Не «Вперед к Геродоту!», а назад — к анекдотам // Историк в поиске / Под
ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 1999. С. 234-239.
В печати
[Вступительное слово на «круглом столе» «Проблемы периодизации в
истории»] // Одиссей. Человек в истории, 1998;
«Разговор должен быть продолжен»: (Заключительное слово на «круглом
столе»] // Там же.
«Одиссею» — десять лет // Там же.
От пира к лену // Одиссей. Человек в истории. 1999.
460
Individu // Dictionnaire raisonne du Moycn Age / Sous la dir. de J. Le Goff et
J.-C. Schmitt.
Дар // C6. ct. к 70-летию проф. Я. Бака (Будапешт).
«Одиссей» и судьбы русской исторической науки во второй половине исте¬
кающего столетия: Вступ. ст. // Сборник переводов статей, опубликованных в
ежегоднике «Одиссей» в 1989—1998 гг. На фр. яз.
Словарь средневековой культуры.
Авт. статей: Ведьма; Викинги; Время; Дары, обмен дарами; Детство;
Exemplum; Крестьяне; Купец; Личность; Микрокосм/макрокосм; Пир; Потусто¬
ронний мир; Право; Проповедь; Пытка; Ростовщик; Сага (Совместно с Е.А. Гу¬
ревич); Смерть; Страшный суд; Судебные преследования животных; Судьба;
Церковный приход.
Общ. ред.: Там же.
Предисловие: Там же.
Содержание
Предисловие 3
С.С. АВЕРИНЦЕВ (Москва / Вена)
Григорий Турский и «Повесть временных лет»,
или О несходстве сходного 6
М.Л. АНДРЕЕВ (Москва)
Семиотика «Новой жизни» 13
СВЕРРЕ БАГГЕ (Берген)
Королевские саги: исландское своеобразие
или общеевропейская культура? 19
ДЖЕССИ Л. БАЙОК (Лос Анжелес)
Наложницы и дочери в Исландии XIII века: Вальгерд
Йонсдоттир и Сольвейг, Вигдис Гисльсдоттир и Турид 36
ЯНОШ БАК (Будапешт)
Магическая и династическая легитимизация 43
ПИТЕР БЁРК (Кембридж)
История как аллегория 51
ЭЛИЗАБЕТ ВЕСТЕРГОРД (Орхус)
Родство против договора. Германский героический эпос
глазами исторического антрополога 67
М.Л. ГАСПАРОВ (Москва)
«Эцеринида» Альбертино Муссато 79
Е.А. ГУРЕВИЧ (Москва)
«Прядь о Стуве» 98
Т.Н. ДЖАКСОН, А.В. ПОДОСИНОВ (Москва)
Норвегия глазами древних скандинавов: к вопросу
о специфике древнескандинавской ориентации по странам света 113
ДЖЕННИ ДЖОХЕНС (Балтимор)
Внебрачные половые связи и социальные классы в мире саг 133
ПЕТЕР ДИНЦЕЛЬБАХЕР (Зальцбург)
Основные тенденции религиозного развития Германии
в эпоху высокого средневековья 143
И В. ДУБРОВСКИЙ (Москва)
К hospitalitasV века: техники гостеприимства
в практике социального строительства 166
|А.П. КАЖДАН | (Думбартон Оакс)
Смеялись ли византийцы?
(Homo Byzantinus ludens) 185
462
ДЖАЙЛЗ КОНСТЕБЛ (Принстон)
К периодизации историографии крестовых походов 198
ЛАРС ЛЁННРОТ (Гетеборг)
Креститель и святой: два короля Олава
в представлении Одда Сноррасона 210
С И. ЛУЧИЦКАЯ (Москва)
Мусульманские идолы 219
ГИСЛИ ПАЛССОН (Рейкьявик)
Историческая антропология взаимоотношений человека
и окружающей среды 237
ХЕРМАНН ПАЛССОН (Эдинбург)
Одиническое в «Саге о Гисли» 253
М.Ю. ПАРАМОНОВА (Москва)
Культы святых королей в Западной и Центральной Европе 267
МИХАЭЛЬ РИХТЕР (Констанц)
Устная и письменная культуры средневековья:
сиамские близнецы? 288
О.А. СМИРНИЦКАЯ (Москва)
Два предания о первых поэтах: Кэдмон и Браги 297
ПОЛ ФРИДМЕН (Йель)
Ноево проклятие 318
А.В. ЦИММЕРЛИНГ (Москва)
«Прядь о Тидранди и Торхалле» 339
ЖАН-КЛОД ШМИТТ (Париж)
К вопросу о сравнительной истории религиозных образов 343
ОТТО ГЕРХАРД ЭКСЛЕ (Геттинген)
Проблема возникновения монашества 358
ФРЕДЕРИК ЭМОРИ (Сан Франциско)
Йоун Хельгасон — поэт 376
ЭВА ЭСТЕРБЕРГ (Лунд)
Вера, доверие и выгода: людская природа
и человечество как общий феномен 393
ГЕРХАРД ЯРИЦ (Креме / Будапешт)
Спасение души, материальная культура и повседневная
жизнь в позднесредневековой Австрии 411
АЛ. ЯСТРЕБИЦКАЯ (Москва)
Tryckerren и Trycker/Verlegern немецком
книгопечатании XV—XVI веков: предприниматели
и предпринимательское поведение 421
Научные труды А.Я. Гуревича 439
463
Другие средние века.
К 75-летию А.Я. Гуревича
Корректор: П.А. Кожановский
Компьютерная верстка: В.Д. Лавреников
Лицензия ЛР № 071351 от 23.10.96
Подписано в печать 15.09.99. Гарнитура Таймс
Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная
Печать офсетная. Уел. печ. л. 29 Уч.-изд. л. 32,03
Тираж 1500 экз. Заказ №3029
Издательство Фонда поддержки науки и образования
«Университетская книга»
Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 10
Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12