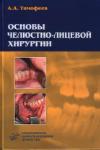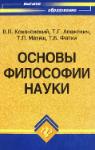Автор: Тимофеев Л.И.
Теги: педагогика филология литературная критика литературоведение учпедгиз учебник для учителей
Год: 1948
Текст
ТЕОРИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ
ПРОФ. л. И.ТИМОФЕЕВ
ТЕОРИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ
ОСНОВЫ НАУКИ
О ЛИТЕРАТУРЕ
Допущено Министерством высшего
образования СССР
в качестве учебника для филологи¬
ческих факультетов
университетов и факультетов
языка и литературы
педагогических институтов
УЧЕБНО ГОСУДАРСТЕЕННОЕ
,л U ’п Ед- агогическое и ЗД АТ ел ь ст
МИН14г*'-гхг>т^л_
V1EPCTBA ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФ
МОСКВА — 1 Q 4 8
И о
ОТ РЕДАКТОРА
Настоящее издание «Теории литературы» в основном повторяет предыду¬
щее издание (1945 г.).
Однако в книгу внесены и некоторые изменения: дополнены разделы о
партийности литературы, о социалистическом реализме, о соотношении миро¬
воззрения и творчества писателя, произведено исключение раздела о сатире
и юморе из главы «Литературные роды и виды (жанры и жанровые формы)»
с отнесением его в главу «Историческое содержание понятия образности» и др.
Целесообразно было также произвести и некоторую перестановку материала
как в целом по всей книге, так и в её частях; в книге улучшены отдельные
формулировки и определения, произведены сокращения некоторых второсте¬
пенных деталей и примеров.
Для разъяснения необходимо отметить, что настоящее издание «Теории
литературы» является вторым изданием. Указание же на титульном листе
издания 1945 г. «издание 3-е переработанное» было ошибочным, так как пре¬
дыдущие издания книги Л. И. Тимофеева были лишь самостоятельными ча¬
стями для будущего учебника «Теория литературы», а не его предшествую¬
щими изданиями.
ВВЕДЕНИЕ
«Большевики высоко ценят литера¬
туру, отчётливо видят её великую исто¬
рическую миссию и роль в укреплении
морального и политического единства на¬
рода, в сплочении и воспитании народа»
(А. Ждано в).
Наука о литературе и её разделы
Задача литературоведа, словесника, в какой бы области он
ни работал (как учитель, как историк литературы, как критик),
состоит прежде всего в том, чтобы использовать произведения
советской литературы для коммунистического воспитания на¬
рода, а также донести то колоссальное духовное богатство, кото¬
рое накоплено человечеством в литературе, в наиболее полном
виде до самых широких масс. Определение тех путей, идя кото¬
рыми можно с наибольшей полнотой осуществить эту важней¬
шую задачу, и составляет основной предмет науки о лите¬
ратуре (иначе — литературоведения).
Решение этой задачи предполагает наличие отчётливого от¬
вета на три основных вопроса:
Что такое литература?
Как она развивалась и развивается (в той или иной стране, в
человеческом обществе в целом)?
Какое значение она имеет для современности?
На первый вопрос — в чём сущность литературы, в чём осо¬
бенности её формы, в чём её общественное значение — отвечает
теория литературы (иначе — введение в литературове¬
дение).
На второй — как развивалась литература в общем процессе
исторического развития той или иной страны и человеческого об¬
щества в целом — отвечает история литературы.
На третий — как оценить то или иное литературное произве¬
дение, определить, какое значение имеет оно для нас сейчас,'чем
оно помогает нам решить задачи, которые ставит перед нами се¬
годняшний день, — отвечает критика.
3
В целом эти три науки — теория литературы, история литера¬
туры, критика — и составляют содержание науки о литературе —
л итературоведения, основные её разделы. Полно, по воз¬
можности исчерпывающе, ответить на вопросы, в них поставлен¬
ные, и значит — стать литературоведом.
Ясное представление о литературе (это даёт теория литера¬
туры) недостаточно без историко-литературных знаний, без пред¬
ставления о том, что создано лучшими писателями, без истории
литературы. И в свою очередь и теория литературы, и история ли¬
тературы неполны, если они не поставлены на службу задачам,
которые выдвигает перед нами жизнь, не помогают решению её
насущных вопросов при помощи того опыта, тех знаний, тех идей
и образов, которые созданы лучшими писателями прошлого и
современности, т. е. если они не связаны с оценкой литературных
произведений с точки зрения современности, с критикой,
оценивающей творчество писателя с точки зрения запросов и
интересов народа.
Критика в этом смысле представляет собой конечный этап
работы литературоведа, единство его теоретических и историко-
литературных знаний, применяемых им для решения вопросов,
выдвигаемых перед ним современностью. Так, в дни борьбы с
фашизмом наше отношение к литературе прошлого определялось
прежде всего тем, в какой мере она помогала нам в этой борьбе
своими патриотическими идеями и образами, изображением ге¬
роической борьбы русского народа за свою землю в прошлом.
Равным образом и в наши дни оценка литературы определяется
её ролью в строительстве коммунизма, в борьбе с международ¬
ной реакцией.
Задачи теории литературы
Теория литературы распадается на три основные части. В пер¬
вой — определяется сущность художественной литературы, уста¬
навливаются её основные свойства и особенности как одной из
форм идеологии, её место и значение в общественной жизни. Во
второй — изучается строение конкретного произведения, опреде¬
ляются принципы и методика его анализа. В третьей части уста¬
навливаются принципы и методика анализа литературного про¬
цесса.
Эти три части охватывают по существу все основные вопросы,
необходимые для понимания литературы. Мы определяем лите¬
ратуру как одну из форм идеологии, как своеоб¬
разную форму отражения жизни и тем самым выра¬
батываем общие принципы её оценки. Этот круг вопросов
связан главным образом с понятием образности, худо¬
жественности и партийности.
Далее мы рассматриваем, как осуществляются эти свойства
литературы в конкретном произведении при помощи специфиче¬
4
ских средств, которыми располагает писатель: я з ы к а, к о м п о-
зициии сюжета.
И наконец переходя от анализа отдельного произведения к
ппоцессу литературного развития, мы изучаем взаимодействие
данного произведения с другими, смену одних произведении дру¬
гими Здесь мы сталкиваемся с проблемами метода, стиля,
жанра и литературного процесса в целом.
Историческая
и общая теория
литературы
Построение теории литературы
Основная задача теории литературы — опре¬
деление законов, управляющих
Литературным творчеством. Про¬
слеживая исторически, как складывалась ли¬
тература в процессе развития человеческого общества, мы могли
бы определить и то, как определялись её основные особенности,
как вырабатывались её своеобразные формы. Таким образом, мы
пришли бы к построению исторической теории литературы (исто¬
рической поэтики), идя от её первичных форм, наиболее простых,
к позднейшим, всё более и более сложным.
Этот путь, однако, связан с большими трудностями. Прежде
всего то или иное явление не всегда сразу обнаруживает свои ос¬
новные свойства. Оно вначале может быть тесно связано с дру¬
гими явлениями и лишь позднее от них отделяется и т. п. По¬
этому первичные формы не всегда являются наиболее простыми.
На ранних стадиях развития искусства, например, произведения
искусства включают в себя элементы религиозные, трудовые н
другие, от которых они освобождаются лишь постепенно. По¬
этому лишь более или менее поздние, развитые формы искусства
обнаруживают его основные особенности в полной мере, ясно и
отчётливо. Первичной формой рояля, например, является охотни¬
чий лук, непосредственно с музыкой не связанный; затем звуча¬
щая тетива лука используется как простейший музыкальный ин¬
струмент. Для большего разнообразия звуков на лук стали навя¬
зывать не одну тетиву, а несколько, получилась простейшая арфа.
Впоследствии арфу положили на бок, затем стали извлекать
звуки, не перебирая струны руками, а при помощи бьющих по
струнам молоточков и т. д. Так. постепенно, был создан рояль.
Его -первичная форма, таким образом, весьма мало связана с его
позднейшими свойствами, они становятся нам понятны именно
тогда, когда мы рассматриваем их, представляя себе уже основ¬
ные свойства рояля в их развитом виде. Маркс заметил, что
«анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны».
С другой стороны, исторически прослеживая развитие лите¬
ратуры, мы придём к истории литературы, т. е. будем заниматься
уже не своим предметом.
Поэтому в построении теории литературы избирают другой
путь — общий, т. е. выделение общих свойств литературы пу-
5
тем сравнения различных по своим историческим особенностям
произведений. Каждое литературно-художественное произведение
своеобразно, нет двух одинаковых произведений, однако мы
улавливаем в них известные общие свойства, почему и отно¬
сим их — при всём их своеобразии — к художественной литера¬
туре, хотя они написаны различными писателями в различные
исторические периоды.
Теория литературы, таким образом, может путём сравнения
различных произведений уловить те основные законы, которые
проявляются в каждом из них, с тем, чтобы история литературы
уже определяла то своеобразие, с которым эти законы прояви¬
лись в литературе в данный исторический период.
В своё время об этом очень убедительно писал Чехов: «Можно
собрать в кучу всё лучшее, созданное художниками во все века,
и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает
похожими [произведения] друг на друга и что обусловливает их
ценность. Это общее и будет законом. У произведений, которые
зовутся бессмертными, общего очень много, если из каждого из
них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и
прелесть. Значит, это общее необходимо».
В настоящей книге мы и идём' по пути построения такой о б-
щей теории литературы, стремясь найти общие
законы, которые управляют литературой в целом, проявляются
в структуре литературного произведения, в его языке И сюжете,
в процессе литературного развития, в литературных течениях,
жанрах, методах.
Мы основываемся в начале работы главным образом на опыте
реалистического искусства и преимущественно на анализе
прозаических образцов, поскольку в них основные свойства
художественной литературы (в дальнейшем мы будем говорить
для краткости просто литература, имея в виду литературу
художественную) могут быть показаны с наибольшей очевид¬
ностью. Установив их, мы рассмотрим вслед за тем, как эти же
свойства в более сложных формах проявляются в произведениях
романтических, фантастических и подобных им, в различных
жанрах — в драме, лирике, эпосе, в стихе и т. д.
Таким образом, теория литературы вырабатывает общие оп¬
ределения основных свойств литературы на основании сравне¬
ния между собой произведений различных исторических трио¬
дов, устанавливает, что представляет собой литература, какую
роль играет она в человеческом обществе, какие требования
должны мы предъявлять к ней.
Сразу же может возникнуть сомнение: не нарушаем ли мы при
таком построении принцип историзма, перенося каши выводы,
основанные на анализе, главным образом реалистической лите¬
ратуры, на литературу вообще? Различные течения, существо¬
вавшие в литературе: романтизм, классицизм и др. отличаются
от реализма во многих и весьма существенных отношениях и,
б
стало быть, наши выводы могут оказаться неприменимыми к ним.
Это сомнение в своей основе исходит из скрытого предположения
о равноправности всех исторически возникавших в процессе ли¬
тературного развития течений и методов. При такой предпосылке,
действительно, мы не имеем оснований, говоря, например, о клас¬
сицизме, опираться на опыт реализма и т. д. Но на самом деле
литературные течения и методы отнюдь не равноправны, хотя
исторически появление в данном периоде именно данного течения
вполне обосновано. В зависимости от исторических условий об¬
щие свойства литературы проявляются то с большей, то с мень¬
шей степенью ясности и полноты, и реализм представляет собой
такого рода явление в литературе, в котором эти свойства прояв¬
ляются с наибольшей отчётливостью, тогда как в других случаях
они гораздо более ограничены. Отличие, скажем, комедий Сума¬
рокова от комедии Гоголя «Ревизор» или лирики того же Сума¬
рокова от лирики Пушкина не в том только, что перед нами в од¬
ном случае классицизм, а в другом реализм, и каждый из них
надо судить по его собственным законам. Отличие их и в том, чго
в реализме Пушкина и Гоголя особенности литературного твор¬
чества проявились ясно и полно, а в классицизме Сумарокова они
проявились ограниченно, неполно. Поэтому при помощи опыта
реализма Пушкина и Гоголя мы поймём более глубоко и особен¬
ности классицизма Сумарокова, в котором общие законы, упра¬
вляющие литературным творчеством, проявились — в силу
определённых исторических условий — осложнённо и односто¬
ронне.
Мы в тем большей степени имеем возможность говорить об
определяющей для понимания литературы роли реализма
вообще, что опираемся на теорию и практику социалисти¬
ческого реализма, высшей стадии развития искусства,
что помогает нам установить единую точку зрения и на предше¬
ствующие периоды развития искусства и литературы в частности.
Вместе с тем, в своём месте мы должны будем указать и на те
частные исторические свойства, которые отличают в процессе
исторического развития литературы те или иные конкретные
литературные течения — классицизм и др.
Таким образом, опасность вступить на путь антиисторизма —
только кажущаяся. Наоборот, если мы будем стремиться для
каждого литературного течения устанавливать только ему при¬
сущие законы, мы вступим на путь мнимого историзма, который за
частным не видит общего.
Только на основе понимания истории искусства и в частности
литературы как процесса развития, завершающегося приходом к
социалистическому реализму, — мы сможем прийти к правиль¬
ному пониманию и каждого отдельного исторического периода
этого развития. Наши общие определения сохранят, тем самым, и
историческое значение.
7
Нормативность теории литературы
Здесь мы сталкиваемся с вопросом о нормативности
литературоведческих положений, т. е. с вопросом о том, в какой
мере общеобязательны определения, к которым мы при¬
дём относительно различных сторон литературного произведения
и свойств литературы вообще.
В каждом отдельном случае они являются производными от
данных исторических условий. Понять и оценить произведение
во всей его художественной целостности мы сможем, лишь изу¬
чив ту конкретную историческую обстановку, которая вызвала
его к жизни. Поэтому возникает вопрос: возможно ли построение
теории литературы, общее определение свойств литературы
и т. п.? Ведь положения, которые мы выработаем для литературы
одного исторического периода, будут в известной мере не при¬
менимы к литературе других периодов. Попытки выработать та¬
кие общеобязательные (нормативные) положения имели место в
истории науки о литературе (например в «L’art poetique» —
«Искусство поэзии» — Буало, 1674), но они кончались обычно
неудачей. Происходило это потому, что историки литературы,
пытаясь обобщить свойства литературы данного периода, неза¬
кономерно придавали им значение всеобщности, в силу чего с раз¬
витием новых литературных явлений эти свойства, естественно,
отпадали. В связи с этим можно было бы думать, что теория ли¬
тературы как общая дисциплина вообще невозможна, так как
она будет представлять собой свод различных теоретических по¬
ложений, исторически ограниченных рамками своей эпохи (т. е.
обобщающих свойства литературы данного периода и необяза¬
тельных для другого).
Тем не менее мы можем строить такую общую теорию ли¬
тературы, потому что мы имеем дело с единым (при всём разно¬
образии его форм) процессом развития человеческого общества,
в частности — с единым диалектическим процессом развития его
культуры и литературы. Мы имеем возможность найти общие
формы развития литературы при всём разнообразии историче¬
ского их осуществления, так как мы исходим, как уже сказано,
из опыта искусства социалистического реализма, принципы ко¬
торого, опирающиеся на учение марксизма-ленинизма, позво¬
ляют нам более глубоко и наиболее правильно осмыслить искус¬
ство прошлого.
В эпоху социализма созданы условия для такого развития
культуры, науки и искусства, которые ранее были немыслимы;
следовательно, существенные свойства литературы проявляются
в социалистической литературе наиболее полно, наиболее раз¬
вёрнуто.
Классики марксизма-ленинизма неоднократно подчёркивали,
что только социализм создаёт условия для полного расцвета
искусства.
8
Мы получаем, таким образом, возможность говорить об основ¬
ных свойствах литературы на основе принципов социалистиче¬
ского реализма, имеющих в этом смысле всеобщее значение.
Наши выводы, оставаясь полностью историческими, получают в
то же время всеобщее значение, т. е. помогают нам разбираться
и в литературе прошлого; мы будем устанавливать в ней различ¬
ные исторически обусловленные проявления тех основных тен¬
денций, которые получили возможность полностью осуществиться
лишь в социалистическом искусстве.
Выяснив эти общие свойства, мы, применительно к каждому
историческому периоду, установим те конкретные формы, в ко¬
торых они реализовались в процессе развития человеческого об¬
щества. Это позволит нам, не нарушая исторической конкрет¬
ности, подходить к самым различным произведениям с еди¬
ными принципами их понимания и оценки.
часть первая
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
ГЛАВА 1
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ
Познавательное значение литературы
Основное положение марксистско-ленинской науки о литера¬
туре состоит в утверждении, что литература яв¬
ляется идеологией, что она прежде всего даёт нам
познание жизни. Это положение служит основной пред¬
посылкой всех наших дальнейших определений.
Следует подчеркнуть, что характерной чертой понимания ис¬
кусства и в частности литературы чуждыми и враждебными
марксизму философскими системами является или полное отри¬
цание, или во всяком случае недооценка идеологического значе¬
ния литературы и вообще искусства. Для философа-идеалиста
Канта, например, оказавшего большое влияние на ряд бур¬
жуазных искусствоведческих систем, характерно утверждение,
что искусство «безусловно не даёт никакого познания (даже
и смутного)».
Другой идеалистический философ прошлого Гегель, признавая
познавательное значение искусства, в то же время существенно
ограничивает его, утверждая, что «лишь определённый круг и
определённая ступень истины могут найти своё воплощение
в форме художественного произведения».
Между тем Энгельс, например, говорит о Баль¬
заке, что из его произведений он «узнал даже
в смысле экономических деталей больше..., чем
из книг всех профессиональных историков, экономистов, стати¬
стиков этого периода, взятых вместе» (письмо к М. Гаркнес). Та¬
ким образом, для него познавательное значение литературы стоит
наравне с наукой, рассматривается как идеологическое
явление, в котором мы находим отражение жизни. Так,
«Мать» Горького отражает определённые общественные противо¬
речия в России начала 900-х годов — рабочее движение, револю¬
ционную деятельность, действия царской власти и пр.
Говоря о том, что литература отражает жизнь, мы не имеем,
однако, в виду, что она отражает жизненные явления с точно¬
стью зеркала, бесстрастно воспроизводящего то, что перед ним
Литература —
идеология
10
находится. Человек, отражая в своём сознании действительность,
всегда стремится на неё воздействовать, подходит к ней с опре¬
делённой точки зрения.
Всякое отражение им явлений жизни есть в известной мере
суждение о них, есть ужё, следовательно, отношение к ним. В ос¬
нове его лежит выбор и оценка того, что интересует человека.
В литературном произведении, как и во всяком идеологическом
явлении, мы имеем дело с отражением жизни, данным как суж¬
дение писателя о жизни, как его отношение к ней.
То, что писатель обратил внимание на данные жизненные
факты, а не на другие, выделил их из окружающей его жизнен¬
ной среды для того, чтобы именно их отразить, в них разобраться,
есть результат его активного отношения к ним. Человек мо¬
жет отразить свойства данного явления и верно, и более или ме¬
нее верно, и в той или иной мере ошибочно, и, наконец, даже
искажённо. Между старухой, полагающей, что гром гремит от¬
того, что Илья-пророк едет по небу на колеснице, и учёным,
разъясняющим в своей лекции, что гром есть результат искрового
электрического разряда, нет, конечно, ничего общего, но всё же в их со¬
знании отражено одно и то же явление природы: всё дело в том,
что в первом случае оно отражено крайне искажённо, нелепо, во
втором — с предельной истинностью, доступной в данный период
развития науки.
Отражение жизни в литературе, как и во всякой идеологии,
исторически условно, т. е. в большей или меньшей мере отвечает
жизненной правде в зависимости от знания и понимания жизни
писателем. Литературное произведение с этой точки зрения пред¬
ставляет собой суждение писателя о жизни, в котором вырази¬
лось как его отношение к ней, так и отражение этой жизни, но в
том виде, как она ему представляется. Следовательно, познава¬
тельное значение литературных произведений может быть раз¬
личным: то большим, то меньшим — в зависимости от идейного
кругозора и жизненного опыта писателя в данной исторической
обстановке.
Творчество
и классовые
взгляды писа¬
теля
Общественно-политическое вначение литературы
В классовом обществе знание и понимание
жизни писателем будет в значительной мере
определяться условиями классовой борьбы, в
которой складывается и развивается его твор¬
чество. В творчестве писателя будет проявляться его классовая
культура, его классовые взгляды. Его произведение будет фор¬
мой проявления его классовой идеологии, которую не следует
понимать, однако, как узкое и ограниченное выражение классо¬
вых интересов.
Как уже говорилось, сознание человека есть отражение жизни,
и даже в том случае, если она отражена в сознании искажённо,
мы можем в нём уловить какое-то зерно истины (так, представ¬
11
ление об Илье-пророке всё же говорит о реальном явлении при¬
роды — о грозе).
Поэтому, высказывая своё классово обусловленное понимание
жизни, писатель вместе с тем даёт отражение действительности,
хотя бы оно и было неполным, ограниченным, односторонним.
Чем уже его жизненный кругозор, чем больше расходятся его
классовые интересы с интересами народа в целом, тем менее
полно отразит он жизнь, тем менее приблизится он к жизненной
правде. Чем глубже он подойдёт к жизни, чем полнее её изучит,
тем более он поднимется над своими классовыми интересами, тем
ближе подойдёт к жизненной правде, если он действительно
большой художник. Так, Пушкин, будучи дворянином по происхо¬
ждению и воспитанию, в своих произведениях так глубоко отра¬
зил жизнь своего времени, что его произведения получили, говоря
словами Белинского, «в высшей степени народное значение».
В том случае, если интересы класса не расходятся с интере¬
сами народа, а, наоборот, с ними совпадают, классовые взгляды
писателя лишь помогают ему вернее и глубже отразить жизнь.
Так, в творчестве М. Горького выражались интересы пролета¬
риата, борющегося за освобождение всех трудящихся. И это
только помогало ему достигнуть высокой художественности.
Чем теснее связан художник с передовыми идеями своего вре¬
мени, тем полнее и глубже отражает он жизнь, тем большую ху¬
дожественную значительность получают его произведения.
Поэтому творчество писателя, основываясь на исторически
обусловленных классовых предпосылках, приобретает значение,
далеко выходящее за пределы его класса, вплоть до того, что оно
получает общенародное значение. Народность искусства является
высшим показателем его художественности, потому что достиг¬
нуть её писатель сможет лишь на основе подлинно правдивого
отражения жизни, отвечающего интересам широких народных
масс. Русская классическая литература именно потому достигла
такого высокого художественного уровня, что была неразрывно
связана с освободительным движением русского народа.
Отражая в своём творчестве жизнь, писатель стремится на
неё воздействовать; он утверждает в своих произведениях опре¬
делённые общественные идеалы. В этом смысле искусство свя¬
зано с классовой борьбой, имеет политическую основу. Направляя
внимание читателей на определённые стороны жизни, давая им
определённое освещение, писатель тем самым принимает актив¬
ное участие в общественно-политической борьбе. Достаточно
вспомнить о той огромной роли, которую сыграли в классовой
борьбе такие произведения, как «Что делать?» Чернышевского,
«Мать» Горького и другие произведения русских писателей, что¬
бы понять политическое значение, которое имеет литература.
Таким образом, литература, как и всякая идеология, даёт
активное отражение жизни, помогает человеку действовать в ней.
Истинность нашего познания мы проверяем практической дея¬
12
тельностью, в процессе которой и определяем — верно или не¬
верно мы разобрались в жизни, правильно или искажённо её отра¬
зили, поняли ли её свойства. Поскольку в литературе мы имеем
дело с её познавательным значением, постольку мы имеем дело
и с её действенным значением.
Итак, литература есть идеология, помогающая человеку позна¬
вать жизнь и действовать в ней. Это определение относится и ко
всем остальным видам нашего сознания («идеологическая над¬
стройка»). Но ведь и философия, и право, и наука, и литература
имеют своей задачей познание жизни в целях воздействия на неё.
Но в то же время они характеризуются и чем-то своим, особен¬
ным, отличным друг от друга.
Это отличие выражается и в своеобразии их формальных осо¬
бенностей, и ^ своеобразии тех задач, которые они решают, и в
своеобразии их общественного значения.
До сих пор мы рассматривали общеидеологические, родовые
признаки литературы. Мы выяснили её познавательное значение,
её действенное политическое значение. Теперь наша задача со¬
стоит в том, чтобы осмыслить, чем же литература отличается от
других идеологий, что своего вносит она в наши знания о мире,
чем дополняет она другие идеологии, в чём её видовые при¬
знаки. Ответить на этот вопрос — значит определить, в чём
сущность и значение литературы, каково её
особенное место среди других идеологий.
А это значит — определить своеобразие её задач, своеобразие
роли, которую она играет в общественной жизни, своеобразие
форм её выражения.
ГЛАВА II
ОБРАЗНОСТЬ
Понятие образа
Определить своеобразие какого-либо явления — значит уста¬
новить, чем оно отличается от других явлений по своему с о-
держанию, по своей ф о р м е и по своей ф у н к ц и и, т. е. по
той роли, которую оно играет в общественной жизни. Обычным
определением своеобразия литературы, т. е. её отличия от других
форм познания жизни, от других идеологий, является указание
на то, что она отражает жизнь в образах1.
Следует оговориться, что термин «образ» употребляется
в двух значениях — в узком и широком. В узком смысле слова
образом называют всякое выражение, придающее речи красоч¬
1 Литература есть вид искусства, и понятие образа относится к искусству
вообще, но вопрос об отличии литературы от других видов искусства далеко
ещё не решён, и мы его здесь не затрагиваем и говорим лишь о литературном
образе, учитывая, что это понятие во многом близко и другим видам
искусства.
13
ность, конкретность; с этой точки зрения в строке «Горит восток
зарёю новой» перед нами уже имеется образ, т. е. выражение,
благодаря которому наше представление о заре становится более
конкретным, так как небо на заре сравнивается с пожаром («го¬
рит»), В своём месте мы рассмотрим это свойство поэтического
языка, но термин «образ» в этом смысле употреблять не будем.
Понятие образа имеет и более широкое истолкование. Образом
называют самый тип отражения жизни художни¬
ком в отличие от тех форм отражения жизни, которые характе¬
ризуют другие идеологии, прежде всего науку. В таком понима¬
нии понятие образа охватывает не только язык, как в первом
случае, о котором мы говорили, а и целый ряд других сторон
литературного творчества. Белинский, например, говорит, опре¬
деляя отличие литературы от науки: «Политикоэконом, вооружась
статистическими числами, доказывает, действуя на ум своих чи¬
тателей или слушателей, что положение такого-то класса в обще¬
стве много улучшилось или много ухудшилось вследствие
таких-то и таких-то причин.
Поэт (Белинский в данном случае имеет в виду вообще писа¬
теля. — Л. Т.), вооружась живым и ярким изображением действи¬
тельности, показывает в верной картине, действуя на фантазию
своих читателей, что положение такого-то класса в обществе дей¬
ствительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и
таких-то причин». Ещё более детально характеризует эти общие
свойства литературы Чернышевский, говоря об отличиях искус¬
ства от науки: «Главная цель учёных сочинений... та, чтобы сооб¬
щить точные сведения по какой-нибудь науке, а сущность произ¬
ведений изящной словесности (литературы.—Л. Т.)—в том,
что они действуют на воображение и должны возбуждать в чита¬
теле благородные понятия и чувства. Другое различие состоит в
том, что в учёных сочинениях излагаются события, происходив¬
шие на самом деле, и описываются предметы, также на самом
деле существовавшие, а произведения изящной словесности опи¬
сывают и рассказывают нам в живых примерах, как чувствуют и
как поступают люди в различных обстоятельствах, и примеры эти
большею частью создаются воображением самого писателя. Ко¬
ротко: учёное сочинение рассказывает, что именно было или есть,
а произведения изящной литературы рассказывают, как всегда
или обыкновенно бывает ла свете... Поэты — руководители людей
к благородному понятию о жизни и к благородному образу
чувств: читая их произведения, мы приучаемся отвращаться от
пошлого и дурного, понимать очаровательность всего доброго и
прекрасного, любить всё благородное; читая их, мы сами де¬
лаемся лучше, добрее, благороднее».
Легко убедиться в том, что эти определения говорят о целом
ряде существенных свойств литературы, характеризуют её как
совершенно своеобразную идеологическую деятельность, сравни¬
тельно с другими её формами, а не ограничивают её только язы¬
14
ковым своеобразием. Понятие образа в широком
смысле и имеет в виду общие свойства искусства и литературы
в целом. Литературный образ — в отличие от образов других
искусств — это словесный образ, образ, оформленный в слове.
В наиболее общей форме мы можем сказать, что образ — это
та своеобразная форма отражения жизни, ко¬
торая присуща искусству. Но это определение, естественно,
является слишком общим, потому что в нём не сказано —
в чём же заключается это своеобразие.
В то же время ясное определение основных особенностей об¬
разного отражения жизни весьма существенно. Это централь
н о е понятие теории литературы, оно отвечает на самый основной
её вопрос: в чём сущность литературного творче¬
ства. В зависимости от того, как мы ответим на этот вопрос, оп¬
ределится и наше понимание остальных проблем, которые встают
перед нами при изучении этой науки. Поэтому мы и должны со¬
средоточиться на этом определении, должны, выработать опреде¬
лённую форм у л у, которая выразила бы наше понимание основ¬
ных свойств литературы. Нам необходимо детально остановиться
на этом вопросе в частности и потому, что в критической литера¬
туре не дано ещё'более или менее развёрнутого определения того,
что такое образ как особая, присущая именно искусству форма
Традиционные определения образа, распро¬
странённые и в нашей учебной литературе,
указывают главным образом на две существен¬
ные черты образного отражения жизни: на то,
что в нём, с одной стороны, дано, как и в
обобщение, улавливающее характерные
явлений, и, с другой стороны, что эти явления
изображаются конкретно, с сохранением их индивидуальных
особенностей, такими, какими мы их видим в жизни. «Образ —
обобщённое отражение действительности в форме единичного,
индивидуального», — говорится в одном из таких распространён¬
ных определений; «образ — это обобщение жизни в отдельном
её явлении, в отдельном лице или предмете, имеющем индиви¬
дуальные особенности», — говорится в другом. Как видим, здесь
подчёркиваются именно эти черты образного отражения жизни:
его обобщённость и индивидуализиро в эн¬
ное т ь. Обе эти черты бесспорно существенны и важны. В том,
что они наличествуют в каждом значительном литературном
произведении, легко убедиться. Когда современники познакоми¬
лись с «Евгением Онегиным» Пушкина, они прежде всего отме¬
чали то, что в нём обобщены характерные черты дворянской
м°лодёжи того времени. В Онегине «я вижу, — писал Бестужев
в 1825 г., — человека, которых тысячи встречаю наяву». И. Ки¬
реевский в 1828 г. писал, что в Онегине «представлен целый
ласе людей... Тысяче различных характеров может принадле¬
отражения жизни.
Недостаточность
традиционных
определений
образа
науке, известное
черты жизненных
15
жать описание Онегина». И в то же время очевидно, что Оне¬
гин — индивидуальность, изображённая Пушкиным с предель¬
ной жизненной конкретностью, мы воспринимаем его как живого
человека. О героях Гоголя Герцен писал, что это «люди, которых
каждый из нас видел сто раз». Фонвизин — автор «Недоросля» —
записал в своём дневнике, что встретился однажды с семьёй,
которая полностью походила на изображённую им чету Проста-
ковых. И обобщение, и индивидуализированность, таким обра¬
зом, неотъемлемые черты образного отражения художником
жизни.
Однако при всей несомненности их значения для образного
отражения жизни, указания лишь на эти черты недостаточны для
полного понимания образа, их нужно существенно дополнить. Без
такого дополнения сущность образа будет охвачена нами не це¬
ликом, — следовательно, наше понимание его будет в чём-то
неверным.
Недостаточность приведённых выше определений обнаружи¬
вается прежде всего в том, что, не затронув других особенностей
образа, они оказываются приложимыми не только к нему.
В самом деле, рисунок на вывеске магазина скажет нам о том,
что в нём продаётся, другими словами, изображение на вывеске
индивидуального явления наталкивает нас на мысль о том, что
здесь вообще продаётся, т. е. приводит к известному обобщению.
Перед нами уже знакомое нам «обобщение жизни в отдельном её
явлении». Это отнюдь не случайный пример. Любой научный
эксперимент, когда учёный для характеристики того или иного
закона природы совершает опыт, представляющий собой частный
случай действия этого закона, точно так же в индивидуальном
явлении показывает черты общего. Следовательно, приведённые
выше определения слишком общи, они не дают нам достаточно
чёткого отграничения литературного отражения жизни при по¬
мощи образов от такого отражения, которое к образам не обра¬
щается.
В этих определениях имеется ещё один недостаток: они обра¬
щают внимание главным образом на форму образного отраже¬
ния жизни, на индивидуализированную окраску его. Но ведь для
понимания явления нам надо охарактеризовать его прежде всего
по существу, надо понять, почему писателю понадобилось
обратиться именно к данной форме. Мы знаем, что произведение
искусства стремится к тому, чтобы придать тому, о чём оно гово¬
рит, ярко индивидуальную окраску. Но для чего это нужно ху¬
дожнику? Очевидно, потому, что самый жизненный материал,
который он изображает, будет полностью обрисован именно
тогда, когда художник сохранит его индивидуальные черты, при¬
сущие ему в жизни. Значит, для понимания образа необходимо
прежде всего выяснить: что же изображает худож¬
ник, на чём он останавливает своё внимание среди жизненных
явлений?
16
Изображение
человека
в искусстве
Мы знаем, например, что каждая наука имеет свой предмет
изучения, точно отграничивающий её от других наук. Перед нами
встаёт вопрос: каков же предмет художественного
изображения? Определив его, мы сможем точнее понять
и те особенности формы художественного изображения, которые
подсказываются этим предметом. На первый взгляд этот вопрос,
однако, может показаться странным. Ведь в искусстве, и в частно¬
сти в литературе, мы сталкиваемся с изображением самых раз¬
личных явлений жизни. Искусство затрагивает области различных
наук, говорит о самых различных сторонах человеческой жизни.
Можно ли в таком случае говорить о каком-то особом предмете
художественного изображения?
Предмет художественного изображения
Несомненно, что искусство синтетич¬
но, т. е. отражает жизнь в её це¬
лостности, во взаимоотношении самых
различных её сторон. Но произвольно ли объе¬
динение художником в своём произведении этих сторон жизни?
Нет ли в самой жизни таких явлений, которые сами по себе обла¬
дают такой синтетичностью, т. е. объединяют в себе различные
стороны жизни и тем самым позволяют и художнику рисовать
жизнь целостно, в единстве самых различных её областей?
Таким «фокусом», в котором объединяются, перекрещиваются
самые различные стороны жизни, является человек во всей
сложности его отношений с обществом и природой. Маркс опре¬
деляет человека как «совокупность общественных отношений»,
т. е. говорит о том, что человек во всём богатстве его деятель¬
ности, взаимодействий с другими людьми, быта, психологии и т. д.
как бы впитывает в себя воздействие всех сторон жизни, его
окружающей, представляет собой целостный мир, который з
своём строении повторяет строение мира, его создавшего, т. е.
общества в целом. Легко убедиться в том, что в центре литера¬
турного изображения стоит именно человек — человек чувствую¬
щий, . мыслящий, действующий, всесторонне связанный с окру¬
жающим его миром. Стоит нам назвать имя какого-либо круп¬
ного писателя, как в нашем сознании всплывает ряд человеческих
индивидуальностей. Мы говорим Пушкин — и вспоминаем
Татьяну, Пугачёва, Бориса Годунова; говорим Лев Толсто й—
и вспоминаем Наташу, Анну Каренину, Андрея Болконского; и
так — с каждым писателем.
Эта черта литературы была отмечена в первом же исследова¬
нии, ей посвящённом, за четыре века до нашей эры — в «Поэтике»
Аристотеля, составление которой относят к 336—322 гг. до н. э.
В начале своей «Поэтики» Аристотель указывает именно на то,
что писатели говорят прежде всего о людях — «изображают
лиц действующи х». На это положение Аристотеля в своё
2 Тимофеев
17
время настойчиво указывал Чернышевский: «И Платон, и Аристо¬
тель, — писал он, — считают истинным содержанием искусства,
и в особенности поэзии (художественной литературы. — Л.Т.),
вовсе не природу, а человеческую жизнь». И для самого Черны¬
шевского человеческая жизнь является «единственным коренным
предметом, единственным содержанием поэзии». М. Горький
неоднократно развивал эту же мысль,- «Материалом художест¬
венной литературы служит человек»; писатель, по его словам,
работает «над живым материалом, над людьми»; литературу
Горький предлагал называть «человековедением».
В высказываниях писателей об их работе мы находим самые
разнообразные примеры, подтверждающие это положение. Баль¬
зак писал, что изучает жизнь окружающих его людей с таким
напряжением, что «ощущает на своей спине их рубища, а на но¬
гах их дырявую обувь». Он называл литературу «историей чело¬
веческого сердца». Фильдинг, сравнивая писателя с хозяином
столовой, приготовившим обед для посетителей, говорит: прови¬
зия писателя — особая: она «является не чем иным, как челове¬
ческой природой... скорее повар переберёт все на свете сорта жи¬
вотной и растительной пищи, чем писатель исчерпает столь об¬
ширную тему». Л. Толстой писал, что для него «главное — ду¬
шевная жизнь, выражающаяся в сценах».
У Энгельса мы находим определение основной задачи, стоя¬
щей перед писателем-реалистом; он видит её в том, что писатель
должен создавать «типичные характеры в типичных обстоя¬
тельствах». Создание типичных характеров и есть не что иное,
как опять-таки изображение человека.
Подытоживая сказанное, мы приходим к выводу, что литера¬
тура при всём разнообразии того материала, который даёт она
читателю, имеет всё же свой определённый и отделяющий её от
других форм идеологической деятельности предмет изображения.
Именно поэтому в поле зрения писателя вхо¬
дят буквально все области жизни. Русский
литературовед А. Потебня (1835—1891) остро¬
умно заметил, что если бы встал вопрос о том,
чего не нужно знать критику при разборе и
оценке литературных- произведений, то ответить на него было бы
нельзя: нет такой области знания (и, следовательно, области
жизни), с которой нельзя было бы столкнуться в литературе.
Это замечание, между прочим, говорит о той напряжённой ра¬
боте, которую должен вести над собой тот, кто предполагает
заниматься изучением литературы.
Описывая различные области жизни, писатель изображает их,
однако, по-своему, не непосредственно, как это делает учёный,
а показывая людей, связанных с данной областью жизни. Пуш¬
кин, рисуя в «Капитанской дочке» восстание Пугачёва, прежде
всего стремится к тому, чтобы обрисовать тех людей, поступки и
переживания которых позволяют читателю представить себе ход
Предмет
изображения
литературы —
человеческая
жпзиь
18
Изображение
человека — для
художника сред¬
ство отражения
действительности
в целом
восстания. Наоборот, говоря о том же восстании как учёный исто-
пик в своей «Истории Пугачёва», он совершенно не ставит перед
собой этой задачи. В то время как учёный непосредственно гово-
пит о той области, которую он изучает, писатель как бы ставит
между интересующей его областью жизни и читателем свое¬
образного посредника — изображаемого им человека (шире —
людей) по поступкам и переживаниям которого читатель и судит
о данной области жизни. Так, например, мы судим о русской
жизни 20-х годов прошлого века по судьбе и переживаниям
Татьяны, Онегина, Ленского; о гражданской войне в Советской
республике — по героям романа Фадеева «Разгром» и т. д.
Другими словами, писатель отражает
в своём творчестве всю действи¬
тельность, всю сложность жиз¬
ненных отношений, но показывает их
в определённом преломлении, так, как они
проявляются в конкретной человеческой жизни.
Вспомнив приведённое выше определение литературы,- дан¬
ное Белинским, мы можем дать простейшее определение образа
(которое в дальнейшем надо будет ещё значительно дополнить):
образ — это картина человеческой жизни. Отражать
жизнь при помощи образов — значит рисовать картины челове¬
ческой жизни, т. е. поступки и переживания людей, характерные
для данной области жизни, позволяющие судить о ней. Соби¬
раясь прочесть ещё не известное нам литературное произведе¬
ние, мы уже заранее можем предположить, что в нём будет рас¬
сказано о жизни людей, их поступках или переживаниях.
Можно, однако, предвидеть возражения против данного нами
определения. Прежде всего, не одна литература имеет дело с изу¬
чением человеческой жизни. Её изучают и физиология, например,
и психология, и этнография, .и юриспруденция и т. д. Достаточно
указать на существенное отличие изучения человека этими и
другими близкими им науками от изучения его литературой,
чтобы устранить это сомнение. Каждая данная наука изучает
лишь одну сторону человека и его жизни: физиолога не интере¬
сует то, что интересует психолога, юриста — то, что интересует
этнографа, и т. д. Литература же стремится к изображению че¬
ловека в его целостности, во всём богатстве перекрещивающихся
в его жизни вопросов психологии, быта, производства, науки,
политики, интимной его жизни и т. д. Какое бы большое литера¬
турное произведение мы ни взяли, мы убедимся в этой всесто¬
ронности, синтетичности, целостности изображения в нём че¬
ловеческой жизни.
В «Капитанской дочке» Пушкина перед нами и большая
историческая проблема (отношения дворянства и крестьянства,
крестьянское восстание), и бытовые картины тогдашней жизни,
и обстановка двора Екатерины, и интимная жизнь Гринёва, и
изображение природы и т. д.
2*
19
Изображение в
искусстве всего
иногообразия
предметного
мира
Вот почему мы можем считать, что изображение человека
в литературе не совпадает с тем, как подходят к нему те или
иные науки. Говоря о том, что образ представляет собой кар¬
тину человеческой жизни, мы и имеем в виду именно то, что
в нём она отражена синтетично, целостно, а не какой-либо
одной своей стороной.
Здесь, однако, возможно новое сомнение: от¬
нюдь не все литературные произведения изо¬
бражают непременно человека. Многие произ¬
ведения посвящены животным («Холстомер»
Л. Толстого, «Белый клык» Дж. Лондона, рас¬
сказы Сэтон-Томпсона и др.), рисуют картины природы, вещи. Но,
говоря о картинах человеческой жизни, мы не имеем в виду
только прямолинейного внешнего её изображения. Всякое пере¬
живание, составляющее, например, содержание лирического стихо¬
творения, также является картиной человеческой жизни, только
не во внешнем, так сказать, её проявлении, а во внутреннем.
Стихотворение Лермонтова «И скучно, и грустно, и некому руку
подать» есть картина внутренней, духовной жизни
человека. Изображая какой-либо внешний предмет, вещь, явле¬
ние природы, художник даёт его в связи со своим к нему отноше¬
нием, т. е. раскрывает то человеческое переживание, которое
им вызвано, в силу этого и самое это изображение становится
изображением человеческой жизни. «Холстомер» Л. Толстого не
простое изображение лошади — в основе его лежит желание
показать жизнь такой, какой она открывается неиспорченному
человеческими предрассудками взгляду. Пейзаж отличается от
фотографии именно тем, что он не просто воспроизводит данную
картину природы, а даёт и определённое к ней отношение, чело¬
веческую точку зрения на неё. Вот почему один и тот же пейзаж
в изображении ряда художников будет иметь существенные раз¬
личия. В воспоминаниях художника-пейзажиста Людвига Рих¬
тера (1803—1884) рассказывается, что он и его товарищи ре¬
шили нарисовать один и тот же пейзаж с условием «ни на волос
не отклоняться от природы». И хотя оригинал у всех был один
и тот же и каждый добросовестно держался того, что видели его
глаза, всё же получились четыре совершенно различные кар¬
тины — настолько различались личности четырёх художников.
В искусстве — по выражению Гёте — природа приговаривает
«да» и «аминь» тому, что находит в себе художник. Уже в древне¬
индийской литературе, относящейся к I в. н. э., мы находим
именно такое изображение природы: «Мне кажется, — говорит
героиня в «Сакунтале», — манговое дерево своими пальцами —
я разумею его колеблемые ветром ветки — что-то мне говорит».
В «Калидасе» герой видит в потоке облик своей подруги: «Его
волны — это брови, стаи робких птиц —■ это пояс, а вздымаю¬
щаяся пена —волнующаяся одежда». Точно так же и вещи ин¬
тересуют писателя в связи с общим его отношением к жизни,
20
помогают ему прежде всего в создании картин челов1еческой
жизни. Ярким примером может служить изображение комнаты
Плюшкина в «Мёртвых душах» Гоголя. Очень ясно говорит об
этом Бальзак, рисуя прихожую дома: «При входе в просторную
переднюю, где дюжина стульев, барометр, большая печка и
длинные занавески из белого коленкора с красной оторочкой на¬
поминали ужасные передние министерств, сердце сжималось:
вы предчувствовали одиночество, в котором жила эта женщина.
Печаль, как и радость, создаёт вокруг себя атмосферу. С пер¬
вого взгляда, брошенного внутрь дома, сразу же видно, что там
царит: любовь или отчаяние».
Мы можем сказать, что литература как бы очеловечивает изо¬
бражаемое; природа, животные, вещи в её изображении, не те¬
ряя для нас своего самостоятельного значения и интереса, в то
же время входят как слагаемые в создаваемые ею картины че¬
ловеческой жизни, отражаются через определённое их челове¬
ческое восприятие, а не рассматриваются изолированно. Благо¬
даря этому они и получают образную форму, становятся достоя¬
нием искусства. Образ как картина человеческой жизни предпо¬
лагает использование художником всего, что в жизни связано
с человеком, но именно в преломления всего этого материала
через человеческое восприятие и состоит своеобразие литера¬
туры. Вот почему мы не отнесём к литературе «Жизнь жи¬
вотных» Брэма, тогда как рассказы Сэтон-Томпсона вос¬
примем как художественные произведения. Человеческая
жизнь в искусстве и в особенности в литературе не столько
даже предмет изображения в узком смысле слова (этого как
раз может и не быть в том или ином произведении), сколько тот
обязательный для художника угол зрения, в котором он рассма¬
тривает любое явление действительности.
Индивидуалязированность художественного изображения
Итак, предмет художественного изображения — это, в ко¬
нечном счёте, человеческая жизнь. Нельзя, однако, изобразить
человека «вообще» — человек существует лишь как конкретная
индивидуальность, как личность.
Человек — определённый социальный характер, имеющий своё
определённое отношение к жизни, своё мировоззрение, свой язык.
Образ как картина человеческой жизни предполагает прежде
всего изображение определённого социального человеческого
характера, стоящего в центре этой картины.
„ Понятие образа шире понятия ха-
и характер р а'к т е р а, поскольку оно предполагает
изображение и всего вещного, животного .ч
вообще предметного мира, в котором человек находится и вне
которого он не мыслим, но в то же время без изображения харак¬
тера (хотя бы в отдельном его проявлении, как в лирике, о чём
21
мы будем говорить ниже), без того угла зрения, о котором мы
говорили, не может возникнуть и образ. Если сравнить образ с
клеткой, то характер в ней будет играть роль ядра, без которого
клетка не является в достаточной мере жизнедеятельной, хотя
отнюдь к нему не сводится.
При всём богатстве жизненного материала, привлекаемого
художником, в центре его стоят именно создаваемые им харак¬
теры, изображение человека как личности. Мировая литера¬
тура — это галерея разнообразнейших характеров, отразивших
различные периоды в истории человеческого общества.
Изображение характеров (в различных формах их показа —
от простейших до самых сложных) и есть то основное средство,
при помощи которого писатель отражает действительность. Лите¬
ратурное произведение по своему построению в той или иной
форме всегда представляет собой историю человека как опреде¬
лённого общественного характера. Характер — это тип че¬
ловеческого поведения, созданный опреде¬
лёнными общественными условиями. Человек, как
мы говорили, изучается и отражается в целом ряде видов идео¬
логической деятельности (в философии, в праве, в этнографии,
в психологии и т. д.), но только в литературе человек изобра¬
жается как целое, как личность, как характер, т. е. как тип че¬
ловеческого поведения во всём его многообразии, представляю¬
щем в итоге совокупность общественных отношений.
«У Гомера, например, — говорил Гегель. — каждый герой представляет
собой совершенно живой охват свойств и черт характера. Ахилл является
самым юным героем, но его юношеской силе недостаёт остальных подлинно
человеческих качеств, и Гомер раскрывает перед нами это многообразие черт
его характера, ставя его в самые различные положения. Ахилл любит свою
мать Фетиду, он плачет о Бризеиде, когда её отнимают у него, и его оскорб¬
лённая честь побуждает его вступить с Агамемноном в спор, который является
исходным пунктом всех дальнейших событий, изображённых в «Илиаде»
При этом он является самым верным другом Патрокла и Антилоха. Вместе
с тем он является самым цветущим, пламенным юношей, быстроногим, храб¬
рым, но полным благоговения перед старостью: верный Феникс, доверенный
его слуга, лежит у его ног, а при торжестве по[ребения Патрокла он оказы¬
вает старцу Нестору величайшие уважение и почести. Но вместе с тем Ахилл
показывает себя также раздражительным, вспыльчивым, мстительным и пол¬
ным самой беспощадной жестокости по отношению к врагу, когда он привя¬
зывает убитого Гектора к своей колеснице и, носясь на ней. трижды волочит
труп вокруг Троянских стен. И, однако, он смягчается, когда старый Приам
приходит к нему в шатёр, он вспоминает оставленного им дома собственного
старого отца и протягивает плачущему царю руку, убившую его сына. Об
Ахилле можно сказать: это человек! Многосторонность благородной челове¬
ческой натуры развёртывает всё своё богатство в этом одном человеке.
И точно так же обстоит дело с остальными гомеровскими характерами. Одис¬
сей, Диомед, Аякс, Агамемнон, Гектор, Андромаха, — каждое из этих лиц
является целым самостоятельным миром, каждое из них является полным,
живым человеком...»
И далее:
«...Ромео, например, в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» имеет
главным своим пафосом любовь; однако мы его видим находящимся в самых
22
различных отношениях к своим родителям, к друзьям, к своему пажу; мы
видим, что он в защиту своей чести вступает в спор с Тибальдом и вызывает
его на дуэль, что он относится благоговейно и доверчиво к монаху и что,
даже стоя на краю могилы, завязывает разговор с аптекарем, у которого он
покупает смертоносный яд, и во всех положениях он остаётся достойным,
благородным и глубоко чувствующим».
Содержание
понятия
«характер»
В конкретном произведении обычно изображается ряд ха¬
рактеров в их сложном взаимодействии. Но мы сейчас на
этом не останавливаемся. Мы пока характеризуем литературу
в её наиболее общих свойствах, чтобы определить самый тип
отражения ею жизни. Для этой цели нам здесь достаточно ука¬
зать на ту роль, которую играет характер в создании образа.
Следует здесь оговорить одно частное недо¬
разумение, которое происходит с понятием ха¬
рактера. Зачастую оно вызывает представление
о таком изображении человека, в котором на
первый план выдвинуто его психологическое состояние, где
художник стремится проследить все изгибы души своего героя,
как это делает, например, Достоевский, во французской лите¬
ратуре— Бурже («Ученик») и др. При таком понимании харак¬
тера мы не найдём его в образах, например, античной литературы,
у писателей классицизма, в русском народном творчестве
и т. д. и, следовательно, признаём его частной особенностью от¬
дельных периодов развития литературы, преимущественно в но¬
вое время. Тем самым незаконно будет наше указание на то,
что ядром образа является характер.
Нужно подчеркнуть поэтому и иметь всё время в виду в даль¬
нейшем, что мы, говоря о характере, подразумеваем вообще изо¬
бражение человека в литературе, безотносительно к тому кон¬
кретному представлению о нём, которое имеет данный худож¬
ник. Характер в нашем понимании -- это тип человеческой дея¬
тельности, показанный нам писателем, а писатель показывает
его так, как это подсказывает ему историческая обстановка. Это
та форма «очеловечивания» действительности, которая дана ему
жизнью. Поэтому Ахиллес — это в принципе такой же характер,
как и Раскольников в «Преступлении и наказании» Достоевского,
хотя ясно, что в социально-психологическом отношении между
ними нет никакого сходства. Но и Ахиллес для Гомера, и
Раскольников для Достоевского —это люди, черты которых под¬
сказаны окружавшей художника исторической обстановкой.
Главное в том, что и тот и другой герой позволяют нам предста¬
вить себе жизнь в её непосредственном человеческом преломле¬
нии. Поэтому характер для нас является понятием, обозначаю¬
щим «очеловеченность» изображения жизни искусством. В этом
смысле мы встретимся с характером в любом искусстве любого
периода. Но по своим конкретным особенностям характеры
в произведениях различных художников в различные периоды
могут и даже должны не совпадать.
23
Как уже сказано, характер есть, прежде всего,
ция““искусств^ нечто индивидуальное, —это конкрет¬
ный человек с его индивидуальными поступ¬
ками и переживаниями в конкретной жизненной обстановке. И об¬
раз только тогда доходит до сознания читателя, когда он доносит
до него то ощущение непосредственности, единичности, индиви¬
дуальной неповторимости, которые присущи человеку как инди¬
видуальности. Отсюда вытекает необходимость предельно кон¬
кретного изображения художником как человека, так и окружаю¬
щей его жизненной обстановки. Поэтому в художественном про¬
изведении мы имеем дело с таким отражением жизни, которое
сохраняет у изображаемых писателем явлений их индивидуаль¬
ные жизненные особенности, в результате чего они представ¬
ляются нам непосредственными жизненными фактами. Если речь
идёт о человеке, то его облик вырисовывается перед нами так,
что мы осознаём его как конкретную личность с его внешно¬
стью, одеждой, поведением, индивидуальным языком, пережива¬
ниями и т. п.
Если речь идёт о событии, то оно рисуется так, как будто
мы непосредственно его наблюдаем. Говоря о жизни, писатель
как бы показывает её нам; сохраняя у изображаемых явлений
их индивидуальный характер, нм свойственные особенности и
признаки, он даёт нам в них как бы подобие жизни. Вот, напри¬
мер, как изображает Пушкин в «Капитанской дочке» буран,
застигший Гринёва в дороге:
«Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались
печальные пустыни, пересечённые холмами и оврагами. Всё покрыто было
снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу,
проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сто¬
рону и, наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:
— Барин, не прикажешь ли воротиться?
— Это зачем?
— Время ненадёжно: ветер слегка подымается; — вишь, как он сметает
порошу.
— Что же за беда!
— А видишь там что?
(Ямщик указал кнутом на восток.)
— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.
— А вон — вон: это облачко.
Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было
сперва за отдалённый холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало
буран.
Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими
занесены. Савельич, согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. Но
ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до
следующей станции и велел ехать скорее.
Ямщик поскакал; но всё поглядывал на восток. Лошади бежали дружно.
Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в бе¬
лую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо.
Пошёл мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась
метель. В одно мгновение тёмное небо смешалось с снежным морем. Всё
исчезло.
— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!..
24
Я выглянул из кибитки: всё было мрак и вихорь, Ветер выл с такой сви¬
репой выразительностью, что казался одушевлённым; снег засыпал меня и
Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали».
Здесь всё дано так, что люди и явления, изображаемые Пуш¬
киным, встают перед глазами читателя со всей ясностью, как
конкретные жизненные явления, индивидуально. Эта индиви¬
дуализация является необходимым условием художествен¬
ного изображения жизни. С большой отчётливостью это стрем¬
ление изобразить действительность так, чтобы она выступила
перед читателем с очевидностью конкретного жизненного факта,
можно проследить, изучая черновую работу писателя, наблю¬
дая по вариантам, постепенно им нащупываемым, его прибли¬
жение к жизненной отчётливости изображения. В «Хаджи Му¬
рате» Л. Толстой последовательно исправляет фразу Весь аул
курился дымом при помощи следующих вариантов: Весь аул
курился душистым кизячным дымом...; Курившийся душистым
кизячным дымом чеченский немирный аул.
На индивидуализированность изображения жизни в литера¬
туре как на одно из необходимых условий высокой художествен¬
ности литературного творчества неоднократно указывали клас¬
сики марксизма. О «живости и богатстве действия», о его «само¬
родное™» говорит Энгельс в письме к Лассалю. Требование
«больше шекспиризировстгь», стремиться к показу «характерных
черт в характерах» вместо «шиллеровщины, превращения инди¬
видов в простые рупоры духа времени», предъявляет Лассалю
и Маркс. Понятие «шекспиризации» раскрывается Энгельсом в
письме к Марксу (от ГО декабря 1873 г.), где он указывает, что
у Шекспира «в одном только первом акте «Merry wives» («Винд¬
зорских кумушек») больше жизни и движения, чем во всей немец¬
кой литературе». Маркс в «Святом семействе», говоря о твор¬
честве Э. Сю, подчёркивал, что его персонажи «...не живут
действительной, содержательной жизнью...» Как положительное
качество Энгельс отмечает в романе Минны Каутской то, что
«характеры той и другой среды обрисованы с обычной для вас
чёткостью индивидуализации; каждое лицо — тип, но вместе с
тем и вполне определённая личность, «этот», как сказал бы ста¬
рик Гегель; так оно и должно быть». Говоря о недостатках ро¬
мана, Энгельс отмечает нарушение этой индивидуализации —
то, что при изображении некоторых персонажей «личность рас¬
творяется в принципе».
Эта важнейшая черта художественного изображения отме¬
чается — и вполне справедливо — в тех определениях образа,
которые мы выше рассматривали. Произведение искусства лишь
тогда полноценно, когда оно заставило читателя или зрителя по¬
верить в себя как в явление жизни.
Без конкретной картины жизни нет и искусства. 'Но сама эта
конкретность — не самоцель художественного изображения, она
необходимо вытекает из самого его предмета, из той задачи.
25
Индивидуальное
и общее
в искусстве
которая стоит перед искусством: изображения человеческой
жизни в её целостности.
Мы можем теперь дополнить наше определение образа, ска¬
зав, что это — конкретная картина человеческой жизни, индиви¬
дуализированное её изображение.
Обобщённость художественного изображения
Однако при всей индивидуализированности
художественного изображения мы, восприни¬
мая образы, созданные художником, ощу¬
щаем, что они, если так можно выразиться,
перерастают те непосредственные жйзненные факты, ко¬
торые мы в них видим. Переживая со всей полнотой изображён¬
ную в них жизнь, мы в то же время сознаём условность этого
изображения. Мы знаем, что умерший на сцене артист вста¬
нет, — значит, нас интересует то, что уже выходит за пределы
той индивидуальной судьбы героя пьесы, за которой мы следили
на сцене. Больше того, если бы мы полностью отождествили
изображённое в искусстве с жизнью, то должны были бы искать
в адресном столе адреса понравившихся нам героев романов
или вмешиваться в их судьбу на сцене театра. Французский ис¬
следователь искусства Ипполит Тэн (1828—1893) рассказывал
об американском солдате, который выстрелил в артиста, испол¬
нявшего роль Отелло, когда тот душил Дездемону, со словами:
«Пусть же не говорят, что на моих глазах злой негр душил белую
женщину». О более трагическом случае рассказывает польская
летопись XVII века: польские солдаты во время войны с австрий¬
цами были в театре, где игралась пьеса, изображавшая победу над
австрийцами. По ходу действия пьесы на сцену были выведены
пленные. Солдаты стали требовать их казни и, когда их предложе¬
ние не было осуществлено, сами обстреляли артистов, имевших
несчастье изображать пленных, причём некоторые были убиты.
Сведение произведения искусства к простому жизненному
факту влечёт, следовательно, к нелепым и — в данном случае —
трагическим последствиям. Наоборот, в том случае, если само
произведение искусства не подымается выше отдельного факта
жизни, оно кажется нам неестественным, иногда даже неправдо¬
подобным. Известный французский артист Коклен, изображая
на сцене спящего, неожиданно для себя уснул на самом деле.
На следующий день он был раскритикован театральным рецен¬
зентом за неестественное изображение спящего: «Что сделалось
с Кокленом?»—спрашивал рецензент.
В «Жиль Блазе» Лесажа рассказан поучительный анекдот о
крестьянине, который позавидовал успеху артиста, подражав¬
шего визгу поросёнка. Он спрятал живого поросёнка в мешок,
вышел на сцену и, дёрнув поросёнка, заставил его отчаянно за¬
визжать — и был освистан.
26
Факт
действительный
и факт
художественный
Между фактом действительным и
фактом художественны м имеются су¬
щественные различия. Индивидуализирован-
ность художественного изображения связана
ещё с одним весьма важным условием.
Художественный факт представляет собой как бы исправ¬
ленный факт жизни, в нём отброшено случайное и второсте¬
пенное и, наоборот, собрано существенное, характерное
для жизни, тогда как в действительности мы чаще всего встре¬
чаемся с фактами, в которых существенное представлено не¬
полно, смешано с чисто случайными элементами. «Нужно наблю¬
дать много однородных людей, чтобы создать один определён¬
ный тип», — говорил Л. Толстой. И эта мысль по-разному фор¬
мулируется самыми различными художниками. «Нужно всегда
возводить своих персонажей до пределов типа, — писал Фло¬
бер. — Отличительная черта больших гениев — умение обоб¬
щать и творить; из совокупности свойств целого ряда личностей
они создают какой-нибудь один тип», — и добавлял: «Моя бед¬
ная Бовари, наверное, в это самое время страдает и плачет
в 20 деревнях Франции сразу». Рассказывая о своей работе над
«Борисом Годуновым», Пушкин писал: «Характер Пимена не есть
моё изобретение. В нём собрал я черты, пленившие меня в наших
старых летописях».
Хорошо определял эту сторону работы художника А. Додэ:
«В продолжение трёх десятков лет я регулярно заносил в те¬
традки мысли и наблюдения, напоминающие мне какой-нибудь
жест или интонацию, впоследствии развивая всё это, дополняя
гармонию целого... Ни один персонаж моих романов не списан
целиком с живого лица; все они созданы мною из отдельных
черт, взятых у отдельных лиц». Горький настойчиво указывал
на то, что художник синтезирует «множество отдельных черт,
присущих людям той или иной породы». Достоевский считал,
что «задача искусства — не случайности быта, а общая их идея,
зорко угаданная и верно снятая со всего многоразличия одно¬
родных жизненных явлений», поэтому, говорит он, у писателей
типы «почти действительнее самой действительности... В дей¬
ствительности типичность лиц как бы разбавлена водой, и все
эти Жорж Дандены и Подколёсины существуют действительно,
снуют и бегают перед нами ежедневно, но как бы несколько в
разжиженном состоянии». О том же говорят и живописцы. Ра¬
фаэль писал: «Для того чтобы написать красавицу, мне надо
видеть многих красавиц». Эту же мысль находим у Альбрехта
Дюрера: «Тебе надо будет написать многих людей, взять у них
прекраснейшее и измерить, а потом всё это соединить в одной
картине... Невозможно написать прекрасную картину с одного
человека. Ибо нет на земле красивого человека, который не
мог бы быть ещё прекраснее».
Это стремление художника обобщить в своём образе харак¬
27
Характер —
средство
отражения
жизни в целом
терные черты явлений жизни, отбросив в них случайное и вто¬
ростепенное, очень точно определил ещё Аристотель: «Задача
художника говорить не о происшедшем, а о том, что могло бы
случиться, о возможном по вероятности или необходимости».
В этих словах отчётливо указано на то, что в образе отражены
те или иные закономерности жизни: изображённое в произве¬
дении позволяет нам думать о том, что в жизни вообще так бы¬
вает. Художественный факт — это факт, так сказать, иллюстри¬
рующий жизненные законы. Вот почему Гоголь говорил, что в
процессе творчества он всё время останавливается перед вопро¬
сом: «Что должен сказать собой такой-то характер? Что должно
выразить собой такое-то явление?» Имея в виду эту важнейшую
черту художественного творчества, Белинский и говорил, чго
в искусстве «жизнь более является жизнью, нежели в самой
действительности», что «у истинного таланта каждое лицо —
тип и каждый тип для читателя есть знакомый незнакомец»,
т. е. обобщение жизненного материала, окружающего читателя.
Итак, хотя в произведении характеры высту¬
пают перед нами как непосредственные жиз¬
ненные факты, как конкретные люди, судьбы
и переживания которых нас увлекают и вол¬
нуют, тем не менее в реальной жизни их нет,
они условны, они являются для писателя лишь средством
изображения жизни, а не самоцелью. Это значит, что, ри¬
суя характеры людей с возможной их индивидуализирован-
ностью, писатель стремится не просто к тому, чтобы изобразить
эти характеры, а к чему-то большему. Изображение ха¬
рактеров есть для него лишь средство для достиже¬
ния этого большего.
Писатель стремится не к описанию жизни, а к познанию её.
Ему важно осмыслить определённые закономерности,
управляющие общественными отношениями, и показать их, как
мы видели выше, в их непосредственном жизненном осуществле¬
нии на примере единичных явлений жизни. Изображаемый пи¬
сателем человек важен ему не только сам по себе, но и как
пример действия, осуществления познанных в той или иной мере,
найденных писателем жизненных закономерностей.
Писатель изучает действительность на основе определённого
мировоззрения; в процессе его жизненного опыта у него накап¬
ливаются наблюдения, выводы; он приходит к определённым,
отражающим действительность обобщениям. Эти обобщения он
показывает читателю в живых, конкретных фактах, в судьбах
и переживаниях людей. Так, в «Капитанской дочке» Пушкин хо¬
чет, в частности, дать определённое обобщение того, какими
должны быть взаимоотношения между дворянством и крестьян¬
ством, каким должен быть дворянин и т. д. (оставляем в стороне
другие большие проблемы, затронутые в этом произведении).
Эти свои обобщения жизненного материала Пушкин даёт чита¬
28
телю не путём прямого их изложения, а путём изображения ряда
определённых характеров, в судьбах, переживаниях, во взгля¬
дах которых мы и видим раскрытие этих обобщений. Именно
для того, чтобы дать читателю представление об определённой
жизненной среде, о характерных для неё условиях, писатель и
изображает характер, созданный этой средой, этими условиями.
По этому характеру мы судим о создавшей его среде, о тех за¬
кономерностях жизни, которые сформировали его именно таким,
а не иным. В художественном произведении обобщения (идеи) 1
даны через характеры, а характеры переходят в обобщения —
они неразрывно слиты друг с другом, переходят друг в друга;
как говорил Бальзак, «идея становится персонажем».
Сила обобщения, данного в произведении, на том и основана,
что оно выступает перед нами как явление жизни, как законо¬
мерность, ставшая явлением и непосредственно нами наблюдае¬
мая в её жизненном осуществлении. Поэтому, если мы сведём
произведение к его общему идейному содержанию, мы крайне
обедним его, так как в произведении оно дано нам во всей непо¬
средственности жизненного факта. В свою очередь и характер,
изображаемый в произведении, важен нам не просто как непо¬
средственный жизненный факт, а как обобщение, по которому
мы судим о жизни, создавшей его. Поэтому писателю важно не
создать характер сам по себе, т. е. не изобразить какого-нибудь
конкретного, известного ему человека, а важно создать такой
характер, который своими чертами и свойствами отвечал бы по¬
казываемой писателем среде, т. е., другими словами, был бы для
неё закономерен, как говорят, типичен. Образ в литера¬
туре, в сущности, подобен эксперименту в науке. Учёный, уста¬
новив определённый закон, управляющий данными явлениями,
производит эксперимент для того, чтобы показать, что эти явле¬
ния развиваются именно по этому закону. Так и писатель, уло¬
вив характерные, по его мнению, закономерности, управляющие
жизнью людей, создаёт картины человеческой жизни, в которых
поступки и переживания людей определяются этими закономер¬
ностями, являются индивидуальными примерами действия в
жизни этих закономерностей. А. Потебня указывал на то, что
в древнерусской литературе понятию образа соответствовало по¬
нятие притчи, а притча — это то, что «притыкается», приме¬
ряется в жизни к чему-либо и благодаря этому получает значе¬
ние. Образ — это конкретный пример действия в жизни человека
тех или иных закономерностей, уловленных писателем. «В лите¬
ратуре,— писал Горький, — идёт та же самая работа, что и в
науке. Учёный прежде всего проделывает тысячи мелких экспе¬
риментов... В результате он получает оглушительные револю¬
ционные выводы... Таким же самым путём идёт литература».
1 Мы здесь ещё не касаемся вопроса об идее произведения в целом, т. е.
об основной идее.
29
У Лессинга очень ясно сказано о том, что за образом мы
ощущаем закон, управляющий явлениями, которые он характе¬
ризует: «При каждом шаге, который делают герои истинного
художника, мы должны будем сознаться, что и мы поступили бы
точно так же при подобном развитии страсти, при том же по¬
рядке вещей». Это и значит, что мы видим в индивидуальном
художественном факте обобщение, относящееся ко многим по¬
добным ему жизненным фактам.
Понятно, что в историко-литературном процессе формы ху¬
дожественной типизации многообразны и детальное их рассмо¬
трение— дело уже истории литературы. Каждый литературный
метод, каждое литературное течение типизирует по-своему.
Тип—мольеровский Тартюф, тип — гоголевский Плюшкин,
тип — пушкинский Скупой рыцарь, и в то же время они глубоко
различны не только по содержанию, но и по характеру типи¬
зации. Своеобразна типизация и в различных жанрах — в эпосе
и в лирике, совсем особый вид она имеет в сатире и т. д. Но в
основном — перед нами единый процесс обобщения, раскрытия
в образе закономерного, какими бы своеобразными путями ни
достигал этого художник.
Мы можем теперь дополнить данное нами раньше определе¬
ние образа, сказав, что образ — это конкретная и
в то же время обобщённая картина человече¬
ской жизни.
Вымысел в художественном изображении
Но, указав на то, что в образе неразрывно
обобщения в объединены индивидуальное и обобщённое
индивидуальное изображение жизни, мы сталкиваемся с очень
отчётливым противоречием. Художник должен
изобразить индивидуальное, вложив в то же время в него об¬
общение.
Каждый (за редкими исключениями) отдельно взятый че¬
ловек, отдельно взятый жизненный факт, с одной стороны, мо¬
жет и не иметь в себе типических для данной области жизни
особенностей, с другой стороны, в нём могут быть развиты слиш¬
ком индивидуальные, ему только присущие, случайные черты.
Обобщение, создаваемое писателем на основе всего много¬
образия его жизненного и культурного опыта, на основе богат¬
ства отражаемой им действительности, не может, как правило,
быть сведено к какому-нибудь конкретному, данному факту
жизни. И поскольку обобщение выходит за рамки отдельных
жизненных фактов, встречавшихся писателю, постольку и инди¬
видуализированное выражение не может быть сведено к какому-
нибудь бывшему в жизни факту.
Писатель соотносит ряд фактов между собой, отбрасывая в
них несущественное, т. е. не выражающее с достаточной ясно-
30
стыо интересующие его закономерности, и, наоборот, выделяя
такие, в которых отразились именно существенные для данной
среды особенности. Подчеркнём здесь, что существенное, типи¬
ческое, не есть наиболее частое, наиболее распространённое, как
часто ошибочно думают. Типичное это то, в чём выразились
з а к о и о м е-р н ы е, основные черты общественных отношений.
Спасение челюскинцев, например, было типическим, хотя и еди¬
ничным, событием, так как в нём с исключительной силой вы¬
разились и новое отношение к людям в нашей стране, и новые
черты в самом человеке. Наоборот, мы можем иметь дело с яв¬
лениями частыми, распространёнными, но в то же время несу¬
щественными, не выражающими действительных закономерно¬
стей данной среды.
Типично «не то, что кажется в данный момент прочным, но
начинает уже отмирать, а то, что возникает и развивается...»
(Сталин, Вопросы ленинизма, 11-е изд., стр. 537.)
На основании собранного материала и после соответствую¬
щего его отбора, писатель приступает к творческому созданию,
так сказать, новых жизненных «фактов», т. е. людей, событий
и т. п., о которых он рассказывает своему читателю.
Он должен, таким образом, сначала «разложить» непосред¬
ственно ему данные жизненные факты, отбросить в них случай¬
ное, выделить существенное, а вслед за тем собрать отобранное
в одно целое, вообразить его себе во всей жизненной яркости
и рассказать о нём с такой убедительностью, чтобы оно пред¬
ставилось читателю конкретным жизненным фактом. С одной
стороны, такого факта в действительности не существовало, а с
другой стороны, этот творчески созданный факт всеми своими
корнями уходит в реальную действительность, и на основании
его мы составляем себе представление о породившей его обста¬
новке даже более отчётливо, чем по случайному жизненному
факту.
«Наблюдение, изучение, сравнение—это дело литератора,—
справедливо замечал М. Горький, — это то же самое, что у лю¬
бой науки. Для того чтобы прийти к какому-то выводу, построить
гипотезу, нужен опыт. Гипотеза —это тоже тип». Мы вправе
сделать и обратный вывод: тип (типический характер, вообще —
художественное обобщение) — это гипотеза художника, создан¬
ная им силой воображения на основе его жизненного опыта.
Роль вообра- Без этой творческой работы воображения
жения художника не могло бы произойти того сплава
в искусстве индивидуального и обобщённого, без которого
нет образа. На основе своего знания и понимания жизни художник
воображает такие жизненные факты, по которым лучше всего
можно судить об изображаемой им жизни. В этом — значе¬
ние художественного вымысла. «Мало наблюдать, изучать, знать,
необходимо ешё и «выдумывать», создавать, — говорил Горь¬
кий.— Творчество — это соединение множества мелочей в одно
31
более или менее целое совершенной формы. ...Художественность
без «вымысла» невозможна, не существует». Если попытаться
определить природу художественного таланта, то сущность
её будет лежать именно в этой способности художника необы¬
чайно ярко и сильно воображать. Можно привести чрезвы¬
чайно много примеров, говорящих о том, с какой непосредствен¬
ностью и полнотой жизненного восприятия большие художники
переживали в своём воображении всё то, о чём они рассказывали
в своих произведениях.
«Работа идёт в голове, — говорил Гончаров. — Лица не дают
покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их раз¬
говоров, — и мне часто казалось, прости господи, что я это не
выдумываю, а что всё это носится в воздухе около меня, и мне
только надо смотреть и вдумываться». Писемский говорил о
своих героях: «Они... стоят вокруг меня и предо мною всю ночь
и смотрят на меня, и живут, и не дают мне заснуть». Тургенев
рассказывал о своём творчестве: «Вы чувствуете, что возле вас
кто-то стоит, ходит с вами, — и вот живое лицо сложилось. Это
нечто вроде она. Ходишь среди героев романа, видишь себя между
ними... Пока он (герой. — Л. Т.) не сделается для меня старым,
хорошим знакомым, пока я не вижу его и не слышу его голоса,
я не начинаю писать». Бальзак говорил, что он «живёт жизнью
того человека, которым занят». Бомарше вёл со своими героями
«самую оживлённую беседу» и, по его словам, «лишь записы¬
вал то, что они говорят». Ибсен видел своих героев «до послед¬
ней пуговицы, походку, манеру, голос». Одну из артисток, играв¬
ших в его пьесе, Ибсен не любил только за то, что руки у неё
были не той формы, которую имели руки его героини. Многие
азторы плакали над судьбой своих героев, настолько входили они
в их жизнь, — такие сведения имеются о Диккенсе, Гёте, Бичер-
Стоу, Клейсте, Теккерее и др. Флобер рассказывал, что, изобра¬
жая страдания отравившейся Эммы Бовари, он ощущал во
рту «настоящий вкус мышьяка». Л. Толстой так описывал свою
работу: «Я работаю мучительно. Вы не можете себе представить,
как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты
того поля, на котором я принуждён сеять. Обдумать и переду¬
мать В1сё, что может случиться со всеми будущими людьми пред¬
стоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы воз¬
можных сочетаний для того, чтобы выбрать из них одну мил¬
лионную, — ужасно трудно». А. Н. Толстой прямо заяв¬
ляет, что писатели «всегда должны галлюцинировать, т. е.
научиться видеть» своих героев и вообще то, о чём они говорят.
Без этого дара воображения писатель, если он и обладает
знанием жизни, позволяющим ему прийти к известным обобще¬
ниям, языковой культурой и другими данными, всё равно не
сумеет воплотить свой материал с художественной убедитель¬
ностью, заставляющей читателя поверить в ту жизнь, о которой
писатель ему рассказывает.
32
Чернышевский справедливо замечал, что «главное в поэти¬
ческом таланте — так называемая творческая фантазия».
Эта же сила воображения присуща и представителям других
искусств. Глинка говорил, что когда писал сцену в лесу Суса¬
нина с поляками, он «так живо переносился в чувства героя, что
волосы становились дыбом и мороз подирал по коже». Станислав¬
ский требовал от артиста, чтобы он весь день был тем, кого он
играет: «Вы — Татьяна. Вы стоите в кулисе и готовитесь к пер¬
вой фразе дуэта «Слыхали ль вы». Бели вы из своей уборной не
вышли Татьяной и не поздоровались с кем-то по дороге, как
Таня, если вы, гримируясь, не пережили в вашем бдительном
внимании тёмных зимних вечеров под нянины сказки, если в
сердце вашем не бьётся ритм единения с нею, если старческая
ласка в вашем воображении не приготовила вам уюта, сознания,
что среди мёртвых для вашего духа, суетных Ольги и Лариной вы
имеете очаг любви к няне,—сцена не станет вам родным домом».
Возможно возражение, что сама по себе способность вообра¬
жать присуща всем людям. Но это состояние, когда человек
представляет себе то, что его ожидает или своё прошлое, свя¬
зано с субъективными его интересами. Характерной же
особенностью воображения истинного художника — помимо его
интенсивности, силы — является его «бескорыстность», точнее —
объективность, т. е. то, что он грезит не о себе, а о конкретном
мире, его окружающем, как бы «перевоплощаясь», отрешаясь от
себя, своих личных интересов. «Какая чудесная вещь, — писал
Флобер, — писать, не быть заключённым в себе, но обращаться
во всём мире, о котором говоришь. Сегодня, например, я — одно¬
временно мужчина и женщина, любовник и любовница — совер¬
шил прогулку верхом в лесу в осеннее послеполуденное время,
под жёлтыми листьями, и я был лошадьми, листьями, ветром,
произносимыми словами и багряным солнцем, от которого сме¬
жались глаза, отягчённые любовью».
Именно дар художественного воображения позволяет худож¬
нику превратить свои обобщения в образы, волнующие читателя
своей жизненной убедительностью.
Жизненный Но в то же время вымысел художника не
опыт— произволен, он подсказан ему его жизнен-
основа вымысла ным опытом; только при этом условии худож¬
ник сумеет найти настоящие краски для изображения того мира,
в который хочет он ввести своего читателя. Очень хорошо разъ¬
яснял эту жизненную основу вымысла Вахтангов: «Если вы хо¬
рошо знаете какого-нибудь человека, знаете несколько значи¬
тельных моментов его жизни, знаете его характер, привычки и
вкусы, т. е. что он любит и чего не любит, то вы легко ответите
и на вопрос, как бы он поступил в том или ином случае. Вы
можете продумать несколько положений для такого знакомого
вам человека и почти безошибочно угадаете, как он выйдет из
них. Чем лучше вы будете знать его, чем больше подробностей
3 Тимофеев
33
вспомните, тем лучше вы будете чувствовать его и тем пра¬
вильнее и скорее чувство ваше подскажет вам, как на вашего
знакомого подействует тот или иной случай. Когда писатель
пишет пьесу, то он непременно хорошо знает всех действующих
в его пьесе людей».
В этом смысле вымысел представляет собой как бы концент¬
рацию жизненного опыта художника. Люди действуют в про¬
изведении его так, как они с наибольшей вероятностью действо¬
вали бы в самой жизни, по его предположению. Поэтому вымы¬
сел художника и обладает такой убедительностью, несмотря на
свою условность. Художник не произволен в своём вымысле,
ибо он воображает то, что имеет наибольшие основания слу¬
читься в самой жизни. И чем крупнее, талантливее художник,
чем шире и глубже его жизненный опыт, его знание людей, со¬
бытий и обстановки им изображаемых, тем ярче и ближе к жизни
его вымысел, тем правдивее его образы. Вот почему герои писа¬
теля иногда совершают такие поступки, которых он и не пред¬
полагал по своему первоначальному замыслу. Л. Толстая, рас¬
сказывая о работе А. Толстого над романом «Пётр I», пишет:
«Алексей Николаевич не раз говорил, что иногда его герои по¬
ступают не так, как он хочет, и отказываются следовать пред¬
назначенным автором путём». Продумывая поступки своих ге¬
роев, автор может отказаться от своих планов и прийти к таким
поступкам, которые окажутся возможнее, вероятнее с точки
зрения логики самой жизни. Пушкин, по словам Л. Толстого,
полушутя, но по существу серьёзно как-то сказал Е. Н. Мещер¬
ской: «А вы знаете, ведь Татьяна-то моя отказала Онегину и
бросила его совсем. Этого я от неё никак не ожидал». Л. Толстой
рассказывал, что Вронский после встречи с Карениным во время
болезни Анны «совершенно неожиданно стал стреляться». «Во¬
скресение» Л. Толстого первоначально кончалось браком Не¬
хлюдова и Масловой, но потом он изменил конец, найдя более
правдоподобный, т. е. отвечающий свойствам этих характеров
и той среды, которая за ними стоит, ход событий. «Герлг и ге¬
роини мои, — писал он, — делают иногда такие штуки, каких
я и не желал бы: они делают то, что должны делать в действи¬
тельной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то,
что мне хочется».
Вымысел, таким образом, представляет собой не что иное,
как средство отбора писателем наиболее характерного для
жизни, т. е. является прежде всего обобщением собранного пи¬
сателем жизненного материала. При помощи вымысла писатель
как бы придаёт этому материалу наибольшую выпуклость, осве¬
щает его полным светом, показывающим то, что в обыдённой
жизни заслонено от нас всякого рода случайными обстоятель¬
ствами.
Об этом говорил Бальзак, придававший огромное значение
вымыслу: «Прежде чем писать книгу, писатель должен проаяа-
34
лидировать все характеры, проникнуться всеми правами, обе¬
жать весь земной шар, прочувствовать все страсти... Всё должно
пройти через его мысль... Он действительно видел мир, или
душа интуитивно открыла его... Писатели видят описываемый
предмет, независимо от того, приходит ли предмет к ним или
сами они идут к предмету». На основании такого понимания
художественного вымысла Бальзак и говорил, что писатели «вы¬
мышляют правду по аналогии».
Очень ярко охарактеризовал это значение вымысла Салты¬
ков-Щедрин:
«Литературному исследованию. — писал он, — подлежат не только по¬
ступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он
несомненно совершил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые
человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает. Развяжите
человеку руки; дайте ему свободу высказать всю свою мысль, и перед вами
уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыдённой жизни,
а несколько иной, в котором отсутствие стеснений, налагаемых лицемерием
и другими жизненными условностями, с необычайной яркостью вызовет на¬
ружу свойства, остававшиеся дотоле незамеченными, и, напротив, отбросит
на задний план то, что на поверхностный взгляд составляло главное опреде¬
ление человека. Но это будет не преувеличение и не искажение действитель¬
ности, а только разоблачение той другой действительности, которая любит
прятаться за обыдённым фактом и доступна лишь очень и очень присталь¬
ному наблюдению. Без этого разоблачения невозможно воспроизведение всего
человека, невозможен правдивый суд над ним. Необходимо коснуться всех
готовностей, которые кроются в нём».
Вымысел и
действительность
Художественный вымысел, следовательно, не противостоит
действительности, а является лишь особой, именно искусству
присущей формой отражения жизни, своеобразной формой её
обобщения.
Понятно, что как вообще познание жизни может быть невер¬
ным, ошибочным, искажённым в конкретных исторических слу¬
чаях, так и вымысел может принимать искажённые, нелепые и
тому подобные формы ’. Но мьрсейчас говорим о его общем зна¬
чении в творчестве, а здесь его роль как средства обобщения пи¬
сателем известного ему жизненного материала несомненна.
Итак, вымысел тесно связан с реальной
жизнью. Практически писатель чаще всего
отталкивается от какого-нибудь конкретного
явления; оно служит для него отправной точкой, так называе¬
мым прототипом, вокруг которого он и собирает дальнейший
жизненный материал, придавая ему постепенно обобщённые, ти¬
пические черты. Понятно, что здесь огромную роль играет, зна¬
ние писателем жизни, богатство его жизненного опыта.
1 Английский писатель Мат. Льюис, которого упрекали в неверности изо¬
бражения (речь шла о том, что он поместил негров туда, где их не могло
быть), заявил: «Если бы я полагал, что для большего эффекта героиня моя
должна быть синей, она оказалась бы синей». Это пример нездорового отно¬
шения к вымыслу, так как он лишь тогда имеет художественное значение,
когда за ним стоят реальные, жизненные отношения. .
3*
35
«То, что не выросло во мне и не созрело во мне самом, — писал Гонча¬
ров, — чего я не видел, не наблюдал, чем не жил, то недоступно моему перу.
У меня есть свой мир наблюдений, впечатлений, воспоминаний, и я писал
только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко
видел и знал, — словом писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало».
Поучительны в этом отношении замечания Гоголя в «Автор¬
ской исповеди»:
«У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действи¬
тельности, из данных мне известных...
Я никогда не писал портрет в смысле простой копии. Я создавал портрет,
но создавал его вследствие соображения, а не воображения. Чем больше
вещей принимал я в соображение, тем у меня вернее выходило создание».
«В действительности я не встречал человека, оформленного психологи¬
чески так, как изображён мой Маякин, — рассказывал Горький, — но это не
значит (указывал Горький в другом месте. — Ред.), что я советую «выду¬
мывать» человека, а значит только, что я признаю за литератором право и
даже считаю его обязанностью «домысливать» человека. Литератор должен
выучиться прививать, приписывать единице наиболее характерные черты его
класса».
Федин так характеризует связь своих персонажей с реаль¬
ной жизнью:
«Здравствует не только мой бедный мельник Сваакер. До сих пор пере¬
бивается на свете Анна Тимофеевна, хотя ей очень трудно. Говорят, она
обиделась на меня за то, что я её похоронил... Попрежнему гоняет коров
дядя Рямонт, и героиня «мужиков» — Проска — радует его цветущим вну¬
ком. Афанасий Сергеевич Пушкин действительно скончался, впрочем, естест¬
венной смертью и несколько раньше, чем в моей «Наровчатской хронике».
Это может подтвердить А. Н. Толстой, встретивший его на Волге... Уже
после выхода «Городов и годов»... умер Пауль Геннинг... Я ничего не мог
узнать о бельгийском гражданине и музыкальном клоуне мосье Перси, так
что, повидимому, печальная судьба его в моём романе угадана довольно
верно. Точно так же я не мог найти никаких следов Курта Вана, но только
с горечью узнал в Нюрнберге, что составная часть этого героя — господин
народный учитель Кратцер — пал, как говорится, смертью храбрых на фран¬
цузском фронте; ...но этим не исчерпывается список живых или умерших
людей, которые послужили прототипом действующих у меня в романах и
повестях персонажей Увеличивать список прототипов тем более не имеет
смысла, что почти всегда они служат только толчком к созданию вымысла,
отправной позицией, той «печкой», от которой легко начинается танец вообра¬
жения. Черты нескольких характеров, встреченных в жизни, нередко объеди¬
няются в один образ».
Работа писателя над произведением есть и работа над изуче¬
нием той действительности, которую он отражает в своём твор¬
честве. Известны поездки Толстого на Бородинское поле во
время работы над «Войной и миром», в Тулу — на заседание
суда, во время работы над «Воскресением», его встречи с про¬
курором Давыдовым и надзирателем Бутырской тюрьмы Вино¬
градовым, исправлявшими даже его рукопись по линии верности
изображения судебной процедуры, и т. п.
Золя во время работы над «Человеком-зверем» специально
ездил на паровозе, чтобы изобразить работу машиниста и коче¬
гара, ночевал на парижском рынке, работая над «Чревом Па¬
рижа», и т. д. Это изучение жизни многосторонне, оно произво¬
ди;
пится путём привлечения самых разнообразных материалов,
книг, исследований и т. п. Толстой пишет «Воскресение», исполь¬
зуя «В мире отверженных» Медицина, «По этапу» Линёва,
«Русскую общину» Едрищева; в «Войне и мире» использует ряд
исторических работ и т. д.
Таким образом, легко убедиться, что вымысел, столь харак¬
терный для художественного творчества, не противостоит жизни,
а явл5?ётся лишь специфической формой её отражения.
Писатель находится, так сказать, на дороге от прототипа к
тину. Чем богаче его жизненный материал и, в то же время,
чем глубже его понимание, обобщение, тем большее значение
имеет его произведение. Чем богаче жизненный опыт писателя,
чем лучше он знает и понимает изображаемую им среду, тем
глубже может он понять встреченные им жизненные факты, из¬
влечь из них скрытые существенные черты.
Мопассан так определял эту задачу писателя:
«Нужно вглядываться во всё то, что желаешь выразить, достаточно долго
и с достаточным вниманием, чтобы открыть в нём ту сторону, которой никто
ещё не видел и не высказывал. Во всём ещё есть неисследованное, потому
что мы привыкли пользоваться своим зрением, лишь вспоминая то, что
думали до нас другие о рассматриваемом нами предмете. Самая незначитель¬
ная вещь содержит нечто неизвестное. Найдём же его.
Чтобы описать пылающий огонь или дерево на равнине, будем стоять
перед этим огнём и этим деревом до тех пор, пока они перестанут нам
казаться похожими на другие деревья и другое пламя».
Для того чтобы найти такое различие, нужно, очевидно, очень
хорошо разбираться и в деревьях, и в огне — иметь за плечами
соответствующий опыт. Тургенев говорил, что рассказ «Ася»
возник у него потому, что во время поездки по Рейну на лодке
он увидел на берегу двухэтажный домик, из окна нижнего этажа
которого выглядывала старуха, а со второго этажа смотрела
молодая девушка. «Я стал думать и придумывать, кто эта де¬
вушка, какая она и зачем она в этом домике, какие её отношения
к старухе, — и так, тут же в лодке и сложилась у меня вся фа¬
була рассказа». Но для того чтобы представить себе судьбу
этой девушки, её стремления и переживания, Тургеневу надо
было уже иметь большой запас ранее накопленного жизненного
материала, благодаря которому он только и мог насытить встре¬
тившийся ему случайный эпизод типическим содержанием, сде¬
лав Асю в то же время живой индивидуальностью. Хотя дей¬
ствие рассказа и происходит в Германии, но действующие
лица — русские, из хорошо. знакомой Тургеневу среды, вымы¬
сел его опирался на изученную им жизнь.
Чрезвычайно поучителен пример из воспоминаний о Досто¬
евском, в котором показано, как сила художественного вообра¬
жения вместе со знанием жизни Достоевского позволила ему
случайную фразу превратить в сложную и содержательную кар¬
тину жизни.
37
трогательного, какая
Роль случайного
в искусстве
А. П. Милюков рассказал Достоевскому о мальчике, который попросил
пастуха дать ему за грош поиграть на дудке пастуха. Когда он заиграл, горо¬
довой ему запретил играть, и мальчик грустно бросил дудку.
Достоевский после этого сказал- «Неужели вам этот случай кажется
только забавным?! Да ведь это драма, серьёзная драма! Бедный мальчик
этот родился в какой-нибудь деревне, по целым дням был на свежем воз¬
духе, бегал в поле, ходил с ребятишками в лес по грибы, или за ягодами,
видел, как овцы пасутся, слышал, как птицы поют. Может быть, тятька или
там дядя какой-нибудь на телегу с сенокоса посадит его или даже
верхом на кобылке даст проехаться. Там у ребёнка была какая-нибудь сви¬
стулька, может, и дудка, и он насвистывал на ней во всю силу своей
детской груди. И вот привезли этого ребёнка в Петербург и отдали иа годы
в ученье или, лучше сказать, на мученье, к какому-нибудь слесарю или
меднику, и сидит он с раннего утра до ночи в подвале душной мастерской,
в непроглядном дыму и копоти, и не слышит ничего, кроме стука молотков
по меди и железу, да ругани подмастерьев. Ведь это —
маленький «Мёртвый дом», где суждено ему вести каторжную жизнь
много лет, а вернее бессрочно, как там в сибирском особом
разряде. Всё развлечение его в том только, что хозяин пошлёт его
сбегать в кабак за водкой, да в светлый праздник он с другими малолетними
каторжниками — ремесленниками — пошатается на вонючем дворе, да может
постоять на дворе, если не прогонит дворник. И вот теперь у этого мальчишки
завёлся грош, и он не проел его на пряники, не пропил на грушевом квасу,
а видит — гонят коровушек, и у пастуха какая-то большая дудка. Он уже
слыхал её. Захотелось ему удовлетворить высшей эстетической потребности,
так или иначе присущей всякому человеку, и отдаёт он свой последний грош
пастуху, чтобы дал ему минуту, одну только минуту, поиграть, хоть несколько
звуков выжать из этой придавленной в душной мастерской детской груди.
Какое удовольствие!.. Какое наслаждение! Труба его звучит, он сам на ней
наигрывает, и корова замычала, откликается ему по-дерёвенски. Вдруг поли¬
цейский, блюститель городского порядка и тишины, хватает бедного ребёнка
за вихор, отнимает у него трубу, грозит ему. Да поймите же, сколько в этом
это драма! Славный ребёнок, бедный ребёнок!»
Таким образом, художественный вымысел
представляет собой тот мост, благодаря кото¬
рому обобщения художника переходят в ин¬
дивидуальные картины жизни, не теряя в то же время своего
общего значения. Когда мы говорим о том, что образ — это обоб¬
щение, мы должны помнить, что это обобщение даётся художни¬
ком в конечном счёте, жизненность образа возникает
благодаря богатству в нём индивидуальных черт, всякого рода
деталей и жизненных подробностей, придающих ему характер
«случайного» жизненного явления, живого факта жизни; каж¬
дая из этих подробностей сама по себе может и не обладать
обобщающим значением, но в целом все вместе они создают
обобщённую картину жизни, как бы проступающую сквозь по¬
кров случайности. В искусстве, говорил Чернышевский, «всё с
начала до конца облечено формою случайности». Энгельс писал
Лассалю, что созданные им образы лишь «один из способов»,
которыми можно было передать то, что хотел сказать Лассаль,
и что «существует по крайней мере десяток других, столь же или
ещё более подходящих». Вымысел и есть тот путь, идя по
которому, художник находит полные жизни формы, облекающие
его обобщения.
38
Вымысел
в лирике
Может показаться, однако, что не во всех
случаях мы встречаемся в литературе с вы¬
мыслом, что о нём нельзя говорить как об
общем признаке творчества. Так, лирическое стихотворение, на¬
пример, может быть воспринято нами как простой рассказ
поэта о том, что им пережито, за которым нам нет оснований
искать ту работу фантазии, которую мы наблюдаем, скажем, у
романиста. Это верно отчасти, поскольку лирику не приходится
рисовать таких сложных картин жизни, какие мы находим в ро¬
мане. Но в принципе и в лирическом стихотворении при его
кажущейся простоте мы всё же найдём ту же (в основе) работу
воображения художника. Сошлёмся прежде всего на то, что
отнюдь не всегда стихотворение имеет точное соотношение с
фактами жизни художника. Известное стихотворение Лермон¬
това:
В полдневный жар в долине Дагестана
G свинцом в груди лежал недвижим я...
не находит оснований в биографии поэта. Более того, известно,
что оно написано по рассказу знакомого Лермонтова, офицера
Шульца, который действительно после сражения под Ахульго
в 1839 г. целый день пролежал раненый на поле боя среди уби¬
тых и думал о своей невесте, которая обещала ждать его, хотя
родители её не соглашались на их брак.
Стихи Пушкина «Я помню чудное мгновенье», посвящённые
А. П. Керн, не отвечают его отзывам о ней в письмах, где он
говорит о ней весьма йронически.
Блок приписал под одним своим стихотворением, которое
кончалось словами:
Ты мне в любви призналась жаркой,
А я... упал к ногам твоим...
недвусмысленное примечание: «Ничего такого не было». Приме¬
ров такого рода можно привести много. Они говорят о том, что
лирик изображает то или иное чувство силой своего воображе¬
ния, воссоздавая жизненную ситуацию, которая может вызвать
такое переживание, так же как романист ставит своего героя в
то или иное вымышленное положение.
Но если лирическое стихотворение и совпадает с данным
фактом жизни поэта, оно воздействует на читателя не по этой
причине, поскольку биография писателя отнюдь не всегда ему де¬
тально известна. Оно волнует его опять-таки потому, что в нём
в форме конкретной картины — человеческого переживания —
дано обобщение: характерное для данного типа людей в данной
обстановке чувство, которое могут разделять многие люди. Сле¬
довательно, нас волнует в лирическом стихотворении не то, что
данное чувство испытал данный человек, а то, что оно могло
быть испытано «по вероятности или необходимости», как
39
сказано Аристотелем, многими людьми в подобных обстоя¬
тельствах.
Поэтому и в лирическом стихотворении конкретность пере¬
живания лишь «форма случайности» (пользуясь выражением
Чернышевского), за которой мы и видим обобщение. А то, что
оно совпало с данным фактом из жизни поэта, нам и неизвестно
в подавляющем большинстве случаев, я, главное, безразлично,
потому что при наличии обобщения в нём не может не быть
элемента вымысла, вторичного воссоздания художником дей¬
ствительности в его творческом воображении. Если же этого
не произошло, то его чувство будет иметь лишь биографиче¬
ское значение, т. е. останется записью в дневнике, частным
письмом и т. д.
Вымысел
в очерке
Равным образом и очерковая литература, ко¬
торая описывает факты, имевшие место в
действительности, хотя и не в такой мере
использует вымысел, но всё же не может обходиться и без него.
Художник подвергает факты той или иной обработке, сдвигает
их последовательность, переносит их из одной области в другую,
усиливает в героях характерные черты и ослабляет/ второсте¬
пенные и т. д. Лесков писал об одном из своих очерков: «Это
всё правда, но сшивная, как лоскутное одеяло у орловских
мещанок за Ильинкой. Время изображено верно, стало быть
и цель художественная выполнена... Это и не вымысел, а свод
событий».
Следовательно, и очерк, несмотря на его фактическую обос¬
нованность, не обходится без вымысла. И в нём художник рас¬
сказывает о факте именно потому, что факт этот интересен своей
характерностью, т. е. выходит за рамки своего индивидуального
существования, важен для нас потому, что при его помощи мы
понимаем многие подобные ему в жизни факты.
Подытоживая сказанное, мы вправе теперь прийти к выводу,
что вымысел является необходимым условием создания худо¬
жественного образа.
Мы должны дополнить наше определение: образ — это
конкретная и в то же время обобщённая кар¬
тина человеческой жизни, созданная при по¬
мощи вымысла.
Эстетическое значение художественного изображения
Особый характер
восприятия
произведения
искусства
образа как той
До сих пор мы говорили о литературе, так
же как и об искусстве вообще, имея в виду те
своеобразные пути, которыми художник идёт
к познанию жизни. Данное нами определение
формы отражения жизни, которая присуща
искусству, говорит о том, что художественное произведение
имеет познавательное значение, благодаря ему мы
40
Эстетическое
чувство
получаем «свое знание о жизни, так же как и благодаря какой-
либо научной работе. Это познавательное значение образа весьма
существенно. Выше мы цитировали отзыв Энгельса о познава¬
тельном значении произведений Бальзака. Однако непосред¬
ственный опыт каждого, кто проследит за своим восприятием
художественного произведения, подскажет ему, что оно суще¬
ственно отличается от восприятия произведения научного ха¬
рактера. Мы усваиваем знания, которые сообщает нам учёный,
к этому и сводится наше впечатление от научной работы. Про¬
изведение же искусства вызывает в нас чувство непосредствен¬
ного волнения, сочувствия героям или негодования, мы отно¬
симся к нему, как к чему-то лично затрагивающему нас, непо¬
средственно к нам относящемуся, дорогому для нас, доставляю¬
щему нам радость и наслаждение. Маркс писал, что произведе¬
ния античного искусства «продолжают доставлять нам художе¬
ственное наслаждение». Таким образом, познавательное значение
искусства связано ещё с какими-то его свойствами, о которых мы
до сих пор ещё не говорили.
Своеобразное чувство, которое возникает у
нас при восприятии произведения искусства,
называют эстетическим чувством.
Вопрос о том своеобразном чувстве, которое вызывают у чело¬
века произведения искусства, ставился ещё у античных фило¬
софов.
Уже в VI в. до н. э. Гераклит Эфесский высказал ряд мыслей
о прекрасном в искусстве. Вслед за ним греческие философы
V и IV вв.: Демокрит (ок. 460—360 гг. до «. э.), Сократ
(469—399), Платон (427—347 — в диалогах «Пир», «Гиппий
больший», «Федр», «Государство», «Ион»), Аристотель
(384—322 — «Об искусстве поэзии», «Политика», «Реторика»)
и др. — разрабатывали ряд существеннейших вопросов эстетики.
В Риме воззрения Платона развивал философ Плотин
(205—280 н. э.), об искусстве писали Гораций (65—8 — «Посла¬
ние к Пизонам»), Лукреций Кар (95—51 —«О природе вещей).
Новым этапом в развитии эстетических учений является эпоха
Возрождения, когда разработкой их занимаются сами писатели
(в Испании Сервантес, Лопе де Вега, во Франции Скалигер,
поэты «Плеяды» — Дюбелле и др., в Италии — Торквато Тассо).
Классицизм в XVIII в. создаёт свою эстетику, опираясь на
философию Декарта (1596—1650). Ярким представителем эсте¬
тики классицизма во Франции был Буало. В России теорию
классицизма разработали Сумароков, Тредьяковский, Ломо¬
носов.
Эпоха Просвещения выдвигает новых мыслителей в области
эстетики—Дидро (1713—1784), Лессинга (1729—1781). В это
время появляется самое понятие эстетики (Баумгартен,
1714—1762), возникают широко разработанные идеалистические
системы эстетики — Канта (1723—1804), Гегеля (1770—1831).
41
Начиная с XVIII в. выдвигается русская эстетика, занимаю¬
щая особо выдающееся место в истории мировой эстетической
мысли. Отличительной особенностью лучших передовых предста¬
вителей русской эстетической мысли была её неразрывная связь
с интересами народа, её боевой революционный характер. Ломо¬
носов (1711 — 1765), Радищев (1749—1802), Белинский
(1811 —1848), Добролюбов (1836—1861), Герцен (1812—1870),
Чернышевский (1828—1889) — выдающиеся представители рус¬
ской эстетики, своими мыслями и творчеством во многом опре¬
делившие развитие прогрессивной революционной мысли не
только в России, но и во всём мире.
Разработкой вопросов эстетики много и плодотворно занима¬
лись Плеханов (1856—1918), Луначарский (1875—1933).
Уже беглый перечень имён домарксистского периода (в ко¬
тором опущены многие видные представители эстетики) говорит
о том, что в этой области развивались самые различные теории.
Понимание прекрасного в искусстве и в жизни определялось в
зависимости от общих философских позиций, на которых стоял
тот или иной теоретик.
В конечном счёте в области эстетики, как и в области фило¬
софии в целом, боролись две партии — идеалистическая и мате¬
риалистическая.
Товарищ Жданов в своём выступлении на философской
дискуссии по книге Александрова «История западноевропейской
философии» говорил, что «поскольку материализм вырос и разви¬
вался в борьбе с идеалистическими течениями, история филосо¬
фии есть также история борьбы материализма с идеализмом».
Так, уже со времён Сократа и Платона определялась идеа¬
листическая эстетика, в* свою очередь давшая самые различные
ответвления, в том числе учения Канта и Гегеля и их современ¬
ных реакционных последователей в Западной Европе и Америке.
Опять-таки ещё в античности, у Аристотеля, были заложены
основы материалистической эстетики, видящей в искусстве
прежде всего познание жизни и наиболее полно развитой в
марксистской философии и истории искусства.
Благодаря тому, что все эстетические учения, при всём раз¬
личии их философских предпосылок, осмысляли особенности
искусства и не могли не отразить характерных его свойств, они
уже со времён античности указали на ряд важнейших особенно¬
стей искусства.
Однако только марксистское учение об искусстве в состоя¬
нии дать его научное понимание. Не отбрасывая материалов, на¬
копленных мыслителями прошлого, оно углубляет и переосмыс¬
ляет их.
«Марксистская философия, — говорил товарищ Жданов в
своём выступлении на философской дискуссии, — в отличие от
прежних философских систем, не является наукой над другими
науками, а представляет собой инструмент научного исследова¬
42
ния, метод, пронизывающий все науки о природе и обществе и
обогащающийся данными этих наук в ходе их развития. В этом
смысле марксистская философия является самым полным и
решительным отрицанием предшествующей философии. Но отри¬
цать, как подчёркивал Энгельс, не означает просто сказать
«нет». Отрицание включает в себя преемственность, означает
поглощение, критическую переработку и объединение в новом
высшем синтезе всего того передового и прогрессивного, что уже
достигнуто в истории человеческой мысли»..
Высказывания классиков марксизма — Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина — по вопросам искусства определяли и опреде¬
ляют развитие подлинно научной диалектико-материалистической
эстетики.. Марксистско-ленинское учение об искусстве — высшее
достижение мировой эстетической мысли, её новый, каче¬
ственно отличный от всей предшествующей истории, этап.
Сила эстетического чувства, испытываемого
ИСкпасота И человеком при восприятии произведения искус¬
ства, волнение, которое оно вызывает в нём,
чувство наслаждения, им доставляемое, — всё это непосред¬
ственно связано с представлением о прекрасном, которое лежит
в основе эстетического чувства.
Произведение искусства создаёт необычное эмоциональное
состояние в человеке потому, что оно вызывает в нём представ¬
ление о прекрасном в жизни, о красоте. «Всё литературное твор¬
чество, — писал в своё время Горький, — насыщено... единой для
всех людей жаждой чего-то неуловимого словом и мыслью, едва
уловимого чувством — таинственного чего-то, чему мы дали
бледное имя — красота и что в мире цветёт в наших сердцах —
всё более ярко и празднично».
Искусство вызывает у человека чувство прекрасного (эстети¬
ческое чувство). Это ещё одна существеннейшая его черта, необ¬
ходимая для понимания его и, стало быть, для определения
образа. «Предметом эстетики, — говорил Гегель, — является об¬
ширное царство прекрасного... Предметом эстетики является
область искусства».
Но что мы называем прекрасным, какое содержание вклады¬
ваем в понятие красоты?
Определение прекрасного — при всём разнообразии его пони¬
мания различными философскими системами — в конечном счёте
чрезвычайно тесно связано с представлением об идеале, о том,
что мы считаем в жизни идеальным. Определение, что истинно
прекрасное есть идеал, с теми или иными оттенками, мы находим
у различных мыслителей и писателей. «Цель художества есть
идеал», — писал Пушкин. Гёте говорил: «Прекрасное в искус¬
стве — это идеал, противопоставленный действительной жизни,
хотя из неё вырастающий».
А представление об идеале — это представление о совер¬
шенстве, о полном и гармоническом проявлении
43
Эстстическое
суждение —
суждение оценки
в жизни всех заложенных в данном явлении возможностей,
идеал — это предел, которого может достигнуть явление при
самом полном, самом совершенном своём развитии.
Но общее представление об идеале имеет отвлечённый ха¬
рактер. Оно становится ясным и полным тогда, когда мы имеем
возможность наблюдать его воплощение в конкретном явлении.
Прекрасное — это и есть воплощение идеала в кон¬
кретном явлении жизни, которое осуществляет в себе, позволяет
непосредственно ощутить то, что мы в жизни считаем идеалом,
к чему стремимся как к пределу. «Прекрасно то существо, —
говорил Чернышевский, — в котором мы видим жизнь такой,
какой должна быть она по нашим понятиям... Красота — это
просто форма, развившаяся самым здоровым образом».
Произведение искусства вызывает в нас эстетическое чувство
потому, что оно, благодаря своей конкретности и силе воображе¬
ния художника, позволяет нам непосредственно соприкоснуться
с тем, что представляется нам в жизни совершенйым, гармонич¬
ным, что является пределом наших стремлений. Короче, пре¬
красное — это то, что заставляет нас конкретно ощутить основные
ценности жизни. Представление о прекрасном — это пред¬
ставление о ценности. И значение искусства в том и состоит, что
оно вызывает в нас эти представления о ценности, показав их в
непосредственно действующей на нас форме конкретных жизнен¬
ных явлений, оно приводит нас к возможности оценивать жизнь
с точки зрения наших идеалов, как бы осуществившихся в ней.
Таким образом, художник вызывает в нас то,
что можно назвать ценностным отно¬
шением к жизни, т. е. представление
об основных жизненных ценностях, об идеа¬
лах, показав их как непосредственно существующие жизненные
явления, как осуществившееся прекрасное.
Но здесь, естественно, возникает вопрос: не является ли это
представление об идеале чисто субъективным, зависящим от
произвола данного художника, данного читателя? «Если не каж¬
дый супруг свою жену, то, по крайней мере, каждый жених свою
невесту находит красивой», — заметил по этому поводу Гегель.
На этот вопрос можно ответить словами Белинского: «Идеалы
скрываются в действительности, и они не произвольная игра фан¬
тазии, не выдумка, не мечты, и в то же время идеалы не список с
действительности, а угаданная умом и воспроизведённая фанта¬
зией возможность того или иного явления».
Идеал возникает в нашем сознании как отра-
Обобщающео жение тех законов, которые мы улавливаем в
жизни. И если мы видим явление, которое осу¬
ществило в себе с наибольшей полнотой ту закономерность, кото¬
рая управляет им в жизни, то мы ощущаем в нём это соответ¬
ствие идеалу, оно представляется нам красивым. Видя два де¬
рева, из которых одно прямо и стройно подымается вверх, а дру¬
44
гое — нелепо искривлено, мы, не колеблясь, назовём красивым
первое, потому что ощутим в нём проявление той закономер¬
ности, которая в природе управляет развитием дерева.
Идеал возникает в нашем сознании потому, что мы уловили
определённый закон жизни и стремимся к его воплощению, по¬
скольку он поможет нам достигнуть совершенства в данной об¬
ласти. «Искусство, — говорил Горький, — ставит своей целью
преувеличивать хорошее, чтобы оно стало ещё лучше». Представ¬
ление об идеале, таким образом, берётся художником из самой
жизни. «Красота и истина суть одно и то же», — эти слова фи¬
лософа как бы повторяют, говоря о своём художественном опыте,
многие художники. «В природе может быть красиво только то,
что мотивировано как истинное законами природы», — говорил
Гёте. «Прекрасное в скульптуре, как и в живописи, должно быть
сгустком подлинно прекрасной природы. Существует подлинно
прекрасное, но оно рассеяно в разных частях мира. Почувство¬
вать, собрать, сопоставить, выбрать... — значит показать в искус¬
стве то идеально прекрасное, принцип которого находится в при¬
роде», — говорил Фальконэ, создатель статуи Петра «Медный
всадник». Он ценит греческие статуи именно за то, что они «есть
и всегда будут мерилом точности, изящества и благородства, как
самое совершенное изображение человеческого тела». Художник'
Мерсе (1808—1860) тонко заметил, что прекрасное — это «идеа¬
лизированная правда».
Таким образом, в основе прекрасного лежит уловленный
художником закон жизни. «Человек, — говорил Маркс, — умеет
производить в соответствии с мерой каждого вида и всегда
умеет подойти к предмету с подходящей мерой; человек творит
поэтому по законам красоты».
Об этом же говорил и Ленин: «Мир не удовлетворяет чело¬
века, и человек своим действием решает изменить его... Созна¬
ние человека не только отражает объективный мир, но и творит
его» («Философские тетради», 1938, стр. 204, 203).
Художник и творит в своём воображении мир по тем законам
красоты, которые он уловил в нём.
Но всё ли, в чём мы можем усмотреть осуще¬
ствление того или иного закона в жизни, вы¬
зывает в нас эстетическое чувство? Очевидно,
что клоп или крокодил тоже может появиться
перед нами в своём наиболее совершенном виде, что в нём упра¬
вляющая им закономерность представлена наиболее отчётливо,
однако при виде его у нас не возникнет эстетическое чувство.
Прекрасное связано с представлением о ценности, о том, к
чему мы считаем нужным стремиться в жизни. А это представле¬
ние о ценности прежде всего связано с человеческой жизнью.
Об этом прекрасно говорил Чернышевский: «Во всём чувст¬
венном мире человек самое высшее существо; потому человече¬
ская личность есть высшая красота в мире, доступном нашим
Мерило
прекрасного —
человек
45
чувствам, и все другие стороны существующего в нём имеют зна¬
чение прекрасного только в той степени, в какой намекают на
человека и напоминают о человеке, ...самая высшая сфера пре¬
красного — человеческое общество». Даже Кант, взгляды кото¬
рого на искусство весьма далеки от нашего понимания искус¬
ства, считает, что идеал в художественном творчестве всегда
связан с человеком. «Человек — ...идеал красоты, — говорил он. —
Идеал состоит в выражении начала нравственного, без которого
предмет не мог бы нравиться вообще, и притом положительного».
Эта мысль очень существенна: красота в искусстве для нас
связана прежде всего с представлением о прекрасном человеке,
т. е. о таком поведении его в жизни, которое воплощает лучшее в
нём. Горький говорил! о том, что искусство возникает из «непо¬
бедимого стремления людей воплотить в жизнь лучшие свои
мечты, надежды и помыслы, создавать из них прекрасные об¬
разы поэзии и образцы для своего поведения... Эстетика — уче¬
ние о красоте — всегда тесно связана с этикой — учением о
добре».
Эстетическое значение образа, следовательно, состоит в том,
что в нём дано конкретное воплощение человеческих идеалов.
Воплощённый идеал это и есть прекрасное в
жизни. В основе его лежит сама действительность, но изобра¬
жённая в наиболее совершенном и гармоническом виде. И связан
он прежде всего с человеком, со стремлением выделить в нём
всё лучшее. Отсюда и вытекает важнейшее свойство искусства, —
то, что оно возбуждает в человеке ценностное отношение к жиз¬
ни, конкретно показывает ему те цели, к которым он стремится
в жизни, и путь к осуществлению этих целей.
Однако здесь возможно весьма существенное возражение:
всегда ли искусство связано с прекрасным? Ведь мы встречаем в
произведениях искусства и изображение всякого рода отталки¬
вающих, отвратительных, тяжёлых явлений жизни, которые от¬
нюдь не являются воплощением наших стремлений. Достаточно
вспомнить персонажей «Мёртвых душ» или «Ревизора» Гоголя.
Это соображение наталкивало иногда на мысль, что искусство
шире прекрасного и что, следовательно, произведение искусства
может и не вызывать эстетического чувства. Соображение это
само по себе — бесспорно: в сущности, большинство произведе¬
ний искусства прошлого не даёт нам прямолинейного, так ска¬
зать, изображения идеала, а в гораздо большей степени говорит
об отрицательных явлениях жизни. Но значит ли это, что они не
будят в нас эстетическое чувство?
Для того чтобы точно ответить на этот вопрос,
Предмет и щель надо разграничить два понятия: прекрас¬
ное как предмет изображения и
прекрасное как цель изображе¬
ния. Действительность часто не даёт возможности осуществить¬
ся идеалам художника. «В нашем обществе, — записывал знаме-
эстетического
изображения
46
Эстетическое
значение
изображения
отвратительного
в искусстве
литый французский живописец Делакруа (1798—1863) в своём
«Дневнике» в 1857 г., — как оно есть, с нашими бедными обы¬
чаями, маленькими, жалкими удовольствиями, прекрасное мо¬
жет быть только случайностью. Но и в том случае, если в жизни
нет возможности для осуществления идеала, художник всё же
может возбудить о нём представление у читателя, показав то,
что ему противоречит в жизни». В этом случае художником ру¬
ководит, как выразился Полонский, «страдание по отсутствую¬
щим идеалам» или, как говорил Горький, «тоска по красоте».
Предметом его изображения уже не является прекрасное, но
цель его изображения та же: он вызывает эстетическое чувство,
показывая то, что мешает ему в жизни. Г. Успенский писал о том,
что художник создаёт «то истинное в человеке, что составляет
смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию минуту, нет ни в ком,
ни в чём, нигде, но что есть в то же время в каждом человеческом
существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку,
а не на распрямлённую».
Прекрасное может быть, следовательно, пока¬
зано художником или прямо, непосредственно,
как осуществлённый идеал (например образы
Прометея, Ахиллеса в античной литературе,
Татьяны Пушкина в русской литературе и др.)',
или же косвенно, как возникающее у читателя
противопоставление тому тяжёлому, что господствует в жизни.
Гоголь писал о «Ревизоре»: «Мне жаль, что никто не заметил
честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное,
благородное лицо, действовавшее в ней во всё продолжение её.
Это честное, благородное лицо был с м е х... Смех, который весь
излетает из светлой природы человека». Об этом же говорил
Жуковский: «Если, читая книгу, сколь бы ни было отвратительно
само по себе её содержание, чувствуешь, что автор её держится
противного, то соединяешься вместе с ним и вместе с ним произ¬
носишь анафему тому, что он выставил на позор пером своим...»
Вальтер Скотт изображал нравственное безобразие во всех его
видах; но, читая его, я утешен им самим; в душе его идеал
прекрасного».
Эту же мысль о необходимости изображения «неэстетиче¬
ского» в искусстве высказал Пушкин, заметив, что «описывать
слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть безнрав¬
ственность, так же как анатомия не есть убийство».
Поэтому-то художник, рисующий отталкивающие стороны
жизни, всё же остаётся в области прекрасного: его изображение
будит в читателе представление об идеале. Поэтому эстетическое
чувство вызывается изображением и величественного и ничтож¬
ного, и высокого и низкого, и возвышенного и пошлого, и герои¬
ческого и мелкого, и естественного и претенциозного, и правди¬
вого и лицемерного и т. д. Первые члены этих параллелей могут
быть показаны прямо как идеальные, вторые — вызывают в со¬
47
знании представление о первых, как их антитеза, противополож¬
ность; и в том и в другом случае прекрасное остаётся целью ху¬
дожественного изображения, а предметом его оно является
только в первом случае.
Итак, мы можем сказать, что значение искусства со¬
стоит в том, что оно вызывает у человека эсте¬
тическое отношение к жизни. «Цель и назначение...
произведений искусства, — писал Чернышевский, — дать воз¬
можность хотя бы в некоторой степени познакомиться с прекрас¬
ным в действительности людям, которые не имели возможности
наслаждаться им на самом деле, ...служить напоминанием, воз¬
буждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действитель¬
ности».
Существенной стороной образа является, следовательно, его
эстетическое значение.
Определение образа
Мы можем теперь дать определение образа, которое вобрало
бы в себя все те его черты, о которых мы говорили.
Образ — это конкретная и в тоже время обоб¬
щённая картина человеческой жизни, создан¬
ная при помощи вымысла и имеющая эстетиче-
скоезначение.
Для того чтобы более конкретно разобраться
Зарождение в этом определении, остановимся на примере,
р который позволит нам представить себе эти
основные признаки образного отражения жизни. Пример этот
нам дал Достоевский.- Рассказывая в «Дневнике писателя»
о своих прогулках по Петербургу, он писал:
«Вот замечаю в толпе одинокого мастерового, но с ребёнком, с мальчи¬
ком, — одинокие оба, и вид у них у обоих такой одинокий. Мастеровому
лет тридцать, испитое и нездоровое лицо. Он нарядился по-праздничному:
немецкий сюртук, истёртый по швам, потёртые пуговицы и сильно засалив¬
шийся воротник сюртука; панталоны «случайные», из третьих рук, с тол¬
кучего рынка, но всё вычищено по возможности. Коленкоровая манишка и
галстух, шляпа-цилиндр, очень смятая, бороду бреет. Должно быть, где-
нибудь в слесарной или чем-нибудь в типографии. Выражение лица мрачно¬
угрюмое, задумчивое, жёсткое, почти злое. Ребёнка он держит за руку, и
тот колыхается за ним, кое-как перекачиваясь. Это мальчик лет двух
с небольшим, очень слабенький, очень бледненький, но одет в кафтанчик,
в сапожках с красной оторочкой и с павлиньим пёрышком на шляпе.
Он устал: отец ему что-то сказал, может быть просто сказал, а вышло, что
как будто прикрикнул. Мальчик притих. Но прошли ещё шагов пять, и отец
нагнулся, бережно поднял ребёнка, взял на руки и понёс. Тот привычно и
доверчиво прильнул к нему, обхватил его за шею правой ручкой и с дет¬
ским удивлением стал пристально смотреть на меня: «Чего, дескать, я иду
за ними и так смотрю?» Я кивнул было ему головой и улыбнулся, но он
нахмурил бровки и ещё крепче ухватился за отцовскую шею. Друзья,
должно быть, оба большие.
Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым
прохожим, изучать их лица и угадывать: кто они, как живут, чем зани¬
48
маются и что особенно их в эту минуту интересует. Про мастерового с
мальчиком мне пришло тогда в голову, что у него всего только с месяц
назад умерла жена и почему-то непременно от чахотки. За сиротой-маль¬
чиком (отец всю неделю работает в мастерской) пока присматривает
какая-нибудь старушонка в подвальном этаже, где они нанимают каморку,
а может быть всего только угол. Теперь же, в воскресенье, вдовец с сыном
ходили куда-нибудь далеко на Выборгскую к какой-нибудь единственной
оставшейся родственнице, всего вернее к сестре покойницы, к которой не
очеиь-то часто ходили прежде и которая замужем за каким-нибудь унтер-
офицером с нашивкой и живёт непременно в каком-нибудь огромнейшем ка¬
зённом доме и тоже в подвальном этаже, но особняком. Та, может быть,
повздыхала о покойнице, но не очень; вдовец, наверное, тоже не очень
вздыхал во время визита, но всё время был угрюм, говорил редко и мало,
непременно свернул на какой-нибудь деловой, специальный пункт, но и о
нём скоро перестал говорить. Должно быть, поставили самовар, выпили в
прикуску чайку. Мальчик всё время сидел на лавке в углу, хмурился и ди¬
чился, а под конец задремал. И тётка, и муж её мало обращали на него
внимания, но молочка с хлебцем, наконец-таки, дали, причём хозяин унтер-
офицер, до сих пор не обращавший на него никакого внимания, что-нибудь
сбстрил про ребёнка в виде ласки, но что-нибудь очень солёное и неудобное
и сам (один, впрочем) тому рассмеялся, а вдовец, напротив, именно в эту
минуту строго и неизвестно за что прикрикнул на мальчика, вследствие чего
тому немедленно захотелось а-а, и тут отец уже без крику и с серьёзным
видом вынес его на минутку из комнаты... Простились так же угрюмо и
чинно, как и разговор вели, с соблюдением всех вежливостей и приличий.
Отец сгрёб на руки мальчика и понёс домой: с Выборгской на Литейную.
Завтра опять в мастерскую, а мальчик к старушонке. И вот ходишь-
ходишь и всё этакие пустые картинки и придумываешь для своего. развле¬
чения».
Пример этот чрезвычайно поучителен. Перед нами самый
первоначальный набросок художественного произведения, это,
так сказать, самое зарождение образного отражения жизни. И в
нём в простейшем виде можно наблюдать основные особенности
этого отражения.
Очевидна прежде всего сосредоточенность Достоевского на
человеческой жизни («люблю присматриваться... к прохожим»),
она представляет для него наибольший интерес. Жизнь эта вос¬
принимается им во всех её деталях и подробностях, чрезвычайно
конкретно (внешность людей, их одежда, разговор, поведение,
быт: сильно засалившийся воротник сюртука, чаёк в прикуску,
выражение лица мрачно-угрюмое). Вслед за тем отдельный жиз¬
ненный факт начинает осмысливаться писателем; вглядываясь
в него, он начинает выделять в нём характерное, черты людей
определённой социальной среды (по одежде и внешности опреде*
ляется, что встреченный человек — рабочий, жена его умерла от
болезни бедноты — «непременно от чахотки», живёт он в рабо¬
чем квартале — на Литейной). Эта обобщающая работа — вы¬
деление в факте того, что характеризует подобные ему факты,
превращение его в факт возможный, вероятный с точки зрения
жизненного правдоподобия, — осуществляется при помощи вы¬
мысла («мне пришло в голову, что у него умерла жена», зани¬
мают, «может быть, угол», за мальчиком присматривает «какая-
нибудь старушонка» и т. д.).
4 Тимофеев
49
Этот вымысел строится из материала, который
уже накоплен писателем в его жизненном
опыте: он знает, что рабочий идет с ребенком
на руках, вероятно, потому, что он лишился жены, по нарядности
костюма понимает, что он идёт в гости, предполагает, что жена,
вероятнее всего, умерла от чахотки, представляет себе каморку,
в которой они живут, и т. д. Короче, этот факт как бы наклады¬
вается на уже имеющийся у писателя запас фактов и в свете их
обнаруживает скрытые в нём закономерности социальной жизни:
особенности жизни рабочего в Петербурге в конце XIX в. Вы¬
мысел является здесь путём к обобщению, к тому, чтобы придать
индивидуальному факту общие черты. Богатство жизненного
опыта позволяет писателю сразу уловить в этом случайном факте
его характерные черты. Это отличает крупных художников, обла¬
дающих, благодаря большому жизненному опыту и силе вообра¬
жения, исключительной проницательностью. Гёте говорил, что,
поговорив с кем-либо четверть часа, он ясно представляет себе,
что тот «будет говорить в течение двух часов», Гоголь развлекал
своих друзей, безошибочно предсказывая, что и как будет гово¬
рить случайно встреченный ими человек, и т. д.
Так, благодаря вымыслу постепенно перед нами возникает
конкретная картина человеческой жизни, сквозь которую начи¬
нает как бы просвечивать известное обобщение (мы начинаем
понимать, что в том человеке, о котором говорит нам писатель,
имеются черты, общие людям одного с ним общественного по¬
ложения). И, наконец, если бы эта картина жизни разрослась,
она неминуемо привела бы нас к оценке жизни: к вопросу о том,
в какой мере жизнь этого человека соответствует тому, как, по
нашим представлениям, должны жить люди, т. е. поставила бы
перед нами вопрос о несоответствии жизни тем идеалам нор¬
мальной человеческой жизни, к которым мы стремимся.
Перед нами, следовательно, простейший пример образного
отражения жизни, характеризующий те законы, которые управ¬
ляют художественным творчеством.
У нас до сих пор часто понятие образности употребляют в применении
к языку художественной литературы, имея в виду его особенную кра¬
сочность. картинность. Говоря об удачных образах писателя, имея в виду
какое-нибудь сравнение его и т. п., говорят об образном языке художест¬
венной литературы.
Так. например, в следующем отрывке из «Полтавы» Пушкина, дающем
описание красоты Марии, мы будем с этом точки зрения иметь пример
такого образного языка, ряд таких словесных образов:
И то сказать: в Полтапе нет
Красавицы, Марии равной.
Она евежа, как вешний цвет.
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот.
Она стройна. Её движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
50
То лани быстрые стремленья.
Как пена, грудь её бела.
Вокруг высокого чела.
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блестят её глаза,
Её уста, как роза, рдеют.
Во второй части нашего курса мы ещё вернёмся к затронутым нами
в этом разделе вопросам, но уже сейчас мы должны указать на узкое содер¬
жание, вкладываемое в понятие образности. Оно сводит особенности лите¬
ратуры, во-первых, только к языковым явлениям (а мы знаем, что она
гораздо шире по своему содержанию), а во-вторых, оно сводит образность
к красочности, минуя остальные свойства отражения жизни литературой, её
обобщающее (т. е. идейное) значение и т.. д.
С этой точки зрения, как справедливо было указано ещё Потебнёй,
любое «яркое сновидение было бы художественным творчеством», что явно
неверно. Поэтому такое употребление понятия термина образность сле¬
дует считать неудачным и запутывающим, и мы в дальнейшем будем тща¬
тельно избегать применения этого термина непосредственно к языку. Чаше
говорят о том, что литература отражает действительность в образах, что
в литературном произведении мы найдём ряд образов. Так, например,
всякое действующее лицо будет уже образом, и мы будем говорить об
образе Евгения Онегина, образе Татьяны, образе Ленского и т д. С этой
точки зрения всякое явление, конкретно изображённое в произведении,
будет уже образом соответствующих ему явлений в самой действитель¬
ности, их обобщённо-индивидуализированным показом. В этом смысле мы
можем говорить и об образе природы, и об образе города, и об образе
вещи и т. п. Однако при таком понимании образа сущность литературного
творчества слишком упрощается, опять-таки в значительной мере сводится
к той же индивидуализации, т. е к чисто формальному признаку. Так,
образ вещи, например, уже совершенно не связан с проблемой характера,
о которой мы выше говорили. Может создаться впечатление, что изобра¬
жение этой вещи является для писателя самоцелью. Между тем в худо¬
жественном произведении изображение вещи, природы и т д не имеет
самодовлеющего значения. Они изображаются в связи с конкретной чело¬
веческой деятельностью Чаше всего они подчинены задаче изображения
определённого характера, который обнаруживает те или иные свойства
через отношение к вещам, к природе и т. п. (об этом смотри в разделе,
трактующем о лирике). Следовательно, мы имеем не два самостоятельных
образа — характер и вещь, а их соподчинение — характер дополнительно
обнаруживается через вещь. Поэтому понятие образа иногда употребляется
как тождествейное понятию характера. Образ с этой точки зрения тожде¬
ствен характеру.
Но произведение, как уже говорилось, не сводимо к характеру или
даже к группе характеров, в нём изображённых (об этом подробнее в
части II). Мы за характерами видим большее, т. е. обобщения писателя,
которые читатель осмысляет на основе взаимодействия всех элементов
произведения.
Поэтому было бы точнее говорить о том, что отличительным признаком
литературы является образность как более общее и широкое понятие.
Она характеризует весь круг тех особенностей отражения жизни, которые
отличают литературу. Но мы допускаем и дополняющее употребление по¬
нятия образа применительно к характеру (в смысле образа Онегина
и т. п.).
Следует отметить ещё ряд терминов, параллельных в той или иной
мере понятию характера: персонаж, действующее лицо, герой,
т и п. Следовало бы упорядочить и их употребхение. Действующее лицо и
персонаж — понятия, при помощи которых мы обозначаем изображённого в
произведении человека безотносительно к тому, в какой мере глубоко и
верно он изображён писателем, хотя бы он был обрисован крайне бегло
Характер — уже более определённое понятие: мы говорим о характере в
4*
51
том случае, если изображённый в произведении человек обрисован с до¬
статочной полнотой и определённостью, так, что мы за ним чувст¬
вуем определённую норму общественного поведения.
В жизненных отношениях не всякий человек имеет характер, точно
так же и не всякий персонаж — характер. В произведении может быть
десять персонажей, действующих лиц, и всего один или два характера.
В свою очередь, не всякий характер — тип. Тип — это уже типический в зна¬
чительной мере характер. Это уже высшая норма характера, большое худо¬
жественное обобщение. Наконец, герой зачастую трактуется как понятие,
однородное с персонажем, — при таком употреблении этого термина можно
сказать: герой этого произведения — старый растратчик и т. п. Правильнее
называть героем лишь такой характер, в который писателем вложено боль¬
шое положительное содержание, в котором он утверждает определённую
норму общественного поведения (например Рахметов или Кирсанов в ро¬
мане Чернышевского «Что делать?» или Пелагея и Павел Власовы в ро¬
мане Горького «Мать»), т. е. когда изображаемый им характер может
быть назван героем по заслугам. Следует, однако, иметь в виду, что в су¬
ществующей критической литературе все эти термины, не получив ещё
вполне устойчивого содержания, употребляются как параллельные один
другому; поэтому во избежание путаницы и недоразумений следует в каж¬
дом данном случае определять, какое конкретное содержание вкладывается
в эти термины данным автором.
Художественная литература и её место
в общественной жизни
Классики
марксизма
о значении
литературы
Данное нами определение образности характеризует литера¬
туру и с точки зрения её содержания (отражение действитель¬
ности через изображение человеческой жизни), и с точки зрения
её формы (индивидуализированность, обобщённость, вымысел,
красота). Но мы ещё не затрагивали вопроса о её функции, т. е.
о том значении, которое она имеет в общественной жизни, хотя
то, что сказано об эстетическом значении образа, уже опреде¬
ляет по существу и понимание её общественного значения.
Очевидно, что прежде всего литература имеет
для нас огромное познавательное значение,
она дополняет то знание жизни, которое дают
нам другие идеологии, показывая нам жизнен¬
ный процесс в его конкретных, непосредствен¬
ных формах. По художественному произведению мы можем со¬
ставить себе представление о самых различных областях жизни
и тем самым расширить свой жизненный кругозор.
Это познавательное значение художественной литературы
подчёркивает Денин в статье об Аверченко.
«...Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвест¬
ной, выходит нехудожественно...
Зато большая часть книжки посвящена темам, которые Ар¬
кадий Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, пере¬
чувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатле¬
ния и настроения представителя старой, помещичьей и фабри¬
кантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России».
В статье о Л. Толстом Ленин указывает: «Изучая художест-
52
венные произведения Льва Толстого, русский рабочий класс
узнает лучше своих врагов...»; то же — в замечании о Салтыкове-
Щедрине и Некрасове, которые «...учили русское общество раз¬
личать под приглаженной и напомаженной внешностью образо¬
ванности крепостника-помещика его хищные интересы...». В пи¬
сателе Ленин ценит прежде всего его правдивость, т. е. верное
отражение им объективной действительности. Именно это требо¬
вание предъявляет он к писателю. «И если перед нами дейст¬
вительно великий художник, — пишет Ленин о Л. Толстом, —
то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он
должен был отразить в своих произведениях». Именно наличие
правдивости (т. е. верности отражения жизни) является для
него основой положительной оценки писателя. «Превращение
совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и
предрассудками, обывателя и массовика в революционера имен¬
но под влиянием войны показано необычайно сильно, талантливо,
правдиво», — говорил Ленин о Барбюсе. О «правдивом восста¬
новлении всей тяжести, всех мук» акта родов говорит он по по¬
воду произведений Золя и Вересаева. Характеризуя в «Развитии
капитализма в России» состояние Урала, Ленин указывает, что
в произведениях Мамина-Сибиряка «рельефно выступает особый
быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой
и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добро¬
совестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того
среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так
характерен для капиталистического развития всех стран, не ис¬
ключая и России». Упоминая о сплаве, Ленин отсылает читателя
к описанию этого сплава в рассказе «Бойцы» Мамина-Сибиряка.
С тем же подходом к художественной литературе, как к прав¬
дивому отражению действительности, позволяющему в ней раз¬
бираться, встречаемся мы у товарища Сталина в его замечаниях
о болезни «революционного» сочинительства, отражённой в рас¬
сказе того времени (1924).
«В рассказе (имеется в виду рассказ И. Эренбурга. —
Р ед.), —пишет товарищ Сталин, — имеется большое преувели¬
чение, но что он верно схватывает болезнь — это несомненно»
(«Вопросы ленинизма», изд. XI, стр. 76). Требование верности
передачи писателем типичных характеров в типичных обстоя¬
тельствах выдвинул Ф. Энгельс в письме к М. Гаркнес*.
В письмах Маркса и Энгельса чрезвычайно чётко выступает
их основное требование: правдивость, верность отражения су¬
щественных сторон действительности, т. е. познавательное зна¬
чение литературы. Мы уже цитировали слова Энгельса, что из
«Человеческой комедии» Бальзака, в которой тот давал историю
французского общества периода 1816—1848 гг., он «узнал даже
1 Чрезвычайно богатый материал для раскрытия подхода классиков
марксизма к художественной литературе даёт переписка Маркса и Энгельса
с Лассалем по поводу его пьесы «Франц, фон Зикинген».
53
в смысле экономических деталей больше..., чем из книг всех про¬
фессиональных историков, экономистов, статистиков этого пе¬
риода, взятых вместе». Но это познавательное значение литера¬
туры не имеет, так сказать, отвлечённого значения — оно чрез¬
вычайно тесно связано с нашей общественной деятельностью.
Показывая жизнь через изображение характеров, давая их во
всей их жизненной полноте, литература помогает читателю
разобраться и в его собственном характере, и в характерах окру¬
жающих его людей, относящихся даже к другим социальным
группам, и т. д. Изучая человеческие характеры, литература
гем самым воздействует на них — без такого изучения она не
могла бы их изобразить. Она изображает характеры, в которых
утверждаются определённые, социально нужные и полезные
формы общественного и личного поведения человека; она может
давать и характеры, являющиеся носителями отрицательных
свойств. Она изображает определённые общественные ситуации,
в отношении к которым выявляются определённые общественно
ценные или вредные стороны человеческого характера. Эти ха¬
рактеры и обстоятельства даны нам в конкретных жизненных
формах, создающих перед читателем картину реальной жизни.
Изображённые писателем характеры остаются, в известном
смысле, жить с читателем, входят в его жизненный опыт. Пушкин
чрезвычайно удачно охарактеризовал эту силу воздействия худо¬
жественного произведения на людей, переживающих судьбу воз¬
можных характеров как судьбу характеров действительных, сло¬
вами: «Над вымыслом слезами обольюсь». Это воздействие
основано именно на том, что поскольку в созданных писателем
характерах показаны определённые общественные закономер¬
ности, постольку читатель находит их в себе и в окружающих его
людях и, постигая эти закономерности, получает возможность
осуществить их в своей деятельности.
Изображая характеры своих героев, писатель тем самым воз¬
действует на характеры своих читателей. Литература в этом
смысле глубоко нормативна.
Выше мы видели, что эта нормативность лите¬
ратуры основана на её эстетическом значении.
Она утверждает в своих образах должное, т. е.
общественно ценное, как прекрасное и в человеке, и в природе,
и отрицает недолжное, т. е. общественно вредное (так, как пони¬
мает сам писатель должное и недолжное), как безобразное и в
человеке, и в природе.
Прекрасное, как мы говорили, — это воплощённое идеальное,
это то, что отвечает общественным идеалам. Общественная роль
литературы (как и вообще искусства) в значительной мере и ос¬
нована на том, что она воплощает эти идеалы в конкретные
формы человеческого поведения, показывает их на практике,
придаёт им эстетическую значимость. Идеал революционера во¬
площён Чернышевским — как он его понимал — в романе «Что
Нормативность
литературы
54
делать?» в облике Рахметова, идеал русской женщины — Пуш¬
киным, как он его понимал, в облике Татьяны. В этом смысле
литература глубоко нормативна — она рисует перед читателем
нормы человеческого поведения, изображая их как прекрасные
(или, наоборот, разоблачая то, что противоречит этим нормам).
Щедрин в своё время очень хорошо охарактеризовал это актив¬
ное значение литературы. «Типы, созданные литературой, ...кла¬
дут известную печать... на общество... Под влиянием этих новых
типов современный человек незаметно для самого себя получает
новые привычки, ассимилируя себе новые взгляды, приобретает
новую складку, одним словом, постепенно вырабатывает из себя
нового человека».
Литературные образы, как и образы искусства вообще, яв¬
ляются, как заметил Горький, и образцами поведения для чита¬
теля (в положительном или отрицательном смысле), «Всякое ис¬
кусство, — говорил он, — сознательно и бессознательно ставит
себе целью возбудить в человеке те или иные чувства, воспитать
в нём то или иное отношение к данному явлению жизни».
Воспитательное значение литературы поддерживается её
эстетической значимостью и без неё немыслимо.
Это действенное значение художественной литературы на¬
стойчиво подчёркивал В. И. Ленин. «Своим талантом художника
Вы принесли рабочему движению России — да и не одной Рос¬
сии— такую громадную пользу...», — писал он Горькому 16 но¬
ября 1909 г. (Соч., т. XIV, стр. 189).
Известна та оценка романа «Мать», которую давал, по вос¬
поминаниям Горького, Ленин, подчёркивая, что она поможет
ускорить вовлечение в рабочее движение многих отсталых
рабочих.
Горький в своих воспоминаниях о Ленине так рассказывает
о своей беседе с Владимиром Ильичом по поводу романа «Мать»:
«...Этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукою
сократовский лоб, дёргая другою мою руку, ласково поблёскивая удиви¬
тельно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги
«Мать»...
Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить,
почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил
это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участво¬
вало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они про¬
читают «Мать» с большой пользой для себя.
«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне
ценный для меня его комплимент».
Не воздействуя на действительность непосредственно, лите¬
ратура воздействует на сознание людей, а через это сознание —
и на самоё действительность. Таким образом, познавательная
сущность литературы практически осуществляется путём воз¬
действия на сознание людей, т. е. путём их воспитания.
Общественное значение литературы — значение познава¬
тельно-воспитательное. Известные слова товарища
55
Сталина о том, что «писатели — инженеры человеческих душ»
(приведённые в речи т. Жданова на съезде писателей), с пре¬
дельной ясностью раскрывают общественное значение литературы.
Поэтому-то литература и является такой большой общест¬
венной силой; очевидна её общественная действенность,
её значение в классовой борьбе и особенно в наших условиях —
в условиях построения коммунистического
общества. Социалистическое строительство, показ его героев,
разоблачение пережитков капитализма в сознании людей, воз¬
действие на развитие новой (социалистической) культуры, воз¬
действие на сознание растущего нового (социалистического) че¬
ловека являются непосредственными и ответственными задачами
советской литературы, литературы, осуществляющей коммунисти¬
ческое воспитание человека. Известны указания классиков мар¬
ксизма на то, что лишь при социализме человеческая личность
получает условия для полновесного и полноценного раскрытия
всех заложенных в ней возможностей. Только при социализме
может, наконец, развиться гармонический и разносторонний че¬
ловеческий характер. Перед советской литературой откры¬
ваются перспективы создания таких богатых и полноценных ха¬
рактеров, которых не знала ещё литература прошлого, перспек¬
тивы максимального художественного расцвета, максимального
общественного значения и воздействия, позволяющие ей стать
подлинно народной литературой.
Общественное значение литературы особенно ярко проявилось
в дни Великой Отечественной войны.
Товарищ Сталин в 1935 г. писал в своём приветствии всадникам
Туркмении, совершившим беспримерный в истории кавалерии пробег:
«Только ясность цели, настойчизосгь в деле достижения цели и твёр¬
дость характера, ломающая всё и всякие препятствия, могли обеспе¬
чить такую славную победу.
Партия коммунистов может поздравить себя, так как именно
эти качества культивирует она среди трудящихся всех нацио¬
нальностей нашей необъятной родины».
Именно эти черты характера, воспитанные партией, вобрав¬
шие в себя то лучшее, что выработалось в национальном харак¬
тере русского народа в его многовековой борьбе за свою неза¬
висимость и свободу, — стремились воспитывать советские писа¬
тели в человеке («Мать» М. Горького, лирика и поэмы В. Мая¬
ковского, романы М. Шолохова, «Как закалялась сталь» Н. Ост¬
ровского, «Чапаев» Д. Фурманова и др.).
Советская литература до войны не уделяла большого внима¬
ния военной теме. Но её пафос благородной человеческой лич¬
ности, воспетой Горьким и Маяковским, Шолоховым и Остров¬
ским, её темы труда и свободы ещё задолго до вероломного напа¬
дения немецко-фашистских захватчиков на нашу страну разоб¬
лачали их звериную сущность, противопоставляли фашизму вы¬
сокую человечность социалистического общества. Художествен¬
56
но воссоздавая прошлое нашей родины («Пётр I» А. Толстого
и ряд других исторических романов), писатели в ещё большей
мере усиливали патриотизм советского человека, воспитывали в
нём чувство национальной гордости. Творчество лучших наших
писателей имело огромное значение в деле воспитания характера
советского человека, показавшего в дни войны исключительные
образцы патриотизма, мужества, стойкости. Исключительно вы¬
сокая оценка роли советской литературы в дни войны была дана
товарищем Ждановым, сказавшим, что «именно потому, что Со¬
ветское государство и наша партия с помощью советской лите¬
ратуры воспитали нашу молодёжь в духе бодрости, уверенности
в своих силах, именно потому мы преодолели величайшие труд¬
ности в строительстве и добились победы над немцами и япон¬
цами».
Значение литературы прошлого
Может, однако, возникнуть мысль, что это общественное зна¬
чение имеет только литература современная, которая говорит с
читателем, так сказать, на его языке, т. е. ставит вопросы, его
интересующие, борется за идеалы, ему непосредственно близкие.
А литература, созданная писателями прошлого, естественно, не
имеет связи с читателями современности: вопросы, их волновав¬
шие, чужды нам, идеалы, за которые боролись писатели прош¬
лого, устарели, не могут нас затронуть, наконец, сами эти писа¬
тели, связанные каждый со своим классом и его идеологией, да¬
леки от нас, а зачастую и враждебны нам по своим взглядам.
Следовательно, представление об эстетическом и воспитатель¬
ном значении литературы справедливо лишь в применении к ли¬
тературе сегодняшнего дня — в широком, конечно, смысле этого
слова; как только литература отходит в прошлое, она должна
потерять это значение.
Этот вопрос в своё время занимал ещё Пушкина. Однако он
дал на него ответ совершенно иной. «Век может идти себе впе¬
рёд, — писал он, — науки, философия и гражданственность мо¬
гут усовершенствоваться и изменяться, — но поэзия (художест¬
венная литература. — Л. Т.) остаётся на одном месте. Цель её
одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, открытия
великих представителей старинной астрономии, физики, меди¬
цины и философии состарились и каждый день заменяются но¬
выми — произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно
юны».
И в самом деле, наш непосредственный читательский опыт
говорит нам, что произведения, созданные даже в далёком прош¬
лом, живы и для нас, связаны с нашими интересами, хотя, по¬
скольку умерло то общество, в котором они возникли, казалось
бы, должны были бы умереть и они.
«...Возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? — говорил
по этому поводу Маркс. — Или вообще Илиада наряду с печат¬
57
Познавательное
значение
литературы
прошлого
ным станком и типографской машиной? И разве не исчезают
неизбежно сказания, песни и музы, а тем самым и необходимые
предпосылки эпической поэзии, с появлением печатного станка?
Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что
греческое искусство и эпос связаны известными формами обще¬
ственного развития. Трудность состоит в понимании того, что они
ещё продолжают доставлять нам художественное наслаждение
и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягае¬
мого образца».
Можно было бы указать на то, что литература
прошлого имеет для нас безусловное позна¬
вательное значение. В ярких, конкретных фор¬
мах, в непосредственных характерах и жиз¬
ненных событиях она показывает нам жизнь
'прошлого и помогает определить своё отношение к нему. Выше
приводившиеся слова Энгельса о Бальзаке в этом отношении
глубоко поучительны. Но литература прошлого ценна для нас не
только этим общепознавательным своим значением. Лучшие про¬
изведения литературы прошлого важны для. нас не только тем,
что мы находим в них богатые и в. меру возможностей данного
писателя верные картины из жизни прошлого, а также своеоб¬
разные документы взглядов самого писателя.
Легко заметить, что лучшие произведения литературы прош¬
лого интересуют нас не только как документы эпохи, т. е. не
только чисто исторически, но и непосредственно-практически;
судьба и переживания героев вызывают в нас непосредственное
жизненное к ним отношение и волнение, зачастую большее, чем
при чтении некоторых произведений современной литературы.
Легко убедиться в том, что эти произведения не вышли и сейчас
из нашего обихода; ярким примером в этом отношении может
служить творчество Пушкина. Если обратиться к классикам
марксизма, то бросается в глаза многочисленность случаев ис¬
пользования ими самых разнообразных произведений прошлого
и осмысления их в связи с современностью. По подсчётам А. Г.
Цейтлина, в произведениях Ленина имеется 925 цитат из раз¬
личных литературных произведений, почти целиком принадле¬
жащих писателям прошлого. Эти цитаты, как правило, связаны
с современной обстановкой, как бы включены Лениным в теку¬
щую жизнь. Меньшевиков, например, Ленин сравнивал с Нозд-
рёвым, либералов — с Маниловым, черносотенцев — с Собаке-
вичем.
В заключительном слове по политическому отчёту ЦК на
XVI партсъезде товарищ Сталин последовательно провёл срав¬
нение бывших лидеров правой оппозиции с чеховским «Челове¬
ком в футляре» — Беликовым.
Литература прошлого продолжает играть в нашей жизни
большое значение, и не только познавательное, но и эстетиче¬
ское, воспитательное, поскольку она волнует нас, т. е. вызывает
58
в нас суждение оценки. Товарищ Жданов так определил значе¬
ние культуры прошлого для нас: «Мы, большевики, не отказы¬
ваемся от культурного наследства. Наоборот, мы критически
осваиваем культурное наследство всех народов, всех эпох, для
того, чтобы отобрать из него всё то, что может вдохновлять
трудящихся советского общества на великие дела в труде,
науке и культуре» (из выступления на совещании деятелей со¬
ветской музыки в ЦК ВКП(б)). Достаточно вспомнить то вни¬
мание, которое привлекали к себе классики нашей литературы в
дни Великой Отечественной войны, чтобы убедиться в этом зна¬
чении произведений искусства, созданных в прошлом писателями,
далёкими от нас по своей идеологии.
Чтобы объяснить это воздействие на нас литературы прош¬
лого, нам необходимо выяснить вопрос о том, в каком отноше¬
нии находятся между собой мировоззрение и творчество писа¬
теля.
Мировоззрение и творчество писателя
Роль
мировоззрения
в творчестве
Выше мы уже говорили, что всякое литера¬
турное произведение в основе своей является
отражением жизни, данным с точки зрения
писателя. Оно прежде всего выражает чувства и мысли писателя,
является событием его внутренней жизни; только в том случае,
если писатель выразил в своём произведении то, что его волно¬
вало, оно будет задевать и чувства читателя, волновать его.
В этом смысле всякое произведение является выражением ми¬
ровоззрения писателя, который высказывает в нём своё отноше¬
ние к миру, даёт ему свою оценку, выносит, как говорил Черны¬
шевский, свой приговор над жизнью. Гёте справедливо говорил,
что в творчестве писателя «нет ни одной чёрточки, которая не
была бы пережита».
Мировоззрение художника прежде всего ска¬
зывается в выборе того, о чём он говорит в
своём произведении. «Живопись состоит в
том, — говорил Альбрехт Дюрер, — чтобы
каждый из всех видимых вещей выбрал одну, какую захочет, и
сумел воспроизвести её так, как захочет».
«Искусство — это не действительность, — писал Флобер, —
необходимо производить выбор из предоставляемых ею элемен¬
тов..., необходимо тщательно выбирать».
Из всего многообразия окружающих его жизненных явлений
и всего многообразия свойств каждого из них художник выби¬
рает лишь некоторые. «Проследите иной, даже и вовсе не такой
яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если
только вы в силах и имеете глаз, то найдёте в нём глубину, ка¬
кой нет у Шекспира... Никогда нам не исчерпать всего явления,
не добраться до конца и начала его», — говорил Достоевский.
«Писать, рисовать, ваять — это значит уметь выбирать»,—спра-
Выбор
творческого
материала
59
ведливо замечал французский исследователь искусства Гюйо
(1854—1888).
Этот выбор определяется тем, что писатель считает данные
явления более интересными, более важными, чем другие, дан¬
ные их свойства более существенными. «Прежде, чем написать
о чём бы то ни было, надо полюбить это», — писал Флобер.
Таким образом, творческий процесс начинается с выбора
тех явлений, которые писатель выделяет из ряда остальных жиз¬
ненных явлений. Этот выбор есть результат оценки им этих
фактов, выражает его отношение к ним. А эта оценка является
выражением идеологии писателя, его классовых взглядов, его
политических партийных позиций.
Следовательно, начальный творческий момент
свяви’я^лений неразрывно связан с мировоззрением писа¬
теля: это выбор явлений, о которых он гово¬
рит. Но явления находятся друг с другом в очень сложной связи,
в самых разнообразных переплетениях, из которых писатель
опять-таки должен сделать выбор. В зависимости от того, в ка¬
кой связи мы изображаем явление, оно приобретает каждый раз
особый характер, так как, вступая в связи с различными явле¬
ниями, оно обнаруживает особые свойства. Говоря о том, что
даже простейшее явление нельзя понять, не зная, в какой связи
оно находится с другими, Ленин в качестве примера привёл
стакан: «Стакан есть тяжёлый предмет, который может быть ин¬
струментом для бросания. Стакан может служить как пресс-
папье, как помещение для пойманной бабочки, стакан может
иметь ценность как предмет с художественной резьбой или ри¬
сунком, совершенно независимо от того, годен ли он для питья».
Выделяя различные связи, в которых явление находится с
другими явлениями, мы тем самым дадим и различную харак¬
теристику и самого этого явления. Художник и выделяет те
связи, которые он считает наиболее важными и характерными.
«Рассказать всё, — писал Мопассан,— было бы невозможно, по¬
тому что тогда потребовалось бы не менее тома на каждый день
для перечисления множества незначительных эпизодов, запол¬
няющих наше существование. Таким образом, отбор делается
неизбежным».
Как выбор явлений, так и изображение тех связей, в ко¬
торые они вступают с другими явлениями, зависят, следова¬
тельно, от той же оценки их художником, т. е. опять-таки опре¬
деляются его мировоззрением.
Наконец, выбрав явления в определённой их
связи, художник не может не высказать к ним
своего отношения, не дать им своей оценки. Мы всегда чув¬
ствуем, как он относится к своим героям, как оценивает то, о чём
он нам рассказывает.
Художник выбирает для изображения ту или иную сторону
жизни и связанные с ней человеческие характеры. Он застав¬
60
Неразрывная
связь
творчества и
мировоззрения
Объективность
художественного
отражения
жизни
ляет их действовать так, чтобы в них выступили черты, представ¬
ляющиеся ему наиболее существенными и важными, в его языке
рассеяны всякого рода определения и характеристики людей и
событий, подсказывающие нам отношение к ним. Короче, всё
произведение пронизано авторскими оценками изображённого
в нём жизненного материала. Выше мы говорили о том, как че¬
тыре художника не могли нарисовать одно и то же дерево
сколько-нибудь одинаково: каждый из них рисовал его по-
своему, потому что и в дереве столько различных особенностей,
что каждый производил отбор их, по-своему оценивал их, раз¬
личным образом, следовательно, улавливал их связи друг с дру¬
гом. Различие вкусов (вытекавшее из их взглядов на природу)
обусловило и различие изображения одного и того же дерева.
Таким образом, выбор явлений, изо¬
бражение связи их друг с другом
и оценка их — всё это представляет собой
непосредственное осуществление в творчестве
мировоззрения художника. С этой точки
зрения нет ни одного элемента в произведении, в котором мы
не могли бы установить связи с мировоззрением художника.
Но есть ещё одна сторона в произведении, о которой мы ещё
не говорили, — это сами явления жизни, которые художник от¬
бирает, связывает и оценивает в зависимости от своего мировоз¬
зрения. Они-то не зависят от него, изменить тот факт, что они в
жизни существуют, он не может, как бы он к ним ни относился.
«Познание человека, — говорил Ленин, — отражает объектив¬
ную истину, независящую от человека». Как бы ни относился
художник к тем или иным сторонам жизни, он не может пройти
мимо них, если они играют в ней большую роль. Это общий
закон человеческого сознания. Ленин говорил, что нельзя верить
буржуазным философам и экономистам «ни в едином слове»,
когда они делают общие выводы из своих материалов, т. е. дают
им оценку, но в то же время без их работ нельзя и обойтись,
нельзя сделать «ни шагу», поскольку в них собраны весьма цен¬
ные факты, которым следует лишь дать иную оценку, сделать из
них иные выводы. Отмечая, как Маркс использовал то, что было
до него создано человеческой мыслью, Ленин указывал, что
Маркс «сделал те выводы, которых ограниченные буржуазными
рамками или связанные буржуазными предрассудками люди
сделать не могли».
Тем более насыщены реальными жизненными
фактами художественные произведения. Это
потому, что художник стремится в них пока¬
зать человека во всей сложности его жизненной
обстановки и, следовательно, в особенности
стремится насытить своё произведение всякого рода конкрет¬
ными деталями и подробностями, сохраняющими своё значение,
как бы сам художник к ним ни относился.
61
Следовательно, мы можем в литературном произведении
найти весьма большое количество материала для размышлений
о той стороне жизни, которую рисует художник, причём, по¬
скольку он даёт нам факты, характеризующие эту жизнь, мы
вправе прийти к иным выводам, сравнительно с теми, к которым
пришёл он сам. Оценка художника не исключает возможности
нашей оценки, которая может далеко разойтись с его оценкой.
Вот почему мы можем найти у художников целый ряд заме¬
чаний, в которых они настаивают на том, что в их произведениях
выступает сама жизнь.
«Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни —
есть высочайшее счастье для литератора, — говорил Тургенев, —
даже если эта истина не совпадает с его собственными взгля¬
дами».
Очень подробно и ясно разъяснял эту существеннейшую осо¬
бенность художественного творчества Горький: «Художествен¬
ный образ, — писал он, — почти всегда шире идеи (писателя. —
Л. Т.), он берёт человека со всем разнообразием его духовной
жизни, со всеми противоречиями его чувствований и мыслей.
Художественное творчество относится к действительности чест¬
нее, и только там, где оно идёт на привязи публицистики, оно
теряет свой честный объективизм..., становится более или менее
тенденциозным». Происходит это, по словам Горького, потому,
что «работа литератора отличается не только силою непосред¬
ственного наблюдения и опыта, но ещё и тем, что живой мате¬
риал, над которым он работает, обладает способностью сопро¬
тивления произволу классовых симпатий и антипатий литера¬
тора. Именно этой силой сопротивления живого материала лич¬
ному произволу художника можно объяснить такие факты, что
в среде буржуазного общества всё чаще литераторы являются
беспристрастными историками быта своего класса, беспощадно
изображают его пороки».
Эта мысль Горького тесно связана с идеями революционно-
демократической критики. Белинский писал, что иногда писа¬
тель, ограниченный своим мировоззрением, создаёт выдающиеся
художественные произведения потому, что при его работе «внут¬
ренняя логика, разумность глубокого поэтического созерцания
сама собой торжествовала над неправильностью рефлексий
поэта». Добролюбов развивал эту же мысль: «В ...образах поэт
может даже неприметно для самого себя уловить и выразить их
внутренний смысл гораздо прежде, нежели определить его рас¬
судком. Тогда художник может и вовсе не дойти до смысла того,
что он сам же изображает; но критика и существует затем, чтобы
разъяснить смысл, скрытый в созданиях художника, и, разбирая
представленные поэтом изображения, она вовсе не уполномо¬
чена привязываться к теоретическим его воззрениям. В первой
части «Мёртвых душ» есть места по духу своему близко подхо¬
дящие к переписке, но «Мёртвые души» от этого не теряли
62
своего общего смысла, столь противоположного теоретическим
воззрениям Гоголя».
Образ и идея Положение, что «образ почти всегда шире
писателя идеи» особенно легко иллюстрировать ссылкой
на работу воображения художника. Мы видели, что писатель
основывает свой вымысел не на своём произволе, а на том, что
должны делать его герои в самой жизни.
Вот почему, в прошлом, произведение, со всей силой выра¬
жая мировоззрение писателя, в то же время несёг в себе и ма¬
териал, который может расходиться с этим мировоззрением и
даже опровергать его. «Роман, — говорил Горький, — являясь
могучим и в высшей степени убедительным средством пропа¬
ганды классовых тенденций, в то же время заставляет писателя,
вопреки его намерениям, отмечать попутно тенденции и факты,
чуждые и враждебные тем, кои проповедует он сом как идейный
представитель той или иной общественной группы».
Энгельс писал о том, что произведение может иметь большое
значение, «даже не взирая на взгляды автора», и приводил в
качестве примера Бальзака. «Бальзак, — писал он, — политически
был легитимистом. Его великое произведение — непрестанная
элегия по поводу непоправимого развала высшего общества; его
симпатии на стороне класса, осуждённого на вымирание. Но при
всём этом его сатира никогда не была более острой, его ирония
более горькой, чем тогда, когда он заставляет действовать ари¬
стократов, мужчин и женщин, которым он глубоко симпатизи¬
рует. Единственные люди, о которых он говорит с нескрываемым
восхищением, это его наиболее ярые противники — республикан¬
ские герои... То, что Бальзак был принуждён идти против своих
собственных классовых симпатий и политических предрассудков,
то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных
аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих
лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего
там, где в это время их только можно было найти, это я считаю
одной из величайших побед реализма, одной из величайших
особенностей старика Бальзака».
Как видим, здесь Энгельс с предельной отчётливостью под¬
черкнул, что произведение даёт нам реальное изображение жиз¬
ненного процесса, даже если оно не отвечает тем требованиям,
которые предъявляет ему писатель.
Таким образом, творчество писателя шире его мировоззрения,
хотя мировоззрение и леж-ит в основе творчества. Поэтому то
жизненный материал, изображённый писателями прошлого, да¬
лёкими от нас по своему мировоззрению в том случае, если они
обладали широким опытом, знанием жизни и были в достаточ¬
ной мере правдивы в его отражении, сохраняет для нас своё зна¬
чение. Это происходит потому, что мы можем по-своему истол¬
ковать его, придать ему новое освещение, исходя уже из своего
мировоззрения. А можем мы это сделать потому, что факты в
63
изображении писателя сохраняют свои свойства даже в том
случае, если писатель истолковывает их неправильно. Поясним
это любопытным примером, приводимым К. Чуковским в его
воспоминаниях о Репине: «Был у Репина сосед, инженер, и была
у этого инженера жена, особа замечательно пошлая. Она... ока¬
зывала Репину... много добрососедских услуг, так что Репин чув¬
ствовал себя чрезвычайно обязанным ей и решил из благодар¬
ности написать её акварельный портрет. И вот она сидит в его
стеклянной пристройке, он пишет её и при этом несколько раз
повторяет, какие у него к ней горячие чувства и какая она сер¬
дечная, добрая, а на картине между тем получается мелкая,
самодовольная хищница, тускло хитроватая мешанка. Я указал
ему на это обстоятельство, и он страшно на’ меня рассердился,
повторяя, что это «ангельски добрая, прекрасная личность» и
что я вношу в его портрет свою собственную ненависть к ней.
Но, когда «ангельски добрая личность» сама увидела портрет,
она обиделась чуть не до слёз». В самом деле, как бы Репин
ни относился к этой женщине, он не мог нарисовать её с другими
глазами, носом, ртом, и, следовательно, присущие ей свойства
не могли не выступить на портрете, давая возможность другим
уловить те черты её характера, которые не замечал Репин.
В своё время выдающийся публицист Писарев очень ярко,
хотя и с некоторыми преувеличениями выразил эту мысль:
«Приступая к разбору нового романа Достоевского, — писал он, — я
заранее объявляю читателям, что мне нет никакого дела ни до личных
убеждений автора, которые, быть может, идут вразрез с моими собствен¬
ными убеждениями, ни до общего направления его деятельности, которому
я, быть может, нисколько не сочувствую, ни даже до тех мыслей, которые
автор старался, быть может, провести в своём произведении и которые мо¬
гут казаться мне совершенно несостоятельными... Я обращаю внимание
только на те явления общественной жизни, которые изображены в его
романе; если эти явления подмечены верно, если сырые факты, составляю¬
щие основную ткань романа, совершенно правдоподобны, если в романе нет
ни клеветы на жизнь, ни фальшивой и приторной прикрашенности, ни
внутренних несообразностей, одним словом, если в романе действуют и
страдают, борются и ошибаются, любят и ненавидят живые люди, носящие
на себе печать существующих общественных условий, то я отношусь к ро¬
ману так, как я отнёсся бы к достоверному изложению действительно слу¬
чившихся событий. Я всматриваюсь и вдумываюсь в эти события, стараюсь
понять, каким образом они вытекают одно из другого, стараюсь объяснить
себе, насколько они находятся в зависимости от общих условий жизни, и
при этом оставляю совершенно в стороне личный взгляд рассказчика, ко¬
торый может передать факты очень веско и обстоятельно, а объяснить их в
высшей степени неудовлетворительно».
Понятно, однако, что, оставляя в стороне взгляды писателя
при толковании созданных им образов, мы совершили бы ошибку.
Не представляя себе его мировоззрения, мы не сможем понять,
почему именно данными явлениями жизни он заинтересо¬
вался, почему именно такое освещение им дал, почему показал
их именно в такой связи. Всё это мы поймём, лишь определив
64
мировоззрение писателя. Если неверно говорить о мировоззре¬
нии писателя, анализируя его произведение, не ставя вопроса о
том смысле, который мы сами можем вложить в него, то не¬
верно и другое: говорить о том смысле, который мы уловили в
нём, не затронув мировоззрения писателя, не показав, как оно
сказалось на его подходе к жизни.
Образцом анализа, полностью учитывающего особенности ми¬
ровоззрения автора и в то же время дающего его материалу глу¬
бокое объективное истолкование, являются статьи Ленина о твор¬
честве Л. Толстого. Ленин показал, что творчество Л. Толстого
отразило с огромной силой историческую обстановку его времени
и что понять взгляды Толстого можно, лишь зная эту обстановку,
но что в то же время правильно оценить это творчество можно
«только с точки зрения социал-демократического пролетариата».
Говоря о том, что образ шире идеи писателя и что мы нахо¬
дим в произведениях писателей, далёких от нас по мировоззре¬
нию, ценный для нас материал, мы в то же время не должны
забывать, что ошибки мировоззрения, естественно, сказываются
на художественности произведения и, наоборот, чем мировоз¬
зрение правильнее отражает жизнь, тем в большей степени оно
помогает достижению этой художественности (разумеется, при
прочих необходимых условиях — знании жизни, силе воображе¬
ния, культуре слова и т. д ).
В самом деле, сказываясь на выборе фактов жизни, на трак¬
товке связи их меж собой и на оценке их, мировоззрение ставит
художника то в более, то в менее выгодную творческую пози¬
цию по отношению к жизни, которую он отражает. Если он даже
вопреки своему мировоззрению (т. е. его ошибочности) сумел
добиться верного художественного изображения жизни, то он
добился бы ешё большего, благодаря ему (т. е. правиль¬
ности его), вернее бы выделил факты, точнее бы их оценил.
Добролюбов писал: «Художник, руководимый правильными
началами в своих общих понятиях, имеет всё-таки ту выгоду пе¬
ред неразвитым или ложно развитым писателем, что может сво¬
боднее предаваться внушениям своей художественной натуры...
Когда его общие понятия ложны, то ...произведение ...выходит
слабым. Когда общие понятия художника правильны..., действи¬
тельность отражается в произведении ярче и живее».
Вот почему от советских писателей мы требуем работы над
выработкой правильного научного мировоззрения, овладения
теорией марксизма-ленинизма—единственно правильной науч¬
ной теорией о развитии природы и общества.
Известно то огромное значение, которое имели для развития
культуры великие русские революционеры-демократы — Белин¬
ский, Чернышевский, Добролюбов, Щедрин, Плеханов Оно объ¬
ясняется именно тем, что в основе их деятельности лежало пере¬
довое мировоззрение, что они были представителями боевого
искусства, ведущего борьбу за лучшие идеалы народа.
Ь Тимофеев
65
Писатели прошлого были самой исторической обстановкой
поставлены в условия, когда они не могли ещё выработать такого
мировоззрения. Ленин говорил, что Чернышевский «не мог, в
силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического
материализма Маркса и Энгельса», поэтому известные ошибки
были для него неизбежны, это была не вина его, а беда. Совет¬
ский писатель живёт в эпоху, когда эта отсталость преодолена.
Его ошибки будут уже не бедой его, а виной.
Наше время даёт писателю все условия для того, чтобы он
обладал передовым большевистским мировоззрением, чтобы его
творчество было партийно. Советская литература — самая идей¬
ная, самая передовая литература мира. Советские писатели вы¬
ступают как учители самых широких народных масс и у нас, и за
рубежом. Исключительно высока политическая ответственность
писателя. Его успех основан на его передовом мировоззрении.
Таким образом, мы можем дать теперь объяснение тому, что
произведения писателей прошлого могут иметь для нас познава¬
тельное значение даже за пределами своего времени. Богатство
жизненного материала, охваченного писателем, позволяет каж¬
дому позднейшему поколению по-своему подойти к нему, по-
своему истолковать его, связать со своим пониманием жизни.
Вот почему каждая эпоха даёт своё понимание великих писате¬
лей прошлого, изучив собранный ими жизненный материал в
свете своего понимания жизни, сделав свои выводы из фактов,
показанных писателем во всём богатстве их жизненного прояв¬
ления.
Воспитательная роль литературы прошлого
Эстетическое
значение образов
прошлого
Но, как выше мы уже говорили, мы восприни¬
маем литературу прошлого не только в позна¬
вательном плане. Она производит на нас и
эстетическое впечатление. Герои литературы
прошлого увлекают нас, в их поведении мы находим зачастую и
воплощение своих идеалов, и это вызывает в нас то чувство пре¬
красного, которое доставляет идеал, воплощённый в искусстве
как конкретное жизненное явление. Или, наоборот, изображён¬
ные писателями отрицательные явления жизни вызывают в нас
чувство протеста, помогают противопоставить то, что мы считаем
прекрасным, к чему мы стремимся сейчас, в нашей современно¬
сти. Достаточно назвать Прометея, Гамлета, Дон Кихота, Фауста,
чтобы убедиться в силе эстетического воздействия на нас этих
образов, созданных тысячи и сотни лет назад.
„ я Уже давно установилось понятие «вечных об-
ечные о разы разов». Это и есть образы, подобные только что
названным, которые сохранили своё эстетическое значение до на¬
шего времени, будучи созданы в далёком прошлом.
Энгельс дал очень точное определение их. Говоря об образах
Фауста и «Вечного жида», он писал: «Они неисчерпаемы: каж¬
66
Патриотизм
русской
литературы
прошлого и его
значение для
современности
дая эпоха может, не изменяя их существа, усвоить их себе». Та¬
кова же мысль Чернышевского, считавшего, что в ярком, инте¬
ресном, оригинальном человеке сильны «общечеловеческие ка¬
чества, выразившиеся в твёрдых чертах его характера; и потому
такая личность получает всеобщее значение, делается представи¬
телем человека вообще».
Такой общечеловеческий образ, который
каждая эпоха может усвоить себе, не изменяя
его существа, мы и называем «вечным образо м».
Бальзак писал о таких образах: «Хотя они и зачаты в утробе
определённого века, но под их оболочкой бьётся всё человеческое
сердце».
На чём же основана эта возможность эстетического усвоения
образов, созданных в прошлом?
Рассмотрим какой-либо пример такой эстетиче¬
ской действенности произведения, относяще- _
гося к далёкому прошлому. Перед нами —
«Слово о полку Игореве». Мы читаем «золотое
слово» Святослава, полное горячей любви
к родине, к Русской земле, призывающее всех,
кто любит её, подняться на защиту её от врагов: «Загородите
полю, ворота своими острыми стрелами за землю Рускую, за
раны Игоревы, буего Святъславлича».
В ком из советских читателей не находят эти слова, высказан¬
ные почти восемьсот лет назад, горячего отклика? Кому они по¬
кажутся лишь историческим документом, имеющим познаватель¬
ное значение для характеристики Руси XII века?
Очевидно, что в каждом из нас эти слова встретят горячий от¬
клик, каждый из нас почувствует, что в них звучит выражение и
его патриотических чувств, найдёт в них общее, роднящее их с
современностью. Это произойдёт потому, что чувство любви к ро¬
дине выработалось у русского человека в процессе многовековой
исторической борьбы русского народа за свободу и независи¬
мость. «Патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, закреп¬
лённых веками и тысячелетиями обособленных отечеств», —
писал Ленин. Он ценил Чернышевского в частности за то, что
видел у него «настоящую любовь к родине».
Ребёнок знает лишь свой угол, своих близких. Постепенно он
узнаёт свой дом, свою улицу, свой город. И чем зрелее становится
человек, тем больше расширяется его семья, его земля. Он чувст¬
вует близость людей, борющихся за одно с ним дело в отдалён¬
ных краях его страны, своих товарищей по классу, по партии, по
крови и языку, по исторической судьбе. Он ощущает родство с
теми, кто задолго до него строили города в его стране, создавали
её песни, обороняли её от врагов. В нём возникает чувство гор¬
дости их делами и подвигами. Ему близок и безвестный воин,
павший на поле Куликовом, и пахарь, впервые подымавший це¬
лину заволжских степей. Так возникает чувство любви к родине,
5*
67
складывается идеал человека-патриота, беззаветно любящего
свою страну, готового на любой подвиг во имя её.
О, светло-светлая
И красою украшенная земля Русская!
Красотами многими прославлена ты:
Прославлена многими озёрами ты.
Реками и колодцами, по местам чтимыми,
Крутыми горами, холмами высокими,
Дубравами частыми, полями дивными,
Зверями различными, птицами бесчисленными,
Сёлами дивными, городами великими...
Почти восемь столетий отделяют нас от того времени, когда
были сложены эти строки, славящие Русскую землю. Между
нами и творцом этих строк по быту, взглядам, обычаям лежит
огромное историческое пространство. Но то чувство любви к ро¬
дине, которое им так полно выражено, то очарование русской
природы, которое им передано, волнуют нас и сейчас, потому что
и тот идеал, который сложился у людей того времени, не только
не противоречит нашему, но, наоборот, помогает нам яснее
осознать своё собственное отношение к жизни, оказывается близ¬
ким и нам, вызывая в нас живой отклик, будит и наше эстетиче¬
ское чувство. Когда мы читаем в повести о Евпатии Коловрате
(XIII в.) слова, которыми приближённые Батыя характеризуют
русских воинов: «Таких удальцов и резвепов мы не видали, и отцы
наши не возвестили нам о них. Это люди крылатые, им не ведома
смерть, так крепко и мужественно они борются: один с тысячью
и два с тьмою», то облик русского воина, патриота XIII в., опять-
таки перекликается с нашим-и представлениями о том, каким
должен быть защитник нашей родины, и тем самым он сохра¬
няет своё значение и для нас.
Эти примеры говорят о том, что при всём раз¬
личии людей одного исторического периода от
людей другого у них может возникать нечто
общее в их эстетических представлениях, в том
представления затрагивают общие, сходные
вопросы их жизни.
Историческое вовсе не отделено от других времён непроходи¬
мой гранью. В общественной жизни, мы имеем очень много таких
явлений, которые представляют собой общие явления, встре¬
чаются в различные периоды, осуществляются в разных истори¬
ческих условиях и в силу этого получают самые разнообразные
формы, но тем не менее однородны, близки к таким же явлениям
других периодов Они представляют собой как бы единство
исторического и общего. Возьмём, например, отноше¬
ние человека к природе: оно в каждом данном случае целиком
исторично, определено во всех своих особенностях данными исто¬
рическими условиями, но в то же время оно представляет собой
общую форму человеческой деятельности. Точно такое же
единство общего и-исторического представляют собой многие
Обще¬
человеческое
в искусстве
случае, если эти
68
формы человеческого сознания. В «Коммунистическом Мани¬
фесте» Маркс и Энгельс указывали на то, что «...общественное
сознание всех веков, несмотря на всё разнообразие и все разли¬
чия, движется в определённых общих формах, в таких формах, —
формах сознания, — которые вполне исчезнут лишь с-окончатель¬
ным исчезновением противоположности классов».
Отсюда, изображая определённый характер, писатель, если он
сумел глубоко в него вдуматься и ярко показать его исторические
свойства, в то же время раскрывает в этих исторических свойст¬
вах и общее людям других исторических периодов.
Отношение человека к природе, отношения мужчины и жен¬
щины, взрослого и ребёнка, основные черты человеческого харак¬
тера: воля, мужество, сила интеллекта, благородство, — всё это
при всём своеобразии проявления этих представлений в различ¬
ные периоды развития человеческого общества отвечает идеалам
каждого из этих периодов, в каждом из них эстетически осознаётся.
Гёте справедливо заметил: «...Не надо бояться, что особенное
не найдёт отклика. Каждый характер, как бы своеобразен он
ни был, и всё изображаемое, начиная от камня до человека,
заключают в себе нечто общее».
Поэтому характеры произведений прошлого представляют
собой то единство общего и исторического, о кото¬
ром говорилось, и в силу этого в ряде случаев вовсе не чужды нам,
а перекликаются с нашими свойствами, с которыми они в той
или иной мере однородны, общи И чем глубже вскрыл писатель
данный характер как историческое явление, тем больше он подо¬
шёл и к его общим свойствам. Точно так же и те положения, в
которых обнаруживаются характеры, могут сплошь и рядом
иметь общее значение, так как на них будут раскрываться
общие свойства характеров. В силу этого характеры, изображён¬
ные в литературе, живут, при условии их типичности, далеко за
пределами того периода, в который они возникли. Представляя
собой так называемые «вечные образы», они непосредственно
воздействуют на нас и сейчас, точно так же позволяют нам
осознать себя и тем самым воспитывают нас Поэтому литера¬
тура прошлого во многих своих произведениях сохраняет для нас
своё эстетическое и воспитательное значение, хотя идеи, обоб¬
щения писателя для нас устарели, ошибочны и т д. Взгляды пи¬
сателя могут уже потерять для нас своё значение, но характеры,
им созданные, свою воспитательную роль сохраняют в той или
иной мере. Как уже говорилось, в зависимости от своего мировоз¬
зрения, писатель мог в изображаемой им жизни одни явления не
увидеть, другие — истолковать неправильно. Ошибочное, ограни¬
ченное понимание жизни может сказаться и на творчестве, мно¬
гое в нём исказить, ограничить. Поэтому нам важно изучать,
знать и понимать идеологию писателя, но в то же время не огра¬
ничиваться этим; анализ этой идеологии должен иметь для нас,
так сказать, контрольное значение, объясняющее те особенности
69
изображения действительности, которые мы установили путём
анализа самого творчества, проверкой его жизненной правдивости.
Таким образом, литература прошлого не отделена от нас про¬
пастью. Она во многом непосредственно связана с нами, имеет
огромное познавательное, эстетическое и воспитательное значе¬
ние,'изучение её является одним из условий создания социали¬
стической культуры.
Глубоко раскрыв тот или иной исторический характер, несу¬
щий в себе ряд отрицательных свойств, писатель поможет нам
узнать и преодолеть однородные черты, т. е. осуществит своим
произведением воспитательное воздействие.
Так, Гончаров в романе «Обломов» решал совершенно опре¬
делённые исторические задачи в связи с определёнными отноше¬
ниями буржуазии и дворянства в 50—60-е годы XIX в. и отражал
совершенно определённые исторические явления. Но в критиче¬
ском изображении дворянской среды, свойства которой он типизи¬
ровал в характере Обломова, Гончаров сумел вскрыть такие об¬
щие отрицательные черты человеческого характера, что созданный
им характер Обломова сохранил своё значение далеко за пре¬
делами той исторической среды, в которой он возник. Он показы¬
вает те отрицательные черты, которые мешают развитию чело¬
века. Его эстетическое значение в том, что он показывает препят¬
ствия, стоящие на пути приближения человека к идеалу. Это зна¬
чение характера Обломова очень ясно было отмечено Лениным:
«Был такой тип русской жизни—Обломов,— говорил Ленин
в докладе «О международном и внутреннем положении Совет¬
ской республики» 6 марта 1922 г. — Он всё лежал на кровати и
составлял планы. С тех пор прошло много времени. Россия про¬
делала три революции, а всё же Обломовы остались, так как
Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только
крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий
и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем,
как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обло¬
мов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть,
чтобы какой-нибудь толк вышел».
При помощи тех отрицательных свойств, которые сумел под¬
метить Гончаров в исторических характерах своего времени,
Ленин воспитывал людей совсем другого времени, показывая
образцы использования культурного наследия прошлого.
Г. Димитров в предисловии к роману Чернышевского «Что
делать?» рассказал о том, что он вырос как революционер под
непосредственным воспитательным воздействием героического
характера Рахметова, который был для него образцом револю¬
ционера. Здесь перед нами пример воспитательного значения
положительного характера, выведенного в произведении.
Таким образом, эстетическое воздействие и, следовательно,
воспитательная роль художественных произведений прошлого
основаны на единстве общего и исторического в человеческой
70
я<изни, на том, что человека в разные исторические периоды ин¬
тересуют общие всем этим периодам вопросы, и ответы на них,
данные в ранние периоды, сохраняют свой интерес и значение в
позднейшие периоды. Так, например, в дни борьбы с фашистами
патриотические идеалы русских писателей прошлого во многом
помогли выражению патриотических чувств советских людей.
Понятно, что мы ощущаем различие в трактовке многих во¬
просов нами и писателями прошлого, но тем не менее нас многое
у них волнует и трогает, так как перекликается и с нашими со¬
временными идеалами. Но, учитывая эту «перекличку» с прош¬
лым мы должны помнить всегда и о том, что нас с ним разделяет.
«Мы сегодня не те, что были вчера, — говорит товарищ Жда¬
нов, — и завтра будем не те, что были сегодня. Мы уже не те
русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та,
и характер у нас не тот».
На примере античного искусства Маркс, поставив вопрос о
том, почему оно до сих пор «доставляет нам художественное
наслаждение», разрешил его в обшей форме, которая и даёт
нам ключ к его пониманию. «Мужчина не может снова превра¬
титься в ребёнка, или он становится ребячливым. Но разве не ра¬
дует его наивность ребёнка и разве сам он не должен стре¬
миться к тому, чтобы на высшей ступени воспроизводить свою
истинную сущность. Разве в детской натуре в каждую эпоху
не оживает её собственный характер в его безыскусственной
правде? И почему детство человеческого общества там, где оно
развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной
прелестью как никогда не повторяющаяся ступень? Бывают
невоспитанные дети и старчески умные дети. Многие из древних
народов ’ принадлежат к этой категории. Нормальными детьми
были греки. Обаяние, которым обладает для нас их искусство,
не стоит в противоречии с той неразвитой общественной сту¬
пенью, на которой оно выросло. Наоборот, оно является её ре¬
зультатом и неразрывно связано с тем, что незрелые обществен¬
ные отношения, при которых оно возникло, и только и могло
возникнуть, никогда не могут повториться снова» («Введение к
«К критике политической экономии»). Как видим, Маркс рас¬
сматривает античное искусство с точки зрения единства
общего и исторического. Исторически неповторимое антич¬
ное искусство доступно нам, эстетически для нас ценно именно
потому, что мы «на высшей ступени» находим в нём общее с
собой, «воспроизводя свою истинную сущность» при его помощи,
хотя в то же время «мы уже не те», и «характер у нас не тот».
Творческий процесс
Выше мы говорили о художественном образе, имея в виду
преимущественно то значение, которое он получает в процессе его
восприятия читателем, когда образ уже создан, закончен, вопло¬
щён в формах, удовлетворяющих взыскательного художника.
71
Понятно, однако, что самый процесс его создания также пред¬
ставляет существенный интерес, поскольку, изучив этот процесс,
мы сможем точнее представить себе природу образа, его свой¬
ства и тем самым сможем точнее и глубже понимать его.
Круг вопросов, связанных с этой проблемой, весьма сложен
и представляет собой предмет особой дисциплины — психоло¬
гии творчества. Мы здесь можем лишь вкратце указать
на эти вопросы, тем более что некоторых из них нам уже прихо¬
дилось выше касаться.
Идеалистические теории рассматривают художественное
творчество как совершенно отличную от других форм идеологи¬
ческой деятельности способность художника, творящего в состоя¬
нии недоступного людям обычного типа вдохновения, как бы
бессознательно улавливающего в жизни то, что скрыто от обык¬
новенных людей.
Марксистская теория литературы исходит из того положения,
что искусство есть познание жизни, осуществляемое согласно
тем же законам, которые вообще этим познанием управляют.
«От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к
практике — таков диалектический путь познания истины, позна¬
ния объективной реальности», — писал Ленин («Философские
тетради», 1947 г., стр. 146, 147). Таков же и путь создания худо¬
жественного образа, приобретающий своеобразие в силу того,
что художник, познавая жизнь, ставит себе особые задачи (отра¬
зить её эстетически, т. е. с точки зрения общественных идеалов),
изучает особый материал (главным образом человека в его дея¬
тельности), создаёт в силу этого особую форму отражения жизни
(образ с его индивидуализированностью, обобщённостью и т. д.).
Творческий процесс начинается с живого со¬
зерцания, т. е. с пристального наблюдения,
изучения художником жизни. Эти наблюдения
приводят его к известным обобщениям, т. е. к представлению
о том, что данные области и явления жизни особенно интересны;
отсюда возникает стремление изобразить эти явления, т. е. вы¬
сказать своё отношение к ним, сказать о них то, что ещё не ска¬
зано. В основе творческого процесса, следовательно, лежит,
с одной стороны, опыт писателя, а с другой — оценка им жизни,
его эстетические позиции. Они подсказывают писателю его з а-
мысел, первоначальное представление о том, что должно со¬
держать в себе будущее произведение, когда художник, по сло¬
вам Пушкина, ешё неясно различает даль своего произведения.
Замысел у различных художников имеет весьма различный ха¬
рактер. Некоторые уже чётко представляют себе, что они хотят
сказать, заранее формулируют основные свои идейные уста¬
новки, как это иногда делал, например, Достоевский У других
он очень смутен, в лирике это иногда отдельная строка, даже
просто «ритмический гул», как говорил Маяковский. Этот «гул»
по существу представляет собой уже складывающееся ощущение
Наблюдение
и обобщение
72
той эмоциональной окраски, которую будет иметь стихотворение,
определяет отношение поэта к своей лирической теме.
Возникший замысел начинает оформляться, т. е. превра¬
щаться в картины жизни, которые художник создаёт силой сво¬
его воображения. Как мы уже говорили, в этой работе вообра¬
жения и заключено то, что называют художественным талантом.
Художник представляет себе, как могло бы в самой жизни воз¬
никнуть интересующее его явление, придавая ему наиболее от¬
чётливую форму, освобождая от случайных и второстепенных
деталей, подчёркивая то, что он считает особенно важным, и т. д.
Эта работа требует, естественно, крайней напряжённости и со¬
средоточенности, благодаря которым воображение художника и
создаёт картины жизни, убеждающие читателя, даже если они
даются в формах, отступающих от жизненного правдоподобия
(условных, фантастических и т. п.). Этот момент высшего твор¬
ческого напряжения называют вдохновением. Во вдохно¬
вении нет чего-либо не свойственного работе человеческого со¬
знания вообще. Оно присуще всякой предельно напряжённой ра¬
боте человеческого сознания: работе учёного, совершающего на¬
учное открытие, полководца, принимающего решение, опреде¬
ляющее ход сражения, политика, находящего правильный путь
к достижению своей цели.
«Вдохновение, — писал Пушкин, — есть расположение души
к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий,
следственно, и объяснению оных. Вдохновение нужно в геомет¬
рии, как и в поэзии». Мопассан говорил, что «талант — это
только упорное размышление, и дан он тому, у кого есть ум».
Формы, в которых проявляется это творческое
состояние, опять-таки чрезвычайно различны.
У некоторых художников этот творческий про¬
цесс находит своё внешнее выражение во всякого рода набро¬
сках, вариантах, в которых постепенно проясняется их замысел
и получает уже конкретное оформление. Так, например, работали
Пушкин, Л. Толстой, у которых буквально каждое произведение
имеет ряд черновиков различных редакций, придающих произве¬
дению всё более и более совершенный характер. У Тютчева, на¬
оборот, эта работа часто не находила внешнего выражения, и он
диктовал уже законченные стихотворения, производя отбор ва¬
риантов в голове, не занося их на бумагу. Некоторые писатели
составляют планы произведений. Тургенев для основных персо¬
нажей своих произведений составлял своеобразные формуляры,
заранее набрасывая их характеристики, и т. п. В процессе своего
оформления замысел художника чаще всего меняется. Происхо¬
дит это потому, что, конкретизируя свои образы, художник про¬
веряет их на основе своего чутья жизни, помогающего ему опре¬
делить правдоподобность этих образов, и зачастую отказы¬
вается, как мы помним, от первоначальных предположений. Это
как бы не зависящее от воли художника (но на самом деле
Творческий
процесс
73
подсказанное ему опытом, знанием жизни, быть может, отчётливо
им самим и не сформулированным) изображение жизни, нару¬
шающее его первоначальные планы, и давало главным образом
основание для той трактовки вдохновения как таинственной
силы, управляющей писателем помимо его воли, о которой выше
говорилось. Эту догадку писателя о том, как должны вести себя
изображаемые им люди, совершение ими поступков, которых он
от них «не ожидал», определяют термином интуиция.
Термин этот имеет различные толкования. Идеалистическая
философия рассматривает интуицию как совершенно особый тип
познания мира без участия рассудка, когда истина открывается
человеку в порядке наития, внезапного озарения. На самом
деле интуиция представляет собой результат предварительного
накопления большого опыта, который подсказывает художнику
правильное решение интересующего его вопроса, причём это ре¬
шение возникает как бы неожиданно, ещё до того, как худож¬
ник продумал все логические звенья, к нему ведущие. Эта интуи¬
тивная догадка характерна вообще для человеческого сознания,
но для искусства она важна в особенности.
Основные звенья творческого процесса — это наблюде¬
ние, обобщение (которое может выступать лишь в форме
«чутья» жизненной правды), замысел, план (т. е. выбор
материала и точка зрения на него), вдохновение (т. е.
творческая сосредоточенность, которая приводит к тому, что
картина жизни облекается в жизненные краски, благодаря работе
воображения, творческой интуиции) и, наконец, разработка
различных вариантов и редакций произведения, завершающаяся
созданием законченного произведения.
При всём своеобразии творческой работы у различных писа¬
телей она в конечном счёте сводится к этим основным моментам.
В ней перед нами единый процесс человеческого познания жизни,
выступающий, однако, как особая форма этого познания благо¬
даря тому, что художник и по своему (эстетически) познаёт
жизнь, и изучает особые стороны этой жизни (человека во всём
богатстве его деятельности).
ГЛАВА III
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ОБРАЗНОСТИ
Роль исторической обстановки
Мы до сих пор рассматривали вопрос о сущности литератур¬
ного творчества, стремясь определить его -наиболее общие
свойства, выделить его основные черты, которые проявляются по
существу в любом художественном произведении. Всегда мы бу¬
дем в нём иметь дело с отражением жизни в связи с человеком,
всегда будем наблюдать стремление к обобщению и в то' же время
к индивидуализированному изображению жизни, всегда будем
74
замечать в нём наличие вымысла, всегда будем улавливать в нём
эстетическую устремлённость, т. е. стремление воплотить идеалы
своего времени.
Но эти общие черты образа, как особой, именно искусству
присущей формы отражения жизни, проявляются в нём в чрез¬
вычайно разнообразных формах в зависимости от исторической
обстановки, накладывающей на него свой отпечаток и опреде¬
ляющей метод и жанры художника. А это, в свою очередь, на¬
кладывает свой отпечаток на его образы, определяя их худо¬
жественную индивидуальность и разнообразие, делая их зача¬
стую резко отличными друг от друга.
То определение образа, к которому мы выше пришли, есть
общее определение, указывающее на основные задачи, кото¬
рые в творческом процессе ставит перед собой художник. А как
он осуществил и в какой мере полно смог осуществить те воз¬
можности, которые даёт ему образ как особая форма отражения
жизни, — это уже может определить лишь конкретный крити¬
ческий анализ, учитывающий в каждом данном случае ту исто¬
рическую обстановку, в которой действовал художник, его миро¬
воззрение, индивидуальность и т. д.
Понятно, что отражение жизни в образах за¬
висит прежде всего от того,-как художник по¬
нимает жизнь вообще, а это, в свою очередь,
зависит от исторических условий, в которых ой
находится.
ранней стадии развития искусства, в эпоху палео¬
лита, первобытный художник не умел ещё, например, переда¬
вать в своём рисунке позу животного, он был в состоянии лишь
набросать его контуры, изображение человека имело у него го¬
лову, но без чётко очерченного лица, ибо черты лица он еще не
умел изображать, так же как рука изображалась им без кисти.
Нужно было очень долгое развитие искусства, чтобы человек
научился более точно изображать явления действительности.
Точно так же и в литературе нужен был чрезвычайно долгий
и отнюдь не прямолинейный путь от простейших словесных форм
изображения до такой развитой её формы, как, например,
«Илиада» или «Одиссея». Понятно, что и образ выступает перед
ними в различные периоды развития искусства не как единая
повторяющаяся форма, а в процессе своего развития. В какой-
либо простейшей дикарской песенке мы лишь с трудом разли¬
чим его первичные черты, которые лишь в конечном счёте пред¬
ставляют собой образное отражение жизни.
Типы образного отражения жизни
В этом историческом процессе развития искусства склады¬
ваются и известные типы образного отражения
жизни, опять-таки приводящие к развитию в нём как бы
Влияние
исторической
обстановки
на искусство
На самой
75
дополнительных особенностей, подсказываемых данной историче¬
ской обстановкой И образ мы вправе рассматривать как
единство общего и исторического, выступающее перед нами
в самых разнообразных проявлениях, иногда весьма мало похо¬
жих друг на друга, рассмотреть которые полностью может исто¬
рия литературы. Теория литературы должна лини, теоретически
определить необходимость постоянного учёта этого историче¬
ского многообразия форм образного отражения жизни, преду¬
предить механическое перенесение общих формулировок в раз¬
личные исторические периоды без конкретного учёта их своеоб¬
разия.
До сих пор мы отвлекались от разнообразия форм проявления
образного отражения жизни, от многообразия исторического
существования его.
Нам важно было определить, какое значение литература
имеет как «общая форма сознания» в человеческом обществе,
«несмотря на все различия и всё разнообоазие» общественной
жизни, какими наиболее характерными свойствами обладает она
(в их наиболее отчётливом выявлении).
Определив литературу как идеологию, мы установили вслед
за тем её специфические отличия, образность её. Теперь мы
должны обратиться к тому, чтобы данные нами определения
исторически конкретизировать.
Эти определения требуют весьма гибкого применения соот¬
ветственно тем конкретным историческим условиям, в которых
возникает и развивается творчество данного писателя. По¬
скольку содержанием литературного творчества является сама
действительность, постольку для нас очевидно, что с её измене¬
нием будет изменяться и литературное творчество как по содер¬
жанию, так и по форме. Говоря о нападках на драмы Лессинга,
Гёте заметил, что «надо пожалеть необыкновенного человека,
жившего в такое жалкое время, что в его распоряжении не было
лучшего материала, чем тот, который он обрабатывал в своих
вещах...». Здесь ясно сформулирована мысль о том, что писатели
в своём творчестве определены и ограничены условиями, выте¬
кающими из данной исторической обстановки, заставляющими
их предъявлять к жизни неодинаковые требования, приходить
к неодинаковым обобщениям.
До сих пор мы говорили о таких художествен-
Мвогоо*раэие ных произведениях, связь которых с действи-
фор’д отражения тельностью, их породившей, была несомненна
человека и очевидна. Однако мы можем иметь и го¬
раздо более сложные отношения между дейст¬
вительностью и её образным отражением: достаточно указать
на целый ряд произведений фантастического, утопического и тому
подобного характера. Мы не можем отрицать художественного
воздействия на нас таких произведений Гоголя, как «Ночь нака¬
нуне Ивана Купалы», «Портрет», «Вий», «Страшная месть». Но
76
действительность.
Историчность
эстетического
чувства
очевидно, что не может быть и речи о непосредственной реаль¬
ности колдуна или Вия Здесь нам нужно вспомнить указания
Маркса и Энгельса, данные ими в «Немецкой идеологии», отно¬
сительно того, что:
«Люди являются производителями своих представлений,
идей и т. д., — но люди действительные, действующие, как они
обусловлены определённым развитием своих производительных
сил и соответствующим последнему общением, вплоть до их
отдалённейших формаций. Сознание (das Bewusstsein) никогда
не может быть чем-либо иным, как сознанным бытием (das be-
wusste Sein), а бытие людей есть реальный процесс их жизни.
Если во всякой идеологии люди и их отношения кажутся по¬
ставленными на голову, словно в камере-обскуре, то и это явле¬
ние точно так же проистекает из исторического процесса их
жизни...»
Следовательно, мы можем иметь и такие случаи, когда те
или иные исторические условия определяют возникновение та¬
кого образного отражения действительности, в котором «люди и
их отношения кажутся поставленными на голову». В подобных
произведениях мы столкнёмся, следовательно, с неверными, ис¬
кажающими жизнь обобщениями, а также с односторонними,
далёкими от жизненной правды характерами и событиями.
Являясь в принципе положительной формой познания жизни,
орудием воспитания людей, литература в конкретных историче¬
ских условиях может выполнять и отрицательную функцию: она
может в той или иной мере неправильно отражать жизнь, вредно
действовать на сознание и т. д. Маркс, говоря, например, о Ша-
тобриане, отмечает его «фальшивую глубину...», «лживую ме¬
шанину», «какой никогда ещё не бывало ни по форме, ни по со¬
держанию»; он же, характеризуя искусство французской бур¬
жуазной революции, определяет его как «художественные формы
и средства самообмана», в котором нуждались «борцы за бур¬
жуазное общество», чтобы «скрыть от самих себя буржуазно¬
ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать своё
воодушевление».
Однако и эти произведения, если в них есть элементы жиз¬
ненной правды, хотя бы и неполной, в какой-то мере отражают
Чернышевский в своей знаменитой диссерта¬
ции «Эстетические отношения искусства к
действительности» на примере понятия челове¬
ческой красоты в различной социальной среде
с большой ясностью показал, как даже однородные жизненные
явления получают различное освещение в зависимости от раз¬
личных социально-исторических ситуаций.
«Хорошая жизнь», — «жизнь, как она должна быть», у простого народа
состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, снать вдоволь; но
вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие
77
о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием
жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изну¬
рения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно
свежий цвет лица и румянец во всю щёку — первое условие красоты по
простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложе¬
нием, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна — это
также необходимое условие красавицы сельской: светская «полувоздушная»
красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит
на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу»
следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не даст разжи¬
реть: если... сельская девушка толста -это род болезненности, знак «рых¬
лого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком. У сельской
красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она
много работает...
Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях, а не- из ста¬
ринной хорошей фамилии... не найдётся ни одного признака красоты, ко¬
торый не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в ор¬
ганизме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и не¬
шуточной, но не чрезмерной работе.
Совершенно другое дело светская красавица: уже несколько поколений
предки её жили, не работая руками: при бездейственном образе жизни
крови льётся в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы
рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего
этого должны быть маленькие ручки и ножки: они признак такой жизни,
которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, жизни без
физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это
признак или того, что она дурно сложена или того, что она выскочка. Миг¬
рень, как известно, интересная болезнь, — и не без причины от бездействия
кровь остаётся вся в средних органах, приливает к мозгу... неизбежное
следствие всего этого — продолжительные головные боли и разного рода
нервические расстройства; что делать? и болезнь интересна, чуть не за¬
видна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится,...
болезненность, слабость, вялость, томность также имеют... достоинство
красоты, как скоро кажутся следствием роскошно бездейственного образа
жизни... Люди..., которым... часто бывает скучно от безделья и отсутствия
материальных забот, ищут «сильных ощуще'ний, волнений, страстей...»
А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнаши¬
вается: как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если том¬
ность и бледность её служат признаком, что она «много жила»?
Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Ещё милей!
Но... истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь —
жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее
в глазах; потому выражение лица, о котором так мало говорится в народ¬
ных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господст¬
вующих между образованными людьми, и часто бывает, что человек ка¬
жется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные выразительные
глаза... Главные принадлежности человеческой красоты... производят на
нас впечатление прекрасного потому, что в них мы видим проявление
жизни, как понимаем её».
Понятно, что каждый класс (в силу своеобра-
кдасссдаяТорьба зия его места в общественном процессе) при¬
носит в литературу свою образность, придаёт
ей конкретную историческую окраску, понять которую мы можем,
лишь разобравшись в классовой борьбе данного периода, в-клас¬
совой сущности произведения.
78
В силу этого даже однородные явления общественных отно¬
шений получают в произведениях писателей различных классов
различное освещение. Изображённые ими характеры и события
приобретают разную художественную ценность в зависимости
от полноты их жизненной правды. А эта полнота в значительной
мере зависит от того, в какой мере может писатель разобраться
в действительности в пределах своих познавательных возможно¬
стей. Писатели, выражающие настроения упадочных, реакцион¬
ных, исторически обречённых классов, будут, естественно, в мень¬
шей мере способны к правдивому отражению жизни. Наоборот,
писатели, выражающие идеологию классов, в той или иной мере
революционно настроенных, заинтересованных в изменении су¬
ществующего порядка вещей, будут стремиться к критике этого
порядка, к правдивому показу его недостатков. Искусство со¬
циализма потому-то и стоит перед возможностью исключитель¬
ного расцвета, что советский писатель как представитель народа
стремится к полной жизненной правде (в отличие от буржуаз¬
ных писателей, которые даже в пору относительной революцион¬
ности буржуазии, боялись полной жизненной правды, так как
тогда им пришлось бы говорить об эксплоататорской сущности
своего класса). Те общие тенденции образного отражения жизни,
которые мы выяснили, практически будут давать самые различ¬
ные осуществления, значения, качество которых мы сможем
определить лишь в каждом конкретном случае. Потому-то тео¬
рия литературы практически осуществляется, полностью реали¬
зуется лишь в конкретном историко-литературном, критическом
анализе, в умении, исходя из понимания общих свойств и задач
искусства, определить значение каждого конкретного литератур¬
ного произведения.
Только при этом условии мы будем в состоянии применить
те общие определения, которыми мы располагаем в теории лите¬
ратуры, к различным явлениям истории литературы.
Различия в способе построения образа
В самом деле, в эпоху античности отношения
между людьми и отношения человека к природе
резко отличались от того, что мы наблюдаем в
позднейшее время. Характернейшим признаком
этого своеобразия являлось в частности то, что, не овладев ешё
истинными законами природы, античный человек подменял их
мнимыми: воображаемым действием вне человека стоящих бо¬
жественных сил, мифами о богах, управляющих человеческой
жизнью.
Естественно, что мифологическое мышление древних греков
проявлялось и в их искусстве. «Греческая мифология составляла
не только арсенал греческого искусства, но и его почву... Предпо¬
сылкою греческого искусства является греческая мифология»,—
Мпфологизм
античного
искусства
79
говорил Маркс. Поэтому картины человеческой жизни в «Илиа¬
де» или «Одиссее» характеризуются тем, что в них переплета¬
ются и чрезвычайно яркие и точные картины быта и нравов гре¬
ков, и изображение жизни богов, управляющих жизнью людей.
Гефест куёт оружие Ахиллесу, исход сражений решает не борьба
людей, а вмешательство богов и т. д. И хотя сами-то античные
боги в изображении греческих писателей имеют, естественно, че¬
ловеческие черты, созданы по образу и подобию людей, но всё
же образы античной литературы по самому своему построению
представляют собой чрезвычайно своеобразное явление. Образ
создаётся, как мы помним, прежде всего в процессе отбора и
обобщения писателем жизненных фактов,
этим определяется самая основа его. Мы можем сказать, что ан¬
тичное искусство обладало своим способом построения
образа, отличающим его от искусства других периодов и по¬
нятным лишь при условии анализа его в создавшей его историче¬
ской обстановке.
По мере развития человеческого общества и в частности по
мере того, как человек овладевал законами природы, элемент ми-
фологизма, естественно, слабел. Тем самым в искусстве выдви¬
гались на первый план уже иные способы построения образа. Го¬
меровские поэмы создавались в эпоху между XI—VII вв. до н. э.
Уже спустя несколько сот лет, в IV в. до н. э., Аристотель в своей
«Поэтике» говорит о том, что художнику «всегда приходится
воспроизводить предметы каким-нибудь одним из трёх способов:
такими, каковыми они были или есть; или такими, как их пред¬
ставляют и какими они кажутся; или такими, каковы они должны
быть». Поскольку второй способ по существу представляет со¬
бой только оттенки первого и третьего (вещи кажутся или какими
они на самом деле являются, т. е. каковы они есть, или какими
они должны быть), Аристотель, следовательно, выделяет два ос¬
новных способа отбора и обобщения художником жизненных яв¬
лений, два способа построения образа: изображение жизни такой,
какой она является на самом деле, или изображение её такой, ка¬
кой хочет её увидеть художник. И сам Аристотель ссылается
на то, что «Софокл говорил, что он представляет людей, каки¬
ми они должны быть, а Эврипид — такими, каковы они в дей¬
ствительности».
Различные спосо¬
бы построения
образа: реализм
в романтизм
Это различие в способе построения образа яв¬
ляется характерным для всей истории литера¬
туры со времён Аристотеля.
Образ, изображающий жизнь, как она есть,
мы называем реалистическим (Евгений Онегин,
например), а образ, изображающий людей, какими они, по мне¬
нию художника, должны быть, — романтическим (Каин, Ман¬
фред у Байрона, Мцыри у Лермонтова).
Образ в новой литературе, следовательно, может быть по сво¬
ему построению реалистическим и романтическим, так же как в
60
античности он был, так сказать, мифологическим. Отнюдь не все
античные образы мифологичны. Но мы говорим о мифологизме,
как о наиболее ярком примере наивного, «детского» восприятия
мира в эпоху античности. Эта эпоха, с одной стороны, ещё не
видела всей сложности жизненных отношений, но в то же время
воспринимала их непосредственно, целостно. Эта непосредствен¬
ность, нерасчленённость характерна для искусства классической
Греции в целом (так же как для ранних периодов развития искус¬
ства других народов, когда искусство тесно связано с религией и
мифологизм являлся наиболее ярким её выражением). Теряя эту
целостность, искусство и разбивалось на отдельные потоки — реа¬
листический и романтический, непрерывно стремясь в то же
время к воссозданию этой целостности. В заключительной части
курса мы подробно рассмотрим различные способы построения
образа (методы). Сейчас нам важно только отметить, что наше
общее определение образа, в зависимости от тех исторических
условий, которые в каждом данном случае влияют на отношение
художника к жизни, будет, естественно, обрастать своеобразны¬
ми особенностями, благодаря чему мы будем иметь дело с изве¬
стными разновидностями образа. Мы сейчас говорили о разно¬
видностях, которые зависят от метода, от того, чем руковод¬
ствуется художник, отбирая и обобщал жизненные явления.
Различия в способе изображения человека
У Аристотеля мы находим указание также на то, что суще¬
ствуют разновидности образа, которые возникают в силу иных
причин. Художник, говорит он, может рассказывать о жизни, или
«становясь при этом чем-то посторонним (рассказу), как это де¬
лает Гомер; или от своего же лица, не заменяя себя другим; или
изображая всех действующими и проявляющими свою энергию».
И это различие хорошо нам знакомо: Аристо¬
тель здесь говорит о том, что образ может
быть эпическим (т. е. рассказывать о со¬
бытиях от лица художника, как бы наблюдаю¬
щего эти события со стороны, как в «Войне и
мире» Л. Толстого) или лирическим (т. е. воспроизводить
жизнь как бы от имени непосредственного её участника, непо¬
средственно переживающего то, о чём он рассказывает, как в сти¬
хотворении Пушкина «Я помню чудное мгновенье») и, наконец,
драматическим (т. е. рисовать людей, как бы самостоя¬
тельно действующих — «Борис Годунов»).
Во всех этих случаях мы имеем дело уже с более частными
различиями, они по существу связаны с различными способа¬
ми изображения человека (в действии, в пережива¬
нии, в рассказе о нём). Эти три основных литератур¬
ных рода—эпос, лирика, д р а м а — мы можем наблю¬
дать в пределах каждого из тех методов, о которых мы выше
Различие
в изображении
человека: эпос,
лирика, драна
6 Тимофеев
81
говорили. Они придают образу ещё более конкретные, частные
очертания (это мы рассмотрим в последней части курса более
подробно).
Различия в отношении к действительности (юмор, сатира,
трагедия, героина)
Мы говорили о различиях, которые обнаруживаются в струк¬
туре образа, во-первых, в зависимости от его построения (способ
обобщения и отбора фактов), во-вторых, от способа изображения
человеческого характера (описание, переживание, действие). Сле¬
дует указать ещё на один своеобразный тип образа, отличаю¬
щийся некоторыми общими особенностями построения. Мы до
сих пор говорили о том, что художник отражает существенные
явления действительности. Он может относиться к ним отрица¬
тельно или положительно, может рисовать такие явления, кото¬
рых в жизни нет, но которые он в ней хочет увидеть (романтизм),
но так или иначе он говорит о том, что заслуживает вни¬
мания и интереса.
Но мы зачастую сталкиваемся в жизни с явле-
Комлческое ниями, которые сами по себе представляются
нам нелепыми, смешными, комическими, нару¬
шающими жизненные закономерности. Образы, в которых худож¬
ник ставит себе задачей отразить то, что является в жизни коми¬
ческим, смешным, вызывают у нас смех, в их строении имеется
ряд своеобразных особенностей, заставляющих выделить их в
особую группу.
Комическое в жизни — это явления, внутренне противоречи¬
вые, в которых мы отмечаем обесценивающее их несоответствие
тому, на что они претендуют. Большинство определений комиче¬
ского, принадлежащих теоретикам, занимающим самые различ¬
ные позиции, всё же сходно в том, что подчёркивает именно этот
основной его признак. Основное свойство комического состоит
в том, что оно основано на ощущаемой нами внутренней противо¬
речивости явления, на скрытой в нём, но улавливаемой нами
его внутренней неполноценности, на несоответствии его внешних
данных и внутренних возможностей и наоборот.
Смех вызывается тем, что мы неожиданно обнаруживаем мни¬
мость соответствия формы и содержания в данном явлении, что
разоблачает его внутреннюю неполноценность. «Комедия — го¬
ворил Белинский, — должна живописать несообразность жизни
с целью». Здесь имеется в виду то же противоречие, несообраз¬
ность явления с тем, что оно должно представлять собой на
самом деле. О том, что в основе смешного лежит осознание про¬
тиворечия между кажущейся жизнеспособностью явления и его
внутренней нежизнеспособностью, говорил Маркс: «История дей¬
ствует основательно и проходит через множество фазисов, когда
несёт в могилу устарелую форму жизни. Последний фазис все¬
82
мирно-исторической формы есть её комедия. Богам Греции,
однажды уже трагически раненным в «Прикованном Прометее»
Эсхила, пришлось ещё раз комически умереть в «Разговорах»
Лукиана. Зачем так движется история? Затем, чтобы человече¬
ство смеясь расставалось со своим прошлым» (Соч., т. I, стр. 389).
Таким образом, смех есть форма осознания того, что явление
утратило свою жизненную значимость, хотя и претендует на неё.
Юмор и вскрывает эту неполноценность, подчёркивая, пре¬
увеличивая, гиперболизируя её, делая её ощутимой, конкретной.
М. Горький в воспоминаниях о Ленине рассказывает о том, как
Ленин, побывав с ним в лондонском мюзик-холле, говорил о том,
что в клоунаде «есть какое-то сатирическое или скептическое
отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его
наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного».
В основе юмористического образа и лежит известное искажение,
преувеличение (например карикатура) тех или иных явлений
жизни, для того чтобы отчётливее обнаружился алогизм их,
т. е. их внутренняя неполноценность возможностей и наоборот.
Смешно несоответствие цели и средств, выбранных для её
достижения, несоответствие действий и результатов, ими до¬
стигнутых, несоответствие возможностей и претензий, несоответ¬
ствие анализа и выводов, короче — несоответствие
содержания и формы в данном явлении, то
или иное их расхождение при кажущемся их
соответствии. Это несоответствие, неожиданно для
нас обнаруживающееся, как бы разоблачает данное
явление, обнаруживает его несостоятельность, что и в ы з ы-
вает смех. Смех, чувство комического, возникает тогда,
когда данное явление оказывается не тем, чем его считали, во-
первых, и когда это расхождение между представлением о нём
и его сущностью раскрывает его неполноценность; во-вторых, мы
неожиданно обнаруживаем, что данное явление совсем не то, чем
оно нам казалось, причём оказывается оно чем-то меньшим, чем
должно было быть, оно теряет в наших глазах, лишается, так
сказать, права на наше уважение, и этот неожиданный переход
от одного его состояния к другому (и тем самым от одного на¬
шего отношения к нему — к обратному) и является причиной
смеха, который и раскрывает нашу новую оценку.
Если больной человек, с трудом передвигающийся, посколь¬
знётся и упадёт в лужу, то это вызовет только наше сочувствие,
потому что мы видели и раньше, что его положение не избавляет
его от такой опасности. Но если это же произойдёт с человеком,
выдающим себя за ловкого спортсмена, мы рассмеёмся. Смех
наш будет вызван неожиданно обнаружившимся несоответствием
между претензиями этого человека и его возможностями, несо¬
ответствием, которое обнаружило неполноценность этого чело¬
века неловкостью, которая была скрыта его внешним видом. Мы
ждали от явления, руководясь его внешними данными, одних
6*
83
свойств, а оно неожиданно обнаружило другие, обратные, кон¬
трастные тем, что мы ждали, и при этом такие, которые снижают
его в наших глазах, обнаруживают его не замеченные нами недо¬
статки. Внезапное контрастное разрешение нашего ожидания вы¬
зывает смех. В одном старинном анекдоте рассказывается, как ку¬
пец потрясён потерей состояния в такой степени, что от горя даже
парик его поседел. Переход серьёзного в нелепость — смешон.
Чарли Чаплин в фильме «В банке» говорит своему соседу, что
у него плохой вид, и просит его показать язык, но, когда тот это
делает, оказывается, что его язык нужен Чарли Чаплину для
того, чтобы намочить марку, которую надо наклеить на конверт.
Контраст между внешним отношением Чаплина к соседу и внут¬
ренней его мотивировкой, контраст между простой целью и неле¬
пыми средствами её достижения, внезапно обнаруженной зрите¬
лем, вызывает смех.
Юмор в искусстве является отражением коми-
Юмвгнстичвскнй ческого в жизни. Он усиливает это комиче¬
ское, обобщая его, показывает его во всех его
индивидуальных особенностях, связывает с эстетическими пред¬
ставлениями и т. д., короче — даётся со всеми теми особенно¬
стями, которые присущи образности как форме отражения жизни
в искусстве.
Но в то же время он чрезвычайно своеобразно преломляет
эти особенности, рисуя жизнь в заведомо «сдвинутом» плане.
В силу этого мы наблюдаем в искусстве и в частности в лите¬
ратуре особый тип образа — юмористический. Основной
его особенностью является то, что в нём заранее уже дано отно¬
шение художника к предмету изображения, раскрыта оценка,
с которой он подходит к жизни: стремление раскрыть внутрен¬
нюю несостоятельность тех или иных явлений в жизни, которые
в глазах читателя обладают мнимым соответствием формы и со¬
держания, а на самом деле не имеют его.
Однако эта несостоятельность может иметь различный харак¬
тер: она может затрагивать второстепенные явления жизни или
второстепенные их стороны. Принимая явление в целом, мы
смеёмся над мелкими его недостатками, поскольку видим, что
эти недостатки не опасны, безвредны. Если бы упавший в лужу
спортсмен сломал себе ногу, мы бы уже не засмеялись: положе¬
ние его было бы опасно, и смех был бы неуместен. В своё время
ещё Аристотель определял смешное лишь как «частицу безоб¬
разного» Он говорил: «Смешное — это какая-нибудь ошибка или
уродство, не причиняющее страданий или вреда... Это нечто без¬
образное или уродливое, но без страдания». Автор юмористиче¬
ского образа симпатизирует тому явлению, о котором он говорит,
но показывает в то же время его частные недостатки. Пример
юмористического образа — мистер Пикквик у Диккенса.
В том случае, если недостатки явлений уже не дают возмож¬
ности симпатизировать ему и оценка его должна приобрести более
84
суровый характер, мы наблюдаем усиление отрицательного начала
в юмористическом образе, переходим от юмора к сатире.
Промежуточные, переходные формы между ними — ирония
и сарказм. Юмор — это шутка. Ирония — это уже насмешка,
основанная на чувстве превосходства говорящего над тем, к
кому он обращается, в ней в известной мере скрыт обидный
оттенок.
В отличие от юмора, который говорит о явлении, как бы низводя
его, показывая мнимость того, на что он претендует, ирония,
наоборот, приписывает явлению то, чего ему недостаёт, как бы
подымает его, но лишь для того, чтобы резче подчеркнуть отсут¬
ствие приписанных явлению свойств. Лисица говорит ослу:
«Откуда, умная, бредёшь ты, голова?» Здесь смешно то, что ум
приписывается тому, у кого никак нельзя его заподозрить.
В иронии, таким образом, недостаток данного явления воспри¬
нимается острее, связан с более существенными его свойствами,
даёт основание для презрительного по существу к нему отно¬
шения.
Ещё резче говорит о разоблачаемом явлении сарказм, ко¬
торый обычно й определяют как злую иронию. Сарказм дик¬
туется уже гневом, который вызван у художника данным явле¬
нием, т. е. тем, что он считает его недостатки неприемлемыми,
затрагивающими важные стороны, такими, с которыми никак
нельзя примириться.
Примером саркастического построения произведения являет¬
ся, например, «Первое января» Лермонтова, где он говорит о том,
что ему хочется «смутить весёлость» окружающих его людей
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью.
Это нарастание отрицательного чувства по отношению к тем
или иным явлениям жизни — от безобидной шутки к презрению,
от презрения к гневу — завершается негодованием, когда недо¬
статки явления становятся такими, что заставляют отвергнуть
его целиком, когда смешное стоит уже на грани отвратитель¬
ного, когда надо уже требовать уничтожения и самого явления,
и тех условий, которые создают его в жизни.
Ирония и сарказм своё наиболее полное выражение нахо¬
дят в сатире.
с Мы уже говорили, что юмор по существу есть
р отрицание частного, второстепенного в явле¬
нии, а сатира есть отрицание общего, основного. Отсюда выте¬
кает существенное различие между юмором и сатирой. Юмор
чаще всего сохраняет реальные очертания изображаемых явле¬
ний, поскольку он показывает как отрицательное лишь частные
его недостатки. Сатира же, отрицая явление в основных его осо¬
бенностях и подчёркивая их неполноценность при помощи рез¬
кого их преувеличения, естественно, идёт по линии нарушения
85
обычных, реальных форм явления, тяготеет к условности, к гро¬
теску, к фантастичности, к исключительности характеров и со¬
бытий, благодаря которой она может особенно отчётливо пока¬
зать алогизм их, «несообразность жизни с целью».
Такова, например, сатира Рабле, Свифта, Щедрина, Сатира
строит свои образы, нарушая реальные соотношения явлений в
самой жизни для того, чтобы резче подчеркнуть их основные
свойства.
Сила отрицания, присущая сатирическому образу, вызывает
негодование, отвращение у читателя к жизни, сатирически изоб¬
ражённой в произведении. В сатире «не смех, а трагическое по¬
ложение, — писал Щедрин. — Изображая жизнь, находящуюся
под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в читателе
горького чувства, а отнюдь не веселонравия». Белинский писал,
что «под «сатирой» следует разуметь не невинное зубоскальство
весёленьких остроумцев, а громы негодования, грозу духа,
оскорблённого позором общества», «энергию раздражённого чув¬
ства, гром и молнию благородного негодования».
Римский сатирик Ювенал писал, что сатирику стихи диктует
негодование («Fecit indignatio versum»). Несоответствие явле¬
ний жизни тем требованиям, которым они на самом деле должны
удовлетворять, достигает такой степени, что речь может идти
лишь о полном их отрицании, которого художник достигает, ри¬
суя с крайней остротой то, что вызвало его негодование, вскры¬
вая внутреннюю противоречивость её путём доведения её недо¬
статков до предела нелепости, обнажая тем самым её существо.
Так делает, например, Щедрин в «Истории города Глупова»,
Свифт в «Путешествии к лилипутам» и другие сатирики. Сати¬
рический образ — это образ, который стремится к полному
отрицанию тех явлений жизни, которые в нём отражены, путём до¬
ведения до предела комизма, нелепости присущих им в жизни черт.
Сатирический образ стоит уже на грани комизма, так как
несоответствие того, о чём он говорит, настолько значительно,
что оно не только смешит, но и отталкивает, вызывая отвраще¬
ние, ужасает. В отличие от юмора, где смех вызывает «частица
безобразного», как говорил Аристотель, и где поэтому речь идёт
о безвредных по существу чертах явлений, сатира говорит о безоб¬
разном, о неприемлемом в жизни. В этом основное содержание
сатирического образа. Он говорит о наиболее острых противоре¬
чиях жизни, но о таких, которые, как представляется художнику,
можно разрешить, вступив с ними в борьбу, причём борьба эта
по силам человеку, обществу, данному классу, данной партии.
Таким образом, в сатире в большей степени,
а в юморе — в меньшей мы наблюдаем
определённое своеобразие в самом построении
образа, в способе отбора и типизации фактов.
Перед нами — тенденция к нарушению реаль-
явлений и их свойств для того, .чтобы под¬
Своеобразие
в построении
сатирического
образа
ных соотношений
8б
черкнуть их основные существенные особенности, противореча¬
щие тем требованиям, которые мы к ним предъявляем с точки
зрения логики жизни, того, что в ней должно быть. Щедрин пи¬
сал: «Для того, чтобы сатира была действительною сатирою и
достигала своей цели, надобно... чтоб она давала почувствовать
читателю тот идеал, из которого отправляется творец её». Если
романтический образ, о котором мы выше говорили, строится на
противопоставлении жизни того идеала, который стремится во¬
плотить писатель, то в сатирическом образе перед нами как бы
негативный романтизм — противопоставление жизни идеалу,
изображение в явлении не того, что в нём соответствует идеалу
(хотя бы это в жизни было исключительным), а того, что в нём
в особенности не соответствует идеалу (хотя бы это также было
в жизни исключительным). Отсюда сатира в то же время и реа¬
листична, так как в ней перед нами трезвый анализ действитель¬
ности, позволяющий художнику уловить в самой жизни сущест¬
венные черты изображаемых им явлений.
В сатире (а в меньшей степени — ив юморе) перед нами реа¬
листическое изображение действительности, но в то же время
настолько обострённо воспринимающее недостатки действитель¬
ности, что оно перерастает в романтический протест против неё,
в отчётливое противопоставление ей идеала. С другой стороны,
в сатире перед нами и романтическое изображение действитель¬
ности, но с точки зрения несоответствия реальной, трезво изучен¬
ной действительности идеалу, ей противопоставляемому. Поэто¬
му-то сатирический образ характеризуется и глубоким реалисти¬
ческим содержанием и в то же время элементами исключитель¬
ности, характерными для романтизма языковыми особенностями
(усилением субъективно-оценочной стороны речи: тропов, фигур),
фантастичностью, условностями, короче — гораздо большей сво¬
бодой в изображении реальных жизненных явлений, сравнительно
с чисто реалистическим образом.
Конкретное осуществление юмористического изображения
даёт самые разнообразные формы, однако основной их особен¬
ностью является гиперболизация, преувеличение тех или иных
черт явления для того, чтобы ярче выступила их внутренняя
неполноценность, диспропорциональность. Так, карикатурист,
подметив ту или иную, может быть, и мало заметную, неправиль¬
ность в чертах человека, резко усиливает её в рисунке и тем
самым обнаруживает её, позволяет каждому её заметить.
Рисуя Собакевича, например, Гоголь последовательно под¬
чёркивает в нём и в окружающей его обстановке одну и ту же
черту, которая поэтому и вызывает всё более и более нарастаю¬
щее комическое чувство. Неуклюжесть Собакевича проявляется
и в его жестах и движениях, и в описании его сапог, и в его аппе¬
тите, и в его колодце, который построен из дуба, идущего на
постройку кораблей, и в его отрывистой речи («прошу»), и в кар¬
тинах, на которых изображены герои с неимоверно толстыми
87
ляжками, и в дрозде, который своим видом говорил: «И я тоже
Собакевич», и в ватрушке величиной с тарелку; и т. д.
Комизм достигается иногда изображением нелепых характе¬
ров, иногда нелепых положений, иногда — самой речью повество¬
вателя, опять-таки чаще всего построенной на несоответствии
образа рассказчика и той ситуации, о которой идёт речь (преуве¬
личенная серьёзность, когда речь идёт о незначительных явле¬
ниях, или, наоборот, изложение возвышенной темы шутовским
языком, например, так называемая бурлеска, пародия, в которой,
по выражению Скаррона, боги говорят языком торговок и тор¬
говки — языком богов).
Трагическое Могут быть случаи, когда жизненное проти-
1 воречие представляется художнику неразре¬
шимым, он может видеть всю его опасность, но не находить
путей борьбы с ним. В этом случае то переплетение комического
и ужасающего, которое характерно для сатирического образа,
отпадает, на первый план выступает тот ужас, который вызы¬
вает грозящее, но неустранимое несоответствие жизненных
явлений. Осознание художником неразрешимых противоречий
жизни, вызывающих ужас, связано уже с возникновением тра¬
гического чувства, чувства неразрешимости противоречий, с ко¬
торыми столкнулся человек.
Так, в эпоху античности, когда человек ещё не достиг гос¬
подства над природой и вынужден был покоряться её стихийной
силе, не понимая её законов, необычайно было развито пред¬
ставление о власти рока, судьбы, управляющей жизнью человека.
Господство рока, предопределённой человеку судьбы, кото¬
рая стоит на пути всех его стремлений, ломая все его попытки
сопротивляться, было основной темой античной трагедии.
Такова, например, судьба Эдипа, который не может изменить
начертанной ему судьбы: он должен убить отца и жениться на
своей матери. Такова судьба Антигоны, которая не может выйти
из рокового круга: похоронив своего брата Полиника, она нару¬
шит запрет царя Креона, не похоронив, — нарушит закон богов,
и в том и в другом случае гибель её неизбежна. Сила человече¬
ского характера и слабость человека перед роком — вот нераз¬
решимое противоречие, которое уже не могло быть разрешено, и
наполняло ужасом человека античной эпохи. Так возникал тра¬
гический образ, так жизненные противоречия, осознав-
шиеся — в случае их лёгкого разрешения — в комическом плане,
получали трагическое осмысление тогда, когда они представля¬
лись неразрешимыми.
В социалистическом обществе проблема трагического стоит
совершенно иначе. Эта особенность вытекает из сознания совет¬
ского человека, что он не исчерпывается самим собой («если я
только для себя, то — зачем я?»), что за ним стоит его народ,
его родина. Погибая, советский человек знает, что он погибает
ради торжества общего дела, что он спасает других, дорогих ему
88
людей. Александр Матросов, закрывая своей грудью дуло враже¬
ского пулемёта, спокойно, мужественно встретил свою смерть,
ибо он сознавал, что спасает своих друзей, приближает победу
народу над фашизмом.
По этому пути разрешения трагедии потери близкого чело¬
века—идёт советский поэт П. Антокольский в своей поэме «Сын».
Он кончает поэму словами:
И в том бою, бою неистребимом
Любимые чужие сыновья
Идут на смену сыновьям любимым
Во имя большей правды, чем твоя.
В юмористических, сатирических и трагических образах перед
нами те же основные черты образного отражения жизни: чело¬
веческая жизнь, индивидуализация, обобщённость, вымысел,
эстетическая окраска, но выступают они в чрезвычайно своеоб¬
разной форме. Общее понятие образа, данное нами, требует каж¬
дый раз своего исторического осмысления, потому что прояв¬
ляется оно каждый раз по-своему — в зависимости от историче¬
ской обстановки, определяющей метод, жанр, тип образов, созда¬
ваемых писателем, и того содержания, которое он в них вкла¬
дывает с тех или иных классовых позиций.
Героический Следует здесь же отметить ещё один своеоб-
образ разный тип образа, с которым мы сталки¬
ваемся в истории литературы, — это образ, в котором художник
стремится непосредственно воплотить свои эстетические пред¬
ставления о человеке, о том, каким он должен быть. Образ та¬
кого типа называют обычно положительным, а в наиболее ярком
его проявлении — героическим.
Таковы, например, в античной литературе характеры Ахил¬
леса или Прометея. Героический характер — это характер, непо¬
средственно воплощающий в себе представления художника о
том, каким должен быть человек, это воплощение его идеалов.
В том случае, если художник сумел в своей исторической обста¬
новке уловить и выразить такие черты, которые являются общими
и для людей других периодов, — эти образы сохраняют, как мы
говорили, своё значение и для позднейшего времени. Так, напри¬
мер, Маркс чрезвычайно высоко ценил ту силу, стойкость, непре¬
клонность, способность к величайшей самоотверженности, кото¬
рые вложены античной литературой в образ Прометея.
Цитируя слова Прометея, сказанные им посланнику Зевса —
Гермесу:
Знай хорошо, что я б не променял
Своих скорбей на рабское служенье:
Мне лучше быть прикованным к скале,
Чем верным быть прислужником Зевеса.
Маркс говорил: «Прометей — самый благородный святой и му¬
ченик в философском календаре».
89
ГЛАВА IV
ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ
Качество образа
Образность и художественность
Понятие художественности есть понятие родовое,
Отличающее литературу (шире — искусство) от других ви¬
дов идеологической деятельности. В этом широком смысле слова
оно в сущности совпадает с понятием образности: художествен¬
ное отражение жизни и есть отражение жизни в образах.
Но совершенно очевидно, что два произведения, которые мы
отнесём по их основным свойствам к художественной литературе,
могут не совпадать по своим достоинствам. В одном эти свой¬
ства могут быть осуществлены чрезвычайно полно, удачно и
богато, в другом, наоборот, — грубо и бедно.
Мы очень часто говорим, что одно произведе¬
ние художественнее другого, что есть
произведения малохудожественные и т. д., хотя в то же
время эти произведения относим к художественной литературе,
так как в них налицо основные свойства художественного отра¬
жения жизни, т. е. образность. Но качество образов может быть
у одного писателя ниже, чем у другого, следовательно, его про¬
изведение будет менее художественно. Стихотворения Пушкина
художественнее стихотворений Дельвига, а стихотворения Дель¬
вига, в свою очередь, художественнее стихотворений других
поэтов, и т. д. В своё время Плеханов, ставя вопрос о соотноси¬
тельности понятия художественности, писал:
«...мы имеем право утверждать, что рисунки, например, Леонардо да
Винчи лучше рисунков какого-нибудь Фемистоклюса *, пачкающего бумагу
для своего развлечения. Когда Леонардо да Винчи рисовал, скажем, старика
с бородой, то у него и выходил старик с бородой. Да ещё как выходил! Так
что при виде его мы говорим: «Как живой!» А когда Фемистоклюс нарисует
такого старика, то мы лучше сделаем, если, во избежание недоразумений,
подпишем: это старик с бородой, а не что-нибудь другое».
Таким образом, вопрос о художественности есть вопрос не
только о том, что отличает художественное литературное произ¬
ведение от нехудожественного литературного произведения, а и
вопрос oi том, что отличает одно художественное
произведение от другого, т. е. вопрос о е г о ка¬
честве.
Вопрос о художественности — это вопрос о том, в какой мере
сумел писатель полноценно осуществить возможности, присущие
литературе как особой форме отражения жизни.
Как видно, понятие художественности употребляется в двух
смыслах: специфичности и качества. Проще было бы сохранить
1 Имеется в виду Фемистоклюс из «Мёртвых душ» Гоголя — сын Ма¬
нилова.
SO
за ним, во избежание недоразумений, лишь один смысл, рассмат¬
ривая понятие художественности как понятие качества, поскольку
мы уже имеем понятие образности для определения специфично¬
сти литературного творчества. Но в существующей литературе
оно употребляется то в том, то в другом смысле, и, следова¬
тельно, в каждом данном случае нужно уметь выяснить, во избе¬
жание путаницы, в каком смысле оно было употреблено. В даль¬
нейшем понятие художественности мы будем употреблять лишь
в одном смысле — в смысле качества.
Каковы же те условия, которые определяют художествен¬
ность произведения?
Верность обобщения
Жизненная
правда
Поскольку перед нами встаёт вопрос о качестве произведе¬
ния, т. е. об его оценке, необходимо определить принцип оценки.
Совершенно очевидно, что в установлении этого принципа оценки
(критерия) художественности мы должны исходить из того, в
какой мере в данном произведении осуществились свойства, при¬
сущие литературе как особой форме отражения жизни.
Литература прежде всего есть отражение жизни, познание её,
и первое требование, которое мы должны к ней предъявить, —
это требование правдивого отражения жизни, требование жизнен¬
ной правды, верности обобщения.
Понятно, конечно, что это требование относи¬
тельно. Мы уже говорили о том, что отраже¬
ние жизни, являясь безусловным в том смы¬
сле, что оно отражает определённые реальные её явления, в то
же время условно в том смысле, что оно может в силу данных
исторических причин отразить эти реальные явления односто¬
ронне, ошибочно. Пользуясь определениями Ленина, мы можем
сказать, что всякое отражение жизни с точки зрения абсолют¬
ной, полной истины представляет собой относитель¬
ную истину.
С этой точки зрения, учитывая ту историческую обстановку,
в которой находился данный писатель и которая определяла его
познавательные возможности, мы предъявляем к писателю тре¬
бование возможно верного отражения тех областей жизни, кото¬
рые он стремится нам показать. Таким образом, критерий жиз¬
ненной правды является для нас определяющим при оценке
художественности произведения. Но что значит установить жиз¬
ненную правдивость произведения? Это значит — проверить про¬
изведение самой жизнью, соотнести его с той областью жизни,
которая в нём отражена, и тем самым определить, в какой мере
верное представление о ней оно нам даёт. Было бы неверно сво¬
дить эту проверку лишь к чисто исторической, эмпирической про¬
верке, что, конечно, тоже имеет своё значение. Поскольку мы
говорим о единстве общего и исторического в произведении,
91
постольку мы имеем право проверять изображённые писателем
характеры и события с точки зрения всего того жизненного опыта,
которым мы располагаем. Один из крупнейших теоретиков искус¬
ства — Лессинг — говорил, что
«при каждом шаге, который делают герои истинного поэта, мы должны
будем сознаться, что и мы поступили бы точно так же при подобном раз¬
витии страсти, при том же порядке вещей».
Определив свойства данного характера, мы получаем возмож¬
ность изучать его и с точки зрения внутренней вероятности его
поведения, как бы перенося себя в его обстановку и подвергая
себя действию тех же закономерностей, которые действовали и
на него. Поэтому критерий жизненной правды требует чрезвы¬
чайно глубокого и серьёзного подхода к произведению — не
отыскивания внешних соответствий или несовпадений между ним
и изображённой в нём областью жизни, а проверки самого пони¬
мания писателем жизни, верности и вероятности его характеров
на основе учёта окружавшей его исторической обстановки.
«Быт различных классов Европы я знаю... только по книгам, — писал
М. Горький, — но Гамсун, Бальзак, Золя, Мопассан, Диккенс, Гарди и другие
литераторы Европы крайне редко возбуждают у меня сомнение в точности
изображения ими событий, характеров, логики мысли и чувства».
Эти слова М. Горького очень ясно обнаруживают, что мы,
оценивая художественность литературного произведения, учиты¬
ваем и на основе своего собственного опыта те общие закономер¬
ности логики мысли и чувства, которые позволяют про¬
изведению звучать и за пределами исторического периода, в ко¬
тором оно возникло.
Это тем более следует подчеркнуть, что произведение не мо¬
жет и не должно нам дать точной копии жизни. Мопассан спра¬
ведливо указывал на то, что писатель стремится
«... не к тому, чтобы показать нам пошлую фотографию жизни, но чтобы
дать её изображение более полное, более захватывающее, более убедитель¬
ное, чем сама действительность. Рассказать всё было бы невозможно, потому
что тогда потребовалось бы не менее тома на каждый день... Таким образом,
отбор делается неизбе?кным».
В своё время Тургенев заметил: «Кто все детали передаёт —
пропал, надо уметь схватывать одни характеристические детали.
В этом одном и состоит талант».
Этот отбор идёт, конечно, по линии выделения наиболее ха¬
рактерного для действительности, наиболее существенного для
яркого изображения данного характера или события; таково,
например, описание у Некрасова Якима Нагого («Кому на Руси
жить хорошо» — «Пьяная ночь»):
Грудь впалая, как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучены, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю-матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо,
Рука — кора древесная,
А волосы — песок.
92
Поэтому в ряде случаев писатель для более чёткого выделе¬
ния изображаемого может и нарушить бывшую в жизни после¬
довательность событий и т. п., добиваясь этим усиления общей
правдивости произведения, большей силы его воздействия. В ка¬
честве исключительного примера этой смелости художника в
обращении с жизнью Гёте в своё время приводил картину Ру¬
бенса, где фигуры бросают тени в глубь картины, а группа де¬
ревьев отбрасывает тень по направлению к зрителю, как будто
свет идёт с двух противоположных сторон, и Шекспира, у кото¬
рого леди Макбет в одном действии имеет детей, а в другом
оказывается, что у неё детей нет. По этому поводу Гёте добав¬
ляет, что Шекспир стремился
«...дать самое яркое и действенное в данный момент», что «поэт заставляет
своих действующих лиц говорить каждый раз то, что более всего подходит
и может произвести наиболее сильное впечатление именно в данном месте, и
не вдаётся в особенно тщательные изыскания — не вступают ли эти слова в
явное противоречие с тем, что сказано в других местах».
Это связано именно е тем, что благодаря отбору жизненных
явлений писатель может я опустить те или иные звенья в пове¬
ствовании. Так, А. Дерманом было указано, например, что в
«Деле Артамоновых» у Горького допущена ошибка: Наталья
ложится спать, не раздеваясь, а встав, она «босая, в одной рубахе
быстро сошла вниз». Для её состояния вначале было важным 1
показателем то, что она, «утомлённая волнением, заснула, не раз¬
деваясь»; для её состояния в следующем эпизоде было важно
то, что она спешит к своей матери, не одеваясь; перед нами отбор'
характерных деталей, важных для понимания состояния персо¬
нажа.
Надо ли было Горькому писать о том, что ночью Наталья про¬
снулась и разделась? Прямолинейность в оценке такого рода
деталей весьма опасна, потому что детали эти не имеют само¬
стоятельного значения, а мотивированы тем, что писатель в дан¬
ный момент изображает. Поучительным в этом отношении был
спор относительно того, как следует читать одну реплику Альбера
в «Скупом рыцаре» Пушкина. Альбер, взволнованный тем, что
ростовщик предложил ему яд, чтобы отравить отца, решает не
брать у него денег, говоря:
Его червонцы пахнуть будут ядом,
Как сребреники пращура его... *.
Известный пушкинист Н. О. Лернер счёл это опиской Пушкина
и даже типографской ошибкой, предположив, что нужно читать:
«Его червонцы пахнуть будут адом».
Он мотивировал своё предположение следующим образом:
«Иуда не отравил Иисуса, а Предал его, и сказать, что полученные пре¬
дателем спебпечики пахли «ядом», значило бы приписать Пушкину слиш¬
ком натянутый образ [образ в смысле словесного образа, о чём мы ужа
1 То-есть Иуды, предавшего Христа.
93
говорили выше]. Недаром пословица говорит: «деньги не пахнут». Иное
дело — ад. Адская кара объединяет предателя и отравителя. Как бы ни
были различны преступления, получаемая от них материальная корысть
действительно одинаково «пахнет адом». В эсхатологической традиции хри¬
стианства ад неизменно представляется смрадным, тогда как рекомендуемые
ростовщиком капли Товия, безвкусные и бесцветные, конечно, лишены
всякого запаха...», и т. д.
Всё это было бы, может быть, и верно, если бы суждение
высказывалось самим Пушкиным в порядке какой-либо логиче¬
ской аргументации, но здесь эти слова принадлежат Альберу,
потрясённому предложением ростовщика. Мысль о яде неотступно
с ним, и ему не до того, чтобы вместе с Лернером рассуждать —
могут ли деньги пахнуть ядом или нет, он одержим в этот мо¬
мент этим переживанием и произвольность, алогичность его
выражений лучше всего передают состояние его характера, так
как Пушкина интересует не опровержение выражения деньги не
пахнут, а изображение состояния Альбера в момент величайшего
волнения.
Таким образом, проверка произведения действительностью
должна делаться на уровне тех обобщений, которые даны в про¬
изведении, в связи с логикой развития изображённых характеров
(если, конечно, нет прямого просмотра художника, например,
львица с гривой в стихотворении Лермонтова о Тереке).
Жизненность изображения
Отражение жизни в литературе характеризуется тем, что в ней
обобщение дано в форме непосредственных жизненных фактов,
явлений жизни. Только в этом своём непосредственном индиви¬
дуальном виде обобщение и приобретает свою ценность: мы ви¬
дим жизненные закономерности в их конкретном осуществлении,
наблюдаем жизненный процесс в его непосредственном движе¬
нии. Следовательно, необходимым условием художественности
является реализация обобщений писателя в конкретных жизнен¬
ных формах со всем богатством индивидуализации и синтетич¬
ности. Говоря о жизненной правде как об относительно истин¬
ном (в данных исторических возможностях) отражении жизни,
мы имеем в виду жизненную правду характеров и
событий, изображённых писателем. Если характеры не ока¬
жутся для нас убедительными, то и обобщения писателя не при¬
мут необходимой для них жизненной, конкретной убедительно¬
сти, останутся на поверхности произведения.
1 Сравним изображение Пушкиным состояния Германа (в «Пиковой
даме»), узнавшего тайну трёх карт: «Тройка, семёрка, туз не выходили из
его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он го¬
ворил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спраши¬
вали: «Который час?» Он отвечал: «Без пяти минут семёрка». Всякий пуза¬
стый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семёрка, туз — преследовали его
во сне, принимая всевозможные виды: тройка цвела перед ним в образе
пышного грандифлооа. семёпка претставлялась готическими воротами, туз —
огромным пауком. Все мысли его слились в одну...»
94
«...Тенденция, — писал в 1885 г. Энгельс немецкой писатель¬
нице Каутской (под тенденцией имеются в виду тот вывод, идея,
к которым автор хочет привести читателя. — Л. Т.), — должна
сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы
на это особо указывалось...»
Точно так же в письме к Лассалю он указывал на необходи¬
мость того, чтобы мотивы действий героев произведения «более
живо, активно и, так сказать, стихийно выдвигались на первый
план ходом самого действия...» Как видим, в этих формулиров¬
ках настойчиво подчёркивается, что необходимым условием худо¬
жественности является полное осуществление обобщений писа¬
теля в характерах и событиях.
С этой точки зрения определение Энгельсом задач писателя,
разбиравшееся нами ранее, является по сути дела и определе¬
нием критерия художественности, поскольку положение о типи¬
ческих характерах в типических обстоятельствах включает в себя
как момент глубокой жизненной правды (типичность), так и пе¬
реход её в живые характеры и события.
Критерий Критерий художественности, следовательно,
художествен- определяется нами прежде всего как верность
ностн обобщения и жизненность изображения. По¬
этому-то мы зачастую не удовлетворяемся произведением, в ко¬
тором серьёзность и правильность положений автора, казалось
бы, неоспоримы. Очевидно, автор не сумел перевести их в дей¬
ствие, т. е. в характеры и события, так, чтобы они сами собой
выступили перед нами как явления жизни. Даже у такого худож¬
ника, как Л. Толстой, мы находим в «Войне и мире» философско-
исторические размышления, не связанные с действием и резко
отличающиеся по своей художественности от всего романа в це¬
лом. Столь же часто нас не удовлетворяют произведения, в ко¬
торых, несмотря на несомненную удачу их в смысле индивидуа-
лизированности характеров и увлекательности событий, писатель
не сумел приблизиться к жизненной правде, помочь нам понять
ту или иную область жизни в её художественном обобщении.
Таково, например, большинство авантюрных романов, в которых
увлекательность событий не связана с глубиной характеров и
верностью изображения. Они скользят по поверхности внимания
читателя, не задевая его глубоко, быстро забываются. Произве¬
дение, в котором не воплощено обобщение или воплощено недо¬
статочно, — недостаточно художественно. Следовательно, кри¬
терий художественности определяется прежде всего как жизнен¬
ная правда характеров и событий, изображённых писателем в
пределах его исторических возможностей.
Таким образом, понятие художественности нельзя свести к тем
или иным внешним правилам, соблюдение которых и определит
заранее художественность данного произведения. Художник каж¬
дый раз как бы наново решает для себя задачу достигнуть в
достаточной мере высокой степени художественности в своём
95
произведении, и это определяется прежде всего тем, в какой мере
глубоко сумел он отразить интересовавшую его область жизни,
какой силой воображения нарисовал он свои образы. Поэтому-то
могут быть весьма различны по своей художественности произ¬
ведения одного и того же писателя и даже отдельные образы и
страницы одного и того же произведения.
Это различие в художественности особенно отчётливо высту¬
пает при сравнении произведений, написанных об одних и тех же
явлениях жизни различными писателями. В этом случае легко
уловить, как сказывается определённый уровень знания жизни,
глубины понимания, её сила воображения, чутьё языка, короче—
талант писателя, как бы помноженный на его жизненный опыт,
культуру и значительность его эстетических идеалов, как сказы¬
вается всё это на полноте художественного осуществления писа¬
телем поставленной им цели.
Сравним — в самых общих, конечно, чертах — два произведения, говоря¬
щие об Отечественной войне 1812 года: «Войну и мир» Л. Толстого и «Рос-
славлев, или русские в 1812 году» М. Загоскина.
Стремясь показать события 1812 года образно, т. е. через характерные
для них индивидуальные судьбы людей -во всём многообразии их пережи¬
ваний, мыслей и поступков, Загоскин остановился на ситуации, по сути
дела весьма мало существенной для этих событий. В центре его внима¬
ния — отношения Рославлева и его невесты Полины, ему изменившей и вы¬
шедшей замуж за пленного француза. Страдания Рославлева и Полины, по¬
гибшей в Данциге среди чуждых ей людей во время осады этой крепости
русскими, и составляет основное содержание романа Загоскина. Судьба
Рославлева переплетается с событиями эпохи, поэтому в романе изобра¬
жается и пожар Москвы, и отступление французов; в нём показаны истори¬
ческие лица — Кутузов, Наполеон, рисуется партизанская война, короче —
многое из того, что составляет содержание и романа Толстого.
Но самый конфликт, который определяет отношения Рославлева и По¬
лины, по сути дела не связан органически с этими событиями, поэтому они
и затрагиваются в романе лишь бегло, поверхностно, в силу этого и харак¬
теры людей не проявляют себя с достаточной полнотой. Загоскину прихо¬
дится связывать героев друг с другом и с событиями при помощи натянутых
случайностей: случайно Синекур попадает туда, где живёт Полина, случайно
Рославлев попадает в церковь, когда Полина венчается с Синекурой, слу¬
чайно встречает её в Данциге.
Бедность характеров сказывается в упрощённости изображения их ду¬
ховной жизни. Рославлев, узнав от умирающей Полины, что его любит её
сестра, без каких бы то ни было существенных душевных переживаний
становится мужем её и т. п. Упрощённо представляя себе характеры пер¬
сонажей, Загоскин не может воссоздать силой художественного вымысла и
окружающую их жизнь. Описания боевой обстановки у него бледны, сухи:
«Несколько часов сряду наш ариергард удерживал стремление неприя¬
теля, наступающая ночь прекратила, наконец, военные действия; пушечные
выстрелы стали рейсе, и стрелки обеих армий, протянув передовые цепи,
присоединились к своим колоннам», и т. п.
О 1812 годе говорит и Л. Толстой. Но охват жизненного материала у
него исключительно широк: он затрагивает вопросы, основные для пони¬
мания сббытий этого времени, в центре его внимания — народная война.
Герои его на этом широком историческом фоне проявляют себя чрезвы¬
чайно разносторонне, живут богатой, содержательной жизнью, описания
боевой обстановки даны в связи с восприятием людей, в ней находящихся,—
Пьера, Тушина, Болконского, и поэтому ярко конкретизированы. Поступки
людей у Толстого являются результатом их сложных душевных пережи-
06
ваний, подсказанных самой жизнью, и поэтому глубоко убедительны для
читателя.
Как Рославлев от Полины приходит к её сестре Оленьке и находит в
ней своё счастье, так и Наташа становится счастливой женой друга Андрея
Болконского — Пьера. Но сближение Пьера и Наташи назревает в течение
всего предшествующего действия романа, Наташа угадывает любовь Пьера,
ей открыта его душевная красота. Лишь по мере того, как жизнь закры¬
вает ту тяжёлую душевную рану, которую нанесла ей смерть Болконского,
возникает её любовь к Пьеру.
Высота
эстетического
идеала
Все эти примеры, как и множество других, позволяют нам
сказать, что роман Толстого художественнее романа Загоскина.
Можно сказать, что всё дело в различии талантов обоих писа¬
телей. Но талант не существует отвлечённо, сам по себе. Он про¬
является в тех формах, которые даёт ему духовное содержание
писателя в целом, т. е. те вопросы, которые его волнуют, те
эстетические цели, которые он себе ставит, культура и опыт, ко¬
торые он накопил.
Всё это в совокупности и есть талант писателя в полном его
объёме. В основе его лежит способность к постижению жизнен¬
ной правды, и она тем полнее может проявиться, чем полнее пи¬
сатель проявит свой талант, т. е. вложит в него всё богатство
своей душевной жизни.
Произведения, равные друг другу и по верно¬
сти обобщения, и по жизненности изображе¬
ния, в то же время могут иметь различную
художественную ценность.
Это различие будет зависеть от тех эстетических идеалов, кото¬
рыми руководствуется художник, создавая свои произведения.
Чем более высокие идеалы в пределах реальной исторической
перспективы ставит он перед читателем, заставляя его задуматься
над своими образами, тем большее художественное значение при¬
обретает его произведение (при соблюдении, конечно, осталь¬
ных условий).
Эти идеалы подсказывают художнику прежде всего его ми¬
ровоззрение. Чем глубже художник вглядывается в жизнь, тем
выше цели, которые он себе ставит. Но, как мы знаем, писатель
может уловить в действительности те или иные эстетические
ценности и тогда, когда сам он им не сочувствует, т. е. не осо¬
знаёт их как явления, связанные с его представлением об идеале.
Так, например, Тургенев, в романе «Отцы и дети» ставил себе
задачей доказать неверность того пути, по которому шёл База¬
ров. Но в то же время в Базарове он в достаточной мере верно
уловил характерные черты революционной молодёжи того вре¬
мени, и образ Базарова многими читателями воспринимался как
образ, эстетически положительно окрашенный, хотя сам Турге¬
нев стремился к обратному. Старый революционер С. И. Мицке¬
вич в своих воспоминаниях «Революционная Москва» рассказы¬
вает о том, какое впечатление на него произвёл образ Базарова:
7 Тимофеев
97
«Базаров произвёл на меня сильнейшее впечатление. Воспринят он был
мною как герой-борец... Базаров меня окончательно укрепил в моём реше¬
нии порвать с военщиной и идти но другому пути — по пути Рудина, героев
«Нови», Базарова. Этими произведениями Тургенев дал мне сильный толчок
по направлению к революции, к революционному народничеству. И надо ска¬
зать, что не на одного меня производил он такое влияние. Можно смело
сказать, что романы Тур1енева с конца 50-х до конца 90-х годов являлись
для молодых читателей обычно первыми толчками, разбивающими старое,
косное мировоззрение и ведущими к критике существующего строя и к про¬
тесту против него».
Перед нами яркий пример того, как богатый жизненный ма¬
териал, собранный писателем, помогает осмыслению жизни, хотя
сам писатель делает из него неправильные выводы; образы его—
шире его мировоззрения; рисуя действительность именно на
основе своего мировоззрения, он в то же время выходит за его
пределы, благодаря тому, что он показывает человека в конкрет¬
ной жизненной обстановке.
Таким образом (безотносительно к тому, в какой мере это
осознано самим писателем), художественность произведения
определяется и тем эстетическим отношением к жизни, которое
будит оно у читателя. Эстетическая устремлённость писателя
входит, следовательно, в число тех требований, без которых
художественность произведения не может считаться завершён¬
ной. Советская литература выдвигает наиболее высокий в исто¬
рии человечества эстетический идеал человека, отдавшего себя
служению народу, борющегося за победу социализма. Её основ¬
ная задача—воспитание молодёжи и всего народа в свете этого
идеала, в готовности преодолеть все й всякие препятствия в
борьбе за него.
Народность
Эстетическое отношение к жизни неразрывно связано с теми
идеалами, которые имеют общественную значимость. Не сле¬
дует, конечно, понимать общественную значимость узко. Говоря
о ней, мы имеем в виду всё, что помогает развитию общественно¬
ценного в человеке. Лирика Фета не ставит больших обществен¬
ных вопросов, но в ней полно раскрыт интимный мир человека,
чувство природы, тончайшие нюансы любовных переживаний.
Всё это утончает и облагораживает духовный мир его читателей
и в этом отношении открывает им новые эстетические ценности,
т. е. общественно значимо. Если же писатель будет провозгла¬
шать как эстетически ценное только то, что увлекает лишь его
одного, произведение его не приобретёт художественной силы,
останется документом его личной жизни. Наоборот, чем более
общую эстетическую норму сумеет он уловить, тем шире будет
общественное воздействие его творчества, тем значительнее бу¬
дут его образы. Вот почему в критике уже весьма давно укоре¬
нилось понятие народности как понятие, говорящее о том,
что писатель достиг наиболее высокого уровня художественно¬
сти. Мы говорим о народности творчества Пушкина, Л. Тол¬
98
Историческое
содержание
понятия
народности
стого, Некрасова, т. е. относим это понятие к крупнейшим нашим
художникам. В этом смысле народность есть высшая
форма художественности, т. е. наиболее полное осу¬
ществление всех условий, необходимых для её достижения.
В то же время вопрос о народности осложнён тем, что в раз¬
личное время в это понятие вкладывалось различное содержание,
В своё время ещё Пушкин писал: «С некоторых пор вошло у нас
в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жа¬
ловаться на отсутствие народности, — но никто не думал опреде¬
лить, что разумеет он под словом народность».
Происходило это по существу потому, что поня¬
тие народности менялось в связи с самим разви¬
тием литературы, в зависимости от этого в него
и вкладывали различное содержание.
Часто народность творчества видели в том, что в
нём находила себе отражение та или иная сторона народной
(точнее — крестьянской) жизни. В своё время это было в изве¬
стной мере верно. В XVIII' в. в России культура почти целиком,
так же как и литература, находилась в руках дворянства, жизнь
трудовых народных масс стояла вне поля зрения художника.
Карамзин заявлял, что «дворянство есть душа и благородный
образ всего народа». Поэтому те немногие произведения, в ко¬
торых некоторые писатели пытались в XVIII в. заговорить о
жизни народа, хотя бы робко изображая его быт, передавая осо¬
бенности крестьянского языка и т. п., являлись большим шагом
вперёд, говорили о сочувствии писателя жизни народа.
Характерно, что драматург Лукин (1737—1794), подвергший¬
ся нападкам за то, что воспроизводил в своих пьесах народный
язык, отвечая на эти нападки, говорил не столько о языке, сколь¬
ко о крепостном праве: «У нас не все те крестьянский язык разу¬
меют, которые наделены деревнями; не много сыщется помещи¬
ков, в состояние сих бедняков по должности христианской вхо¬
дящих. Есть довольно и таких, которые от чрезмерного изоби¬
лия о крестьянах иначе и не мыслят, как о животных, для их
сладострастия созданных. Сии надменные люди, живучи в рос-
кошах, нередко добросердечных поселян, для пробавления жизни
нашей трудящихся, безо всякия жалости разоряют. Иногда же
и то увидишь, что с их раззолоченных карет, с шестью ло¬
шадьми без нужды запряжённых, течёт кровь невинных земле¬
дельцев».
Таким образом, это первичное введение в литературное изо¬
бражение элементов народного быта было связано с прогрес¬
сивными идеями своего времени.
Но само по себе непосредственное изображение народной
жизни ещё не обеспечивает той высокой степени художествен¬
ности, которая, как говорилось, связана с представлением о на¬
родности, поэтому понимание народности как простого изобра¬
жения жизни народа неполно, недостаточно. С развитием лите¬
99
ратуры, и прежде всего с появлением Пушкина, представление
о народности становится значительно глубже, народность свя¬
зывают с отражением существенных народных черт, духа на¬
рода, его основных национальных особенностей. «Климат, образ
правления, вера, — писал Пушкин, — дают каждому народу
особенную физиономию, которая более или менее отражается в
зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма
поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-
нибудь народу». Критик Н. И. Надеждин (1804—1856) писал:
«Под народностью я разумею совокупность всех свойств, наруж¬
ных и внутренних, физических и духовных, из которых слагается
физиономия русского человека, отличающая его от всех прочих
людей... Русский человек во всех сословиях, во всех ступенях
просвещения и гражданственности имеет свой отличительный
характер... Русский ум имеет свой особый сгиб, русская воля
отличается особой, ей только свойственной упругостью и гибко¬
стью, точно так же как русское лицо имеет свой особый склад,
отличается ему только свойственным выражением».
Такое понимание народности не лишено существенного зна¬
чения. Каждая национальность обладает своей исторической
судьбой, находится в определённой природной обстановке, в ней
вырабатываются существенные и стойкие черты характера, и
задача художника состоит в том, чтобы уловить эти черты. Но
в то же время представление о национальности как о неделимом
целом является неверным. Об этом писал Ленин: «Есть две
национальные культуры в каждой национальной культуре.
Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Стру¬
ве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая
именами Чернышевского и Плеханова. Есть такие же две куль¬
туры в украинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у евреев
и т. д.». Пуришкевич, Гучков, Струве — это реакционеры, боров¬
шиеся с революционным движением в России накануне Октября
и после него. Поскольку они выступали против народных инте¬
ресов, Ленин ставит их вне подлинно национальной русской
культуры. Таким образом, национальное не всегда совпадает
с народным, хотя в то же время и неразрывно слито с народно¬
стью. Народное — это то лучшее, что есть в национальном.
В первой половине XIX в. понятие народности прочно входит
в литературу, самый термин этот был впервые предложен П. А. Вя¬
земским (1792—1878) в 1825 г. в статье «Разговор кла'ссика
с издателем», а ещё раньше в письме к А. Тургеневу в 1819 г.
Наиболее полное развитие оно находит у Белинского. «В на¬
ше время, — писал он, — народность сделалась первым достоин¬
ством литературы и высшею заслугою поэта. Назвать поэта «на¬
родным» значит теперь — возвеличить его». Для Белинского
подлинно художественное творчество неотъемлемо от народно¬
сти: «У кого есть талант, кто поэт истинный, — пишет он, — тот
не может не быть народным». Сама литература для Белинского—
100
Содержание
понятия
народности
«сознание народа». «В ней, — говорил он, — как в зеркале, отра¬
жается его дух и жизнь; в ней, как в фокусе, видно назначение
народа, место, занимаемое им в великом семействе человече¬
ского рода».
В наше время, в эпоху, когда освобождённый русский народ
и братские национальности нашего Союза вышли на широкую
дорогу строительства новой жизни, вопрос о народности твор¬
чества, естественно, приобрёл ещё большее значение. «Народ,—
говорил Горький, — не только сила, создающая все материаль¬
ные ценности, он единственный и неиссякаемый источник цен¬
ностей духовных». В свою очередь, и искусство социалистиче¬
ского общества находит свою наиболее высокую цель в служе¬
нии народу. «Искусство, — говорил Ленин (в беседе с Кларой
Цеткин), — должно уходить своими глубочайшими корнями в
самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть по¬
нятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чув¬
ство, мысль этих масс, подымать их».
В основе народности искусства, таким образом,
лежит по существу единство его с народом.
В чём, конкретно, находит своё выражение
это единство?
Прежде всего в том, что художник будет в своём творчестве
ставить вопросы, имеющие общенародное значение. Только в
этом случае он сумеет довести свои образы до чувства, мысли и
воли народных масс.
«Капитанская дочка», «Медный всадник», «Борис Годунов»,
«Евгений Онегин» — это произведения народного значения, по¬
тому что они отражают существенные противоречия эпохи, по¬
нимание которых важно для народа в целом. Сама по себе народ¬
ная жизнь не является предметом изображения в «Евгении
Онегине», например, но в то же время Белинский с полным пра¬
вом назвал его «в высшей степени народным произведением», в
частности потому, что в нём поставлен вопрос, имевший важней¬
шее значение для народа,—о кризисе дворянства, кризисе гос¬
подствовавшего класса.
Первое условие народности — постановка в произведении
проблемы общенародного значения. Ленин ценил в Л. Толстом
именно широту и глубину постановки «великих вопросов» и счи¬
тал, что признаком действительно великого писателя является
именно то, что он отражает существенные противоречия своей
эпохи.
Понятно, однако, что поставив общенародную проблему,
художник может разрешить её, если он исходит из реакционного
мировоззрения, в таком плане, который окажется враждебным
народу. Поэтому необходимо отметить второе условие народно¬
сти: то, что художник освещает поставленную проблему в инте¬
ресах народа. Это значит, что собранный им жизненный
материал настолько богат, образы настолько содержательны,
101
мировоззрение
писателя
что они дают все основания сделать выводы, которые освещают
поставленные в произведении вопросы в интересах народа, т. е.
помогают ему в его борьбе за улучшение жизни.
Непосредственно художник о прошлом мог
Народность и и не выражать мыслей, которые явились бы
прямолинейным отражением интересов народа.
Важно, чтобы его богатое знание жизни, его
честность в изображении её, чуткость, с которой он улавливает
наболевшие в самой жизни вопросы, чтобы всё это, собранное
русской природы.
Демократичность
формы
в его произведении, могло привести к правильным выводам, хотя
бы сам писатель этого и не сделал. Поэтому мы иногда говорим
о народности безотносительно ко взглядам самого автора. «Го¬
голь,— писал Добролюбов,—очень близко подошёл к народной
точке зрения, но подошёл бессознательно, просто художнической
ощупью. Когда же ему растолковали, что теперь ему надо идти
дальше и уже все вопросы жизни пересмотреть с той же народ¬
ной точки зрения, оставивши всякую абстракцию и всякие пред¬
рассудки,... тогда Гоголь сам испугался: народность представи¬
лась ему бездной, от которой надобно отбежать поскорее».
Примером произведения, в котором общенародная значи¬
мость поставленных в нём проблем сочетается со вторым необ¬
ходимым условием народности—с освещением этих проблем в
интересах народа, служит «Евгений Онегин» Пушкина..
Пушкин показывает в нём тот кризис, в который уже вступало
дворянство в преддверии николаевской реакции. Талантливые,
сильные, обаятельные по своим нравственным качествам русские
люди — Татьяна, Онегин, Ленский — не могут нормально жить
и развиваться в этой общественной среде. Онегин живёт «без
цели, без трудов», убивает на поединке друга, «в напрасной скуке
тратит судьбой отсчитанные дни». Татьяна лишена возможности
проявить сколько-нибудь полно свой богатый характер, она на¬
всегда замкнута в узком кругу семейной жизни. Ленский поги¬
бает, но если бы он н остался жить, его ждала бы вернее всего
духовная гибель.
Таким образом, роман ставил перед читателями важнейшие
проблемы эпохи, раскрывая их на широком фоне русского быта,
Говоря о народности искусства, Ленин отме¬
чал, что оно должно быть понятно массам.
В этом — ещё один существенный признак
народности. Поскольку произведение, которое мы вправе назвать
народным, говорит о проблемах общенародной значимости, по¬
стольку оно не может не затронуть такие пласты жизни, кото¬
рые связаны с общенародным опытом, могут быть им усвоены.
А отсюда необходимо вытекает его доступность массам,
демократичность его формы. Вместе с тем, как го¬
ворит товарищ Жданов, «не всё доступное гениально, но всё
102
подлинно гениальное доступно, и оно тем гениальнее, чем оно
доступнее для широких масс народа».
Белинский говорил, что народная книга «при великой
важности содержания всем равно доступна».
В самом деле, богатство человеческой жизни, развёрнутое в
«Войне и мире» или в «Евгении Онегине», настолько велико, что
не может не найти отклика у самых разнообразных и широких
слоёв читателей, каждый найдёт в них отклик своим чувствам
и мыслям.
Демократичность формы искусства состоит в том, что изо¬
бражаемые им человеческие переживания и события человече¬
ской жизни близки народному опыту, связаны с такого рода сто¬
ронами- жизни, которые понятны массам. Антидемократическое,
формалистическое искусство рисует такие ограниченные по
своему значению жизненные ситуации и переживания, которые
далеки от народа, связаны с индивидуалистическим отношением
к жизни. Формалистические произведения всегда чужды народу.
„ Может показаться, однако, что те черты на-
в лирике родности, о которых мы говорили, слишком
общи и относятся только к произведениям
типа романов, рассказывающих о больших событиях, рисующих
сложные человеческие характеры. При таком понимании народ¬
ности окажется, в частности, что лирика уже не будет с ней
связана, ибо она не изображает сложных жизненных явлений,
о которых можно было бы сказать, что они имеют общенародное
значение.
Однако непосредственное чувство каждого, кто вспомнит,
например, лирику Пушкина, скажет, что и лирические стихи
Пушкина входят в круг тех произведений, которые мы привыкли
считать народными, хотя на первый взгляд мы и не улавливаем
в них общенародной значимости.
Мы говорили, что народность состоит прежде всего в том, что
писатель ставит такие существенные вопросы и так их раскры¬
вает, что его творчество освещает жизнь в интересах народа,
помогает его борьбе за освобождение. Но свобода, которой до¬
бивается народ, означает прежде всего свободу человека, т. е.
создание таких условий, которые обеспечивают расцвет лично¬
сти, полное и гармоническое раскрытие всех её возможностей.
В условиях закрепощения народа — в эпоху крепостного права
или в эпоху капитализма — человек не имеет возможности
сколько-нибудь нормально развиваться, он становится, по выра¬
жению Маркса, «нечеловеческим человеком» в том смысле, что
работа на эксплоататора, помещика или капиталиста обрекает
его на существование, в котором угасают лучшие его черты.
Лишь в эпоху социализма и коммунизма человек может стать
«человеческим человеком», т. е. получает возможность свободно
проявить все свои способности.
103
Многогранность
проявления
народности
в творчестве
Искусство, которое ставит себе задачей показать жизнь и
прежде всего человека в свете общественных идеалов, тем самым
как бы борется с жизнью, мешающей настоящему развитию этого
человека. В этом смысле изображение лучших свойств человека
и разоблачение того, что искажает их в неблагоприятных жиз¬
ненных условиях, — имеет огромное значение в той борьбе за
освобождение человека, которая развёртывается на протяжении
всей истории человечества. Поэтому проблема человека является
основной проблемой общенародной значимости, непосредственно
затрагивает интересы народных масс, стремящихся к освобож¬
дению. Поэтому-то лирика, в центре внимания которой стоит
внутренняя жизнь человека, отражающая историческую обста¬
новку, которая его окружает, по существу также говорит о во¬
просах общенародной значимости и также может освещать их в
интересах народа. Лирика Пушкина народна, ибо она рисует не¬
обычайно высокий и благородный облик человека и тем самым
способствует духовному росту народа.
Сущность народности, следовательно, в том
что художник рисует человека в свете основ¬
ных вопросов эпохи. Это даёт ему наиболее
широкий кругозор, позволяет уловить в чело¬
веке наиболее существенные его черты. Говоря
об основных условиях народности, мы определяем только те ре¬
шающие предпосылки, которые позволяют художнику дости¬
гнуть вершин художественности, тот угол зрения, который поз¬
воляет ему увидеть в жизни самое основное. В творчестве же его
они проявляются всесторонне, во всём богатстве того жизненного
материала, который художник получил возможность включить в
своё произведение, благодаря открывшейся перед ним в свете на¬
родности перспективе. Поэтому народность выступает и в обрисов¬
ке людей, в которых художник улавливает основные черты нацио¬
нального характера, и в изображении всей жизненной обстановки,
которая их окружает, и в передаче национальных особенностей
природы, и в языке, отвечающем самому духу языка народа.
Важно лишь помнить, что без умения видеть основные противо¬
речия эпохи, без умения жить основными интересами своего на¬
рода художник не сможет найти и таких героев, и такую жизнен¬
ную обстановку для них, которые создадут для него возможность
уловить черты народности во всём их богатстве и своеобразии.
И в то же время без понимания тех основных условий, которые
лежат в основе народности, мы можем понять её лишь внешне,
т. е. свести её только к пейзажу, только к языку.
Народность не есть только общеидеологическая устремлён¬
ность писателя, путь к ней лежит через овладение всеми теми ус¬
ловиями, которые лежат в основе художественности и к которым
ведут лишь горячая преданность родине, талант, культура, жи¬
зненный опыт, высота эстетических идеалов писателя.
Народность «Евгения Онегина» (так же как и лирики Пуш¬
104
кина) — это и общенародная значимость его проблем, и освеще¬
ние их в интересах народа, и богатство тех человеческих харак¬
теров, в которые он вложил лучшие черты русского народа, и яр¬
кость изображения русской природы, и полнозвучность русского
языка, и демократичность его формы.
Так художественность переходит в свою высшую форму — в
народность. Это обнаруживается в постановке писателем
проблем общенародной значимости, в осве¬
щении их в интересах народа, в изображении
человека, способствующем духовному росту
народа, и в демократичности формы, обеспе¬
чивающей восприятие произведения народ¬
ными массами.
Понятно, что как художественность, так и народность не
представляют собой какого-то постоянного комплекса признаков,
которым мы всегда можем измерять данное произведение, чтобы
решить, народно оно или нет.
Народность, как и художественность, — это предел, к кото¬
рому стремится художник и которого он достигает в той или иной
степени, в том иля ином отношении. В одном и том же произве¬
дении могут быть стороны более художественные и менее худо¬
жественные (например, у Пушкина в «Капитанской дочке» об¬
раз Пугачёва несравненно значительнее, чем образ Екатерины),
могут осуществиться одни элементы народности и не проявиться
другие её элементы.
Самая народность в различные исторические эпохи осущест¬
вима в разной мере. В XVIII в., в условиях, когда русское обще¬
ство ещё только вступало на широкий путь культурного и лите¬
ратурного развития, ещё немыслимо было появление Пушкина,
народность могла проявляться ещё в робких попытках Лукина и
лишь к концу века прозвучала с большой силой у Радищева.
В эпоху социализма она получает наиболее благоприятные ус¬
ловия для своего развития, ибо опирается на нового, свободного
человека, на возросшую культуру масс и ряд других условий,
поскольку уничтожено классовое общество, тормозившее разви¬
тие человека. Но достигнуть её писатель может, лишь удовлет¬
ворив всем требованиям художественности, т. е. достигнув зна¬
чительной силы таланта и высоты культуры, полностью усвоив
теорию марксизма-ленинизма, приблизившись к вопросам совре¬
менности. Социалистическая эпоха даёт ему самый благородный
материал, самые лучшие возможности, но требует от него пол¬
ного напряжения всех его творческих сил.
Партийность
Мы видели, что в основе творчества писателя лежит миро¬
воззрение. Вместе с тем, рассматривая вопрос о соотношении
мировоззрения и творчества писателя, мы пришли к выводу, что
105
верное отражение действительности в художественном произве¬
дении возможно и в том случае, когда взгляды самого писателя
расходятся с действительностью. Точно так же и народность
творчества может иметь место тогда, когда сам писатель, как
это показал Добролюбов на примере Гоголя, приходит к ней как
бы независимо от своих взглядов. Писатель в таких случаях по¬
дымается, как говорил Маркс о Евгении Сю, «над горизонтом
своего ограниченного мировоззрения». Партийность писателя, т. е.
его философско-политические взгляды, вытекающие из его клас¬
совой позиции, участия его в классовой борьбе своего времени,
ограничивает его на пути к народности в том случае, если его
взгляды расходятся с действительным положением вещей, т. е.
если эта партийность выражает узко корыстные классовые инте¬
ресы, не связанные с освободительным движением народа.
Наоборот, если взгляды писателя близки к истине, то, как мы
помним, они помогают ему (при наличии всех остальных условий
художественности) глубже отразить жизнь, т. е. точнее выбрать
жизненные факты, правильнее их обобщить и т. д. Если его взгля¬
ды выражают передовые стремления эпохи, он, как это было у
наших писателей революционеров-демократов, особенно легко
осуществляет это приближение к народности. Но и у них ограни¬
ченность мировоззрения (утопизм) сказывалась на характере их
образов, их идейном содержании.
Таким образом, партийность в широком смысле слова пред¬
ставляет собой общее свойство всякой идеологии и в частности
искусства, поскольку в основе его лежит мировоззрение худож¬
ника, обусловленное его классовыми позициями в данной истори¬
ческой обстановке. Говоря о развитии философии, Ленин писал
о борьбе партий в философии, «которая в последнем счёте выра¬
жает тенденции и идеологию враждебных классов современного
общества. Новейшая философия так же партийна, как и две ты¬
сячи лет назад» (Соч., т. XIII, стр. 292). Но — главное — характер,
качество этой партийности определяется реальным историческим
содержанием, которое зависит от классовой борьбы и позиции в
ней писателя. Чем ближе он к освободительному движению на¬
рода, тем в большей степени его мировоззрение позволяет ему
глубже разобраться в жизни. В этом случае партийность его по¬
лучает революционное значение, помогает, тем самым, более пра¬
вильному пониманию писателем действительности, как это и
было с писателями, представителями революционно-демократи¬
ческого направления в русской литературе. Ленин неоднократно
подчёркивал, что в развитии национальной культуры следует раз¬
личать два начала — демократические и социалистические эле¬
менты, выражающие интересы народа, и антидемократические
элементы, связанные с господствующими, эксплоататорскими
классами. Тем самым и партийность искусства, и в частности
литературы получала совершенно различный социальный смысл
106
и значение, в зависимости от того, с каким началом — народным,
демократическим или антидемократическим — она связана.
В досоциалистическом обществе демократические и социали¬
стические элементы культуры развивались в условиях господства
эксплоататорских классов. С началом третьего периода освобо¬
дительного движения в России, когда во главе его стал рабочий
класс, вооружённый революционной марксистской теорией, со¬
здались новые исторические условия для развития искусства.
Ленин писал уже в 1902 г. о том, что «человек будущего» России—
это рабочий, что перед .русской социал-демократией встают такие
задачи, которые ещё не решали другие социал-демократические
партии и что в связи с этим русская литература начинает приоб¬
ретать всемирное значение. В 1905 году в своей исторической
статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин
сформулировал свои идеи о партийности социалистической лите¬
ратуры, призванной осуществлять важную, передовую роль в жизни
общества.
Народность
и партийность
в советской
литературе
ширяет кругозор
В отличие от всех других партий партия большеви¬
ков воплощает в своей программе интересы и
идеалы народа в их наиболее полном и сконцентри¬
рованном виде. Партийность большевистская рас-
художника, выводит его к народности в её
наиболее глубокой форме. «На наших глазах, — говорил товарищ
Молотов в докладе «О 20-летии Советской власти», — действи¬
тельно социалистическое становится народным, близким народ¬
ным массам. С другой стороны, каждый может видеть, что тру¬
дящиеся массы нашей страны воспринимают как антинародное,
как чуждое народу всё антикоммунистическое».
Таким образом, в советской литературе с наибольшей полно¬
той может быть осуществлено слияние народности и партийности,
поскольку последняя представляет собой ту же народность, но
в её наиболее совершённой форме. Мы можем поэтому сказать,
что в советской литературе высшей формой
народности является большевистская пар¬
тийность.
Эта черта социалистического искусства была охарактеризо¬
вана Лениным в статье «Партийная организация- и партийная
литература». Ленин писал в ней: «Литературное дело дол¬
жно стать частью общепролетарского дела, «колёсиком и
винтиком» одного единого, великого социал-демократического
механизма, приводимого в движение всем сознательным авангар¬
дом всего рабочего класса». «Это будет свободная литература, —
говорил он, — потому что не корысть и не карьера, а идея социа¬
лизма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые
силы в её ряды. Это будет свободная литература, потому что она
будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и стра¬
дающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам
и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет
107
страны, её силу, её будущность. Это будет свободная литература,
оплодотворяющая последнее слово революционной мысли челове¬
чества опытом и живой работой социалистического пролетариата».
Партийность советской литературы можно назвать, пользуясь
словами Ленина, «строгой партийностью». Ленин писал: «Стро¬
гая партийность есть одно из условий, делающих классовую
борьбу сознательной, ясной, определённой, принципиальной»
(Соч., т. VIII, стр. 417).
Большевистская партийность советского писателя является
той новой чертой, которая характеризует именно социалистиче¬
ское искусство. Примером её может служить творчество Горь¬
кого, создавшего образы высокой обобщающей силы (в романах
«Мать», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина» и др.),
именно потому, что его понимание жизни опиралось на идеи со¬
циализма и, следовательно, могло вскрыть в жизни то, что было
скрыто от буржуазных писателей. В годы Великой Отечественной
войны особенно ярко сказалась партийность советского искусства,
сумевшего выступить против фашизма с размахом, которому
нельзя найти примера во всей мировой истории литературы и
искусства.
Мысль Маяковского о том, чтобы «к штыку приравняли перо»,
полностью оправдалась в дни войны. Любовь к родине как один
из наиболее высоких общественных идеалов необычайно полно
была раскрыта в произведениях советских писателей.
Большевистская партийность советских писателей явилась ос¬
новой для того, чтобы они с наибольшей силой смогли выразить
патриотические чувства всего советского народа.
Большевистская партийность является основной принципиаль¬
ной чертой советского искусства. В статье «Партийная органи¬
зация и партийная литература» Ленин писал: «Социалистиче¬
ский пролетариат должен выдвинуть принцип партийной лите¬
ратуры, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно
более полной и цельной форме» (Соч., т. VIII, стр. 387). Именно
большевистская партийность обеспечивает советскому писателю
возможность достигнуть высокого художественного уровня, так
как даёт ему подлинное понимание исторического процесса, по¬
зволяет слиться с советским народом, строящим коммунистиче¬
ское общество. Она позволяет писателю видеть жизнь в процес¬
се её развития, показывать её в свете борьбы старого с новым,
в свете победы нового, прогрессивного, революционного, ибо
«наша обязанность, — учит товарищ Сталин, — рассматривать
жизнь в её разрушении и созидании и ставить вопрос: что раз¬
рушается и что созидается в жизни?» (Соч., т. I, стр. 298). Именно
партийность в борьбе за коммунизм придаёт творчеству писателя
подлинную страстность, устремлённость вперёд, непримиримое
отношение ко всякого рода враждебным идеологическим влия¬
ниям, сознание политической ответственности перед народом
Благодаря своей партийной основе советская литература полу¬
108
чает возможность особенно полно воздействовать на обществен¬
ное сознание. «Большевики высоко ценят,— говорит товарищ
Жданов, — литературу, видят её великую историческую миссию
и роль в укреплении морального и политического единства на¬
рода, в сплочении и воспитании народа...» Он подчёркивает, что
«Ленинизм признаёт за нашей литературой огромное обществен-
но-преобразующее значение», что «каждое удачное произведение
можно сравнить с выипранным сражением или с крупной побе¬
дой на хозяйственном фронте». Таких успехов советские писатели
добиваются именно благодаря партийному отношению к жизни.
Большевистская партийность советской литературы помогает
писателю быть активным и страстным борцом против мировых
сил реакции и поджигателей войны, против всего, что задержи¬
вает ход истории.
Выводы
Во второй главе мы дали определение образа как формы от¬
ражения жизни, присущей искусству, причём определение это
было нами дано в наиболее общей форме. Давая это определе¬
ние, мы имели в виду указать лишь на основную тенденцию, уп¬
равляющую работой художника в любом из периодов историче¬
ского развития, охарактеризовать основной закон, управляющий
этой работой.
Но этот закон проявляется каждый раз в особой исторической
обстановке и, следовательно, каждый раз проявляется по-своему.
Сравнивая Рафаэля с Леонардо да Винчи и Тицианом, Маркс
и Энгельс указывали на то, что «художественные произведения
первого зависели от тогдашнего расцвета Рима, происшедшего
под флорентинским влиянием, произведения Леонардо—от об¬
становки Флоренции, а Тициана — от совершенно иного разви¬
тия Венеции. Рафаэль, как и любой другой художник, был обу¬
словлен достигнутыми до него техническими успехами в искус¬
стве, организацией общества и разделением' труда в его местно¬
сти и, наконец, разделением труда во всех странах, с которыми
находилась в сношениях его родина. Удастся ли индивиду вроде
Рафаэля развить свой талант, — это целиком зависит от спроса,
который, в свою очередь, зависит от разделения труда и от по¬
рождённых им условий просвещения людей» (Сочинения, т. IV,
стр. 380).
Само собой разумеется, что в пределах каждого периода че¬
ловеческой истории различные художники резко отличаются друг
от друга по их таланту, знанию жизни, идеологии и т. д., но эти
различия остаются в пределах данного периода, это частные, ин¬
дивидуальные различия. Но есть в искусстве различия, которые
являются более глубокими, они вытекают из различия самих ис¬
торических периодов. Ахиллес и Андрей Болконский не похожи
друг на друга не потому, что не похожи друг на друга Гомер и
Л. Толстой, а потому, что различны те периоды истории челове¬
109
чества, с которыми они связаны. Но благодаря тому, что у нас
имеется общее представление о природе образного отражения
жизни и его основных формах, мы можем подойти к ним с еди¬
ной точки зрения.
Понятие художественности (и связанные с ним понятия на¬
родности и, в наше время, партийности) и есть понятие, которое
позволяет нам разобраться в исторических особенностях каждого
данного произведения искусства, в том, в какой мере в своей ис¬
торической обстановке оно смогло осуществить свою образную
природу.
Художественность—это своего рода масштаб, который поз¬
воляет нам подойти с единым принципом оценки к различным и
внешне зачастую, совсем несходным явлениям. Основные показа¬
тели художественности — не что иное, как реализация в конкрет¬
ном произведении основных свойств образа: индивидуализиро-
ванности, обобщённости, эстетической устремлённости, связи его
с человеческой жизнью.
Все эти свойства и проявляются каждый раз в зависимости от
«условий просвещения», как говорил Маркс, т. е. от уровня раз¬
вития человеческой культуры. А в пределах этих общих условий
они зависят уже от индивидуальности писателя: его таланта,
культуры, накопленного им жизненного опыта, мировоззрения.
При этом на всех этапах развития человеческого общества
предшествующих социализму, общественные условия ставят пре¬
пятствия на пути развития искусства. В эпоху античности человек
находился в подчинении у природы, поэтому при всём богатстве
развития искусства этого периода оно всё же ограничено тем
мифологизмом, о котором мы выше говорили. «Всякая мифоло¬
гия, — говорил Маркс, — преодолевает, подчиняет и формирует
силы природы в воображении и при помощи воображения; она
исчезает, следовательно, с действительным господством над
этими силами природы» (Введение к «К критике политической
экономии»),
В эпоху капитализма человек преодолевает силы природы, но
разделение труда ставит неодолимые препятствия перед возмож¬
ностью многостороннего развития человеческой личности. Тем
самым и искусство неизбежно ограничивается в своих возможно¬
стях, ибо в основе его, как мы знаем, лежит изображение чело¬
века. Поэтому «капиталистическое производство, — как говорил
Маркс, — враждебно некоторым отраслям духовного производ¬
ства, каковы искусство и поэзия» («Теория прибавочной стоимо¬
сти», т. I, 1936 г., стр. 239). Это происходит потому, что «как
только начинается разделение труда, — писали Маркс и Энгельс,
в «Немецкой идеологии», — каждый приобретает свой определён¬
ный, исключительный круг деятельности, который ему навязы¬
вается и из которого он не может выйти..., если не хочет потерять
средств к жизни».
Из этой ограниченности выводит человека лишь коммунисти¬
110
ческое общество, «где каждый не ограничен исключительным кру¬
гом деятельности, а может совершенствоваться в любой отрасли,
общество регулирует всё производство и именно поэтому со¬
здаёт для меня возможность сегодня делать одно, а завтра дру¬
гое...». Только при этом условии каждый сможет развить все за¬
ложенные в нём способности. «Каждый, в ком сидит Рафаэль,
должен иметь возможность беспрепятственно развиваться». Но
возможности эти даёт лишь коммунизм. При этих условиях че¬
ловек получает беспрепятственные возможности всестороннего
развития, и тем самым и искусство может достигнуть наиболь¬
шего расцвета.
Тот идеал человека, который в прошлом искусство лишь уга¬
дывало, к которому стремилось, не находя его в жизни, в новых
условиях входит в жизнь и, следовательно, в наибольшей мере
становится доступен художнику.
И так как искусство, изображая человека, имеет возможность
улавливать в историческом общее, то и образы, им созданные,
получают общечеловеческое значение, становятся исключительно
важными, не теряя своего исторического содержания,
Понятие художественности и даёт нам тот единый принцип
оценки произведений искусства в его историческом развитии,
руководствуясь которым мы получаем возможность определить
их значение и для прошлого и для настоящего.
часть бтщгал
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ГЛАВА I
ЕДИНСТВО СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ В ХУДОЖЕСТВЕН¬
НОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Строение
художественного
произведения
Содержание и форма литературного произведения
Образ — это простейшая единица художественного творчества,
его «молекула», по строению которой мы судим о художест¬
венном творчестве в целом.
Однако практически мы встречаем в литературе не отдельно
существующие образы, а нечто несравненно более сложное —
литературное произведение. Образ — это, условно выражаясь,
единица художественного мышления, которую мы определили пу¬
тём извлечения из множества произведений, тогда как произве¬
дение — это уже конкретная единица литературного творчества,
с которой мы и сталкиваемся в жизни. «Вопрос не в том, — гово¬
рил Гёте, — нравится ли вам тот или другой отдельный характер,
а в том, нравится ли книга».
Писатель создаёт произведение, в котором пе¬
реплетается ряд образов, изображает взаимо¬
действующих между собой людей, сложную
систему событий и пр., образующих собой чрез¬
вычайно сложное целое. Это естественно вытекает из самой при¬
роды образного отражения жизни: образ — это прежде всего кон¬
кретная картина человеческой жизни, объединяющая в себе са¬
мые различные её стороны.
Писатель показывает нам жизнь синтетически, в единстве
всех её сторон. Человек не существует в действительности изо¬
лированно, он находится в непрерывном взаимодействии с окру¬
жающей обстановкой, людьми, природой. Только в связи с ними
он и может быть понят. Поэтому изображение человека предпо¬
лагает изображение той жизненной обстановки, в которой он
действует, причём изображение и индивидуализированное, и ти¬
пизированное. Характер обрисовывается во взаимодействии с
другими характерами, следовательно, они должны выступить в
произведении в той или иной мере разработанно. Перед нами, та¬
ким образом, обнаружится ряд характеров, данных писателю са¬
мой жизнью: в них он отражает взаимодействие различных клас¬
112
сов и социальных групп, классовую борьбу. Легко заметить, что
в романе Горького «Мать» мы найдём целый ряд персонажей и в
каждом из них можем отыскать определённое обобщение, типи¬
зацию определённых классовых свойств. Мы найдём ряд харак¬
теров, типизирующих свойства господствующих классов: дирек¬
тор фабрики, жандармский офицер, судьи; кроме того, мы найдём
здесь целую галерею характеров, типизирующих различные груп¬
пы рабочего класса, лагеря революционеров, их различные свой¬
ства. Так, семья Власовых даёт нам три характера (отец, мать,
сын), за каждым из которых мы видим определённые обществен¬
ные закономерности. Отец Власова—рабочий старого поколения,
до конца раздавленный капиталистической эксплоатацией.
Мать — точно так же представительница старого поколения, но
несущая в себе уже более здоровое и крепкое начало, — в ней
накопилось то стихийное недовольство существующим строем,
которое постепенно переходит в сознательную борьбу с ним.
И, наконец, Павел, сын, — представитель молодого поколения,
начинающего революционную борьбу. Кроме того, в романе изо¬
бражены представители революционной интеллигенции, даны
характеры, отражающие революционизирующееся крестьянство,
даны различные типы участников революционного движения
(Находка, Весовщиков и др.).
Сложность общественных отношений отражается и в слож¬
ном комплексе характеров произведения. Но в результате связей
и взаимодействия их возникает какое-то более сложное художе¬
ственное обобщение, позволяющее нам разобраться в определён¬
ном комплексе общественных отношений, в том или ином обще¬
ственном противоречии. Следовательно, произведение даёт нам
обобщение, относящееся не только к тому или иному характеру,
но и к определённому общественному противоречию в целом.
Всякий характер есть в той или иной мере обобщение, в него
вложена идея писателя о той или иной социальной группе, о том
или ином типе людей и т. д. Но эти отдельные обобщения в ре¬
зультате создают единое целостное обобщение всего того участка
жизни, который изображён в произведении. Наблюдая, например,
в романе «Мать» ряд людей, изображённых в определённой жиз¬
ненной обстановке, мы получаем обобщение, охватывающее ос¬
новные явления жизни России начала XX в. применительно к ро¬
сту массового рабочего движения. Нам становится ясным основ¬
ное противоречие этого периода — непримиримая борьба трудя¬
щихся во главе с пролетариатом против буржуазно-дворянского
строя; мы видим наиболее характерные формы классовой борьбы
того времени, видим типы людей, представляющих тот и другой
классовый лагерь; через их судьбу (т. е. сюжет произведения, о
чём ниже) и переживания мы конкретно представляем себе проис¬
ходящие в действительности классовые бои. Произведение поэ¬
тому не представляет собой «сумму» характеров, — сочетание их
закономерно, так как оно отражает закономерность самой жизни;
в Тимофеев
113
характеры эти объединены в одно целое. В своём взаимодействии
характеры приводят нас к целостному обобщению — к выводу,
когорый уже не сводится ни к одному из характеров, а охватывает
изображённую в произведении область жизни в её целостности.
Это основное обобщение, которое осуществляется во всей систе¬
ме характеров, называют основной идеей произведения.
Таким образом, произведение представляет собой сложное
идейное целое, цепь обобщений писателя, ряд его наблюдений над
действительностью, организованных единой мыслью, основной
идеей произведения. Так, в романе «Мать» основной идеей яв¬
ляется раскрытие М. Горьким основных путей классовой борьбы
между буржуазией и пролетариатом и глубочайшая-уверенность
в победе рабочего класса. Но основную идею не следует пони¬
мать абстрактно, как отвлечённую формулу. Её нужно раскрыть
конкретно во всём произведении, во взаимодействии характеров
и т. д. Эта идейная сложность произведения определена слож¬
ностью самой жизни. В зависимости от поставленных перед со¬
бой задач писатель может стремиться к тому, чтобы показать
жизненный процесс в его наиболее сложных формах, может, на¬
оборот, показывать сущность этого процесса в каких-либо про¬
стейших жизненных случаях (как это, например, часто делал
Чехов) *.
Для того чтобы разобраться в этой сложности литературного
произведения, нужно ясно представлять себе его строение, те
законы, которые управляют этим строением, соотношением его
частей, ролью, которую играют те или иные средства, используе¬
мые писателем дл.я создания конкретных картин жизни.
Основным положением, которое даёт нам ключ
Содержание к правильному пониманию всех этих вопросов,
ф р * является положение о единстве формы и содер¬
жания. Но что мы называем формой и содержанием в литератур¬
ном творчестве?
Сам по себе вопрос о форме и содержании гораздо шире. Это
общий вопрос, относящийся к любому явлению действительности
(и в частности, к идеологии вообще), всегда имеющему то или
иное содержание и ту или иную форму. В зависимости от его об¬
щего решения вытекает и понимание соотношения формы и со¬
держания в литературе.
Содержание и форма — это прежде всего понятия соотноси¬
тельные, т. е. не могущие существовать одно без другого: форма
является формой ч е го-то, иначе она бессмысленна; содержание,
для того чтобы существовать, должно иметь форму, придающую
ему внешнюю определённость, иначе оно не сможет проявить
себя. Поэтому содержание и форма неразрывно связаны друг
1 М. Горький писал Чехову: «Огромное вы делаете дело вашими малень¬
кими рассказиками, возбуждая в людях отвращение к этой сонной, полу¬
мёртвой жизни»; здесь как раз указано это основное свойство Чехова:
умение небольшим эпизодом натолкнуть читателя на большое обобщение..
114
с другом. Содержание необходимо должно облечься в форму, вне
которой оно не может существовать с полной определённостью;
форма имеет смысл и значение тогда, когда она служит прояв¬
лению, оформлению содержания. И в зависимости от содержания,
она и получает свои особенности, отличающие её от других форм,
в которых проявляется иное содержание, т. е. от других явлений,
Гегель говорил: «Можно сказать об «Илиаде», что её содержа¬
нием является Троянская война... Это даст нам всё и одновременно
ещё очень мало, ибо то, что делает «Илиаду» «Илиадой», есть её
поэтическая форма, в которой выражено содержание», В самом
деле, для того чтобы наше представление о Троянской войне по¬
лучило достаточную внешнюю определённость, т. е. стало полным
и развёрнутым, необходимо, чтобы мы представили себе столкно¬
вения людей, их вооружение, их подвиги, те чувства, которые
привели их к войне и т. д., иначе самое представление о войне
будет у нас чрезвычайно общим и расплывчатым—сущность её,
как выражался Гегель, не станет существованием, т. е. не проя¬
вится полно и многогранно. Вне законченной формы явление не
может себя проявить, только в процессе своего оформления оно
обнаруживает всё то, что в нём заложено, всё своё содержание.
С другой стороны, форма сама по себе, отделённая от содержа¬
ния, потеряет смысл, столкновения героев «Илиады», сами по себе
взятые, без представления о том, чем они вызваны, с чем связаны
и т. д., не будут иметь значения. Только в том случае, если мы
сможем от этих отдельных эпизодов подняться к пониманию их
значения и смысла, т. е. к содержанию, они станут для нас по¬
нятны и ясны. Таким образом, и форма, оторванная от содержа¬
ния, и содержание, оторванное от формы, — не полноценны. Они
получают смысл только в неразрывной связи. Полное представле¬
ние о Троянской войне возникает у нас именно потому, что мы
восприняли полностью её развитую форму и, наоборот, полное
восприятие формы привело нас к представлению о Троянской
войне в целом, т. е. к содержанию. Таким образом, это соотно¬
шение формы и содержания, как бы переходящих друг в друга,
можно выразить так: содержание есть не что иное, как переход
формы в содержание, и форма есть не что иное, как переход
содержания в форму.
Примат Понятно, что в основе этого процесса взаимо-
содержанпя перехода формы и содержания лежит содер¬
жание, которое возникнув, ищет для себя
форму, благодаря которой оно может наиболее полно выразить
свою сущность. «Развитие содержания предшествует возникнове¬
нию и развитию формы», — говорит товарищ Сталин (Соч., т. I,
стр. 384). Итак, мы можем прийти к выводу о единстве (нераз¬
рывной связи) формы и содержания на основе примата (господ¬
ства) содержания.
Что же мы можем считать содержанием и формой литератур¬
ного произведения?
е»
115
Тема и идея
воплощения
Идейно¬
тематическая
основа
произведения
Литературное произведение есть прежде всего результат дея¬
тельности сознания писателя, есть идеологическое явление. Мы
знаем, что наше сознание отражает, в той или иной степени
верно, действительность. При этом отражает в определённом
свете, т. е. в зависимости от нашей оценки этой действительности,
от нашего к ней отношения. Содержанием сознания человека
является, следовательно, сама действительность, познанная чело¬
веком, получившая в его восприятии ту или иную окраску.
Это же относится и к художественному творчеству: в искус¬
стве содержанием является действитель¬
ность, познанная и отражённая художником.
Понятно, что говоря о действительности, мы имеем в виду ту её
сторону, тот круг жизненных явлений, которые художник ото¬
брал как материал для своего произведения. Этот жизненный
материал, который всегда лежит в основе художественного
произведения (говорит ли оно о внешней или о внутренней жизни
человека, облекает ли его в условные или фантастические формы
и т. д.), называют его темой.
Тема — это тот круг жизненных явлений, ко¬
торые художник отобрал в действительности и
на которые, следовательно, он стремится обратить внимание чи¬
тателя. Но, как мы знаем, в самом отборе художником жизнен¬
ных фактов для их изображения сказывается и его оценка этих
фактов, его мировоззрение, его идеи, относящиеся к этим фак¬
там. «Тема, — говорил Горький, — это идея, которая зародилась
в опыте автора, подсказывается ему жизнью, но гнездится во
вместилище его впечатлений ещё неоформленно и, требуя
в образах, возбуждает в нём позыв к работе
её оформления».
Грубо говоря, тема — это то, что писатель изо¬
бражает, идея — это то, что он хочет сказать
об изображаемом, оценка его. Точнее — идея
это то, что писатель говорит самим изобра¬
жаемым, тем отношением к жизни, которое
он хочет вызвать у читателя и которое может быть шире того,
что непосредственно изображено в произведении.
Может показаться, что это положение об идее, оказываю¬
щейся шире непосредственно изображённого в произведении
жизненного материала, вступает в противоречие с высказанным
ранее взглядом, что образ писателя шире идеи, которую он в
него вкладывает. Однако противоречия здесь нет. Образ шире
идеи в том смысле, что вывод, обобщение, которые делает писа¬
тель из своего материала, не исключает иных более верных
выводов.
Идея шире непосредственно изображённого в произведении
материала в том смысле, что писатель не только рисует в произ¬
ведении те или иные стороны жизни, но и стремится прийти к из¬
116
вестным обобщениям относительно них. Но эти же картины жизни
могут дать основание для иных обобщений, чем те, к которым
пришёл писатель. Таким образом, оба эти положения не исклю¬
чают, а дополняют друг друга.
Однако по существу отделить эти два момента один от дру¬
гого невозможно: писатель самим выделением именно этого ма¬
териала уже оценивает его, с другой стороны, овладевая этим
материалом, он в свою очередь приходит к новым, более глубо¬
ким и точным его оценкам; тема Углубляет идею, идея развивает
тему. Мы можем поэтому сказать, что эти два основных элемента
художественного произведения настолько тесно слиты друг с
другом, что их и не следует отрывать один от другого. Проще
говорить о том, что художественное произведение имеет идей-
но-тематическую основу, т. е. показывает определённую
сторону жизни, идейно осмысленную художником. Поэтому-то
столь часто приходится сталкиваться с тем, что два произведе¬
ния, написанные «на одну тему», весьма мало друг на друга по¬
хожи. Происходит это потому, что в самой постановке темы уже
имеется идейный момент, отсюда вытекает различный отбор ма¬
териала в пределах данной темы, изображение различных связей
явлений, различная их оценка и т. д.
Так, в русской литературе 60-х годов XIX в. можно найти ряд
произведений, написанных «на одну тему» — о нигилизме (ро¬
маны: «Отцы и дети» Тургенева, «Обрыв» Гончарова, «Взбаламу¬
ченное море» Писемского, «Некуда» Лескова-Стебницкого, «Что
делать?» Чернышевского и ряд других). Все они говорят о рево¬
люционно-демократическом движении, охватившем Россию того
времени. Однако продиктованы они были весьма разными побуж¬
дениями: в то время как одни писатели стремились бороться с ни¬
гилизмом, другие, наоборот, ему сочувствовали и т. д. И в рома¬
нах этих мы находим самые разнообразные характеры и собы¬
тия, связанные в той или иной мере с нигилизмом, но имеющие
весьма различное познавательное и эстетическое значение. В то
время как одни писатели стремились выделить в нигилизме его
отрицательные стороны или просто приписывали ему их, другие,
наоборот, подчёркивали в нём основное, то, чем это движение
было важно и нужно для России. Внешнее сходство тем на самом
деле устранялось их глубоким внутренним различием. Достаточно
сравнить характеры, созданные Чернышевским (Кирсанов, Рахме¬
тов), Тургеневым (Базаров) и Гончаровым (Марк Волохов), чтобы
в этом наглядно убедиться. Тема всегда настолько пронизана
мировоззрением, идеями художника, что лишь в связи с ними и
может быть понята, — не просто как предмет изображения, как
обозначение того, о чём говорит художник, а как определённый
вопрос, который художник поставил на материале и по поводу
данных явлений. Поэтому мы и будем говорить об идейно¬
тематической основе произведения, не отделяя их друг ог
друга.
и/
Но, как мы помним, материал художника — это человеческая
жизнь (через которую отражается в искусстве весь многообраз¬
ный круг явлений действительности). Отсюда для художника вы¬
текает необходимость дать той сущности, которая определилась
в его сознании (идейно-тематическая основа), такую форму, бла¬
годаря которой она могла бы получить возможность развитого
существования, обрести ту внешнюю определённость, которая
раскрыла бы все её стороны с достаточной полнотой. Для этого
художник должен перевести имеющийся у него жизненный мате¬
риал в присущую искусству форму, т. е. в конкретные картины че¬
ловеческой жизни, по которым читатель и составит себе представ¬
ление о той действительности, которую хочет ему показать писа¬
тель. Представление о Троянской войне должно перейти в ряд
подвигов греческих героев, которые они совершают у стен Трэи,
в их разговоры, размышления, волнения и т. д. Представления
Пушкина о дворянской молодёжи 20-х годов XIX в. в России
(т. е. осознанный им его жизненный опыт) должны перейти в
картины жизни конкретных людей — Онегина, Татьяны, Лен¬
ского, в их мысли, переживания, поступки. Представления
Фадеева о гражданской войне в Сибири, о партизанах, о роли
партии в этой войне должны перейти в историю отряда
Левинсона, в поступки, мысли, переживания Морозки, Мете¬
лицы, Вари и других.
Короче, перед нами постоянно будет происхо-
Переход дить перехОд содержания литературного твор¬
чества (его идейно-тематической основы) в
проясняющую его, придающую ему полноту
и многогранность форму.
Таким образом, переход содержания в форму в литературном
произведении осуществляется прежде всего как переход идейно¬
тематической основы в человеческие характеры, переживания и
поступки которых конкретизируют, придают определённость и от¬
чётливость осознанному писателем жизненному материалу.
В свою очередь, характеры эти, когда мы начинаем а них вду¬
мываться, заставляют нас поставить тот вопрос, который в своё
время определил Гоголь: «Что должен сказать собой такой-то ха¬
рактер?» Это значит, что мы задумываемся над теми условиями
жизни, которые создают такие характеры, над теми их чертами,
которые мы считаем существенными в жизни вообще, т. е. что мы
от непосредственного восприятия характеров, изображённых в
произведении, перешли к оценке того жизненного материала, ко¬
торый за ними стоит, к тем идеям, которые автор связал с ними.
Характеры, изображённые писателем, есть не
Переход формы что иное, как переход идейно-тематической ос-
в соде рзквние .
новы в характеры (форма есть переход соцер-
жания в форму), а идейно-темагическая основа есть н? что иное,
как переход характеров (т. е конкретных жизненных явлений, на¬
рисованных автором) в идейно-тематическую основу, т. е. в ос¬
содержания
в форму
118
мысление обобщений, созданных писателем на определённом
жизненном материале (содержание есть не что иное, как переход
формы в содержание).
Но характеры могут получить свою определённость тогда,
когда они обнаружили себя в поступках, в мыслях, в пережива¬
ниях.
Начиная читать «Евгения Онегина», мы ещё совсем не пред¬
ставляем себе героя. От страницы к странице он становится для
нас яснее, поскольку мы воспринимаем его мысли и поступки, его
отношения к другим людям. Поступки человека в литературном
произведении раскрываются в композиции и сюжете, мысли, чув¬
ства, переживания — в языке, в котором он их перед нами рас¬
крывает (мысли Онегина мы узнаём из его разговора с Ленским, с
Татьяной и др.). Таким образом, следующей ступенью перехода
содержания в форму является переход характера в поступки (ком¬
позиции и сюжет) и переживания (язык), придающие ему ту
внешнюю определённость, без которой он был бы слишком общим,
неконкретным явлением. И опять-таки, задумываясь над языком
данного характера, мы приходим к вопросу о тех основных его
свойствах, которые определили именно такой его язык (например
язык Собакевича или Манилова), а от основных свойств харак¬
тера переходим к той жизни, которая стоит за ним, которую писа¬
тель в нём обобщил. Таким образом, переход содержания в форму
и формы в содержание охватывает собой все стороны литератур¬
ного произведения до мельчайших особенностей языка. Только
ясно представляя себе этот основной закон построения литератур¬
ного произведения, мы можем наметить принципы и методику его
анализа, можем подойти к рассмотрению отдельных его сторон.
Средства литературного изображения и принципы их
изучения
Содержание произведения — это осознанная
писателем действительность, форма — эго
образы (т. е. картины человеческой жизни), характеры, пока¬
занные во всём богатстве их поступков и переживаний, т. е. в
определённом композиционном и языковом плане.
Итак, мы пришли к выводу, что изучение формы литера¬
турного произведения есть прежде всего изу¬
чение характеров, лежащих в основе его образ¬
ной формы. Но для того чтобы создать форму, нужны опре¬
делённые средства, при помощи которых она реализуется,
становится доступной восприятию, получает существование.
Язык о компо- Такими с р е д с т в а м и создания фор-
зиция мы, т. е. средствами изображения
характеров в литературе, являются язык и ком¬
позиция. Сами по себе язык и композиция присущи не только
литературе — они представляют собой более общие явления.
119
«Язык, — пишут Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии», —
так же древен, как и сознание; язык как раз и есть практическое,
существующее и для других людей, и лишь тем самым суще¬
ствующее также и для меня самого действительное сознание,
и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из
настоятельной нужды в общении с другими людьми... Таким обра¬
зом, сознание с самого начала есть общественный продукт и
остаётся им, пока вообще существуют люди».
И далее:
«Буржуа может без труда доказать на основании своего языка
тождество меркантильных и индивидуальных, или даже обще¬
человеческих, отношений, ибо самый этот язык есть продукт
буржуазии, и поэтому как в действительности, так и в языке
отношения купли-продажи сделались основой всех других отно¬
шений» (Сочинения, т. IV, стр. 20—21, 210).
Как видим, Маркс и Энгельс подчёркивают как общеидеоло¬
гическое значение языка, так и его историчность, связь его с теми
общественными условиями, которые его создали, и тем самым его
классовый характер. Как мы помним, Энгельс указывал на то,
что английская буржуазия и английский пролетариат «говорят
на другом диалекте».
Эти положения отчётливо развивал Лафарг:
«Язык отражает в себе изменения, происходящие в человеке и в среде,
в которой последний развивается. Изменения в укладе жизни людей, как, на¬
пример, переход от сельской жизни к городской, а также политические со¬
бытия кладут свой отпечаток на язык. Народы, у которых политические и со¬
циальные сдвиги быстро следуют друг за другом, видоизменяют быстро свой
язык; наоборот, у народов, не имеющих истории, язык становится непод¬
вижным».
Таким образом, язык в литературе есть лишь частная форма
языковой деятельности, присущая отнюдь не только литературе.
Точно так же и композиция (от латинского componere — склады¬
вать, составлять, строить), в смысле объединения тех или иных
элементов в единое сложное целое, присуща идеологической дея¬
тельности человека. Мы можем говорить не только о композиции
романа или картины, но и о композиции доклада, лекции и т. п.
Язык и композиция вообще ничего художественного сами по
себе не содержат; и учебник химии имеет определённую компо¬
зицию и пользуется языком. Поэтому анализ языка или компози¬
ции, взятых в отдельности, изолированно, в отрыве от образов
произведения, ничего не объяснит в художественности данного
произведения и вовсе не будет анализом литературы в её спе¬
цифике, анализом художественной формы, как часто считают
и теперь.
Объясняется это тем, что ни язык, ни композиция не пред¬
ставляют собой формы художественного произведения в точном
смысле слова, — они лишь средства её создания, необходимые
элементы её, поэтому сами по себе взятые они не воспринимаются
нами как художественное явление. Мы не воспринимаем отдельно
120
какие-либо синтаксические и тому подобные построения, мы не
можем сказать, как построены фразы, которыми Пушкин рисует
характер Гринёва, мы воспринимаем его характер как целое, не
воспринимая в отдельности тех элементов, из которых он состоит.
У Лессинга по этому поводу есть очень верное замечание:
«Поэт заботится не о том только, чтобы быть понятным, изображения его
должны быть не только отчётливы — он хочет сделать идеи, возбуждаемые
им в нас, столь живыми, чтобы мы воображали, будто испытываем действи¬
тельные чувственные представления изображённых предметов, и в это время
забывали совершенно об употреблённом для этого средстве — слове».
О том же говорит и Потебня:
«Всё, что останавливает внимание на самом слове, всякая не только
неясность, но заметная необычность его отвлекает внимание от содержания.
Лишь прозрачность языка даёт содержанию возможность действовать легко,
сильно и художественно».
То же относится и к композиции. Мы не воспринимаем как
художественные те или иные повороты действия в произведении
(так называемые «композиционные приёмы») сами по себе, так
как мы следим за событиями, точно так же не замечая «употреб¬
лённого для этого средства» — композиции.
Характер как простейшая единица художественного творче¬
ства и есть то целое, в связи с которым мы можем понять те
средства, которые использованы для его создания, т. е. язык и
композицию. В этом и заключено своеобразие, отличающее язык
и композицию как средства художественной литературы, т. е. в
широком смысле как средства создания характеров, от языка и
композиции в других областях идеологии.
В самом деле, когда мы говорим о языке, например, мы дол¬
жны помнить, что в общественной практике мы не имеем дела с
языком вообще. Он очень диференциролан, расчленён в зависи¬
мости от требований той или иной области идеологической дея¬
тельности, осуществляющейся при помощи языка.
Практически мы всегда различаем в пределах
Диференциро- целостной языковой системы самые различные
ее ответвления. Мы говорим о языке научном,
языке газетном, бытовом и т. д., в том числе и о языке поэтиче¬
ском, художественном. Это значит, что в каждом из перечислен¬
ных видов языка возникают те или иные особенности, вызванные
требованиями данной области жизни. В самом деле, в бытовом
разговоре человек будет говорить совершенно иначе, чем во
время доклада; оправку мы напишем совсем иным языком, чем
письмо, и т. д. И это различие будет, во-первых, вытекать из за¬
дач, стоящих в данном случае перед языком, и, во-вторых, будет
реализоваться в определённых языковых особенностях. В так
называемом «канцелярском» языке, например, необходимо с мак¬
симальной краткостью и точностью обозначать те или иные явле¬
ния, чтобы их можно было с наибольшей чёткостью расклассифи¬
цировать, зарегистрировать и т. п. Отсюда в канцелярском языке
вырабатываются определённые стандартные формы всякого рода
121
«отношений», в которых мы заранее знаем, куда смотреть, чтобы
найти число, номер и т. п. Вырабатывается особый язык с обыч¬
ными повторяющимися оборотами, крайне сжатый и точный: мы
не найдём в канцелярском «отношении» ни ярких эпитетов, ни
неожиданных сравнений, потому что здесь они мешали бы ра¬
боте, вносили бы путаницу, такая канцелярская справка принесла
бы мало пользы. В языке художественной литературы, где писа¬
тель стремится к максимальной индивидуализации изображае¬
мого, наоборот, крайне важно использование всех тех оттенков в
значении слов, которые дают эпитеты, сравнения и т. п.
Таким образом, в зависимости от задач, осуществляемых в
данной идеологической области, одни свойства языка отходят на
задний план, другие, наоборот, возникают и развиваются. Появ¬
ляются своеобразные ответвления языка. Одним из таких ответ¬
влений является язык художественной литературы. Для того
чтобы разобраться в свойствах и особенностях языка художест¬
венной литературы, научиться понимать и анализировать сред¬
ства художественно-литературного изображения жизни, нужно
прежде всего установить основные функции этих средств, понять
их не в изолированном состоянии, а в системе, в целом.
Изучение языка (а также и композиции) отдельно от харак¬
тера не может дать выводов для понимания художественности
произведения, так как при подобном его изучении мы будем, с
одной стороны, отмечать такие явления, которые для художест¬
венного изображения мало существенны, а с другой — не будем
замечать таких явлений, которые в связи с характером будут
иметь художественный смысл, художественную мотивировку.
Одни и те же языковые явления, попадая в различные системы,
создадут совершенно различный смысл. Потебня в своё время
иронизировал по поводу фразы: Государь император соизволил
всемилостивейше благодарить георгиевских кавалеров за моло¬
децкую службу, перенеся эту фразеологию в другие области:
Министр народного просвещения изволил благодарить профес¬
соров университета за лихое чтение лекций и студентов за за¬
лихватское их посещение, или Архиерей благодарит настоя¬
теля церкви за бравое и хватское исполнение им обязанностей.
Эти примеры поучительны для понимания того, что одни и те
же слова могут дать самый различный эффект, понять который мы
можем, лишь разобравшись в гом целом, в которое они входят и
которое они образуют.
В целях наибольшей наглядности, мы должны изучать сред¬
ства литературного изображения в том простейшем целом, в ко¬
тором они обнаруживают свои существенные для художествен¬
ного изображения свойства.
Таким простейшим целым является характер.
Язык и композиция в художественном произ¬
ведении отличаются от языка и композиции в
других областях идеологической деятельности тем, что в нём они
Язык и ха¬
рактеры
122
выступают в особой, отличной от других областей функции —
в изображении характеров. Основным их признаком
является то, что мы назовём характерностью, понимая
под этим термином использование художником средств языка
и композиции в целях изображения, трактовки и оценки выводи¬
мых в произведении характеров.
Характер с этой точки зрения является своеобразным «фоку¬
сом» художественного изображения действительности. С одной
стороны, мы от характера идём к идеям писателя, к его обобще¬
ниям, а от них — к реальной действительности, изображённой
писателем, т. е. ко всем общим сторонам художественного твор¬
чества. А с другой стороны — мы от характера идём к понима¬
нию всех средств художественного изображения, т. е. ко всем ча¬
стным сторонам художественного творчества. Здесь мы и осуще¬
ствляем практически принцип изучения литературы с точки зре¬
ния единства содержания и формы.
Мы видим, как реальная действительность претворяется в
обобщения, как обобщение переходит в характер, как характеры
реализуются в языке и композиции, которые тем самым пред¬
ставляют собой момент осуществления содержания в целом, т. е.
опять-таки содержательны. И наоборот, язык и композиция пере¬
ходят в характеры, характеры — в обобщения, обобщения приво¬
дят нас к самой жизни.
Художественное произведение есть основная единица литера¬
турного процесса. Только научившись правильно её анализиро¬
вать, мы можем понять более сложные формы этого процесса.
Мы идём к его осмыслению через анализ характеров, данных в
определённых средствах изображения, в языковых и композицион¬
ных формах.
Это даёт нам, с одной стороны, возможность разобрать
характеры во всей их конкретности, а не как отвлечённые
обобщения, с другой — позволяет проверить правильность пони¬
мания этих характеров. Если мы правильно в них разобрались,
то сумеем проследить их закономерную связь с темн языковыми
и композиционными средствами, при помощи которых они офор¬
млены, вскрыть их содержательность.
Следует напомнить, что в первых главах нашей книги мы стре¬
мились установить основные особенности художественно-литера¬
турного творчества на материале реалистического искусства, как
наиболее ясного и отчётливого проявления тех возможностей,
которые заложены в литературе.
Оставляем пока в стороне те исторические явления в области
литературы, в которых эти особенности зачастую даны в очень
осложнённых, иногда даже искажённых формах.
Они не противоречат тем основным свойствам искусства, ко¬
торые мы определили, но в силу определённых исторических ус¬
ловий проявляют их весьма своеобразно. Их мы рассмотрим
в третьей части книги.
123
ГЛАВА II
тическои основы
Сложность
идейио-
тематической
оеновы
ироизведения
ным, которым
заменил» и т.
Многопроблем-
пость
произведения
ИДЕЯ, ТЕМА (ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА),
ХАРАКТЕРЫ
Множественность идей н тел произведения
Мы видели, что образ сам по себе в отдельности, строго го¬
воря, не существует, а входит в целостную образную ткань
произведения, взаимодействуя с рядом других образов. Это
же положение относится и к таким понятиям, как идея и тема.
В каждом литературном произведении мы сталкиваемся с м н о-
жествениостью тем и идей, сложностью идейно-тема-
произведения.
Синтетически рисуя жизнь, писатель затраги¬
вает целый ряд связанных друг с другом
вопросов и каждому из них даёт ту или
иную оценку. Поэтому идейно-тематическая
ткань произведения крайне сложна. Евгений
Онегин наталкивает читателя на один круг вопросов, Татьяна —
на другой, Ленский — на третий и т. д. И в пределах каждого из
этих характеров отдельные его стороны, взаимодействия его с
другими характерами, те или иные события или особенности
жизненной обстановки опять-таки ставят перед читателем
всё новые вопросы (так, Пушкин говорит и об интересах
Евгения, который «читал Адама Смита, и был великий эконом»,
и об убранстве его кабинета, и о его отношении к крепост-
«ярем он барщины старинной оброком лёгким
д.).
В. сущности, каждый образ, каждая жизнен¬
ная ситуация, о которой рассказывается в про¬
изведении, уже несут в себе и своеобразную
тему, и своеобразную её идейную оценку, яв¬
ляются самостоятельной проблемой. В этом смысле всякое
произведение многопроблемно (этот термин—проблема —
мы в дальнейшем будем употреблять, разумея под ним единство
темы и идеи, т. е. определённую сторону жизни в определённом её
идейном освещении), т. е. многотемно и многоидейно. Вот в ча¬
стности, почему одно и то же произведение может быть рассмот¬
рено рядом критиков, причём ни один из них не будет повто¬
ряться: каждый из них выделит в общем круге проблем, постав¬
ленных в произведении, те, которые заинтересуют именно его, и
не затронет ряд других, менее для него существенных. Как мы
помним, литературное произведение есть прежде всего
изображение жизни в её конкретности и синтетичности, и,
как и в жизни, в нём переплетаются самые разнообразные
жизненные вопросы: «всё связано со всем и каждое с каждым»
(Ленин).
124
Это положение о множественности проблем произве¬
дения (т. е. его тем и идей) особенно важно подчеркнуть, так как
весьма распространено представление о том, что произведение
следует свести к какой-то одной определённой идее. Часто можно
слышать вопрос: «Какова идея этого произведения?». В этом во¬
просе есть весьма существенный смысл, о котором мы сейчас и
будем говорить, но в упрощённом понимании он может привести
нас к крайне обеднённому пониманию идейного содержания про¬
изведения, к выделению какой-либо одной проблемы, которая за¬
слонит от нас всё идейное богатство и разнообразие данного
произведения.
Основная идея произведения
В то же время, однако, при всей своей идейло-
Единство тематической многомерности, произведение об-
произведения .. г
ладает определенным единством. Оно подска¬
зывается ему самой отражаемой им жизнью: отдельные жизнен¬
ные явления, взаимодействуя друг с другом, образуют явления
более сложные, в свою очередь требующие определённого к себе
отношения. Так, в «Евгении Онегине» множество отдельных проб¬
лем в конечном счёте объединяются центральной — проблемой
кризиса личности в дворянском обществе 20-х годов XIX в.
Понятно, что эта центральная, основная проблема, поставленная
писателем, точно так же осмысляется им, получает свою оценку.
Вот в этом случае мы имеем основания говорить об идее произ¬
ведения в целом. Такого рода проблему, объединяющую вокруг
себя все частные проблемы, Плеханов называл основной
идеей. Это весьма существенное понятие, которое всегда сле¬
дует иметь в виду, чтобы за множественностью отдельных проб¬
лем не потерять того основного вопроса, интересовавшего
художника, который и явился причиной создания произве¬
дения. Но в то же время основная идея не устраняет необхо¬
димости анализа отдельных проблем, входящих в произведение
и в единстве с ней и составляющих его идейно-тематическую
ткань.
Термин «идея» связан у нас с представлением о выводе, о ре¬
шении вопроса, который поставлен художником. Отсюда — ча¬
стое стремление при изучении произведения свести его идею
к чёткому ответу на тот вопрос, который в произведении
поставлен (как основной), к известной лаконической формуле,
которую художник выдвигает по поводу той или иной стороны
жизни.
Такое понимание идеи стоит перед опасностью известного
упрощения. Прежде всего писатель может иметь дело с такими
явлениями, по отношению к которым у него самого нет чёткого
вывода, нет ответа на вопросы, которые с ними связаны. Это мо¬
жет быть результатом того, что сами эти явления ещё не опреде¬
лились в достаточной мере в самой жизни, и писатель, чувствуя
125
их важность и говоря о них, в то же время не может ещё дать
ясного ответа на вопрос о том, как к ним относиться.
Может быть и так, что у писателя нет ещё вывода, к которому
он пришёл бы, и произведение его является для него самого по¬
становкой вопроса, но не решением его.
Гёте,, например, отказывался ответить на вопрос об идее
«Фауста»: «Вот они подступают ко мне и спрашивают: какую
идею хотел я воплотить в своём «Фаусте»? Как будто я сам это
знаю и могу это выразить... В самом деле, хорошая это была бы
штука, если бы я попытался такую богатую, пёструю и в высшей
степени разнообразную жизнь, которую я вложил в моего
«Фауста», нанизать на тонкий шнурочек одной единой для всего
произведения идеи». На вопрос Эккермана, какую идею он хотел
выразить в «Тассо», Гёте ответил: «Идею? Да почём я знаю.
Передо мной была жизнь Тассо».
Об этой же возможности для писателя написать произведе¬
ние, в котором не будет идеи в смысле ответа на поставленный
в ней вопрос, говорил Чехов: «Не дело психолога (т. е. писа¬
теля.— Л. Т.) понимать то, чего он не понимает. Паче всего не
дело психолога делать вид, что он понимает то, чего не понимает
никто... Мое дело только в том, чтобы быть талантливым,
т.. е. уметь отличать важные показания от неважных, уметь
освещать фигуры и говорить их языком... В «Анне Ка¬
рениной» и в «Онегине» не решён ни один вопрос, но они вас
удовлетворяют, потому только, что все вопросы поставлены
в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а ре¬
шают пусть присяжные». Бальзак говорил, что «автор доволь¬
ствуется расстановкой членов уравнения, не стараясь решить
его».
Эти положения ни в коем случае не утверждают безидейного
творчества, как может показаться с первого взгляда. Мы знаем,
что самая постановка вопроса в художественном произведении
есть результат идейной оценки писателем жизни, отбора им того,
что он считает важным и значительным на основании всего своего
опыта жизни и её понимания. Но прямого ответа на вопрос у
него может и не быть. «Писатель не обязан, — писал М. Каутской
в 1885 г. Энгельс, — подносить читателю в готовом виде будущее
историческое разрешение изображаемых им общественных кон¬
фликтов».
В связи с этим следует заметить, что, хотя идейно-тематиче¬
ская основа представляет собой, так сказать, стержень произве¬
дения, было бы неверно представлять себе творческий процесс
как прямолинейный переход писателя от идеи к теме, вслед за
тем — к характерам, которые он подбирает согласно идее, ко¬
торую он хочет высказать, и т. д. Писатель идёт от опыта жизни,
который подсказывает ему, что данный материал является наи¬
более интересным и важным, должен быть художественно изо¬
бражён.
126
Это ощущение важности материала является, конечно, ре¬
зультатом оценки его писателем, т. е. в конечном счёте зависит
от его мировоззрения. Но идейное осмысление материала в це¬
лом развивается и зреет по мере развития самого материала,
углубляясь вместе с ним. Процесс накопления и осознания жиз¬
ненного материала есть вместе с тем и процесс развёртывания
идеи. Писатель в ряде случаев начинает с закрепления отдель¬
ных деталей произведения, с тех или иных черт характера, с от¬
дельной строки (в стихотворении) и т. д. Тургенев так характе¬
ризовал свой творческий процесс:
«Я встречаю, например, в жизни какую-нибудь Фёклу Андре¬
евну, какого-нибудь Петра, какого-нибудь Ивана, и представьте,
что вдруг в этой Фёкле Андреевне, в этом Петре, в этом Иване
поражает меня нечто особенное, то, чего я не видел и не слыхал
от других. Я в него вглядываюсь, на меня он или она производит
особенное впечатление; вдумываюсь, и эта Фёкла, этот Пётр,
этот Иван — удаляются, пропадают неизвестно куда, но впечат¬
ление, ими произведённое, остаётся, зреет. Я сопоставляю эти
лица с другими лицами, ввожу их в сферу различных действий,
и вот создаётся у меня целый особый мирок... Затем — нежданно,
негаданно является потребность изобразить этот мирок...»
И далее:
«Сперва начинает носиться в воображении одно из будущих
действующих лиц, в основе которых у меня почти всегда реальные
лица. Часто лицо, которое занимает вас, — не главное, а одно из
второстепенных, без которых, однако, не было бы и главного. За¬
думываешься над характером, его происхождением, образова¬
нием; около первого лица группируются мало-помалу остальные.
Это время, когда в воображении носятся, всячески переплетаясь,
туманные образы, — самое приятное для художника. Затем чув¬
ствуешь потребность закрепить эти образы, придать им более
определённости...»
Таким образом, идея оформляется в самом процессе творче¬
ской работы, она дана в самом конкретном материале произве¬
дения, в том отношении к жизни, которое произведение внушает
читателю. Поэтому в результате анализа произведения, его ха¬
рактеров и событий мы всегда придём к тому или иному опреде¬
лению его идейно-тематической сущности '. Эта сущность, как
мы видели, может быть выражена прежде всего в постановке
вопроса. Перед нами, будет идея, которую мы назовём «идея-
вопрос». Ценность такого рода произведения определяется
значительностью поставленных в нём проблем, решение же этих
проблем будет зависеть или от времени, которое внесёт в них
1 Понятно, что советская литература — самая идейная, самая передовая
в мире — характеризуется сравнительно с литературой прошлого и совре¬
менной зарубежной чёткостью и ясностью идейных позиций писателя.
127
ясность., или от читателей, которые сумеют истолковать собран¬
ный писателем материал, и т. п.
Весьма часто, однако, писатель стремится дать ответ на по¬
ставленный им вопрос. Здесь возможны два основных случая.
Писатель может дать ответ ошибочный, будучи ограничен рам¬
ками своего мировоззрения, исторической обстановкой и т. п.
В этом случае мы будем иметь дело с тем, что условно назовём
«идеей-ошибкой», ошибочным выводом, сделанным писа¬
телем из его материала. Примером такого рода идеи-ошибки мо¬
жет служить вторая часть «Мёртвых душ» Гоголя. Необычайно
глубоко показав в этом произведении кризис крепостничества,
Гоголь в то же время сам не смог сделать тех выводов, которые
подсказывались его материалом, попытался найти выход там,
где его не было (образ Костанжогло).
И, наконец, идея писателя может верно осветить поставлен¬
ную проблему, как, например, полностью отвечает материалу
идея Горького в романе «Мать». В этом случае мы можем гово¬
рить об «идее-ответ е».
Понятно, что мы всё время говорим об основной идее. Что ка¬
сается частных проблем, данных в произведении, то и к ним мы
можем отнести эти положения, рассматривая их в каждом случае
в отдельности. Как в произведении могут быть одновременно и
более удачные и менее удачные образы, так и проблемы в нём
могут иметь различный по своей верности характер. Все эти
виды идей имеют, конечно, слишком суммарный характер, но нам
важно их учитывать, чтобы не упростить анализа идейно-темати¬
ческой сущности произведения. Основное значение произведения
в идейном отношении — это верная постановка проблемы на об¬
щественно-значительном материале. Понятно, что в применении
к советской литературе, где мы имеем дело с писателями, кото¬
рым историческая обстановка даёт все основания для того, чтобы
у них выработалось правильное понимание жизни, мы можем
с несравненно большей требовательностью говорить о необходи¬
мости идеи-ответа, чем в отношении к писателям прошлого, ми¬
ровоззрение которых было независимо от них ограничено истори¬
ческой обстановкой.
Советские писатели обязаны стоять на уровне передового
мировоззрения своей эпохи. Вместе с тем, особенно высокая,
творчески преобразующая роль литературы в нашей стране опре¬
деляет политическую ответственность советских писателей, их
ошибки получают особенно вредное значение. ЦКВКП(б)
в своём постановлении от 14 августа 1946 г. и товарищ Жданов
в своём докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» показали,
какую роль играет идейность для достижения художественности
и какую непримиримую борьбу необходимо вести со всякими
проявлениями безидейности в литературе.
128
авторская оценка
действитель¬
ности,
отражённой
в произведении
Авторская идея и объективная идея произведения
Субъективная Мы„до сих П0Р говорили о различных видах
идейной организации произведения с точки зре¬
ния более или менее правильного понимания
изображённого в нём материала самим писате¬
лем. Однако мы помним, что образ — шире
идеи писателя, т. е. что помимо того истолкова¬
ния, которое сам автор даёт своему материалу, мы вправе искать
и находить в нём то, что позволит нам сделать свои выводы.
Определив идейную оценку самим писателем материала, изобра¬
жённого в произведении, мы должны вслед за тем поставить
вопрос, в какой мере отвечает эта оценка нашему пониманию
жизни, — только в этом случае мы сумеем полностью понять
произведение. Анализ авторской идейной оценки жизни, изобра¬
жённой в произведении, необходим, но недостаточен. «...Необхо¬
димо для писателя различать, — писал Маркс, — то, что какой-
либо автор в действительности даёт, и то, что он даёт только
в собственном представлении. Это справедливо даже для
философских систем: так, две совершенно различных вещи —
то, что Спиноза считал краеугольным камнем в с-воей системе,
и то, что в действительности составляет этот краеугольный
камень» (из письма 1879 г. к М. М. Ковалевскому).
«Анна Каренина» Л. Толстого имеет эпиграф: «Мне — от¬
мщение, и аз воздам». Смысл этого эпиграфа очевиден, он даёт
авторскую основную идею, оценку тех человеческих судеб, за
которыми мы следили в романе. Оценка эта, очевидно, состоит
в том, что не дело человека оправдывать и осуждать то, что
происходит между людьми, — это дело высшего существа, ко¬
торое стоит над нами и в свой час совершит свой суд. Идея,
таким образом, сводит изображённую в романе жизнь к рели¬
гиозному её осмыслению.
Но в то же время в романе «Анна Каренина»
дано так много разнообразного материала, ра¬
зоблачающего все недостатки жизни царской
России, что наша оценка романа и выводов, которые можно
сделать на основании того, что дал в нём Л. Толстой, пойдёт
совсем в ином направлении.
Добролюбов писал: «Художественное произведение может
быть выражением известной идеи не потому, что автор задался
этой идеей при его создании, а потому, что автора его поразили
такие факты действительности, из которых эта идея вытекает
сама собой».
Эти выводы наши будут основаны на объективном истолко¬
вании того, что дано в романе, а не тех субъективных оценок,
которые стремился сделать в нём Л. Толстой. Если бы мы огра¬
ничились только критикой воззрений самого автора, мы увидели
бы в романе гораздо меньше того, что в нём есть.
Объективная
оценка
9 Тимофеев
129
Богатство его реального содержания позволяет нам найти в
нём весьма существенный материал для того, чтобы сделать та¬
кие идейные выводы, которые сам автор сделать не сумел. Имен¬
но так и анализировал В. И. Ленин произведения Л. Толстого.
Таким образом, перед нами в произведении, с одной стороны,
авторская идея, ас другой — объективная идея,
к которой приходит критик на основе анализа всего материала
произведения и соотнесения его с авторской идеей.
Характеры
Идейно-тематическая сущность раскрывается в произведении,
приобретает определённость и конкретность тогда, когда писа¬
тель переводит её, так сказать, на язык характеров, т. е. изобра¬
жает таких людей, переживания и поступки которых наталки¬
вают читателя на известные выводы относительно жизни, их
создавшей. Как мы выше видели, характеры эти могут быть об¬
рисованы различными путями — лирическим, эпическим и дра¬
матическим.
Мы здесь оперируем обычно примерами эпических характе¬
ров, поскольку они даются в произведении наиболее развёрнуто.
Характер — это присущая исторической об¬
становке, изображённой в произведении пи¬
сателем, форма человеческого поведения,
преображённая соответственно эстетическим
нормам писателя.
В эпоху господства мифологического мышления
он будет совершенно иным сравнительно с ти¬
пом человеческого поведения при дворе фран¬
цузского монарха в XVIII в., например, но и в
том и в другом случае художники этих перио-
одном направлении, т. е. рисовать жизнь своего
времени на примере индивидуальной судьбы и переживаний
людей этого времени. Поэтому сами по себе в истории литера¬
туры характеры могут быть совершенно не похожи друг на
друга, 'но между ними будет то общее, что каждый из них в мо¬
мент своего возникновения был соотнесён писателем с людьми
своего времени, вобрал в себя то, что им в особенности было
присуще. Характер как чисто психологическое понятие, к кото¬
рому приучила нас литература новейшего времени, с этой точки
зрения является только частным случаем. Ахиллес в такой же
мере характер, скажем, как и дядя Ваня Чехова, различия их
не принципиальные, а исторические, т. е. являются результатом
различия тех концепций человека, которые в различные эпохи
выдвигались искусством на историческую арену.
В характере может быть в различной мере подчёркнуто то,
что есть, и то, что хочет видеть художник в человеке (в этом и
состоит различие между героическим характером Ахиллеса и
Исторически
обусловленное
различие
характеров
дов будут идти в
130
дядей Ваней). Он может иметь в той или иной мере условную
или фантастическую форму, как богатыри былин или герои
сказок, суммарно вбирая в себя и исторический материал
(борьбу русского народа с кочевниками), и его идеальные пред¬
ставления о человеке (Илья Муромец), и мечту о покорении при¬
роды (ковёр-самолёт), и т. д.
Таким образом, в зависимости от исторических условий,
определяющих отбор и обобщение писателем жизненных фактов
и формы их изображения, характеры в произведениях будут
чрезвычайно разнообразны. Единым будет лишь одно — то, что
художник переводит свой материал на язык человеческой
жизни, показывает его через судьбы и переживания людей. Не
разобравшись в этих характерах, мы не сумеем полно осмыслить
и идейно-тематическую сущность произведения, ибо характеры
есть не что иное, как развитая форма этого содержания, необ¬
ходимая для того, чтобы оно полностью раскрыло всё, что вло¬
жено в него жизнью и писателем.
Самое построение характера представляет со¬
бой развитую форму, без которой, как мы пом¬
ним, он не выступит перед нами как личность,
не проявит полностью своих особенностей, по которым мы и мо¬
жем только судить о жизни, его создавшей.
Художник даёт портрет человека, его характери¬
стику, его речь, обрисовывает обстановку, которая
его окружает, природный и вещный мир, даёт всякого
рода жизненные детали, индивидуализирующие чело¬
века, его отношения к другим людям, поступки,
им совершаемые, мысли и переживания, говорит о нём
патетически или иронически, обличая его или восхищаясь
Построение
характера
им, и т. д.
Собрав все эти разбросанные по произведению элементы, ха¬
рактеризующие человека, мы постепенно и начинаем представ¬
лять его себе как определённый тип человеческого поведения, за
которым стоит определённый тип жизни и определённые эстети¬
ческие требования к ней. Качество же всех этих элементов яв¬
ляется производным от исторических условий и практически
неизменно.
Всё дело лишь в том, что, изучая в каждом данном случае
интересующий нас характер, мы должны обладать теми истори¬
ческими знаниями, без которых мы не сможем понять его, понять,
откуда взял и как эстетически осмыслил писатель людей такого
типа, каких он нам нарисовал. Задача критика, в частности, в
том и заключается, что он даёт читателю тот, исторический кру¬
гозор, в свете которого становится понятен круг созданных писа¬
телем характеров, и те требования, с которыми писатель к ним
подходил, и те требования, с которыми мы к ним подходим
сейчас.
9*
131
Мотивировка
средств
изображения
Все элементы, необходимые для создания ха¬
рактера, его поступки, окружающие его детали
жизни и пр. — всё это может быть показано ху¬
дожником при помощи тех средств изображе¬
ния, которыми располагает литература, — композиции и языка.
К рассмотрению их мы и переходим, помня тот основной вывод,
к которому мы пришли выше: понять эти средства можно лишь
тогда, когда мы подойдём к ним как к средствам созда¬
ния художественной формы — образа.
Ею мотивирован отбор художником тех или иных
средств, в неё эти средства переходят, воспринимаясь нами не
изолированно, а в целостном единстве, как образ, как картина
человеческой жизни. Характер переходит в язык, определяет
отбор художником именно данных языковых средств. А эти сред¬
ства переходят в характер, т. е. создают у нас представление
о характере как индивидуальности, так же как события (сюжет),
обнаруживая то, как действует человек в определённых условиях,
позволяют представить его себе как индивидуальность.
Вот почему, приступая к детальному изучению средств ху¬
дожественного изображения, мы не должны терять перспективы,
без которой самое подробное представление об этих средствах
не поможет нам в критической работе, т. е. в оценке литературы
с точки зрения стоящих перед нами задач. Анализ художествен¬
ных средств есть не что иное, как самое детальное изучение со¬
держания художественного произведения в его наиболее кон¬
кретных формах. Если мы откажемся от этого анализа, мы обед¬
ним своё представление об этом содержании. Если мы ограни¬
чимся изучением только этих средств и не сумеем понять, какую
роль они играют в создании целого, образа, характера и т. д.,
то мы обедним наш анализ, т. е. не заметим тех индивидуальных
особенностей формы, без которых перед нами не выступят ка¬
кие-то черты содержания.
ГЛАВА III
КОМПОЗИЦИЯ И СЮЖЕТ
Композиция
Выше уже указывалось на то, что характер раскрывается
путём показа его взаимоотношений с другими характерами.
Так, если в первой главе произведения изображается А., а
во второй Б., испытывающий страдания благодаря действиям А.
в первой главе, то эти переживания Б. являются одной из форм
раскрытия А., хотя А. во второй главе нет, и нет, следовательно,
и относящихся непосредственно к нему словесных единиц. Про¬
стейшим примером такого раскрытия характера при помощи
изображения его отношений к другим характерам является по¬
132
Сложность
художественного
произведения
весть в письмах Апухтина «Архив графини Д.», где сама графиня
совсем не выступает, но благодаря письмам её мужа, подруги,
знакомых, возлюбленных и т. д. образ её обрисовывается с чрез¬
вычайной отчётливостью. «Мать» Горького даёт яркий пример
раскрытия образа при помощи его отношения к другим: Ниловна
резко меняется благодаря её связи с революционерами. В «Ску¬
пом рыцаре» Пушкина мы создаём представление о бароне ещё
до того как он появляется перед нами, поскольку нам уже изве¬
стны его отношения с Альбером, и т. д.
Писатель так сочетает между собой явления,
что они в своём взаимодействии дополняют
друг друга, образуют единое целое. Эта слож¬
ность построения художественного произведе¬
ния, соотнесённость всех его частей вытекает из самой действи¬
тельности, в которой явления находятся в бесконечно сложной,
универсальной, по выражению Ленина, связи; явление становится
нам понятным именно в движении, в развитии, в связях с дру¬
гими явлениями. Взаимодействуя, явления объединяются в бо¬
лее сложные комплексы, в новые единства. Следовательно,
стремясь в своём творчестве отразить действительность, устано¬
вить её закономерности и образно показать их, писатель должен
создать ряд характеров, во взаимоотношениях которых он пока¬
жет в той или иной мере сложность и многосторонность жизни,
связь явлений её между собой и т. д.
Легко заметить, что изображение того или иного характера
осуществляется путём постепенного введения в произведение всё
новых и новых указаний на те или иные свойства характера, ко¬
торые постепенно создают полное представление о нём. Рисуя
человека, писатель даёт описание его (внешность, одежду и т. п.,
то, что называют портретом), характеристику его
переживаний, вводит собственную прямую речь персонажа
(монологи, т. е. речь одного лица, диалоги — речь двух
или более персонажей и т. д.), те или иные события, с ним
происходящие (эпизоды), картины природы (пейзаж),
поступки, которые он совершает, детали окружающей его жиз¬
ненной обстановки, общественные явления, с которыми он связан,
его взаимоотношения с другими персонажами произведения и т. д.
Каждый характер представляет собой в достаточной мере слож¬
ное построение, соотнесение, связь самых разнообразных свойств
и признаков, придающих ему индивидуальные очертания и в то
же время определённость.
Очевидно, что в произведении, представляющем собой изобра¬
жение ряда характеров в определённом их взаимоотношении, мы
будем иметь дело с ешё большей сложностью его организации,
поскольку характеры будут переплетаться между собой, сталки¬
ваться и обнаруживать в этих столкновениях всё новые и новые
свойства, по которым читатель судит о создавшей их жизни, о
типических обстоятельствах, в которых они сложились, и т. д.
133
Сложность художественного произведения отражает слож¬
ность тех жизненных отношений, той жизненной среды, которую
стремится показать писатель. Отражение писателем связи жиз¬
ненных явлений, их развития будет зависеть в значительной мере
от того, как понимает писатель жизненный процесс, что он будет
считать в нём наиболее важным, на какие факты в силу этого
будет обращать внимание.
Сложную организацию художественного
произведения, его построение, называют ком¬
позицией.
Всякое художественное произведение представ¬
ляет собой сложное целое, организацию входя¬
щих в него элементов, расположенных в опре¬
делённой системе и последовательности. Перед
читателем складывается, развивается, заканчи¬
вается то или иное событие, то или иное пере¬
живание, определяется тот или иной характер
соотнесённости, взаимодействия всех элементов
его композиционной организации, или проще —
композиции. С этой точки зрения композиция представляет собой
необходимое условие отражения жизни в художественном про¬
изведении, она, как и язык, является основным средством лите-
Бомиозиция
художественного
произведения
как отражение
сложности
действитель¬
ности
в результате
произведения,
ратурно-художественного творчества. Какое бы произведение
мы ни взяли, оно имеет определённую композицию — оно опре¬
делённым образом организовано на основе сложности той реаль¬
ной жизненной обстановки, которая в нём отражена, и того пони¬
мания жизненных связей, причин и следствий, которое присуще
данному писателю и определяет его композиционные
принципы.
И в большом сложном романе, и в маленьком лирическом
стихотворении мы будем иметь дело с композицией, с опреде¬
лённым построением, вытекающим из данного содержания.
Поскольку основной единицей литературно-ху¬
дожественного отражения жизни является ха¬
рактер, постольку и композиция художествен¬
ного произведения может быть осмыслена и
изучена именно в связи с изображёнными в нём
характерами. Композиция есть прежде всего ‘
средство создания, раскрытия, обрисовки харак¬
тера путём определённого последовательного изображения его
свойств и признаков, путём соотношения его с другими характе¬
рами. Связь характеров в произведении обнаруживается прежде
всего в их действиях, в поступках, которые они совершают по
отношению друг другу, в событиях, реагируя на которые они
обнаруживают свои свойства. Для того чтобы обнаружить свой¬
ства характера, писатель ставит его в определённые жизненные
положения. Они художественно мотивированы характером. Ха¬
Связь компози¬
ции
произведения
с изображён¬
ными в
нём характерами
художественное
134
рактер, так сказать, переходит в композицию, как и она в свою
очередь переходит в характер, поскольку данные положения
ценны для читателя не сами по себе, а как средство изображения
характера как целого. Анализ композиции произведения должен
производиться в неразрывной связи с изображёнными в нём ха¬
рактерами.
Как писатель строит тот или иной характер, как соотносит
его с другими, в какой последовательности располагает он собы¬
тия в произведении, какие причины и следствия выдвигает он на
передний план в изображаемом им жизненном процессе, как
в связи с этим он организует произведение в смысле его внешней
структуры (т. е. в смысле определённой системы и последователь¬
ности частей, глав, эпизодов и т. п.) — всё это в целом представ¬
ляет собой композицию произведения, определяется композици¬
онными принципами писателя.
Характер — не самоцель художественного творчества. Он
важен для нас как определённая форма отражения жизни
художником. Положения, в которые писатель ставит изобра¬
жаемых им людей, имеют для нас значение лишь в том случае,
если они действительно отвечают той жизненной обстановке,
которую писатель отражает в своём произведении. Характер,
как писал Энгельс, должен быть показан в типичных обстоя¬
тельствах. Поэтому наряду с соответствием событий характеру,
необходимым для того, чтобы произведение было жизненно убе¬
дительным, мы должны обнаружить в произведении и соответ¬
ствие событий самой жизни, типичность их. Писатель в самой
жизни находит типические для неё конфликты, события, по¬
ступки людей, но показать их он может лишь в связи с деятель¬
ностью конкретных людей, через которых он отражает действи¬
тельность. В этом смысле мы и говорим, что в художественном
произведении композиция мотивирована характером. Характер
есть то звено, которое соединяет идейно-жизненную основу
произведения со всей сложностью художественных средств
писателя.
По воспоминаниям Г. Джемса, Тургенев рассказывал, что у
него «зародыш повести никогда не принимал формы истории с
завязкой и развязкой... Прежде всего его занимало изображе¬
ние известных лиц... фигуры того или иного индивидуума... он
задавался вопросами: в чём же выразится деятельность моих
героев? И он всегда заставлял их действовать таким образом,
чтобы перед читателем вполне обрисовался данный характер».
У Достоевского находим запись, относящуюся к периоду его
работы над романом «Идиот»: «Главная задача- характер Идио¬
та. Его развить... Для этого нужна фабула романа. Чтоб очаро¬
вательнее выставить характер Идиота (симпатичнее), надо ему
и поле действия выдумать».
Эти примеры.ясно показывают, что построение, композиция
произведения, его архитектоника, связаны прежде всего с тем,
135
что художник создаёт для изображаемых им характеров «поле
действия».
Поступки человека, его взаимоотношения с другими людьми и
обрисовывают его характер, переходят в него. В. Одоевский
(1803—1869) справедливо писал, что «только при обозрении всех
действий лица можно постигнуть его характер во всей полноте».
В общей форме эта необходимость для писателя поставить
людей, им рисуемых, в сложную систему жизненных обстоя¬
тельств, без которых его характер останется для читателя неяс¬
ным, была разъяснена Гегелем: «То, что человек есть в глубо¬
чайшей основе своего бытия, осуществляется в действительности
лишь через действие», — писал он.
И в то же время, поскольку человек обнаруживает себя лишь
в таких обстоятельствах, которые характерны для него в самой
жизни, постольку, следовательно, поле действия, которое писа¬
тель для него создаёт, может быть убедительно мотивировано
лишь самой жизнью, стоящей за этими характерами. Художе¬
ственность композиции, т. е. её жизненная убедительность, с
одной стороны, зависит от того, в какой мере она вытекает из
самой жизни, а с другой — тем, в какой мере она мотивирована
характерами. Лишь при соблюдении этих двух условий компо¬
зиция произведения является действительно содержательной
формой. Поэтому события, сами по себе увлекательные, как,
например, в авантюрных романах, не могут, не опираясь на
характеры, создать глубокую картину жизни. И, в свою очередь,
характеры, хотя бы они были глубоко задуманы, не выходят за
пределы схемы, если они не раскрыты в отвечающей им жизнен-
Сюжет
Рассматривая значение изображения характе¬
ров для художественного творчества, мы ви¬
дели, что они выполняют роль своеобразных
«ду писателем и отражаемой им жизнью. В то
время как учёный или публицист выражает своё отношение к дан¬
ной стороне жизни, непосредственно о ней говоря, непосред¬
ственно обращаясь к читателю, писатель вводит как бы новое
посредствующее звено: он изображает характеры, по которым
мы судим о создавшей их жизни и об отношении к этой жизни
самого писателя. Своё суждение о жизни писатель даёт в форме
конкретных жизненных фактов, определённых, конкретных про¬
явлений жизненного процесса. Для писателя не достаточно
собрать богатый жизненный материал и осветить его хотя бы
и верными и глубокими обобщениями, — он должен ещё пере¬
вести его в формы конкретного жизненного процесса, дать его в
судьбе и в переживаниях конкретных людей, в конкретной жиз¬
ненной обстановке.
ной обстановке.
Организация
действия
«посредников» и
136
Общее идейно-жизненное содержание переходит в непосред¬
ственное содержание произведения; например, то общее содержа¬
ние, которое мы находим в «Разгроме» Фадеева (история парти-
занскогр движения в Сибири, руководящая роль партии в рево¬
люции), дано через его непосредственное содержание, через
судьбы и переживания Левинсона, Метелицы, Мечика и других,
через происходящие с ними события. Характер обнаруживает се¬
бя, свои свойства в действиях, в поступках, а эти поступки вызы¬
ваются теми жизненными обстоятельствами, с которыми связан
данный характер, теми событиями, которые с ним происходят.
Помимо описания данного характера при помощи авторской
речи, помимо его самораскрытия в его собственной речи, он
обнаруживается в действии, при помощи совершаемых им
поступков, в событиях, которые, как уже говорилось, пред¬
ставляют собой чрезвычайно существенное средство изображе¬
ния характера.
Сюжет В том случае, когда непосредственное содер¬
жание дано в форме определённых жизненных
событий, происходящих с данными людьми, когда художник
раскрывает изображаемых им людей при помощи совершаемых
ими поступков, вызываемых жизненными обстоятельствами, мы
имем дело с так называемым сюжетом, как одной из форм
композиции. В лирике перед нами — композиционная организа¬
ция, выражающаяся в движении переживания. Но сюжета, как
системы событий, в ней нет.
Горький, говоря о сюжете, называет сюжетом «связи, проти¬
воречия, симпатии, антипатии и вообще взаимоотношения людей,
истории роста и организации того или иного характера». Здесь,
как видим, указано, с одной стороны, что сюжет есть средство
раскрытия характера, обнаружения его свойств, а с другой сто¬
роны, что он представляет собой круг конкретных событий, по¬
скольку именно в определённых событиях и могут обнаружиться
симпатии, антипатии и вообще отношения людей. Сюжет, таким
образом, представляет собой конкретную систему событий в про¬
изведении, которая раскрывает данные характеры в их взаимоот¬
ношениях и взаимодействии. Очень удачно эту органическую
связь сюжета с той жизненной обстановкой, которая определяет
основные свойства характеров и их взаимоотношения, показал
Добролюбов на примере пьес Островского. Он писал: «У Остров¬
ского чрезвычайно полно и рельефно выставлены два рода отно¬
шений, к которым человек ещё может у нас приложить душу
свою — отношения семейные и отношения к имуществу.
Немудрено поэтому, что сюжеты и самые названия его пьес вер¬
тятся около семьи, жениха, невесты, богатства и бедности. Дра¬
матические коллизии и катастрофы в пьесах Островского все
происходят вследствие столкновения двух партий — старших
и младших, богатых и бедных, своевольных
и безответственных. Ясно, что развязка подобных
137
столкновений по самому существу дела должна иметь крутой
характер и отзываться случайностью».
В основе сюжета, таким образом, лежит обобщение художни¬
ком характерных для данной жизненной обстановки отношений
между людьми, конфликтов, характеризующих эту обстановку,
ситуаций, для неё типичных.
В различных работах по теории литературы
ул часто встречается разделение системы собы¬
тий, составляющих сюжет произведения, на две части: сюжет
и фабулу. В этом случае сюжет обозначает лишь основной
конфликт, а та цепь конкретных событий, в которых этот кон¬
фликт осуществляется, называется фабулой.
Но такая двойственность терминологии лишь затрудняет ана¬
лиз произведения: сюжет как история характера включает в себя
всю систему событий, в которых проявляется этот характер, и де¬
ление их на основные и второстепенные по существу ничего не
даёт. Недостатком этого деления является также то, что оно тол¬
кает на слишком общее определение данного сюжета, который
сводится к логической схеме и отрывается от характеров, с кото¬
рыми связан. Весьма трудно определить сюжет и фабулу «Евге¬
ния Онегина», например, не сведя сюжета к совершенно не свя¬
занной с данной средой и характерами отвлечённой схеме. По¬
этому в работах такого типа и возникают определения сюжета
настолько абстрактные, что сюжет сводится к общей схеме типа
«наказанный порок» и даже к буквенному обозначению персона¬
жей и их взаимоотношений, например: сюжет «А плюс Б» (он и
она), «А1 плюс Б плюс А2» (он, она и он) и т. п. Понимая сю¬
жет как развитие характеров в событиях, мы
подходим к событиям как к органическому единству, и разры¬
вать их, превращать их в схему для нас нет оснований.
Существует и иное понимание сюжета и фабулы, когда фабу¬
лой называют естественную последовательность событий, а сю¬
жетом—их художественную последовательность, т. е. то, как они
изложены в произведении. Так, с этой точки зрения мы можем
изложить события, о которых рассказано в пушкинском «Выстре¬
ле»,^ порядке их последовательного развития, и можем изло¬
жить их в порядке, в каком они изложены Пушкиным. В первом
случае у нас будет фабула, во втором — её художественная
обработка — сюжет.
Но и это деление не убедительно. Оно основано на недоразу¬
мении: ведь естественная последовательность событий того или
иного произведения на самом-то деле места не имела, поскольку
сюжет есть плод вымысла автора, следовательно, фабула в этом
её понимании есть не элемент формы произведения, а результат
размышлений самого исследователя. Кроме того, она имеет зна¬
чение лишь тогда, когда сюжет расходится с логической после¬
довательностью событий, т е. отнюдь не всегда.
И в том и в другом случае понятие фабулы, следовательно, не
138
помогает нашему анализу, а лишь осложняет его. Поэтому прак¬
тически в понятии фабулы с нашей точки зрения нет надобности,
и мы в дальнейшем его не употребляем. Если им и пользоваться
как вспомогательным понятием, то оно должно иметь значение
скорее в первом (из указанных) смысле: как обозначение более
детального изложения событий, помимо основных (сюжета). Сле¬
дует, однако, иметь в виду, что понятие фабулы широко распро¬
странено и в том и в другом смысле.
Соотношение композиции и сюжета
Композиция присуща всякому литературному
Занимательность произведению, поскольку мы всегда будем в
сюжета нём иметь т0 или иное соотношение его частей,
отражающее сложность изображаемых в нём явлений жизни. Но
не во всяком произведении мы будем иметь дело с сюжетом, т. е.
с раскрытием характеров при помощи событий, в которых обна¬
руживаются свойства этих характеров. Так, в лирике с этой точ¬
ки зрения мы не имеем сюжета, поскольку в ней нет изображе¬
ния событий и поступков (о лирике мы будем говорить в сле¬
дующей части курса). Следует отвести распространённое и оши¬
бочное представление о сюжете только как об отчётливой, увле¬
кательной системе событий, благодаря, чему часто говорят
о «несюжетности» тех или иных произведений, в которых нет
такой отчётливости и увлекательности системы событий (д е й-
ствия). Здесь речь идёт не об отсутствии сюжета, а о сла¬
бой его организованности, о неясности его и т. п.
Сюжет в произведении всегда налицо, когда мы имеем дело с
теми или иными поступками людей, с теми или иными событиями,
с ними происходящими. Связав сюжет с характерами, мы тем
самым определим его содержательность, обусловленность его
той действительностью, которую осознаёт писатель. Однако
литературное произведение, как мы помним, не просто воспроиз¬
водит жизнь — оно даёт её обобщённое изображение, подчёр¬
кивает, усиливает её основные особенности, гиперболизирует их.
Горький- справедливо заметил, что гипербола—это основной
закон творчества. Поэтому и в сюжете писатель стремится дать
такое действие, которое было бы в особенности ярким и увле¬
кательным, захватывало бы читателя. Увлекательность, занима¬
тельность сюжета не может быть для писателя самоцелью, но
она является очень важным средством для более глубокого
изображения характеров, более стремительного развития дей¬
ствия. Поэтому забота о занимательности сюжета при условии
его содержательности весьма существенна для писателя.
Сюжет обусловлен самой жизнью, но в своей конкретности
мотивирован характерами: героический характер будет требовать
напряжённых и ответственных событий, в которых ярко обнару¬
жатся его героические черты; к ничтожному характеру, наоборот,
13Э
Внесюжетпые
элементы
в произведении
эти события будут уже неприменимы. Гринёв в «Капитанской
дочке» остаётся верен чувству долга перед лицом смерти, именно
самые ответственные положения способствуют проявлению луч¬
ших черт его характера. К гоголевскому Ивану Фёдоровичу
Шпоньке, наоборот, эти события вообще ни в какой мере не при¬
менимы. Гринёв, в свою очередь, не мыслим в тех положениях, в
которых обнаруживают своё ничтожество тот же Шпонька или
Иван Иванович и Иван Никифорович.
Как к композиции, так и к сюжету мы, таким образом, под¬
ходим как к средству раскрытия, обнаружения данного харак¬
тера. С этой точки зрения речь в каждом данном случае должна
идти о качестве сюжета о его соответствии жизни, о его мотиви¬
рованности характерами.
Но в ряде случаев общее содержание произ-
ведения_не укладывается только в сюжет, не
может быть раскрыто только в системе собы¬
тий; отсюда — наряду с сюжетом — мы будем
иметь в произведении элементы внесюжетные; композиция
произведения будет в таком случае шире сюжета и начнёт про¬
являться в иных формах. Например, в ряде случаев изображае¬
мая писателем действительность не будет давать ему достаточ¬
ного материала для создания определённого характера, хотя
писатель в то же время будет стремиться к тому, чтобы противо¬
поставить характерам, им изображаемым, иные, опровергающие
их положения.
Так, Гоголь в «Мёртвых душах» ставил себе целью вскрыть
недочёты дворянского общества, с тем чтобы вслед за тем пока¬
зать его положительные черты, опираясь на которые можно было
бы исправить эти недочёты. Но в период разложения феодально-
крепостнического общества Гоголь не имел в самой действитель¬
ности того положительного материала, основываясь на котором он
мог бы создать сколько-нибудь жизненные, положительные ха¬
рактеры. В то же время отрицательные стороны дворянской жиз¬
ни давали ему обильнейший материал для создания богатейшей
галереи отрицательных характеров. В силу этого сюжет «Мёрт¬
вых душ» складывался как система событий, построенная на вза¬
имоотношениях отрицательных персонажей. Таким образом, сю¬
жет реализовал лишь одну сторону жизненного процесса, как
его хотел показать Гоголь. Стремясь уравновесить своё произве¬
дение, Гоголь ввёл в «Мёртвые души» ряд авторских отступлений
(о «птице-тройке» и др.), в которых вне сюжета выдвинул, так
сказать, свою положительную программу, свои идеалы, сказал
о своей вере в будущее родины. «Мёртвые души» с этой точки
зрения являются поучительным образцом несовпадения компо¬
зиционной и сюжетной организации произведения, введения в
него внесюжетного материала.
Иной исторический и художественный смысл имело введение
внесюжетного материала у раннего Горького в таком, например,
140
произведения, как «Челкаш». Разоблачая сущность капитали¬
стического строя, эксплоатирующего и уродующего человека, и
показывая, как в самом этом обществе складываются силы, про¬
тестующие и восстающие против него (Челкаш), Горький видел
в то же время и ограниченность, бесперспективность анархиче¬
ского бунта Челкаша и стремился показать подлинный путь
борьбы с капитализмом, обнаружить его сущность. Но изобра¬
жаемая Горьким среда в полной мере не давала ему в тот пе¬
риод (90-е гг.) материала для введения в сюжет рассказа харак¬
теров иного типа, которые «уравновесили» бы Челкаша, дали
бы читателю правильную перспективу для понимания сущности
капиталистического строя. Отсюда — введение М. Горьким в
рассказ внесюжетного материала, уже не связанного с харак¬
терами и событиями рассказа, вводимого (как и у Гоголя) при
помощи речи повествователя. Такова вводная главка «Чел¬
каша» — и мысли, в ней содержащиеся, и языковые особенности
её не связаны ни с одним из персонажей рассказа; нет связи
между этим вступлением и речью персонажей. Совсем иной ха¬
рактер имеет речь повествователя и в самом повествовании, где
она связана с изображением конкретных характеров. «Челкаш»
начинается с изображения южного портового города, и в этом
изображении М. Горький даёт читателю то освещение отражае¬
мой им жизни, которое не может быть введено в самый сюжет,
так как оно выше тех характеров, которые взаимодействуют в
этом сюжете.
«Стоя под парами, — пишет М. Горький, — тяжёлые гиганты-пароходы
свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рождённом ими, чу¬
дится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, полза¬
ющих по их палубам, наполняя глубокий трюм продуктами своего раб¬
ского труда. До слёз смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на пле¬
чах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов, чтобы заработать
несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, оту¬
певшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестевшие на солнце
дородством машины, созданные этими людьми, — машины, ко’ооме в конце
концов приводились в движение всё-таки не паром, а мускулами и кровью
своих творцов, — в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иринии».
Эта широкая перспектива, данная в начале рассказа, помогает
читателю более глубоко подойти к сюжету рассказа, дать более
правильную оценку характеров, в нём изображённых.
Основные элементы сюжета
Основа сюжета:
отражение
жизненных
конфликтов
Таким образом, композиция литературно-худо¬
жественного произведения может и не совпа¬
дать с сюжетом, не говоря уже о тех случаях,
когда, как указывалось, сюжет вообще отсут¬
ствует.
Раскрывая общее идейно-жизненное содержание в конкрет¬
ном сюжете — в непосредственном содержании, в деятельности
людей, в событиях, — писатель, как мы помним, рисует перед
141
читателем определенный момент жизненного процесса, а посколь¬
ку жизненный процесс есть процесс противоречивого
развития жизни, процесс жизненной борьбы,
постольку и произведение писателя отражает в той или иной мере
с небходимостью определённые общественные противоре¬
чия, определённые формы жизненной борьбы. Когда М. Горь¬
кий ещё до революции рассказал Ленину план своего романа
«Дело Артамоновых», Ленин ему ответил: «Не вижу, чем вы его
кончите? Конца-то действительность не даёт. Нет, это надо писать
после революции». В этих словах очень ясно показано, что в ос¬
нове сюжета лежит изображение тех или иных конкретных жиз¬
ненных противоречий жизненной борьбы, данной в форме реаль¬
ных человеческих отношений. За столкновениями людей читатель
видит борьбу общественных групп, классов, те или иные обще¬
ственные противоречия. В романе «Мать» Горький в столкно¬
вениях жандармского офицера с Ниловной или Павла с директо¬
ром — в действиях конкретных людей — показывает классовые
противоречия. В романе Тургенева «Отцы и дети» в судьбе База¬
рова, в его жизненной катастрофе Тургенев стремился показать
беспочвенность, бесплодность, обречённость стоявшей за Базаро¬
вым общественной группы. Сюжет всегда конфликтен,
в нём всегда дано противоборство враждующих в той или иной
мере сил. Понятно, что эта конфликтность не есть обязательно не¬
примиримость. Важно то, что в событиях, включённых в данный
сюжет, мы имеем дело с борьбой различных тенденций, завер¬
шающейся каким-то итогом, хотя бы это были отношения двух
влюблённых, завершившиеся счастливым браком.
Эта конфликтность сюжета, то, что
в нём писатель даёт определённый момент
жизненной борьбы, обязательно связана с его
законченностью, завершённостью. Мы не случай¬
но, читая произведение, всегда интересуемся, чем оно кончится.
Книга с утраченным, неизвестным окончанием всегда нас трево¬
жит, оставляет ощущение неудовлетворённости и это вполне по¬
нятно.
В произведении показывается прежде всего известный момент
жизненной борьбы, которая должна иметь тот или иной резуль¬
тат. Борьба, изображаемая писателем, может иметь самые раз¬
личные формы — от трагических до комических, от сложных до
ничтожных и т. п. — в зависимости от характера действитель¬
ности, отражаемой писателем, от тех сторон жизни, на которые
он стремится обратить внимание читателя, от проблем, которые
он ставит, и т. п.
Точно так же может иметь самые различные формы и закон¬
ченность сюжета, о которой говорилось. Понятно, что закончен¬
ность эта относительна. Писатель не может, конечно, дать закон¬
ченного развития жизненного процесса вообще, так как он нахо¬
дится в непрерывном развитии. Речь идёт об изображении отно¬
Законченность
действия
142
сительно законченных этапов этого процесса, об изображении
тех или иных конкретных жизненных столкновений в их относи¬
тельной завершённости. Поэтому писатель и может дать всего
один эпизод из жизни человека, завершившийся определённым
образом. Показателем законченности сюжета является то, что
дальнейшее развитие изображённых в нём событий привело бы
к возникновению новых столкновений, уже не вытекающих из
тех, которые развернулись в данном сюжете. В «Челкаше», на¬
пример, конфликт Челкаша и Гаврилы закончился так, что даль¬
нейшее изображение судьбы каждого из них потребовало бы но¬
вых конфликтов и событий, т. е. нового сюжета. Превращение
Ниловны в романе «Мать» из забитой женщины в активную
участницу революционного движения завершается её арестом.
Дальнейшее изображение её жизни было бы уже изображением
нового этапа жизни, показом новых противоречий, потребовало
бы уже иных событий, т. е. нового сюжета.
G точки зрения возникновения, развития и завершения жиз»
ненного конфликта, изображённого в произведении, т. е., другими
словами, развития данного характера, можно говорить об извест¬
ных организационных свойствах сюжета, об основных элементах
сюжетного построения, представляющих собой главные моменты
в развитии изображаемого в нём жизненного конфликта.
Как всякий относительно законченный момент жизненного
процесса, конфликт, лежащий в основе сюжета, имеет начало,
развитие и конец.
Для того чтобы знать причины его возникновения, мы должны
знать ту жизненную среду, в которой он возник, те силы, столкно¬
вение которых вызвало его к жизни. Для того чтобы понять его
значение, мы должны знать результаты, к которым он привёл, т. е.
ту обстановку, которая сложилась в результате его завершения.
Отсюда вытекают те основные разделы, которые мы устанав¬
ливаем в сюжете.
Основные
моменты
организации
сюжета
Обрисовка среды, в которой возник данный
конфликт, условий, которые вызвали его к
жизни, представляет собой первый исходный
пункт сюжетной организации. Это так назы¬
ваемая экспозиция.
В романе «Мать» М. Горького первая глава представляет со¬
бой экспозицию: она рисует жизнь рабочей слободки и те усло¬
вия, в которых складываются характеры изображаемых в романе
людей.
Следующим важным моментом в организации сюжета
является завязка действия.
Завязкой является то событие, с которого начинается дейст¬
вие и благодаря которому возникают последующие события.
Экспозиция не определяет действия — она создаёт только фон
для него; завязка же определяет действие, благодаря ей события
получают уже определённое конкретное развитие. Экспозиция
143
романа «Мать» не даёт ещё представления о том, какие события
будут развёртываться в романе, но момент вступления Павла в
революционный кружок уже определяет дальнейшее развитие и,
следовательно, является их завязкой. Превращение Павла в ре¬
волюционера является основой всех дальнейших событий; оно
как бы завязывает узел событий, который в дальнейшем будет
перед читателем распутываться. Павел становится революционе¬
ром, вступает в борьбу с существующим социальным строем;
отсюда вытекает неизбежность столкновения с этим строем,
т. е. определяется характер дальнейших событий. Точно так же
в «Капитанской дочке» Пушкина экспозиция (жизнь Гринёва
дома) ешё не определяет дальнейшего хода действия. Но реше¬
ние отца отправить его на военную службу является завязкой:
благодаря ему получают возможность произойти все дальнейшие
события.
От завязки действия мы переходим к развитию дейст¬
вия. Писатель показывает тот ход событий, то их развитие, ко¬
торое вытекает из основного «толчка», из завязки. У Горького
в романе «Мать» мы наблюдаем развитие действия в организа¬
ции Павлом подпольного печатания листовок, в организации им
рабочей молодёжи, в том авторитете, которым пользуется он
среди рабочих, в преследованиях, которым он подвергается.
С другой стороны, действие развивается по линии переживаний
матери Павла и её постепенной перестройки, по линии борьбы
в Павле личного и общественного (его отношения с Сашей), по
линии второстепенных персонажей (Рыбин, Весовщиков и др.).
Но все эти различные линии действия связаны именно с рево¬
люционной деятельностью Павла, из неё вытекают.
Развитие действия приводит, наконец, к наибольшему напря¬
жению, к решающему столкновению борющихся сил, к так назы¬
ваемой кульминации, к вершинному пункту действия.
В романе «Мать» таким решающим моментом можно считать
демонстрацию; она является осуществлением той задачи, кото¬
рую стремился выполнить Павел, в ней с наибольшей силой
сталкиваются борющиеся стороны, в ней определяется решаю¬
щий перелом в развитии сознания матери.
После кульминации наступает развязка, т. е. показ авто¬
ром того положения, которое создалось в результате развития
всего действия. В романе развязкой является временное пораже¬
ние революционеров, аресты, ссылка.
Практически все эти основные элементы сюжетного построе¬
ния — экспозиция, завязка, нарастание действия, кульминация,
развязка — могут быть даны в самых разнообразных формах, и
иногда отдельные звенья этой сюжетной цепи могут быть пропу¬
щены. Для нас в определении этих основных узлов сюжета важно
не простое описание, наименование, определение той или иной
части повествования как экспозиции или завязки. Для нас важно
прежде всего их конкретное содержание, т. е. опре-
144
деление того, какое событие, какая форма общественных отноше¬
ний выдвигаются писателем в качестве завязки, в качестве куль¬
минации. Так, не случайно, конечно, что у Горького кульминацией
является демонстрация: определяющий момент в истории харак¬
тера Ниловны совпадает (точнее — определяется) с напряжён¬
нейшим моментом общественной борьбы. Наоборот, у Пушкина
в «Капитанской дочке» кульминация даётся лишь применительно
к личной судьбе Гринёва: кульминацией с точки зрения оконча¬
тельного определения судьбы Гринёва в «Капитанской дочке»
является встреча Маши Мироновой с Екатериной, после чего
только выясняется судьба Гринёва. Следует вообще предостеречь
от ошибки считать кульминацией наиболее яркое событие произ¬
ведения. Поскольку сюжет есть история характера, постольку все
узловые пункты сюжета определяются именно в связи с их зна¬
чением для развития характера. Кульминация, вершинный
пункт, — это момент, имеющий определяющее значение для
судьбы данного характера. События, следующие после кульмина¬
ции, только развивают уже определившийся ход действия, тогда
как до кульминации действие может принять самое неожиданное
развитие. Судьба Гринёва во всех происходящих с ним событиях
(при взятии Белогорской крепости, при поездке в Бердскую сло¬
боду к Пугачёву, при аресте) ещё неясна, и только встреча Маши
с Екатериной доводит положение до высшего напряжения и раз¬
решает его в определённом направлении.
Таким образом, в анализе сюжета для нас важно не чисто
логическое определение его узловых пунктов, но анализ их реаль¬
ного содержания для лучшего понимания обрисовываемого при
их помощи характера, а в большом эпическом произведении —
характеров. Этот анализ чрезвычайно поучителен и с точки зре¬
ния изображения писателем связи событий между собой, т. е.
с точки зрения последовательности изложения им тех причин и
следствий, которые управляют данными событиями.
Писатель может и не давать экспозиции в начале, а давать
её после завязки в качестве объяснения последней («задержанная
экспозиция»), он может поставить её в конце («обратная экспо¬
зиция») и т. п. — всё это зависит от того, как он понимает жизнь
в её развитии и как хочет её изобразить.
Одним из видов экспозиции является введение в повествование
сведений о действующих лицах вне непосредственной связи
с изображаемыми событиями: сведений о том, что было до начала
изображаемых событий (форгешихте), между этими событиями
(цвишенгешихте) и, наконец, после них (нахгешихте). Все эти
особенности построения сюжета (не в смысле номенклатурного,
описательного определения их, а в связи с изображаемыми в про¬
изведении характерами, т. е. осмысленные как средства их рас¬
крытия, дополнительной их характеристики) могут давать при
изучении произведения существенный материал для понимания и
идейной его сущности, и изображённых в нём характеров.
10 Тимофеев
145
Так, легко заметить что в «Мёртвых душах» Гоголя мы имеем
дело с очень задержанной экспозицией и с форгешихте Чичикова,
поставленными почти в самый конец «Мёртвых душ». Только
в самом конце мы узнаём, как формировался характер Чичикова
и в чём состояла сущность его деятельности. Более того, «Мёрт¬
вые души» не имеют даже завязки; мы с самого начала сталки¬
ваемся с уже определившейся деятельностью Чичикова: он при¬
езжает в город, заводит знакомства, начинает скупать мёртвые
души, но зачем ему это нужно, что толкнуло его на эти поступки,
из какого, так сказать, зерна выросли все эти события, нам неиз¬
вестно, и только в самом конце становится нонятен весь ход дей¬
ствия. Для чего это было нужно Гоголю, чем помогает изображе¬
нию характера Чичикова, его художественной убедительности это
перенесение экспозиции и завязки в конец романа?
Ответив на вопрос, почему экспозиция и завязка «Мёртвых
душ» даны в конце первой части в XI главе, мы тем самым глубже
подойдём к пониманию этого характера. Понятно, что сама по
себе такая перестановка элементов сюжета ни о чём не говорит.
Нам важно понять её в связи с самими характерами и тем жиз¬
ненным процессом, который стоит за ними.
Конфликт, лежащий в основе «Мёртвых душ», состоит прежде
всего в столкновении двух противостоящих друг другу сил:
с одной стороны, перед нами дворянство, ведущее тихую и мирную
жизнь, с другой — Чичиков — «приобретатель», как его называет
Гоголь, хищник, пользующийся некультурностью и косностью
дворянства для наживы. В этом конфликте, в этой борьбе про¬
тивоположных характеров Гоголь отразил то основное противоре¬
чие общественной жизни, которое уже определялось в конце
30-х — в начале 40-х годов в России и которое состояло во всё
более обострявшейся борьбе феодально-крепостнического обще¬
ства с развивающимися элементами капитализма. В характере
Чичикова Гоголь и показывал новую силу, вторгавшуюся в тихое,
косное, патриархальное дворянское поместье и разрушавшую
его, вносившую в него растерянность, сумятицу, подрывавшую
привычные устои жизни.
Чичиков — фигура непонятная дворянской среде и инородная
ей. Это одно из основных свойств этого характера. Не случайно,
что Гоголь так дорожил в «Мёртвых душах» повестью о капитане
Копейкине, в которой непонятность Чичикова для этой среды,
взбудораженной его появлением и его деятельностью, выступает
с такой отчётливостью.
Чичиков сразу появляется в «Мёртвых душах» как вполне
определённая фигура, в то же время чрезвычайно неясная в своей
определённости:
«В ворота гостиницы губернского города въехала довольно красивая
рессорная небольшая бричка... В бричке сидел господин, не красавец, но и
не дурной наружности, не слишком толст; нельзя сказать, чтобы стар, однако
и не так, чтобы слишком молод».
146
Смысл деятельности Чичикова, точно так же как и условия
образования и развития его характера, не известны читателю;
перестановка экспозиции и завязки в данном случае представляет
собой сюжетное средство изображения характера, определённой
его трактовки — в этом её содержательность. Определив реальное
содержание экспозиции и завязки (т. е. тот жизненный материал,
который в них вложен) и поняв смысл их соотношения с другими
элементами сюжета, мы ближе подходим к пониманию характера,
его жизненного содержания и идейного освещения его автором.
Само по себе определение экспозиции, завязки и других узловых
пунктов сюжета, отнесение к ним определённых разделов данного
произведения не имеют значения, не приближают нас к понима¬
нию произведения. Только поставив их в связь с содержанием,
поняв их связь с характерами и через них связав их с жизнью,
мы их осмыслим и сделаем необходимым звеном целостного ана¬
лиза литературного произведения. Важно помнить, что построе¬
ние сюжета выражает собой авторское понимание жизненного
процесса. Анализ своеобразного построения сюжета у данного ав¬
тора натолкнёт нас на те или иные вопросы, освещающие его
мировоззрение, его жизненный опыт. Поэтому-то сюжеты боль¬
ших художников всегда своеобразны, индивидуальны.
Содержатель¬
ность
композиции
и сюжета
Историчность сюжета
Композиция и сюжет определяются не только
связью их с изображаемыми характерами, но и их
реальным содержанием, т. е. тем, какой жизнен¬
ный материал положен писателем в их основу.
Всякий характер является в той или иной мере представителем
определённой среды, которую мы понимаем в широком смысле —
как всю общественную обстановку, окружающую человека. Этой
среде присущи определённые отношения между людьми, находя¬
щие своё выражение в тех или иных событиях, конфликтах
и т. д., для неё типичных, т. е. таких, в которых обнаруживаются
характерные для данной среды человеческие отношения. Так,
например, спасение челюскинцев является типическим для на¬
шей страны событием — в нём обнаружились основные черты лю¬
дей нашей общественной среды и отношение к человеку вообще.
Мы можем, следовательно, говорить о типических для данной
среды событиях, конфликтах и т. п., и, наоборот, о нетипических,
случайных л т. п. Как мы помним, типическое не равнозначно
наиболее частому — событие может быть типическим, несмотря
на свою единичность, как то же спасение челюскинцев.
Раскрывая через события черты изображаемых характеров,
писатель естественно стремится к тому, чтобы подобрать такие
события, в которых обнаружатся типические черты этих характе¬
ров, а это может произойти лишь в том случае, если он сумеет
найти события, которые действительно типичны для данной обще¬
Ю*
147
ственной среды, действительно требуют проявления существен¬
ных черт характера.
Перед писателем, таким образом, встаёт задача отбора т и-
пических для изображаемой им общественной среды собы¬
тий. В сюжете отражаются существенные для данной среды
жизненные конфликты, действительно характерные для неё со¬
бытия и поступки людей. В этом, прежде всего, содержательность
сюжета. Мы должны оценивать сюжет не только с точки зрения
его мотивированности характером, но в конечном счёте и с точки
зрения его мотивированности жизнью. Точно так же и в анализе
узловых моментов сюжета нам важно их реальное содержание,
т. е. какие именно события положил в основу их писатель, в какой
мере они типичны.
Таким образом, и в композиционно-сюжетной структуре про¬
изведения мы можем наблюдать основные черты образного изоб¬
ражения жизни вообще: её индивидуализирующее значение, её
связь с характерами, с человеческой практикой.
Наряду с типизмом событий, выбранных писателем,
чрезвычайно существенно также разобраться в связях этих со¬
бытий друг с другом; правильно подметив характерность тех или
иных событий, писатель должен ещё причинно их обосно¬
вать, т. е. показать их закономерные связи. Чем полнее обна¬
ружены эти связи, тем глубже, типичнее, следовательно, раскрыто
и данное событие, и наоборот. Здесь идёт речь о содержательности
композиции и сюжета, о том, что в их основе лежит сама жизнь.
В этом смысле и композиция, и сюжет не представляют собой
по существу продукта произвола писателя, они обусловлены теми
конкретно-историческими условиями, в которых он находится.
Однако от тех классовых позиций, на которых он стоит, от уровня
его культуры, от знания жизни зависит, конечно, то, какие жиз¬
ненные факты сумеет он отобрать и обобщить, на что будет на¬
правлено его внимание, в какой мере сумеет он установить зако¬
номерные связи между событиями и между событиями и харак¬
терами и т. д.
Анализ композиции и сюжета приводит нас к необходимости
оценки их с точки зрения самой жизни, т. е. с точки зрения их со¬
держательности, их типизма, закономерности их связей, причин¬
ной их обусловленности, соответствия их характерам и действи¬
тельности, за ними стоящей.
«Бродячие»
сюжеты
Это бесспорное положение об исторической обусловлен¬
ности сюжета сталкивается, однако, с точно таким же
бесспорным фактом повторяемости одинаковых сюжетов
у различных авторов, в различные эпохи, в различных произведениях.
Так, например, в эпосе различных народов мы можем встретить сю¬
жет, основанный на бое отца с неузнанным сыном (в античном эпосе бой
Одиссея с Телегоном (сыном Одиссея и Кирки, родившимся в его отсутст¬
вие, поехавшим на розыски отца и вступившим с ним в бой), в герман¬
ском— Гильдебранда с Гадубрандом, в иранском —бой Рустема с Goxpa-
бом (Зорабом), в русском — бой Ильи Муромца с Сокольником и т. д.).
148
Рассказ о царе, который превратился в нищего и после долгих испытаний
стал опять царём, мы находим в сборнике индийских рассказов «Панча-
тантра »(1—III в. и. э.), в римских сказаниях, в украинской и русской
сказке, в рассказе Гаршина «Сказание о гордом Аггее».
Сюжет «Фауста» переходил от автора к автору, начиная с «Народной
книги» о докторе Фаусте, вышедшей в Германии в 1587 г., через англий¬
ского драматурга Кристофера Марло, к немецким писателям (Лессингу,
Мюллеру, Гёте), затем к русским (Пушкину), вплоть до наших дней (драма
Луначарского «Фауст и город»). Столь же сложна история сюжета «Дон
Жуана». Часто встречаются сходные сюжеты у разных авторов и без такой
сложной истории сюжета; так, очень сходны сюжеты рассказа Конан-Дойля
«Шесть Наполеонов» и «12 стульев» Ильфа и Петрова и т. д.
Такого рода случаи столь многочисленны, что приводят к мысли о ка¬
кой-то особой устойчивости сюжетов, позволяющей им переходить из страны
в страну, от автора к автору и т. п. Существует даже термин — «странствую¬
щие», или «бродячие» сюжеты, который и указывает на эту присущую сю¬
жету живучесть. Этот факт как будто разрушает наш вывод о том, что сю¬
жет вытекает из данных характеров и тем самым историчен. Наоборот, ока¬
зывается, что он приходит к писателю из другой исторической среды и тем
самым самостоятелен, не зависит от характеров. Следовательно, ставится под
сомнение и положение о единстве формы и содержания.
Было предложено много объяснений этому явлению. Мифологическая
теория (Гримм, Макс Мюллер и др.) говорила, что сходство сюжетов объяс¬
няется тем, что они возникли из первоначальных мифов, которые представ¬
ляли собой, так сказать, «прасюжеты». Однако сходство сюжетов у народ¬
ностей, которые не имели общей мифологии, опровергает это объяснение.
Распространена была и теория заимствований (Коскен, Келер), считавшая
связь сюжетов результатом той или иной исторической и культурной связи
народов и прослеживавшая те пути, которыми данный сюжет мог перехо¬
дить из одной страны в другую. Но и эта антинаучная теория опровергалась
указанием на сходство сюжетов у народностей, не имевших никаких связей
(сюжет «Мальчика с пальчик» имеется и в русской поэзии, и в сказках пле¬
мени зулу).
При этом сюжет понимался как наиболее общая схема произведения, что
приводило к отрыву его от характеров, к тому, что он превращался в услов¬
ное обозначение, лишённое конкретного исторического содержания.
Между тем для понимания этого противоречия
(сюжет связан с характером, раскрывает его и в
то же время существует до создания характера)
нужно учесть то, что в человеческой жизни суще¬
ствует ряд общих сторон, которые вызывают сходные жизненные
конфликты и ситуации в различной исторической обстановке.
Выше мы видели, что образы оказываются устойчивее своей исто¬
рической обстановки, потому что в них могут быть уловлены об¬
щие человеческие свойства, поэтому они могут сохранять своё
значение и для других эпох. В них мы наблюдаем единство общего
и исторического. Это же единство мы наблюдаем и в области сю¬
жета. Сюжет обобщал устойчивую жизненную ситуацию. Такая
же ситуация в другой среде рождала сходный сюжет. В те вре¬
мена, когда в семье главенство принадлежало женщине (матри¬
архат), встреча отца с сыном, которого он не узнаёт, могла при¬
вести к рождению сюжета такого типа, независимо от того, что
сходный сюжет уже был найден в другой стране. Известная пси¬
хологическая ситуация (нелюбимый муж, верность долгу, отверг¬
нутая любовь и т. п.) может встретиться и в очень различных
Общее
и историческое
в сюжете
149
условиях и привести (в случае типичности своей для данной жиз¬
ненной обстановки) к возникновению параллельных сюжетов
у разных авторов, так же как неоднократно делались параллельно
различные открытия и изобретения. В этом смысле каждый
сюжет —■ при всём его сходстве с другим — как бы рождается
наново, вытекает из данных исторических — этнографических,
психологических — условий.
Таким образом, мы можем говорить о самозарождении
сюжетов безотносительно к «прасюжету» или к обязатель¬
ному заимствованию его.
Возможны, однако, случаи, когда художник, ре-
Заимствоиание шая свою творческую задачу, находит у своих
сюжета предшественников примеры, сходные с тем, что его
интересует, ситуации, в которых и его характеры могут выказать
свои черты с достаточной полнотой. В этом случае он может
усвоить себе тот или иной сюжет, созданный в прошлом, по¬
скольку этот сюжет является родственным и данной жизненной
обстановке, мог бы родиться и в ней. И здесь перед нами остаётся
в силе вопрос: какие черты характера данный сюжет раскрывает,
какие стороны жизни, стоящей за характерами, обобщает?
Поэтому и прямое заимствование сюжета, если перед нами
подлинно художественное произведение, не разрушает единства
формы и содержания, историчности формы, соотношения основ¬
ных элементов произведения в той их последовательности, о ко¬
торой мы вначале говорили. В принципе каждый сюжет рождается
наново, в своей исторической обстановке, независимо от предше¬
ствующих ему сюжетов. Он есть форма данного исторического
содержания, необходимо из неё вытекающий и в неё переходя¬
щий. Но практически он может возникать в результате переноса
его данным автором на свой исторический материал, поскольку
он не противоречит ему, с ним органически сливается.
Это единство общего и исторического в сюжете есть частный
случай проявления характерной вообще для искусства законо¬
мерности: многое в нём не создаётся каждый раз заново, а как
бы применяется всё к новым и новым задачам, не столько рож¬
дается, сколько возрождается, не теряя от этого своей неразрыв¬
ной связи каждый раз именно с данной исторической обстановкой.
Именно поэтому мы всегда должны стремиться к тому, чтобы
осмыслить даже при условии повторения и заимствования (ко¬
нечно, если перед нами серьёзное творчество) данную языковую
и композиционно-сюжетную структуру произведения в их единстве
с характерами, т. е. в их художественной мотивированности,
в силу чего мы можем уже определить и типичность языка и сю¬
жета и их индивидуализирующее значение. Анализ идеи
и темы переходит, следовательно, в анализ харак¬
теров, вне которых они представляют собой абстрактные, ли¬
шённые художественной специфики формулы. Анализ ха¬
рактеров переходит в анализ языка, сюжета,
150
композиции, вне которых характеры не существуют. В свою
очередь анализ языка и композиции переходит
в анализ характеров точно так же, как х а р а к т е р,ы
переходят в тему и идеюпроизведения в це¬
лом. Перед нами, следовательно, то единство формы и содер¬
жания, те переходы содержания в форму и формы в содержание,
о которых мы говорили в начале нашей книги. Анализ произве¬
дения, следовательно, представляет собой единый анализ содер¬
жания и формы, причё.м он осуществим именно тогда, когда мы
подходим к произведению как к целому. Попытки рассмотреть
сюжет или язык изолированно бесполезны именно потому, что
мы будем изучать их вне их содержательности, не учитывая их
художественной мотивированности. И анализ характеров будет
недостаточен, если мы не оценим их с точки зрения тех событий,
через которые они обнаруживают свои свойства, с точки зрения
языка, через который писатель обнаруживает их, и с точки зре¬
ния композиции произведения в целом. Наконец, соотнесение ха¬
рактеров с жизнью и проверка ею того идейного комплекса, кото¬
рый писатель стремился вложить в своё произведение, — всё эго
может быть осуществлено именно тогда, когда мы подходим
к конкретному произведению как к целому, поскольку оно яв¬
ляется простейшей единицей литературного процесса.
Поэтому чёткое представление о структуре литературного
произведения и о принципах и формах его анализа, вытекающее
из понимания сущности и задач литературного творчества,
является необходимым условием и критической, и историко-лите¬
ратурной работы.
ГЛАВА IV
ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Слово — основное
средство
литературы
Отношение писателя к слову
Литературу называют искусством слова. Это определение сле¬
дует расширить. Мы знаем, что литература есть искусство,
создающее образы. Но образы эти писатель рисует только при
помощи слова, которое поэтому Горький называл первоэлемен¬
том литературы. В этом основное отличие литературы от других
искусств. Уступая многим искусствам в яркости изображения
(живописи, скульптуре, театру и др.), она в то же время превос¬
ходит их все в смысле охвата жизни. Слову доступно всё, что
доступно мысли, а мысль охватывает все области и стороны
жизни, что и делает литературу всеобъемлющим искусством.
Отсюда вытекает та напряжённая работа над
словом, которая ведётся каждым писателем.
М. В. Нестеров вспоминал, что Горький, совер¬
шенно закончив один из своих рассказов, тем
не менее не сдавал его в печать, несмотря на то, что прошли все
151
сроки, так как не мог найти нужное ему одно слово. Однажды
он был в цирке. Во время представления это слово пришло ему
в голову. Он немедленно встал и бросился домой. Такого рода
тщательная работа над оформлением образа присуща, конечно,
всякому большому художнику и не только в области литературы.
К известной картине Сурикова «Боярыня Морозова» сохрани¬
лось более ста предварительных набросков, сделанных худож¬
ником. Для фигуры юродивого, например, он сделал 10 набро¬
сков, 6 рисунков и 3 этюда. На картине изображён странник с
посохом. Посох такого типа Суриков долго искал и, встретив
однажды на улице старуху с посохом такой формы, которая ему
была нужна, так поспешно к ней бросился, что она бросила этот
посох, приняв Сурикова за разбойника. И даже посох этот пред¬
варительно был нарисован Суриковым дважды: в рисунке и в
масляном этюде.
В литературе роль красок, звуков, движений, всего, чем рас¬
полагают различные искусства, играет слово. Горький так опре¬
деляет его значение:
«Так же, как токарь по металлу и дереву, литератор должен знать свой
материал — язык слова, иначе он будет не в силах изобразить свой опыт,
свои чувства, мысли, не сумеет создать картин, характеров и т. п.».
Об исключительно тщательном и вниматель-
Работа писателя ном отношении к слову говорит нам опыт вся-
над словом , п ж
кого большого писателя: «Всякая фраза до¬
сталась мне обдумываниями, долгими соображениями», — писал
Гоголь Никитенко. Работа Гоголя над словом была исключи¬
тельно напряжённой. Он так рассказывал Бергу об этом процессе:
«Сначала нужно набросать всё, как придётся, хотя бы плохо, водянисто,
но решительно всё, и забыть об этой тетради. Потом, через месяц, через два,
иногда и более (это скажется само собой), достать написанное и перечитать:
вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего недостаёт. Сде¬
лайте поправки и заметки на полях и снова забросьте тетрадь. Когда всё
будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственно¬
ручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения
слога. Между прежних выскочат новые слова, которые необходимо там
должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять поло¬
жите тетрадку... Так надо делать, по-моему, восемь раз...»
Работа Л. Толстого над языком описана И. Л. Толстым на
примере правки Л. Толстым корректуры:
«Сначала на полях появились корректурные значки, пропущенные буквы,
знаки препинания, потом меняются отдельные слова, потом целые фразы, на¬
чинаются перечёркивания, добавления и, в конце-кснцов, корректура доводится
до того, что она делается вся пёстрая, местами чёрная, и её уже в таком виде
посылать нельзя... Всю ночь мама сидит и переписывает всё начисто... Утром
папа берёт (работу) опять к себе... К вечеру опять то же самое... всё пере¬
марано... Бывали даже случаи, что, послав корректуру почтой, отец на другой
день вспоминал какие нибудь отдельные слова и исправлял их по телеграфу».
Об отношении Л. Толстого к своему языку рассказывает
Страхов:
152
«Л. Н. отстаивал малейшее своё выражение и не соглашался на самые,
повидимому, невинные перемены. Из его объяснений я убедился, что он не¬
обыкновенно дорожит своим языком и что, несмотря на кажущуюся небреж¬
ность и неровность его слога, он обдумывает каждое своё слово, каждый
оборот речи — не хуже самого щепетильного стихотворца».
«Первое ощущение редактора, приступающего к работе над рукописями
Толстого, — паника, — пишет Б. Эйхенбаум. — Qh берёт небольшую вещь —
«Крейцерову сонату», которая в печати занимает около пяти печатных листов;
ему приносят целый тюк рукописей: 800 листов. Он берёт совсем, маленькую
вещь — «Разрушение ада и восстановление его», ему дают 400 листов, напи¬
санных рукой Толстого и испещрённых его поправками. Редактор начинает
раскладывать эти листы, чтобы выяснить последовательность «редакций»;
этих редакций получается 10, 15, 20. А что делать с такой вещью, как «Воскре¬
сение»? Рукописи этого романа занимают целый сундук.
Дело не ограничивается рукописями. Дальше идут корректуры, в которых
набранный текст опять переделывается заново. П. И. Бартенев, наблюдавший
за печатанием «Войны и мира», как-то раз не выдержал и написал Толстому:
«Вы бог знает, что делаете. Этак мы никогда не кончим поправок и печата¬
ния... Ради бога перестаньте колупать». Но Толстой продолжал «колупать»:
«Не марать так, как я мараю, я не могу», — отвечал он рассердившемуся Бар¬
теневу.
То же самое было и с «Анной Карениной», и с «Воскресением».
Любопытны данные о работе над словом Флобера.
«Он часто употреблял восемь дней, работая с ожесточением, — говорил
Фагэ, — чтобы написать одну страницу». «Он счастлив, — говорила мадам де
Комманвилль, — когда может прочесть свежераспустившуюся фразу, которую
только что докончил. Я присутствую в качестве безмолвного свидетеля при
создании этих, с таким трудом вырабатываемых фраз... Вдруг голос его
начинает модулировать, он растёт, разразился: он нашёл то, что искал, и по¬
вторяет найденную фразу. Но тут он уже поднимается с места и большими
шагами начинает ходить по кабинету; на ходу он скандирует слоги; он
доволен»...
Вот несколько отрывков из переписки 1846 г. Флобера с Луи¬
зой Коле, которые покажут отношение самого Флобера к слову:
«По ночам, когда периоды перекатываются у меня в мозгу, подобно колес¬
ницам римских императоров, я внезапно просыпаюсь от их тряски и немолч¬
ного грохотания...» «Даже во время плавания я помимо воли перекатываю
свои фразы...» «Есть фразы, которые остаются у меня в голове и которые
меня преследуют, как мотивы, непрестанно возвращаются и причиняют
боль — настолько их любишь».
Еще:
«Переходное место, которое содержит 8 строчек..., заняло у меня 3 дня».
Или:
«Вот уже почти целый месяц, как я стараюсь отыскать те четыре-пять
фраз, которые мне нужны...»
У Флобера это внимание к слову принимало, впрочем, уже
несколько болезненный характер.
Золя в «Гуманистах-натуралистах» рассказывает о любо¬
пытном разговоре Тургенева и Флобера:
«Однажды я присутствовал при типичной сцене — Тургенев, который
сохранил дружбу и восхищение по отношению к Мериме, захотел, чтобы
Флобер объяснил ему, почему он считает Мериме плохим писателем. Флобер
153
прочёл страницу — он останавливался на каждой строчке, издеваясь над «что»,
негодуя против избитых выражений, какофонии, стечения слогов, неотделан¬
ности концов фразы, неправильной пунктуации — всё было им замечено. Тур¬
генев открыл удивлённые глаза, он ничего не понимал, он сказал, что ни
одни писатель, ни на одном языке не был столь утончён...» и т. д.
Золя был согласен с Тургеневым, а Максим дю Кан считал
пуризм и скрупулёзность Флобера по отношению к стилю просто
нервной болезнью. Но и в этом случае показательно самое на¬
правление этой болезни (если только она была), тем более, что
произведения Флобера от неё никоим образом не пострадали.
Эта работа писателя над словом неразрывно связана с чрез¬
вычайно глубоким изучением языка, знанием самых различных
его областей, учётом самых различных деталей и оттенков языка.
Оставшиеся от Гоголя «карманные записные книжки» представляют собой
богатый склад характерных, сочных, ничем не заменимых речений провин¬
циально-бытового языка. Здесь собраны и своеобразные поговорки, и меткие
прозвища, и замысловатая брань, и жаргон охотников, кутил, картёжников,
и никогда не слыханные наименования специфических предметов обихода.
«Нет почти страницы, — пишет исследователь творчества Гоголя, — на которой
не встретились бы слова, которые «вышибаются», употребляя выражение Го¬
голя, из нутра художника, строящего свою речь на речи народной и простона-
родной.Закрутить, загнуть слово, влепить, ввернуть слово, сыпать побранки,
ругнуть во все бока, хоть святых вон неси, проводить попа в решете, при¬
пустить во все лопатки, дать тягу, гулять на прах, пошла писать губерния,
пошли писать чушь и дичь, подмаслить, хапуга, покропить спину. Тысячу,
тысячу таких слов — вот стиль Гоголя».
Мы встречаем у Гоголя картины, созданные почти полностью
одним лишь подбором характерных лексических элементов про¬
винциально-бытового языка. Таково описание двора Плюшкина:
«Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было
на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, — ему бы
показалось, уже не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда
ежедневно отправляются расторопные тёщи и свекрухи, с кухарками позади,
делать свои хозяйственные запасы и где горами белеет всякое дерево, шитое,
точёное, лаженое и плетёное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыль¬
цами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкальники, куда бабы кладут свои
мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетёной
бересты и много всего, что идёт на потребу богатой и бедной Руси».
Нарисовать картину псарни помещика Ноздрёва Гоголь и мог
только, опираясь на тот огромный запас красочных слов быто¬
вого языка, который так тщательно собран им в следующих стро¬
ках записной книжки:
«Густопсовые. Чистопсовые. Чистопсовые-гладкие, с шерстью длинною
на хвосте и на ляжках, т. е. на чёрных мясах. Густопсовые — с шерстью длин¬
ною по всей собаке. Крымские — с длинными ушами висячими. Хортая —
гладкая, короткая шерсть. Горские — бесхвостые и полухвостые, куцые и по-
лукуцые. Брудастые — с усами и с торчащей шерстью. Выборзок — смесь,
ублюдок.
Цвет: Мазурка — красная собака с чёрным рылом. Чёрная с подпали¬
ною — с красною мордою. Муругая — искрасна-чёрная с чёрным рылом. Поло¬
вая — жёлтая. Полвопегая — по белому жёлтые пятна. Муругопегая — по жёл¬
тому чёрные пятна. Краснопегая. Черноухая. Сероухая.
Статьи: Голова: щипец чтоб длинен и тонок. Рёбра: достоинство рёбр —
154
бочковатость, выпукловатость. Лишняя маленькая кость в боку называется
сарная кость, — примета резвости; впрочем ныне опровергается. Толщина и
крепость чёрных мясов. Ширина собаки в заду между ключицами и двух зад¬
них лап по крайней мере на ладонь. Хвост называется правилом; достоинство
его в тонкости: хорошее правило то, которое в серпе. Правило в серпе — хвост,
имеющий форму серпа. Достоинство ног в прямизне, сухости и в сжатости
пальцев. Когти называются зацепами, выпукловатость — чем более она стоит
на корточках и менее захватывается земля. Лапа в комке — сжатая лапа.
Недостатки: Вислозадая — когда зад свис... Прилобистая — когда лоб
широк. Подуздая — когда ряд зубов нижней челюсти входит под верхнюю.
Клички: Стреляй, Обругай, Скосырь, Терзай, Озорной, Наян, Буран, На-
хор, Черкай, Мазур, Саргуш, Ахид, Северга, Скосырка, Касатка, Награда,
Ведьма, Крамфа, Юла (во время травли охотник зовёт Юленькой), Пожар»
(см. Гоголь, «Карманные записные книжки»),
И вот из этой сухой, чисто словарной записи создаётся опи¬
сание посещения Чичиковым псарного двора Ноздрёва:
«Я тебе, Чичиков, — сказал Ноэдрёв, — покажу отличнейшую пару собак:
крепость чёрных мясов просто наводит изумление, щиток — игла! — и повёл
их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окружённому большим,
огороженным со всех сторон двором. Вошедши на двор, увидели там всяких
собак: и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муру¬
гих, чёрных с подпалинами, полвопегих, муругопегих, краснопегих, черноухих,
сероухих... Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй,
обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка,
награда, попечительница. Ноздрёв был среди их совершенно как отец среди
семейства: все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев пра¬
вилами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться».
В записных книжках Гоголя под рубрикой «Блюда» собрана
специфическая терминология провинциально-поместной гастро¬
номии:
«Моня, или няня, — желудок, бараний или другой, начиняется кашей греч¬
невой, мозгом и ножками. Сальник — из рубленой печёнки, иногда прибавляют
каши и обкладывают здором. Желудок свиной начиняется рубленым мясом
свиным, кладётся много перцу. Кулебяка — из одного лука и хвоста сомового,
или плеска, который весь из жиру, который вбирает в себя всё тесто. Про¬
сяные булки — из пшена, сваренного на молоке и потом перетёртого, к нему
прибавляют потом муки, пекут и едят горячими с икрою свежею. Задняя часть
зайца называется тушка. Головизна — пирог с головизной, т. е. со всей головой
осетра, с хрящём и со щеками и с потрохами; входит и тёшка — нижняя
часть. Кулебяка с маленькой белугой в 5 пуд.».
А в «Мёртвых душах» мы найдём использование этого мате¬
риала в изображении обеда у Собакевича и заказа завтрака у
Петуха:
«Щи, моя душа, сегодня очень хороши, — сказал Собакевич, хлебнувши
щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, кото¬
рое подаётся к щам и состоит из бараньего желудка, начинённого гречневой
кашей, мозгом и ножками. — Этакой няни, — продолжал он, обратившись к
Чичикову, — вы не будете есть в городе: там вам чорт знает что подадут!»
Зафиксированная в той же записи бытовая лексика, свя¬
занная с приготовлением кулебяки и головизны и виртуозно
использованная Гоголем, сложилась под его пером в зарисовку
Петуха, заказывающего ранний завтрак, который «у мёртвого
бы возбудил аппетит».
155
«Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне щёки
осетра да визигу, в другой запусти гречневой каши, да грибочков с лучком,
да молок сладких, да мозгов, да ещё чего знаешь эдакого... да чтобы с одного
боку она — понимаешь? — зарумянилась бы, а с другого пусти её полегче. Да
изподку-то, изподку— понимаешь — понимаешь? — пропеки так, чтобы рассы¬
палась, чтобы всю её проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал её во
рту., ла сделай ты мне свиной сычуг. Положи в серёдку кусочек льду, чтобы
он взбухнул хорошенько. Да чтобы к осетру обкладкаь гарнир-то, гарнир-то
чтоб побогаче, обложи его раками да поджаренной маленькой рыбкой, да
проложи фаршецом из снеточков, да подбавь мелкой сечки, хренку, да груз-
дочков, да репушки, да моркови, да бобков... подпусти и брюкву и свёклу...»
На основе такого многостороннего изучения языка писатель
получает возможность использовать самые разнообразные его
оттенки, добиться чрезвычайного разнообразия своего словаря,
как это мы можем наблюдать у Гоголя же, использующего,
например, один и тот же глагол хватить самым различным об¬
разом.
О Собакевиче Гоголь говорит: «Есть много на свете таких
лиц, над отделкой которых натура недолго мудрила... хватила
топором раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы».
О Чичикове: «Чичиков увидел, что старуха хватила далеко».
О Черевике: «Эх, сват, за это люблю, — говорил Черевик...»,
«выпил её [кружку], хватив её потом вдребезги»™ Далее: «В
праздник отхватывает Апостола, бывало, так, что и попович
иной спрячется...», «не хватит на то и мышиной породы их...»,
«эк, куда хватили...», «Чичиков хватил в сердцах стулом...»,
«Он накупал кучу всего... насколько хватало денег...», «Из
брички вылезла девка... и хватила обоими кулаками в ворота...»
и т. д.
И, наоборот, одно и то же, казалось бы, явление обозначается
различно. Так, Гоголь использует следующие выражения для
изображения процесса речи: подпустил турусы, влепил словио,
ввернул, подсыпая... кучу аллегорий, такие пули отливает, до¬
ехал названием, выкапывал истории и т. д.
Все эти примеры свидетельствуют о специфическом отношении
писателя к слову и о специфических особенностях слова в худо¬
жественной литературе.
Слово как средство индивидуализации изображении
Конкретизация
образа при
помощи языка
Понятно, откуда вырастает такое отношение
писателя к слову. Он стремится к тому, чтобы
показать жизненный процесс в его конкретных
формах, в непосредственных его проявлениях,
применительно к деятельности конкретно изображённого чело¬
века. Силой творческого воображения писатель создаёт в своём
сознании (на основе накопленного жизненного опыта и опреде¬
лённого понимания жизни) образы конкретных людей в опреде¬
лённой жизненной обстановке, в быту, в определённых событиях
и т. д. и вслед за тем стремится при помощи слова так конкретно
156
н убедительно рассказать об этом воображённом им мире, чтобы
читатель мог с такой же жизненной непосредственностью пред¬
ставить себе людей и события, о которых идёт речь в произведе¬
нии. А этого можно добиться только при тщательном описании
явлений в их характерных свойствах при помощи слова. Благо¬
даря этому изображение действительности писателем получает
индивидуализированный характер, позволяющий читателю ощу¬
тить то, о чём говорится в произведении, как конкретный жизнен¬
ный факт.
Выше мы говорили о том, что одним из необходимых условий
образного изображения действительности является индивидуа¬
лизация этого изображения. Это свойство образного отражения
жизни и определяет особенности художественного языка. Пи¬
сатель стремится сохранить в своём произведении' всё индиви¬
дуальное, конкретное богатство, всё жизненное своеобразие явле¬
ний действительности. Ему нужно так объединить представляю¬
щиеся ему важными и существенными свойства и признаки отра¬
жаемой им стороны действительности, чтобы в результате этот
комплекс выделенных им свойств, признаков, деталей и оттенков,
отмеченных им в действительности, выступил как индивидуаль¬
ное целое, как явление. Тут-то и выступает всё значение языка
для творчества писателя: только обозначив при помощи слова все
индивидуальные свойства, признаки, детали и оттенки явления, он
и может достигнуть желаемого результата. Слово выступает у
него как средство индивидуализации действительности, как необ¬
ходимое условие образного отражения жизни.
Если в обыденной речи мы при помощи слова обозначаем нуж¬
ные нам явления в их самых общих свойствах, пользуясь словом
как своеобразным «ярлыком», который обозначает данное явле¬
ние, не раскрывая его, то в художественной литературе писатель
при помощи слова как бы распаковывает явление, выделяет все
его индивидуальные свойства и признаки1. Всякое явление чрез¬
вычайно многосторонне; оно несёт в себе самые различные свой¬
ства. Произнося, например, слово звезда, мы включаем в него
и пространственные (небесное тело), и временные (ночное
время), и зрительные (свет, блеск), и другие признаки, но все
они даны в общем термине звезда, обобщённо их в себе несущем
1 Например, описание лая собак у Гоголя в «Мёртвых душах»: «Между
тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх
голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал
бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж
них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно, молодого
щенка, и всё это, наконец, довершал бас, может быть, старик, наделённый
дюжей собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас,
когда концерт в полном разливе, тенора поднимаются на цыпочки от силь¬
ного желания вывести высокую ноту, и всё, что ни есть, порывается кверху,
закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук,
присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от кото¬
рой трясутся и дребезжат стёкла».
157
и в то же время конкретно их не раскрывающем. У писателя же
слово выступает в особой функции — при помощи его он доби¬
вается жизненности, индивидуальности, рельефности изображения.
Известен пример об исправлении Достоевским в рассказе Гри¬
горовича фразы Пятак, покатился по земле следующим путём:
Пятак покатился по земле, звеня и подпрыгивая. Здесь это стрем¬
ление к рельефности, к индивидуализации, конкретизации даже
такой жизненной мелочи выступает очень ярко: общее значение
слова покатился раскрывается здесь в его индивидуальном при¬
менении.
Опыт больших писателей показывает ту силу напряжения твор¬
ческой фантазии, воображения, при помощи которой они добива¬
лись необходимой жизненности художественного изображения
действительности.
Диккенс вышел из кабинета, обливаясь слезами, так как
умер герой его романа. Флобер, описывая страдания отравив¬
шейся Эммы Бовари, сам заболел, испытывая состояние, сходное
с изображённым. Л. Толстой говорил о трудности, мучительности
работы писателя, обдумывающего «миллионы возможных соче¬
таний, чтобы выбрать из них одну миллионную». Пушкин писал:
«Над вымыслом слезами обольюсь». Тургенев, работая над ро¬
маном «Отцы и дети», около двух лет вёл дневник от имени Ба¬
зарова.
«Лицо Базарова, — рассказывал он Островской, — до такой степени меня
мучило, что, бывало, сяду я обедать, а он передо мной торчит. Говорю с кем-
нибудь, а сам придумываю: что бы сказал мой Базаров. У меня есть вот какая
большая тетрадь предполагаемых разговоров а 1а Базаров».
Работа писателя
над источниками
На основе исключительно чёткого представле¬
ния о происходящих событиях и действующих
лицах у писателя создаётся возможность инди¬
видуализированного их изображения при помощи средств языка.
Очень отчётливо эта индивидуализирующая роль языка обна¬
руживается в обработке писателем тех или иных источников,
которые он использует в своей работе, в исправлении им перво¬
начальных набросков, постепенно принимающих более конкрет¬
ное и отчётливое строение. Так, в работе над «Хаджи Муратом»
Л. Толстой вводил в текст целый ряд отрывков из воспоминаний
современников о Хаджи Мурате, Воронцове и других, подвергая
эти источники дополнительной индивидуализирующей обработке,
«распаковывая» их. Сравнение источников и текста Толстого
даёт очень наглядные примеры такой работы.
Источники:
Л. Толстой:
Тогда с обнажённой головой, без
шапки, Хаджи Мурат, как тигр, вы¬
скочил из своей засады и с шашкой
в руке один врезался в густые толпы
милиционеров. Он был изрублен на
месте.
Потом он совсем вылез из кана¬
вы и с кинжалом пошёл прямо, тя¬
жело хромая, навстречу врагам. Раз¬
далось несколько выстрелов. Он за¬
шатался и упал. Несколько человек
милиционеров с торжествующим виз-
156
гом бросились к упавшему телу. Но
то, что казалось мёртвым телом, вдруг
зашевелилось, сначала поднялась
окровавленная, без папахи, бритая
голова, потом поднялось туловище, и,
ухватившись за дерево, он поднялся
весь. Он так казался страшен, что
подбегавшие остановились. Но вдруг
он дрогнул, отшатнулся от дерева и
со всего роста, как подкошенный ре¬
пей, упал на лицо и уже не двигался.
Аналогичные примеры находим и в «Войне и мире».
Наполеон сказал, что такие пред¬
ложения, как предложение отступить
за Вислу и Одер, едва ли можно де¬
лать принцу Баденскому.
— Такие предложения, как то,
чтобы очистить Одер и Вислу, можно
делать принцу Баденскому, а не
мне, — совершенно неожиданно для
себя почти вскрикнул Наполеон.
Если Вам удастся поколебать
Пруссию, я сотру её с карты Европы,
и я дам вам в соседи заклятого врага.
Фельдмаршал подошёл к столу,
сильно ударил об него и сказал с жа¬
ром: Это моё дело, но уж доведу я
проклятых французов, как в прошлом
году турков, до того, что они будут
есть лошадиное мясо.
Он круто повернулся назад, подо¬
шёл к самому лицу Балашёва и, делая
энергические и быстрые жесты своими
белыми руками, закричал почти: —
— Знайте, что ежели вы поколеблете
Пруссию против меня, знайте, что я
сотру её с карты Европы, — сказал он
с бледным, искажённым злобою ли¬
цом, энергическим злым жестом одной
маленькой руки ударяя по другой.
— Вам надо отдохнуть. Ваша
светлость, — сказал Шнейдер.
— Да нет же, будут же они ло¬
шадиное мясо жрать, как турки, — не
отвечая, прокричал Кутузов, ударяя
пухлым кулаком по столу...
Мы видели из этих примеров, что Л. Толстой производит су¬
щественную переработку источников, которая, не меняя факти¬
ческого содержания, придаёт им индивидуальный жизненный ко¬
лорит, делает их конкретными жизненными фактами, как бы
непосредственно воспринимаемыми читателем.
Такое же усиление индивидуализации, введение новых дета¬
лей и подробностей, которое фактически является не чем иным,
как подбором всякого рода словесных обозначений, оттенков их
и т. п., можно установить и в обработке художественного текста,
в переходе от одного варианта к другому, более индивидуализи¬
рованному.
Легко заметить, на что обращено внимание писателя при обра¬
ботке источников. Рассматривая выделенные нами части текста,
введённые автором дополнительно к источникам, мы можем сде¬
лать вывод, что он везде оживляет, делает естественной собст¬
венную речь действующих лиц (персонажей): и Кутузова, и На¬
полеона и др. Вслед за тем вводит много указаний на жесты, по¬
ведение, внешность человека, на его внутреннее состояние. Изо¬
бражение жизненных явлений получает благодаря этолгу индиви¬
дуализированный и в то же время комплексный, синтетический
характер. Это вполне подтверждает работа Л. Толстого над ва¬
риантами «Хаджи Мурата».
159
Даже отдельные детали повествования подвергаются тща¬
тельной обработке. Таково, например, известное изображение
состояния лошадей Хаджи Мурата после бегства.
1- й вариант.
Низкие поля были равномерно искусственно залиты, и лошади, тяжело
дыша, увязали всё больше и больше.
2- й вариант.
Низкое поле, на которое они попали, было равномерно и искусственно
залито, и лошади, со звуком хлопанья, с трудом вытаскивали ноги из вязкой
грязи.
3- й вариант.
Но то место, на которое они попали, было всё равномерно, вероятно, не¬
сколько дней тому назад, залито и теперь пропитано водой, и лошади, со зву¬
ком хлопанья пробки, вытаскивали утопающие выше бабки ноги из вязкой
грязи.
4- й вариант.
Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается вес¬
ной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше
бабки вязли лошади. Хаджи Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая,
что найдут более сухое место, но поле, на которое они попали, было всё
равномерно залито и теперь пропитано водой. Лошади, с звуком хлопанья
пробки, вытаскивали утопающие ноги из вязкой грязи и, пройдя несколько
шагов, тяжело дыша, останавливались.
ЯЗЫЕ
и характер
Индивиду а лизация языка персонажей
В языке писателя, следовательно, находит
прежде всего своё отражение основная черта
образа — конкретность. Писателю необхо¬
димо так обрисовать явление словами, чтобы читатель ощутил его
как индивидуальность, как конкретный жизненный факт. Общее
определение «ключевая вода» Л. Толстой, например, заменяет
её индивидуальным описанием,: «Вода из ключа, ломящая зубы,
с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она ещё
чище и свежее», заставляющим читателя воспринять то, о чём
он говорит, как непосредственно переживаемое им явление жизни.
Там, где художник не сумел этого добиться, там нет и произве¬
дения искусства. И именно работа над словом является тем не¬
посредственным орудием, при помощи которого автор добивается
такого воздействия на читателя.
Но эта работа по индивидуализации существенно ослож¬
няется, когда писатель переходит от изображения природы и ве¬
щей, всего, что окружает человека, к изображению самого чело¬
века, потому что человеку — как индивидуальности, как харак¬
теру — присуща и индивидуальная манера речи, без передачи
которой изображение его не будет в достаточной мере конкрет¬
ным. «Гений в том и состоит, — писал Бальзак, — чтобы при
каждой ситуации возникали слова, в которых проявляется ха¬
рактер персонажей».
160
В языке человека находит своё выражение его индивидуаль¬
ный жизненный опыт, его культура, его психология. Нет двух лю¬
дей, которые говорили бы одинаково, потому что нет двух людей,
которые прожили бы совершенно одинаковую жизнь. Каждый
человек говорит по-своему, потому что в его языке отложилась
вся его жизнь. «Из уст человека, — говорил Щедрин, — не вы¬
ходит ни одной фразы, которую нельзя было бы проследить до
той обстановки, из которой она вышла... в жизни нет поступков,
нет фраз, которые не имели бы за собой истории». Эти слова как
раз и указывают на то, что по языку мы представляем себе гово¬
рящего, т. е. ту своеобразную для каждого человека жизненную
обстановку, в которой сложился его характер. Человек в произве¬
дении, как мы знаем, должен нами восприниматься как непосред¬
ственный жизненный факт, как живая индивидуальность, как
характер, следовательно, он должен иметь индивидуальный язык,
отвечающий своими особенностями этому характеру, который
имел бы за собой историю, т. е. воспринимался бы нами как
язык, обусловленный в своём строении психологией, культурой,
жизненной обстановкой именно данного человека, той жизненной
ситуацией, в которой он в данный момент находится, и т. д.
Поэтому изображение человека в произведении предполагает
и, так сказать, наделение его языком, «соответствующим, — как
говорил Пушкин, — его характеру». Пушкин ценил в писателе
то, что у него «все лица живы и действуют и говорят каждый, как
ему свойственно говорить и действовать». Эти слова Пушкина
как раз свидетельствуют о необходимости для писателя характе¬
ризовать изображаемых им людей соответствующим характеру
каждого из них языком.
Понятно, что в зависимости от тех различных видов образа,
о которых мы выше говорили, пути этой индивидуализации языка
персонажей могут быть весьма различны (реалист будет осуще-
ставлять это иначе, чем романтик), но самая-то мотивированность
языка свойствами характеров, о которых говорит писатель, всегда
будет иметь место. «’Мы считаем, — писал А. Н. Островский, —
первым условием художественности в изображении данного типа
верную передачу его образа выражения, то-есть языка и даже
склада речи». И, работая над своими произведениями, Остров¬
ский, как он сам писал, произносил вслух то, что должны были
говорить его действующие лица. А. Н. Толстой говорил, что писа¬
тель, работая над языком персонажа, должен представлять себе
его жесты, тогда он добьётся наибольшей индивидуализирован¬
ное™ их языка. Гёте представлял себе героя произведения сидя¬
щим перед ним в кресле и разговаривал с ним.
Таким образом, в литературном произведении язык людей, в
нём изображённых, прежде всего мотивирован теми ха¬
рактерами, с которыми он связан, свойства которых он инди¬
видуализирует. Это язык характерный. Характер перехо¬
дит в язык, т. е. благодаря ему обнаруживает в развитой форме
11 Тимофеев
161
свои свойства и качества. И, наоборот, язык переходит в харак¬
тер, т. е. по языку мы судим о тех или иных свойствах характера,
от них восходим к характеру, как от характеров, в свою оче¬
редь, восходим к идейно-тематической основе произведения.
В различных методах и течениях, возникающих в процессе
развития литературы, эта мотивировка может иметь совершенно
различный характер. У реалиста она основана на социальной
сущности персонажа, у романтика — на психологической, в клас¬
сицизме — на рационалистической и т. д., но всегда она налицо.
Основой для понимания этого нам служит уже приведённое
выше указание Маркса и Энгельса на то, что язык и есть практи¬
ческое сознание человека, в нём обнаруживается его индивиду¬
альный характер. В силу этого язык является для писателя чрез¬
вычайно сильным средством характеристики людей, по языку мы
судим о самом человеке, так как язык его есть не что иное, как
часть его характера. Говоря о том, что Сю вводит в свой роман
язык преступников, Маркс писал в «Святом семействе»:
«В притонах преступников и в их языке отражается характер
преступника, они составляют неотъемлемую часть его бытия, их
изображение входит в изображение преступника...» (К. Маркс и
Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 78).
Отсюда понятно стремление писателя придавать своим персо¬
нажам своеобразные индивидуальные языковые особенности — их
язык является формой раскрытия их характеров; он характерен,
индивидуализирован. У каждого своя индивидуальность и, сле¬
довательно, свой язык. По языку человека мы создаём суждение
о его характере.
Поэтому общее свойство языка художественной литературы,
его индивидуализированность, с особенной отчётливостью высту¬
пает в индивидуализированном языке персонажей.
Эта индивидуализация осуществима лишь на основе тщатель¬
ного изучения писателем языка в самых разнообразных его про¬
явлениях. Изучение языка, знание различных его областей, систе¬
матическая запись наблюдений над живым языком — необходи¬
мое условие работы писателя.
Примеры этого дают записные книжки писателей, в частности
приведённые выше записи Гоголя. Они отчётливо показывают, как
накопленный языковый материал используется для индивидуали¬
зации повествования, в частности речи персонажей. Эта индиви¬
дуализация осуществляется и путём введения в речь характерных
признаков живой, а не книжной речи (строение фразы, разго¬
воры между персонажами и т. п.), и путём включения в речь пер¬
сонажа характерных именно для него особенностей, тех или иных
излюбленных им словечек, манеры построения фразы, слов, ха¬
рактерных для его профессии, местности, в которой он нахо¬
дится, и т. д.
Эта работа писателя хорошо обрисована в словах К. Федина:
«Как я работаю над языком героев? Сложнее всего обстоит дело с язы¬
162
ком людей интеллигентского круга, ограниченным условиями книжной речи.
Легче улавливать особенности языка крестьянина, ремесленника, торговца,
игру и оттенки уличного слова. Я записываю счастливые слова... Две-три родст¬
венные записи дают возможность по аналогии составить известный речевой
набор, который и служит затем основой речевых оборотов какого-нибудь пер¬
сонажа».
Вот такой «набор» сходных выражений и отличает основных
персонажей, служа их речевой характеристикой.
Чаще всего тот или иной персонаж получает какое-нибудь
своё излюбленное выражение, часто им повторяемое; оно служит
детализирующим, индивидуализирующим признаком в его речи.
Очень отчётливо это выступает у Чехова. Возьмём рассказ «Учи¬
тель словесности». Вначале он пишет:
«...сидел старик Шелестов и, по обыкновению, что-то критиковал. — Это
хамство! — говорил он. — Хамство и больше ничего. Да-с, хамство-с!»
Через некоторое время мы опять встречаемся с этим
выражением:
«Это хамство! — доносилось с другого конца стола. — Я так и губернатору
сказал: это, ваше превосходительство, хамство!»
Читателю уже ясно, кто сидел на конце стола. В конце рас¬
сказа читаем:
— Это хамство, — говорил он. — Так я ему прямо и скажу: это хамство,
милостивый государь!»
Сложнее в этом же рассказе охарактеризована речь Ипполита
Ипполитовича: он повторяет не одинаковые слова, а одинаковые
по своему типу выражения; он всегда говорит то, что давно уже
известно:
«Лето не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а летом без печей
тепло».
Набор таких выражений сопутствует ему в течение всего рас¬
сказа. То он скажет, что
«В женитьбе человек, перестав быть холостым, начинает новую жизнь»,
то заметит знакомому после свадьбы:
«До сих пор вы были не женаты и жили одни, а теперь женаты и будете
жить вдвоём»... и т. д.
В «Чайке» Шамраев вспоминает некстати нелепые случаи из
театральной жизни:
«Раз в одной мелодраме играли заговорщиков, и когда их вдруг накрыли,
то надо было сказать: «Мы попали в западню», а Измайлов: «Мы попали в
запендю». (Хохочет.) Запендю!» и т. д.
В результате такого подбора писателем характерной для каж¬
дого из персонажей манеры речи, отдельных выражений слов и
т. п. речь действующих лиц становится формой раскрытия их
характера, в этом её художественная содержательность. Харак¬
тер, так сказать, переходит в язык, определяет его особенности.
Язык есть часть характера, в зависимости от него получающая
11*
163
определённое содержание, определённый идейный смысл. Здесь
перед нами единство содержания и формы, переход содержания
в форму и формы в содержание.
По языку мы можем составить суждение о характерах.
В «Соти» Леонова к Проньке Милованову, который у себя дома
чинит гармонь, приходит Федот Красильников. Между ними про¬
исходит следующий разговор:
«Федот поискал образов и, не найдя, остался в шапке.
— Богов не содержишь?
— Обхожусь.
Федот усмехнулся.
— Ишь, как ни зайдёшь к тебе, всё ри да ры! — и присаживался на
ящик позади себя.
Пронька на мгновенье поднял взор:
— Ты, отец, не садись туда: это инкубатор. Наделаешь нам задохликов,
да и штаны прожжёшь.
— Хо,— подивился Федот, оставаясь стоять, — естеству насильство.
Как ж у тебя птица-то машинная вылупится? У ней, думается, и мясо-то
железом отдавать станет. Всё затеи у вас с Савиным: то цветы, то цыплята,
зря карасин тратишь! — Он промолчал.
— Хорошая гармонь, чья такая?
— Моя. Хорошая, так купи!
— Куды мне, я старик.
— Всё деньги копишь да в крыночку кладёшь, — засмеялся Пронька,
вспомнив, как в прошлом году принёс Федот в налог полтораста новеньких
полтинников. — Смотри, сгниют они у тебя!
— Ничего, сухая у меня крыночка, сухая. Может, двести коров у меня
в крыночке сидит, а поди выкуси! — поддразнил Федот, и из бороды его про¬
сунулись зубы. — Про кудеса-то слышал? Пустынь желают разъять, а на ейном
месте — фабрика для бумаги.
— А ты поговори в конторе, может, и отступятся!
— Поговорил бы, да мужику ноне внимания нет.
— Мужик мужику рознь! — Солнце упало на колени Проньке, и пискучий
ладок засверкал в нём. — Зачем прикатился-то?
Федот исподлобья окинул стены:
— Да, как это ноне говорится, связь установить. Катька-то цпеты, что ль,
всё содит?.. — Василий хотел к тебе зайти.
— Не сватайся, отец, не выйдет.
— Куда нам в советску родню лезть!
— Да, уж тут и крыночка заветная не поможет...»
Читатель уже по этому разговору составляет себе представле¬
ние и о социальной сущности разговаривающих, и о степени их
культурности, и о сущности отношений между ними именно бла¬
годаря тому, что язык каждого из них дан как его «практическое
сознание», как часть характера.
Типизация языка персонажей
Индивидуализированность языка художествен-
Иидивидуальное ной литературы глубоко содержательна — она
и общее в языке г J г J г
вытекает, как мы видели, из самых основных
свойств образного отражения жизни. Индивидуализированность
в литературе не является первичной, она не прямо воспроизводит
свойства того или иного явления, а представляет собой вторичную
164
индивидуализацию, которую мы не можем свести к тому или
иному отдельному явлению, так как за ней стоит обобщение.
Точно так же и язык писателя при всей его индивидуализиро-
ванности, при всей непосредственности жизненной, индивидуаль¬
ной его окраски вовсе не представляет собой непосредственного
воспроизведения языка того или иного конкретного человека, сте¬
нографической записи выражений, слышанных где-нибудь писа¬
телем. Тщательно собирая и изучая разнообразный языковый ма¬
териал, писатель вслед за тем подвергает его той же обобщающей
обработке, которая вообще является необходимым условием об¬
разного отражения жизни, отбирает в нём характерное, типичное.
Индивидуальные формы речи персонажей являются не чем иным,
как выражением известных обобщений писателя по поводу опре¬
делённого типа людей и характеризующей их языковой культуры.
В своё время Горький так определил тот тип языка, к которому
должен стремиться писатель:
«От художественного произведения, которое ставит целью своей изобра¬
зить скрытые в фактах смыслы социальной жизни во всей их значительности,
полноте и ясности, требуется чёткий, точный язык, тщательно отобранные
слова. Именно таким языком писали «классики», вырабатывая его постепенно,
в течение столетий. Это подлинно литературный язык, и, хотя его черпали из
речевого языка трудовых масс, он резко отличается от своего первоисточника,
потому что, изображая описательно, он откидывает из речевой стихии всё
случайное, временное и непрочное, капризное, фонетически искажённое, не
совпадающее по различным причинам с основным «духом», т. е. строем обше-
племенного языка. Само собой ясно, что речевой язык остаётся в речах изо¬
бражаемых литератором людей, но остаётся в количестве незначительном,
потребном только для более пластической, выпуклой характеристики изобра¬
жаемого лица, для большего оживления его. Например, в «Плодах просве¬
щения» у Толстого мужик говорит: «Двистительно». Пользуясь этим словом,
Толстой как бы показывает нам, что мужику едва ли ясен смысл слова, ибо
крайне узкая житейская практика крестьянина не позволяет ему понимать
действительность как результат многовековых сознательных действий воли и
разума людей».
Это типизирующее значение языка художественной литера¬
туры определяет, между прочим, его значение в деле воспитания
языковой культуры. Литература воспитывает читателя, давая ему
отстоявшийся, отобранный писателем языковый материал и, са¬
мое главное, давая ему определённое отношение к этому мате¬
риалу. Это происходит потому, что в литературном произведении
те или иные языковые особенности связываются с конкретным
характером, и отношение, которое складывается у читателя к
этому характеру, вызывает у него определённую оценку тех или
иных форм речи, слов, оборотов и т. п.
В приведённом разговоре Проньки и Федота
Ошибки писателя отрицательное отношение к кулаку определяет
в работе над яэы- S „
ком собой отрицательное отношение к некультур¬
ным формам его речи (употребление местных
слов, неправильное произношение слов и т. п.). Ошибки в области
языка, идущие по линии примитивного воспроизведения слышан¬
ных писателем языковых.явлений без достаточного осмысления их
165
характерности (так называемый языковой натурализм, или фото¬
графизм) или, наоборот, идущие по линии неправильной, ошибоч¬
ной типизации, крайне резко и отрицательно сказываются на
художественной ценности литературного произведения.
Чрезвычайно вредную роль играют в языке и формалистиче¬
ские ошибки, т. е. увлечение писателя бессодержательной словес¬
ной игрой, затрудняющей восприятие текста, заменяющей ясный,
сочный, понятный широкому читателю язык формалистическим
сумбуром.
Язык при таком формалистическом подходе к нему теряет
связь с характерами, т. е. лишается художественного смысла,
обесценивает произведение, не говоря уж о вредном влиянии его
с точки зрения языковой культуры.
Ошибки языка переходят в ошибочное изображение характе¬
ров, так как неверно показывают те или иные стороны сознания
данного персонажа, закрепляя случайные, нехарактерные для
него особенности или неверно их обобщая. В сущности, закрепле¬
ние в художественном произведении случайных, не характерных
выражений также является неверным обобщением. Сила обобще¬
ния, присущая, как правило, художественной литературе, застав¬
ляет читателя воспринимать и случайный факт, закреплённый в
произведении, придавая ему уже обобщённое значение. Самое
выделение его писателем, то, что он остановил на нём внимание
читателя, уже придаёт данному факту какое-то значение, выде¬
ляет его среди других, хотя и вовсе незаслуженно, и тем самым
сообщает ему характер неверного, мнимого обобщения.
Старое выражение, что эмпиризм есть худший вид философии,
оправдывает себя и в отношении к литературе. Писатель, который
не дал себе труда добиться подлинного обобщения и пошёл по ли¬
нии наименьшего сопротивления и закрепил в своём произведе¬
нии случайный факт (языковый или иной), тем самым придал ему
значение, которого он на самом деле не имеет, т. е. также пришёл
к обобщению, только неверному. Поэтому писатель может создать
художественно-ложное произведение, оставаясь всё время на
почве реальных фактов, которые он действительно наблюдал.
Дело только в том, что он не сумел стать выше фактов, а факты,
сами по себе взятые, оказались случайными, нетипичными, опро¬
вергались другими, которых он не сумел увидеть и понять.
Приводя к снижению художественной ценности произведения,
к неправильному изображению характеров, языковые ошибки
писателя влекут к вредным последствиям и в области непо¬
средственно языковой культуры, вводя в оборот такие язы¬
ковые явления, которые не типичны для языка, засоряют
его и т. д.
Эти ошибки, связанные с непониманием типизирующего зна¬
чения языка художественной литературы, тем более следует
подчеркнуть, что они весьма часто встречаются на практике. На
них в своё время правильно указывал Достоевский:
163
«Знаете ли вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я вам сейчас
объясню. Современный писатель-художник, дающий типы и отмежёвывающий
себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставлять купцов, мужи¬
ков и пр.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, под¬
слушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберёт
несколько сот нумеров характерных словечек, начинает потом роман и, чуть
заговорит у него купец или духовное лицо — он и начинает подбирать ему
речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят и уж, кажется
бы, верно, дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи,
именно потому, что купец или солдат в романе говорят эссенциями, т. е. как
никогда ни один купец или солдат не говорят в натуре. Он, например, в натуре
скажет такую-то записанную вами от него же фразу из десяти фраз одиннад¬
цатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечек
перед тем ничего, как у всех людей. А у типиста-художника он говорит
характерностями сплошь по записанному, и выходит неправда. Выведенный
тип говорит, как по книге...
Записывать словечки хорошо и полезно, и без этого нельзя обойтись;
но нельзя же и употреблять их совсем механически... Драгоценное правило,
что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое, давным-давно
уже не в привычках наших художников».
Давали себя знать эти ошибки и в практике советской литера¬
туры. Огромные сдвиги в области культуры и тем самым — в об¬
ласти языка, происшедшие после Великой Октябрьской социали¬
стической революции, естественно сопровождались и целым рядом
случайных явлений, не характерных для роста культуры вообще
и языковой культуры в частности. Пытаясь мотивировать засорён¬
ность своих ранних произведений чрезвычайно большим количе¬
ством местных, иногда чрезвычайно грубых и некультурных, вы¬
ражений, одна современная писательница говорила:
«Мы не могли изображать русского мужика в первый период Октябрь¬
ской революции с речью, чистой от первобытной грубости, уснащённой изы¬
сканным остроумием. И горе, и восторг, и веселье, всякое эмоциональное вы¬
ражение личности старой деревни обычно выражалось в словах очень грубых.
Остроумие, как правило, связывалось с вещами, о которых не только в гости¬
ных не говорят. И песня, и шутки, и сказка уснащались ими. Жизнь в старой
деревне ограничивалась примитивными её выявлениями, насыщением половой
радостью или огорчением, первобытным тяжёлым трудом. Из какой области
было черпать образы, сравнения, иронию?»
Можно ли признать правильной эту точку зрения? Ни в коем
случае. Ошибочность её состоит в том, что она неправильно харак¬
теризует самую работу писателя. Писатель, как мы видели, не
просто передаёт окружающие его явления, но и высказывает
о них свои суждения, идеи, обобщает свои наблюдения над ними,
находит в них типическое. И в языке он не просто воспроизво¬
дит, подобно стенографу, речь представителя той или иной
социальной группы, а устанавливает типические, характерные
особенности её и при помощи этой типизированной речи харак¬
теризует своих персонажей. При этом мы помним, что произве¬
дение выражает собой и отношение писателя к данному явле¬
нию, оценку его. Следовательно, и к особенностям языка той
или иной социальной группы писатель должен иметь определён¬
ное, положительное или отрицательное, отношение и показать их
167
в том или ином освещении. Наконец, мы уже выяснили и то куль¬
турно-воспитательное значение, которое имеет языковая работа
писателя. Он не должен повторять вредные, некультурные языко¬
вые явления, он должен бороться с ними и разоблачать их.
Поэтому-то, как бы ни говорил «русский мужик» и в первый пе¬
риод Октябрьской революции, это вовсе не значит, что писатель,
его изображающий, лишь в языке его «должен черпать образы,
сравнения, иронию». По этому поводу одним из критиков было
остроумно указано, что если принять эту позицию, то легко пред¬
ставить себе то тяжёлое положение, в которое попал бы писатель,
захотевший изобразить отсталое племя африканских негров: в
языке их 500—600 слов, и из них писателю и нужно было бы,
очевидно, всё «черпать»...
Сложность
языковой
структуры
произведения
Диференцированность языка художественного произведения
В художественном произведении, в котором
выступает ряд действующих лиц, персонажей
(а таких произведений большинство), мы стал¬
киваемся, в силу индивидуализированности их
языка, с чрезвычайной пестротой словесной
ткани того или иного произведения.
Рисуя те или иные характеры, писатель в зависимости от своего
отношения к ним будет для их описания подбирать и различное
языковое оформление, которое, в частности, будет связано и со
средой, показываемой в данном произведении. Так, изображая
рабочего в его производственной обстановке, писатель, естест¬
венно, должен будет пользоваться целым рядом таких слов, кото¬
рые уже не понадобятся ему при изображении колхозника, и
наоборот. В этой многосторонности языка художественного произ¬
ведения реализуется опять-таки общее'свойство образного отра¬
жения жизни — его синтетичность.
Языковые особенности данного произведения художественно
мотивированы теми характерами, которые в нём изображены.
Характеры же эти различны, а в ряде случаев и противоречивы.
Выше мы уже указывали на то, что язык, представляя собой
целостное выражение общественного сознания, в то же время
образует ряд своеобразных ответвлений, в зависимости от слож¬
ности общественной жизни, условий и характера конфликта, раз¬
личных областей человеческой жизни и т. д.
Прежде всего язык социально диференцирован,-
каждая социальная группа характеризуется
своими языковыми особенностями в пределах
единого национального языка. Эта социальная
расчленённость языка иногда выражается даже в так называе¬
мом двуязычии, когда господствующий класс отгораживается от
низших классов при помощи другого языка, который недоступен
массам, Так, в Риме патриции пользовались греческим языком,
Социальная
дифсренциация
языка
168
Психологическая
диференциация
языка
в средние века языком образованной верхушки стала латынь,
в России дворянство отгородилось от других классов французским
языком. В вышедшей в 1717 г. книге «Юности честное зерцало»,
служившей для дворянской молодёжи сводом правил хорошего
тона, говорилось: «Младые отроки должны всегда между собою
говорить иностранными языки, дабы тем навыкнуть могли, а особ
ливо, когда им тайное говорить случится, чтобы слуги и слу¬
жанки дознаться не могли и чтобы можно их от других незнаю
щих болванов распознать».
Социальная диференциация языка дополняется его профес¬
сиональной диференциацией: в каждой области человеческой де¬
ятельности вырабатываются свои языковые особенности, свои,
характерные для неё, выражения.
Наконец, и в языке отдельного человека име¬
ется ряд своеобразных ответвлений. Они зави¬
сят от его психологического состояния — он
может быть взволнован и спокоен, вести важ¬
ный деловой разговор и участвовать в небрежной беседе за чай¬
ным столом, может читать доклад и произносить речь на ми¬
тинге — всё это скажется на его словаре, который он в данный
момент использует, на его манере говорить, на построении
фразы и т. д.
Изображение человека в самые разнообразные моменты его
жизни, в самых различных областях его деятельности — ив ин¬
тимных сторонах его жизни, и в быту, и в общественной жизни,
и на работе и т. д. — предполагает показ его в сложных взаимо¬
действиях с другими людьми, в свою очередь обладающими столь
же разработанными языковыми особенностями, — всё это приво¬
дит к тому, что в произведении перекрещиваются самые различ¬
ные языковые особенности, отражающие самые различные обла¬
сти языковой культуры данной общественной среды, данного исто¬
рического периода.
Язык художественной литературы синтетичен, т. е. отра¬
жает язык общества во всей его сложности, во взаимной связи
всех различных его областей, тогда как все другие формы исполь¬
зования языка, так сказать, односторонни, т. е. используют те
формы языка, которые присущи лишь данной области.
Именно благодаря этой диференцированности имеет такое
значение работа писателя в смысле уже упоминавшейся его роли
в воспитании общественной языковой культуры.
Роль писателя в развитии языковой культуры
Разностороннее, синтетическое отражение
Словотворчество самых различных областей общественной язы-
писателя ,. -
ковои культуры, обобщенность отражения язы¬
ковых особенностей этих областей, сохранение живых, индиви¬
дуальных особенностей человеческой речи в самых различных её
169
проявлениях — всё это, естественно, определяет то чрезвычайно
большое воздействие, которое литература оказывает на язык
своего общества, своего времени. Часто эту роль писателя, как
чрезвычайно активного воспитателя языковой культуры читателя,
представляют несколько упрощённо, говоря о том, что писатель
создаёт новые слова, и в качестве «речетворца» активно влияет на
язык и тем самым способствует созданию нового в языке своего
времени.
Ссылаются при этом на то, что с именами многих писателей
связаны именно новые, введённые ими слова (так называемые
неологизмы). И это в самом деле так. Мы знаем, что Канте¬
мир, например, ввёл такие слова, как: понятие (так он перевёл
иностранное слово «идея»), средоточие (перевод слова «центр»;
Кантемир образовал его из двух слов — средняя точка). Тредья¬
ковскому принадлежат слова: бытие, внимание, существо, велико¬
лепный, умозрительный, деятельный, впечатление, разумность,
подлежащее и др.; Ломоносову — большое количество научных
терминов: градусник, барометр, золотник, такие слова, как: автор,
расстояние, плоскость и др.; слова: трогательный, промышлен¬
ность, развитие, влияние, потребность, занимательно, носиль¬
щик — введены в язык Карамзиным.
Достоевский вводил в свои произведения много новых слово¬
образований, но они, в сущности, не вошли в язык (обшмыга,
вьюнить, сейчашний, безудерж, подымчивый, тилиснуть, подроб¬
ничать, белоручничать, недоразвиток, предчувственница,
срамец, ссорная — от ссора, и др.). Лишь одно слово Достоевского
прочно укоренилось в языке — стушеваться. Державин вводил
ряд новых слов: горорытство, возведенец, ожурчаемый, раз-
збруенный, туск, янство (эгоизм), каменосечец, спорник, прямо-
видность и т. п., но кто их знает и помнит? Можно сослаться на
язык Маяковского, чрезвычайно богатый неологизмами, но сле¬
дует заметить, что Маяковский в этом отношении был чрезвы¬
чайно осторожен: он вводил не столько новые слова, сколько
видоизменял существующие (например: адище, шумище,
громадьё, лошадьё, издинамитить, иссверлить и т. д.). При этом
неологизмы Маяковского обычно уместны в данном его произ¬
ведении, но и они не перешли в обиходный язык, остаются на
страницах его книг.
Если учесть, что большое количество слов, вошедших в язык
благодаря Ломоносову и другим писателям XVIII в., можно объ¬
яснить частными историческими причинами, то вывод будет
ясен — активное воздействие писателя на язык введением новых
слов невелико, и не в нём объяснение воспитательной роли писа¬
теля в области языковой культуры общества. Ломоносов и дру¬
гие авторы XVIII в. писали в период, когда не сформировался
ещё общелитературный (а не только художественно-литератур¬
ный) язык, поэтому введение новых слов (главным образом за
счёт усвоения или перевода иностранных слов) было в тот период
170
общим явлением, и слова, введённые этими писателями, были
даны ими не в художественных произведениях, а в научных рабо¬
тах. Следовательно, даже у них в сущности нет примеров слово¬
творчества художественно-литературного порядка, в той или иной
мере обогативших русский литературный язык.
Поскольку в основе слова лежит то или иное явление, по¬
стольку слово может получить общественное значение лишь в
том случае, если само явление становится достоянием широких
масс; иначе, как бы писатель ни был изобретателен, придуман¬
ные им слова не войдут в общественный обиход. А если явление
действительно распространено, то новое слово возникнет, не до¬
жидаясь писателя, причём обогащение языка достигается не
только путём создания новых слов, но и путём расширения зна¬
чения уже существующих слов.
Пользуясь выражением Потебни, можно сказать, что, по¬
скольку «мысль должна развиваться, стало быть и язык должен
расти, но незаметно, как трава растёт». Поэтому роль писателя
в смысле его воздействия на язык в качестве создателя новых
слов совсем не так велика, как обыкновенно думают. Достоев¬
ский посвятил целую статью тому, как ему удалось ввести в язык
одно новое слово — стушеваться. Рассказав, как оно появилось
и привилось, Достоевский добавлял:
«Написал я столь серьёзно такое пространное изложение истории такого
неважного словца — хотя бы для будущего учёного собирателя русского сло¬
варя, для какого-нибудь будущего Даля, и если я читателям теперь надоел,
то зато будущий Даль меня поблагодарит. Ну, так пусть для него одного и
написано. Если же хотите, то, для ясности, покаюсь вполне: мне в продолже¬
ние всей моей литературной деятельности всего более нравилось в ней то,
что и мне удалось ввести совсем новое словечко в русскую речь, и когда
я встречал это словцо в печати, то всегда ощущал самое приятное
ощущение».
Как видим, прямое воздействие на язык в смысле введения
в него новых слов настолько незначительно, что даже такой
крупный писатель, как Достоевский, уделяет столь большое вни¬
мание введению в язык всего одного слова. Более сильно воз¬
действие писателей на язык в периоды культурных сдвигов, в
периоды, когда идёт обогащение словаря, выработка литератур¬
ного языка и т. д.
Ряд новых слов Кантемира, Ломоносова, Тредьяковского,
Карамзина мог войти в язык лишь потому, что слова эти оказа¬
лись не только словами, родившимися в личном опыте этих пи¬
сателей, а отвечали общественному опыту; потому они и сохра¬
нили жизнь за пределами личного опыта данного писателя, влив¬
шись в сокровищницу русского языка.
Льву Толстому или Пушкину мы как будто не обязаны но¬
выми словами, хотя очевидно, что значение Толстого и Пушкина
в разработке языка отнюдь не меньшее и поэтому искать пути
воздействия на язык писателя надо иначе.
171
Обобщающее
значение
языка
писателя
Прежде всего, как уже говорилось, писатель
производит отбор в языке того, что в нём от¬
стоялось, он отбирает наиболее устойчивые
формы и обороты, отбрасывая второстепенные
и не характерные для языка.
Сейчас, например, у нас появилось много сокращений, иногда
прочно вошедших в наш обиход — райсовет, горОНО и т. п.
По этому типу то и дело образуются новые словечки. Сту¬
денты-технологи сдают, например, экзамен по сопромату (курс—
сопротивление материалов). Но ясно, что эти языковые формы
настолько не связаны с духом языка, что они, несомненно, за
исключением немногих, быстро отпадут, и никакому поэту не
придёт в голову построить на них, например, лирическое стихо¬
творение. Они не войдут в число отбираемых писателем устойчи¬
вых языковых форм, постепенно созревающих в языке. Такшм
образом, в языке писателя мы прежде всего получаем возмож¬
ность воспринимать то, что типично для языка, то, что передаёт
его основные, характерные особенности. И роль писателя в этом
отношении чрезвычайно велика. Но этим она не ограничивается.
Мы помним, что в произведении очень большую роль играет'ин¬
дивидуальный язык персонажей. С одной стороны, он важен тем,
что, во-первых, даёт примеры живой речи (а не только книжной),
при этом живой речи, как мы говорили, различных социальных
групп, профессий, различных психологических типов человече¬
ской речи. А с другой стороны — и это крайне важно, — язык
персонажа воспринимается нами в связи с его характером, и на
него распространяется та эстетическая оценка, которую мы даём
персонажу в целом. В произведении в сущности нет «нейтраль¬
ных» образов. Всё в нём повёрнуто под углом оценки действи¬
тельности в свете тех или иных идеалов писателя. Мы восприни¬
маем людей, изображённых писателем, если так можно выра¬
зиться, в повелительном наклонении — они говорят нам: будь
таким или не будь таким. И наше отношение к языку тоже полу¬
чает эту оценочную окраску: если та или иная форма речи свя¬
зана с персонажем, нас увлекающим, то она входит в наше ре¬
чевое сознание, так сказать, с положительным знаком, и, наобо¬
рот, лицо, нас отталкивающее, запомнится и своей манерой речи,
словечками, ему присущими, и т. п., чего мы будем уже сторо¬
ниться и в своей речи. Тот, кто помнит Иудушку Головлёва, вряд
ли всерьёз скажет кому-нибудь: Друг мой, Анечка, — настолько
яркое представление о слащавом лицемерии этого человека, про¬
являвшемся в его речи, у читателя будет связано с такого рода
выражениями.
В пьесе Горького «На дне» дан пример усвоения речи героя,
увлёкшего читателя. Рассказывая о своей любви, Настя пользу¬
ется необычными для её словаря выражениями [любезная под¬
руга моего сердца и др.), которые она берёт из бульварных ро¬
манов, представляющихся ей образцом красивой жизни, сравни¬
172
тельно с тем дном, на котором она находится. Восприняв как
заслуживающие подражания образы героев этих романов, она
восприняла и язык их как своеобразную норму речи при обыч¬
ных отношениях в человеческом коллективе.
Язык писателя, следовательно, во-первых, обобщён, построен
на отобранном им существенном для языка материале, освобо¬
ждён от случайного и наносного, во-вторых, даёт образцы мно¬
гогранной живой речи и, наконец, эстетизирован, т. е. дан в плане
оценки применённых писателем слов и оборотов, благодаря пе¬
ренесению на них общей оценки нарисованных писателем харак¬
теров. Этим и объясняется то мощное воздействие на язык своего
времени, которое оказывает литература. Она учит говорить по¬
тому, что, во-первых, знакомит читателя со всем
многообразием языка его народа, а во-вторых,
и помогает ему оценить его.
Эта роль языка писателя усиливается ещё, благодаря речи
повествователя.
Речь повествователя
Мы до сих пор говорили только о речи персонажей, каждый
из которых наделён своими индивидуальными речевыми особен¬
ностями.
Характеры же их различны, а в ряде случаев и противоре¬
чивы, и, следовательно, столь же различно, сложно и противо¬
речиво будет языковое строение художественного произведения —
оно будет представлять собой с этой точки зрения своеобразный
конгломерат самых разнообразных языковых явлений, в соответ¬
ствии с индивидуальными особенностями характеров.
Но тем не менее литературное произведение вовсе не пред¬
ставляет собой разнородную словесную массу, а является орга¬
низованным словесным целым, в котором все его разнородные
языковые элементы собраны воедино, подчинены единой, в том
или ином плане продуманной автором, цели.
Эта словесная организованность художественного произведе¬
ния будет нам понятна опять-таки в связи с общими свойствами
литературного творчества, каким бы сложным ни было строение
литературного произведения, какие бы различные характеры в
нём ни сталкивались, —оно всегда представляет собой единое
целое, организованное основной идеей, единым от¬
ношением автора к отражаемой им обществен¬
ной жизни.
Одним из основных средств раскрытия авторской оценки изо¬
бражаемых людей и событий является речь повествователя, то,
как писатель рассказывает о жизни, какими словами и оборотами
характеризует он своих героев и т. д. Эта речь повествователя и
цементирует все разнородные словесные элементы произведения
в единое целое.
173
Индивидуали-
вированность
речи
повествователя
Выше мы видели, что одним из существенных
отличий художественной литературной речи от
других речевых форм является её диференци-
рованность, сложность, разнородность. Мы ви¬
дели, что это связано с характерами, изображёнными в произведе¬
нии, с индивидуализацией их при помощи характерных для них
языковых особенностей. Легко, однако, заметить, что и в тех слу¬
чаях, когда повествование уже не связано с каким-нибудь персо¬
нажем, т. е. не представляет собой его прямой речи, оно всё же
сохраняет индивидуализированный характер. Возьмём для при¬
мера отрывок из романа Тургенева «Рудин»:
«Дом Дарьи Михайловны Ласунской считался чуть ли не первым по всей
...ой губернии. Огромный, каменный, сооружённый по рисункам Растрелли во
вкусе прошедшего столетия, он величественно возвышался на вершине холма,
у подошвы которого протекала одна из главных рек средней России. Сама
Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, вдова тайного советника.
Хотя Пандалевский и рассказывал про неё, что она знает всю Европу, да и
Европа её знает! — однако Европа её знала мало, даже в Петербурге она
важной роли не играла; зато в Москве её все знали и ездили к ней. Она при¬
надлежала к высшему свету и слыла за женщину несколько странную, не
совсем добрую, но чрезвычайно умную. В молодости она была очень хороша
собой. Поэты писали ей стихи, молодые люди в неё влюблялись, важные гос¬
пода волочились за ней. Но с тех пор прошло лет двадцать пять или тридцать,
и прежних прелестей не осталось и следа. «Неужели, — спрашивал себя не¬
вольно всякий, кто только видел её в первый раз; — неужели эта худень¬
кая, жёлтенькая, востроносая и ещё не старая женщина была когда-то кра¬
савицей? Неужели это она, та самая, о которой бряцали лиры?..» И всякий
внутренне удивлялся переменчивости всего земного. Правда, Пандалевский
находил, что у Дарьи Михайловны удивительно сохранились её великолепные
глаза; но ведь тот же Пандалевский утверждал, что её вся Европа знает».
И далее, отметив, что в деревне Ласунская относилась к зна¬
комым с оттенком презрения, чего не наблюдалось у неё в городе,
Тургенев добавляет:
Кстати, читатель, заметили ли вы, что человек, необыкновенно рассеянный
в кружке подчинённых, никогда не бывает рассеян с лицами высшими? Отчего
бы это? Впрочем, подобные вопросы ни к чему не ведут...
Выделенные слова в особенности придают речи индивидуа¬
лизированный характер, обнаруживают отношение повествова¬
теля к тому, о чём или о ком orf рассказывает, дают определён¬
ную оценку тому, о чём повествуется. Когда мы читаем
научную книгу, газетную заметку или канцелярскую справку, мы
имеем дело лишь с теми фактами, о которых они нам сообщают.
Когда мы имеем дело с литературно-художественным произве¬
дением, то наряду с теми или иными фактами, о которых в нём
говорится, мы в самой речи ощущаем оценку этих фактов, отно¬
шение к ним повествователя. За той или иной фразой мы чувст¬
вуем её носителя — самого повествователя. Наряду с её, так ска¬
зать, объективным содержанием мы находим в ней и субъектив¬
ную оценку происходящего. Если речь персонажей индивидуа¬
лизирована соответственно каждому данному характеру, то и
речь повествователя в силу этого имеет индивидуализированный
174
оттенок. Поскольку язык, как мы помним, есть практическое
сознание человека, часть его характера, то эта индивидуализи¬
рованность речи повествователя создаёт представление о новом
своеобразном характере.
Любопытна в этом отношении запись Л. Толстого в дневнике 5 января
1897 г., где он прямо определяет характер речи повествователя в связи с кон¬
кретными персонажами: «Начал перечитывать «Воскресение» и, дойдя до его
решения жениться, с отвращением бросил. Всё неверно, выдумано, слабо.
Трудно поправлять испорченное. Для того чтобы поправить, нужно: 1) попе¬
ременно описывать его и её чувства и жизнь и 2) положительно и серьёзно её
и отрицательно и с усмешкой его».
Аналогично замечание Достоевского, который, работая над
«Преступлением и наказанием», заносит в записную книжку:
«Рассказ от имени автора, как бы невидимого, но всеведущего»;
он же заметил, что у Пушкина в «Повестях Белкина» — «важ¬
нее всего сам Белкин».
В «Воскресении» Л. Толстого изображается приезд Нехлю¬
дова в Петербург:
«Вообще Петербург, в котором он давно не был, производил на него своё
обычное физически подбадривающее и нравственно-притупляющее впечатле¬
ние: всё так чисто, удобно, благоустроено, главное — люди так нравственно
нетребовательны, что жизнь кажется особенно лёгкой.
Прекрасный, чистый, учтивый извозчик повёз его мимо прекрасных, учти¬
вых, чистых городовых, по прекрасной, чисто политой мостовой, мимо прекрас¬
ных, чистых домов к тому дому на Канаве, в котором жила Marlette. Швейцар
в необыкновенно чистом, мундире отворил двери в сени, где стоял в ещё более
чистой ливрее выездной лакей с великолепно расчёсанными бакенбардами и
дежурный вестовой солдат со штыком в новом чистом мундире».
Очевидно, что этот отрывок не сводится к сообщению о при¬
езде Нехлюдова в Петербург, а даёт оценку Петербургу, иду¬
щую от повествователя и выраженную в ироническом подчёр¬
кивании выделенных выше слов. Говоря в «Войне и мире» о На¬
полеоне, размышляющем о письме к нему Александра, Л. Тол¬
стой самой передачей его мыслей обнаруживает отношение к
нему повествователя:
«Наполеон, несмотря на то, что ему, более чем когда-нибудь, теперь,
в 1812 году, казалось, что от него зависело verser или не verser le sang de ses
peuples 1 (как в последнем письме писал ему Александр), никогда более, как
теперь, не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (дейст¬
вуя в отношении себя, как ему казалось, по произволу) делать для общего
дела, для истории то, что должно было совершиться».
В этом отрывке повествователь выступает как лицо, знаю¬
щее и понимающее больше, чем его герой. Он изображает его
иронически; передавая его размышления и указывая на всю
пустоту их, автор смешением русских и французских слов дости¬
гает известного комического эффекта по отношению к Напо¬
леону.
1 Проливать или не проливать кровь своих народов.
175
Единство языьа
художественного
произведения
Переживания персонажей могут найти опровержение в речи
повествователя; так, Л. Толстой пишет:
«В конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что
всем животным и людям даны умиление и радость весны, а считалось священ¬
ным и важным то, что накануне получена была за номером с печатью и заго¬
ловком бумага о том, чтобы к 9 часам утра были доставлены (в окружной суд)
в нынешний день, 28-го апреля, три содержащиеся в-тюрьме подследственные
арестанта».
Все эти примеры отчётливо показывают, что
речь повествователя представляет собой актив¬
ное начало в произведении. Она даёт основной
тон, основную оценку персонажам и событиям
в литературно-художественном произведении.
В силу этого-то она и является тем цементирующим мате¬
риалом в языковой структуре произведения, который придаёт
ему определённое словесное единство, подчиняя себе те или
иные языковые особенности каждого из персонажей. Персонажи
не говорят самостоятельно: повествователь вкрапливает их слова
в свою речь, как бы цитируя то, что он считает нужным пере¬
дать из сказанного ими. Поэтому речь персонажей, несмотря на
всю её индивидуализированность, конкретность и яркость, —
речь подчинённая, пропущенная сквозь интонацию повествова¬
теля. Это очень отчётливо можно проследить на примере декла¬
мации литературно-художественных произведений, звучащей
чрезвычайно фальшиво, когда чтец начинает читать «на голоса»,
выделяя каждого персонажа присущим именно ему голосом,
выговором и т. п. в такой мере, что всё произведение превра¬
щается как бы в разговор действующих лиц.
Декламация всегда должна сохранять единство повествова¬
ния, так как все особенности речи персонажей подчинены речи
повествователя, представляя собой своеобразные «цитаты», ко¬
торые рассказчик как бы приводит из речи персонажей. Фраза
действующего лица в произведении должна быть связана е отно¬
шением к нему самого повествователя, а в чтении — деклама¬
тора.
Примером глубоко-художественного понимания значения
речи повествователя является часто передающийся по радио
исполняемый В. И. Качаловым отрывок из «Воскресения», в ко¬
тором девочка бежит вслед за Катей Масловой и испуганно кри¬
чит: «Тётенька Михайловна!., платок потеряли!» В. И. Качалов
ни на минуту не подделывается под голос девочки, он передаёт
лишь её интонацию, согревая и обогащая её всё время своим
отношением рассказчика к происходящему.
Обобщённость сущности, всякое произведение, о чём бы
речи оно ни говорило, по своему построению всегда
повествователя есть рассказ, повествование определённой
индивидуальности, определённого лица со своим определённым
отношением к жизни о тех или иных явлениях жизни, о слышан¬
ном, виденном, пережитом.
176
Поэтому-то речь повествователя индивидуализирована и по
своей форме, и по своему значению в произведении. В ней мы
чувствуем определённого индивидуального её носителя — субъек
та повествования.
Её задачей точно так же является раскрытие определённого
характера, характера повествователя как определённого типа,
отношения к жизни как нормы человеческой деятельности (поло¬
жительной или отрицательной), как определённого обобщения.
Повествователь ни в каком случае не должен быть смешан с
писателем как личностью. Это художественная категория, опре¬
делённая форма языковой работы писателя. Это отличает поня¬
тие индивидуализированной речи повествователя как речи,
ставящей себе задачей раскрытие определённого характера
(хотя и сжато, бегло показанного) от различного рода речевых
построений, зачастую также весьма индивидуализированных по
своей форме, с которыми мы имеем дело в нехудожественной ли¬
тературе. Так, например, в статье талантливого публициста или
в речи яркого оратора мы имеем дело с ярко индивидуализиро¬
ванной речью, но речью, которая представляет собой непосред¬
ственное проявление яркой индивидуальности, яркого характера
как личности. Она не ставит себе задачей раскрытие характера
как обобщения, как художественного факта: она представляет
собой проявление характера как факта жизни, а не как факта
искусства.
Язык блестящего публициста всегда будет блестящим и ум¬
ным, потому что умён и блестящ сам публицист. Язык писателя
в произведении может быть, допустим, нарочито вульгарным,
глупым и т. п., но это вовсе не значит, что вульгарен и сам писа¬
тель. В этом отличие вторичной индивидуализированности речи
повествователя, например у Лескова, от первичной индивидуа¬
лизированности речи в самой жизни.
Форма Понятно, что на практике речевое построение
речи произведения с точки зрения соотношения
повествователя речи повествователя и речи персонажей может
иметь самые различные формы.
В ряде случаев автор для более глубокого раскрытия своего
героя или в случае изображения положительного героя, который
своими взглядами выражает взгляды автора, передаёт повество¬
вание герою, от лица которого и ведётся рассказ. Пушкин в «Ка¬
питанской дочке» передаёт повествование Гринёву—положи¬
тельному герою.
Все эти формы повествования от первого лица с особенной
отчётливостью обнаруживают характерность и индивидуализи¬
рованность языка художественной литературы. Сюда относятся:
форма так называемого «сказа», когда повествование построено
как устный рассказ конкретного рассказчика, снабжённый его
индивидуальными языковыми свойствами (например «Гусар»
Пушкина или «Кола Брюньон» Ромэн Роллана); эпистолярная
12 Тимофеев
177
форма, т. е. письма героя или переписка нескольких лиц («Бед¬
ные люди» Достоевского); мемуарная форма, т. е. произведения,
написанные в форме воспоминаний, дневников («Капитанская
дочка» Пушкина) и т. п.
В тех случаях, когда такой персонификации повествования
нет, в самом тексте могут быть всякого рода переплетения речи
повествователя с речью героя, отдельные эпизоды могут быть
построены в тоне речи того или иного персонажа, речь повество¬
вателя может незаметно переходить в речь персонажа и наобо¬
рот. Например, у Достоевского («Идиот») читаем:
«Они расстались. Евгений Павлович ушёл с убеждениями странными: и по
его мнению выходило, что князь несколько не в своём уме. И что такое значит
это лицо, которого он боится и которое так любит? И в то же время ведь он
действительно, может быть, умрёт без Аглаи, так что, может быть, Аглая
никогда и не узнает, что он её до такой степени любит! Ха-Ха! И как это
любить двух? Двумя разными любвями какими-нибудь? Это интересно... бед¬
ный идиот! И что с ним будет теперь?»
Рассказ Достоевского о размышлениях Евгения Павловича
продолжен самим героем, что усилило конкретность их изобра¬
жения.
Если Л. Толстой даёт характеристику Наполеона при помощи
иронической по отношению к Наполеону речи, то, например,
в «Анне Карениной», сочувственно изображая Левина, он под¬
держивает его самим повествованием, соотнося его с пережива¬
ниями и настроениями Левина. Речь идёт о неудачной охоте
Левина, и Л. Толстой обращается к обрывистой, задыхающейся,
злой интонации, являющейся одним из средств передачи и кон¬
кретизация состояния и настроения Левина:
«Косые лучи солнца были ещё жарки; платье, насквозь промокшее от
пота, липло к телу; левый сапог, полный воды, был тяжёл и чмокал; по
испачканному пороховым осадком лицу каплями скатывался пот; во рту была
горечь, в носу запах пороха и ржавчины, в ушах неперестающее чмоканье бека¬
сов; до стволов нельзя было дотронуться: так они разгорелись; сердце стучало
быстро и коротко; руки тряслись от волнения, а усталые ноги спотыкались и
переплетались по кочкам и трясине; но он всё ходил и стрелял. Наконец, сде¬
лав последний промах, он бросил наземь ружьё и шляпу...»
Эта цитата весьма характерна; она показывает, как резко ме¬
няется повествование в связи с определённым характером и какое
живописующее значение оно имеет. Сжатые, монотонно повто¬
ряющиеся и в то же время нарастающие вплоть до разрешаю¬
щего напряжения жеста («он бросил наземь ружьё и шляпу»)
фразы своей интонацией чрезвычайно усиливают изображение
блуждающего по болоту взбешённого Левина.
В другом случае речь идёт об изображении тяжёлого душев¬
ного состояния Левина около его умирающего брата Николая:
«Если бы Левин был теперь один с братом Николаем, он бы с ужасом
смотрел на него и ещё с большим ужасом ждал, и больше ничего бы не умел
сделать.
Мало того, он не знал, что говорить, как смотреть, как ходить. Говорить
о постороннем ему казалось оскорбительным, нельзя; говорить о смерти, о
мрачном—тоже нельзя. «Смотреть—он подумает, что я изучаю его, боюсь;
178
не смотреть — он подумает, что я о другом думаю; ходить на цыпочках — он
Судет недоволен; на всю ногу — совестно. Кити же, очевидно, не думала и не
имела времени думать о себе; она думала о нём, потому что знала что-то, и
всё выходило хорошо. Она и про себя рассказывала, и про свою свадьбу, и
улыбалась, и жалела, и ласкала его, и говорила о случаях выздоровления,
и всё выходило хорошо; стало быть она знала. Доказательством того, что
деятельность её и Агафьи Михайловны была не инстинктивная, животная,
неразумная, было то, что, кроме физического ухода, облегчения страдания, и
Агафья Михайловна и Кити требовали для умирающего ещё чего-то такого,
более важного, чем физический уход, и чего-то такого, что не имело ничего
общего с условиями физическими. Агафья Михайловна, говоря об умершем
старике, сказала; «Что же, слава богу, причастили, соборовали, дай бог каж¬
дому так умереть». Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях,
питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости при¬
частиться и собороваться».
Здесь перед нами, с одной стороны, речь повествователя, вы¬
ражающая состояние Левина. Вслед за тем она переходит в речь
самого Левина («смотреть» и т. д.), в своего рода цитату. Затем
начинается повествование о Левине, которое всё время прони¬
зано элементами левинской интонации (Катя вместо Кити —
воспоминание Левина о том, что её так звал брат Николай
и т. д.), вводится новая цитата, взятая уже из речи повествова¬
ния (Агафьи Михайловны и т. д.). В результате перед нами
чрезвычайно сложная система, всё время меняющаяся, дающая
повествование с разных точек зрения, вводящая голоса самих
персонажей и т. д. Всё это опять-таки является средством пере¬
дачи состояния взволнованного Левина, напряжённости обста¬
новки и т. д.
Все эти примеры говорят о том, что в речи повествователя
мы имеем дело с той индивидуализированностью и характерно¬
стью, а следовательно, и с обобщённостью, типизированностью,
которые вообще характеризуют язык художественной лите¬
ратуры.
В силу того, что в основе речи повествователя (при всех кон¬
кретных её переплетениях с речью персонажей) лежит отноше¬
ние писателя к жизни, его идеи, она в особенности отчётливо
осуществляет воспитательную роль в деле развития языковой
культуры; в ней автор даёт, так сказать, нормы правильной с его
точки зрения речи. Он пишет так, как нужно писать и говорить;
авторскую речь читатель в особенности воспринимает как речь
правильную. Поэтому ошибки писателя в речи повествователя
особенно вредны, на что в своё время указывал Горький в своих
статьях о языке.
Образ повествователя
Самостоятельное
художественное
значение
Речь повествователя о событиях и людях при¬
суща эпосу (в драме речи повествователя
вообще нет, в лирике она даётся как высказы-
речи повество- вание о переживаниях, идущее от лица автора,
вагеля а не как рассказ 0 других людях, дающий опре¬
делённое к ним отношение).
12*
179
Своеобразие речи повествователя, т. е. наличие в ней инди¬
видуализирующих её особенностей, которые не сливаются с осо¬
бенностями обрисованных в произведении персонажей, а даны
обособленно, подразумевает стоящую за ней индивидуальность.
Эта проявляющаяся в языке индивидуальность создаёт средства¬
ми языка образ того, от чьего имени, с чьей точки зрения воспри¬
нимаются люди и события, о которых идёт речь в произведении.
Этот образ — образ повествователя, носителя тех
индивидуальных речевых особенностей, которые уже не связаны
с персонажами произведения, имеет весьма большое значение в
строении произведения, так как от его лица даётся восприятие
происходящего, оценки людей и событий. Поэтому весьма важно
уметь выделить этот образ, использовав для его характеристики
те речевые особенности, в которых он обнаруживает свой харак¬
тер. Л. Толстой писал, что в произведении «главный интерес
составляет характер автора, выражающийся в сочинении... Са¬
мые приятные [сочинения] суть те, в которых автор как будто
старается скрыть свой личный взгляд и вместе с тем остаётся
постоянно верен ему везде, где он обнаруживается».
Говоря о произведениях самого Л. Толстого, критик К- Ле¬
онтьев весьма правильно заметил, что «характер или стиль автор¬
ского рассказа всегда отражается так или иначе и на лицах
действующих, и на событиях. Подобно тому, как один и тот же
ландшафт иначе освещается на заре, иначе полдневным солнцем,
иначе луной и иначе бенгальским огнём, так точно одни и те же
события, одни и те же люди различным образом освещаются
различными, побочными даже приёмами автора».
Писатель зачастую сознательно стремится к выработке свое¬
образного индивидуального авторского языка. Интересны в этом
смысле замечания Лескова: «Постановка голоса у писателя за¬
ключается в умении овладеть голосом и языком своего героя...
От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-
народным в чисто литературной речи. Меня сейчас поэтому и
узнаешь в каждой статье, хотя бы я и не подписывался под
ней... Все мы — и мои герои и сам я — имеем свой собственный
язык... я собирал его (язык. —Л. Т.) много лет по словечкам, по
пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в
толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и в монастырях...
Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и про¬
изношению русских людей на разных ступенях их социального
положения... Все они говорят у меня по-своему».
Образ повествователя в ещё большей степени усиливает ту
индивидуализированность языка художественного произведения,
о которой мы говорили, поскольку он приводит к сохранению
особенностей живой, индивидуальной речи не только у персона¬
жей, но и в авторском языке повествователя.
Рассмотрим с этой точки зрения начало романа «Идиот»
Достоевского:
180
«В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра поезд Петербургско-
Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было
так сыро и туманно, что насилу рассвело, в десяти шагах, вправо и влево от
дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окна вагона. Из пасса¬
жиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены от¬
деления для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень
далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяб¬
лись, все лица были бледножёлтые, под цвет чумана.
В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против
друга, у самого окна, два пассажира, — оба люди молодые, оба почти налегке,
оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и
оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба
знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то,
конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга
в третьеклассном вагоне Петербургско-Варшавского поезда. Один из них был
небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с
серыми, маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и приплюснут,
лицо скуластое; губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмеш¬
ливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и
скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна
была в этом лице его мёртвая бледность, придававшая всей физиономии моло¬
дого человека измождённый вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и,
вместе с тем, что-то страстное до страдания, не гармонировавшее с нахаль¬
ною и грубою улыбкой и резким и самодовольным его взглядом. Он был
одет тепло, в широкий мерлушчатый крытый тулуп и за ночь не зяб, тогда
как сосед его принуждён был вынести на своей издрогшей спине всю сладость
сырой, ноябрьской, русской ночи, к которой, очевидно, не был приготовлен.
На нём был довольно широкий и толстый плаш без рукавов и с огромным
капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные по зимам где-нибудь
далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рас¬
считывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдкунена до
Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось
не вполне пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой
человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше
среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми шеками и с лёгонькой, вост¬
ренькой. почти совершенно белой бородкой. Глаза его были большие, голубые
и пристальные, во взгляде их было что-то тихое, но тяжёлое, что-то полное
того странного выражения, по которому некоторые с первого взгляда угады¬
вают в субъектах падучую болезнь. Лицо молотого человека было, впоочем,
приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее.
В руках его болтался тощий узелок из старого, помятого фуляра, заключав¬
ший, кажется, всё его дорожное достояние. На ногах его были толстоподош¬
венные башмаки, всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе всё
это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с тою неделикат¬
ной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда
людское удовольствие при неудачах ближнего: — Зябко? И повёл плечами».
Приглядевшись к этому отрывку, мы легко заметим в нём
целый ряд особенностей, при помощи которых Достоевский до¬
бивается сохранения в повествовании свойств живой, индивиду¬
альной речи, постепенно создавая в сознании читателя образ по¬
вествователя. Описание людей, находившихся в поезде, даётся
так, как будто тот, кто о них говорит, также в этом поезде был
(«Трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окна»). В рассказ
вставляются выражения, характерные для устной, живой речи
(«Все, как водится, устали»). Говоря о людях, повествователь
как бы тут же подыскивает выражения для их характеристики
181
{«что-то страстное до страдания», «где-нибудь далеко'за грани¬
цей», «во взгляде было что-то тихое, но тяжёлое, что-то полное
того странного выражения, по которому некоторые с первого
взгляда угадывают в субъектах падучую болезнь»). Описание
даётся так, что читателю ясно, что повествователю известны
последующие события, о которых он ещё не успел рассказать
(«Если бы они знали один про другого, чем они особенно в эту
минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай
так странно посадил их друг против друга»).
Как видим, перед нами живое повествование, в котором
мало-помалу вырисовывается лицо повествователя, его характер,
его отношение к людям и событиям, о которых он ведёт речь,
которым даёт оценку, неуловимо для читателя подсказывая ему
определённое отношение к людям рассыпанными по произведе¬
нию сравнениями, эпитетами, интонациями и т. д. Художник, как
мы видели, часто осознаёт это значение речи повествования.
Работая над «Бесами», Достоевский, имея намерение написать
злой памфлет на революционных демократов, записал: «Глав¬
ное — особый тон рассказа».
Этот тон позднее отметил Горький, говоря о романе «Бесы»:
«В этом романе, — писал он, — есть фигура, на которую кри¬
тики и читатели до сей поры не обратили и не обращают долж¬
ного (внимания) — фигура человека, от лица которого ведётся
рассказ о событиях романа».
Понятно, что в зависимости от метода писателя, материала,
отношения к нему и т. д. этот образ повествователя может иметь
самые различные, иногда более, иногда менее развитые формы
(например,у романтиков больше, чем у реалистов), но учитывать
его всегда нужно, так как он может натолкнуть нас при анализе
на наблюдения, которые иначе ускользнули бы от нашего вни¬
мания, и помочь глубже изучить произведение. Так, например, в
творчестве раннего Горького образ повествователя существенно
пополняет то идейное содержание, которое несут в себе персо¬
нажи его рассказов.
Пути использования слова писателем
Язык и обпа Мы ДО сих пор говорили об общих свойствах
р*3 языка художественной литературы. Мы ви¬
дели, что они представляют собой не что иное, как перенесённые
в область языка основные свойства образного отражения жизни,
которые язык и конкретизирует. Известные нам свойства образа:
индивидуализированность изображения жизни, обобщённость
этого изображения, всесторонность охвата человека, эстетиче¬
ский к нему подход, воспитательная роль образа — всё это в
языковом плане и находит своё выражение в тех формах, о кото¬
рых мы говорили выше. Язык писателя отличается от других
форм языковой деятельности именно тем, что подчинён основной
182
задаче: задаче создания образа. Он предельно индивидуализи¬
рован и в отношении сохранения всей многогранности живой
речи (речь персонажей и речь повествователя), и в отношении
конкретизации того, о чём говорит писатель, он обобщённо
отражает свойства языка тех или иных социальных групп, про¬
фессий или психологических состояний человека, он оценочно
подходит к формам речевой деятельности человека, эстети¬
чески окрашивая речь персонажей и речь повествователя, он,
наконец, играет большую воспитательную роль в области разви¬
тия общественной языковой культуры, отбирая в языке наибо¬
лее существенное и отстоявшееся. Всё это — необходимые
выводы из его основной функции: язык писателя подчинён
задаче создания образа, это и определяет его основные
свойства.
Эти общие его свойства естественно сказываются уже на всех
конкретных формах языковой работы писателя: его отношении
к слову — лексике, синтаксису.
Прежде всего он стремится к охвату всех областей языковой
культуры человека. Отсюда вытекает многообразное использо¬
вание им самых различных источников языка, т. е. тех обла¬
стей, в которых OiH применяется. Вслед за тем принцип индиви¬
дуализации требует использования слова в самых тончайших его
оттенках; этого писатель достигает при помощи обращения к
переносным значениям слова, к интонации, к тем
оттенкам, которые слово получает благодаря своей связи с дру¬
гими словами (в контексте).
Все эти формы использования различных смысловых оттенков
слова основаны на его важнейшем свойстве: на многознач¬
ности слова.
Многозначность слова
Значение слона
Отражая действительность путём изображения
конкретных жизненных фактов и явлений, для
неё типичных, писатель при помощи слова добивается её пласти¬
ческого, по выражению Горького, изображения, т. е. того, что
читатель может конкретно, непосредственно представить себе
то, о чём говорит писатель. Не следует смешивать, как это часто
делается, непосредственность с наглядностью. Далеко не всё то,
о чём пишет писатель, может быть представлено наглядно — те
или иные переживания, настроения не могут, конечно, изобра¬
жаться наглядно, но в этом случае они изображаются так, что
читатель конкретно может представить себе те чувства тоски,
тревоги, радости и пр., о которых писатель рассказывает.
Эта конкретность, полнота восприятия произведения возни¬
кает потому, что писатель при помощи точно подобранных слов
последовательно обозначает характерные свойства и признаки
явления, о котором он говорит.
183
Всякое слово содержит в себе определённое самостоятельное
значение. Слово, название отражает, обозначает те или иные
явления, действия, предметы, те или иные отдельные свойства
и признаки явлений, зависящие от их функции в жизни. Слово
гроза обозначает целостное явление природы, чёрный — один из
признаков какого-нибудь явления (например чёрный ворон)
и т. д.
В своём «Конспекте книги Фейербаха о Лейбнице» Ленин ци¬
тирует следующее высказывание Фейербаха:
«Что же такое название? Служащий для различения знак, какой-нибудь
бросающийся в глаза признак, который я делаю представителем предмета,
характеризующим предмет, чтобы припомнить его в его целостности». Ленин¬
ский сборник, XII, стр, 141).
Изображая то или иное явление, писатель объединяет в опре¬
делённый словесный комплекс ряд слов, обозначающих отдель¬
ные его свойства и признаки, представляющиеся ему существен¬
ными, используя эти слова по их непосредственному значению.
Например:.
«В четырёх верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее
графине Б ***, но в нём жил только управитель, а графиня посетила своё
поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила
там не более месяца» (Пушкин).
Перед нами ряд слов, каждое из них обладает определённым
значением. Комплекс их и создаёт у читателя представление о
данном явлении. Чем шире круг представлений писателя о жизни,
круг его знаний, культуры, опыта и пр., тем большим числом зна¬
чений он располагает, тем более точно и выпукло может он, сле¬
довательно, изображать нужные ему явления. С этим и связано
то тщательное изучение писателем языка, о котором говорилось
выше.
Творчество всякого большого писателя может служить при¬
мером чрезвычайно большого и разностороннего словаря, со¬
стоящего из многих тысяч слов.
Однако слово не сводится к его непосредст-
Значение венному точному значению. Нужно подчерк-
нуть существенное отличие значения слова и
смысла слова. Значение слова точно и определённо, смысл его—
гораздо шире, поскольку явление, которое оно обозначает, вы¬
полняет в жизни ряд функций и обладает, следовательно, рядом
свойств. На этом основана возможность употребления слова и не
в его непосредственном и прямом значении, чрезвычайно расши¬
ряющая словарь писателя.
Наряду со своим точным значением слово имеет чрезвычайно
разностороннюю и богатую смысловую окраску, оно много¬
значно (точнее многосмысленно). Реальный смысл слова го¬
раздо шире его непосредственного значения. Если мы заглянем
в словарь, то найдём в нём определение данного слова с точки
зрения его основного содержания, его значение.
184
Алмаз, например, мы определим как «драгоценный камень,
бесцветный и прозрачный, отличающийся от других сильным
характерным блеском, радужной игрой цветов и наибольшей
твёрдостью» («Словарь русского языка» Академии наук СССР).
Но в различного рода выражениях мы найдём слово алмаз в
употреблении, далеко выходящем за рамки его первоначального
основного значения:
«Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы» (Турге¬
нев, Бежин луг);
«Слеза, сверкая, как алмаз, повисла на реснице длинной» (Д. Бедный,
Работница);
«Свой глаз — алмаз, а чужой — стекло» (пословица);
«Самые драгоценные алмазы его (Пушкина) поэтического венка, без со¬
мнения, суть «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» (Белинский);
«Сердце его уже камень; душа его покрылась алмазною корою» (Ради¬
щев, Путешествие из Петербурга в Москву);
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами;
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьёт вверх буграми...
(Державин, Водопад.)
Чего ему нам пожелать бы?
Чтобы от свадьбы золотой
Он дожил до алмазной свадьбы *.
(Вяземский, Песнь в день юбилея Крылова.)
Легко убедиться в том, что во всех этих случаях мы имеем
дело с различными смысловыми оттенками значения слова алмаз,
что позволяет использовать это слово не только в его непосред¬
ственном содержании, не только тогда, когда речь идёт действи¬
тельно об алмазе, но и в целом ряде других случаев. Даже в
одном произведении слово может употребляться с различными
оттенками (например слово мечта в «Евгении Онегине»
Пушкина).
Эта многозначность слов основана прежде всего на том, что
явления, обозначаемые словами, не сводимы к какому-нибудь
одному свойству, признаку, особенности; у них есть свои различ¬
ные стороны, которые то выступают на передний план, то, наобо¬
рот, становятся малозаметны.
Выше мы цитировали слова Ленина о том, что даже простей¬
шее, казалось бы, явление (стакан) всё же не сводимо к какому-
либо одному признаку. Свойства стакана обнаруживались в его
связи с другими явлениями, в его взаимодействии с ними. Одни
свойства отходят в данный момент на задний план, другие вы¬
двигаются, и за наиболее ярким в данный момент признаком
скрываются остальные, но и они могут стать яркими в другой
связи, в ином взаимодействии с другими явлениями.
* Т. е. до 75-летнего юбилея свадьбы.
185
Слово выделяет в явлении в данной обстановке
Первичное наиболее существенное функциональное свой-
вначение слова ство и п0 этому свойству обозначает другие,
менее яркие или в данный момент не имевшие
возможности обнаружиться (хотя, может быть, и более суще¬
ственные) признаки. Бели основной признак определяет первич¬
ное значение слова, то скрытые, необозначенные свойства
его определяют вторичные значения слова, имеющие, как
мы видели на примере с алмазом, самые разнообразные оттенки.
Акад. Марр даёт очень яркий пример функционального выде¬
ления в явлении его основного свойства, указывая на общность
корней слов «соль» и «солнце» (франц. sel и soleil, англ, salt,
нем. salz, лат. sal). Дело в том, что соль стала выполнять одну
из функций солнца: она сохраняла мясо от гниения — вместо
того чтобы вялить на солнце, его солили. И родство функций
сейчас же отразилось в языке.
В процессе своего исторического развития слово может изме¬
нять первоначальное значение, оно может забываться, но тем не
менее, прослеживая, как оно возникло, мы найдём в нём следы
живой связи с явлением, что и привело именно к такому, а не
иному наименованию этого явления, выделило в нём определён¬
ное свойство в результате непосредственного взаимодействия с
ним человека в данный период.
Мы сейчас уже не воспринимаем конкретного содержания
таких слов, как, например, изба, сутки, чернила, чан, лошадь,
ошеломить, окно, портной и т. д., в такой мере, что образуем от
этих слов уже новые слова (избач, избяной, подоконник и т. д.).
Между тем мы в этих словах первоначально имели дело с выяв¬
лением определённых признаков тех явлений, которые ими обо¬
значены. Так, изба — первоначально — помещение, которое
можно отапливать (истопить, отсюда — истопка); постепенно
слово в звуковом отношении настолько изменилось1, что-для нас
изба скорее связана с представлением о жилом деревянном
строении. Сутки — период времени в 24 часа, тогда как слово
происходит от ткать и им обозначалось нечто сотканное вместе,
соединение двух кусков ткани, шов; позже сутками вообще стали
называть всякого рода стыки, например, угол в избе, затем
сумерки — стык дня и ночи и, наконец, самые день и ночь вместе.
Первоначальный признак некоторых слов уже настолько
стёрся, что мы употребляем их в значении, ему противореча¬
щем, говоря, например, о красных чернилах (чёрный, делать
чёрным), об отрезанном ломте (отламывать) и т. д. Мы уже не
видим связи слова чан со словом доска, от которого оно про¬
изошло (сравн. досчаник); мы не скажем, откуда название го¬
рода Брянск, в котором выпали начальные две буквы (Дебрянск,
от дебри, т. е. город среди лесов), так же как в слове инок (мо¬
1 Изменение шло примерно следующим образом; истопка — истба — изба.
186
нах) мы уже не воспринимаем его первоначального значения
(от один, одинокий и т. д.).
Точно так же мы уже не чувствуем связи между многими
словами, близкими по своему первоначальному значению; так,
ряд слов типа скопляться, совокупно, купец, покупать, копна,
скупщина (сербск. собрание) осознаётся нами изолированно, не¬
смотря на их генетическую связь.
Все эти примеры важны для нас тем, что они показывают,
как возникновение слова связано с выделением в явлении какого-
нибудь признака, который почему-нибудь представился основ¬
ным, с которым чаще всего сталкивались, которым были заинте¬
ресованы. Потому одно и то же явление может быть на разных
языках обозначено различно вследствие выделения в нём различ¬
ных признаков как основных. Так, портной в русском языке про¬
исходит от слова порт кусок ткани, тогда как французское tail-
leur, немецкое Schneider происходит от tailler, schneiden, т. е.
кроить, резать. Чернила по-французски (епсге), по-английски
(ink), по-итальянски (inchiostr) —восходят к латинскому епса-
ustum, отмечавшему прежде всего тот признак, что чернила ва¬
рились, подогревались, а немецкое (Tinte) и испанское (tinta)
(от лат. tinquo — красить) исходят из другого признака, отме¬
чают их красящие свойства.
Все эти примеры говорят о том, что слово связывает пред¬
ставление человека с каким-нибудь характерным, основным
признаком явления, не выделяя, оставляя в стороне, а лишь под¬
разумевая другие его свойства, которые могут быть весьма раз¬
личны и обнаруживаются в процессе взаимодействия этого явле¬
ния с другими. Позднее эта непосредственная связь слова с кон¬
кретной стороной данного явления стирается, заменяется более
общим и менее определённым содержанием в связи с измене¬
нием его функции. Так, говоря о чернилах, мы имеем в виду уже
не конкретный их признак — цвет, а более общие их свойства,
обозначающие и красные, и зелёные, и прочие чернила. Чернила
для нас уже не то, чем чернят, а то, чем пишут. Утеряно нами
первоначальное значение слов: бык — ревущий, мышь — вор,
месяц — измеритель и т. п.
Все эти примеры в конечном счёте подводят нас к выводу
о том, что слово в момент своего возникновения есть не что иное,
как определённое суждение человека о данном явлении, вы¬
деляющее в нём наиболее существенные для человека в дан¬
ный момент свойства и качества. Создание слова — это
познание человеком явления, осмысление его; слово
и мысль — неразрывны, «язык — непосредственная действитель¬
ность мысли». Как и всякое суждение, слово несёт в себе и отра¬
жение данного явления, и известное отношение к нему, оценку,
сказывающуюся, как мы помним, прежде всего в самом процессе
отбора, в выделении именно этого, а не какого-либо иного при¬
знака в явлении и т. д. Поэтому-то явление оказывается богаче
187
слова, т. е. мы видим в нём и такие его свойства, которые не во¬
шли в суждение о нём, когда создавалось данное слово, да и не
могли войти, ибо их в сущности нельзя и предусмотреть (как
в примере со стаканом).
Достаточно нам задуматься над историей того или иного
слова или выражения, как оно приведёт нас к определённому
ходу мысли, связанному с тем или иным явлением. Из слона бу¬
дут выступать обычаи и события, иногда тысячелетней давности,
отложившиеся в языке. Слово — это своеобразная память че¬
ловечества, закрепившая его прошлое и закрепляющая настоя¬
щее для будущего.
И пппя п рчовс Если мы возьмём названия московских улиц и вдума-
исторпя в сл емся в них, они восстановят перед нами старинный облик
Москвы. Мы ощутим её границы, гак как ряд улиц обозначит ещё не застро¬
енные пространства — Воронцово и Девичье поля, Полянка, Моховая, Болото,
Остоженка (здесь были луга и стояли стога); дороги — Тверская, Калужская,
Серпуховская, Дмитровка (в Дмитров), Ордынка (по ней ездили к татарам,
на юго-восток в Орду); места укреплений, прорезанные воротами, — Ильин¬
ские, Покровские, Никитские ворота; пригороды — Арбат (по-арабски — при¬
город); заставы под городом, где взимали пошлину (мыт) за въезд в Мо¬
скву — Мытная, Мытищи; другие улицы укажут нам на социальное лицо го¬
рода— ремесленные поселения: Кожевники, Сыромятники, Гончарная, Хамов¬
ники (хаман — инд. — полотно), Басманная (басма — тиснение по золоту и
серебру); места, где жили царские слуги, — Поварская, Столовый, Хлебный,
Чашников, Калашный и другие переулки; ряд улиц скажет о том, с какими
народностями была связана старая Москва, — Армянский переулок, Татар¬
ская улица. Немецкая слобода, в Толмачёвском переулке жили в годы гос¬
подства Орды толмачи — переводчики. За каждым названием улицы скры¬
вается сложное содержание, определённый ход мысли.
Точно так же в Англии, например, названия городов, в которые входит
окончание кестл (Ньюкестл и др.), говорят о том, что они возникли на месте,
где был лагерь римских войск [каструм), а в Скандинавии окончания:
странд (берег), зунд (пролив), вик (залив), хольм (остров) — обозначают
города, расположенные по линии морского берега, хотя местами море уже
отступило и они стоят на суше.
Многие слова хранят в себе память о тех или иных обычаях и событиях.
Известно выражение Дамоклов меч. Оно возникло ещё в IV в. до н. э., когда
сиракузский тиран Дионис повесил над головой своего придворного Дамокла
меч на конском волосе. Мы поймём выражение работать спустя рукава только
тогда, когда мы представим себе старинную русскую одежду, у которой рукава
были длинней руки. Работать поэтому можно было, только подняв рукава.
Странное словечко подкузьмить станет понятно, если мы будем знать, что в
день святого Кузьмы (1 ноября) в России повсеместно происходил расчёт по¬
мещиков с работавшими у них сельскохозяйственными рабочими, причём,
естественно, происходил массовый обсчёт неграмотных батраков, получавших
гораздо меньше, чем им полагалось.
Непонятное обозначение неудачи выражением остаться с носом (в чём
как будто нет ничего плохого) объяснится, если мы узнаем, что нос в старину
обозначал приношение, подарок [носить), с которым ходили в приказ к
подьячим с просьбами. Если дело было безнадёжно или «нос» был мал и
подьячий его не брал, то проситель действительно оставался с «носом», и это
говорило о том, что он потерпел неудачу.
Многие слова несут в себе имена людей, которым обязаны своим проис¬
хождением данные явления (шрапнель изобретена Шрапнелем, макинтош —
Макинтошем, браунинг—Браунингом, пулемёт Максим — Максимом; Жан
Нико в 1560 г. з"вёз во Францию табак, и появилось слово никотин; в IV в.
до н. э. воздеигл.: надгробный памятник на могиле галикарнасского власти¬
теля Мавзола, и с тех пор существует слово мавзолей, и т. д,). или городов и
188
стран, где они появились (пистолет изобретён в Пистойе, Байонет (штык,
байонет) введён в армии маршалом Вобаном при осаде Байонны в XVII в.,
муслин делали в Моссуле, нанку — в Нанкине, фаянс — в Фаэнце, ландо —
в Ландау; вспомним многочисленные названия вин, связанные с городами —
Бордо, Малага, Мадера и др.). Даже ошибки живут в слове. Капитан Кук,
высадившись в Австралии в 1770 г., спросил у туземца, как зовут удивившее
его своим видом животное, и получил ответ: «Кенгуру» («Я тебя не пони¬
маю»). Так это животное и сгало называться кенгуру.
Но и в том случае, если у нас нет предметной
связи слова с тем или иным явлением, мы
легко восстановим стоявший за словом ход
мысли, если вдумаемся в него, уловим его связь с другими сло-
Едннство
слова и мыслп
вами. Обозначения меры длины (англ, фут — нога, персидск.
аршин — локоть), цвета (голубой — от голубь, фиолетовый —
от фиалка, оранжевый — от апельсина — франц. orange), живот¬
ных (медведь — едящий мёд, поедатель мёда), птиц (петух —
поющий), пищи (ветчина от ветхое — ветшина, сохраняющееся
впрок или от вечьца— свинья, вечьчина— ветчина—свинина)
и т. д.—всё это показывает суждения, лежащие в основе слова,
превращающиеся в определённую мысль по поводу того или ино¬
го явления жизни.
Мы уловим эту мысль даже в остатках слов, уже отмираю¬
щих в языке. Известная нам по произведениям XIX в. частица с,
прибавлявшаяся для почтительности (да-с, нет-с), сохранилась от
старых времён и была когда-то целым словом — государь. По¬
том оно сократилось в сударь, потом в скорой речи превратилось
в су, затем лишилось и у. Таких остатков слов в языке можно
найти порядочно — мы встречаем де, мол, бишь, вишь — это
всё значившие когда-то слова (де от дъяти — говорить, мол —
от молвить, бишь — от баишь, вишь — от видишь). Даже отдель¬
ные звуки связаны в нашем сознании с теми или иными смыс¬
лами; суффикс к даёт слову ласкательную окраску (ручка),
ишко — презрительную (домишко), ина — увеличительную (до¬
мина) и т. д.
С тем же явлением мы сталкиваемся и в области синта¬
ксиса — части речи связаны в нашем сознании с отражением оп¬
ределённых явлений жизни: существительное говорит о пред¬
метах, прилагательное—о качествах, свойствах, глагол—
о действиях, состояниях, предлоги и союзы — об отношениях и
сочетаниях предметов и т. д. Каждый элемент языка, так ска¬
зать, пронизан смыслом.
Очень поучительна для понимания смысловой
Народная работы слова так называемая народная ,этн-
мология, осмысление иностранных слов (т. е.
слов, в которых как раз не ощущается живой ход мысли для
того, кто не знает языка) в связи со словами родного языка.
Происходит это потому, что говорящий хочет осмыслить не¬
знакомое слово, найти в нём какую-то смысловую опору. Так
переиначиваются иностранные фамилии: Паскевич — в Башке-
189
вич, Востром — в Быстров, Гаррах — в Горохов, Коз-фон-Да-
лен — в Козодавлев, Каллаш — в Балашов, а потом в Калачев,
Гамильтон становится последовательно Гамантовым, Гаматовым
и, наконец, Хомутовым, Блюхер — Брюховым. Фитиль переде¬
лывается в светиль, циркуль — в чиркуль, букет — в пукет (пук),
коклюш — в кашлюк, дилижанс — в лежанец, название ко¬
рабля — рейзешиф превращается в расшиву. Известно пере¬
осмысление иностранных слов у Лескова («Левша»): ажита¬
ция —ожидация; барометр — буреметр, таблица умножения —
долбица умножения, фельетон — клеветой, микроскоп — мелко-
скоп и др. Характерен эпизод в «Войне и мире» Л. Толстого,
где солдаты переделывают имя французского мальчика — Вин¬
цент — и зовут его Висеня и Весенний. «В обеих переделках, —
говорит Толстой, — это напоминание о весне сходилось с пред¬
ставлением о молоденьком мальчике». Когда русские солдаты
были во Франции в 1812 г., непонятные названия французских
городов они переделали на свой лад: Валансьен стал Волосень,
Като — Коты, Овен — Овин, также китайская бухта Да-лянь-
ван стала Дальний. *
Судьба некоторых из таких переделок позволяет уловить и
бытовые причины, которые их подсказали. Странно, например,
на первый взгляд, что переделки некоторых церковных слов
получили отнюдь не церковный оттенок, например слово куро¬
лесить произошло от кириелейсон (восклицание в церкви, оз-
чающее господи помилуй), а смысл его явно далёк от его проис¬
хождения. Аналогично слово катавасия с явно недвуомысленны.м
значением, происшедшее от церковного термина катабасиа
(нисхождение, пение двух клиросов вместе). Может показаться,
что здесь перед нами, наоборот, пример бессмысленной пере¬
делки. На этот вопрос отвечает, однако, справка из истории
русской церкви. В XVI—XVII вв. необычное развитие богослу¬
жений привело к тому, что церковные службы получили очень
упрощённый характер, развилось многогласие, т. е. одновре¬
менное богослужение нескольких священников в одной церкви,
что приводило к шуму и путанице; служили так скоро, что осо¬
бенно ценились те, кто мог произнести молитву в кратчайший
срок. В «Житии Григория Неронова» говорится про «шум и
козлогласование» в церкви, так как там «церковное совершаху
пение... гласы в два, три и шесть», почему «невозможно- бяше
слушающему разумети поемого и чтомого». С многогласием и
другими явлениями, создававшими «козлогласование», велась
долгая борьба, пока было установлено единогласие, устранено
совершенно искажавшее язык путём произвольных вставок в
слова лишних слогов так называемое хомовое пение, делавшее
непонятными молитвы, и т. д. Вот в этой очень своеобразной
обстановке и возникли, — как видим, не без основания, — слова
куролесить и катавасия.
190
,, Работа мысли в языке сказывается и в чрез-
антоним вычаино отчетливой детализации явления, если
оно требует подробного осмысления. Это выра¬
жается в развитии синонимов, т. е. близких по смыслу —
созначащих слов, позволяющих уловить в явлении нужный
нюанс. В известном словаре русского языка Даля даётся, напри¬
мер, такой ряд синонимов для слова серьёзный: чинный, степен¬
ный, дельный, деловой, внимательный, озабоченный, занятой,
думный, вдумчивый, важный, величавый, строгий, настойчивый,
решительный, резкий, сухой, суровый, пасмурный, сумрачный,
угрюмый, насупистый, нешуточный — и можно, говорит он,
насчитать ещё с десяток слов. У него же находим синонимы к
слову кокетничать: заискивать, угодничать, любезничать, прель¬
щать, умничать, жеманничать, миловзорить, рисоваться, красо¬
ваться, хорошиться, пичужить и т. д. Обратное синонимам явле¬
ние — антонимы, слова, контрастные по значению (сильный—
слабый, друг — враг, война — мир и пр.).
Перед нами в языке, таким образом, чрезвычайно развитая
работа мысли, вглядывающейся в детальнейшие особенности
данного явления, улавливающей его оттенки. Очевидно, что для
писателя эти свойства языка в особенности важны, так как по¬
могают ему нарисовать конкретную картину жизни.
Общее для языка свойство многозначности
слова, игра всякого рода оттенков, стоящих за
уловленным в слове главным признаком явле¬
ния, для писателя приобретает особенно важное значение. Как
мы говорили, это добывает ему многозначность, позволяющую
дать индивидуализированную картину жизни разными путями.
Укажем прежде всего на то, что слово получает дополнитель¬
ную смысловую окраску от окружающих его слов.
Возьмём пример, приводимый известным адмиралом Шиш¬
ковым (автором манифестов, обращённых к народу во время Оте¬
чественной войны 1812 года): «Несомый быстрыми конями, ры¬
царь внезапно низвергся с колесницы и расквасил себе рожу».
Пример этот вызывает смех. Но если бы последняя часть фразы
не контрастировала с началом её, то ничего бы мы смешного
здесь не усмотрели. Фраза эта смешна потому, что мы совместили
слова разной эмоциональной окраски, поставили их в неесте¬
ственном контексте (как в приводившемся выше примере
Потебни о георгиевских кавалерах).
Таким образом, не меняя слова, а лишь совместив их необыч¬
ным образом, писатель может придать им индивидуальный отте¬
нок, выразив благодаря ему своё индивидуальное отношение к
явлению.
Наоборот, подбирая слова одной эмоциональной, социальной
или какой-либо иной окраски, художник может усилить их имен¬
но благодаря их единству, близости друг к другу. Так Блок,
определяя в записной книжке, как он будет работать над обра-
Слово в конте¬
ксте
191
зом Гаэтана (в пьесе «Роза и крест»), записывает для себя: «Не
глаза, а очи, не волосы, а кудри, не рот, а уста». Здесь очевидна
опять-таки роль контекста. У Блока возвышенность образа Гаэ¬
тана подчёркивается тем необычным, торжественным словарём,
который автор избирает, говоря о нём. Разрушив контекст, мы
разрушим и единство текста, т. е. то впечатление, которое оно
на нас производит. Пушкин в стихотворении «Пророк» для со¬
здания возвышенного образа пророка избирает старославянские
слова, придающие его языку приподнятость и торжественность:
«Восстань, пророк, и виждь и внемли». Стоит нам заменить эти
слова равносильными им по смыслу русскими: «Встань, пророк,
гляди и слушай», — как мы, нарушив контекст, нарушим и ху¬
дожественное единство текста.
П озаиэ Ярким примером своеобразного оттенка, кото-
р рый приобретает слово благодаря контексту,
является также прозаизм.
Термин проза имеет два значения — общее и частное.
В частном смысле он употребляется как понятие, соотносительное
со стихом; литературные произведения делятся на две группы —
стихотворные, т. е. написанные ритмически организованной
речью, и прозаические, т. е. написанные речью, не использующей
ритмической организации.
В общем смысле прозой называют литературу нехудожествен¬
ную (всякого рода научные и тому подобные произведения) в от¬
личие от литературы художественной — поэзии *.
Прозаизм связан с этим общим наименованием прозы. Им на¬
зывают включение в язык литературно-художественного произве¬
дения слов и оборотов из научного, газетного и тому подобных
языков; так, например, у Пушкина в фразе: «...таков мой орга¬
низм... извольте мне простить ненужный прозаизм», — слово
организм ощущалось Пушкиным как прозаическое, т. е. не вхо¬
дящее в состав языка художественной литературы.
Как видим, прозаизм является понятием, в основе которого
лежит представление о противопоставлении языка поэтического
и языка прозаического. Это противопоставление не совсем верно.
Язык художественной литературы не какой-то особый язык, в нём
мы имеем дело лишь со своеобразным проявлением свойств языка
в связи со своеобразием художественной литературы. Между тем
в литературном произведении может быть отражена любая об¬
ласть жизни, а следовательно, и характерные для данной области
жизни языковые особенности. Дело не в том, что в поэтический
язык заносятся чуждые ему особенности какого-то иного языка
(прозаизмы), а в том, что в группу более или менее однородных
по их смысловой и эмоциональной окраске слов попадает слово
иного типа, которое ощущается как инородное в этой системе и
выпадает в известной мере из общего строя, создавая впечатление
1 Поэзией иногда называют только стихи, но иногда художественную
литературу в целом.
192
известного нарушения установившегося тона речи. Вот это ощу¬
щение несовпадения слов, выпадения какого-нибудь слова из
системы и лежит в основе понятия прозаизм. Понятно в связи
с этим и происхождение термина. Говоря о синтетичности литера¬
туры в области языка, мы вовсе не имеем в виду, что эта синте¬
тичность наблюдается всегда и неизменно. В тех или иных исто¬
рически обусловленных случаях мы будем встречаться и с отры¬
вом литературного языка от общепринятого языка, и с его
известной условностью, замкнутостью и т. п. Это будет связано,
например, с нежеланием писателя отразить ту или иную область
жизни, в силу чего и связанные с ней языковые особенности
не будут входить в его языковую систему, а, появляясь в ней,
создадут впечатление инородности. Так, в первой половине
XVIII’ в. для дворянской литературы характерно было крайнее
пренебрежение к крестьянству, в силу чего и язык крестьянства
был чужд дворянской литературе. Когда Тредьяковскому в его
«Мнении о начале поэзии» понадобилось привести в пример на¬
родное стихотворение, он, приводя народные стихи, писал:
«Прошу читателей не зазрить меня и извинить, что сообщаю
здесь несколько отрывченков от наших подлых, но коренных сти¬
хов; делаю я сие токмо в показание примера».
И уже позднее, в 1793 г., Карамзин в письме к Дмитриеву,
протестуя против употребления слова парень, очень отчётливо
обнаруживает классовый смысл своего отношения к словам этого
типа, говоря, что при слове парень ему представляется «дебелый
мужик», который чешется неблагопристойным образом или ути¬
рает рукавом мокрые усы свои, говоря: «Ай, парень, что за квас».
Для литературы прошлого весьма часто была характерна
известная ограниченность её кругозора, выключение за пределы
литературного изображения тех или иных областей жизни и т. д.
Появление в произведении слов, связанных с этими областями,
создавало опять-таки аналогичное впечатление нарушения языко¬
вой однородности произведения, занесения в поэзию особенностей
прозы, т. е. языка не литературно-художественного.
Таким образом, прозаизм есть лишь частный случай расхожде¬
ния слова с контекстом, о чём и говорилось выше.
Понятие прозаизм указывает также ещё на один путь индиви¬
дуализации языка, которым пользуется писатель, — на различные
источники, в которых он находит свой языковый материал. Он мо¬
жет использовать старые слова, уже не употребляемые в языке
современности, но по тем или иным причинам оказавшиеся ему
нужными, слова той или иной профессии и т. д. Использование
различных речевых источников, различных областей язы¬
ковой культуры является мощным средством индивидуализации
языка художественной литературы.
Однако при всех изменениях, которые, благодаря контексту,
получает слово, взятое из какого-то источника, оно употребляется
в своём прямом значении, в основном своём содержании.
13 Тимофеев
193
Цряное
и переносное
значение слова
Наряду с использованием слова в прямом его
значении оно может быть употреблено в пере¬
носном значении. Это вторая форма рас¬
ширения смысловой амплитуды слова, его раз¬
ностороннего использования.
Многосторонность явления определяет наличие у него ряда
свойств и признаков, дополняющих его основные особенности —
признаков подразумевающихся, вторичных. Наряду с употребле¬
нием слова в его прямом значении мы можем для характеристики
того или иного явления использовать какое-нибудь слово, обозна¬
чающее другое явление, но в одном из своих вторичных значений
пересекающееся с данным явлением. В этом случае мы употреб¬
ляем слово не в прямом его значении, а как бы переносиц одно
из его вторичных свойств на другое явление для дополнительной
его характеристики.
Взяв уже приводившийся выше отрывок из Пушкина, мы легко
можем установить, что Пушкин использует здесь слова в их пря¬
мом значении:
В четырёх верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее
графине Б ***; но в нём жил только управитель, а графиня посетила своё по¬
местье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там
не более месяца (Пушкин).
Перед нами целый ряд слов, каждое из которых употреблено
в его непосредственном прямом значении. Обратимся к другому
примеру:
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.
(Маяковский.)
В данном случае уже другое использование слова: целый ряд
слов здесь взят уже не на основе прямых значений их, а по каким-
то другим причинам. Очевидно, что стихи не могут стоять,
рифмы — не пики и т. д.
Перед нами ряд переносных значений слова; одно из свойств
пики как вида оружия — то, что она может колоть— переносится
на рифму (в данном выше примере); лёгкость, подвижность кава¬
лерии — на остроты и т. д.
Всякое слово несёт в себе помимо прямого (основного) значе¬
ния бесконечный ряд вторичных значений. Слово звезда несёт
в себе как вторичные значения представление о сиянии, блеске,
194
об отдалённости, о недоступности и т. д. Оно может пересекаться,
сближаться по этим своим вторичным значениям — блеска, недо¬
ступности и т. д. — со всеми словами, в которых также даны эти
свойства (по сходству или по контрасту) в том или ином виде.
Следовательно, например, если глазам свойствен блеск, то воз¬
никает возможность сближения их со звёздами: Две звезды —
мои глаза (Блок). Подбирая, координируя, так сказать, ряд
словесных значений для отражения различных свойств и призна¬
ков данного явления, мы получаем возможность чрезвычайного
расширения круга этих значений, привлекая сюда всякого рода
вторичные, пересекающиеся с ними представления, и тем самым
более детально, точно и убедительно можем отразить интересую¬
щие нас свойства явления, передать наиболее полно представле¬
ние о нём. Из слова, обозначающего данное явление, мы выде¬
ляем лишь тот или иной отдельный, вторичный, нужный в данном
случае признак и как бы переносим его на другое. В приведён¬
ном примере мы слово звезда взяли уже не в его главном, пря¬
мом значении небесного тела, а лишь в его вторичном, перенос¬
ном значении — сиянии.
Эта особенность языка чрезвычайно расширяет его возможно¬
сти, позволяет уточнять, детализировать, выделять самые раз¬
личные оттенки и детали действительности, даёт возможность
более полного и верного её отражения, позволяет автору выразить
своё отношение к явлению, дать ему оценку. Таким образом, опе¬
рируя словами, мы можем пользоваться ими и в прямом, и в пере¬
носном значении. Переносность слова называют иногда образ¬
ностью (во избежание путаницы это обозначение следует изъять
из употребления).
Употребление слова в переносном значении — общее свойство
языка: оно присуще не только поэтическому языку, мы пользуемся
им также в нашей обыденной речи. Говоря кому-нибудь, что
у него, допустим, чугунный лоб, мы употребляем слово чугун в пе¬
реносном значении. Но в художественной литературе, где язык
выступает в своеобразной функции — индивидуализации действи¬
тельности, употребление слова в переносном значении является
в особенности существенным, так как чрезвычайно усиливает
возможность выделения самых индивидуальных оттенков и дета¬
лей отражаемых явлений. Отсюда, именно в художественной
литературе мы находим наиболее богатое и развёрнутое исполь¬
зование переносных значений.
Таким образом, переносные значения помогают писателю ещё
более расширить смысловые границы слова.
Наконец, новым путём этого смыслового обо-
нтонация гащения слова является интонация.
Интонация — это повышение или понижение тона голоса при
произнесении какого-либо отрезка речи, придающее ему опреде¬
лённый выразительный характер: вопросительный, восклицатель¬
ный и г. д.
13*
195
Слово получает свой реальный смысл не только благодаря сво¬
ему непосредственному прямому значению, не только в контексте,
не только в переносных значениях, но и в его живом произноше¬
нии, в том живом выражении, которое придаёт слову его оконча¬
тельное содержание, окончательный смысл. Интонация в широком
смысле слова, т. е. то выражение, с которым слово произносится,
придаёт слову окончательное смысловое уточнение, пригоняет его
к другим словам, определяет его органическое единство со всей
речью в целом. Интонация — это как бы время и пространство
живого слова, только в ней оно и существует. Выражаясь в пись¬
менной речи в системе знаков препинания, интонация определяет
в конечном счёте её реальный смысл. Мы не можем зачастую
даже и понять смысла фразы, не зная её интонации, потому что
она может придать слову или фразе совершенно различный
смысл. Одно и то же слово в силу этого может получить совер¬
шенно различное внутреннее содержание.
Представим себе, что человек, поезд которого отходит в три
часа, приехал на вокзал за час до отхода поезда и на вопрос:
«Сколько времени?» отвечает: «Два часа». Этот же вопрос за¬
даётся человеку, поезд которого отошёл за пять минут до появле¬
ния его на вокзале, и он восклицает «Два часа!» Нам понятно,
какой различный реальный смысл будут иметь эти одинаковые,
как будто, слова у каждого из произносящих, как различно будет
их внутреннее содержание: в одном случае — это спокойное,
небрежное замечание, в другом — это досада, растерянность, мо¬
жет быть, отчаяние и т. д.
«Не всегда важно, что говорят,—замечал Горький, — но
всегда важно, как говорят».
У Достоевского есть очень яркий пример того различного со¬
держания, которое придаёт интонация одному и тому же слову:
«Однажды в воскресенье, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пят¬
надцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился,
что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуж¬
дения одним лишь названием существительного, до крайности к тому же не¬
многосложного. Вот один парень резко и энергично произносит это существи¬
тельное, чтобы выразить об чём-то, об чём раньше у них общая речь зашла,
своё самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же
самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле — именно в
смысле полного сомнения в правдивости отрицания первого парня. Третий
вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязы¬
вается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже
брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодовании
на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле, «что, дескать,
что ты так, парень, влетел? Мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся —
лезешь Фильку ругать?» И вот, всю эту мысль он проговорил тем же самым
одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного
предмета, разве только что поднял руки и взял третьего парня за плечо.
Но вот вдруг четвёртый парень, самый молодой из всей партии, доселе мол¬
чавший, должно быть вдруг отыскав разрешение первоначального затрудне¬
ния, из-за которого вышел спор, в восторге приподымая руку, кричит—•
эврика, вы думаете? Нашёл, нашёл? Нет, совсем не эврика и не нашёл. Он
повторяет лишь то же самое немногосложное существительное, одно только
196
слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визго.м упоения и, кажется,
уже слишком сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему
парню это не «показалось», и он мигом осаживает молокоросный восторг
паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом...
да всё то же самое запрещённое при дамах существительное, что, впрочем,
ясно и точно обозначало: «Чего орешь, глотку дерёшь!» И так, не проговоря
ни одного другого слова, они повторили это одно только излюбленное ими
словечко шесть раз кряду, один за другим и поняли друг друга вполне».
Этот пример весьма поучителен с точки зрения роли интона¬
ции в живой речи. Зачастую мы догадываемся о содержании
какого-нибудь разговора, не разбирая слов и даже не зная
языка — по самому тону произнесения слов нам становится ясным
его основной смысл.
Проф. Богородицкий в его «Общем курсе русской грамма¬
тики» так определяет роль интонации в речи:
«Предложение при том же сочетании слов может путём изменения инто¬
нации получать разнообразные оттенки, например восклицания, удивления,
угрозы, сожаления и т. д. Под влиянием эмоций изменяется также и темп
речи. Таким образом, живая речь пользуется для передачи оттенков настрое¬
ния говорящего не только определёнными сочетаниями слов, но также соот¬
ветствующим изменением тембра и тона голоса, усилением или ослаблением
его, а также замедлением или ускорением темпа речи и, наконец, удлинением
ударяемого гласного в подчёркиваемом слове; сюда же относятся и паузы...
Что касается вариаций в темпе речи, то в качестве примера можно указать
на быстро-энергичную гневную речь и на торопливую, радостную; при реши¬
тельных требованиях или выговорах речь может принимать медленный, раз¬
меренный характер. Иллюстрацией удлинения в словах могут служить сле¬
дующие примеры, представляющие вариации одного и того же предложения:
А на горах тумаан; А туман какоой, тумаан, просто дышать нельзя. При
переспрашивании же слово туман было произнесено уже совершенно иначе:
ударный слог, кроме значительного повышения тона, был выговорен энер¬
гично и кратко: именно такое энергичное staccato и придало характер во¬
проса нашему слову, хотя при нём и не было употреблено никаких вопроси¬
тельных словечек. В заключение прибавим, что общеупотребительное письмо
лишь в слабой степени (например при помощи знаков препинания) может
намекать на особенности живой речи в её разнообразных нюансах и модуля¬
циях; этот недостаток письменной передачи заставляет писателей прибегать
при воспроизведении разговоров к указаниям характера произнесения и эмо¬
ционального состояния говорящего».
В языке художественной литературы роль интонации особенно
важна, потому что она является одним из существенных средств,
способствующих характерности речи, которая, как мы помним,
в особенности присуща литературе.
Отмеченные выше особенности речи присущи не только лите¬
ратуре — они являются свойствами языка вообще. Примеры их
мы найдём везде — в живой речи, в статье и т. п., но в литературе
они имеют особенное значение, выступают на передний план,
так как помогают писателю добиться характерности речи персо¬
нажей и речи повествователя, индивидуализированности описа¬
ний и т. д. Поэтому писатель в особенности чувствует и исполь¬
зует многозначность слова, являющуюся одним из необходимых
условий его словесного мастерства.
197
«Я убедился, — писал Чехов, — что одно и то же слово имеет тысячу зна¬
чений и оттенков, смотря по тому, как произносится, по форме, какая при¬
даётся фразе».
Очень хорошо иллюстрируют эту мысль Чехова' слова артистки С. Бир¬
ман: «Слово «здравствуйте», — говорит она, — может скрывать в себе де¬
сятки, сотни разных оттенков чувств.
Поссорившиеся люди: один говорит другому «Здравствуйте» — и оно
может прозвучать, как «Прости меня». И другой в ответ — «Здравствуйте» —
«Я не сержусь, прощаю», или же «Нет, не прощу никогда, уходи». Или —
зависимый человек: «Здравствуйте» — «Обратите внимание, и я существую»
и т. д. «Здравствуйте» может прозвучать как угроза... Особой и различной
трактовкой разными людьми одних и тех же слов и тех же положений опреде¬
ляется характер изображаемого нами человека».
Источники языка писателя
Поскольку прямое значение слова связано с непосредственным
обозначением того или иного явления, постольку запас слов писа¬
теля, его лексика, находится в прямой зависимости от богатства
его жизненного опыта, его культуры, его общего и литературного
кругозора. Постепенно у писателя накапливается большой сло¬
весный багаж, который он непрестанно пополняет из различных
источников.
Понятно, что обращение писателя к тому или иному языко¬
вому источнику мотивировано теми художественными задачами,
которые он перед собой ставит.
Одним из таких источников является историче-
Славянизмы ское пРошлое’ откуда берутся устаревшие, вы¬
шедшие из употребления слова — так называе¬
мые архаизмы. Воспроизводя, например, исторические собы¬
тия путём изображения конкретных людей прошлого, тогдашнего
быта, языка и т. п., писатель, естественно, должен будет обрисо¬
вать их при помощи характерных для их языка слов, оборотов
и т. п. («Пётр I» А. Толстого). В русском языке наиболее рас¬
пространённым видом архаизмов являются славянизмы,
т. е. слова церковнославянского языка.
Так, например, в «Пророке» Пушкина читаем:
Восстань, пророк, и виждь и внемли.
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
Подчёркнутые слова являлись и для Пушкина устаревшими.
Столь же устаревшие слова встречаются и в другом примере:
„.Проклятый рек и, злобою горя,
Наморщив лоб, скосясь, кусая губы,
Архангела ударил прямо в зубы.
Раздался крик, шатнулся Гавриил
И левое колено преклонил,
Но вдруг восстал, исполнен новым жаром...
(Пушкин, Гавриилиада.)
198
Зависимость
языковых средств
выразительности
от контекста
Сопоставление этих двух примеров позволяет
нам, кроме того, подчеркнуть одно положение,
имеющее значение для понимания работы пи¬
сателя над словом вообще. Легко заметить, что
архаизмы у Пушкина использованы каждый раз совершенно раз¬
лично, имеют совсем иное значение, ин ую функцию в зави¬
симости от контекста, от идейной направленности. В первом слу¬
чае они усиливают общий возвышенный, религиозный характер
«Пророка», во втором — являются средством усиления иронии.
В «Трагедийной ночи» Безыменского эти же архаизмы (отрывок,
написанный былинным стихом «Ах ты, гой еси...») реализуют
контрастное столкновение старого и нового; в «Петре I» А. Тол¬
стого, «Степане Разине» Чапыгина они являются одной из форм
индивидуализации, оживления писателем прошлого, как оно ему
представляется. Короче — архаизм, являясь введением в текст
слов устаревших, не входящих в обычную языковую систему, на
практике опять-таки многозначен: лишь в конкретном произведе¬
нии он приобретает своеобразное, зависящее от него содержание.
Поэтому одни и те же языковые особенности в различных
произведениях могут иметь различное значение именно потому,
что сам по себе архаизм ничего не представляет — он приобре¬
тает значение лишь как средство обрисовки того или иного ха¬
рактера, и оценка его может быть дана лишь в связи с целым
только тогда, когда мы покажем, помогло ли яркости обрисовки
данного характера употребление архаизмов, или, наоборот, яви¬
лось неуместным, затрудняющим восприятие. Мы найдём арха¬
измы у самых различных писателей и только в каждом данном
случае сможем разобраться в значении их, обнаружив их художе¬
ственную мотивировку, поняв их как целое.
Диалектизмы и Весьма большое место в языке художествен-
профессиона- ной литературы занимают диалектизмы,
лизмы в широком смысле слова — это местные
слова, т. е. слова, имеющие распространение в какой-нибудь
ограниченной области. Это новый источник слова для писателя.
Это могут быть слова из местных диалектов, говоров, характер¬
ных для той или иной местности, в которой в силу непреодолён¬
ной ещё некультурности, слабой связи с культурными центрами
и т. п. сохранились свои особые слова для обозначения явлений,
в общераспространённом, так называемом литературном (а не
литературно-художественном) языке имеющих иное обозначе¬
ние. Например, у Вс. Иванова:
«У пришиби 1 яра2 бомы 3 прервали дорогу, и к утёсу был приделан ви¬
сячий, балконом плетёный мост. Матера 4 рвалась на бом, а ниже, в камнях,
билась, как в падучей, белая пена стрежи потока».
1 Пришибь — скалистый берег.
2 Я р — круча.
3 Бомы — камни.
4 Матера — наиболее сильная струя потока.
199
Сюда относятся слова, имеющие ограниченное распростране¬
ние, существующие в различных профессиях (профессиона¬
лизм ы), в тех или иных социальных группах и т. д. Введение
их в язык литературного произведения должно быть мотивиро¬
вано той или иной художественной задачей, разрешаемой при их
помощи, и прежде всего обрисовкой характера, обнаруживаю¬
щего себя и в языке, как указывали уже приводившиеся замеча¬
ния К. Маркса и Ф. Энгельса о языке преступника.
Рассматривая диалектизм как общее понятие, обозначающее
введение в язык местных (т. е. употребляющихся в какой-нибудь
ограниченной области) слов, мы можем вслед за тем наметить
различные категории диалектизмов для более точного определе¬
ния области, из которой заимствуется данное слово.
Црозинциализяы П р о в и н ц и а л и з м а м и мы будем называть
местные слова, передающие особенности ка¬
кого-нибудь областного говора или по содержанию, или по осо¬
бенностям произношения. Смысл их в том, что они характери¬
зуют говорящего, индивидуализируют его речь, обнаруживают его
культурный уровень и т. д.: употребление слова эфтот вместо этот
дополнительно характеризует говорящего. ЕсЛи в узком, обычном
смысле провинциализм является имитацией особенностей того
или иного местного гозора (например, ещё в «Щепетильнике» Лу¬
кина (1765) появляются крепостные, которые пришли из Галича
Костромской губернии и говорят ц вместо ч и, наоборот (вецер.
цереэ, луцына, двадчать), ц вместо т (брацень), употребляют
местные слова (сарынь, салиться, голчить) и т. п. '), то этот говор
являлся и говором социальным; имитация говора крестьян была
одной из форм их социальной характеристики, т. е. их типизацией.
При несомненном значении, которое имеют провинциализмы
для усиления индивидуальной характеристики персонажа при
помощи характерных для него выражений, в употреблении их,
как и в оценке, необходим большой такт. Провинциализм сам
по себе в основном характерен для малокультурной речи. В этом
разрезе он и может быть использован для обрисовки того или
иного персонажа как форма обобщения, типизации определённых,
ему присущих особенностей. Перегрузка речи персонажа провин-
ииализмами может создать неправильное представление о нём,
односторонне выдвинув только эти особенности. В дискуссии
о языке советской литературы Горький показал на примере про¬
изведений Ф. Панфёрова такую односторонность в изображении
перегруженного провинциализмами языка колхозников. Между
тем для языка колхозника типической, подлинно его характери¬
зующей особенностью являются не местные слова — продукт
отсталости крестьянства в дооктябрьскую эпоху, а, наоборот,
1 В я с и л и й: «...И когда сюда ня зайдёт, то нииаво не купит, а весь
вепер нрибаит с нашим шалбёром. Да Нугка, брат Мироха, станет разбирать
кузовёнку та. Вить хозяин до сабя из нея велел всё выбрать» —Мирон:
«...Берись же моднее... и ил саней её церез Moioiy сюда притаранил...» ига
203
обогащение этого языка новыми оборотами, освобождение от
провинциализмов, являющееся результатом культурного роста.
Употребление провинциализмов может быть оправдано лишь
тогда, когда оно художественно мотивировано и действительно
помогает обнаружению определённой стороны данного характера.
Ещё более строго следует относиться к введению провинциа¬
лизмов в речь повествователя. Если в речи персонажа провин-
циализмы локализованы, т. е. даны в связи с конкретным харак¬
тером и через него получают определённую оценку, то в речи
повествователя, которая, как мы помним, играет особенно важ¬
ную воспитательную роль в области развития языковой
культуры, они получают как бы утверждение, одобрение со сто¬
роны автора и могут быть легко усвоены читателем, засорив его
речь ненужными, некультурными словами и оборотами. Нако¬
нец, затрудняя чтение, диалектизмы ослабляют художественное
впечатление (как, например, в приведённом выше отрывке
Вс. Иванова); являясь иногда необходимым средством художе¬
ственного изображения, провинциализмы требуют весьма тща¬
тельного осмысления и оценки.
Близко к' провинциализмам стоят жарго-
z р н и з м ы, или профессионализмы. Жар¬
гонизмы— слова жаргона (или арго, отсюда — арготизм), т. е.
условного языка, употребляющегося в какой-нибудь области
жизни. Таков, например, жаргон преступников (блат, блатная му¬
зыка), вырабатывающих условный, непонятный для других язык,
а также круг условных выражений какой-нибудь профессии,
имеющий очень ограниченное применение. Неуместное, немоти¬
вированное употребление их может значительно снизить художе¬
ственные достоинства текста. Таково, например, употребление их
у Каверина («Конец хазы»):
«Пустыри хазы, ночлежные дома города, двести лет летящего чорт знает
куда своими проспектами, иногда поднимаются на стременах. Наступает время
работы для фартовых мазов, у которых руки соскучились по хорошей пушке.
Шпана, до сих пор мирно щёлкавшая с подругами семечки на проспектах
Петроградской стороны и Васильевского острова, катавшаяся на американских
горах в саду Народного дома, проводившая вечера в пивных с гармонистами
или в кино..., теперь оставляет своим подругам беспечную жизнь. Зато в
гопах в такие дни закипает работа: в закоулочных каморках, отделённых
одна от другой дощатыми перегородками, барыги скупают натыренный слам,
наводчики торгуют клеем, домушники, городушники, фармазонщики раэдер-
банивают свою добычу. Гопа гудит до самого рассвета...»
Отрывок этот совершенно непонятен, его нужно переводить на
литературный язык: хаза — притон, пушка — револьвер, фарто¬
вый маз—первоклассный налётчик, шпана — воры-подростки,
гопа — ночлежка, барыга — скупщик краденого, натырить — на¬
красть. слам — добыча (вора), клей — указание места, где можно
устроить налёт, домушник — квартирный вор, городушник — вор
магазинный, фармазонщик — продавец фальшивых драгоценно¬
стей, раздербанивать — делить накраденное и т. д.
201
Употребление жаргонизмов здесь тем более не оправдано и
неверно, что они включены в речь повествователя, — который
как будто санкционирует переход воровской речи во всеобщее
пользование. Но и в языке персонажей при неуместном употреб¬
лении жаргонизмов они могут оказаться художественно неудач¬
ными. Б. Ларин приводит наглядный пример того, как в том же
произведении Каверина один из эпизодов совершенно пропадает
для читателя из-за неумеренного введения жаргонизмов, кото¬
рые, будучи непонятны читателю, теряют своё индивидуализи¬
рующее значение, т. е. свой художественный смысл.
— А как вы, тоже торговлей занимаетесь? — спросил Сергей. Старший
чуть-чуть повёл глазами, постучал пальцем по столу и отвечал:
— М-да. Торгуем. Мебельщики.
— Знаем мы, какие вы мебельщики, — подумал Сергей.
— Как теперь торговля идёт? Теперь многие возвращаются обратно в
Питер, должно быть, снова обзаводятся мебелью?
Старший пососал трубку и ответил спокойно:
— М-да. Ничего. Не горим. Хотя покамест больше покупаем.
Младший чуть-чуть не захлебнулся пивом, поставил стакан на стол и взял
в рот немного солёного гороха.
Двусмысленность этого разговора Сергея с ворами основана
на арготических значениях слов нормального литературного
языка: торгуем — значит воруем, мебельщики — помощники шу¬
лера, гореть — попадать в руки угрозыска, покупать — воровать.
Читатель должен так же, как и «младший», понимать этот раз¬
говор сразу в двух планах: обычном и воровском, открытом и тай¬
ном, чтобы, «захлёбываться от смеха». Но большинство читателей,
не понимая этого, скучает. Вся эта обдуманная сложность письма
оказывается пустой тратой сил.
Однако при действительно умелом обращении с жаргонизмами
они могут дать и художественный эффект.
Так, в «Капитанской дочке» изображается разговор Пугачёва
с хозяином постоялого двора, в котором остановился Гринёв.
— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разго¬
вор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях,
черти на погосте. — «Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик,
будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять)
заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие, за ваше здоровье!»...
Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уже
догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усми¬
рённого... Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал
с подозрением то на хозяина, то на вожатого.
Здесь непонятность языка использована для характеристики
говорящих, для обрисовки Гринёва и Савельича. Таким образом,
она художественно оправдана и мотивирована.
Развёрнутое использование особенностей научно-медицинской
терминологии (т. е. медицинских профессионализмов) даёт Чехов
(«Роман доктора»):
«Если ты достиг возмужалости и кончил науки, то recipe: feminam unam 1
1 Прими одну жену.
202
и приданого quantum satis *. Я так и сделал: взял feminam unam (двух брать
не дозволяется) и приданое. Я прописал себе лошадей, бельэтаж, стал иить
vinum gallicum rubrum2 и купил себе шубу за 700 рублей. Её habitus3 не
плох. Рост средний. Окраска накожных покровов и слизистых оболочек нор¬
мальна, подкожноклетчатый слой развит удовлетворительно. Грудь правильна,
хрипов нет...» и т. д.
Стилизация
и сказ.
В развёрнутом виде такое отражение языковых
особенностей той или иной среды приводит к
стилизации — к тому что писатель выдерживает
всё произведение в определённой языковой манере, которою он
характеризует того или иного персонажа. Примером такой стили¬
зации является рассказ немца-гувернёра у Л. Толстого:
«...и мы вместе пошли бросить Loos\ кому быть Soldat и кому не быть
Soldat. Johann вытащил дурной нумеро — он должен быть Soldat, я вытащил
хороший нумеро — я не должен быть Soldat... и я бегал. Я пригнул в вода,
влезал на другой сторона и пустил... И моё милы маменька выходит из задня
дверью. Я сейчас узнал его...» и т. д.
Стилизацию под украинскую речь дают Гладков в «Цементе»,
Серафимович в «Железном потоке» и др.
Стилизация переходит иногда в сказ — в развёрнутое по¬
вествование в форме рассказа от имени самого действующего
лица, сохраняющего свои речевые особенности. Это даёт в руки
писателя новое средство обрисовки характера, является одной из
форм индивидуализированного показа действительности. Писатель
прибегает к повествованию от собственного лица (так называе¬
мой Icherzahlung— термин немецкой поэтики), типа записей,
дневников, писем и других развёрнутых форм, сохраняющих весь
строй живой речи, языковые обороты, паузы и т.-д.; например
в «Доменной печи» Ляшко, которая написана в форме сказа-по¬
вествования от имени Короткова:
«На фронте я слепцом ходил. Должность такая была у меня. Попал я на
неё, можно сказать, ни с того ни с сего. Вышибли мы из станции белых, а к
ним подошли подкрепления, артиллерия. Трах-бах, и пришлось нам отступать».
Примерами такого сказа могут служить «Вечера на хуторе...»
Гоголя, «Кола Брюньон» Ромэн Роллана, «Старуха Изергиль»
Горького, «Человек из ресторана» Шмелёва и т. д. Во всех этих
случаях и характер самого сказа, и его художественный смысл,
т. е. то, что он даёт для раскрытия характера, конечно, различны
в зависимости от тех задач, которые стояли перед писателем.
„ Ещё одним источником слов для писателя, по-
r г могающим ему в тех или иных случаях инди¬
видуализировать описание или речь персонажа, являются вар¬
варизмы, т. е. слова иностранного происхождения, употреб¬
ляющиеся обычно в газетах, в научной и технической литера¬
туре и т. д.
1 Сколько нужно.
2 Красное французское вино.
3 Сложение, вид.
4 Жребий.
203
Видом варваризма является подчёркнуто густое насыщение речи («мака¬
роническая» речь) варваризмами типа:
Adieu, adieu 1 я удаляюсь,
Loin de vous 2 я буду жить,
Mais cependanl3 я постараюсь
Un souvenir de vous4 хранить.
Примером такого макаронического языка служат «Сенсации и замечания
г-жи Курдюковой» И. Мятлева (1840), а ещё ранее мы встречаем этот язык
в «Чудаках» Княжнина, в комедии Сумарокова «Мать — совместница дочери»
(речь Минодоры) и др.
Понятно, что и варваризмы могут иметь самое разнообразное
художественное осмысление. Так, у Пушкина в «Арапе Петра
Великого» дан яркий образец такого художественного осмысления
варваризмов. В семье князя Лыкова, враждебно относящегося
к петровским реформам, происходит следующая сцена:
«Дура Екимовна... начала кривляться, шаркать и кланяться во все сторо¬
ны, приговаривая: «Мусье... мамзель... ассамблея... пардон». Общий и продол¬
жительный хохот изъявил удовлетворение гостей».
Иногда писателем вводятся и слова грубо-быто¬
вого характера, ругательства и т. п., так назы¬
ваемые вульгаризмы. Употребление их также требует осо¬
бого внимания во избежание засорения языка, но в связи с опре¬
делённым характером и они могут получить определённый
художественный смысл, свою мотивировку, как, например, у
А. К. Толстого, где подбор ругательств создаёт комический и
безобидный эффект:
...в окне показалась царевна,
На Потока накинулась гневно.
Шерамыжник, болван, неучёный холоп!
Чтоб тебя в турий рог искривило!
Поросёнок, телёнок, свинья, эфиоп,
Чортов сын, неумытое рыло!
Кабы только не этот мой девичий стыд,
Что иного словца мне сказать не велит,
Я тебя, прощелыгу, нахала,
И не так бы ещё обругала!
Наконец, одним из источников, обогащающих
язык писателя, являются неологизмы —
новые слова, появляющиеся в языке. Соответственно возникно¬
вению явлений в действительности в языке всё время появ¬
ляются новые словообразования, например: аэроплан, автомобиль
и пр., — все эти слова возникают как отражение новых техниче¬
ских достижений. Новое слово создаётся путём использования
уже существующих слов и форм их, по аналогии с которыми кон¬
струируются и новые слова. Так, например, Маяковский по типу
Вульгаризмы
Неологизмы
1 Прощайте, прощайте.
2 Далеко от вас.
3 Но однако.
4 Воспоминание о вас.
204
глагольных образований с приставкой вы-, обозначающих полную
завершённость или крайнюю напряжённость действия (выбросить,
выселить и т. д.), образует ряд новых глаголов и отглагольных
форм: выбряцав шпоры, выкрутив ус, выхмуренный лоб и т. д.
Французские поэты «Плеяды» (XVI в.) — Ронсар, Дю Белле и
другие — обильно вводили в свой язык неологизмы, считая, что
«для новых вещей необходимо создавать новые слова» (Дю
Белле). Эти новые слова они считали возможным образовать
именно по принципу аналогии; так, Ронсар предлагал от суще¬
ствительного verve образовать глагол verver, спряжение глагола
aller (je vais, tu vas, il va) изменить по типу глагола battre:
je bats, tu bats, il bat и т. д. Неологизм, следовательно, расширяет
круг слов, при помощи которых писатель характеризует и инди¬
видуализирует явление.
Мы, однако, выше уже указали на то, что роль неологизмов
не следует преувеличивать и удельный вес их в языке художе¬
ственной литературы невелик.
Рассмотренные выше источники слова, обогащающие язык
писателя, многообразны, и наш обзор их не исчерпал, но важно
определить общее значение использования писателем такого рода
источников в его работе над языком.
Переносное значение слова (тропы и их виды)
Значение
тропа в языке
Выше мы видели, что слово, благодаря своей
многозначности, содержит, наряду со своим
основным значением, ещё и ряд смы¬
словых оттенков, вторичных значений. Это те подразу¬
меваемые признаки явления, которые в нашем сознании с ним
связаны, хотя мы и обращаем внимание главным образом на его
основной признак. Мы можем употребить слово, выделив его
вторичный признак для характеристики какого-либо явления.
Использование вторичного признака слова для определения дру¬
гого явления, как бы перенесение его на другое явление, и назы¬
вается переносным значением слова.
Переносное значение слова обозначают греческим термином —
троп (троп — значит способ выражения, оборот,
образ). Троп имеет очень важное значение в языке'вообще.
В основе возникновения тропа лежит соотнесение двух явлений,
из которых, одно служит для пояснения, для понимания другого.
Столкнувшись с каким-либо неизвестным нам явлением, мы заме¬
чаем в нём сходство в каком-либо отношении с другим, известным
нам явлением, видим, что оно чем-то его напоминает, сходно с ним
каким-либо признаком.
Неизвестное (обозначим его буквой X) чем-то напоминает нам
известное нам ранее явление (обозначим его буквой Л).
Понятно, что X похоже на А не целиком (иначе они были бы
тождественны), а какой-то своей стороной, каким-либо призна-
205
ком (обозначим этот мостик, который мы перебрасываем от
неизвестного явления к известному, перекликающийся признак,
через а.) Благодаря установленному нами сходству неизвестное
явление в какой-то мере становится нам понятным, мы получаем
о нём представление. Происходит это потому, что мы привели
неизвестное (Л^) в связь с известным (Л), перенеся на него
часть А (а). Таким образом, сопоставив два явления, мы пришли
к известному выводу, вбирающему в себя элементы и того и дру¬
гого явления, обогатили наше знание жизни. Увидев впервые
ножницы, дикари племени бакаири стали называть их зубами
рыбы Пирании, потому что острыми зубами этой рыбы они стригли
волосы.
Таким образом, троп представляет собой употребление
слова в переносном значении, т. е. выделение вторичных его при¬
знаков для характеристики какого-либо явления. При этом слово,
признак которого переносится на другое слово, теряет своё само¬
стоятельное значение, интересует нас лишь своей вторичной чер¬
той, как бы подчиняется тому слову, на которое переносится.
Троп есть сочетание слов, образующее новое
значение, благодаря перенесению одного из
вторичных признаков слова на другое слово.
Таким образом, троп имеет прежде всего познавательное значе¬
ние, помогая понять новые попадающие в поле зрения человека
явления. Без тропов наш язык был бы гораздо беднее, так как
слово употреблялось бы только в одном главном своём значении,
тогда как благодаря тропам мы можем употреблять слово в целом
ряде значений. В русском языке около двухсот тысяч слов. Легко
представить себе, как обогатится язык новыми значениями,
если хотя бы часть слов даст два-три переносных значения.
В языке Шекспира насчитывают около 15 000 слов, но это число
надо было бы значительно увеличить, если бы наряду с прямыми
значениями слов можно было учесть и их вторичные значения,
использованные Шекспиром. Язык всё время создаёт тропы.
В сущности, всякое новое слово в момент его создания всегда
является тропом, выражающим ту сторону или свойство объекта,
которая казалась наиболее характерною, показательною для
его жизненности.
Язык наш насыщен тропами. Говоря опешить
или ошеломить, мы не думаем о том состоянии,
которое когда-то было действительно присуще
человеку, оказавшемуся в трудном положении из-за того, что он
потерял коня или получил удар по шлему, слово разлука не свя¬
зано у нас с представлением о двух разошедшихся в противо¬
положные стороны концах лука, лукавый не вызывает у нас пред¬
ставления о кривизне (лука), мы говорим, что из ружья стреляют,
хотя ружьё как раз и вытеснило лук и стрелы, которыми действи¬
тельно можно было стрелять, мы говорим, что солнце садится,
мы приводим примеры и т. д. Всё это слова, которые опираясь на
Познавательное
значение трона
Насыщенность
языка тронами
2С6
старые слова и понятия, применялись к новым явлениям и по¬
могали их усвоению.
«Европейский путешественник, — рассказывает Спенсер, — не мог убе¬
дить эскимосов, что нитяная ткань, из которой была сделана его одежда, не
шкура какого-либо зверя. Стекло они принимали за лёд, сухари — за копчё¬
ное мясо. Фиджийцы до появления европейцев не знали металлов, и тростник
был единственной вещью, им известной, сколько-нибудь похожей на ружейный
ствол. Поэтому вполне разумен был вопрос, обращённый ими к путешествен¬
нику: «Если бы ваша страна не была страной чудес, то как бы вы могли
добыть в ней топоры, коими срублены деревья, из коих сделаны стволы ваших
ружей?»
Ин дивп дуализи¬
рующее
и субъентивио-
оценочное
значение тропа
Познавательное значение тропа, выделение в явлениях новых
их свойств путём сопоставления их с другими, получает особенное
значение именно в литературе. Сами по себе тропы — явление
языка и могут быть встречены в любой области языковой деятель¬
ности, но именно в литературе они в особенности существенны,
так как становятся чрезвычайно гибким средством индивидуали¬
зации изображения жизни. При помощи тропа писатель получает
возможность более чётко выделить в явлении его особенности,
придать ему конкретность, оценить его.
В самом деле, так как троп выделяет с чрезвы¬
чайной отчётливостью какой-либо один одно¬
сторонний признак явления, то наряду с позна¬
вательным своим значением он даёт писателю
ещё очень существенное средство для того,
чтобы, во-первых, индивидуализировать явление, а
во-вторых, дать ему определённую субъективную оценку.
Соотнося явление со вторичным признаком другого явления,
художник прежде всего подчёркивает какую-то одну его черту,
что позволяет ему изобразить это явление особенно конкретно,
а вслед за тем, так как выбор этой черты зависит от того, как
сам художник относится к данному явлению (враждебно или по¬
ложительно и т. п.), выбор её уже подсказывает, как читатель
должен к этому явлению относиться. Это общие свойства тропа.
И в языке троп имеет, следовательно, три основные задачи: п о-
знавательную, индивидуализирующую и субъ¬
ективно-оценочную (я могу сравнить неизвестного моему
собеседнику человека и со львом, и с шакалом — в зависимости
от моих к нему чувств, а это уже определит отношение к нему
моего собеседника). Но ясно, что эти свойства тропа делают его в
особенности важным для писателя, создающего индивидуальный
и эстетически (т. е. в частности, субъективно) окрашенный образ.
Поэтому именно в литературе тропы в особенности распростра¬
нены и чаще всего встречаются. Именно потому-то и говорят
о языке художественной литературы как о языке образном, что
в нём так часты тропы. Однако ни язык в художественной лите¬
ратуре не сводится к тропам (о чём ниже), ни тропы нельзя рас¬
сматривать только как явление языка художественной литературы.
Поэтому говорить о словесных образах — нерационально, так как
207
Простейшие
тропы:
а) сравнение
это создаёт терминологическую путаницу, но следует помнить, что
в критической литературе и в обиходной разговорной речи поня¬
тие образа весьма часто употребляется в том содержании, которое
мы охватываем в понятии тропа.
Простейшим первичным видом тропа является
сравнение1, т. е. сближение двух явлений
с целью пояснения одного другим при помощи
его вторичных признаков. Например: глаза, как
звёзды. Некоторые свойства звёзд мы переносим на глаза: перед
нами пересечение прямого, главного значения слова глаза и вто¬
ричного — слова звёзды. В результате у нас получается новое
значение, позволяющее более конкретно, ярко, точно характери¬
зовать одно явление при помощи перенесённых на него тех или
иных свойств и признаков другого явления. Совершенно очевидно,
что в зависимости от задач, которые ставит себе писатель, сра¬
внение также может быть для него одним из средств не только
правдивого отражения действительности, но и искажения её.
Поэтому и троп всегда имеет конкретно-историческое содержа¬
ние, функция его переменна. Так, мы можем иметь наряду
со сравнением
И слёзы крупные мелькнули
На них [глазах], как светлая роса...
(Лермонтов.)
сравнение зарниц с глухонемыми демонами (Тютчев) или срав¬
нение неба с ризами господа, в которых новое значение создаёт
искажённое, религиозно-мистическое представление о данном
явлении природы. Отсюда — характер сравнений никаким обра¬
зом не сводится к примитивному пояснению. Сравнение стремится
внести в отражение действительности то общее её понимание,
которое присуще писателю. Когда Лермонтов пишет об Из-
маил-бее:
Как в тучах зарево пожара.
Как лава Этны по полям,
Больной румянец по щекам
Его разлился; и блистали,
Как лезвие кровавой стали,
Глаза его, —
то сравнения эти должны, конечно, создать не просто примитив¬
ное представление о румянце, с которым весьма отдалённое
сходство имеет лава Этны, а создать общий колорит напряжён¬
ности, силу страстей и душевных бурь, присущих приподнято¬
героическому образу Измаила; отсюда конкретное содержание
1 Следует здесь оговориться, что сравнение, эпитет, гиперболу и литоту
не все относят к числу тропов. Нет оснований, однако, делать это ограниче¬
ние; во всех этих случаях мы имеем дело с основным признаком тропа: соот¬
несением X и А, образующим новое значение путём перенесения свойств А на
X, причём А теряет своё самостоятельное значение, является односторонним
признаком для характеристики X. Потебня справедливо считал всякий эпитет
тропом (синекдохой).
208
сравнений; явления, в них сближенные, тот колорит, который они
им придают, их функции становятся одним из моментов образ¬
ного отражения писателем действительности. Сравнение-юсуще-
ствляется в простейшей двучленной форме при помощи всякого
рода союзов (как, так, точно, будто, подобно, что и т. д.). Более
слитной формой его является использование творительного па¬
дежа: Слово крошкой в руках улеглось (Безыменский)— и
соотносительных форм: Белей, чем горы снеговые, идут на запад
облака (Лермонтов). Могут быть сравнения отрицатель¬
ного типа: Не ветер бушует над бором (Некрасов) и т. п.
Наряду со сжатым сравнением следует иметь в виду и развёр¬
нутые его формы, например:
Скопилась месть их роковая
В тиши над дремлющим врагом.
Так летом глыба снеговая,
Цветами радуги блистая,
Висит, прохладу обещая.
Над беззаботным табуном.
(Лермонтов.)
Известны развёрнутые сравнения античного эпоса, сравнения
Гоголя (например в «Мёртвых душах» сравнение людей на губер¬
наторском балу с мухами, Ноздрёва — с поручиком, берущим
крепость, лица — с тыквой-горлянкой и т. п.); любопытное нара¬
стание сравнений по отношению к слову социализм даёт Безымен¬
ский («Поколение социализма»). При этом значение сравнений,
очевидно, переменно для каждого случая.
Более сложным видом тропа является эпи-
Простеишие т е т. В широком смысле эпитетом является
тропы: г
б) эпитет всякое слово, определяющее, поясняющее, ха¬
рактеризующее и т. д. какое-либо понятие.
В этом смысле эпитетом является любое прилагательное.
У нас до сих пор часто пытаются отделить понятие эпитета
(«художественное определение») от понятия определяющего
слова по тем соображениям, что эпитет—художественное опре¬
деление, т. е, красочное, образное и т. п., тогда как простое опре¬
деляющее слово этой художественности не несёт. С этой точки
зрения в выражении деревянные часы перед нами не эпитет,
а определение, а в выражении роковые часы — не определение,
а эпитет. Это деление связано с уже упоминавшимся стремле¬
нием говорить о поэтическом языке как особом, образном, что,
как мы помним, неверно. Эпитет есть слово или предложение,
прикреплённое к существительному или его эквиваленту для
того, чтобы подчеркнуть в изображаемом явлении какое-нибудь
его отличительное свойство, индивидуальное или родовое.
Всякое одностороннее определение, усиливающее, подчёрки¬
вающее какое-нибудь характерное выдающееся качество пред¬
мета является эпитетом.
Отсюда эпитет может быть дан только в сочетании с опреде¬
ляемым им словом, на которое он и переносит свои признаки,
4 Тимофеев
209
разъясняя (или — соотносительно — искажая) его. Во всяком
эпитете мы имеем дело с перенесением значения слова на другое
и вытекающим из этого сочетания новым смысловым значе¬
нием, т. е. с признаком тропа. В этом смысле всякий эпитет «тро-
пичен». Часы деревянные — несут в себе значение, отличное и от
часов, и от дерева; здесь отмечены лишь определённые свойства
понятия дерева. Мы можем, следовательно, называть эпитетом
определяющее слово, которое (хотя оно в ряде случаев будет
сближаться с прямыми значениями например чёрный ворон)
даёт новую и более слитную, чем сравнение, форму тропа; в нём
двучленность и выражающие её грамматические формы, харак¬
терные для сравнения, уже отсутствуют.
Ясно значение эпитета как языкового средства, индивидуали¬
зирующего, характеризующего явления, выделяющего в нём те
признаки и свойства, которые кажутся писателю важными и зна¬
чительными на основе его представления об этом явлении, пони¬
мания и знания его, на основе отношения к нему. Благодаря
эпитетам писатель выделяет те свойства и признаки рисуемого
им явления, на которые он хочет обратить внимание читателя.
Возьмём описание Саши у Некрасова («Саша»):
Рдеет румянец и ярче и краше...
Мило и молодо дитятко ваше, —
Бегает живо, горит, как алмаз,
Чёрный и влажный смеющийся глаз,
Щёки румяны, и полны, и смуглы,
Брови так тонки, а плечи так круглы...
Как видим, именно эпитеты в этом отрывке являются основным
средством индивидуализации персонажа (Саши). Точно так же
могут они индивидуализировать обстановку, вещи и т. п.; напри¬
мер, описание в былине того, как Илья Муромец, снаряжается
в поход:
Имает Илья добра коня,
Уздает в уздечку тесмяную,
Седлает в седёлышко черкасское,
В торока вяжет палицу боевую,
Она весом та палица в девяносто пуд,
На бёдра берёт саблю вострую,
В руки берёт плеть шелковую...
Понятно, что по своему содержанию эпитеты могут иметь
самое различное наполнение в зависимости от выполняемой ими
художественной функции, от самого характера отношения писа¬
теля к жизни. Отсюда самые различные типы эпитетации — от
конкретной вещности эпитета, например у Державина:
Как сквозь жилки голубые.
Светит розовая кровь...
до полной неопределённости его, например у Бенедиктова:
Чтобы выразить отчаянные муки,
Чтоб весь твой огнь в словах твоих изник...
Изобретай неслыханные звуки,
Выдумывай неведомый язык...
210
Постоянный
эпитет
ных эпитетов
Мы можем встретиться с явлением утраты эпи¬
тетом его конкретного содержания. Это наблю¬
дается на примере так называемых п о с т о я н-
в народно-песенном творчестве, где эпитет на¬
столько тесно срастается с определяемым им словом, что стано¬
вится неотделимым от него, хотя по конкретному своему смыслу
с ним несовместим.
Определение руки — белая — сербская песня употребляет,
говоря о руке арапа, ходячий эпитет «Liebe lange Nacht» в немец»
кой песне вложен в уста молодой жены, желающей, чтобы ночь
прошла скорее, потому что ей противен старый муж:
Oder will die liebe lange Nacht
Nimmer mehr kein End nicht haben *.
В русской песне поётся:
Ты не жги свечу сальную,
Свечу сальную воску ярого.
Нестор (в «Илиаде») среди бела дня подымает руки к звёзд¬
ному небу и т. д.
Здесь мы имеем дело с тем же явлением, на которое указы¬
вали, говоря о красных чернилах, отрезанном ломте и пр. Кон¬
кретные признаки явления заменяются более общими и менее
определёнными, в данном же случае эпитет настолько слился
в одно значение с определяемым, что этот процесс замены кон¬
кретного признака обобщённым распространился и на него, хотя
когда-то он был реальным эпитетом, т. е. отмечал существенный
признак явления.
Формой эпитета может служить всякое значащее слово, по¬
скольку оно выступает как определяющее по отношению к дру¬
гому (существительное: бродяга-ветер, царица грозная — чума,
дева-роза; прилагательное: серебряная берёза; наречие и деепри¬
частие: жадно смотрю, несутся сверкая). Эпитетация является
чрезвычайно существенным средством для индивидуализации,
конкретизации писателем явления или частного его свойства;
отсюда внимание к эпитету в поэтической практике. Пушкин в
строке Ты им доволен ли, божественный художник? последова¬
тельно меняет эпитет на увенчанный, разборчивый, пока не оста¬
навливается на взыскательном художнике. Эта работа Пушкина
весьма поучительна для понимания значения эпитета.
И в эпитете, и в сравнении мы имеем дело с простейшими,
первичными формами тропа, с соотнесением двух явлений, с одно¬
временным перенесением на одно явление свойств второго для
более глубокого его осмысления.
Развёрнутые формы тропа дают более тесные формы связан¬
ности сопоставляемых явлений, как бы сплавляя их в одно целое.
* Неужели никогда не кончится эта долгая сладкая ночь?
14*
211
Если сравнение и эпитет дают простейшие виды
Метонимия г .. j,
тропа, то метонимия дает слитную форму
перенесения значений, замещая полностью одно значение другим,
вытесняя один из членов в словосочетании, с тем, однако, ограни¬
чением, что между вытесняемым и замещающим значениями
существует определённая связь, зависимость одного от
другого. Если в сравнении налицо прямая двучленность — сохра¬
нение обоих элементов нового смыслового построения, если в
эпитете связь двух значений сохраняется в менее чётком виде, то
в метонимии это замещение идёт ещё далее. Так, вместо упоми¬
нания об определённом круге явлений мы ограничиваемся ука¬
занием лишь на одно из них, за которым необходимо предпола¬
гаются остальные; будучи опущенными, они переносят свои свой¬
ства на этого заместителя. Так, у Пушкина в строках
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе...
флаги замещают весь комплекс представлений об иностранных
торговых кораблях, которые начнут приходить в новый порт, и т. д.
В данном случае существенно, что именно выделено для замеще¬
ния, какое свойство явления признано писателем наиболее важ¬
ным и показательным. В пушкинском примере не случайно выде¬
ление признака национального (все флаги, т. е. корабли всех на¬
циональностей), вытекающего из обшей трактовки Петербурга
как «окна в Европу». Замещения такого рода могут идти по линии
места (вся улица — вместо все люди на улице), времени (весёлый
день), вещи:
Выходит за дверь папироса «Дукат»,
и рядом с ней козырёк.
(В. И и б е р.)
Здесь имеются в виду, конечно, люди, обладающие папи¬
росой и козырьком.
В том случае, если метонимия строится автором
инекдоха по линии количественного замещения — часть
вместо целого, например: Всё спит — и человек, и зверь, и птица
(Гоголь) вместо люди, звери, птицы, или целое вместо части:
Когда для смертного умолкнет шумный день (Пушкин)— род
вместо вида — человека, и т. п., — её обычно выделяют как осо¬
бый вид метонимии — синекдоху1. Однако по существу раз¬
личие между синекдохой и метонимией вряд ли велико: и в том и
1 Выражая первоначальное значение слова через А, а новое его значение
(в тропе) через X, Потебня различал два случая отношения X к А: 1) А за¬
ключено в X, или, наоборот. X обнимает в себе А без остатка, например:
человек (Л) и люди (Л), и 2) Л заключено в X лишь отчасти, например:
Птицы поют в лесу, и лес поёт. Случай полной замены — синекдоха (сопод-
разумевание), случай неполной замены — метонимия (переименование). В том
случае, если Л и Л вообще не совпадают, возникает метафора (перенесение).
212
в другом случае замещение, перенесение значения происходит на
основе зависимости, связанности пересекающихся значений.
„ Своеобразным проявлением такого же замеще-
р я ния по зависимости является так называемая
ирония, т. е. употребление слов в контрастном контексте,
благодаря чему они приобретают обратный смысл. В этом случае
замещение происходит, следовательно, в обратной зависимости,
например: Откуда, умная, бредёшь ты, голова? (Крыло в.)
Ты всё пела? — Это дело (К р ы л о в), и т. п.
Здесь под умной головой разумеется осёл.
Пенье стрекозы — явное безделье. Наоборот, по отношению
к чему-нибудь, требующему похвалы, применяется какое-нибудь
отрицательное слово, приобретающее в этом сочетании положи¬
тельное значение, например ласковое ругательство и т. п. К иро¬
нии же относится применение уменьшительных определений
к большим предметам и наоборот.
На широком использовании иронии был основан так называе¬
мый эзопов язык, распространённый в русской литературе до
Октября, для того чтобы обмануть бдительность царской цен¬
зуры. Так, в цитируемом отрывке Салтыков-Щедрин иронически
обозначает словом цивилизация произвол царской власти, словом
аплодисменты — пощёчины.
«С горы спускается деревенское стадо; оно уже близко к деревне, и кар¬
тина мгновенно оживляется; необыкновенная суета проявляется по всей улице:
бабы выбегают из изб с прутьями в руках, преследуя тощих, малорослых
коров; девчонка лет десяти, также с прутиком, бежит вся впопыхах, загоняя
телёнка и не находя никакой возможности следить за его скачками; в воздухе
раздаются самые разнообразные звуки, от мычания до визгливого голоса
тётки Арины, громко ругающейся на всю деревню. Наконец, стадо загнано,
деревня пустеет; только кое-где по завалинкам сидят ещё старики, да и те
позёвывают и постепенно, один за другим, исчезают в воротах. Вы сами от¬
правляетесь в горницу и садитесь за самовар. Но — о чудо! — цивилизация и
здесь преследует вас! За стеною вам слышатся голоса:
— Как тебя зовут? — спрашивает один голос.
— Кого? — отвечает другой.
— Тебя.
— Меня-то?
— Ну да, тебя.
— Зовут-то?
— Ах, чтоб тебя!..
Раздаются аплодисменты.
— Аким, Аким Сергеев, — торопливо отвечает голос.
Ваше любопытство заинтересовано; вы посылаете разведать, что проис¬
ходит у вас в соседях, и узнаёте, что ещё перед вами приехал сюда становой
для производства следствия, да вот так-то день-деньской и мается».
Эвфемизм
Своеобразным видом метонимии является
эвфемизм, в котором грубые выражения
замещаются более мягкими, смягчающими форму выражения, но
не его содержание. Примером такой обнажённой замены является
эпиграмма Пушкина:
Иная брань, конечно, неприличность.
Нельзя сказать: такой-то де-старик.
213
Козёл в очках, плюгавый клеветник,
И зол и подл: всё это будет личность.
Но можете печатать, нанример,
Что господин парнасский старовер,
[В своих статьях] бессмыслицы оратор.
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат.
Вторая часть эпиграммы представляет собой эвфемистиче¬
скую замену первой ’.
Гипербола Такой же метонимической формой является
и лптота гипербола, преувеличение, когда опреде¬
ление того или иного явления заменяется обозначением того же
явления, но в большем числе, большей форме и т. д. Так, у Гоголя
число чашек на подносе приравнивается к числу чаек на морском
берегу, или у Достоевского: «Вы бы должны были испустить
ручьи... что я говорю, реки, озёра, моря, океаны слёз».
Противоположной гиперболе формой является литота —
замещение по линии преуменьшения:
«Дивно устроен свет наш... Тот имеет отличного повара, но, к сожале¬
нию, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может про¬
пустить; другой имеет рот величиною в арку главного штаба, но, увы, должен
довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля» (Гоголь).
Вначале здесь — литота, в конца—гипербола.
Метафора Таким образом, модификации тропа опреде-
*ф р ляются различными формами реализации дву¬
членное™, лежащей в его основе, начиная со сравнения как пер¬
вичной его формы, где она выступает со всей отчётливостью,
и идя далее по линии возрастающей слитности членов тропа, при¬
водящей к замещению одного значения другим, — замещению
обогащённому, несущему в себе комплекс этих значений, новый
смысловой оттенок. Наиболее полным видом такого замещения
является метафора, в которой устранена, с одной стороны,
двучленное™ сравнения, а с другой — зависимость членов тропа
друг от друга, как в метонимии.
В метафоре мы имеем дело с пересечением значений, основ¬
ных и вторичных, по сходству или по контрасту,
1 Любопытный пример последовательной эвфемистической смены выраже¬
ний даёт В. Тарле в его книге «Наполеон», рассказывая о приближении
Наполеона к Парижу в период 100 дней- «Правительственная и близкая к
правящим сферам парижская пресса от крайней самоуверенности перешла к
полному упадку духа и нескрываемому страху. Типичной для её поведения
является в эти дни строгая последовательность эпитетов, прилагавшихся к
Наполеону по мере его наступательного движения от юга к северу. Первое
известие: Корсиканское чудовище высадилось в бухте Хуан. Второе известие:
Людоед идёт к Грассу. Tpeibe известие: Узурпатор вошёл в Гренобль. Чет¬
вёртое известие: Бонапарт занял Лион. Пятое известие: Наполеон прибли¬
жается к Фонтенебло. Шестое известие: Его императорское величество ожи¬
дается завтра в своём верном Париже Вся эта литературная гамма умести¬
лась в одних и тех же газетах, при одной и той же редакции на протяжении
нескольких дней».
214
безотносительно к их реальной связанности и зависимости. Благо¬
даря этому метафора является языковым построением чрезвы¬
чайно гибким, позволяющим поэту сближать самые различные
явления, добиваясь тем самым разнообразнейших смысловых
оттенков, и в то же время сжатым, поскольку один из членов
тропа вытеснен полностью.
Метафора осуществляется сочетанием любых значащих частей
речи — глаголами: Горит восток зарёю новой, существитель¬
ными: Пчела из кельи восковой летит за данью полевой (П у ш-
к и н) и т. д. Метонимия и ^метафора являются, таким образом,
разными типами сочетаний значений: в одном случае слова
сближаются по сходству, в другом — по зависимости; поэтому,
между прочим, всякая метафора может быть развёрнута в
сравнение, восстанавливающее второй член, тогда как метони¬
мия этого не допускает, а требует дополнения: 1) горит восток,
как пожар и 2) флаги кораблей, приходящих в порт, и т. п.
. С понятием метафоры связано понятие
аллегории. Тут мы имеем дело уже с це¬
лым произведением, построенным по принципу метафоры, т. е.
с перенесением значений одного круга явлений на другой, как,
например, в басне, где животные замещают человека и где услов¬
ные действия и отношения их соотносятся с определёнными выво¬
дами («моралью») уже из области человеческих отношений. Эта
иносказательность аллегории, её условность имеют обычно опре¬
делённое прикрепление, устойчивость (например закрепление за
определёнными зверями определённых качеств: глупость и жад¬
ность— волк, хитрость — лиса, трусость—заяц, и т. п.). В том
случае, если аллегория лишена этой устойчивости, пере¬
менна, её называют символом, являющимся, следова¬
тельно, её модификацией. Однако точное их отличие вряд ли
практике.
Понятно, что в зависимости от содержания
тропов, т. е. от того, какие явления сближаются
друг с другом, какие свойства их переносятся
и т. д., они могут иметь самый разнообразный
характер, использоваться в самых различных художественных
целях. Схоластические поэтики прошлого очень подробно класси¬
фицировали тропы, пытаясь определить различные их виды; та¬
ковы, например, такие модификации тропов, как оксюморон,
построенный на перенесении контрастного признака (звучная ти¬
шина), прозопопея (т. е. олицетворение, персонификация,
например: задумчивость её подруга), антономасия (пере¬
мена имени: неутомимы наши тройки, автомедоны наши бойки,
вместо ямщика здесь берётся имя возничего Ахиллеса — Авто?
медона). Антономасией является всякого рода использование ли¬
тературных персонажей в речах, но все эти подразделения мало
существенны: для нас важно содержание тропа, а также характер
его использования.
осуществимо на
Оксюморон,
прозопопея,
антономасия
215
Художественная
мотивирован¬
ность тропа
ным эпитетам и
Как уже говорилось выше, было бы ошибочно
сводить литературную речь к тропам, предпо¬
лагая, что писатель во что бы то ни стало стре¬
мится к тропам, к ярким метафорам, эффект-
т. п. и что именно они определяют художествен¬
ность, выразительность и силу воздействия его языка.
Троп есть лишь одно из средств индивидуализации изображе¬
ния, к которому писатель обращается наряду с другими сред¬
ствами и лишь в определённых случаях. Сам по себе троп худо¬
жественно нейтрален. Мы не можем сказать, хорош он или плох,
не зная, к чему он относится, какой характер обрисовывает,
какого типа (по эмоциональной насыщенности и т. п.) речь по¬
вествователя в данном произведении. В этом легко убедиться,
подобрав несколько сравнений даже к какому-нибудь слову с
тем, чтобы определить, какое из них лучше. Рояль можно
сравнить с чем угодно — и с бегемотом, и с льдиной, и с кляк¬
сой. Но что лучше — рояль, как льдина или рояль, как клякса?
Очевидно, что оценить эти сравнения мы можем лишь в конте¬
ксте, в связи со всеми остальными средствами изображения рояля
в данном произведении. Если, например, перед нами юмористи¬
ческий рассказ, то возможно, что в нём сравнение рояля с кля¬
ксой будет очень кстати, войдёт в систему других юмористически
построенных оборотов. Наоборот, в рассказе серьёзного типа оно
будет совершенно неуместно.
Введение тропов в речь повествователя или, наоборот, отказ
от них зависят от всех остальных сторон художественного произ¬
ведения и только в связи с ними могут быть поняты и оценены.
Так, в романе «Мать» героиня романа Пелагея Ниловна вначале
изображается как загнанная, забитая женщина. М. Горький
изображает её главным образом при помощи прямых значений:
«Была она высокая, немного сутулая; её тело, разбитое долгой работой
и побоями мужа, двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда
боялась задеть что-то. Широкое, овальное лицо, изрезанное морщинами и
одутловатое, освещалось тёмными глазами, тревожно-грустными, как у боль¬
шинства женщин в слободке. Над правой бровью был глубокий шрам, он
немного поднимал бровь кверху, казалось, что и правое ухо у неё выше
левого, это придавало её лицу такое выражение, как будто она всегда пугливо
прислушивалась. В густых тёмных волосах блестели седые пряди. Вся она
была мягкая, печальная, покорная...»
Как видим, чрезвычайно яркий портрет дан без метафор и
тропов (за исключением простейшего их вида — эпитета), что
ни в каком случае не делает его менее красочным и художе¬
ственным. Показав в романе известный рост Пелагеи Нилозны, —
превращение её из забитой и пассивной женщины в революцио¬
нерку, Горький к концу романа меняет и словесные средства
изображения Ниловны, обращается к тропу как к новому средству
изображения уже иных свойств образа Ниловны:
«в груди её птицей пела радость»; «в сердце искрами вспыхивали какие-
то слова»; «глубоко внутри её рождались слова большой, всё и всех обни¬
216
мающей любви и жгли язык»; «её доброе большое лицо вздрагивало, глаза
лучисто улыбались, и брови трепетали над ними, как бы окрыляя их блеск.
Её охмеляли большие мысли, она влагала в них всё, чем горело её сердце, всё,
что успела пережить, и сжимала мысли в твёрдые, ёмкие кристаллы светлых
слов. Они всё сильнее рождались в осеннем сердце, освещённом творческой
силой солнца весны, всё ярче цвели и рдели в нём».
Совершенно очевиден художественный смысл этого перехода
от прямых значений к тропам при изображении матери в началь¬
ном и конечном периоде её развития. Перед нами равноправные
по своему художественному значению, но в то же время и раз¬
личные средства изображения, в одном случае — прямые значе¬
ния, в другом случае — тропы; выбор их и в том и в другом слу¬
чае художественно оправдан, мотивирован художественным кон¬
текстом; и в том и в другом случае эти средства содержательны,
помогают полному выражению содержания произведения.
Поэтому и в творчестве писателя в целом, и даже в пределах
одного произведения можно найти отрывки, богато насыщенные
тропами и, наоборот почти с полным их отсутствием. Сравним для
примера два отрывка:
1.
«Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала цар¬
ственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью чёрных
волос к ране на груди, и сквозь её смуглые тонкие пальцы сочилась капля по
капле кровь, падая на землю огненно красными звёздочками. А за нею по
пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых
чёрных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слёзы...»
2.
«Встречу непонятно, неестественно ползла, расширяясь, тёмная яма,
наполненная взволнованной водой. Он слышал холодный плеск воды и видел
две очень красные руки; растопыривая пальцы, эти руки хватались за лёд
на краю, лёд обламывался и хрустел. Руки мелькали, точно ощипанные
крылья странной птицы, между ними подпрыгивала гладкая и блестящая го¬
лова с огромными глазами на окровавленном лице, подпрыгивала, исчезала, и
снова над водой трепетали маленькие красные руки. Клим слышал хриплый
вой:—«Г1усти1 Пусти, дура... Пусти же!» — Не более пяти-шести шагов отде¬
ляло Клима от края полыньи, он круто повернулся и упал, сильно ударив
локтем о лёд. Лёжа на животе, он смотрел, как вода, необыкновенного цвета,
густая и, должно быть, очень тяжёлая, похлопывала Бориса по плечам, по
голове. Она отрывала руки его ото льда, играючи переплёскивалась через
голову его, хлестала по лицу, по глазам, всё лицо Бориса дико выло, каза¬
лось даже, что глаза его кричат: «руку... да руку...»
«Сейчас, сейчас, — бормотал Клим, пытаясь расстегнуть жгуче холодную
пряжку ремня, держись, сейчас...»
Был момент, когда Клим подумал, — как хорошо было бы увидеть Бориса
с таким искажённым, испуганным лицом, таким беспомощным и несчастным
ие здесь, а дома. И чтобы все видели его, каков он в эту минуту.
Но он подумал об этом сквозь испуг, стиснувший его обессиливающим
холодом. С трудом отстегнув ремень ноющей рукою, бросил его в воду, —
Борис поймал конец ремня, потянул его и легко подвинул Клима по льду,
ближе к воде. Клим взвизгнул, закрыл глаза и выпустил из рук ремень
А открыв глаза, он увидел, что темнолиловая тяжёлая вода всё чаще, сильнее
хлопает по плечам Бориса, по его обнажённой голове, и что маленькие мок¬
рые руки, красно поблёскивая, подвигаются ближе, обламывая лёд. Судорож-
217
пым движением всего тела Клим отполз подальше от этих опасных рук, но,
как только он отполз, руки и голова Бориса исчезли, на взволнованной воде
качалась только чёрная каракулевая шапка, плавали свинцовые кусочки льда
и вставали горбики воды, красноватые в лучах заката...»
Всё описание этой сцены как будто спокойно, но именно
в этом спокойствии и заключена вся потрясающая сила этого
отрывка: он предельно точен. Это особенно чётко выступает
в эпитетах — экономных, почти что незаметных и в то же время
до предела насыщенных смыслом, нужным автору. Настойчивое
подчёркивание красноты замерзающих рук Бориса, уже по¬
блёскивающих от облепляющего их льда, тот же блеск застываю¬
щей воды на голове, гладкой и блестящей. Эпитетов этих не¬
много, но они невольно заостряют внимание на самой трагиче¬
ской подробности — на руках, ещё живых и цепляющихся за
лёд. Сама интонация повествования тоже предельно проста, но
именно на фоне этой выдержанной интонационной монотонности
с особенной яркостью и выделяются все самые нужные слова
без малейшего подчёркивания. Там, где, казалось бы, необхо¬
дим восклицательный знак, стоит запятая:
«Судорожным движением всего тела Клим отполз подальше от этих опас¬
ных рук, но, как только он отполз, руки и голова Бориса исчезли, на взвол¬
нованной воде качалась только чёрная каракулевая шапка, плавали свин¬
цовые кусочки льда и вставали горбики воды, красноватые в лучах заката».
Отметим что и гибель Бориса здесь попадает в придаточное
предложение, голос не обрывается на ней и в той же «перечисли¬
тельной» интонации продолжает: «на взволнованной воде кача¬
лась только чёрная каракулевая шапка» — и т. д.
Интонация столь же проста, как и сам язык, — она лишена
всякой приподнятости, она незаметна.
Оба эти отрывка принадлежат М. Горькому. Первый отно¬
сится к раннему периоду его творчества («Старуха Изергиль»),
второй — к позднему («Жизнь Клима Самгина»), Легко заме¬
тить, как резко отличаются друг от друга эти отрывки в смысле
отношения в них автора к тропам. Следует обратить внимание
и на известное соответствие между характером повествования,
интонационной организацией речи и отношением к тропам. В пер¬
вом отрывке очевидна интонационная приподнятость, пафос, а от¬
сюда — яркие, подчёркнутые тропы (...сочилась капля по
капле кровь, падая на землю огненнокрасными звёздочками,
...море распевало мрачный и торжественный гимн); во втором
отрывке интонация совсем иного строя — и тропы занимают
иное место. Перед нами пример взаимосвязи различных средств
организации повествования, художественное единство их.
Даже в пределах одного и того же отрывка мы можем про¬
следить, что писатель сознательно обращается то к прямым, то
к переносным значениям. Возьмём пример у Тургенева: он рисует
пейзаж (даёт картину природы):
218
«Погода была июньская, хоть и свежая: высокие, резвые облачка по
синему небу, сильный, ровный ветер, дорога не пылит, убитая вчерашним
дождём, ракиты шумят, блестят и струятся, все движется, всё летит, пере¬
пелиный крик приносится жидким посвистом с отдалённых холмов, через
зелёные овраги, точно и у этого крика есть крылья, и он сам прилетает на
них, — грачи лоснятся на солнце».
Или ещё пример:
«Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чи¬
стом небе, но поля ещё блестели росой; из нецавно-проснувшихся долин
веяло душистой свежестью, и в лесу, ещё сыром и не шумном, весело рас¬
певали ранние птички. На вершине пологого холма, сверху донизу покрытого
только что зацветшею рожью, виднелась небольшая деревенька. К этой де¬
ревеньке по узкой просёлочной дорожке шла молодая женщина в белом кисей¬
ном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке. Казачок издали
следовал за ней.
Она шла не торопясь и как бы наслаждаясь прогулкой. Кругом по высокой,
зыбкой ржи, переливаясь то серебристо- зелёной, то красноватой рябыо, с
мягким шелестом бежали длинные волны, в вышине звенели жаворонки».
Мы видим, что в этих отрывках тропов крайне мало (не го¬
воря о простейших — эпитетах,) но тем не менее отрывки эти
дают картины природы чрезвычайно отчётливо, жизненно. Таким
образом, Тургенев добивается большой художественной силы
прямыми значениями слова. В других случаях он обращается и
к тропам. В этом отношении крайне показательна последняя глава
романа «Рудин»(со слов: В знойный полдень...). Вначале Турге¬
нев даёт очень точное, лишённое тропов описание баррикады
(продавленный кузов поваленного омнибуса), внешности Рудина
и т. д., но в наиболее напряжённом месте повествования он обра¬
щается к тропам: «Венсенский стрелок прицелился в него — вы¬
стрелил... Высокий человек выронил знамя — и, как мешок, пова¬
лился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился». Вплетение
в повествование, построенное на прямых значениях этих резких
сравнений позволяет Тургеневу ещё более отчётливо выделять
наиболее сильное место отрывка.
Все эти примеры ясно показывают, что при оценке языка ху¬
дожественной литературы речь должна идти не об отвлечённо и
абстрактно понимаемой его образности и красочности, а об его
индивидуализирующем значении, причём эта индивидуализация
может достигаться разнообразными путями — в зависимости от
конкретных особенностей каждого данного произведения. Понят¬
но, что эта индивидуализация в известной мере подчиняется гем
заданиям, которые ставит себе автор, тем оценкам, которые он
даёт тем или иным явлениям.
Интонация и синтаксис
Различные виды переносных и прямых значе-
и его"связь1 ни“ С-3003’ рассмотренные выше, не исчерпы-
с интонацией вают, однако, возможности использования пи¬
сателем слова при создании образа. Сочета¬
ния слов между собой дают определённые смысловые моди¬
219
фикации и оттенки не только по линии переносных значений,
но и по линии различных соподчинений слов, замены их
и т. п. Обратимся к примеру: «Пришли мне (пишет Пушкин
в письме к брату), выражаясь языком Делиля, витую сталь,
пронзающую засмолённую главу бутылки, т. е. штопор». Перед
нами в данном случае прямое зачение слова заменяется не при
помощи тропа, а при помощи других прямых значений, описы¬
вающих свойства данного явления более подробно, чем непо¬
средственно относящееся к нему слово. В приведённом примере
это описание имеет юмористическое значение, поскольку оно
применено к столь незначительному предмету, но оно может
иметь и всякого рода иные применения. Сущность описания, так
называемого перифраза1, сводится, следовательно, к тому
что он не только обозначает явление, но и выделяет в нём суще¬
ственные его свойства, определяя тем самым своё отношение
к нему: не произнося слово Москва, мы можем сказать: «Непре¬
рывно растущая советская столица, становящаяся образцовым
городом победившего пролетариата».
Вместо того, чтобы прямо указать, что Онегин поселился в
комнате дяди, Пушкин пишет:
Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Перед нами, таким образом, раскрывается ещё одна линия
работы писателя над словесной структурой, являющаяся для него
одним из моментов работы над созданием образа, его индивиду¬
ализацией, уточнением относящихся к нему свойств и признаков.
Здесь мы прежде всего сталкиваемся с целым рядом оттенков,
которые вносит в поэтический язык интонация. Интонация пред¬
ставляет собой определённую систему повышений и понижений
голоса в процессе речи, определяющую характер её (вопрос, вос¬
клицание, повествование), членение на законченные отрезки и
т. д. (отражением её в письменном и печатном тексте является
пунктуация — система знаков препинания).
Всякое словесное сочетание приобретает определённый смысл,
только получив определённую интонацию, которая, в свою
очередь, определяется и общим контекстом, и распорядком
слов и т. д.
Если мы до сих пор рассматривали роль, которую играет слово
в художественной литературе, подходя к нему изолированно, как
к отдельно взятому слову, то теперь мы обращаемся к тому, ка¬
кую роль играет для писателя сочетание слов, т. е. синтаксиче¬
ская организация речи. Выше уже указывалось на то, какую роль
1 Потебня называл его речь околицей.
220
играет интонация для многозначности слова. Построение фразы,
тот эмоциональный тон, который она получает благодаря опреде¬
лённой расстановке слов, имеет чрезвычайно большое значение.
Синтаксис, как и лексика, используется писателем для индиви¬
дуализации и типизации речи.
Величина фразы, ясность или запутанность её построения, ха¬
рактер произнесения слов (вопросы, восклицания, спокойное по¬
вествование и т. д.) —всё это является новым средством как ха¬
рактеристики языка персонажей, так и организации речи пове¬
ствователя, усиления её характерности. Благодаря интонационно¬
синтаксической организации речь получает особенную вырази¬
тельность. В то время как, например, организация фразы в науч¬
ной книге, в газетной статье непосредственно подчинена задаче
наиболее точной передачи мысли, в художественной литературе
она является одной из форм создания характера, за которым,
как мы помним, стоит обобщение писателя. Это относится в рав¬
ной мере и к речи персонажей и к речи повествователя, которые
принимают индивидуальный и в то же время типический харак¬
тер именно благодаря своеобразной интонационно-синтаксиче¬
ской организации. Именно в сочетании с другими словами
слово получает своё настоящее звучание.
Искусство интонационно-синтаксической организации речи
крайне важно для писателя.
Писатель должен иметь чутьё слова с его интонационными
оттенками, помогающими писателю открывать всё новые и новые
оттенки смысла, конкретной выразительности речи.
Когда Блок пишет:
Снежный ветер, твоё дыханье,
Опьянённые губы мои...
Валентина, звезда, мечтанье!
Как поют твои «соловьи...
то сама синтаксическая структура этой строфы, короткие зады¬
хающиеся фразы, неполные, оборванные предложения, ряд вос¬
клицаний, отдельно стоящие, но произносимые как целое, инто¬
национно-законченное предложение, слова, наконец, заключи¬
тельное полное предложение как бы разрешающее напряжение,
нараставшее в первых строках — всё это определяет ту вырази¬
тельность, которую мы придадим строфе при её восппиятии.
В зависимости от интонационно-синтаксиче-
Интоплцпя и ской организации речи (не говоря, конечно, о
характер героя её смысловой стороне) меняется само пред¬
ставление о том или ином характере, то-
бражаемом писателем, или о состояниях одного и того же харак¬
тера. Обратимся к примерам из «Бориса Годунова» Пушкина.
Взяв два отрывка из речи самого Бориса, относящиеся к различ¬
ным сюжетным положениям, определяющие его различные со¬
стояния, мы легко проследим как отчётливо это изменение со¬
стояний его характера реализовалось в его яызке:
221
1.
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни —
Когда-нибудь, и скоро, может быть,
Все области, которые ты ныне
Изобразил так хитро на бумаге,
Все под руку достанутся твою —
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.
2.
— Послушай, князь: взять меры сей же час.
Чтоб от Литвы Россия оградилась
Заставами, чтоб ни одна душа
Не перешла за эту грань,— чтоб заяц
Не пробежал из Польши к нам, чтоб
Ворон не прилетел из Кракова. Ступай.
— Иду.
— Постой! Не правда ль: эта весть
Затейлива. Слыхал ли ты когда,
Чтоб мёртвые из гроба выходили
Допрашивать царей, царей законных,
Назначенных, избранных всенародно.
Увенчанных великим патриархом?
Смешно? А? Что? Что ж не смеёшься ты?
Очевидно резкое отличие этих отрывков. В первом случае это
уравновешенная, обдуманная, спокойная речь, во втором — это
речь крайне взволнованного человека, потерявшего душевное
равновесие. В первом случае перед нами спокойная, правильно
построенная фраза, во втором — отрывистая, насыщенная резкими
паузами речь, с резкими интонационными контрастами (как в по¬
следней части — после слова «иду»). Уже по этим различным ти¬
пам речи мы заключаем об изменениях состояний характера пер¬
сонажа, что легко проверить сюжетом: в первом случае перед
нами Годунов, мирно беседующий со своим сыном, во втором —
он же в разговоре с князем Шуйским, от которого он только что
услышал страшную весть о появлении самозванца.
Изображая различные характеры, писатель добивается более
чёткой их обрисовки путём интонационно-синтаксического свое¬
образия, их речи и речи повествователя, изменяющейся
в зависимости от авторского отношения к тому или иному
персонажу. Так, в «Медном Всаднике» Пушкин передаёт раз¬
мышления своих персонажей, их, так сказать, внутренние
монологи: во вступлении он даёт думы Петра, в первой части —
думы Евгения.
Пётр является носителем идеи государственности и государ¬
ственной мощи, Евгений — обычным человеком. Очевидно, что
свойства этих характеров будут показаны и через их речь, как
одну из основных форм раскрытия писателем характера. Их речь
будут типизировать, обобщать существенные черты их характеров
как в лексике, так и в интонационно-синтаксической системе.
222
Сравним строки того я другого внутреннего монолога:
1.
...и думал он:
Отсель грозить мы будем Шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно:
Ногою твёрдой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
2.
О чём же думал он? О том..
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег; что ведь есть
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Всё прибывала; что едва ли
G Невы мостов уже не сняли,
И что с Парашей будет он
Дня на два, на три разлучён.
Здесь, как видим, даны два совершенно различных типа речи
и по содержанию, и по лексике каждого из монологов (на чём
мы в силу совершенной очевидности этого останавливаться не
будем), и по самому характеру интонации, дающей каждому из
этих отрывков совершенно своеобразную выразительность. С од¬
ной стороны — твёрдая, непреклонная, законченная, повелитель¬
ная, волевая интонация Петра, с другой — грустная прерывистая,
робкая интонация Евгения. Позже мы вернёмся к детальному
разбору этих примеров, сейчас же отметим только совершенно
различное смысловое наполнение как будто бы однородных по
своему значению строк:
И думал он...
О чём же думал он?
Здесь в самой речи повествователя дана индивидуализиро¬
ванная интонация, определяющая отношение автора к героям.
Таким образом, легко убедиться, что и в области интона¬
ционно-синтаксической организации речи мы имеем дело с тем
же принципом характерности, который мы выше рассмотрели.
В связи с этим и в интонационно-синтаксическом отношении в
языке художественной литературы мы можем наблюдать опреде¬
лённое своеобразие сравнительно с формами языкового общения
223
Фигуры:
анаволуф,
инверсия,
бессоюзие,
многосоюзие
в других областях, например в деловом языке, в языке научной
книги, газеты и пр. Это своеобразие определяется тенденцией к
характерности и выражается в тяготении языка художественной
литературы к наиболее выразительным, экспрессивным интона¬
ционно-синтаксическим формам речи, придающим языку произ¬
ведения индивидуализированный характерный строй. Интона¬
ционно-синтаксические особенности языка произведения пред¬
полагают определённого их носителя, являются средством обри¬
совки того или иного характера.
Это интонационно-синтаксическое своеобразие
языка художественной литературы отчётливее
всего обнаруживается в так называемых ф и-
г у р а х, т. е. в такого рода интонационно-син¬
таксических построениях, которые придают ре¬
чи индивидуализированный выразительный характер, иногда даже
путём нарушения обычных форм спокойной деловой речи. Ярким
примером такой фигуры, т. е. синтаксического оборота речи, при¬
дающего ей особенную выразительность, является анаколуф
(неправильное согласование слов, например: Запах махорки и
какими-то кислыми щами...), обрисовывающий то или иное со¬
стояние человека путём нарушения в его речи обычных форм
словосочетания. Это индивидуализирующее значение анаколуфа
отчётливо выступает в следующем примере. В. Брюсов в одной из
своих статей выводит «Неистового критика», находящегося в со¬
стоянии крайнего волнения. Критик этот говорит: Всё, чем чело¬
вечество гордилось тысячелетия: Гомер, Данте, Шекспир, Гёте,
Пушкин — приходят какие-то мальчишки и объявляют это всё на¬
смарку (в волнении неистовый говорит анаколуфически). Как ви¬
дим, мысль неистового выражена вполне отчётливо, но непра¬
вильное согласование слов даёт его речи особенно взволнованный
характер, индивидуализирует её’.
К числу фигур относится, например, инверсия — необыч¬
ная расстановка слов. Так, у Маяковского в фразе: Где глаз лю¬
дей обрывается куцый — эпитет куцый оторван от глаз и произ¬
носится с несколько обособленной интонацией, благодаря чему
этот эпитет выделяется. Инверсия, по существу, и есть выделение,
подчёркивание слова или комплекса их при помощи необычной
интонации.
Такого рода модификации могут быть чрезвычайно разнооб¬
разны: оттенки в порядке слов создают оттенки интонаций и тем
самым оттенки смысла. Следует здесь упомянуть также бес¬
союзие (асиндетон) и многосоюзие (полисиндетон). Бес¬
союзие — устранение союзов, придающее речи известную уско-
ренность, стремительность.
1 Частным случаем анаколуфа является с и л л е п с, состоящий в том,
что при собирательном существительном единственного числа глагол
употребляется во множественном числе, например: Ряд выступавших ора¬
торов отметили.
221
' Швед, русский, — колет, режет, рубит...
(Пушки н.)
Был крокодил, князь, волхв, жрец, вождь.
(Державин.)
Наоборот, увеличение количества союзов (многосоюзие) мо¬
жет замедлить интонацию:
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал.
(Пушки н.)
И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
(Тютчев.)
В зависимости от контекста эти фигуры могут, конечно, иметь
и другое значение.
Все эти интонационные вариации могут иметь самый разнооб¬
разный характер. Сюда относятся:
Пропуск какого-либо члена в предложении (эллипсис),
придающий речи взволнованный характер, например у Жуков¬
ского:
Я цепь отчаянно рванул
И вырвал... к брату... брата нет...
Или — уже с другим выразительным смыслом:
Мы сёла — в пепел, грады — в прах,
В мечи — серпы и плуги.
(Ж у к о в с к и й.)
Незаконченность предложения, обрыв его (апосиопеза),
например у А. К. Толстого:
Подумать можно: протекло лет со сто —
Так повернулось старое вверх дном.
Но в сущности всё совершилось просто.
Так просто, что... но дело не о том...
Высказывание утверждения в вопросительной форме (рито¬
рический вопрос), например у Блока:
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернёт?..
Повторения, например у Лермонтова:
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво,
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка во сыром бору,
Под смолистый под корень подрубленная...
Весьма большое значение в усилении выразительности, инди¬
видуализированности, характерности языка художественного
произведения имеют всякого рода п а р а л л е л и з м ы, т. е. одно¬
родное синтаксическое построение фраз или частей их, создающее
их интонационную близость, повторение однородной интонации,
благодаря чему те или иные части фразы в особенности выде-
15 Тимофеев
225
ляются, подчёркиваются, становятся наиболее заметными и вы¬
разительными.
Повторение необходимо подчёркивает те или иные слова, уси¬
ливает интонацию, создаёт известное её нарастание и тем самым
придаёт речи особенно выразительный характер ’.
Такова анафора (единоначатие), т. е. однородное построе¬
ние фраз (или частей их) по началу, например: «Односторонний
человек самоуверен, односторонний человек дерзок, односторон¬
ний человек всех вооружит против себя...»
Такой же характер имеет эпифора (т. е. концовка) — од¬
нородное построение концов фраз (или частей их):
«Все перессорились: дворяне у нас живут между собой, как кошки с
собаками; купцы — между собой, как кошки с собаками; мещане — между
собой, как кошки с собаками; крестьяне — между собой, как кошки
с собаками».
(Гоголь.)
Возможно сочетание анафоры с эпифорой (так называемое
симплока — сплетение), например:
«И если есть во мне какая-нибудь капля ума, свойственного не всем
людям, так это оттого, что всматривался я подольше в эти мерзости, и если
мне удалось оказать помощь душевную некоторым близким моему сердцу —
так это оттого, что всматривался я подольше в эти мерзости, и если, на¬
конец, приобрёл к людям любовь не мечтательную, но существенную, так
это всё же, наконец, от того же самого, что всматривался я подольше в эти
мерзости».
(Г о г о л ь.)
Вариацией такого параллелизма является повторение той или
иной части речи, но в различных формах (так называемый п о-
липтотон). Например:
«Пора, наконец, дать отдых добродетельному человеку, потому что
праздно вращается на устах слово «добродетельный человек», потому что
обратили в лошадь добродетельного человека».
Такого рода фигуры придают речи новые интонационные, а
тем самым и смысловые оттенки, являются одним из необходимых
средств в работе писателя над языком. Понятно, что сами по себе
эти фигуры ничего художественного не содержат, они приобре¬
тают художественное значение лишь тогда, когда они содержа¬
тельны, т. е. подчинены определённой художественной цели. Оче¬
видно, что каждая фигура не имеет какого-либо определённого,
постоянного выразительного значения, — как и слово, она полу¬
чает содержание в контексте, в связи со всем комплексом выра¬
зительных средств. Поэтому одна и та же фигура может иметь
1 Как указывалось, в зависимости от контекста, использование фигур мо¬
жет иметь совершенно различный выразительный смысл. Сравним повторения
Лермонтова с повторениями Гоголя: «Появление его [Чичикова] на бале про¬
извело необыкновенное действие... «Павел Иванович! Ах, боже мой, Павел
Иванович. Любезный Павел Иванович. Почтеннейший Павел Иванович. Вот
он, наш Павел Иванович. Вот вы где, Павел Иванович. Вот он, наш Павел
Иванович. Позвольте прижать вас, Павел Иванович. Давайте-ка его сюда,
вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича».
226
самое разнообразное применение — она будет получать свой кон¬
кретный смысл лишь в данном контексте, сама по себе она ничего
характерного не содержит. Поэтому анафора может быть исполь¬
зована как средство усиления речи — и трагической, и комиче¬
ской, и иной, — она может быть художественно оценена лишь в
её конкретном смысловом наполнении — в контексте.
Фигуры, как и все остальные средства языка художественной
литературы, встречаются и в обычной разговорной речи, и в речи
ораторской и т. д.
В своё время Мармонтель (1723—1799) справедливо указы¬
вал на то, что и в быту мы можем найти большое количество
фигур (в эмоционально насыщенной речи).
«Дюмарсэ заметил, что риторические фигуры всего обычнее в спорах
рыночных торговок. Попробуем соединить их в речи простолюдина и, чтобы
оживить её, предположим, что он ругает свою жену: «Скажу я да, она гово¬
рит— нет; утром и вечером, ночью и днём она ворчит (антитеза: сопо¬
ставление противоположных по значению слов). Никогда, никогда с ней нет
покоя (повторение или углубление). Это ведьма, это сатана (ги¬
пербола, преувеличение). Но, несчастная, ты скажи-ка . мне (обраще¬
ние), что я тебе сделал? (вопрошение). Что за глупость была жениться
на тебе! (восклицание). Лучше бы утопиться (пожелание). Не буду
упрекать тебя за все твои расходы, за все мои труды, чтобы добыть тебе
средства (оставление). Но прошу тебя, заклинаю тебя, дай мне спокойно
работать... (моление). Или пусть я умру, коли... Берегись меня довести
до крайности (угроза и удержание). Она плачет, ах, бедняжка; вот
увидите: окажусь виноватым я же (и р о н и я). Ну, ладно, пусть так. Да, я
раздражителен, невоздержан (у с ту п л е н и е). Сто раз я желал, чтобы
ты была уродом. Я проклинал, ненавидел эти коварные глазки, это обман¬
чивое лицо (астеизм, или похвала в форме упрёка). Но скажи мне, не¬
ужели со мной нельзя поступать по-хорошему? (сообщение). Дети, со¬
седи, друзья, все знают про наши нелады ( перечисление). Они слышат
твои крики, жалобы, ругательства (нарастание). Они видели, как ты с
блуждающими глазами, распустив волосы, преследовала меня, угрожая
мне (описание). Они об этом говорят, приходит соседка, они ей рас¬
сказывают; прохожий слушает и бежит пересказывать другим (гипоти-
п о з и с, или представление — фигура, в которой событие изобра¬
жается как происходящее перед говорящим). Они подумают, что я зол, что я
жесток, что я тебя бросил, что я тебя бью, что я тебя калечу (градация, или
климакс). Но ведь нет, они знают, что я тебя люблю, что я добрый человек
и что мне бы только видеть тебя спокойной и довольной (коррекция).
Да, есть правда на земле: кто виноват, за тем и останется... (сентенция).
Что бы сказала твоя покойная мать? Что она скажет? Да, я вижу, как она
меня слушает и говорит: «Бедный мой зять, ты заслужил лучшей судьбы»
(прозопопея, или олицетворени е)».
Вот вся теория риторов о фигурах, осуществлённая без всякого ис¬
кусства, и ни Аристотель, ни Карнеад, ни Квинтилиан, ни сам Цицерон не
знали ничего больше...»
Но в языке художественной литературы они получают особен¬
ное значение и распространение, выступают с большей отчётли¬
востью, чем в иных областях языковой деятельности.
Поэтому неверны обычные определения фигур, идущие ещё от
Квинтилиана (вторая половина I в. н. э.), трактовавшего их в ка¬
честве искусственно изменённых форм речи, отдалённых от
15*
227
обычных способов выражения как уклонение от них с целью
усилить впечатление. Фигуры представляют собой явление обще¬
языкового порядка, они не нарушают норой языка, а просто рас¬
ширяют их, сами являются известными нормами речи повышен¬
ной выразительности, пользующейся различными интонацион¬
ными оттенками для передачи внутреннего содержания слова,
его смысловой конкретизации.
Звуковая организация поэтической речи (фоника)
Смысловое зна- Мы можем теперь сделать вывод, что словес-
чение ная организация художественного произведе-
звукового ния представляет собой настолько гибкую си-
повтора стему, что малейшие изменения в словесной
структуре, даже не несущие в себе каких-либо непосредственно
новых самостоятельных значений, например повышение и пони¬
жение голоса, перестановка слов и т. д., дают в руки писателя
средство добавочной детализации и индивидуализации художест¬
венного изображения. Сами по себе особенности прямой и пере¬
носной системы значений не являются присущими только поэти¬
ческому языку. Это свойства языка вообще, но в поэтическом
языке они приобретают особенное значение, выступают в наибо¬
лее организованном, по сравнению с обычным, виде. Точно так
же выдвигается в поэтическом языке и звуковая организация
речи — словосочетания, в которых сближаются слова по их зву¬
ковой близости. Эта звуковая близость, т. е. повторение в тех
или иных словах однородных, сходных звуковых комплексов,
возникает в своей основе как форма подчёркивания смысловой
связи, сближения между собой созначащих слов путём исполь¬
зования их созвучия.
Простейшим видом такого сближения является повторение
слов, в котором, с одной стороны, дано смысловое повторение,
обычно усиливающее подчеркивающее данное значение слова, а
с другой — это смысловое повторение является и звуковым по¬
вторением. Например:
Никогда, никогда, никогда
Коммунары не будут рабами.
(Князев.)
Чрезвычайно ярко выступает это смысловое значение звуко¬
вых повторений в таком своеобразном виде художественного
творчества, как пословицы и загадки: Еду, еду—следу нету, режу,
режу — крови нету... и т. п.
Отчётливый пример перехода звуковых повторений в смысло¬
вые дают так называемые тавтологии (тождесловия), т. е.
повторения однородных по звуковому строению и по значению
слов, например: мосты мостить, веет-повевает, греет-погревает,
причём эти тавтологии зачастую от омонимических форм (т. е.
от повторений, основанных на одинаковом звуковом строении
228
слов) переходят к синонимическим (к повторению разных по
звучанию, но близких по значению слов), например: знает-ведает,
плачет-тужит, пить-гулять; а и холост я хожу, не женат гуляю
и т. д. Несмотря на то, что в выражениях типа греет-погревает
или мосты мостить повторяется как будто одно значение, мы тем
не менее чувствуем здесь известные смысловые оттенки,
переходы их, усиление выразительности. У нас и до сих пор рас¬
пространено представление о какой-то особой звуковой красоте
поэтического языка, только ему присущей. Всякое скопление
однородных звуков во фразе, в строке трактуется как звуковой
повтор, как явление художественного порядка; зачастую худо¬
жественность стихотворения пытаются доказать при помощи
указания на то, что в нём много звуковых повторов, забывая, что
«много» ещё не значит «хорошо».
Такое преувеличенное представление о самостоятельном эсте¬
тическом значении в художественном произведении звуковых
повторов в своё время было связано с теорией о том, что каждый
звук сам по себе имеет уже известный, именно ему присущий
смысл, который обнаруживается всегда, когда этот звук произно¬
сится. Ещё «блаженный» Августин (354—430) считал, что звуки
бывают мягкие или грубые, так как они отражают мягкость или
грубость вещей, ими обозначаемых, — «когда мы произносим са¬
мое слово 1епе (мягко), то оно и звучит мягко, с другой же сто¬
роны, кто же не заметит жестокости (asperitas) и в самом слове
asper? Мягко ушам, когда мы произносим voluptas (наслажде¬
ние), жёстко, когда произносим crux (крест); мёд (mel) сладок
на вкус и название его приятно ласкает слух, а слово горький
(асег) соответствует и неприятному вкусу». Лейбниц (1646—
1716) полагал, что звук р обозначает сильное движение и потому
встречается в словах, имеющих соответствующий смысл — Riss
(разрыв), что звук L тихий и связан поэтому со словами типа
leben (жить), lieben (любить) и т. д. Это представление о само¬
стоятельном и устойчивом смысле определённых звуков, в свою
очередь, очень устойчиво. Распространено оно и сейчас среди
западноевропейских учёных. Верье, например, полагает, что
можно делить звуки на «тяжёлые», которые «внушают торжест¬
венность, серьёзность, печаль», и «светлые», дающие «хорошее
настроение, весёлость, живость, радость жизни». Он рекомен¬
дует произносить с закрытыми глазами в течение известного
времени какой-либо звук, полагая, что это вызовет возникнове¬
ние того чувства, которое с этим звуком связано (звук у — чув¬
ство печали, звук и — радости и т. д.). Много внимания уделяли
доказательствам самостоятельного смыслового и эмоционального
значения звука русские символисты, писавшие о «магии слова».
В своё время П. А. Вяземский опровергал эту теорию в споре
с итальянцем, не знавшим русского языка, предложением опре¬
делить по звуку смысл слов — любовь, дружба, друг. Итальянец
предположил, что это «что-нибудь жёсткое, суровое, может быть,
229
выразительности
звукового
повтора
бранное». А на вопрос что может означать по своим звукам слово
телятина, он ответил, что «нет сомнения, это слово ласковое,
нежное, обращаемое к женщине».
Вопрос о том, могут ли звуки речи сами по себе иметь какой-
либо устойчивый смысл, решается простым указанием на то, что
в языке — огромное количество слов и весьма мало звуков. В рус¬
ском языке 39 основных фонем приходится на 200 000 без малого
слов. Предположить, что все слова, в которые входит, например,
звук у вызывают у нас одни и те же чувства, невозможно. Под¬
счёты встречаемости букв (хотя они и не совпадают со звуками,
но всё же позволяют ощутить некоторые их соотношения) пока¬
зывают, что в русском, например, языке а и близкие ей буквы (я,
частично о) дают примерно 15% встречаемости (на 100 букв —
15 а). В английском языке буква е даёт 15%. На частоте встре¬
чаемости букв основаны, между прочим, разгадки шифров у Ко-
нан-Дойля, у Эдгара По («Золотой жук») и др. Очевидно, что
звук а, если бы он имел какую-либо связь с каким-либо чувством,
вызывал бы у нас это чувство примерно через 6—7 звуков и уж
во всяком случае несколько раз в каждой фразе.
Таким образом, представление о том, что самое наличие зву¬
ковых повторов имеет уже известное эстетическое значение, со¬
вершенно не обосновано. В любой фразе газеты можно найти
повторение звуков, ибо это естественное языковое явление.
Как и все остальные средства выразительности языка худо¬
жественной литературы, звуковые повторы присущи не только
ему, а представляют общеязыковое явление и получают художе¬
ственное значение лишь в определённой художественной мотиви¬
ровке, в контексте, в связи во всеми остальными средствами ре¬
чевой выразительности. Совпадение звуков, взятое само по себе,
ничего собой не представляет, оно художественно нейтрально.
Если же оно включено в контекст, превращено в средство художе¬
ственной выразительности, оно получает смысл как один из эле¬
ментов художественного целого. Не всякое совпадение звуков
можно считать звуковым повтором, им является лишь такое со¬
впадение, которое выполняет художественную функ¬
цию, т. е. является средством усиления выразительности, ха¬
рактерности языка художественного произведения.
Условия Звуковые повторы в обычном их понимании
художественной (как простое совпадение однородных звуков в
различных словах) представляют собой факт
языка, необходимо наличествующий во всякого
рода речевых построениях, в том числе и в
языке художественной литературы. Объясняется это, как сказано,
тем, что в языке — небольшое количество звуков и огромное ко¬
личество слов. Это определяет неизбежное повторение однород¬
ных звуков в различных словах вплоть до образования одинаково
звучащих, но различных по значению слов (например коса в ряде
значений), так называемых омонимов, и возникновения таких
230
Связь звуковых
повторов с общим
звуковым
строем языка
омонимических совпадений даже в разнозвучащих словах. При¬
мер использования омонимов в стихе даёт В. Брюсов:
Ты белых лебедей кормила,
Откинув тяжесть чёрных кос,
Я рядом плыл, сошлись кормила,
Закатный луч был странно кос.
Различаются омонимы-о м о ф о н ы, образуемые одинаково зву¬
чащими, хотя и не одинаково пишущимися словами (по калачу —
поколочу), и омонимы-о м о г р а ф ы, образованные одинаково
пишущимися, но имеющими звуковые оттенки, словами (мука —
мука). Большая часть омонимов образует совпадения различных
форм слова (стекло — существительное и стекло — глагол).
Однако очевидно, что простые совпадения звуков в обычной
речи и то значение, которое звуковые повторы имеют в художест¬
венной литературе, весьма различны. Звуковой повтор обращает
на себя внимание (шипенье пенистых бокалов), является элемен¬
том выразительности, индивидуализированности речи,-это значит,
что он привлекает наше внимание не сам по себе (звуковые по¬
вторы рассыпаны, повторяем, везде), а тем, что указывает на ка¬
кую-то особенную выразительность речи художника в данном
случае, приобретающую особую заметность, подчёркнутость бла¬
годаря насыщенности её звуковыми повторами. Благодаря зву¬
ковому повтору, слова, им связанные, становятся в особенности
заметными, обращают на себя внимание. Мы можем и в живой
речи найти пример такого подчёркнутого отношения к звуковой
стороне слова, когда слово произносится так, что каждый звук в
нём становится ощутимым, заметным, — это резко подчёркнутая
по своей эмоциональности речь, речь, например, раздраженного
человека, отчеканивающего каждое слово, это командная речь
(шагом — арш/) и т. д. Во всех подобных случаях звуковая под¬
чёркнутость слова мотивирована тем значением, которое ему при¬
даёт говорящий, и, в свою очередь, она усиливает эту подчёрк¬
нутость. Звуковой повтор, в особенности эту подчёркнутость
выделяющий, является в живой речи своеобразным звуковым
сигналом, сигналом её эмоциональной напряжённости. Есте¬
ственно, что в языке писателя, индивидуализирующего и в то
же время обобщающего, усиливающего характерные особен¬
ности речи персонажей и повествователя, находят своё место и
звуковые повторы.
Основное значение их, таким образом, не чисто звуковое, как
мы видели, — они связаны прежде всего с интонацией речи; по¬
втор — это своего рода звуковая фигура.
Однако поскольку для каждого языка харак¬
терен и особый звуковой строй, то известное
значение (как частный случай) в звуковой ор¬
ганизации речи может иметь и непосредствен¬
ное построение, т. е. тот или иной порядок зву¬
ков, придающий речи благозвучие или, наоборот, его нарушаю¬
231
щий. В данном случае писатель будет, так сказать, обобщать,
улавливать характерные черты в самой произносительной
стороне языка. Так, строка Анастасии и Ирины покажется нам
тяжёлой, поскольку скопление и здесь явно ненормально для
нашего языка. Мы можем заметить, что та или иная строка сти¬
хотворения будет звучать хуже, если мы, не изменяя ни смысла,
ни ритма, заменим слово иным по звучанию, например, у Блока
вместо Валентина, звезда, мечтанье поставим какое-либо другое
женское имя, скажем Митродора, Александра и т. п. Наше не¬
посредственное чувство подскажет нам, что Валентина звучит
лучше, очевидно, потому, что это звучание находится в большом
«родстве» с другими звуками строки, чем наши варианты, т. е.
благозвучнее, в большей степени отвечает духу языка, его зву¬
ковому строю. Это вполне понятно, поскольку произнесение
звука связано с работой речевых органов и те или иные звуки
чисто физиологически могут быть более или менее легко соче¬
таемы. По образованию гласных звуков мы можем, например,
различать узкие и широкие (у и а), передние и задние (при
передних язык продвигается вперёд до зубов, при задних —
отодвигается всё глубже в рот — в порядке а—о—у). Возможно,
что те или иные переходы от звука одного образования тяжелы
и в речи встречаются редко, другие, наоборот, более органичны
и распространены и т. д.
Этим объясняется и непосредственное воздействие на нас тех
или иных хорошо или плохо звучащих с нашей точки зрения
звукосочетаний.
Но в основе наиболее частых по своему по¬
строению звуковых повторов лежит именно их
связь с интонацией стиха. Поэтому следует
отличать звуковое совпадение как яв¬
ление языка, не имеющее выразительного значения, и звуко¬
вой повтор как ощущаемое нами, помогающее выразитель¬
ности речи языковое явление.
Простейший пример звукового повтора дают повторения наи¬
более важных в смысловом отношении слов.
Весьма любопытный пример яркого совмещения смыслового и
звукового повторения находим у Л. Толстого:
Звуковое
совпадение и
звуковой повтор
«У крыльца уже стояла туго обтянутая железом и кожей тележка с
туго запряжённою широкими гужами сытою лошадью, в тележке сидел
туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчик».
Звуковой повтор возникает именно как сближение слов для
достижения определённой цели, подчёркивания их и т. п.: В кабак
далеко, да ходить легко, в церковь близко — да ходить склизко.
Жни, баба, полбу да жди себе по лбу — всё это уже звуковые
повторы, несущие в себе определённое художественное значение.
Выделение слов благодаря художественному осмыслению,
использованию однородности их звукового строя, придаёт им наи¬
232
большую выпуклость, подчёркнутость, т. е. связывает их уже с
интонационно-синтаксическим строем речи. Практически звуко¬
вые повторы не существуют самостоятельно, они неразрывно
связаны со смысловым строем речи и обычно с её интонационной
организацией. Они играют в гораздо большей мере интонацион¬
ную, чем непосредственно звуковую роль. Нам важно не столько
звучание, которое дано звуковым, повтором, сколько общий
характер подчёркнутости, выразительности входящих в него слов,
т. е. именно интонационная организация речи.
Именно в связи с интонационно-смысловой организацией речи
звуковые повторы и получают определённую содержательность,
художественный смысл. В отрывке из Некрасова:
Слышу, нечистая сила
Залотошила, завыла.
Заголосила в лесу —
Ассонанс/
аллитерация,
анафора, эпифора,
стык, кольцо
мы имеем дело с очень ярким звуковым повтором, резко усили¬
вающим выразительность всего отрывка. Легко заметить, что он
здесь стоит «не сам по себе», что не отвлечённая игра одинако¬
выми звуками привлекает к себе наше внимание, а что он тесно
связан с контекстом. Звуковой повтор включён в определённое
интонационное нарастание, связан с повторением однородных
глагольных форм, которые благодаря этому становятся более
отчётливыми и выразительными. В свою очередь, и звуковой
повтор ими подчёркнут, выделен, включён в «поле восприятия»
читателя. Звуковое и интонационное строение фразы тесно свя¬
заны, переходят одно в другое.
Формы звукового подчёркивания соотношения
тех или иных слов могут быть чрезвычайно
разнообразны как в стихе, так и в прозе. С од¬
ной стороны, звуковые повторы могут быть об¬
разованы повторением звуков различных кате¬
горий— повторение согласных (аллитерация), гласных
(ассонанс) —или их сочетанием (например: Пора, пора,
рога трубят — ассонанс; Близко буря, в берег бьётся — аллите¬
рация). С другой стороны, имеет значение порядок расположения
повторяющихся звуков в начале слов, полустиший, строк, фраз
(звуковая анафора — единоначатие) или в конце их (звуковая
эпифора — концовка2). Шумит, гремит конец Киева — сначала
эпифора, затем анафора, соединение их (расположение повторяю¬
щихся звуков на конце первого члена повторения и в начале вто¬
рого — эпанафора, стык; в начале первого и в конце второго —
анэпифора, кольцо) и т. д.
Само по себе значение звуковых повторов, очевидно, столь же
функционально различно, как и в ранее рассмотренных случаях
организации литературно-художественного слова.
1 В другом смысле ассонансом называют неточную рифму.
8 Видом эпифоры является рифма, о которой мы будем говорить позже
как об особом виде звукового повтора с ритмической функцией.
233
Ономатопея —
звукопись
Мы можем встретить звуковые повторы начи¬
ная от так называемой звукописи, звукоподра¬
жания (ономатопея), т. е. попытки вос¬
произвести звуковые особенности явлений, о которых говорится
(О, как, о, как нам к вам, о боги, не гласить — лягушки у Сума¬
рокова; И мы грешны — вол у Крылова; И скакал по камням конь
Одинов — конь у Майкова; Бахают бомбы у бухт — ухх-ты! — у
Безыменского), до самых сложных их форм.
Следует предостеречь от увлечения звукописью и от преувели¬
чения её художественной значимости. Писатель не воспроизводит
при помощи звуков речи те или иные явления, а говорит о них
при помощи слов. Слово есть суждение о явлении, а не прими¬
тивное воспроизведение звуковых его особенностей. Поэтому
поэт при всём желании не может передать, скажем, грохота
экскаватора путём подбора звуков, как бы громко поэт ни кри¬
чал, но он легко может дать нам представление об этом грохоте
при помощи подбора слов, передающих впечатление его от этого
грохота. Поскольку звуковые повторы не существуют, как мы
видели, сами по себе, а тесно связаны с интонационно-синтакси¬
ческой стороной речи, постольку художественное значение они
получают только в контексте, в системе и в силу этого могут
выполнять в ней самые различные функции, получать конкрет¬
ное художественное осмысление.
Поэтому в зависимости от строя речи повествователя, которая,
как мы помним, может иметь самые разнообразные формы,
будет меняться место и значение в ней звуковых повторов,
а также отношение к ним писателя.
Так, например, Ломоносов в «Риторике» выступает вообще
против звуковых повторов, советуя «обегать непристойное и слуху
противное стечение согласных», «удаляться от стечения письмен
гласных, а особливо то же или подобное произношение имею¬
щих», «остерегаться от частого повторения одного письмени (тот
путь тогда топтать трудно)».
Баснописец И. Дмитриев по поводу строки в своём стихотво¬
рении— В таком-то образе отечества отец — делает специальное
примечание: «Кто-нибудь из моих критиков заметит, что в
этом стихе три речения сряду начинаются с одной буквы. Винюсь
перед ним и беру этот грех на мою совесть».
Наоборот, у Радищева находим уже иное отношение к звуко¬
вой организации речи. По поводу оды «Вольность» он замечает:
«Сию строфу обвинили... за стих «Во свет рабства тьму претвори». Он
очень туг и труден на изречение, ради частого повторения буквы ш и ради
соития частого согласных букв: «бства тьму претв.»: на десять согласных
три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно,
как и на итальянском... Согласен, хотя иные почитали стих сей удачным,
находя в негладкое™ стиха изобразительное выражение трудности самого
действия...»
Вячеслав Иванов выдвигал в своё время принцип, обратный
ломоносовскому, заявляя, что поэт работает омонимами, а не си-
234
нонимами (т. е. словами созвучащими, а не созначащими). И в
произведениях символистов, теоретиком которых выступал Вяч.
Иванов, мы действительно встречаем исключительное внимание
к звуковой стороне слова, что вытекало из общей трактовки ими
Различные
формы ввуковых
повторов
задач творчества и, следовательно, отношения к языку: для сим¬
волистов характерно было глубоко двойственное отношение к
действительности, противопоставление мира реального и мира
мечты. Отсюда их творчество, в котором действительность под¬
чёркнуто деформируется (Всходит месяц обнажённый при лазо¬
ревой луне — Б р ю с о в; Никогда не забуду — он был или не
был, этот вечер — Блок), отсюда их Отношение к слову: прене¬
брежение к его конкретному значению, стремление найти в нём
новые, неожиданные смыслы путём сочетания слов не по смысло¬
вой, а по звуковой линии, что влечёт за собой разнообразнейшую
систему звуковых повторов, различных ритмов и т. п.
Поэтому в истории литературы мы находим са¬
мые различные функциональные формы звуко¬
вых повторов вплоть до обратного их типа,
т. е. до сближения слов не по смыслу, а по их
звуковой близости и уже на этой основе нового их осмысления.
Например в «Думе о Корсунской битве» рассказывается о
том, что «не одна пани ляшка удовою осталась»:
У одной пана Яна
Казаки связали, как барана,
У другой пана Кардаша
Повезли до коша,
Пана Якуба
Повесили «на дуба»...
Или в сказке о Ерше Ершовиче:
Пришёл Устин,
Ерша отпустил.
Пришёл Потап,
Стал Ерша топтать,
Пришёл Назар,
Понёс Ерша на базар...
На практике мы встречаем самые различные формы, виды и
функции звуковых повторов: все они возникают в связи с основ¬
ными особенностями данного произведения — кругом характе¬
ров, строем речи повествователя и т. д., и только лишь в этой связи
могут быть поняты. Всякого рода преувеличения значения звуко¬
вых повторов, выделение их в произведении на передний план
означают нарушение смысловых норм речи, приводят к форма¬
лизму, т. е. к бессодержательной форме. Приведённые присказки
уже дают образец такого «первобытного формализма», подчине¬
ния речи звучанию, а не значению слова. Примером такой фор¬
малистической игры со словом, неравномерного подчинения его
смысловой стороны стороне звуковой являются, например, так
называемые палиндромы, или, как их называли в старинной
русской письменности, «раки» (или перевертни), т. е. слова,
235
фразы, даже стихотворения, которые строятся так, что их можно
читать с обоих концов, получая одинаковый смысл, например:
кабак, атака заката;
Я иду с мечем судия,
Я разуму, уму заря...
или:
Анна ми мати и та ми манна,
Анна пита мя, я мати панна,
Анна дар и мне сень мира Данна.1
Пример словесного палиндрома находим и у Брюсова:
Жестоко раздумье. Ночное молчанье
Качает виденья былого,
Мерцанье встречает улыбки сурово,
Страданье глубоко, глубоко!
Страданье сурово улыбки встречает...
Мерцанье былого виденье качает...
Молчанье, ночное раздумье жестоко.
Понятно, что здесь налицо бессодержательная игра со словом,
за которой нет художественного смысла. Слова подбираются не
в силу определённой художественной цели, т. е. обрисовки
характера, индивидуализации изображения и т. д., а по чисто
внешнему заданию, что приводит к чисто формалистическим по¬
строениям. Яркие примеры такого подчинения смысла слова
звуку, т. е. его обессмысливания, даёт творчество Хлебникова,
например его «Разин»:
Сетуй, утёс,
Утро чорту.
Мы низари летели Разиным...
Раб нежь жён бар...
Здесь мы уже вне пределов художественного творчества.
Близки к палиндромам так называемые панторифмы, в
которых даётся почти полное звуковое подобие стихотворных
строк, например:
Слышен свист и вой локомобилей.
Дверь лингвисты войлоком обили...
Однако в тех или иных конкретных случаях и эти звуковые
особенности могут быть использованы содержательно. Вот при¬
мер очень удачного применения палиндрома. Персонаж одного
романа — лётчик Волк — выработал у себя привычку читать и
произносить слова наоборот: вместо авария он говорит яирава
и т. п. За воздушное хулиганство он исключён из флота. Подав
заявление начальнику воздушных сил, Волк ждёт результатов.
Получив долгожданный пакет с отзывом, Волк находит в нём
резолюцию — «в резерв»; и тут он припомнил, как в подобных
случаях вытеснял смысл слова обратным его повторением. Он
прочитал резолюцию наоборот и не поверил себе... «в резерв».
1 В своё время эти построения казались такими замысловатыми, что в
средневековье изобретателем «раковидного» стиха: «Rodo tibi subito cotibus
ibil odor» считали самого дьявола.
236
Палиндром «в резерв» как бы выражает собой эту безвыход¬
ность положения, усиливает впечатление.
Все эти примеры показывают самое разнообразное примене¬
ние, которое могут иметь в поэтическом языке звуковые повторы.
Значение их основано на том, что они помогают интонационному
выделению слов, с ними связанных, и, следовательно, являются
средством усиления многозначности слова, помогают подчерк¬
нуть его новый индивидуальный смысловой оттенок, его харак¬
терность;-
ГЛАВА V
ОСНОВЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ
Стих и проза
Слово проза производят от греческого слова лрозш — вперёд
и от латинского слова prorsus или prosus — прямо, вперёд;
слово стих — от греческогодтг/ос (стихос) — ряд, строй, порядок
(греческому опух соответствует латинское versus — оборот,
обращение, затем — стих; отсюда произошли — французское
le vers — стих, польское вирш, распространённое и у нас
в XVII—XVIII вв., отсюда же версификация — стихосло¬
жение).
Уже в этом словообразовании видно, что язык художественной
литературы делится на две части: язык, свободно организованный,
и язык, подчинённый известному строю, в котором как бы
«оборачиваются», «возвращаются» сходные друг с другом
части (строки, стихи).
Различные виды Когда мы имеем дело с языком, организован-
организации ре- ным свободно, соответственно нормам живой
чи речи, прихотливо переходящей от одного
порядка расположения слов к другому, от одного типа
построения фразы к другому, мы называем такую речь
п р о з о й.
Наоборот, когда мы замечаем в речи повторение характерных
для неё особенностей, подчёркнуто симметрическое расположение
этих элементов, мы называем такую речь стихотворной,
или, в узком смысле этого слова, поэзией. Как указывалось,
поэзией иногда называют вообще художественную литературу
в отличие от нехудожественной, а иногда к поэзии относят стихо¬
творные произведения, отграничивая их этим термином от произ¬
ведений, написанных прозой. В широком смысле слова поэзия —
вообще творчество (от греческого — liotsui — творю, делаю,
Kot-qoiq — творение, художественная деятельность (поэт гсопрцс—
творец).
237
Связь СТИХА
со звуковым
строем языка
Эта упорядоченность, внешне выраженная
в том, что стихотворение разбито на строки,
основывается на более или менее симметриче¬
ском повторении тех или иных звуковых осо¬
бенностей речи: ударных и безударных слогов, пауз, звуковых
повторов и т. д. Эти звуковые особенности определяются, естест¬
венно, звуковым строем (его фонетической системой). «Изучите
внимательно фонетическую систему языка... и вы сможете ска¬
зать, какого рода стихосложение в нём развито, или в случае,
если история подшутила над его психологией, какого рода сти¬
хосложение должно было бы в нём развиться и рано или поздно
разовьётся», — справедливо замечал один из исследователей
языка. Примером такого влияния языка на систему стихосложе¬
ния может служить французский язык: то обстоятельство, что
в нём ударение всегда фиксировано на последнем слоге слова,
естественно, определяет особый характер его стихосложения,
сравнительно, например, с русским языком, где ударение не при¬
креплено к определённому слогу.
Упорядоченное повторение тех или иных звуковых особен¬
ностей придаёт стиху подчёркнуто ритмический характер. Стих
прежде всего ритмически организованная речь. В этом смысле
стих как ритмически организованную речь и противопоставляют
прозе, не имеющей ярко выраженной ритмической организации.
И самое объяснение тому, что в нашей языковой системе возникла
такая своеобразная и весьма отличная от нашей обычной речи
форма речи — стих, ищут обычно в его ритмическом строе.
Оспопные
признаки ритма
Ритм
Ритм — это закономерное повто¬
рение соизмеримых единиц. В зави¬
симости от того, в какой области этот ритм
возникает, на каком материале он осуществляется, мы говорим о
самом характере этих единиц: динамических (например в танце),
пространственных (в живописи), речевых (в языке). Стихо¬
творный ритм — это закономерное повторение
соизмеримых речевых единиц.
Ритм возникает лишь тогда, когда мы улавливаем, что данное
движение, которое мы наблюдаем, распадается на единицы,
т. е. на части, относительно законченные, отделённые друг от
друга. Сплошная линия или непрерывный гудок не вызывает
ощущения ритма. Но ряд колонн, отделённых промежутками друг
от друга, или ряд строк, разделённых паузами, вызовет у нас
представление о ритме, так как мы уловим прежде всего наличие
в данном явлении единиц. Но единицы эти должны быть соиз¬
меримы, сходны в какой-то существенной черте, иначе
мы не уловим сходства между ними, т. е. не сумеем воспринять их
именно как единицы. Стихотворные строки вперемежку с прозаи¬
238
ческими фразами, колонны вперемежку с деревьями и т. п. не вы¬
зовут представления о ритме. Следующим условием появления
ритма является повторение соизмеримых единиц. Только
ряд единиц, следующих друг за другом, создаёт ритмическое дви¬
жение. И это повторение соизмеримых единиц должно быть
упорядоченным, закономерным, для того чтобы вы¬
звать представление о ритме. В беспорядке разбросанные ко¬
лонны, беспорядочные движения — не ритмичны; только уловив
правильность в следовании этих единиц друг за другом, мы по¬
чувствуем ритм.
Следовательно, когда мы чувствуем в речи правильное повто¬
рение сходных между собой и относительно законченных единиц
речи, мы ощущаем речевой ритм, стихотворную речь.
При этом соизмеримость единиц речи может быть различной,
в зависимости от строя языка того или иного периода его разви¬
тия и т. п. В зависимости от того, какой принцип соизмеримости
положен в основу сходства речевых единиц, и различают различ¬
ные системы и виды стихосложения.
Определение истоков ритмически организован¬
ной речи приводит к выводу, что возникновение
её тесно связано с трудовым процессом на ран¬
ней стадии развития человеческого общества.
В основе ритмической речи лежат восклицания, сопровождавшие
работу и подчёркивавшие ритм мускульных движений. Поскольку
ритмичность движений облегчает и координирует работу, по¬
стольку эти восклицания, подчёркивавшие и отмечавшие этот
ритм, бывшие, так сказать, его звуковыми сигналами, всё больше
и больше развивались, превращались в рабочие песенки ритми¬
чески сопровождавшие процесс работы. Образец такой песни,
создававшей единый ритм и позволявшей всем одновременно объ¬
единить свои усилия, находим, например, в комедии Аристофана
(ок. 450—385 г. до н. э.) «Мир»:
Возникновение
стихотворного
ритма
Ну-ка, дружно, ну-ка, все!
Конец уж скоро видно!
Не отпускать! Натянем здоровее!
Вот уж сейчас конец!
О эйя, вот! О эйя, всё!
О эйя, эйя, эйя, вот!
О эйя, эйя, эйя, всё!
Такого рода рабочие песенки и создавали основу будущего
стиха. В трудовых и обрядовых играх человек на ранних стадиях
своего развития воспроизводил свою жизнь, свой труд, рабочие
песенки исполнялись в этих играх. Игры эти представляли собой
первичную форму искусства, в которой в зародыше были объеди¬
нены все виды искусств: и песня, и танец, и театральное представ¬
ление, и музыка, и слово. Это был так называемый синкрети¬
ческий (слитный) период развития искусства.
239
Синкретизм и
диференциация
искусств
По мере общественного развития эти игры
усложнялись, объединённые в них виды ис¬
кусств постепенно получали самостоятельное
существование, происходила диференциа¬
ция искусств.
Произошло отделение и песни, объединявшей музыку и слово,
ритмически организованное. Постепенно диференцировались вслед
за тем напев и текст, возникла самостоятельно существующая
ритмически организованная речь, т. е. стих. Таким образом, стих
возник в трудовом процессе, перешёл в синкретическое искусство,
отделился от него вместе с музыкой и, наконец, стал существовать
самостоятельно. Отсюда в язык и вошли такие элементы как ритм,
рифма, строфа.
Существенным недочётом этой теории является то, что объяс¬
нив происхождение и роль стихотворной речи на ранних стадиях
общественного развития, когда стих был связан с трудом и уча¬
ствовал в трудовом процессе, она не говорит, почему же стих
сохранился тогда, когда непосредственная связь его с трудом за¬
кончилась, чем объясняется его существование теперь.
Наиболее логически последовательные сторонники этой теории
приходят поэтому к выводу, что стих постепенно отмирает и скоро
совсем отомрёт. «Когда-нибудь проза одержит окончательную
победу над стихотворной формой... наступит пора, когда последняя
будет считаться устарелой и отжившей. Несомненно, это так...
Это развитие идёт всё дальше и дальше и, наконец, доведёт нас
до полного презрения стихотворной формы», — писал в своё
время ученик акад. Веселовского — К. Тиандер.
Явная неверность этого вывода, опровергаемого развитием
всей новейшей поэзии, говорит о том, что теория, из которой он
исходил, не полна. Недостаток её в том, что она проследила лишь
один путь возникновения стиха, а стих, по всей вероятности, раз¬
вивался различными путями. Кроме того, она односторонне отож¬
дествляет стих с ритмом, что далеко не одно и то же, и, наконец,
не рассматривает стиха во взаимоотношении с языком. Между
тем, этот вопрос имеет весьма важное значение.
Стих и язык
При всём значении, которое ритм имеет для
Стих как целост- организации стихотворной речи, стих всё же
ная система речи R нему не сводится. Это видно из того, что не
всякая ритмически организованная речь воспринимается нами как
художественное явление, как стихи. Известно, что ритмическую
форму придают тем или иным выражениям для удобства их запо¬
минания. В своё время учебники грамматики и арифметики
иногда пользовались стихотворной формой. Так, ещё в начале
XIX в. у нас вышел учебник математики Войтяховского, в котором
были помещены задачи такого типа:
240
Нововъезжей в Россию французской мадаме
Вздумалось ценить своё богатство в чемодане:
Новой выдумки нарядное фуро
И праздничный чепец а ла Фигаро.
Оценщик был русак,
Сказал мадаме так:
Богатства твоего первая вещь фуро
Вполчетверта дороже чепца фигаро,
Вообще же стоят не с половиною четыре алтына,
Но настоящая им цена только сего половина.
Спрашивается каждой вещи цена,
С чем француженка к россам привезена.
Очевидно, что ритм должен быть связан с рядом других осо¬
бенностей для того, чтобы ритмически организованная речь стала
художественно организованным стихом.
В самом деле, мы, воспринимая стих, ощущаем его как це¬
лостную систему речи, в которой налицо и своё отношение
к слову, и к синтаксису. А. Блок заметил, что «в нашей быстрой
разговорной речи трудно процитировать стихи». Это наблюдение
говорит именно о том, что стих есть особый тип речи, обладаю¬
щий целым рядом особенностей. О том же говорит интересная
оценка Л. Толстым стихов Пушкина: «У Пушкина не чувствуешь
стиха, несмотря на то, что у него рифма и размер, чувствуешь,
чго иначе нельзя сказать». О том же говорил Гончаров разъяс¬
няя, как надо декламировать стихи Пушкина: «Актёр, как музы¬
кант, обязан доиграться, т. е. додуматься до того звука голоса
и до той интонации, какими должен быть произнесён каждый
стих; это значит — додуматься до тонкого критического понима¬
ния всей поэзии пушкинского языка».
Такое же понимание стиха находим у Маяковского. Рассказав
о том, что он «два дня ходил под обаянием» пушкинского четверо¬
стишия «Я знаю — век уж мой измерен», он объясняет это обая¬
ние тем, что четверостишие «даёт бесконечное удовлетворение и
верную формулировку чувствуемой мысли». Очень глубоко ска¬
зал А. Блок: «Душевный строй истинного поэта выражается во
всём, вплоть до знаков препинания».
Все эти замечания указывают на то, что стих есть целостная
система речи.
Каковы же особенности стиха, помимо ритма, которые обра¬
зуют эту целостность?
Здесь прежде всего надо указать на особый
слова ваетжхеР характер, который приобретает слово в стихе.
Мы произносим его с большей выразитель¬
ностью, чем в речи иного типа. Это выражается в том, что мы
более резко отделяем его от других слов во фразе. В разговорной
речи мы произносим слова слитно, отделяя паузами (остановками
голоса) только более или менее законченные части фразы. В стихе
каждое слово тяготеет к отдельному, более выпуклому произне¬
сению, как бы приравниваясь к фразе по своей смысловой выра¬
зительности. Эта черта стиха находит особенно яркое выражение
16 Тимофеев
241
Роль пауз в стихе
и их особое
качество
у Маяковского, который и печатает стихи «лестницей», одно под
другим, подчёркивая тем самым необходимость раздельного про¬
изнесения каждого выделенного таким образом слова:
Я ж
открыто
агитирую
за покупку облигаций.
Слово в стихе звучит с повышенной вырази-
Фразовость слова тельностью, оно — фразово, равносильно
и стиха фразе (точнее — синтагме) в разговорной речи.
Мы можем найти много примеров, когда слово в стихе обособ¬
ляется настолько, что замещает целую фразу, как, например, у
Пушкина:
Осада! Приступ! Злые волны,
Как звери, лезут в окна...
Или у А. Блока:
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Но главное в том, что в стихе слово, даже если оно и не вы¬
делено формально, как самостоятельная единица речи, всё равно
звучит отчётливее, самостоятельнее, чем в речи иного типаи
Эта особенность стиха тесно связана с дру¬
гой — с повышенным значением в стихе пауз
и в количественном, и в качественном отно¬
шении. В стихе паузы встречаются примерно
в два раза чаще, чем в прозе. Благодаря этому повышенному ко¬
личеству пауз, слово и может звучать, как мы выше говорили,
«фразово», с повышенной выразительностью.
Но наряду с увеличением количества пауз в стихе мы можем
в нём наблюдать иное их качество.
Легко убедиться в чрезвычайно большом значении, которое
имеет пауза в создании охарактеризованной выше словесной ор¬
ганизованности стиха. Пауза представляет собой остановку го¬
лоса, разделяющую данное речевое движение на те или иные
части. Пауза в нашей речи является обозначением законченности
данного речевого отрезка. Отсюда три основных вида пауз: 1) за¬
конченно-повествовательная, 2) вопросительная и 3) восклица¬
тельная.
Речевой отрезок, заключённый между двумя паузами, пред¬
ставляет собой известное единство, законченность, например:
Говорят, у сестры-то кровать есть.
Ничего живёт, как следует.
А у этой ничего.
Тамара звать-то её...
и т. д. (по записи проф. Пешковского.)
Кроме того, повышения голоса, связанные с известными его
остановками, свойственны и сложным предложениям (Я удив¬
ляюсь, что вы, с вашей добротой, не чувствуете этого), где они
зависят от грамматического дробления и располагаются соответ¬
242
ственно границам предложении, входящих в состав сложного
' предложения, т. е. являются одной из форм законченно-повество¬
вательной интонации.
Но в стихах мы находим и такую паузу, которая не уклады¬
вается в те группы, которые были указаны выше для обычной
прозаической речи. В самом деле, обращаясь к строкам:
Никто мне не скажет: «Куда ты
Поехал, куда загадал?»
Шевелись же, весло, шевелися,
А берег во мраке пропал, —
мы сталкиваемся с необходимостью при нормальной расстановке
пауз читать этот отрывок так (обозначая паузу новой строкой):
Никто мне не скажет:
«Куда ты поехал, куда загадал?»
Очевидно, однако, что такое чтение нарушает ту однород¬
ность, которая выше была установлена, смещает движение стиха,
нарушает какие-то его нормы. Наоборот, читая:
Никто мне не скажет «Куда ты [пауза]
Поехал, куда загадал?»
мы сохраняем однородность, но нарушаем паузу обычного типа,
заменяем её какой-то другой. Перед нами явление так называе¬
мого «Переноса» (enjambement), при котором происходит несо¬
впадение паузы, членящей стих на однородные законченные от¬
резки, и смысловой и синтаксической связи конца строки с нача¬
лом последующей, такой паузы не требующей; мы имеем дело
с паузой не восклицательной, не вопросительной и не повествова¬
тельной, а с паузой, которую мы назовём «постоянной» и с кото¬
рой мы встречаемся именно в стихе. Возьмём, например, стихи
Лермонтова:
К погибшим люди справедливы: сын
Боготворит, что проклинал отец.
Чтоб в этом убедиться, до седин
' Дожить не нужно, есть всему конец:
Не много долголетней человек
Цветка: в сравненьи с вечностью их век
Равно ничтожен. Пережить одна
Душа лишь колыбель свою должна.
И мысль о вечности, как великан,
Ум человека поражает вдруг,
Когда степей безбрежный океан
Синеет пред глазами; каждый звук
Гармонии вселенной, каждый час '
Страдания или радости — для нас
Становится понятен, и себе
Отчёт мы можем дать в своей судьбе...
Этот отрывок в особенности показателен: здесь эта постоянная
пауза, заканчивающая каждую из строк, почти везде приходит
в противоречие с паузами обычного типа. Попутно отметим
25 пауз на 16 строк; если мы попытаемся сохранить эти паузы, то
единство стиха будет нарушено: отрывок распадается на краткие
16*
243
и не связанные прозаические фразы. Но так ли чужда эта стихо¬
вая пауза обычной речи? На самом деле мы встречаемся в языке
и с такого типа паузой, но в речи неповествовательного типа.
Речь взволнованного человека, доходящая до предела эмоцио¬
нального напряжения, как раз характерна нарушением обычных
интонативных норм, пропуском обычных пауз, расстановкой их
там, где их не должно быть. В языке мы имеем дело ещё с паузой
эмоционального типа. И вот постоянная стиховая пауза и есть
пауза этого типа, придающая стихотворной речи совершенно
своеобразный колорит. Именно в том случае, если мы проведём
отрывок из Лермонтова на постоянных паузах, мы и создадим
единую, исключительно взволнованную, задыхающуюся интона¬
цию, выражающую всю смысловую напряжённость его. Наобо¬
рот, восстанавливая обычные паузы, мы лишим отрывок его под¬
линной интонации и целиком его обесцветим.
Если декламатор читает:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и выше.
Для меня так это ясно, как простая гамма-
то он даёт интонацию спокойного человека, благодушно рассуж¬
дающего после сытного обеда; но если этот монолог ведёт
Сальери, опираясь на постоянные паузы, данные Пушкиным, то
он создаёт бешеную речь одержимого своей страстью человека, то
задыхающегося и останавливающегося, то сразу произносящего
несколько фраз подряд:
...Для меня [пауза]
Так это ясно, как простая гамма...
Связь стиха как
системы речи
с переживанием
Здесь мы подходим к выводу, что в паузе мы
имеем дело с проявлением той системы речи,
которая связана с данной в стихотворении си¬
стемой переживаний, мыслей, настроений. Ли¬
рический поэт создаёт в своих стихотворениях своеобразный
облик поэта, то, что можно назвать лирическим характером, он
рисует типические переживания. В стихотворной речи он создаёт,
так сказать, голос, отвечающий этим переживаниям, который ин¬
дивидуализирует, конкретизирует их средствами самой речи.
Таким образом, мы улавливаем, с одной стороны, связь
между стихом и теми переживаниями, которые в нём изобра¬
жены, а с другой — между стиховой речью и живой речью в
одной из своеобразных форм.
В начале книги мы указывали на три основных типа образа —
эпический, драматический и лирический. Эпические образы редко
оформляются при помощи стиха (за исключением античного и
вообще раннего народного эпоса, о котором мы будем говорить
далее). Уже самое наличие стиха в эпическом произведении
сообщает ему, как мы увидим дальше, известную лиричность,
вносит в него нечто отличное. Пушкин говорил по поводу «Евге¬
ния Онегина», что обычный роман и роман в стихах представляют
244
Органическая
связь стиха
с лирикой
Стих—типичес¬
кая форма
эмоционально
окрашенной речи
собой весьма различные явления («дьявольская разница»). Поэ¬
тому такого рода произведения, как «Евгений Онегин» Пушкина,
«Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Дон Жуан» Байрона
и подобные им, мы считаем не строго эпическими, а лироэпиче¬
скими и ещё вернёмся к этому вопросу.
Лирические образы, как правило, тяготеют
к стиху. Это станет нам понятно, если мы уч¬
тём, что лирик стоит перед задачей превратить
в конкретную картину жизни отдельное челове¬
ческое переживание. Средством для этого является лишь язык,
его лирик и должен дать в такой напряжённой форме, которая
позволила бы ему передать изображаемое им чувство в словах и
интонациях, отвечающих этому чувству в самой жизни. При этом
чувство это даётся в определённом его обобщении, т. е., так ска¬
зать, в сгущённом виде, с отбрасыванием в нём случайных черт,
с выделением основного, характерного, поэтому и в языке выде¬
ляется то, что в наибольшей степени отвечает этому чувству, отби¬
раются те слова и интонации, которые в наибольшей степени
типичны. В образе эпическом мы ощущаем закономерность, стоя¬
щую за ним, понимаем, что на его месте, при его обстоятельствах,
с его характером, мы поступили бы, как герой, и в этом как раз
и ощущаем художественность образа, т. е. его жизненную правду
прежде всего. В лирическом образе мы чувствуем, что в данной
ситуации, испытывая такое чувство, мы выразили бы его точно
таким же языком, с такой же страстью. Другими словами, мы
чувствуем жизненную правоту самой речи, соответствие её строя
тому переживанию, которое она выражает. Будь мы на месте ли¬
рического героя, мы говорили бы таким же языком. Вот в чём
заключена связь содержания и формы в стихе. Перед нами опять-
таки переход содержания в форму: известная сторона жизни от¬
ражается художником, рисующим характерное для неё пережи¬
вание, а это переживание облекается в такую словесную
форму, которая и представляет собой конкретизацию этого
переживания в словах и интонациях, являющихся его живым
воплощением в языке.
Этот речевой материал, как указано, писатель
находит в живой речи — в тех её ответвлениях,
которые связаны с наиболее ярко выражен¬
ными субъективно-оценочными формами языка.
Выше мы указывали на то, что язык диферен¬
цирован, что в нём наряду с социальными, профессиональными и
другими ответвлениями имеются и ответвления психологического
типа: речь человека, читающего доклад, отличается от его речи за
чайным столом, которая, в свою очередь, весьма мало похожа на
его же язык в момент, скажем, объяснения в любви. Чем теснее
речь человека связана с задачей выразить его интимные чувства
и состояния, тем в большей мере она передаёт его субъективное
отношение к жизни при помощи усиления выразительности слова,
245
при помощи его эмоциональной напряжённости. Выше мы приво¬
дили примеры того, как слово «здравствуйте» может по-разному
произноситься в зависимости от стоящего за ним эмоционального
состояния человека.
Основные черты этого типа речи как раз те, на которые мы
обращаем внимание в стихе: это выразительность слова, насы¬
щенность речи паузами, эмоциональность их, заметность звуко¬
вого состава слова. Эти черты эмоционального языка обнаружи¬
вают в большей степени и скрытую в языке ритмичность. Ритм
присущ и работе человеческого организма: ритмично бьётся
сердце, ритмичен процесс кровообращения, ритмично наше дыха¬
ние (вдохи — выдохи). В основе речи лежит дыхание: звуки
образуются благодаря колебанию той струи воздуха, которая,
выходя из лёгких, заставляет колебаться голосовые связки
и дополнительно обрабатывается органами речи — языком,
губами и т. д. Мы можем говорить, пока не кончился наш запас
воздуха, после этого мы делаем остановку для вдоха нового за¬
паса воздуха и т. д. Отсюда в нашей речи возникают простейшие
ритмические единицы, ■— те отрезки речи, которые умещаются
между двумя паузами. Мы, естественно, стремимся к тому, чтобы
объединить эти отрезки с той или иной смысловой законченностью
речи, нам неприятно, если мы должны остановиться на середине
фразы, и мы регулируем её, стараясь уложить между двумя вдо¬
хами относительно законченную часть фразы.
Таким образом, возникает простейший «дыхательно-смысло¬
вой» ритм нашей речи. Чем она короче, чем подчёркнутее в ней
слово, тем этот ритм ощутимее.
Стих и опирается на этот запас речевых форм, который даёт
ему эмоционально окрашенная речь для передачи переживаний,
изображаемых поэтом. При этом, как говорилось, поэт обобщает,
усиливает, подчёркивает, отбирает наиболее яркие формы этой
эмоциональной речи, типизирует её. С этой точки зрения
стих есть не что иное, как типизированная форма эмо¬
ционально окрашенной речи. Лермонтов, говоря
о разговоре двух влюблённых, пишет: «Между нами начался один
из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которые
повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков за¬
меняет и дополняет значение слов». Это и есть пример эмоцио¬
нальной речи, которая при помощи интонации использует не
столько значения слов, сколько смысл их, отвечающий данному
субъективному состоянию человека. Стих и строится именно на
этом умении поэта найти для изображаемого им переживания
такого рода слова и интонации, необходимо вытекающие из этого
переживания.
«Поэт, — писал Некрасов, — одним образом, одним словом,
иногда одним счастливым звуком... как бы улавливает жизнь
в её самых внутренних движениях».
Эти отбирающиеся в процессе развития литературы типические
243
формы эмоциональной речи и лежат в основе стихотворных раз¬
меров, строф и т. д. Они представляют собой как бы своеобраз¬
ные психологические и речевые формулы, говорящие нам о том,
что перед нами раскрывается человеческое переживание опре¬
делённого типа. Уже самое обращение к стиху как бы сигнали¬
зирует, что перед нами будет раскрыто человеческое пережива¬
ние во всей его напряжённости и конкретности.
Не следует, конечно, понимать, как это часто встречается, что
эти психологические и речевые стихотворные формулы имеют уже
и определённый смысл (вроде того, что хореем пишутся весёлые
по теме стихотворения, а амфибрахием — грустные и т. п.). Своё
конкретное выразительное значение они каждый раз получают
в зависимости от той очень сложной системы остальных вырази¬
тельных средств, в которую они входят. Здесь налицо та же функ¬
циональность выразительных средств, которую мы наблюдали,
когда рассматривали тот различный смысл, который получали,
например, архаизмы в различном контексте. Поэтому один и тот
же размер может быть в очень разных по конкретному содержа¬
нию стихотворениях, но и в том и в другом случае он будет резко
усиливать общую эмоциональную окраску стиха.
Итак, значение стиха в том, что он (безотноси¬
тельно к его происхождению) отбирает и типизирует
в языке характерные особенности эмоцио¬
нально окрашенной речи и при их помощи при¬
даёт жизненную конкретность тем пережива¬
ниям, которые изображает художник.
Анализ стиха и должен стремиться к пониманию того, в какой
мере данная речевая структура стихотворения является непосред¬
ственной формой конкретизации переживания, изображённого
в стихотворении.
Системы стихосложении
Количественное Существующие системы стихосложения распа-
и качественное даются в основном на две большие группы:
стихосложение стихосложение количественное (кван¬
титативное) и стихосложение качественное (квали¬
тативное).
Эти две группы различаются по тому принципу соизмери¬
мости, по которому соизмеряются их единицы.
Количественное стихосложение в основу соизмеримости кла¬
дёт количество времени, нужное для произнесения первичной
ритмической единицы — слога. В этом отношении оно напоми¬
нает музыкальный строй (слог близок к ноте в музыке). Его
можно назвать музыкально-речевым стихосложе-.
н и е м, поскольку в основе его ритма лежат и речевые, и музы¬
кальные элементы. К музыкально-речевому стихосложению от¬
носятся два основных вида: античное (метрическое) стихосложе¬
ние и русское народное стихосложение.
247
Наряду с этим существует качественное стихосложение, в ко¬
тором музыкальное начало отсутствует, слоги в нём соотносятся
не по длительности их произнесения, а по своему качеству, т. е.
по ударности и безударности. Следует заметить, что у нас весьма
распространён термин музыкальность стиха и в применении к ка¬
чественному стихосложению, но в этом случае он не несёт в себе
точного содержания (т. е. указания на длительность слога),
а является своеобразной метафорой, обозначающей благозвучие
и выразительность данного стихотворения. К качественному сти¬
хосложению относятся три основных вида: стихосложение
силлабическое, стихосложение силлабо-тони¬
ческое и стихосложениетоническое.
Качественное стихосложение иногда называют также стихо¬
сложением акцентным (акцент — ударение) и тониче¬
ским (тон—ударение).
К рассмотрению этих систем мы и обратимся.
Количественное стихосложение (музыкально-речевое)
Связь стиха Основной признак музыкально-речевых си-
с напевом стем — это единство слова и напева, которым
оно сопровождается. Отсюда вытекает и музыкальный принцип
соизмеримости его единиц: равное количество времени, необходи¬
мое для их произнесения (так называемый изохронизм —
равновременность). Эти системы стихосложения относятся к тому
типу стиха, который сложился тогда, когда текст песни ещё не
отделился от музыки. Песня исполнялась чаще всего хором. Это
песенное исполнение выражалось в том, что наряду с чисто рече¬
выми средствами выразительности в стих входили и элементы
музыкальной выразительности (т. е. мелодия, темп, тембр голоса
и др.). Если мы просто произнесём: «Что же ты, лучинушка, не
ясно горишь?», то мы упустим то эмоциональное наполнение этой
строки, которое она получает лишь в пении: «Что же ты, лучи¬
нушка, не я-а-асно горишь?» Текст и напев здесь неотделимы.
Такого типа стихосложение зародилось на ранней стадии разви¬
тия искусства и художественно-литературного творчества. С ус¬
ложнением общественных отношений, развитием письменности,
отказом от устного, хорового исполнения стиха возникала необ¬
ходимость в новом стихе — чисто речевом, письменном, который
постепенно оттеснил более раннее стихосложение (хотя, например,
русское народное напевное стихосложение и не вытеснил совсем).
Античное стихосложение возникло ешё в
Античное VIII в. до н. э. в Греции, а с III в. до н. э. пере-
стихоеложение с; _ г ’ г
шло в Рим. Его называют также метриче¬
ским (метр — размер). В основе соизмеримости его единиц ле¬
жит время, необходимое для произнесения краткого слога.
Единица времени, нужная для произнесения такого слога, назы¬
валась «мора», или «хронос протос». Кроме краткого слога, ан¬
248
тичное стихосложение знало ещё долгий слог. На произнесе¬
ние долгого слога требовалось две моры. Графически краткий
слог обозначается при помощи знака -, а долгий — знака—.
Сочетания кратких и долгих слогов образовывали более слож¬
ную ритмическую единицу — стопу.
Таких стоп было весьма большое количество. Основные из них:
Ямб:- —
Хорей (иначе — трохей):—-
Дактиль: —--
Амфибрахий: - — -
Анапест: -- —
Бакхий:
Антибакхий:
Амфимакр: —- —
Антиспаст:
Ионик восходящий:-
Ионик нисходящий: --
Пеон первый: — ---
Пеон второй:- —--
Пеон третий:-
Пеон четвёртый:--- —
Эпитрит первый:
Эпитрит второй: —
Эпитрит третий: —
Эпитрит четвёртый:
и др.
Так как стопы эти состояли из кратких и долгих слогов, то все
они соотносились по числу мор, входивших в них, и могли друг
друга заменять при условии равенства числа мор в обеих
стопах (так, вместо дактиля (— --) можно было поста¬
вить спондей (— —), поскольку он также состоял из четырёх
мор, и т. д.).
Стопы объединялись в метры (размеры), состоявшие из
нескольких стоп. Размеров этих было весьма много, и они, в свою
очередь, объединялись в строфы, включавшие в себя не¬
сколько строк определённого размера.
Детально античное стихосложение рассматривается в курсе
истории античной литературы. Нам здесь нужно на нём остано¬
виться, во-первых, как на примере количественного стихосложе¬
ния, основанного на чётком проведении принципа изохронизма, а
во-вторых, потому, что терминология античного стихосложения
в значительной мере усвоена в русском и западноевропейском
стиховедении.
Следует заметить, что реальное звучание античного стиха не
дошло до нас. Можно думать, что строгая система долгих и крат¬
ких слогов была результатом позднейшего теоретического его
осмысления, быть может, и слишком теоретизированного. Но глав¬
ное в этой теории отражено: античный стих пелся, античный поэт
был одновременно певцом, поэтому он и изображался с музы¬
кальным инструментом — лирой, поэтому и возникло название
поэтического творчества — лирика.
Русское народное стихосложение не знает та¬
русское народное KOg разработанной теории, как античное. На¬
оборот, в нём до сих пор имеется много спорных
вопросов и неясностей. Основной признак на¬
родного стиха в том, что он строится на определённой мелодии,
на напеве, с которым и соотносится его текст. Если отнять этот
текст от напева, он в значительной мере потеряет свою вырази¬
тельность.
напевное
стихосложение
249
Русский напевный народный стих не знает той строгости в рас¬
становке слогов и стоп, которая присуща античному стиху (если,
впрочем, полностью доверять античным теоретикам). Ритмиче¬
ски его текет строится в основном на том, что стихотворная строка
содержит в себе одинаковое с другими количество главных уда¬
рений (чаще всего два или три, иногда четыре), которым легко
подчиняются второстепенные ударения, благодаря чему слова
часто сливаются, образуя своего рода сложные слова (мать сыра-
земля, полечйстое, младсизойорёл и т. п.), например:
Двухударный стих:
Вы сповёйте, ветры буйные,
Со низбвой со сгорбнушки;
Разнесите, ветры буйные,
Все пескй да ведь сыпучие,
И все камешки катучие!
Расступйсь-ка, мать сыра-земля!
Расколйсь-ка, гробова доска!
Распахнитесь, белы саваны!
Трёхударный стих:
Ой по улице туман расстилался,
Ой по широкой туман расстилался;
Во тумане сыра дуба не видно.
Я под тем дубцом с добрым мблод-
цем стояла;
Про жилое, про былбе говорила,
Про единое словечко позабыла.
Своеобразным видом народного стиха является былинный
стих, который также строится на трёх ударениях, но, кроме того,
характеризуется дактилическим окончанием, т. е. ударением на
третьем от конца слоге, причём на последнем его слоге имеется
ещё полуударение (знаке-обозначает полуударение):
А подъёхал как ко ейлушке велйкоей
Он как стЛл-то ту силушку великую,
Стал конём топтйть, да копьём колоть.
Ай побйл он эту ейлушку велйкую,
Ен подъёхал-то под слйвный под Чернйгов-град.
То обстоятельство, что напев в народном стихе является су¬
щественным элементом его ритмической соизмеримости, сказы¬
вается на известном подчинении слова напеву. Это выражается
прежде всего в том, что оно гораздо свободнее относится к ударе¬
нию, сравнительно с обычной речью. Слово в народном стихе
легко лишается, как мы видели, ударения, допускает его переста¬
новку на любое место (лучина, лучина, лучина зелёный, зеленый
и т. д.), в строку вставляются лишние слоги, всякого рода при¬
ставки, повторения и восклицания (Под славный под Чернигов,
Ай побил он, А и отчего, Ах, да я выгляжу и т. п.) или наоборот,
слоги стягиваются в зависимости от напева (Говорила Паленица
й горько плакала) и т. д.
Характерной чертой и античного, и народного русского стиха
является отсутствие в' них рифмы.
250
Переход от количественного к качественному стихосложению
Как уже указывалось, музыкально-речевое стихосложение
было ограничено в своём развитии целым рядом условий. По мере
развития общественных отношений оно не могло уже полностью
отвечать тем задачам, которые вырастали перед художественным
творчеством в связи с развитием личности, распространением
письменности и т. д. Музыкальное начало, напев, длительность
слога уходят из художественной речи, которая начинает строиться
на основах чисто речевых.
Этот процесс происходит и в Западной Европе, и позднее у
нас. Но утрата музыкальной соизмеримости слогов ослабляла
ритмичность их; в качестве усиляющего ритм элемента выдви¬
гается рифма. Музыкально-речевой стих не нуждался в риф¬
ме, ибо, благодаря напеву, единицы его в достаточной мере
отчётливо обнаруживали свою соизмеримость. Но речевой
стих без напева нуждался в усилении ощутимости его чле¬
нения на ритмические единицы. Таким ритмическим усилителем
является рифма.
Рифма — это звуковой повтор на
Роль рифмы в конце двух (или более) стихотвор-
стиха ных строк (в старину ее называли крае-
согласием).
Благодаря этому повтору мы отчётливо ощущаем то, что одна
единица ритма окончилась, а другая началась. Рифма является
как бы звуковым сигналом, размечающим деление речи на едини¬
цы, подчёркивающим этот ритм. В этом — основная роль рифмы,
она имеет ритмообразующее значение (поэтому неверен термин
«внутренняя рифма», которым часто обозначают звуковой повтор
Енутри стихотворной строки. Такие повторы не имеют ритмообра-
зующего значения, их поэтому не следует связывать с понятием
рифмы и следует обозначать как звуковой повтор).
В речи, разбитой рифмами на повторяющиеся единицы, мы
наблюдаем в качестве ритмической единицы уже не слог, как это
считает теория античного стихосложения, а строку. Чередова¬
ние строк, оканчивающихся рифмой, и создаёт ритм стиха.
Возникновение рифмы шло различными пу-
Возпикновепие тями. Эпизодически она появлялась и в музы-
р кально-речевом стихе, в частности в плясовых
песнях, где рифма играла роль слова-сигнала для припева (re¬
frain), перехода к новой фигуре танца и т. д., и, наконец, она воз¬
никала в прозе.
Основой для рифмы в прозаической речи являлись глагольные
формы. В эмоционально окрашенной речи наиболее значащие
слова, в частности сказуемые, тяготеют к концу фразы. Сходство
глагольных форм создавало звуковой повтор, конец фразы давал
паузу, отделявшую одну законченную единицу речи от другой.
Гак создавался на конце фразы устойчивый звуковой комплекс,
251
повторение которого и создавало основу для возникновения чисто
речевого ритма. Такой комплекс (пауза — ударение на конце
фразы — звуковой повтор) называют константой. Музы¬
кально-речевой стих если не заменялся целиком, то во всяком
случае дополнялся в художественном творчестве речевым (каче¬
ственным, акцентным, тоническим) стихом, основанным на кон¬
стантном ритме.
Первоначально рифмованные прозаические отрывки встре¬
чаются эпизодически в обычной прозе, но постепенно они при¬
обретают всё большее распространение, обособляются, начинают
существовать самостоятельно. Появляется, таким образом, пись¬
менный, чисто литературный, основанный только на соизмери¬
мости речевых единиц стих.
Вначале он имеет ещё мало организованный вид. Только нали¬
чие на конце рифмующихся слов и тем самым несколько под¬
чёркнутая сравнительно с обычной прозой ритмичность выделяет
его как форму стихотворно организованной речи. Остальные эле¬
менты соизмеримости в нём ещё не развиты. Число слогов в каж¬
дой строке не совпадает, ударения располагаются без какого-либо
ощутимого порядка. Но вслед за тем начинается сложный процесс
его постепенной ритмизации. Из рифмованной прозы, как можно
назвать этот ранний стих, мало-помалу, создаётся всё более чёт¬
кий ритмически стих с различными подразделениями.
Примером такого развития стиха может служить русский
стих.
Первоначально рифма появляется в прозе как результат выде¬
ления на конец фразы глаголов, которые, естественно, дают сход¬
ные окончания. Глагол же тяготел к концу фразы потому, что был
наиболее действенным словом, которое подчёркивалось, которому
придавалось особенное значение. Так, во всякого рода грамотах
и челобитных наиболее важные конечные части выделяются при
помощи такого рода сосредоточения глаголов на концах фраз.
Характерны такие окончания челобитных: «И мы сироты твои го¬
сударевы обнищали и одолжали великим долгом, и твои
государевы гонные лошади опали» (1604) или «И ты б впредь
по своему разуму, как начал, так бы и сове рш ал и во всём
промышлял» (1608). Такие концовки встречаются весьма
часто, повторяются в одних и цех же формах в разных грамотах,
становятся распространённым стилистическим средством, придаю¬
щим прозе особую выразительность и применяемым в местах, на
которые надо обратить особое внимание. Так, в челобитной вдовы,
которая просит царского разрешения выйти замуж и передать
место умершего новому мужу, говорится, что он будет «меня,
горькую, кормити и поит и, и мужа моего долги п л а т и т и,
и похоронит и» (1603). В период так называемого Смутного
времени, когда в особенности получает распространение свое¬
образная художественная публицистика, имеющая яркую агитаци¬
онную окраску, призывающая к борьбе с вторгшимся в Москву
252
врагом, такого рода рифмованная проза оказывается особенно
уместной. Мы встречаем её в ряде произведений этого периода, в
частности в грамотах, которые рассыпались по городам с призы¬
вом начать борьбу с врагами. Так, в грамоте воевод кн. Одоев¬
ского и Головина говорилось, что враги «желают в государствах
государя нашего смуту учинити.и кровь хрестьянскую л и т и
и государство до конца разорит и», что они «мощи многих свя¬
тых, просиявших в российском государстве, обругали, раки и
гробы рассекали и чудотворные образы о б д и р а л и» и т. д.
Примеров такого рода проза того времени даёт очень много.
Перед нами ещё не стих, но в то же время повышенная эмоцио¬
нальная окраска речи всё отчётливее проясняет в ней те её особен¬
ности, которые определяют стихотворную организацию речи: рит¬
мичность (появление константы), большую подчёркнутость слова,
его звуковую ощутимость и т. п.
В «Повести книги сея от прежних лет», приписываемой кн. Ка-
тыреву-Ростовскому, мы находим уже композиционное выделение
таких рифмованных отрывков, которые и называются там вирша¬
ми, т. е. стихами.
Так в разговорной и книжной речи вырабатывалась при помо¬
щи рифмы, которая возникала, опираясь на глагольные оконча¬
ния, новая стихотворная система, строившаяся уже иначе, срав¬
нительно с напевным народным стихом, так как она использовала
лишь речевые выразительные средства и отказывалась от музы¬
кальных. Это определяло совсем иной её выразительный харак¬
тер. Облегчало дальнейшее её развитие, взаимодействие с поль¬
ской литературой, в которой уже был развит такой книжный,
чисто речевой рифмованный стих — силлабический (вирши). Но
развитие его потому и могло быть значительным, что в русской
литературе уже была подготовлена, благодаря рифмованной
прозе, соответствующая почва.
Точно так же опиралась на рифму и романская поэзия в то
время, когда уже отпадали долгие и краткие слоги в языке, кото¬
рые характеризовали классическое латинское произношение. Му¬
зыкальная основа стиха, тем самым, отмирала. И ритм стиха на¬
чинает опираться на рифму, которая подчёркивает его, отмечая
концы строк, создавая константный ритм.
Таким образом, рифма является тем средством, которое поз¬
воляет ритмизировать речь и тогда, когда она уже не связана с
песней. Наряду с музыкально-речевым стихосложением разви¬
вается как самостоятельная стихотворная система речи речевое
стихосложение, опирающееся на речевую константу в конце сти¬
хотворной единицы. Рифма сыграла в этом развитии весьма
большую роль, хотя позднее в развитых формах речевого стиха
она иногда и отпадает. Но в этих случаях её роль выполняет сти¬
ховое окончание (клаузула), о которой мы будем говорить
позднее.
253
Качественное стихосложение (речевой акцентный стих)
Основные виды
речевого стиха
В основе соизмеримости ритмических единиц
качественного стиха лежит чередование различ¬
ных по своему качеству слогов — ударных и
безударных. Ударные и безударные слоги в том или ином сочета¬
нии образуют основную ритмическую единицу — строку, заклю¬
чающуюся константой, отграничивающей её от следующей строки.
Чередование таких однородно построенных строк и создаёт ритм
стиха уже иного типа сравнительно со стихом музыкально-рече¬
вым. Основа его своеобразия в том, что он строится только на ос¬
нове чисто речевых элементов (ударений, пауз, звуковых повто¬
ров безударных слогов), может быть записан и прочтён (музы¬
кально-речевой стих также может быть записан, но при дополне¬
нии текста нотной записью мелодии с ним связанной) и в силу
этого может с большой гибкостью передавать все оттенки пережи¬
ваний и мыслей, конкретизируя их в соответствующих интонациях
и оборотах речи. Такой стих естественно выдвигается в период,
когда развитие общественных отношений обусловило рост лич¬
ности, заинтересованной в полном раскрытии своего внутреннего
индивидуального мира.
В зависимости от особенностей в расположении ударных и без¬
ударных слогов различают три основных типа речевого (акцент¬
ного) стиха: силлабический, силлабо-тонический
и тонический. Термин «тонический» употребляется также
для обозначения речевого стиха в целом, но это связано с неудоб¬
ствами, так как вместе с этим он обозначает и частную систему
стиха. Мы будем употреблять этот термин лишь в частном его
значении.
Выше говорилось, что в зависимости от особенностей языка те
или иные виды речевого стиха Получают в нём то большее, то
меньшее распространение. Так, французский стих почти не приме¬
няет силлабо-тонической системы. В русском стихе мы встречаем
все эти три системы. В дальнейшем мы и будем говорить об осо¬
бенностях этих систем (точнее — видов качественного стихосложе¬
ния) на материале русского стиха. Выводы наши в основном
могут быть распространены на эти виды и в стихосложе¬
нии других языков (конечно, с учётом их своеобразных фонети¬
ческих особенностей).
Следует заметить, что многие теоретики пы¬
таются рассматривать и речевой стих, в особен¬
ности силлабо-тонический, по аналогии с антич¬
ным стихом, вводя музыкальное начало, приравнивая слоги к так¬
там. Таковы работы акад. Корша, Гинцбурга, в недавнее время
А. Квятковского в его «Словаре поэтических терминов» и др.
Однако теории эти представляются нам ошибочными, так как
не учитывают того, что в европейских языках, и в частности, в
русском, слоги не равны по длительности произношения, и, следо¬
Муаыкальные
теории стиха
254
вательно они не могут быть положены в основу соизмеримости
ритмических единиц. Так, экспериментальные работы проф. Бого¬
родицкого показывают, что в русском языке длительность произно¬
шения звука и составляет от 24 до 33 сотых секунды, а длитель¬
ность а — от 19 до 23 сотых секунды. Если принять а за 100%, то
другие гласные дают колебания от 110 до 126%. Эти данные отно¬
сятся к отдельному произношению этих звуков. В живой речи они
ещё более расходятся. Так, в слове перевернувшимися слог нув
произносится примерно в 4 раза дольше, чем слог ре.
Таковы же подсчёты М. Граммона по отношению к француз¬
скому языку: длительность звуков в нём колеблется от 6 до
29 сотых сек., а в стихе, где слова произносятся с большей выра¬
зительностью и, следовательно, требуют больше времени для
произнесения, это различие ещё резче: от 6 до 59 сотых сек. При
этом даже один и тот же звук в разных положениях будет иметь
различную длительность. Таким образом, искать в словах анало¬
гии музыкальным тактам нельзя, не оторвав стих от языка. По¬
этому все эти теории, каждая на свой лад, совершенно произ¬
вольны.
Силлабическое стихосложение
Внешним признаком соизмеримости силлабического стиха яв¬
ляется одинаковое число слогов в стихотворной строке, откуда и
идёт его название (силлаба — слог, в русском стиховедении его
раньше называли слогочислительным стихом). Этим обычно и
ограничиваются в его характеристике, различая его размеры в за¬
висимости от числа слогов в строке: десятисложный, одиннадца¬
тисложный, двенадцатисложный, тринадцатисложный (наиболее
распространённый в русской поэзии) и др.
Однако в силлабическом стихе имеется и известная соизмери¬
мость в расположении ударных слогов: ударение в нём приходит¬
ся, во-первых, на предпоследний слог строки (в русском стихе), а
во-вторых, выдерживается в середине строки (на 6-м, чаще на
7-м слоге в тринадцатисложнике). Это придаёт ему уже большую
ритмическую чёткость, которая усиливается благодаря тому, что
ударения, избегающие стыков, т. е. расположения их подряд (без
отделения их друг от друга безударными слогами), располагают¬
ся в известном отношении к ударениям в середине и в конце стро¬
ки, т. е. тоже на более или менее определённых местах. Это со¬
здаёт известные устойчивые в ритмическом отношении типы строк
(в русском тринадцатисложнике их 12 для первого полустишия и
5 — для второго), чередование которых и создаёт относительно
чёткий ритм силлабического стиха:
Муза! не пора ли слог отменить твой грубый
И сатир уже не писать? Многим те не любы,
И ворчит уж не один, что где нёт мне дела,
Там мешаюсь и кажу себя чресчур смёла,
Много видел я таких, которым противно
Не писали никому, угождая льстйвно;
253
Да мало счастья и тёк возмогли достёти;
А мне чего по твоёй милости уж ждати?
(Кантемир.)
Легко заметить, что в этих стихах, несмотря на то, что ударе¬
ния расположены более или менее свободно, всё же имеется сход¬
ство в их расположении внутри строк. Таким образом, ритм сил¬
лабического стиха характеризуется тем, что он состоит из строк,
имеющих одинаковое число слогов, объединённых парной женской
рифмой (т. е. с ударением на предпоследнем слоге и звуковым
повтором, связывающим смежные строки), с ударениями постоян¬
но приходящимися по середине строки и в конце её (на предпо¬
следнем слоге) и более или менее сходно расположенными вну¬
три строки, хотя и с большими вариациями.
Силлабо-тоническое стихосложение
Симметричность
расположения
ударных
и неударных
слогов
Перенос античной
терминологии
в новое
стихосложение
Значительно более чёткой является соизмери¬
мость ритмических единиц силлабо-тонического
стиха. В них учитывается не только число сло¬
гов вообще, но и число ударений. И не только
число ударений, но и место их расположения,
т. е. их соотношение с безударными слогами. Стих этот и назы¬
вается силлабо-тоническим, т. е. слогоударным.
Эта симметричность в расположении ударных
и безударных слогов (например Пора, пора,
рога трубят—ударные слоги расположены на
2—4—6—8-м слогах, неударные—соответст¬
венно на 1—3—5—7-м) напоминает симме¬
тричность соотношения между долгими и краткими слогами ан¬
тичного стихосложения. Поэтому уже очень давно терминология
античного стихосложения была перенесена на силлабо-тониче¬
ский стих при помощи аналогии: неударный слог равен кратко¬
му, а ударный слог равен долгому. Поскольку ударения ложатся
друг от друга через один, через два слога и т. д., то и возникла
возможность условно разбить силлабо-тонический стих на изве¬
стные нам стопы. Условность здесь состоит в том, что на самом
деле между ударным слогом и долгим слогом нет никакого сход¬
ства, поэтому античная стопа, имеющая то же название, что и
стопа силлабо-тоники, на самом деле звучит совсем иначе. Кроме
того, ритм силлабо-тоники осуществляется главным образом бла¬
годаря расположению ударений через один или через два безу¬
дарных слога. Однако, так как в русском языке ударный слог
приходится в среднем на 1,8 безударных, то ударения в нём
располагаются лишь приблизительно в этом порядке, делая от
него в ряде случаев существенные отступления. В силу этого
строгого чередования стоп в нём нет, что также делает аналогию
с античной ритмикой очень условной. Однако она всё же позво¬
ляет описать ряд особенностей ритмики силлабо-тоники, почему
256
чередования
Основные
размеры
она и прочно укоренилась в обиходе в силу своего удобства.
Следует лишь иметь в виду, что русские стопы звучат совсем
иначе, чем античные, и что русский стих не соблюдает строгого
В силлабо-тонике различают пять основных раз¬
меров, которым присвоены названия античных
стоп:
Ямб:
Хорей:_1 ~
Дактиль:—
Амфибрахий: -
Анапест:
(звучание — eodd)
(звучание — вд<Эы)
(звучание — вйдзми)
(звучание — железо)
(звучание — железй)
В отличие от обозначения античных стоп мы здесь знаком -
обозначаем безударный слог, а знаком — ударный слог. Ямб и
хорей образуют группу двусложных размеров, дактиль,
амфибрахий и анапест—группу трёхсложных размеров.
Каждая из этих групп обладает своими ритмическими особен¬
ностями.
В зависимости от того, сколько стоп может войти в данную
строку, стих, помимо указания, каким размером (стопой) он на¬
писан, характеризуется ещё указанием на число стоп в него вхо¬
дящих. Так, данный выше пример Пора, пора, рога трубят сле¬
дует определить как ямб ) и, кроме того, как ямб
четырёхстопный. Соответственно могут быть ямбы, так же как и
другие размеры, двухстопные, трёхстопные, пятистопные, шести¬
стопные и т. д., хотя размеры, превышающие шесть стоп, встре¬
чаются весьма редко.
Как уже указывалось, практически силлабо-
Двусложиые тонический стих лишь условно распадается на
р 1 стопы, основной его ритмической едини¬
цей является строка, а соизмеримость её определяется
расположением ударений внутри строки в известном порядке. По¬
рядок этот для двусложных размеров состоит в том, что ударе¬
ния падают на чётные (в ямбе) или нечётные (в хорее) слоги, а
в трёсложных размерах они падают через два слога на третий.
Мы уже говорили, что соотношение ударных и неударных сло¬
гов в русском языке больше, чем 1:1, как было бы, если мы ста¬
вили ударения обязательно через слог, и меньше, чем 1 : 2, как
было бы, если бы мы ставили их обязательно через два слога на
третий. Поэтому ритмика его основана на совмещении в доста¬
точной степени соизмеримых строк, в которых порядок слогов
(ударных) соблюдается лишь как основная тенденция. И в
ямбе, и в хорее мы не наблюдаем точного симметрического рас¬
положения ударений обязательно в одном и том же порядке. Со¬
измеримость ямба — в чётности расположения ударений, т. е.
в том, что ударения в нём располагаются только на чётных сло¬
гах, но вовсе не обязательно на всех чётных слогах. Для рит¬
17 Тимофеев
257
мической однородности его единиц достаточно совпадения не¬
скольких из возможных ударений, но отнюдь не всех. Значительно
реже, чем пропуск ударений, наблюдается появление так назы¬
ваемых сверхсхемных ударений (в ямбе на нечётных слогах, в
хорее — на чётных). Но они обычно звучат слабее и не нарушают
общей соизмеримости строк.
Мы воспринимаем как ямб четырёхстопный не только строку,
звучащую, как в приведённом выше примере, со всеми четырьмя
возможными ударениями, но и строку с тремя ударениями: Когда
не в шутку занемог—и строку с двумя ударениями: «Адмирал¬
тейская игла. Все эти строки соизмеримы потому, что в них уда¬
рения приходятся только на чётные слоги и пропуск ударения на
одном и даже на двух чётных слогах не нарушает этой соиз¬
меримости.
Соответственно с этим хорей представляет собой размер с
основной тенденцией к расположению ударений в нечётном по¬
рядке, не более. Поэтому мы воспринимаем как четырёхстопный
хорей и строку Мчатся тучи, вьются тучи, и строку Невидимкою
луна, хотя в первом случае налицо все четыре ударения, а во вто¬
ром их только два. Но они соизмеримы, так как обе сохраняют
тенденцию нечётности. Наконец, воспринимается как ямб и стро¬
ка Швед, русский — колет, рубит, режет. Сверхсхемное ударение
на первом слоге осложняет, но не изменяет по существу её рит¬
мический характер. Основной чертой ритмики двусложных раз¬
меров является то, что они сочетают строки с разным количеством
ударений (обычно — меньшим того, которое возможно в них
разместить, реже—больше), но сохраняют основную тенденцию
в расположении ударений: чётную (ямб) и нечётную (хорей).
Трёхсложные размеры, наоборот, значительно
Трёхсложные реже пропускают возможные ударения и чаще
размеры вмещают в себя дополнительные, сверхсхемные
ударения. Например, в строке Пью за здравие Мэри перед нами
(^_~~-—) двухстопный анапест; отделяем последний слог —
окончание, о котором будем говорить ниже. Но на первом слоге
имеется ещё одно ударение (пыо). Оно не меняет общей соизме¬
римости анапестических строк.
Поскольку пропуски возможных ударений и до¬
определение явление лишних, сверхсхемных, часто ослож-
размеров няют размеры и затрудняют их определение,
важно представить себе их основное строение. Каждому размеру
отвечает лишь ему одному присущая конфигурация основных уда¬
рений, которая обязательно проступает, как бы ни была она ос¬
ложнена пропусками ударения или вставными ударениями:
Ямб:
Хорей:
Дактиль:
Амфибрахий:
Анапест:
ударения
падают преимущественно
на
слоги: 2—4—6—8 и т. д.
»
j>>
»>
о 1—3—5—7 и т. д.
г)
»
»>
,, 1_ 4—7—10 и т. д.
»>
0
»
it 2—5—8— 11 и т. д.
»
О
»
» 3—6—9—12 и т. д.
258
В каждом размере, при любых его вариациях, сохраняется
какое-либо сочетание из тех, что входит в систему его основных
ударений. При этом ни один размер не повторяет сочетаний дру¬
гого, за исключением очень редких совпадений. Так, сочетание
ударений на 2-м и 8-м слогах с пропуском промежуточных
ударений может встретиться и в ямбе, и в анапесте, а сочетание
ударений на 1-м и 7-м слогах—в хорее и дактиле. Но в таких
случаях рядом стоящие строки помогают определить размер сти¬
хотворения.
Определяя размер, мы, следовательно, должны определить
места ударений, установить на какие по счёту слоги они падают,
и найти, с каким известным нам сочетанием они совпадают '.
Обычны две ошибки, которые делаются при определении размера:
или определяют его по началу строки (но в начале строки чаще
всего бывают лишние или пропущенные ударения), или опреде¬
ляют стопу по слову (но стопы существуют лишь в строке в целом,
а не в отдельных словах, в неё входящих, так как они условное
понятие). Например, строку Выхожу один я на дорогу по слову
выхожу (““—) можно отнести к анапесту, тогда как она на
самом деле—хореична (3—5—9). Строка Швед, русский — ко¬
лет, рубит, режет по началу будет походить на хорей (ударение
на первом слоге). Строка Мысль изречённая есть ложь (1—4—8)
начинается сверхсхемным ударением, далее идёт пропуск ударе¬
ния, но сочетание 4—8 ясно говорит, что перед нами ямб. Сверх¬
схемное же ударение на седьмом слоге (есть) ослаблено, так как
примыкает к идущему вслед за ним. Слово которое теряет ударе¬
ние, передавая его последующему слову, обозначается термином
проклитика; слово, которое передаёт ударение предшествую¬
щему слову, — термином энклитика; в стихе такие явления
особенно часты.
Приведённые примеры показывают, что силлабо-тонические
размеры, в особенности двусложные, выступают перед нами в
очень разнообразных формах. Благодаря своей симметричности
в числе слогов, в месте расположения ударений (только в преде¬
лах определённой инерции) и т. п., они при малейшем изменении
в соотношении слогов, расположении ударений, размещении пауз
и т. д. дают уже весьма различно звучащие вариации. Эти вариа¬
ции очень многочисленны для каждого размера (например, для
четырёхстопного ямба они дают, только благодаря различным
пропускам возможных ударений и размещению сверхсхемных,
127 различно звучащих строк). Эти вариации являются следст¬
вием использования в данной строке того или иного элемента
речи, отличающегося от использованного в других строках. Не ме-
1 Помогает определению ритма и так называемая скандовка: произне¬
сение стиха с подчёркиванием его ритмического строя, благодаря чему вы¬
деляются слоги, которые фактически ударения не несут, но могли бы нести,
по характеру данного размера, например адмиралтейская игл&. Этот приём
позволяет быстрее ориентироваться в определении размера стиха.
17*
259
няя характера строки по существу, такая вариация придаёт ей
индивидуальный характер, определяет её своеобразие. Эти эле¬
менты речи представляют собой ритмические опреде¬
лители силлабо-тоники.
Ритмические определители силлабо-тонического стиха
Зависимость
ритмических
определителей от
мотивирован¬
ности худоясест-
венным целым
Различное число ударений, размещаемых в
пределах строки, не лишая её основного рит¬
мического характера, в то же время придаёт
ей индивидуальное своеобразие. В связи с этим
и смысловое наполнение её получает дополни¬
тельную окраску, она как-то выделяется среди
других строк, произносится с особенным выражением. Насы¬
щенность стиха ритмическими определителями позволяет ярче и
полнее выступить его смысловому содержанию. При этом надо
иметь в виду, что сами по себе те или иные ритмические явле¬
ния не имеют самостоятельного значения. Нельзя установить
связи между тем или иным размером и той или иной тематикой
(иначе пришлось бы, в частности, установить, что имеются пять
основных тем, соответствующих пяти основным размерам сил¬
лабо-тоники). Тем менее можно искать постоянных смысловых
показателей для частных вариаций этих размеров. Значение
стиха в целом в том, что он создаёт общую эмоциональную
окраску речи, повышенное сравнительно с обычным её восприя¬
тие, а реальное содержание этой эмоциональной окраски даётся
уже переживанием, словами, его выражающими, интонацией,
отвечающей словам, и т. д. Поэтому как одна и та же метафора
может иметь различную функцию в силу различной её мотиви¬
ровки содержанием, характером и т. д., так и все ритмические
определители, о которых в дальнейшем будет идти речь, не сле¬
дует рассматривать как явления, имеющие устойчивое смысло¬
вое значение: оно переменно определяется лишь всей системой
выразительных средств произведения в целом. Смена размеров
или их вариаций не свидетельствует о смене какого-либо одного
конкретного переживания другим конкретным переживанием,
содержание которого мы можем по этому размеру, так сказать,
арифметически выразить. Она свидетельствует вообще о смене
переживаний, так сказать, алгебраически, переводит нас в иную
эмоционально атмосферу, конкретное содержание которой зави¬
сит от условий, лежащих уже вне ритма.
Имея в виду эту необходимую общую оговорку, мы можем
перейти к характеристике ритмических определителей. В ка¬
честве примера мы остановимся на четырёхстопном ямбе. Это
наиболее распространённый размер в русском стихе и наиболее
богатый ритмическими определителями. Выводы, полученные на
этом материале, мы можем с достаточными основаниями распро¬
странить и на другие размеры.
230
В пределах строки четырёхстопного ямба мы
можем разместить различное число ударе¬
Число ударений
ний. В зависимости от этого строки его будут иметь весьма раз¬
личное звучание. В основном насчитывают шесть видов такого
размещения:
1 — Пора, пора, рога трубят («—wj_).
2— Береговой её гранит (■—
3— Почуя роковой огонь
4— Богат и славен Кочубей
5 — Адмиралтейская игла
6 — Возлюбленная тишина («-
Очевидно, что все эти строки имеют каждая индивидуальное
звучание, оставаясь в то же время в пределах единого ритма —
четырёхстопного ямба.
Накапливая подряд строки одинакового строения, или, на¬
оборот, сочетая контрастные строки (4 ударения и 2 ударения),
или после строк одного типа, идущих подряд, давая строку но¬
вого звучания и т. п., поэт и добивается всё новых и новых оттен¬
ков выразительности. Сравним, например, два отрывка:
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
Осада! Приступ! Злые волны.
Как звери, лезут в окна. Чёлни;,
С разбега стёкла бьют кормой.
В первом случае четырёхудацные строки завершены двух¬
ударной строкой, во втором — они даны подряд. И звучат эти
два отрывка весьма различно. Вариации эти могут иметь самый
разнообразный характер и подчёркивать различные смены смы¬
слового и интонационного движения стиха.
В тех случаях, когда стопа ямба не имеет ударения, она гра¬
фически может быть изображена следующим образом: что,
как мы помним, обозначает два безударных слога. В античной
метрике имелась вспомогательная стопа—п и р р и х и й, состояв¬
шая из двух кратких слогов: По аналогии стопу ямба без
ударения приравнивают к пиррихию и строку ямба с пропуском
ударений называют пиррихированной, указывая, на какой стопе
находится пиррихий (Адмиралтейская игла — пиррихии на 1-й
и 3-й стопах). Это же относится и к хорею. Пиррихирова-
н и е — очень частая особенность обоих этих размеров.
Иной характер получает строка ямба, если в
Сверхсхемные ней появляется лишнее ударение. В стооке Он
весь, как божия гроза на первом слоге лежит
дополнительное ударение. Стопа ямба получает такой вид ' —.
По аналогии с античной стопой спондеем, состоящей из двух
долгих слогов, в таких случаях говорят, что на данной стопе на¬
ходится спондей. Может быть иной случай, когда стопа ямба,
получив ударение на первом слоге, теряет его на втором (Бой
261
Качество
ударений
барабанный, клики, скрежет). В этом случае она уподобляется
хорею. Появление спондеев и хореев (при этом они могут со¬
вмещаться с пиррихиями на'других стопах: Он весь, как божия
гроза — даёт спондей, ямб, пиррихий и снова ямб) придаёт
строке опять-таки своеобразный характер. Различные сочетания
ямбов, пиррихиев, спондеев, хореев и дают 127 различных ва¬
риаций четырёхстопного ямба, а различные сочетания между
собой строк различного типа образуют уже бесконечные ритми¬
ческие комбинации.
Не во всех случаях ударения в стихе звучат с
одинаковой силой. Некоторые из них могут
быть сильнее, некоторые слабее. Обычно силь¬
нее ударения на последней стопе (константное ударение) и вслед
за тем через стопу от него, т. е. для четырёхстопного ямба 2-е и 4-е
ударения. А ударения на 1-й и 3-й стопах в некоторых случаях,
но далеко не всегда, имеют как бы подчинённое значение. В та¬
ких случаях 1-я и 2-я стопы как бы объединяются одним силь¬
ным ударением, а 3-я и 4-я стопы — другим сильным ударением.
В таких случаях говорят о диподическом ритме, называя
диподией как бы двойную ямбическую (или хореическую)
стопу (~—~—)• Такова, цапример, строка Ретив и смирен верный
конь. Легко заметить, что каждое нечётное ударение в ней под¬
чиненно чётному: - (ретив и смирен верный конь).
Поскольку в ямбе очень частой является форма ,
где третье ударение вообще пропускается, и встречается форма,
где пропущены ударения и 1-е и 3-е (Адмиралтейская игла),
постольку такое диподическое строение его ещё усиливается. По
аналогии с античной метрикой в таких случаях, когда ямб тяго¬
теет к такой диподичности, говорят о том, что ямб сочетается с
пеоном вторым и четвёртым, а хорей — с пеоном первым и
третьим, что они пеонизированы. В отличие от строк ямба
диподического строения строки, где каждое ударение само¬
стоятельно, называют моноподическими. Строка Стоял он, дум
великих полн, где каждое ударение самостоятельно, даёт
пример моноподического ритма. Сочетание моноподических и
диподических строк опять-таки создаёт новые оттенки вырази¬
тельности. Так, очень интересно они использованы в стихотворе¬
нии Лермонтова «Парус».
Говоря об использовании тех или иных вариаций ямба и дру¬
гих размеров, мы отнюдь не имеем в виду того, что писатель
сознательно обдумывает заранее, какие вариации он применит
в своём произведении. Они выбираются им среди других вариа¬
ций как лучшие в данном случае, без какого бы то ни было
теоретического осмысления, но понять их выбор мы можем,
исходя из понимания того взаимодействия формы и содержания,
которое управляет строением произведения в целом.
В стихотворении «Парус» два плана: внешний (пейзаж моря
и далёкого паруса на нём, картина природы) и внутренний (со¬
262
стояние человеческой души). В каждом четверостишии первые
две строки дают первый план, и каждые две вторые строки—
второй. И вот легко заметить, что Лермонтов строит первые две
строки каждого четверостишия диподически ', а две вторые—
моноподически, поддерживая тем самым смысловое и эмоцио¬
нальное противопоставление и самым ритмическим своеобра¬
зием строк, что ещё более усиливает выразительность конкрет¬
ной речевой ткани, передающей это переживание:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом. -л,-,!,,.,.,/
Что ищет он в стране далёкой? -С 1»-'
Что кинул он в краю родном?
Играют волны, ветер свищет, «д, -/ -
И мачта гнётся и скрипит.
Увы, он счастия не ищет
И не от счастия бежит.
Под ним струя, светлей лазури,
Над ним — луч солнца золотой,
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в буре есть покой.
В обычной речи мы произносим слова подряд,
Междусловеспые делая паузы лишь между группами слов, име-
у ющими относительную смысловую самостоя¬
тельность и законченность (чтовыговорите, какаяхорошаяпогода
и т. п.). Этим, между прочим, объясняется, что плохо зная ино¬
странный язык, мы не понимаем его в живой речи, тогда как
в книге сумеем разобрать те же фразы, смысл которых не уло¬
вили в произнесении. Читаем мы каждое слово раздельно, а в жи¬
вой речи они произносятся слитно, и мы не успеваем отделить их
одно от другого и понять их. В эмоциональной же речи, тяготею¬
щей к фразовости слова, слова произносятся отчётливее. В стихе
они произносятся с наибольшей отчётливостью. В сущности,
почти каждое слово в стихе мы произносим, отделяя его от дру¬
гого небольшой паузой и уж во всяком случае избегая какой-
либо скороговорки. Мы не прочтём Богатиславенкочубей, Его-
полянеобозримы, а обязательно сделаем остановки между сло¬
вами. Именно поэтому Маяковский печатал свои стихи враз¬
бивку, заставляя читателя тем самым произносить каждое слово
в особенности отчётливо и напряжённо.
В зависимости от расстановки междусловесных пауз строка
опять-таки даёт ряд новых оттенков. При одинаковом числе и ме¬
сте ударений мы ощутим своеобразие двух строк, если в них раз¬
личные паузы, т. е. слова, различные по количеству слогов, что и
перемещает паузы. Строки Осенний ветер, мелкий снег и Пора,
пора, рога трубят звучат различно, хотя по отношению ударных
и безударных слогов одинаковы. Точно так же различны строки
• Обозначаем ослабленное ударение знаком л.
263
И отвечает: Агафон и Адмиралтейская игла, при равенстве в
ударениях, так как паузы приходятся в различных местах.
п Особый вид междусловесной паузы представ-
4 ляет цезура. Это пауза, имеющая ритмиче¬
ское значение, благодаря тому, что она располагается таким об¬
разом, что делит строку на два полустишия и постоянно повто¬
ряется в стихотворении, например:
Наперснику богов 1безвестны бури злые,
Над ним их промысел, 1безмолвною порой
Его баюкают 1Камены молодые
И с перстом на устах 1хранят певца покой.
(Пушкин.)
Знаком I мы отметили эти постоянные междусловесные паузы,
которые в отличие от обычных встречаются на одном и том же
месте во всех строках и тем самым подчёркивают соизмеримость
этих единиц: и тем, что единицы эти имеют двухчастный харак¬
тер, разделяются на две половины, и тем, что в каждой из них на
определённом месте мы находим паузу. И то и другое усиливает
соизмеримость единиц, т. е. подчёркивает их ритмичность.
Иногда цезурой называют всякий словораздел (междусло-
весную паузу), в таких случаях различают ;малую цезуру и
большую, или постоянную цезуру, имея в виду уже
охарактеризованные выше особенности паузы, имеющей ритми¬
ческое значение. Проще, однако, чтобы избежать путаницы в
терминологии, употреблять этот термин лишь в одном, разъяс¬
нённом выше смысле.
Цезура встречается в таких размерах, которые состоят из
сравнительно большого количества стоп или слогов вообще. Так,
в ямбе она наблюдается в пятистопной и шестистопной его фор¬
ме, а в коротких строках, которые не могут быть разбиты на два
полустишия, её нет.
Ещё более существенную роль играет пауза на
(enjainbement) конце СТРОКИ- Выше мы говорили, что она
крайне важна, так как на неё опирается кон¬
станта. Паузу в конце строки мы обычно ощущаем как наиболее
сильную. Но могут быть случаи, когда строка по смыслу не за¬
кончена и мы стремимся произнести её, не отделяя её от следую¬
щей строки, а конечная пауза строки как бы рвёт эту смысло¬
вую связь, заставляет нас остановиться там, где пауза эта не
подсказана по смыслу. Мы говорили выше об этом на примере
строк:
«Никто мне не скажет: Куда ты
Поехал, куда загадал?»
Такое столкновение ритмического и смыслового движения
создаёт необычное звучание речи. При этом пауза, благодаря
которой возникает неожиданное членение речи, придаёт ей тем
самым новую смысловую окраску. В живой речи мы очень часто
можем наблюдать такого рода неожиданные паузы, причём они
264
всегда обоснованы каким-то дополнительным смыслом, который
как бы прорывается через предполагаемый обычный смысл, ко¬
торый не требовал бы паузы. Человек хотел сказать резкость и
сдержался, чуте было не проговорился, но спохватился и заго¬
ворил о другом; волнуясь, оборвал речь и перешёл к новой теме;
говоря, не может найти слова и останавливается и т. п. Таких
ситуаций можно встретить весьма много, все такие случаи будут
характеризоваться на первый взгляд неожиданными, но внут¬
ренне обоснованными паузами, придающими речи новый, обост¬
рённый смысл (комический или трагический, со всеми возмож¬
ными переходами между этими крайностями, в зависимости от
конкретной ситуации). Перенос в стихе и является в принципе1
такой резкой паузой, придающей речи новый, неожиданный,
эмоционально окрашенный смысл. Когда Сальери кричит Мо¬
царту.
«Постой,
Постой, постой!., ты выпил!., без меня?», —
то мы понимаем, что весь основной смысл речи Сальери раскрыт
именно в паузах: здесь и ужас, и попытка остановить Моцарта,
пьющего яд, и почти признание, и, наконец, стремление скрыть
волнение и объяснить его внешним предлогом (выпил без меня).
В известном послании Пушкина к декабристам («Во глубине
сибирских руд») перед нами непрерывное нарастание интонации,
передающей уверенность поэта в грядущем избавлении заточён¬
ных в темницу декабристов. И на слове свобода, завершающем
это нарастание, как раз и стоит перенос, который и подчёрки¬
вает с особенной силой весь смысл стихотворения:
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа...
Вот такого рода паузы, внешне, казалось бы, нарушающие
смысл речи, а на самом деле вкладывающие неожиданный, но¬
вый смысл в неё, и возникают благодаря тому своеобразию, ко¬
торое вносят в стих переносы. Авторская оценка, психология
персонажа, конкретизируясь в речи, могут найти себе выраже¬
ние в этой выразительной особенности стиха. В «Медном Всад¬
нике», например, Пушкин, говоря о Петре, почти не пользуется
переносами, а, говоря о Евгении, всё время их применяет. Эти
два образа несут в себе совершенно различные идеи; естественно,
что и авторский язык меняется, когда автор переходит от одного
к другому. Если выше мы видели на примере романа Горького
«Мать», что могут меняться тропы в зависимости от отношения
автора к образу, то теперь мы можем сказать то же самое об
изменении тех или иных особенностей стиха в зависимости от
1 Мы не говорим, естественно, о том, что в стихах, не имеющих пол¬
новесного художественного звучания, те определители, о которых мы го¬
ворим, могут и не найти себе мотивировки, появиться без ясной художест¬
венной цели.
265
общей смысловой и эмоциональной окраски образа. Поэтому
выразительные оттенки переноса практически неисчерпаемы, он
на фоне яркой эмоциональной речи может давать и снижение
её — разговорную интонацию и т. п.
Стихотворная строка как основная единица сти-
^ЛаифУма хотворного ритма характеризуется тем, что её
р ф отделяет от последующих строк пауза, совпа¬
дающая с конечным ударением и образующая константу. Но ко¬
нечное ударение не всегда совпадает с последним слогом строки.
После него могут быть ещё расположены безударные слоги. Они
не меняют основного ритмического строя строки, но придают ей
своеобразную окраску. Конечное ударение и безударные слоги,
следующие после конечного ударения, представляют собой сти¬
ховое окончание, иначе —к л а у з у л у.
Если строка кончается ударным слогом, она имеет мужское
окончание. Если безударным — женское окончание,
если двумя безударными — дактилическое окончание,
если тремя и более безударными — гипердактилическое
окончание. В том случае, если клаузула соединяется со звуко¬
вым повтором, возникает рифма, на которую переносятся те же
определения (мужская, женская, дактилическая и т. д.). Термины
мужская рифма и женская рифма связаны с тем,
что когда-то в старофранцузском языке они совпадали с окон¬
чаниями мужского и женского рода. Тогда ещё звучало во
французском языке немое е, и слова, на него оканчивавшиеся,
имели ударение на предпоследнем слоге и грамматически при¬
надлежали к женскому роду. Затем эти термины получили рас¬
пространение и в других языках.
Различные клаузулы (и рифмы) придают строкам одного рит¬
мического строя новые особенности. Сравним несколько стихотво¬
рений, написанных одним и тем же четырёхстопным ямбом, но с
различными клаузулами:
1.
Я мало жил, я жил в плену,
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
(Лермонтов.)
2.
Мой дядя самых честных правил.
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
(Пушкин.)
3.
По вечерам, над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окликами пьяными
Весенний и тлетворный дух.
(Б л о к.)
4.
Плыла над морем даль опаловая.
Вечерний воздух полон ласки.
К моей груди цветок прикалывая,
Ты улыбалась, словно в сказке.
(Брюсов)
Очевидно резкое различие этих строк, в основе его лежит раз¬
личие клаузул (в первом — только мужские клаузулы, во втором—
чередуются женские и мужские, в третьем — дактилические и
мужские, в четвёртом — гипердактилические и женские).
Объединение строк, имеющих различные клаузулы, создаёт
266
новые ритмические вариации. Выше мы говорили, что сочетания
строк с различно расположенными ударениями создаёт своеобраз¬
ный ритм, точно так же сочетания строк с различным чередова¬
нием клаузул дают в руки поэта новое выразительное средство.
Белый стих Если клаузулы лишены звуковых повторов
(рифм), то стих такого типа называют белым
стихом. Но белый стих как бы подразумевает возможность
появления рифм, воспринимается на фоне рифмованного стиха.
Поэтому античный и русский народный стих, вообще не знающие
рифмы, к белому стиху не относят. Белым стихом называют без-
рифменный стих только нового времени. В особенности широко
его применяет стихотворная драма («Борис Годунов» Пушкина.
В этой драме, в частности, можно найти примеры перехода от
белого стиха к рифмованному).
Ви ои<ьм В зависимости от расположения рифм разли-
ды р ф чают рифмы смежные, или парные (в рядом
стоящих строках: (аа), тройные (ааа), перекрёстные (абаб) — че¬
рез строку), опоясанные, кольцевые, или охватные (рифмуются
между собой крайние строки данной строфы: абба), тернарные
(через две строки на третью: аабааб) и т. д.
Рифма, образованная повторением одинаковых звуков (зане¬
мог—не мог), называется точной, повторением сходных гласных
звуков (докеры—оперы)—неточной, ассонансом. Редко встре¬
чается консонанс (где рифмуют одинаковые согласные, а глас¬
ные— различны, например: кедр—кадр). Встречается, в особен¬
ности в новейшее время, составная рифма (Гарольдом — со
льдом). Если составная рифма подобна тому слову, с которым
она рифмует, её называют каламбурной (Даже к финским ска¬
лам бурым обращаюсь с каламбуром). Количество слогов в риф¬
ме может соблюдаться неточно, в таких случаях она называется
неравносложной (Доено — нашинковано). По количеству зву¬
ков, образующих повтор, различают рифму богатую (глубокую)
и бедную (остёр — костёр и костёр — хор).
Роль рифмы в стихе чрезвычайно велика. О ритмообразующем
её значении говорилось выше. Следует отметить её смысловое и
интонационное значение. Слово, стоящее в рифме, опирается на
паузу и на звуковой повтор, поэтому оно особенно отчётливо про¬
износится, привлекает к себе внимание.. Поэтому в рифму чаще
всего попадает наиболее значимое слово. В то же время рифма
связывает между собой стихотворные строки, образуя из них
более сложные ритмические построения. Все ритмические опреде¬
лители, которые мы выше охарактеризовали, получают ещё боль¬
шее разнообразие благодаря тому, что в сочетаниях строк они об¬
разуют всё более и более сложные переплетения и переходы.
Определённое расположение рифм (реже — расположение
клаузул без звуковых повторов), связывая в определённой после¬
довательности стихотворные строки, образует более сложную, чем
строка, ритмическую единицу — строфу.
267
Стпофы Строфа —это сочетание .строк,
скреплённых общей рифмовкой
и интонацией, обычно повторяющееся в стихотворении.
В белом стихе (без рифмы) строфа организуется общим располо¬
жением клаузул и интонацией.
Строфа по существу представляет собой известный тип по¬
строения фразы, закреплённый в стихе при помощи сочетания не¬
скольких строк, связанных рифмами (или клаузулами), располо¬
женными в известном порядке. Она образует интонационно-рит¬
мическое целое, отвечающее своим выразительным строем той
речи, в которой поэт конкретизирует переживания, рассказ о со¬
бытиях и людях и т. п. Так, например, характерно, что для боль¬
ших поэм со сложным сюжетом избираются обычно большие
строфы, дающие развёрнутую и разнообразную фразу или не¬
сколько их (например, у Пушкина «Домик в Коломне», «Евгений
Онегин»). Такая строфа вбирает в себя и речь персонажей, поз¬
воляет давать развёрнутые описания (кабинет Онегина, его биб¬
лиотека и пр.).
Короткие лирические стихотворения чаще всего ограничива¬
ются четверостишиями, дающими более сжатое, но и более эмо¬
ционально напряжённое строение фраз.
В зависимости от числа строк и порядка рифм строфы извест¬
ным образом классифицируются. Простейшая строфа — дву¬
стишие. В зависимости от системы стихосложения, от размера
и т. д. двустишие имеет различные формы. В античной поэзии был
распространён элегический дистих. Он состоял из двух
строк: первая—.гекзаметр (шестистопный дактиль с женским
окончанием), вторая — пентаметр (тдже шестистопный дактиль,
но с пропуском двух кратких слогов третьей стопы и с мужским
окончанием), например:
Бьёт во гекзаметре вверх водяная колонна фонтана,
Чтобы в пентаметре вновь мерно певуче упасть.
В силлабическом стихосложении пример двустишия даёт три-
надцатисложник с постоянной парной женской рифмой. Двусти¬
шием во французской поэзии был куплет, позднее превратив¬
шийся в четверостишие. Двустишие — александрийский стих
французской поэзии (возник в поэме об Александре Македон¬
ском в XII в.—отсюда его название), использованный затем в рус¬
ской поэзии. Во Франции это двенадцатисложный стих с цезу¬
рой после третьей стопы. В трагедии он имеет парную рифму
(героический александрийский стих). В лирике он даёт перекрёст¬
ную рифму (абаб) и образует четверостишие (элегический але¬
ксандрийский стих).
В русской поэзии александрийский стих—шестисложный ямб
с теми же особенностями.
Следует оговориться, что и силлабический тринадцатислож-
ник, и александрийский стих (двустишие) далеко не всегда обра¬
268
зуют строфу и очень часто представляют собой астрофический
стих (например александрийский стих в трагедиях, посланиях и
пр.). Происходит это в тех случаях, когда двустишие интона¬
ционно не заканчивается в пределах двух строк, и фраза вклю¬
чает в себя ряд строк. В этом случае очень ясно видно, что стро¬
фу образует не только рифма, но и интонационная законченность.
Несмотря на наличие последовательно проводимой через сти¬
хотворение парной рифмовки отсутствие этой интонационной
законченности мешает возникновению строфы, в этих случаях и
силлабический тринадцатисложник, и александрийский стих об¬
разуют астрофический стих.
Трёхстишие даёт несколько! форм, в зависимости от рас¬
положения рифм. Рифмы обозначаем буквами, повторяющиеся
буквы указывают порядок рифм в строфе. Трёхстишие (терцет)
может иметь вид: ааа, т. е. давать три строки на одну рифму; мо¬
жет давать иное их расположение. Наиболее распространённой
его формой является терцина, применённая, в частности,
Данте в «Божественной Комедии». В терцине рифмуют крайние
строки, а средняя строка рифмуете крайними следующей строфы
(аба бвб) вгв и т. д.). Таким образом, каждая строфа вводит одну
незарифмованную в ней строку, которая вызывает рифмы следую¬
щей терцины, образуя своеобразную цепь из строф, переходящих
одна в другую (цепная строфа). Заканчивается ряд терцин од¬
ной строкой, рифмующей со средней строкой последней терцины
и как бы погашающей непрерывный поток терцин.
Наиболее распространённой строфой является четверо¬
стишие (катрен). Основные его виды: перекрёстная рифма
(абаб) и опоясанная (абба), реже встречаются иные виды.
Далее следуют пят и-, шести-, семистишия, дающие
весьма разнообразные по расположению рифмующих строк по¬
строения. Распространена секстина (шестистишие); особый
вид — сложная секстина: стихотворение, состоящее из шести
секстин. Слова, образующие рифмы первой секстины, составляют
рифмы и остальных пяти, повторяясь в различных вариациях.
Из восьмистиший распространена октава: строфа из
восьми строк, первые шесть дают перекрёстную рифмовку, две
последние — парную. Схема октавы: абабабвв, пример — «Домик
в Коломне» Пушкина. Восьмистишие применяется в балладе
французских лириков XIV—XV вв. Схема её: абабавав. Баллада
состоит из трёх восьмистиший и «посылки» — четверостишия.
Кроме того, последняя строка первой строфы повторяется, как
«припев» (рефрен) во всех остальных строфах.
На повторении строк (помимо определённой системы рифмов¬
ки) основаны и другие строфы средневековой поэзии (так назы¬
ваемые формы рондо). Такого типа восьмистишием является
триолет, в котором рифмы идут в следующем порядке: абааа-
баб-, причём первая строка повторяется как четвёртая и седьмая,
а вторая — как восьмая. Пример триолета:
269
Осенний ветер, а сердце весеннее,
Когда же придёшь ты, моя зима?
День всё короче, вино всё пеннее.
Осенний ветер, а сердце весеннее,
Душа всё чище, душа нетленнее,
И я не знаю, есть ли в мире тьма.
Осенний ветер, а сердце весеннее.
Когда же придёшь ты, моя зима?
(И. Рукавишников.)
Девятистишие (нона) даёт различные виды располо¬
жения рифм, среди которых известна Спенсерова строфа
(абаббабаа, пример—«Чайльд Гарольд» Байрона).
Десятистишие ( децима) опять-таки даёт различные
типы рифмовки, среди них следует отметить сицилиану
(а б абаб аба б) и строфу, которая обычно применялась в одах (абаб
ввг ддг).
Более сложные строфы встречаются редко: из тринадцати
строк состоит рондель, из пятнадцати — рондо.
Особый вид сложный строфы представляет собой сонет: это
стихотворение из 14 строк, состоящее из двух катренов и двух
терцетов (схема катренов: абаб абаб или абба абба, при этом
рифмы в обоих катренах одинаковые; терцеты строятся различно,
но имеют три рифмы, пример — сонет Пушкина «Суровый Дант
не презирал сонета»),
В русской поэзии пример сложной строфы даёт 14-строчная
строфа «Евгения Онегина» Пушкина, объединяющая последова¬
тельно перекрёстное четверостишие, две парные рифмы, опоя¬
санное четверостишие и снова парную рифму (схема: абаб вв гг
деед жж). Эта строфа даёт необычайно гибкую и разнообразную
интонационную структуру, которая позволяет Пушкину совер¬
шенно свободно передавать самые различные оттенки речи в
произведении такого широкого жизненного охвата, каким
является «Евгений Онегин».
Мы до сих пор говорили о строфах, основанных на чередо¬
вании строк одинакового ритмического строения (изометри¬
ческие строфы). Могут быть, однако, строфы, в которых
сочетаются строки различного строения (гетерометриче-
ские строфы), например:
У приказных ворот собирался народ
Густо.
Говорит в простоте, что в его животе
Пусто.
(А. Толстой.)
Это даёт новые разнообразные интонационно-ритмические ва¬
риации.
Сочетание разностопных ямбов образует
вольный (басенный) стих:
Вольный стих
Проказница Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть квартет.
270
В том случае, если стих не обнаруживает отчётливого стро¬
фического строения, его называют — а с т р о ф и ч е с к и м (при¬
мер— «Медный Всадник» Пушкина).
Рифмы и строфы характеризуют не только силлабо-тониче¬
ское стихосложение, но и другие системы. Выводы, нами полу¬
ченные, а также терминология, распространяются и на них.
Точно так же по аналогии можно заключить, что в каждой из
систем стихосложения большую роль играют различные ритмиче¬
ские определители. Обращаясь к стиху, как к общему типу эмо¬
ционально окрашенной речи, поэт в то же время, используя раз¬
личные ритмические определители, придаёт своему стиху своеоб¬
разный индивидуальный характер, в стихе объединяется общее
и индивидуальное. Вот почему многие размеры, на первый взгляд
уже весьма старые, звучат по-новому и в наши дни. Это проис¬
ходит потому, что в связи с новым содержанием стих как форма
общей эмоциональной окраски речи всегда получает особое ин¬
дивидуальное звучание в связи с данным содержанием. Стих, как
и слово, многозначен, и, взаимодействуя с новыми выразитель¬
ными средствами, сам звучит по-новому.
Дольник и тонический стих
я Выше мы охарактеризовали трёхсложные раз¬
долья к меры силлабо-тоники. Наряду с тяготением к
сверхсхемным ударениям, играющим роль ритмических опреде¬
лителей, в них иногда пропускаются отдельные безударные слоги.
Например, в строке Что ты заводишь песню военну — перед
нами дактиль. Однако во второй стопе его пропущен слог
Этот пропуск уже нарушает строгое чередование
слогов, характерное для силлабо-тоники, расшатывает её изосил-
лабизм (равносложность). В том случае, если эти пропуски стано¬
вятся частыми, ритм стиха приобретает своеобразный характер.
С одной стороны, продолжает ощущаться его трёхсложная
основа, с другой—она в ряде случаев нарушается, и тем самым
понижается роль безударных слогов как элемента соизмеримости
строк и повышается роль ударений, одинаковое число которых
в строке и определяет соизмеримость строк между собой.
Строка как бы начинает распадаться на обособленные друг от
друга доли, связанные с ударениями, например:
Всё чаще в тёмных костёлах,
В углу, без сил склонена,
Сидит, в мечтах невесёлых,
Мать, сестра иль жена.
(В. Б р ю с о в.)
Здесь в первых трёх строках пропущено по одному слогу, а в
последней строке — два слога. Возьмём ещё более резкий при¬
мер:
271
Белые бивни бьют ют,
В шумную пену бушприт врыт,
Кто говорит, шторм — вздор,
Если утёс — в упор!
(Н. А с е е в.)
Мы ощущаем здесь трёхсложную основу, но чувствуем, что
она уже настолько изменилась, что ритм стиха имеет новый сра¬
внительно с силлабо-тоникой характер. Стих такого типа, в кото¬
ром строка делится на доли, соотношение которых и определяет
соизмеримость строк, а равносложность строк, сохраняясь в из¬
вестной мере, уже значительно ослаблена в своей ритмической
роли, называется дольник.
Дольник представляет собой переходную форму от силлабо-
тоники к тоническому стиху.
_ „ Вообще говоря, в основе и силлабического, и
силлабо-тонического стиха лежит то или
иное соотношение ударений в строке (более отчётливое в силлабо-
тонике, менее отчётливое — в силлабике). Но в них оно связано
с весьма большой ритмообразующей ролью безударных слогов.
Дольник даёт пример стиха, снижающего эту роль безударных
слогов и строющего свой ритм главным образом на ударениях.
Ещё более отчётливый отказ от учёта в строке числа и места
безударных слогов мы наблюдаем в тоническом стихе.
Ритм его основан на сохранении одинакового в основном
числа ударений в строке, а безударные слоги при этом по суще¬
ству не учитываются. Если в основе античного стиха лежит
изохронизм (равновременность), а в основе силлабики и сил¬
лабо-тоники— изосил л абизм (равносложность), то в ос¬
нове ритма стиха этого типа лежит изотонизм (равноудар-
ность).
Схему тонического стиха можно обозначить формулой:
х—х—х—х—, где ' — ударение, ах — безударные слоги (любое
их количество: от 0 до 5—6 и более). Например:
У цас семь дней,
У нас часов двенадцать.
Не прожить себя длинней,
Смерть не умеет извиняться...
Мы спим ночь.
Днём совершаем поступки.
Легко заметить, что безударные слоги в этих строках дают
настолько различные вариации, что уже не играют роли в соиз¬
меримости строк. Ударные же слоги здесь строго выдержаны:
' 9 1
272
В каждой строке три ударных слога, число же безударных
колеблется от нуля до трёх (между ударениями), а число слогов
в строке — от трёх до девяти. Равноударность — налицо, равно¬
сложное™ нет.
В зависимости от числа ударений в строке можно говорить о
двухударном размере тонического стиха, о трёхударном, о че¬
тырёхударном. Свобода в расстановке слогов в строке делает
тонический стих значительно более гибким в смысле использо¬
вания слов различного строения, сравнительно со стихом иного
тина. Отсюда вытекает и большая синтаксическая гибкость этого
стиха, большая его выразительность, что и определяет его рас¬
пространение в последнее время, в особенности благодаря поэти¬
ческой деятельности Маяковского.
Одним из видов тонического. стиха является
Свободный^стих— свободный стих (vers libre). Он харак¬
теризуется большей свободой в расположении
ударений в строке, в известной мере отходя и от изотонизма,
например:
Как песня матери Как далёкий прибой
Над колыбелью ребёнка, Родного, давно не виденного моря.
Как горное эхо, Звучит мне имя твоё,
Утром на пастуший рожок отозвав- Трижды блаженное:
шееся; Александрия.
Вначале перед нами как будто двухударный размер тониче¬
ского стиха, но четвёртая строка даёт четыре ударения, седь¬
мая— три, девятая — одно. Ритм этих строк основан в значи¬
тельной мере уже не на соизмеримости строк по числу ударений,
хотя это всё же имеет известное значение, но на отчётливой -ин¬
тонационной однородности в произнесении каждой из этих строк,
что основано на их синтаксической урегулированности (перед
нами ряд анафор — «как», параллелизмов и т. д.). Вот эта инто¬
национно-синтаксическая соизмеримость строк между собой, свя¬
занная с известной, хотя и ослабленной, соизмеримостью уда¬
рений, и определяет ритм свободного стиха. Он, в сущности,
строится на изосинтаксизме, на синтаксической соизмери¬
мости строк.
Следует заметить, что в стиховедческой литературе нет проч¬
но установившейся терминологии по некоторым вопросам, и по¬
нятия свободного стиха, дольника, тонического стиха имеют раз¬
личное толкование.
Развитие русского етиха
Стих, как мы видели, представляет собой це¬
лостную систему выразительных средств, обус¬
ловленных в конечном счёте тем содержа¬
нием, которое в них оформлено.
Очень интересно и верно охарактеризовал работу поэта над
Связь стиха
с содержанием
18 Тимофеев
273
стихом Я. Полонский: «Как же поэт отделывает стихи свои?
Очень просто: он отделывает мысль свою, и форма получает от¬
делку; он отделывает форму, и мысль становится ярче, рельефнее,
нагляднее; мысль и форма—одно; это — душа и тело, это —
жизнь... Как скоро и мысль, и чувство, и образ получили силу,
первый вылившийся из-под руки его стих определяет уже тот
размер, каким должно быть написано стихотворение. Стало быть,
размер этот вовсе поэтом не придумывается, а является как бы
невольно... Как математик строит непогрешимые формулы, так
лирический поэт сжато и ярко высказывает всю суть того или
другого, всем доступного, но временного и расплывающегося
чувства, — находит для него не формулу, но неизменную форму».
Ту же мысль о неразрывной связи формы стихотворения с его
содержанием отчётливо высказал Фет: «Я не против причудли¬
вых размеров, но нужно, чтобы они были приведены причудли¬
вым чувством».
Определённое взаимодействие с действительностью подсказы¬
вает поэту определённое, характерное для неё переживание. Пе¬
реживание подсказывает отвечающую ему по своим особенно¬
стям форму ярко эмоционально окрашенной речи. Эмоционально
окрашенная речь определяет выбор того или иного ритма и его
определителей: «Трудиться над стихом, — справедливо замечал
Полонский,—для поэта то же, что трудиться над душой своей».
Перед нами — переход содержания в форму, совершающийся в
каждом подлинно художественном произведении.
Поэт использует, как мы помним, общие формы стиха (т. е.
уже накопленные поэзией, уже отложившиеся исторически типи¬
ческие формы эмоциональной речи), но придаёт им каждый раз
индивидуальное звучание. Поэтому системы стихосложения
весьма устойчивы, они переходят от поэта к поэту, развиваются
в течение столетий. Однако и в них можно проследить определён¬
ную эволюцию в связи с переходами от одной эпохи обществен¬
ного развития к другой.
Выше мы уже говорили о том, что в XV—
Переход XVI вв. в России происходит процесс создания
от напевного „
•к речевому стиху речевого стиха, который выдвигался в силу
того, что народный напевный стих не мог уже
полностью отвечать на запросы новой культуры. Этот процесс
выработки речевого стиха, опиравшегося на рифму, был завер¬
шён во второй половине XVII в. возникновением силлабического
стиха. Большую роль в этом сыграл Симеон Полоцкий (1629—
1680). В течение XVII и в начале XVIII вв. в России и господство¬
вал силлабический стих. Большую роль в его развитии сыграло
творчество А. Кантемира (1708—1744) и Феофана Прокоповича
(1681 —1736). Кантемир в своих известных «Сатирах», в отличие
от С. Полоцкого, произведения которого имели главным образом
религиозный характер и по языку были далеки от живой речи,
строил свои сатиры на светской тематике, приблизил язык к жи¬
274
вой речи. Стих его во многом усилил соизмеримость строк благо¬
даря тому, что Кантемир его тонизировал, т. е. усилил значение
ударений в стихе.
Так как в 13-сложнике ударения в первом и во втором полу¬
стишии, как правило, падают на предпоследние слоги, в нём есте¬
ственно возникало расположение ударений на нечётных слогах,
что придавало стиху хореический ритм, например:
Тленность вёка моего ныне познаваю,
Не желаю, не боюсь, смёрти ожидаю.
Когда вы милость свою ко мнё неотмённо
Явите, то я счастлив буду совершённо.
(Кантемир.)
Легко заметить, что здесь ударения почти везде ложатся на не¬
чётные слоги, и стихотворение близко к хореическому ритму.
Однако стих Кантемира к концу первой половины XVIII в. был
уже недостаточно выразителен. Кантемир писал главным обра¬
зом сатиры, показывавшие недостатки жизни, насыщенные изо¬
бражением быта, передававшие разговорный язык персонажей,
полные критического отношения к действительности и соответ¬
ственно эмоционально окрашивавшие речевые средства, которые
он применял.
В 30-е годы XVIII в. Россия выдвигается в
Переход . ряды первоклассных европейских держав, ве-
к силлабб-тонике Дёт победоносные войны, быстро развивается
в ней культура. К литературе предъявляются
требования отразить положительные стороны жизни, передать
пафос растущей дворянской государственности и культуры. Са¬
тира не отвечает основным запросам эпохи. Тем самым и в
стихе начинают искать приподнятых, пафосных форм выраже¬
ния. От поэтов требуют стихи, прославляющие победы русской
армии, откликающиеся на придворные празднества. На первый
план выдвигается <)да.
Ода (греч. — песня) в античной литературе имела разнообраз¬
ное содержание, но в творчестве Пиндара (около 518—442 гг. до
н. э.) получила значение как хвалебная'песня в честь победителя
на гимнастических состязаниях. Возродившись в Европе в
XVI в., ода затем в творчестве Малерба (1555—1628) получила
значение произведения, в приподнятой, торжественной форме про¬
славлявшего основные события государственной и придворной
жизни. Именно подобная ода начинает развиваться в России в
30-е годы XVIII в. в творчестве Тредьяковского, Ломоносова,
Сумарокова и др. Для оды вырабатывается язык необычайно
приподнятый и торжественный. Она представляет собой описа¬
ние переживаний поэта, потрясённого и восхищённого величием
и успехами государей, полководцев и пр. Автор трёхтомного
«Словаря древней и новой поэзии» (представлявшего собой
своеобразную «Литературную энциклопедию» того времени, вы¬
шедшего в начале XIX в., но выражавшего взгляды на литера¬
18*
275
туру именно XVIII в.) Николай Остолопов, определяя оду,
пишет, что начало оды («Приступ») имеет два вида—«стреми¬
тельный и тихий. В первом случае поэт принимается за лиру,
будучи уже в восторге, а в последнем он начинает играть или
петь хладнокровно и мало-помалу воспламеняется».
Новый период в истории русской литературы не мог не ска¬
заться на всей системе выразительных средств, которые были
необходимы для воплощения новых идей, образов й жанров, вы¬
двигавшихся в литературе на первый план. Начались поиски но¬
вого языка, нового, более выразительного, более ярко эмоцио¬
нально окрашенного стиха, который должен был в значительной
мере дальше отойти от обычной речи, сравнительно со стихом
Кантемира. Отсюда вытекали и поиски более чёткого ритма, т. е.
ритма, дававшего более отчётливые формы соизмеримости строк.
В 1735 г. Тредьяковский (впервые употребив-
Реформа ший в ручкой поэзии слово «ода» в «Оде тор-
п Ломоносова жественнои о сдаче города Гданска») выпу¬
стил книгу: «Новый и краткий способ к сло¬
жению российских стихов». В этой книге он, использовав уже
разработанную на Западе теорию акцентного (тонического в бо¬
лее широком смысле слова, чем мы выше его определили) стиха
с её терминологией, взятой у теоретиков античного стиха, ссы¬
лаясь на примеры из русского народного стиха и уловив в стихе
Кантемира наиболее ритмические его особенности (хореичность,
о которой выше говорилось), выступил с резкой критикой силла¬
бического стиха и с обоснованием теории нового стиха. Это и
была теория стиха, который теперь называют силлабо-тониче¬
ским и который сам Тредьяковский называл тоническим (этот
термин употребляется иногда и теперь). Она была ещё ограни¬
чена: Тредьяковский предлагал лишь хореический ритм, сохра¬
нял обязательную в силлабическом стихе парность рифм и т. д.
Книга Тредьяковского привлекла к себе внимание. На неё от¬
кликнулся Кантемир, написавший «Письмо Харитона Макетина
к приятелю о сложении стихов русских» (Харитон Макетин—
анаграмма, т. е. слово, образованное путём перестановки букв
другого слова, — в данном случае из слов Антиох Кантемир).
Но наибольшее значение имело написанное Ломоносовым в
1739 г. «Письмо о правилах российского стихотворства». В нём
Ломоносов дал уже развёрнутую теорию нового стиха,, в том чи¬
сле и ямба, и трёхсложных размеров. Главное же, он в том же
1739 г. одновременно с «Письмом» создал «Оду на взятие Хо¬
тина», написанную ямбом, после которой преимущества нового
стихосложения стали совершенно очевидными, и оно быстро по¬
лучило распространение.
Стихи самого Тредьяковского, несмотря на чёткость их нового
ритма, не были ещё примером нового стиха, потому что он не
сумел полностью найти для них новую словесную форму в более
широком смысле. В частности, в стихах его крайне запутано син-
276
таксическое строение речи. Ломоносов же наряду с новым рит¬
мом дал образец и нового языка в целом, упростив синтаксис,
соотнеся фразу (или часть её) со строкой и тем самым добив¬
шись действительно эмоциональной окраски речи, чего по су¬
ществу не было у Тредьяковского. Достаточно сравнить стихи
обоих поэтов, чтобы в этом убедиться:
...В слогах толь высокопарных,
Пиндар, Флакк по нём, от мглы
Вознеслись до светозарных
Звёзд, как быстрые орлы.
(Тредьяковский.)
...Шумит с ручьями бор и дол:
Победа! Росская победа!
Но враг, что от меча ушёл.
Боится собственного следа.
(Ломоносов.)
Развитие стиха
в XVIII в.
Начиная с 30-х годов XVIII в. идёт разносторонняя разра¬
ботка силлабо-тонического стиха. У Сумарокова широко разви¬
вается вольный — басенный стих, в трагедиях он применяет
александрийский стих, разрабатывается строфика: десятистишие
оды, октава, сонет и др. Тредьяковский вводит в «Телемахиде»
гекзаметр и т. д.
Но на стихе XVIII в. лежит ясная печать тех
литературных течений, которые в то время
развивались: классицизма и сентиментализма.
Характерной чертой литературы этого времени была односто¬
ронность трактовки человеческого характера. У поэтов класси¬
цизма (Сумарокова и др.) он изображался крайне рассудочно,
сводился к логической схеме, лишался сколько-нибудь глубокого
психологического содержания. У поэтов сентиментализма (Ка¬
рамзина и др.), которые противопоставили рассудочности класси¬
цизма культ чувствительности, он, наоборот, сведён к столь же
односторонней схеме крайней взволнованности. Герой, например,
стихотворных трагедий Сумарокова говорит правильно постро¬
енными периодами, даже когда он находится в самой напря¬
жённой обстановке, и речь его своим непосредственным строе¬
нием не характеризует его состояния, не в достаточной степени
ешё мотивирована им. У Карамзина же стих настолько отягощён
всякого рода эмоциональными особенностями речи, восклица¬
ниями и т. п., что они уже не вытекают из данных переживаний.
Герой Сумарокова даже о своей страстной любви говорит в
высшей степени рассудительно:
На сердце у меня лежит тяжёлый камень:
Не истребителей во мне, любовь, твой пламень.
Всей силою моей я днесь тебя борю:
Но ни малейшего успеха я не зрю.
Герой Карамзина даже о мелочах говорит с излишней пате¬
тичностью:
Я вижу там лилею,
Ах, как она бела,
Прекрасна и мила!
Душа моя пленилась ею,
Хочу её сорвать,
Держать в руках и целовать;
Хочу, — но рок меня с лилеей разлучает,
Ах! бездна между нас зияет!..
Тоска терзает грудь мою;
Стою печально, слёзы лью.
277
Роль Пушкина
в развитии
русского стиха
И в том и в другом случае стих как типизированная форма
эмоциональной речи, которая должна дать живую речевую форму
данному переживанию и тем самым сделать его конкретной кар¬
тиной человеческой жизни, не полностью связан с переживанием,
односторонен, не полностью осуществляет свои выразительные
возможности. В творчестве Державина, Жуковского, Батюшкова
начинается преодоление этой ограниченности стиха. В творчестве
Державина впервые в русской поэзии начинает говорить полным
голосом человеческая личность. Наряду с высокой тематикой
Державин вводит в поэзию бытовые темы, биографический ма¬
териал, шутку. Всё это значительно расширяет диапазон вырази¬
тельных средств его стиха.
Жуковский совершенствует карамзинский психологизм в
стихе. Батюшков ещё более усиливает гибкость стиха, его соот¬
ветствие выражаемым в нём переживаниям. Наконец, Пушкин
выступает в качестве реформатора русского стиха, как и русской
литературы вообще.
В творчестве Пушкина находит своё наиболее
полное выражение реалистический метод, родо¬
начальником которого он явился в России.
Реализм создаёт типические характеры, т. е.
характеры, которые всесторонне, в принципе, отражают жизнь, в
которых показан человек во всём богатстве его переживаний и
поступков.
Отсюда писатель-реалист стремится к передаче речи своих
персонажей, сохраняя богатство живой речи во всём разнообразии
её социальных, психологических и прочих мотивировок. Язык для
реалиста есть часть характера, в него переходят состояния харак¬
тера, ими он мотивирован. Поэтому он вбирает в себя все черты
живой речи, рисуя при помощи различных оттенков слова, инто¬
наций и т. д. данный характер. Если классицизм и сентимента¬
лизм, каждый по-своему, не в состоянии были достичь полного
единства формы и содержания, в силу односторонности своего
подхода к жизни, и недочёты содержания определяли в них и не¬
дочёты формы, в частности стиха, то реализм, наоборот, в своём
полноценном выражении необходимо предполагает это единство
формы и содержания. Это и было в русской литературе осуще¬
ствлено именно Пушкиным. Творчество Пушкина явилось новым
этапом в истории русского стиха.
Реалистичность Новизна пушкинского стиха состояла не
стиха Пушкина столько в том, что Пушкин вводил новые раз¬
меры и формы, хотя и в этом отношении им
было сделано многое (в частности, благодаря его пьесе «Борис
Годунов» в русской поэзии стал популярен белый стих; в
«Евгении Онегине» Пушкин ввёл 14-строчную строфу). Главное
было в том, что Пушкин распространил на стих реалистические
принципы творчества, т. е. подчинил стихотворную форму задаче
всестороннего изображения характера. Требуя от литературы
278
«истины страстей, правдоподобия чувствований», он настаивал
на том, что необходимо «приблизить поэтический слог к благо¬
родной простоте», «создавать обороты для изъяснений понятий
самых обыкновенных». Эту задачу Пушкин и осуществлял в стихе
путём тончайшего использования всякого рода ритмических оп¬
ределителей, благодаря которым стих его и звучал как непосред¬
ственное речевое выражение переживаний и состояний персона¬
жей. Пушкинский стах даёт как бы речевую картину пережи¬
ваний персонажей, раскрывает в слове, в интонации, в паузах их
внутреннюю жизнь. В монологе барона («Скупой рыцарь») перед
нами сложная цепь переживаний. Вдумываясь в них, мы видим,
как полно эти переживания переходят в слова, в интонации, в
звучание стиха и именно благодаря им получают свою конкрет¬
ность, свою жизненную убедительность.
Вначале барон спокоен, речь его правильна, только обилие
переносов указывает на его необычное состояние:
Как молодой повеса ждёт свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.
Но с каждым словом волнение барона, пафос его наслажде¬
ния своим скрытым могуществом всё нарастает. Когда он дохо¬
дит до слов: «Я царствую!», Пушкин переходит от белого стиха
к рифмованному:
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастие, в ней честь моя и слава.
Этот переход средствами стиха заставляет читателя ощутить
то новое, что зазвучало в речи барона, её высшее эмоциональное
напряжение. И в этот-то момент барон вспоминает о сыне.
И здесь, на вершине своего торжества, он с такой же силой ощу¬
щает отчаяние, чувствуя неизбежную гибель этого имущества.
Снова повторяется восклицание: «Я царствую!», снова звучат
рифмы:
...но кто вослед за мной
Приимет власть над нею? Мой наследник?
Безумец, расточитель молодой,
Развратников разгульных собеседник!
И начинается переход ко второй, трагической части монолога.
Рифма отметила и вершины эмоционального напряжения, и его
перелом. И далее речь принимает всё более взволнованный ха¬
рактер: мы видим повторение одних и тех же слов (он—он—он,
совесть — совесть — совесть), нарастание вопросительной инто¬
нации (а по какому праву?, ...груды загребает?, ...всё это стоило?,
..мёртвых высылают?), резкие паузы (Он расточит... А по
какому праву?), наращивание одинаковых клаузул (совесть г—
279
совесть — собеседник — ведьма — могилы — высылают — не¬
счастный). Все эти речевые средства представляют собой не что
иное, как осуществление переживания, переходящего в речь, пе¬
редающую все его оттенки. В зависимости от такого строения
речи приобретает своеобразие и ритм: восклицания, насыщающие
стих, определяют большое количество в нём сверхсхемных уда¬
рений (он разобьёт, он грязь, он расточит, мне разве даром, кто
это знает, всё это стоило), переносы, расстановка клаузул—всё
это служит единой цели. Выше мы приводили пример смены ин¬
тонаций в зависимости от смены переживаний в «Борисе Году¬
нове», в свою очередь определившей особенности ритма. Вот
эта глубочайшая художественная мотивированность стиховой
структуры, где все элементы стиха являются элементами живой
речи, и составляет основу той реформы стиха, которую совершил
Пушкин. Каждый элемент стиха сам по себе художественно
нейтрален. Мы не можем сказать, какое значение сам по себе
имеет тот или иной тип ритма, размер, интонационный оборот, пе¬
ренос и т. п. Но у Пушкина они появляются именно там, где раз¬
витие переживания требует введения повышенного по своей вы¬
разительности речевого оборота. В связи с содержанием они и по¬
лучают своё данное эмоциональное значение. Когда в том же
«Скупом рыцаре» Альбер говорит Соломону:
...полно, полно.
Ты требуепн? заклада? Что за вздор!
Что дам тебе в заклад? Свиную кожу?
Когда б я мог что заложить, давно
Уж продал бы. Иль рыцарского слова
Тебе, собака, мало? —
то в его речи переносов, во-первых, мало, а во-вторых, и глав¬
ное — они связаны с полушутливой, полупренебрежительной ин¬
тонацией, с которой он обращается к собеседнику.
Но когда Альбер, вне себя от негодования, прогоняет Соло¬
мона, который предложил ему отравить отца, то его задыхаю¬
щаяся речь придаёт этим переносам совершенно иное значение, и,
в свою очередь, благодаря им состояние Альбера обрисовывается
с наибольшей полнотой:
Вон, пёс! Вот до чего меня доводит
Отца родного скупость! Жид мне смел
Что предложить! Дай мне стакан вина,
Я весь дрожу... Иван, однако ж деньги
Мне нужны. Сбегай за жидом проклятым,
Возьми его червонцы. Да сюда
Мне принеси чернильницу. Я плуту
Расписку дам. Да не вводи сюда
Иуду этого...
Примеры эти очень отчётливо обрисовывают то новое, что
внёс Пушкин в развитие русского стиха. Это принцип глубокой
жизненной правды, перенесённый на все оттенки живой речи.
280
Стих Некрасова
Персонаж говорит так, как он должен говорить в самой жизни
при данных обстоятельствах (будет ли это персонаж драматиче¬
ского или эпического произведения или лирический герой — но¬
ситель данного переживания). Мы ощущаем убедительность
стиха Пушкина именно потому, что мы чувствуем: если бы мы
с такими же страстями находились в такой же ситуации, наша
речь звучала бы так же, т. е. с той же степенью выразительности,
с такой же интонацией. Именно это и выразил Л. Толстой, когда
говорил, что «у Пушкина не чувствуешь стиха... чувствуешь, что
иначе нельзя сказать».
Эти принципы работы над стихом, найденные и развитые
Пушкиным, определили развитие русского стиха вплоть до на¬
шего времени. Но понятно, что наряду с ними возникали в его
позднейшем развитии и новые явления, развивавшие и дополняв¬
шие то, что было дано Пушкиным.
Так, много нового вошло в русский стих
благодаря деятельности Некрасова. Некрасов
ввёл в стих много элементов из народного стиха. В то время как
пушкинский стих строился главным образом на двусложных раз¬
мерах (они дают 94,6% всех его стихов — 37 724 строки), а слож¬
ным размерам уделял весьма мало внимания (всего 1,5% у Пуш¬
кина дают трёхсложные размеры — 592 строки), некрасовский
стих выдвигает трёхсложные размеры на равноправное место с
двусложными (на 145 стихотворений, написанных двусложными
размерами, у него приходится 92, написанных трёхсложными
размерами, причём среди них такие большие, как «Мороз —
Красный нос», «Железная дорога», «Рыцарь на час» и др.). При
этом очень часты у Некрасова дактилические окончания, осо¬
бенно характерные для народного стиха. Они придают иной,
сравнительно с пушкинским, характер и двусложным размерам
(и хорею в «Коробейниках», и ямбу в «Кому на Руси жить хо¬
рошо»).
Все эти черты связывают стих Некрасова именно с народным
стихом (трёхсложные размеры также перекликаются с ним) и
становятся вполне понятными, если учесть всё общее направле¬
ние его творчества.
В конце XIX — начале XX вв. много нового
Стих вносят в стихосложение символисты (Брю-
символистов сов> 5алъмонТ( Белый, Блок). Они широко раз¬
рабатывают строфику, много внимания уделяют звуковой орга¬
низации стиха, большое развитие у них находит дольник. В ряде
случаев увлечение стихотворной формой у символистов имело
односторонний характер, оно служило средством увести читателя
от политических вопросов времени и шло в ущерб содержанию,
но в целом у лучших поэтов, в особенности у А. Блока, эта разно¬
сторонность стиха обогатила русскую поэзию новыми вырази¬
тельными средствами.
281
Наконец, новую реформу в стихосложении
Реформа совершил Маяковский. Он выдвинул на пер-
вый план тонический стих. Сам по себе этот
стих был известен и раньше, но Маяковский настолько полно его
разработал, что он стал наравне с силлабо-тоникой основной
системой стихосложения в современной поэзии.
Эта реформа точно так же вытекала из того нового содержа¬
ния, которое принёс Маяковский в литературу. Он явился в рус¬
ской поэзии выразителем революционного отношения к действи¬
тельности, предвестником революции,
Стихи Маяковского характеризуются необычайным эмоцио¬
нальным напряжением, он гневно разоблачает общество, обре¬
кающее человека на страдания, он потрясён страданиями чело¬
века и зовёт его на борьбу.
Душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя —
писал он, лирически претворяя образ Данко, созданный Горьким.
В центре творчества раннего Маяковского — лирический об¬
раз поэта, негодующего, страдающего, зовущего к восстанию.
Этот круг переживаний исключительного эмоционального на¬
кала требовал и соответствующего языка, который Маяковский
и создавал. Он насыщен словами необычайной напряжённости,
вплоть до крайней резкости. Синтаксис Маяковского строился на
фигурах, особенно подчёркивавших эмоциональность речи, на об¬
рывах фразы, на пропусках и т. д. Тропы его также крайне
остры. Эта эмоциональность языка приводила к тому, что у
Маяковского резко повышался удельный вес слова, слово у
него в особенности фразово, ударение в нём звучит с особой
силой. Отсюда и вытекало стремление Маяковского к тониче¬
скому стиху, который характеризуется своеобразной ритмообра¬
зующей силой ударений, повышением их значения в стихотвор¬
ной строке.
Строка у Маяковского распадается на отдельные слова боль¬
шой эмоциональной силы, отделённые друг от друга паузами;
отсюда его стремление печатать стихи «лестницей» (так назы¬
ваемый ступенчатый стих):
Я
с ношей моей
иду,
спотыкаясь.
Ползу
дальше
на север.
Таким образом, стих Маяковского строится на том, что
строки его соизмеряются по числу ударений (и по количеству
пауз между словами), т. е. представляют собой тонический стих.
282
Эта реформа Маяковского была глубоко закономерна, т. е.
вытекала из того нового содержания, которое он вносил в
поэзию.
Следует лишь заметить, что система Маяковского не отме¬
няла, как это иногда думают, систему пушкинского стиха. Она
дополняла её, поскольку Маяковский должен был выразить та¬
кие переживания, которых не было раньше, и, следовательно,
найти новые средства выражения для них. При этом он должен
был искать именно наиболее повышенные по своей эмоциональ¬
ности средства выражения. Если же поэт должен выражать круг
переживаний, средства для выражения которых уже были разра¬
ботаны раньше, то он и обращается к тому, что дано в пушкин¬
ском стихе, в некрасовском стихе и т. д., лишь по-своему индиви¬
дуализируя эти средства. Поэтому в современной советской
поэзии мы наблюдаем развитие и силлабо-тонического, и тониче¬
ского стиха в равной мере.
Характеристика развития русского стиха в основных её мо¬
ментах позволяет нам заключить, что в основе этого развития ле¬
жит то единство формы и содержания, о котором мы выше уже
говорили.
часть т^ьетъя
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
Творчество
писателя шире
его биографии
ГЛАВА I
СТИЛЬ, ТЕЧЕНИЕ, МЕТОД
Стиль писателя
В разделе «Мировоззрение и творчество» мы цитировали слова
Гёте о том, что в творчестве писателя «нет ни одной чёр¬
точки, которая не была бы пережита». Совершенно очевидно, что
творчество писателя неразрывно связано с его личностью, с его
неповторимым жизненным опытом, с его мировоззрением, куль¬
турой, биографией. «Творить—то значит над собой нелицемерный
суд держать», — справедливо сказано было Ибсеном.
Мы знаем, что произведение — шире личности
художника. Оно получает независимо от его
субъективной идеологии объективное значе¬
ние, потому что, как мы помним, образ — шире
идеи писателя. Говоря о том, что в творчестве «нет ни одной чёр¬
точки, которая не была бы пережита», — Гёте справедливо до¬
бавлял: «Но вместе с тем, ни одна черта не представлена именно
в таком виде, в каком она пережита». Поэтому, указывая на ту
связь, которая существует между личностью художника и его
творчеством, мы ни в коем случае не устанавливаем равенства
между его творчеством и его биографией, исходя из положения,
что творчество художника шире его биогра¬
фии. Но в то же время очевидно, что индивидуальность писателя
не может не проявить себя в произведении. Это сказывается, как
мы помним, в выборе материала, в его композиции, в его оценке,
в речи повествователя и т. д. Те выводы, к которым мы пришли,
рассматривая единство формы и содержания, позволяют нам по¬
нять, что в сущности все стороны произведения так или иначе
будут окрашены творческой индивидуальностью писателя.
В самом деле, идейно-тематическая основа произведения ска¬
жется в характерах, в том числе и в характере повествователя,
характеры скажутся в языке, в том числе и в языке повествова¬
теля, круг характеров в связи с данным жизненным материалом
определит и круг событий, т. е. сюжет произведения. В основе
этого будет лежать тот жизненный опыт, который накоплен пи¬
сателем, и то идейное освещение этого опыта, которое подска¬
284
Единство жиз¬
ненного опыта
в творчестве
писателя
зывает писателю его мировоззрение. Мы можем определить с
достаточной полнотой мировоззрение и жизненный опыт писа¬
теля на основании данного произведения (помня, что оно даёт
возможность и для более широких выводов). И в языке, и в сю¬
жете, и в характерах, и в темах, и в идеях проявляется личность
писателя. Тем самым и ряд произведений, принадлежащих од¬
ному писателю, будет обнаруживать сходство во всех этих от¬
ношениях. Здесь перед нами то же единство формы и содержа¬
ния, но, только в более сложном виде. В самом деле, в произве¬
дениях, принадлежащих одному писателю, мы уловим прежде
всего идеологическое единство, поскольку писатель, ставя раз¬
личные в каждом произведении проблемы, будет, естественно, ис¬
ходить из единой в своей основе точки зрения на действитель¬
ность, Так, например, во всех произведениях Горького постав¬
лены вопросы, связанные с революционной борьбой рабочего
класса за освобождение, все они объединены социалистической
точкой зрения на действительность.
С другой стороны, во всех произведениях пи¬
сателя мы ощутим единство жизненного опыта,
обусловленное биографией писателя. Он мо¬
жет рассказать только о том, что им самим
изучено, пережито, прочувствовано, проду¬
мано. Богатство жизненного опыта Горького, его необычайно
широкий кругозор опять-таки вытекают из его биографии. Не¬
редко мы явно ощущаем у писателя, с каким жизненным мате¬
риалом он прежде всего связан, — так, Шолохов пишет преиму¬
щественно о донском казачестве, Панфёров — о, крестьянах По¬
волжья, Фадеев — о сибирских партизанах и т. д., каждый из них
разрабатывает в ряде произведений именно свой, индивидуаль¬
ный, им хорошо знакомый, материал.
Единство идейно-тематической основы произ-
Едннство формы ведения неминуемо скажется в единстве ха-
р рактеров, которые показывает писатель в ряде
произведений. Это не значит, что характеры эти будут похожи
друг на друга. Единство их может выражаться в том, что они
будут связаны с теми жизненными противоречиями, которые пи¬
сатель считает важными, с той жизненной средой, которую он
преимущественно изображает, и т. д. Так, мы легко заметим,
что через всё творчество Горького проходит образ рабочего-
революционера. В то же время Горький постоянно возвращается
и к образам тех, с кем ведёт борьбу революционный пролета¬
риат, — к образам, рисующим те или иные стороны буржуазии.
Характеры, рисуемые писателем, будут связаны с тем кругом
жизненных вопросов, которые он ставит на протяжении своего
творчества, а так как эти вопросы он ставит, исходя из единой
точки зрения на мир, то и характеры в ряде его произведений
будут между собой перекликаться. А отсюда мы легко, уловим
такую же перекличку, принципиальное сходство основных осо-
285
бентостей (при различии, естественно, конкретных свойств) и в
сюжетах, и в языке писателя, проявляющееся на протяжении
всей его литературной деятельности.
Таким образом, мы будем наблюдать сходство, точнее —
единство основных идейно-худо жественных
особенностей (иде и—т емы — характеры — язык),
обнаруживающееся на протяжении всей твор¬
ческой работы писателя. Такое единство называют
обычно стилем писателя (понятно, что мы должны учи¬
тывать и изменение стиля писателя, его противоречия, его раз¬
витие).
Термин этот представляет собой непрерывно расширяющуюся метонимию.
Первоначально стилем называли палочку, имевшую на одном конце остриё,
на другом — лопаточку; такую палочку римляне употребляли для того, чтобы
писать на дощечке, покрытой тонким слоем воска. Остриё играло роль пера,
лопаточкой же воск растирали, для того чтобы стереть написанное ранее или
исправить ошибку. Затем — в порядке замены явления каким-либо одним
его признаком — стилем стали называть почерк человека (узнать по стилю —
узнать по почерку). Затем эта метонимия ещё более расширилась, стали назы¬
вать стилем самую манеру письма, особенности языка, слог. И, наконец,
стилем стали называть все индивидуальные особенности творчества писателя
в целом, руководствуясь известным афоризмом: «Стиль — это человек».
Стпть Стиль—это в общем смысле слова повторяю¬
щееся в многообразии отдельных проявлений
единство основных особенностей, присущих всем этим явлениям
в целом, короче, стиль — это единство в многообразии. Иногда
термин стиль трактуют ещё более широко, говоря о стиле ряда
писателей, сходных по своим основным творческим особенностям.
Но, во избежание путаницы и нечёткости в терминологии, мы бу¬
дем говорить только о стиле писателя. Мы непосредственно ощу¬
щаем это стилевое единство ряда произведений всякого крупного
писателя, улавливая его прежде всего в языке, а затем восходя
от языка к характерам и т. д., и во всех остальных основных осо¬
бенностях его творчества. Мы часто угадываем, кем написано
то или иное произведение, хотя не знаем ни его названия, ни ав¬
тора. Это и значит как раз, что мы почувствовали стиль писателя,
уже известный нам по другим произведениям.
Вот два отрывка:
1. «Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало
на столе, покрытое саваном и окружённое свечами. Столовая была полна дво¬
ровых».
2. «Иван Кузьмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрез¬
вычайно бледна. Мало-помалу буря утихла».
Мы ясно ощущаем их сходство, стилевую близость; перед
нами короткие фразы, быстро развивающееся повествование
(каждая фраза вносит нечто новое в ситуацию).
Читатель, вероятно, уже почувствовал, что примеры наши
взяты из пушкинской прозы.
Возьмём два других примера:
286
1. «Он был недоволен ею за то, что она не могла взять на себя отпустить
его, когда это было нужно (и как странно ему было думать, что он, недавно
ещё не смевший верить тому счастию, что она может полюбить его, теперь
чувствовал себя несчастным оттого, что она слишком любит его!), и недоволен
собой за то, что не выдержал характера. Ещё более он был в глубине души
несогласен с тем, что ей нет дела до той женщины, которая с братом, и он
с ужасом думал о всех могущих встретиться столкновениях».
2. «Ещё мейее могла она понять, почему он, с его добрым сердцем, с его
всегдашнею готовностью предупредить её желания, приходил почти в отчая¬
ние, когда она передавала ему просьбы каких-нибудь баб или мужиков, обра¬
щавшихся к ней, чтобы освободить их от работ».
Очевидно, насколько отличаются эти очень сходные между
собой отрывки, также взятые из двух различных произведений,
от выше приведённых. Перед нами очень сложные и запутанные
фразы, внимание автора обращено- на то, чтобы передать прежде
всего внутреннюю жизнь героев, фразы скорее варьируют одна
другую, чем вносят новое в повествование, как у Пушкина, и т. д.
И мы с такой же лёгкостью улавливаем сходство этих двух по¬
следних примеров, их стилевое единство, и угадываем автора—
Л. Толстого.
Если бы мы могли последовательно сравнивать между собой
все стороны творчества Пушкина и Толстого, мы увидели бы,
как наше представление о стиле каждого из них постепенно рас¬
ширялось бы, вбирало бы в себя всё более общие стороны их
творчества: сюжеты, характеры, темы, идеи. Стиль есть единство
всех элементов произведения, начиная с композиции целого и
кончая отдельным эпитетом.
Стиль накладывает мощный отпечаток на всё, что изображает
художник. В том случае, если два художника говорят об одном и
том же, они в то же время проявляют в этом и свою творческую
индивидуальность, без понимания которой нельзя понять и того,
что ими изображено. Особенно ярко это значение стиля можно
наблюдать в живописи тогда, когда, например, портрет одного
лица рисуют художники с резко выраженной индивидуальностью.
Между портретами мосье Шаке, нарисованными и Сезанном, и
Ренуаром, или портретами герцога Ольвареса, которые были на¬
рисованы и Рубенсом, и Веласкезом, мы установим весьма много
различий, которые определяются именно тем, что отражение
действительности художником было одновременно и выявлением
его творческой личности, проявлением его индивидуального,
только ему присущего, стиля.
Говоря о стиле, как единстве основных идейно-
Развитис стиля художественных особенностей творчества, т. е.
как о единстве формы и содержания, характерном для творче¬
ства именно данного писателя, мы отнюдь не имеем в виду того,
что основные стилевые особенности его неизменно повторяются
в каждом произведении.
Писатель работает в течение десятков лет. Л. Толстой ро¬
дился в 1828 г. и умер в 1910 г.; за 82 года своей жизни он на¬
блюдал сложный процесс развития общественной жизни: он жил
287
и при отмене крепостного права в 1861 г., и при революции
1905 г.; его мировоззрение менялось настолько резко, что Ленин
говорил о его идейном переломе; следовательно, и стиль его ме¬
нялся соответственно изменению его мировоззрения и окружав¬
шей его общественной жизни. Если в отдельном произведении
отражён тот или иной отдельный период общественной жизни в
определённый период идейного и жизненного развития писателя,
то всё его творчество в целом, развитие его стиля даёт нам пред¬
ставление о жизненном процессе в значительно более широком
его охвате, показывает нам рост и эволюцию творчества писа¬
теля в целом. Те жизненные явления, которые в начале его твор¬
ческого пути только намечаются, в конце его получают ясность
и определённость; то, что в одном произведении писатель затро¬
нул односторонне, неполно, в более поздних произведениях ему
удаётся показать ярко и отчётливо; смена произведений отра¬
жает и смену событий общественной жизни, и смену тех идейных
исканий художника, которые характерны для развития его миро¬
воззрения. Поэтому одно произведение писателя как бы бросает
свет на другие, одни характеры становятся более понятны благо¬
даря изображению близких им по основным свойствам в других
произведениях и т. д.
Так, мы можем проследить в творчестве Горького чрезвы¬
чайно интересную эволюцию образа революционера, начиная с
первых, бегло очерченных образов стихийно, неосознанно недо¬
вольных жизнью людей («Озорник», «Коновалов»), к более пол¬
ным (Нил в «Мещанах»), вплоть до создания образа большевика-
руководителя, вождя (рабочие в пьесе «Враги», Павел в романе
«Мать», Кутузов в «Жизни Клима Самгина»). Соотнося ранние
образы с более поздними, мы уловим в них такие черты, на кото¬
рые мы не обратили бы внимания, если бы рассматривали произ¬
ведение изолированно, вне связи с другими.
Рассматривая образ Озорника в одном из ранних рассказов
Горького, мы не уловили бы в нём элемента стихийного недоволь¬
ства жизнью и, главное, не поняли бы его значения, если бы позд¬
нейшие произведения Горького не бросили бы на него дополни¬
тельный свет, благодаря чему мы глубже понимаем этот
образ.
Таким образом, понятие стиля позволяет нам изучать
произведение в связи .с другими произведениями, поставить
вопрос об эволюции тех или иных характеров, в нём изобра¬
жённых.
Изучив произведение в единстве его формы и содержания, оп¬
ределив и авторские идеи, и объективный смысл его образов, мы
в достаточной мере полно осмыслим его, окажемся в состоянии
усвоить тот круг мыслей, чувств и наблюдений, который вложен
в него писателем. Но мы поймём его ещё глубже, когда наш ана¬
лиз выйдет за пределы только этого произведения, когда мы со¬
отнесём его с другими произведениями писателя, определим его
288
как явление стиля писателя, поймём его значение и
место в развитии этого стиля.
Таким образом, понятие стиля имеет для нас значение прежде
всего потому, что оно позволяет охватить всё творчество писа¬
теля в его развитии и тем самым представить себе всю картину
идейно-художественного развития писателя и весь круг жизнен¬
ных явлений, которые он затронул в своём творчестве в целом.
С другой стороны, оно позволяет нам глубже понять значение
каждого произведения, поставив его в связь с другими, поняв его
место и значение в развитии стиля писателя, зачастую сложного
и противоречивого.
Ясно, конечно, что конкретное раскрытие понятия стиля воз¬
можно только в результате историко-литературного анализа
творчества того или иного писателя. Мы здесь можем только
указать на те общие соображения, которые следует иметь в виду,
изучая стиль писателя, на значение этого понятия.
Понятие стиля подводит нас к ещё одному
Литературный
процесс
изолированно от
важному выводу. Мы видим благодаря ему,
что произведение не существует само по себе,
других. Оно входит как отдельное звено в
сложную цепь предшествующих ему и следующих за ним произ¬
ведений, т. е. является отдельным моментом литературного про¬
цесса в целом. Одно произведение сменяет другое, они в своей
смене отражают смену различных моментов общественной жизни,
различные этапы её, различные периоды идейного развития писа¬
теля, подсказанные развитием жизни. И понять литературное
произведение — значит определить его место и значение в этом
литературном процессе.
Стиль писателя является наиболее простой формой этого лите¬
ратурного процесса. Писатель не является одиночкой в жизни.
Он связан с определённой общественной группой, классом, выра¬
жает взгляды, присущие не только лично ему, но сложившиеся
в известной общественной среде, вкусы, симпатии и антипатии
которой он разделяет и выражает в своём творчестве. Вместе с
ним в литературе выступают и другие писатели, сложившиеся в
близкой ему среде, испытывающие такое же, как и он, её идей¬
ное воздействие. Тем самым, при всём индивидуальном отличии
одного писателя от другого по его таланту, культуре, жизнен¬
ному опыту и пр., между ними всё же будет возникать известная
близость, определяющая сходство их идейно-художественных
особенностей, их стилей. Наряду с тем единством, которое мы
наблюдали в пределах творчества одного писателя, мы встре¬
чаем в литературном процессе и более сложное единство в твор¬
честве близких друг другу писателей, то, что часто называют
стилем в широком смысле слова, течением, направлением, лите¬
ратурной школой.
19 Тимофеев
289
Литературное течение
Единство формы и содержания, которое мы
Творческое рассматривали на примере отдельного про-
писателей изведения, выступило вслед за тем перед
нами в более сложном и расширенном виде
в стиле писателя.
Ещё более сложную, противоречивую, охватывающую ещё
больший период времени, и в то же время единую в своей основе
картину творческого единства формы и содержания в их наиболее
общих взаимоотношениях мы наблюдаем в творчестве ряда
близких друг другу писателей.
Легко убедиться в том, что мы столкнёмся с однородностью
художественных особенностей произведений и выйдя за пределы
творчества отдельного писателя.
Очевидно, что во всех произведениях, например, Фадеева мы
установим ряд характерных для его стиля особенностей: в идейно¬
тематическом отношении его произведения будут характеризо¬
ваться изображением борьбы за социализм в революционном её
понимании, в основу его сюжетов везде положены социальные,
классовые конфликты, в центре его произведений стоят харак¬
теры коммунистов, в языке Фадеева очевидно стремление к де¬
мократичности, широкой его доступности.
Обратившись к Шолохову, мы найдём и в его творчестве од¬
нородные явления: и у него содержанием произведений является
борьба за социализм, и у него в центре — ведущие характеры
коммунистов, и у него в основе сюжета—конфликты, характер¬
ные для определённых периодов социалистического строитель¬
ства, и его подход к языку отличается стремлением к демокра- •
тичности.
Но эти же принципы были ещё ранее осуществлены Максимом
Горьким, с ними же мы в тех или иных формах сталкиваемся и у
Серафимовича, и у Гладкова, и у Панфёрова, и у других совет¬
ских писателей.
Это объясняется теми же причинами, которые определяют од¬
нородность произведений одного писателя, но здесь эти причины
выступают уже в более общем и широком плане. Перед нами
ряд писателей, стоящих на однородных идейных позициях.
В жизненном опыте каждого из них есть общее: они отражают
единый процесс общественного развития. Отсюда — и единство
идейно-тематических установок, и, следовательно (поскольку мы
выше уже выяснили взаимосвязь всех элементов художествен¬
ного творчества), единство характеров и средств их осуществле¬
ния — языка и сюжета. Всё это, конечно, чрезвычайно многооб¬
разно, зависит от своеобразия жизненного опыта каждого писа¬
теля, от его личной культуры и одарённости, но тем не менее
это позволяет нам рассматривать их деятельность как нечто
исторически цельное и единое. Важно понять, что в творчестве
290
писателя не всё, так сказать, индивидуально ему присуще. То,
что в творчестве Фадеева центральное место занимают образы
коммунистов (Левинсон, Сурков, Алёша), не есть результат
только его личного творчества — такова сама действительность.
Именно поэтому характеры коммунистов занимают центральное
место и у других советских писателей. Сюжеты у этих писателей
в связи с этим получают определённое сходство, в языке их ска¬
зываются однородные установки и т. д. Перед нами «расширен¬
ное воспроизводство» индивидуального стиля писателя, в кото¬
ром индивидуальному мировоззрению писателя отвечает единство
идеологических позиций, объединяющих ряд писателей, инди¬
видуальному жизненному опыту — единство общественной прак¬
тики, в различных областях наблюдаемой и отражаемой каждым
писателем в меру его индивидуального опыта, и, наконец, инди¬
видуальной эволюции писателя отвечает целостное развитие об¬
щественной идеологии и практики. Понятно, что такое единство
возникает на основе классово идеологической близости ряда пи¬
сателей. Идеологическое единство, политическая целеустремлён¬
ность ряда писателей естественно предполагает и их творческое
единство, единство формы и содержания, наиболее основных
особенностей их творчества. Отсюда вытекают сходство их твор¬
ческих интересов, тех сторон реального жизненного процесса, на
которые они направляют своё внимание, отношение к ним и сте¬
пень верности их отражения, круг характеров, которые созда¬
ются ими для отражения жизни, их композиционные и языковые
особенности и т. д.
Возьмём для примера русскую дворянскую литературу конца XVIII в.
В этот период значительная часть дворянства занимает реакционные позиции
по отношению к растущему капитализму, пытаясь сохранить неприкосновен¬
ность феодально-крепостнических отношений, выступая на защиту крепостного
права, и т. д. Рост крестьянских волнений, усиление буржуазного развития со¬
здают в то же время у ряда писателей иное отношение к жизни. Они вступают
на путь критики крепостного права, резко обличают дворянство, усваивают
идеи французской буржуазной революции. В одном случае писатели в той или
иной мере пытаются отражать действительность так, чтобы показать в ней
ведущие тенденции исторического процесса, в другом случае они стремятся
показать их вредность, ненужность, утвердить незыблемость старой жизни
(консервативное дворянство). Эта идеологическая диференциация в области
литературного творчества выступает и как творческая диференциация. Писа¬
тели консервативные, представители сентиментализма (Карамзин, Бог¬
данович, Дмитриев, Шаликов, Ив. Долгорукий и др.) стремятся доказать цен¬
ность патриархальных устоев и гибельность новых сторон жизни. Отсюда ха¬
рактерное для них изображение города и городской культуры, которые наде¬
ляются всеми отрицательными чертами (разврат, корыстолюбие, отсутствие
каких бы то ни было моральных устоев и т. д.), и характеры городских жите¬
лей как носителей всех этих качеств города. Наряду с этим создаётся образ
идиллической патриархальной деревни, наделённой положительными качест¬
вами и лишённой отрицательных. Проявляется стремление замолчать подлин¬
ные картины эксплоатации крепостных, даётся условное, нереалистическое
изображение деревни как места игр счастливых поселян:
Но что за шум? Какой хаос
Мои там подняли крестьяне?
Ах, я забыл, что сенокос —
19*
291
Пусть пляшут мирны поселяне...
Они не знают, что печаль
Удел чувствительного мира...
(И. Долгорукий.)
Наряду с образами мирной деревни и веселящихся поселян создаётся
образ отца-покровителя и благодетеля-помещика, заявляющего:
Вы мне будьте вечно чада,
Я вам буду век отец...
(В. М а й к о в.)
Сам помещик изображается как человек, отрешённый от грубых земных
интересов, исполненный «чувствительной печали». В связи с этим рисуется
природа, противостоящая развитию городских отношений, культивируется
прославление простоты, естественности чувства в противовес городской рас¬
судочности и т. д. Отсюда вырастает композиционное противопоставление
деревни развратному городу, который наступает на идиллическую деревню и
губит её (см. «Бедную Лизу» Карамзина). Отсюда же вытекает стремление к
историзму, к прославлению патриархального прошлого, к фантастике:
Ах! не всё нам горькой истиной
Мучить томные сердца свои,
Ах! не всё нам реки слёзные
Лить о бедствиях существенных,
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов.
(Карамзин.)
Самые характеры изображаются главным образом по линии эмоциональ¬
но-психологической их характеристики с устранением всякой реальной
социальной обстановки, вне реальных жизненных событий и т. д.
Этот круг характеров определяет и своеобразную систему языка — ив
отношении синтаксиса, передающего интонацию «чувствительного» характера
(«ах», обращения восклицания), дающего чрезвычайно эмоционально насыщен¬
ные формы, — и по линии лексики, условно красивой, насыщенной эмоцио¬
нальной терминологией, весьма далёкой от подлинного языка самой жизни.
Отказываясь от «высокого штиля», Карамзин вовсе не заменял его реали¬
стическими принципами в работе над языком, стремясь создать лишь очень
односторонний язык, необходимый для изображения односторонних и идеали¬
зированных характеров. Отсюда — весьма строгий отбор, которому подвергал
Карамзин слова разговорного языка, в особенности крестьянского просторе¬
чия, прежде чем ввести их в литературное произведение.
«Один мужик,—писал он,—говорит пичужечка и парень: первое приятно,
второе отвратительно. При первом слове воображаю красный летний день,
зелёное дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или
пеночку и покойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на
природу и говорит: «Вот гнездо! Вот пичужечка!» При втором слове яв¬
ляется моим мыслям дебелый мужик, который чешется неблагопристойным
образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: «Ай, парень! Что за
квас!» Надобно признать, что тут нет ничего интересного для души нашей».
И далее: «Имя пичужечка для меня отменно приятно, потому что я слыхал
его в чистом поле от добрых поселян. Оно возбуждает в душе нашей две
любезных идеи: о свободе и сельской простоте».
В этих соображениях Карамзина очень отчётливо проступает та законо¬
мерная связь между характерами и языком, при помощи которого они изо¬
бражаются, о чём мы раньше говорили. Таким образом, перед нами единые
идеологические позиции ряда писателей, единый круг характеров, единые осо¬
бенности языка и композиции, — иными словами, определённое единство
292
формы и содержания. Наоборот, у писателей, прогрессивно настроенных
(Лукин, Фонвизин, Княжнин, Крылов первого периода, Новиков в первом
периоде его журнальной деятельности, Радищев), мы на основе иных идеоло¬
гических позиций имеем совсем иные творческие выводы. Эти писатели резко
отрицательно трактуют крепостническую деревню как цитадель консерватив¬
ного дворянства, создавая отрицательные характеры консервативных дворян
и противопоставляя им характеры носителей новой культуры и т. д. (ср.
«Бедную Лизу» Карамзина и «Недоросля» Фонвизина). Отсюда сатирические
характеры жестоких помещиков и страдающих крепостных («Каиб», «Почта
духов» Крылова, «Путешествие И. Т.» в «Живописце» Новикова, «Путешест¬
вие из Петербурга в Москву» Радищева и др.). Отсюда обратного типа ком¬
позиция: противопоставление положительного города и отрицательной де¬
ревни, иная лексика, вплоть до воспроизведения местных крестьянских го¬
воров (упоминавшийся выше Лукин) и т. д. Перед нами иная творческая
система, представляющая собой целостное единство в отношении всех особен¬
ностей художественно-литературного творчества.
В каждом определённом историческом периоде в творчестве
ряда писателей мы улавливаем определённое сходство, единство
формы и содержания. В зависимости от особенностей историче¬
ской обстановки оно получает определённую идеологическую
окраску и политическую целеустремлённость. В нём намечается
определённое идейно-тематическое единство, однородность сю¬
жетов, характеров, языка. Это единство определяет, следова¬
тельно, особенности творчества ряда писателей, их близость.
Часто эта близость настолько осознаётся пи¬
сателями, что они выражают её в творческих
декларациях (так называемые «литературные
объявляя себя определённой литературной
аправлением, группой и присваивая себе
определённое название.
Иногда эта близость не подчёркивается с такой ясностью, но
тем не менее отчётливо обнаруживается в единстве творческих
особенностей ряда писателей. Понятно, что это единство не
всегда совпадает с позициями определённого класса. Речь идёт
о творческой близости, которую писатели могут создавать и пре¬
одолевая свои классовые предрассудки, хотя практически клас¬
совая близость писателей может явиться также условием, облег¬
чающим их творческое сближение. Таким образом, наряду с ин¬
дивидуальным стилем писателя мы будем иметь дело с более
широким, обобщающим историко-литературным понятием. Мы
будем это творческое единство ряда писателей обозначать поня¬
тием литературного течения.
Чаще всего литературное течение оформляется в виде литера¬
турной школы, имеющей ту или иную общественную организа¬
цию, теоретическую платформу и т. п., но и при отсутствии таких
организационных форм историк литературы вправе отнести ряд
писателей к определённому литературному течению, руководст¬
вуясь единством их творческих особенностей.
Литературное течение, следовательно, представляет собой
единство основных идейно-художественных
особенностей, обнаруживающееся в о пред е-
Литсратурное
течение
манифесты»),
школой, н
293
ленный исторический период в творчестве
ряда писателей, близких друг другу по своей
идеологии и жизненному опыту.
Как и понятие стиля, понятие литературного течения помогает
нам охватить чрезвычайно широкий круг жизненных вопросов,
затронутых в творчестве ряда писателей в определённый истори¬
ческий период, дать ещё более широкую, чем при анализе стиля
одного писателя, картину жизни данного периода и идеологиче¬
ской эволюции той или иной общественной группы, определившей
идеологию писателей, относящихся к данному течению.
И в то же время оно даёт нам ещё более широкую -перспек¬
тиву для определения места и значения, которое занимает не
только произведение в стиле писателя, но и самый стиль писа¬
теля в данном течении. Мы будем наблюдать -в историко-литера¬
турном анализе, что данный автор явился зачинателем данного
течения, другой— его продолжателем, третий завершил его раз¬
витие. Перед нами откроется ещё более широкая перспектива для
понимания процесса развития литературы, её связи с развитием
общества. Так, например, в русском классицизме роль зачина¬
теля играл Кантемир, творчество которого закончилось в самом
начале 40-х годов XVIII в. В творчестве Ломоносова, Сумаро¬
кова, Тредиаковского классицизм получает наиболее полное и
широкое развитие в конце первой и в начале второй половины
века, и, наконец, в творчестве Державина, переходящем уже в
начало XIX в., классицизм получает своё завершение и сходит со
сцены как определённое литературное течение.
Таким образом, проследив развитие классицизма как творче¬
ского единства, проявившегося в стилях ряда писателей, мы
охватим почти целый век, сумеем представить себе благодаря
этому жизнь данного периода в целостном её охвате и в то же
время ясно представим себе историко-литературное значение
каждого из писателей, входивших в это течение, его место и зна-
классицизма.
Выше мы говорили о том, что стиль писателя
является совершенно индивидуальным и не¬
повторимым в своих конкретных чертах явле¬
нием. Как не может быть двух одинаковых
людей, так не может быть двух одинаковых
писателей — настолько сказывается в творчестве индивидуаль¬
ный опыт, индивидуальная культура, идеология и пр. В свою оче¬
редь, и литературное течение в более общей форме точно так же
исторически неповторимо. Оно возникает в известный историче¬
ский период, в нём сказываются стремления созданной именно
данными историческими условиями группы, определяющие и те
художественные особенности, которыми оно характеризуется.
Только при очень сходных социальных условиях, при большом
культурном взаимодействии то или иное течение одной страны
может иметь сходство и непосредственно влиять на течение в
чение в развитии
Историческая
обусловленность
литературных
течений
2Э4
другой стране. Так, русский классицизм имеет много сходных
черт с французским классицизмом. Объясняется это тем, что оба
эти течения возникали в очень сходной исторической обстановке—
в условиях развития и во Франции, и в России придворной дворян¬
ской культуры. Но даже и при наличии этих условий русский
классицизм имеет ряд настолько своеобразных черт, придающих
ему национальный, русский характер и особенно ярко сказав¬
шихся в творчестве Ломоносова, что и здесь перед нами два
течения, а вовсе не одно, перешедшее из страны в страну. Тече¬
ние — исторически неповторимо и, следовательно, прочно связано
с определённым историческим периодом.
И стиль писателя, и литературное течение — понятия строго
исторические. В них совершенно отчётливо выступает единство
содержания творчества писателя (или писателей), обусловленное
данной исторической обстановкой, нашедшей в нём своё отраже¬
ние, и формы, столь же ясно исторически обусловленной (харак¬
теры, сюжеты, язык и пр.).
Как мы помним, это историческое понимание литературы яв¬
ляется необходимым выводом из основного нашего положения о
том, что литература представляет собой идеологию, отражение в
сознании писателя определённых сторон жизни в определённый
исторический момент и, следовательно, исторически обусловлен¬
ную во всех своих особенностях.
Изучая, однако, историю литературы, мы сталкиваемся с
тем, что улавливаем сходство между писателями, заведомо не
относящимися к одному течению, жившими и в разное время, и
в разных странах и всё же сходных между собой в каких-то су¬
щественных сторонах своего творчества. Так, мы улавливаем
сходство между Пушкиным, Диккенсом, Чеховым, Мопассаном
и называем их реалистами. Мы улавливаем сходство между
Жуковским, Байроном, В. Гюго и называем их романтиками. Мы
говорим в таких случаях о том, что писатели эти близки по
своему методу, т. е. указываем на какие-то ещё более общие
черты их творчества, чем те, которые имели в виду, говоря о те¬
чении.
Сходства
и различия в
построении обра¬
за у представите¬
лей различных
течений
Художественный метод
Сравнив творчество Пушкина с творчеством
Мопассана, мы легко можем убедиться в том,
что они ни в чём не обнаруживают сходства:
идеи и темы их различны, характеры не имеют
ничего общего, соответственно не обнаружи¬
вают сходства сюжеты и тем более язык.
К этому же выводу мы придём, сравнив творчество Пушкина и
Гюго. Но мы не можем не заметить, что, во-первых, Пушкин
по-разному не похож на Мопассана и на Гюго и что, во-вторых,
между Пушкиным и Мопассаном, несмотря на всё конкретное их
различие, имеется всё же определённое сходство в каких-то наи¬
295
более общих чертах их творчества, тогда как Гюго не похож на
Пушкина, потому что не только даёт иные сюжеты и характеры,
но и, главное, отличается от Пушкина именно общими творче¬
скими чертами.
Говоря о художественном образе, мы уже указывали на то,
что в истории литературы мы сталкиваемся с различными спо¬
собами построения образа. Построение образа, т. е.
тот путь, которым идёт писатель, создавая при помощи вымысла
конкретные и в то же время обобщённые картины человеческой
жизни, имеющие эстетическое значение, определяется прежде
всего тем, что писатель с известной точки зрения отбирает и
обобщает те явления жизни, которые он кладёт в основу своих
образов.
Способ построения образа — это принцип
Художественный отбора и обобщения жизненных
метод фактов, которым руководст¬
вуется писатель, создавая свои
произведения. Это своеобразие в построении образа с точки
зрения тех принципов отбора и обобщения жизненных фактов, ко¬
торыми руководился писатель, и называют художествен¬
ным методом (раньше часто в этом же смысле употребляли
термин направление, иногда термин направление употребляют в
смысле литературное течение).
Мы ощущаем сходство Пушкина и Мопассана, потому что
видим сходство их образов по способу построения, по методу,
и различаем Пушкина и Гюго, потому что видим различие их
метода.
И Пушкин, и Л1опассан стремятся отобрать и обобщить такие
явления, которые уже определились в жизни, типичны для неё,
они изображают, пользуясь словами Аристотеля, то, что есть в
жизни. А Гюго, Байрон, Лермонтов — в его поэмах — стремятся
отобрать и противопоставить тому, что есть в жизни,
такие явления, которые позволяют поставить вопрос о том, что
должно быть в жизни; их интересует поэтому не типич¬
ное, то, что в жизни определилось с достаточной ясностью,
а исключительное, то, в чём можно уловить черты дол¬
жного. Отсюда и вытекают ощущаемые нами сходства и разли¬
чия писателей по их методу.
Мы приводили выше слова современных Пушкину критиков о
том, что людей, подобных Онегину, они встречают вокруг себя
весьма часто, что он типичен для жизни. Наоборот, образ Мцыри
у Лермонтова не вызовет такого рода представлений — настолько
он необычен, исключителен в жизни. В нём выражены представ¬
ления Лермонтова о том, каким должен быть настоящий человек
с его непоколебимой волей и отвагой, с его неукротимым стрем¬
лением к свободе. Образ Мцыри — это также обобщение весьма
важных черт человеческого характера, но в эпоху николаевской
реакции в России, после того как было подавлено восстание де¬
296
кабристов, эти черты не могли быть типичными; улавливая их
только в немногих, лучших представителях тогдашнего русского
общества, Лермонтов противопоставлял исключительность Мцы¬
ри окружавшей его жизни. Способ построения этого образа был
резко отличен от способа построения образов в «Евгении Оне¬
гине».
При всём своеобразии художника по конкретным особенно¬
стям его материала, освещения его и т. п., в самом способе по¬
строения образов, т. е. в методе его, мы улавливаем его сход¬
ство со многими другими художниками, ещё более общее, чем то
сходство, которое мы замечаем у представителей одного течения.
В этом сходстве нет уже ничего конкретного, речь идёт лишь о
сходстве самого подхода писателей к жизни.
Что же лежит в основе такого рода сходств и различий писа¬
телей по методу отражения ими жизни, каковы эти методы, по¬
чему они возникают?
Если мы вспомним данное нами определение образа, то заме¬
тим, что оно имеет в виду именно самый общий подход писателя
к жизни, который может быть осуществлён, в сущности, на любом
материале в любой исторический период. Поэтому образы раз¬
личных писателей всегда различны и неповторимы по материалу
и по идеям, в них вложенным, и в то же время сходны. У авто¬
ров произведений, совершенно друг на друга не похожих, отсто¬
ящих на тысячелетия друг от друга, мы находим — при всём
своеобразии их творчества — однородные, постоянно повторяю¬
щиеся черты: и то, что они говорят именно о людях, и то, что они
показывают их индивидуализированно, и то, что в их творчестве
имеется и элемент обобщения, и эстетическая устремлённость.
Природа художественного образа едина. С этой точки зрения, в
сущности, не должно было бы иметь место возникновение различ¬
ных методов, различных способов построения образов.
Однако в истории литературы мы встречаемся
с резко отличными друг от друга художествен¬
ными методами. Происходит это потому, что
историческая обстановка накладывает свой
отпечаток на восприятие мира человеком и
тем самым и «а характер образов, создавае¬
мых в определённый исторический период. Этот отпечаток,
естественно, является чрезвычайно общим, но всё же мы ясно
ощущаем его у писателей данного периода. В этом смысле и
метод точно так же является историческим понятием, хотя и
чрезвычайно, широким.
Выше мы уже указывали на то, что искусство античного об¬
щества характеризуется тем,- что его понимание мира окрашено
элементом мифологизма. По мере перехода к капиталистическим
отношениям мифологизм исчезает, на смену ему выступают реа¬
лизм и романтизм, которые, как это будет далее показано, тесно
связаны друг с другом, и, наконец, с переходом к социалисти¬
Историческая
обусловленность
различных
художественных
методов
297
ческому обществу выдвигается и новый художественный метод:
метод социалистического реализма.
Таким образом, каждый из основных периодов развития че¬
ловеческого общества характеризуется и особым, именно ему
присущим художественным методом. Каждый из этих периодов
создаёт свои условия для развития искусства, в зависимости от
них по-разному развиваются и те свойства, которые присущи об¬
разному отражению мира. При этом каждый из этих периодов
не в равной мере благоприятен для развития искусства, только в
эпоху социализма искусство может достигнуть полного расцвета.
Смена художественных методов отражает смену общественных
отношений, и сама является её результатом.
Метод есть прежде всего определённый тип отношения искус¬
ства и жизни, вытекающий из определённых исторических .усло¬
вий. Изменение этих условий определяет и изменение отношения
искусства и жизни, т. е. определяет и изменение метода.
Реализм
Реальность и
реалистичность
художественного
изображения
На латинском языке realitas означает действи¬
тельность, realis — действительный. Отсюда и
ведёт своё происхождение термин реализм.
Очевидно его значение. Реализмом на¬
зывают творчество, основанное на стрем¬
лении художника с наибольшей полнотой пере¬
дать в об р'азах характерные черты действи¬
тельности, жизни.
Вообще говоря, действительность всегда отражается в человеческом со¬
знании, какие бы причудливые формы она в нём порой ни принимала, по¬
скольку это сознание и есть не что иное, как отражение действительности.
Поэтому в любом, на первый взгляд фантастичном, нереальном представ¬
лении человека о жизни мы в конечном счёте уловим те реальные, жизненные
причины, которые обусловили его возникновение.
Таково, например, возникновение всякого рода религиозных представле¬
ний. За ними мы видим те реальные явления природы, которые вызвали в
сознании человека представления о вне его лежащей силе, непонятной и
неподвластной ему. Славянский Перун, скандинавский Тор, греческий Зевс,
римский Юпитер в равной мере говорят о том, что поражавшая человека на
ранних стадиях развития стихийная сила грома и молнии отражалась в фан¬
тастическом представлении о боге-громовержце. Она, следовательно, имела
под собой в известной мере реальное основание, в фантастической форме
отражала реальные явления жизни.
Реальность присуща вообще деятельности человеческого
сознания и тем самым вообще присуща искусству. Но её не сле¬
дует смешивать с реалистичностью. Реалистичность — это
уже такое отражение жизни, которое стремится сохранить основ¬
ные черты самой действительности, не нарушая её характерных
особенностей.
298
В «Илиаде» Гомера мы находим следующее описание грозы:
Страшно грянул от Иды Кронид и перун по лазури
Пламенный бросил...
Сеча была б, совершилось бы невозвратимое дело,
В граде своём заключились бы, словно как овцы, трояне;
Но увидел то быстро отец и бессмертных и смертных.
Он, загремевши ужасно, перун сребропламенный бросил
И на землю его, пред конями Тидида, повергнул;
Страшным пламенем вверх воспалённая пыхнула сера;
Кони от ужаса, прянув назад, под ярмом задрожали;
Пышные коней бразды убежали из Старцевых дланей;
С сердцем трепещущим он провещал к Диомеду-герсю:
«Друг Диомед, оборачивай к бегству коней быстроногих.
Или не чувствуешь ты, не тебе от Кронида победа!..»
...Так говоря, обратил он на бегство коней звуконогих...
...Так восклицал; а Тидид волновался в сомнительных думах:
Вспять обратить ли коней и сразиться ли противуставши?
Трижды на думу сию и умом он и сердцем решался;
Трижды с идейского Гаргара грозно гремел промыслитель
Зевс, возвещая троянам победу сомнительной битвы.
Описание грозы находим и в «Отрочестве» Л. Толстого:
«Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами нестерпимо жгло
мне шею и щёки; невозможно было дотронуться до раскалённых краёв брички;
густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух... Всё моё1 внимание
было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издалека, и на
облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие чёр¬
ные тени, теперь собирались в одну большую мрачную тучу... Изредка вдалеке
вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, при¬
ближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небо¬
склон. Только что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя
огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и без малей¬
шего промежутка сопровождается таким оглушительным треском грома, что,
кажется, весь свод небес рушится над нами».
И то и другое описание грозы в достаточной мере реально, на основании
его мы можем судить об определённом явлении природы, которое в нём
отражено. Но описание грозы, данное Гомером, будучи реальным как отраже¬
ние действительности, в то же время далеко не реалистично, поскольку в нём
гроза изображена как вмешательство высшей силы в человеческую жизнь,
связана с целым рядом деталей, привнесённых в неё фантазией художника
и вовсе не присущих ей на самом деле, и т. д. Наоборот, у Л. Толстого опи¬
сание грозы реалистично, т. е. сохраняет черты, присущие ей в жизни, не
приписывает ей свойств, навязываемых ей воображением художника и не
вытекающих из действительности.
Реальность — общее свойство человеческого познания, отра¬
жения жизни, тем самым она общее свойство и искусства.
Реально и искусство первобытного человека, и античное ис¬
кусство и т. д. Но в них нет реалистичности, поскольку воспроиз¬
ведение действительности для первобытного человека имело ма¬
гическое, колдовское значение. Он рисовал на стене пещеры би¬
зона, веря в то, что благодаря этому он сможет удачнее охо¬
титься, и обозначал на бизоне место, куда попадёт его копьё, по¬
лагая, что именно сюда оно на самом деле и попадёт. Рисунок
этот не столько отражал реальную охоту (хотя сейчас именно это
реальное содержание его для нас и ценно), сколько представлял
299
собой магическое заклятие животного и тем самым был связан с
такими представлениями о жизни, которые далеко отстояли от
подлинного её существа.
Равным образом и античное искусство гомеровской эпохи,
весьма реальное по своему содержанию, отнюдь не было реали¬
стичным, так как во многом не сохраняло присущую действи¬
тельности связь явлений между собой и показывало мнимые, а не
подлинные причины их развития.
Поэтому частые указания на то, что искусство первобытного
человека или античное искусство реалистичны, основаны на
смешении этих двух понятий. В них отражено много реального,
но отражено отнюдь не реалистично.
Поскольку художественное творчество всегда представляет
собой отражение реальной действительности в той или иной исто¬
рически обусловленной форме, постольку оно всегда имеет объ¬
ективно познавательное значение, т. е. в той или иной мере ре¬
ально по своему содержанию при всей возможной в данном про¬
изведении фантастичности или неестественности образов.
Но эта его реальность, как мы видели, может быть и не реали¬
стически выражена, т. е. построена из материала, не данного ху¬
дожнику непосредственно самой действительностью. Так, у
Гоголя в рассказе «Ночь накануне Ивана Купалы» основное его
содержание, несомненно, реально: по сути дела в нём идёт речь
о разрушении мирной патриархальной жизни, в которую вры¬
ваются новые, капиталистические отношения, её разлагающие при
помощи золота, денег, толкающих человека на преступления. Но
показано это не реалистично, а при помощи образов, имеющих
фантастический, религиозно-мистический характер. Наоборот,
в «Мёртвых душах» эта же в сущности проблема дана реалисти¬
чески: в столкновении старой дворянской среды с представите¬
лем хищнического капиталистического начала — Чичиковым; об¬
разы «Мёртвых душ» построены реалистически — из материала,
данного художнику самой действительностью.
Отсутствие реалистичности не означает отсутствия реальности
содержания. Могут быть даже случаи, когда тот или иной ху¬
дожник в нереалистической форме глубже улавливает основные
особенности жизни, чем другие—в реалистической. Так, нереа¬
листические рассказы раннего Горького полнее уловили начинав¬
шийся подъём революционного движения, чем многие реалисти¬
ческие произведения того времени.
Основные Понятно, однако, что реалистичность — наи-
особеннооти более ясная и естественная форма передачи
реализма реальности содержания в художественном
творчестве. Поэтому реализм и является самым развитым и зна¬
чительным художественным методом в истории литературы, дав¬
шим наиболее значительные произведения.
Мы называем реалистом писателя, который уловил-в действи¬
тельности характерное, типическое для неё и показал нам его в
300
таких формах, которые присущи самой этой действительности,
могут нами в ней быть проверены, вполне в ней возможны.
Л. Толстой в изображение грозы не вносит ничего, что не свя¬
зано с ней в действительности, не может быть нами проверено, не
характерно для неё. Гомер, говоря о грозе, связывает с ней то,
что находится вне возможностей человеческого восприятия, т. е.
придаёт ей форму, которой она на самом деле в жизни не имеет
и иметь не может. Существенной чертой реализма является
именно то, что он изображает явления действительности в по¬
добной им форме, такими, какими они могут быть наблюдаемы
в самой жизни, и в то же время улавливает в них характерное,
типичное, существенное для этих явлений вообще. Белинский счи¬
тал, что для реализма основными являются два требования ■—
правдивое внешнее описание и глубоко вер¬
ная передача внутреннего содержания.
Для реализма характерно то, что он отбирает в жизни уже
определившееся в ней, улавливает в ней уже действующие, про¬
явившиеся закономерности. «Что такое реализм? — писал Горь¬
кий. — Кратко говоря: объективное изображение действительно¬
сти, которое выхватывает из хаоса житейских событий, человече¬
ских взаимоотношений и характеров наиболее общезначимое... и
создаёт из них картины жизни, типы людей. В лице Онегина мы
видим изображение привычек, мыслей, чувств всей светской
дворянской молодёжи 20-х годов. Едва ли в действительности су¬
ществовал человек, соединявший в себе всё то, чем Пушкин на¬
полнил Онегина, но несомненно, что характернейшие черты Оне¬
гина были свойственны сотням людей этой среды».
Эта связь реализма с тем, что уже определилось в жизни, хо¬
рошо обрисована русским литературоведом Д. Н. Овсянико-Ку¬
ликовским: «Характерная черта реализма в том, что он обобщает
уже известное, установившееся, в этом его психологическая
основа», здесь мы ясно видим ту связь высшего художественного
мышления с обыдённым, которая образует психологическую ос¬
нову реального искусства. Благодаря этой связи обыватель полу¬
чает возможность интимно понять создание художника, — по
крайней мере, те образы, которые в обыдённом мышлении уже
получили некоторую разработку и стали «ходячими типами». И
вот, когда обыватель, встречая их в произведении художника,
легко узнаёт в них, так сказать, своё собственное добро, тогда и
происходит в его сознании тот любопытный и важный процесс
обоюдной апперцепции, в силу которого в одно и то
же время «собственное достояние» читателя уясняется ему обра¬
зами, созданными художником, и эти образы постигаются силою
«собственного достояния», И тогда то, что было смутно, неопре¬
делённо, неярко, становится ясным, определённым, ярким. «Соб¬
ственное достояние» получает характер вопроса, на который дал
ответ художник. Пусть в создании последнего не будет ничего
«совсем нового», но оно воспринимается как новое, потому что
301
ответило на вопрос, пролило яркий свет на знакомое явление, за¬
тронуло нравственное чувство читателя, заставило его заду¬
маться над тем, что он хорошо знал, да не задумывался».
Таким образом, основное в реализме, как в том принципе от¬
бора и обобщения жизненных фактов, которым руководствуется
художник в своём творчестве, является то, что он стремится
брать такого рода факты и улавливать такого рода закономер¬
ности, ими управляющие, которые уже определились, назрели в
самой действительности, и обрисовывает их такими, какими они
являются в самой жизни. Горький передаёт в своих воспомина¬
ниях о Короленко его определение реализма: «Вы можете созда¬
вать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей
сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру
чувств, это не каждому даётся! А самое хорошее в этом то, что
вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что
вы реалист».
Основная..черта реализма, следовательно, состоит в том, что
он строит свои образы, не выходя из предела того материала, ко¬
торый даёт ему действительность, изображает жизнь такой, какой
она есть (даже и в том случае, когда он оценивает её отрицатель¬
но и стремится к изменению её).
Основя реализма—это стремление художника отбирать те яв¬
ления, которые определились в самой жизни, и рисовать их та¬
кими, какими они являются в самой жизни.
Отсюда вытекает характернейшая черта реализма — типич¬
ность его образов. Энгельс писал, что «реализм пред¬
полагает, помимо правдивости деталей, .пра¬
вд и в о с т ь в воспроизведении типичных харак¬
теров в типичных обстоятельствах».
Определение Энгельса (относящееся к искусству досоциали¬
стической эпохи), когда речь идёт о реализме в условиях социа¬
лизма, должно быть дополнено положением о необходимости
изображать новое, растущее, что ещё не является типичным
сегодня, но станет им завтра наверняка.
Понятие типичного подразумевает и наличие обобщения, и
в то же время достаточную обоснованность его реальными, мо¬
гущими быть найденными в самой жизни явлениями.
Говоря о том, что реалист рисует в своём творчестве то, что
в жизни определилось с достаточной чёткостью, мы не должны
прийти к выводу, что в его творчестве не выражены определён¬
ные требования к жизни. Представление об определённом идеале,
с точки зрения которого писатель рисует действительность, эсте¬
тическая оценка жизни, является необходимым условием для
всякого художественного творчества; в каждом произведении
искусства скрыто, в конечном счёте, представление художника о
том, какой должна быть (или не должна быть) жизнь. Но реа¬
лизм, рисуя определившееся в жизни в законченных художест¬
венных образах, не переводит в образы своё представление о
302
должном, если оно ещё не проявилось в жизни. Это должное вы¬
ступает в нём как принцип оценки реально существующих в
жизни явлений, как угол зрения, в котором он воспринимает
жизнь, тогда кик романтизм превращает своё представление о
должном в принцип изображения, т. е. создаёт законченные ху¬
дожественные образы на основе своего представления о том, ка¬
кой должна быть жизнь.
Точно так же было бы неверно прийти к выводу, что реализм,
рисуя определившееся в жизни, ограничивает себя только, так
сказать, сегодняшним днём жизни и не заглядывает в её зав¬
трашний день. Всякое явление, как мы знаем, существует в раз¬
витии, в нём борются старое и новое, отмирающее и развиваю¬
щееся. Дать верное изображение явления, т. е. определить его
типические черты, — значит показать его в развитии, про¬
цессе, т. е. заглянуть в его завтрашний день. Поэтому и реалисти¬
ческое произведение, рисующее явления такими, какими они уже
определились в жизни, и может и должно затрагивать вопрос
и о том, какими они становятся, в каком направлении они разви¬
ваются. Нам ясно, например, не только то, какими являются
в произведении лучшие образы русской литературы, но и то, что
ожидает их в будущем. Мы можем себе представить развитие
типа пушкинской Татьяны, связать его с декабристским движе¬
нием и т. д.
Но всё же основное внимание реалиста сосредоточено на изо¬
бражении жизни, какой она есть, и перспектива завтрашнего дня,
и представление о должном в жизни в нём выступают не в плане
непосредственного изображения их в образах, а как тот угол зре¬
ния, о котором мы выше говорили. Это связано прежде всего с
тем, что и в реализме не все основные свойства искусства прояв¬
ляются с равноправной полнотой, он ограничен теми историче¬
скими условиями, в которых он складывается и развивается, оп¬
ределяющими известную'его односторонность, так же как и од¬
носторонность романтизма. Об этой односторонности и о том,
что социалистический реализм её устраняет, мы говорим в раз¬
деле о социалистическом реализме.
Эта обоснованность реалистического образа самой действи¬
тельностью, то, что он строится художником «по образу и подо¬
бию» жизни, приводит к развитию ещё одной характерной черты
реализма, которую можно определить как объективность
повествования. Под этим разумеется то, что художник-
реалист изображает факты такими, какими они являются в жиз¬
ни, не подчиняя их своему произволу, не навязывая читателю
своих выводов, а подводя к ним ходом самого повествования, ло¬
гикой жизни, им изображённой. «Не навязывайте вашим героям
самого себя, — писал Горький начинающему писателю, — и не
поучайте меня, читателя, дайте мне хорошие, точные, ясные об¬
разы, а до выводов я сам додумаюсь». Он определял искусство
писателя-реалиста как «умение создавать столкновения желаний.
303
Исторически
обусловленное
многообразие
форм проявления
реализма
намерений, умение разрешать их быстро, с неотразимой логикой,
причём этой логикой руководит не произвол автора, а сила са¬
мих фактов, характеров, чувств. Характеры героев должны вы¬
ясняться в действии, автору не нужно подсказывать их». Мопас¬
сан определял искусство писателя как «мастерскую группировку
обыдённых мелких фактов, откуда окончательный смысл произ¬
ведения вытекает сам собой».
Таким образом, реализм можно определить как метод, от¬
личительными чертами которого являются по¬
строение образов из материала, данного
реальной действительностью, стремление к со¬
зданию типичных характеров в типичных об¬
стоятельствах и объективность повествования.
Понятно, что эти черты реализма, которые мы охарактеризо¬
вали, являются наиболее общими чертами. Практически в твор¬
честве того или иного художника они могут быть реализованы
более или менее полно, в той или иной степени. Характер может
быть типическим лишь в некоторых своих сторонах, в одном и том
же произведении мы можем встретить и типические, и нетипиче¬
ские характеры (например, у Пушкина в «Евгении Онегине»
Евгений — типический характер, а Трике — нетипический); ти¬
пический характер может оказаться в нетипических обстоятель¬
ствах (как в «Отцах и детях» Тургенева) и т. п. Основные тен¬
денции реализма осуществляются бесконечно разнообразно.
В различные исторические эпохи, накладыва¬
ющие свой отпечаток на творчество писателей
данного периода, естественно, возникают и
своеобразные проявления реализма, представ¬
ляющие собой ту форму реализма, которую он
мог принять именно при данных исторических условяих, опреде¬
ливших мировоззрение писателя, его отношение к миру. Так, в
эпоху античности человек, с одной стороны, стремился отразить
окружающую его жизнь, как она есть, но в то же время подчи¬
нённость природе, как мы помним, определяет мифологичность
его мышления. Отсюда — в античной литературе необычайно
много жизненной правды, сами античные боги человечны, и в их
описание вносится изображение подлинного быта, нравов, психо¬
логии античного человека: они сражаются, ссорятся, любят и
изменяют и т. п. Но в то же время всё восприятие мира античным
писателем окрашено представлением о выше его стоящих силах,
управляющих его жизнью. Отсюда — стихийная реалистич¬
ность античного искусства получает мифологическую окраску.
Это своеобразный, определённый данными историческими усло¬
виями, совершенно непохожий на все другие «мифологический
реализм». Это противоречивое сочетание на первый взгляд проти¬
воположных явлений и объясняет противоречия в понимании ан¬
тичного искусства: его нельзя отнести к реализму в точном смысле
этого слова, но его нельзя полностью и противопоставить реализму.
304
Только поняв ту историческую обстановку, в которой он
сложился, мы увидим, что в данных условиях реалистические
тенденции творчества не могли проявиться более полно и
определённо.
классицизм В литеРатУРе XVH в- (Франция) и XVIII в.
(Россия) господствует так называемый
классицизм. Это чрезвычайно своеобразное явление в ис¬
тории литературы, которое многие склонны понимать как особый
художественный метод. Характерными чертами классицизма яв¬
ляются крайний рационализм и условность в изображении жйзни.
Сами представители классицизма исходили из требования
жизненной правды. Буало, например, писал, что прекрасным в
искусстве может быть только то, что истинно. Но самую истину
классицизм понимал очень ограниченно. Характеры у писателей
классицизма сводятся к немногим общим чертам, действуют в
условной обстановке (так, у Сумарокова, в эпоху исключитель¬
ного развития крепостного права, слуги изображаются со шпа¬
гами, свадьба совершается при помощи брачного контракта и
т. п.), говорят они языком, резко противопоставленным языку
реальной жизни (ребёнок говорит языком взрослого, историче¬
ский персонаж античной эпохи говорит языком французского
придворного XVIII в.) и т. д. Произведения классицизма полу¬
чают как бы всеобщее значение, человек в них рассматривается
вообще с точки зрения каких-то общих законов, управляющих
им, а реальное историческое своеобразие окружающей его об¬
становки остаётся вне поля зрения. В силу этого классицизм пред¬
ставляется как бы особым реалистическим методом, рисующим
типического в своих общих чертах, но в то же время и отвлечён¬
ного от реальной жизни человека в типических, но столь же от¬
влечённых обстоятельствах. Определив в данном персонаже гос¬
подствующую черту характера, классицизм доводит её логически
до самого отчётливого выражения, отбрасывая для большей
ясности все другие черты: лицемер у него только лицемер, но
зато лицемерие у него выражено с исключительной полнотой
(Тартюф). Это делает его и типическим, и отвлечённым, так как
жизнь не даёт столь одностороннего развития характера. Однако
в то же время проблемы, которые ставили представители клас¬
сицизма, были глубоко современны, черты характеров, которые
они изображали, были в основе своей весьма верны, связаны с
основными вопросами тогдашней действительности.
Содержание своих произведений классицизм брал из самой
жизни и не подвергал его каким-либо изменениям в угоду произ¬
волу художника. Но в то же время он брал его в слишком общем
плане. Это определяло и условность формы, в которую облека¬
лось это содержание. Классицизм не был каким-то особым твор¬
ческим методом. Его особенности вытекали из своеобразия той
исторической обстановки, в которой проявлялись реалистические
20 Тимофеев
305
(в основном) творческие тенденции классицизма. Он развивался
в условиях господства дворянской придворной сословной куль¬
туры. Дворянство в этом периоде резко отгородило себя от дру¬
гих, низших классов, создав совершенно особый быт, свой кодекс
морали, вплоть до особого языка (латынь во Франции, француз¬
ский язык в России). Этот особый мир внутри страны, тщательно
отгороженный от вторжения в него инородных элементов, созда¬
вал и свою эстетику, свои требования к искусству, которое точно
так же не имело права включать в круг своих интересов то, что
не входило в узкий круг придворной дворянской культуры. «Но
берегите взор от низменных предметов», — писал Буало, упре¬
кавший Мольера за то, что он, не соблюдая правил классицизма,
расширяет свою тематику и этим снижает эстетическое значение
своих произведений. Эта невозможность охвата жизни в целом и
приводила к тому, что классицизм, чтобы не вводить в свои про¬
изведения жизненного материала, не допущенного в пределы его
кругозора, ставил свои творческие проблемы в условной форме.
Его реалистическое содержание было сужено сословными рам¬
ками и не могло обрести реалистической формы. Так возникало
то, что можно назвать «логическим реализмом» XVIII в. Истори¬
ческие условия поставили в определённые рамки возможности
развития искусства, стеснили их, и в силу этого реалистические
тенденции творчества этого периода проявились совершенно
своеобразно. Но всё же здесь перед нами не особый метод (по¬
скольку классицизм, в частности, не повторяется, а вытекает из
определённых конкретных исторических условии), равнознач¬
ный реализму, а лишь частное его ответвление в совершенно
определённой исторической обстановке.
Своеобразные условия общественного разви-
Критический тия в XIX в. обусловили и своеобразные фор-
мы развития реализма в этом периоде. С од¬
ной стороны, развитие культуры приводит к расцвету реализма,
создающего наиболее зрелые и всесторонне охватывающие дей¬
ствительность произведения, с другой — всё нарастающие проти¬
воречия жизни, ставящие человека во всё более, тяжёлые усло¬
вия, ведут этот реализм ко всё более резкому разоблачению
несовершенства жизни, к резкой её критике («Мёртвые души»
Гоголя, «Воскресение» Л. Толстого, сатира Щедрина, лирика
Некрасова.) Реалистическое творчество XIX в. как бы ставит
своей задачей раскрытие несовершенства жизни, изображение
того кризиса, который щереживают и человек, и общество.
Отсюда его своеобразный характер — это критический
реализм.
Не следует, однако, думать, что в творчестве писателей-реа¬
листов XIX в. не было положительного содержания. Передовые
из них были тесно связаны с освободительным народным движе¬
нием, что определяло высокую идейность их произведений. Ши¬
рокое отражение социальных противоречий своего времени, рез¬
306
кая критика буржуазно-помещичьего строя, глубокое сочувствие
народным страданиям, острота протеста против народного угне¬
тения, патриотическая вера в силы русского народа и в его свет¬
лое будущее —• характерные черты творчества лучших представи¬
телей критического реализма. Но критический реализм разви¬
вался в условиях, когда ещё не выступила на историческую
сцену общественная сила, которая была бы в состоянии пере¬
строить общественный строй, создать новый период жизни. Лишь
в самом конце века, когда начался третий и решающий период
освободительного движения, появилась такая общественная сила:
во главе движения стал рабочий класс, руководимый партией
большевиков. На этой новой исторической основе возник и но¬
вый художественный метод — социалистический реализм, явив¬
шийся важнейшим шагом вперёд после критического реализма.
Поскольку не было в жизни такой общественной силы, крити¬
ческий реализм не мог выступить, так сказать, с программой пе¬
рестройки жизни, выдвинуть тип реального положительного ге¬
роя, создающего новый порядок жизни. Поиски его в этом на¬
правлении выражались в создании героев, положительные черты
которых были ограничены, неполны или утопичны.
Л. Толстой или Достоевский стремились найти основу поло¬
жительного человека в его внутреннем мире, в его нравственном
совершенствовании, проходя мимо необходимости изменить со¬
циальные отношения для переделки человека. Чернышевский и
другие революционеры-демократы стремились к социалистиче¬
скому перевороту, но их социализм был утопичен, связан с идеей
только крестьянской революции. Отсюда вытекал и утопизм их
положительных героев (Рахметов в «Что делать?»).
Сама жизнь определяла, таким образом, что основная сила
критического реализма заключалась в критике существующего
общественного строя, а не в противопоставлении ему нового ре¬
ального строя. Отсюда этот реализм, при всём богатстве своего
положительного содержания, которое и позволяло ему так ясно
видеть глубину противоречий общественной жизни России XIX в.,
был по своему характеру прежде всего реализмом критическим.
В развитии критического реализма в России можно установить
два существенных этапа, связанных с периодами освободитель¬
ного движения в России. Первая половина века характеризуется
тем, что критический реализм, ставя центральные вопросы обще:'
ственной борьбы своего времени и прежде всего вопрос о стра¬
даниях народа в условиях крепостного права, не идёт дальше со¬
чувствия народу, и это определяет в основном характер тех кон¬
кретных идей и образов, которые возникают в литературе.
Второй период освободительного движения вносит в реализм
новое начало. Великие писатели революционеры-демократы вы¬
ступают как последовательные выразители интересов народа.
В литературе, как выразился Добролюбов, появляется партия
народа. Критический реализм получил новый характер, стал ре¬
20*
307
волюционно-демократическим реализмом. Это выразилось и в го¬
раздо более острой критике основ буржуазно-помещичьего об¬
щества, и в создании образов революционеров, борющихся с этим
строем. Именно революционерам-демократам обязана советская
литература принципом высокой идейности творчества, благород¬
ным стремлением бороться за коренные интересы народа. «Бое¬
вое искусство, ведущее борьбу за лучшие идеалы народа — так
представляли себе литературу и искусство великие представи¬
тели русской литературы» (А. Жданов). Борьба за интересы
народа определяла появление новых по своему характеру идей и
образов. Но ограниченность представлений революционеров-де¬
мократов о революции, которая им представлялась лишь как кре¬
стьянская революция, сказывалась и на характере их реализма,
определила необходимость углубления его, как уже говорилось,
с наступлением третьего периода освободительного движения.
Натурализм ® том слУчае> когда художник, стремясь к
ур ' ' отражению жизни, как она есть, не улавливает
её закономерностей, а зарисовывает отдельные её проявления, не
вкладывая в них обобщений, реализм, лишаясь типичности, те¬
ряет в своём художественном значении, снижается. Такой сни¬
женный, неполноценный реализм называют натурализмом.
Натурализм лишь копирует жизнь, не углубляя её понимания.
Опасность его в том, что, выделяя свои случайные наблюдения
над жизнью, по существу для неё не характерные, обращая на
них внимание читателя, писатель-натуралист придаёт им то зна¬
чение, которого они не заслуживают, давая тем самым ложное
обобщение, и, следовательно, может исказить наше представле¬
ние о жизни. Реалист, изображает жизненные факты не как
факты, которые просто были, а как факты, которые и могли быть
в ней, т. е. как факты, в которых можно уловить за¬
кономерности, управляющие -жизнью. Натуралист же изо¬
бражает лишь то, что было, а это могло быть слу¬
чайно, не характерно для жизни. Такое изображение «случайных
характеров в случайных обстоятельствах», присущее натурализму
и являющееся результатом неполного осуществления принципов
реализма, может иметь различные исторические причины. Нату¬
рализм может возникать, так сказать, на подступах к реализму,
когда писатель, стремящийся к реализму, ещё не овладел до
конца его принципами, но постепенно приближается к ним, строя
свои образы из материала*действительности, но ещё не полно их
обобщая. Так, в русской литературе начала XVIII в. натурализм
был здоровой реакцией против господства абстрактной церков¬
ной литературы. Натурализм может возникать и в результате
разложения реализма в период общественного упадка. Таковы,
например, были натуралистические тенденции в творчестве ряда
русских писателей (Бунин, и др.) в начале XX в., в эпоху реакции
после поражения революции 1905 года. Натурализм, естественно,
не может быть самостоятельным, так сказать, художественным
308
случае не следует:
Связь
реализма с
исторической
обстановкой
методом в тот или иной исторический периЪд, он может лишь с
большей или меньшей силой сказываться в творчестве писателя,
если историческая обстановка и ошибки самого писателя затруд¬
няют его приближение к реализму.
Следует оговориться, что термин натурализм употреблялся для обо¬
значения литературных течений. Так, в русской литературе XIX в. была так
называемая натуральная школа, во Франции имело место литературное тече¬
ние, возглавляемое Золя, именовавшееся натурализмом. Как историко-лите¬
ратурное понятие термин натурализм имеет иное значение. Natura по-
латыни — природа; натурализм — верность природе, т. е. в сущности то же,
что реализм. Названные течения и понимали натурализм в смысле реализма,
т. е. требовали от художника верности жизни, глубокого её изучения и т. п.
Потому то отрицательное содержание, которое вкладывается в понятие нату¬
рализма в теоретическом его понимании, на эти течения переносить ни в коем
это лишь терминологические омонимы.
Реализм является, таким образом, общим ху¬
дожественным методом, в котором с наиболь¬
шей полнотой сказываются основные тенден¬
ции искусства как наиболее развитой и демо¬
кратической формы отражения жизни. Он в
своём конкретном содержании определяется каждый раз той исто¬
рической обстановкой, которая и создаёт условия для его воз¬
никновения и определяет идеи, образы, сюжеты и язык данного'
писателя. Отсюда проявления реализма исторически крайне раз¬
нообразны в зависимости от исторических условий; от самых
первичных стихийных или крайне осложнённых его проявлений
до наиболее высоких и совершенных, вплоть до перехода его к
высшему этапу развития — к социалистическому реализму.
И в то же время во всех этих разнообразных проявлениях реа¬
лизма мы улавливаем общие черты, именно потому, что наиболее
существенные особенности его как метода сохраняют своё зна¬
чение в творчестве самых различных периодов и художников.
Поэтому мы говорим о реализме Шекспира, Рабле, Пушкина,
Тургенева, Толстого, Чехова, Мопассана, Диккенса, относя его,
при всём различии реализма одного художника от реализма
другого, к единому в своей основе художественному методу. По¬
нятие художественного метода позволяет нам, таким образом,
соотносить ещё более исторически разнообразный, чем течения,
материал, улавливать ещё более сложные пути исторического
развития литературы. Понятно, что при нашем историческом ана¬
лизе нам уже недостаточно указать вообще на реализм писателя.
Нам необходимо определить его своеобразие в общем развитии
реализма. Произведение становится понятно тогда, когда мы
определяем его место в стиле писателя; стиль писателя мы изу¬
чаем с точки зрения того значения, которое он имел в данном
литературном течении; теперь мы можем сказать, что и стили
писателей, и течения своё наиболее общее определение находят
в пределах того метода, который обусловил их наиболее общие
свойства.
309
Романтизм
Различное
понимание
романтизма
Термин романтизм, романтическое искус¬
ство, ведёт своё происхождение от прилага¬
тельного романический, в свою очередь,
происходящего от слова роман. Им ещё в
XVII в. на Западе обозначали такие произведения, которые пред¬
ставлялись настолько отдалёнными от жизни, что то, о чём в них
говорилось, можно было представить себе не в действительности,
а лишь в книге. Романтическое произведение понималось как
произведение, изображавшее жизнь, «как в романе», а не как в
жизни. Потом прилагательное «романическое» перешло в «ро¬
мантическое». В начале XIX в. в Германии возник и термин «ро¬
мантизм». В «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова,
вышедшем в Петербурге в 1821 г., говорится ещё о «романиче¬
ской» поэме Пушкина «Руслан и Людмила» (термин «романти¬
ческий» автору известен, но он его не применяет). Термин этот
весьма противоречив по своему содержанию, поскольку им в раз¬
личные времена и в различных странах обозначали те или иные
литературные течения, вкладывая тем самым в понятие роман¬
тизма различное содержание. Так, в России в первой половине
XIX в. романтизмом иногда называли и то, что мы теперь отнесли
бы к реализму.
Однако постепенно термин романтизм приобрёл и более
общее содержание, стал употребляться как общий термин, обозна¬
чающий особый — и во многом противоположный реализму —
способ построения образа, художественный метод.
Как вначале указывалось, уже Аристотель
различал два типа построения образа: рисую¬
щие жизнь, как она есть и как она должна быть.
Это деление очень устойчиво. В одном разго¬
воре с Бальзаком Жорж Занд в сущности повторила определение
Аристотеля, проводя различие между своим творчеством и твор¬
чеством Бальзака: «Вы берёте человека таким, каким он пред¬
ставляется вашему взору, — сказала она, — я же чувствую в себе
призвание изображать его таким, каким хотела бы видеть». Го¬
воря о реализме Чехова, Горький писал: «В рассказах Чехова
нет ничего такого, чего не было бы в действительности. Страш¬
ная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не
выдумывает от себя, не изображает того, чего нет на свете, но что
быть может и хорошо, может быть и желательно. Он никогда не
прикрашивает людей».
Как легко заметить, все определения указывают на одно
основное. свойство романтизма — на то, что художник-романтик
стремится выразить в своих образах то, что он хочет увидеть
в окружающей его действительности, то, что должно быть в ней,
по его мнению. Для романтизма типично утверждение права
художника строить свои образы из материала, который он
Основные
особенности
романтизма
310
черпает не из действительности, а из воображения, как бы рисуя
ту норму, которой должна следовать действительность.
Понятно, однако, что воображение художника не оторвано
от действительности. Оно лишь помогает ему увидеть то, что в
жизни не выступает с достаточной полнотой по тем или иным
историческим причинам. Оно помогает ему воссоздать в обра¬
зах то, к чему он стремится.
Из этого принципиально иного, сравнительно с реализмом,
отношения к действительности вытекает, естественно, и тот осо¬
бый путь изображения жизни и прежде всего человека, по кото¬
рому идёт писатель-романтик. Он отбирает такие явления и
обобщает в них такие стороны, которые необычны и исключи¬
тельны для действительности, с тем, чтобы уловить в них те
черты, которые ему хотелось бы видеть в жизни. Перефразируя
определение Энгельса, мы можем сказать, что романтик создаёт
исключительные характеры в исключительных
обстоятельствах. Они воплощают в себе то, что писатель
стремится увидеть в действительности.
Исключительность отнюдь не лишает романтические образы
обобщающей силы. Обобщение может иметь и реалистический,
и романтический характер. Реалист обобщает, рисуя типичные
образы, романтик — рисуя исключительные образы. Выше мы уже
говорили об этом, указав, что должное как принцип оценки у
реалиста, у романтика становится принципом изображения.
Наряду с теми закономерностями, которые господствуют в
жизни, проявляясь в ощутимых, типических формах, в ней
имеются и такие закономерности, которые ещё только склады¬
ваются, намечаются,, будут в развитой форме действовать позд¬
нее. В настоящий момент они проявляются ещё в единичных слу¬
чаях, которые улавливает художник, противопоставляющий их
тому, что в данный момент господствует в жизни. В отличие от
реалистического обобщения, которое главным образом улавли¬
вает то, что в жизни уже определилось, и показывает это в типи¬
чных образах, романтическое обобщение улавливает то, что
только ещё определяется, и показывает это в исключительных
образах. Так, образ Данко в рассказе «Старуха Изергиль» Горь¬
кого исключителен, так же как и события, с ним связанные, но
в этой исключительности Горький уловил те основные черты ре¬
волюционера, которые ещё только формировались в рабочем
движении в России в конце XIX в.
Понятно, что эта исключительность имеет различную меру.
Исключителен Данко, но исключительна и Ниловна в романе
«Мать» Горького, но её исключительность гораздо ближе к
жизни, исключительны сатирические образы, гиперболизирующие
то, что уже есть в жизни, и в этом смысле как бы придающие
реализму сатирика романтическую окраску.
Стремление романтизма показать то, что должно быть в
жизни, уловить то, что ещё не отстоялось, что выражено в ещё
311
единичных явлениях, определяет и иной тип работы романтика
над языком и сюжетом, сравнительно с реалистом. Если послед¬
ний имеет перед собой в самой жизни любую деталь, которая
нужна для конкретизации изображения, то романтик эту конкре¬
тизацию должен осуществлять в значительной мере силой своего
воображения, что, естественно, определяет большую его услов¬
ность и субъектииностЁ.
К романтикам можно отнести ту характеристику, которую
Маркс даёт утопистам: «Утописты, как мы видим, были утопи¬
стами потому, что они не могли быть ничем иным в ту эпоху,
когда капиталистическое производство было ещё так слабо раз¬
вито. Они принуждены были конструировать элементы нового об¬
щества из своей головы, ибо эти элементы ещё не вырисовыва¬
лись ясно для всех в недрах самого старого общества; набрасы¬
вая план нового здания, они были принуждены ограничиваться
обращением к разуму, так как они ещё не могли апеллировать
к современной им истории». Романтик, с одной стороны, даёт
больше действительности, подымаясь над ней, включая в свои
образы и то, что лишь намечается в будущем, но, с другой сто¬
роны, он даёт и меньше, ибо ещё не располагает всеми теми
красками, которые может дать художнику лишь живая, разви¬
вающаяся действительность. Отсюда — тяготение романтиков ко
всякого рода условным, фантастическим, гротескным (т. е. под¬
чёркнуто фантастическим, причудливо комическим), контраст¬
ным и тому подобным формам изображения, в которых они, на¬
меренно сдвигая соотношения реальных явлений самой действи¬
тельности, получают возможность более отчётливо выделить то,
что им нужно, избегая в то же время соперничества в богатстве
красок с самой действительностью. Гюго призывает художника
действовать подобно природе, «сочетая в своих творениях, но не
смешивая между собой, мрак со светом, гротеск с возвышен¬
ным, — другими словами, тело с душой, живое с мраком».
Такую же роль у романтиков играет обращение к историзму, по¬
нимаемому субъективно (в отличие от реалистов, стремящихся
объективно воспроизвести картины прошлого). В исторических
произведениях романтики дают тоже исключительные образы,
не столько рисующие прошлое, сколько переносящие в прошлое
те черты, к которым романтики стремятся в настоящем. «В поэ¬
зии, — писал Гёте, — нет исторических персонажей, но, когда
поэт хочет изобразить мир, который он замыслил, он делает
честь некоторым лицам, которых он встречает в истории, за¬
имствуя их имена, чтобы назвать ими созданные им существа».
Об этом же говорил Гоголь, раскрывая романтическое отноше¬
ние к истории: «Бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу
облечётся твоё слово... опустись во глубины русской старины
и в ней порази позор нынешнего, времени». Всё это приводит
к тому, что романтик, в отличие от реалиста, не предоставляет
выводам как бы самостоятельно вытекать из тех характеров и
312
Историческая
обусловленность
различных форм
проявления
романтизма
он примыкает к
событий, которые он изображает, а, наоборот, резко их подчёр¬
кивает, субъективно их усиливает. Всё это определяет ещё одну
существенную черту романтизма: субъективность по¬
вествования.
Таким образом, в наиболее отчётливых своих формах роман¬
тизм определяется нами как особый художественный метод, со¬
вершенно иначе, сравнительно с реализмом, разрешающий
основные вопросы построения образа: это метод, характе¬
ризующийся тем, что художник исходит из
противопоставления мечты и действитель¬
ности, создаёт исключительные характеры в
исключительных обстоятельствах и обра¬
щается к субъективности повествования.
Причины, заставляющие писателя обращаться
или к реализму, или к романтизму, коренятся
в общих исторических условиях, определяю¬
щих его классовые позиции, его отношение к
жизни, его мировоззрение, на основе которых
данному художественному методу. Поэтому
практически романтизм выступает, как и реализм, в самых раз¬
личных и зачастую весьма непохожих друг на друга проявлениях.
В зависимости от характера той мечты, осуществления кото¬
рой стремится достигнуть писатель, романтизм и получает опре¬
делённый социальный смысл.
Если неудовлетворённость романтика жизнью возникает в
связи со стремлением писателя вернуть к жизни то, что уже ис¬
торически отжило или отживает, если он противопоставляет
жизни свои идеалы, почерпнутые в прошлом, если его мечта про¬
тиворечит жизненному развитию, мы имеем дело с романтизмом,
который М. Горький предлагал называть романтизмом пассивным.
Так, в русской литературе конца XVIII — начала XIX в. писатели,
сочувствующие разрушающемуся в связи с развитием капита¬
лизма старому отживающему жизненному укладу, стремятся
уйти от реальной жизни и хотя бы в творчестве вернуть привле¬
кательное для них отошедшее, отжившее, противопоставив его на¬
стоящему. Например, Жуковский, поэзия которого почти целиком
посвящена тому, чтобы вернуть «минувших дней очарованье», что¬
бы «узреть во блеске новом минувшей жизни красоту», пишет:
О милый гость, святое «прежде»,
Зачем в мою теснишься грудь?
Могу ль сказать: «живи» — надежде?
Скажу ль тому, что было — «будь»?
Романтизм может быть и прогрессивным, активным, когда не¬
довольство жизнью, уход от фактов к воображению вызываются
стремлением писателя показать в своём творчестве необходи¬
мость изменения жизни в связи с угадываемыми им новыми фор¬
мами жизненного развития, т. е., если его мечта не противоречит
313
ходу жизненного процесса. Таким прогрессивным романтизмом
было в значительной мере окрашено творчество Пушкина, Лер¬
монтова, Байрона.
Наконец, мы можем иметь положение, когда писатель будет
выступать против существующего порядка вещей во имя его ре¬
волюционного разрушения, когда то должное, которым будут
проникнуты его произведения, будет утверждением надвигаю¬
щейся революции. Таким революционным романтизмом было
проникнуто творчество Максима Горького, мечта которого, опе¬
режая жизнь, рисовала её не только такой, какой она должна и
может быть, но и такой, какой она действительно становится и
будет.
Метод и стиль
Художественный
метод ка:; един¬
ство формы н
содержания
Мы до сих пор говорили о методе, имея в виду
его наиболее общие свойства, определяющие
построение образа, сказывающиеся в самом
подходе художника к действительности. Но,
очевидно, единство формы и содержания в произведении неми¬
нуемо определит своеобразие работы художника и над всеми
конкретными сторонами художественного произведения: над сю¬
жетом, языком и т. д.
Метод не существует вообще, он находит своё осуществле¬
ние только в индивидуальной деятельности данного художника,
выражается в его стиле. Вне данного стиля нет и метода. Поэто¬
му тот или иной метод проявляется в бесконечном количестве
вариантов, т. е. в творчестве различных писателей, каждый из ко¬
торых, с одной стороны, обнаруживает общие свойства метода, а
с другой •— выражает их в индивидуальной неповторимой форме.
Но при всей индивидуальности стиля художника в его твор¬
честве сказываются и известные общие черты, вытекающие из
основных общих принципов того метода, который осуществляется
в его творчестве.
Сравнивая, например, отношение к сюжету
романтика и реалиста, Мопассан писал: «Ро¬
манист, преображающий повседневную, гру¬
бую и неприглядную правду, чтобы извлечь
из неё исключительное и пленительное при¬
ключение, должен без особой заботы о правдоподобии манипу¬
лировать событиями по своему усмотрению... Наоборот, рома¬
нист, претендующий на то, чтобы дать нам точное изображение
жизни, заботливо должен избегать всякого сцепления обстоя¬
тельств, которое могло бы казаться из ряда вон, выходящим...
Чтобы взволновать нас, подобно тому как это было с ним самим
при созерцании жизни, он должен будет воспроизвести её перед
нами со скрупулёзным сходством... Искусность его плана... бу¬
дет заключаться в мастерской группировке обыдённых мелких
фактов, откуда окончательный смысл произведения вытекает сам
Отношение
к сюжету
у романтика
и у реалиста
314
собой». Эти очень существенные замечания говорят о том, что
в зависимости от метода определяется вся работа писателя над
образным отражением жизни, все формы индивидуализации,
типизации, вымысла, которые он применяет.
Реалист стремится в своём творчестве к выбору таких тем,
которые ближе всего к окружающей его жизненной обстановке.
Романтик, наоборот, стремится к темам необычным, исключи¬
тельным, резко отличающимся от той жизненной среды, в кото¬
рой он находится и от которой он стремится оттолкнуться в своём
творчестве. Отсюда и характеры, создаваемые реалистом и ро¬
мантиком глубоко различны: реалист изображает реальных лю¬
дей в их реальной обстановке, романтик стремится дать исклю¬
чительные характеры в необычных положениях, изобразить
людей не такими, какими они являются на самом деле, а каки¬
ми они должны (или, наоборот, не должны) быть, подчёркивая
в них или отрицательные, или положительные черты, придавая
им часто абстрактную, схематическую форму. Так, Горький в
рассказе «Старуха Изергиль» изображает героический характер
Данко, который ведёт людей к счастью, освещая им дорогу вы¬
рванным из груди пылающим сердцем. Горький в этот период,
резко отталкиваясь от существующего порядка жизни, стремится
воплотить в характере Данко лучшие черты революционного от¬
ношения к жизни — героизм, волю, самоотверженность, непри¬
миримость. Писатель берёт не обыдённую жизненную обстановку,
а обстановку условную, фантастическую, даёт исключительный
характер, стремясь не к тому, чтобы изобразить жизнь как она
есть, а к тому, чтобы выразить своё субъективное отношение к
жизни. Но так как субъективное отношение Горького к жизни
действительно отвечает перспективам её развития, характер
Данко, несмотря на его условность, получает значение большого
и правдивого художественного обобщения.
Исключительность, необычайность романтических характе¬
ров определяет и своеобразие тех средств, при помощи которых
они раскрываются в художественном произведении. Композиция
романтического произведения строится на резких противопо¬
ставлениях и контрастах, на необычных, исключительных со¬
бытиях, которые кладутся в основу сюжета в связи с исключи¬
тельностью и необычностью характеров. И в сюжете романтик
не чувствует себя связанным фактами реальной жизни; он ста¬
вит своих персонажей в воображаемые произвольные положения
для того, чтобы с особенной резкостью выделить нужные ему
черты и особенности, то, что должно быть в жизни, в людях и
в событиях. Таковы, например, люди и события в романах Гюго
(Квазимодо и Эсмеральда, Гуинплен и др.).
Этот же субъективизм, эта же эмоциональная
приподнятость обнаруживаются и в отноше¬
нии романтика к языку. С одной стороны, у него чрезвычайно
повышается роль авторской речи, которая строится при этом
Язык романтика
315
в повышенном субъективно-эмоциональном тоне, обильна тро¬
пами и фигурами, несёт в себе непосредственную оценку дейст¬
вительности. С другой стороны, романтик иначе относится и
к языку персонажей: индивидуализируя его, он в то же время
уже не стремится к отражению реальных языковых особенностей
той среды, с которой он связывает персонажей; он даёт их языку
исключительный и необычный характер, не заботясь о достаточ¬
ной жизненной мотивированности их речи. Речь повествователя
в романтических произведениях тяготеет к необычайности, при¬
поднятости. Возьмём пример у Гюго:
«У человека всегда есть мысль отомстить за доставленное ему удовольст¬
вие — отсюда проистекает презрение к комедианту.
Это существо меня очаровывает, забавляет, развлекает, научает, восхи¬
щает, знакомит меня с идеалом; оно полезно и приятно — это пощёчина из¬
дали. Дадим же ему пощёчину. Он меня забавляет — стало быть, он ничто¬
жен. Он мне служит. Я его ненавижу. Каким бы камнем бросить в него? Свя¬
щенник, философ — подайте ваши камни! Боссюэ — отлучи его от церкви!
Руссо — оскорбляй его! Оратор — громи его! Медведь — выворачивай глыбы
и швыряй в него! Побьём камнями дерево, потопчем плод и съедим его!
Браво! А затем прочь! Произносить стихи поэта — значит быть зачумлённым.
Пусть его успех служит ему позором. Закончим его триумф травлей. Пусть
он собирает толпу, а себе рождает одиночество.
Вот каким образом богатые классы, так называемые высшие сословия,
изобрели для комедианта эту форму отчуждения — аплодисменты».
Как видим, весь этот отрывок построен на различного рода
фигурах, придающих речи крайне приподнятый субъективно-эмо¬
циональный тон. Столь же насыщена авторская речь Гюго и
тропами. Описывая наступление бури, Гюго пишет:
«Эта была та минута предварительной тревоги, когда кажется, что стихии
превратятся в людей и что будешь присутствовать при таинственном превра¬
щении ветра в бурю. Море готово сделаться океаном, приобрести свободную
волю, и то, что считается вещью, становится живым существом. Душа чело¬
века стремится стать лицом к лицу с природой, ветер, разрывая туман и
обгоняя облака, ставит декорации для страшной драмы, которая называется
снежной бурей. Море, за минуту перед тем покрытое чешуёй, теперь покры¬
лось кожей. Уж таков этот дракон. Оно не было больше крокодилом. Оно
стало удавом. Эта кожа свинцового цвета, грязная, казалась толстою и мор¬
щинистою. На поверхности её там и сям вскакивали пузыри зыби, похожие
на нарывы; они вздувались и лопались. Пена была подобна гною... В тем¬
ноте сумерек волны походили на лужицы жёлчи».
«Бури — это первые вспышки и припадки бешенства моря... Казалось,
какие-то невидимые рты раздували мех бури... Ураган, как палач, которому
нужно торопиться, принялся терзать судно...»
Таким образом, речь повествователя в романтическом произ¬
ведении связана по своему построению со всеми остальными сто¬
ронами его. В ней та же субъективность повествования, тот же
эмоционально приподнятый характер рассказчика — носителя
речи повествователя, однородного с исключительными, необыч¬
ными характерами, действующими в произведении.
Аналогичны принципы построения речи повествователя в ро¬
мантизированных лирических отступлениях «Мёртвых душ»
Гоголя:
316
«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далёка тебя вижу:
бедно, разбросанно и неприютно в тебе... Открыто-пустынно и ровно всё в тебе:
как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои
города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая
тайная сила влечёт к тебе? Почему слышится и раздаётся немолчно в ушах
твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря,
песня? Что в ней, в этой песне? Что зовёт, и рыдает, и хватает за сердце?
Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего
сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится
между нами? Что глядишь ты так, и зачем всё, что ни есть в тебе, обратило
на меня полные ожидания очи?.. И ещё, полный недоумения, неподвижно
стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжёлое грядущими дождями,
и онемела мысль перед твоим пространством. Что пророчит сей необъятный
простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты
сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развер¬
нуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пробтранство, страш¬
ною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои
очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!,.»
Яаык реалиста
Выше мы уже подробно разобрали особен¬
ности языка в реалистическом произведении.
Глубокое различие в отношении романтика и реалиста к языку
очевидно. Вспомним, например, описание снежной бури в «Ка¬
питанской дочке» Пушкина, приводившееся в начале книги:
«Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось
в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо.
Пошёл мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась
метель. В одно мгновение тёмное небо смешалось с снежным морем. Всё
исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»
Здесь перед нами — писатель-реалист, в отличие от роман¬
тика стремящийся воздействовать на читателя в большей мере
объективными фактами, чем субъективной их трактовкой, и это
отражается во всём строе его речи. Самый выбор материала для
изображения и связанное с этим обращение к тем или иным
источникам словесных значений у реалиста иные; он стремится
к верности деталей, передающих особенности быта той или иной
среды, её обыдённой жизни и т. п. Инод по сравнению с роман¬
тиком метод подхода к жизни, к её изображению мы непосред¬
ственно ощущаем в языке у Л. Толстого, обращаясь к нему после
Гюго:
«Скотная для дорогих коров была сейчас же за домом. Пройдя через двор
мимо сугроба у сирени, он подошёл к скотной. Пахнуло навозным тёплым
паром, когда отворилась примёрзшая дверь, и коровы, удивлённые непривыч¬
ным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе. Мелькнула гладкая,
чёрнопегая, широкая спина голландки. Беркут, бык, лежал с своим кольцом
в губе и хотел было встать, но раздумал и только пыхнул раза два, когда
проходили мимо. Красная красавица, громадная, как гиппопотам, Пава, по¬
вернувшись задом, заслоняла от входивших телёнка и обнюхивала его».
«Любую деталь бытового характера, встречающуюся в «Преступлении и
наказании», — пишет исследователь Достоевского, — можно подтвердить вы¬
писками из газет 1865 г. ...Иногда невыразительный эпитет вскрывает у До¬
стоевского современное состояние насущных сторон жизни города; «Когда
он [Раскольников] очнулся, то увидел, что сидит па стуле, что его поддержи¬
вает справа какой-то человек, что слева стоит другой человек, с жёлтым ста¬
каном, наполненным жёлтою водою». Дело происходит в полицейской конторе,
317
и не было бы никакого художественного смысла изображать находящийся в
ней стакан, сделанный из жёлтого стекла. Художественный смысл эпитета в
том, что стакан был грязный, пожелтевший от постоянно наливаемой в него
грязной, жёлтой воды, а это вскрывает картину питания водой Петербурга
60-х годов, когда водопровода не было и «питьевая вода бралась водовозами
из рек и каналов в центре города» * *. На некоторых дворах имелись колодцы,
но «что за вода в этих колодцах, — говорит журналист,—трудно и вообра¬
зить себе: цвет её подходит к цвету пива» 2. Вот откуда шёл эпитет «жёлтый»
в применении не только к воде, но и к стакану».
Здесь перед нами совсем иные пути воздействия на читателя.
Они сказываются, как указывалось, не только в языке, а по всем
линиям художественной работы писателя-реалиста.
Различие методов определяет различие и всех сторон худо¬
жественной работы писателя. Творчество определяется методом,
получая конкретное своеобразие в зависимости от того реального
содержания, которое лежит в его основе.
И романтик, и реалист, следовательно, идут различными пу¬
тями художественного обобщения, но обобщение наличествует
и в том, и в другом случае. Исключительные и необычные ха¬
рактеры точно так же могут отразить и отражают на практике
определённые свойства той или иной социальной среды, их стол¬
кновения, большие общественные противоречия, конфликты со¬
циальной жизни. В этом смысле у нас нет основания противопо¬
ставлять реализм романтизму с точки зрения силы и обществен¬
ной ценности тех художественных обобщений, которые дают
представители этих методов. Нужно указать на случаи, когда
именно романтизм позволял писателю дать наиболее ценные и
нужные для данного периода произведения. Так, в 90-е годы
XIX в. для зародившейся пролетарской литературы ведущими
были именно романтические произведения М. Горького, в кото¬
рых утверждались революционные устремления пролетариата.
Тем не менее полнота отражения жизни в наибольшей мере
доступна именно реализму — перед ним меньше тех опасностей
субъективности, условности, отрыва от жизни, которые стоят пе¬
ред романтизмом. Поэтому-то не случайно, что в условиях со¬
циалистического строительства, в которых впервые в истории
человечества создаётся возможность расцвета искусства, разви¬
вается художественный метод социалистического реализма.
Основные черты Говоря об общих чертах художественного
художественного метода, мы должны вместе с тем отметить
метода и то обстоятельство, на которое ранее уже
указывали, что каждое литературное течение (а в его преде¬
лах — и каждый литературный стиль) осуществляет эти общие
черты в совершенно своеобразных формах, определяющихся той
конкретной исторической обстановкой, в которой они разви¬
ваются. Важно поэтому выделить определённые показатели,
сравнение которых и позволит с достаточной чёткостью соотно¬
1 «Петербургский листок», 1865, № 90, 104.
*Там ж е, № 196.
318
сить между со&ой различные исторические пути осуществления®,
его в литературе.
Таким показателем, прежде всего, является тот эстетиче¬
ский идеал, который писатель выдвигает и отстаивает в своём
творчестве. Различие этого идеала, зависящего от партийных
позиций писателя, от характера его участия в классовой борьбе,
вслед за тем определяет тот тип положительного героя
(см. стр. 327), который выдвигается писателем, как норма обще¬
ственного поведения человека.
Вслед за тем определяющим моментом в индивидуальном
проявлении художественного метода в течении и в стиле является
взаимодействие реалистических и романтических
элементов (соотношение анализа и перспективы обществен¬
ного развития) и, наконец, степень и характер демокра¬
тизма формы. Дав конкретную характеристику этим основ¬
ным творческим показателям художественного метода, мы полу¬
чим возможность не только отнести данное течение и писателя
к определённому методу, но и определить его конкретное место
в развитии этого метода и вместе с тем и более подробно и полно
охарактеризовать общие черты метода.
На этих особенностях художественного метода мы остано¬
вимся в главе о социалистическом реализме.
Внутреннее
р одство
реализма
и романтизма
Социалистический реализм
Характеристика реализма и романтизма при¬
вела нас к выводу, что оба эти метода коренным
образом расходятся в решении основных твор¬
ческих вопросов. Однако легко заметить, что
в истории литературы эти методы разделены
отнюдь не столь резко, как это, казалось бы, должно было бы
быть. Весьма часты случаи, когда один и тот же художник на¬
чинает свой творческий путь как романтик и переходит затем
к реализму. Таков, например, путь Пушкина, Гоголя, в известной
мере Лермонтова. Более того, в один и тот же период своего
развития художник иногда даёт и реалистические, и романтиче¬
ские произведения, как, например, тот же Лермонтов, который
одновременно писал и романтические, и реалистические произ¬
ведения («Демон» и «Герой нашего времени»). Сочетание осо¬
бенностей и того, и другого метода мы можем, наконец, найти
и в одном и том же произведении, например, в «Мёртвых душах»
Гоголя, где реалистическое изображение жизни крепостников
переплетается с ярко романтическими лирическими внесюжет-
ными отступлениями. «В крупных художниках,—-писал Горь¬
кий, — романтизм и реализм всегда как будто соединены.
Бальзак — реалист, но он писал и такие романы, как «Шагрене¬
вая кожа» — произведение, очень далёкое от реализма. Тургенев
тоже писал вещи в романтическом духе, так же как и все другие
крупнейшие наши писатели, от Гоголя до Чехова и Бунина. Эго
319
влияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей
большой литературы».
Таким образом, противоречие этих методов не имеет исклю¬
чающего характера, т. е. не говорит о их непримиримости. На¬
оборот, мы можем говорить о тяготении их друг к другу. Это тя¬
готение станет нам понятно, если мы вдумаемся в особенности
этих методов. Мы знаем, что всякое явление никогда не стоит
на месте. Оно развивается. В процессе этого развития то, что
является в нём наиболее значительным, постепенно слабеет, от¬
мирает, то что было второстепенным, выдвигается на первое ме¬
сто. Как бы ни был силен организм, в нём развиваются элементы,
ведущие его к разложению. А они, в свою очередь, дают основа¬
ние для возникновения новой жизни. Таков закон развития явле¬
ний и в природе, и в общественной жизни. Поэтому полное пони¬
мание явления предполагает понимание и того, чем оно является,
и того, чем оно станет в процессе своего развития, т. е. и того,
что в нём уже определилось, и того, что в нём только ещё опре¬
деляется. Реализм сосредоточивает своё внимание на опреде¬
лившемся, романтизм — на определяющемся. Между
ними нет непереходимой грани. Более того, чем глубже реализм
будет вглядываться в явление, тем отчётливее он будет улавли¬
вать и перспективы его развития, будет говорить не только об
определившемся, но и об определяющемся. Так, Гоголь в
«Мёртвых душах», дав трезвый анализ кризиса крепостнического
общества, обращается вслед за тем к вопросу о будущем России,
которое и рисует в неясной, ещё романтической мечте. Чем
глубже и полнее реалист разбирается в действительности, тем,
следовательно, теснее должен он сближаться и с романтическим
изображением действительности в её угадываемом на основе
трезвого анализа развитии. Поэтому реализм в своём последо¬
вательном развитии должен необходимо сливаться с романтиз¬
мом. И наоборот, если мечта романтика претендует на то, чтобы
действительно угадать, что должно быть в жизни, она необходимо
должна быть основана и на анализе действительности, т. е. на
реалистическом её понимании. Понимание перспективы развития
жизненных явлений, того, что с ними должно будет произойти,
тем глубже, вернее, чем больше оно опирается на знание и по¬
нимание реальных фактов. Мечта тем ближе к осуществлению,
чем глубже её корни уходят в действительность.
В своё время Ленин в «Что делать?» писал о значении мечты
в человеческой деятельности:
«Надо мечтать!» Написал я эти слова и испугался. Мне пред¬
ставилось, что я сижу на «объединительном съезде», против меня
сидят редакторы и сотрудники «Рабочего дела». И вот встаёт
товарищ Мартынов и грозно обращается ко мне: «А позвольте
вас спросить, имеет ли ещё автономная редакция право мечтать
без предварительного опроса комитетов партии?» А за ним встаёт
товарищ Кричевский и (философски углубляя товарища Мар¬
320
тынова, который уже давно углубил товарища Плеханова) ещё
более грозно продолжает: «Я иду дальше. Я спрашиваю, имеет
ли вообще право мечтать марксист, если он не забывает, что по
Марксу человечество всегда ставит себе осуществимые задачи
и что тактика есть процесс роста задач, растущих вместе с пар¬
тией?» От одной мысли об этих грозных вопросов у меня мороз
подирает по коже, и я думаю только — куда бы мне спрятаться.
Попробую спрятаться за Писарева.
«Разлад разладу рознь, — писал по поводу вопроса о разладе
между мечтой и действительностью Писарев.—Моя мечта мо¬
жет обгонять естественный ход событий, или же она можег
хватать совершенно в сторону, туда, куда никакой естественный
ход событий никогда не может прийти. В первом случае мечта не
приносит никакого вреда; она может даже поддерживать и уси¬
ливать энергию трудящегося человека... В подобных мечтах нет
ничего такого, что извращало или парализовало бы рабочую силу.
Даже совсем напротив. Если бы человек был совершенно лишён
способности мечтать таким образом, если бы он не мог изредка
забегать вперёд и созерцать воображением своим в цельной и за¬
конченной картине то самое творение, которое только что начи¬
нает складываться под его руками, — тогда я решительно не могу
представить, какая побудительная причина заставляла бы чело¬
века предпринимать и доводить до конца обширные и утомитель¬
ные работы в области искусства, науки и практической жизни...
Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого
вреда, если только мечтающая личность серьёзно верит в свою
мечту, внимательно вглядываясь в жизнь, сравнивает свои на¬
блюдения с своими воздушными замками и вообще добросо¬
вестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть
какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда
всё обстоит благополучно».
Вот такого-то рода мечтаний, к несчастью, слишком мало в
нашем движении» (Ленин, Соч., т. IV, изд. 3-е, стр. 492—493)-
Поэтому-то у крупнейших писателей прошлого мы всегда на¬
ходим известное сближение реализма и романтизма в творчестве.
Таким образом, романтизм необходимо приво¬
дит к реализму в том случае, если он действи¬
тельно последовательно стремится установить
истинную жизненную перспективу, то, что дей¬
ствительно должно быть в жизни. Однако в
условиях буржуазного общества, лишающего
искусство основных предпосылок для благоприятного развития,
оно не может осуществить полностью своих возможностей. Писа¬
тели, сформировавшиеся в условиях капитализма, не могли, бу¬
дучи ограничены своим классовым мировоззрением, идти до
конца в осмыслении жизненного процесса. Если они, поднимаясь
над своим мировоззрением, могли правдиво отражать реальный
жизненный процесс даже в том случае, если он противоречил
Историческая
обусловленность
противо¬
поставления
реализма и
романтизма
21 Тимофеев
321
их классовым интересам, то тем не менее самый выбор жизнен¬
ных явлений и осмысление связи между ними зависели всё же
от общего понимания ими жизни, т. е. в значительной мере были
ограничены.
Это положение было сформулировано К. Марксом в той харак¬
теристике буржуазного искусства, которую он дал в своей ра¬
боте «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Указывая на то,
что искусство буржуазной французской революции охотно ис¬
пользовало материал античного искусства, вкладывая в него но¬
вое содержание, «осуществляя в римском костюме и с римскими
фразами дело своего времени», К. Маркс объяснял это тем, что
«в классически строгих преданиях римской республики гладиа¬
торы буржуазного общества нашли идеалы и художественные
формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от са¬
мих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы,
чтобы удержать своё воодушевление на высоте великой истори¬
ческой трагедии» (Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бона¬
парта, 1940, стр. 10). И далее, сравнивая возможности искусства
прошлого, т. е. капиталистического общества, и возможности
искусства наступающей социальной революции, Маркс писал, что
последняя может черпать свою поэзию не из прошлого, а только
из будущего. «...Прежние революции нуждались в воспомина¬
ниях о прошлом мировой истории, чтобы обмануть себя насчёт
своего собственного содержания. Революция XIX века (т. е. со¬
циальная революция.—Л. Т.) должна предоставить мертвецам
хоронить своих мёртвых, чтобы уяснить себе собственное содер¬
жание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание
выше фразы» (там же, стр. 12).
В этих словах Маркс чрезвычайно отчётливо указал на необ¬
ходимое и исторически обусловленное различие искусства капи¬
талистического и социалистического, на то, что последнее будет
качественно выше первого, классово-ограниченного, связанного
противоречием ограниченных классовых интересов и действитель¬
ности, несущего в себе элементы неполноты, фальши, самообмана.
Отсюда и вырастало то раздвоение искусства прошлого, тот ча¬
стый антагонизм романтизма и реализма, которые мы наблюдаем
у писателей прошлого.
Отражение реального жизненного процесса было у них в той
или иной мере ограниченным и непоследовательным. В своё вре¬
мя Маркс писал о мелкобуржуазных писателях: «...По своему
образованию и индивидуальному положению они могут быть да¬
леки от лавочников, как небо от земли. Представителями мел¬
кого буржуа делает их то обстоятельство, что их мысль не в со¬
стоянии преступить тех границ, которых не преступает жизнь
мелких буржуа, и потому теоретически они приходят к тем же
самым задачам и решениям, к которым мелкого буржуа приво¬
дят практически его материальные интересы и его общественное
положение. Таково и вообще отношение между политическими и
322
литературными представителями какого-нибудь класса и тем
классом, который они представляют» (там же, стр. 39).
Именно поэтому мировоззрение писателя ска-
Односторонность зывается в его методе, или расширяя его воз-
можности, как это было у русских револю¬
ционно-демократических писателей и, в особенности, как мы на¬
блюдаем это сейчас в советской литературе, или, наоборот, огра¬
ничивая их, как это было в литературе прошлого у буржуазно¬
дворянских и мелкобуржуазных писателей.
Невозможность свободного развития полноценной человече¬
ской личности в условиях капиталистического строя, ограничен¬
ность мировоззрения писателей, вытекавшая из их классовой по¬
зиции, — всё это сказывалось на художественном методе литера¬
туры прошлого, приводило к ограниченности и непоследователь¬
ности реалистического метода, к тому, что в ряде случаев, кри¬
тически изображая действительность, писатели всё же не могли
добиться понимания подлинных исторических перспектив разви¬
тия человеческого общества. Наоборот, отталкиваясь от неудо¬
влетворявшей их жизни, писатели слишком отрывались от реаль¬
ных фактов, теряли в той или иной мере историческую почву, что
также ограничивало их возможности. Таким образом, единый по
существу процесс художественного творчества в неблагоприят¬
ных для него условиях капиталистического общества как бы раз¬
дваивался, разбивался на два обособлявшихся творческих по¬
тока — реалистический и романтический, что необходимо приво¬
дило к обеднению и того и другого. Единый процесс художест¬
венного освоения мира в его •противоречивом развитии в усло¬
виях капиталистического общества не мог осуществиться полно¬
стью, и в силу этого возникал антагонизм двух обособлявшихся
методов — реализма и романтизма.
Ограниченность реализма в одностороннем его развитии остро
чувствовали виднейшие его представители. Флобер писал: «Мы
располагаем многоголосым оркестром, богатой палитрой, разно¬
образными средствами. ...Но, чего нам нехватает, так это внут¬
реннего принципа. Души вещей, идей сюжета». Об этом же,
правда, со свойственным ему умалением своих великих заслуг,
говорил Чехов: «Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а даль¬
ше — ни тпру, ни ну: дальше хоть плетями нас стегайте. У нас
нет ни ближайших, ни отдалённых целей, и в нашей душе хоть
шаром покати». Одностороннее развитие реализма сказывалось
именно в том, что он не улавливал в достаточной мере развития
жизни, останавливаясь только на том, что уже ясно в ней опре¬
делилось. Характерны в этом отношении слова Гончарова: «Ис¬
тинное произведение искусства может изображать только устояв¬
шуюся жизнь в каком-нибудь образе, в физиономии, чтобы и
самые люди повторились в многочисленных типах, под влиянием
тех или других начал, порядков, воспитания, чтобы явился какой-
нибудь постоянный и определённый образ формы, чтобы люди
21*
323
Односторонность
романтизма
иного типа, об
этой формы жизни явились в множестве видов и экземпляров с
известными правилами, привычками. А для этого нужно, конечно,
время. Только то, что составляет заметную черту в жизни, что
поступает, так сказать, в её капитал, будущую основу, то и вхо¬
дит в художественное произведение. Творчество может являться
только тогда, по моему мнению, когда жизнь установится, с но¬
вою, нарождающейся жизнью оно не ладит».
С другой стороны, односторонен был и роман¬
тизм, который противопоставлял неудовлетво¬
рявшей его действительности мечту о жизни
иных человеческих характерах, не насыщая её в
достаточной мере реальным содержанием, которое могло бы
найти себе подтверждение в жизни. Образ Мцыри у Лермонтова
имел очень большое значение, поскольку он был противопостав¬
лен той тяжёлой обстановке, которая создалась в России после
поражения декабристов. В эту эпоху, когда николаевская реак¬
ция беспощадно подавляла всякий протест, всякую попытку сво¬
бодно мыслить, Лермонтов создал образ человека, готового идти
на смерть во имя свободы. В этом было огромное общественное
значение романтизма Лермонтова. Но и в нём была известная
ограниченность, поскольку исключительность характера Мцыри
и тех обстоятельств, в которых он себя проявлял, не давала чи¬
тателю возможности непосредственно применить к жизни то, что
было наиболее ценным в характере Мцыри; образ этот был в из¬
вестной мере отвлечённым, не был связан с каким-либо реальным
путём раскрытия в жизни его основных особенностей.
Эта односторонность реалистического и романтического под¬
хода к жизни вытекала из того, что писатели прошлого, очень от¬
чётливо сознавая несовершенство жизни, которая их окружала,
не могли ещё найти в жизни ту силу, которая могла бы изменить
общественный порядок, ибо её ещё не было в самой жизни в
сколько-нибудь оформленном виде. Поэтому они или говорили
лишь о том, что есть в жизни, отказываясь от неустоявшегося,
нарождающегося, или искали это нарождающееся, но утопиче¬
ски, не находя его ещё в самой жизни.
М. Горький —
основоположник
метода социа¬
листического
реализма
Но в конце XIX в. в России на сцену высту¬
пает рабочий класс, который становится во
главе народной борьбы за освобождение.
В жизни появилась та сила, которая способна
была перестроить общественный порядок. Если
раньше жизнь как бы разбивала художественное восприятие её
на два потока — реалистический и романтический, так как в дей¬
ствительности не было почвы для их полного слияния, то теперь
возникали новые исторические условия, которые устраняли в
принципе трудности, мешавшие этому слиянию.
М. Горький и был тем писателем, который первый понял и во¬
плотил в своём творчестве новые задачи, встававшие перед ис¬
кусством. В своих письмах к Чехову он писал о том, что старый
324
реализм должен умереть, потому что о искусство должно воити
героическое, то, что выше, красивее, лучше действительности,
чтобы выразить новые стремления людей. И Горький одновре¬
менно создаёт ряд произведений, в которых продолжает реали¬
стическую традицию («Скуки ради», «Дед Архип и Лёнька»), а
с другой — ряд произведений романтических («Старуха Изер¬
гиль», «Песни» о Соколе, о Буревестнике). Происходит это по¬
тому, что Горький даёт реалистический анализ жизни и в то же
время идёт от него дальше, улавливая то, что нарождается в
жизни. Но романтизм его был не только романтизмом желаемого,
как это было в прошлом, но и романтизмом возможного, осуще¬
ствляющегося, реально угаданного в будущем. Свой романтизм
Горький называл романтизмом коллективизма: «Термином этим,
за неимением другого, я определяю только повышенное, боевое
настроение пролетариата, вытекающее из сознания им своих сил,
из всё более усваемого им взгляда на себя, как на хозяина мира
и на освободителя человечества». По мере развития творчества
Горького реалистическое и романтическое начало всё более
сближаются, и в таких произведениях, как «Мать», «Лето» и др.,
полностью сливаются. Происходит это потому, что в самой жизни
всё более отчётливо обозначался кризис старого порядка вещей
и в то же время всё более отчётливо выступала на первый план
сила, готовившаяся его смести, — революционный пролетариат.
Новая историческая обстановка создаёт но¬
вые условия для развития искусства и тем са¬
мым подготавливает переход его к новому худо¬
жественному методу. Новый этап истории че-
борьба за социалистическое общество и создание
его, является и новым этапом развития искусства, созданием но¬
вого метода искусства — метода социалистического реализма.
Если ограниченность условий для свободного развития человека
в прошлом отражалась на искусстве, разбивала его на два по¬
тока — односторонне реалистического и одностронне романтиче¬
ского изображения жизни, то освобождение человека освобож¬
дает и искусство, давая ему невиданный ранее материал для со¬
здания новых в истории человечества художественных образов.
«Судьбы народов и государств, — говорил товарищ Сталин
на 1 Всесоюзном съезде колхозников-ударников, — решаются те¬
перь не только вождями, но прежде всего и главным образом
миллионными массами трудящихся. Рабочие и крестьяне, без
шума « треска строящие заводы и фабрики, шахты и железные
дороги, колхозы и совхозы, создающие все блага жизни, кормя¬
щие и одевающие весь мир, — вот кто настоящие герои и творцы
новой жизни («Вопросы ленинизма» изд. 11-е, стр. 422).
Новый характер действительности определял и новый харак¬
тер взаимоотношений искусства и жизни, т. е. предполагал воз¬
никновение нового метода.
Освобождённый
человек— основа
нового искусства
ловечества. т. е.
325
Слияние реализма
и романтизма —
существенная
черта
социалистиче¬
ского реализма
Новая историческая обстановка создала и новый художест¬
венный метод. Неразрешимые противоречия капиталистического
общества определяли и невозможность для искусства разви¬
ваться наиболее свободным и полным образом. Ограничивая
кругозор художника, сталкивая его с жизненными противоре¬
чиями, которые не могли быть устранены в данных исторических
условиях, они не позволяли ему охватить действительность с наи¬
большей полнотой, вели и к одностороннему её изображению в
реалистическом плане, и к одностороннему преображению её в
романтическом плане.
С появлением исторической силы, которая, уничтожив классы
и разрешив в корне общественные противоречия, создала усло¬
вия для полного расцвета жизни, — с социалистической револю¬
цией эта односторонность искусства полностью была преодолена.
Эти великие преобразования и обусловили развитие нового ху¬
дожественного метода, основоположником которого явился
М. Горький. Этот метод товарищ Сталин в беседе с писателями
назвал социалистическим реализмом.
Социалистический реализм представляет со¬
бой прежде всего метод, основанный на наи¬
более глубоком отражении жизни, на последо¬
вательно проведённом принципе жизненной
правды, позволяющем ему улавливать и отра¬
жать наиболее существенные противоречия
эпохи'. Эта глубина жизненной правды определяется тем, что со¬
циалистическое общество является единственным обществом, ко¬
торое не вступает в противоречие с ходом исторического про¬
цесса, а, наоборот, полностью осуществляет свои интересы в ходе
этого процесса. Если время неизбежно несло гибель и феодаль¬
ному, и капиталистическому строю, то социалистическому обще¬
ству оно несёт расцвет, переход в высшую форму — в коммуни¬
стическое общество. Социалистический реализм в силу этого осо¬
бенно ясно видит действительность в её революционном разви¬
тии. Глубина реалистического анализа сегодняшнего дня откры¬
вает ему и особенно глубокую перспективу развития жизни зав¬
трашнего дня, определяет реальность, осуществимость мечты,
творчески преобразующей действительность. Отсюда социалисти¬
ческий реализм и получает возможность достичь слияния, един¬
ства реализма и романтизма в их лучших сторонах. Эти черты и
отличают коренным образом социалистический реализм от худо¬
жественных методов искусства прошлого, хотя в то же время он
глубоко преемственно связан, вобрав в себя их лучшие традиции.
Социалистическое мировоззрение устраняет то исторически
неизбежное противоречие, которое мы наблюдаем в литературе
прошлого, между субъективным отношением писателя к истори¬
ческому процессу и объективным ходом исторического процесса.
Не случайно классики марксизма подчёркивают, что наиболее
высокие достижения реализма в литературе прошлого характе-
326
ризуются преодолением художником своей собственной классо¬
вой ограниченности. Победу реализма Бальзака Энгельс видел в
том, что он сумел подняться над своими классовыми симпатиями.
В капиталистическом обществе мировоззрение художника всегда
в той или иной степени ограничено классовыми позициями, а в
социалистическом обществе нет расхождений между субъектив¬
ными интересами художника и ходом исторического процесса.
Характернейшей чертой мировоззрения советского худож¬
ника, чертой социалистического реализма является единство
субъективного и объективного начала в изображении жизни.
Вот это единство субъективного и объективного позволяет
добиться единства реалистического и романтического изображе¬
ния жизни.
В классической литературе — в силу противоречия между
субъективным и объективным началом — и получался разрыв
реалистического анализа жизни, романтического представления
о перспективах её развития.
Лермонтов в своём «Мцыри», в эпоху реакции, прославляет
человека, который борется за свою свободу. Этот романтический
пафос чрезвычайно ценен, но реалистические элементы сведены
у Лермонтова к минимуму. Его герой действует в такой обета-
новке^ которая не переключается в живую действительность,
окружающую его читателя. И здесь нет единства субъективного
понимания и объективного хода исторического процесса и, стало
быть, нет единства реалистического и романтического начала в
творчестве.
В литературе социалистической единство субъективного и объ¬
ективного позволяет слиться реалистическому анализу и роман¬
тической перспективе. -
Вот почему Горький в своём романе «Мать» мог дать глубо¬
кий реалистический анализ и романтическую пепспективу. пока¬
зывающую, куда идут его герои, их завтрашний день. Единство
реалистического и романтического начала в том и состоит, что
художник видит сегодняшний день в свете завтрашнего дня.
Социалистический реализм выдвигает наибо¬
лее высокий в мировой истории эстетический
идеал человека, созидателя социалистического
общества. Именно благодаря ему советская
литература и выполняет свою основную задачу: воспитание на¬
рода и особенно нашей молодёжи.
На каждом этапе своего развития литература всегда стре¬
мится создать образ положительного героя и так или иначе со¬
здаёт, его. Задача литературы в том и состоит, чтобы вызывать в
читателе представление об идеале, непосредственно его изобра¬
жая (или рисуя негативно то, что ему противостоит).
Но всё дело в том, что противоречия человеческого общества,
которые по-разному себя проявляют в разные исторические пе¬
риоды, необходимо приводят к тому, что в литературе положи¬
Положительный
герой советской
литературы
327
тельные герои так или иначе находятся всегда в условиях, не
позволяющих им проявить свои качества, либо эти качества ока¬
зываются не полностью применимыми к жизни.
Дело не в том, что в классической литературе нет положи¬
тельного героя, но он появляется в тех или иных формах, кото¬
рые так или иначе его ограничивают. Либо это герой типа
«Мцыри», у которого мы не видим реального -пути для примене¬
ния его воли и стойкости в реальной жизненной обстановке.
Либо это герой Чернышевского Рахметов, который показан
реально, но основная его идея — вера в крестьянскую револю¬
цию — ошибочна. Либо герой «чувствует в груди своей силу не¬
объятную», но не имеет возможности приложить её к жизни.
С каким бы героем мы ни встретились в классической лите¬
ратуре, — он либо не до конца может выявить свои качества,
либо не имеет реальной возможности осуществить свою идею.
Советская литература, создавая образ положительного героя,
устраняет эти противоречия. Единство субъективного и объек¬
тивного понимания исторического процесса позволяет и в образ
положительного героя вложить те черты, которые полностью
могут быть осуществлены на практике. Это связано с тем, что
принцип партийности в советской литературе выражается в том,
что она прежде всего воодушевлена социалистическим идеалом.
Метод социалистического реализма выдвигает социалистиче¬
ский идеал. Положительный герой советской литературы — это
прежде всего герой социалистический, это носитель социалисти¬
ческого отношения к миру. Он и является по этой причине до
конца положительным героем.
Крупнейшие произведения советской литературы характери¬
зуются тем, что в центре их стоит именно положительный герой.
Сущность этого характера прежде всего в том, что его основные
черты — высота его духовного облика, общественная ценность
поступков, им совершаемых, — определяются тем, что он является
участником народной борьбы за коммунизм. Положительный
герой советской литературы — это человек-патриот, руководя¬
щийся в своём поведении и в своих требованиях к жизни социа¬
листическим идеалом, до конца преданный родине, партии, на¬
роду, готовый и к трудовому, и к ратному подвигу ради них.
Именно эта его основа и воспитывает в нём творческое отноше¬
ние к труду, последовательный демократизм, способность преодо¬
левать всё и всяческие препятствия на пути к поставленной цели,
оптимизм, стойкость, чувство товарищества, трезвость мысли и
пафос стремления вперёд, — всё то, что могло развиться в чело¬
веке, выращенном под руководством партии большевиков.
Товарищ Молотов, выступая с докладом о 30-летней годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции, говорил:
«Следует признать, что важнейшим завоеванием нашей рево¬
люции является новый духовный облик и идейный рост людей,
как советских патриотов. Это относится ко всем советским на¬
328
родам, как к городу, так и к деревне, как к людям физического
труда, так и к людям умственного труда. В этом заключается,
действительно, величайший успех Октябрьской революции, кото¬
рый имеет всемирно-историческое значение.
Теперь советские люди не те, какими они были 30 лет назад»
Положительный герой советской литературы и воплощает
черты нового духовного облика советских людей. Проблема по¬
ложительного героя не сводится к тому, что в литературе со¬
здаётся некий единый образ, как бы вбирающий в себя всё луч¬
шее, что литература стремится показать в советском человеке.
Образ положительного героя выступает в самых различных
жизненных ситуациях, в самых различных аспектах обществен¬
ного опыта, применительно к людям различного типа, социаль¬
ного положения, различных форм общественной деятельности
и пр. Но — при всём его разнообразии — в основе его лежит
разрешение противоречия между поставленной целью и невоз¬
можностью полного её осуществления в жизни, что отличало ли¬
тературу досоветского периода. Положительный герой советской
литературы — это человек, достигающий цели и показывающий
пример своему читателю высотой поставленной цели, силой и бла¬
городством характера, воспитанного борьбой за эту цель — за
социалистический идеал. Понятно, что основное жизнеутвер¬
ждающее начало социалистического реализма ни в какой мере
не исключает в нём и критической направленности против всего,
что мешает развитию социалистического общества.
Образ положительного героя присутствует и в тех произведе¬
ниях советской литературы, где отрицательные качества или
трагическая судьба действующих лиц говорят о том, к чему ве¬
дёт нарушение тех принципов жизненного поведения, которые
присущи положительному герою, хотя он в произведении и не
изображён или изображён частично (таков смысл судьбы Гри¬
гория в романе Шолохова «Тихий Дон»).
Образ положительного героя является практическим вопло¬
щением в искусстве принципа большевистской партийности.
Герожчность Новый, освобождённый человек социалистиче-
советского ского общества выступает прежде всего как
искусства борец, как строитель новой жизни. В этой
борьбе раскрываются лучшие черты человеческого характера.
Человек выступает как герой, воодушевлённый в своей деятель¬
ности величайшими в истории человечества идеалами. Отсюда
вытекает героичность советского искусства, высота эстетиче¬
ского идеала человека как характернейшая черта социалистиче¬
ского реализма. В центре внимания советских художников —• че¬
ловек, проявляющий себя в служении своему народу, на защите
своей родины, человек, который в дни борьбы с фашизмом при¬
влёк к себе восхищённое внимание всего передового человече¬
ства. Именно эта героичность советского искусства, определяю¬
щая его устремлённость вперёд, и объясняет единство реализма и
329
Национальная
форма и
социалистическое
содержание
советского
искусства
романтизма, характерного принципа социалистического реализма.
«...Революционный романтизм, — говорил товарищ Жданов в
своей речи на I съезде советских писателей,—должен входить
в литературное творчество, как составная часть, ибо вся жизнь
нашей партии, вся жизнь рабочего класса и его борьба
заключаются в сочетании самой суровой, самой трезвой
практической работы с величайшей героикой и грандиоз¬
ными перспективами». Горький писал о том, что «наше
искусство должно встать выше действительности и возвысить че¬
ловека над ней, не отрывая его от неё. Это — проповедь роман¬
тизма? Да, если социальный героизм, если культурно-револю¬
ционный энтузиазм творчества новых условий жизни в тех фор¬
мах, как этот энтузиазм проявляется у нас, может быть наиме¬
нован романтизмом. Но, разумеется, этот романтизм недопустимо
смешивать с романтизмом Шиллера, Гюго и символистов».
Богатство характера нового, социалистического
человека определяется ещё и той важнейшей
чертой советской культуры, которая основана
на её многонациональности. «Пролетарская по
своему содержанию, национальная по форме, —
такова та общечеловеческая культура, к кото¬
рой идёт социализм», — говорит товарищ Сталин (Соч., т. 7,
стр. 138). Эти слова бросают свет на всё развитие советской
культуры и литературы.
Советский Союз — это семья народов, боевая дружба которых
скреплена кровью, пролитой в общей борьбе против врагов Совет¬
ской родины, которую они вели, сплетясь вокруг русского на¬
рода. В Советском Союзе книги выходят более чем на 90 язы¬
ках, — настолько разнообразен его национальный состав. И в то
же время в этих книгах на десятках языков мы находим об¬
щие идеи и образы, выражающие единые социалистические чув¬
ства, «чувство семьи единой», говоря словами украинского
поэта П. Тычины. В этом взаимодействии национальных
культур необычайно обогащается характер социалистического
человека.
«Успехи советской литературы, — говорил товарищ Жданов в
своей речи на I съезде советских писателей, — обусловлены успе¬
хами социалистического строительства. Рост её есть выражение
успехов и достижений нашего социалистического строя. Наша
литература является самой молодой из литератур всех наро¬
дов и стран. Вместе с тем она является самой идейной, самой
передовой и самой революционной литературой..Нет и никогда
не было литературы, кроме литературы советской, которая орга¬
низовывала бы трудящихся и угнетённых на борьбу за
окончательное уничтожение всей и всяческой эксплоатации
Нет
и ига классового рабства,
тературы, которая кладёт
и не было никогда ли-
в основу тематики своих про¬
изведений жизнь рабочего класса и крестьянства и их борьбу за
330
социализм. Нет нигде, ни в одной стране в мире, литературы, ко¬
торая бы защищала и отстаивала равноправие трудящихся всех
наций, отстаивала бы равноправие женщин. Нет и не может быть
в буржуазной стране литературы, которая бы последовательно
разбивала всякое мракобесие, всякую мистику, всякую попов¬
щину и чертовщину, как это делает наша литература.
Такой передовой, идейной, революционной литературой могла
стать и стала в действительности только советская литература—
плоть от плоти и кость от кости нашего социалистического
строительства».
Большевистская
партийность —
основной принцип
развития
социалистиче¬
ского реализма
В основе художественного метода социалисти¬
ческого реализма лежит партийное отношение
к действительности — большевистская партий¬
ность. В прошлом принцип партийности высту¬
пал зачастую как принцип, ограничивающий
творческие возможности художника. Больше¬
вистская партийность — это принцип освобождённого и в силу
этого героического человека, обогащающий творчество и дающий
литературе наибольшие творческие возможности. Герой советской
литературы — это герой, воодушевлённый коммунистическими
идеалами, в борьбе за них проявляющий лучшие черты харак¬
тера, как Коргачин у Н. Островского, Давыдов у М. Шо¬
лохова.
Новые, социалистические отношения определяют и возникно¬
вение нового типа писателя, непосредственно участвующего сво¬
им творчеством в строительстве социализма. Советский писатель
вооружён передовым мировоззрением — большевистской партий¬
ностью. Исключительное значение литературы в развитии культу¬
ры нашей страны, в воспитании советских людей определяет всю
значительность политической ответственности работы писателя.
Социалистический реализм — это метод социа¬
листического искусства, т. е. искусства, имею¬
щего совершенно иное сравнительно с искус¬
ством прошлого содержание. Он имеет дело с
новыми формами человеческой деятельности—
социалистическим строительством и новыми людьми — строите¬
лями социализма. Только в условиях социализма человеческий
характер получает возможность полного расцвета. Тем самым
социалистический реализм является методом
уже ничем не ограниченного, в полном смысле слова народного
и общечеловеческого искусства.
В своём выступлении на юбилее «Народной газеты» в 1856 г.
Маркс чрезвычайно глубоко обосновал связь между развитием
человека и состоянием искусства:
«Налицо великий, характерный для XIX столетия факт, кото¬
рого не посмеет отрицать ни одна партия. С одной стороны, про¬
буждены к жизни такие промышленные и научные силы, о каких
даже подозревать не могла ни одна из предшествовавших эпох
Общечеловече¬
ское
содержание
социалистиче¬
ского реализма
331
истории. С другой же стороны, обнаруживаются признаки
упадка, далеко превосходящего все занесённые в летописи ужасы
последних времён Римской империи.
В наше время каждая вещь как бы чревата своей противопо¬
ложностью. Мы видим, что машина, обладающая чудесной силой
сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приводит
к голоду и истощению. Новоизобретённые источники богатства
благодаря каким-то роковым чарам становятся источниками
лишений. Победы искусства куплены, повидимому, ценой потери
морального качества. В той же самой мере, в какой человече¬
ство становится властелином природы, человек попадает в раб¬
ство к другому человеку или становится рабом своей собствен¬
ной подлости. Даже чистый свет науки не может, повидимому,
сиять иначе, как только на тёмном фоне невежества. Результат
всех наших открытий и всего нашего прогресса, очевидно, тот,
что материальные силы наделяются духовной жизнью, а челове¬
ческая жизнь отупляется до степени материальной силы. Этот
антагонизм между современной промышленностью и наукой, с
одной стороны, и нищетой и распадом — с другой, этот антаго¬
низм между производительными силами и общественными отно¬
шениями нашей эпохи есть осязаемый, подавляющий и неоспо¬
римый факт...
Мы знаем, что для того, чтобы направить новые силы обще¬
ства, необходимо, чтобы ими овладели новые люди, — и люди
эти — рабочие» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XI, ч. I,
стр. 5—6).
Расцвет социалистического искусства опирается, таким обра¬
зом, на расцвет человеческой личности.
«Задачи и обязанности создать подлинно общечеловеческую литературу
возлагаются историей на писателей Союза Советских Социалистических Рес¬
публик, — писал М. Горький. — Это должна быть литература, способная глу¬
боко волновать пролетариат всей земли и воспитывать его революционное
правосознание. Материал для создания высокоценной поэзии и прозы у нас
уже есть — это совершенно новый материал, созданный и непрерывно созда¬
ваемый революционным мужеством творчества рабочих и крестьян».
Социалистиче¬
ский реализм—
новый шаг в рае
витии миро¬
вого искусства
Метод социалистического реализма является,
таким образом, методом, который как бы пе¬
реводит искусство на новую, более высокую
ступень. Подобно тому как каждый период
развития человеческого общества представ¬
ляет собой не только самостоятельное историческое явление, но
и известный момент в общем развитии человечества, так и раз¬
витие искусства представляет собой единый процесс, в котором
исторически закономерен каждый из тех методов, которые вы¬
двигались жизнью на передний план. На смену мифологическому
реализму античного периода пришли реализм и романтизм эпохи
капитализма. Они представляли собой существенный шаг вперёд,
332
потому что приносили с собой зрелый, лишённый античной наив¬
ности взгляд на мир, выражали гораздо более сложное развитие
человеческой личности. Но в то же время противоречия капита¬
лизма, мешавшие гармоническому развитию человека, ограничи¬
вали и развитие искусства. Вот почему античное искусство, не¬
смотря на свою наивность в понимании мира в целом, в то же
время сохраняет для нас своё обаяние, не заслонённое поздней¬
шим, во многом более зрелым искусством эпохи капитализма. В
нём человеческая личность сохранила свою целостность и гармо¬
ничность, тогда как в эпоху капитализма она принижена, что и
сказывается на искусстве. Социалистическое общество и тем са¬
мым искусство возвращает человеку его целостность, не отнимая
в то же время у него зрелости и трезвости мышления. В этом
смысле метод социалистического реализма является методом, ко¬
торый как бы синтезирует предшествовавшие ему методы, вби¬
рает в себя лучшее из них, является новой и высшей ступенью
развития искусства.
Значение понятия метода заключается ещё и в том, что оно
позволяет нам не только рассматривать те или иные периоды раз¬
вития искусства, но и представить себе процесс развития челове¬
ческого искусства как единое целое, охватить его общим взгля¬
дом, понять каждый из его периодов как звено этого развития.
Подводя итоги, мы можем сказать, что метод социалистиче¬
ского реализма характеризуется стремлением художника создать
преимущественно социалистические характеры в
социалистических обстоятельствах. Он основан
на единстве реалистического и романтического подхода к жизни
(в смысле глубины анализа и широты перспективы), он ставит
себе задачей социалистическое воспитание человека, характерной
его чертой является осознанность народных и партийных задач
художника. Эти черты его получают возможность осуществиться
благодаря тому, что он опирается в жизни на освобождённого
человека, перед которым открыты пути к гармоническому разви¬
тию, к созданию культуры, национальной по форме, социалисти¬
ческой по содержанию и общечеловеческой по значению.
Может показаться, что наше определение социалистического
реализма относится только к послеоктябрьской советской литера¬
туре, которая имеет возможность черпать в окружающей её об¬
становке и социалистические характеры, и социалистические об¬
стоятельства. Однако социализм не возникает в определённый
исторический момент как раз навсегда установившееся явление
со всеми его признаками и деталями. «...Социализмом, — говорил
В. И. Ленин, — называется протест и борьба против эксплуатации
трудящегося, борьба, направленная на совершенное уничтожение
этой эксплуатации» (.Соч. т. I, стр. 171).
В зависимости от исторической обстановки эта борьба прини¬
мает каждый раз различные формы. Социалистические характеры
333
Метод и его
индивидуальное
воплощение
в творчестве
писателя
поэтому были и до Октября, так же как были и социалистические
обстоятельства в смысле наличия определённых исторических
форм борьбы за освобождение трудящихся масс.
Поэтому-то Горький и уловил ещё в конце XIX в. то новое в
человеке и в жизненной обстановке, что вошло в жизнь благодаря
тому, что началась под руководством Ленина решающая борьба
за освобождение народа. Это и позволило ему стать основопо¬
ложником метода социалистического реализма ещё до Октября.
Наше определение включает и произведения советских писа¬
телей на исторические темы. Изображая людей прошлого, писа¬
тель подходит к ним с социалистической точки зрения, исполь¬
зует их для воспитания современного социалистического чело¬
века, развития его эстетического идеала. Советский писатель
воспринимает прошлое в его связи с настоящим, с позиций со¬
циалистического мировоззрения.
Примером художественного осуществления этого метода мо¬
жет служить роман Горького «Мать». В нём перед нами харак¬
теры, в которых отражена борьба за создание социалистического
общества; основные черты их — это черты социалистического че¬
ловека, все силы отдающего на благо родины и народа (Павел,
мать). Они показаны и в их настоящем, в реальной исторической
обстановке, и в перспективе их развития. Образ матери совре¬
менная выходу романа критика считала нереальным, романтиче¬
ским; у нас теперь эта постановка вопроса вызывает удивление:
образ матери кажется нам целиком реалистическим, потому что
мы знаем путь тысяч и сотен тысяч советских женщин в годы
гражданской войны, в дни социалистического строительства, во
время борьбы с фашизмом, показывающий нам, в какой мере
угадал Горький черты социалистической женщины в начале
900-х годов, в какой мере его реалистический анализ переходил
в романтическое раскрытие перспектив развития человека в
жизни, причём это желаемое было одновременно и тем, что дей¬
ствительно должно было осуществиться.
Роман «Мать» ставил себе задачей воспитание в человеке со¬
циалистического отношения к жизни; понимание жизни, им дава¬
емое, пронизано большевистской партийностью. Поэтому-то,
когда он был издан, Ленин назвал этот роман глубоко своевре¬
менной книгой, на которой сотни тысяч рабочих будут учиться
сознательному участию ,в революционном движении.
Как и всякий метод, метод социалистического
реализма предполагает всякий раз индивиду¬
альное осуществление его основных свойств в
конкретном произведении в зависимости от та¬
ланта, культуры, жизненного опыта, мировоз¬
зрения художника. Он даёт ему определённые возможности для
создания художественных произведений, которые в принципе
могут привести к более высоким вершинам художественности,
сравнительно с предшествовавшими ему методами. Но это вовсе
334
не значит, что художник получает в нем, так сказать, автомати¬
чески эту более высокую художественность. Он может осущест¬
вить их слабее, чем в своё время художники прошлого осуще¬
ствляли возможность своих методов. Поэтому-то был бы неверен
вывод, что каждый современный писатель, исходящий из прин¬
ципов социалистического реализма, будет благодаря этому ме¬
тоду создавать произведения более значительные, чем, например,
писатель-классик XIX в. Он создаст их в том только случае, если
его творческая индивидуальность будет равна индивидуальности
писателя-классика по силе таланта, по жизненному опыту и т. д.
В этом случае преимущества мировоззрения и метода дадут ему
возможность избежать ошибок писателя прошлого, правильнее
разобраться в жизни и, следовательно, глубже её отразить. Если
же этого нет, то произведения его, несмотря на преимущества
метода, будут уступать произведениям лучшего художника кри¬
тического реализма по богатству языка, по глубине психологи¬
ческих характеристик и т. д. Но главное в том, что благодаря
разработанному советской литературой методу художник, рав¬
ный писателю-классику XIX в., сможет пойти дальше его. В на¬
шей стране сама социалистическая действительность создала
возможности для выдвижения из народной массы тех талантов,
которые раньше не могли бы проявиться и развиться.
Основные черты метода социалистического
реализма, естественно, сказываются и на кон¬
кретных особенностях художественного твор¬
чества, на выборе характеров, сюжетов, на
строении языка. Выше мы уже указывали на
то, что центральным образом советских писа¬
телей является образ коммуниста, поскольку в нём воплощены
основные черты характера социалистического человека.
Отсюда и сюжет строится на основе ситуаций, характерных
для обстановки, в которой вырабатываются такие черты ха¬
рактера.
В центре сюжета — события общественной жизни, в связи с
которыми проясняются и основные черты человека. Так в ро¬
мане «Мать» мы следим за процессом внутреннего роста самой
матери, которая постепенно из запуганной, забитой, принижен¬
ной жизнью женщины становится полноценным человеком, уча¬
стником борьбы за освобождение народа.
Сюжетные узлы как раз и связывают основные моменты в
развитии характера матери с событиями революционной борьбы.
Завязка романа — это вступление Павла в революционный кру¬
жок, работа которого и пробуждает в матери дремавшее стихий¬
ное чувство недовольства жизнью.
Развитие действия — работа кружка, втягивающего мать всё
больше и больше в подпольную революционную работу, форми¬
рующую новые черты её характера. Кульминация — момент,
Характерные
формальные
особенности
метода социа¬
листического
реализма
335
когда определяется судьба матери, перелом её характера, делаю¬
щий её из сочувствующего зрителя борьбы активным её участ¬
ником, — приходится на столкновение рабочих с войсками, раз¬
гоняющими демонстрацию. Мать бросается вперёд, чтобы под¬
нять падающее красное знамя, и тем самым окончательно всту¬
пает в борьбу. Движение, развитие характера связано Горьким
с движением революционной борьбы народа с самодержавием.
В области языка характернейшая черта советской литера¬
туры — демократичность формы, стремление к языку (не говоря,
конечно, о тех или иных исключениях), понятному массам, унич¬
тожение столь частого в прошлом «двуязычия», когда в литера¬
туре развивались особые, оторванные от общего языка формы,
делавшие её непонятной широким массам.
ГЛАВА II
ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ И ВИДЫ (ЖАНРЫ
И ЖАНРОВЫЕ ФОРМЫ)
Историческая
основа понятий
теории
литературы
Жанр
Мы рассматривали до сих пор литературное
творчество в порядке возрастающей его слож¬
ности: произведение, стиль, течение, метод.
Мы шли от наиболее простой формы — произ¬
ведение — ко всё более и более сложным по¬
нятиям, включавшим в себя более простые. При этом мы всё
время подчёркивали, что в основе всех этих понятий лежит исто¬
рический принцип: отражение определённого момента в жизни
общества и в индивидуальном развитии писателя дано в произве¬
дении. Связь его с исторической обстановкой совершенно очевид¬
на. Столь же очевидна историческая основа, которая определяет
стиль писателя: ряд произведений обусловлен в своём единстве
жизненным путём писателя, той исторической обстановкой, в
которой он жил. Более сложным и в то же время отчётливо свя¬
занным с определённым историческим моментом обществен¬
ного развития является литературное течение. Наконец, и метод,
как мы видели, хотя и охватывает собой определённый историче¬
ский период, связан именно с данными общественными условиями
жизни. Эта связь литературы с общественной обстановкой про¬
слеживается, таким образом, во всех её проявлениях, что вполне
понятно для нас: литература является идеологией, формой обще¬
ственного сознания, она отражает общественное бытие и вне
связи с ним и не может существовать (понятно, что мы мыслим
общественное бытие, включая в него общественную культуру во
всей её широте, в том числе и знание предшествующей истории
общества, поэтому произведения на историческую, а не на совре¬
336
менную тему точно так же сохраняют для нас свою обществен¬
ную обусловленность). Наше понимание литературы последова¬
тельно -исторично.
Однако мы сталкиваемся с таким явлением, которое на пер¬
вый взгляд не укладывается в наше историческое представление
о литературе. Мы помним, что своеобразие литературного твор¬
чества выражается — в силу известного нам закона единства
формы и содержания — во всех сторонах литературного творче¬
ства: и в языке, и в композиции, и в стихе и т. д. Сходство тех
или иных формальных особенностей объясняется сходством
исторической обстановки, создающей возможность пересечения
общего и исторического, как это мы видели на ряде примеров
(значимость в современности эстетических идеалов, возникших
в прошлом, исторические причины сходства и повторения сюже¬
тов и пр.).
Но мы встречаемся в истории литературы с таким широким
по своему размаху повторением у самых различных писателей в
самые различные исторические периоды определённых формаль¬
ных особенностей в построении произведения, что они как будто
не укладываются в исторические рамки. Такие повторения мы
можем наблюдать в области композиции.
!Мы встречаем сходные по типу композиционной организации
произведения у писателей, чрезвычайно далеко отстоящих друг
от друга во времени.
Вначале мы уже указывали на эти различ-
Литсратурные ные по своей композиционной организации
род и вид. виды произведений — лирический, эпический
и драматический.
Лирику мы встречаем и у современных поэтов, и в антично¬
сти; то же можно сказать и об эпосе, и о драме.
Они различаются по своим композиционным особенностям:
лирика даёт краткое выражение отдельного человеческого пере¬
живания; эпос рассказывает о человеческой жизни в более или
менее сложных её проявлениях в рассказе, повести, романе;
драма, отказываясь от речи повествователя, показывает своих
персонажей в действии. В каждом из этих случаев мы имеем
дело с особым построением произведения, с различным его ком¬
позиционным оформлением.
Чаще всего эти три типа композиционной организации про¬
изведения рассматривают как три литературных рода.
Внутри каждого из них легко заметить дополнительное члене¬
ние: так, и рассказ, и повесть, и роман относятся к эпическому
роду. Такие вариации внутри литературного рода называют ли¬
тературными видами. Внутри вида также могут быть дополни¬
тельные членения, которые называют жанрами. Так, роман
есть вид литературного рода— эпоса, а философский роман есть
жанр романа, наряду с другими жанрами: приключенческим ро¬
маном, бытовым романом и т. д. Однако точная терминология
22 Тимофеев
337
Жаяр — особый
тип
композицио иной
организации
произведения
здесь ещё не установилась. Часто жанром называют и виды,
иногда термин жанр обозначает и то, что называют родом, т. е.
эпос, лирику и драму.
Французское слово «жанр» собственно означает род. Мы в
дальнейшем будем употреблять два термина: жанр (в смысле
род) и жанровая форма (в смысле вид); понятие, кото¬
рое бы обозначало членение внутри вида (жанр в узком смысле
слова), представляется слишком дробным и излишним.
Сложность понимания жанра заключается в том, что оно про¬
тиворечит как будто тому пониманию композиции как содержа¬
тельной формы, которое мы выше дали. Для нас композиция
была прежде всего отражением той реальной связи (в определён¬
ном понимании её художником) явлений, которая присуща дан¬
ной области жизни, рисуемой художником. Между тем повторяе¬
мость жанров в самой различной исторической обстановке гово¬
рит о том, что композиция не связана с жизненным материалом,
как бы не исторична. С другой стороны, у одного и того же
художника мы встречаем разные жанры (лирика, драма, эпос у
Пушкина, у М. Горького), содержание облекается в разные
формы. Объяснить эти противоречия можно, исходя из того по¬
ложения о единстве в литературе общего и исторического, кото¬
рое мы выше уже обосновали.
В самом деле, сравнивая между собой относя¬
щиеся к одному и тому же жанру произведе¬
ния различных художников, мы не уловим в
них по существу никакой связи: идеи их раз¬
личны, жизненный материал, характеры, сю¬
жеты, язык — не имеют ничего общего, как, например, в романах
Тургенева и Уайльда.
Сходство в них заключается лишь в том, что они близки друг
другу по тому, как в них изображается человек: он показан как
развитой и многосторонний характер, находится в отношениях
со многими людьми, изображение его охватывает значительный
период его жизни, самое повествование в романе охватывает
большой отрезок времени, имеющий начала и конец, автор рас¬
сказывает нам о том, что совершилось в определённое время в
определённом месте с определёнными людьми. История Лаврец¬
кого у Тургенева или Дориана Грея у Уайльда внутренне за¬
кончена, мы воспринимаем её — как указал Потебня — как бы
в прошедшем времени: это то, что произошло с данным пер¬
сонажем. Не дочитав романа, мы часто спрашиваем, чем кончи¬
лось, поскольку знаем, что события, о которых в нём рассказы¬
вается, должны иметь конец.
Наоборот, в лирическом произведении, к какому бы времени
оно ни относилось, мы имеем дело с совершенно иным изобра¬
жением человека, характера; он рисуется в отдельном своём
переживании, которое развёртывается перед нами, так сказать,
в настоящем времени, как непосредственно возникшее на наших
338
глазах и тут же завершившееся. Поэтому в лирическом стихо¬
творении нет развёрнутых событий, имеющих начало и конец, нет
сложного взаимодействия характеров, нет развития персонажа,
Было бы странно, если бы мы спросили, чем кончилось стихотво¬
рение «Я помню чудное мгновенье», тогда как такой вопрос о
«Капитанской дочке» вполне законен.
Таким образом, эпос (видом, формой которого является ро¬
ман) даёт изображение человека как целостного характера в его
развитии, охватывающем определённый, сюжетно законченный
период его жизни. Лирика же даёт изображение человека в от¬
дельном его переживании, охватывая лишь отдельный момент
его внутренней жизни, не требующий поэтому той или иной сю¬
жетной организации.
Об(цсо и
историческое
в жанре
В основе жанра лежит, следова¬
тельно, определённый тип изобра¬
жения человека, определённый
способ обрисовки характер а. Если
человек изображается в развитии, сюжетно, как законченный ха¬
рактер, — перед нами эпос. Если он изображается в отдельном
своём состоянии, в переживании, без сюжета, — перед нами ли¬
рика. Легко убедиться в том, что эти два способа изоб ра-
жения человеческого характера, которые лежат в
основе эпоса и лирики, столь исторически устойчивы потому, что
они связаны с двумя основными формами поведения человека в
жизни, вне которых в сущности он не может себя проявить: или
человек проявляет себя в действиях, в поступках, участвуя в тех
или иных событиях, или он воспринимает жизнь, не совершая
поступков, а переживая окружающую его жизненную обстанов¬
ку. Это общие формы проявления человеческого отношения к
жизни, иных не может быть, где бы и когда бы человек ни суще¬
ствовал: он или действует в жизни, совершая те или иные по¬
ступки, или переживает окружающие его явления жизни. Иначе
он и не может быть изображён. А то, какие поступки он совер¬
шает, какие у него возникают переживания и т. п., зависит уже
от исторической обстановки, в которой он находится.
Поэтому мы ощущаем сходство самых различных по своему
конкретному историческому содержанию произведений, так как
видим в них одинаковое изображение человеческих характеров
(в действии — эпос, в переживаниях — лирика). И в то же время
мы видим всё их различие, так как историческое их наполнение
неповторимо, связано лишь с данным укладом жизни. Жанр есть
и общее явление, и в то же время — историческое явление, в нём
объединяются и то, и другое, так как общее может проявиться
только как историческое.
Поэтому на всём протяжении развития литературы мы наблю¬
даем и будем наблюдать в ней сходные жанры, и в то же время
они никогда не повторяют друг друга конкретно, так как каждая
эпоха по-своему определяет и характер, и содержание деятельно¬
22*
339
сти и переживаний человека, и ту обстановку, в которой они осу¬
ществляются.
Поэтому в творчестве одного и того же писателя мы находим
различные жанры, так как он обращается к различным формам
человеческого поведения, и тем самым он должен обращаться
к различным способам изображения человеческого характера.
Таким образом, и понятие жанра не разрушает нашего истори¬
ческого представления о литературе, нашего положения о един¬
стве формы и содержания.
Имея в виду это общее определение жанра, перейдём к ана¬
лизу отдельных жанров.
Эпос
Термин эпос имеет два значения. В исто-
Изображение рико-литературном смысле эпосом называют
человека в эпосе r г j г
народные поэмы и сказки (русский' народный
эпос, античный эпос и др.).
В теоретическом смысле эпосом называют жанр, основной
чертой которого является развёрнутое изображение человеческих
характеров. В дальнейшем мы будем говорить об эпосе в этом,
втором смысле слова.
Термин эпос происходит от греческогоsmS; —«слово», в
отличие от лирики (лира — музыкальный инструмент: лириче¬
ское стихотворение первоначально было и песней, пелось под
аккомпанемент лиры) и драмы (йрдрл — греческое слово и
означает «действие»). В отличие от лирики, выражающей пере¬
живания, и драмы, где персонажи непосредственно действуют на
сцене, эпос представляет собой повествовательный
жанр, в котором рассказывается о жизненном пути человека,
обрисовываются события, в которых он участвует, поступки, ко¬
торые он совершает, показываются взаимоотношения людей
между собой.
Эпический образ — эта образ, в основе кото¬
рого лежит развитой многосторонний челове¬
ческий характер, представляющий собой опре¬
делённую индивидуальность, показанный в из¬
вестном законченном (т. е. имеющем начало и
конец) моменте своего жизненного пути (в сю¬
жете).
От лирического образа, сосредоточенного на изображении
лишь отдельного переживания, образ эпический отличается
именно своей многосторонностью (Гегель говорил, что человек,
изображённый эпически, «носит в себе много богов, и он замы¬
кает в своём сердце все те силы, которые существуют разбросан¬
ными в круге богов; весь Олимп собран в груди его»), от драма¬
тического образа—тем, что человек изображается в рассказе о
нём, а не в его самостоятельном действии на сцене.
340
Характер изо¬
бражения жиз¬
ненного процес¬
са в различ¬
ных формах эпи¬
ческого жанра
растающие по
Формы В зависимости от полноты изображения жиз-
эппчсского ненного процесса, в котором раскрывается че-
жанра ловеческий характер, можно говорить о трёх
основных формах эпического жанра — малой, средней и
большой. Малая форма показывает человека лишь в опре¬
делённом моменте его жизненного пути; средняя — охваты¬
вает определённый период его жизни, ряд таких моментов;
большая — жизненный путь человека в его наиболее слож¬
ных проявлениях, в переплетении с жизненным путём других
людей, показанных столь же многосторонне, как и он (тогда как
в малой и средней форме в центре стоит главным образом один
развёрнутый характер, а остальные показаны лишь попутно).
Отличие этих трёх форм эпического жанра ос¬
новано, таким образом, на том, что каждая из
них показывает определённый тип жизнен¬
ного процесса, отличающийся от других
по самой своей организации. Дело не только
и не столько в том, что перед нами здесь воз-
своей сложности формы жизненного процесса,
определяющие количественное отличие одной эпической формы
от другой. Дело в том, что каждая из этих форм отражает свое¬
образную и характерную для жизненного процесса форму чело¬
веческой деятельности. Есть такие противоречия, которые связа¬
ны лишь с тем или иным моментом человеческой жизни, другие
охватывают уже известные периоды, наконец, третьи объединяют
наиболее сложные вопросы, требуют осмысления в связи с ними
самых различных сторон жизни. В зависимости от того, с какими
явлениями жизни художник имеет дело и, с другой стороны, в
какой мере глубоко он разобрался в их сложности, он и выбирает
для отражения их соответствующую по своей сложности форму
изображения характера.
Поэтому в каждую эпоху развития литературы мы наблюдаем
и развитие этих различных форм эпического жанра. Понятно, что
историческая обстановка определяет каждый раз то конкретное
своеобразие, которое эти формы получают у того или иного ху¬
дожника, но мы улавливаем и сходство между ними, поскольку
видим в них однородную по своему композиционному построе¬
нию форму изображения человеческого характера: в отдельном
моменте жизни, в известном периоде её, в переплетении с дру¬
гими и в ряде периодов.
Основной особенностью малой эпиче-
эпическая^форма с к 0 й формы является то, что она говорит
об отдельном событии в жизни чело¬
века. Характер в силу этого показан как уже сложив¬
шийся, определённый; то, что было с ним до начала данного
события и что будет после того, как событие завершится,
остаётся вне повествования или затрагивается лишь попутно;
количество персонажей невелико, поскольку они участвуют лишь
341
в одном событии. Отсюда невелик и объём произведения. Самое
событие, лежащее в основе сюжета малой эпической формы,
имеет, конечно, завязку, кульминацию, развязку, т. е. распа¬
дается на более частные события, но в целом эти события со¬
ставляют именно один эпизод в жизни человека и не имеют
дальнейшего развития.
Возьмём в качестве примера такой малой формы рассказ
Чехова «Спать хочется». В нём говорится о девочке, которая
непосильным трудом и бессонными ночами доведена до безумия:
она душит мешающего ей уснуть своим криком грудного ре¬
бёнка. О том, что было с этой девочкой раньше, мы узнаем лишь
из её сна; о том, что с ней будет после того, как она задушила
ребёнка, нам неизвестно вообще. Количество персонажей в рас¬
сказе невелико, и все они, кроме главного, очерчены бегло.
Рассказ занимает всего несколько страниц. В центре его —
основное событие, которое подготовляют второстепенные собы¬
тия, составляющие, тем не менее, вместе с основным развёрты¬
вающимся событием единый эпизод.
Те же особенности мы найдём в «Челкаше» Горького (мы не
знаем, что происходило с Челкашём до события, которое состав¬
ляет содержание рассказа, и что произошло после него; в центре
рассказа — Челкаш, количество персонажей — невелико, так же
как и объём), в новеллах Боккаччо, Мопассана и т. п.
В различные периоды истории литературы малая эпическая
форма получала различные наименования. Её называли и рас¬
сказом, и повестью (например, у Пушкина — «Повести Бел¬
кина»), и новеллой, в фольклоре — сказкой и т. д.
Но, по существу, мы в каждом из этих случаев имеем дело
именно с малой эпической формой, которая, давая те или иные
вариации в зависимости от исторической обстановки, показывала
один эпизод из жизни человека (со всеми связанными с этим
композиционными особенностями: количеством персонажей,
объёмом и пр.).
Это различие наименований часто вводило в заблуждение
исследователей, которые стремились рассматривать новеллу, рас¬
сказ и пр. как особый самостоятельный вид и определять именно
ему присущие особенности. Так, есть ряд работ, в которых про¬
водится различие между новеллой и рассказом.
На самом деле, как мы видели, основные композиционные их
особенности — способ изображения в них человека — совпадают,
и найти принципиальное различие между ними нельзя. Поэтому-
то мы здесь и отказались от термина литературный вид,
который приводит к представлению о самостоятельности каждого
вида, а говорим о трёх основных формах эпического жанра, каж¬
дая из которых объединяет в себе различные исторически возни¬
кавшие вариации её. Чаще всего малую эпическую форму назы¬
вают рассказом.
342
Среднюю эпическую форму чаще всего назы-
э..и..есвеая "форма вают п 0 вестью. В древней литературе тер¬
мин «повесть» имел более широкий смысл,
обозначая вообще повествование, например: «Повесть времен¬
ных лет». Повестью называют также «хронику» — произведение,
представляющее собой изложение событий в хронологическом
порядке: «Повесть о днях моей жизни» Вольнова. В начале XIX в.
термин «повесть» соответствовал тому, что теперь называют рас¬
сказом. Повесть (как средняя эпическая форма) отличается от
рассказа тем, что даёт ряд эпизодов, объединённых вокруг
основного персонажа, составляющих уже период его жизни.
В связи с этим она больше по объёму, в неё входит более широ¬
кий круг персонажей; завязку, развязку, вершинный пункт
(кульминацию) образуют уже более развитые события; персо¬
нажи, взаимодействующие с основным, более широко обрисо¬
ваны. Примером повести может служить. «Капитанская дочка»
Пушкина, композиционно образующая ряд эпизодов из жизни
Гринёва, составляющих определённый период его жизни.
Наконец, большая эпическая форма, как гово-
Эцнч!с°ка“афорМа Рилось- даёт и Ряд периодов и ряд многосто¬
ронне показанных персонажей, что позволяет
ей дать наиболее синтетическую картину жизни, отразить наи¬
более сложные её противоречия не в отдельном их проявлении
в одном событии или в связи с одним характером, а в сложных
взаимоотношениях людей. Большую форму чаще всего называют
романом.
Пушкин писал: «Под словом «роман» разумеем историческую
эпоху, развитую в вымышленном повествовании», подчёркивая
тем самым эту синтетичность большой эпической формы. Роман,
таким образом, охваЛшает сложный круг жизненных явлений,
объединяет большое количество персонажей, многосторонне по¬
казанных писателем, с переплетающимися сюжетными линиями
основных персонажей. Отсюда вытекает языковая сложность ро¬
мана, большой его объём.
Всё это определяет композиционную сложность романа.
К. Федин писал, что в романе «над каждой главой приходится
работать, как над рассказом, не имеющим, однако, самостоя¬
тельного сюжета». В романе переплетаются описания и харак¬
теристики различных персонажей, сведения о том, что было с
ними до начала действия, описываемого в произведении, что было
с ними между событиями, описанными в произведении и что было
с ними по окончании действия, различные виды экспозиции и т. п.
Всё это создаёт сложную композицию, внешне выражающуюся
в делении романа на части, главы и пр.
В романе переплетаются различные языковые особенности,
различные виды организации речи — монологи персонажей, диа¬
логи, различные виды речи повествователя — отступления, ха¬
рактеристики, описания природы (пейзажи) и пр. Всё это харак¬
343
Роман
теризует большую эпическую форму, дающую сложное, синте¬
тическое отражение жизни. Примером романа может служить
«Анна Каренина» Л. Толстого.
Самый термин роман возник сравнительно
поздно — в XII—XIII вв., когда в западноевро¬
пейской литературе, наряду с произведениями, написанными на
господствовавшем тогда в образованном обществе латинском
языке, появились произведения, написанные на романских язы¬
ках. Такое произведение называли по языку, на котором оно
было написано, conte roman — романский рассказ. Затем прила¬
гательное превратилось в существительное, и стали называть им
именно произведения типа большой эпической формы.
То обстоятельство, что роман как термин возник в определён¬
ное время и был связан -с периодом выдвижения на историче¬
скую сцену ранней буржуазии, приводило некоторых исследова¬
телей к выводу, что роман является чисто буржуазным жанром
и ото вообще литературные виды возникают и умирают в опреде-
лё.нные исторические периоды, а на смену им новые классы
создают новые. И здесь представление о виде, как о чём-то резко
обособленном от других, сходных с ним явлений, приводило к по¬
ниманию жанра только как исторического явления, тогда как
на самом деле в нём слиты общие и исторические черты. Конечно,
в большой эпической форме, которая создаётся в условиях разви¬
того буржуазного общества, мы найдём черты, которые ранее в
ней не встречались. Но это будут те черты, которые определяют
конкретное содержание произведения, т. е. своеобразные особен¬
ности характеров, сюжета, языка, вытекающие из своеобразия
исторической обстановки. Самый же тип изображения человека
(эпический образ, данный синтетически, т. е. в большой эпиче¬
ской форме) остаётся общим.
Эпопея В античной литературе мы не найдём романа,
подобного роману буржуазному, но мы найдём
в ней эпопею («Илиаду», «Одиссею»), которая для своего вре¬
мени была большой эпической формой, дававшей синтетическое
изображение жизни, т. е. аналогичной по своему значению и ос¬
новным композиционным признакам роману. Гегель справедливо
указывал на то, что роман представляет собой «современную
буржуазную эпопею», т. е. что роман представляет собой исто¬
рически своеобразную форму осуществления того общего типа
изображения человека, который в античной литературе выра¬
жался в форме эпопеи, а в буржуазной — в форме романа. Ге¬
гель указывал и на то, что в романе мы наблюдаем композици¬
онное сходство с античной эпопеей, что в нём «вновь полностью
появляются богатство и многосторонность интересов, состояний,
характеров, жизненных отношений, широкий фон целого мира».
Хотя по конкретному содержанию он ни в чём не совпадает с эпо¬
пеей (иные обстоятельства жизни, иные свойства людей, ими
определённые), но по самому способу изображения человека и
344
роман, и эпопея представляют собой частные, исторически об¬
условленные случаи проявления общей композиционной литера¬
турной формы — большой эпической формы.
Следует заметить, что термин «эпопея» употребляется в наше
время и в ином смысле. Им обозначают роман, имеющий наи¬
более сложное и развёрнутое построение, охватывающий осо¬
бенно богатый жизненный материал. Так, «Войну и мир» Л. Тол¬
стого мы назовём в этом смысле эпопеей. Гоголь писал, что
эпопея «избирает в герое всегда лицо значительное, которое было
в связях, в отношениях и в соприкосновении со множеством
людей, событий и явлений, вокруг которого необходимо должен
созидаться весь век его и время, в которое он жил. Эпопея объем-
лет не некоторые черты, но всю эпоху времени, среди которого
действовал герой с образом мыслей, верований и даже познаний,
какие сделало в то время человечество. Весь мир на великое про¬
странство освещается вокруг самого героя». Эпопеей называют
иногда произведения, которые ставят себе задачей показать не
столько отдельного человека, сколько то или иное массовое на¬
родное движение. Так, часто встречается в критике определение
«Железного потока» А. Серафимовича как эпопеи.
Основные формы эпического жанра на прак-
э?ичесТого Sja гике> конечно, дают самые разнообразные ва¬
риации. Новеллы (рассказы) объединяются
иногда в циклы новелл («Декамерон» Боккаччо), их свя¬
зывают между собой общие персонажи («Герой нашего времени»
Лермонтова), мы находим в романе вставные новеллы
(«Дон-Кихот»). В свою очередь, и романы иногда образуют бо¬
лее сложные построения, когда одни и те же персонажи перехо¬
дят из одного романа в другой, объединяя их в более сложное
целое, состоящее из двух (дилогия), трёх (трилогия), четырёх
(тетралогия) романов, когда романы объединяются в циклы
(«Ругон-Маккары» Золя, «Человеческая комедия» Бальзака).
По различию тематики, построению сюжета и пр. различают те
или иные модификации романа (жанр в узком смысле слова):
философский роман, бытовой, семейный, социальный, производ¬
ственный, психологический, авантюрный, приключенческий, де¬
тективный и пр. Но все эти деления пересекаются друг с другом,
и, главное, это в гораздо большей мере различие содержания,
определяющего те или иные частные особенности формы, чем
общие композиционные, т. е. именно жанровые особенности.
Многообразие жизненных отношений вызывает к жизни и
многообразие композиционных форм, отражающих это многооб¬
разие в литературе. Такой композиционной формой и являются
жанры и формы жанров (роды и виды). В них мы находим раз¬
личные способы изображения человеческих характеров в наибо¬
лее типичных для них проявлениях — то в сложных жизненных
обстоятельствах и противоречиях (большая эпическая форма), то
в отдельном эпизоде человеческой жизни (малая форма), то про¬
345
слеживая их в тончайших проявлениях человеческой психики
(лирика).
Поэтому-то жанры и их формы и являются, с одной стороны,
сходными в самые различные исторические эпохи, а с другой
стороны, их содержание всегда глубоко исторично, вытекает
именно из данной эпохи, лишь в связи с ней может быть понятно.
Основные
особенности
лирики
Лирика
Выше мы дали уже общее понимание лирики
как жанра и тех причин, которые вызывают
её к жизни и определяют её существование как
общего для различных периодов развития лите¬
ратуры способа изображения характера. Сущность лирики в том,
что поэт в ней отражает жизнь путём изображения отдельных со¬
стояний человеческого характера (его переживаний — чувств,
мыслей), вызванных окружающей его жизненной обстановкой.
Эти отдельно показанные состояния, проявления человеческого
характера позволяют нам понять ту действительность, которая
определила, сформировала именно такие характеры, именно
такие их черты. Это особенно важно подчеркнуть потому, что
часто полагают, что лирика сводится к изображению внутрен¬
него мира человека.
На самом деле область её несравненно шире. Она, как и во¬
обще литература в целом, отражает жизнь во всём её многооб¬
разии. Но делает она это, как и литература в целом, показывая
воздействие жизни на человека, и уже по состоянию человека мы
судим о том, какова та жизненная обстановка, которая опреде¬
лила именно такие его черты. Как и в эпосе, так и в лирике ха¬
рактер есть не самоцель художественного изображения, а
средство отражения жизни в целом и в то же время в её своеоб¬
разном преломлении в человеке. Отсюда, как мы помним, и в ли¬
рике мы находим все существенные черты образного отражения
жизни: перед нами картина человеческой жизни (в данном слу¬
чае картина внутренней жизни человека), и конкретность (в част¬
ности конкретность речи, отвечающей своим строем данному
переживанию), и обобщённость, т. е. характерность данного
переживания для определённого круга людей, находящихся в
определённой жизненной обстановке.
Эта обобщённость лучше всего говорит о том, что лирика вы¬
ходит за пределы выражения внутреннего мира самого поэта;
лишь в том случае, если его переживания оказываются в то же
время выражением переживаний, характерных для людей опре¬
делённой жизненной среды, они получают художественное зна¬
чение. «Великий поэт, — писал Белинский, — говоря о своём я.
говорит об общем — о человечестве, ибо в его натуре лежит всё,
чем живёт человечество. И потому в его грусти всякий узнаёт
свою грусть, в его душе всякий узнаёт и свою и видит в нём не
346
только поэта, но и человека, брата своего по человечеству.
Признавая его существом, несравненно высшим себя, всякий в
то же время сознаёт своё родство с ним».
Эта обобщённость определяет, как мы помним, и значение вы¬
мысла в создании лирического образа, так как переживание ин¬
тересует нас не тем, что оно действительно было (биографически),
а тем, что оно могло быть. И, наконец, в лирическом образе мы
находим и эстетическое значение, так как он рисует человеческие
переживания в свете тех или иных общественных идеалов.
Поэтому лирика не противостоит эпосу, так сказать, принци¬
пиально. И в том, и в другом случае перед нами изображение
жизни через изображение характеров, ею созданных. Но трак¬
товка этих характеров различна. Лермонтов-лирик даёт стихотво¬
рение «И скучно, и грустно», Лермонтов-романист даёт развёр¬
нутый характер Печорина. Нам ясно, что перед нами и в том, и в
другом случае — отражение определённой общественной обста¬
новки с определённых идеологических позиций, но с разными за¬
дачами, которые и определили различный способ изображения
человека. В одном, случае автор стремится дать нам развёрну¬
тую картину жизни в законченных характерах и событиях, в дру¬
гом — он показывает эту жизнь через её воздействие на тончай¬
шие и глубинные человеческие переживания, которые не нахо¬
дят себе выражения в какой-либо внешне ощутимой и закончен¬
ной форме, в действиях и поступках, но в то же время весьма
важны для понимания жизни и характеров, ею создаваемых. От¬
сюда вытекает различие тех средств, которые нужны для изобра¬
жения взятых в этих различных планах характеров.
Для лирики можно установить ряд ей присущих признаков:
1. Изображение характера в его отдельном проявле¬
нии, в конкретном переживании.
2. Субъективированность этого изображения, то,
что оно даётся не как внешнее событие по отношению к повест¬
вователю (что мы наблюдаем в эпосе), а как его непосредствен¬
ное переживание.
3. Индивидуализированность этого переживания,
осуществляющаяся в отвечающем ему строе речи (типизирую¬
щем особенности эмоциональной речи) и превращающая его в
непосредственно воспринимаемый жизненный факт.
Говоря о том, что лирика отражает жизнь, рисуя конкретные
человеческие переживания, ею вызванные, мы должны помнить,
что понятие «переживания» не следует понимать узко: в него вхо¬
дит любая эмоция, вызванная любыми обстоятельствами жизни.
И философская мысль, и любовное увлечение, и политическое вы¬
сказывание — всё это переживания, имеющие лишь различный
характер по своему содержанию, в том случае, если они пока¬
заны как конкретные человеческие чувства и мысли, имеющие
субъективную эмоциональную окраску. Это положение было глу¬
боко развито Белинским. «Что такое мысль в поэзии? — писал
347
он. — Для удовлетворительного ответа на этот вопрос должно
решить сперва, что такое чувство. Чувство, как показывает са¬
мое этимологическое значение этого слова, есть принадлежность
нашего организма, нашей плоти, нашей крови. Чувство и чувст¬
венность разнятся между собой тем, что последняя есть телесное
ощущение, произведённое в организме каким-либо материаль¬
ным предметом, а первое есть тоже.телесное ощущение, но только
произведённое мыслью. И вот отчего человек, занимающийся
какими-нибудь вычислениями или сухими мыслями, потрясён¬
ный, взволнованный чувством, подносит руку к груди или
к сердцу, ибо в этой груди у него замирает дыхание, ибо эта
грудь у него сжимается или расширяется, и в ней делается или
тепло, или холодно, ибо это сердце у него и млеет, и трепещет,
и порывисто бьётся; и вот почему он отступает и дрожит, и подни¬
мает руки, ибо по всему его организму, от головы до ног, прохо¬
дит огненный холод, и волосы становятся дыбом. Итак, очень по¬
нятно, что сочинение может быть с мыслью, но без чувства; и в
таком случае есть ли в нём поэзия? И наоборот, очень понятно,
что сочинение, в котором есть чувства, не может быть без мысли.
И естественно, что чем глубже чувство, тем глубже и мысль, и
наоборот... Мысль, родившаяся в голове поэта, дала, так сказать,
толчок его организму, взволновала и зажгла его кровь и заше¬
велилась в груди. Таков «Демон» Пушкина... я не говорю о его
«Онегине», этом создании великом и бессмертном, где что стих, то
мысль, потому что в нём что стих, то чувство... одно без другого
быть не может, если только данное произведение художественно».
Может возникнуть сомнение относительно того, что в качестве
основного признака лирики как жанра мы указываем на то, что
в ней рисуются переживания, поскольку в эпическом произве¬
дении перед нами точно так же могут быть изображены пережи¬
вания. Однако там они даны во взаимодействии с остальными
элементами повествования, переплетены с ними и лишь в связи
с ними становятся понятны, а в лирике переживание самостоя¬
тельно, внутренне законченно, не требует для своего раскрытия
каких-либо условий, воспринимается нами как определённый
жизненный факт, в котором мы находим все «слагаемые» образ¬
ного отражения жизни. Перед нами стихотворение Некрасова,
состоящее всего из шести строк:
Стихи мои! Свидетели живые
За мир пролитых слёз!
Родитесь вы в минуты роковые
Душевных гроз
И бьётесь о сердца людские,
Как волны об утёс.
Это, прежде всего, картина внутренней жизни человека, ин¬
дивидуальное человеческое переживание. Она самостоятельна и
закончена, не требует для своего раскрытия какой-либо сюжет¬
ной мотивировки, бытовой обстановки и т. п.
348
Нарисована она конкретно, благодаря тому, что дана в форме
стихотворной речи, заставляющей нас своим напряжённым эмо¬
циональным строем ощутить душевное состояние того, от чьего
лица идёт данное переживание. В то же время она даёт нам обоб¬
щённое представление о сущности поэтического творчества —
это мысль о поэзии, являющаяся одновременно и чувством. И, на¬
конец, в ней выражено и определённое эстетическое представле¬
ние о том, как должен относиться к жизни подлинный поэт, в ней
дано идеальное представление о сущности поэтического твор¬
чества. Перед нами пример художественного произведения, на¬
писанного в лирическом жанре.
То обстоятельство, что и в лирике (как и вообще в литера¬
туре) изображаются прежде всего характеры, объясняет её исто¬
рическую стойкость. Лирик в своих социально-исторических усло¬
виях берёт материал для изображаемых им переживаний, но в
то же время он может раскрыть своё историческое и как общее,
поставить на своём жизненном материале вопросы, существенные
и для других поколений и классов. Отношение к природе, к
смерти, к любви, к женщине, к детям и т. д. — это общие во¬
просы, находящие всегда своё историческое разрешение, но в
ряде случаев это историческое разрешение получает общее зна¬
чение. В этом объяснение того, почему, например, лирика Пуш¬
кина, как и других мировых поэтов, сохраняет своё значение
и для нас, так как он сумел изобразить в своих стихотворениях
переживания в такой мере полноценного, мужественного и благо¬
родного характера, который и в наши дни сохраняет интерес,
жизненность, воспитательное и эстетическое значение.
В зависимости от исторического своего содержания, от ка¬
чества характеров, типичных для данного исторического периода,
меняется и сама лирика, сохраняя опять-таки в различных сти¬
лях свою функциональную однородность. Это важно подчеркнуть
потому, что у нас зачастую и теперь можно встретить предубеж¬
дение относительно лирики, представление о том, что в ней мы
имеем дело с самоизоляцией личности, противопоставлением её
обществу и т. д. Это глубоко ошибочно. Здесь черты чисто исто¬
рические ошибочно истолковываются как общие. Отношение лич¬
ности к обществу есть историческое явление, зависящее от дан¬
ных общественных условий и создаваемых ими характеров. Для
буржуазного общества, угнетающего и принижающего личность,
характерна лирика, основанная на противопоставлении коллек¬
тиву личности. В социалистическом обществе, создающем все
условия для расцвета личности в коллективе, качество лирики
совершенно иное. Она даёт не индивидуалистические пережива¬
ния замыкающейся в себя личности, а индивидуальное отраже¬
ние в переживаниях личности общих для неё со всем коллекти¬
вом настроений, мыслей и т. д. Если лирика в прошлом есть рас¬
крытие антагонизма личности в обществе, то лирика социали¬
стического общества есть раскрытие единства их.
349
Отсюда — расцвет лирики есть необходимое условие и форма
развития социалистической литературы.
То обстоятельство, что в лирике мы имеем дело с изображе¬
нием самостоятельных, изолированных переживаний, приводит к
тому, что формы лирического жанра соотносятся уже не по линии
степени развёрнутости изображаемого характера, как в эпосе,
а по линии содержания самых переживаний, направленности их
в определённые области жизни. Различие форм лирического
жанра основано главным образом на тематическом принципе. Та¬
кова любовная, философская, политическая лирика и т. д. —
в зависимости от тех тематических тенденций, которые харак¬
терны для данного периода, данного стиля и т. д.
Формы Точной систематизации (как в эпосе) здесь
лирического не установлено, да она и не нужна, поскольку
жанра лирика не даёт сложных композиционных
форм, как эпос. Попытки же определения более дробных и точ¬
ных тематических видов лирики неизбежно упрощают её содер¬
жание, затрагивают лишь внешние стороны её содержания. Та¬
кие виды лирики пытались установить в античности и в эпоху
классицизма (XVIII в.); так, различали мадригал (шуточное
стихотворение), послание (стихотворение, адресованное к
определённому лицу), эпиграмму (стихотворение, иронизи¬
рующее над определённым лицом), эпитафию (стихотворе¬
ние, написанное по поводу чьей-либо смерти), эпиталаму
(стихотворение на бракосочетание), элегию (стихотворение
грустного, печального характера), эклогу (стихотворение на
темы из сельской жизни) и пр.
Однако такое дробление лирики слишком узко и поэтому не
получило распространения в другие периоды. Исторически его
возникновение понятно, оно сложилось в такой среде, где поэзия
была достоянием немногих и принимала поэтому зачастую лич¬
ный характер; стихи писались в связи с определёнными собы¬
тиями, были адресованы к определённым лицам. Они сохраняли
своё художественное значение тогда, когда перерастали те не¬
посредственные факты, которые вызывали их к жизни, играя
роль своеобразных их прототипов; в более же позднее время
поэзия уже перерастала такого рода личные рамки, и надобность
в таком тематическом дроблении лирики отпала.
Лиро-эиический жанр
Наряду с лирическими и эпическими произ-
Соодинение ведениями мы можем наблюдать и произве-
эиического°начал Дения, объединяющие в себе особенности ли¬
рического и эпического изображения жизни.
В них, с одной стороны, дано изображение жизни в законченных
характерах, в сюжете, и в то же время вплетается и изображе¬
ние не связанных с сюжетом переживаний, которые дают уже
380
субъективированное изображение жизни. Так, в «Евгении Оне¬
гине» перед нами ряд эпических образов (Онегин, Татьяна), но
в некоторых случаях Пушкин обращается к лирической обри¬
совке той жизни, которую он показывает в романе. Так, говоря
о Татьяне, после того как она послала письмо к Онегину, Пуш¬
кин вслед за тем уже не показывает её поступки, её душевное со¬
стояние, а даёт свои переживания, вызванные Татьяной («Ты
пьёшь волшебный яд желаний, тебя преследуют мечты»), и уже
по ним мы представляем себе состояние Татьяны. Эта лирич¬
ность романа усиливается его стихотворной формой. Самое об¬
ращение к стиху уже говорит, как мы помним, о том, что перед
нами речь эмоционально окрашенная, т. е. служащая формой
конкретизации переживания. Уже самое наличие стихотворной
формы речи говорит нам о том, что произведение отражает
жизнь в лирическом плане, т. е. через переживания, ею вызван¬
ные. Это соединение лирического и эпического начал, выражаю¬
щееся в переплетении сюжета и стихотворной речи, в отражении
жизни и через переживания, и через законченные характеры
придаёт произведению своеобразный характер, говорит о том,
что перед нами несколько особый тип композиционной органи¬
зации, изображения характеров (и через их собственные по¬
ступки, и через те переживания, которые они вызывают у по¬
вествователя).
Такого рода произведения относят к лиро-эпическому
жанру. Самое название его ясно говорит о том, что в нём
объединены особенности и лирического, и эпического изображе¬
ния характера. Основные его признаки были уже указаны (дву¬
планное изображение человека и в его поступках, и в пережи¬
ваниях, которые им вызваны у повествователя, сюжетность, стихо¬
творная форма, говорящая об особой роли повествователя).
Поскольку в произведениях, относящихся к
Формы лиро-эпи- ЭТ0Му жанру, большую роль играет сюжет,
ческою жанра постольку мы встречаемся в нём с произведе¬
ниями, напоминающими по типу формы эпического жанра.
На примере «Онегина» мы можем говорить о романе
в стихах. Особенности его те же, что и у романа, но к ним
необходимо добавить указание на особую роль повествователя,
переживания которого заменяют те или иные сюжетные звенья,
те или иные действия персонажей, по которым мы судим о них
в эпических произведениях, и т. п.
Поэма представляет собой по существу стихотворную по¬
весть, реже — стихотворный рассказ, и в ней в основе лежит
сюжет, данный в то же время в единстве с лирическим раскры¬
тием материала поэмы.
Краткий стихотворный рассказ представляет собой бал¬
лада (например баллады Жуковского, Н. Тихонова), в кото¬
рой обычно излагается тот или иной сюжет, лирически окрашен¬
ный благодаря стихотворной форме.
351
Иной тип рассказа, основанного на иронической, полной
скрытых намёков , форме речи, даёт басня. В ней перед нами
краткий сюжет, изложенный в стихотворной форме (вольный
стих, благодаря своей разностопности, особенно гибко передаю¬
щий интонацию лукавого, двусмысленного повествования). Ха¬
рактеры в ней изображены аллегорически, т. е. заменяют отно¬
шения людей отношениями животных, вещей или сводят их к
простейшим или условным формам («Демьянова уха»).
В отличие от иронического стихотворного рассказа (басня)
мы отмечаем героический стихотворный рассказ — оду. В ней
изложение какого-либо необычного события даётся через то
восторженное переживание, которое оно вызвало у повествова¬
теля («Восторг внезапный ум пленил»). Оду обычно считают ли¬
рической жанровой формой, но то, что в ней часто встречается
элемент сюжетности, делает её более близкой к лиро-эпическому
жанру.
Художественно-исторический жанр
Термин художественн о-и сторический жанр усло¬
вен (не общепринят). Мы выдвигаем его для того, чтобы выде¬
лить произведения, в которых наблюдаем известно© своеобразие
в построении образа, которое, мы помним, и лежит в основе того,
что мы назвали жанром.
Выше мы говорили о том значении, которое имеет в создании
образа вымысел. Однако мы встречаем- такие произведения, в
которых вымысел имеет меньшее значение. Эти образы как бы
воспроизводят на самом деле существовавшие факты действи¬
тельности, и мы оцениваем их, именно соотнося их с этими фак¬
тами, и требуем того, чтобы они в максимальной мере точно
передавали эти факты.
Примером такого рода образов, в которых вымысел отодви¬
нут, так сказать, на задний план, является очерк.
В очерке писатель ставит своей задачей так отразить какие-
либо реально существующие или существовавшие в жизни
факты—людей, события (например героев Великой Отечествен¬
ной войны, их подвиги, имевшие место на самом деле, эпизоды
трудового героизма), чтобы читатель мог их представить со всей
силой жизненной убедительности как живых индивидуальных
людей, как конкретные события и т. п. В задаче достижения
такой жизненности изображения, обрисовки людей и событий,
чтобы они выступали перед читателем как живые, работа над
очерком ничем не отличается от работы над формами эпического
жанра. Но автор рассказа или ...романа не связан жизненным
фактом: он может изменить его при помощи своего творческого
воображения (вымысла), соединить несколько фактов в один,
взять лишь часть того или иного факта и т. д. На основ© ряда из¬
менённых фактов писатель при помощи вымысла создаёт новый
факт и художественный образ.
352
Задача же очеркиста состоит в том, чтобы познакомить чита¬
теля с действительными жизненными фактами, ввести
их в жизненный опыт читателя. Мне, читателю, живущему, ска¬
жем, в Москве, важно и полезно увидеть, какие реальные люди
работают, какие реальные события совершаются, например, на
Дальнем Востоке. Читателю, там работающему, важно и по¬
лезно увидеть тех, кто работает в Москве, и ту реальную обста¬
новку, в которой они находятся, те события, которые имели
место в жизни Москвы, и т. д.
Читателя, наряду со «сгущёнными» жизненными явлениями,
которые он находит в повести, романе, рассказе, интересуют
конкретные жизненные явления, как они есть; он находит в
очерке, жизненно изображающем реальных людей, реальные со¬
бытия.
Мы можем сказать, что для писателя-очеркиста «единицей
изображения» является факт; он не вправе его изменить: он
обязан, если он рисует, скажем, председателя колхоза Ивана
Петровича Сидорова, изобразить его со всеми ему присущими
свойствами и особенностями, каковы бы они ни были. В рассказе
же факт не является для писателя такой непроходимой грани¬
цей — он может Сидорова объединить с Петровым, Фёдоровым
и т. д., показать председателя колхоза, который объединяет в
себе реально существующих людей, но сам в действительности
не существует.
Очеркист и рассказчик работают совершенно однородно в об¬
ласти жизненности изображения, но отношение их к художест¬
венному вымыслу различно.
Так как писатель, работая над очерком, имеет несколько иной
материал и несколько иные цели его оформления, чем в рассказе,
то это, естественно, накладывает отпечаток на характер его пове¬
ствования и в языковом, и в композиционном отношении.
Жизненный факт — основа для очеркиста. Но и в очерке, как
и вообще в художественной литературе, мы имеем дело с тем
же художественным обобщением, типизацией. Дело только в
том, что очеркист приходит к этой типизации по-своему.
Писатель может, изучив десять, двадцать и т. д. явлений, в
каждом из которых лишь в очень небольшой мере выступают
типичные, характерные свойства, создать образ, в котором эти
типичные свойства выделены, усилены, ярко подчёркнуты.
Очеркист точно так же должен дать читателю обобщение, однако
особенность его работы состоит в том, чтобы суметь в самой
жизни найти такое явление, которое в той или иной мере само
по себе было бы уже типичным, и показать его читателю во
всей его жизненной яркости, со всей силой жизненности изоб¬
ражения. Писатель создаёт образ председателя колхоза. Это
значит, что он наблюдал десять, двадцать председателей кол¬
хоза и создал на основе этих наблюдений один обобщённый об¬
раз председателя. Если очеркист дал очерк о председателе кол-
353
23 Тимофеев
хоза, то, значит, он изъездил, изучил десять, двадцать колхозов
и сумел найти такого председателя колхоза, работа, характер,
свойства которого типичны в той или иной Мере, позволяют су¬
дить о том, каким должен быть председатель колхоза, учат на
его примере других. Вот это-то умение в ряду однородных явле¬
ний найти наиболее характерное, такое, чтобы на его примере
могли учиться другие, и должно быть у очеркиста. Этим путём
он и добивается художественного обобщения. Выбор фактов
и их освещение обнаруживают отношение очеркиста к ним.
В очерке мы, следовательно, имеем дело и с жизненностью изо¬
бражения, и с типичностью изображения, т. е. с основными при¬
знаками художественно-литературного творчества. Вымысел же
играет в очерке подчинённую, подсобную, а не конструктивную
роль. Понятно, что при обработке материала и очеркист поль¬
зуется вымыслом в той или иной мере; он может изменять по¬
следовательность событий, усложнять сюжет, вводить в повест¬
вование дополнительные персонажи и т. п„ но всё это не может
затенять основных и реальных фактов, которым должен быть
подчинён вымысел. Специфичность изображения характеров в
очерковой литературе естественно и необходимо накладывает
отпечаток и на её композиционные и языковые особенности.
Понятно, что мы и в очерках можем проводить такие же раз¬
личия, какие мы выше проводили между рассказом, повестью,
романом. Мы можем иметь дело и с малой, и со средней, и с
большой очерковой формой, которую дают, например, очерки
Успенского, «Губернские очерки» Щедрина. В советской литера¬
туре можно указать, например, на очерки В. Ставского: «Ста¬
ница», «Разбег», «На гребне». В них В. Ставский захватывает
сложный ряд событий, целый ряд персонажей, показывая по¬
следних в развитии, рассказывая об их прошлом и т. д. Перед
нами очень сложная форма очерка — типа романа. Ставский ис¬
пользует в нём и элементы художественного вымысла (напри¬
мер описание размышлений и переживаний есаула Дзюбы), но
настолько осторожно, что, как известно, он мог собрать
конференцию из героев своих очерков, которые обсуждали,
верно ли Ставский их показал, и очень высоко оценили его
работу.
Композиция очерка определена в основном характером тех
явлений, которые рисует очеркист. Поэтому было бы неверно
применять к ней все те требования, о которых мы договорились,
анализируя эпическое изображение характеров. Прежде всего
очеркист выбирает события, но не может так произвольно их под¬
бирать, менять и т. п., как это делает автор рассказа, стремясь
к наиболее отчётливой обрисовке характеров. Точно так же и
самые характеры очеркист не вправе существенно изменять. По¬
этому в том случае, если событие, в котором проявил себя данный
человек, не закончено или ещё не достигло своей наибольшей
заострённости (кульминации), то и в очерке мы не будем иметь
354
дела со всеми знакомыми нам элементами сюжета; его сюжет
может и не иметь кульминации, развязки и т. п.
В то же время автор и не копирует действительность. Вос¬
пользуемся характеристикой работы очеркиста (с точки зрения
его отношения к фактам), которую даёт один из теоретиков
этого жанра: «Можно составить перечень типичных «вольностей
пера» очеркиста.
Автор отбирает из всей совокупности наблюдённых фактов
те, которые считает типичными и значительными с точки зрения
своего замысла.
Автор развивает реплику героя в монолог своего персонажа.
Автор сдвигает события во времени (конечно, не из эпохи в
эпоху).
Автор переносит диалоги и события (не исторические) из од¬
ной местности в другую...
Автор «догадывается» о мыслях, о переживаниях своих ге¬
роев.
Автор подчёркивает, усиливает одни черты героя в его порт¬
рете за счёт других...
Отбор фактов, наблюдений есть вообще первооснова писа¬
тельского творческого процесса. Сдвиги во времени, в прост¬
ранстве, введение вымышленного персонажа и т. п. — всё это
перестановки фактов, продиктованные задачами композиции
очерка. Автор «стремится выжать из факта его смысл»
(М. Горький). Отбирая из всей совокупности фактов, много¬
сторонне связанных с жизнью, лишь одно-два типичных события,
писатель вынужден придать их изображению законченный, за¬
вершённый характер, додумывая ряд деталей, мотивировок.
В целях художественной экономии он вынужден тесно группи¬
ровать факты, сгущать краски, сталкивать вплотную контрастные
фигуры. Если при этом автор не отрывается от документальной
основы фактов, его произведение продолжает оставаться худо¬
жественным очерком. В этом особенность того вымысла (до¬
мысла), который свойствен очерку».
Таким образом, по существу в очерке мы имеем дело со всеми
элементами образного отражения жизни: в нём налицо конкрет¬
ная картина человеческой жизни, налицо обобщение (поскольку
очеркист выбирает характерные с его точки зрения явления
жизни), он имеет эстетическое значение, так как в нём очеркист
подчёркивает или то, что он считает ценным в жизни, или то,
что считает противоречащим этим ценностям, т. е. рисует жизнь
в свете общественных идеалов. Но элемент вымысла (хотя он и
имеется) ослаблен: в центре очерка стоит действительно сущест¬
вовавшее явление жизни. В нём показано именно то, что было,
в этом смысле очерк историчен; но в то же время то, что
было, раскрыто в очерке, как то, что могло быть, как то, что за¬
служивает эстетической оценки, так как обнаружило
соответствие общественным идеалам: в этом смысле очерк пред-
23*
355
ставляет собой явление художественного порядка. .В нём налицо
образ, но образ этот отличается именно ему присущим изобра¬
жением человека, действительно существовавшего в жизни, а не
созданного воображением писателя. Такого рода изображение
человека мы и называем художественно-историческим, отмечая
то, что в его основе лежит исторически существовавшее лицо
или собырш. Горький очень тонко заметил, что очерк «стоит
где-то между исследованием и рассказом».
Формы
художественно-
истерического
жанра
Очерк — не единственная форма художествен¬
но-исторического жанра. К нему можно от¬
нести ряд других форм художественной лите¬
ратуры, в основе которых лежат исторически,
реально существовавшие факты. Таковы художественные м е-
муары (например «Былое и думы» Герцена), обобщающие и
эстетически окрашивающие реальные факты из жизни мемуа¬
риста; сюда же относятся художественно-биографи¬
ческие произведения (.например «Радищев» О. Форш,
«Труды и дни Ломоносова» Г. Шторма), где сюжет основан на
заранее известных событиях, где задача автора состоит в кон¬
кретном их раскрытии и в эстетическом их осмыслении. Все эти
и близкие им формы основаны на одном и том же типе изобра¬
жения человека; на том, что он действительно существовал, и в
то же время на том, что он характерен для своего времени, для
своей среды в такой мере, что мог существовать, реально осу¬
ществил в своей деятельности то, что автор считает близким
своему эстетическому чувству.
Основные особен-
н о сти драмати чс-
ского жанра
Драма
Третьим основным литературным родом счи¬
тают драму. Однако драматическое произве¬
дение обладает рядом таких особенностей, ко¬
торые отграничивают его от других литератур¬
ных родов, образуя особое — драматическое искусство.
Основой своеобразия драматического образа, отличающего
его от образов эпического и лирического, является то, что он
осуществляется не только при помощи языковых средств, но и
при помощи средств, которые предоставляет драматургу сцена.
Для конкретизации своих образов драматург располагает и ве¬
щами, и звуками, и светом, и, самое главное, голосом, внеш¬
ностью, жестами артиста. Если писатель должен тщательно опи¬
сывать вещи, движения, звуки и т. п., при помощи слова застав¬
ляя читателя представить себе то, о чём он говорит, то драма¬
тург имеет возможность непосредственно показать их на сцене.
В рукописях Пушкина мы находим следы его работы над описа¬
нием стука в дверь (в «Гробовщике»): «В дверь постучали»,
«в дверь постучали тремя ударами», «в дверь постучали тремя
франмасонскими ударами», но в пьесе «Каменный гость» Пуш¬
356
кин просто отмечает: «Стучат», поскольку на сцене этот стук
будет дан совершенно непосредственно.
Драматический образ строится, следовательно, иначе, чем
лирический и эпический, не с точки зрения различного изобра¬
жения характера, а с точки зрения различия средств, которые
применены для их создания. Это различие определяется именно
сценичностью, которая определяет своеобразие драматиче¬
ского образа, необычайно расширяя возможности его конкрети¬
зации. Но, с другой стороны, сценичность и ограничивает воз¬
можности драматического образа сравнительно с образом, кото¬
рый осуществлён только языковыми средствами. Драматический
образ может конкретизировать только то, что можно показать
внешне — в движениях, вещах, в разговоре людей друг с другом.
Но он не может с такой полнотой раскрыть внутреннее содержа¬
ние человека во всех его тончайших оттенках, как это доступно
эпосу и лирике. Точно так же ограничен он и условиями сцени¬
ческой площадки, на которой разыгрывается драма. Она не по¬
зволяет драматургу изображать, например, такое большое коли¬
чество действующих лиц, какие могут быть изображены в ро¬
мане, не позволяет показывать сложные переплетения действую¬
щих лиц, охватывать неограниченно большие периоды их жизни.
В этом легко убедиться, сравнивая, например, литературные про¬
изведения и их инсценировки. «Анна Каренина» Л. Толстого в
инсценировке совершенно освобождена от сюжетной линии Кити
и Левина. Для постановки «Войны и мира» предполагалось ста¬
вить пьесу в течение двух вечеров, но и то при условии, что
будет показан лишь материал двух последних томов, а первые
будут оставлены в стороне. Представить себе всё богатство ма¬
териала этого романа в драматическом воплощении просто не¬
возможно: сцена не в состоянии его вместить. Драматический
образ, с одной стороны, конкретнее эпического, но, с другой сто¬
роны, и одностороннее, уже его. Понятно, что мы не должны де¬
лать отсюда вывод о том, что один из этих образов «лучше», а
другой — «хуже»: каждый из них осуществляет особые худо¬
жественные цели, о которых мы ниже будем говорить. Нам
важно отметить здесь лишь отличие их друг от друга.
В основе этого различия, следовательно, лежит то, что драма¬
тический образ полное своё воплощение находит именно на
сцене: «Драма живёт только на сцене,—говорил Гоголь. — Без
неё она, как душа без тела».
Чтение не даёт читателю полного представления о содержа¬
нии драмы, она получает своё окончательное воплощение только
в сценическом воплощении. Об этом очень ясно говорил А. Н.
Островский: «Только при сценическом воплощении драматиче¬
ский вымысел получает вполне законченную форму... Драмати¬
ческое искусство, принадлежа литературной своей стороной к ис¬
кусству словесному, другой стороной — сценической — подходит
под определение искусства вообще. Всё, что называется в пьесе
357
сценичностью, зависит от особых художественных соображений,
не имеющих общего с литературными. Художественные сообра¬
жения основываются на так называемом знании сцены и внешних
эффектов, т. е. на условиях чисто пластических».
Возможность полного воплощения образа в исполнении ар¬
тиста настолько важна для драматурга, что его воображение в
процессе создания образа зачастую как бы примеряет его к об¬
лику уже известного ему артиста, который может сыграть именно
эту роль. И здесь опять-таки работа драматурга над созданием
образа отличается от творческой работы писателя, — у него свои
специфические средства, которые подлежат изучению драматур¬
гией. Поучительно замечание Гёте:
«Шекспир вряд ли думал, когда писал, что его пьесы будут напечатаны.»
у него перед глазами была сцена, он видел, как его пьесы движутся и живут,
как быстро они проходят перед глазами зрителей».
«Когда мне случалось обдумывать характер того или другого действую¬
щего лица, — рассказывал один драматург, — в памяти моей немедленно
воображалось и лицо того актёра или актрисы, мне известных, которых мне
хотелось бы когда-нибудь посмотреть в этой будущей роли, потому что она
сходится с их артистической индивидуальностью».
Эту же мысль в своё время высказал Гоголь, говоря о созда¬
нии «Ревизора»: «Создавая этих двух маленьких человечков
(Бобчинского и Добчинского— Л. Т.), я воображал в их коже
Щепкина и Рязанцева».
Точно так же Пушкин в наброске комедии обозначал дейст¬
вующих лиц именами тогдашних известных ему артистов: Вал-
берховой, Сосницкого и др. Островский писал пьесы, рассчиты¬
вая на определённых актёров.
В «Письмах» Чехова имеется целый ряд указаний, из кото¬
рых видно, как он учитывал значение личности артиста при
создании роли. Так, узнав, о том, что в «Иванове» роль Саши
будет играть М. Г. Савина, он внёс в эту роль ряд сущест¬
венных изменений. Ряд драматических характеров восходит к
определённым артистам, с которыми соотносил их драматург,
работая над произведением (например, Катерина в «Грозе» Ост¬
ровского). Это говорит о том, что драматург располагает иными
творческими средствами, что его творческое воображение опи¬
рается на иной материал. Здесь драма, переплетаясь со сценич¬
ностью, выходит уже за пределы чисто литературоведческого ана¬
лиза, требуя учёта условий театра, сцены.
Опираясь на все те средства, которые даёт драме сценичность,
она достигает исключительной выразительности, исключительной
силы воздействия в качестве уже нового искусства.
Поэтому-то, между прочим, бывают так малопродуктивны
попытки приспособления литературных произведений к сцениче¬
скому их использованию, так как здесь, по существу, речь идёт
о переводе одного искусства — литературы — на язык другого
искусства — драматургии. «Эпическая форма никогда не найдёт
358
себе соответствия в драматической», -— замечал Достоевский в
письме к Оболенской. Он полагал, что лучше совсем изменить
роман, «сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод для
переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совер¬
шенно изменить сюжет». Тургенев говорил, что он «в принципе
против всякой переделки романа в драму». Горький писал: «Раз¬
решив однажды переделку «Фомы Гордеева» в драму, я тем
самым совершил непростительную ошибку, так как полагаю, что
подобных переделок не должно быть».
Все эти соображения позволяют нам заключить, что драма
по сути дела не является просто ещё одним литературным
родом, — она представляет собой нечто выходящее уже за
пределы литературы, и анализ её может быть осуществлён
уже не только на основе теории литературы, но и теории
театра.
Однако мы вправе определить те вопросы, которые встают
перед нами при изучении литературной стороны драмы. Перед
нами вопросы, связанные с анализом идеи и темы, опреде¬
лённые характеры, воплощающие в себе идейно-тематиче¬
скую основу произведения, сюжет, язык персонажей, т. е. ряд
чисто литературных явлений, которые и надлежит изучать
литературоведу.
„ „„„„ В основе своей эти особенности ближе всего
Драма и эпос „
напоминают особенности эпического произве¬
дения. С чисто литературной точки зрения драма в сущности
есть эпическое произведение, —■ роман, повесть, — в котором есть
только одна своеобразная особенность: драма лишена
речи повествователя.
Если перед читателем эпического произведения как бы стоит
автор, рассказчик, который показывает людей и события со своей
определённой точки зрения, в своей индивидуальной речевой
манере, то в драме такого посредника нет. В ней персонажи
самостоятельно действуют на сцене, и зритель сам делает те
выводы, которые вытекают из их переживаний и поступков. Если
при чтении драмы мы имеем ещё незначительные «остатки» речи
повествователя в виде пояснительных замечаний автора в скобках
и перед началом действия (ремарки), которые уже весьма мало
похожи на развёрнутую речь повествователя в эпическом произ¬
ведении, то на сцене отпадают и они.
Таким образом, на первый взгляд драматическое произведе¬
ние — это то же эпическое произведение, в котором только нет
речи повествователя.
Отсюда всё то, что мы говорили об анализе эпических произ¬
ведений, относится и к драматическим. Однако, помня положе¬
ние о единстве содержания и формы, мы вправе спросить, ка¬
кими же свойствами драмы вызван отказ от речи повествователя,
т. е. не говорит ли это своеобразие формы о своеобразии содер¬
жания.
359
Особенности
изображения
человека в драме
Чаще всего своеобразие драмы усматривают в том, что она
даёт большую напряжённость действия, сравнительно с эпо¬
сом. Однако и в романе мы можем наблюдать не меньшую, чем в
драме, напряжённость действия; об этом говорят хотя бы частые
инсценировки романов (например «Анна Каренина» и др.). Бе¬
линский говорил о том, что драма является синтетическим жан¬
ром, в котором сливаются особенности и лирики, и эпоса: эпич¬
ность действия в целом сочетается в них с односторонностью ха¬
рактеров, в которых господствует какая-либо одна главенствую¬
щая страсть. В этом отношении драма как бы вбирает в себя и
эпические, и лирические особенности. Но мы знаем жанр, в ко¬
тором действительно сливаются эпическое и лирическое начало;
выше мы и говорили о нём, называя его лиро-эпическим жанром.
В драме же характеры, хотя они, несомненно, одностороннее, чем
в повести или в романе, всё же закончены, обнаруживают свои
свойства в поступках, включены в сюжет, поэтому говорить об
их лиричности нет достаточных оснований.
Но в этих замечаниях имеется в то же время
весьма существенное указание на то, что изо¬
бражение человека в драме отличается от
изображения его в эпосе большей напряжён¬
ностью и сосредоточенностью его основных чувств, мыслей,
стремлений. «Драматические герои, — писал Гегель, — большею
частью проще в себе, чем эпические», потому что в них «главное
составляет острый конфликт всегда одностороннего пафоса
(страсти. — Л. Т.) с какой-нибудь противоположной страстью в
пределах совершенно определённых областей и целей». Драма¬
тическое произведение рисует человека, охваченного «неким
особенным пафосом, который изображается так, что мы
ясно видим в нём существенную, бросающуюся в глаза черту
характера».
В самом деле, в драме мы всегда легко определяем господст¬
вующую черту характера, говоря о честолюбце Макбете, о рев¬
нивце Отелло, о скупце Шейлоке, о лицемере Тартюфе. Дон-
Хуан, Сальери, Скупой рыцарь Пушкина являются каждый но¬
сителем определённой, именно его сжигающей страсти. Наоборот,
несравненно труднее определить господствующую черту Онегина,
Вронского, Татьяны, поскольку эти характеры даны, с одной сто¬
роны, в более сложных, а с другой стороны, в менее определён¬
ных, менее отчётливых жизненных отношениях. «Драма, — писал
Горький,—требует... сильных чувств...»
Эта определённость характера, то, что мы ясно ощущаем
основные, господствующие в нём чувства, и позволяет драма¬
тургу отказаться от собственной речи: поступки и переживания
самого персонажа, выражающиеся в его речи, настолько отчёт¬
ливо вытекают из этих чувств, что не требуют авторских поясне¬
ний; характер говорит сам за себя, обнаруживается в собствен¬
ной речи.
360
Драматический образ, следовательно, характеризуется, срав¬
нительно с эпическим образом, большей определённостью и вы¬
текающей из неё большей самостоятельностью.
Но характер, как мы помним, представляет собой известное
обобщение художником той или иной стороны жизни. И большая
определённость характера свидетельствует о том, что художник
стремится отразить такие стороны жизни, в которых он видит
наиболее острые проявления жизненных противоречий, наиболее
острые общественные и психологические конфликты. В основе
сюжета всегда лежит отражение противоречий, борьбы, конфлик¬
тов, характерных для жизни. Драматический образ отражает
наиболее острые и определившиеся, назревшие противоречия
жизни, поэтому-то он строится на подчёркивании в характере
человека одностороннего пафоса, который обусловлен этими про¬
тиворечиями. Для него уже не существенны остальные вопросы
жизни, так как он сосредоточен на ограниченном, но в то же
время крайне напряжённом круге их. Они определяют развитие
в нём ограниченных, но в то же время крайне напряжённых
чувств, которые представляют средоточие его характера и выра¬
жаются поэтому в стремительно развивающихся событиях, рас¬
крывающих сущность конфликта. Отсюда — своеобразие драма¬
тического сюжета, который строится на более острых и в то же
время более узких (по количеству действующих лиц, периоду
времени и т. п.) противоречиях, сравнительно с эпосом, не пере¬
секается с другими сюжетными линиями и т. п.
Создание драмы поэтому предполагает прежде всего осмы¬
сление писателем такого жизненного материала, который по
своей природе требовал бы для своего раскрытия драматических
образов, т. е. наиболее острых и определённых жизненных про¬
тиворечий. Отсюда уже вытекает создание характеров, охвачен¬
ных сильными чувствами, продиктованными этими противоречия¬
ми, и поэтому как бы оставляющих в тени остальные свои черты.
А это требует и сюжета, полного борьбы, напряжённость которой
как бы заменяет широту жизненного охвата, которая характерна
для эпоса. Поэтому-то и бывают мало удачны переделки для
сцены эпических произведений: характеры их и более многосто¬
ронни, и в то же время менее определённы, сосредоточенны, чем
драматические характеры, поэтому на сцене они теряют в своей
полноте и не выигрывают в сосредоточенности, нарушая в той
или иной мере закон единства формы и содержания.
То обстоятельство, что драма в особенности связана с наибо¬
лее острыми жизненными противоречиями, сказывается в том,
что она развивается менее равномерно, сравнительно с эпосом и
лирикой. В такие периоды, когда общественная жизнь разви¬
вается относительно спокойно, драма чаше всего мало распрост¬
ранена. Наоборот, в периоды, когда общественные отношения
обостряются, драма выдвигается на первый план, начинает раз¬
виваться в особенности полно. Так, в России драма зарождается
361
по существу в петровское время, развивается в годы националь¬
ного подъёма России (драматургия Сумарокова); новый подъём
её приходится как раз на годы развития декабристского движе¬
ния («Горе от ума» Грибоедова, «Борис Годунов» Пушкина);
затем новый период её развития в творчестве А. Островского сов¬
падает с общественным движением в период отмены крепостного
права (50—60-е годы); Горький даёт новый толчок развитию
русской драмы, отражая выступление на историческую сцену ра¬
бочего класса. В дни Великой Отечественной войны драма снова
приобрела особенное значение. «Фронт» Корнейчука, «Русские
люди» Симонова, «Нашествие» Леонова сыграли большую роль
в развитии патриотического чувства в дни войны.
Перед нами, следовательно, ряд примеров того, что особенно
напряжённые конфликты общественной жизни подсказывают пи¬
сателям изображение характеров, чувства которых обострены
благодаря этим противоречиям. Эти общественные конфликты
подсказывают драматургу и напряжённость сюжетов. Отсюда и
вытекает, что в такие периоды создаются особенно благоприят¬
ные условия для развития именно драматических образов.
Поскольку драматические сюжеты в особен-
драматического ности связаны с отражением наиболее острых
жанра жизненных конфликтов, постольку в них на
первый план выступает изображение жизнен¬
ной борьбы, столкновение стремлений и воли героев, приводящее
их к гибели или к победе.
Соответственно с этим ещё в античности выделились две
основные формы драматического жанра — трагедия и коме¬
дия. Происхождение этих терминов связано с периодом, когда
искусство ещё не было отделено от религиозных, обрядовых
представлений. Древнегреческие песни и пляски на празднествах
в честь бога Диониса сопровождались принесением ему в жертву
козла; во время празднеств исполнялось сказание о Дионисе —
трагедия (трагос—козёл, одэ — песнь, трагедия — козлиная
песнь, песня в честь козла). В процессе своего дальнейшего раз¬
вития трагедия превратилась в театральное зрелище, получила
определённое и устойчивое композиционное строение. С обрядо¬
выми представлениями связано было и возникновение комедии
(комос — весёлая толпа, одэ—леснь), в основе которой лежат
хоровые песни, переплетённые с весёлыми бытовыми сценками.
В своём развитом виде и трагедия, и комедия представляют
особые композиционные формы драматического жанра, опреде¬
лённые своеобразием изображения в них характеров. В первой
части мы уже указывали на то, что неразрешимое, непримири¬
мое противоречие отражается в трагических образах. Траге¬
дия и есть такая форма драматического жанра, которая харак¬
теризуется изображением безвыходного противоречия, в резуль¬
тате которого борьба, положенная в основу сюжета, кончается
гибелью героя.
362
Такое понимание трагедии, установившееся в искусстве про¬
шлого, неприменимо уже к советскому* искусству. В советской
действительности получило распространение выражение «оптими¬
стическая трагедия» (так назвал свою пьесу В. Вишневский), со¬
вмещавшее, казалось бы, несовместимые понятия. Конфликт,
связанный с неотвратимой гибелью героя, представляется безвы¬
ходным в том.случае, если мы подходим к нему с индивидуали¬
стической точки зрения: с гибелью личности конфликт действи¬
тельно представляется уже неразрешимым. Однако если человек
борется за общее дело, если он понимает, что его личная гибель
ведёт к победе этого дела, то, погибая, он видит свою победу, и
это определяет его духовное торжество, его гибель освобождает¬
ся от сознания безысходной гибельности, и безнадёжности. Ге¬
роические подвиги советских людей, в дни борьбы с фашизмом
грудью закрывавших дула пулемётов, чтобы помочь успеху
общей атаки, являются ярчайшим примером преодоления безвы¬
ходности трагического конфликта, связанного с гибелью героя:
торжество общего дела, за которое он погиб, разрешает то безвы¬
ходное для индивидуалистического отношения к жизни положе¬
ние, которое связано с личной гибелью человека.
Комедия, наоборот, в широком смысле давала изображе¬
ние таких конфликтов, которые кончались победным исходом
борьбы для героя. И термин драма в узком смысле относили к
произведениям, в которых борьба заканчивается примирением
борющихся сторон.
Позднее эти термины приобрели несколько иное значение.
Трагедия попрежнему в искусстве прошлого обозначает изобра¬
жение неразрешимого противоречия, влекущего к гибели героя.
Драма — изображение конфликтов, острых, но в той или иной
мере разрешимых, почему судьба героя может иметь в ней раз¬
личные формы. И, наконец, комедия стала подразумевать изо¬
бражение комических характеров, которые, как мы помним,
дают неожиданное разоблачение внутренней неполноценности
претендующего на полноценность явления. Эти основные формы
драматического жанра в сценическом осуществлении дают раз¬
личные вариации, зависящие от характера сценического испол¬
нения (водевиль — комедия на лёгкие бытовые темы, перво¬
начально с музыкой, фарс — комедия бытового и в то же время
преувеличенно гротескного характера, мелодрама — драма
подчёркнуто эмоционального характера, в другом смысле слова —
драма с музыкальным сопровождением и пр.).
При всём различии сюжетной организации этих драматиче¬
ских форм строение сюжета в них обнаруживает известное сход¬
ство: это драматический сюжет. Изображение людей в
наиболее острых жизненных положениях (трагических или ко¬
мических) естественно определяет и более стремительный в то
же время и запутанный ход развития действия, сравнительно с
эпосом. Драматический сюжет строится на тех же основных
ЗбЗ
элементах, что и эпический сюжет (завязка, развитие действия,
кульминация, развязка)? но они обычно даются в более сложном
и неожиданном для зрителя развитии (старое название драма¬
тического сюжета — интрига, от латинского слова intricare —
запутывать, послужило основой для житейского понимания ин¬
триги как скрытных действий кого-либо, происков и т. п.). Эта на¬
пряжённость драматического сюжета, основанная и на отраже¬
нии наиболее острых жизненных конфликтов, и на необходимо¬
сти обнаружить господствующие черты характера действующих
лиц, всё время исторически меняется, в зависимости от того,
какие конфликты выдвигаются в данный период на передний
план, но самая напряжённость сюжета есть общая черта всех
форм драматического жанра.
Пореилетснио
стилей, течений,
методов и жанров
в литературном
процессе
Литературный процесс
Мы до сих пор рассматривали те понятия, ко¬
торые относятся к литературному процессу
(стиль,-течение, метод, жанры), так сказать,
изолированно, в отдельности друг от друга.
Между тем в реальном процессе развития ли¬
тературы они находятся в тесном переплетении друг с другом.
В одно и то же время выступают разные писатели, каждый из
которых обладает своим литературным стилем, они объединяются
в различные литературные течения, опять-таки одновременно
существующие в литературе. В стилях писателей мы встречаем
одинаковые жанры, сходство или различие художественных ме¬
тодов. При этом всё многообразие литературного процесса осу¬
ществляется в определённый исторический момент, т. е. в одина¬
ковой для всех стилей и течений исторической обстановке. Каж¬
дый из писателей так или иначе даёт ответ в своём творчестве на
те основные исторические вопросы, которые в равной мере перед
всеми писателями ставит эпоха, в которой они живут и действуют.
Перед нами то, что можно назвать литературным процессом
в узком смысле этого слова. Если выше мы говорили о тех общих
явлениях в литературе, которые требуют от нас анализа не
только отдельного литературного произведения, но и места его в
стиле, места стиля —в течении, течения в методе, то теперь
мы приходим к вопросу о необходимости все эти понятия рас¬
сматривать с точки зрения их значения в литературном процессе
своего времени, в их живом переплетении, взаимодействии,
борьбе. Нам надо определить характер литературного процесса
в целом, т. е. понять, какие стили и течения в нём развивались,
каково их значение в нём. Уже на примере литературы XVIII в.
мы столкнулись с конкретным примером различия литературных
течений. В основе его лежало различие социальных позиций, и
выражением его являлось различие идей, характеров, компози¬
ций, сюжетов, языка. Сознание есть отношение человека к об-
364
Корьба и
взаимодействие
литературных
стилей л течений
ществейной среде. В основе различий классов лежит именно
их различие в производственном процессе. Следовательно,
различно и в той или иной мере классовое сознание. Это разли¬
чие есть различие и в верности понимания отражаемой действи¬
тельности, и в характере самого жизненного материала. Следо¬
вательно, если представители различных классов в один и тот
же момент отражают один и тот же жизненный объект, их отра¬
жение будет различным: по-различному они будут его понимать
(более верно или менее верно), по-различному к нему относиться
(положительно или отрицательно) и т. д.
Поскольку в классовом обществе мы встречаемся с различ¬
ными классами, находящимися в процессе классовой борьбы,
постольку, очевидно, в идеологической области мы будем иметь
и различные классовые идеологии, и различные формы их выра¬
жения. В области художественной литературы мы также можем
найти самые различные формы таких идеологических столкнове¬
ний. В литературе выдвигаются новые идеи, новые характеры,
отражаются новые стороны действительности, сталкиваясь и
взаимодействуя друг с другом. Процесс этого взаимодейетвия
определяется данными историческими условиями; он крайне
сложен, так как сложна вся обстановка классовой борьбы.
В то же время литературное течение осуществляется
в творчестве отдельных писателей в зависимости от индиви¬
дуального жизненного опыта, культуры, таланта каждого.
Творчество писателей выступает перед нами вслед за тем
в жанровом разнообразии, в развитии иногда крайне противоре¬
чивом. Наряду с этим мы найдём в литературе и ряд однородных
явлений, исторически друг с другом связанных. Писатели, близ¬
кие по методу творчества, будут в какой-то мере испытывать
влияние друг друга и своих предшественников. В произведениях,
близких по жанровым особенностям (например в баснях Дмит¬
риева и Крылова), мы будем сталкиваться опять-таки с явле¬
ниями взаимодействия, которое может иметь самые различные
формы. Наряду с критическим усвоением культурного наследия
прошлого могут быть явления простого подражания, непреодо¬
лённого влияния и т. п.
Все эти формы-литературного взаимодействия
основаны, конечно, на более глубоких формах
общественных отношений в классовом обще¬
стве. Враждебные литературные течения бу¬
дут резко отталкиваться друг от друга. На¬
оборот, литературы близких социальных групп близки и по твор¬
ческим установкам, идеям и характерам.
В ряде случаев мы не можем понять литературное произве¬
дение, не учитывая его непосредственной связи с другими про¬
изведениями по методу, жанру и т. д., не учитывая конкретных
литературных взаимоотношений данного периода. В ряде случаев
мы можем осмыслить произведение, лишь соотнеся его с тем ли¬
365
тературным течением, против которого оно направлено' Выше
мы уже говорили о литературных течениях в русской литературе
XVIII в., о трактовке в ней отношений помещика и крестьянина.
Крылов в «Каибе» изображает чувствительного путешественника,
которого рисовала литература консервативного дворянства, но
сталкивает его с крестьянами не условными и идеализирован¬
ными, а натуралистически изображёнными, добиваясь тем самым
разоблачающего враждебный стиль эффекта. Перед путешест¬
венником (калифом) появилось
...запачканное творенье, загорелое от солнца, заметённое грязью. Неужели
это и есть идиллический пастух? — Это я, — отвечало творенье, размачивая
корку хлеба в воде, чтобы легче было её разжевать. — Где же твоя пастуш¬
ка? — Поехала в город с возом дров и с последней курицей, чтобы, продав
её, было чем одеться и не замёрзнуть зимой. — Итак, жизнь ваша не за¬
видна? — О, кто охотник умереть с голоду и мёрзнуть от стужи, тот может
лопнуть от зависти, глядя на нас...
Аналогично введение Щедриным в число действующих лиц
«Дневника провинциала» персонажей из романов Тургенева с
той же целью их разоблачения и снижения.
Чрезвычайно отчётливо литературная борьба выступает в
пародиях, основанных на таком использовании особенностей
отрицаемого литературного течения, которое придаёт им неле¬
пый вид, лишает их художественной убедительности.
Пародия вообще даже и не понятна без знания того произве¬
дения, которое она пародирует, или — шире — без знания осо¬
бенностей пародируемого течения. Рассмотрим с этой точки зре¬
ния пародию Минаева на Фета:
Холод, грязные селенья,
Лужи и туман,
Крепостное разрушенье,
Говор поселян.
От дворовых нет поклона.
Шапки набекрень,
И работника Семёна
Плутовство и лень.
На полях чужие гуси,
Дерзость гусенят, —
Посрамленье, гибель Руси,
И разврат, разврат!..
Для читателя не совсем понятно, прежде всего, противоре¬
чие между приподнятым, интонационно и эмоционально напря¬
женным тоном стихотворения и
жанием. Оно становится более
стихотворением Фета:
Шопот. Робкое дыханье.
Трели соловья.
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной. Ночные тени, —
Тени без конца.
его подчеркнуто бытовым содер-
ясным при сопоставлении его со
Ряд волшебных изменений
Милого лица.
В дымных тучках пурпур розы.
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слёзы, —
И заря, заря!..
Однако и теперь не всё ясно: откуда взялись, например, гу-
сенята и т. д.? Пародия станет нам полностью понятна только
тогда, когда мы войдём во всю обстановку литературной борьбы
60-х годов. Фет в это время резко противостоял всей революцион¬
366
но-демократической литературе. Большим общественным вопро¬
сам, её волновавшим, он противопоставлял узко личную тема¬
тику, подчёркнутый уход в личную жизнь. В связи с этой тема¬
тикой строилась и вся система выразительных средств стиха
Фета, его интонационно-синтаксическая структура, лексика и т. д.
Для революционно-демократических поэтов литературные пози¬
ции Фета являлись по существу прикрытием и оправданием кре¬
постнических интересов. Одновременно Фет выступил с публи¬
цистическими статьями («Из деревни», 1863), где уже открыто
защищал интересы помещиков, рассказывая, в частности, о том,
что к нему на поле зашли крестьянские гуси и что он взыскал с
их владельцев штраф. Всё это и имела в виду пародия Минаева.
Она стремилась вскрыть социальный смысл тематики Фета и од¬
новременно дискредитировать его творческую систему, сделать
её смешной. Пародия с этой точки зрения являлась своеобраз¬
ным узлом, в котором переплетались различные нити литератур¬
ного процесса; только разобравшись в них, можно понять её и по
содержанию, и по форме. Это переплетение различных линий
литературного процесса в конкретных исторических условиях
может принимать самые различные формы: одной из них является
пародия.
Следует заметить, что пародия может иметь не только ха¬
рактер отрицания того или иного стиля полностью, но и частный
характер: нападок на литературные недочёты и ошибки в преде¬
лах своего собственного стиля. Таковы, например, многие лите¬
ратурные пародии Архангельского в советской литературе.
На примере пародии мы могли наблюдать один из примеров
борьбы литературных стилей и течений в известный исторический
период (иногда пародируются и произведения прошлого, в этом
случае имеется в виду лишь достижение комического эффекта,
благодаря противоречию стиля и темы, независимо от борьбы
течений). Такая борьба в литературе выражается в самых разно¬
образных формах. В основе её лежит именно то, что писатели, в
зависимости от своего мировоззрения, от своих классовых пози¬
ций, дают различное по выбору фактов и по оценке их изображе¬
ние одних и тех же общественных противоречий, одних и тех же
конфликтов и явлений. Остановимся на материале русской лите¬
ратуры XVII в.
В этот период не было, конечно, никаких литературных группировок, даже
произведения были безымённы. Но, вглядываясь в произведения этих лет, мы
видим в них общие черты, рождённые общностью исторической обстановки.
В этот период Россия начинает испытывать давление новых социальных сил,
ломающих старые бытовые и культурные устои. Намечаются те перемены, ко¬
торые впоследствии осуществил Пётр I. Этот процесс борьбы старого с новым
находит своё отражение в литературе, создаёт определённые литературные
течения.
Старый быт в XVII в. стоял ещё неколебимо, с потрясающим по своему
упорству консерватизмом цепляясь за устои прошлого.
367
«Держу до смерти, — якоже приях, — провозглашал известный протопоп
Лввакум, — не прелагаю предел, до нас положено: лежи оно так во веки
веков!» Для него было величайшим богохульством малейшее изменение ста¬
ринных священных книг, даже если оно касалось одной буквы: «Аз-ог, кото¬
рый передвигнули на иное место, — требовал он, — положите на старое место,
где от святых отец положен был... А я, грешный, кроме писаннова, не хощу
собою затевать: как написано, так верую, идеже что святые написали, мне так
и добро».
Деятельность Аввакума (1621—1682) была связана уже со второй полови¬
ной XVII в. Страстность той борьбы за незыблемость вековых устоев, кото¬
рую он вёл, свидетельствовала и о том, что эти устои начинали подмывать
какие-то иные, новые общественные течения.
Если мы теперь обратимся к таким повестям XVII в., как «Горе-Злоча¬
стие» или «Савва Грудцын», то легко заметим в них тот же глубочайший кон¬
серватизм, то же убеждение в незыблемости того, что «до нас положено», ту
же домостроевскую мудрость. «Всякую скорбь и тесноту с благодарением
терпи».
В «Повести о Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во ино¬
ческий чин» рассказывается о том, как некий молодец захотел жить не по
заветам отца и матери, «а хотел жити, как ему любо». На него обрушива¬
ются всевозможные несчастия; привязалось к нему Горе-Злочастие:
Стой ты, удалый добрый молодец!
У меня, Горя, не уйдёшь никуды!..
...Спамятуй житие своё первое
И как тебе отец говорил,
И как тебе мати наказывала,
О чём тогда ты их не послушал,
Не захотел тогда ты им покоритися,
Постыдился им поклонитися,
А хотел ты жить, как тебе любо есть.
А кто родителей своих не слушает.
Того выучу я, Горе злочастное!..
...Покорися мне, Горю, нечистому.
Поклонися мне, Горю, до сыры
земли...
И куда бы ни пошёл молодец, всюду его преследовало Горе-Злочастие.
С огромной поэтической силой повесть изображает это преследование Горем-
Злочастием молодца, дерзнувшего нарушить устои жизни, заветы отца с ма¬
терью и добрых людей:
Как будет молодец во чистом поле,
А что злое Горе напередь зашло,
На чистом поле молодца встретило,
Учало над молодцем граяти,
Что злая ворона над соколом;
Говорит Горе таково слово:
«Ты стой, не ушёл, добрый молодец!
Не на час я к тебе привязалося;
Хошь до смерти с тобой помучуся!..
...Хотя кинься во птицы воздушные,
Хотя в синее море пойдёшь рыбою, —
А я с тобою пойду под руку под пра¬
вую».
Полетел молодец ясным соколом,
А Горе за ним белым кречетом;
Молодец полетел сизым голубем,
А Горе за ним серым ястребом;
Молодец пошёл в поле серым волком,
А Горе за ним с борзыми выжлецы;
Молодец стал в поле ковыль-трава,
А Горе пришло с косою вострою
Да ещё над молодцем посмеялося.
«Быть тебе, травонька, посеченной,
И лежать тебе, травонька, посеченной,
И буйны ветры быть тебе развеян¬
ной».
Пошёл молодец в море рыбою,
А Горе за ним с частым неводы;
Ещё Горе злочастное насмеялося:
«Быть тебе, рыбонька, у бережку,
Уловленной быти и съеденной,
Умереть будет напрасной смертию!
И только один выход остался у молодца — смириться, начать жить по
заповеди: «Что святые написали, мне и так добро», вернуться к покинутым
устоям:
Спамятует молодец спасённый путь,
И оттоле молодец в монастырь пошёл,
В монастырь пошёл постригатися,
А нечистое Горе-Злочастие
У святых ворот оставается,
К молодцу вперёд не привяжется.
363
Такова суровая мораль этой повести. Она в поэтическом плане раскрывает
суровые воспитательные принципы Домостроя: «Како дети учити и страхом
спасати. Казни сына своего от юности его и покоит тя на старость твою и
даст красоту души твоей. И не ослабляй, бия младенца: аще бо жезлом биеши
его, не умрет, но здравее будет; ты бо, бия его по телу, а душу его избав¬
лявши от смерти. Любя же сына своего, учащай ему раны, да последи о нем
возвеселишися. Казни сына своего из млада, а порадуешися о нем в муже¬
стве; и посреде злых похвалишися, и зависть приимут враги твои. Воспитай
детище с прещением и обрящещи о нем покой и благословение. Не смейся
к нему, игры творя: в мале бо себя ослабиши, в велице поболиши, скорбя,
и после же яко оскомины сотвориши душе твоей. И не даж ему власти во
юности, но сокруши ему ребра, дондеже растет, а, ожесточав, не повинет
ти ся: и будет ти досажение и болезнь души и тщета домови, погибель име¬
нию, и укоризна от сусед, и посмех перед враги, пред властей платеж и
досада зла».
Аналогичную «Повести о Горе-Злочастии» картину жизни находим в по¬
вести о Савве Грудцыне, который начал жить «неисправным дитем», погряз в
грехах и кончил тем, что ушёл в монастырь, и в «Комедии притчи о блудном
сыне» Симеона Полоцкого, в которой сын пытается также жить, «как ему
любо», не слушая советов отца, и — после горьких скитаний — возвращается
домой, чтобы раскаяться:
Аз же отселе хощу пребывати
В послушании, себе подчиняти.
Так намечается в этих произведениях второй половины XVII в. известное
художественное обобщение: перед нами своего рода борьба отцов и детей,
которая раскрывается на примере определённого характера, за которым мы
можем различить реальное жизненное содержание. Новый период обществен¬
ного развития, в который вступала Россия во второй половине XVII в. и ко¬
торый нашёл себе полное выражение в деятельности Петра I, необходимо
определял кризис старого уклада, старой культуры. Пробуждавшаяся чело¬
веческая личность сталкивалась с неподвижными ещё устоями патриархаль¬
ного быта. Конфликт старого и нового принимал иногда чрезвычайно резкие
формы. Этот конфликт и осознавался авторами названных нами произведений,
получал определённую идейную оценку, отражался в образах. Так возникало
определённое литературное течение, опиравшееся на определённые общест¬
венные настроения и их выражавшее. Но в жизни всё усиливались новые
тенденции, которые определяли иные, прогрессивные -настроения других обще¬
ственных групп; они по-своему оценивали эти же основные вопросы жизни,
иначе эстетически их воспринимали, отражали их в иного типа характерах.
Если мы возьмём повести о Фроле Скобееве, о матросе Василии и близкие им,
то увидим, что в них тот же добрый молодец, ставший жить не по заветам,
а так, как ему любо, не только не терпит крах в жизни, а, наоборот, пре¬
успевает в ней. Скобеев обманом добывает себе жену, обманом добивается
благословения и живёт затем в довольстве. Матрос Василий выходит как по¬
бедитель из всех жизненных трудностей и т. д. Перед нами другое литера¬
турное течение, которое те же проблемы, те же жизненные противоречия
разрешает совершенно иначе, иначе эстетически оценивает явления жизни.
Это своеобразная форма общественной идеологической борьбы, выражаю¬
щаяся в том, что одна общественная группа противопоставляет другой своё
решение жизненных вопросов, утверждая как общественно значимые такие
черты характеров, которые её противники рисуют как отрицательные, как
нарушающие эстетические нормы.
Примером литературной борьбы в русской литературе XIX в.
может служить уже упоминавшаяся выше различная трактовка
нигилизма в 60-е годы, борьба между революционными демокра¬
тами, с одной стороны, и либералами и крепостниками — с дру-
той; в литературе XX в. — изображение революции 1905 года.
24 Тимофеев
369
Поскольку в общественной жизни переплетаются интересы
и точки зрения различных общественных групп, то в литератур¬
ном процессе выступают самые различные стили и течения, об¬
разы которых дают различную эстетическую трактовку жизни.
И, наоборот, как уже указывалось, близкие идейно друг другу
общественные группы будут выступать и в литературе с близ¬
кими по своей эстетической окрашенности образами. Так, соци¬
альная основа творчества Горького и Маяковского в смысле той
среды, в которой складывалось их мировоззрение, различна, но
в то же время и близка по своему отношению к буржуазной дей¬
ствительности начала XX в.; близки к образам Горького, скла¬
дывались под их воздействием и образы раннего Маяковского,
с их революционной устремлённостью. Образ горьковского Данко
повторяется в произведениях Маяковского.
Анализ произведения, стиля, течения в конечном счёте должен
привести нас к определению его места в литературном процессе,
в литературной борьбе своего времени. Только поняв, в каких
условиях оно возникло, какие эстетические нормы ему противо¬
стояли, какие на него воздействовали, мы сможем определить
его историко-литературное значение и благодаря этому глубже
понять, в чём его значение для нас, чему оно служит в совре¬
менности.
Мы до сих пор говорили о том, что произведение- исторично,
т. е. возникает в определённой исторической обстановке, как не¬
обходимое её следствие. Это бесспорно. Бальзак говорил, что
«персонажи... живут полной жизнью только в том случае, если
они являются полным отображением своего времени». Говоря о
своём творчестве, он писал, что ему оставалось только быть -сек¬
ретарём у французского общества. В этом смысле произведение
возникает лишь как результат той исторической обстановки, в
которой находится писатель. Она определяет его и по форме, и
по содержанию.
Но в то же время общественная культура вби¬
рает в себя как необходимое условие для
своего развития всё то культурное наследие,
которое накоплено в предшествующие периоды
развития человечества.
Поэтому писатель в своей работе имеет возможность опи¬
раться на творческий опыт своих предшественников, закономерно
продолжая его, точно так же как и общественное развитие в
целом закономерно продолжает идти по единому пути историче¬
ского развития человечества. Если теоретически мы вправе были,
отвлекаясь от этих исторических общественных связей, рассмат¬
ривать произведение как самостоятельно возникшее в данной
исторической обстановке, то в историко-литературной работе мы
всегда будем наблюдать, что возникало оно под влиянием пред¬
шествующего литературного развития. В нём писатель находит
уже сложившиеся литературные формы, которые он может ис-
Значение
литературной
традиции
370
пользовать для решения своих творческих проблем, находит об¬
разы, в которых были поставлены близкие ему эстетические
проблемы. В принципе его произведение было продиктовано
именно данной исторической обстановкой и — теоретически рас¬
суждая — могло бы возникнуть и без этой историко-литератур¬
ной связи. Но в этом случае писателю каждый раз наново надо
было бы решать все литературные проблемы: создавать, скажем,
систему стихосложения, разрабатывать жанры и т. п. Практи¬
чески он берёт всё это у своих предшественников, которые помо¬
гают тем самым оформлению его собственного творческого
опыта. Это воздействие опыта прошлого в литературе — лите¬
ратурная традиция, сила преемственности в литературной
жизни — чрезвычайно велико. Писатель осмысляет новое в
жизни, которое проявляется не сразу, а постепенно накапливаясь
и назревая, при помощи уже накопленного в литературе опыта,
традиции. И в то же время, чем крупнее писатель, тем больше в
его творчестве новаторства, т. е. именно такого содержания
и таких форм, которые отвечают именно его времени. Но, как
указывает товарищ Жданов, «новаторство не является самоцелью;
новое должно быть лучше старого, иначе оно не имеет смысла».
Отразить новое и помогает писателю материал, накопленный ли¬
тературой прошлого. Традиция — повивальная бабка новаторства
и вообще литературного развития. В том случае, если писатель
не вносит нового в своё творчество, т. е. не откликается на за¬
просы жизни, перед нами безжизненное повторение прошлого —
эпигонство. Оно может существовать, поскольку в человече¬
ской жизни много сходных, повторяющихся моментов, которые
позволяют сохраняться и традиционным литературным образам
и формам, но писатель играет роль в литературе только тогда,
когда он улавливает новые требования жизни, воплощает их в
своих образах. И чем полнее он использовал традицию литера¬
турного развития, тем легче ему это сделать, так как он обладает
наибольшим опытом, наибольшим эстетическим кругозором, ко¬
торые позволяют ему уловить именно то, что нужно современ¬
ности. Так, Горький, начиная свою деятельность, сразу улавли¬
вает и реалистическую, и романтическую традицию, созданную
в предшествующие периоды развития литературы, и, развивая
их, нащупывает почву для создания нового художественного ме¬
тода — социалистического реализма.
Социалистический реализм, с одной стороны, является непо¬
средственным и преемственным продолжением и развитием тех
творческих принципов, идей и образов, которые были созданы
великой русской классической литературой XIX в. Но в то же
время — и главное — он представляет собой исторически необхо¬
димый и закономерный новый шаг вперёд в художественном раз¬
витии человечества, новаторски решая встающие перед ним про¬
блемы, создавая новые творческие принципы, идеи и образы.
371
24*
Переход теории
литературы
в историю
литературы
и в критику
Определение взаимодействия традиции и но¬
ваторства — это уже дело историко-литера¬
турного анализа, который в каждом данном
случае может уловить особенности этого взаи¬
модействия в данной исторической обстановке.
Здесь мы вплотную сталкиваемся с тем, что теория литературы
непосредственно переходит в историю литературы. Уже говоря
о стиле, течении, методе, жанре, мы вынуждены были давать
лишь самые общие их характеристики, поскольку конкретна го¬
ворить о них можно лишь в историко-литературном анализе,
определив именно данный стиль, данное течение. Теория литера¬
туры определяет лишь самые принципы и методику анализа
литературы, она переходит вслед за тем в историю литературы,
в Которой общетеоретические положения могут быть рассмот¬
рены в определённом их конкретном осуществлении. Поэтому
изучение теории литературы не заканчивается вместе с изуче¬
нием этого курса, оно лишь принимает другую, историко-лите¬
ратурную форму. Мы здесь говорим уже о конкретном-эстети¬
ческом содержании образа, о конкретных общественных кон¬
фликтах, которые легли в основу сюжета, о конкретных формах
идеологической литературной борьбы. И точно так же история
литературы переходит в критику — в определение того, в какой
мере произведения, понятые в той исторической обстановке, ко¬
торая обусловила их конкретные особенности, в то же время
помогают оформлению современного общественного опыта.
Наука о литературе как единое целое должна собрать богатей¬
шее — познавательное и эстетическое — наследие литературы и
принести его на помощь строительству социалистической куль¬
туры, превратить его в мощное орудие воспитания советского
человека.
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 1
Авантюрный роман 95, 136, 345
Авторская идея 129
Авторская речь (см. речь повест¬
вователя)
Акцентное стихосложение (акцент¬
ный стих) 248, 276
Александрийский стих 268
Аллегория 215
Аллитерация 233
Амфибрахий 247, 249, 257,258
Амфимакр 249
Анаколуф 224
Анапест 249, 257, 258
Анафора 226, 233
Антибакхий 249
Антиспаст 249
Антитеза 227
Античное искусство 79, 88, 89, 299,
300, 333, 340, 344, 350, 362
Антоним 191
Антономасия 215
Анэпифора 233
Апосиопеза 225
Архаизм 198, 199
Архитектоника 136
Асиндетон 224
Ассонанс 233, 267
Астеизм 227
Астрофический стих 269, 271
Бакхий 249
Баллада 269, 351
Басня 352
Белый стих 267, 278
Безударный слог 256, 257, 251, 266,
272
Бессоюзие 224
Большая или постоянная цезура 264
Большая эпическая форма 341, 343,
344
Бродячий сюжет 148
Бурлеска 88
Былинный стих 250
Бытовой роман 337, 345
Варваризм 203
Вдохновение 73, 74
Vers libre (см. свободный стих)
Версификация 237
Вечные образы 66, 67, 68
Верность обобщения 91, 95
Вирши 253
Внесюжетный материал 140, 141
Вольный басенный стих 270, 277, 352
Вопрошение 227
Восклицание 227
Воспитательное значение литературы
54—57
Вторичное значение слова 186, 194, 205
Вульгаризм 204
Вымысел в художественном изобра¬
жении 30, 49, 50, 96, 352, 355
Гекзаметр 268
Героический александрийский стих
268
1 За составление алфавитно-предметного указателя автор приносит бла¬
годарность С. И. Леушевой.
373
Героический образ, характер 89, 139,
315
Героичность советского искусства
328, 330
Герой 51, 52, 177, 331, 345, 363
Гетерометрические строфы 270
Гипербола 208, 227
Гиперболизация 87
Гипердактилическое окончание 266
Гипотипозис 227
Градация 227
Гротеск 312, 363
Дактилическое окончание 250, 266
Дактиль 249, 257, 258 , 271
Двусложный размер 257, 258, 259
Двустишие 268
Двухударный стих 250
Демократичность формы 102—104, 336
Действие 136, 137, 139, 142
Действующее лицо 51
Десятистишие 270
Децима 270
Диалектизм 199'
Дилогия 345
Диалог 133
Диподия 262, 263
Диференциация. искусств 240
Диференцированность языка 168
Долгий слог 249, 253, 261
Дольник 271, 281
Драма 6,81, 179, 337, 340, 356, 359, 363
Драматический образ 340, 356, 357
360
Единоначатие 233
Enjambement 243, 264 , 279, 280
Единство формы и содержания 112,
114, 115, 150, 151, 164, 262, 278,
285, 288, 340
Жанр 5, 30, 89, 336—339, 342, 344
Жанровая форма 336, 338
Жаргонизм 201, 202
Женская рифма 266, 268
Завязка 143, 144—145, 146, 147, 342,
343, 363
Задачи теории литературы 4
Задержанная экспозиция 145
Заимствование сюжета 150
Замысел 72,' 73
Звуковая организация поэтической
речи 228 , 231
Звуковая эпифора 233
Звуковое совпадение 232
Звуковой повтор 228—230, 232, 251
Звукопись 234
Звукоподражание 234
Значение и смысл слова 184
Идеал, социалистический идеал 43—
47, 54, 62, 66, 68, 87, 89, 97, 328,
329, 334
Идейно-тематическая основа 116—
118, 124, 125, 126, 129, 150
Идея 28, 62, 63, 114, 124—126, 129, 150
Идея — вопрос 127
Идея — ответ 128
Идея — ошибка 128
Изометрические строфы 270
Изосиллабизм 271, 272
Изосинтаксизм 273
Изотонизм 272
Изохронизм 248, 249 , 272
Инверсия 224
Индивидуализация языка персонажей
160, 161, 162, 172, 177
Индивидуализированность художе¬
ственного изображения 156, 157,
159
Интонация 178, 179, 183, 195, 196,
218, 220, 241, 244—246, 260, 265,
267, 280
Интонация и синтаксис 219, 222,
£23, 224
Интуиция 74
Ионик восходящий 249
Ионик нисходящий 249
Ирония 85, 175, 213, 227
Исключительные обстоятельства 311,
315
Исключительный характер 296, 311,
315
Историзм 6, 7, 312
Историческая поэтика 5
374
Историчность сюжета 147, 150
История литературы 3, 4—6, 372
Источники языка писателя 158, 159,
183, 193, 198
Катрен 269
Квалитативное (качественное) сти¬
хосложение 247
Квантитативное (количественное)
стихосложение 247
Классицизм 6, 7, 162, 277, 294, 305,
306, 350
Классовая борьба и литературный
процесс 78, 364—367
Клаузула (см. стиховое окончание)
Климакс 227
Кольцо 233
Комедия 82, 362
Комичное, комизм 82, 83, 88
Композиция 5, 119—121, 123, 132,
134, 135, 139, 141, 151, 337, 338, 354
Константа 252—253, 262
Контекст 191, 192, 193, 199, 226
Концовка 233
Краесогласие (см. рифма)
Краткий слог 249, 253, 261
Критика 3, 4, 372
Критерий художественности 95
Критический реализм 306
Кульминация 144, 145, 335, 342, 343
Куплет 268
Лексика 155, 183, 198, 221, 223
Лирика 7, 21, 72, 81, 103, 104,
137, 139, 179, 244, 249, 337, 339,
346—349
Лирический образ, характер 244,
245, 280, 340, 347
Лирическое стихотворение 20, 134
333
Лирическое отступление 316
Лиро-эпический жанр 245, 350
Литература 3, 4, 6, 8, 10, 12—14,
18-21, 52, 336, 346
Литературная группа 293
Литературная школа 289, 293
Литературное течение, направление
7, 30, 162, 289, 293, 296, 336,
364, 366, 369, 372
Литературный процесс 5, 30, 151,
289, 364-369
Литературные виды 336, 337, 342, 344
Литературные манифесты 293
Литературные роды 336, 337, 344
Литературная традиция 7, 370, 371,
372
Литературоведение 4
Литота 208
Мадригал 350
Макароническая речь 204
Малая эпическая форма 341, 345
Мемуарная форма 178, 356
Местные слова (см. диалектизм)
Метафора 214, 260
Метод (см. художественный метод)
Метонимия 212
Метр (см. размер)
Метрическое (античное) стихосложе¬
ние 248, 249, 262, 267, 272
Мировоззрение и творчество 28,
59-61, 63-66, 69, 97, 101, 102,
105, 284, 285, 313, 323
Мифологическая теория 149
Мифологизм 79, 81, 297
Мифологический реализм 304, 332
Многозначность слова 183, 185, 197
Многосоюзие 224
Множественность тем и идей 124, 125
Моление 227
Монологи 133, 279, 343
Монополия 262
Мора 248
Мотивировка 132, 161, 162, 260, 280
Мужская рифма 265
Музыкально-речевое стихосложение
247, 248, 251, 252, 253
Музыкальность стиха 247
Нарастание 227
Народная этимология 189
Народность литературы 12, 98—105
Народный напевный стих 249, 2з0, 281
Натурализм 166, 308
Натуральная школа 309
Наука о литературе 3, 4, 372
Нахгешихте 145
375
Неологизм 170, 204
Новаторство 371, 372
Новелла 342, 345
Нормативность 8, 54, 55
Образ 13—16, 19—23, 26, 29—30, 38,
40, 48, 51, 62, 63, 73, 75, 80, 84,
87-89, 98, ПО, 132, 161, 182, 296,
328, 356
Образ повествователя 179—182
Образность 4, 13, 50, 52, 90
Обратная экспозиция 145
Обращение 227
Общее и историческое 149, 150
Общественное значение литературы 98
Общечеловеческое в искусстве 68, 69
Объективная идея 129, 130
Объективность повествования 303
Ода 275, 276, 352
Оксюморон 215
Октава 269
Олицетворение 227
Омограф 231
Омоним 230, 234
Омофон 231
Онегинская строфа 270
Ономатопея 234
Определение размеров 258, 259
Описание 227
Опоясная рифма 269
Основная идея произведения 114, 125,
128, 129
Основные элементы сюжета 143
Очерк, очерковая литература 40,
352—356
Палиндром 235
Панторифма 236
Параллелизм 225
Пародия 366
Партийность 105— 107, 331
Патриотизм 67, 68, 362
Пауза 222, 241 —244, 251, 259, 263,
265, 282
Пейзаж 133, 218, 343
Пентаметр 268
Пеон первый 249, 262
Пеон второй 249, 262
Пеон третий 249, 262
Пеон четвёртый 249, 262
Первичное значение слова 186
Переименование (см. метонимия) 212
Перекрёстная рифма 269
Перенос (см. enjambement)
Переносное значение слов 183, 194,
205, 218
Переход содержания в форму 118,
119, 151, 164, 245
Перечисление 227
Перифраз 220
Персонаж 51, 52, 140, 160, 162, 167,
200, 221, 265,280, 316, 342,343,345
Пиррихий 261
Повесть 337, 342, 343
Повторение 225, 228
Пожелание 227
Познавательное значение литературы
53, 54, 55, 58
Полиптотон 226
Полисиндетон 224
Полустишие 264
Полуударение 250
Положительный герой 328, 329
Портрет 131, 133
Послание 350
Постоянный эпитет 211
Построение образа 296
Поэзия 192, 237, 240
Поэма 268, 351
Правдивость 53, 91, 92, 95, 280,
326
Прасюжет 149
Предмет и цель эстетического изоб¬
ражения 46
Предмет художественного изображе¬
ния 17, 46
Прекрасное 43, 45, 46, 47, 48, 54, 66
Приключенческий роман 337
Провинциализм 200
Проза 192, 237
Прозаизм 192, 193
Прозопопея 227
Проклитика 259
Профессионализм 200
Прямое значение слова 193, 194 , 218,
220
376
Психология творчества 72
Пушкинский стих 278
Работа писателя над словом 151, 152,
153-156, 162, 165
Развёрнутое сравнение 209
Развитие действия 144, 363
Развязка 144, 342, 343, 364
Размер 241, 247, 249, 257, 258, 259,
273
Рассказ 337 , 342, 353
Реалистичность 87, 298
Реальность 298, 299, 300
Реализм и реалистический метод
6 , 7, 80, 278, 297, 298, 300, 302—
304,306,312,314,315,317, 319—322,
324, 332
Революционно-демократический ре¬
ализм 308, 366, 367
Революционный романтизм 313, 319,
325, 330
Речевой стих 252, 253, 254
Рефрен 269
Речь повествователя 141, 173,
174—179, 223, 265, 316 , 317, 343
Ритм 238, 246, 251, 255, 271, 276, 280
Ритмика 256 , 258
Ритмическая единица 251
Ритмические определители 260, 267,
271
Риторический вопрос 225
Рифма 240, 241, 250, 251, 253,
266—268, 270
Рифмованная проза 252, 253
Роль писателя в развитии языковой
культуры 169, 171 — 173, 179
Роман 134, 337, 338, 343, 344, 353
Роман в стихах 351
Романтизм и романтический метод
6, 82, 87, 297, 303, 310—315, 319,
324, 332
Рондель 270
Рондо 269, 270
Русское народное стихосложение 249,
267
Сарказм 85
Сатира 30, 84, 85, 86, 275
Сверхсхемные ударения 258 , 259,271
280
Свободный стих 273
Секстина 269
Сентенция 227
Сентиментализм 277, 278, 291, 313
Силлабическое стихосложение 248,
254, 255, 274
Силлабо-тоническое стихосложение
’ 248, 254, 256, 257, 260, 271, 276
Силлепс 224
Символ 215
Симплока 226
Синекдоха 212
Синкретизм 239
Синоним 191, 235
Синтагма 242
Синтаксис 183, 189, 241, 276, 282,
292
Системы стихосложения 247
Сицилиана 270
Сказ 177, 203
Сказка 342
Скандовка 259
Славянизм 198
Словотворчество писателя 169
Слог 247, 248, 249, 253, 255, 256
Смешное 82, 83
Содержание художественного произ¬
ведения 116, 118, 119
Содержание и форма 76, 83, 84, 114,
115, 117, 118, 245
Соизмеримость 238, 247, 248, 250,
251, 255, 256, 257, 264
Сонет 270
Соотношение композиции и сюжета
139
Соподразумевание(см.синекдоха)212
Социалистическая советская литера,
тура 8, 56, 66, 79, 88, 98, 105, 107,
108, ПО, 127, 128, 137, 298, 302,
328, 329—336
Социалистический реализм 7, 298,
303, 309, 319, 325—336, 371
Спенсерова строфа 270
Спондей 261, 262
Способы построения образа (см. метод)
377
Сравнение 208, 209
Средняя эпическая форма 341, 343
Средства литературного изображения
119, 120, 121, 132
Стиль 5, 284, 286—289, 295, 314, 336,
364, 372
Стилизация 203
Стих 6, 237, 241, 245—247, 271, 273,
276, 278, 281, 283, 351
Стиховое окончание (см. клаузула)
253, 266, 279
Стихосложение 237
Стихотворный ритм 238
Строка 251, 257, 264, 272
Стопа 248, 249, 256, 257, 261
Стык 233
Строфа и строфика 240, 249, 267, 268,
269, 277
Структура художественного произве¬
дения (см. композиция)
Субъективность повествования 313
Сценичность 357, 358
Сюжет 4, 119, 136, 137-142, 145, 147,
149, 150, 314, 335, 351, 361, 363
Тавтология 228
Творческий процесс 71, 73, 74, 127
Тема 116, 117, 124, 150
Тенденция 95
Теория заимствований 149
Теория литературы 3, 4, 5, 6, 8, 15,
372
Терцет 269
Терцина 269
Тетралогия 345
Тип 30, 31, 37, 51, 52, 55
Типизация языка персонажей 164, 246
Типичные обстоятельства 18, 53, 95,
135, 302
Типичные переживания 247
Типичный характер 18, 53, 95, 221,
278, 302, 304
Типичное 147,1 48, 165, 167, 246, 296,
354
Тоническое стихосложение 248, 254,
271, 272, 273, 281
Трагедия 362
Трагическое 88
Трёхстишие 269
Трёхсложный размер 257, 258, 281
Трёхудариый стих 250
Трилогия 345
Тринадцатисложник 255, 268, 275
Триолет 269
Троп 205—208, 218, 316
Трохей (см. хорей)
Ударение главное 259
Ударение второстепенное 250
Ударный слог 256, 257
Фабула 133
Фарс 363
Фигуры 224, 227, 228, 282, 316
Философский роман 337
Фольклор 342
Фоника 228
Фонетика 238
Форгешихте 145
Форма художественного произведения
118, 119, 132, 151
Форма и содержание (см. содержание
и форма)
Формализм 166, 235
Фразовость яюва 242
Характерность речи 177
Характер 21—24, 28, 29, 51, 52, 54,
69, 96, 112, 113, 119, 121, 123, 130,
133—135, 150, 161, 164, 221, 215,
284, 285, 331, 335, 339, 346, 360
Хорей 249, 257, 258, 261, 262
Хроника 343
Художественная мотивировка тропа
216
Художественное изображение 16, 21,
25, 26, 28, 29
Художественное произведение 11, 19,
20, 22, 114, 116, 123, 133, 134, 139
Художественно-исторический жанр
352-356
Художественность 4, 12, 90, 92, 95,
98, 105, 109, 111
Художественный метод 5, 30, 89, 162,
296, 305, 313, 314, 325—328, 336,
361, 372
378
Цвишенгешихте 145
Цезура 264, 268
Цикл новелл 345
Цикл романов 345
Четверостишие 268, 269
Эзфемизм 213
Эзопов язык 213
Эклога 350
Экспозиция 143, 144, 145, 147, 343
Элегический александрийский стих
268
Элегический дистих 268
Элегия 350
Эмоциональная речь 347
Эллипсис 225
Энклитика 259
Эпигонство 371
Эпиграмма 213, 350
Эпиграф 129
Эпизод 342, 343
Эпиталама 350
Эпистолярная форма 177—178
Эпитафия 350
Эпитет 209- 212, 218
Эпитрит первый 249
Эпитрит второй 249
Эпитрит третий 249
Эпитрит четвёртый 249
Эпифора 226, 233
Эпический образ 244, 340, 343, 344
Эпопея 344
Эпос 6, 30, 81, 179, 337, 339, 340,
350, 359
Эстетика 41, 42, 43, 46
Эстетическая ценность 97, 347, 355
Эстетическое значение художествен¬
ного произведения 48, 57, 66, 70(
71, 347, 349, 355
ЭЬтетическое чувство 41, 43, 45, 47,
66, 77
Этика 46
Юмор 83, 84, 85
Язык 2, 120, 121, 162
Язык поэтический 14, 192, 209
Язык художественной литературы 119,
121-123, 134, 140, 150, 151, 152,
160, 161, 163-165, 168, 169, 182,
192, 292, 315, 316
Ямб 249, 251, 253, 260, 261, 262, 276,
281
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Наука о литературе и её разделы 3
Задачи теории литературы 4
Построение теории литературы 5
Нормативность теории литературы • 8
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
Глава первая
Идеологическая сущность литературы
Познавательное значение литературы 10
Общественно-политическое значение литературы 11
Глава вторая
Образность
Понятие образа 13
Предмет художественного изображения 17
Индивидуализированность художественного изображения ... 21
Обобщённость художественного изображения 26
Вымысел в художественном изображении 30
Эстетическое значение художественного изображения 40
Определение образа 48
Художественная литература и её место в общественной жизни 52
Значение литературы прошлого 57
Мировоззрение и творчество писателя 59
Воспитательная роль литературы прошлого 66
Творческий процесс 71
380
Глава третья
Историческое содержание понятия образности
Роль исторической обстановки
Типы образного отражения жизни
Различия в способе построения образа
Различия в способе изображения человека
Различия в отношении к действительности (юмор, сатира,
трагедия, героика)
Глава четвёртая
Художественность
Образность и художественность
Верность обобщения
Жизненность изображения
Народность
Партийность
Выводы .
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Глава, первая
Единство содержания п формы в художественном творчестве
Содержание и форма литературного произведения
Средства литературного изображения и принципы их изучения.
Глава вторая
Идея, тема (идейно-тематическая основа), характеры
Множественность идей и тем произведения
Основная идея произведения
Авторская идея и объективная идея произведения
Характеры
Глава третья
Композиция и сюжет
Композиция
Сюжет
Соотношение композиции и сюжета
Основные элементы сюжета
Историчность сюжета
Глава четвёртая
Язык художественного произведения
Отношение писателя к слову 151
Слово как средство индивидуализации изображения 156
Индивидуализация языка персонажей 160
Типизация языка персонажей 164
Диференцированность языка художественного произведения . 168
Роль писателя в развитии языковой культуры 169
Речь повествователя 173
Образ повествователя 179
Пути использования слова писателем 182
Многозначность слова .... 183
Источники языка писателя 198
Переносное значение слова (тропы и их виды) . 205
Интонация и синтаксис 219
Звуковая организация поэтической речи (фоника) 228
Глава пятая
Основы стихосложения
Стих и проза 237
Ритм 238
Стих и язык 240
Системы стихосложения . 247
Количественное стихосложение (музыкально-речевое) 248
Переход от количественного к качественному стихосложению . 251
Качественное стихосложение (речевой акцентный стих) . . . 254
Силлабическое стихосложение 255
Силлабо-тоническое стихосложение 256
Ритмические определители силлабо-тонического стиха ..... 260
Дольник и топический стих 271
Развитие русского стиха ..... 273
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ процесс
Глава первая
Стпль, течение, метод
Стиль писателя 284
Литературное течение 290
Художественный метод 295
Реализм 298
Романтизм 310
Метод и стиль 314
Социалистический реализм 319
382
Глава вторая
Литературные роды и виды (жанры и жанровые формы)
Жанр 336
Эпос 340
Лирика 346
Лиро-эпический жанр 350
Художественно-исторический жанр 352
Драма 356
Литературный процесс 364
Предметный указатель 373
редактор И. М. Терехов.
Техн. редактор Н. В. Сахарова.
Корректор Е. Л. Ивацевич.
Подписано к печати 6/VIII 1948 г.
А 06735. Печатных листов 24. Учетпо-изд.
листов 27,78.
Отпечатало в тип. М-114 с матриц 3-й
типографии «Красный пролетарий» треста
«Полиграфкнига» Огиза. Москва.